Современный финский детектив
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ, АЛЧНЫЕ, НЕСЧАСТНЫЕ…
Эта книга придет к читателю, когда возникшие или наметившиеся в книгоиздательской практике рыночные отношения уже принесли с собой то, что со всей неизбежностью и должны были, по крайней мере на первых порах, принести: хаос, анархию, безудержную погоню за прибылью и сверхприбылью, безоглядную и не всегда чистоплотную конкуренцию, то мгновенный, то весьма и весьма длительный паралич устоявшихся и худо-бедно функционировавших на протяжении десятилетий связей, традиций, систем, растерянность и недоумение одних, лихую и оборотистую предприимчивость других. Нельзя сказать, чтобы книгоиздатели и ранее делали свое дело в белых перчатках, скорей уж — в резиновых, какие положены вивисектору, но сейчас их пальцы торчат из обрубленных перчаток мясника. Гороскопы и поваренные книги, мемуары царственных особ и их возлюбленных обоего пола, порнография, выдающая себя то за научную фантастику, то за высокую науку любви, и трактаты о любви, преподнесенные так, что кажутся грубой и убогой порнографией, — все это обрушилось на нашего читателя-покупателя разом, реализуя — на уровне масскульта — гласность, свободу печати и легитимированный отныне дух свободного предпринимательства.
В том же ряду на правах абсолютного лидера оказались зарубежные детективы. И пока государственные издательства — с их текущими и перспективными планами, с их экспресс-изданиями, выходящими в лучшем случае через полгода, с их отбором произведений для перевода и публикации — раскачивались и раздумывали, отпочковавшиеся от них (или, точней, припочковавшиеся к ним) кооперативы успели издать — без отбора и оглядки, сплошь и рядом с огрехами в переводе — чуть ли не все романы Агаты Кристи и Дж. Х. Чейза, а также многих других авторов. В связи с этим невольно возникает вопрос, а что же государственные издательства, что они успели, какова тематика их традиционных детективных серий?
Однажды мне случилось резко выступить в журнальной дискуссии против практики публикации зарубежных детективов «по странам». Но это было в другое время (середина восьмидесятых) и в обстоятельствах, когда практически неизвестными для советского читателя оставались не только лучшие из новинок, но и классические образцы зарубежного детектива, когда и за те и за другие представительствовал на журнально-книжном рынке, пожалуй, один лишь Жорж Сименон. В тогдашних условиях, когда карта зарубежного детектива представляла в нашей стране сплошное белое пятно, посредине которого едва заметной точкой выделялась «сименониана», издание детективов «по странам» казалось чрезмерной роскошью. Сперва на карту надо было нанести материки, потом — страны и столицы, а уж далее заштриховывать отдельные клеточки, отмечая малые населенные пункты.
Теперь белое пятно поуменьшилось. Мы уже имеем, пусть порой еще и смутное, представление о классике детектива, об его основных направлениях, знаем если не произведения, то хотя бы имена крупнейших представителей жанра: вышли из печати не только карты, но и путеводители по детективу. Сейчас (перефразируем знаменитое изречение) настала пора задуматься не над тем, чем похожи детективы разных стран друг на друга, а над тем, чем они не похожи. Во всяком случае, предлагаемый читателю сборник «Современный финский детектив» дает в этом отношении благодатный материал для размышлений. В первую очередь потому, что в нем с большой силой проявляется национальный характер. И ни с американским, ни с французским, ни даже с нидерландским финский детектив не спутаешь.
Нельзя сказать, что наш интерес к северному соседу и его культуре чрезвычайно огромен. Пожалуй, люди старшего поколения помнят, скорее, финнов, совершавших набеги на Ленинград в поисках спиртного, ибо пили в Финляндии всегда много, свое и привозное, гнали самогон — «слезу сосны в глухом лесу», — выпивали, забравшись под одеяло, по четыре бутылки коньяку. Обо всем этом можно прочитать в романах, вошедших в данный сборник. Держится в нашем народе и стойкая память о «незнаменитой» или, как ее называют в Финляндии, «Зимней войне», когда многомудрому политическому и военному руководству СССР понадобились колоссальные потери для того, чтобы превратить тогдашнюю Финляндию, страну проанглийской ориентации, в страну ориентации прогерманской.
Во время второй мировой войны Финляндия воевала на стороне нацистской Германии, но финны практически не вели боевых действий: они вышли на рубежи, совпадавшие с их былой — до «незнаменитой войны» — границей, постояли на них и отошли обратно. В последний период войны Финляндия даже подверглась со стороны вермахта карательной операции (в наказание за пассивное ведение войны против СССР), но не уступила ему. (Отголоски этих событий звучат в романах «Звезды расскажут, комиссар Палму!» и «Сусикоски и Дом трех женщин».)
Нашему читателю, конечно, знаком термин «финляндизация», означавший в период «холодной войны» отказ от участия в противостоящих друг другу военных блоках. Не менее знакомо и общественное движение, получившее название «хельсинкского процесса». Именно оно и связанное с ним кардинальное улучшение общеевропейского политического климата могут гарантировать Финляндии ее подлинную — и выстраданную — независимость.
В последнее время мы стали поглядывать на эту страну с несколько неожиданной стороны — с нескрываемым интересом. И если тяготение к ней, ориентация на нее и ее достижения, проявляемые в прибалтийских республиках, понятны и естественны (сходство культур, а применительно к Эстонии — близкое языковое родство), то в масштабах Союза этот наш интерес окрашен скорей недоумением. Как заметил режиссер и народный депутат СССР Марк Захаров, мы еще в силах понять, почему живем хуже американцев или французов, но процветающую Финляндию — в прошлом нищую окраину царской России — нам умом просто не понять. Что ж, если так, то давайте, перефразируя Тютчева, хотя бы в нее верить, давайте не забывать, что страна эта — благополучная, процветающая. И давайте не забывать об этом, читая финские детективы, которые — как и вообще все детективы — затрагивают главным образом темные стороны действительности. Затрагивают язвы жизни, существующие в каждом обществе, хотя в каждом обществе они выглядят чуть по-разному. И не будем спешить обзывать их только язвами капитализма. Хотя и капитализм, конечно, тоже не сахар.
«Библиотека финской литературы», издававшаяся у нас в годы застоя, дает, как ни странно, довольно верное и достаточно полное представление о своем предмете: финская литература скучновата, во многих смыслах провинциальна. Но она не лишена своеобразного обаяния и — время от времени — своеобразного блеска. Такие же черты присущи и финскому детективу, ориентирующемуся в своем становлении и развитии на англо-американскую и скандинавскую традиции и сохраняющему при этом свое лицо.
Первая и основная черта финского детектива — обстоятельность. Повесился человек сам или его повесили? Это чрезвычайно важно для развития интриги, но для повествователя (а значит, и для финского читателя) ничуть не в меньшей степени важно и другое: на каком дереве он повесился, да с какой кочки сумел дотянуться до петли, да из чего эту петлю свил, а если из пеньки — то не из корабельной ли, и чем ее обрубал, и куда потом концы спрятал. Если у тебя тяжело ранили брата, случайно убив при этом постороннего человека, а подозрение почему-то падает на тебя самого, то это еще не повод, чтобы хоть на день прервать торговлю картошкой, о которой тоже следует рассказать читателю самым добросовестным образом: где она спрятана и сколько ее. Если мертвое тело в кустах находит песик, которого выгуливает дамочка, то повадки песика и манеры дамочки выписываются куда детальней и красочней, чем приметы убитого. Австрийский писатель и эссеист Петер Хандке заметил, что в детективе описанию убийства и вызванного им беспорядка предшествует подробнейшее описание прежнего порядка. Не знаю, насколько универсальный характер носит это наблюдение, но к финскому детективу оно приложимо на все сто процентов.
Подобная обстоятельность проявляется не только в описании улик, элементов и фактов, образующих алиби, и прочих эпизодов, имеющих непосредственное отношение к расследованию, но и в тех случаях, когда речь идет о предметах материальной культуры, природных явлениях, внешности и характере второстепенных персонажей, с детективным сюжетом напрямую не связанных. Тем самым жесткая детективная схема наполняется воздухом, начинает дышать, порой проскальзывает даже поэтичность (детективу, как правило, противопоказанная), проявляется орнаментализм и вовсю хозяйничает ирония. Разумеется, все это размывает границы детектива как жанра, в котором, согласно традиции, любая деталь, любая мелочь должна быть замкнута на сюжет, обыграна и отыграна (принцип ружья, висящего на стене, которое непременно должно выстрелить). Это обстоятельство во многом сближает финский детектив с бытовой прозой. У читателя, ориентированного на «крутой детектив», может появиться раздражение и даже возникнуть желание перевернуть страницу-другую вперед в поисках событий, которые должны же когда-нибудь наступить. Увы, такой читатель многое потеряет: ведь именно тщательнейшим образом воссозданная материальная природа мира подготавливает его к тому, чтобы проникнуться психологической достоверностью происходящего. Тем более что и сама логика поведения персонажей порой не сразу поддается нашему пониманию.
Другая особенность финского детектива заключается в невероятно затянутой экспозиции: труп, к примеру, может обнаружиться лишь на двухсотой странице вялого до того повествования, и только с этой минуты события начнут стремительно развиваться. Но может быть и иначе: труп найдут на первой странице, а действие все равно развернется ближе к концу романа. Правда, за это время персонажи успеют «проявиться», высказаться, обрасти плотью и судьбой, накрепко запечатлеться в нашем сознании — видимо, финские писатели стремятся именно к такому эффекту. Что ж, их можно понять: ведь во многих типичных — порой мастерски закрученных — детективах образы персонажей не успевают нам запомниться и остаются, как сказал бы Гоголь, не фигурами, а селедками.
Описанной выше обстоятельности и неторопливости соответствует и поджанр детектива, в котором написаны все три романа, включенные в настоящий сборник. Это полицейские романы. Причем такие, где на первом плане не показ блестящих способностей расследователя, не лихость и дерзость его, а скучнейшая полицейская рутина. Рутина расследования, вступающая во взаимодействие с рутиной повседневности, в которой преступление не выглядит чем-то экстраординарным: преступником может оказаться каждый, а мотивы — любовь, вражда, корысть, стремление избежать расплаты за ранее совершенные преступления — остаются одними и теми же на протяжении веков. Полицейский роман может быть социально заостренным, как у шведских писателей Пера Валё и Май Шеваль, уныло-пессимистическим, хотя и с гуманистическим пафосом, как у Жоржа Сименона, направленным на прославление «новых центурионов», как у американского писателя Эда Макбейна или у нашего Юлиана Семенова. Специфика финского полицейского романа с подобной однозначностью выявлена быть не может, хотя в нем, пожалуй, в той или иной пропорции присутствуют все вышеперечисленные элементы. А с наибольшей силой в нем торжествует повествовательное, бытописательское начало.
Полицейские романы, как правило, пишутся сериями, объединенными фигурой расследователя. Каждое новое дело — роман. Расследователь может быть наделен выдающимися аналитическими способностями, глубоким проникновением в человеческую психологию, личной храбростью, граничащей с безрассудством (таковы многие сыщики в американской литературе), и, наконец, даром координатора, объединяющего и направляющего действия своих подчиненных. Обычно наряду с удачливым сыщиком в таких романах действует его незадачливый антипод. Часто он оказывается повествователем, что обеспечивает захватывающему рассказу дополнительный комический эффект. Именно такова ситуация в романе Мика Валтари «Звезды расскажут, комиссар Палму!» (1964). Причем здесь она осложнена — и усилен комический эффект — тем, что простак рассказчик оказывается начальником, а блестящий комиссар Палму — его подчиненным. Правда, это уничижение паче гордости: Палму сам направил когда-то своего бестолкового (или, верней, неопытного) помощника на учебу, сам подсадил его в кресло вице-судьи да и сейчас по-прежнему не воспринимает его всерьез. Но представим себе Шерлока Холмса в подчинении у доктора Ватсона, Эркюля Пуаро — в подчинении у капитана Гастингса, представим себе бесконечные идиотические распоряжения, исходящие от подобных начальников! Ни темпераментный бельгиец Пуаро, ни даже хладнокровный Шерлок Холмс, ни тем более экстравагантный любитель орхидей толстяк Ниро из романов Рекса Стаута такого положения вещей терпеть бы не стали. А комиссар Палму — флегматик, он терпит и даже получает удовольствие от изначально заложенного в ситуации комизма.
Юмор, окрашивающий отношения двух сыщиков в романе Валтари, выступает как бы в роли конферанса, которым сопровождается и комментируется показ всего финского общества, так сказать, в разрезе. Здесь и крупный землевладелец, и не менее крупный промышленник, и военный, и клерк, и «представитель творческой профессии» (астролог), и молодежь, подразделяющаяся, оказывается, на безыдейных стиляг и идейных битников (роман написан около тридцати лет назад). Расследование развивается не столько вглубь, сколько вверх по социальной лестнице, причем юноша, на которого поначалу падает подозрение, в дальнейшем все более и более приобретает черты жертвы. В романе наличествуют элементы социальной критики — не с классовых, разумеется, а с общечеловеческих позиций: люди страдают прежде всего от равнодушия окружающих. Мотивы преступления достаточно убедительны как в психологическом, так и в историческом плане. Техника совершения преступления (и техника расследования) тесно привязана к городскому и сельскому ландшафту, к привычкам и обычаям финнов.
Роман «Звезды расскажут, комиссар Палму!» написан мастерски, по всем канонам классического детектива. И его автор Мика Валтари (1908—1979) по праву слывет в Финляндии классиком жанра. Может быть, полицейские в романе уж слишком заземлены, может быть, образ преступника чересчур демоничен, но удовольствия от чтения книги это не уменьшает и достоверности полученного впечатления ничуть не снижает. Герои Валтари самым естественным образом переходят от повседневной жизни к круговороту событий, связанному с цепью кровавых преступлений, и столь же естественно в повседневную жизнь возвращаются. Принцип «победитель не получает ничего», провозглашенный Хемингуэем и реализованный школой «крутого детектива» в литературе США, здесь чуть ли не пародийно выворачивается наизнанку: все порядочные люди что-то, но крайне немного, получают: одни — скромное наследство, другие — рекомендацию на учебу, а коллектив полиции, одержимый страстью к хоровому пению, вознаграждается оплаченной поездкой на гастроли в Данию. Тоже, между прочим, не за тридевять земель. И только комиссар Палму, изобличивший убийцу, не получает ничего. Да ему, однако, ничего и не надо.
Отдельно стоит сказать о молодежных проблемах, которые освещаются в романе с детальностью, детективному жанру в целом не свойственной. Здесь как собственно молодежные проблемы — социальная неустроенность, безработица, отсутствие жилья (впрочем, подозреваю, что за истекшие тридцать лет финны эти проблемы как минимум сумели смягчить), — так и проблема более серьезная, с которой нам предстоит столкнуться на страницах книги еще не раз. Проблема не специфически финская, скорей даже всемирная, но для скрытных по натуре, замкнутых и живущих по возможности особняком финнов однозначно актуальная. Имя этой проблемы — ксенофобия, то есть неприязнь к чужакам (или страх перед ними).
Подозрения на причастность к смерти старика Нордберга сразу же падают на представителей молодого поколения — и подозрения, как выяснится в дальнейшем, не совсем беспочвенные. Угон машины, наезд по неосторожности, хулиганство — все это преступления, которые чаще совершают молодые люди или, как в романе, и вовсе безусые юнцы. Но дело не в этом: не будучи способным понять интересы и увлечения молодежи, не говоря уж об ее заботах, старшее поколение рассматривает ее всю в целом в качестве криминогенной среды и наперед готово приписать битникам и стилягам самые страшные преступления. Показателен эпизод с телескопом, который в руках у компании юнцов представителю власти кажется взрывным устройством, и полиция проводит в связи с этим грандиозную облаву. В романе не раз и не два показывается и подчеркивается, что страх перед молодежью и порожденные им грубые и немотивированные поступки по отношению к ней вызывают в свою очередь со стороны молодежи реакцию подчас даже преступного характера. С этими вопросами мы сталкиваемся сегодня в нашем скудном и ожесточенном быту буквально на каждом шагу. Как и — в куда более широком и более трагическом плане — с проявлениями ксенофобии: возрастной, имущественной, партийной, национальной.
Небезынтересна для нас — в смысле сопоставления — и та сторона романа, в которой раскрывается низкий профессиональный уровень работы полиции, ее разгильдяйство, жестокость, применение незаконных методов следствия. Конечно, комиссар Палму — профессионал, его действия безупречны и в деловом, и в моральном плане, но он выглядит среди своих сослуживцев, подчиненных и, напомню, начальников скорее белой вороной. Как сам Палму иронично замечает, можно лишь удивляться, что такая полиция хоть какие-то преступления все же раскрывает. Да ведь и впрямь — только ум и талант самого Палму (фигуры по природе жанра достаточно условной) препятствуют тому, чтобы зло восторжествовало и осталось безнаказанным.
Торжество зла (хотя и не остающегося в конечном счете безнаказанным) мы наблюдаем на страницах романа Маури Сариола (1924—1985) «Сусикоски и Дом трех женщин» (1984). Действие здесь разворачивается, как сказали бы у нас, в глубинке — и глубинка эта оказывается достаточно похожей на дореволюционную русскую… А три женщины — владелицы Дома — неуловимо напоминают чем-то чеховских героинь.
Сходство, разумеется, весьма отдаленное. Потому что три хозяйки Дома, по нашей терминологии, не помещицы и даже не кулачки, а просто зажиточные крестьянки. И потому, что могут они — вместе и порознь — слетать на отдых в Грецию, когда им заблагорассудится. И потому, что не гнушаются при этом никакой работой ни в доме, ни в лесу, ни в поле. Но ведь любое сравнение тем и хорошо, что позволяет выявить отличия.
Композиция произведения «Сусикоски и Дом трех женщин» вполне соответствует канонам, по которым строится финский детективный роман. Сперва безобидный старик, пьяница и самогонщик и к тому же превеликий выдумщик, сообщает, что на него совершено нападение, лишь чудом не обернувшееся его гибелью. Потом чрезмерно подробно описывается его собственное преступление — потрава деревьев в чужом березняке. Потом вступают в игру местные полицейские, один из которых — молодой, недавно прибывший сюда констебль — выделяется и умом, и хваткой, и профессионализмом. Это он «выходит» на Дом трех женщин, в котором, как поговаривают, творятся странные дела, и вступает в сложные взаимоотношения с тремя его обитательницами. Ожидаешь, что именно Илола остановит преступника, если, конечно, по страницам романа и впрямь бродит настоящий преступник.
Но тут происходит убийство. И сыщик Илола оказывается в полной растерянности, хотя у него, наряду с прочим, теперь имеются и личные мотивы поймать убийцу. Но ничего не получается: следствие топчется на месте, нити обрываются, у всех, всплывших к этому времени, подозреваемых — неотразимое на первый взгляд алиби. Совершается второе убийство. И только тут к расследованию подключается знаменитый Сусикоски — сквозной персонаж многих романов писателя, чрезвычайно популярных в Финляндии (как популярен и сам образ Сусикоски).
Сусикоски — персонаж компилятивного происхождения. Что-то в нем есть от Эркюля Пуаро (в частности, разработанная им теория преступлений), что-то — от комиссара Мегрэ, что-то, не исключено, даже от сельского детектива из романов швейцарского писателя Фридриха Глаузера. Конечно же, оказавшись на месте преступления, Сусикоски с легкостью раскрывает его, а поймать убийцу ему помогает Интерпол. В таком диапазоне — от браконьерства по части березового сока в финской глуши до Греции и Интерпола — разворачивается действие. Роман, как сказано выше, принадлежит к поджанру полицейского, есть в нем элементы триллера и «who-done-it» («ху-дан-ита» — романа-головоломки, главный вопрос в котором — кто это сделал — решается в ходе повествования), но классическим — в смысле построения — детективом его никак не назовешь.
Однако не будем спешить осуждать автора за определенную беспомощность: может быть, она была преднамеренной. Конечно, мы привыкли к тому, чтобы главный расследователь участвовал в раскрытии дела с самого начала, а то и — как во многих романах Агаты Кристи — становился невольным свидетелем преступления. И появление расследователя — он же традиционный мститель, рука правосудия — лишь в последнем акте разыгравшейся на наших глазах драмы вызывает у нас недоумение и ощущение какой-то искусственности. Игры? Нет, именно искусственности. Ощущение игры оставляет как раз детектив, в котором все гвозди вбиты по самые шляпки, все ружья стреляют, все действующие лица перечислены заранее, как в пьесе. Но ведь жизнь не игра, она шире любой схемы, в том числе и детективной, энтропические шумы, возникающие и господствующие в ней, не совпадают с «ложными следами» шахматной задачи, с которою часто сравнивают детективную литературу.
Ведь и впрямь: случайное подключение знаменитого или просто профессионально хорошо подготовленного сыщика к расследованию банально начавшегося дела, если оно (подключение) происходит в самом начале следствия, выглядит и является куда менее естественным, чем вмешательство подобного же персонажа в качестве deus ex machina («бога из машины») в разгаре или в завершении череды нераскрытых преступлений. Первый вариант развития событий представляет собой условие игры, принятое среди авторов детективного жанра, второй — их осознанное желание следовать канонам жизненной правды. Этот, второй, вариант и избирает Маури Сариола, давая тем самым понять, что пишет он в первую очередь реалистическое произведение, а уж во вторую — детектив.
Атмосфера на страницах романа «Сусикоски и Дом трех женщин» царит тягостная, безрадостная. Раскрытие преступлений не приносит никому ни радости, ни награды. Да и нет в романе персонажей (во всяком случае, из остающихся в живых к его концу), к которым мы могли бы испытывать теплые человеческие чувства. И если бы не своеобразный юмор, проявляющийся у Маури Сариола — хотя в меньшей степени, чем у Мика Валтари, но все же проявляющийся, — роман оставлял бы, пожалуй, однозначно гнетущее впечатление. И веет тут уже не чеховскими интонациями, а толстовскими, горьковскими, вспоминается «Власть тьмы», на ум приходят страшные мужики Горького. Иначе и быть не может, ведь лейтмотив происходящего в романе — слепая человеческая алчность.
И уж откровенно трагическое звучание имеет роман «Харьюнпяа и кровная месть» (1984), принадлежащий перу М. У. Йоэнсуу.
Матти Урьяна Йоэнсуу (род. в 1948 г.), в прошлом сам полицейский, является автором многих остросюжетных романов, раскрывающих в основном тайные механизмы работы полиции в довольно резкой обличительной форме. В этом отношении его можно сопоставить с уже упоминавшимися шведскими авторами Пером Валё и Май Шеваль, творчество которых хорошо известно нашему читателю.
Впрочем, современное буржуазно-демократическое общество, принимая направленную по его адресу острую социальную критику, ухитряется тем не менее интегрировать ее носителя в свои ряды. Так и происходит с Йоэнсуу, получившим за свои обличительные произведения государственные литературные премии 1976, 1982 и 1985 годов.
Сквозной герой серии полицейских романов Йоэнсуу — служащий криминальной полиции Харьюнпяа. Так и называется открывающий серию роман — «Служащий криминальной полиции»[1]. Харьюнпяа честен, умен, храбр — и обречен на поражение в борьбе с превосходящими силами противника. Причем «противником», вопреки ожиданиям (хотя и не вопреки одному из канонов жанра), как правило, становится не преступник, а собственный недобросовестный начальник и весь находящийся у него в подчинении аппарат подавления… Напрашивающаяся параллель с работой наших органов (еще недавно это выглядело бы рискованно) сегодня способна вызвать разве что горестную усмешку («Нам бы ваши заботы, господин учитель!»). Правда, в недавней повести двух советских авторов[2] впервые, кажется, была предпринята попытка написать нечто сходное и о нашей славной прокуратуре, но в повести этой гласность имеет четкие временные и пространственные границы: время действия — олимпийский 1980-й год, место действия — Узбекистан. Отметим, что нечто похожее начал чуть раньше писать ташкентский прозаик Рауль Мир-Хайдаров, за что ему сразу жестоко отомстили.
Конечно, есть существенное отличие между отечественными обличениями и финскими. У нас речь идет о перерожденцах (оборотнях), коррумпированных представителях коррумпированной в целом системы. У Йоэнсуу — о людях настолько ограниченных и предубежденных, что одно это свидетельствует об их непрофессионализме, а следовательно (если подходить строго объективно) — и о преступном характере их действий. Неполное служебное соответствие, оборачивающееся злоупотреблением властью.
И в основе всего этого лежит ксенофобия. На этот раз в несколько неожиданной для нашего читателя ипостаси. Речь идет о проблемах финских цыган.
Собственно говоря, проблем этих на первый взгляд нет. Цыгане не кочевые, а оседлые, если и не вписавшиеся еще в благополучное финское общество, то старательно и небезуспешно к этому стремящиеся. Ну, не без пережитков, конечно. И один из них — обычай кровной мести. Матти Урьяна Йоэнсуу умело показывает немотивированность подобного поведения. Представители двух некогда враждовавших цыганских семей ведут одинаково отчаянную борьбу за существование, у них, по сути дела, общие интересы и общие цели. И позже, когда события приобретают совсем скверный поворот, былым врагам удается, кстати говоря, преодолеть вековой обычай и найти общий язык. Но пока этого не произошло, молодыми цыганами владеет запрограммированный родовой автоматизм предписанных действий — и кровная месть совершается. Правда, это еще присказка.
А сказка начинается с того, что наряду с намеченной жертвой, цыганом из враждебного семейства (его, кстати, не убивают, а тяжело ранят), нечаянно убивают финна. Да не просто финна — сотрудника полиции! Пусть и бывшего, вдобавок еще и уволенного из рядов за неблаговидное поведение. Полиция по такому поводу берется за дело с двойным усердием. И сразу же начинает все явственней проступать главный замысел романа.
Криминогенную среду, какой, без сомнения, является цыганская община, полиция априори считает средой преступной. И вместо поиска конкретного виновника решает дать «обнаглевшим» цыганам предметный и устрашающий урок. И то, что главным объектом ее преследований становится семья пострадавшего, ничуть ее не смущает. Карфаген должен быть так или иначе разрушен!
Дело осложняется еще тем, что и цыгане не свободны от предубеждений по отношению к коренным местным жителям. Попросту говоря, они не верят им. В таких условиях драматическое нарастание событий и трагическая развязка становятся неминуемы.
А что же Харьюнпяа? Вдвоем с напарником он пытается провести профессиональное расследование, но — тщетно. Его, пошедшего поперек течения, просто отстраняют от дела. Герой реальный — и нормальный, то есть ведущий себя так, как надо бы себя вести всем, — он превращается в героя идеального, а форма и формула расследования, предложенные им, остаются нереализованными. Важно и то, что полиция, не столько ищущая преступника, сколько травящая цыган, опирается в своих действиях на широкую поддержку населения, одержимого теми же предрассудками.
Таков третий — наиболее мрачный — «полицейский роман», включенный в сборник. Не думаю, что он дает адекватное представление о жизни финского общества и о финской ментальности, скорей это роман-гипербола, роман-предупреждение. Но предупреждение, полезное не только финской полиции…
Так что же такое детектив — литература или макулатура? Чтение или чтиво? Пища для ума — или ребус? Не будем отвечать на эти вопросы чересчур глобально: предложенный в данной книге материал не дает для этого оснований. Финский детектив — это бытовое, ироническое, отчасти и драматическое повествование о жизни современной Финляндии, увиденной сквозь призму детективного сюжета. Он непритязателен, он, как и финская литература в целом, не претендует на многое, но поставленные перед собой задачи решает достойно. А ведь один из важнейших принципов — и признаков — удачи того или иного литературного произведения — соразмерность задачи средствам ее воплощения.
Как будет воспринята эта книга? Детективы, разумеется, попадаются покруче и позначительней, и образы в них — ярче, и мысли — глубже. Однако из этого вовсе не вытекает, что литературу такого рода и такого уровня следует оставлять без внимания и эмоционального отклика. И, кроме всего прочего, — это в высшей степени познавательное чтение. Но, впрочем, судите сами.
Виктор Топоров
Мика Валтари ЗВЕЗДЫ РАССКАЖУТ, КОМИССАР ПАЛМУ! Роман
MIKA WALTARI
Tähdet kertovat, komisario Palmu!
1964
Перевод Е. Каменской
Глава первая
Начнем с барышни Кайно Пелконен. Согласно ее словам, ей сорок девять, она бывшая страховая служащая. Ранним утром тридцатого сентября, задолго до рассвета, ее шотландский терьер, Надежный Друг, пробудился в их вполне современной однокомнатной квартирке на Обсерваторской улице; едва разлепив глаза, Надежный Друг устремил любовный взор на спящую хозяйку. Около шести он тихонько заурчал, переместился поближе к изголовью кровати, уселся на задние лапы, продолжая сосредоточенно глядеть в закрытые глаза хозяйки.
Не прошло и нескольких минут, как гипноз возымел действие. Кайно Пелконен со вздохом приподняла веки и обнаружила перед собой преданные глаза Надежного Друга. Заметив, что цель достигнута, собака подобающим образом выразила свой восторг, а именно: не подавая голоса, беззвучно рассмеялась и чмокнула хозяйку в щечку. Надежный Друг был воспитан в уважении к общественному порядку, да к тому же и благородная кровь обязывала его не выказывать нетерпения в столь ранний утренний час.
Следует сразу заметить, что Кайно Пелконен и пес совершенно, так сказать, сроднились, знали и уважали привычки друг друга. Посему собака никогда не торопила хозяйку, давая ей возможность сварить себе две чашечки кофе и совершить утренний туалет, то есть оживить краской бледные щеки и губы; Надежный Друг в это время поджидал за дверью ванной, держа в зубах свой поводок.
За окнами колыхались тусклая серость и сырость городского осеннего утра, когда барышня Пелконен и собака, крадучись, спускались по лестнице. В эти ранние часы они никогда не пользовались лифтом, чтобы его шумом не обеспокоить жильцов дома. Кайно Пелконен и так довольно претерпела обид и горя от своих соседей. И хотя в правилах для жильцов не говорилось, что в доме нельзя держать собак, живший наверху судья на собрании пайщиков грозно заметил, что в правилах равно не сказано и того, что собак в доме держать можно!
Итак, это необычное, полное приключений утро началось для Кайно Пелконен спозаранку. К ее несказанному облегчению, входная дверь оказалась на запоре, а это означало, что дворник еще не вставал. Не то чтобы это открывало Надежному Другу путь для скорейшего удовлетворения некоторых естественных потребностей прямо возле дома, на ближайшем углу, — ни в коем случае, такое не могло привидеться ни барышне Пелконен, ни тем более Надежному Другу в самом фантастическом сне! (Даже если временно не брать в расчет бдительного дворника, который каждую секунду готов был наброситься на них, едва они выходили из дома.)
В этот час улица была просторна и пустынна, и даже разносчики газет еще не показывались. Барышня Пелконен облегченно перевела дух и отдалась на волю Надежного Друга, настоятельно влекшего ее к центральной аллее Обсерваторского парка.
На широкой, усыпанной гравием дорожке собака остановилась и обратила свой деликатный взор на хозяйку. Та огляделась на всякий случай по сторонам, отстегнула поводок, и Надежный Друг смог наконец умчаться в укромный, заросший деревьями и кустарником уголок парка. Мокрые желтые листья устилали землю, было безветренно, сыро и по-рассветному мглисто.
Барышня Кайно Пелконен (49 лет, на щеках легкий искусственный румянец) отлично знала, что нарушает все правила, отпуская бегать по парку свою собаку. Но выпитый горячий кофе бодрил ее и придавал отваги. С вызывающим видом она озиралась по сторонам, в глубине души понимая, что в такую рань встреча со сторожами или с подметальщиками ей не грозит.
А такое, увы, случалось: несколько раз сторожа ужасно кричали на нее, а один дворник даже поднял метлу на ее кроткую собаку. После этого происшествия Кайно Пелконен решила, что ей будет приятнее вставать пораньше, около шести, а в прекрасное летнее утро не грех подняться и в начале пятого, но зато спокойно и без помех выгуливать своего пса. Она не могла понять людского жестокосердия и таких несправедливых по отношению к собакам городских правил! А ведь собаки безропотно платили налог, и, между прочим, куда исправнее, чем многие люди! Что делать, за эту человеческую нетерпимость расплачивалась она — своим утренним сладким сном.
Итак, барышня Пелконен прогуливалась по усыпанной гравием аллее, а ее Надежный Друг в упоении, но совершенно безмолвно, сновал между кустами, изредка проверяя, не потерялась ли его хозяйка. Но та коротала время поблизости, вдыхая унылый запах земли и мокрых листьев, пока не надумала подняться на холм, к Памятнику жертвам кораблекрушений. В воздухе, правда, висел туман, но она надеялась, что сможет полюбоваться оттуда золотистой зарей, разгорающейся на небе за Южной гаванью и мысом Катаянокка. Не раз она вот так, никому не мешая, наслаждалась созерцанием пленительных восходов, в то время как внизу, на Рыночной площади, уже сновал в этот ранний час деловой люд.
Но нынче утром солнце было бессильно прорвать серую мглу. И все же вокруг посветлело, пожелтевшие и красноватые листья освежили свои краски, а трава вдруг оказалась ярко-зеленой. Барышня Пелконен на минутку задержалась, чтобы кинуть взор на гавань, а собака с неутомимой любознательностью продолжила свои исследования среди кустов.
Если верить утверждению, которое любит в иные минуты вспоминать комиссар Палму, а именно: nomen est omen[3], то имя и фамилия Кайно Пелконен[4] были поистине говорящими. Она и не заблуждалась на свой счет, прекрасно зная, что она и робка, и боязлива. Первое время она до жути боялась этих ранних прогулок по пустому, безмолвному парку. Боялась не того, что их могли поймать с поличным, нет, она содрогалась при мысли, что может столкнуться с какой-нибудь пьяной компанией или с бездомными бродягами.
Все же, любуясь восходами солнца, которые иногда бывали поистине прекрасны, она постепенно забывала свои страхи и даже позволяла себе тихо улыбаться, воображая, как однажды, в одну из таких ранних прогулок по парку, ей повстречается Он — погруженный в свои мысли ученый или задумчивый поэт, который внезапно увидит ее, — ну, и так далее…
Барышня Пелконен успела домечтать всего лишь до этого места, как вдруг в кустах оглушительно залаял Надежный Друг, ее бесстрашный спутник. Резкий и громогласный лай сотряс тишину пустого парка, и помертвевшей от страха Пелконен показалось, что он прогрохотал над городом, подобно грому. Это не был визг боли, лай предупреждал о серьезной опасности.
Собака выскочила из кустов прямо на барышню Пелконен. Ее обычно ласковые карие глаза побелели и метали молнии. Глухо лая, она то бросалась к кустам, то подбегала к хозяйке, увлекая ту за собой. Значит, с ней-то ничего не случилось. Значит, она просто что-то нашла, и это совершенно выбило ее из колеи. Она была такая чувствительная!
Видя возбуждение Надежного Друга, барышня Пелконен отринула свои страхи. Уняв его лай тихими, ласковыми словами, она направилась следом за ним к кустам и раздвинула руками ветки. Мокрые листья облепили ее юбку. На земле, прямо под кустом, лежали мужские башмаки, надетые на вылезавшие из штанин ноги. Дальше виднелась подкладка задранного пальто. Оно накрывало человека с головой. Бродяга спал. Барышня Пелконен сразу определила его как бродягу. У кого еще могли быть такие стоптанные башмаки и кто еще мог разлечься в такой вот позе! Она даже ясно различила винную струю в прохладном осеннем воздухе.
Собака больше не лаяла. С ворчанием она подобралась поближе и вдруг дернула лежащего за штанину — прежде чем Кайно Пелконен успела этому воспрепятствовать. Потом отважное создание попятилось и завыло, поджав хвост и жалобно глядя на хозяйку.
Спящего собаке разбудить не удалось. Сделав над собой усилие, барышня Пелконен нагнулась и подергала мужчину за ногу. Все-таки нельзя оставлять человека лежать на сырой земле, хоть он и бродяга. Ведь он наверняка получит воспаление легких!
Нога мужчины была окоченевшей. Только в этот миг Кайно Пелконен начала прозревать истину. Бродяга был мертв. Бедный старик, маленький, несчастный, с головой, спрятанной под пальто. Он окоченел и стал твердым, как камень. И тогда Кайно Пелконен закричала. Она просто не могла больше. Она закричала очень громко. А потом еще и еще раз. И взяла себя в руки, только когда увидела укоризненные глаза пса, но продолжала дрожать всем телом. Псу как будто было неловко за нее, хотя чего уж там — он ведь тоже сначала испугался и потерял самообладание. Тело лежало перед ними на земле совершенно неподвижно. Это была мертвая неподвижность, последний смертельный покой, ждущий в конце всех. Так она подумала и почему-то перестала дрожать.
Она выбралась из кустов и остановилась в нерешительности, не зная, что предпринять. И вот в это мгновение она увидела Его — совершенно таким, каким она Его всегда воображала, медленно спускавшимся к ней от Обсерватории. Он шел как-то неуверенно и словно искал что-то, оглядываясь по сторонам. Он был, пожалуй, не так высок и красив, как в ее мечтах, но зато у Него были седые виски, и в бровях тоже пробивалась седина, а голову венчала зеленая шляпа с красным перышком, заткнутым за кожаную ленту вокруг тульи.
Барышне Пелконен не оставалось ничего другого, как стоять и смотреть на Него разинув рот. Надежный Друг сразу все понял. Он засуетился, понесся прямо к Нему, припал к Его ноге, облаченной в благородную серую брючину под модным дождевиком, и распластался перед Ним на дорожке, преисполненный благодарности и ликования. Господин нагнулся и погладил пса, потом выпрямился и, устремив на барышню Пелконен дружелюбный взгляд стальных глаз, спросил слегка рассеянно, словно его отвлекли от каких-то серьезных мыслей:
— Кажется, кто-то кричал? Я слышал женский крик.
Кайно Пелконен колебалась одну секунду. Честность прежде всего, напомнила она себе и торопливо призналась:
— Это я кричала.
Словно зачарованная, она робко посмотрела в глаза незнакомому господину и на короткое, но упоительное мгновение забыла обо всем — что с ней и где она. Очнувшись, она указала на кусты и попыталась прояснить ситуацию.
— Там, там в кустах мертвый бродяга. Надежный Друг, — она запнулась и поспешно пояснила: — То есть моя собака нашла его, и я очень испугалась.
Господин снова погладил пса, потрепал его за ушами — тот с немым обожанием прижался к его ноге — и рассеянно сказал:
— Благородное создание.
Но смотрел он при этом только на барышню Пелконен. Потом, как бы встряхнувшись от своих размышлений, он направился к кустам. Потрогал носком ботинка застывшее тело, коротко подтвердил:
— Да, бедняга мертв. — Но следом за этими словами, к величайшему изумлению барышни Пелконен, он внимательно огляделся кругом и спросил: — И что же?
Черный встрепанный терьер уселся перед ним и почтительно посмотрел ему в лицо.
Барышня Пелконен растерялась.
— Как, разве мы не должны… — начала она.
— …сообщить в полицию? — закончил господин. — Совершенно справедливо. Именно так. Мы непременно должны. Однако… — Он снял шляпу, провел рукой по серебристым волосам, потер лоб, словно у него болела голова, и продолжил: — Только где вы предполагаете найти тут полицейского? В Хельсинки это давно уже редкость. Патрульную машину еще можно, пожалуй, увидеть. Ну, днем пару конных полицейских на вахтпараде. Еще регулировщика, если где-то надо остановить движение. Но обычных полицейских, как в пору нашей — виноват, моей — молодости, таких теперь просто нет. Это уже мифический персонаж — постовой в форме, со сцепленными за спиной руками.
— Нет, это не мифический персонаж! — неожиданно для себя решительно возразила барышня Пелконен.
Она отлично помнила полицейского, который вырос перед ней как из-под земли в самый неподходящий момент — когда она однажды днем спустила с поводка собаку в Центральном парке.
— Я имел в виду, — рассудительно сказал господин, — что не стоит самим себе устраивать неприятности. Согласитесь, вас это не касается. Нас обоих не касается. Если мы станем заявлять в полицию, на это уйдет уйма времени. Нас будут допрашивать. Запишут наши имена, адреса. Все это ужасно неприятно. И из-за кого? Из-за какого-то бродяги!
Кайно Пелконен снова задрожала. Ей пришла в голову страшная мысль.
— И меня, меня могут арестовать, — пролепетала она, — когда узнают, что я отпускаю собаку с поводка? Но ведь она бегает по утрам и никому не мешает!
— Разумеется, могут, — сказал господин. — Они сразу догадаются. Это очевидно. Иначе собака не нашла бы тело.
— Но, — возразила Кайно Пелконен, тут же забыв о себе, — мы не можем оставить его лежать так. Он… он ведь человек. Наш долг заявить в полицию.
— Да найдет его кто-нибудь, — нетерпеливо сказал господин. — Вон сколько листьев нападало. В семь часов придут подметальщики и найдут. А для нас будет куда разумнее и проще пойти своей дорогой и забыть обо всей этой истории.
— Нет, — возразила Пелконен, привстав от волнения на цыпочки, — нет, это неправильно. Это, это эгоистично.
Господин наклонил голову, надел свою шляпу и еще раз погладил пса.
— Благородное создание, — рассеянно повторил он. — Да, в мире не так много благородных людей, подобных вам. Будь их больше, жизнь была бы иной. Увы! — Он сделал паузу и, наконец решившись, продолжил: — Но я не стану ввязываться в эту историю. Не осуждайте меня, я просто не могу. А вы поступайте, как вам подсказывает совесть.
Он чуть приподнял шляпу с красным перышком за кожаной лентой, поклонился и зашагал прочь. Он уходил не спеша, той же дорогой, которой пришел сюда, а Надежный Друг трусил возле его левой ноги, приотстав на полшага, демонстрируя, как хорошо он воспитан. Господину даже пришлось задержаться и приказать псу идти обратно к хозяйке.
Надежный Друг беспрекословно подчинился, но, сидя на дороге, недоуменно глядел вслед господину. На его глазах уходил из их жизни единственный настоящий хозяин. Уходил навсегда. Так решил в ту минуту Надежный Друг.
А его хозяйка, все еще стоя на цыпочках, с пылающим лицом и ледяной тоской на сердце, тоже смотрела ему вслед, и в ее глазах было то же тоскливое выражение, что и у пса.
Но долго упиваться своей тоской она не могла. Ей нужно было действовать. Это был ее Долг. «Телефон!» — вдруг мелькнуло в ее голове, и она побежала вниз, спотыкаясь, тяжело дыша и тихонько всхлипывая. Надежный Друг мчался впереди нее, мужественно борясь с желанием залаять. Но это было бы неправильно.
Сбегая с холма, барышня Пелконен заметила краем глаза автомобиль, стоявший на лужайке, с радиатором, странным образом припечатанным к толстому дереву. Но в ту минуту она не обратила на него особого внимания. Выглядело это, безусловно, странно, но она все-таки не была автомобилистом.
Внизу мимо барышни Пелконен пронесся, дребезжа, сонный трамвай. Возле крытого рынка суетились люди. Наконец она отыскала телефонную будку, вбежала внутрь и схватила с рычажка трубку. Увы: трубка была оторвана, а сам аппарат едва не упал ей в руки — какие-то хулиганы совершенно разбили его. Впрочем, телефонный справочник тоже оказался разодранным, и она все равно не смогла бы найти телефон полиции. В довершение всего она обнаружила, что у нее в кошельке нет подходящей монеты.
Но выход был быстро найден. Надо зайти в какое-нибудь кафе возле рынка — какое-нибудь одно наверняка уже открыто, — и там непременно окажется телефон. Решительным движением барышня Пелконен ухватила своего верного пса за ошейник и пристегнула поводок. Надежный Друг безропотно подчинился и последовал за своей хозяйкой, понурив голову и поджав хвост. Он понимал, что радостям жизни на сей раз пришел конец и что впереди их ждут испытания.
Но идти к рынку барышне Пелконен не пришлось. Прямо перед ней на противоположной стороне высился роскошный фасад отеля с парадным подъездом в центре. Барышня Пелконен потянула на себя тяжеленную стеклянную дверь и героически вступила в вестибюль, таща за собой на поводке упиравшегося Надежного Друга.
Ночной портье с учтивым видом поднялся из-за дорогой — из ценного дерева! — стойки, в долю секунды окинул взглядом прилично одетую даму с породистым псом на ярко-зеленом поводке, затем, после некоторого колебания, протянул руку к щитку с ключами и машинально спросил:
— Ваш номер?..
Кайно Пелконен, не заметив от смущения его жеста и думая только о номере телефона полиции, честно сказала:
— Я не знаю. Но вы, наверно, сами знаете.
Ночной портье взглянул на породистого, отлично подстриженного шотландского терьера, как бы ища у него поддержки, раздумывая, могла ли эта дамочка заблудиться и забрести к ним по ошибке после какой-нибудь пирушки. Но она как будто не пьяна. Что делать, персонал их шикарного отеля давно привык к рассеянности своих гостей.
— А имя, простите? — осторожно осведомился портье, и его взгляд снова случайно упал на собаку.
Надежный Друг вежливо вильнул хвостом. Барышня Пелконен, при всей своей озабоченности, не могла не улыбнуться. Портье оказался весьма учтивым человеком!
— Надежный Друг, — с готовностью ответила она. И, перехватив изумленный взгляд портье, поспешила пояснить: — Из Аберкомби-Куков, если вам что-нибудь говорит это имя. Это прославленный род.
Портье воспринял разъяснение как легкий упрек, хотя в тоне барышни Пелконен не было и намека на это. Побагровев, он склонился над книгой для приезжих и, листая ее, переспросил:
— Простите, не повторите еще раз, как оно пишется?
Кайно Пелконен начала терять терпение. Чтобы зайти в этот фешенебельный отель, ей и так потребовалось собрать все свое мужество. Но если здесь принято узнавать родословную собаки, прежде чем дать телефон полиции, то это уже слишком! Или с этим портье, или с самим отелем явно что-то не в порядке. Она строго сказала:
— Довольно об именах. Назовите мне, пожалуйста, нужный номер.
— Но простите, — неуверенно пробормотал портье, — здесь нет такого имени.
— Это неважно, — сказала барышня Пелконен сердясь.
Надежный Друг, уловив новые нотки в ее тоне, весь подобрался и обнажил клыки. Он устремил угрожающий взор на портье и глухо зарычал, предупреждая врага.
— Да, это неважно, — повторила Кайно Пелконен. — Если для вас это так затруднительно, я готова сама найти его.
И она шагнула вперед. Портье отступил к щитку с ключами. Надежный Друг проследил за ним взглядом и начал изучать глухую стойку на предмет проникновения за нее, если это понадобится, и нападения в дальнейшем на ногу портье. У собаки была тонкая нервная организация, которая мгновенно отзывалась на раздражающие ее хозяйку факторы. В данный момент таким фактором был портье.
— Я не могу этого позволить, — растерянно возразил дежурный. — А вы, вы совершенно уверены, что живете именно в этом отеле?..
— Послушайте-ка, — твердо сказала барышня Пелконен, чье терпение лопнуло, — мне не хотелось бы быть невежливой, но один из нас явно не в своем уме. Я не живу в этом отеле, не жила прежде и вряд ли когда-нибудь тут поселюсь. Мне нужен только номер. Номер телефона. Полиции. Вы понимаете по-фински? — Потом, глядя на вытянутое, обиженное лицо портье, она смягчилась и добавила: — Поймите, это вопрос жизни и смерти!
Но портье уже немного оправился, и уверенность начала возвращаться к нему. Дамочка была, очевидно, с приветом, и ее разговоры о комби-куках были, значит, просто бредом.
— Если вы не проживаете в нашем отеле, — сухо сказал он, — то я вынужден буду просить вас удалиться. Отель не нуждается ни в чьих вмешательствах. Мы сами улаживаем все свои дела. И никогда не звоним в полицию. Так что — будьте добры, покиньте, уважаемая госпожа, наши покои.
Барышня Пелконен вскипела и, привстав на цыпочки, горячо проговорила (Надежный Друг при этом сердито зарычал):
— Неужели вы не понимаете?! Я только что в парке обнаружила труп мужчины! Какого-то бродяги! — Она припомнила все обстоятельства и поправилась: — Вернее, моя собака обнаружила.
Портье снова мысленно прикинул, не стоит ли вызвать санитаров с машиной, но, окинув дамочку еще раз проницательным взглядом, решил довериться опыту и интуиции.
— Уважаемая мадам, — сказал он, — почему вы пришли именно в наш отель? Чего вы здесь добиваетесь, если вы здесь не живете? Я не могу никого беспокоить и тем более будить в такой час.
— Я не мадам! — сердито оборвала барышня Пелконен.
Как будто нельзя жить как живешь, быть просто скромной женщиной и никакой не «мадам»: эти «мадамы» ей уже просто опротивели за столько лет! Она была не прочь оставаться в барышнях до самой смерти! По крайней мере так она себе старательно внушала.
— Ничего я здесь не добиваюсь, — ироническим тоном повторила она его слова. — Мне нужен телефон полиции. Мне нужно позвонить!
— Но почему из нашего отеля?! — подозрительно спросил портье. — Почему с таким делом вы пришли к нам? Нам не нужны неприятности.
У барышни Пелконен закралось подозрение, что всем мужчинам без исключения присуще общее свойство — избегать любой огласки и страшиться любых возможных неприятностей. Она старалась не думать плохо про того приятного господина в парке, тем более что Надежному Другу он так понравился! Но теперь был явный перебор. Не хватало еще, чтобы и этот тип за стойкой начал убеждать ее не вмешиваться в чужие дела!
И барышне Пелконен подумалось: весьма вероятно, что дела в мире пошли бы на лад, если бы их взяли в свои руки женщины и управлялись бы с ними по-простому, без лишних фокусов. Кстати, именно это сказал и любезный ее сердцу господин: что, мол, тогда мир стал бы куда лучше!
— Я не собираюсь вмешиваться в дела вашего отеля, — заверила она портье. — Мне нужно только позвонить. И я сразу уйду. Дайте мне телефон полиции!
Портье нехотя достал телефонную книгу, раскрыл ее на первой странице и спросил:
— Полиции порядка или криминальной?
— Не знаю, — вынуждена была признаться барышня Пелконен. Но ее женский здравый смысл подсказал ей ответ, и, вспомнив о своей собаке, она иронически заметила: — Наверняка лежать мертвым на земле в городском парке — страшное преступление. Если уж считают преступниками домашних животных и их хозяев, которые отпускают маленьких собачек побегать по парку, то что говорить о несчастных бродягах, упившихся до смерти в общественном месте! Тут, конечно, не обойтись без полиции порядка!
— Ноль-ноль-два, — вычитал в книге портье, набрал номер и сердито сунул трубку барышне Пелконен. — Говорите!
— Полиция порядка. Слушаем! — четко произнес голос в трубке.
— Я только что нашла умершего бродягу в Обсерваторском парке, недалеко от Памятника, — деловито доложила барышня Пелконен. — Вернее, моя собака нашла его в кустах. Допился до того, что умер!.. Что? — Она прикрыла трубку ладошкой и с тревогой обратилась к портье: — Он спрашивает, как меня зовут и откуда я звоню. Мне обязательно говорить?
Портье развел руками, показывая, что теперь он бессилен, а ведь он предупреждал.
— Какая разница, как меня зовут! — решительно сказала Кайно Пелконен. — Конечно, вы можете меня найти. Я буду ждать вас у… у отеля «Палас», перед входом. Я небольшого роста, в коричневом костюме для улицы, и со мной черный шотландский терьер. Разумеется, он на поводке.
Она решила, что это стоит заявить сразу, на всякий случай, и залилась румянцем, потому что в трубке заметили что-то по поводу костюма. Положив трубку, она осведомилась:
— Сколько я должна за разговор?
— Ничего, решительно ничего, раз такие дела! — заторопился портье, вылезая из-за стойки и спеша к двери, чтобы открыть ее перед дамой.
Надежный Друг сделал попытку цапнуть его за штанину, но барышня Пелконен, хоть и вполне разделяла намерения пса, все же удержала его на поводке. Стараясь сохранять достоинство, она степенно вышла за дверь вместе с собакой, и портье учтиво поклонился им.
Если до сих пор полиция производила на барышню Пелконен крайне неблагоприятное впечатление, то в следующее мгновение оно, пожалуй, изменилось к лучшему. Едва она ступила на тротуар, как к гостинице подлетел черный автомобиль с мотающейся антенной и, резко затормозив, замер на месте. Не успела Кайно Пелконен даже собраться с мыслями и осознать, что это и есть полиция, как передняя дверца распахнулась, и оттуда показался одетый в форму полицейский. Одной рукой он уже открывал для нее заднюю дверь.
— Это вы звонили? — спросил полицейский. — Залезайте скорее. Едем.
Барышня Пелконен была настолько обескуражена быстротой операции, что, влезая в машину, сбила набок свою шляпку, а Надежного Друга ей пришлось втаскивать силой, ибо он упирался всеми четырьмя лапами, полный мрачных подозрений относительно полицейского мундира. Насилие оскорбило пса до глубины души, тем более что барышня Пелконен не имела возможности немедленно начать мирные переговоры, а занялась более неотложным делом — стала поправлять свою шляпку. Тем временем автомобиль с включенной сиреной летел по набережной со скоростью сто километров в час и уже повернул к костелу, когда барышня Пелконен, установив должным образом шляпку на голове, обратила внимание на окрестности.
— Куда вы едете? — возмутилась она. — И выключите эту ужасную сирену! У меня заболит голова. И люди на нас оглядываются. — На пустынных утренних улицах действительно уже начал появляться народ, хотя молочные магазины еще не открылись. — Никуда этот мертвец не денется, — с упреком добавила она.
— Что же вы сразу не сказали? — неприязненным тоном выговорил ей водитель.
Но полицейский, сидевший рядом с ним, примирительно улыбнулся и, оглянувшись назад, сказал:
— Видите ли, уважаемая госпожа, нам сейчас в самый раз немножко размяться. Засиделись, ночь уж больно однообразная была. Ну, куда поедем? И что стряслось-то? Собачка ваша вроде в порядке. Нам дежурный все что-то про собаку толковал.
Игривый тон полицейского возмутил барышню Пелконен.
— Во-первых, я не госпожа. И не мадам, — на всякий случай добавила она. — Я барышня Пелконен, и я протестую против того, чтобы мое имя упоминалось в связи с этой историей. А во-вторых, моя собака не совершила ничего дурного, хотя я и отпустила ее на минутку побегать. Поэтому она и нашла мертвеца. У вас же тоже есть служебные собаки — ищейки!
Полицейский с шутливым изумлением оглядел машину и спросил:
— Разве? По-моему, на этот раз мы ее не прихватили. Ну ладно, с вашей собакой все ясно. Отличная, черт побери, собака!
Он неожиданно протянул руку и погладил пса по спине. Надежный Друг недоверчиво обнюхал его ладонь и потом неуверенно вильнул хвостом.
Барышня Пелконен наконец совсем успокоилась и больше уже не сердилась.
Водитель нетерпеливо спросил:
— Так куда ехать?
— Он немного нервничает, — сказал общительный полицейский, показывая на своего коллегу пальцем. — Он тут всю ночь прождал одного известия. Мог бы привыкнуть, не первый раз…
— К этому нельзя привыкнуть! — отрезал водитель.
Барышня Пелконен с изумлением отметила, что лицо у него побелело, как будто он вспомнил о чем-то ужасном, и почувствовала, что ее охватывает сильнейшее чувство нереальности всего происходящего. Такое бывало с ней только во сне. Ей пришлось срочно обратиться к Надежному Другу и погладить его. Собака лизнула теплым языком ее руку, и барышня Пелконен поняла, что по крайней мере ее собака чувствует себя спокойно.
— Поезжайте к Обсерватории, — сказала она. — Он около Памятника жертвам кораблекрушений. Рядышком, в кустах. Какой-то несчастный бродяга.
— Туда на машине не подъедешь, — мрачно заметил водитель. — Да еще тащиться за каким-то бродягой. Их в это время года на всех скамейках полно, то и дело подбирать приходится. Это потом, ближе к зиме, они переберутся в тепло — будут в тюрьмах морозы пересиживать и деньги для штрафов зарабатывать.
— Вы просто бессердечный человек! — возмутилась барышня Пелконен. — Он вовсе не на скамейке, а на земле. И он мертвый. Совсем мертвый.
— Эх, знали бы вы, что они пьют! — поддержал разговор общительный полицейский. — Помню одну зиму, когда они мерли как мухи. Их даже череп с костями на этикетках не останавливает!
Водитель развернул машину и медленно двинулся в обратном направлении, бурча себе под нос:
— Ничего себе бессердечный! Как раз наоборот. Чересчур мягкосердечный. От этого-то и мучаюсь.
У телефонной будки машина повернула и поползла на холм. Барышня Пелконен оглядела будку и обличающе заметила:
— Этот телефон сломан. Аппарат разбит, а телефонная книга порвана.
— Да, нынешняя ребятни любит поозорничать, — добродушно заметил общительный полицейский. — Хорошая порка им не помешала бы. — И, покосившись на товарища, с улыбкой добавил: — Но разве нынешние родители могут выпороть!
— В жизни не порол детей и не буду! — рассердился водитель. — Никогда! — Гневным взором он окинул окрестности и вдруг заметил на лужайке смятый автомобиль. — Ого! — воскликнул он. — Не одни мы тут ездим.
— Погоди-ка! — Другой полицейский уже открывал дверцу. Он вылез и пошел прямо по газону, не обращая внимания на протестующие возгласы барышни Пелконен. Заглянул в машину, записал в книжку ее номер и осмотрел следы шин на примятой траве. Потом вернулся обратно и заметил: — Ребята, видно, очень торопились. Но никто, судя по всему, не пострадал. Стекла разбиты вдребезги, есть несколько капель крови. Надо сообщить место и номер машины, пусть владелец придет осмотрит. О ее пропаже еще не заявляли. — Он заглянул для верности в записную книжку и подтвердил: — Да, не заявляли. Надо будет снять отпечатки пальцев.
Он нажал какую-то кнопку и заговорил — барышне Пелконен показалось, что он разговаривает сам с собой:
— Внимание, внимание, вызывает двойка, вызывает двойка.
Рация затарахтела, послышался голос, и полицейский быстро и деловито продиктовал данные: номер машины, координаты места происшествия.
— Шикарная тачка! — восхищенно добавил он. — Эти богачи своими «мерседесами» всегда разбрасываются. Наверняка малолетки угнали, попомните мое слово… Ну что, новости есть?
— Есть, есть, — протарахтел голос, и водитель немедленно повернул голову и стал напряженно слушать. — Только что сообщили. Мальчик, родился несколько минут назад. Акушерка определила, пока на глазок, что четыре кило. Мать в порядке, передает привет.
Водитель охнул, ткнулся головой в руль и пробормотал:
— Господи, благодарю Тебя!
С округлившимися от удивления глазами Кайно Пелконен увидела, как на лбу у него выступили крупные капли пота. Водитель выпрямился, его лицо расплылось в улыбке, и он извиняющимся тоном произнес:
— Вот видите, барышня, ну как к такому можно привыкнуть?! Хоть он у нас и четвертый. Но сын — только второй. Средние-то получились девочки. — Барышня Пелконен не успела даже как следует возмутиться, водитель уже лихо завел машину и провозгласил: — Ну, ребята, теперь вперед! Посмотрим, кто тут еще гулял по парку!
Он вывел автомобиль на аллею и дал газ — мотор взревел, машина рванулась вверх к Обсерватории, барышня Пелконен вцепилась обеими руками в спинку переднего сиденья.
Но она вовсе не испугалась, потому что, к ее несказанному изумлению, водитель во все горло запел: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля» — и стал очень чисто, но оглушительно громко выводить песню о милой его сердцу Финляндии.
Его товарищ указал на него большим пальцем и пояснил:
— Он у нас в хоре поет. Вчера была спевка, и он ни одной ноты не мог взять. Думали, не сможет поехать с нами в Копенгаген на концерт.
В эту минуту машина остановилась у Памятника. Общительный полицейский выскочил первым и предупредительно открыл дверцу для барышни Пелконен.
— Так, — деловито сказал он, оставляя шутливый тон. — Посмотрим, где тут труп.
Глава вторая
Я начал свой роман с испытаний, выпавших на долю барышни Пелконен в то субботнее утро, не только для того, чтобы опробовать перо и расписаться, но прежде всего потому, что меня гложет совесть и до сих пор прошибает холодный пот, когда я вспоминаю об этом деле. И вот в первой главе я хотел деликатно дать понять читателям, что непоправимые и роковые ошибки совершаются порой в самых обыденных случаях и что мы, полицейские, — обычные люди и сделаны из того же теста, что и все прочие.
Когда я в первый раз осторожно упомянул в разговоре с комиссаром Палму о своей работе над детективным романом, он покачал головой, тяжело вздохнул и сказал:
— Надеялся я дожить до могилы или по крайней мере до пенсии, не опозорив свою седую голову, да, видно, не судьба!
Я горячо запротестовал и принялся уверять, что, напротив, собираюсь отнестись к его имени и репутации с величайшим почтением. Он ответил просто:
— О чем ты говоришь, какая репутация! Ведь всему миру откроется моя неспособность разбираться в людях! Конечно же, неспособность, раз я мог потратить столько сил на подобных никчемных субъектов, вроде тебя. А уж тебе тем более придется заняться самообличением, иначе не стоит и книжку затевать!
Сердце у меня упало. Я как раз подумывал именно о книге-оправдании, в которой мог бы хоть отчасти доказать, что не являюсь таким уж законченным болваном. И мне представлялось, что детектив для этой цели наиболее подходящая форма, позволяющая при помощи воображения и подтасовки некоторых деталей совершенно спутать и затемнить реальную картину событий, столь нелицеприятную для меня.
— Что ж, пиши, — безжалостно продолжал комиссар. — Пиши, мой мальчик, о том, как ты сплоховал в том деле разнесчастного «бродяги». И уж, будь добр, не темни. Не забудь указать, что в данном конкретном случае была виновата не вся полицейская система, а именно ты. Цепочка, как известно, рвется в тонком месте. Вот ты и был у нас этим тонким местом, слабым звеном. Так что для нас, профессионалов, пожалуй, и неплохо как можно дольше удерживать тебя за письменным столом. Что и говорить, должность вскружила тебе голову. Напиши и об этом, мой мальчик. Поиронизируй и посмейся над всеми нами — горемычными трудягами, ломовыми полицейскими лошадками. Заставь меня до слез хохотать над всей нашей системой. Она того заслуживает, спору нет. Используй свое воображение, покажи нас живыми людьми, но — не щади и себя, сынок!
Я слушал его, и улыбка сползала с моего лица. Ведь я в самом деле уже принялся потихоньку отбирать подходящий материал, то есть ошибки и упущения других, чтобы навесить на них собственную вину, а себя выгородить. Конечно, детектив — не судебное расследование, к такому легкому жанру и требования иные. Но это дела не меняло — мои намерения не были бескорыстны, и я убедился в этом, заглянув в себя поглубже.
Палму дымил трубкой, поглядывал на меня, а потом непривычно серьезно сказал:
— Наша система — это машина. Ее части — люди. И ни один из них не застрахован от ошибок. Но машина эта работает. Нам не хватает транспорта, помещений, людей, даже столов, за которыми надо нацарапать отчет. Но у нас есть результаты. Мы кое-чего добиваемся. И часто — с невероятной быстротой, к собственному нашему удивлению. Нам нет нужды похваляться. Наша работа сама говорит за себя.
Я молчал и думал. И занимался самоанализом. Наконец тяжело вздохнул — на этот раз был мой черед — и спросил:
— Послушай, Палму, скажи честно, одобряешь ли ты саму идею писать роман о таких серьезных вещах и делать их предметом дурацких шуток? Ведь я, говоря по правде, насочинял кучу всякой чепухи, которой в действительности и в помине не было. То есть одобряешь ли ты эту идею, с тем, конечно, условием, что я приложу усилия, чтобы описать и свое кретинское поведение во всей красе.
Палму хмыкнул.
— Ну, особенных усилий от тебя не потребуется. Ты просто опиши, как оно было, и все будет ясно. Но если ты в самом деле наконец-то кое-что понял, то это уже шаг вперед…
И все же я повторю еще раз: ошибки могут случаться и в полицейской работе. А в этом деле с «бродягой» сошлись все неблагоприятные обстоятельства, какие только возможны, навалились так, что едва не придавили меня. Во-первых, шеф нашей группы уже второй год как находился в командировке за границей — перенимал опыт в разных странах, и я, оказавшись старшим по званию, номинально исполнял его обязанности. Я страшно возгордился и уже прикидывал, что по возвращении он так или иначе пойдет на повышение, а я — я стану настоящим руководителем группы, если только не случится каких-либо чрезвычайных происшествий по моей вине.
Во-вторых, начальник отдела, обычно державший меня в поле зрения, имел неосторожность взять отпуск на несколько дней и уехал на остров пострелять морских птиц.
А в-третьих и в-главных: барышня Пелконен так упорно твердила про «бродягу», что совершенно заморочила всем голову. А ведь это было чистое предположение — и только. Вот, например, наши патрульные — опытные ребята: народ ученый и обученный. Чего только они не повидали и с чем только не имели дело, так что удивить их трудно. К тому же они люди непредубежденные и беспристрастные. Но вот на тебе! А все потому, что барышня Пелконен с самого начала как заводная твердила «бродяга» да «бродяга».
И когда ранним сумеречным субботним утром констебль вылез из патрульной машины, направился к кустам и внимательно осмотрел место, ничто явно не указывало на недостоверность информации барышни Пелконен. На земле таки лежало тело; ноги были обуты в стоптанные ботинки, а голова вполне правдоподобно укрыта пальто — так обычно и накрываются спящие бродяги, и казалось, что он так вот и испустил дух — во сне. Правда, бутылки нигде рядом видно не было, но зато и следов насилия или потасовки тоже не наблюдалось.
Констебль резко встряхнул тело, чтобы удостовериться, полностью ли оно окоченело. Но, согласно инструкции, больше до него не дотрагивался. Потому что дальше — дело уже нашей группы. Конечно, он мог бы откинуть пальто с головы, но — но, в общем, однажды я поднял страшный шум вокруг подобного пустяка, и теперь полицейский поостерегся что-нибудь трогать.
Он просто, как ему и было положено, доложил дежурному, что действительно обнаружил «бродягу», что тот мертв — мертвее не бывает, что никаких следов насилия не видно и вполне возможно, что тот заснул навеки в состоянии алкогольного отравления. Дежурный патруля передал сообщение нашему дежурному уже в отредактированном виде: в Обсерваторском парке в кустах возле Памятника жертвам кораблекрушений обнаружен труп бродяги, заснувшего в состоянии алкогольного отравления, — примите к сведению! Таким образом все «может быть» и «возможно» из рапорта исчезли, что позднее подтвердила и проверка.
Наш дежурный сообщение принял, сказал, что все ясно, и стал в недоумении почесывать затылок. Дело в том, что в то утро дежурство нес не очень опытный… Нет, все не так! Это беспардонное вранье с моей стороны. Никакой он не неопытный! А корень зла был в том, что воля к власти ударила мне в голову, и я временами становился излишне нетерпелив и изрекал непререкаемым тоном сентенции, типа: «Нужно уметь критически оценивать ситуацию», или «Не стоит задействовать весь полицейский аппарат из-за одной пустой башки», или «Такие люди уйдут на пенсию не из нашего учреждения». И дежурному не хотелось давать мне повод высказать все это лично ему; кроме того, он знал, что в предыдущий вечер я вернулся поздно с репетиции хора. С Палму он тоже не мог посоветоваться, потому что тот был человек немолодой и его утренний сон надо было беречь. С другой стороны, в этом деле не было ничего такого, к чему можно было бы применить свою способность мыслить критически. Единственным вопросом, требовавшим разъяснения, был: какую именно отраву употребил внутрь «бродяга» перед тем, как прилечь вздремнуть в последний раз.
И дежурный вызвал полицейский катафалк, чтобы тот подобрал труп и доставил его в патологоанатомическое отделение для судебно-медицинской экспертизы. Для очистки совести он прибавил, что было бы неплохо заглянуть в буфет и захватить кого-нибудь из нашей группы, на всякий пожарный случай. Констебль, прикомандированный к этой «черной» работе, действительно заглянул в буфет, но никого из наших там не обнаружил: именно в это время наш дежурный сыщик отправился в клозет — и решил, что все это дело не стоит выеденного яйца, а потому отправился выполнять приказание вдвоем с другим полицейским.
Родом он был из деревни и… нет-нет, я не собираюсь снова оправдывать себя. Виноват я. Какое начальство, такие и подчиненные. То есть: в нашей группе постепенно установилась склочная, базарная атмосфера, хотя понял я это только потом, мысленно возвращаясь к тем дням. Не удивительно, что у полицейского не возникло желания уточнить у дежурного какие-нибудь детали, он прямиком отправился исполнять приказ, и все.
Дежурный патруля, со своей стороны, был совершенно уверен, что наша группа подъедет к месту через пару минут. Мы этим славились. И заслуженно. К тому же в порту, на беду, разгорелась драка, пошли в ход ножи, другой патрульной машины вблизи не оказалось… Нет, у меня просто нет сил снова и снова описывать все злополучные обстоятельства того утра! Короче, дежурный решил действовать на свой страх и риск и приказал патрулю съехать вниз, в порт, благо, по прямой туда было рукой подать — несколько десятков метров. Патрульный констебль попытался возразить, что, согласно инструкции, он обязан ждать группу на месте. Как раз в это время он с записной книжкой в руках домогался у барышни Пелконен ее имени и адреса, а та ни в какую не хотела их давать. Дежурный нервно ответил, что все это теперь в ведении нашей группы, с этим покончено.
Следующую глупость совершил водитель патрульной машины, который все еще был вне себя от счастья (вы помните, у него родился сын) и всю дорогу вниз развлекался воем сирены. Подобное оповещение о приближении наряда полиции противно всем установленным правилам, и хотя это было произведено без злого умысла, но, увы, было произведено. И тут нельзя не учитывать так называемый человеческий фактор, то есть психологию людей.
Я пытался изложить все это как можно короче и теперь чувствую, как у меня пересыхает от волнения горло, потому что я подхожу к теме шерстяного пальто. Но напоследок я все-таки должен отметить, что неизменные ротозеи, слоняющиеся перед крытым рынком, и редкие в субботнее утро прохожие устремились, как назло, не за завывающей полицейской машиной, чтобы поглазеть, кого и где убивают, а наоборот — вверх, на Обсерваторский холм. По-видимому, их потрясла эта уникальная картина: летящий вниз с холма завывающий полицейский патруль.
По правде говоря, нельзя винить и парней, работающих на труповозе, за то, что они не были так проворны, как оперативники из нашей группы. Но это имело свои последствия: им не пришлось искать труп, потому что вокруг кустов собралась уже порядочная толпа, полностью уничтожившая все следы на земле. Нам еще повезло, что зеваки не затоптали барышню Пелконен вместе с ее собакой. Впрочем, нельзя сказать, чтобы все это не обеспокоило полицейских, когда они с носилками пробирались сквозь толпу.
Они, конечно, сдернули пальто, перевернули тело на спину и увидели, что лицо человека изувечено и покрыто кровоподтеками, как после драки, но эта сторона дела их не касалась. Поэтому они по возможности быстро погрузили покойника на носилки и накрыли с головой одеялом, чтобы не давать пищи для лишних разговоров. И вот тут-то они и заметили какого-то типа с фотоаппаратом, нацеленным прямо на них, и заорали, что делать снимки запрещено! Но и здесь они опоздали. А барышня Пелконен тем временем тихо удалялась по направлению к своему дому, благо никому больше не была нужна, что, однако, не помешало проворному репортеру щелкнуть и ее тоже и тиснуть снимок в вечерней газете. Ее и собаку. Но что нам был этот снимок! Нам нужна была она сама, и мы долго потом ломали голову, как ее найти. Оба полицейских из патруля клялись, что ее фамилия Пелтонен. Что фамилию она пробурчала, хотя и очень неохотно, но с самого начала наотрез отказалась давать свой адрес, потому что, по ее мнению, эта история ее не касалась. Мало ли что случается!
Позже я из любопытства, из чистого любопытства, выяснил, кто был этот расторопный репортер, который так кстати оказался на месте. Я нисколько не хочу его чернить, нет, конечно, он делал свое дело, но все же, все же… Так вот: примерно до трех часов ночи он, как кретин, торчал в гриль-баре, попивая дармовой коньяк, потом отправился на боковую и пару часов поспал. В их вечерней газете рабочий день начинается довольно-таки рано. Ну, проснулся он, я думаю, еще сильно под градусом и решил проветриться, то есть пойти на работу пешком через парк — он обитал как раз в тех краях. Ну а камера, понятно, болталась у него на шее, потому что она там всегда болтается, это ее извечное место. Как такого типа винить? Это я виноват, что из-за некоторых старых дел лично ко мне он питал неприязнь.
А в этот раз он быстро смекнул, что к чему, когда увидел полицейскую машину. Но как он догадался про сломанный телефонный аппарат, сказать не берусь. Может быть, просто пытался позвонить оттуда в редакцию и объяснить свое опоздание. Но так или иначе, фотография этой будки тоже появилась в газете. То есть даже две фотографии — вид внутри и вид снаружи.
Н-да, а на земле оставалось кровавое пятно — там, куда «бродяга» ткнулся лицом. Небольшое такое пятнышко. И это было единственное, повторяю, единственное место, не затоптанное копытами зевак. И мы получили отличный кадр, запечатлевший это место. Я имею в виду — в вечерней газете. И еще отличный кадр с лицом потерпевшего.
Разумеется, я впервые услышал, а вернее, прочитал о «бродяге» утром, когда пришел на работу. То есть сразу после девяти, потому что если я и опоздал, то на самую малость, минут на пятнадцать. И, разумеется, первым делом я ознакомился со всеми скопившимися у меня на столе за ночь рапортами — не произошло ли каких-нибудь особых происшествий. Вернее, так: сначала бегло просмотрел заголовки в утренних газетах, а потом занялся рапортами.
Значит, еще не было десяти часов — перед этим я заказал в нашем буфете чашку кофе и пару бутылок минеральной воды, от которой у меня не бывает изжоги, — так вот, что-нибудь без двух-трех минут десять в моих руках уже было сообщение о том, что прогуливавшая собаку барышня Пелтонен сделала в 6.13 заявление об обнаружении ею в Обсерваторском парке, в кустарнике, трупа спящего «бродяги». Патруль подтвердил смерть неизвестного, наступившую во сне от отравления. В 6.31 было дано распоряжение о доставке трупа в патологоанатомическое отделение для вскрытия. В 7.12 приказ был выполнен. Время в рапорте было указано точно. Это единственное, в чем я не сомневался ни тогда, ни теперь.
Увы мне! Я не придал должного значения этому рапорту. Были и другие небольшие сообщения, но ни одного серьезного. По крайней мере для нашей группы. А рапорт о врезавшейся в дерево машине передали в отдел дорожных происшествий, и мне об этом вообще никто не доложил.
Вот в таком приятном расположении духа, не чуя беды, сидел я в своих хоромах, недавно обновленных ремонтом. Стены были покрашены, в комнате не пахло въевшимся во все поры табачным дымом и ветхостью, и ничто не напоминало прежнего запустения. Обновлена была и кое-какая мебель, поскольку старая просто разваливалась на части. Например, прежний письменный стол был сделан в 40-х годах прошлого века! Почти антиквариат. Он распадался прямо под руками. И я, конечно, настоял, чтобы мне поставили совершенно новый письменный стол!
У читателей может возникнуть законный вопрос: как я умудрился стать начальником. Так вот: именно комиссар Палму упорно подбивал меня продолжать юридическое образование. «Для тебя это как раз то, что надо, — говаривал он. — А статьи закона способен вызубрить кто угодно, даже ты». Тогда мне и не снилось, что когда-нибудь — хоть временно — я смогу занять место нашего шефа, стану главнее самого комиссара! Повторяю: именно Палму заронил эту идею в мою голову.
То есть он прозрачно намекал на это. «Не хотелось бы, — сказал он как-то задумчиво, — чтобы на место шефа, когда я уже буду старым, пришел какой-нибудь еще больший болван, чем ты. Хотя такого, конечно, трудно найти. Но все же возможно, учитывая, что времена меняются. А с тобой я мог бы спокойно продолжать работать, не ожидая щелчка по носу».
И я, правда, никогда не думал щелкать его по носу, никогда! Но ведь и у меня нервы не канаты. И я однажды в сердцах намекнул-таки ему, что у нас незаменимых работников нет. В то время я уже был вице-судьей и вовсю заседал на сессиях уездного суда…
Но до сих пор у меня мороз дерет по коже, когда я только слышу это слово — «бродяга»!
В то утро я пока еще не подозревал, в какую попал передрягу. Напротив, с удовольствием выпив чашечку кофе и обе бутылки воды, я перелистал газеты, чтобы убедиться, что наш бренный мир по-прежнему стоит на краю пропасти и даже продвинулся еще немного к самой кромке, так что уже почти висит, просмотрел рапорты и подумал, что все у меня, в общем, неплохо, хотя вчера вечером и затянулась утомительная репетиция нашего полицейского хора, а потом мы еще задержались, чтобы окончательно решить, поедем ли с ответным визитом в Копенгаген, и опять придется еще раз собраться — уже для обсуждения самой поездки. Я поднялся из-за стола и с приятностью для себя отметил, что над узким ущельем Софийской улицы солнышко прорвало пелену и ярко светит в безоблачной осенней синеве.
Хорошо жить! С радостным сердцем я раскинул руки и тихонько, пробуя голос, запел: «Великое чувство, священное чувство навеки останется в сердце моем…»
Я пел негромко, да и стены в нашем древнем здании изрядной толщины, но когда я прочувствованно тянул «мое-ем», то увидел, что в кабинете стоит комиссар Палму и смотрит на меня с неприятным выражением на лице. Что и говорить, прискорбно иметь посредственный слух, да и голос тоже не ахти какой. Поэтому иногда он просто не может удержаться, чтобы не отпустить какое-нибудь ядовитое замечание по поводу моего увлечения хором.
Конечно, это зависть, но нужно войти и в положение стариков: каково им всю жизнь оставаться на уровне простых хористов, в то время как солистами становятся мальчишки! Или сознавать, что для разучивания новой хоровой песни требуется высокая одаренность, какой у них, скажем, нет, а у меня есть! Разумеется, для того чтобы слить все голоса в единый голос хора, требуется большая и напряженная работа, но именно это и увлекает нас. И не такое уж это плохое увлечение, смею вас уверить! У взрослых мужчин встречаются куда худшие увлечения, много, много худшие!
Так вот. Комиссар Палму молчал и смотрел на меня, и взгляд его мне очень не нравился. Поэтому я тоже решил съехидничать — как он, так и я! И когда он само собой разумеющимся жестом протянул руку к газетам на моем столе, я придержал их и спросил:
— Что — к работе потянуло, а?
— Да, — безмятежно сказал комиссар. — Старею вот, ревматизм совсем одолел, а делать нечего — молодые-то все норовят по Копенгагенам разъезжать.
— Но ведь у нас же выступал хор копенгагенской полиции! — горячо возразил я. — И показал себя весьма и весьма достойно! Это так естественно с нашей стороны — поехать с ответным визитом. Но поехать туда — и опозориться?.. А что касается работы, — после недолгой паузы продолжил я, — то какой-то бродяга протянул ноги в Обсерваторском парке. Можешь пойти осмотреть его перед вскрытием. Вдруг найдешь какую-нибудь бумажку в карманах.
Конечно, я сделал это нарочно — мне хотелось побольнее уколоть его. Но комиссар с самым послушным видом ответил:
— Слушаюсь!
Отдав честь, он сделал поворот кругом и, печатая шаг, пошел к двери.
Сердце мое растаяло. Я положил руку ему на плечо, вручил газеты и сказал:
— И не вздумай обижаться! На вот тебе газеты, сиди и читай спокойно. Здесь есть парни и помоложе, чтобы сгонять туда. И вообще, это не к спеху.
И вот тут я ошибся. Ужасно. Правда, и Палму еще не чувствовал, что запахло жареным.
— А откуда ты знаешь, что там бродяга? — спросил он для порядка, только чтобы оставить за собой последнее слово.
— Из рапорта, — объяснил я и похлопал рукой по стопке бумаг на моем столе.
Всю первую половину дня ко мне забегали люди с обычными нашими повседневными делами, я отвечал на звонки, и ничто не могло испортить мне настроения. Вечерняя газета обычно приходила в полдень, а в тот день она немного запоздала, примерно на час, но я и не думал волноваться по этому поводу, тем более что на моем столе она появилась в сопровождении чашки кофе.
Примерно в половине первого я отправился завтракать в наш буфет, где, к своему удовольствию, увидел поджидавшего меня Кокки, сыщика из криминальной полиции, взявшего для меня порцию картошки в мундире, сваренной вместе с соленой салакой. Лучшего нельзя было и придумать. Именно этого просила моя душа в тот день. Кокки, к слову сказать, тоже пел в нашем хоре.
Стоит, пожалуй, упомянуть и то, что у нас на лестнице, ведущей на Софийскую улицу, очень приятный резонанс. Не помню уже, кто это предложил — может быть, Кокки, а может, и я, — но, возвращаясь на свои рабочие места с приятной тяжестью в желудках, где соленая салака весело плескалась в кружке пива, мы дуэтом затянули — просто чтобы попробовать, как звучат голоса, а заодно и поупражняться лишний раз: «Матушка сыночка в дорогу собирает, горькие слезы мальчоночка роняет».
Но едва мы успели добраться до «закопченного угла убогой лачуги» и площадки второго этажа, как входная дверь с грохотом отлетела в сторону, засверкали фотовспышки, и в мгновение ока мы оказались в кольце репортеров. То есть фотографировали не Кокки, а меня. На одном снимке, появившемся в газете на следующий день, я так и стою с разинутым ртом. Не то чтобы я собирался поражать их своим пением, напротив, я немедленно и очень плотно закрыл рот, как только засверкали вспышки. Сказал лишь одну фразу, на всякий случай: «Ведем розыск». В таких ситуациях я всегда демонстрирую свою смекалку и недюжинное актерское мастерство. Что делать — суровая жизненная школа и не тому научит! Потом я еще раз обнадеживающе повторил: «Ведем розыск. Прошу простить, но нам необходимо посовещаться, через пять минут буду в вашем распоряжении».
Движением фокусника Кокки вытащил из кармана у теснившего его репортера еще влажную газету. Очень добросовестный работник. Особенно в мелочах. И мы — я впереди, он сзади — проследовали в мой кабинет. Я поспешно захлопнул дверь и даже, поддавшись панике, повернул в замке ключ. Палму уже сидел на месте и спокойно набивал трубку. Перед ним лежала развернутая свежая газета. Та самая. И сразу зазвонил телефон. Это был шеф, глава полиции, собственной персоной. Я вытянулся в струнку и щелкнул каблуками.
— Ведем розыск! — как автомат доложил я. — Через пять минут представлю первый рапорт.
— Не будем так торопиться, — с обманчивым благодушием возразил шеф. — Мне только что звонил губернатор.
— Губернатор, — бессмысленно повторил я.
— Да, он пригласил меня к себе, посоветоваться по поводу роста преступности среди молодежи, — пояснил шеф своим ровным голосом. — Полагает, что пора перестать нянчиться с золотой молодежью, с этими стилягами. Наконец-то. Так что общественное мнение поддерживает нас. Ты понимаешь? В твоем распоряжении весь аппарат. Губернатор любезно предложил нам в помощь армейские соединения, но вряд ли они нам понадобятся или ты полагаешь иначе?
В голосе шефа, мне показалось, была насмешка.
Пока он говорил, я успел пробежать глазами заметку на первой полосе, снабженную жирным заголовком: «Убийство в Обсерваторском парке». И ниже: «Гибель несчастного бродяги. — В центре Хельсинки орудует банда юнцов? — Убийство на гангстерский манер. — Бессильны ли власти в борьбе с растущей преступностью среди молодежи?»
— Ведем розыск, — осторожно повторил я. — Нет, войска нам не нужны. Пока нет. Лучше не торопить события. Мы проводим серьезное совещание и вырабатываем окончательный план действий.
Комиссар Палму закашлялся. Дым, видимо, попал не туда. За долю секунды я окинул взглядом фотографии на первой странице и перевернул листы, чтобы посмотреть, что на последней полосе. Сплошь — снимки, снимки, снимки. У похмельного репортера был великий день. Тяжесть его состояния не отразилась на качестве снимков. Впрочем, одну фотографию ему вряд ли удалось бы сделать на трезвую голову. Это фото запечатлело смятый автомобиль и классическую процедуру снятия отпечатков пальцев. Приятно было убедиться в том, что полиция функционирует исправно.
— Если я понадоблюсь, вы сможете найти меня в резиденции губернатора, — объявил шеф. — Ты, надеюсь, помнишь, что сегодня суббота.
— Так точно. Разумеется. Все ясно, — с готовностью подтвердил я, хотя со всей этой круговертью напрочь забыл, какой сегодня день.
— Хочу подчеркнуть, что виновные должны быть найдены до того, как воскресные газеты уйдут в набор, — пояснил шеф. — Ты, полагаю, представляешь последствия, если этого не случится. Полный переворот. В общественном мнении тоже. Министр внутренних дел, вероятно, также будет присутствовать на совещании. Ты, надеюсь, понимаешь. Так что действуй. Считаю, могу пообещать, что виновные окажутся за решеткой сегодня же, до полуночи, если это будет зависеть от нас.
— Да, конечно, если это будет зависеть от нас, — заверил я, чувствуя, как от холодного пота намокает на спине рубашка, и положил телефонную трубку.
— Это уж слишком! — в мучительной тоске заорал я на Палму и Кокки. — Чем вы, собственно, здесь занимаетесь, за что вам деньги платят?! На черта у нас вообще сыскное отделение и группа по расследованию убийств? И вообще — что за сыр-бор такой! Из-за «бродяги» они будут войска присылать!
Палму решил взять дело в свои руки.
— Так, пошли, — сказал он, спокойно поднимаясь со стула и придавливая в трубке табак своим огнеупорным большим пальцем.
— Куда, в Обсерваторский парк? — удивился я.
— Да нет, в патологоанатомическое отделение, — сказал Кокки, проницательно глядя на Палму.
За долгие годы совместной работы он научился читать мысли Палму по лицу.
— А зачем нам туда? — тупо спросил я, потому что еще не начал толком соображать.
— Нет-нет, с тобой нам там делать нечего, ты нам не нужен, но ведь иначе тебе придется здесь прятаться от журналистов, — спокойно сказал Палму. — Не из-за себя, разумеется. Спасая честь полиции. Только ради этого.
В кабинете была одна дверь. Я посмотрел на нее. Потом на окно. Третий этаж. В эту минуту я твердо решил, что обязательно пробью еще одну дверь. Если буду здесь сидеть. Если это от меня будет зависеть.
— Я… я не знаю, — честно признался я, ибо у меня не было больше сил притворяться, — не знаю, что сказать журналистам.
— Прозрачно намекни им на что-нибудь, — посоветовал бессердечный Палму. — Это входит в твои прямые обязанности. Ты у нас в таких делах изобретательный! Употреби все свое искусство. Тогда они помчатся, как стая гончих, и будут следить только друг за другом, как бы кто не поспел раньше или не сделал лучшие фото. Их надо науськать, чтобы развязать себе руки. Иначе они будут ходить за нами по пятам. Действуй, мой мальчик!
Я попытался перечесть заметку, чтобы уяснить, в чем, собственно, дело. Но Палму взял меня за плечо и подтолкнул к выходу.
— В машине прочтешь, — сказал он.
Кокки повернул в замке ключ, распахнул дверь и почтительно отступил, пропуская меня. Несмотря на весь свой ужас, я отметил, что Палму приладил во рту трубку, придал своему лицу глубокомысленное выражение и, расправив плечи, шагнул вперед. Вспышки засверкали с новой силой. Кокки к популярности не стремился. Он отошел в сторонку, стыдливо потупил голову и стал чертить носком ботинка по полу.
Я откашлялся.
— Уважаемые господа! — начал я звучным и, как мне казалось, полнокровным голосом, хотя Палму потом утверждал, что я каркал, как хриплая ворона. — Прошу прощения, — тут же поправился я: — Дамы и господа! — Потому что за это время компания пополнилась двумя журналистками, очень миленькими девушками, хотя на одной, к сожалению, были брюки-дудочки и полосатые носки. Наверняка фоторепортерша! — У меня нет никаких претензий к прессе, — сурово сказал я, учтиво поклонившись при этом обеим девицам, — я имею в виду утренние газеты. До сих пор наше сотрудничество ничем не омрачалось и взаимное доверие не было нарушено. Не сомневаюсь, что вы, господа, можете подтвердить это.
Один из репортеров саркастически улыбнулся — по всей видимости, своим воспоминаниям. Я рассердился не на шутку.
— Но сегодняшнее происшествие перешло границы допустимого, это непростительный поступок! — грозно обрушился я. — Впервые за все время, гм, время моего пребывания на посту начальника, одна газета, гм, в погоне за сенсацией позволила себе перебежать дорогу полиции, без предварительного согласования.
— Однако… — возразил некий молодой человек с воспаленными, похоже от беспробудного пьянства глазами, с фотоаппаратом, болтающимся на груди, и кинокамерой в руке. И с реденькой короткой бороденкой.
Движением руки я заставил его замолчать.
— Сейчас не время для бесплодных споров, — заявил я. — Хочу только заметить, что полиции удалось раскинуть сеть, и она, полиция то есть, со всей возможной энергией приступила к расследованию данного прискорбного происшествия… Так что я не разглашу служебной тайны, если скажу, что у нас, то есть у главы полиции и у меня, были все основания полагать, что виновные…
— Подозреваемые, — сухо поправил меня Палму.
— Подозреваемые, — поспешно повторил я и добавил, чтобы сохранить лицо: — …или подозреваемый… То есть в нашей стране никого нельзя называть «виновным» до тех пор, пока суд в соответствии со всеми законами не установит доподлинно виновность подсудимого и не вынесет окончательный приговор. Пресса слишком часто допускает подобные ошибки. — Я бросил тяжелый взгляд на жидкобородого блондина, и моя антипатия к нему усилилась. — Но произошло то, что произошло, — продолжал я, — и если прежде у нас была достаточно твердая уверенность, что винов… подозреваемые будут задержаны и окажутся за решеткой сегодня же вечером — до того, как газеты уйдут в набор, то теперь… Теперь, когда одна газета, гм, преждевременно и непростительно разгласила сведения, наши усилия могут быть сведены на нет. Убийца предупрежден…
Комиссар Палму сердито кашлянул.
— Или виновный в непредумышленном убийстве, — поправился я.
Но журналистам было уже не до того.
— Садисты и извращенцы, — сказал репортер из вечерней газеты, — это золотая молодежь резвится — извращенцы!
— Молчать! — рявкнул я. — Вы уже выступили в своей газете. Хватит! Больше ничего добавить не могу.
Старшие и более опытные репортеры стали дергать наглеца за рукав, и на их лицах я ясно увидел разочарование. Я смягчился.
— Могу вам только намекнуть, — медленно проговорил я; я тянул время, мучительно придумывая, что бы такое им сказать… — Так вот, — воодушевился я наконец, — ни в коем случае нельзя теперь вмешиваться в расследование, проводимое полицией, и оспаривать точку зрения полиции. Это серьезное предупреждение для всех. Однако мне разрешено сообщить вам, что в данный момент сам глава полиции находится на совещании у губернатора.
Никакого разрешения у меня не было, но, в конце концов, пусть тот тоже берет на себя ответственность!
— В совещании примет участие и министр внутренних дел, — расщедрился я. — Будет обсуждаться вопрос роста преступности среди молодежи, а конкретно — моральные и физические меры по борьбе с ней.
Вопрос упирается только в наше сотрудничество, — пылко продолжал я. — Это наша конечная цель. Данное дело — это частный случай. Я непременно хотел бы отметить… хотя, гм, с другой стороны, это служебная тайна… но все же: у полиции уже есть готовая версия. Давно. Полиция не дремлет. Полиция отнюдь не бессильна, как воображают себе некоторые умники, гордящиеся жидкой растительностью на щеках.
— Sut… sat sapienti[5], — торопливо вмешался Палму. — Важное совещание!
— Есть ли задержанные? — выкрикнул кто-то, и журналисты, все как один, повернулись ко мне.
— Я… я не имею права сообщать более никаких подробностей проводимого расследования, — успел проговорить я в то время, как Палму напирал на меня, подталкивая к выходу. — Вы ведь понимаете, — крикнул я с порога, — вы опытные журналисты!
Тут дверь за нами захлопнулась, и комиссар Палму с верным Кокки повлекли меня, зажав с двух сторон, бегом по гулким проходам вниз, сквозь лабиринты коридоров. Машина уже ждала нас. Шофер был одет в штатское, сирену он не включал и машину не гнал, стараясь не возбуждать ничьего любопытства, — ехал себе тихохонько, словно вез яйца.
— Законченный идиот. Самовлюбленный молокосос, — начал комиссар Палму сдавленным голосом.
— Хорошо, хорошо, — согласился я, но на всякий случай спросил, указывая дрожащей рукой: — Микрофон точно выключен?
Комиссар Палму со стоном схватился за сердце.
— И я, я сам протащил его в начальники — из корыстных побуждений, чтобы хоть немного облегчить себе жизнь. Это расплата!
Но я уже немного приободрился, у меня проснулось чувство собственного достоинства. Что ни говори, а я довольно ловко разделался с журналистами!
— Не забывай, — сказал я негромко, — что утром я самым учтивым образом попросил тебя пойти взглянуть на этого бродягу. Всего-то идти было пару кварталов. Бодрым шагом да по свежему воздуху. Но это оказалось ниже достоинства комиссара Палму. Разглядывать в газете комиксы куда приятнее, разумеется! Что, разве я говорю неправду?
Комиссар Палму посмотрел на меня с жалостью.
— Не трать драгоценное время, — сказал он наконец. — Лучше почитай.
И кинул газету мне на колени. Дергая душивший меня ворот, я принялся лихорадочно читать подписи под фотографиями и саму статейку.
Себе я не мог не признаться, что парень оказался сообразительным и очень складно представил дело. Он немедленно сопоставил разбитое лицо пьяницы с разбитой стилягами машиной, а потом со сломанным — из чистого хулиганства — телефонным аппаратом. Конечно, были тут и предположения, но были и очевидные факты, так что и вопросы были поставлены вполне законно. Неудивительно, что у меня по мере чтения уже начала в общих чертах складываться картина происшедшего.
Врезавшись ночью в дерево, угнавшие машину молодчики совсем взбесились. Им попался беспомощный пьяный старикан, и они в остервенении набросились на него, ударили в лицо, а потом — боясь, быть может, что он станет кричать и звать на помощь, — забили его до смерти и труп спрятали в кустах.
«Мы можем, разумеется, надеяться, что это происшествие — случай единичный и исключительный, — лицемерно писал автор, — но всякий здравомыслящий человек согласится, что этому разгулу все-таки есть предел. Такое случаться не должно. В Финляндии. В нашей стране. В центре Хельсинки. Пусть юнцы режут ножами друг друга, если им нравится. Но мучить и убивать беззащитных стариков мы не позволим».
«Что делает полиция?», — прочитал я жирный подзаголовок, и кровь прилила у меня к лицу.
«Этого я не знаю, — просто отвечал автор. — И не хочу знать. Зато я знаю, что хрупкая женщина, гулявшая со своей маленькой собачкой и нашедшая тело, была на грани нервного припадка от потрясения и что она, даже не назвавшая своего имени, была хладнокровно брошена в том же самом безлюдном парке одна и находилась рядом с телом, пока полиция наконец не явилась, чтобы забрать убитого. Чего же ждать от молодежи, когда власти предержащие ведут себя с подобной черствостью и бессердечием!»
Далее автор влез в шкуру ягненка и продолжал со всеми осторожностями:
«У меня и в мыслях нет подозревать полицию в том, что она не обследовала надлежащим образом место происшествия, и я спешу подтвердить, что те, кто осматривали разбитый автомобиль, продемонстрировали высокий профессионализм. Но все же если спустя некоторое время выяснится, что в расследовании имеются упущения, если обнаружится промедление в задержании преступников, то этого наше общество простить не сможет, и тогда придется заняться более основательной чисткой, а не отыгрываться на двух-трех подвернувшихся битниках».
Ну что ж, вряд ли писака мог сочинить что-нибудь похлеще. Я почувствовал себя конченым человеком. Скромная должность судебного исполнителя где-нибудь в провинции виделась мне как предел мечтаний. У меня были сомнения, нанимает ли конголезское правительство способных полицейских: ведь я знал французский, а это несомненное преимущество.
Я вздрогнул, очнувшись от своих скорбных мыслей, и обнаружил, что мы уже давно стоим перед патологоанатомическим отделением. Н-да, похоронные мечты, подумал я. Палму сидел рядом со мной с непроницаемым лицом, сложив руки на груди, а Кокки скромно глядел в пол.
Заметив, что я закончил чтение, Палму сказал:
— К счастью, это не попало на первую полосу. Наверно, по техническим причинам. Но ничего, завтра ты услышишь еще не такое. — И он многообещающе покивал головой. — В воскресных газетах. Передовицы, читательские письма…
Я перевел дух.
— Потому что нет настоящего сотрудничества, — с горечью сказал я. — Я ли не призывал к этому! Боже милостивый, да если бы передо мной лежал рапорт дорожно-транспортной группы, где было бы сказано, что в считанных метрах от этого места врезалась в дерево угнанная машина, то, уж наверно, я сложил бы один плюс один и начал бы принимать меры.
— Неужели? — Палму иронически посмотрел на меня.
Но сейчас его насмешки меня не трогали.
— Сотрудничество! — с унылым упорством повторил я. — Но нет. Вещь нереальная. Восток есть восток, а запад есть запад, и им никогда не сойтись.
— Ну, не стоит примешивать сюда большую политику, — ехидно заметил Палму и начал неуклюже вылезать из машины, кряхтя от боли — ревматизм в колене давал себя знать.
Вялый и покорный, я выбрался следом, и вдруг меня словно током ударило.
— А место происшествия! — в ужасе закричал я. — Его же надо оцепить!
— Там десять человек из полиции порядка и, кроме того — на всякий случай, — двое конных полицейских, — сказал Палму. — Я взял на себя смелость распорядиться. От твоего имени, разумеется. И еще человек двадцать прочесывают весь парк.
— Но, — удивленно пробормотал я, — но ведь это дело городского отдела по парковой зоне…
И тут я осекся. Кокки отвернулся в сторону, прикрывая рукой рот. Улыбался, наверно.
— Ну конечно, разумеется, парк необходимо тщательно обследовать, — поспешно продолжил я и опрометчиво шутливо заметил: — Но уж с конной полицией ты, пожалуй, переборщил.
— Полиция в парке не для того, чтобы охранять следы и улики, — наставительно сказал Палму, выколачивая трубку о каблук. — Все следы давно затоптаны. Но тебе пора наконец понять, что как только газета попадет к разносчикам, а от них к подписчикам, начнется такое перемещение народов, что не дай… Сегодня, между прочим, суббота — не забывай.
— Не забываю, — уныло повторил я.
— Поэтому возможна небольшая заварушка, — невозмутимо продолжал Палму. — Какой-нибудь стиляга или битник вздумает скорчить рожу, а его побьют. Вот чтобы этого не случилось, там и нужны полицейские. В том числе конные.
— Чтобы… чтобы защищать этих?! — переспросил я, не веря своим ушам.
У меня в мозгу началось какое-то брожение, мысли стали путаться, и я вынужден был потереть лоб.
— Именно, — с готовностью подтвердил Палму. — Они такие же люди. Как бродяги, например. Кроме того — возвращаясь к теме сотрудничества: я отдал распоряжение — от твоего имени, только от твоего имени, разумеется! — чтобы все подозрительное, что имело место вчера вечером в городе и в пригородах, было выбрано из всех рапортов и представлено нам. И впредь — обо всем подозрительном немедленно докладывать лично мн… — то есть тебе. Все равно, какая группа обнаружит.
Он с участием взглянул на меня, тщетно пытавшегося привести свои мысли в порядок.
— Это сотрудничество, — пояснил он. — Ведь ты к этому призываешь второй год. Ну вот — теперь ты этого добился. Поэтому мы поехали на машине, снабженной рацией. Иначе зачем, как ты думаешь, я стал бы на ней разъезжать. Тем более в субботний день, когда патрульных машин и так не хватает?
— Но… — сказал я.
Из машины послышался треск включившейся рации, передняя дверь распахнулась, и водитель крикнул мне:
— Вас вызывают!
Я кинулся бегом к машине, всунул голову внутрь и, запыхавшись, проговорил:
— У телефона командир группы по действиям, направленным на нанесение… а ч-черт, командир группы по расследованию убийств слушает!
— Говорит пятый, — прохрипела рация. — Нам было велено немедленно докладывать обо всем подозрительном. Так вот: тут на углу улицы Маннергейма и Бульвара какой-то базар. Вокруг продавца газет. Толкаются и даже дерутся. Продана пока только первая пачка газет.
— Пусть базарят, — сердито сказал я.
— Ага, — согласился голос. — Со стороны улицы Людвига бегут ребята, у них под мышками здоровые кипы. Экстренное сообщение, что ли. Ладно, пока все. А то я сам еще не успел посмотреть, сейчас куплю у них пару газетенок.
— Купите, почитаете в свое удовольствие, — иронически сказал я в микрофон. — Только не забывайте о служебных обязанностях!
На том конце не поняли иронии.
— Спасибо, — искренне поблагодарил голос. — Отлично!
А я направился в патологоанатомическое отделение.
Глава третья
За «бродягу» еще не принимались. Он даже не был помещен в морозильную камеру. Лежал на гладком столе, как его положили, сняв с носилок, — в той же одежде, тех же башмаках. Я сразу узнал его изуродованное лицо — по снимку в газете, сделанному крупным планом. В этом ледяном зале, под ослепительно ярко горящими лампами его лицо казалось куда меньше, чем на впечатляюще страшной фотографии.
У сторожа был виноватый вид, хотя, очевидно, никакой его вины тут не было. Иногда проходит много дней, пока у врача дойдут руки до клиента, если, конечно, случай не экстренный.
— Не было бы счастья… — многозначительно сказал Кокки и сложил молитвенно руки.
Палму кивнул. Я не понял. Неужто Кокки стал таким набожным?
Палму обернулся к сторожу и приказал:
— Живо ступай за доктором и приведи сюда. Кого угодно. Хоть самого профессора. Одна нога здесь, другая там. Действуй!
Сторож не решился возражать и потрусил к двери. Почти бегом.
— Дело в том, — сказал Палму, торопливо набивая трубку, — что он должен был раздеть старика, связать вещи в узел, а тело до прихода врача упрятать в морозильник. Н-да, — продолжил он, покачивая головой, — в наше время уже нельзя быть уверенным, что все будет сделано, как положено. Но нам это оказалось на руку. На этот раз.
— Здесь нельзя курить, — произнес я, не зная, что и сказать.
Палму, видимо, не услышал. Он зажег спичку и стал раскуривать трубку, разглядывая в то же время башмаки старика, штанины и руки.
— Кроме того, — медленно проговорил он, — это никакой не «бродяга». Разве я не спросил у тебя сегодня утром, откуда тебе известно, что это «бродяга»?
— Перестань говорить ерунду! — вспылил я. — Это было написано в газете. — Я с торжествующим видом похлопал рукой по газете: — Вот здесь напечатано. Крупным шрифтом. Можешь сам прочесть.
Кокки опустил голову и стал рассматривать свои ботинки. Теперь, я думаю, ему было неловко за меня.
— Это верно. Палму, то есть комиссар, прав, — сказал он. — Старик этот вовсе не «бродяга». Это же видно с первого взгляда. Я даже не понимаю, кто такое мог придумать. Есть же у человека глаза!
— Но ведь в газете говорится… — начал было я.
И вдруг словно пелена упала с моих глаз, когда я наклонился, чтобы приглядеться к покойнику. Пожилой мужчина, довольно хрупкого телосложения. Башмаки, хоть и не первой молодости, заботливо вычищены. Одежда запачкана землей. Вещи не особенно элегантные, но все же и не такие, как у настоящих бродяг. А лицо, на котором остекленевшие глаза смотрели куда-то вверх, было скорее лицом мыслителя и созерцателя. Конечно, и среди пьяниц попадаются мыслители — кто там только не попадается! — но все-таки у них другие лица.
Подчеркиваю: даже будь этот старик мертвецки пьяным, а не мертвым, все равно — это не было лицо алкоголика. Не было! Хотя и было изуродовано и смотреть на него страшно.
Меня замутило. Должно быть, от съеденной соленой салаки.
Покойный недавно побывал у парикмахера. Его седые волосы были аккуратно подстрижены. Я посмотрел на его руки. Кожа на тыльной стороне была в старческих морщинах и коричневых пигментных пятнах, но совершенно очевидно, что эти руки не знали тяжелой физической работы по крайней мере много лет. Конечно, и среди бродяг… — но нет, это не были руки бродяги. Чистые руки, и никакой грязи под ногтями.
Я возликовал.
— Первое очко в нашу пользу! — заявил я. — Никакой он не бродяга, это выдумала газета.
Дверь с силой распахнулась, и в зал влетел профессор, собственной персоной. Он был мрачен, как туча.
— Что все это значит?! — грозно закричал он.
Сторож за его спиной отчаянно подавал нам какие-то знаки.
— Я, между прочим, не баклуши бью, а занимаюсь содержимым желудка — весьма любопытное исследование! — окончательной перегонкой и взвешиванием. Доверить такое ассистенту я просто не могу. Он даже не умеет обращаться с весами! Непонятно, чему теперь учат в университете?!
— Простите, профессор, — сказал Палму. — Будьте добры, не могли бы вы нам сразу сказать, от чего умер этот человек и как давно, предположительно, это произошло.
Профессор нехотя оглядел голову покойника.
— Ну, тут и младенцу ясно… — начал он, но вдруг осекся и как будто забыл о своем гневе. На его лице появилось странное выражение. — В первое мгновение, — сказал он медленно, — я подумал — мне показалось, что я его знаю…
— Мне тоже, — с готовностью отозвался я. — Потому что он был в газете.
— В газете… какой газете? — сердито буркнул профессор и уставился на меня, буравя глазами; потом потер лоб и снова внимательно посмотрел в лицо покойнику. — Такое впечатление, что я его знал прежде, в школе или… или в армии… Конечно, он давно уже мертв. Сторож сказал, что это бродяга. Хотя нет, не так давно, температура все еще выше нуля. Вот, это видно по его голове. Н-да, у кого нет школьных приятелей. У которых, бывало, стрельнешь на бутылку. Можно понять. Все мы, грешные, человеки.
— Господин профессор, — с нажимом сказал Палму, — сейчас не время для школьных воспоминаний. Поверьте мне, это так. Обычно я не люблю спешить и торопить других. Вы это знаете, профессор. Но на этот раз случай просто пожарный. Честь всего Управления… да что там, речь идет о государственном престиже. Поэтому…
Но профессор уже стоял на помосте и натягивал резиновые перчатки. Не такой уж он был вредный — сразу понял, что мы не стали бы беспокоить его по пустякам. Да и то, что я сам, лично, приехал, тоже кое о чем свидетельствовало.
Осторожными движениями он ощупал теменную и затылочную кости черепа и покачал головой.
— Довольно слабо стукнули, — заметил он, нащупывая опытными пальцами что-то невидимое. — Смерть наступила, скажем так, в результате одного удара. Но орудие какое-то новенькое, не обычный тупой предмет. Если вспомнить прежние времена, я бы сказал, его ударили мешком с песком. Но резиновая дубинка тоже подойдет. Да, пожалуй, она. Крови не вытекло ни капли.
Кокки тяжело вздохнул.
— Эх, ребята, ребята, — пробормотал он и опять сложил молитвенно руки.
— Но почему так пострадало лицо? — задал себе вопрос профессор. — Словно бы бедняга упал лицом вниз. Однако кровь отлила от лица, еще когда он был жив. Он уже ничего не чувствовал.
— Так что же, — осторожно сказал Палму, — сначала его ударили по голове, а потом уже было искалечено лицо?
— Я не могу это утверждать с абсолютной уверенностью, — ответил профессор. — Вообще, в нашей науке ничего нельзя утверждать с абсолютной уверенностью. Но таково мое мнение. Хорошо бы, например, узнать, хотя бы приблизительно, сколько он потерял крови, и сравнить с тем количеством, которое успело перегнать сердце в те считанные секунды, пока оно еще работало.
— Так-так, — торопливо сказал Палму. — А как насчет времени?
Профессор проверил окоченелость трупа, приподнял руку и покачал головой.
— Надо бы посмотреть, образовались ли уже синюшные пятна от кровоизлияния. Заодно узнать, как он лежал — на животе или на спине.
— Ага, ага, — заинтересованно подхватил Палму и кинул взгляд в мою сторону. — Да он ведь и у вас успел полдня пролежать.
— Тогда будем разоблачаться, — решительно сказал профессор, и я машинально начал снимать пиджак — у меня было впечатление, что я на приеме у врача.
Но, к счастью, я быстро опомнился, видя, как сторож торопливо подступил к покойнику и стал рывками стягивать с него пиджак.
Кокки пришел в ужас.
— Погодите, что вы так с ним! — засуетился он. — Мне же еще нужно взять пробы для анализов. И мы еще не фотографировали!
И Кокки торопливо начал вынимать из своей санитарной сумки и раскладывать на ближайшем столе маленькие бумажные пакетики.
— Нет, фотографий уже больше чем достаточно, — твердо сказал Палму, и на этот раз я был с ним совершенно согласен. — Лучше помоги-ка. Все помогайте!
Но сделать это было не так легко. Если вы когда-нибудь пытались раздеть окоченевшее тело, тогда вы меня поймете. У сторожа это получалось мастерски, да и профессор орудовал довольно ловко. Для очистки совести Кокки все же расстелил на столе чистые листы, брал вещи и заботливо заворачивал их, каждую отдельно. Палму ограничился тем, что стянул с покойника башмаки. А я… мне, говоря по правде, пришлось ненадолго отвернуться, и я поклялся никогда больше не есть картошки в мундире, сваренной вместе с соленой салакой.
Так что я слышал только монотонное бормотание Кокки:
— Платье готовое. Меток нет. В кармане ничего нет. В другом кармане тоже ничего. Чист. До основания.
Палму вполголоса:
— Носки аккуратно заштопаны. Аккуратнее, чем мои. Меток нет. Подштанники чиненые. Обшлага рукавов и воротник пальто потертые, но чистые. Опрятный старикан.
Я обернулся на восклицание профессора.
— А это что такое?
От чистого сердца прошу прощения у бедного старика за то, что мне пришлось хладнокровно взирать на его наготу. То есть мне случалось бывать вместе с кем-нибудь в сауне, ну и всякое такое, но я всегда был убежден, что нельзя, нехорошо смотреть на обнаженные тела умерших. Наверно, это правда, что полицейский из меня никудышный, как не раз замечал Палму. Прежде он, однако, утешал меня тем, что я отлично выгляжу за письменным столом, изображая деловитость и виляя хвостом перед начальством.
И вот я своими глазами увидел кошмарные черно-синие пятна на боках у покойника. И своими ушами услышал, как слабо хрустнули сломанные ребра под рукой профессора. Тот выпрямился, его лицо побагровело.
— Это… это что-то неслыханное, — сказал он. — По крайней мере, такого я еще не встречал. Хотя кое-что в жизни видел. Но насколько я могу судить, ему умышленно сломали ребра уже после смерти. Как это понимать?.. Чтобы уродовали лицо и ломали кости уже мертвецу!
— Бедняги, — прошептал Кокки, — бедняги, не ведают, что творят.
— Подонки! Мразь! — взревел я.
Именно так. Я нечасто ругаюсь. Я ведь должен служить примером для подчиненных. Ведь не все получили такое домашнее воспитание, как я. Но если бы в ту минуту передо мной оказалась ухмыляющаяся рожа какого-нибудь битника, я, ей-богу, врезал бы ему как следует!
— Ну-ну, — успокоительно проговорил Палму, словно читая мои мысли, — сначала разберись, а потом уже дерись. Закон и порядок необходимо соблюдать.
— Иногда, — неуверенно проговорил профессор, — иногда — поверьте, я вовсе не злой человек, но когда я вижу такое, то начинаю думать, что пора возвращаться к телесным наказаниям. Впрочем, что я говорю! — поторопился он взять свои слова назад. — Я погорячился, конечно. Простите. Мы, благодарение Богу, живем в правовом обществе. Гуманизм. Человеческое достоинство. Тут замешан, по-видимому, больной человек, а не преступник. А с преступлениями я борюсь всю жизнь и не собираюсь отступать.
— Ну так, переломы, — жестко заключил Палму. — Большое спасибо, профессор. Не сомневаюсь, что в завтрашних газетах будет с избытком рассуждений и о телесных наказаниях, и о смертной казни. Об этом можно не беспокоиться. Разве что кто-нибудь вздумает поплыть против течения. Все-таки слишком велик риск утратить все, что завоевывалось с таким трудом и так долго, в борьбе с предубеждениями и предрассудками. Но завоевано было. И нами в том числе.
— Что ты несешь? — завопил я. — Вообразил себя на трибуне, да? Ха! Позволь мне самому решать, как мне думать и что делать!
— Вот как, прекрасно, — с готовностью согласился Палму и отступил на шаг в сторону, словно умывая руки. — Тогда разбирайся в этом деле сам. Тем более что ты эту кашу и заварил.
Такое ложное и несправедливое обвинение просто ошеломило меня. Это я-то? Да я ни сном ни духом… Ведь это стечение обстоятельств, цепь злополучных случайностей, цеплявшихся одна за другую, о чем я уже писал в первой главе. Правда, тогда я еще не знал, сколько этих обстоятельств вместилось в такой небольшой отрезок времени. Но, даже и не зная, я содрогался при мысли, что комиссар Палму может сию минуту оставить меня один на один с этим кошмаром.
— Нет, нет! — пошел я на попятный или, лучше сказать, побежал. — Нет, что ты! Делай как знаешь. Пожалуйста, пусть все будет: человеческое достоинство, борьба и все прочее. Но ты должен продолжать расследование. Мне необходимо — то есть я хотел сказать, что ты можешь совершенно располагать мной.
— Да, насчет времени, — сказал профессор, возвращаясь к делу, и посмотрел на часы. — Сейчас около двух. Здесь он шесть или семь часов…
— А до того — в парке, ночью, на сырой земле, — поторопился я внести свою лепту.
— Средняя ночная температура — плюс три, то есть никак не ниже нуля, — сообщил Палму, и я удивился, когда и откуда он успел выудить такие сведения.
— Не могу утверждать, — просто сказал профессор, — могу лишь предположить. Скажем, это случилось между одиннадцатью и часом ночи. Примерно в двенадцать, мне кажется это наиболее вероятным.
— Значит, в двадцать четыре ноль-ноль, — повторил Палму и взглянул на часы.
Уже потом, позже, оказалось, что профессор угадал тютелька в тютельку. Большого ума человек, хоть и думает, что все преступники — больные люди. Впрочем, он ведь имеет дело только с умершими преступниками.
Но тогда я об этом не думал. Уставившись на часы Палму, я похолодел при мысли, что двадцать четыре ноль-ноль — это время, когда уходят в набор воскресные газеты. Это был последний срок, назначенный мне шефом полиции. И губернатором. И министром внутренних дел.
В дверь постучали. Водитель, войдя, лихо щелкнул каблуками.
— Вас вызывают, — обратился он ко мне.
— Ага, начальство вызывают, — заметил Палму и поблагодарил профессора. — Ну все, нам пора уходить.
— А вещи? — забеспокоился Кокки.
— Положи в пакет, — резко бросил Палму.
— А отпечатки пальцев? — заволновался уже я. — Разве мы не должны взять его отпечатки для ифенди… идентификации?..
У меня даже начал заплетаться язык, как иногда у Палму, когда он хотел щегольнуть каким-нибудь ученым словцом.
— Его в нашей картотеке наверняка нет, — ответил Палму, ткнув в сторону покойника трубкой. — Помяните мое слово. Ладно, Кокки, сними у него отпечатки на всякий случай. Ему уже хуже не будет. Только поживей. А наше начальство пока всласть по телефону побалакает.
Я побагровел: по моему убеждению, я был ничуть не разговорчивее, чем все нормальные люди. Однако считал, что следует обстоятельно и подробно объяснять подчиненным их задачу, а не ценить свои слова на вес золота. Ну, может быть, иногда я действительно увлекался и бывал многословен, как мне не упускали случая заметить. Вы понимаете, кого я имею в виду. Но ведь это отнюдь не значило, что я болтлив! И то, что Палму сказал это так пренебрежительно, оскорбило меня до глубины души. Но выяснять отношения и получить, быть может, еще один щелчок по носу мне не хотелось, и я почел за лучшее промолчать.
Все-таки, пока мы шли через двор к машине, Палму решил меня утешить и сказал, помахивая зажатой в руке трубкой:
— Не переживай, мы его быстро опознаем.
— Как? — спросил я. — Ведь ни клочка бумаги, ни меток на белье! А вещи самые обыкновенные, дешевые. И ты сам говоришь, что в картотеке его нет. Мы же не можем устраивать простое опознание! Для этого у меня… у нас нет времени.
— Успокойся, — насмешливо сказал Палму, — ведь даже профессор и тот, оказывается, с ним встречался.
Ну и что? Нет, я решительно ничего не мог понять. Все же по отношению ко мне он порой бывал… Впрочем, чего уж там, сказать я просто не решаюсь. Так вот: это правда, я должен это признать — да, да, да, я — болван. Вот вам мое добровольное признание.
Мы подошли к машине, и я рявкнул в микрофон:
— Слушаю! Что у вас?
Послышался запинающийся голос дежурного:
— Да я ничего, просто приказали докладывать обо всем подозрительном… Тут у меня на проводе постовой, он звонит от Пассажа…
— Соединяйте! — приказал я. — О чем вы там мечтаете!
— Н-но… У меня нет такого… ну, передатчика, чтобы соединить телефон с рацией… Я могу передавать.
— Достаньте! — распорядился я. — Срочно! Под мою ответственность. Нет — под ответственность начальника полиции: у меня полномочия. Ничьим передачам я доверять не могу, только своим собств…
Я запнулся на полуслове, увидев лицо Палму. Он, кажется, ухмылялся.
Из рации донесся неуверенный голос дежурного:
— Вот, сейчас. Если у меня получится. Я положу телефонную трубку к микрофону и попробую усилить звук.
Было слышно, как он что-то говорит в телефон. В рации затрещало, звук стал на тон выше, и чей-то голос внезапно заорал:
— Алло, алло! АЛЛО!
— Не орите! — приказал я. — Слушаю. Что у вас стряслось?
— Это кто? Это сам он, что ли? — недоверчиво переспросил постовой.
— Сам, — подтвердил я. — Командир группы по насильственным действиям… то есть группы по убийствам. Ну, что у вас, докладывайте.
— Да я что, я потому только, что приказано было… У нас тут в крытом дворе, в Пассаже то есть, собралась целая толпа битников. С такой блестящей круглой трубой. Она на подставке. В общем, вроде того. Вы меня понимаете? Они уже давно с ней носятся, нацеливают в разные стороны, смотрят в нее и гогочут. Девчонки тоже. Я сначала подумал — студенты балуются или эти, из политехнического, замеры высот делают, ну, в общем, что-то такое. Но тут ни одного студента нет, одни битники да стиляги. А я газету вечернюю проглядел, вот и подумал, что… что…
Постовой умолк.
— Продолжайте! — потребовал я.
— Ну, я сначала подумал, что, может, это какая-то особенная пушка… или ракета… Их ведь теперь даже дети мастерят. А когда газету прочел, то стал думать, что вдруг они из нее захотят стрельнуть — по полицейскому участку, скажем. Или даже… даже по государственному совету… Что мне тогда делать?
— Кто это говорит? — вдруг услышал я над ухом невозмутимый голос Палму.
— Кархунен докладывает, — удивленно ответил постовой.
— А-а, — протянул Палму и как ни в чем не бывало уселся поудобнее.
— Так делать-то мне что? — осторожно осведомился постовой.
— Отправить в отделение, в КПЗ! — приказал я. — Всю компанию.
— В-всю, то есть, компанию? — заикаясь, переспросил тот. — Их, знаете, человек, наверно, двадцать будет… Вот! И… и мне тут вообще-то одному страшновато. То есть теперь, когда я газету прочел.
— А вы что — в самом деле один? — ужаснулся я. — На таком посту?! Сегодня?!
— Ну да, сегодня; я в полдень заступил на вторую половину дня, на субботу то есть. А тут, вон — дебоширят, а у меня все ж таки жена и дети, — плаксиво сказал постовой.
— Все ясно! Ведите наблюдение. Ни во что не вмешивайтесь! Сколько вам понадобится людей?
— Да сколько, два-три… — голос констебля звучал неуверенно. — Пока вообще-то ничего плохого не было. Но вдруг…
— Получите десять человек, — щедро посулил я. — Или нет, двадцать. «Черный ворон», фургон то есть, скоро прибудет. Все. Отбой.
— О-отбой, — заикаясь, проговорил несчастный голос.
Телефон выключился.
— Дежурный! — гаркнул я. — Соедините меня с дежурным комиссаром. Срочно!!
— К-криминальным или по п-поддержанию п-порядка? — послышался запинающийся голос дежурного.
Мне показалось, что я сейчас тоже начну заикаться.
— Конечно, по поддержанию порядка! — раздраженно ответил я.
Рация затрещала.
— Дежурный комиссар полиции порядка слушает, — раздался сдержанный голос.
— Говорит командир группы по убийствам, — сказал я. — Срочно «черный ворон» и двадцать полицейских к Пассажу. Для облавы. Нет, лучше два «воронка».
Воля к власти была упоительна. Бешеное веселье овладевало мной всякий раз, когда я поддавался ее порывам!
— Один — на угол к Пассажу, другой — вниз, к Старому дому студентов. И людей — сколько потребуется. Главное внимание — на группу битников, они развлекаются там в крытом дворе с пушкой.
— С пушкой? — еще сдержаннее переспросил голос.
— Может быть, с ракетной установкой, — нетерпеливо проговорил я. — Блестящая труба на подставке, что-то в этом роде. Надеюсь, у ваших людей есть глаза. И постовой покажет. Всех до единого — в КПЗ, безоговорочно.
— А чувих? Девчонок то есть, тоже? — недоверчиво спросил комиссар.
— И чувих! — распорядился я, хотя этот вариант еще не успел продумать. — Только вот что: их в другие камеры, отдельно от парней! — вовремя догадался я предупредить. — И если кто-то будет выламываться — сразу по башке, без разговоров!
Комиссар Палму будто клещами схватил мою руку и сжал так сильно, что синяк держался потом неделю. Я взвыл, но намек понял и, не глядя на него, добавил:
— Но, разумеется, применение силы только в случае необходимости. Не в насилии полицейская доблесть. Достаточно их просто проучить, чтоб знали!.. Минутку.
Комиссар Палму притянул меня к себе и прошептал на ухо:
— Чертов болван, скажи хотя бы, чтоб они обратили внимание, не залеплена ли у кого-нибудь физиономия пластырем или еще чем! Пусть заглянут в бар и в переходы, раз уж все равно там будут.
— Чертов бол… — машинально повторил я. — Простите, комиссар, это я не вам. Тут у нас небольшой инцидент. Вы понимаете, ужасная спешка. Итак: устроить облаву и прочесать Пассаж, бары и все вокруг. Прежде всего обращать внимание на то, нет ли у кого на физиономии пластыря или чего-нибудь в этом роде. Таких тоже в КПЗ. Но в отдельные камеры. — Последнее я добавил от себя. — Далее. Раз уж будете там, загляните в переходы, ведущие к метро, — продолжал я. — Не помешало бы также поставить патрульную машину на какую-нибудь соседнюю улицу. Все. Выполняйте.
— Пластырь на лице, — добросовестно повторил голос. — А возраст, рост, какие-нибудь приметы?
— Примет нету, — ответил я, взглянув на Палму. — Приступайте к выполнению.
— Но требуется время, — возразил комиссар. — Нужно еще собрать людей. Не меньше четверти часа, чтобы…
— Машины должны быть на месте через пять минут, — железным тоном сказал я. Боюсь, вы не понимаете положения, комиссар.
— Понимаю, — сухо ответил он. — В таком случае нам нужна «зеленая улица». Без светофоров и субботних пробок. А сейчас час пик. Но это уже не будет облавой.
— И отлично! — сказал я. — Пусть общественность убедится, что полиция действует! И эти мерзавцы пусть убедятся, что полиция не бессильна! Отбой.
Я кивнул водителю, чтобы он выключил микрофон, и с победоносным видом повернулся к комиссару Палму.
— Вот! — сказал я. — Вот что значит сотрудничество. В кои-то веки. Никакой дурацкой болтовни… А почему ты спросил у констебля его имя? Кархунен, кажется?
— Да так… Научную фантастику почитывает, видно, — спокойно ответил Палму и, помолчав, добавил: — Ну ничего, хоть в хоре не поет…
И опять затарахтела рация, словно ставя точку в нашем разговоре. Дежурный вызывал меня.
— Слушаю, — ответил я.
— Тут снова постовой от Пассажа, — сказал дежурный. — Еще что-то хочет сообщить.
— Ага, это опять Кархунен, — заорала рация так неожиданно, что у меня зазвенело в ушах. — Я вот что… я сказать, что все вроде не так уж плохо с виду… На тот случай, значит, если вы решите вдруг очень круто… Они ведь ничего — так, прыскают со смеху, ну, толкаются еще.
— Операция началась минуту назад, будьте наготове, — предупредил я.
— Так ведь, это… я что хочу сказать — это ведь не пушка оказалась. И не ракетная установка. Это — это телескоп. Вот они в него и глазеют.
— Телескоп! — ахнул я. — Откуда вы знаете?
— Я… я у них п-пошел спросить, для верности, — признался констебль Кархунен. — Подумал, что, может, зря уж так извожусь… Может, и не стоит их из-за этого в тюрьму… Ведь дети совсем…
— Приказ есть приказ, — сказал я. — Но… зачем же им телескоп в крытом дворе? Там все же крыша, хоть и стеклянная.
— Н-не з-знаю, — опять начал заикаться Кархунен. — У них, конечно, что-то есть на уме… Ха! Зато теперь и у меня тоже! Здорово вы придумали! А им-то оттуда ничего не видно, не успеют улизнуть. Хе-хе!
— Если вы, констебль Кархунен, уже отсмеялись, — язвительно сказал я, — разговор можно закончить. Отбой.
— Телескоп, — задумчиво повторил Палму, выпуская мне прямо в лицо облако дыма.
Водитель, все это время молчавший и явно крепившийся, наконец не выдержал:
— Черта лысого у них на уме! Хорошо, что вы сами решили ими заняться. Давно пора. Ничего, теперь и полиция пригодится!
Он сдвинул кепку на затылок и энергично потер лоб. Такая вера в мои способности изумила меня.
Из двери, помахивая сумкой и с пакетом под мышкой, вышел Кокки. Он топал через двор и что-то напевал. Настроения петь у меня на этот раз не было. Хмельное упоение властью как-то вдруг улетучилось. Я почувствовал себя опустошенным и заискивающе посмотрел на Палму.
— Что делать теперь? — спросил я.
— А что теперь? Можно проехаться в Обсерваторский парк, — предложил Палму с серьезным видом. — Отличная панорама, яркое осеннее солнце. Порт, корабли, море. Я имею в виду, если смотреть с холма, от Памятника.
Подвоха я не почувствовал.
— К Обсерваторскому холму, — скомандовал я. — Вперед! — Но тут же засомневался и на всякий случай добавил, искоса посмотрев на Палму: — Только без сирен, не стоит привлекать внимание. К нам, я имею в виду.
И пока водитель, сосредоточившись, лавировал среди субботнего потока машин, я повернулся к Палму:
— Послушай, откуда ты знал, вернее, как ты догадался отдать такой приказ — ну, чтобы выяснили, какая ночью была температура?
Я сам подставлялся и давал ему отличный повод для насмешек! Но почему-то он им не воспользовался. Может, решил, что вопрос того не стоит. А может, потому, что никогда не стрелял в птицу, сидящую на земле.
— Очень просто, — сказал он. — За четверть часа до прихода к нам журналистов и фоторепортеров редактор вечерней газеты позвонил в связи с этим шефу полиции. Хотел заранее извиниться, если его молодой сотрудник будет чересчур резко отзываться о нашем учреждении. Ну, шеф, естественно, перезвонил мне и выразил удивление, что мы ему не доложили о таком серьезном деле. Я его уверил, что у нас работа идет полным ходом, как ты любишь выражаться, но материала для доклада пока недостаточно и к тому же мы не знали, что о происшествии известно газетам. Ты в это время уминал салаку в компании Кокки, ну а я решил начать потихоньку действовать. Человека ведь нельзя волновать во время еды. Это просто так не проходит, хотя тебе этого, конечно, не понять.
— Неужели трудно было выйти к нам навстречу и предупредить? Мы хоть не стали бы распевать во все горло, — с горьким упреком проговорил я.
— Ну что же тут предосудительного? — с фальшивым изумлением воскликнул Палму. — Напротив: пресса имела возможность убедиться, что наши полицейские постоянно упражняются. Хотя бы в хоровом пении… Да, еще, — продолжил он после паузы, игриво склонив голову набок и глядя на меня, — еще шеф полиции попросил меня приглядеть за тобой: чтобы ты, поддавшись чувству, не наломал дров в таком важном деле. Я ведь все-таки намного старше и вообще — ветеран. Ну, ты понимаешь. Ничего дурного он, конечно, не имел в виду. Все-таки начальник нашего отдела тоже в отпуске… Ничего, я его уверил, что ты хороший мальчик и вполне на месте. Правда. — Он немного подумал и уточнил: — В каком-то смысле.
Тем временем мы въезжали на холм. Водитель умелым броском перемахнул через лужок и вылетел на усыпанную гравием аллею. Путь через лужок был проторен уже кем-то до нас, и нетрудно было представить, что мне придется выслушать от блюстителей наших парковых красот. Или шефу полиции. Эти господа готовы рвать на себе волосы, если детский мяч сломает хоть один их цветочек…
— Стоп! — скомандовал Палму и огляделся, словно ища чего-то. — Ага, вон там, — объявил он. Ну конечно, разбитую машину уже убрали. Разумеется. Они всегда торопятся как на пожар. Ладно хоть на дереве остался след.
Я собрался вылезти из машины и пойти посмотреть, но Палму никогда не утруждал себя ходьбой. Вверх по аллее брели какие-то люди, и я велел водителю погудеть. Здесь это уже не имело значения. Парк был весь нашпигован полицейскими.
Гуляющие сошли с дороги, почтительно пропуская наш черный автомобиль. Который важно пронесся мимо. Люди смотрели на нас, вытаращив глаза. Был такой прекрасный осенний день. Действительно прекрасный. Я живо представил себе, какие толпы соберутся здесь к вечеру, когда солнце будет садиться, — все успеют мирно отобедать дома, почитать газеты… У меня очень живое воображение. Палму постоянно укорял меня за это.
То там то сям — на лужайках и среди кустов — мелькали люди, тщательно осматривающие все вокруг. Полиция не дремала! Я не мог не чувствовать гордости.
Мы остановились возле Памятника, и я уже почти вылез из машины, когда опять затарахтела рация. Какой-то человек оставил в бане свои вещи и сейчас следовал нагишом по улице Стуре. Покосившись на Палму, я коротко приказал доставить голого господина в отделение, для дальнейших выяснений. В субботние дни в городе всегда происходит много странного.
Я вылез из машины, но заниматься поисками места происшествия мне не пришлось. Земля вокруг была вытоптана, кусты вырваны и поломаны. И это при том, что полиция прилагала все усилия, чтобы держать зевак на расстоянии. Я уже начал подумывать, не оградить ли вообще весь холм. Но тогда действительно пришлось бы вызвать на подмогу войска. А я сомневался, стоило ли прибегать к таким крутым мерам. Однако соблазн был велик. Что поделаешь, воля к власти — сильная штука!
Я долго разглядывал кровавые следы на земле, потом спросил:
— Что ты думаешь по этому поводу?
Но Палму, как выяснилось, за спиной у меня не было. Я увидел его в отдалении, по ту сторону Памятника. Он стоял на насыпи и любовался яркими осенними красками, видом моря, порта и кранов. Кокки тоже оставил меня и преспокойно стоял рядом с Палму.
Рассерженный, я подошел к ним.
— Кровавых следов, ведущих к месту происшествия, не видно, — сухо сказал я. — Хотя, конечно, земля затоптана, но… По моей версии, жертва искала здесь среди кустарника удобное место для сна, а убийцы… — Я запнулся, вспомнив, к счастью, что жертвой убийц стал не бродяга. — Я хочу сказать, — пояснил я, — что бедный старик просто сидел под кустом. А битники, озверевшие после того, как разбили угнанную машину, жаждали крови и поэтому набросились на него, забили до смерти, а тело потом спрятали в кустах. И тогда…
— Смотри-ка, Палму, это что, бразильский корабль? — заинтересованно спросил Кокки, указывая на мощное грузовое судно, пришвартовавшееся к причалу.
— А какой у Бразилии флаг? — поинтересовался Палму. — Я что-то не помню.
— Ты что хочешь сказать, — недоверчиво спросил я, — что тут замешан иностранный моряк?
— Ах да, — опомнился Палму, — мы же осматриваем местность!
Он обернулся к Памятнику и указал на три четкие вмятины в песке, образовывавшие правильный треугольник.
— Как ты думаешь, это что?
Я присел на корточки.
— Ничего интересного, сказал я. — Какой-нибудь турист притащил камеру со штативом, чтобы снимать отсюда виды.
— А может, это детишки играли, какие-нибудь милые крошки, — предположил Кокки.
— Может быть, может быть, — сказал Палму и, сцепив за спиной пальцы, снова повернулся к гавани. — Я вообще-то с минуты на минуту жду сообщений об опознании.
— Вот так так! — удивился я. — Ты мог бы с большим успехом спросить вон у них, что они там нашли… Может, есть что-нибудь… а эти следы мы сейчас на всякий случай сфотографируем. У нас все равно других нет. Пусть общественность видит, что полиция не бездействует.
Я махнул рукой нашему фотографу, который в полной боевой готовности ожидал указаний возле машины. Машина стояла на склоне холма, плавно поднимавшегося к старому зданию Обсерватории. Вид в самом деле был прекрасный! Фотографу я подробно объяснил, как — с разных точек и под разным углом — он должен снять эти таинственные следы на песке. Конечно, не исключено, что они оставлены каблуками какого-нибудь невинного прохожего, задержавшегося, чтобы полюбоваться прекрасным видом. Но, с другой стороны, слишком уж правильным был этот треугольник. Это меня настораживало.
Затем мы отправились посмотреть находки наших ребят. Они — вот черти! — успели не только составить подробный план парка, но и тщательно нанести на него все места, где были найдены те или иные предметы. Недаром они проутюжили все лужайки с рулетками! Я от души порадовался своим организаторским способностям. Ведь могут же, если хорошо наладить работу!
— Руковожу поиском, — доложил комиссар Ламберг, отдавая честь. — Если не возражаете, зачитаю по пунктам опись найденного.
Я кивнул.
— Первое — деньги, — с заговорщическим видом начал Ламберг. — Было найдено в общей сложности поразительно много денег, частично в отсыревшем состоянии, в том числе и замусоленная однодолларовая купюра.
— Иностранный моряк? — предположил я и покосился на Палму.
Но тот с безмятежным видом покуривал свою дурацкую трубку и никак не реагировал.
К моему огорчению, Ламберг покачал головой.
— Вряд ли, — заметил он. — Бумажка валялась здесь уже давно. — Но есть и звонкая монета: две по пятьдесят марок, пять по двадцать, еще пять по десять здорово, правда? — и одна в двенадцать марок!
Он облегченно перевел дух.
Я подсчитал в уме общую сумму.
— Где их нашли?
Ламберг с важностью указал на плане.
— Эти места помечены синим цветом, — пояснил он.
Мое воображение заработало полным ходом. Деньги были распределены по парку равномерно, словно преступник специально потратил полчаса, чтобы раскидать их по всей площади. При условии, конечно, что все они были рассыпаны из одного кошелька.
Видя выражение моего лица, Ламберг поспешил объяснить:
— Вообще-то марка стала теперь такой мелочью, что люди ленятся нагибаться за монетой, если вдруг обронят. Я всегда говорю в нашем буфете, что это напрасный расход энергии.
Далее была предъявлена кучка палочек от леденцов и мороженого.
— Найдено восемьдесят две штуки, — отрапортовал он и с беспокойством предупредил: — Я не счел нужным отметить на плане все места, где они валялись. Надеюсь, вас эта ерунда не заинтересует. Далее — бумажный мусор, — продолжал он. — Далее. Грифельная доска. Записная книжка. Три карандаша, разной длины, как видите. Одна шариковая ручка.
— Хотел бы я знать, — с горечью сказал я, — о чем думает отдел коммунального хозяйства, заведующий уборкой территорий. Вместе с этими самыми блюстителями городских красот. Их же целая армия! Интересно, дворники когда-нибудь подметают тут дорожки?!
— Окурки и спички, — продолжал Ламберг. — Главным образом — вокруг скамеек.
Он снова загадочно улыбнулся. У него явно было что-то припасено, pièce de résistance[6], если вы понимаете, что я имею в виду.
И действительно — с торжествующим видом он извлек какой-то шелковый лоскут, мятый, мокрый, весь в пятнах от травы, и бережно расправил его для нашего обозрения.
— Дамские трусы, — пояснил он, вероятно не доверяя нашим глазам. — Коротенькое-коротенькое бикини.
Последние слова он прошептал с неподдельным умилением.
Я смотрел разинув рот. Но Кокки опередил меня:
— Память о визите дружественного флота, — понимающе сказал он. — У нас ведь итальянцы недавно побывали.
— Именно так. Вот эти были спрятаны в кустах вдалеке от дорожки, — подтвердил Ламберг и показал на плане. — Вот здесь.
По одному ему понятной причине он пометил это место на плане зеленым цветом. Вероятно, психоаналитик смог бы найти этому объяснение. Зеленых пометок было довольно много, в зоне кустов.
— А это что? — показал я.
Комиссар Ламберг покраснел.
— А это… это другие улики. Есть один бюстгальтер. — И он брезгливо ткнул в порванный лифчик, лежавший в общей куче.
— Ну хорошо, хорошо, — поспешно сказал я. — Это все равно нам мало что дает.
Комиссар Палму взглянул на свои часы. Он получил их в подарок от коллег в честь тридцатилетия своей безупречной трудовой деятельности и чрезвычайно гордился этим подарком.
— Я удивляюсь только одному, — сказал он, — тому, что покойник до сих пор не опознан.
— С помощью вот этого?! — вскричал я, указывая дрожащей рукой на находки Ламберга. — По-твоему, я кто — волшебник?
Палму сокрушенно покачал головой.
— Дитя, ох, дитя, — горестно сказал он, — когда же ты наконец повзрослеешь! Неужели тебе до сих пор не пришло в голову, что газета уже два часа как разошлась!
— Ну и что? — с досадой спросил я.
— А то, что там фотография жертвы, — терпеливо объяснил Палму. — На четвертой полосе, крупным планом. Будет поистине чудо, если его никто не опознает.
Я подскочил. Разумеется, не из-за слов Палму — как будто я сам не сообразил бы, что покойника могут опознать по фотографии! Просто я не заметил, как за моей спиной оказался бесшумно подкативший автомобиль, и затарахтевшая в этот момент рация застала меня врасплох. Дежурный гаркнул во всю глотку, так что эхо прокатилось по всему холму:
— Где командир? Командир здесь?
— Ну, пошло-поехало, — меланхолически заметил Кокки.
Я ринулся в машину с таким остервенением, что потерял шляпу и здорово стукнулся головой.
— О-о! — взвыл я. — Слушаю вас!
— Убитый опознан! — оглушительно проорал дежурный и зачастил: — Фредрик Нордберг, проживал на Матросской улице…
Он назвал номер дома и квартиру. К счастью, зеваки стояли достаточно далеко и услышать подробности не могли. Полиция удерживала их на почтительном расстоянии!
— В машину, живо! — махнул я рукой медлительным Палму и Кокки. Сыщик никогда не позволял себе усесться раньше комиссара. — Я выяснил личность убитого, — бросил я им и, обратившись к водителю, приказал: — Жмите вовсю. Адрес вы слышали.
И он, конечно, газанул и помчал, истошно сигналя, чтобы нам дали дорогу. Народ посыпался в разные стороны.
— Ну, будет! — заявил Палму, даже не спросив у меня разрешения. — Тут собственного голоса не услышишь. Включи-ка лучше рацию. Дежурный? Это Палму. Приказ выполнен?
— Так точно, — прохрипел голос. — Шестая патрульная машина уже на месте. Наряд полиции порядка следует туда же. А шестая обычно по субботам там и патрулирует, в том районе.
Я не мог не похвалить Палму.
— Молодец, все успел предусмотреть! — Я немного поколебался. — Разумеется, я сам бы до этого додумался, но все произошло так внезапно, что я до сих пор никак в себя не приду. Впрочем, какой толк был бы в командовании, если нельзя было бы доверять своим подчиненным. Никогда и ничего не вышло бы, если мне пришлось бы лично продумывать все до мельчайших подробностей!
— Это верно, ничего бы не вышло, — слишком охотно согласился Палму.
Кокки тоже обрадовался и закивал головой.
Рация снова включилась, так неожиданно, что я подпрыгнул на сиденье. Дежурный тараторил еще быстрее, чем прежде. Я с трудом разобрал:
— Убитый опознан вторично. Фредрик Нордберг, адрес: улиц…
— Хватит! — прервал я его, покосившись на Палму. — Думаю, что теперь опознания посыплются одно за другим. Можете мне о них не докладывать.
Палму недоуменно поглядел на меня, требуя объяснений. Я немедленно начал заикаться:
— Н-но ведь каждое сообщение з-записывается. Имя и адрес информатора тоже, так что нам скоро станет известен весь круг его знакомых. Кстати, от кого первого поступило сообщение?
— От дежурного комиссара, полицейский участок на Железнодорожной, — протарахтела рация и сочла нужным разъяснить: — К ним газета пришла немного раньше.
— Полиция действует! — торжествующе сказал я. — Еще одно очко в нашу пользу!
— Второе сообщение сделал трамвайный кондуктор, — радостно продолжил дежурный. — Он заглянул через чье-то плечо и увидел в газете фотографию старика. Ну, и сразу признал его. Выскочил на следующей же остановке и позвонил из кафе.
— На какой линии работает этот кондуктор? — спросил Палму.
Дежурный затих, и было слышно, как он кого-то переспрашивает.
— Не догадались выяснить, упавшим голосом сказал он, — только имя и адрес.
— Спасибо, мы выясним это позже, — вмешался я.
— Послушайте, — вдруг оживился Кокки, этот кондуктор напомнил мне об одной моей знакомой стюардессе.
— Помолчи! — сказал я. — Между прочим, я и не подозревал, что у тебя есть знакомые стюардессы. Интересно, что по этому поводу говорит твоя жена?
Разумеется, это была только шутка, но, к моему изумлению, Кокки покраснел, опустил голову и начал смущенно ковырять носком ботинка пол.
— У каждого своя личная жизнь, — заметил Палму, осуждающе поглядев на меня. — И ни к чему в нее вмешиваться.
Завизжали тормоза, и мы лихо въехали на Матросскую улицу. Машина сбавила скорость, водитель пригляделся к номерам домов и сразу точным движением направил ее в темную арку старинного каменного дома. Только крепкие тормоза спасли нас в тесном дворе от наезда на кузов ветхого грузовичка. Кто-то, видимо, переезжал, и погрузка была в разгаре. Часть вещей стояла уже в кузове, часть была пока на земле возле машины.
Я здорово приложился носом о переднее сиденье, и даже Палму выругался.
— Куда вас несет?! — рявкнул он. — Мы на тот свет не торопимся.
Полицейский в форме отдал нам честь, когда мы наконец выбрались наружу.
— Патрульная машина уже уехала, доложил он обстановку. — Их куда-то вызвали. Но этих мы успели накрыть. Бежать хотели. Половину вещей погрузили.
— Кто?! — изумился я.
— Преступники, конечно, — ответил констебль. — А кто — не знаю. Кто-то из шайки… Убийцы… В любом случае — остальные удрали. Нам удалось захватить только шофера грузовика и одну девушку. Она там, в доме. Ревет в три ручья.
— О ком вы говорите? — спросил я, чувствуя, что голова у меня идет кругом.
Даже Палму на этот раз, казалось, был изумлен.
— Мало того, что убили несчастного старика, так им еще и квартиру обчистить захотелось! — с возмущением продолжал констебль. — Все вынесли: вещи, столы, стулья — все! И глазом не моргнули! Вот — полюбуйтесь! — И указал на жалкую кучу барахла, лежавшую на земле. — Таких отъявленных негодяев я еще не встречал, — с мрачной торжественностью произнес констебль. — Они ведь хладнокровно кофе распивали, когда патруль их накрыл.
— И что они говорят? — машинально спросил я.
— Да девчонка пыталась что-то пискнуть, но я велел ей молчать, — объяснил констебль. — Ведь положено, чтобы командир группы лично допрашивал.
— Разумеется, — сказал я, покосившись на Палму.
— Я им на всякий случай наручники надел, — с довольным видом повествовал констебль. — На этом все обсуждения закончились. Только девчонка ревет как белуга, так что я решил во дворе вас подождать, тем более что все равно надо за вещами приглядеть. Ведь приказали ни к чему не прикасаться.
— Разумеется, — снова подтвердил я и посмотрел на Палму. С восхищением.
Свистящий хрип рации перебил нас.
— Ламберг хочет доложить, — сообщил дежурный и сразу понравился: — Комиссар Ламберг.
В голосе Ламберга слышалось крайнее возбуждение.
— Нашли бумажник! — кричал он. — Фредрик Нордберг, все правильно, как в сообщении. Я случайно слышал, как вам докладывали об опознании. Нашли в урне, под всем мусором, когда парковый служитель ездил с тележкой, опорожнял урны.
— Как?! — у меня дрогнул голос. — Вы хотите сказать, что не вы… что ваши люди не осмотрели сами мусорные бачки и урны?
— Разумеется, нет, — оскорбленно ответил Ламберг. — Вы же всегда требуете делать только то, что приказано. А это приказано не было. Приказ гласил: «Прочесать местность». Местность, все пространство то есть, прочесано. Тщательнейшим образом.
Палму вытащил изо рта трубку и стоял с виноватым видом. Я немо воздел руки к небу.
— Ладно, Ламберг, — сказал я. — Тогда снимите так же тщательно отпечатки пальцев.
— Разумеется, это понятно, — заверил тот. — К бумажнику никто не прикасался с тех пор, как мы его получили из рук служителя. У нас тут целая орава занята делом. И, конечно, мы просеем содержимое этой урны.
Кокки не мог удержаться.
— Складывайте в пакеты! — прокричал он через мое плечо. — Это Кокки говорит — складывайте в пакеты весь мусор!
— Весь мусор из урны, — пояснил я. — И пройдитесь по остальным урнам, если их еще не успели вычистить. Все, спасибо, Ламберг.
Я повернулся к Палму.
— Недурно ты покомандовал от моего имени, — саркастически сказал я. — Как ты мог забыть об урнах? На твоем месте я бы сейчас бил себя в грудь и каялся!
— Ты сам вечно так говоришь: «местность», «обстановка», — смиренно пытался оправдаться Палму. — Сам не понимаю, какой черт меня дернул за язык сказать про эту «местность». — Он не удержался и сердито добавил: — Мне и в голову не могло прийти, что Ламберг понимает все так буквально.
— Не будем терять время, — решительно сказал я. — Пойдемте в дом. Наконец мы напали на след.
Глава четвертая
К чести девушки надо сказать, что она уже не ревела как белуга, а сидела с опущенной головой, закусив губы, и роняла тихие слезы на руки. Девушка была очень хорошенькая. С золотистыми волосами и почти совсем не накрашенная. И никаких брюк-дудочек, которые я ожидал увидеть, на ней не было.
Дом внутри выглядел унылым, обветшалым. Квартира состояла из комнаты и кухни. Выцветшие, грязные обои. Там, где вдоль стен стояла мебель, вынесенная теперь во двор, на обоях выделялись четкие силуэты. Окна выходили в серый скучный двор. На полу стоял старый-престарый черный чемодан, с раздутыми от вещей боками, рядом — приготовленные и увязанные картонные коробки. Стол и два стула тоже еще оставались в комнате. Стол был накрыт: кофейник, три чашки, сливки, сахар и одна сдобная булочка на тарелке.
Удивительно: я-то считал, что современная молодежь пьет кофе без сливок. Из-за своей лени. Чтобы не ходить за сливками в магазин. А вместо булочки, по моим представлениям, должна была стоять бутылка. Что ж, век живи — век учись, рассудительно подумал я.
Комиссар сидел напротив девушки на одном из двух оставшихся стульев и, когда я вошел, вскочил как ужаленный. Двое полицейских, как и положено, стояли на лестничной площадке перед дверью, охраняя в неприкосновенности следы и удерживая на расстоянии стайку любопытных, вытягивавших шеи, чтобы сверху или снизу заглянуть внутрь. Ни одного представителя мужского пола среди них не было. Видимо, мужчины успели улизнуть из дома, чтобы принять законную субботнюю кружечку, или просто предпочли не попадаться полиции на глаза.
Привалившись к стене, стоял шофер грузовика, рослый широкоплечий мужчина, одетый в желтый комбинезон, на удивление чистый. На мужчине были наручники. Взгляд, который он бросил на меня, был настолько страшен, что я даже попятился. Это был взгляд человека, попавшего в западню.
— Послушайте-ка, господин хороший, кто вы там есть… — заговорил он.
— Молчать, пока тебя не спрашивают! — гаркнул комиссар. — Тебе что, мало? — С извиняющимся видом он повернулся ко мне и объяснил: — Это такие типы, с ними по-хорошему нельзя, не понимают. Да и дело такое. Я читал в газете. Поэтому и решил сам поехать.
Вот оно что, значит, еще один фараон, — медленно проговорил шофер низким глухим голосом. — В этом городе порядочным людям дня спокойно не дадут поработать, чтобы не вцепиться в глотку. Полиция! У меня есть разрешение на право заниматься своим делом, есть шоферские права, есть справка о техосмотре, есть куча бумажек, без которых не…
Он покосился на девушку и не стал заканчивать фразу.
— Так вас что, прежде уже штрафовали? — осведомился я.
Шофер грузовика кивнул.
— Один раз за перегрузку, один раз за превышение скорости и два раза за парковку в неположенном месте. — И вдруг он заорал так, что у него вздулись вены на висках: — А за каким чертом вообще возить вещи в грузовиках, если машина даже на минуту не может остановиться у тротуара! Господа, которые шикуют в «кадиллаках», конечно, останавливаются, где пожелают, а полиция изо всех сил следит, чтобы какая-нибудь рожа, вроде моей, не отразилась в их зеркале! — И уже тихо, себе под нос, он буркнул: — Проклятье!
— Ну-ну! — успокаивающе сказал я.
У меня было чувство, что допрос уже начался, но идет как-то неправильно. Я еще раз посмотрел на девушку. Она была, правда, очень, очень хорошенькая. И ножки тоже. Я перевел взгляд на комиссара из полиции порядка и начал буравить его глазами. Это я умею. Отлично умею, можете мне поверить. Тренировался дома перед зеркалом. Во время бритья.
— Надо же все-таки думать, — сказал я. — Головой. Вас тут четверо здоровых мужчин. Немедленно снимите с барышни наручники.
Комиссар собрался было возразить, но, увидев мое разгневанное лицо, не посмел. Нарочито не торопясь, он снял наручники и сунул их в карман. Девушка потерла запястья и благодарно взглянула на меня. Возле губ у нее образовалась ямочка, когда она попыталась улыбнуться сквозь слезы.
— С него тоже! — приказал Палму, показывая трубкой на шофера. — Тоже нашли преступника! Достаточно посмотреть на него, чтобы понять.
— Угу, достаточно, — поддакнул Кокки. — И посмотреть, и послушать его болтовню.
Да, все-таки нелегко нашему шефу находить людей, в которых хорошие деловые качества сочетались бы с умением тактично себя вести и ладить с коллегами. Этим я хочу сказать, что Кокки очень выигрывает, когда держит рот закрытым. Но делать ему замечание в присутствии посторонних я не мог.
— Он буйный, — предупредил комиссар, но приказание выполнил.
Однако буянить шофер не стал. Напротив, сразу успокоился и с большим доверием воззрился на меня.
— Так, — сказал я, не зная, на что решиться, — вы тут как будто пили кофе, а мы вам помешали. Может быть, вы продолжите, и тогда мы в спокойной обстановке побеседуем обо всем с самого начала. Комиссар, будьте любезны, прикройте дверь.
Комиссар исполнительно прикрыл входную дверь.
— Я имел в виду, чтобы вы закрыли ее с той стороны, — поправил его я. — Будьте добры, проследите, чтобы к вещам во дворе никто не притрагивался… Так, — снова сказал я, оглядываясь, — теперь пусть кто-нибудь принесет мне стул.
— А как же отпечатки пальцев? — начал было комиссар.
— Наденьте перчатки, — посоветовал Палму. — И принесите мне тоже стул. А Кокки может постоять.
Девушка смотрела на нас. Вернее — если говорить честно, — смотрела на меня. С восхищением. И это было довольно приятно. Я указал ей на кофейник. То есть я имел в виду, чтобы она налила кофе шоферу грузовика и себе. Но, услышав запах отличного кофе, я неожиданно для себя почувствовал сильнейшее желание тоже выпить чашечку.
Девушка оказалась весьма сообразительной и тотчас, по одному моему взгляду, догадалась о моем желании. Между нами чудесным образом возникла связь — взаимопонимание без слов.
— Я сейчас сварю еще, одну минуту! — радушно предложила она. — У меня и чашки еще не упакованы. Я их собиралась помыть в последнюю очередь, а потом сразу уложить в корзину.
Может быть, кто-нибудь и расценил бы ее поведение — после всего случившегося — как проявление черствости или холодного цинизма. Но, на мой взгляд, оно как раз свидетельствовало о ее совершенной невинности и простодушии. Она не была ни стиляжкой, ни гангстершей. Тут я готов был биться об заклад с кем угодно и на что угодно. Хотя, конечно, внешность бывает обманчива. Я стараюсь не забывать об этом. Но сейчас за главного был Палму. И я мог позволить себе безответственно улыбаться.
— Спасибо! — сказал я. — Это было бы чудесно.
Я, разумеется, понимал, что еще сегодня, до двенадцати ночи, мы должны распутать это дело. Но почему-то я был твердо уверен, что мы на правильном пути. Тем более теперь, когда был найден бумажник.
Раздался звонок в дверь, и в квартиру ввалился констебль с двумя стульями под мышкой. Я велел ему поставить их, и он стал пятиться к двери — проволакивал время, так ему было любопытно посмотреть, что тут у нас происходит. Быть может, он удивился, увидев, что девушка стоит на кухне, наполняет кофейник и зажигает газ. Но в любом случае от комментариев он воздержался.
Хлопоча, девушка еще уронила две-три слезинки в банку с молотым кофе. Если бы мы были вдвоем, я бы, наверно, подошел ее утешить, положил бы руку ей на плечо. Или на талию. Но нас было пятеро в этой комнатушке. Так что подобное никак не годилось. Оставалось только воображать.
Шофер прихлебывал кофе и посматривал на булочку. Видно, свою порцию он уже съел и стеснялся взять еще.
— А для кого третья чашка? — невинным тоном спросил Палму.
Я сразу насторожился.
— Должен был прийти… — с готовностью отозвалась девушка, но тут же замялась, подбирая слова, — в общем, один мой знакомый, друг. Да, мой друг обещал прийти и Помочь с переездом, но куда-то пропал. Господин Карлссон был так добр, что помог мне и сам грузил вещи. И даже согласился подождать. Но я все равно собиралась угостить всех кофе. Сдобные булочки купила. Просто не представляю, куда… — Она запнулась и опустила голову. — Я очень беспокоюсь, — со вздохом сказала она. — И дядя Фредрик умер… его убили. В голове не укладывается…
Она опять заплакала, бедная девочка, но тут, к счастью, забурлила вода в кофейнике, и ей пришлось отвлечься — уменьшить огонь и всыпать кофе. Она отсчитывала ложечки, мило сложив трубочкой губы. Кокки пристально следил за ее движениями.
— Нет-нет, еще! Этого мало, — забеспокоился он, видя, что она перестала сыпать. — Надо по две полных ложки на чашку. Это моя норма.
Девушка остолбенела.
— А дядя Фредрик никогда… — начала она, но, снова все вспомнив, опустила голову и безропотно стала досыпать кофе. — Ужасное расточительство, — проговорила она. — Но пусть на этот раз. Я постараюсь сварить повкуснее, если у меня, конечно, получится.
Она увеличила огонь и стала помешивать кофе ложечкой.
— Только недолго, — предупредил Кокки, — кофе не должен долго кипеть. А потом накройте колпаком. Пусть настоится и отстоится. Иначе вкус будет только у гущи.
Девушка послушно сделала, как ей велели. Комиссар Палму повертел в руках трубку и как бы между прочим спросил:
— А откуда вы знаете, что его убили?
— Полицейские сказали, — ответила она.
— Ага, — подтвердил шофер грузовика, глядя с вожделением на булочку. — Они сюда вломились и сразу заорали, что банда поймана и что господин Нордберг убит. А нам нацепили наручники, словно это мы — убийцы! Вот идиоты!
— Mea culpa, mea maxima culpa[7], — сказал Палму таким голосом, что Цицерон в своей могиле наверняка перевернулся. — Я не предусмотрел, что задержанным запретят говорить до прихода нашего начальника, раз он, согласно правилам, должен снять первый допрос! Я знал, что первые сообщения об опознании поступят быстро, и заранее приказал тут же выезжать по адресу, осмотреть все и охранять от… В общем, на всякий случай. — Он повернулся к девушке. — Так, значит, Фредрик Нордберг был вашим дядей?
— Да, братом отца, старшим, — сказала девушка. — Мой отец моложе.
— В таком случае ваша фамилия — Нордберг? — догадливо предположил Палму.
— Нет, — покачала она головой. — Похъянвуори, Саара Мария. Мой отец взял себе финскую фамилию. Он не хотел носить ту же фамилию, что и дядя. Из-за его языческих занятий. Так отец говорил.
— Языческих занятий?! — вскричал я изумленно.
Палму незаметно показал мне, чтобы я утих.
— А вы? — обратился он к шоферу. — Вы тоже были знакомы с — гм — господином Нордбергом?
— В жизни не видел старика, — отрезал тот. — Вот эта барышня договорилась со мной о переезде. Я иногда заглядываю к ним в кафе, и барышня видела меня и знала, что я дешево беру за перевозку.
Девушка взглянула на свои часики и забеспокоилась.
— У меня еще есть время, — сказала она, — но мне никак нельзя опаздывать на работу. Моя смена с шестнадцати часов.
— Да я вас подвезу, это не будет вам ничего стоить, — заверил ее шофер. — Только сначала надо вещи внести в дом. Ваш приятель уже давно мог бы прийти помочь! Вон сколько времени его прождали! — Но, увидев ее несчастное лицо, шофер поспешно добавил: — Я с вас ничего за ожидание не возьму! — Потом, дружелюбно поглядев на нас, заметил: — Но вообще-то лучше было бы переехать. А то сколько времени впустую ушло.
Палму оставил его слова без внимания.
— Барышня Похъянвуори, — учтиво обратился он к девушке, — я заметил, когда мы входили, что вы успели снять вашу табличку с входной двери. На двери остался след от нее — в этом месте более темная краска и гвоздик торчит. Ваш дядя что, держал постояльцев или у него была какая-то особенная профессия?
Девушка покраснела и отвела глаза.
— У дяди вообще никакой специальной профессии не было, — нерешительно сказала она. — Он… он занимался разными вещами. Дядя был очень трудолюбивый.
Она открыла сумочку и достала оттуда табличку, на которой старинным шрифтом было выведено: «Фредрик Нордберг», а на пожелтевшей от времени картонке бисерным, немного дрожащим почерком было написано: «Гороскопы. Филателия. Бухгалтерия».
Мы все трое с интересом склонились над картонной табличкой. «Гороскопы!» — произнес я про себя, и какая-то мысль завертелась у меня в голове. Но ни вычленить, ни оформить ее я не мог.
Палму присвистнул вполголоса.
— С паршивой овцы хоть шерсти клок! — загадочно произнес он и с размаху хлопнул меня по плечу. — Мой мальчик, я горжусь тобой!
Разумеется, я решил, что он издевается надо мной за то, что я так изумился этим «гороскопам».
— А ваш дядя был филателистом? — поспешно обратился я к девушке.
— Да-да, — подтвердила девушка. — Он собирал только редкие марки. Он не хотел иметь большую коллекцию. А свою он собрал, продавая и обменивая марки похуже. Коллекция вон в том чемодане. Дядя сам упаковал ее еще с вечера.
— Так вы собирались сегодня переезжать? — спросил Палму.
— Не мы, — возразила девушка, снова как-то странно колеблясь. — Дядя должен был сегодня переезжать, в тринадцать часов… Вообще-то мы собирались потом жить вместе, я позже переехала бы к нему. Но это все было еще неточно. Я просто пришла помочь ему перетащить вещи, и Вилле обещал прийти, да вот…
И она опять заплакала.
— Дядя был очень бережливый, — проговорила она, глотая слезы и торопясь переменить тему разговора. — Ему нужно было совсем немного. Он обычно делал бухгалтерские расчеты для двух маленьких фирм. Которые сами не могли справиться. И еще в январе он всегда помогал разным людям составлять налоговые декларации. Дяде вполне хватало этих денег. Ему больше и не надо было. Он только хотел быть самому себе хозяином.
— Это вы штопали его носки? — с теплым чувством осведомился Палму.
— Я, — чуть запнувшись, подтвердила девушка. — Дядин дом для меня был… был как убежище. Дядя был очень, очень добр ко мне. Ну и я тоже старалась делать, что могла. Стирала ему, иногда готовила, чтобы он хоть изредка мог пообедать дома, а не в забегаловке.
Комиссар Палму отвесил низкий поклон.
— Барышня Похъянвуори, — произнес он с глубоким чувством, — вы замечательная девушка!
— Совершенно справедливо, — подтвердил я и поглядел ей в глаза.
Хотя я имел в виду не совсем то, что Палму. Девушка это сразу прочла в моем взгляде и очень мило покраснела. Кокки вдруг стал проявлять нетерпение.
— Пора бы уже нам приступить к кофе, — воззвал он. — Сколько ему там настаиваться! И потом — я не понимаю, почему тут кое-кому охота флиртовать, когда у нас такое важное дело об убийстве! Наше положение хуже некуда. Так и поездка в Копенгаген накроется!
К моему удивлению, девушка прижала руку к сердцу, краска сбежала с ее хорошенького лица, оно побледнело, а нос даже посинел.
— Простите, вам плохо? — испугался я и вскочил со стула.
— Нет-нет, — запротестовала она и начала разливать кофе.
Шофер грузовика от кофе отказался и предупредительно перевернул свою чашку дном вверх.
— Только, — сказала девушка с каким-то виноватым видом, — булочек к кофе больше нет. Эта… эта была для Вилле… Давайте я сейчас, мигом, сбегаю в магазин и куплю.
Она схватила свою сумочку и поспешила к двери.
— Нет-нет, позвольте мне… — закричал я, судорожно хватаясь за карман, чтобы извлечь бумажник.
Комиссар Палму сердито толкнул меня к стулу.
— Не надо никуда ходить, милая барышня, — сказал он. — И не стоит сейчас пытаться звонить этому вашему Вилле. Он найдется. А нам о многом еще нужно поговорить. Сходи-ка ты, Кокки. Купишь пончиков.
— А мне сдобных языков, если будут, — машинально сказал я.
Кокки требовательно протянул руку. Я дал ему пятисотенную. Мельче у меня не было.
— На все? — с радостной готовностью спросил Кокки.
— Вымогатель, — обличил его Палму. — Мужчина, у которого есть средства, чтобы знакомиться со стюардессами и класть по две ложки кофе на чашку, мог бы разок и нас угостить. У меня таких возможностей сроду не было, за всю мою долгую честную службу. Послушай, он, наверно, живет двойной жизнью. Нам стоит к нему приглядеться!
Кокки скрылся за дверью. Но девушка даже не улыбнулась. Она по-прежнему была бледна и выглядела испуганной. Шофер грузовика начал терять терпение.
— Послушайте-ка, господа хорошие, — сказал он, — я человек трудящийся. У меня машина во дворе столько времени простаивает, мне с этим переездом пора заканчивать.
— Я как раз собирался спросить вас, — сказал Палму. — Вы вчера ночью были в этих же — гм — ботинках?
Я посмотрел на ноги шофера. Он был обут в самые грубые и потрескавшиеся рабочие башмаки, какие только мне когда-либо доводилось видеть. Шофер проследил за моим взглядом и, видимо, почувствовал себя уязвленным.
— А что? Это мои рабочие ботинки, — сказал он дрогнувшим голосом. — В моей работе нельзя выбирать, где чисто, а где нет. И в дороге тоже всякое случается… А по ночам я сплю!
— Верю вам на слово, — просто сказал Палму. — В таком случае можете идти. Запишите только мне вот сюда, в записную книжку, ваше имя и адрес, и телефон, если есть.
— А как же! — заверил шофер и принялся писать, по тут же отвлекся. — А переезд-то как же? Будет или нет?
— В другой раз, — твердо сказал Палму. — Мне очень жаль, барышня, но — гм, знаете ли — в связи с новыми обстоятельствами будет лучше, если все вещи занесут обратно и расставят по местам. То есть так, как они стояли сегодня, когда вы сюда пришли. Здесь было что-нибудь сдвинуто с места?
— Не знаю, — задумчиво сказала девушка и замялась. — Вчера вечером я помогала дяде упаковывать вещи, но его постель, конечно, оставалась, и — сегодня, когда я пришла около двенадцати, потому что дядя Фредрик не очень практичный человек… то есть был… в общем, оказалось, что он не ложился на кровать и все было, как вчера вечером, когда я уходила отсюда, часов в восемь… Почти так же… нет, не знаю.
Она смешалась.
— Вам кажется, что сюда приходил кто-то чужой? — помог ей Палму.
— Нет… не знаю. Не могу точно сказать, — ответила она. — Я, правда, очень забеспокоилась, что он не спал и кровать не тронута. Хотя… хотя бывает, что он на всю ночь уходит.
— А-а, языческие занятия! — Я не мог не продемонстрировать свою догадливость.
Палму шикнул на меня.
Девушка гневно сказала:
— Дядя Фредрик был самым хорошим и добрым человеком на свете! Ничего дурного он не делал! Просто у него бывала бессонница, и я подумала утром, что, может, он волновался перед переездом и поэтому ушел и всю ночь гулял… Но когда он не появился и в час дня, я уже просто не знала, что думать… Машина была заказана и — ну и я решила, что тогда перевезу вещи сама. Туда, на улицу Роз.
— В район Хаага, — подхватил Палму, не давая мне раскрыть рта.
— Дядя иногда бывает таким рассеянным, весь уходит в свои мысли… я подумала, может, он просто пошел на новую квартиру и ждет меня с вещами там. Но…
Все это время шофер смущенно вертел кепку в руках и наконец деликатно кашлянул.
— Ох, да! — Девушка всполошилась и стала рыться в сумочке. — Конечно, я сейчас вместо дяди заплачу…
— Я могу занести вещи обратно, — благородно предложил шофер. — И за все, в общем… как вам покажется — семьсот марок, это для вас не очень дорого?
— Нет, конечно, — уверила девушка, вручая ему названную сумму, ровно, без сдачи.
Он поблагодарил и сердечно пожал ей руку. Нам он руки жать не стал.
— Ну что, закидывать сюда барахло? — спросил он у Палму.
— Нет, пока не надо. — Палму явно не терпелось избавиться от него. — Наши ребята сами занесут, когда понадобится. Пусть попыхтят. Это им не наручники почем зря цеплять. Но вы на них не обижайтесь. Все мы, люди грешные, ошибаемся.
Шофер удалился, стуча башмаками, и мы остались втроем. Этого Палму и добивался. Он и Кокки специально услал! И теперь, излучая всем своим видом дружелюбие и ласку, он повернулся к девушке.
— Ну вот, дорогая барышня Похъянвуори. Мы остались втроем, и теперь — между нами — расскажите, что вас гнетет? Вы порядочная, славная девушка. Поверьте мне, лучше все рассказать сразу. Потому что потом все равно все выяснится. Вилле — это тот, кто завладел вашим сердцем?
Он говорил так нежно, так по-отечески, что даже у меня защипало в носу. А девушка — та совсем расчувствовалась, и слезы у нее быстро закапали на сложенные на коленях руки. Я не в силах был больше сдерживаться, встал, вынул свой носовой платок — по счастью, он оказался чистым — и вытер ей глаза и щеки. И поверьте — на платке не осталось ни пятнышка туши или пудры! Клянусь! Эта девушка была свежа и чиста, как… как роза!
Наша птичка угодила прямо в силок. Разумеется.
— Я… я ужасно беспокоюсь за Вилле, — призналась она. — Вилле твердо обещал, что будет здесь самое позднее в час. И я ничего не знаю о нем… со вчерашнего вечера. Я пыталась дозвониться в кафе, когда ходила за булочками — может быть, он просил мне что-нибудь передать. Наш злющий швейцар сегодня как раз не дежурит. А мой отец запрещает Вилле звонить к нам домой, сразу кладет трубку, если слышит его голос. Я… я, правда, собиралась еще раз позвонить в кафе. Вилле мне бы наверняка передал что-нибудь, если бы… если…
— Если бы что? Что же случилось вчера вечером? — спросил комиссар Палму и по-отечески погладил ее по руке.
— Конечно, глупо мне скрывать. — Она всхлипнула. — У вас там, в полиции, все записано. Просто у Вилле дурная компания, там этот гадкий тип, этот боров, и еще девушка — такая ужасная! Я не знаю, что Вилле в них находит, но он вечно таскается с ними. А я, я знаю, что Вилле не такой, и он стал бы лучше, если… если бы у него был бы свой мотоцикл, как у других!
— Понятно. Но давайте про мотоцикл и про все эти переживания потом, — осторожно сказал Палму. — Что все-таки произошло вчера вечером?
— Мы можем посмотреть в полицейском рапорте, — решил помочь я. — Все подозрительно…
Палму остановил меня движением руки. Девушка подняла на нас взор. Это был взор чистейшей синевы. А какие золотистые волосы у этой девушки!
— Вечером, после восьми, мы пошли отсюда прямо в кафе, — начала она свой рассказ. — Смена, правда, была не моя, но я обещала поработать с восьми до одиннадцати — до закрытия, потому что один… один господин пригласил девушку, мою сменщицу, в кино, а потом потанцевать, и ей надо было еще успеть сбегать домой переодеться… Ну вот, а Вилле не стал ждать до одиннадцати, чтобы встретить меня, как обычно, на углу, а вместо этого они все втроем явились в кафе в десять часов, хотя швейцар просто ненавидит их, и Вилле тоже, хотя Вилле ничего плохого ему не сделал, ну совершенно ничего! То есть все эти битники и стиляги, они, конечно, ужасные посетители — и курят, как паровозы, и столы царапают, пепельницы бьют, сиденья вспарывают… Но… но Вилле такого никогда… Это все Арска, от него действительно чего угодно можно ждать! — Она перевела дух и взглянула на нас. — Я, наверно, плохо рассказываю, вы меня извините… Ну вот. В общем, они начали доводить швейцара. Толстяк достал бутылку из кармана и налил в стакан. А вообще-то они заказали «Фанту». Ну, я видела, как он наливал, и сразу поняла, что они специально — чтобы подразнить швейцара. Вилле ведь не пьет. И этот боров, его приятель, тоже не пьет, никогда не видела, чтобы он пил. Ну, швейцар, конечно, сразу кинулся к ним, как зверь, схватил за шиворот и стал выпихивать на улицу, ничего не слушая. У Вилле свитер порвался, а у девушки брюки по шву лопнули. Они все ушиблись, когда он их на улицу вышвыривал. Он очень, очень плохой, этот швейцар. Толстяк еще погрозил ему кулаком и крикнул, что они с ним расквитаются. Вилле тоже очень разозлился. И правильно: ведь он-то ничего плохого не делал. Он только посмотрел на меня и засмеялся. Но вообще-то это верно: приличные люди сразу норовят уйти из кафе, если его битники себе облюбуют. Наша хозяйка для этого только и держит швейцара. Он бывший боксер. Ему небось когда-то голову проломили, вот он и стал таким сумасшедшим.
— Ближе к делу! — воззвал Палму.
Девушка тоскливо заломила руки.
— Ну, через некоторое время послышался треск мотоциклов и какой-то шум на улице перед кафе. Оказалось, что там уже собралось человек десять битников. Я просто не представляю, как они успели так быстро их собрать! Хозяйка разволновалась, но швейцар только вошел в раж, выскочил на улицу и двинул кому-то по физиономии, кто первый под руку попался. Началась драка. И тогда кто-то нарочно толкнул Вилле, или, может, в этой свалке он просто упал прямо на нашу большую витрину, и она разбилась на кусочки. Хорошо еще, что он не поранился… Хозяйка вызвала полицию. Швейцар заявил, что ребята были пьяные. Вилле все божился, что это была вода, что они просто дразнили. Толстяк и девица успели улизнуть, а остальных, сколько смогли, полицейские набили в фургон и отвезли в отделение. И Вилле тоже… Как вы думаете, Вилле придется платить за стекло? Оно, наверно, стоит тысяч двадцать.
— Это зависит от свидетельских показаний и от того, пойдет ли дело в суд или будет улажено полюбовно, — объяснил я. — Лучше уладить полюбовно. Они могли бы все вместе собрать деньги. Но надо также послушать другую сторону — показания швейцара.
— Но он сумасшедший! — вспыхнула девушка. — И я не собираюсь оставаться в этом кафе, пока он там! Отработаю две недели, как потребовала хозяйка, и все, ни дня больше! Он, этот швейцар, как-то раз застал меня в кухне и прижал к стене, хотел… нет, он отвратительный, гадкий человек! Поэтому Вилле и разозлился на него. Я теперь вообще боюсь, как бы они не ткнули его ножом за то, что он одному из ребят челюсть сломал.
— Ого! — поразился я. — Это уже нарушение пределов необходимой самообороны. Хотя… если он голой рукой… Все равно, сфера его действий не распространяется на улицу. А у ребят было что-нибудь в руках?
— Они вроде резиновой дубинкой размахивали, — безразличным тоном сказала девушка. — Но мне не очень хорошо было видно.
— Дубинкой?! — переспросил я, и внутри у меня что-то оборвалось.
Я вспомнил профессора и тело несчастного старика на гладком столе. И почувствовал, как выпитый крепкий кофе поднимается к горлу и норовит исторгнуться. Занятый этими наблюдениями, я не вдруг ощутил на себе тревожный взгляд синих глаз.
— Что, что случилось? — испуганно спросила она и прижала ладонь к губам.
Палму сжал мою руку, но было поздно. Девушка уже насторожилась.
— Вилле не виноват! — гневно сказала она. — Если надо, я найму ему адвоката. Или сама заплачу хозяйке за стекло!
— Кто размахивал этой дубинкой? — спросил Палму безразличным тоном.
Но девушка была настороже и сидела, крепко сцепив руки.
— Не знаю, — с упрямым видом сказала она. — Не видела. Я ничего не видела.
— Кроме того, что Вилле ничего плохого не делал, — продолжил за нее Палму.
И он со странным выражением в упор поглядел на нее. Выдержать его взгляд она, понятно, не могла. И после довольно долгого молчания Палму сказал снова мягким, отеческим тоном:
— Разве не лучше рассказать сразу всю правду? Это может помочь. Вы хорошая девушка, признайтесь во всем. Ведь я же все вижу.
Девушка привстала, прижав руки к груди. Глаза ее расширились.
— Как? Неужели уже заметно?! — спросила она дрогнувшим от ужаса голосом.
Палму молчал, словно набрав в рот воды. Я решил, что он просто так закидывает удочку — на случай, если она что-нибудь скрывает.
— Вот что, — Палму покосился на меня, — этого бол… нашего командира то есть, стесняться не надо. Он человек бывалый, хотя это и не очень заметно. Мы все знаем.
И бедная девочка снова попалась. Она низко опустила голову и шепнула:
— Да, вы правы, господин… господин?..
— Комиссар Палму, — помог ей Палму.
— Да, комиссар, — заговорила она, — вы правильно догадались. П-поэтому я и заплакала, когда вы сказали, что я хорошая, порядочная девушка. Я… я дурная девушка. — Она подняла на нас глаза, стараясь держать себя в руках. — Но Вилле не виноват. Я сама должна была знать.
— Простите меня, деточка, — сказал Палму и принялся, не глядя на нее, старательно набивать трубку. — Я не хочу ни в кого бросать камень — нет, совсем нет! — но все же мне кажется, что Вилле тоже несколько виноват. Потому что для этого всегда требуются двое. Так мне по крайней мере говорили.
— Для чего требуются? — чуть не взвыл я, совершенно ошалевший.
Все-таки Палму мог бы относиться ко мне с большим вниманием! И что он имел в виду? Что девушка замешана в драке, что она тоже разбивала витрину?!
— Барышня Похъянвуори беременна, — отчеканил Палму. — Ты, конечно, будучи круглым идиотом, об этом не догадываешься. Какой у вас срок, деточка? И не надо смущаться, ничего тут постыдного нет, это дело естественное.
— Т-третий месяц, — призналась девушка, не в силах поднять на нас глаза.
— Да, эти июльские вечера, эти летние вечера в городе, — ностальгически произнес Палму. — Да, деточка, я нисколько не осуждаю вас. И Вилле тоже.
— Я сама должна была знать, — всхлипнула девушка, низко опустив голову.
Мы долго молчали. Наконец она снова подняла на нас глаза и сказала со спокойной уверенностью, как о неизбежном:
— Отец убьет меня.
— Ну-ну, — успокаивающе сказал Палму. — Если бы все убивали своих дочек, когда с ними приключаются такие истории, то род человеческий давно бы прекратился. Поверьте старому полицейскому, милая девочка. В самых лучших семьях…
— Вы не знаете моего отца, — упрямо возразила девушка.
Но тут, к счастью, бодро зазвонил в дверь Кокки, и я пошел открывать. В руках у него был здоровый пакет.
— Я добежал до гастронома, — запыхавшись, проговорил он. — Купил пончики, эклеры и еще языки — для вас, шеф. Вот, пожалуйста!
Машинально я взял у него пакет и начал выкладывать содержимое на тарелку. Среди этого изобилия бедная булочка выглядела особенно одиноко. Дурные предчувствия начали овладевать мной. Но Кокки истолковал мой мрачный вид по-своему.
— У меня осталось ровно три марки, — честно признался он, выгребая из кармана деньги. — Я в отличие от Ламберга человек бережливый, — добавил он с напускным смирением. — Денежки счет любят, а бережливого Бог бережет.
Девушка вынула из моих неловких рук пакет и занялась сервировкой сама.
Я с аппетитом съел оба языка. Палму съел два пончика. А Кокки умял все остальное. Девушка к еде не притронулась и только безучастно качала головой, когда мы наперебой пытались угощать ее. Я хорошо понимал, что ей сейчас не до еды. Кокки тоже все отлично понимал и поэтому под конец умял даже бедную булочку, спасая ее от одинокого засыхания.
— Ах да! — сказал Кокки, наблюдая, как девушка сцеживает нам последние капли кофе. — Там по рации вызывали руководителя группы, такой вой подняли, что этот фараон во дворе даже струхнул. В общем, что-то срочное. Насчет облавы в… Ой!!!
Кокки взвыл от меткого удара по голени. Палму был мастером такого удара.
— Какого ж черта ты молчишь! — заорал я и ринулся к двери.
Но Палму остановил меня.
— Всему свое время, — сказал он. — Будем делать все по очереди.
— Так вот, деточка, — спокойно произнес он, обращаясь к девушке, — ничего нет лучше, чем выговориться. Все устроится, потому что все устраивается в нашем старом мире. Тем или иным образом. Главное — никогда не отчаиваться… Значит, по-вашему, сюда приходил кто-то чужой?
— У меня просто такое ощущение, — попыталась она объяснить. — Как будто что-то не на месте. Но ведь дядя Фредрик сам мог передвинуть вещи. Я вчера вечером ужасно спешила и… нет, не знаю. Не могу сказать.
— А были ли у вашего дяди враги? — спросил Палму.
— Дядя Фредрик был самым добрым и хорошим человеком на свете, — снова начала девушка. — Я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь…
В дверь зазвонили. Резко и отрывисто. Два раза. На этот раз Палму удержал нас и пошел открывать сам. И через секунду вернулся, таща за лацканы пожилого оплывшего мужчину в черном пальто с потертым бархатным воротничком. Втащив его, Палму спокойно закрыл дверь.
— Что это значит?! — в ярости вопил господин — судя по внешнему виду, это был-таки господин. — Что вам надо? Почему там перед дверью полиция? И где этот мошенник, этот подлый негодяй? Нордберг, я имею в виду. И кто вы такие?
— Давайте начнем все же с вас, — мирно предложил Палму. — Кто вы такой и какое у вас дело к господину Нордбергу?
— Я — Мауну Кеттунен, если изволите знать, — представился гость.
Но мы знать не изволили. И он как будто слегка сконфузился.
— Филателист! — с достоинством пояснил он. — Я думал, что вы тоже. Но хочу вас предостеречь: Нордбергу доверять нельзя. Вчера вечером он абсолютно по-свински провел меня, то есть так… Я ему отдал «Цеппелина» с типографским браком, которого он у меня клянчил уже несколько лет, а взамен получил… — Он задохнулся, кровь купца бросилась ему в голову. — Нет, вы только подумайте, что он мне подсунул! Несколько марок было хороших, все в порядке. Но одна! С трещиной посредине! То есть не насквозь, но на просвет видно! Бракованная! Ни один уважающий себя коллекционер ее не только в коллекцию не возьмет, даже покупать не станет!
— Но я уверена, дядя не нарочно… — попыталась вступиться девушка.
Палму взглядом остановил ее.
— А когда, в какое время состоялся вчера ваш — гм — обмен? — спросил он.
— Около девяти, — ответил марочный делец. — То есть прямо перед тем, как дворник запер их подъезд. Я ведь долго колебался. А это предложение господин Нордберг сделал мне днем. Он зашел ко мне в лавку и сказал, что на следующий день собирается переезжать, и дал свой новый адрес. Ну и я просто так, шутки ради, предложил ему еще раз взглянуть на «Цеппелина» — уникальный экземпляр с типографским браком и без единого дефекта! Его цена растет с каждым годом. Тогда он мне и сказал, что намерен сузить свою коллекцию и отныне будет собирать только настоящие редкости, раритеты. И сразу же, не раздумывая, назвал мне те марки, которые готов поменять на «Цеппелина». Скажу вам по правде, господа, у меня просто дух захватило! Я ведь прекрасно знаю его коллекцию. Весьма, весьма недурна! Но мне и в голову не могло прийти, что он замыслил меня обмануть и решил подсунуть дефектную марку! Такого я и представить не мог!
— Когда вы ушли отсюда? — спросил Палму.
— Я пробыл у него с четверть часа, — засвидетельствовал филателист. — Нордберг был занят всякими предотъездными делами, да и никаких новых приобретений у него не было… А если и были, то мне он их не показал… Он спустился вместе со мной, чтобы открыть парадное. У них очень трудный замок.
— Его нужно открывать изнутри ключом, — вмешалась девушка. — В этом доме публика разношерстная. Поэтому дядя и решил переехать отсюда, как только появилась возможность. Но дядя вовсе не сторонился соседей. Наоборот. Его все любили. Ему никто ничего плохого не стал бы делать… — Она запнулась и испуганно прикрыла ладошкой рот, вспомнив. Не понимаю… — прошептала она.
Палму поторопился замять эту тему, чтобы девушка не сказала лишнего. И посмотрел на ноги Мауну Кеттунена. Я тоже уставился на них. И, разумеется, Кокки. Одна только девушка не могла понять, на что это мы так смотрим.
— Какие у вас маленькие ноги, господин Кеттунен, — наконец проговорил Палму.
— И руки, — с готовностью отозвался филателист, потирая от удовольствия свои ручки, в самом деле маленькие и поразительно белые.
На ногах у него были отличные кожаные ботинки, начищенные до зеркального блеска. Видно было, что обувь — предмет его особых забот. Что ж, у каждого свой пунктик. Палму так говорит.
— Вы вчера вечером были в этих же ботинках? — спросил Палму.
— Да, — подтвердил Кеттунен.
— А никакой ссоры у вас вчера вечером не возникло? С господином Нордбергом? — задал Палму следующий вопрос.
— Нет, конечно нет. А в чем дело? Мы расстались в полном согласии. Оба очень довольные обменом. — Его лицо помрачнело. — Я не мог даже предположить такого коварства! Я имею в виду — что он воспользуется моей доверчивостью и надует меня!
— Ну а эта ваша марка, насколько она ценная? Могли бы вы, скажем, убить господина Нордберга, заметив, что он вас обманул?
— Но дядя не мог… — начала было Саара Мария Похъянвуори, но осеклась, увидев испуганное лицо Кеттунена.
— Убить? — Тот даже отступил к стене и затравленно посмотрел вокруг. — Не-ет, я… я никогда еще не слышал, чтобы ф-филателисты убивали друг друга из-за марки. Нет! — Он немного успокоился, вытер пот со лба и почти обрел прежнее достоинство. Вот библиофилы другое дело. От них действительно можно ожидать чего угодно! — У него впервые начало закрадываться какое-то подозрение. — Полицейские перед дверью, — неуверенно проговорил он, как бы двигаясь на ощупь, — и вы тут… Кто вы, собственно, такие, раз вы не филателисты?
— Комиссар Палму, — представился Палму. — Это — командир группы по расследованию убийств. И Кокки — сыщик этой группы.
— Официальное название: группа, расследующая действия, направленные на нанесение оскорбления личности и на причинение телесных повре… — я не стал продолжать.
— Группа по у-бий-ствам? — Марочный делец побелел как полотно и схватился за сердце. — Вы хотите сказать, что… что господин Нордберг убит? Из-за этой моей марки с типографским браком, из-за «Цеппелина»?! Да нет, послушайте — это немыслимо! Мы, филателисты, так не поступаем…
— Ну что вы, мы и не имели в виду вас, — успокоил его Палму. — Вот что — запишите ваше имя в мою записную книжку. А также адрес и телефон, и можете быть свободны.
Филателист в мгновение ока записал свои данные и испарился. А комиссар как ни в чем не бывало вернулся к прерванной беседе.
— Итак, у вашего дяди врагов не было? — переспросил он девушку все тем же мягким тоном.
Бедная девушка сжала руки.
— Я не знаю, не верю… Никогда бы не подумала… Нет! Дядя наверняка сам ошибся — насчет этой марки.
— Ну хорошо. Пусть будет так. У вас все еще есть ключи от дома?
— Да-да, — закивала девушка и вынула из сумочки ключи. — Я же говорила: дядин дом был для меня прибежищем. — Она покраснела под испытующим взглядом Палму и опустила глаза. — Да, вы правы, — едва слышно сказала она. — Дядя позволял нам с Вилле здесь встречаться, иногда.
— И поздно вечером тоже, — утвердительно произнес Палму. — У вас, я вижу, ключ от парадного тоже есть.
— Вот поэтому, — всхлипнула девушка, — дядя говорил, что он тоже… тоже немного виноват. Дядя Фредрик был такой добрый! Поэтому он и купил кооперативную квартиру на улице Роз. Две комнаты с кухней. Чтобы мы там жили вместе, когда отец выгонит меня из дома. И — и Вилле тоже мог бы, если…
Ее голос прервался.
Комиссар Палму не стал больше мучать ее вопросами.
— Кокки! — приказал он. — Прогуляйся во двор и свяжись с Ламбергом, справься о ключах. А мне тут надо зайти…
Он смущенно кашлянул. Но девушка мгновенно поняла:
— В прихожей, первая дверь направо. Выключатель слева.
Она явно была вышколенной официанткой.
В прихожей Кокки придержал Палму.
— Какие ключи? Что за ключи, скажи Бога ради? — жалобно спросил он.
— Узнай, не нашли ли они вместе с бумажником и ключи господина Нордберга в той же урне среди мусора. Ясно? — нетерпеливо пояснил Палму. — Не задерживай меня! Этот проклятый кофе был слишком крепким…
Я почувствовал, что тоже не прочь последовать примеру Палму. Но он, приоткрыв дверь туалета, вдруг замер на пороге. Просто прирос к месту.
— Эй, Кокки, можешь пока никуда не ходить, — остановил он сыщика.
Я начал беспокоиться, как бы у Палму не случился удар: его лицо стало приобретать синеватый оттенок.
— Что, что с тобой? — схватил я его за руку, но он раздраженно вырвал ее.
— Проклятый старый дурак! Вот кто я такой, — пробормотал он. — Кокки! — Палму пронзил его взглядом. — Внутренний голос подсказывает мне, что ты можешь рассчитывать на повышение!
Кокки смущенно потупился и стал ковырять носком ботинка трещину в линолеуме, поддевая оторванный край.
— А за что? — осторожно осведомился он.
— За то, что ты заставил хозяйку положить по две ложки кофе на чашку, — последовал ничего не разъяснявший ответ.
Мы уставились на него, потеряв дар речи.
— Это всегда действует на мои почки, — нетерпеливо объяснил Палму, сердясь на нашу тупость. — Если бы не это, мне бы наверняка не пришло сейчас в голову… — Он повернулся к барышне Похъянвуори. — Простите за нескромный вопрос, но мне придется коснуться некоторых прозаических сторон жизни. Так вот: вы сегодня — гм — не посещали этот туалет?
Саара Похъянвуори отнеслась к вопросу совершенно спокойно.
— Нет. — Она мило тряхнула головой, так, что ее золотистые волосы взлетели вверх, и даже улыбнулась. — Мне не нужно было. В ванную заходила: я протирала полы, чтобы не оставлять здесь после себя слишком много грязи. Разумеется, потом я зашла бы и в туалет, чтобы помыть его…
— Спасибо, большое спасибо, милая девочка! — прочувствованно произнес Палму.
Мы все сгрудились в темной прихожей. В этом старом каменном доме туалет и ванная существовали раздельно, и в дверь туалета было вставлено цветное стекло. Все это меня по меньшей мере удивляло.
Вдруг девушка прикрыла ладошкой рот.
— Вспомнила! Вот сейчас вспомнила! — воскликнула она. — Я поняла, почему мне казалось, что в комнате что-то не так. Нет дядиного телескопа!
Мы все онемели. Секунд пять длилось молчание. Мне казалось, что я ослышался.
— Телескопа?! — наконец вырвался у меня вопль. — Едем! Скорее!
Глава пятая
Но мы никуда не поехали. Даже с места не двинулись, потому что Палму вцепился в мою руку мертвой хваткой, обеспечив мне тем самым второй долговременный синяк.
— Отставить! Не суетись! — рявкнул он, когда я попытался высвободить руку. — И добавил вежливо, вспомнив, что тут есть посторонние: — Командир.
Разумеется, для психоаналитика не составит труда объяснить, почему девушка вспомнила о телескопе именно в тот момент, когда Палму открыл дверь туалета. Я же не берусь. Я в этих делах полный профан. Девушка и сама представления не имела, почему так случилось. Равно как и я. Но позже я все-таки понял — когда мне объяснил Палму.
— Но мне необходимо срочно допросить задержанных в Пассаже!.. — сердито заявил я. — По горячим следам. А в клозет ты успеешь сходить в отделении.
Зато Кокки уже насторожился. Они с Палму быстро обменялись понимающими взглядами.
— Не суетись, — рассеянным тоном повторил Палму. — Посидят эти мальчики в КПЗ, остынут чуток. Ничего, кроме пользы, им от этого не будет.
Девушка опять побледнела. Даже губы у нее побелели.
— Пассаж… — повторила она. — Там в баре Вилле часто встречается со своими приятелями. Но ведь он не…
— Вряд ли, — усомнился Палму, занятый своими мыслями.
— Палму! — взмолился я. — Отпусти меня! Иди себе в клозет и мирно занимайся делом. А потом приедешь.
Но Палму вдруг необыкновенно оживился и даже заговорил в рифму.
— Если очень поспешишь, не получишь, котик, мышь! — назидательно произнес он. — Сколько раз я твердил тебе, что спешка в этом деле противопоказана! — Он осторожно открыл дверь туалета, словно ожидая взрыва бомбы. — Посмотрим! — проговорил он, стоя на пороге и нащупывая выключатель.
Лампочка в туалете была слабой, и ее свет только подчеркивал унылый вид облупленных старых стен. Зато тут было чисто. Пол опрятно застелен куском линолеума. На него Палму и таращился. Я тоже, конечно, посмотрел. И девушка. Но мы ничего не увидели.
— Дай-ка нам сюда света, Кокки, — бросил Палму.
Но Кокки, не дожидаясь указаний, уже полез в свою аварийную сумку и выудил оттуда одну из припасенных новых ламп — из-за всей этой кутерьмы я даже не мог вспомнить, как она называется. Осторожно опустившись перед дверью на колени, Кокки направил ослепительно яркий луч на кусок линолеума. И мы все отчетливо увидели крупные следы резиновых подошв, чуть-чуть перекрывающие друг друга.
Я имею в виду, что человек сначала вошел в туалет, а потом переступил с ноги на ногу. Но два следа, четкие и ясные, словно специально взятые из учебника по криминалистике, отпечатались отлично.
— Довольно крупный мужчина, — оценил Кокки тоном знатока. — Метр восемьдесят примерно. Резиновые подошвы — это и младенцу понятно. Ну, комиссар, поздравляю.
— Но ведь это могут быть следы самого господина Нордберга, — счел нужным предостеречь я. — Мы же не знаем.
Палму и даже Кокки посмотрели на меня с жалостью.
— У меня есть отпечатки его башмаков, — сказал Кокки.
— Вранье, — уличил его я. — Они еще лежат в пакете, в нашей машине.
— Да в голове! — Кокки постучал пальцем себе по лбу. — Они совершенно другие. И не на резиновой подошве.
— Так, Кокки, займешься этим, — решительно сказал Палму. — Но сам не возись, пусть пришлют фотографов. И запомни — важно все, до малейшего пятнышка. Стены, дверь, потолок. Вероятность перчаток мала — как правило, мужчины не расстегивают штаны в перчатках, это очень неудобно, тем более когда спешишь. А этот человек очень спешил.
— Знаешь что, дорогой Палму, ты, конечно, большой умник, — начал я, — но откуда ты можешь знать…
— А ты сам попробуй расстегнуть штаны в перчатках! — огрызнулся Палму.
Я смущенно покосился на девушку.
— Не забывай, что здесь дама, — предупредил я.
Но ему на это было наплевать. Впрочем, девушке, по-видимому, тоже.
— Кокки, ты остаешься тут за главного и смотри, чтоб ничего не испортили! А мы, то есть начальник и я, займемся другим — у нас есть очень спешное дело. Пусть полицейские пока затаскивают вещи обратно и расставляют все по местам. Барышня Похъянвуори проследит, чтобы все было в порядке. Мы вернемся, как только освободимся.
Девушка снова посмотрела на свои часики.
— Но мне нужно успеть на работу, — возразила она.
— Милая барышня, — дружелюбно сказал Палму, — мне не хочется быть жестоким, вы очень хрупкая, но вам все равно не избежать…
С этими словами он вынул из кармана сложенную газету и, раскрыв ее на первой странице, протянул девушке, прежде чем я успел вмешаться. Я бы, во всяком случае, вырвал фотографию с изуродованным лицом!
К счастью, девушка в обморок не упала. Она посмотрела все фотографии. Прочитала подписи и заметку — от начала до конца. Ее лицо застыло, губы плотно сжались.
— Понимаю, — дрожащим голосом сказала она. — Только теперь поняла.
— Я надеюсь, вы сделаете все возможное, чтобы убийцы вашего дяди получили по заслугам, — убежденно произнес Палму. — И в свете этого проблема вашей работы, согласитесь, отодвигается на второй план. Вам лучше будет остаться и помочь полиции расставить все вещи по местам — так, как вы помните. Я очень надеюсь на вас. А я позвоню в кафе и объясню вашей хозяйке ситуацию. Она скорее поверит, если позвоню я.
— Или я, — вставил я.
— Но… — снова попыталась возразить девушка.
— Ну-ну, — успокаивающе проговорил Палму. — Конечно, конечно: если Вилле звонил и что-нибудь передавал, я вам непременно сообщу. Сразу же. На этот счет можете не волноваться.
Но девушка после чтения ужасной газеты стала какой-то безучастной и вряд ли воспринимала все, что говорил Палму. Для меня же его утешения звучали издевательски: я понимал, что он просто хочет на время устранить девушку и первым добраться до этого Вилле, о котором у меня успело сложиться самое неблагоприятное впечатление. Настолько же плохое, насколько хорошее впечатление произвела на меня эта замечательная девушка.
— Так что никуда не отлучайтесь, — заключил Палму. — Сыщик Кокки несет ответственность и за это тоже. После того как полицейские расставят все вещи, в квартиру никто не должен входить. Никто. За исключением, разумеется, Вилле, если он вдруг все-таки объявится. Задержите его здесь до моего возвращения.
Последнее было произнесено обезоруживающе мягким тоном. Девушка дала Палму телефон кафе, и мы наконец ушли. На площадке одетые в форму полицейские браво откозыряли мне. Отличные ребята!
Правда, когда Палму дал им указание занести в дом все вещи со двора, я не заметил на их лицах особого энтузиазма.
— У всех, кто будет справляться о господине Нордберге или просто пытаться войти в квартиру, спрашивайте имя и адрес, — тихо пояснил Палму. — А если появится парень по имени Вилле он, я думаю, будет в кожаной куртке, как все битники, то его в квартиру впустите, но обратно не выпускайте.
Давая все эти указания, Палму то и дело поглядывал на толпившихся на лестнице соседок.
— Прошу прощения, уважаемые дамы, — обратился он к ним, нет ли среди вас живущих этажом ниже?
От группы неуверенно отделилась молодая особа, растрепанная и даже не удосужившаяся снять халат. Впрочем, в клубах табачного дыма я не мог хорошенько разглядеть ее.
— Ну? — хмуро сказала она. — Чего? Мы знать ничего не знаем.
Палму подошел к ней и прошептал что-то на ухо. Мне редко доводилось видеть такое изумление на лице у женщины. Я насторожился.
— Пошли, — коротко сказала она и двинулась вниз по лестнице, небрежно прихватив рукой распахивающиеся полы халата.
Чулок на ней не было. А на колене, как я успел заметить, красовался здоровый синяк.
Ее дверь была выкрашена в такой же зеленый цвет, как и дверь этажом выше. И была столь же невзрачной. А из квартиры слабо тянуло запахом щей. И вином. Впрочем, меня это не касалось. Но когда я попытался войти, Палму грудью преградил мне дорогу и, тесня меня, прошипел:
— Тебя здесь только не хватало!
И я остался на площадке. Дамское общество глазело на меня, широко разинув рот. Стояла мертвая тишина. И чувствовал я себя прескверно. Потом где-то врубили на полную катушку радио. Мы все вздрогнули.
По-моему, прошла вечность, прежде чем Палму вышел из квартиры и благодарно сказал женщине:
— Спасибо!
Женщина пригладила белесые вихры и широко улыбнулась — хорошей, искренней улыбкой. А потом закрыла дверь. Мы двинулись дальше. Дамы почтительно держались в стороне.
— Ну что? — с горькой иронией спросил я. — Клюнула?
— Кто? — спросил Палму. Но сразу догадался. — А-а! Да я в туалет ходил. Сказал ей, что мне невтерпеж. Это все черный кофе!
Мне захотелось побить его. Но самое неприятное заключалось в том, что при напоминании о туалете я мгновенно почувствовал острую нужду посетить это место. Кофе в самом деле был чересчур крепким. А ведь до него были еще две бутылки минеральной воды и бутылочка пива. Но я сжал зубы и решил терпеть. Полицейские должны уметь переносить лишения, такая у нас служба!
Забравшись в машину, Палму поднял стекло и приказал шоферу:
— Вызовите Ламберга.
— В Управление! — процедил я сквозь зубы.
Рация затарахтела. Опять дежурный, опять все то же. Я предоставил Палму вести переговоры. Ламберг просеял все мусорные ящики. Помимо бумажника были обнаружены: носовой платок, неполная пачка сигарет, спичечный коробок, проездной билет на трамвай с двумя неиспользованными поездками и очечник с очками. Ключей не было.
— Можете заканчивать с урнами и с прочесыванием, — объявил Палму. — Это приказ. Все найденное — командиру на стол. Срочно. Так быстро, как только сможете. Все. Отбой.
— Ключей, значит, нет, — выдавил я с трудом, но тут же стиснул зубы, и глаза у меня наполнились слезами.
— Ну и пусть, — равнодушно бросил Палму и пробурчал вполголоса, как бы разговаривая с собой: — Столько всего держать в голове! Старость приходит, рассеянность. Не то все. Только тем и утешаюсь, что самое существенное не должно забываться, а если забылось, значит, было несущественным.
Мы свернули на Софийскую улицу. Я пулей выскочил из машины, даже не сказав спасибо водителю. Палму милостиво указал на туалет в цокольном этаже и даже любезно подождал меня. Хорошо, что в коридоре не было ни души!
Когда я вернулся, то нашел Палму добродушно усмехающимся.
— Это тебе наглядный урок, — заметил он. — Кстати: ты, по-моему, что-то не так понял в этой истории с клозетом. Я уж не стал тебе при Кокки растолковывать. Это ведь азбучные истины, их каждый полицейский должен знать… Так вот, я не утверждаю, что там побывал именно убийца, но если это был он, значит, у него имелась серьезнейшая на то причина. Представь себе заядлого взломщика, который всякий раз так волнуется, что едва не накладывает в штаны. При этом он — закаленный в делах громила, мастер высокого класса. Как он поступит в таком случае? Наиболее вероятно, что он просто нагадит где-нибудь в углу комнаты. И не из злонамеренности или дурного воспитания — отнюдь! Впрочем, может быть, нынешние стиляги несколько более цивилизованны, не знаю. Но как ни крути, если ты только что насмерть забил человека, припрятал труп в кустах и отправился с его ключами обчищать квартиру, есть только один вариант, объясняющий, почему ты вваливаешься в клозет, оставляя следы и, может быть, отпечатки пальцев, а именно: что у тебя сильнейший понос. Я сам был дураком, не сообразил, что единственное место, которое необходимо осмотреть, — это туалет: в остальной части квартиры ходили и таскали вещи, да к тому же еще девушка мыла полы!
— Правильно, — согласился я, испытывая необычайную легкость во всем теле. — Я это проходил. Но как-то не подумал об этом.
— «Проходить» мало, это надо на собственной шкуре испытать, чтобы усвоить, — назидательно проговорил Палму. — Вот я, помнится, когда мальчишкой был…
Но ему не удалось продолжить свои детские воспоминания, потому что следом за нами в приемную коршуном влетел комиссар, проводивший облаву, и чуть не вцепился мне в горло. В общем, был близок к этому. По нему было видно, что он за все это время ни разу не присел.
— Как вы могли?! — заорал он. — Это непростительно! Почему вы не выходите на связь?! У вас же патрульная машина! А здесь восемнадцать буйных молодчиков в одной камере и двенадцать чувих в другой! И девки еще хуже парней, если такое возможно. Они разнесут все здание! Вы что, не слышите?
Из внутреннего дворика и в самом деле слышался приглушенный толстыми стенами рев.
— А вы их случайно не побили? — подозрительно спросил я. — Похоже на то.
— Я бы с удовольствием, — честно признался комиссар, и его голубые глаза решительно блеснули, — но я не мог, был же ваш приказ. Но если разрешите, можно окатить водой, тут есть пожарный шланг.
— Вы бы лучше им дали газету почитать, — вмешался Палму. — Это бы их скорее охладило.
— Правда? — изумленно сказал комиссар. — А то они все талдычат, что ничего плохого не делали. Верно, что ж это я не дал им газету-то? Надо дать… Вы лично будете вести допрос? — обратился он ко мне.
— Еще не знаю, — искренне ответил я и, вдруг вспомнив о деле, окрепшим голосом добавил: — Тащите-ка сюда этот телескоп, и побыстрее!
— Телескоп? — удивился комиссар. — Но ведь вы не приказывали забирать его. Только парней и девчонок.
Страшная догадка вдруг мелькнула у меня в голове. Я ухватился обеими руками за край стола, а в глазах у меня потемнело.
— Вы заявляете — вы хотите сказать, что вы… вы, — голос у меня сорвался, — не изъяли телескоп?! Главную улику?!!
— Но не было приказа! — Он еще оправдывался! — Вы сами ведь всегда твердите, что надо действовать согласно приказу, и только приказу…
Палму нетерпеливо перебил:
— Ладно, с этим можно подождать. Оставим до темноты. А там наш командир сам разберется со всеми звездами. Гороскопы составит. Если небо будет чистое.
Комиссар отступил на шаг и посмотрел на меня.
— Среди ребят владельца телескопа нет, — добавил он, как бы в свое оправдание. — Никто не знает, кто его принес. Они просто забавлялись с ним. И ничего дурного не делали. Даже не сломали его. И потом — там остался Кархунен. Он приглядит за телескопом, а если за ним придут, то Кархунен запишет имя и адрес.
У меня отлегло от сердца.
— Тогда другое дело! Может быть, действительно кто-то захочет его забрать. Посадите-ка там на всякий случай людей в штатском. И пусть сразу берут того, кто придет за телескопом. Это очень важно!
Палму одобрительно кивнул.
— Вы слышите, что вам приказывают? Это личный приказ нашего командира. Чрезвычайной важности.
— Понял. К телескопу — охрану в штатском, задержанным — газеты, — повторил для верности комиссар.
Он немного успокоился. Вообще, нервы у всех в этот проклятый день расходились. Ничего удивительного! Я посмотрел на часы. К моему величайшему изумлению, они показывали 15.45. Мы действовали очень энергично! Я приободрился и даже начал слегка восхищаться собой. Мы вошли в кабинет. На моем столе лежали груды бумаг и рапортов. При виде этого завала я прирос к месту.
Все подозрительное, что произошло вечером и ночью в городе, — напомнил Палму. И то, что успело произойти сегодня. Пока мы распивали кофе. С чего начнем?
Мне показалось, что он издевается.
— Ты начнешь! — сердито огрызнулся я. — Делай что-нибудь! Я руковожу. Ты действуешь — я отвечаю. Разделение труда!
Палму лениво уселся и закурил свою трубку, без особого интереса разглядывая бумажные кипы на моем столе.
— Гм! — хмыкнул он. — Не начать ли мне с рапорта о той истории в кафе, про которую рассказывала девушка? Пока я курю.
На меня тут же напала необоримая жажда деятельности, и я, как ищейка, бросился разрывать бумажную кучу, листочки так и полетели в разные стороны. Вот он! Я мгновенно пробежал его. Имена, прочие данные. Вилле Валконен, учащийся, 17 лет! Я не верил своим глазам.
— Боже мой! — возопил я. — Этот Вилле, ему семнадцать лет! Невероятно!
— Ну, может, он вполне развит для своих лет, — благожелательно заметил Палму. — Такие встречаются. Растут на улице. А город быстро старит, прежде времени. Люди еще и созреть не успевают… Многие, между прочим, так и остаются недорослями, если сами вовремя не спохватятся. А некоторым помогает хорошая встряска — от полиции, например. Впрочем, за нами в таких случаях неусыпно наблюдают попечители несовершеннолетних. А как они борются против применения наказаний! Просто львы! Только предупреждения! Желательно условные… Хотя иногда это бывает правильно. В определенном смысле. Как раз сегодня мне пришло это в голову. Бедняга Вилле.
— Бедная девочка! — воскликнул я, не в силах сдержать свое негодование. — Такая славная, милая. И какой-то верзила!
— Что ты о нем знаешь! — рассердился Палму. — Вот она знает. И понимает, чувствует. Значит, и у него есть свои достоинства. Ах да — надо ведь позвонить в кафе, сказать, что девушка не выйдет на работу.
Палму лениво потянулся за телефоном и начал набирать номер. В это время в дверь деловито постучали, и в кабинет ввалилась вся компания, нагруженная мешками с добычей, во главе с Ламбергом, несшим самые ценные трофеи.
— Тш-ш! — зашипел я, а Палму сердито махнул рукой.
— Ага, имею честь говорить с самой мадам? — сказал он. — Вас беспокоят из Полицейского управления. Комиссар Палму. Добрый день!
Ламберг сделал страшные глаза и, отчаянно жестикулируя, стал показывать, что у него нет ни секунды времени.
— Складывайте на стол, в угол — куда угодно! — шепотом распорядился я.
— Нет-нет, это не из-за вчерашнего происшествия, — продолжал в трубку Палму. — Да, конечно, весьма неприятно. Разумеется, накажем. Без сомнения. — Разговаривая, он рассеянно проглядывал рапорт, оставленный мною на столе: — Похоже, что вашему швейцару будет предъявлено обвинение в нанесении тяжелого увечья.
Я услышал на том конце провода взвившийся женский голос. Словесный поток был громким, быстрым и бурным. Палму отстранил от уха трубку. Получив наконец слово, он покладисто сказал:
— Да-да, конечно, скандалят и безобразничают, все ломают… А-а, вы уже читали вечернюю газету… Ну-ну, не все же они убийцы. Да. Вот по этому поводу я и звоню: барышня Похъянвуори сегодня на работу не выйдет. Она нам нужна как свидетель по очень важному делу.
Вздохнув, он снова отстранил трубку и терпеливо стал пережидать. Люди Ламберга сновали туда-сюда, пристраивая на полу свои пакеты. Палму наконец не выдержал.
— Какого черта! — рявкнул он. — Вы что мусор со всего парка сюда притащили?!
— Согласно приказу! — обиделся Ламберг, но мне показалось, что в его глазах мелькнул насмешливый огонек.
— Нет-нет, уважаемая госпожа, я не на вас кричу, — заверил Палму телефонную трубку. — Это у нас тут срочные дела, вы понимаете. Ваш случай будет беспристрастно расследован. Разумеется. Возмещение убытков и все прочее. Барышня Похъянвуори сама сообщит вам, когда выйдет на работу. Да, кстати: Вилле ничего ей не передавал? Ах, не звонил. Понятно. Всего доброго! — Палму положил трубку и отер пот со лба. — Не понимаю, почему этой даме не обслуживать кафе самой, — раздраженно сказал он. — Судя по ее напору, энергии у нее хватит на все. И на роль вышибалы тоже. Я раньше все удивлялся этим стилягам — почему им нравится ходить в такие места, где хозяева непрерывно зудят и капают им на мозги. Но ведь им, бедолагам, просто негде больше приткнуться!
— Почему же? Ведь есть молодежные кафе, клубы, кружки… — начал я.
Палму отмахнулся. У него никогда недоставало терпения выслушать чужое мнение, а сам он разводил свои занудные рассуждения, сколько было душе угодно.
— Комиссар Ламберг! Вынесите к черту всю эту помойку! Мне не нужно… нам здесь не нужно ничего, кроме бумажника и тех вещей, которые могли принадлежать господину Нордбергу, — сказал Палму. Лицо Ламберга приняло такое зловещее выражение, что Палму пошел на попятный. — Ладно! — великодушно продолжил он. — Оставьте мусор из той урны, где был бумажник. Но остальной хлам вынесите.
— Куда? — спросил Ламберг, косясь в мою сторону. — В архив?
— Куда угодно, — сказал Палму. — Есть же у нас печь для сжигания мусора!
Я поспешил вмешаться.
— Комиссар Палму просто неудачно пошутил, — торопливо сказал я. — Разумеется, вы можете оставить все, что считаете важным, что, как вам кажется, может послужить косвенными уликами. Я доверяю вашей способности критически оценивать ситуацию, комиссар Ламберг! Сам я в данный момент очень занят и не имею такой возможности. Но я благодарю вас и вашу группу за отменную работу. Спасибо!
Ламберг вывалил охапку хлама посреди комнаты.
— Это все проверено, — доложил он. — Отпечатков пальцев нет.
Он вытащил план и со зловредным видом расправил его у меня перед носом. Место той урны было обведено двумя кружками — красным и синим. Для пущей наглядности рядом была нарисована большая стрелка. Места остальных урн были помечены красным карандашом. Я мог заметить, что красно-синяя урна находилась сравнительно недалеко от того дерева, в которое врезались хулиганы на угнанной машине. Мы, кажется, проезжали мимо этого места. Да, точно: мы проехали совсем рядом, поднимаясь к Памятнику жертвам кораблекрушений.
— Спасибо! — еще раз поблагодарил я.
— Бумажник и остальные вещи, которые могли принадлежать жертве, еще в лаборатории, — пояснил Ламберг и добавил, поглядев на часы: — Их вот-вот принесут. Вообще-то уже должны были принести. Вместе с заключением по поводу отпечатков пальцев и прочего.
— Посмотрим, посмотрим, — сдержанно отозвался я.
Ламберг снова организовал своих людей, и они очистили кабинет от мусора так же молниеносно, как только что захламили его. Затем и Ламберг исчез. Мгновенно. Я поглядел на кучу на полу. Конечно, в ней не было ничего стоящего. Разумеется. Ламберг был человеком аккуратным.
В задумчивости я посмотрел на Палму. Он курил трубку.
— Ой, я забыл спросить про пластырь! — испугался я.
— Наверное, ни у кого его не оказалось, — заметил Палму, — иначе комиссар упомянул бы.
Я перебирал бумаги.
— Дорожно-транспортная группа получила очень приличные отпечатки пальцев, — поделился я сведениями. — Целых три. Отпечатки владельца исключены. Он был в ярости, что его так рано подняли. Но потом еще больше разъярился, когда узнал, что у него ночью увели машину, прямо от входной двери. Он вернулся домой около одиннадцати и поленился поставить машину в гараж.
Комиссар Палму выдохнул целое облако дыма.
— Вилле Валконен, — задумчиво сказал он, — наверняка это как-то связано с ним.
На моем столе зазвонил телефон. О-о, каким погребальным звоном, какой смертельной опасностью повеяло от этого звонка! Самые дурные предчувствия охватили меня.
— Ответь ты! — трусливо взмолился я.
— Ты же руководишь, ты за все и отвечаешь, — Палму указующе ткнул трубкой в телефон, довольный своей шуткой. — Вот и отвечай!
И я снял трубку. Это был не Вилле. Это был министр внутренних дел. Я ничего не мог с собой поделать и встал навытяжку. Нельзя сказать, чтобы министр был в плохом настроении. Нет, он просто справлялся, как продвигается дело. И напомнил о необходимости быстрых и действенных мер. А я не мог процитировать ему в назидание афоризм Палму про кота и мышь.
— Пострадавший опознан,---по всей форме доложил я. — В его квартире произведен осмотр, обнаружены следы чужой обуви. Прочесан Обсерваторский парк. Обнаружены предметы, принадлежавшие жертве. Проведена облава в Пассаже. Полагаю, что идем по верному следу. Мы действуем энергично, господин министр!
— Кстати, об этой облаве, — ласково проворковал министр. Я ни в коем случае не хочу вмешиваться в ваши служебные дела, но я бы хотел надеяться, что вы умело примените свою способность критически оценивать ситуацию. Мне только что звонил правительственный советник Сейткоски по поводу того, что его сын задержан полицией. Семиклассник. И среди задержанных есть еще два-три ученика из его школы. Надеюсь, вы меня понимаете, судья!
— Так точно, — отчеканил я еще суше. — Но у нас есть три отпечатка с угнанной машины. Хочу подчеркнуть, что если у меня будут веские основания…
— Ну разумеется, разумеется, — поспешно сказал министр. — Не стоит обижаться. Я только хотел сказать, что будет хорошо, если вы сочтете возможным отпустить мальчика сегодня к обеду.
Нет, министр не хотел обидеть меня. По крайней мере пока. Но еще меньше он хотел обидеть правительственного советника.
Я положил трубку и вытер лоб.
— Пошло-поехало, начали языками трепать, — сказал я. — Все кому не лень. Наши тузы. Правительственный советник. Пожаловался министру… А ты! — накинулся я на Палму. — На что ты меня вечно подбиваешь!
И тут я, к счастью, вспомнил о телескопе. Я же действовал на законных основаниях!
Я немедленно позвонил комиссару, проводившему облаву. И он добродушным тоном поведал, что страсти улеглись, что газета переходит из рук в руки и при этом царит гробовое молчание.
— Вызывайте парней. По одному. Сам я сейчас не могу, — сказал я, но, подумав, поправился: — Нет, сначала девушек. Будем учтивыми. Смотрите им в глаза, задавайте вопросы. У вас наметанный глаз. Не сомневаюсь, что вы отличите тех, кто врет или скрывает что-нибудь.
— И девиц тоже? — ужаснулся комиссар. — Да у них сам черт ничего не разберет! А у парней всегда что-нибудь такое на совести…
— На вашу ответственность, — безжалостно надавил я. — Беглый допрос. Чем короче, тем лучше. Что они знают о телескопе? Не видели ли чего-нибудь подозрительного, шатаясь там, вокруг Пассажа? Не видели ли у кого-нибудь пластыря на лице? Потом имя, адрес, чем занимаются родители и все такое прочее. И пусть катятся. Значит, по одному, всех по очереди. Да, еще! — спохватился я. — Если по поводу кого-то возникнут серьезные подозрения, снимите отпечатки пальцев и сравните с теми, что нашли в разбитой машине. В нашей картотеке их, насколько я понял, нет. Пригласите себе в помощь дактилоскописта, если придется проводить сравнительный анализ. И еще: там среди задержанных есть один малый, по фамилии Сейткоски, и парочка школьников. Вообще-то было бы хорошо, если бы вы вызвали их первыми. То есть не из пристрастного отношения — ни в коем случае, просто их родители очень беспокоятся. Их можно понять.
— Да, — отозвался комиссар, но тон его мне совсем не понравился.
Я закончил, и Палму принялся рассуждать вслух:
— Предположим, что парень, укравший телескоп, притащил его во двор Пассажа, чтобы похвастаться перед приятелями.
— Украл откуда? — спросил я.
— Но ты же видел вмятины в песке возле Памятника! Это следы от штатива, — терпеливо объяснил мне Палму, словно ребенку. — Старый Нордберг наблюдал за звездами… Ну же: астрология, гороскопы.
— Ты считаешь… — У меня мороз пробежал по коже.
— Я ничего не считаю, пока у меня нет надежных свидетельств и фактов, — отрезал Палму. — У меня не такое богатое воображение, как у тебя. К счастью. Но я готов предположить, что парень, выскочивший из машины после аварии, мог в панике помчаться вверх по холму, а там — там польститься на этот телескоп.
— Но ведь это невероятно: чтобы мальчишка был таким отъявленным негодяем, таким потерявшим человеческий облик злодеем! Чтобы он, только что убив человека, отправился похваляться своим трофеем! — недоверчиво воскликнул я.
— Конечно, — решительно сказал Палму. — В том-то и вся странность этого случая. Но представим ситуацию дальше: парень прочитал газету — ну, из любопытства, чтобы узнать, нет ли там чего-нибудь о его ночной аварии, и вдруг — вдруг все осознал. Что он натворил…
— Испугался и решил спрятаться, — продолжил я. — Бросить свой трофей и забиться в какую-нибудь ближайшую нору.
Зазвонил телефон.
— Говорит констебль из полиции порядка, — отрекомендовался грубоватый голос. — Было приказано сообщать обо всем подозрительном. Так вот, я дежурю на вокзале, и ко мне обратилась служительница из общественного туалета, сказала, что в мужском отделении закрылся какой-то парень. Сделал что-то такое с замком, и дверь нельзя открыть. Служительница думала сначала, что он просто незаметно улизнул, но потом услышала, что он там плачет, в туалете.
— Плачет в туалете, — повторил я, и Палму быстро вскинул голову.
— Я пошел взглянуть, — продолжал полицейский, — подергал дверь, но парень не открыл. Затаился там, как мышь. Даже ноги поднял на сиденье, чтобы его в щель под дверью не было видно. Ну, мне и пришлось высадить ту дверь. Парень длинный, тощий, морда вся зареванная, хотя в кожаной куртке и всем таком…
— Где он сейчас? — полюбопытствовал я, глядя в напряженное лицо Палму.
Полицейский замялся.
— Тут я маху дал. Мне показалось, что он вроде ничего… Подумал, не стоит зря суровость проявлять. В общем, на мосту он у меня вырвался и побежал к платформе, где поезд как раз подходил. И… и, в общем, попытался прыгнуть под поезд. Его кто-то успел перехватить, ну и я сразу подбежал. Но он дрался и отбивался, ревел даже. А потом я его увел. Я бы его за уши отодрал, если бы сам так не струхнул. Ну вот, теперь он у меня здесь, на вокзале, в предварилке сидит. Я сразу вам позвонил, как было приказано.
— Правильно поступили, — похвалил я.
Странное чувство торжества охватило меня. На Палму я мог и не смотреть.
— Его имя Вилле Валконен, семнадцать лет, учащийся? — спросил я самым естественным тоном, стараясь выдержать нейтральную интонацию, хотя искушение было велико.
В телефоне послышалось удивленное пыхтенье.
— Как вы догадались?! — изумленно воскликнул констебль, и в голосе его послышалось уважение. — Это… это здорово! Надо рассказать нашим. Я и не догадывался, что вы у нас ясновидящий!
Я прервал его болтовню.
— Вызовите ближайший патруль и отправьте с ними парня, пусть доставят прямо ко мне, — приказал я. — Без сирен. И без наручников. Но — чтобы не убежал! Предупредите патрульных, что они за него отвечают.
— Ясно, — отозвался тот. — Сделаем в лучшем виде. И — на всякий случай — моя фамилия Лайтинен, старший констебль. Надеюсь, не забудете.
— Лайтинен, — повторил я. — Запомни, Палму! — Я положил трубку. — Парень плакал в туалете и пытался прыгнуть под поезд. Дело начинает проясняться!
— Я же тебе говорил: ты о Вилле ничего не знаешь! — назидательно проговорил Палму (конечно, ему было завидно, что я поймал Вилле). — Когда твоя девушка на третьем месяце, а тебе только семнадцать, и ты еще учишься… А тут еще эта витрина, которую ты нечаянно разбил и за которую теперь должен платить, и машина, по-видимому тобой угнанная и разбитая, и еще ты стащил у старика телескоп, а его труп обнаружили утром в кустах — наверно, и тебе захотелось бы от всего этого кинуться под поезд!
— Может быть, — кивнул я. — Но сейчас мне хочется посмотреть на ботинки Вилле.
В дверь постучали. Курьер принес из лаборатории вещи Фредрика Нордберга и заключение. Из любопытства я сначала вытащил бумажник. Потертый бумажник самого жалкого вида из коричневой кожи. Денег не было, зато в нем лежал тонкий пластиковый футлярчик, аккуратно положенный на место после снятия отпечатков пальцев.
Палму заинтересовался, подошел поближе и, вытянув шею, поглядел мне через плечо.
— Ага, вот она! — сказал он. — Сокровище филателиста Кеттунена.
Действительно, это была та самая марка. Редкость из редкостей — финский типографский брак. Выпущенная в честь прилета графа Цеппелина в Хельсинки.
— Странно, — удивился я, — если деньги вытащили, то почему оставили марку? Она же очень ценная.
— Трудно продать! — сообразил Палму.
К моему великому неудовольствию, он опять выбил трубку о каблук, высыпав золу на пол. Меня огорчало, разумеется, не это, а то, что пагубная привычка рано или поздно отразится на его здоровье!
— Впрочем, — продолжал он, не обращая внимания на мой укоризненный взгляд, — вряд ли убийца долго раздумывал на эту тему. Просто выкинул все в ближайшую урну.
Он самовольно начал сортировать предметы на моем столе — открытую пачку сигарет, пять окурков, носовой платок и прочее, и прочее. Я же поспешил ознакомиться с заключением. Отпечатки пальцев, по-видимому, владельца. Какое-то неодобрение, укор читались между строк, и я вспомнил, что Кокки так и не успел сдать отпечатки пальцев жертвы в картотеку. Но — я даже подпрыгнул — на пластиковом футляре обнаружены: след большого пальца на одной стороне и указательного и среднего пальцев на другой. Следы отчетливые, свежие, легкочитаемые и не принадлежащие владельцу! Что и засвидетельствовано на прилагаемом снимке.
— Все отлично, лучше и быть не может! — ликуя, воскликнул я.
Палму отобрал у меня заключение и прочитал.
— Слишком все хорошо! — недоверчиво сказал он. — Так не бывает.
С лихорадочной поспешностью я выудил рапорт дорожно-транспортной группы и сравнил отпечатки пальцев. Даже без лупы, невооруженным глазом можно было заметить общие характерные признаки у отпечатков большого пальца там и здесь.
— Палму, — проговорил я дрогнувшим голосом, — может быть… может, я все-таки не такой уж неудачник? Может быть, мы еще поедем в Копенгаген!
— Наберись терпения и дождись Вилле, — заметил озабоченно Палму — разумеется, из зависти!
— Мы собираемся закупить целый самолет… — мечтательно сказал я. В голове у меня царила полная неразбериха. Но все же, все же — это было первое дело, которое я провел совершенно самостоятельно. Поэтому мне были понятны чувства Палму, и я хотел проявить великодушие. Я похлопал его по плечу. — Ничего, старина, — постарался утешить его я. — Конечно, ты стареешь, и тебе иногда трудно действовать энергично — как требовалось сегодня. Но ты всегда должен помнить, что я высоко ценю твой опыт. И я никогда не забуду…
В это мгновение толчком распахнулась дверь. И вошел Вилле, зажатый с боков запыхавшимися полицейскими. Ребята из патруля поднимались по лестнице бегом. Их лица горели любопытством. Констебль Лайтинен явно поведал им о моем ясновидении.
Но когда я взглянул на Вилле, мое настроение упало. Нет, на вид он был вполне ничего. Неплохое лицо. Тщедушный, долговязый, выше метра восьмидесяти. Я взглянул на его поношенные башмаки — конечно, на резиновой подошве. Все было ясно — хотя я и не мог, как Кокки, похвастаться фотографической памятью. На лице Вилле были видны грязные разводы от слез. Но сейчас парень стоял, стиснув зубы, и исподлобья угрюмо смотрел на меня.
— А-а! Ну здравствуй, Вилле, — будничным голосом произнес Палму и подал ему руку.
Тот растерялся и неуверенно протянул свою.
— Мы тут все ждали, когда ты наконец появишься, — благодушествовал Палму. — Только, знаешь, сначала тебе хорошо бы умыться.
— И хорошенько вымыть руки, — добавил я. — Чтобы отпечатки пальцев были четкими.
Патрульные полицейские поглядели на меня с уважением.
— Я не делал этого! — вдруг выкрикнул он. — Я не убивал дядю Фредрика!
Он закрыл лицо локтем и разрыдался. Смотреть на это было не очень приятно. У парня, понятно, сдали нервы. Я заметил, что ворот его дешевой кожаной куртки порван.
— Никто тебя и не обвиняет, — к моему изумлению, сказал Палму, — по крайней мере пока.
Но я решил приняться за дело самолично. Воображение у меня работало на полную катушку. У всех, вероятно, бывают такие мгновения, когда перед мысленным взором с необычайной ясностью вдруг предстает вся картина. К тому же восхищенные глаза патрульных внушали мне отвагу и побуждали к действию. А когда у меня в голове начинается мыслительный процесс, то он идет очень быстро. Даже иногда — признаюсь — чересчур быстро.
— Да, пока что поговорим об аварии, — сказал я. — И не стоит зря тратить время, Вилле. Давай сразу: имена тех, кто там был. Мы знаем, что вас было трое.
Голова парня взметнулась. Подбородок упрямо выпятился, но губы дрожали.
— Я своих друзей не выдаю! — срывающимся голосом выкрикнул он. — Хоть убейте, не выдам!
— Тебе не нужно никого выдавать, — заверил я. — Это обычное дело, и для всех вас будет лучше, если твои приятели честно и добровольно явятся в полицию. Автомобильная кра… угон не является тяжелым преступлением. Такое случается каждую ночь. А тебе пока только семнадцать лет…
— Да мне уже послезавтра исполнится восемнадцать! — гордо заявил Вилле и еще выше поднял подбородок; глаза его метали молнии.
— Весы, — вполголоса заметил Палму.
Я не очень понял, что он хотел этим сказать. На кого намекал — на Вилле? Но Вилле понял.
— А что Весы? Что в них плохого? — вскинулся он. — У родившихся под этим знаком может быть счастливая судьба. И дядя Фредрик всегда…
Я понял, что они хотят увести разговор от главного, и поэтому начали болтать об астрологии. Но с меня было довольно, я за день уже порядочно наслушался пустословия, на которое так горазд Палму. И я хрястнул кулаком по столу.
— Молчать! — загремел я. — И ты тоже, Палму! У нас тут важное дело!
Парень подскочил от испуга. А Палму смиренно сказал:
— Прошу прощения!
Но я уже дорвался! Воля к власти пьянила меня и кружила голову.
— Вилле! — сказал я. — Очень возможно, что ты вполне добропорядочный молодой человек и что твои приятели — отличные люди и верные друзья. Может быть, не знаю. Но лучше всего, если они явятся добровольно. Это учитывается как смягчающее вину обстоятельство. А в данном случае — особенно. Это я тебе заявляю со всей ответственностью, как юрист, как судья. Может так случиться, что вы вообще отделаетесь легким испугом. — Я уставился на него своим натренированным гипнотизирующим взглядом и глухим голосом — только для очистки совести — предупредил: — Я имею в виду аварию.
— Я ничего не знаю, — ответил Вилле, явно колеблясь.
— Вот телефон, — решительным тоном произнес я и, отступив к столу, ткнул пальцем в аппарат, — звони и выясняй. Никто за тобой следить не будет. Все могут выйти из комнаты. Останусь только я. Чтобы ты не вздумал сигануть из окна. Но я встану в том углу к тебе спиной.
Взгляд Вилле с тоской бродил по комнате. Я видел, что он лихорадочно ищет выхода, но придумать ничего не может, и голова его идет кругом. Я торжествовал победу. А ведь я совсем не знал, есть ли у его приятелей телефон. Бил, можно сказать, вслепую.
— Если твои приятели откажутся прийти добровольно, — продолжал я наступление, — что ж, пусть не идут. Я не собираюсь делать из тебя доносчика. Никто тебя не принуждает. Мы их и так поймаем, своими силами. Только на это потребуется больше времени.
— Ну да, я наберу номер, — подозрительно сказал Вилле, — а ваша служба его запомнит и возьмет на учет. Не такой я дурак, как вы думаете. Хоть я и простой чувак.
— Вилле, — попытался объяснить я, — вот два аппарата. Один работает через коммутатор, то есть соединяется с городом через наш телефонный узел, другой связан с городом напрямую. Проверь сам. И подумай: как можно запомнить номер, если ты будешь звонить по прямому телефону, а я буду стоять спиной к тебе в дальнем углу! Это технически невозможно. Может быть, ты окажешься настолько сообразительным чуваком, что поймешь это.
Нехотя, как бы против воли Вилле шагнул к столу и с недоверием поднял телефонную трубку. В трубке раздался голос телефонистки. Он взялся за другую трубку и поднес ее к уху. Там послышался знакомый обычный гудок. Все еще недоверчиво парень взглянул на меня. Жестом я приказал полицейским выйти из комнаты. Вместе с Палму. Железо нужно ковать, пока горячо. Сам я отошел в угол и повернулся к Вилле спиной.
Без сомнения, он мог бесшумно подкрасться на своих резиновых подошвах и размозжить мне голову. Или вывалиться в окно, вместе с рамой… С третьего этажа. Что ж, приходилось рисковать. Признаюсь, я весь взмок от напряжения, пока ждал, удастся ли моя затея. В полной тишине я слушал непрерывный телефонный гудок. Наконец очень медленно и осторожно Вилле набрал номер. Победное ликование переполняло меня.
— Алло, это Вилле, — хрипло зашептал он, ребячески полагая, что, понизив голос, он спасает положение. — Арска дома? Ну как он, к телефону может подойти? Очень надо. Пусть подойдет, позовите его.
Последовала длительная пауза. Потом Вилле оживился:
— Арска, привет, это Вилле. Что, очень болит? Слушай. Я тут попался… Ага, в полиции. Я из кабинета одного… Да нет, Арска, не сбрендил. Я тут один в комнате и звоню по прямому проводу. Просто они тут гнут, что лучше будет, если ты тоже придешь… Ну, чтобы добровольно… Да ты что — я расколюсь?! Ты же меня знаешь: я чувак крепкий! Чтоб я друзей закладывал… Да не начинай ты сразу орать! Ты ж не знаешь, мы ведь несовершеннолетние, а у них тут такая дур… дерьмовая история, что по сравнению с ней наша авария вообще плевое дело. Может, ты видел, в вечерней газете было… Ну да, вместе с Кайей, она же тоже с нами была.
Вилле затих и стал молча слушать. Сначала он как будто оробел, но потом разозлился и, когда его приятель замолк, заорал в трубку:
— Ты на меня не ори, Арска. Ори на себя! Зачем я только тебя за баранку пустил! Я бы эту колымагу пригнал к утру на место! Это ты перед Кайей кренделя выписывал! Ага, ага, пошел ты сам в это место, вместе с Кайей!.. Ну и нечего лаяться! — Он снова стал слушать, потом продолжил: — Да не говорил я ничего. И не скажу, пусть хоть режут. Только у них тут свои всякие штуки. Они говорят, что тебе недолго гулять, они сами тебя отловят. Угу. Нет, ты не знаешь. Ихний начальник — это такой тип — он мое имя заранее знал, как только меня сцапали… Да нет, они не орут. Пока еще не орали… Ну, как знаешь. Дело твое, не хочешь — не надо. А я умываю руки. Все, пока.
Вилле Валконен положил трубку, и я медленно повернулся к нему лицом. Он смотрел на меня с виноватым видом.
— Не хочет добровольно, — объяснил он. — Я хотел как лучше, но он не хочет. Он такой — крепкий парень.
— Я знаю, — сказал я. — Ведь это он приложил вчера резиновой дубинкой швейцара, когда вы витрину разгрохали?
Вилле изумленно глядел на меня. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но тут же закрыл его и угрюмо выдавил:
— Я ничего говорить не буду. — Однако не выдержал и с тайным восхищением спросил: — Но откуда вы и это знаете? Ведь Арска с Ка… со своей девчонкой успели смыться. Один я отдувался, как козел… Я про стекло говорю. Меня ведь кто-то нарочно пихнул на него.
— Значит, Арска из тех чуваков, которые бросают друзей в беде, — задумчиво сказал я.
Вилле снова обозлился.
— Все! Нечего мне лапшу на уши вешать. Я больше ничего не скажу. Я сам за все, что сделал, отвечу, а друзей выдавать не буду!
— Что ж, придется принять свои меры, — безразличным тоном сказал я. — Раз твой приятель — крепкий парень, что ж, пусть будет так. Но мы посмотрим, надолго ли хватит его крепости, когда за него возьмусь я. Посмотрим на него тогда. А ты, конечно, ответишь за свои дела, не за его. Я старался для его же блага!
Я открыл дверь, поманил Палму и патрульных.
— Заберешь парня, — величественно распорядился я. — Пусть умоется. И переоденется. Надеюсь, ты меня понимаешь. Не забудьте о ботинках.
— Все понятно, — сказал Палму, низко кланяясь. — Пошли, Вилле.
— Допрос возобновится через десять минут, — строго предупредил я, взглянув на часы — они показывали 16.48. — Вернетесь сюда. Ты справишься один или потребуется помощь?
— Да нет, мы справимся, правда, Вилле? — отеческим тоном произнес Палму.
Патрульных я задержал и, когда Палму ушел, дал им парочку указаний. И сразу начал торопливо разбирать на столе бумаги.
Но опять зазвонил телефон. Тот, который через коммутатор.
— Слушаю. — Спокойно поднял я трубку.
— Храни тебя Господь! Да благословит Он труды твои, судья! — постным голосом пропел мне в ухо какой-то незнакомец.
— Благодарю, благодарю, — машинально сказал я, но, опомнившись, громко спросил: — Кто говорит?!
— Один из малых сих, — представился голос. — Портной Похъянвуори, если позволите. Давеча газетку мне дали, для прочтения — так-то у меня этого в обычае нет — мирской писанины. Грех это и искушение, великий соблазн в мире сем. Так вот: сподобился я узнать, что мой несчастный покойный брат получил воздаяние по делам своим. Его богопротивные занятия…
— Опознание проведено, — нетерпеливо сказал я, покосившись на список звонивших. — У нас уже сорок два заявления по этому поводу. Если у вас нет никаких других вопросов или дел…
— Есть, есть у меня, — поспешно ответил голос. — Богоугодное дело!
— Хорошо, но этим мы займемся позже. Сейчас у меня более срочное…
— Ничего более срочного не бывает! — трубно возвестил портной. — Каждого из нас могут призвать во всякий час. Так случилось с моим покойным братом. Так может случиться и с вами, судья!
— Конечно, конечно, — согласился я, ничего не понимая. — В чем же состоит ваше дело?
— Я — единственный законный наследник, — обратившись к земным делам, голос сразу изменился. — После кончины брата я остаюсь единственным представителем нашего рода. Это дает мне право обратиться к вам, судья, с просьбой — позволить мне взять на свое попечение имущество покойного и составить опись наследуемого. На протяжении многих лет я не поддерживал отношений с братом, ибо он служил Сатане и потворствовал греховным страстям, я же служил Господу Богу нашему! Тем не менее я осведомлен, что он имел в своем владении квартиру, в коей обитал. Наше малое стадо остро нуждается в сбирании положенной нам десятины, ибо прозябает в отдалении от своих пастырей и главных управителей.
— Знаете что, господин Похъянвуори, — сказал я, — по-моему, это чересчур. Тело вашего погибшего брата еще не успело остыть, а вы уже торопитесь его обобрать, как какой-нибудь кладбищенский разбойник!
Признаю, что мое поведение несколько выходило за рамки приличий, но все-таки, по-моему, было простительно.
— Надо торопиться делать богоугодные дела! — загремел голос — Грядут последние дни! Оглянитесь, судья: брань, беззакония, антихристы. И горстка истинно верующих! Земля распадается, и стихии рушатся…
Я героически сохранял самообладание. Спорить не имело смысла.
— Без сомнения, — покладисто заметил я. — Но пока расследование не завершено, никто из посторонних не может иметь доступ к наследуемому имуществу покойного. Я незамедлительно поставлю вас в известность, когда потребуется составить опись имущества. Будьте любезны, ваш адрес и телефон.
С радостной готовностью портной Похъянвуори продиктовал то и другое. И даже по-христиански простил мне мой тон.
С нетерпением я посмотрел на часы. Десять минут уже истекали, когда явились они — Палму и Вилле. Парня обрядили в костюм с чужого плеча, болтавшийся на нем, как на вешалке. Это значило, что его одежда и обувь уже отправлены на экспертизу. На штанинах и на обшлагах могла быть кровь. А к ботинкам могли пристать ворсинки от одежды господина Нордберга. Последствия зверского избиения.
С безучастным видом Палму положил передо мной карточку с отпечатками пальцев. Это были его лапищи, Вилле. Узор большого пальца совершенно совпадал с теми отпечатками — на разбитой машине и на пластиковом футлярчике найденного бумажника.
— Так-так, дело плохо, совсем плохо, — задумчиво проговорил я и снова взглянул на часы.
В ту же минуту в приемной послышались возня и женский визг, и в кабинет ворвались патрульные полицейские, разгоряченные, торжествующие. Один из них подталкивал в плечо толстого парня, весьма противного вида, с физиономией, чуть ли не целиком залепленной пластырем, а второй тащил брыкающуюся, вопящую и царапающуюся девицу.
— Спасибо! — тепло поблагодарил я патрульных.
На Палму я даже не посмотрел.
— Привет, Арска, привет, Кайя, — спокойно поздоровался я с ними и дружелюбно кивнул. — Добро пожаловать!
Глава шестая
Арска тут же попытался вырваться из рук полицейского и вцепиться в Вилле. А тот смотрел на него, не веря своим глазам.
— Сволочь, стукач! — взревел Арска. — Шкура продажная! Друзей закладывать!
— Я… я не закладывал! — У Вилле дрогнул голос.
— Молчать, Арска! — приказал я, предупреждая более крутые меры, которые готов был применить патруль. Но Арске и без того приходилось худо: он держался за ребра и протяжно стонал. — Вилле не давал никаких показаний, — заверил я его; полицейские бодро закивали, подтверждая мои слова, и Палму тоже энергично затряс головой. — Вилле был тверд, как скала. Из него нельзя вытянуть ни слова. Я же искренне хотел дать вам шанс — явиться добровольно с повинной. Для вашего же блага. Но теперь о снисхождении речи нет. Вы можете убедиться, что у нас в полиции есть свои способы находить людей.
— Это точно, — с чувством подтвердил патрульный. — Я прямо не поверил, вы будто сквозь стены видите…
— Отставить, — сказал я, но не очень сурово, пожалуй, даже мягко. Мне было приятно, что теперь обо мне будут рассказывать еще одну героическую историю. Я бросил взгляд на Палму. Вид у него, надо сказать, был сконфуженный. Ученик обставил учителя! Ничего, поделом ему.
Арска тем временем изменил тактику: вовсю стонал, жаловался на боль в сердце, держался за ребра и охал.
— Ой-ой-ой, что ж это за жизнь — больного человека из постели вытаскивают и сразу в тюрягу! Вот помру от такого обращения, отвечать будете, — ныл он.
— Если и помрешь, то не от этого, — спокойно заметил я.
Один из патрульных стал докладывать:
— Да ведь он уже и штаны, и рубашку успел натянуть, куртку надевал. Если б мы чуть-чуть позже приехали, то их бы уже и след простыл. Как тут не признать: наш командир все наперед видит!..
Я прервал этот не относящийся к делу разговор:
— По существу, пожалуйста.
— Да мы собирались с Кайей на дачу смотаться! На уик-энд, — сообщил Арска страдальческим голосом.
— Ага, я обещала поухаживать за ним, подлечить, — вступила в разговор Кайя — девица с немытыми патлами, свисающими на спину, в свитере и давно не стиранных брюках-дудочках.
Сначала я подумал, что ей не больше пятнадцати. Но, скользнув взглядом по тугому свитеру, понял, что цифру занижаю.
— А легавый сразу кинулся на Арску как психованный, — визгливо наябедничала девица. — Они дрались, пинали Арску и…
— Вранье — от первого до последнего слова! — в один голос объявили полицейские. — Этот парень сам брыкался. И родители поначалу стали шуметь, но потом успокоились. Мы им сразу объяснили, что они могут звонить в Управление, если есть жалобы.
И тут зазвонил телефон. Но это оказалась не мать Арски.
— Докладывает Тяхтинен, — четко проговорил голос (один из моих людей!). — Комиссар Палму приказал докладывать лично вам. Прошлой ночью, около часу, в поликлинику Красного Креста пришел некий молодой человек с резаными ранами на лице и двумя сломанными ребрами. Дежурный врач наложил швы, заклеил их пластырем и наложил тугую повязку на ребра. Парень объяснил, что споткнулся дома и упал на стеклянную дверь. Пьян не был, поэтому его отпустили домой, назначив лечение в течение пяти дней. Его имя…
— Аарне Каски, — перебил его я. — Адрес: улица Лийсы, восемьдесят два С. Спасибо. Уже знаю.
Я услышал удивленный возглас на том конце провода, хотя Тяхтинен всегда отличался своей флегматичностью. В нашем Управлении слухи разносились со скоростью ветра. Так что моя слава росла как на дрожжах.
— Понятно, — с уважением произнес Тяхтинен и добавил извиняющимся тоном: — Я только потому докладываю, что комиссар Палму распорядился.
Понятно, Палму подключил его, пока Вилле переодевался. Но сейчас я не смотрел в его сторону. Я буравил глазами Арску.
— Ну что, Арска, споткнулся, на стеклянную дверь упал? — насмешливо спросил я.
— Угу, и мне велели пять дней лежать, — нагло заявил толстяк.
Весьма вероятно, что он ночью и в самом деле приплелся домой, спотыкаясь, и, пока родители спали, нарочно раскокал какую-нибудь дверь. Кто знает, может, он и в самом деле был такой пройдоха. Но выяснять это у меня не было ни малейшего желания.
— Все отпечатки пальцев у нас имеются, — объявил я. — Отпечатки Вилле в разбитой машине и… ну да, в машине, уже идентифицированы. Вот они. Теперь мы возьмем отпечатки у вас. Или, может, сразу признаетесь?
В жестком взгляде Арски появилась растерянность. Он взглянул на Кайю, но от нее сейчас толку было мало.
— Так, значит, — медленно проговорил он. — Что же, раз Вилле оказался таким лопухом, что попался, могу и признаться. Только рулил-то он, Вилле!
— Рулил, но не на дерево же! — вспыхнул Вилле. — А кто вцепился потом в баранку и отпихнул меня? Откуда мне было знать, что ты такой кретин — водить не умеешь?!
Палму решил вмешаться в разгорающийся спор.
— Снимем-ка пока отпечатки, — распорядился он, поглядев в мою сторону.
Что ж, каждый развлекается, как может: я Палму усмирил и был им вполне доволен, так что, если теперь ему захотелось немного поважничать, я ничего против не имел.
— Хорошо, но тогда смените одежду и обувь, — приказал я. — Так же, как Вилле. А побеседовать мы еще успеем.
Я всегда любил ковать железо, пока горячо, но в данном случае девицу следовало допросить без Арски. Да и ребята из патруля начинали проявлять нетерпение — радиофицированные машины у нас на вес золота, тем более в субботний вечер. Поэтому я вызвал двух других полицейских, а этих отпустил. Разумеется, поблагодарив их должным образом за отличную службу.
— Можете по дороге зайти в буфет, выпить кофейку, — как бы между прочим предложил им я. (Я не возражал, чтобы у наших сказителей в буфете появился новый материал о моих подвигах.)
Один из полицейских вместе с Палму потащил Арску, который начал было энергично отбиваться, совершенно забыв о своих травмированных ребрах. Не исключено, что он просто не любил мыть руки.
Второй полицейский встал у двери в приемной. Чтобы нам не мешали, а не потому, что я опасался девицы.
Но я ее недооценил. Как только все ушли и в углу остался один лишь обалдевший Вилле, девица решила изменить тактику и быстро протиснулась ко мне за письменный стол.
— Миленький, чудненький констебль, — замурлыкала она, вжимаясь грудью в мое плечо.
Лифчик она, очевидно, полагала лишней деталью туалета. Это прощупывалось взглядом. Но на мой счет она ошибалась.
— Я здесь самый главный командир, — ледяным голосом произнес я и так посмотрел на нее, что она отшатнулась. Но через секунду как ни в чем не бывало уставилась своими нахальными детскими глазенками на бедного Вилле и, скривив губы, процедила:
— Ну ты, козел, может, закурить дашь?
И тут же недолго думая схватила со стола сигареты покойного Нордберга и даже успела одну сунуть в рот и выпачкать своей помадой, прежде чем я вырвал ее прямо из губ этой девчонки! Признаюсь, я с трудом сдержался, чтобы не врезать ей хорошенько по заднице. А она была крепкая и выглядела очень соблазнительно. Но только чтобы отшлепать! Девица явно просекла мои намерения, потому что быстро развернулась и сказала чуточку севшим от испуга голосом:
— Ну-ну, не надо психовать, старичок!
С этими словами она развязно плюхнулась на стул и вытянула ноги. В общем-то она была ничего — узкие брючки, круглые коленки, ну и так далее. Миленькая, в общем, девчоночка. Но меня ей было не соблазнить.
— Так как насчет покурить, а, Вилле? — беспечно спросила она; тот молча опустил голову.
— Что, Вилле, денег нет? — участливо спросил я.
— Стал бы я тут торчать, при деньгах-то, — Вилле старался говорить небрежно. — Давно бы смылся куда-нибудь подальше, на Север.
— Ну, у полиции руки длинные, — возразил я. — Ты сам мог убедиться. И действуем мы быстро. Так что вряд ли ты ушел бы далеко. Ты ведь дело со мной имеешь, а я тут шутки не шучу.
— Это я вижу, — высокомерно сказал Вилле. — Только пока не пойму, как это у вас получается.
Я предложил им обоим по сигарете. Вилле бросил на меня благодарный взгляд и сделал подряд несколько затяжек. Кайя тоже выдула дым, сложив губы трубочкой, но сразу закашлялась. Должен признать, что в это время я разглядывал ее свитер. А почему бы и нет? Если на почтительном расстоянии…
Думаю, что стоит разъяснить читателям — которые наверняка удивляются, — как именно мне удалось взять Арску. Так вот: никаких особых уловок и хитростей не понадобилось. Все исключительно просто. У Кокки замечательная фотографическая память, у Палму свои таланты, но ведь и я не лыком шит. У меня прекрасный музыкальный слух, так что… Я хочу сказать, что научиться слушать с закрытыми глазами и угадывать по треску телефонного диска набираемый номер — проще простого. Сам я овладел этим искусством благодаря одному слепому ремесленнику, но это другая история. А сейчас я только замечу, что любой человек может научиться тому же, если пожелает. Вот почему я подбил Вилле позвонить своему другу. А когда его увели из кабинета, мне осталось только по номеру телефона выяснить имя и адрес его владельца. И отдать приказ патрульным. Вот и все. Но мне меньше всего хотелось, чтобы Вилле стал ломать над этим голову и вдруг догадался бы, что его провели.
— Итак, Кайя, — ободряюще сказал я, — ты тоже была в машине?
— Отвянь, легавый! — весело ухмыляясь, ответила она.
Ладно, решил я, придется немного поработать.
— Ну-ка, взгляни ради интереса, — предложил я и протянул ей сверкающий глянцем снимок.
Это было разбитое лицо старика Нордберга, которое репортер умудрился снять так, словно лежал на носилках рядом. Газетчики весьма любезно увеличили фото и прислали лично мне. Не то чтобы я их об этом просил. Ну да ничего, им это в свое время припомнится. Я об этом позабочусь.
— Ну и что, — равнодушно сказала девица. — Видела я это уже в газете. Я-то при чем?
Я забрал у нее фотографию и отложил в сторонку. Расчет мой оказался верен. Пальцы у нее были такие липкие и грязные, что больше ничего и не потребовалось. Но я все же достал из стола кисточку из верблюжьей шерсти и присыпал снимок специальным порошком. Сдул лишнее и убедился, что о лучших отпечатках нечего и мечтать. Я пододвинул поближе снимки, полученные в машине, и сравнил.
— Отвянуть не могу, милая девчушка, — весело сказал я. — Можешь сама посмотреть.
— Очень мне надо ваши фокусы разглядывать, — огрызнулась она.
Но тут же, повинуясь извечному женскому любопытству, поднялась и подошла поближе. Вилле тоже подошел. Им все-таки было интересно посмотреть, как работает полиция. Я вручил Кайе лупу, чтобы она могла получше все увидеть.
Хочу подчеркнуть, что не в моих правилах вмешиваться в дела Кокки, но иногда, когда выдается свободное время — во что, разумеется, трудно поверить! — бывает приятно поупражняться, а особенно приятно было однажды, когда Кокки попытался одурачить меня. Как будто дело было первого апреля!
Девице пришлось смириться: трудно не верить собственным глазам! Отпечатки были идентичны — те, из автомобиля, и эти, на тыльной стороне снимка. Кайя скривила губы и театрально произнесла:
— Вы поймали меня в ловушку, инспектор!
Из какого фильма Кайя это взяла, я не знал.
— Ладно, была я в машине, ясное дело, — согласилась она. — И рулил Арска. Вам это, конечно, известно. Хотел через парк въехать на холм, но с разгона врезался в дерево, оно аж затрещало. Ну и что? Подумаешь, великое преступление!
— На холм, — повторил я. — А зачем?
— Так Вилле ж хотел… — Девица осеклась, заметив выражение на его лице, и изумленно спросила: — Вы чего, не знаете?
— Ладно, — сказал Вилле. — Надоело запираться. Это правда, я хотел туда, потому что дядя Фредрик обещал мне свой телескоп. А было уже поздно — меня ведь полиция замела из-за этого разбитого окна. Меня на него толкнули. Ну, я и взбесился… В общем, понятно. Ну вот, а когда Арска отнял у меня баранку, я ему сказал, чтобы он двигал прямиком через лужайку в гору. Я думал махнуть к Памятнику и объехать его разок кругом — показать дяде, что не такой я неумеха, как он думает. Вот. А мы вместо этого врезались в дерево. Арска еще хвастался, что выжмет сто пятьдесят…
— Ну и что, мы с ним и в Порво катались на такой скорости! — перебила Кайя, обидевшись за своего героя.
Она невинно посмотрела на меня, не понимая, что только что сказала.
— Ну а дальше? — вернул я их к главной теме.
— Арска и Кайя смылись, — буднично продолжил Вилле. — У него в боку кололо, и голова была в крови. Это после того, как ветровое стекло разбилось и осколки полетели прямо в лицо. Арска даже запаниковал, думал, что помирает. Ну, я и отправил их, Арску то есть, зашиваться.
Он умолк с высокомерным видом.
— А дальше? — напряженно спросил я.
— А потом я пошел и забрал телескоп, — просто признался он. — Дядя его там оставил, как обещал. — Он запнулся, а потом добавил, как бы оправдываясь и стараясь не глядеть на меня: — Его ведь могли спереть. Я и опоздал-то чуть-чуть, может, на полчаса.
Мое воображение давно уже рисовало мне одну картину за другой, но тут вдруг меня охватила жалость. Безалаберный, нескладный мальчишка! Все на него навалилось. И девушка его забеременела, и штраф в несколько десятков тысяч за расколотую витрину, и угнанный автомобиль разбит. Слепая ярость на весь мир, на жизнь, которая рушится. Быть может, Нордберг сказал что-то не так, возразил. Большего и не требовалось. Дальше — удар. Может быть, мгновенное сожаление, раскаяние. И новый прилив ярости. Разбитое лицо, как у Арски. Бешеные, слепые удары. Да, именно так, парень был не в себе, великодушно решил я. Находился во власти психоза.
— А куда ты дел деньги господина Нордберга? — спросил я безразличным тоном. — Ты ведь только что сказал, что у тебя не было денег, чтобы сбежать.
— Но у дяди в бумажнике не было денег, когда… — проговорил парень, не подозревая еще ничего дурного, но почему-то вдруг задрожав всем телом.
Я безотчетно вскочил. Я просто не мог больше сидеть на стуле. И, посмотрев на мое лицо, он, видимо, понял.
— Нет, нет! — резко выкрикнул он. — Это было раньше, раньше! Когда дядя обещал мне телескоп! — И хриплым шепотом добавил: — Насовсем, чтобы он мой был. У меня никогда не было ничего своего.
И тут долгое нервное напряжение сделало свое дело: голова этого долговязого хилого парня упала на руки, а сам он как в какой-то замедленной съемке стал оседать и наконец повалился на пол, гулко стукнувшись головой. Не могу сказать, что мне не было жаль его, но победное ликование, бушевавшее во мне, почти заглушало все остальные чувства.
В это-то время в кабинет и вошел Палму, ведя перед собой Арску. Тот вступил с упрямым выражением на лице, но это выражение мгновенно сменилось на испуганное, когда он увидел бездыханное тело Вилле, распростертое на полу. Смешно было наблюдать, как он кинулся на грудь Палму, ища у него защиты. Прикрывая руками голову, он завопил:
— Не бейте меня! Я во всем признаюсь!
Но Палму слишком хорошо знал меня, чтобы заподозрить в чем-то таком. Думаю, иначе он не колеблясь дал бы мне по физиономии. Это было вполне в его духе, когда речь шла о нарушении священных принципов.
— Да, Палму! — сказал я, не обращая никакого внимания на Арску. — Дело в общих чертах раскрыто. Я его раскрыл.
— Какое — авария? — безучастно спросил Палму, у которого кончилось курево.
— Убийство! — торжествующе заявил я и указал на потерявшего сознание Вилле. — Вот виновный!
— Подозреваемый, — машинально поправил меня Палму.
Почему-то это меня сразу отрезвило. Хотя, на мой взгляд, Палму мог проявить чуточку больше интереса к моим успехам. Я ведь все-таки был его учеником. В некотором смысле.
— Разумеется, еще многое требуется выяснить, — сухо признал я. — Но все это касается частностей, относительно же сути дела все косвенные улики налицо. И я как юрист могу ручаться…
— Ты как юрист можешь проваливать, — начал было Палму, но, вспомнив, что в кабинете присутствуют посторонние, младшие по чину и возрасту, продолжать не стал.
Он опустился возле Вилле и, бережно приподняв его голову, положил к себе на колени.
— Помоги-ка лучше мальчику! — бросил он мне. — Ты что, не видишь, что это еще ребенок? Дай воды. — И только когда я протянул ему стакан трясущейся от бешенства рукой, он вспомнил и почтительно добавил: — Командир!
Он неловко побрызгал водой в лицо Вилле и в растерянности попытался потрясти его за плечи.
— Вы… вы у-убили его! — всхлипнул Арска и залился слезами. — Так… так нельзя… Это незаконно! И у меня, у меня тоже болит бок!
Он потянулся за поддержкой к своей подруге, но Кайя в эту минуту если и испытывала к нему какие-нибудь чувства, то далеко не нежные.
— Не вздумай дотронуться до меня, ты, жирный боров! — закричала она. — Трус поганый, вот ты кто! И с таким подонком я чуть не махнула в деревню!
— Так они ж убивают! — оправдывался Арска плачущим голосом. — Я отцу позвоню, пусть он адвоката приведет!
— Арска! — взвизгнула девица. — Если ты еще хоть раз тронешь меня пальцем, если ты мне позвонишь, если ты на моей улице появишься, я — я не знаю, что сделаю! — Ее голос прервался, и она даже всхлипнула от стыда за него. — Если б ты среди наших… но ведь ты ж перед легавыми так…
Вилле Валконен начал приходить в себя и попытался приподнять голову на тонкой мальчишеской шее. Комиссар Палму погладил его по спутанной шевелюре.
— Я во всем, во всем признаюсь, — хрипло проговорил Вилле. — Не надо меня больше мучить…
И снова потерял сознание. Голова его съехала с колен Палму и упала на пол.
— Иногда вы бываете чересчур… чересчур жестоким, — сурово произнес Палму, обращаясь ко мне, и, признаюсь, мне стало не по себе. — Парень явно находится в состоянии шока. Вероятно, получил сотрясение мозга в момент аварии. Пытался прыгнуть под поезд. Вряд ли такое выделывают в нормальном, здоровом состоянии.
— Конечно, конечно, — согласно закивал я. — К нему приведут психиатра, проведут медицинское освидетельствование. Попозже.
— Прежде всего ему нужен сон, покой и еда, — решительно заявил Палму. — И врач.
Я заволновался.
— Я не могу позволить колоть ему что-нибудь! А то потом станут говорить, что полиция применяет наркотики, чтобы добиться признания. Разве не достаточно медсестры? Пару таблеток аспирина…
— …и нашу попечительницу о несовершеннолетних. Ему, если ты помнишь, только семнадцать, — с гнусным намеком заметил Палму.
— Если ты… если ты задумал со мной поступить так, что ж, давай, тащи ее сюда, — прерывающимся голосом сказал я. — Натравливай на меня. Сам знаешь, что тогда он уже к вечеру будет разгуливать на свободе. Убийство на нем или еще что-нибудь… Эта дамочка настоящая тигрица. И я очень, очень надеюсь, что она не узнает обо всем этом деле до понедельника.
— Да-да, у нее, по-моему, дача в Лохья, — припомнил Палму. — Вот ведь как: у людей выходные… Картошка не убрана… Но все равно — если она услышит об этом в вечерних новостях, то примчится в Хельсинки первым же автобусом… Нет, я еще не успел по ней соскучиться. Может, она и ничего, но уж слишком много разговаривает!
— Слушай! — меня осенило. — Давай определим к нему Алпио. Алпио десятерых детей воспитал, и всех вполне хорошо… Ну, почти всех… Алпио и с ним будет нянчиться, как родной папаша. Я помещу его в больничный изолятор, а Алпио будет сидеть возле его койки и держать за ручку. И еще кормить с ложечки — за мой счет.
— Ладно, договорились, — согласился Палму. — Но если он опять начнет бредить и нести эту чепуху, тогда укол!
— При чем тут бредить! — рассердился я. — Если парень решил честно во всем признаться и облегчить свою совесть, то что в этом дурного? Но я согласен — пусть сначала отдохнет, поспит. Не такой я злодей!
И я пошел распорядиться насчет носилок и дать необходимые указания. А заодно позвонил Алпио. Тот очень кстати оказался на вечернем дежурстве. Кто ж еще дежурит в субботу! Дети его выросли и из дома разъехались, жена умерла, а сам он был на пенсии. Так что работа для него второй дом. Алпио — очень добрый старик. Может, иногда даже слишком — если требовалось, например, употребить строгость. В общем, чересчур мягкосердечный.
Вилле пришел в себя, когда его стали укладывать на носилки. Я дружески похлопал его по руке, провел ладонью по лбу.
— Ничего, парень, — подбодрил его я, — все еще образуется.
Тем или иным образом, подумал я, но вслух не сказал. И Вилле унесли. Слава Богу, в надежное место. А я занялся Арской.
— Так, теперь с вами, — обратился я к нему. — Если ты и Кайя отправитесь отсюда прямиком в Красный Крест, то я, пожалуй, отпущу вас…
Палму многозначительно кашлянул, но девица опередила его:
— С этим трусливым боровом я никуда не пойду, — сердито заявила она. — Лучше отправьте меня в тюрягу!
— Я послал снимки с отпечатками пальцев Арски в дорожно-транспортную группу, согласно правилам, — доложил Палму. — Сотрудничество — ведь вы нас к этому постоянно призываете.
Конечно, мне следовало самому сообразить, особенно когда Кайя упомянула об их поездке в Порво, но всего сразу в голове не удержишь! Наверно, стоило также обратить внимание на то, как Арска бочком, на цыпочках подбирается к двери — втянув голову в плечи и надеясь под шумок улизнуть. Благо охраны не осталось: полицейские понесли Вилле. Но далеко удрать ему не удалось — он сразу попал в объятия шефа дорожно-транспортной группы. Тот решил пожаловать лично, захватив снимок с пальчиками Арски. Значит, и ему стало любопытно. И до него молва дошла. Вряд ли иначе он торчал бы на работе в субботний вечер. У них только по понедельникам жизнь кипит. Даже чересчур.
— А я с уловом! — закричал он от порога, таща за шиворот Арску. — Эту птичку мы давно ищем. За ним восемь угонов и один наезд. Так, сколько тебе лет, коротышка?
— Девятнадцать, — пробурчал Арска.
— Спасибо! — прочувствованно сказал вошедший. — Спасибо тебе, юноша! Если уж тебе пришлось бы давать условно, значит, наше законодательство явно нуждается в исправлении. — Он помрачнел и резко тряхнул Арску: — Ты знаешь, скотина, что малышка из-за тебя на всю жизнь осталась калекой?!
Арска сразу заохал, ухватившись за бок, и стал жаловаться на боль в сердце.
— Я отцу позвоню! — пригрозил он опять, но кого он мог испугать своими угрозами?
— Ладно, теперь это ваши дела, — сказал я. — Бери его и сажай в холодную. Мне он больше не понадобится. Надеюсь.
Я с сомнением поглядел на Кайю. Нет, она не могла принимать участия в избиении старика. Это было очевидно. Дорожник потащил Арску к выходу. Я поспешно сказал:
— Эту молодую девушку мы отпускаем домой. Итак, Кайя, имя и адрес. И телефон, пожалуйста.
— Только вам, инспектор! Я свой телефон не всем даю! Еще чего — хмырям всяким…
— Вот чертовка!
Кажется, это был голос Палму? Но, может, я ослышался.
Девица бодро подала руку Палму. Потом мне. И я крепко пожал ее липкую и грязную лапку. Затем она направилась к двери, соблазнительно вихляя бедрами. И мне уже совершенно не хотелось отшлепать ее. Я вообще чувствовал себя в согласии со всем миром. Приятно все-таки сознавать, что у тебя есть слава и что ты пользуешься успехом у женщин!
И тут я вспомнил о Сааре Похъянвуори.
— Послушай, Палму, — просительно сказал я. — Мне ведь необязательно опять ехать на Матросскую улицу, правда? Вы с Кокки отлично справитесь там сами. А я бы лучше занялся своими делами.
Мысли мои уже были заняты: я готовился к встрече с журналистами, которую проведем мы — начальник нашего отдела и я. По моим расчетам, он должен был уже отчалить со своих островов и быть на пути в Хельсинки.
— Я дал знать Сааре, что Вилле цел и невредим, хотя и несколько взбудоражен. Но что в остальном все в порядке, — сказал Палму. — Мы ведь обещали.
— Как дал знать, каким образом? — глупо спросил я.
— А у дамы из нижней квартиры есть телефон, и я взял его, когда заходил к ней, — просто объяснил Палму. — Только не спрашивай, почему у нее есть телефон!.. Дама была слегка навеселе, — продолжил он, но это не помешало ей выполнить поручение. Кокки шлет привет.
— Ну и что у него слышно? — нетерпеливо спросил я.
— Девушка поджарила ему отличную ветчину с яйцами, — грустно поведал Палму.
— Его что — дома не кормят? — раздраженно сказал я. — Это какая-то бездонная бочка!
— Простите, командир, — произнес Палму, демонстративно поглядев на часы, — хочу заметить — отнюдь не в порядке жалобы, — что у простых людей бывает обеденный перерыв и это время давно прошло. Разумеется, начальство обедает позже, в шикарных ресторанах… «Савой»… «Рыбацкая изба»… «Избушка»…
— Палму! — горячо воскликнул я. — Ты прекрасно знаешь, что моего жалованья не хватит, чтобы обедать в «Избушке»! Не говоря уж о «Рыбацкой избе» или «Савое». А если я иногда вечером и заглядываю в Певческий клуб…
— Своими глазами видел уважаемого начальника выходящим из «Избушки», — упрямо продолжал Палму. — Ковырявшего в зубах. С сытой отрыжкой.
— С какой еще отрыжкой! — попытался отбиться я, краснея. — Просто есть некоторые требования приличий, представительство наконец! Мое положение обязывает меня иногда показываться в тех местах, где собираются высокие тузы. Это… это вопрос чести. Но тебе этого, конечно, не понять.
— Ладно, но сейчас мы в любом случае поедем вместе на Матросскую, — заявил Палму. — Я не могу оставить тебя здесь одного, а то ты опять наговоришь невесть что!
И мы отправились вместе. Отдыхать мне совсем не хотелось. Есть тоже. Успех пьянил меня и придавал энергии. Конечно, началось все не лучшим образом, но стоило мне всерьез заняться делом, как оно сразу сдвинулось. Этого никто отрицать не может. И при этом спокойно, без спешки. А времени, между прочим, только девятнадцать!
Улицы были уже освещены. Вокруг дома на Матросской толпился народ. Но Кокки и наши фотографы приняли свои меры. Железные ворота, ведущие во двор, были закрыты, и их стерегли двое ребят из полиции порядка. Так что в дом никто из посторонних проникнуть не мог. Не успели мы вылезти из машины, как вокруг засверкали вспышки. Отмечу, что на этот раз Палму не сосал свою трубку и не прятался за моим плечом, выставляя меня одного на всеобщее обозрение. Я не мог сдержаться и довольно улыбнулся. Так уж вышло. И, конечно, именно эта фотография оказалась в воскресной газете; я выглядел на ней еще глупее, чем на той, где у меня разинут рот.
— Только пару снимков! В квартире! — умоляюще воззвал ко мне самый пожилой газетчик.
— В свое время, — вежливо отклонил я просьбу.
И собрался было невинно осведомиться, откуда им известен этот адрес, но вовремя сообразил, что если к нам в полицию позвонило около пятидесяти человек, опознавших жертву, то в газету звонков было, пожалуй, раза в два больше. Язык я успел прикусить, но, к сожалению, в буквальном смысле — у меня даже слезы выступили на глазах.
Таким образом я получил время, чтобы немного подумать. Я отвел в сторону пожилого репортера и доверительно зашептал ему на ухо:
— Если хотите, могу вам дать ниточку. Но только вам! По старой дружбе. Можете подскочить к Пассажу, там в крытом дворе дежурит констебль Кархунен, охраняет телескоп. Телескоп можете сфотографировать. Вам дается исключительное право. Не пожалеете. Далее: передадите Кархунену, чтобы он доставил прибор ко мне в кабинет. В Пассаже он больше не нужен.
— Телескоп? — недоуменно пробормотал журналист, но через секунду его суровые черты озарились улыбкой. Он мигнул своему фоторепортеру и как ни в чем не бывало начал протискиваться сквозь толпу. Фотограф двинулся за ним, прокладывая себе дорогу, как танк. Стоя во дворе, мы могли наблюдать мучения журналистов, которых буквально раздирали противоречивые чувства. Разум подсказывал им остаться, но это же казалось и ошибкой. И вот они по одному потянулись следом за ушедшими. На улице остались лишь обыкновенные зеваки. А во дворе из каждой уныло-пасмурной амбразуры в серой каменной стене выглядывали любопытные лица. Дежуривший на лестнице полицейский отдал нам честь.
— Все в порядке! — доложил он. — Дополнительные закупки ветчины и яиц произвел лично.
Я строго посмотрел на Палму. Всем своим видом он выражал глубокое раскаяние. Но когда наши ноздри втянули восхитительный аромат жареной ветчины, я вынужден был сдаться. У меня потекли слюнки. И в самом деле — одной отварной салакой с картошкой целый день сыт не будешь.
Личико Саары Похъянвуори, хлопотавшей на кухне возле плиты, раскраснелось, глаза ярко блестели.
— Вы вовремя! — крикнула она из кухни. — Я знаю, комиссар дорожит временем. Стол уже накрыт, пожалуйста.
Она выключила газ и вошла в комнату со скворчащей сковородкой в руках. Ее хорошенькие щечки горели румянцем, на ней был фартук. Я вспомнил о Вилле, и у меня упало сердце. Такая очаровательная девушка — и такой дохляк! Да еще преступник. Моя должность командира группы по расследованию убийств показалась мне в эту минуту не в радость. Впрочем, я ведь был временно исполняющим обязанности!
Пока мы ели, я осматривался кругом. Вся мебель заняла свои места, книги стояли на полках, старинные гравюры на меди были развешены по стенам. Мы находились в гостях у образованного, уже не молодого человека. Это его жилье, бедноватое, может быть, но зато имеющее свое лицо. Здесь было чисто и уютно.
После еды мы рассыпались в благодарностях, и Палму принялся набивать свою трубку, согнав Кокки с единственного удобного кресла. Пружины его истошно заскрипели, когда Палму усаживался, но зато оно было покрыто опрятным вязаным покрывалом. Несомненно, работа Саары, подумал я умиленно. Я прошелся вдоль книжных полок. Астрология, эфемериды, то бишь астрономические таблицы, которые я пролистал, пара каталогов почтовых марок, исторические книги. Старик Нордберг читал, судя по всему, не только по-шведски, но еще по-немецки и по-английски. Мое уважение к нему росло. Но одновременно росла и неудержимая злоба против распоясавшегося, развинченного юнца. Нет, его не за что было жалеть. Вот девушку действительно жаль. И старика Нордберга.
Палму тем временем раскурил свою трубку, ленивым жестом достал из кармана сложенный листок и расправил его на ладони. На нем был отпечаток грязной резиновой подошвы.
— Обычно не в моих правилах торопить ход расследования, — доверительно сказал он, — но на этот раз дело приобретает любопытный оборот, да и начальнику нашему невтерпеж. Ну, что ты думаешь об этом следе, Кокки?
— Это нога Вилле? — подозрительно спросил я.
Девушка, к счастью, в это время вышла на кухню, чтобы сварить нам кофе. Кокки достаточно было одного взгляда.
— Ничего похожего, — мотнул он головой. — Промашка, комиссар. Все, может, и совпадает, только здесь подошвы совсем старые, рисунок едва-едва проступает, а вот те, — он ткнул пальцем через плечо в сторону прихожей, — те ботинки новехонькие, их, может, всего только пару раз и надевали, и рисунок там четкий. Извини, комиссар, ни капельки не похоже.
— Вот и я так думаю, — доброжелательно кивнул Палму. — Это все нашему начальнику не терпится. А что насчет отпечатков пальцев, Кокки?
— Отпечатков полно! — воскликнул Кокки. — Да все они принадлежат Нордбергу.
— Но ведь Вилле бывал здесь! — горячо возразил я. — Много раз! И оставался допоздна. Не может быть, чтобы в туалете не было его следов!
— Они, может, и есть, — равнодушно сказал Кокки, — но это очень старые следы. Парень не был здесь несколько дней. Он слегка разругался со стариком. Мне девушка рассказала.
Он деликатно кивнул в сторону кухни.
— Разругался? — жадно подхватил я. — Вот! Конечно, он заходил сюда прошлой ночью. Выкрал у старика ключи и явился посмотреть, нет ли денег.
Последнее заявление я сделал опрометчиво. Палму и Кокки внимательно посмотрели на меня. Эти их взгляды мне были давно знакомы. И мое настроение упало. По правде говоря, мне стало совсем тоскливо.
— Наш начальник опять увлекся своими фантазиями, — наконец проговорил Палму, постукивая о ладонь трубкой. — Чего-чего, а этого ему не занимать. В избытке имеется. Так же, как и страсти к пению.
— Что тебе дался наш хор, Палму! — вступился Кокки. — При чем он-то тут?
— Бумажник, отпечатки пальцев, телескоп, — перечислил я. — И под поезд не я его толкал. Сам прыгал. И наконец — он признался. Во всем!
Я слишком поздно заметил предостерегающий жест Палму. Но девушка не уронила поднос. Только чашки зазвенели, когда она опускала его на стол.
— Вилле хотел прыгнуть под поезд? — резко спросила Саара, но лицо ее выражало скорее удивление, нежели испуг. — Но почему, какая могла быть причина? Все ведь устроилось!.. Почти устроилось, — поправилась она. — И я вовсе не собиралась насильно женить его на себе. И дядя этого не хотел… И в чем Вилле мог признаться?
Я тяжело вздохнул.
— Во всем, — честно ответил я.
— Парень был в шоковом состоянии, — быстро пояснил Палму. — Вилле еще совсем мальчишка.
Девушка порозовела.
— Вилле рано повзрослел, — твердо возразила она. — В нем есть настоящие мужские черты. Конечно, мне уже девятнадцать, но ведь и ему послезавтра исполнится восемнадцать! И не вздумайте говорить, что мне следует подумать, раз я старше и умнее. Вилле еще станет настоящим мужчиной, вот увидите! И дядя всегда так думал. Поэтому он и купил эту новую квартиру. Чтобы Вилле смог — если захочет…
— А на какие, собственно, деньги он ее купил? — бестактно осведомился Палму. — Господин Нордберг как будто страсти к накоплению не имел. А такая квартира — две комнаты и кухня — стоит порядка трех миллионов. Или эта квартира дешевле?
— Да-да, она совсем скромная, — подтвердила девушка. — Она стоила два миллиона семьсот тысяч. Очень скромная квартира, и дом совсем не роскошный.
— Ну и откуда же взялись деньги? — снова довольно резко спросил Палму. — Конечно, он за старую квартиру кое-что должен был получить, район хороший и все такое, но все же…
— А я разве не говорила?--удивилась девушка. — Ведь дядя в августе выиграл главный приз в лотерее!
— Приз! — ошеломленно проговорили мы в один голос.
— Ага, тогда мне понятно, — успокоенно заметил Кокки. — А то я немного удивлялся. Я тоже не хочу торопить события, правда, но, когда здесь были наши и все фотографировали, я обнаружил в том письменном столе запертый ящик, и — дело было неотложное — мне пришлось его открыть. — Кокки просто наслаждался нашим любопытством. — Там ведь могли сохраниться следы, — растягивал он удовольствие. — Но нет, отпечатки оказались только самого господина Нордберга. Я уже проверил. Правда, это не значит, что в ящике никто не рылся. Там все буквально было перемешано. Конечно, нужно иметь в виду, что стол поднимали, втаскивали в грузовик, а потом полицейские его волокли обратно. Так что совершенно естественно, что в ящике был полный кавардак.
— А я и не знала! — Девушка изумленно прикрыла ладошкой рот. — Я думала, все дядины важные бумаги в том черном чемодане. Я собиралась сама отнести его и все за ним приглядывала. Надо же быть такой неосторожной! Ведь письменный стол все время стоял без присмотра, в кузове, пока мы с шофером пили тут кофе и ждали дядю и — и Вилле.
— Такой замок может открыть и грудной младенец, — заверил Кокки, питавший глубокое уважение к грудным младенцам. — Но вам, барышня, беспокоиться не стоит. Я не думаю, что из ящика что-нибудь пропало.
— Так вот почему вы велели мне оставаться на кухне? — Девушка нахмурилась и подозрительно посмотрела на Кокки. — Если бы я знала, что вы роетесь в дядиных бумагах, вынюхиваете там что-то, как какая-то ищейка…
— Ну-ну, — примирительно сказал Палму, — ищейка слишком сильное слово, но вообще-то — да, это наша профессия, мы все трое — ищейки. За это мы и получаем жалованье. Именно за это. Кому-то нужно делать и грязную работу тоже. Так что Кокки ничего дурного не имел в виду, уверяю вас.
— Все в полной сохранности, — заверил Кокки раздраженно. — Банковская книжка господина Нордберга, на ней еще остался миллион с лишком. А в другом банке открыт счет на ваше имя, барышня, и на нем лежит пятьсот тысяч.
Но девушка не выказала никакой радости.
— Миллион и пятьсот тысяч, — она загнула пальцы. — Нет, это неправильно. Дядя успел заплатить за квартиру только два миллиона. Оставшуюся часть, семьсот тысяч, надо было внести в понедельник. Ему там вроде бы не могли сразу все выдать, у них не было наличных денег.
Кокки начинал терять терпение.
— В ящике был запечатанный конверт, — сказал он, — но позже он был вскрыт; ни денег, ни отпечатков пальцев — чужих, не господина Нордберга — там не обнаружено. Но завещание в полной сохранности.
— Завещание? — растерянно переспросила девушка. — Я понятия не имела, что дядя успел…
Она прикусила губу и замолчала; лицо у нее стало сосредоточенным и каким-то незнакомым.
— Но вы ведь знали, что дядя собирался завещать вам свои деньги? — спросил Палму.
— Знала, что мне, конечно, — подтвердила девушка. — Дядя много раз говорил об этом. Из-за ребенка. Но с этим можно было не спешить. И потом, я думала, что лучше будет, если дядя оставит все ребенку…
— Но завещание уже составлено. В вашу пользу! — обрадованно сказал я.
Кокки кивнул.
— Слава Богу! — воскликнул я облегченно: приторно-благочестивый голос портного Похъянвуори еще звучал у меня в ушах.
Но барышня Похъянвуори, несмотря на все это, выглядела невеселой. Она поймала взгляд Кокки, и в ее глазах был не упрек, нет, но какое-то, скажем, удивление.
— Послушайте, — сказала она, снова загибая пальцы, — но ведь там, насколько я понимаю, должно было быть много денег. Дядя должен был заплатить эти семьсот тысяч, а со своего депонентского счета — чтобы не платить штраф — он мог снимать не больше двухсот тысяч в месяц. Заплатить надо было непременно, иначе начислили бы пени за просрочку, а дядя был очень бережливым. Не скупым, нет-нет, но… Еще у него должны были быть кое-какие давние сбережения. И я, правда, не понимаю… — Девушка закусила губу и снова внимательно посмотрела на Кокки. Потом она перевела взгляд на чемодан, стоящий в углу. — Давайте посмотрим там, — предложила она.
Мы посмотрели все вместе, но в чемодане ничего не оказалось. Кроме ношеных вещей, белья старика и коллекции марок. Никаких конвертов. Вообще никаких бумаг.
— Но выигрыш, ведь дядя получил пять миллионов! — снова начала считать девушка. — За квартиру он заплатил наличными. На банковских счетах у него миллион пятьсот тысяч. Хотя там должны лежать и его собственные сбережения. Послушайте — в любом случае не хватает полутора миллионов. Или по крайней мере этих семисот тысяч, которые дядя должен был внести в понедельник наличными.
Она вопросительно посмотрела на Кокки. Я тоже взглянул на него. Боже мой, подумал я, ужасаясь.
Глава седьмая
Она смотрела на Кокки с откровенным подозрением. И он начал краснеть, даже уши у него стали пунцовыми. Потом Кокки поднялся и вывернул карманы. Молча.
— Послушайте-ка, барышня, то есть Саара, — торопливо вступился я за своего подчиненного. — Про нас, про полицию то есть, рассказывают разные ужасы. Ваши чуваки. Но как вы могли подумать, что мой подчиненный воспользуется своим положением…
— Н-да, соблазн велик, — заметил Палму, с интересом поглядев на Кокки; он явно получал удовольствие от этой ситуации. — Искушения мира сего — и так далее. Вот что бывает, когда кладут по две ложки кофе на чашку! Вот к чему это приводит. Для начала, я думаю, нужно произвести личный досмотр подозреваемого, то есть обыскать Кокки. Он ведь мог припрятать в носок…
— Палму! — предостерегающе сказал Кокки. Всякая шутка имеет предел.
— Совершенно верно, — присоединился я к Кокки. — Твои шутки всем надоели. Здесь серьезное дело.
— Конечно, серьезное, кто спорит, — согласился Палму. — Так. Выигрыш был получен в августовском розыгрыше, да, барышня Похъянвуори? Главный приз?
— Да, в августовском розыгрыше, — подтвердила девушка. — Это я помню абсолютно точно, это было просто как подарок судьбы, дар свыше — как раз через несколько дней после того… как я призналась дяде… — Она покраснела до корней волос и опустила голову. Но она была отважной девочкой. — …призналась, что я беременна, — твердо договорила она. — У меня ведь никого не было, кроме дяди Фредрика, кому я могла бы… могла бы довериться. Я и Вилле-то не сразу сказала. А дядя — он был таким добрым и все понимал. Он меня даже ни разу не упрекнул. И обещал сделать все, что в его силах, хотя сбережений у него было совсем мало. Даже обещал продать свою коллекцию, а меня — меня просил только ни о чем не беспокоиться и быть веселой. — В глазах у нее стояли слезы. — П-поэтому это и было как чудо, — прибавила она, — когда дядя через три дня выиграл этот главный денежный приз. Это, правда, было как само провидение.
— И что — никаких разговоров об аборте не было? — спросил Палму, испытующе глядя на нее.
Саара вспыхнула.
— Я все-таки не такая девушка, — сердито ответила она. — Себя и ребенка я прокормлю и… и даже Вилле, если он, конечно, захочет. Я его не принуждаю. Но ведь ему послезавтра исполнится восемнадцать и…
— Ну хорошо, хорошо, — успокоил ее Палму. — Это мы уже слышали. А как все-таки сам Вилле к этому относится? Он предлагал…
С измученным видом она ответила:
— Он ведь еще совсем молод. И сначала он просто потерял голову, когда я ему рассказала. Он даже хотел найти какую-нибудь бабку — ну, такую… Обещал достать денег, даже украсть… Он… он беспокоился обо мне, хотел как лучше, чтобы я не испортила из-за него жизнь… Он иногда еще такой ребенок.
— Даже украсть, — медленно повторил я, глядя в пол. На девушку я старался не смотреть. Чтобы не видеть ее глаза. Но я как-никак был тут главный, и на мне лежала ответственность. — Палму! — резко сказал я. — Не пора ли приступить к обыску квартиры Вилле? Кстати, может, и ботинки поновее обнаружатся!
Последние слова я произнес с надеждой.
— Но у Вилле нет дома! — возразила девушка, все еще не понимая сути дела, — вот каково было ее доверие к нему. — Вилле сирота. До двенадцати лет он жил в детском доме. А потом один дальний родственник взял его на свое попечение и заставил работать, а когда у Вилле не получалось, бил его. Такой грубый и злой человек! Поэтому Вилле даже в школе не доучился.
— «Вилле Валконен, учащийся», — вспомнил Палму. — Чему же он учится? Жизни?
Девушка с досадой посмотрела на него:
— Вилле хотел поступить в ремесленное училище этой осенью, но не попал: там было очень много желающих. Он… он пытается учиться сам. Только это очень трудно, когда нет места, где можешь заниматься, и денег на учебники. Дядя вообще-то начинал с ним заниматься, но у Вилле совсем нет способности к языкам, да и к математике тоже, он ее никак не мог усвоить, даже для того, чтобы составлять гороскопы. А дядя говорил, что толковый человек всегда может прокормить себя, составляя гороскопы. Особенно в наше время, когда весь мир механизированный, а людей становится все больше. Так дядя говорил. Дядя был созерцатель, он просто наблюдал жизнь и людей — так он всегда сам говорил.
— Значит, астролога из Вилле не получилось, — резюмировал Палму.
— Но Вилле любит смотреть на звезды, — вступилась за него девушка. Они часто вместе с дядей ходили на Обсерваторский холм. И если других желающих не было, ну, клиентов то есть, дядя разговаривал с Вилле, рассказывал ему всякое, Вилле даже не все понимал… А я вообще была против, мне не хотелось, чтобы Вилле этим зарабатывал себе на жизнь. Это… это было бы жульничеством. Дядя Фредрик — другое дело. Он делал все по-настоящему. Он говорил, что Вселенная в тысячу раз удивительнее, чем мы воображаем, и что время — это четвертое измерение, и… В общем, я не могла всего понять. Но дядя всегда говорил, что звезды указывают путь и предсказывают все хорошее и плохое, только не называют сроки. И еще никого не принуждают — так он говорил.
— Вы сказали — клиенты, — вмешался я. — Я не понял: что, к дяде приходили клиенты на Обсерваторский холм? За гороскопами?
Девушка посмотрела на меня с состраданием.
— Да нет, — сказала она, — вы никак не поймете. Больше всего он зарабатывал благодаря телескопу. В этом его богатство, так он говорил. Хотя такая роскошная вещь была ему, конечно, не по средствам. Поэтому, когда вечера были ясные, он давал гуляющим смотреть в телескоп. За плату, понятно. Показывал чаще всего Луну. Простым людям на звезды смотреть неинтересно, ничего там не видно. Даже в дядин телескоп. А на Луне есть и долины, и горы, и… — Она поймала мой взгляд, но неправильно истолковала его. — Дядя брал совсем недорого, — поспешно сказала она, оправдываясь. — Пятьдесят марок с человека, и каждый мог смотреть, сколько хочет. А с детей двадцать марок. Но вообще-то детям он давал смотреть бесплатно, если у них не было денег. Дядя с ними любил разговаривать, рассказывал, как прекрасен наш мир… Прекрасен, — повторила она и громко всхлипнула.
Я молча протянул ей свой носовой платок. Вытерев глаза, она взяла себя в руки и проговорила:
— Вы, наверное, думаете, что я вообще ужасная плакса. Но я просто не могу, когда думаю, что дядя был такой чудесный и добрый и ему так мало было надо. И мир у него был прекрасный, и все люди хорошие, и вот теперь, когда он мог не думать о деньгах, когда он так радовался будущему ребенку — после своего выигрыша, теперь какой-то бродяга напал на него и убил из-за нескольких сот марок! Это так ужасно, что я даже сейчас не могу понять… Дядя приучил меня к мысли, что жизнь всегда хороша, наперекор всему… — Она сглотнула слезы и продолжала говорить, ей надо было выговориться. — Дядя знал, что скоро умрет. У него было слабое сердце. Ему уже трудно было таскать в гору тяжелый телескоп, а на лестнице он часто останавливался, чтобы отдышаться. Может, поэтому он и поспешил с завещанием. Но он всегда говорил, что я не должна печалиться, когда его не станет. Что это только изменение формы и преодоление времени, что это иной опыт, чудесное превращение человека — так он говорил. Но он не знал, что умрет такой страшной смертью!
Палму деловито задал еще один бестактный вопрос:
— А у него было разрешение? Я имею в виду — на право заниматься промыслом. То есть чтобы за деньги показывать людям Луну и звезды.
— Ну конечно, разумеется! — убежденно сказала девушка. — Дядя был очень педантичный и никогда не нарушал законы.
— Но разве можно на это прожить? — недоверчиво спросил я.
— Ему было приятно заниматься этим! — просто ответила девушка. — Он любил звезды. А делать что-нибудь, что было ему неприятно и неинтересно, он бы не стал. Так же и с гороскопами. Он говорил, что, составляя их, он узнает что-то новое.
— Да-да, в каждом попадается что-то неожиданное, — понимающе поддакнул Палму и строго посмотрел на Кокки. — Но мы отвлеклись от Вилле и его дома. Ведь не живет же он на улице?
— Вилле живет там же, где и жил, — объяснила девушка. — У своего родственника. Но это очень тяжело. Они попрекают его каждым куском, а спит он на полу в прихожей, в углу. И они не разрешают ему читать при свете, чтобы он не тратил электроэнергию. А если Вилле удается что-нибудь заработать, они тотчас требуют платы за квартиру.
— Так Вилле что-нибудь зарабатывает? — обрадовался Палму.
Девушка смутилась.
— Он не виноват, он просто не умеет вести себя. Но ведь никто его этому не учил! Я нашла… ну, в общем, он получил на лето замечательную работу на автостанции. Какой-нибудь энергичный парень, вежливый, который умеет улыбаться и поднимать фуражку, мог бы здорово заработать на этом месте. На чаевых. Саму работу Вилле хорошо делал, он ведь любит машины, моторы, всякое такое, а кланяться совсем не умеет. И улыбаться тоже. Только ухмыляется. Ногами шаркает. Но это все от стеснительности, оттого, что не знает, как правильно вести себя. Ну, его и уволили через пару недель… А меня он, конечно, не слушает, — печально добавила девушка (я же подумал, что в нашем деле Вилле не проявил ни стеснительности, ни робости). — Сколько раз я ему говорила, но он слушает всех этих бузотеров, ну и Арску этого. Они ведь фуражек не носят, так что и поднимать им нечего. Да они и не умеют… Но Вилле никакой не стиляга!
— Разве? — не поверил я.
— Конечно! Вилле — битник, — пояснила девушка. — Это большая разница. По их мнению, стыдно кланяться и вообще вести себя прилично. Надо только ухмыляться, чтобы хорошенько кого-нибудь разозлить. Вот это они умеют — специально злить пожилых людей.
— Ну, еще они могут угонять машины, — между прочим заметил я. — Очень прискорбно, но Вилле тоже имеет отношение к автомобильной аварии в Обсерваторском парке. Вы, барышня, видели фотографии в газете. Они там трое были: Арска, Вилле и девушка по имени Кайя. Вилле даже вел машину. Правда, только часть пути, врезался не он.
Саара не выказала большого удивления, хотя я рассчитывал поразить ее.
— Вот оно что! Теперь я понимаю, почему Вилле хотел прыгнуть под поезд, — почти весело сказала она. — Вилле же ужасно добросовестный! — Она подозрительно оглядела нас, и к нашей чести могу заметить, что никто не позволил себе улыбнуться. — Хотите верьте, хотите нет, — убежденно заявила она, — но у Вилле это в первый раз. Арска — тот и двери у машин взламывал, и провода соединял, и чего только не творил. Но Вилле никогда прежде в этом не участвовал, хотя наверняка ему хотелось, когда все вокруг хвастались. Ведь попадаются-то с этим редко. А так что — если не пьяные, и аккуратно ведут машину, и на место ее привозят… Но все равно: сколько раз я предупреждала Вилле, чтобы он в такие дела не ввязывался!.. Хотя вообще-то я могу его понять, — продолжала она рассуждать. — Эта драка вчера вечером и разбитая витрина, а потом еще допрос в участке — конечно, он совсем потерял голову. Я же ходила потом в полицию, когда он меня не встретил, как обычно, на углу после работы, но там сказали, что у него взяли показания и отпустили. И, уж конечно, Арска с этой девицей его где-нибудь поджидали и потащили с собой… А автомобиль был шикарный?
— «Мерседес-бенц», почти новый, — с уважением отозвался я.
— Тогда все понятно, — заявила девушка. — Вилле всегда хотелось прокатиться хотя бы раз в роскошном автомобиле. Но, конечно, не Вилле врезался в дерево! Он очень умелый и осторожный. Вилле наверняка бы поставил машину обратно, на то же место. Бедный Вилле!
Голос девушки дрогнул. Хотя ей впору было пожалеть владельца этой новой роскошной машины, обнаружившего наутро вместо машины груду металлолома. Впрочем, с этим делом было уже покончено. Я взглянул на часы и занервничал.
— Как зовут опекуна Вилле и где он живет? — спросил я. — Мы немедленно должны произвести там…
— Не надо торопиться, — остановил меня Палму. — Если Вилле куда-то что-то спрятал, то в свое время все и обнаружится. Никуда оно не денется. Давай сначала посмотрим, что в этом ящике, о котором столько было разговору. Что там осталось после Кокки.
Девушка, выговорившись, оттаяла и смогла даже улыбнуться.
— Простите меня, господин Кокки, — сказала она. — Я, конечно, вовсе не подозреваю вас. Просто я очень разволновалась из-за этих денег. Но ведь они все равно найдутся, когда вы поймаете убийцу!
В ее словах было такое доверие, что мне стало не по себе. Я подумал о Вилле, об этой горькой игре судьбы, о наглости, глупости, жестокости, оправдать которые я не мог. О старом человеке, покоящемся на гладком столе. Ему стоило научить эту девушку остерегаться кой-чего в жизни. Потому что этот мир во многом напоминает проклятую Богом свалку, а вовсе не райские кущи, обещанные ей дядюшкой Нордбергом.
Чертовы идеалисты, думал я, лучше бы они обзавелись непробиваемо-толстыми шкурами! Вот моя шкура не в пример толще. По крайней мере в некоторых местах. Но ничего, девушка еще так молода, утешал я себя, и, конечно, она переживет это испытание.
Кокки выдвинул обследованный им ящик и водрузил его на письменный стол. Разумеется, он был прав. Перво-наперво там лежала сберкнижка. В ней были помечены суммы накоплений и вклады за многие годы. На начало сентября остаток равнялся 123 635 маркам. Накопления за целую жизнь. Но десятого сентября на счет в один прием был положен миллион марок. У старика, значит, хватило терпения дожидаться целый месяц, прежде чем он отправился в контору получать свой выигрыш. Это был депонентский счет, с которого мог снимать деньги или сам владелец, или кто-то по его доверенности. Старик был осторожен.
Рядом лежала еще одна новехонькая банковская книжка. По этому счету мог получать кто угодно, достаточно было только предъявить книжку. Она была выписана на имя Саары Марии Похъянвуори, и на ней лежали пятьсот тысяч, внесенные, как ни странно, восемнадцатого сентября. Старик, видимо, основательно обдумывал, как лучше распорядиться деньгами. То есть подумал заранее о налогах с наследства и всем прочем. И принял свои невинные меры предосторожности. Но почему он завел еще одну книжку, открыл счет в другом банке? Для верности, чтобы не складывать все яйца в одно лукошко?
Далее: большой желтый конверт. На нем дрожащим старческим почерком было выведено: «Завещание». Он был запечатан красным сургучом, на котором были вытеснены инициалы «Ф. Н.» — Фредрик Нордберг. Однако конверт был разорван, поспешно и грубо. Печать осталась нетронутой. Как будто в последний момент перед переездом на новую квартиру старик решил в чем-то убедиться. Или — или его убийца.
Я быстро пробежал глазами завещание. Оно было деловитым, имело законную силу, но составлено было не совсем так, как принято у юристов, — если уж быть совершенно точным.
«Все мое имущество — моей любимой племяннице Сааре Марии Похъянвуори, которая может полноправно и свободно владеть и распоряжаться в соответствии с собственным усмотрением этим имуществом, хотя ей на момент моей смерти еще может не исполниться двадцать один год».
Таким образом, он предупредил алчные поползновения брата. Но насколько это законно юридически — вот вопрос. Вопрос истолкования. Нужно было выбрать опекуна. Но это уже была не его забота. Под текстом завещания, как положено, расписались четыре свидетеля — имена, занятия, адреса. Все четверо с Матросской улицы, двое из того же дома. Старик Нордберг был предусмотрительным.
Далее: пожелтевшая кооперативная книжка, удостоверявшая права на данную квартирку. Книжка квартплаты. Взносы делались аккуратно, точно в срок, без единой задержки. Купчая на квартиру на улице Роз и к ней скрепкой прикреплена копия денежного перевода по безналичному расчету двух миллионов. На счет строительной фирмы. Можно себе представить, как вытаращили глаза в банковской конторе, когда старик Нордберг в один день внес в кассу три миллиона! Это было десятого сентября. Интересно, как ему выдали его выигрыш в лотерее? Наличными, наверно, раз клиент настаивал. Многим ведь хочется хоть раз в жизни увидеть и подержать в руках такие большие деньги, тем более если они твои. Говорили, что одна дама пришла как-то получать свой выигрыш с огромной хозяйственной сумкой.
Так. Другие бумаги. Старые школьные табеля. Квитанции об уплате членских взносов. Даже разрешение на платный показ всем желающим Луны и звезд в телескоп. Но денег не было. Я перелистал остальные бумаги. Все, ящик пуст. Его дно даже не было ничем застлано, так что больше смотреть было негде. Палму наблюдал за моими поисками, дымя трубкой. Когда я закончил, он меланхолически заметил:
— Кое-чего не хватает…
— Разумеется, не хватает… денег! — рассерженно сказал я.
— Вы, видно, никогда не покупали лотерейные билеты, — предположил Палму.
— Да, — сказал я, еще не понимая, в чем дело, и глядя на повеселевшее лицо Кокки. — Я их не покупаю. Мне всегда не везет.
— А дело в том, что государство сразу удерживает с главного выигрыша тридцатипроцентный налог, — заметил Палму. — Можем посчитать. С семи миллионов это будет два миллиона сто тысяч. Значит, остается четыре миллиона девятьсот тысяч. Пусть округленно — пять миллионов, раз старик упоминал именно эту сумму. Но главный выигрыш, насколько я знаю, сейчас равен именно семи миллионам.
— В любом случае денег нет! — прервал я его подсчеты. — Пусть один миллион четыреста тысяч или даже семьсот тысяч наличными, как говорила нам барышня Похъянвуори, но их все равно нет!
— Чего нет, так это квитанции об удержании налога, — сказал Палму. — Мне кажется, старый Нордберг был человеком настолько аккуратным, что вряд ли стал бы выбрасывать такую бумаженцию. Он ее наверняка сохранил бы.
— А мне кажется, что все это пустые придирки, — сухо заметил я. — Всякие мелочи всегда выпадают, не стыкуются. Уж ты, Палму, как опытный полицейский, мог бы это знать. К тому же квитанция еще может найтись. А у нас сейчас есть более важные дела. Барышня Похъянвуори, спасибо большое за гостеприимство. Эти бумаги я пока возьму с собой. Вместе со сберегательными книжками и завещанием. У меня в сейфе они будут сохраннее. К сожалению, мне придется также попросить у вас ключи от квартиры. Вам теперь здесь оставаться нельзя. Одной, я имею в виду.
— Но я же не могу бросить так грязную посуду! — воспротивилась девушка.
— Я с удовольствием побуду с барышней, — поспешно предложил Кокки. — Мы можем вместе распаковать вещи и разложить все по местам.
Девушка особой радости не выказала.
— Я помогу вам вытирать посуду! — сделал Кокки еще одну отчаянную попытку.
— Ну хорошо, — кивнула девушка, а Палму многозначительно толкнул меня в бок, намекая, что Кокки что-то задумал.
Конечно, таким образом он мог осмотреть все, не возбуждая никаких подозрений. И тут ему помощники были не нужны. Да и мы в нем больше не нуждались. По крайней мере я так считал.
Палму наклонился и выбил трубку о каблук. Пепел высыпался на пол. Заметив взгляд девушки, он хоть догадался извиниться.
— Отвратительная привычка! — сказал он. — Сам знаю. Пытаюсь следить за собой, но вот — старею, рассеянным становлюсь… Кстати, проформы ради: что вы вчера ночью делали, часиков этак в двенадцать? То есть я хочу спросить, когда вы вернулись домой?
Девушка вздрогнула, и глаза у нее забегали.
— Я… я… — она подыскивала слова, — я, правда, вернулась совсем поздно, только в час. Отец был ужасно сердит. Но я так беспокоилась из-за этой разбитой витрины. Из-за Вилле. Я после полицейского участка совсем не знала, где его искать. Даже придумать не могла, где он может быть. Ну, я шла пешком и думала. Так, обо всем. Смотрела на огни на берегу залива. И еще думала, что сказать отцу.
— Он пока не знает? — деликатно осведомился я.
— Нет, нет конечно! — ужаснулась девушка. — Он бы убил меня! Я говорила вам… Ну вот, я и решила тогда, что… что лучше вернусь сюда — прямо сразу. А потом перееду вместе с дядей, насовсем. Останусь с ним… Я и вернулась. То есть вошла во двор… Свет у дяди в окнах не горел, и мне стало жалко его. Дядя очень плохо спал, а если бы он читал в кровати, я бы увидела свет ночника. И я подумала, что ему надо отдохнуть. Мне не хотелось будить его. Я и представить себе не могла… Вот почему я сегодня так удивилась, когда увидела, что он не ложился. Я ведь была совершенно уверена, что он спит. Я только поэтому и не стала беспокоить его, пошла домой!
— И в какое время все это происходило? — резко спросил Палму.
— Я не могу точно сказать, — ответила она. — Мои часы то спешат, то отстают. Думаю, было около часа. Когда я пришла домой, часы вообще стояли. Я их обычно завожу вечером, перед сном. Отец утверждал, что уже утро, но он всегда преувеличивает. Он… он был просто в ярости и кричал… кричал, что я стала уличной девкой…
— Вы видели кого-нибудь во дворе? — спросил Палму.
— Нет, — ответила она, но, подумав немного, добавила: — Вернее, видела, но не во дворе, а раньше, когда я открывала калитку — там замок очень трудный; так вот, прямо из калитки на меня выскочил какой-то пьяный, он, наверно, никак не мог сам отпереть замок изнутри. Но он сразу пошел по улице, шатаясь из стороны в сторону. Я еще подумала, что его наверняка полицейские скоро задержат. Но потом я о нем больше не думала, у меня своих забот хватало. Только сейчас вспомнила, когда комиссар спросил.
— Приметы? — потребовал Палму.
— Но я не знаю! — запротестовала девушка. — У него была шляпа надвинута на самые глаза… кажется, он был в черном плаще. Там ведь совсем темно, освещение слабое… Крупный такой мужчина, гораздо больше меня. Совсем пьяный… Я и не думала его рассматривать! Если на них посмотришь, они сразу руки распускают.
— Ага, понятно, — сказал Палму. — Значит, это был не битник. И не стиляга. Нам уже барышня объясняла, что между ними огромная разница. И вы, разумеется, сразу заметили бы, если бы это был кто-то из них.
— Конечно! — заверила девушка. — Это был совсем пожилой мужчина! Лет сорока, наверно.
От этих слов на меня повеяло могильным холодом: я не думал, что сорокалетний мужчина может казаться безнадежным стариком.
— Но вы бы его узнали, если б встретили? — с надеждой спросил Палму.
— Не уверена, — с сомнением в голосе сказала девушка.
— Ну хорошо, — нетерпеливо сказал я. — Это к делу не относится. Можно, конечно, опросить жильцов дома, этого мужчину кто-то мог видеть, и тогда ситуация прояснится. Какая-нибудь женщина, поджидавшая мужа, могла высунуться из окна, услышав стук калитки. Такое часто случается. Но, Палму, ей-богу, не стоит заострять на этом внимание!
— Хорошо, больше не заостряем, — легко согласился Палму. — Все равно в этом доме в субботу вечером народу немного наберется. Вот завтра утром картина будет другой. А я очень кстати обещал зайти на утренний кофе к той даме из нижней квартиры.
И Палму очень весело захихикал, довольный своим остроумием. Я сурово посмотрел на него.
— Пошли! — сказал я. — Всего доброго, барышня Похъянвуори.
Но тут девушка уцепилась за мою руку.
— Комиссар Палму сказал мне, что вы задержали Вилле. Разрешите мне навестить его! — умоляюще сказала она.
— Мы вернемся к этому вопросу завтра, — поспешно ответил я. — Позвоните мне. А сейчас дадим Вилле отдохнуть.
Мне казалось, будет лучше, если девушка сначала прочитает спокойно утренние газеты, и тогда она сможет правильно оценить ситуацию. У меня не было желания брать объяснения на себя.
— Когда будете уходить, — Палму наставлял Кокки, — впустите сюда полицейского, пусть погреется. Может просидеть здесь ночь. Что ему зря мерзнуть на лестничной площадке!
И они обменялись понимающим многозначительным взглядом. Я хлопнул себя по лбу.
— О Господи! — простонал я. — Журналисты и фоторепортеры! Они же вломятся сюда! И я никак не смогу это предотвратить.
— Ничего, мы с барышней будем позировать, — с энтузиазмом пообещал Кокки.
И мы ушли. Полицейскому на площадке я намекнул, что если будет мерзнуть, то может провести ночь в квартире. Честно говоря, я не ожидал, что сюда кто-нибудь пожалует. Вилле был за решеткой. Ключи, правда, куда-то пропали — Палму обязательно сказал бы, если б они оказались у Вилле в кармане. Так что лучше было подстраховаться. К тому же, устраивая засаду, я как-то вырастал в собственных глазах.
Репортеры обступили нас, едва мы вышли за калитку. Но теперь только одна одинокая вспышка сверкнула нам навстречу. Они берегли пленку.
— Заходите и можете фотографировать все, что хотите, — сделал я широкий жест. — Расследование идет по верному пути. Думаю, позже вечером смогу сделать заявление для прессы. — Толпа загудела одобрительно. — Часов в одиннадцать, — осторожно пообещал я. — Да, приходите в двадцать три ноль-ноль. Впрочем, вам, может быть, придется немного подождать. Мне в данном случае от вас ничего не нужно. Но вы, быть может, успеете кое-что дать в свои газеты, прежде чем они уйдут в набор!
Репортеры даже не успели рта раскрыть — не то что начать клянчить! И, конечно, они были здорово удивлены такой моей щедростью. Потому что наш командир — я имею в виду начальника нашего отделения — их никогда не баловал. Но пока что распоряжался я. А я не был сторонником гомеопатических доз — гулять так гулять!
К моему изумлению, Палму одобрительно кивал, слушая мои обещания, и, садясь в машину, довольно пробурчал:
— Хоть на время от них избавимся!
Но что меня еще больше изумляло, так это его унылая физиономия. Мне казалось, что он должен в данной ситуации выказать подобающие радость и восхищение. Он же, напротив, сидел погрузившись в свои мысли и недовольно жевал мундштук пустой трубки. Это был плохой признак. Значит, что-то, по его мнению, складывалось не так, как надо. Но, с другой стороны, подумал я, все это, может быть, чистая зависть — стареет, ну и так далее.
Пока он грыз трубку, я тоже размышлял. И потом нравоучительно сказал:
— Надеюсь, ты понимаешь, Палму, что все только подтверждает виновность Вилле. Девушка о завещании знала. И, несомненно, рассказала о нем Вилле. Для неимущего сироты подобная сумма должна показаться колоссальной! Против соблазна устоять невозможно. Затем, скажем, ссора со стариком. А у парня и так нервная система неустойчивая, и он, конечно, впадает в страшную ярость. Припадок бешенства. Про деньги он знает. Собирается переехать и жить вместе с девушкой на новой квартире. Зачем же ему делить эту квартиру со стариком? Старик норовит наставлять да советовать, а они этого не любят. Чуваки эти.
— Ну конечно, раз хорошенькие глазки — так ты и уши развесил! — вдруг съехидничал Палму. — И давай себе воображать, рисовать разные картины… А где она сама была? Вот она признается, что дошла до двора. А почему? А потому, что есть свидетель — этот пьяный; поэтому ей и нет смысла запираться. Ты думай головой, а не ахай — ах, хорошенькая девочка, ах, миленькое личико! Ведь мы только с ее слов знаем, что старику она якобы все рассказала. А может, если бы Нордбергу действительно было известно, что его ненаглядная невинная овечка поимела ребенка от этого негодяя и бездельника, может, тогда завещание прямиком полетело бы в печку, а про переезд вообще речи не было бы! Вот почему стоило вскрыть конверт и удостовериться, что с завещанием все в порядке!
Я не верил своим ушам.
— Чтобы эта девушка была тоже… — начал я. — Этого не может быть! Никогда… я не могу так ошибиться в человеке. Я никогда не ошибался… А если… — Страшные подозрения стали зарождаться в моей душе. Ведь бывало же раньше, что Палму оказывался прав! Хорошенькие личики, и правда, были моей слабостью. — Ладно, в любом случае Вилле за решеткой, — сказал я. — И там останется. До тех пор, пока это зависит от меня. А мы, конечно, можем заняться расследованием ее участия… Но если она действительно хладнокровная преступница или соучастница преступления, нам будет трудно найти неопровержимые доказательства…
— Воображение! — очень довольный, расхохотался Палму. — Ну, видишь, до чего оно может довести?! И сколько раз я тебе говорил! Но тебе хоть кол на голове теши…
Всю оставшуюся дорогу я дулся. Ну почему, почему он так любит портить мне настроение, обливать меня ушатами холодной воды! И именно в момент моего торжества! А ведь еще в час дня я даже в самых смелых мечтах не мог представить себе, какой триумф ожидает меня вечером! Нет, воля ваша, Палму просто старый, вредный и злющий осел!
Мы прошли прямо в мой кабинет. И обнаружили там Кархунена, стоявшего со сцепленными за спиной руками и караулившего блестящий латунный телескоп на треноге. Значит, журналисты поручение выполнили.
С радостным видом он щелкнул каблуками и откозырял.
— Вот она, эта чертова машина! — счел нужным сообщить он, как будто у меня самого не было глаз. — Меня тоже фотографировали! Завтра посмотрю в газетах, поместят ли снимки…
— Спасибо, Кархунен, — сказал я почему-то с тяжелым сердцем. — Все, больше его охранять не нужно, вы свободны.
Но Кархунен не хотел быть свободным.
— Посмотрите, какая замечательная штуковина! Вот этот винт, — принялся объяснять он, — если его подкрутить, то можно настроить так, что все хорошо видно. Вот этот винт поднимает трубу, а этот поворачивает.
Он расхваливал телескоп, как будто собирался продать его мне.
— Спасибо, спасибо, все понятно, — нетерпеливо сказал я. — Можете идти.
Но тут телескопом чрезвычайно заинтересовался Палму. Как назло! Он заново выслушал все объяснения Кархунена и лично покрутил все винты. Наконец Кархунен закончил и двинулся к выходу.
— Ах да, — припомнил он, стоя уже на пороге. — Вам тут все время звонили — сверхсрочные телефонные разговоры, разговоры-молнии и все в таком роде. Начальник отдела не смог отплыть от своих островов, потому что у него сломалась моторка, а идти к материку на веслах он в темноте не решился, из-за сильного ветра. Он требовал у портовой полиции прислать за ним быстроходную моторку, но они не прислали… Они и не могли — в субботу-то вечером! Да еще все ведь должны находиться в боевой готовности, на случай, если вам понадобятся. Шеф полиции так распорядился… Ну вот, а начальник отдела, значит, сидит себе сейчас на своей даче и ругается почем зря. Он про наши дела узнал только из вечерних новостей, а так все птиц до темноты стрелял. Из дробовика, я спросил. Я тоже иногда на зайцев хожу…
Но слушать охотничьи воспоминания я был не в силах и пресек эту тему. Кархунен, видно, сильно истосковался по человеческому обществу, поджидая нас, и теперь был чересчур разговорчив. Уже закрывая дверь, он проговорил в щелку:
— Начальник велел передать вам привет и сказал, чтоб вы ему срочно позвонили!
Но до телефона я не успел добраться: на своем столе обнаружил конверт, на котором было написано: «Срочно!» Подчеркнуто двумя красными чертами. Конверт был от редактора ежедневной газеты. Я вскрыл его.
Внутри лежал свежий корректурный оттиск. И записка редактора зарубежного отдела, моего бывшего школьного приятеля.
«Привет, старина! — гласила записка. — Это, конечно, запрещено, но я забегал случайно в наборный цех и смог стащить для тебя гранки — чтобы ты успел заранее намылить себе веревку! До встречи на небесах! Твой Хекке».
Я начал читать, и по мере чтения волосы мои вставали дыбом. Я верю в силу печатного слова. А это была, судя по всему, завтрашняя передовица. Под заголовком БЕССИЛИЕ НАБИРАЕТ СИЛУ, набранным прописными буквами.
«Мы привыкли к полному равнодушию со стороны полиции, — так начиналась статья. — Отсутствие дружеского сотрудничества и недооценка значения голоса общественности суть неотъемлемые черты работы криминальной полиции. Хорошо, наша печать свыклась с этим. Так же как с нерадивостью полиции порядка, по чьей милости центр города перестал быть безопасным местом. Тот, кто сомневается в этом, может попробовать прогуляться в сумерках в окрестностях Старой церкви. Или предложить компании стиляг на каком-нибудь углу посторониться и дать дорогу. Но лучше, поверьте, не делать этого. Не подвергать себя опасности. А в том, что это действительно опасно, сомневаться теперь не приходится.
Итак, почтенный пожилой господин хладнокровно убит, обобран и искалечен в самом центре города, в Обсерваторском парке. Но это еще не все. У нас есть веские основания утверждать, что полиция намерена замять дело, похоронить это ужасающее преступление вместе с телом одинокого старика, оставленным за ненадобностью в морге. Мы знаем, что полиция не удосужилась осмотреть место происшествия, что не сделано ни одного снимка, не говоря уже о поиске свидетелей. По чистой случайности журналист вечерней газеты оказался на месте происшествия, и только благодаря ему полиция вообще взялась за дело.
И как же она за него взялась? Сначала она оцепила Обсерваторский холм, дабы преградить дорогу фоторепортерам и помешать им выполнять их обязанности. Затем под завывание сирен по городу понеслись полицейские фургоны для облавы, так называемые «черные воронки». И полицейские части с дубинками, криком и руганью атаковали студентов и школьников, собравшихся на своем обычном месте для прогулок; после чего полиция похватала и отправила в тюрьму два десятка ни в чем не повинных юношей и девушек, не имевших, разумеется, никакого отношения к преступлению. Их, конечно, пришлось спешно освобождать и отпускать по домам. Все понятно — бессильной полиции захотелось продемонстрировать свою силу! Но Финляндия не полицейское государство. Пока еще нет. А вот что нас ждет в будущем, если все будет продолжаться в том же духе, — это вопрос. Его мы и хотим задать. Caveant consules![8]
Нам посчастливилось узнать, что начальник отдела криминальной полиции сейчас отдыхает. Никто не ставит под сомнение его право на отдых. Но более чем сомнительной оказывается его способность разбираться в людях, ибо в свое кресло он счел возможным посадить абсолютно неопытного вице-судью, чья некомпетентность выявилась самым удручающим образом».
В глазах у меня помутилось, и последние строки я уже не смог прочитать. Автор требовал крови. Конкретно моей, жаждал получить мою голову на блюде. И это в передовице ведущей воскресной газеты! Холодный пот прошиб меня. С немым отчаянием я протянул гранки Палму. Он внимательно прочитал все от начала до конца и даже пару раз хохотнул.
— Все-таки это большое счастье — жить в демократической стране! — оптимистично заметил он. — Свобода слова! Разумеется, полиция не должна ни с того ни с сего вцепляться в сынка правительственного советника и тащить его вместе с приятелями в КПЗ. Заруби это себе на носу. Неплохо также запомнить, что полицейские не должны в полный голос изрыгать проклятия, если какой-нибудь чувак лягает их в живот, а какая-нибудь чувиха цапает им до крови лицо. Полицейский вообще не должен ругаться, никогда — то есть пока он находится при исполнении служебных обязанностей. Я это вдалбливаю всю жизнь!
— Ужас! — беспомощно простонал я. — Моя карьера кончена, если это будет напечатано! — Мной овладело непреодолимое желание пойти и своими глазами убедиться, что Вилле здесь, в полной сохранности, под замком. — Пойдем, — сказал я, — Вилле — это моя единственная надежда. Он ведь признался. Во всем. Пойдем убедимся, что он еще жив. А то меня потом обвинят, что я свел в могилу бедного невинного ребенка.
Палму не стал возражать. И мы пошли. Мы проходили по гулким коридорам мимо преступных, погибших желаний, запертых за окованными железом дверьми. Пахло жидким мылом и скипидаром. Мы свернули в последний коридор, и я остолбенел, увидев полосу света, выбивающуюся из приоткрытой двери камеры. Алпио сидел на табуретке возле двери, привалившись к стене; голова и руки его безвольно висели.
В первое мгновение я решил, что Вилле саданул его по голове, а сам сбежал. Но через секунду я уловил мирное и сладкое похрапывание. Я постучал Алпио по плечу с такой силой, что тот мешком свалился на пол.
— Но-но, — предостерегающе сказал Палму. — Алпио уже старый человек.
Признаюсь честно, я сам тут же раскаялся в своей несдержанности, увидев честное и простодушное выражение на бородатом лице.
— Тш-ш! — Алпио прижал палец к губам, подымаясь с пола. — Парень спит.
— Как вы посмели оставить дверь открытой! — прошипел я как можно тише и, вытянув шею, осторожно заглянул в камеру.
У меня отлегло от сердца. Вилле был в полной сохранности и спокойно спал — с открытым ртом и прилипшими к потному лбу прядями волос. Возле него на табуретке по-домашнему расположились пустой стакан из-под молока и недоеденный бутерброд. Унылую лампочку заботливый Алпио завесил газетой, чтобы свет не бил парню в глаза.
— Вилле не хотел спать в запертой камере, — мягко сказал Алпио. — Он ведь никогда еще не попадал в тюрьму. Ремень я у него отобрал и шнурки тоже, чтобы он какую-нибудь глупость не учинил. Ну а сам собирался, конечно, всю ночь здесь просидеть. Вот только вздремнул немного.
— Это убийца! — возмущенно прошипел я. — Вы что, Алпио, не понимаете?! Он ведь вас тоже мог убить — и глазом не моргнул бы! Вы газеты хоть читаете?
Я бросил взгляд на Вилле. Его расслабленное во сне лицо казалось беспомощным. Рот был открыт, как у слабоумного, мокрая нижняя губа отвисла, безвольный подбородок… Типичный врожденный психопат, подумал я. Живое наглядное пособие к учебнику по психиатрии.
Но Алпио неожиданно рассердился и с непривычной твердостью возразил:
— Знаете что, если этот паренек — убийца, значит, я выжил из ума! Не тот это тип, вот что я вам скажу. Просто он сирота, и жизнь его не баловала. А так, в душе он парень хороший, славный парень — можете мне поверить!
— Да, конечно, — согласился Палму, — разве это лицо убийцы?
На секунду я заколебался, но быстро взял себя в руки. Старик Алпио вообще верит, что все люди добрые и хорошие, и готов последнюю рубашку с себя снять ради какого-нибудь отъявленного преступника. И Фредрик Нордберг, между прочим, тоже верил, что все добрые. А где он теперь? Лежит в морге. С разбитым лицом и сломанными ребрами.
— Так: дверь закрыть, Алпио! — приказал я. — Если вам нравится спать на табуретке — пожалуйста, но дверь закройте. Это приказ. Думаю, вы услышите, когда он проснется.
— Да куда ж он отсюда денется? — удивленно спросил Алпио. — Но, конечно, раз это приказ…
Бормоча что-то себе под нос, он закрыл дверь и с великими предосторожностями стал поворачивать ключ в замке — только бы не разбудить спящего ягненочка! Я смягчился:
— Закажите ему еду из столовой, если он захочет. Если попросит, дайте почитать. Можете побеседовать. Вообще пусть он успокоится. Что-что, а успокаивать вы умеете!
Удивительно, но ни один преступник никогда не причинял Алпио никакого вреда, никто даже пальцем не тронул, хотя его простодушие и бесхитростность просто, на мой взгляд, провоцировали людей. Но нет, наоборот, при виде его бородатой физиономии всякая грызня и шум прекращались. При нем даже стеснялись ругаться… Впрочем, это к делу сейчас не относилось.
За мной пришли — меня вызывал начальник полиции. И мы отправились прямо к нему. Он сидел как ни в чем не бывало в своем ярко освещенном кабинете. Я почтительно откозырял, как и положено. А Палму запросто, по-приятельски кивнул. Нельзя сказать, чтоб начальник был не в духе, нет, но все же на меня он воззрился как-то чересчур пристально. Некоторое время он молчал и возился с бумагами на своем столе, перекладывая их с одной стороны на другую. Потом наконец заговорил:
— До меня дошли сведения, полученные, разумеется, строго конфиденциально, что одна — э-э — крупная ежедневная газета намерена завтра дать в качестве передовой статьи крайне — э-э — неприятный материал о деятельности полиции. Уверены ли вы, судья, что в проделанной вами работе не было упущений?
— Насколько это в человеческих силах — не было, — твердо сказал я. — Но я всего лишь человек. Господин начальник, несомненно, учитывает это. Да, я неопытный юрист! — Мой голос зазвенел. — Тем не менее до сих пор я пользовался доверием. Наш начальник отдела сейчас в отпуске, охотится. И ответственность целиком лежит на мне. А я делаю все, что в моих силах. — Я покосился на Палму. Но он только вертел свою трубку. Я продолжил: — Дело фактически расследовано. Конечно, не проведены еще необходимые допросы, проверки, обыски, но, на мой взгляд, все это чистая формальность. Никто не смог бы сделать всего за полдня! Однако если господин начальник прикажет, я охотно передам дело в другие руки. Поскольку виновный уже задержан и находится в тюрьме.
Палму кашлянул.
— Подозреваемый, — машинально поправился я, даже не поглядев в его сторону. — Но подозрения чрезвычайно серьезные. Я уверен в его виновности. Существуют совершенно очевидные косвенные свидетельства, а также собственное признание подозреваемого.
Палму еще раз кашлянул. Уже с раздражением. По-моему, совершенно не обоснованным.
— Я не оказывал нажима и не собираюсь! — заверил я. — Наоборот, я сразу отправил парня в камеру отдыхать, пусть поест, отоспится. Алпио за ним ухаживает. Сопротивления он не оказывал. Собирался даже покончить жизнь самоубийством, хотел прыгнуть под поезд, но его остановили.
Начальник улыбнулся — может быть, несколько странной улыбкой, но взгляд его смягчился.
— Мне только хотелось прояснить ситуацию, — сказал он. — Можете быть спокойны, судья. Вы, наверно, знаете, что ваш начальник все еще сидит на острове и льет горючие слезы, а весь остров вокруг засыпан окровавленными трупами птиц. Он мне тоже звонил и жаловался, что вы с ним не связались. Я, по правде говоря, не совсем понял, чем бы он мог вам помочь оттуда, но вам все же, пожалуй, стоит позвонить ему и успокоить.
Начальник полиции рассеянно постучал ручкой по столу.
— Господин начальник, может быть, вы согласились бы пойти вместе с нами, — с готовностью предложил я. — Мне сейчас надо сделать заявление для журналистов. В двадцать три часа. А то они не успокоятся.
— Нет, благодарю, — отказался он. — Я занят. У нас, у стариков, сегодня вечером в клубе винт. Вы сможете найти меня там, если я понадоблюсь. А губернатору и министру внутренних дел я сам позвоню, так что об этом можете не беспокоиться. Должен же и я как-то отрабатывать свой хлеб!
То ли мне показалось, то ли в самом деле в его голосе прозвучали добрые нотки — не знаю, правда, не знаю, но он заметил каким-то легкомысленным тоном, словно намекая на что-то:
— Жаль, чрезвычайно жаль, что вчерашнюю репетицию хора никто не заснял! Это было бы прекрасной рекламой вашей поездки в Копенгаген, если, конечно, материал попал бы в газеты. Быть может, кого-то это заинтересовало бы: благое дело — поддержать хор и что-нибудь пожертвовать… А то я слышал, из-за недостатка средств многие не смогут поехать, хотя вы и пытаетесь устроить все очень скромно.
Я был вынужден посмотреть на Палму, так как не мог понять, насмехается начальник надо мной или вправду сочувствует нам. Но лица обоих были одинаково непроницаемы.
Так или иначе, но начальник поднялся из-за стола, подошел к нам и дружески положил нам на плечи руки, а затем подтолкнул к выходу. Сначала Палму, потом меня. Значит, мы были в фаворе. Оба. Палму тоже. Почему и он — этого я понять не мог. Быть может, начальнику просто хотелось ободрить стареющего работника.
Итак, мы направились в мой кабинет, но настроение у меня почему-то совсем упало. Хотя времени было еще достаточно. К тому же я вспомнил, что в спешке оставил на столе документы Нордберга, и мне стало стыдно. Конечно, никто их взять не мог, но все же… В приемной околачивались пятеро полицейских в ожидании указаний; среди них был и Тяхтинен. То есть они, конечно, не околачивались, а находились в состоянии боевой готовности, что и продемонстрировали, энергично и дружно вскочив при моем появлении; на лицах всех была написана решимость.
Но я даже не удостоил их взглядом, сразу прошел в кабинет и устало попросил Палму:
— Будь добр, положи эти бумаги в сейф. А остальное убери, все это теперь никому не нужно. Я сейчас позвоню начальнику, а потом попробую сляпать хоть какое-то заявление для прессы. Думаю, лучше написать его, чтобы чувствовать себя увереннее. И чтобы зря не трепать языком — как ты говоришь!
Последние слова я произнес с горечью. Внутри у меня все ныло от тоскливых предчувствий, я ощущал усталость и разочарование. Почему? Почему именно теперь, в момент моего торжества, моего фавора?
Палму дружелюбно посмотрел на меня, повертел в руках трубку и ободряюще сказал:
— Так и действуй… Да, знаешь, если ты не против, я пока займу этих лодырей делом, просто чтобы заштопать кое-какие наши прорехи. Хоть это и формальности, но все-таки их нужно исполнить.
— Ну конечно, — рассеянно согласился я, мысленно прикидывая, что сказать журналистам. — Делай, как считаешь нужным. Я тебе полностью доверяю. Тем более в таких делах — ты же опытнее меня! Впрочем, это твоя должность. Разыщешь квартиру Вилле, ну и все прочее. В общем, понятно. Можешь идти.
А я стал звонить начальнику отдела. По нашей связи. Коротко доложил ситуацию и объяснил, что все были очень заняты из-за срочности дела. Я совершенно успокоил его. Он даже сказал под конец, что напрасно забросил охоту: небо как раз расчистилось и ветер стих.
— Ну, молодец! — на прощание похвалил он. — А то я тут совсем было психанул. Я ведь не знал, что Палму там… Ну ладно, всех благ!
Обойтись без этого последнего укола он, конечно, не мог! Ну да ладно. Я вытащил пишущую машинку и, сжав зубы, принялся печатать. Текст пошел быстро. Я начал второй лист. Потом темп замедлился. Снова зашевелился холодный клубок у меня внутри. Неужели простуда?! В ужасе я попробовал голос, взял несколько нот. Нет, голосовые связки в порядке. А прорвавшаяся пару раз хрипотца была просто следствием волнения.
Я скомкал напечатанные страницы и выбросил их в мусорную корзину. Немного посидел, подумал. И стал составлять другое заявление, покороче. Я думал о Вилле, о девушке. О старике Нордберге, верившем в человеческую доброту. Смотрел на телескоп, возвышавшийся посреди комнаты, и на пустую урну из парка. И многое вдруг показалось мне мелким и вздорным. Писать было легко. Легко было писать коротко.
Потом в приемной послышался шум, голоса. Без пяти одиннадцать раздался деликатный стук в дверь, и в кабинет тихо вошел Палму.
— Вот так так! — Брови Палму изумленно полезли вверх. — А где же наш вдохновенный дар? Я думал, что тут уже страниц десять готово…
У меня в руках был один листок, исписанный едва до половины. Я, конечно, мог дать его Палму, чтобы он просмотрел текст. Для этого он, наверно, и зашел, подумал я. Но я не дал.
— Скажи, чтоб заходили, — попросил я.
Теснясь, в кабинет стали набиваться галдящие газетчики, фоторепортеры высоко поднимали камеры. Сверкнуло несколько вспышек. Я стоял за своим столом. Понемногу все угомонились, стало тихо. Взгляды обратились ко мне. И на этот раз я не пытался придать своему лицу какое-то особенное выражение. Я был естествен. Я думал о Вилле.
И читать стал прямо по бумаге. Монотонно. Чтобы удобнее было записывать. Закончил я с нажимом:
«По мнению полиции, речь не может идти ни о какой преступной молодежной группировке. Подозреваемый являет собой пограничный случай, предположительно психопатический. В связи с несовершеннолетним возрастом подозреваемого его имя не может быть оглашено. По этой же причине судебное разбирательство будет проходить при закрытых дверях».
— Это все, — заключил я. — Мне нечего больше добавить. За дополнительной информацией можете обращаться к начальнику нашего отдела, который возвращается из отпуска в понедельник. Адресуйтесь к нему.
Разочарованные возгласы и гомон заполнили кабинет. Я бросил взгляд на Палму. Тот, посасывая трубку, смотрел на меня со странным выражением. Я бы даже сказал с уважением, если бы речь шла не о Палму. Я перевел взгляд на журналистов. Они понемногу стихали — быть может, начинали сознавать, что под вопросом будущее, вообще целая жизнь еще очень молодого человека, почти мальчика. Несчастному старику теперь никто не мог помочь. Он уже начал свое чудесное превращение, или путешествие, и я в душе пожелал ему удачи!
Поняв, что из меня больше ничего не выжмешь, газетчики стали спешно покидать помещение и разлетаться по редакциям. Кто-то попросил разрешения воспользоваться моим телефоном. Я отказал — как будто нельзя позвонить из другого места! А как было бы здорово, если бы он позвонил и сказал, что намеченную в завтрашний номер передовицу лучше рассыпать, а вместо нее дать другой материал — скажем, о дренаже полей. Чем не захватывающая тема для воскресного номера!
Наконец приемная опустела. Мы остались вдвоем, Палму и я. У меня в носу все еще стоял скипидарный запах погибших желаний, витавший в гулких коридорах. Я сам был как такой коридор, напитанный запахом, с окованными дверьми по обеим его сторонам. И за каждой дверью скрывался мой грех и моя вина… Мне вдруг захотелось плакать. Мы, певцы, люди искусства, вообще такие — сентиментальные. Но уж если в кои-то веки наши души охватывает и переполняет радость, то и радуемся мы на всю катушку! Конечно, другим людям это трудно понять. Особенно тем, кто лишен слуха и голоса.
— Ну хорошо, — сказал я, чувствуя, что молчание становится тягостным, — ты ведь наверняка торопишься в свой бар. Субботний вечер, все такое. Ты еще успеешь до закрытия. Давай беги!
— Слушай-ка, — очень серьезно, без тени насмешки сказал Палму, — ты, кажется, становишься мужчиной. Никогда бы не подумал! — Он задумчиво посмотрел на телескоп. — «Звезды расскажут тебе…» пропел он, чудовищно фальшивя. — Такая песенка есть, да? Я по радио слышал.
— Надеешься, что тебя возьмут с хором в Копенгаген? — ехидно спросил я. — Поздно начал, мой друг! У тебя нет ни слуха, ни голоса.
— Что мне, старику, делать в Копенгагене! — отмахнулся Палму. — Мне другие мысли в голову приходят. О бескрайних просторах Вселенной… Нет, сегодня я не тороплюсь в свой бар. — Тут он как будто смутился и стал водить носком ботинка по полу, совсем как Кокки. Я глядел на него во все глаза. — Я вот что подумал: не взять ли нам этот телескоп под мышку и не пойти ли с ним на Обсерваторский холм, — сказал Палму. — Давай-ка сходим! На звезды полюбуемся. Если небо чистое…
Глава восьмая
Я продолжал смотреть на него во все глаза. Он это всерьез? Или тут какой-то подвох?
— Вызовем тогда уж машину, — недоверчиво проговорил я. — Не буду же я с такой штуковиной под мышкой тащиться по городу!
— Я понесу, — с готовностью предложил Палму. — Все будет отлично. Я возьму его на плечо. И пойду сзади, чтобы не смущать господина начальника. Попробуем! Если уж Нордберг, старый человек с больным сердцем и вообще нездоровый, мог таскать его каждый вечер, неужели ж я не дотащу?! Правда, у меня колено… ревматизм…
Он сложил штатив и лихо взвалил телескоп на плечо.
— А ну-ка поставь! — приказал я.
Телескоп вместе со штативом оказался весьма увесистым. Мы прошли по нашей Софийской улице, пересекли Рыночную площадь и двинулись по Южной набережной. На Эспланаде, одной из старейших центральных улиц, было пустынно, хотя стоял субботний вечер. Возле шикарного рыбного ресторана почему-то не роились, как обычно, стиляги. И почему-то ни один битник не попался нам навстречу, хотя вечерние сеансы в кино уже закончились. И никто не носился на мотоциклах по набережной. Было совсем тихо и пустынно. А когда мы выходили из голубых кругов света, ложившихся от фонарей, то на ясном небе были видны звезды. Я уже не помнил, когда в последний раз смотрел на звездное небо.
На холм я взбирался, изрядно пыхтя. Палму подбадривал меня:
— Молодец. Ведь и старик Нордберг не всю дорогу тащил его! Он до костела на трамвайчике подъезжал. Помнишь того трамвайного кондуктора? Чего он только не поведал! А старика называл «благородный старый господин». Хотя и «немного потрепанный». Нордберг ему тоже составлял гороскоп. Бесплатно, ради удовольствия. Очень основательный гороскоп, со всеми удачными или счастливыми днями и всем прочим.
Мы медленно поднимались по холму вверх. Место урны пустовало. Среди деревьев стояла кромешная тьма. Ни одного любителя ночных прогулок мы не встретили.
— Неужто ты, взрослый человек, веришь в астрологию? — насмешливо спросил я.
— «О небо! О земля!»[9] — с чувством прочитал Палму, вспомнив Гамлета.
— Ну все — если ты сейчас начнешь поминать призраков, я немедленно отправлюсь обратно! — пригрозил я.
Недалеко от Памятника жертвам кораблекрушений, вернее, около известных кустов по-прежнему дежурил наряд. Два полицейских лениво отдали нам честь. Даже не нам, а скорее Палму. Меня они явно не узнали — освещение было слабоватое, а шляпу я надвинул на самые глаза.
— Ну как вы тут? — по-свойски осведомился Палму.
— Мерзнем, — откровенно сообщил констебль. — Больно холодно. А небо вон чистое, небось подморозит. Может, у вас покурить найдется а, комиссар? Нас так выдернули на дежурство это, что мы даже сигареты забыли купить!
— Да у меня трубка, — извиняющимся тоном сказал Палму. — А вот у нашего начальника наверняка есть. Он у нас всегда с сигаретами.
Только тут они догадались как-то подтянуться. До этого они, видимо, принимали меня за сыщика.
И я, честно говоря, не решился напоминать им, что на посту курить не положено. Вокруг не было ни души. Любители красивых видов попрятались по домам, опасаясь, вероятно, молодых гангстеров, засевших в кустах с резиновыми дубинками. И я молча протянул полицейским пачку сигарет.
Преисполненные благодарности, они помогли Палму установить телескоп в прежние лунки перед Памятником. Палму покрутил винт, и труба телескопа медленно поползла вверх.
— Жалко, что Луны нет, — заметил Палму, настроив телескоп. — На этих звездах, гляди не гляди, ничего не увидишь!
— Дай мне посмотреть, — попросил я и приложил глаз к окуляру. Увы, телескоп был не из лучших, и звездочка в нем выглядела просто как маленькая плошка.
— Надо было сначала в бинокль присмотреть какую-нибудь планету, — недовольно сказал Палму. — Правда, звездной карты у нас нет, я не удосужился ее найти. На октябрь-то будет в завтрашней газете, завтра ведь уже первое!
— День получки, — элегически заметил констебль, похлопывая себя по рукам, чтобы согреться. — Хоть бы глоток-другой пропустить! А то совсем окоченеешь… Можно и мне взглянуть?
Видимо, с сигаретами я поступил опрометчиво. Теперь оба констебля обращались со мной запанибрата. Однако, заметив мой взгляд, говоривший как-то дернулся и торопливо предупредил:
— Да нет, не подумайте чего, я на посту в рот не беру! Горячего кофейку бы сейчас, вот что!
Он посмотрел в телескоп, зябко передернул плечами и уступил место товарищу.
— Ну и сходите выпейте кофейку, — вдруг раздобрился Палму, — вам же еще целую ночь стоять! А мы тут пока подежурим.
— Но… — собрался было возразить я чисто из духа противоречия: даже мне было ясно, что из наших астрономических упражнений ничего не выйдет, пока эти двое топчутся у нас за спиной. — Ну хорошо, идите. — Я посмотрел на часы.
— У вас есть двадцать минут. Можете пробежаться, быстрее согреетесь. — Это было вполне в духе Палму, его шуточки. Но они и в самом деле весело заржали и топоча ринулись вниз с горы, так что земля задрожала.
— Н-да, народ… — вздохнул я и покачал головой.
Все забегаловки давным-давно закрылись, а бежать за чашкой кофе до ночного бара было далековато. Двадцать минут жесткий срок.
Палму разворачивал телескоп то в одну, то в другую сторону и любовался.
— А вон та, погляди, это что — Меркурий? — вопрошал он. — Или Марс? Красноватая такая.
Я посмотрел, но сказать ничего не мог: астрономию я не изучал. До планет было здорово далеко. Как и до звезд. Им там тоже, наверно, было нежарко. Морозец начал прихватывать всерьез.
— Да-а, ничего мы из них не выжмем, — решил наконец Палму и развернул телескоп вниз, на город. — О-о, смотри, как красиво подсвечен крест на Кафедральном соборе!
Собор действительно был в праздничной подсветке. Только-только вызолоченный крест сверкал ослепительно. В телескопе он выглядел массивным и величественным. Снизу, с площади, трудно было догадаться, что он такой большой.
— Ave crux, spes unica, — машинально произнес я — не в насмешку, нет, совершенно искренне.
— Это что еще? — подозрительно спросил Палму.
— А ты что, не знаешь? — удивился я. — Ты же учил латынь. Самостоятельно, по вечерам.
— Да я ничего, кроме нескольких выражений, не выучил, — скромно возразил Палму. — Я же простой самоучка, из старой полицейской гвардии. Ну, что это значит?
— «Радуйся, крест, единая надежда», — легко перевел я на финский. — Это приветствие первых христиан, выходивших на арену к львам. Стриндберг завещал высечь эти слова на своем кресте.
— Август Стриндберг? — недоверчиво спросил Палму. — А ты что, своими глазами видел?
— Нет, читал, — с горечью сказал я. — Но я, как известно, верю всякому печатному слову.
Палму направил телескоп на жилые кварталы Катаянокка и, вдруг захихикав, энергично поманил меня к себе.
— О, тут есть на что посмотреть! — призывно воскликнул он. — Иди скорее! Ты у нас еще молодой, что мне, старику, любоваться…
Я уставился в телескоп. На верхнем этаже многоэтажного дома в ярко освещенной спальне молодая женщина надевала ночную сорочку. Окна были не занавешены. Если вообще там были занавески. В принципе они были не нужны, потому что домов напротив не было и подглядывать было некому.
Я отпрыгнул от телескопа с такой поспешностью, что грохнулся навзничь.
— Ну, Палму, — в сердцах сказал я, — не ожидал!
— Прошу прощения, — извинился он, — я и не подозревал, что вы столь девственны. И что тут такого? Лично я наблюдал девушек, купавшихся без купальников.
Только что увиденная картинка возникла у меня перед глазами как живая, и я вспыхнул. Женщина была очень недурна! Узкая талия, стройные бедра и большое родимое пятно сбоку, на мягкой, так сказать, части.
Палму никакого смущения не испытывал. Напротив, он все еще с удовольствием хихикал себе под нос. Я силой направил трубу вверх, хотя он и пытался оказать мне сопротивление.
— Ты пришел смотреть на звезды? — сердито напомнил я. — Вот и смотри на здоровье!
— «Звезды мне все рассказали», — пропел Палму, как-то неприлично веселясь: можно было подумать, что он пьян. — «Звезды расскажут тебе!.. Я догадаться не мог…»
— Прекрати подвывать! — закричал я, зажимая уши.
Я напел ему правильную мелодию, потом пару строк из этой песни. Ее без конца гоняли по радио.
— Какой у тебя прекрасный голос! — восхитился Палму. — По-моему, ты можешь выступать на любой сцене. Я имею в виду — с эстрадными песнями. Совершенно напрасно их так презирают. Я, например, просто трепещу, когда их слушаю, и не стыжусь в этом признаться! Ну-ка, спой еще разок!
— Слащавая ерунда! — осудил я, но ради его удовольствия пропел один куплет.
В полный голос. Почти полной грудью. Да, голос у меня недурной, скажу без лишней скромности. Но все равно, ведь вокруг не было ни одной живой души!
— Неподражаемо! — восторженно отозвался Палму, по-моему, совершенно искренне.
На сердце у меня потеплело, и я растроганно посмотрел на Палму. Да, мы с ним были рабочими лошадками и вместе в одной упряжке вытягивали воз тяжелой и изнурительной работы. И если он откажется поддерживать меня, один я воз не вытяну!
Мы еще немного посмотрели на звезды. Но Палму как будто потерял к ним интерес, а я начал замерзать. Я легко мог понять тех, кто не хотел платить пятьдесят марок за то, чтобы поглазеть на яркую маленькую плошку. Луна, конечно, была интереснее. К моему несказанному облегчению, я заметил возвращающихся бодрым шагом констеблей, освежившихся и повеселевших.
— Однако! — удивился Палму. — Быстро вы долетели до ночного бара!
— А мы туда и не ходили, — признался констебль постарше. — Мы в «Палас» заглянули.
— В отель «Палас»?! — оторопел я. — Вы что, сбрендили? С вашим жалованьем!
— А у них очень кофе хороший, — спокойно объяснил констебль. — Да ведь мы не в ресторан сунулись. У меня там приятель один посуду моет в гриль-баре. И они всегда с удовольствием угостят кофейком — таким же, какой подают господам. Они нашего брата не презирают! Как раз наоборот. Вот послушайте, что мне рассказали. Я там знаком с ночным портье, всегда перебрасываюсь с ним парой слов. Сроду у них там ничего не случалось, а вот как раз сегодня утром к ним прибежала какая-то барышня с собакой, вполне прилично одетая. Так вот: она прямо влетела в отель и стала просить себе номер. И выглядела ужасно испуганной. Портье даже подумал сначала, что она не в себе. А потом выяснилось, что она нашла труп. Как раз тот самый! Ну, портье и вызвал тогда патруль. А ее фотография, между прочим, была в газете! Вместе с собакой.
— Барышня Пелтонен, — машинально проговорил Палму. — Шотландский терьер. Конечно, хорошо бы с ней побеседовать. Но полицейские из патруля выяснили только ее имя, а адрес она наотрез отказалась давать.
— Ну разумеется, — вяло согласился я. — Разумеется, ее нужно допросить. Хотя это и чистая формальность. Я вопросительно взглянул на Палму. — Может, по домам? Поспим, — предложил я и перевел взгляд на полицейских, немного колеблясь. — Вы тоже можете сходить домой. Только сначала проверьте, не перебралась ли сюда из баров какая-нибудь пьянь, а то устроят в кустах филиал распивочной… Скажем, отлучаетесь до двух? Какая необходимость стоять тут ночь напролет!
Полицейские принялись рьяно благодарить. Конечно, веселого мало: коченеть здесь и переминаться с ноги на ногу без всякого толку, когда дома ждут теплые постели! Я радовался собственному великодушию — вот ведь, не забывал и о других, не только о себе пекся!
— А как насчет него? — Палму равнодушно ткнул в телескоп.
— Его могут забрать констебли, когда будут уходить, — предложил я. — Им же все равно придется являться с рапортом. Вот и передадут, чтоб доставили его обратно ко мне в кабинет.
Мы спустились по противоположной стороне холма к костелу, и я поймал такси. Я готов был сначала завезти домой Палму, не такой это был большой крюк, но он сказал, что ему надо кое-что проверить в конторе и отпустить ребят по домам, так что лучше его высадить на углу Софийской улицы. И буркнул, что наверняка какой-нибудь патруль подбросит его до дому. Они иногда подбрасывают его из бара! Я сделал вид, что не слышал. Мне лучше было не знать о столь вопиющих нарушениях патрульного устава.
— Спокойной ночи! — с необычайной теплотой пожелал мне напоследок Палму. — Ты вполне заслужил отдых, сегодня у тебя был утомительный день. Набирайся сил, они тебе еще понадобятся.
Это было великое признание — в устах Палму. Едва я остался в такси один, как глаза мои начали слипаться. Обычно я все-таки не ложился так поздно, разве что возникала особая необходимость. Например, работа. Или спевка — не могли же мы репетировать в служебное время. Я вспомнил вчерашний вечер. Значит, в Копенгаген едем. Все-таки!
Я разделся, плюхнулся в кровать, погасил свет, натянул на голову одеяло и заснул как убитый. На здоровье мне было грех жаловаться. Шел второй час ночи.
Не знаю, что именно могло меня разбудить около пяти. Но я вдруг открыл глаза и был совершенно бодр. И я не мог припомнить, чтобы мне снился какой-нибудь тревожный сон.
У меня вообще-то удобная кровать, и квартира хорошая, и много книжных полок по стенам, правда, книги в основном по юриспруденции и криминалистике. Но в то утро, лежа с открытыми глазами в своей удобной кровати, я чувствовал себя очень одиноким. Очень одиноким в холодной-холодной комнате, ибо центральное отопление еще не работало.
В неизбывной тоске я достал сигарету и закурил. На пустой желудок. Пять часов утра — тяжелое время суток. Я вспомнил свой первый, а вернее, свой единственный брак, хотя вообще-то вспоминать о нем не люблю. «А теперь все не так, все не так, все не так…» — неотвязная мысль стучала в голове, как эта стихотворная строчка. Все рухнуло, пошло прахом. К счастью, быстро. Сам виноват: полицейскому не стоит брать себе в жены смазливую хористку…
Плохо, когда рабочий день ненормированный и когда сам ты еще мальчишка. А тебе долбят: «Карьера, карьера!» Мне это твердили без конца. А чем, собственно, была плоха моя карьера? Я-то не только работал, но еще и выбивался из сил, сдавая последние экзамены на звание кандидата юридических наук. А что стало с ее карьерой при этом ее меховщике? Нет, я не держал на нее зла. И разошлись мы по обоюдному согласию, мирно. Я взял вину на себя, а она не стала требовать алиментов. Я ведь собственными глазами видел, застал их, так сказать, на месте преступления. И все лопнуло как мыльный пузырь. Я был тогда совершенно сломлен. Долго был таким. И то хорошо, что она хоть забеременеть не успела. Из-за этих самых кандидатских экзаменов.
Мне стоило тогда послушаться Палму. Насчет смазливеньких. То есть он ничего не говорил, ни слова. Но по нему все и так было видно. Да и потом — если бы мне кто-нибудь что-то прямо сказал, я бы только возмутился. Такое нужно самому испытать, на собственной шкуре. Хотя меня опыт ничему не учит. Как с гуся вода — так Палму говорит.
Мои мысли вернулись к тревогам сегодняшнего дня. И я наконец догадался, что мое бодрствование вызвано ожиданием воскресной газеты. Причина ждать ее у меня была. От прошлого во мне ничего больше не осталось, все перегорело и умерло. И теперь у меня была моя работа, и ее мне хватало за глаза. Ну, еще хор. Ничего иного я не хотел и ни к чему иному не стремился.
В половине шестого у входной двери раздался приятный шорох. Благословенная старушка почтальонша! Она не стала подвергать мое терпение испытанию, а ведь у нее тоже был выходной! Шорох означал: она принесла воскресный номер ведущей газеты — остальные я просматривал у себя в кабинете. Все! Бессмысленно было ждать и откладывать.
Совершенно спокойно я поднялся с постели, прошел на кухню и сварил себе большую порцию кофе. Глупо нервничать, сказал я себе, я уже не мальчик. Но чашка все равно дрожала у меня в руке. Потому что в комнате было весьма прохладно. Меня даже, кажется, бил озноб. Я поставил чашку на ночной столик возле кровати и отправился в прихожую за газетой. Развернул ее. Свежий запах типографской краски приятно ударил мне в нос.
Так. Целая полоса, заголовок аршинными буквами. Не поскупились. Моя фотография. Крупным планом. И. о. командира группы по расследованию убийств, криминальная полиция г. Хельсинки. Титул вице-судьи тоже помянут. Бальзам на мои раны. Правда, фотография именно та, с разинутым ртом. Но не могли же они хоть как-то не отплатить за рассыпанную злодейскую передовицу! Я их хорошо понимал.
О бродяге больше не упоминалось. Фотография облавы в Пассаже. Н-да, оперативно работают! Но об операции — ни одного худого слова. Снимок говорил сам за себя: образцовый экземпляр стиляги с оскаленной и перекошенной физиономией силился вывернуться и лягнуть полицейского, крепко державшего его в своих объятиях. Далее: Кархунен и телескоп. Кокки и барышня Саара Похъянвуори, племянница убитого.
Ну, что еще? Комментарии занимали всю полосу. «Энергичные и целенаправленные действия полиции заслуживают полного одобрения». О преступных группировках ни слова. Никаких нападок на молодежь. Действие совершено одиночкой психопатического склада. Бедная девочка! Бедная Саара. Может быть, она тоже не спала и ждала газету.
Другие новости я даже не стал проглядывать. Пробежал глазами только передовицу. О дренаже! Я не мог удержаться от дурацкой блаженной улыбки, залез под одеяло и подложил руки под голову. Нет, жить стоит! И даже очень! Несмотря ни на что. И так долго, как только получится.
Кофе не успел остыть. Я выпил чашку залпом, и блаженное тепло растеклось по желудку. С удовольствием выкурил сигарету. Потом повернулся на бок и приготовился сладко заснуть. И увидеть полноценные воскресные сны.
Но сон почему-то не шел. Хотя информационную жажду я полностью удовлетворил: главную газету прочитал, а в остальных все окажется примерно то же. Но заснуть не удавалось! Делать было нечего: без десяти шесть я снова встал, побрился, принял душ. Поменял рубашку, облачился в темный костюм. Потом выбрал черный шелковый галстук с крохотным красным цветочком, клевером. Я считал, что этот галстук приносит мне удачу. А в ней я нуждался.
В десять минут седьмого я вышел из дома. На улице едва разливался тусклый рассвет первого октябрьского дня. Солнце еще не вставало. Газетные киоски были, разумеется, закрыты — для них было слишком рано, тем более в воскресенье. Жизнь была изумительна! Я жил, дышал, упруго шагал по земле, наконец, у меня был голос!
Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг обнаружил себя стоящим на остановке такси и стучащим в стекло машины, чтобы разбудить дремавшего водителя.
— Обсерв… — привычно начал я, но быстро поправился: — Пожалуйста, на угол Казарменной и Обсерваторской. Я не помню номер дома.
Шофер всю дорогу молчал. Город был пустынен, утро только начиналось. Нам попался всего один пожилой разносчик, толкавший перед собой по мокрому тротуару коляску с кипой газет.
Но небо все больше светлело и даже начинало голубеть, когда я расплатился и вылез из машины. Бодрым шагом я прошел вперед до входа в парк. Оттуда — по аллее, усыпанной гравием. Под ногами похрустывало. Полянка сплошь была в желтых листьях. Черная собачка шаловливо и радостно носилась по газону. Без поводка! Убежала она, что ли? Это было первое, о чем я подумал. И только в следующую секунду до меня дошло!
Я всегда любил собак. У нас даже была такса. Но когда все рухнуло и пошло прахом, то и с ней пришлось расставаться. У себя я ее оставить не мог: слишком подолгу ей приходилось бы сидеть в одиночестве. А собаки этого не любят. Не тащить же мне было таксу с собой на работу, чтобы держать ее под столом, а самому заниматься расследованием убийств! Так не годится… Разве что я стал бы очень, ну просто очень знаменитым. Тогда, конечно, почему бы нет.
Нельзя сказать, чтобы я очень горевал. Моей слабостью вообще-то были большие собаки. Например, полицейские ищейки. Они, безусловно, наводят ужас на всяких деклассированных типов, но наша немецкая овчарка жалостлива не в меру: стоит держащему ее полицейскому поднять дубинку, как она немедленно вцепляется в его запястье. А все потому, что сука.
Я тихонько свистнул. Черный шотландский терьер опешил и настороженно приподнял уши. Очень привлекательный пес, и так замечательно подстрижен! Впрочем, это я заметил еще на снимке в газете. Собака как раз весело подлетела ко мне, чтобы поздороваться, когда на повороте аллеи показалась женщина, которую я тоже узнал по газетному фото. Она вздрогнула, неожиданно увидев меня, и остановилась как вкопанная, прижимая к груди сумочку.
— Друг, Надежный Друг! — тоненьким голоском позвала она собаку.
Та немедленно подбежала к ней, заняла оборонительную позицию и подняла уши, готовясь зарычать. Я почтительно приподнял шляпу и поздоровался:
— Барышня Пелтонен, насколько я понимаю? Доброе утро!
Она нагнулась, чтобы пристегнуть к ошейнику поводок, и только после этого застенчиво поправила меня:
— Пелконен. Д-доброе утро.
— Не бойтесь, — успокаивающе сказал я. — У меня нет никаких дурных намерений. Я из полицейской следственной группы.
Я назвал свое имя и даже свой титул вице-судьи. Барышня Пелконен резко выпрямилась и, привстав на цыпочки, произнесла с гордо поднятой головой:
— Никогда бы не подумала, что начальник из криминальной полиции возбудит дело против одинокой женщины, отпускающей свою собаку побегать по парку без поводка! Знаете, судья, это чересчур!
Я не буду описывать наш разговор во всех подробностях. Недоразумение быстро разъяснилось. Надежный Друг выказал мне максимум дружелюбия, все было отлично, и, оживленно беседуя, мы двинулись рука об руку следом за бодро трусившим терьером по парковым дорожкам. Солнце взошло, и небо было ослепительно ясным, каким оно бывает только в прекрасный воскресный день и только в нашем городе. Барышня Пелконен настолько успокоилась, что без обиняков, запросто рассказала мне обо всем. Даже о господине в зеленой шляпе с маленьким красным перышком на тулье, хотя я-то как раз вовсе не собирался упоминать о нем, поскольку он к делу не относится.
— А скажите, судья, — спросила она, сияя глазами, — я в самом деле смогу обратиться к вам, если сторожа станут кричать на меня?
— Безусловно! — заверил я. — Тут же! Вам нужно только позвонить, прямо ко мне. Но конечно, мне будет приятнее, если вам не придется этого делать.
— Даже среди дня? — недоверчиво переспросила она. — У вас там может быть народ!
— В любое время, — твердо сказал я. — Надежный Друг замечательная, послушная собака. Разумеется, он может побегать по парку без поводка. Налог за него вы платите… Но мне кажется, что осенью сторожа не такие зловредные!
Надежный Друг, заслышав свое имя, поспешил лизнуть мне руку. Барышня Пелконен вконец расчувствовалась.
— Дорогой судья, — преодолевая внутреннее сопротивление, проговорила она, — это, конечно, ужасное нарушение приличий, но мы ведь будем не одни, а с Надежным Другом… Так вот: мне будет очень приятно пригласить вас на чашечку кофе — ведь вы всю ночь трудились над расследованием этого ужасного убийства! У меня есть рогалики с маслом и печенье…
Я с благодарностью принял ее приглашение. Тем более что вдруг почувствовал зверский голод. Яичницы из двух яиц с ломтиком ветчины — и это за целый день! — для взрослого мужчины явно недостаточно.
Барышня Пелконен выглядела очень мило, когда хлопотала на своей кухоньке, приготовляя для меня кофе. Из окон открывался превосходный вид на Обсерваторский холм. Квартира была элегантно обставлена и выглядела опрятной и ухоженной, как и ее хозяйка. Когда мы познакомились поближе, барышня Пелконен упомянула вскользь, что получила довольно большое наследство, но, увы, уже после того, как тридцать лет отработала в страховой компании!
Да, я хочу сказать, что мы с барышней Пелконен очень подружились. Она выписывала другую, газету, и мы вместе прочитали предложенную этой газетой версию расследуемого мною дела. Здесь отчет уже не занимал целую полосу, не было тут и ни одной фотографии. Передовая статья вполне по-деловому обсуждала меры борьбы с молодежной преступностью. Но вот отдел писем! Эту страницу догадалась открыть барышня Пелконен, сам я об этом не подумал. И глаза у меня полезли на лоб! В письмах, подписанных: Старый учитель, Один служащий, Защитник будущего, — прямо требовалось введение смертной казни! Послание Четырех сестер убеждало шире применять телесные наказания. Сестер самих в детстве секли, и им это было приятно. Мать семерых детей, со своей стороны, выдвигала требование незамедлительно кастрировать всех половых извращенцев. Не нужно было быть психоаналитиком, чтобы догадаться, что ею движет ненависть к собственному супругу!
Добравшись до этого письма, я деликатно сложил газету и отдал ее барышне Пелконен, а сам занялся почесыванием Надежного Друга. Она отодвинула газету и спросила:
— Неужели этого бедного сироту могли бы убить?
Я, как вы понимаете, рассказал ей о Вилле и о его детстве. Конечно, меня могут обвинить в неумении держать язык за зубами, но ведь рассказал-то я не кому попало, не какой-нибудь болтливой кумушке. Что барышня Пелконен не такая, я сразу понял, как только познакомился с ней… Кроме того, в газете упоминалось, что на вокзале парень пытался броситься под поезд, вырвавшись из рук полицейского. Попытка не удалась благодаря энергичным действиям, предпринятым полицейским и электротехником Холгером Миеттиненом. Электротехник Миеттинен награждался бесплатной годовой подпиской. Значит, газетчики об этом сами узнали. Вряд ли констебль Лайтинен проболтался им.
— Не волнуйтесь! — утешил я ее. — Парню еще придется проходить обследование, врачи вынесут заключение о его психическом состоянии. А в больнице для душевнобольных ему будет куда лучше, чем в этом жестоком мире. Многим там очень нравится. Правда-правда, я сам видел!
К своему ужасу, я только тут заметил, что съел не только два рогалика и все сухари, но и половину печенья — то есть целую пачку. Но барышне Пелконен это было приятно. Щеки ее разрумянились, глаза весело блестели. Она много раз повторила, что будет рада еще — когда угодно вместе прогуляться по парку, а затем угостить меня чашкой кофе. Если мне этого захочется. И намекнула, что в этом случае постарается приготовить не только кофе, но и что-нибудь более существенное.
Итак, около половины десятого бодрым шагом, выпятив грудь, входил я в свой служебный кабинет, даже и не подумав купить по дороге газеты. Зачем? Я знал, что они меня и так ждут — или на моем столе, или в дежурке.
Палму я застал врасплох — он испуганно подскочил и начал торопливо вылезать из-за стола, за которым успел уютно расположиться, как начальник, захламив его какими-то архивными папками. Перед ним возвышалась целая гора таких папок. И среди них — ни одной газеты. Кто-то вздумал развлечься!
Меня Палму приветствовал самым благодушным образом:
— С добрым утром! Как отдохнул? Спокойная совесть — лучший отдых, да?
— Весьма признателен! — едко поблагодарил я, когда он наконец отступил в сторону и пропустил меня к моему месту. — Что тут происходит? Что-нибудь неясно?
В углу комнаты я заметил обтрепанный картонный чемодан. Палму проследил за моим взглядом.
— Вещи Вилле, — объяснил он. — Тяхтинен принес. Все его имущество. Родственники не хотят его обратно: позор для семьи и все такое прочее. Негодяй, бездельник, на хлеб не может себе заработать — ну, в общем, обычная песня.
— Ничего, пока что он на государственных харчах, — обнадежил я. — Ну что, нашли нужные ботинки?
— У Вилле только одни ботинки — те, что были на нем, — просто ответил Палму. — Вчера в криминалистическом центре чуть не полночи работали, из чистого энтузиазма. Такое крупное дело!
— И нашли на ботинках фрагменты от одежды старика Нордберга, — продолжил я с надеждой.
— Ни крохотульной крошечки, — безжалостно ответил Палму. — И на ботинках Арски тоже ничего. Так что, если ты хотел держать парня за решеткой, не стоило посылать ботинки на экспертизу в лабораторию. У них там такие микроскопы и вообще такие приборы…
Он не стал продолжать. Сидел молча и сосал свою гадкую трубку.
— Так! Что, собственно, ты хочешь этим сказать, Палму? — тоскливо спросил я. — Ты просто набитый дурак!
— Вчера ты провел операцию блестяще, — тихо сказал Палму. — Всех газетчиков водил за нос, дал нам возможность спокойно поработать. Раз в жизни. Никто нам на пятки не наступает. Это совершенно необходимо, потому что дело, оказывается, действительно серьезное.
Я подскочил. В горле у меня стоял ком.
— Ты пьян! — грубо сказал я. Нализался с утра. Ты себе слишком много позволяешь, Палму!
Палму зажег свою трубку, подождал, пока она хорошо разгорится, и медленно проговорил:
— Это правда. Я даже думал, что ты нарочно сбиваешь их со следа. Потому что нам пора начинать искать настоящего убийцу. Так что теперь мы можем заняться делом, не привлекая ничьего внимания.
Глава девятая
Я тяжело плюхнулся на стул. Открыл было рот… И забыл его закрыть, потому что Палму говорил всерьез. Без всяких шуток. И он не был пьян.
Глядя на меня с состраданием, он произнес:
— Неужели ты в самом деле не видел по лицу Вилле, что это никакой не убийца? И ведь достаточно было одного телефонного звонка, чтобы весь твой карточный домик разлетелся в пух и прах!
Я вытаращил глаза.
— Куда ты звонил? — ошеломленно спросил я.
— Даже не я, — сказал Палму, — а Тяхтинен, я ему поручил. Начальнику конторы, конечно, домой. Тому, кто занимается проведением денежных лотерей.
— Ну и что? — Я ничего не понимал.
— Главный августовский приз был отправлен в Рованиеми, — сообщил Палму как ни в чем не бывало. — Так что старик Нордберг его не получал. И никакие деньги у него не пропадали. Вот в чем закавыка.
— Но ведь Нордберг получил же деньги, — возразил я. — Девушка ведь говорила! И я своими глазами видел его банковские книжки. Да они же тут, в сейфе, ты же сам их вчера положил туда! И перестань морочить мне голову!!
— Что он получил деньги, спору нет, — терпеливо сказал Палму. — Откуда-то. Но откуда — неизвестно. Поэтому ему и пришлось выдумывать про этот главный приз, чтобы объяснить девушке происхождение денег. Заметь: через три дня после того, как она ему сказала о своей беременности. Быстро сработано, а? Разбогател в одночасье, неожиданно для всех. Впрочем, об этом моменте их жизни мы знаем только по рассказам девушки. Хотя ее я ни в чем не подозреваю.
Мой разум отказывался понимать что-либо.
— Ты разве не помнишь, что Вилле во всем признался? — выкрикнул я. — Ты забыл об этом?
— Он ни словом не упомянул об убийстве, — возразил Палму. — И я примерно представляю, что он имел в виду. Ведь он очень честный. И тяжело переживает все это. Но мы можем пойти спросить его самого, тогда все окончательно разъяснится.
Палму видел, что мне нужно привести в порядок спутанные мысли. И деликатно изобрел предлог, чтобы дать мне время. Сейчас я не старался пройти весь длинный путь до печальной обители побыстрее. И куда девалась бодрая пружинистая походка? Я едва передвигал ноги, тащился, как какой-то паралитик.
Старый Алпио был в тревоге и просительно заглядывал мне в глаза. Очевидно, он успел прочитать газеты. Вилле же пребывал в счастливом неведении. В чистенькой больничной камере он играл с Алпио в шашки, сидя на койке. Он поднял голову и с веселой улыбкой осведомился:
— Добрый день, а Саара скоро придет?
Только когда Алпио легонько подтолкнул его, он догадался встать. Что делать, бедняга не получил домашнего воспитания.
Но волосы свои он причесал, нижняя губа его больше не висела, и слюна с нее не капала, и вообще вид у него был куда симпатичнее, чем во время сна. И он казался спокойнее благодаря стараниям Алпио. Алпио придвинул мне табуретку. Палму разместился рядом с Вилле на краю кровати, попыхивая трубкой. Машинально я предложил закурить и Вилле. Курить, разумеется, ему не следовало: он хотя и вымахал как каланча, но тощий был невероятно. Однако я хотел быть дружелюбным. По-прежнему. Несмотря ни на что.
Алпио деликатно вышел в коридор. Я посмотрел Вилле в глаза. Он не отвел их, глядел на меня прямо и честно.
— Шашки — излюбленная игра Алпио, — заметил Палму, указывая трубкой на доску. — Он тебя, наверно, обставит.
— Не-а! — гордо заявил Вилле. — У нас в детдоме тоже были шашки…
Нахмурившись, он осекся.
— Смотри-ка, действительно! — восхитился Палму. — А вот наши редко обыгрывают Алпио. Ты, должно быть, мозговитый парень, раз можешь оставить его с носом!
Вилле просиял. Даже малейшая похвала оказывала благотворное действие на его психику.
— Вот что, ты не пугайся, Вилле, — продолжал Палму, — но мы хотим узнать, в чем именно ты собирался признаться вчера вечером? Кроме этой аварии. Но там ведь не ты вел машину. Так что и отвечать придется Арске. Вчера не хотелось тебя расспрашивать, ты плохо себя чувствовал. Начальник у нас большой души человек!
Вилле доверчиво отнесся к его словам и посмотрел на меня с уважением. Потом потер ладони, словно вытирая испарину.
— Я вот в чем хотел, — начал он глуховатым голосом, — в том, что телефон разломал в будке. Трубку оторвал. И справочник тоже. Вразнос пошел. Я здорово разозлился! — Его голос опять зазвенел. — Я ведь тоже треснулся, когда мы врезались, и хотел позвонить Сааре и спросить, что надо теперь делать. Если б она велела, я бы сразу пошел в полицию и заявил. На Арску я бы наплевал, если б Саара сказала. Я ведь думал, что все равно теперь попаду в тюрьму из-за этой витрины. Как будто я один виноват! Меня ж толкнули! Вот констебль Алпио вчера сказал, что я, может, отделаюсь одним предупреждением, раз мне семнадцать. А мне завтра исполнится восемнадцать! Но Алпио сказал, что, значит, мне повезло.
Парень весело засмеялся. Палму воспользовался паузой и спросил:
— А почему ты так разозлился на телефонный аппарат?
— Да у меня была всего одна монетка, — с готовностью отозвался Вилле, — а отец Саары, как только услышал, что это я, сразу хлоп трубку! Он мне запрещает звонить. Обзывает меня по-всякому и говорит, что убьет, если я осмелюсь хоть раз подойти к Сааре. Но я его не боюсь. Пусть убивает… Ну вот, поэтому я и разозлился, что он не позвал Саару, а бросил трубку. А у меня не было больше монет. Ну, меня зло и взяло. Я трубку-то оторвал, а по аппарату врезал кулаком. Он сразу сломался. Но ведь я ж не просто из хулиганства! И Алпио говорит, что это смягчающие обстоятельства — что меня зло взяло. Алпио говорит, что у вас человеку всегда поверят, если он говорит правду и ничего не скрывает. И что никого тут не бьют, как чуваки рассказывают. Все это вранье… Да и Арска все врет, говорит, что умеет водить машину! Умеет он!
Судя по всему, прежние идолы Вилле пали, и их место досталось Алпио.
— Значит, об убийстве ты ничего не знаешь? — спросил Палму.
— Вот хоть режьте! — и он провел ребром ладони по горлу. — Дядя Фредрик один-единственный ко мне здорово относился. Кроме Саары, конечно. Сроду я его не огорчал и вообще… Но в тот раз он так ужасно рассердился, жуть просто… Мы разругались, и я несколько дней дулся на него, потому что мне ведь тоже было не по себе… Ну вот, а в тот вечер я встретился с ним на холме, и мы все выяснили, и он обещал мне отдать телескоп. Насовсем отдать, подарить то есть.
Вилле с надеждой поглядел на нас. Но Палму сидел с непроницаемой физиономией и только кивнул, чтобы тот продолжал. Но пыл Вилле заметно угас.
— Вы что, не верите?! — жалобно спросил он. — Но у меня, правда, не было ни гроша, а мне надо было зайти за Саарой в кафе. И потом, меня все-таки мучила совесть из-за дяди Фредрика. Ну, я и пошел на Обсерваторский холм, подумал, что он уж точно придет в последний раз посмотреть на звезды. Перед переездом то есть. Небо, правда, было в облаках, но он в самом деле стоял там.
— Когда это было? — спросил Палму.
— У меня ж нет часов, — спокойно сказал Вилле как о само собой разумеющемся. — Около десяти, наверно. Но дядя Фредрик был на своем обычном месте. Он надеялся, что небо еще расчистится. Сказал, что побудет до двенадцати. Понимаете, от его нового дома ходить было б далеко. А он жаловался на одышку. И руки у него дрожали, и еще он сосал нитро… нитро… в общем, какой-то нитро, то есть клал таблетку под язык. Он боялся, что у него сердце схватит. Поэтому он и сказал, что больше не сможет таскать телескоп, и обещал отдать его мне, если я сам приду и заберу его после двенадцати. Чтобы ему больше не носить его домой. — Вилле втянул носом воздух и уставился в пол. — А потом дядя дал мне двести марок и велел купить мороженое. Он бы дал еще, но у него не было больше в бумажнике. И показал мне марку с типографским браком, «Цеппелина» — может, знаете? Она жутко дорогая, и дядя страшно гордился ею. Он ее только что, вечером, выменял у одного такого… у Кеттунена. Он сказал, что теперь все пойдет отлично и что предсказания звезд для него благоприятные. Вот. А что они знали, эти звезды…
Вилле заплакал. Н-да, нервный парень. Мы сделали вид, что не замечаем его слез. Громко высморкавшись в носовой платок, он продолжил:
— Я, честное слово, собирался подождать Саару в кафе, а потом вместе с ней пойти на холм за телескопом. Хотя папаша ее жутко ярится, когда Саара приходит поздно… Ну и ладно, что на него обращать внимание, раз она переедет к дяде! А ей можно будет теперь переехать? Дядя ведь умер… Дядя говорил, что написал завещание — чтобы все оставить Сааре. Ведь завещание — это такая бумага, в которой объявляют последнюю волю, а внизу подписываются свидетели, да?
— В общих чертах да, — подтвердил я как юрист — он как будто хотел юридической консультации.
— Ну вот! — удовлетворенно заметил Вилле, но опять помрачнел. — Нет, ничего эти звезды не знают… Потому что с этого момента все и покатилось. Я налетел на Арску, а он придумал подразнить этого гада, этого злобного индюка, вышибалу их. Налил в бутылку воды, сунул ее в карман, ну и мы как будто пили — ведь этот гад приставал к Сааре, а что я могу ему сделать, когда он бывший боксер! А потом еще окно разлетелось… Меня запихнули в «воронок»… Но в отделении было ничего, у меня только имя спросили и адрес… Комиссар попался хороший мужик. Даже не ругал. Но меня все равно зло взяло — ведь придется платить за эту дурацкую витрину! Двадцать или тридцать тысяч! Арска-то, конечно, смылся с Кайей… Но ничего, зато он как верный друг ждал на улице, когда меня выпустят. Ну, он и спросил, не хочу ли я с ними прокатиться или, мол, в штаны наложу, как сопливый пацан… Он уже и «мерседес» присмотрел, прямо новехонький. Ох, ну и здорово же он шел, мотора вообще не слыхать! Хозяин там щелку оставил, в окне, ну а Арске открыть дверцу — плевое дело… А дальше вы сами знаете…
— Так ты забрал телескоп возле Памятника? — спросил я. — И больше дядю Фредрика не видел?
— Нет, — твердо ответил Вилле. — Я прямо обалдел, как это телескоп стоит, а дяди нет. Но я даже и не подумал смотреть в кустах, я решил, что он мне его оставил — знал, что я за ним приду, а самому ему было тяжело тащить телескоп домой. Времени-то уже было много, к часу наверно.
— А зачем ты приволок телескоп в Пассаж? — с любопытством спросил Палму.
— А я им очень гордился, — бесхитростно ответил Вилле. — У меня ж никогда ничего своего не было, совсем своего. Даже вот тряпок. Я только старье донашиваю. А мне хотелось, чтоб все чуваки видели… И это было по пути — я ведь шел Сааре помогать, вещи носить, в общем, переезжать. И случайно у киоска заглянул в газету, а там про аварию… Ну, я и перетрухнул. Даже про телескоп забыл. Так сильно перетрухнул.
Говорить больше было не о чем. Подавленный, я тоже закурил. Палму по-прежнему дымил своей трубкой. Все молчали. Наконец я раскрыл рот, но Палму опередил меня:
— Не пугайся, Вилле, но ты наверняка понимаешь, что убийство вашего дяди Фредрика — дело серьезное. И вот наш начальник придумал такой ход — очень хитрый! Ты пару деньков еще пробудешь здесь, воспользуешься, так сказать, нашим гостеприимством. Кстати, придешь в норму, Алпио за тобой поухаживает. И Саара будет тебя каждый день навещать, а потом ты сможешь выходить во двор, поможешь патрульным машины мыть. — Лицо Вилле просияло. А Палму безмятежно продолжал, не глядя в мою сторону: — Понимаешь, этот убийца дяди Фредрика очень осторожный и хитрый. И когда он узнает, что — гм — подозревают тебя, что ты задержан и тебе будет предъявлено обвинение, тогда он почувствует себя в безопасности.
— Но я не… — растерянно начал Вилле.
— Ну, разумеется, нет, — успокоил его Палму. — Но наш начальник решил, что будет лучше, если газеты напишут именно так. Не волнуйся: твое имя нигде не упоминается, фотографий тоже нет, поскольку ты несовершеннолетний, но я думаю, что для твоего — гм — душевного спокойствия тебе лучше пока газеты не читать. Потом как-нибудь прочтешь, когда все будет позади.
Я решил внести и свою лепту.
— У тебя, Вилле, завтра день рождения, так что жди именинный пирог, — пообещал я. — А вот когда вся эта черт… проклятая история закончится, ты сможешь добровольцем пойти в армию. Тогда многие твои проблемы будут решены. Знаешь что, устрою-ка я тебя в автобатальон! Ты сможешь остаться в Хельсинки и почаще видеться с Саарой — как только служба позволит. А после армии получишь шоферские права!
Горящий взор Вилле уже устремился в прекрасное будущее, но вдруг какая-то мысль заставила его помрачнеть.
— Да нет, ничего, наверно, не выйдет, — с сомнением заметил он. — Туда ведь тоже много желающих!
— У добровольцев есть преимущественное право, — поспешно сказал я. — Я сам… ну или наш начальник отдела — он, конечно же, лично знает командира автобатальона. И тот безусловно поможет, если мы попросим. И если ты, со своей стороны, поможешь нам.
Вилле обдумывал предложение. Я напряженно ждал, не сводя с него взгляда. Наконец он проговорил с кислой миной:
— Вот не пойму — что им, трудно напечатать мою фотографию?! Тогда уж все увидели бы, какой я крепкий чувак!
В это мгновение я услышал стук каблуков, торопливо цокающих по коридору, а в следующее их владелица тигрицей влетела в камеру, хлопнув с размаху дверью, готовая одновременно испепелить нас взглядом и разорвать на части. Это была, конечно же, она — попечительница несовершеннолетних! На какую-то долю секунды она опешила, застав столь мирную картину, но тут же обрела боевую форму и набросилась на меня.
— Больничная камера! — воскликнула она дрожащим от негодования голосом. — Разумеется! Довели мальчика, вытягивая у него признание! Посмотрите, какой он худой, какой бледный! — Она погладила Вилле по голове, потрепала по щеке и успокоительным тоном проговорила: — Ну что, все теперь в порядке? Ты мне только скажи, если они будут плохо с тобой обращаться! Я уж разберусь с этим судьей. Давно, давно пора! Он у меня узнает, как издеваться над детьми!
Вилле совсем смутился и боялся рот раскрыть. Но в коридоре снова послышались шаги, уже более легкие, и в двери нерешительно показалась Саара Похъянвуори в сопровождении Алпио. И если бы яркий дневной свет не заливал всю камеру, то ее осветила бы лучезарная улыбка девушки. Правда, когда она заметила меня, улыбка на ее лице погасла.
— Как вам не стыдно, разве Вилле психопат! — возбужденно проговорила она.
— Психопат! — заявила тигрица, прикрывая подопечного грудью. — Вилле безусловно психопат! У нас будут бумаги, подтверждающие…
Силы мои иссякли. Я встал.
— Пойдем, — сказал я Палму. — Нам пора заняться другими делами.
И мы оставили женщин выяснять вопрос душевного здоровья Вилле и его природных склонностей. Алпио тоже куда-то испарился — притом без моего разрешения. Мы же двинулись в путь по коридорам, полным печали и рухнувших надежд. На этот раз моих.
— Ты заметил? — спросил я Палму уже в кабинете, когда мы уселись друг против друга. — Девушка, по-моему, не так уж была возмущена. Хотя газеты написали о Вилле черт знает что!
— Ее, наверно, Кокки предупредил, — спокойно заметил Палму. — Дело в том, что Кокки с двумя своими приятелями каждый месяц покупает лотерейные билеты. Они даже как-то выиграли десять тысяч. И он точно помнил, что августовский выигрыш отправили в Рованиеми. Ну, он мне и мигнул за твоей спиной, что тут дело нечисто.
Я ничего не сказал.
— Ну вот, — продолжал Палму, — спать я все равно не сплю. И что мне, старику, дрыхнуть? Пусть молодые спят, им сон нужен. А я ночью порылся в архиве, а утром мы всей оравой нагрянули к той милейшей даме, то есть не совсем к ней, — в общем, на Матросскую улицу. Там, конечно, нам не очень обрадовались: все-таки воскресное утро, люди спят… Но зато мы всех застали и со всеми побеседовали. И выяснили, что в ночь с пятницы на субботу чужих во дворе никто не видел. Ни чужих людей, ни каких-либо происшествий — ничего необычного. Барышня Похъянвуори была единственной, кто видел этого подвыпившего субъекта — того, который не мог открыть калитку. И ковырялся в замке. Там в самом деле замок зловредный…
Здесь, пока я не забыл, я хотел бы вскользь коснуться некоторых стилистических вопросов, которые мне пришлось решать. Не скрою, у меня была сначала мысль передать весь разговор с Вилле на сленге, благо это нынче модно. Я попытался и пришел от своей попытки в ужас. Тогда я решил посоветоваться с одним писателем, уже имевшим опыт… С писателем старшего поколения. Нет-нет, не Валтари! Он же академик! Какие у него могут быть проблемы стиля, он знай себе блюдет языковую норму — других проблем у него нет. Молодые, с моей точки зрения, тоже не ахти. Конечно, есть Пентти Саарикоски, но и он в яблочко не попадает. Так мне кажется. А я с ним неплохо знаком! Впрочем, о них лучше вовсе не писать, а то они могут и в суд потянуть. Эти молодые насчет своей чести очень чувствительны.
Так вот: пожилой писатель совсем скуксился, когда я заговорил с ним об интересующем меня предмете. И кисло заметил, что в наши дни это верный путь к успеху: чем больше в книге сленга и ругательств, тем скорее ее объявят высокохудожественным произведением. Я, разумеется, заверил его, что для меня этот путь решительно неприемлем и что я никогда по нему не пойду. Уяснив таким образом ситуацию, он посоветовал мне писать, употребляя нормальный финский язык, чтобы и пожилые люди могли все понимать и не раздражаться. Ведь это они покупают книги и платят за них деньги. Отнюдь не молодежь! У тех на книги денег нет. Так мне сказал пожилой писатель. (Специально подчеркиваю, что это именно его суждение, а не мое.)
Еще он сказал, что я могу там и сям как бы невзначай вкраплять обычную разговорную речь — речь культурного человека, скажем кандидата юридических наук. Но тут, предупредил он, важно не переборщить! А поскольку я сам не имею привычки сильно выражаться — недаром мне мама в детстве мыла рот с мылом! — то и в моем тексте ругательств почти нет. Разве что в двух-трех местах — только для того, чтобы показать, что, если я захочу, вполне могу и ругнуться!
Впрочем, не знаю, насколько интересно входить в эти стилистические тонкости, и поэтому продолжу свой рассказ. Если вы помните, говорил Палму.
— Н-да, — сказал он, — Матросская нас ничем не порадовала. Кроме хорошего кофе. Конечно, не по две ложки на чашку — эта милая дама не столь состоятельна, хотя у нее телефон и все прочее. Но на след мы все же ухитрились выйти, в архиве докопались. — Он смущенно пожевал трубку. — На самом деле остался один невыясненный момент, — признался он. — Прямо-таки загадочный. Мальчики перелопатили телефонные и адресные книги от корки до корки, но ни у одной дамы с фамилией Пелтонен шотландского терьера не оказалось. Нашли одного сенбернара и одного сеттера — чего ради они держат в городе это несчастное животное — ума не приложу, только мучают его! Но барышня Пелтонен — та, которая нашла труп, — как сквозь землю провалилась! А она могла бы припомнить одну детальку, мелочь в сущности, я о ней даже и не думал раньше, но это нам здорово могло бы помочь.
— Я ее уже допросил, — тихо произнес я.
В кои-то веки мне удалось удивить Палму по-настоящему. У него даже трубка изо рта вывалилась. И пока он ползал по полу, отыскивая ее, я сдержанно продолжал:
— Меня тоже угостили кофе, двумя рогаликами и печеньем. В этой обстановке я и снимал допрос и выяснил все, вплоть до мельчайших деталей. Но она не вспомнила ничего такого, что могло бы нам помочь, кроме… Да, между прочим, ее фамилия не Пелтонен, а Пелконен. Патрульные перепутали. Или не расслышали — неважно! А твои мальчики скорее нашли бы ее, если бы справились в городском клубе собаководов.
— Ну конечно, они пытались, — сказал Палму, но в воскресное утро там никого нет. Погоди-ка, я пойду скажу им, чтоб зря не возились, что ты сам все выяснил.
Он быстро вышел, а я наконец-то понял, что именно не дает мне покоя все утро. И когда Палму вернулся, я все подробно пересказал ему. Услышав о господине с красным перышком на шляпе, он в сердцах проговорил:
— Конечно, это не имеет значения, но вот это его нежелание быть замешанным… Да, все мы, финны, такие!
Я оживился. Моему воображению был дан толчок.
— Убийца возвращается на место преступления? — осторожно предположил я. — Это необъяснимо, но происходит в тысяче случаев…
Палму стукнул себя по колену, и лицо его перекосилось, как от кислятины.
— Эт-то твое воображение! — воскликнул он. — Конечно, неплохо бы у этого красноперого господина снять свидетельские показания. Приметы есть, найдем. Тут ты не беспокойся.
Скажу сразу, что в этом пункте Палму дал маху. Да еще какого! Дело оказалось совсем не таким легким, а значение красноперого господина неизмеримо большим, но об этом — в свое время.
Палму же сложил руки на груди и с самоуверенным видом насмешливо сказал:
— Ну хорошо, давай поглядим, что ты там навоображал. Ответь: какова причина убийства господина Нордберга?
— Нет, — торопливо возразил я, — давай лучше ты скажешь, что ты думаешь по этому поводу.
— Ладно, — с довольным видом согласился Палму. — Поначалу я думал, что это обычный разбор гомосексуалистов. Одинокий, холостяк, лицо разбито. У них ведь там свои дела, и они довольно часто начинают шантажировать свою жертву. Потому что эти люди — самые настоящие жертвы, гомики то есть. Они же никак не могут себя защитить.
— Но ведь старика Нордберга никто не шантажировал, — возразил я. — Наоборот, это он деньги получил. И потом — какой он гомик?! Ты с ума сошел! Мирный философ, сторонний наблюдатель людей и жизни.
— Все верно, — кивнул Палму. — Наблюдатель чужой жизни. И деньги получил — много и вдруг. Вот тут-то все дело для меня перевернулось и встало с головы на ноги. То есть я подумал, не шантажировал ли сам Нордберг кого-то.
— Да ты что! — возмутился я. — Такой тихий старик, добрый, приветливый. Это совершенный абсурд — в свете всего, что мы о нем знаем.
— Ну да, — подхватил Палму. — А что мы, собственно, о нем знаем? То, что нам рассказала барышня Похъянвуори. Правда, его соседи по дому примерно то же говорили. Странноватый, необычный, но человек хороший. И уж точно — мухи не обидит. И ни в чьи дела не лезет.
— Вот видишь! Почему и кого он стал бы шантажировать? — спросил я.
— Предположим, он случайно увидел что-то неожиданное, — сказал Палму и посмотрел на меня, склонив голову набок. — «Звезды расскажут тебе…» Ты что, не помнишь, как вчера вечером мы с тобой вместе распевали?
Мы распевали! Но я не стал уточнять эту деталь.
— «Звезды расскажут…» — машинально повторил я. — Ты хочешь сказать, что он увидел что-то такое на небе — что-то необычное?
— Ага, летающую тарелку, — процедил Палму сквозь зубы. Именно. Советую обратиться к Кархунену. Он про это все знает, знаком с научной фантастикой. Он точно опишет, как выглядел этот мальчик с пальчик, в шлеме с антенной, который кокнул Нордберга по черепушке, когда тот стал ему надоедать со своим телескопом.
— Я же не это имел в виду! — смущенно возразил я. — Нет, но летает же там всякое, какие-нибудь управляемые снаряды или что-то в этом роде. Мы же понятия не имеем, что теперь в небе творится! Может… может, Нордбергу заплатили, чтобы он не разглашал военную тайну!
— Ну что ты городишь! — жалостливо сказал Палму. — Ведь ты же не полный идиот!
— Не знаю, — упавшим голосом сказал я, — я не знаю, что он мог такого увидеть. Чтобы ему за молчание стали платить.
— Неужели, мой мальчик? — удивился Палму. — Я же повел тебя вчера вечером на Обсерваторский холм. Чтобы ты увидел собственными глазами и нащупал, так сказать, ниточку. Надеюсь, ты успел разглядеть на бедре у милой девушки родимое пятнышко? Прежде чем она натянула рубашку?
— Знаешь, никто не будет платить миллионы из-за того, что его увидели голым! А постель в телескоп не видна — если ты на это намекаешь, — раздраженно заметил я и, поколебавшись, добавил: — Конечно, для какого-нибудь развода это может иметь значение… — Последнее я произнес через силу: мой собственный опыт был не из приятных. — Но даже за такое свидетельство миллионы не платят!
— Как будто я имею в виду бракоразводные процессы, — презрительно отрезал Палму и яростно пососал пустую трубку. — Но что ты скажешь об убийстве? Свидетельство очевидца. Вот о чем речь!
— Об убийстве? — растерянно переспросил я. — Но старик уже убит. О чем ты говоришь?
— Одно убийство влечет за собой другое, — торжественно сообщил Палму. — За первым следует второе. Иногда и третье, если виновника не удается вовремя изловить. Хладнокровный убийца — худший из вредителей в человеческом обществе. Я ли не вдалбливал это тысячу раз в твою башку!
— Вдалбливал, вдалбливал, — поспешил я подтвердить. — Так ты полагаешь, что старик Нордберг случайно оказался свидетелем…
— Я не полагаю, а знаю, — заявил Палму и стукнул кулаком по куче папок. — «Полагать» уже ничего не надо. Вот тут все написано, черным по белому. Хотя и не печатное слово, но все же аккуратно напечатано на машинке — протоколы допросов! — Он придержал мою руку, когда я машинально потянулся за папкой. — В этой куче — все необычные происшествия за этот год, имевшие место на мысу, в районе Катаянокка и в восточной части парковой зоны, в Кайвопуйсто. Я сначала думал о контрабанде. Потом о наездах — ночных, разумеется. Такого я ничего не нашел, то есть ничего достаточно серьезного. Но между делом наткнулся на весьма любопытные документы. Тоже в Катаянокка. В ночь на восемнадцатое апреля примерно часа в три майор Ваденблик в своей квартире на шестом этаже принимал гостей. И вдруг ни с того ни с сего его жена выпрыгивает из окна. Очевидное самоубийство — так было признано. Все выглядело очень убедительно, и допрос проведен чисто формально. Были свидетели и все такое.
— Ваденблик, — я наморщил лоб, пытаясь вспомнить, кто это. — Из богатых, да?
— Чертовски богатых, — подтвердил Палму. — А жена — из семьи Мелконенов, дочь покойного горного советника. Я, помнится, тогда в апреле простуду схватил, но это, конечно, ничего не изменило бы. Дело было ясное как день.
— Начальник отдела лично просматривал протоколы допросов, — в некотором смущении заметил я. — Он еще сказал, что не стоит беспокоиться из-за таких людей. Да-да, я теперь точно все вспомнил. В этом деле все было ясно.
— Между прочим, шестой этаж отлично виден с Обсерваторского холма, — сказал Палму.
Я открыл папку и стал внимательно читать протоколы допросов, снятых по этому печальному делу. Очевидное самоубийство, места для сомнений не оставалось. Тяхтинен и Валста вели дело — очень тактично, добросовестно. В протоколах не за что было уцепиться. Ни малейшей зацепки.
Майре Ваденблик пила. Это было известно в Хельсинки всем — о чем и говорил протокол, правда в смягченных выражениях. Майор давал показания сдержанно. Большей частью он жил за городом, занимался имением. Единокровная сестра госпожи Ваденблик, Анникка Мелконен, также находилась в это время в квартире. Проживала вместе с сестрой. Ухаживала за ней. Разница в возрасте у сестер — три года. Покойный Мелконен еще в молодости остался вдовцом и вскоре женился снова. Умер, перетрудившись, в пятьдесят шесть лет от тромба в сердце. Болезнь больших начальников. Но зато его предприятия остались. И миллионы тоже. Они, насколько известно, составляли главную радость в жизни этого трудяги. Его сын, Аарне Мелконен, возглавляет ныне концерн. Так, теперь о самой Майре Ваденблик: два развода, состояла в третьем браке, детей нет, на момент самоубийства ей не было еще сорока.
Действительно ясное дело. Почтенный врач, известный и дорогой терапевт, пользовавший госпожу Ваденблик долгие годы, засвидетельствовал, что она злоупотребляла снотворным. И алкоголем — само собой. Опасное соединение. Однажды приняла чрезмерно большую дозу, потеряла сознание, лежа в постели, но ее успели вовремя доставить в больницу. В другой раз уронила зажженную сигарету на кровать и могла бы сгореть, если бы вовремя не заметили дым. Падение из окна — ее третья попытка покончить жизнь самоубийством. Большие деньги — плохой товарищ…
В тот апрельский вечер вся компания прибыла прямо из «Рыбацкой избы». Майор, который находился дома, проснулся и вышел, чтобы успокоить жену. Но та была в бешенстве, поносила супруга и велела ему взять свои вещи и немедленно убираться из дома. Майор тоже был сыт по горло такой жизнью и действительно пошел собирать свой чемодан. Остальные отправились на кухню опорожнять холодильник. Госпожа Ваденблик сказала, что пойдет посмотрит, в самом ли деле ее супруг собирает вещи. Сестра пошла следом. Майор объяснил, что на этот раз он твердо решил уйти. Что он больше не мог. В гостиной окно было открыто — чтобы выветривался табачный дым. И прежде чем сестра покойной и майор успели подбежать, госпожа Ваденблик прыгнула вниз. Только один раз пронзительно вскрикнула — и все, кто был в кухне, ринулись в зал, а несколько жильцов дома проснулись. Вот так. «Скорая помощь» уже не понадобилась.
Майор честно признался, что готов был сдержаться и перенести свой переезд на следующий день, когда его супруга проснется со свежей головой. Все знали невозможный язык госпожи Ваденблик. Язык рыночной торговки. Но больше всего майор устал от слез и извинений, которые ожидали его наутро. Супруга много раз грозилась покончить жизнь самоубийством. Это подтверждала и экономка.
Порядок наследования был обычным. Не существовало ни завещаний в пользу друг друга, ни брачного контракта. И главное не было ни неясных, ни спорных моментов. Два очевидца. И целая компания свидетелей — подвыпивших, но в меру, вполне способных разобраться в происходящем.
Я прочел протокол дважды.
— И каким способом ты намерен превратить это в убийство? — В моем тоне сквозило неподдельное сострадание.
Палму остервенело сосал пустую трубку.
— Чересчур очевидное самоубийство, — сказал он. — И это «чересчур» сомнительно. Кроме того, спустя два дня было полнолуние. И старик Нордберг вполне мог задержаться на Обсерваторском холме допоздна. Ночь была не холодная, было уже по-весеннему тепло. Я проверял. Предположим, что его внимание привлекли ярко освещенные окна на мысу, и он из чистого любопытства перед уходом посмотрел на них в телескоп. Он же был сторонним наблюдателем людей и их жизни. Как мы знаем… Не так много есть на свете людей, которые в одно мгновение, как фокусники, могут вытащить из кармана несколько миллионов. Причем наличными. А майор Ваденблик может. И Анникка Мелконен тоже. Она вместе с братом является наследницей, поскольку детей не было. Но еще у Анникки есть и другая доля наследства, доставшегося ей от отца, горного советника Мелконена… Все эти детали я уже уточнил — просто ради интереса — у одного своего знакомого, завсегдатая биржевого клуба.
— Не ври! — не поверил я.
— Ну-ну, — Палму предостерегающе поднял палец, — ты еще не знаешь всех моих знакомых. У каждого есть свои бездны. Так вот, этот человек сообщил мне, что детей у Мелконена было трое: две дочери и сын. Сын Аарне управляет заводами, по слухам, очень умело. Заводы растут и богатеют. Переживают период подъема. Социальная сфера безупречна: кварталы собственных домов, сады, спортивные секции и — представь себе! — хоровые кружки. Старик Мелконен владел девяноста процентами акций. Его дочери сидели в правлении и получали за это по-царски (помимо дивидендов). Цена акций в настоящее время составляет по меньшей мере миллиард. И это на троих. Не говоря уже о том, что от отца им еще осталось имущество, корабли, поместья и прочее барахло… Так что после смерти Майре Анникке с майором есть что поделить.
Палму перевел дух.
— Но! — продолжал он. — У майора отсутствуют мотивы. Он отличился еще во время «Зимней войны»[10]. Когда началась вторая война, он учился в кадетской школе. После войны получил разрешение остаться в армии. Уволился по собственному желанию в начале пятидесятых годов, чтобы заняться коммерческой деятельностью. Есть награды. Первый брак был неудачным — обычный гарнизонный брак. Но от него остался ребенок, сын, теперь ему двенадцать лет. Он находится на отцовском попечении и живет за городом, в поместье. Мать, вероятно, умерла уже после развода. А Майре вряд ли годилась на роль образцовой мачехи.
— Да, о Майре Ваденблик мало кто горевал, — заметил я. — Сама загубила свою жизнь. Разве что аристократическая пьянь, они, наверно, чувствуют утрату… Вот что случается с людьми, которые с самого детства ни в чем не знают отказа, а к сорока годам пресыщаются уже всем на свете! Да, майору не повезло с женами.
— Крепкий мужчина, настоящий помещик, — заметил Палму. — А мальчик все время живет за городом, в начальную школу его возят на машине, туда и обратно. На автобусе дорого, у них с деньгами не ахти. После смерти Майре, я имею в виду. У майора ведь никакой собственности нет. Полуразрушенное имение — и все. Ни денег, ни Майре.
— Ну-ну, — предостерег я. — А Анникка?
— Это дама совсем другого сорта, — сказал Палму. — Мужчинами не интересуется, вином тоже. По сравнению с Майре — гадкий утенок. Майре, по слухам, была роскошная женщина. Так что майора можно понять, он имел не только богатую, но и красивую женщину. — Палму задумчиво повертел трубку в руках. Потом снова заговорил: — У Майре была единственная дочь. Мой знакомец вспомнил и это. Вынужденное замужество в восемнадцать лет. Горный советник был вне себя от ярости, но все равно — состоялось шикарное венчание в Немецкой церкви. Через пару лет разошлись, но с Майре осталась дочка, Синикка. От мужа пришлось откупаться несколькими миллионами. Синикка выросла большой озорницей — видимо, в мать. В семнадцать лет она утонула во время бури — ее смыло с яхты, совсем близко от их летней виллы.
Примерно в это время Майре и начала встречаться с майором, — продолжал Палму. — Он был на яхте с Синиккой и не сумел спасти девушку. Его самого нашли после шторма на каком-то скалистом островке, едва живого. Это событие, видимо, как-то сблизило их, Майре и майора, укрепило их связь. Безутешная мать… все такое… женщина в скорби нуждается в надежном мужском плече, чтоб приклонить голову… Так говорят. Я не знаю…
Палму замолчал. Знакомое тоскливое чувство зашевелилось у меня внутри. Засосало под ложечкой. Может, это были рогалики с печеньем… Я ведь не какой-то отважный борец. И никогда не пытался разыгрывать из себя храбреца. Оставим славу тем, кому ее бремя под силу. Я просто хочу сказать, что если я могу обойти осиное гнездо, то не стану совать туда руку.
— Палму, — сказал я наконец чрезвычайно серьезно, — уверен ли ты в этом деле? Или это одни только смутные подозрения? Но их совершенно недостаточно! Подумай: полностью расследованное дело. Начинать его снова, раскапывать ты не можешь. Нет, не можешь, потому что речь идет о таких людях. Я хочу сказать, что они этого не потерпят.
— Одно убийство влечет за собой другое, — повторил Палму, — а забота находить убийц лежит на нас.
— Начальник отдела возвращается завтра утром, — просительно проговорил я. — Давай сначала с ним посоветуемся.
— Мы сами группа, — напомнил мне Палму. — Ты — группа. Ты — руководитель. Конечно, я тоже предпочитаю не начинать ни с того ни с сего ворошить муравейник. Только в случае крайней нужды. Так что давай пока помалкивать и расследовать своими силами. Начальник отдела вообще ничего не понял, когда ты так дальновидно упрятал Вилле за решетку. Наверно, он тоже верит печатному слову. Вот пусть и читает газеты!.. Ты сам пораскинь мозгами! — продолжал Палму. — Ну откуда у старика Нордберга взялись миллионы? Позапрошлой ночью в двадцать четыре часа он скончался на Обсерваторском холме. Почему он просил Вилле прийти после двенадцати? Вспомни — и профессор говорил о двенадцати!
— Но зачем это лишнее убийство? — возразил я. — Раз Нордберг уже обещал молчать! Ему за это заплатили. И что значат несколько миллионов для таких людей!
— Может быть, старик и не замышлял ничего больше, — заметил Палму, рассуждая. — Я уверен — не скажи ему девушка о беременности, ему бы сроду такая мысль в голову не пришла. Он ведь до тех пор не вмешивался. Держался в стороне — как сторонний наблюдатель. Какая ему нужда до чужих дел. Но вот потребовались деньги, откуда их достать? Шантаж с психологической точки зрения очень своеобразная штука. Вроде коньяка. Знаешь, что полбутылки коньяку — в самый раз, а потом идешь к письменному столу и достаешь еще одну бутылку. Вот и Нордберг, видно, пошел за второй. А вторая попытка оказалась последней. Убийца знал или полагал, что, покуда он жив, в покое его не оставят, ему придется платить из года в год. Может быть, Нордберг и угомонился бы на новом месте, и постарался бы забыть всю эту историю. Он же говорил девушке о пяти миллионах. Наверно, ему бы их хватило. Но, с другой стороны, ребенок бы рос, Вилле попадал бы в какие-нибудь истории… И всегда, всегда у него было бы искушение — до последнего его вздоха. Убийца понимал это.
— Крепкий мужчина, — подумал я вслух. — Отличился на войне…
— Или достаточно сильная женщина, — добавил Палму. — Старик Нордберг был довольно хрупкого телосложения. К тому же с больным сердцем. Так что тут особой, богатырской силы не требовалось. Бешенство, желание отомстить. Недаром у него разбито лицо и сломаны ребра. Подавленное женское… как они там теперь говорят про незамужних? Я не помню. — Он внимательно посмотрел на меня и раздраженно предупредил: — Не увлекайся! Подозреваемых двое, повторяю: дво-е. То есть оба очевидца, майор и единокровная сестра. Больше никого в гостиной не было, когда госпожа Ваденблик выпрыгнула из окна. Остальные находились на кухне. И ты не должен подозревать одного майора потому только, что это кажется более вероятным. Так не пойдет.
— Но мы ведь никогда в жизни ничего не докажем! — убежденно сказал я. И в ту же секунду принял решение. Попробовать. Однажды в жизни поплыть против течения. — С чего начнем? — спросил я коротко, по-деловому.
— С денег, — сказал Палму. — Ведь их в каком-то банке выдали. Такую кругленькую сумму, да еще сразу. Даже в том отделении, где у Нордберга был счет, должны были удивиться и отметить на всякий случай номера купюр. Это наша соломинка. И нам крупно повезет, если мы что-то сумеем здесь узнать. Не говоря уж о том, что сегодня воскресенье. Ребятам дадим задание разыскать красноперого господина, чтобы не болтались без дела. А мы с тобой отправимся прямо в пасть к зверю — нанесем визит майору Ваденблику. Если, конечно, он в городе. И заодно его экономке.
Я перепугался.
— Не можем же мы сказать… — начал я.
— Можем. Что мы совершаем воскресный обход и, проходя мимо, решили зайти, чтобы выразить свои соболезнования… С некоторым опозданием. Да ладно, выкрутимся! Или в связи с очередной проверкой архивных дел, предназначенных к уничтожению, потребовались уточнения. Ну ты же юрист! Придумай что-нибудь.
— Но мы же ничего не уничтожаем! — возмутился я. — И уж тем более подобные дела.
— Майору позволительно не знать про это, — возразил Палму. — Даже напротив: для него это окажется приятной новостью, и он с удовольствием примет нас и охотно удовлетворит нашу любознательность.
Дверь бесшумно отворилась, и в щели показалась голова Кокки. Опять без стука! Что за отвратительная привычка! При этом он имеет наглость уверять, что делает так, чтобы не побеспокоить лишний раз. Сейчас, увидев нас с Палму вдвоем, он смело ввалился и закрыл за собой дверь.
— Слушай, Палму, — невинно сказал он, — куда ты заховал папку с госпожой Ваденблик? Наш хранитель нервничает. Я тут ходил к магистрату, чтобы время скоротать, глазел на объявления… развлечься хотел… — Он смущенно покраснел, опустил голову и начал ковырять ботинком пол. — Чудеса! Я имею в виду извещения о гражданском браке, — пояснил он. — Просто та самая моя знакомая, стюардесса, грозится, что выйдет замуж за штурмана, а он от церкви отошел… Ну, я и хотел посмотреть, действительно ли она собирается сделать эту глупость…
— При чем тут Ваденблики? — нетерпеливо перебил его Палму.
— А при том! При том, что майор Ваденблик и девица Мелконен извещают о вступлении в брак. Я-то что? А вот ты задевал куда-то папку с этим делом! А они уже завтра притопают к бургомистру… Знаешь, какие у него цепи на шее!
Но времени, чтобы слушать про украшения на шее бургомистра, у меня лично не было.
— Девица Мелконен?! — выкрикнул я. — Анникка Мелконен?
— Ну да, Анникка, — кивнул Кокки. — И майор Густав Эрик Ваденблик.
— Подумайте, какая спешка! — восхитился Палму, энергично обсасывая свою трубку. — Этот убийца принялся за дело.
Глава десятая
Кокки, склонив голову набок и продолжая ковырять пол, вполголоса предупредил:
— Если вы собираетесь искать те ботинки, то не стоит. Это была самая обычная пара — на резиновой подошве, практически новая, без единой характерной детали. Я спрашивал в обувном. Они говорят, что продают миллионы пар данного размера.
Это, разумеется, преувеличение. Наши обувщики действительно справляются со своими обязанностями весьма удовлетворительно, но миллионы пар башмаков одного размера они не продают!
— Да нет: ворсинки от одежды, кровь, земля — мало ли что там может быть на этих ботинках! — раздраженно возразил я. — Ты просто отстал от жизни, Кокки. В нашей лаборатории что угодно теперь могут найти: следы плевка на полу найдут через год после того, как ты плюнешь! У них фантастическая аппаратура!
Щеки Кокки задвигались, и я с ужасом понял, что он намеревается попробовать.
— Нет! — заорал я. — Не в моем кабинете! Палму и так тут достаточно свинячит! Посмотрите, что творится под креслом.
Палму вздрогнул и попытался сгрести весь пепел в кучу. Очевидно, он успел тут выкурить не одну трубку. Как у себя дома. Рассчитывал, что раньше полудня я не появлюсь.
— Кокки! — внушительно сказал я. — Ты молодец, ты все замечаешь, спасибо тебе большое. Извещение — это очень важно, и мы все, конечно, выясним в свое время… Но пока постарайся не болтать. Никому, ни слова. Мы с Палму вышли на новый след. Это гораздо серьезнее, чем я и Палму — вначале — думали.
— Кокки! — еще внушительнее произнес Палму. — Если у тебя есть в банках такие же милые знакомые, как в авиации и в обувных магазинах, будь добр, позвони им. Можешь отсюда, по прямой связи. Попытайся выяснить, каково положение майора Ваденблика — в отношении денег. И как обстоят дела со счетами Анникки Мелконен. Насчет тайны вкладов все понятно, но, может, вы по-приятельски выясните это между собой.
— Замечательно! — развеселился Кокки. — Да они сейчас так струсят — что я им в воскресенье звоню, решат, что мы какое-то колоссальное хищение расследуем! Зато потом сами все расскажут от радости, когда поймут, что дело не в кассирше, пытавшейся спустить в унитаз связки банкнотов.
— Потише, Кокки! — предупредил я.
— Мы сейчас отправляемся на утреннюю прогулку, — сказал Палму. — А ты побудь здесь, может, наш начальник решит загулять — погода вон какая отличная!
Во дворе Палму со вздохом посмотрел на черные машины, вкушающие воскресный отдых, но всегда готовые к бою, и мужественно прошел мимо. Светило солнце, блестело море, и удивленно кричали чайки при виде пустой Рыночной площади. Мы миновали президентский дворец, пересекли по мосту канал и вступили на мыс — в район Катаянокка.
Новое здание офиса целлюлозной фирмы «Энсо — Гутцайт» сверкало. Чертовски красивое сооружение! Но Палму не остановился полюбоваться его архитектурой. Забыв о своем ревматическом колене, он тащил меня вверх по улице к дому майора. Деревья в парке переливались на солнце всеми осенними красками.
Задрав головы, мы посмотрели на гладкое современное здание. Шестой этаж был головокружительно высоко. Инстинктивно мы оба глянули вниз, на тротуар, о который разбилась беспутная жизнь Майре Ваденблик. Но там не было никаких следов. Мне вдруг стало не по себе, как будто я заглянул в пропасть. Воображение! Вот от чего Палму не страдает!
— Н-да, кровавая лепешка, и никакого риска, — медленно проговорил Палму. — Когда так разобьешь голову, уже не пожалуешься.
Я вздохнул, и, оттянув разукрашенную бронзой парадную дверь, мы вступили в просторный вестибюль. Роскошный дом. По сто тысяч марок за квадратный метр, прикинул я. Ох, как мне не хотелось нарушать воскресную тишину этого дома! Я ведь простой полицейский. Тут разряды ставок значения не имели, равно как и мое звание вице-судьи.
Лифт двигался бесшумно. Табличка на двери: «Густав Ваденблик». Выписано крупно, красиво. Палму нажал на электрический звонок. Но никакой реакции. Мы смиренно подождали, и Палму нажал снова. Мы еще подождали.
— Никого нет дома, — с облегчением сказал я.
И в ту же секунду послышалось звяканье цепочки, и дверь широко распахнулась. В проеме стояла сердитая женщина с синеватыми волосами.
— Здесь не покупают щеток! — раздраженно сказала она, поглядев на Палму. Потом перевела взгляд на меня. На щеках ее пылал румянец. — Или вы телевизионщики? — удивленно спросила она.
Как видно, мы подняли ее с постели, и она только успела накинуть халат.
— Можем ли мы увидеть майора Ваденблика? — спросил Палму, выпятив колесом грудь. — Мы из криминальной полиции. Комиссар Палму.
Женщина вздрогнула и тут же захлопнула бы дверь, если бы Палму не успел придержать ее ногой.
— У нас чисто формальный вопрос, — поспешно заверил он.
— Майора нет дома, — с раздражением проговорила экономка. — И мадам тоже.
— Мадам?! — удивленно воскликнул я.
Она смерила меня взглядом, но поправилась:
— Барышни Мелконен. Она еще не мадам, но скоро будет. — Женщина вдруг широко улыбнулась и толкнула локтем дверь. — Вваливайтесь, ребята! А дверь захлопните. Я ведь из Америки. Жила там у миллионеров. У них и телохранители, и вообще все! Пошли, пропустим по рюмочке.
И мы пошли. Но повели нас не на кухню, а прямо в гостиную. Экономка открыла ящик с сигарами и, покачиваясь, предложила нам. Только сейчас до меня дошло, что она пьяна в стельку. В воскресное утро!
— А вы, видимо, экономка? — почтительно осведомился Палму. — Миссис Лююли Хартола, не правда ли? Хе-хе.
Он противно захихикал, и с ним вместе захихикала синеволосая экономка.
— Ага, Лююли я. — Она игриво ткнула Палму в бок. — Да вы садитесь, будьте как дома. Господа в имении. Вы шерри любите? Я люблю!
В это легко было поверить, глядя на ее красное лицо.
— Печень! — с сожалением объяснил Палму, но поспешно добавил: — Хотя от рюмочки коньяку не откажусь.
— При исполнении? — ужаснулся я.
— Уймись! — взъярился вдруг Палму. — Такое превосходное воскресное утро. У нас свободное время, и дело пустячное, одна проформа.
Лююли Хартола принесла из кухни ополовиненную бутылку шерри и свой стакан. Потом открыла бар и, покачнувшись, оперлась о шкафчик, в котором тонко зазвенели бокалы.
— Ну-ка, возьмем-ка бутылку получше, вот эту, для дорогих гостей, — гостеприимно распорядилась она и понесла к столу коньяк и две здоровенные рюмки.
— Хватит, хватит! — в ужасе закричал я, видя, как щедрою рукой она ливанула коньяку в обе бадьи.
Но она поняла мои опасения превратно.
— Да майор и не заметит! — успокоила она меня. — Он же не пьет. А потом, я все равно скоро отсюда съеду. Когда Анникка станет хозяйкой. Я с ней не уживусь. Вот Майре была — это да! Ну, прежняя хозяйка то есть. Она ничего не выпытывала, не вынюхивала. Пусть Лююли берет, что хочет, — так она всегда говорила. И мои американцы тоже не скаредничали. Каждый месяц платили жалованье, и мне хватало. Мне и так всего хватало, а тут еще и деньги оставались. Лафа! Неужто я теперь позволю какой-то Анникке Мелконен щелкать себя по носу? Да у меня у самой деньги в банке лежат! Мне и Майре давала, только не хотела, чтоб майор знал. — Она подмигнула, ткнула меня в бок и подбодрила: — Ну-ка, вперед! Пора выпить, а то мы все языком болтаем. Давайте, это хороший коньяк. Не какое-то пойло.
— Да ты можешь не пить, если не хочешь, — разрешил мне Палму, а сам чокнулся с экономкой, но, заслушавшись, как тонко зазвенела хрустальная рюмка, забыл отпить свой коньяк.
— И когда назначена церемония бракосочетания? — безмятежно спросил он после продолжительной паузы.
— Сразу после оглашения, — презрительно сказала миссис Хартола. — Ни свадьбы, ничего такого. Прямиком в свадебное путешествие. За границу! Можно подумать, молодожены уезжают на медовый месяц, хо-хо! Хотите — верьте, хотите — нет, но Анникка в положении! Стали б они иначе так торопиться… Не-ет, Лююли еще никому провести не удалось. Лююли многое знает, только всегда молчит…
— О, Лююли, наверно, очень скрытная! — подольстился Палму. — Я очень уважаю таких женщин. Из них слова клещами не вытянешь! Но у нас дело самое безобидное. Мы в своих архивах уничтожаем кое-какие дела, всякие ненужные бумаги, и, когда до нас донесся звон свадебных колоколов, мы и решили, что пора выбросить в помойку наш хлам — ну, бумаги, связанные с самоубийством Майре Ваденблик. В качестве свадебного подарка. Вот! Потому мы и зашли по дороге… Мы обход делаем.
К моему изумлению, экономкину веселость как рукой сняло. Она посмотрела по очереди на меня и на Палму, как бы раздумывая, говорить или нет.
— А что ж вы совсем не пьете? Ну-ка, поехали, ребятки! — подбодрила она нас.
Палму пригубил.
— О, какой коньяк! — восхищенно воскликнул он. — Но как же Анникка не постыдилась уволить вас после стольких лет верной службы?
— А у меня есть пенсия, — похвасталась экономка. — Никогда не угадаете, какая! Очень большая! Это еще когда я ухаживала за бедняжкой Майре. Так что я проживу. Майор это прекрасно понимает. Но мне пока рано отдыхать! Нет, ребятки, Лююли до старости еще далеко! В следующий четверг я отбываю в Южную Америку — вот так-то! Майор сам все устроил. Посмотрю, где там кокосовые орехи растут.
Я покосился на Палму, но он с простодушным лицом согревал в ладонях коньячную рюмку, делая вид, что ничего не понимает.
— Да-да, пальмы и жаркое солнце, — мечтательно поддакнул он. — Это жизнь! А мы тут останемся хлебать осеннюю сырость и таскаться на службу… Ох, да, насчет службы: вот этот вот нач… молодой человек заметил, что в протоколах по делу Майре не очень подробно рассказано о двух предыдущих ее попытках — ну, покончить жизнь самоубийством…
— Дерьмо! — без тени смущения заявила Лююли. — Какие, к черту, попытки… Спьяну все это. Пьяная была, вот пепел в кровать и уронила. Не родился еще на свете такой идиот, который сам себя захотел бы в постели поджечь. И с таблетками этими, бог ты мой! Вы если их сами принимали, то представляете… Да когда человек выпивши, он их горстями глотает, не считая. А если вдруг просыпается, то снова глотает. А то, что она пьяной от них становилась, так другого выхода не было: майор же на замок шкафчик стал запирать. Бар то есть. Да нет, это все их выдумки, Анникки и майора, что Майре как будто и раньше пыталась… Враки! Вот то, что выпить любила, — это да, ни разу на полдороге не останавливалась, пила до конца…
Экономка с чувством покивала головой и налила себе еще. Она не церемонилась: шерри пила из большого стакана и плевать хотела на то, что капает на красивый стол из ценного дерева. Правда, на нем уже были следы: круги от рюмок, прожженные черные отметины от сигарет.
— Зачем же она из окна-то выпрыгнула? — простодушно поинтересовался Палму.
— А это и я в толк не возьму, — честно ответила экономка. — Может, Анникку решила подразнить, а нога-то и поскользнулась. Все от пьянства, поверьте уж Лююли! Лююли кое-что видела и кое-что знает. Поэтому-то я теперь тоже выпиваю с опаской, по праздникам да в свободные дни. Не-ет, Лююли ни в жисть пьяницей не станет.
Она задела стакан, и содержимое вылилось ей на колени, но она не заметила. Сделала усилие, чтобы посмотреть нам в глаза, это ей не удалось.
— Конечно, не станет, — поспешно согласился Палму. — Просто люди иногда готовы цепляться по пустякам, насчет выпивки например… Так вы думаете, что это был несчастный случай, а не самоубийство?
— Точно, — подтвердила Лююли. — Не знаю, на кой черт они выдумали про это самоубийство. И Мелконен был бы рад, если б это был несчастный случай. Хотя с пьяными никогда точно не знаешь… Я ведь сама не видела, как же я могла им возразить… Анникка видела. Ну и майор, конечно. Он не успел ее ухватить за подол. А может, Майре разъярилась, увидев, что он укладывает вещи и что Анникка хочет уйти вместе с ним… Майре всегда хотела, чтоб было только по ее! Упрямая была, ужас! Однажды даже кухонным топориком взломала бар, когда майор его запер.
— А вы, Лююли, сами где были? Ну, во время несчастного случая? — полюбопытствовал Палму.
— Бутерброды делала в кухне, — сказала Лююли. — Мы все проснулись, когда госпожа приехала с гостями из ресторана. Майор был ужасно сердит, только не мог он при гостях тащить ее силком в кровать! Ну, он мне велел подать пиво и сделать бутерброды, чтоб они немного очухались, и отослал всех на кухню… А Майре вообще была как фурия, — продолжала Лююли, подкрепившись между делом порцией шерри. — Ругалась, ногами топала, кричала. Что знает что-то такое про майора и Анникку… Что пусть он убирается… И что ей теперь не придется платить миллионы за развод, раз нет контракта…
— Что это она имела в виду? — заинтересовался я как юрист.
— Да она небось думала, что майор хочет на нее свалить вину за развод, — предположила экономка. — Но на Анникку она не сердилась, крикнула только, что никуда та не поедет, что она еще не знает этого человека, но когда-нибудь ее глаза откроются… И еще про Синикку, но майор в это время всех отправил на кухню. И меня тоже.
— Вот как, и про Синикку… — поощрительно заметил Палму.
— Ну да, про дочку Майре, — пояснила экономка. — Которая утонула. И вроде как не сама, если Майре правду кричала.
— А что она кричала? — спросил Палму, галантно подливая даме шерри.
Лююли благодарно просияла.
— Сама не пойму, чего так горло сохнет. Все-таки шерри умеют делать только там, у себя. А во всех других местах это настоящая бурда. Может, мне с вами коньячку выпить?
— Конечно, конечно, — сказал Палму, опытным глазом оценивая состояние экономки. — А что же там такое с Синиккой-то вышло?
— Да Майре вопила, что майор ее совратил. Но я не верю. Пьяная болтовня. Ну, были у майора женщины — конечно, такой видный мужчина! Но не девчонки же семнадцатилетние! Она, наверно, Анникку хотела напугать или от ревности… Так я думаю. Еще она кричала, что не позволит, чтобы этот кобель — ох, прошу прощения! — чтобы он еще и за ее сестру взялся, мало, мол, ему того, что дочь сгубил. — Лююли Хартола начала как-то странно раскачиваться, и глаза ее на мгновение закрылись. Но она тут же, вздрогнув, очнулась. — Извиняюсь, — сказала она, потянувшись к коньячной бутылке. — Забыла налить!
— Благодарствую, — отозвался Палму, но свою рюмку отодвинул подальше от мотающегося горлышка. — Я ведь уже старик, куда мне тягаться с такой молодой девушкой! А сейчас-то они где — майор и госпожа, то есть барышня?
— Да в Линнанмяки, где ж еще, — пренебрежительно сказала экономка. — Майор оттуда не вылазит. У него там сын. Такой хорошенький, ну прямо принц! При Майре-то майор его не мог здесь держать. Она его под шумок поколачивала, за уши драла. Сколько раз я вступалась! А в Линнанмяки ребенку хорошо.
— Это около Таммисаари, — заметил Палму.
Экономка вдруг начала клониться вперед и плюхнулась на стол. Ее синеватые волосы разлетелись, накрыв половину стола. С явным усилием, но сохраняя достоинство, она вернулась в исходное положение и огляделась.
— Нехорошо мне чтой-то, — проговорила она. — Будят, в колокольчики трезвонят… — Она нахмурилась и уперлась в меня взглядом. — Ну вы, фараоны, все четверо! — Она погрозила пальцем. — Что вы мне тут намешали, а? Думаете, я не знаю? Я все вижу, все…
Голова ее упала назад, и она захрапела.
— Ну-ну, — нежно обратился к ней Палму, — Лююли сейчас пойдет в кроватку, баиньки. Сладкие сны смотреть…
Он обнял ее за талию и с трудом поставил на ноги. Я поспешил на помощь. Объединив усилия, мы дотащили Лююли до комнаты для прислуги и сгрузили на кровать. Прямо в халате. Палму заботливо укрыл ее. Лююли с трудом разлепила сонные глаза и вдруг, ухватив его за рукав, с силой притянула к себе и наградила поцелуем в губы.
— Комиссарчик, душка, иди сюда ко мне-е, — пролепетала она, с недюжинной силой прижимая его к груди.
Мне снова пришлось приходить на помощь и высвобождать Палму из цепких объятий. Лююли что-то невнятно пробормотала, повернулась на бок и натянула одеяло на голову.
Палму вытер ладонью рот и шумно выдохнул. Мы вернулись в гостиную, и Палму одним глотком выпил свой коньяк. Я возражать не стал, он в этом явно нуждался.
— Напрасно ты считаешь, что все, что она говорила, — пьяный бред, — заметил он. — Ну конечно, кое-что она по пьянке присочинила, потом у нее свой зуб на них… Но в общих чертах она говорила правду. Так что я думаю, стоит вызвать Кокки и пусть осмотрит квартиру, раз есть такая возможность.
Я с сомнением поглядел вокруг. Огромная квартира! Мне стало страшно.
— Нас обвинят. Обоих. У нас ведь даже повода нет!
— А ботинки? Или вдруг, представь, найдутся ключи Нордберга, а? — искушал меня Палму. — Такое вполне может случиться. Подумай, какая тебе выпала удача! Да эта Лююли — просто подарок судьбы!
Предложение было и в самом деле соблазнительное. А-а, была не была, решил я. И пока Палму беседовал по телефону, я тоже налил себе коньяку и опрокинул рюмочку. Для храбрости.
Кокки явился минуты через три. Честное слово! Я же говорил, что машины у нас всегда наготове. При виде бутылок и стаканов он неодобрительно покачал головой.
— Я среди дня себе не позволяю, — осудил он. — Я думал, действительно срочная работа… И ты, шеф, туда же!
Сгорая со стыда, я подтвердил, что да, работа срочная… И самолично убрал бутылки в бар. И запер его.
Они начали со спальни майора. Я с ними не пошел. Имел горький опыт: я всегда «мешался», «путался под ногами» и так далее. Я подошел к окну и посмотрел вниз. Подумал о жизни этих людей — кошмарной, по описанию Лююли. И такое происходит в лучших семьях, то есть таковы наши лучшие семьи!
Я повернулся и пошел в ванную. Открыл там шкафчик с лекарствами. Я хорошо разбираюсь в снотворных. Изучал их. Одно время — даже на себе. После развода, когда нужно было усыпить собаку. Собака, конечно, была ни в чем не виновата… Но в этом шкафчике снотворных таблеток не было.
Зато они лежали в ночном столике Анникки Мелконен. Не особенно сильные, правда, но все же снотворные. Видимо, Анникка продолжала жить в той же комнате, где и раньше, до смерти сестры. Н-да, странная семейка. В спальне Майре все тоже оставалось по-прежнему. Прелестная комната! Одежда так же висела в зеркальном встроенном шкафу, занимавшем всю стену. Стояли ряды туфель. Все на шпильках. Судя по этим туалетам, Майре не была любительницей здорового образа жизни, на свежем воздухе.
Я с опаской открывал разные двери, заглядывал внутрь, словно там, в этих пустых комнатах, бродили чьи-то тени. И если бы не бодрый храп, доносившийся из комнаты для прислуги, у меня мурашки бы забегали по коже.
Комната майора выглядела как настоящий кабинет. На полках книги по генеалогии, военной истории, земледелию. Я уселся за дорогой письменный стол и начал выдвигать ящики. Бумаг было поразительно мало. Майор, очевидно, был человеком порядка. Ни чековых книжек, ни ценных бумаг. Наверняка все в банковском сейфе. Или у адвоката на хранении. Нет, я не нашел ничего, что дало бы толчок моему воображению. Или просто я не выспался? От выпитого коньяка меня начало клонить в сон. Веки стали тяжелыми, их трудно было поднять. А кресло было неописуемо удобное. Я устало опустил голову…
Пробудился я от звяканья стаканов. В гостиной возле бара стоял Палму. На цыпочках. Дверца была открыта.
— Я просто попробовал, можно ли тихонько пробраться сюда, чтоб никто не слышал, — торопливо стал оправдываться он. — Ну что, хорошо вздремнул? Сейчас уже полпервого… Вот так Майре и проскальзывала сюда, во всякое время дня и ночи.
Кокки сидел за письменным столом и изучал содержимое ящиков.
— Да нет там ничего, — раздраженно сказал я; голова у меня была чугунная. — Я уже смотрел. А вы что-нибудь нашли?
— Размер ботинок подходит, — сказал Кокки. — Но это ничего не дает. А так майор вообще-то спартанец. Спортсмен, рыбак, охотник.
— И сам водит трактор, — буркнул я. — У меня, между прочим, тоже есть глаза.
На стенах кабинета висели фотографии. Майор с бьющимся лососем в руках. На медвежьей охоте. На тракторе, надменно улыбающийся. Да, видный мужчина. Этого у него не отнимешь. Мужественный. Кобель. Еще — фотография улыбающейся госпожи Ваденблик в вечернем туалете, как-то не очень ему под пару.
— Н-да, ничего, решительно ничего, — признал Палму. — Подозрительно! Уж больно быстро они с Анниккой все подчистили. Ни один нормальный человек не будет так стараться ничего не оставить, никаких личных вещей!
— Ну они же в основном в имении живут, — объяснил я. — В этом Линнанмяки. А тут квартира так оставлена, для представительства. На попечении Лююли. Приезжают переодеться, иногда принять гостей. Если вообще здесь бывают гости, после смерти Майре.
В комнате для прислуги раздался грохот: это Лююли неосторожно перевернулась и шлепнулась на пол. Работы хватило для всех троих. Лююли мы нисколько не побеспокоили, она спала без задних ног. Палму заботливо подложил ей под голову подушку, но она и ухом не повела. Что ей были такие пустяки, когда она выдержала жизнь в Америке!
— Не пора ли нам уходить подобру-поздорову, — смущенно предложил Кокки.
— Ага, ведь начальник обещал устроить увеселительную прогулку, — сказал Палму, как бы между прочим разливая коньяк по крошечным рюмкам. — Этот я еще не пробовал! Нельзя же, чтоб только твои отпечатки остались на бутылке! — обратился он ко мне, и я хотел было открыть рот, но Палму опередил меня: — И ты тоже выпей, чтоб в машине не сомлеть. Или ты хотел предложить нам сначала позавтракать? Нет, никак не получится. Нам еще пару часов ехать, а я твердо намерен вернуться из этой глухомани до темноты. Пока под любым кустом может сидеть убийца, я темноты опасаюсь.
Палму был завзятым горожанином. Он даже летом, в отпуск, не уезжал из города и не ездил ни в какие лечебницы, чтобы подлечить колено. Хотя и голову ему тоже не мешало бы…
— А куда мы поедем? — подозрительно спросил я.
— В Линнанмяки, разумеется, — удивился Палму. — Ты же сам говорил, что не прочь повидать майора. Вместе с Анниккой, конечно. Поздравить, так сказать, молодых, пожелать им счастья…
— Нет, так дело не пойдет, — сказал я. — Мы не можем забирать патрульную машину для увеселительной прогулки.
— У тебя же широчайшие полномочия, — принялся хитрить Палму. — Если мне не изменяет память, шеф полиции еще не дал задний ход. Все пока остается в силе. А губернатор посулил тебе даже войска. Неужели ж ты не можешь воспользоваться одной машиной!
Что и говорить, Палму был известная лиса… Оказалось даже, что он уже успел позвонить и вызвать машину к подъезду. Так что мы тихонько выбрались из квартиры, плотно прикрыв за собой дверь, и спустились вниз.
Какая чудесная стояла осень! Как празднично желтели леса по обеим сторонам дороги! Светило солнышко, мы ехали со скоростью восемьдесят километров в час, и на душе у меня как-то само собой полегчало. Полицейский в форме на патрульной машине не имеет права развивать бо́льшую скорость, и Палму ныл совершенно напрасно. Да и спешки никакой особенной не было. В Таммисаари мы остановились выпить кофе, и Палму с Кокки тряхнули своим шведским. Дальше дорога начинала ветвиться, и ехать надо было осторожно, чтоб не ошибиться. Места вокруг стали совсем дикие, там и сям в просвете между деревьями поблескивало море. Наконец мы увидели указатель: «Линнанмяки». Настроение у меня опять упало. Мы поехали еще медленнее, а Палму зорко оглядывал окрестности. И очень кстати, потому что сразу за очередным поворотом на дорогу выскочил мальчик, и водителю пришлось резко затормозить. Мальчик преследовал раненую ворону. Мы остановились.
В руках у мальчика была мелкокалиберная винтовка. Это был и вправду самый красивый мальчик, какого я когда-либо видел. Примерно лет двенадцати. В зеленой тирольской шляпе, с красным перышком. И в блестящих сапогах.
Но повадки у него ничем не напоминали охотничьи. С искаженным злобой лицом он нагнал ворону и, схватив ее за крылья, с силой рванул в стороны так, что послышался хруст. Истязаемая забилась. Мальчик бросил ее на землю и с увлечением стал смотреть, как ворона барахтается с повисшими крыльями.
— Садист! — с отвращением сказал водитель. — Истязатель животных! Тебя надо как следует выдрать!
Мы вышли из машины. Но мальчик не обратил на нас ни малейшего внимания. Он подошел к вороне еще на шаг, старательно прицелился и отстрелил ей клюв. Та все еще была жива. Меня замутило.
— Немедленно пристрели ее, — приказал я.
Ворона лежала в обмороке, и кровь медленно вытекала из нее, окрашивая осенние листья.
Мальчик едва скользнул по мне надменным взглядом. В его красивых темных глазах горела ненависть.
— Go to hell, — бросил он.
— Что он сказал? — осведомился Палму, глядевший на все это вытаращенными глазами.
— Проваливайте, пошли к чертям собачьим! — перевел мальчик. — Вон с нашей земли, а то пристрелю как собак!
Он взял оружие на изготовку и направил на нас.
— Сопротивление полиции… — начал водитель, но Палму среагировал быстрее.
Забыв о своем больном колене, он прыгнул через канавку, выхватил у мальчишки винтовку, а ему дал такую затрещину, что тот чуть не свалился. Оружие Палму вручил мне.
— Давай ты, я не могу.
Взъерошенное тело вороны еще дрожало. Я выстрелил. Мальчик держался за щеку. Вдруг он выругался — так непристойно, что я не решаюсь здесь и повторить, повернулся и побежал в глубь леса с криком: «Отец, отец!»
— Если это и есть отпрыск Ваденблика, — с чувством сказал Палму, — то я начинаю понимать Майре. «Бедный маленький мальчик», с которым «жестоко» обращались. «Злая мачеха» и так далее и тому подобное… Я забросил винтовку в лес и сказал:
— Едем.
Весь мой страх как рукой сняло. Истязание животных — это то, чего я выносить не мог. И не потому, что был такой чувствительный. Просто люди должны иметь дело с себе подобными. С людьми то есть. Они умеют разговаривать и всегда могут договориться, а животные не умеют.
Метров через двести мы въехали в старый одичавший парк. Дубовый. Господский дом был сравнительно невелик — примерно два десятка окон по фасаду. Крытый новой черепицей. Перед домом аккуратно подстриженная лужайка с бархатистой травкой. И с цветущими астрами и георгинами. Значит, холодных ночей тут пока не было.
Мы остановились. Наш водитель вылез, чтобы открыть нам дверцы, и в это же время распахнулась парадная дверь, и на пороге показался майор Ваденблик собственной персоной. Такого мужчину ни с кем не перепутаешь. На нем были такие же блестящие сапоги, как на сыне, и твидовый пиджак. Загорелое волевое лицо, глаза со стальным блеском. Настоящий господин, помещик. Спортсмен. Офицер.
— Добро пожаловать! — радушно приветствовал он нас, протягивая руку и тепло улыбаясь. — Не ждал вас так скоро.
От неожиданности у меня подкосились колени. Но Палму быстро нашелся — пожал протянутую руку и ответил:
— Приехали, как только смогли.
— Мы сейчас сразу и отправимся, — предложил майор Ваденблик. — Я только надену шляпу и пальто.
Он вернулся в дом, оставив дверь настежь открытой. Я воззрился на Палму в полном недоумении. Все шло чересчур гладко.
— Ты что думаешь, — запинаясь, проговорил я, — он что, в самом деле хочет поехать с нами?
Кокки тоже удивленно покачал головой.
— Кто этих господ разберет! Дворянская кровь. С детства все позволено… Угрызения совести и все такое прочее…
Но если мне когда-либо доводилось видеть человека, кому неведомы угрызения совести, то это безусловно был майор Ваденблик. Он вернулся через минуту с фуражкой на голове и в роскошном замшевом пальто.
— Вы захватили с собой наручники? — осведомился он. И, заметив наше удивление, нетерпеливо сказал: — Старик опасен. Я ведь предупреждал по телефону. Он свалил трактором все заграждения и заявил, что поскольку его отец и дед пользовались этой дорогой, то и он впредь будет ездить по ней. И никакой суд его не остановит. — Майор внезапно осекся и настороженно оглядел нас. — Или вы не в связи с этим? Тут один упрямый старик не желает продать мне обратно землю. Мою землю. Которая была насильно отчуждена и отрезана! Ничего, в моей власти сделать так, что ему покажется здешняя жизнь весьма тяжелой. Он не только продаст, но еще и благодарить станет… Или вы представляете его сторону? — с подозрением спросил он, поскольку мы стояли, словно набрав в рот воды.
Но мы ничего не могли с собой поделать. К счастью, тут подоспел мальчишка.
— Отец! — закричал он еще издали. В глазах его стояли злые слезы. — Этот старик ударил меня, — он показал на Палму. — Убей его!
Майор Ваденблик требовательно посмотрел на Палму.
— В чем дело? — резко спросил он.
— Вашему сыну предъявляется обвинение в истязании животных, — жестко сказал Палму. — И в сопротивлении служащему полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. А также в угрозах применить заряженное огнестрельное оружие на общественной дороге. Это в том случае, если дело дойдет до суда. Но нас вполне удовлетворит, если вы его примерно накажете, чтобы ему впредь было неповадно.
— Чем ты занимался, Эрик? — Майор перевел на сына холодный взгляд.
Тот отвел глаза.
— Я подстрелил ворону, это дрянная птица! — ответил он. — Но она не сразу умерла. Еще велел этим старикам убираться к черту с нашей земли. Так же, как ты говоришь, отец!
— Если ты собираешься издеваться над скотом, делай это в лесу, а не на глазах у посторонних, — посоветовал майор. — И ты потерял свое оружие!
— Оно там, в лесу, можешь забрать его, — заметил я.
Мальчик взглянул сначала на отца, потом на нас и пошел. Но лицо его не предвещало ничего доброго.
— Он будет выпорот, — коротко сказал майор Ваденблик. — Еще какие-нибудь дела? — Гостеприимства он не выказывал.
Палму предоставил выпутываться мне.
— Наше дело касается самоубийства госпожи Ваденблик, — медленно проговорил я. — Мы из криминальной полиции Хельсинки.
На лице майора не дрогнул ни один мускул. Самое большее, что он себе позволил, — это проявить вежливый интерес.
— Поскольку вас в городе не было, а мы так или иначе ехали по делам в вашу сторону, то мы и решили по дороге завернуть сюда, — в отчаянии продолжал я. — Чтобы сообщить, что мы собираемся уничтожать бумаги по данному делу. То есть наш хранитель в архиве требует, чтобы мы уничтожили все ненужные документы. Дабы освободить место… У нас пока нет нового помещения, а в старом тесновато…
Пока я мямлил этот вздор, лицо Палму становилось все довольнее, и в конце он даже потирал руки.
— Холодновато здесь, на улице, — заметил он. — А мы думали, что вы еще в Хельсинки, позавчера вечером вас видели.
— Да, было заседание правления, — сказал майор Ваденблик. — Я редко наезжаю в город. Моя будущая жена и я вернулись вчера утром. Собрание очень затянулось.
— Она тоже заседает в правлении? — простодушно удивился Палму.
— Разумеется, — сердито ответил майор. — Анникка Мелконен является владелицей тридцати семи с половиной процентов акций компании. Так же, как и ее брат. Я владею пятнадцатью процентами. Впрочем, это наши частные дела и вас ни в коей мере не касаются.
С огромным удовольствием он послал бы нас ко всем чертям, но долг хозяина обязывал… Дворянская кровь, должно быть, и все такое прочее… Ему приходилось проявлять учтивость. Он проговорил:
— Что ж, раз вы приехали по делу, будьте любезны, проходите в дом. — Он по-военному повернулся и пошел вперед. — Анникка! — крикнул он наверх, стоя в просторном холле. — Спускайся! У нас гости. Полиция.
Сверху я услышал встревоженный возглас. Мы успели снять верхнюю одежду и оглядеться, когда будущая, а может — в некотором смысле — настоящая хозяйка дома, трепеща, спустилась вниз. У нее было серое от страха лицо и блуждающий взгляд.
— Что с тобой? — рассерженно спросил майор. — Не можешь держать себя в руках! Поздоровайся. Эти господа… простите, я не расслышал ваши фамилии.
Я поспешил представить Палму, Кокки и себя. Не забыв о титуле вице-судьи.
— Извините за вторжение и причиненное беспокойство, барышня Мелконен, — сказал я, стараясь быть полюбезнее.
Но неприкрытый ужас на ее лице и весь трясущийся вид вызывали у меня такое же тошнотворное чувство, какое я испытал, глядя на судороги вороны.
Майор быстрым шагом провел нас через зал, увешанный портретами предков, в кабинет — или гостиную? — с потертыми кожаными креслами, ломберным столом под зеленым сукном, лосиными рогами и вставленными в рамки дипломами. А также внушительной коллекцией оружия на стене. Совсем как в старые времена.
Барышня Мелконен поместилась на краешке стула, стараясь держаться прямо.
— Да что наконец с тобой, Анникка? — снова сердито спросил майор. — Что ты нервничаешь? Нет ни малейшего повода нервничать. Речь идет о смерти Майре.
Я сам видел, как тень облегчения скользнула по измученному лицу барышни Мелконен. Нет, это не было мое воображение. Вообще надо сказать, что барышня была не очень — как бы это выразиться… привлекательна, что ли. Выпирающие скулы, торчащие зубы… Вряд ли на нее заглядывались мужчины на улице или сходили по ней с ума. Фигура у нее тоже была не ахти…
— Итак, — невинно начал Палму, — позавчера вечером, часов в двенадцать, вы оба находились на собрании правления.
— Да, в ресторане «Кяпи», в отдельном кабинете. На нейтральной территории, — докончил майор, но не смог сдержаться: — Не понимаю только, какое это имеет отношение к вашему делу. После смерти Майре я выказал достаточную готовность предоставить полиции все необходимые сведения, и, по-моему, все досконально выяснили еще весной. Или это понадобилось господину Мелконену?.. — Он замолчал и сурово посмотрел на барышню Мелконен. — Если речь идет о данном собрании, то я не собираюсь отрицать, что дал ему по физиономии, — деловито сообщил он. — Можем выяснить отношения в суде, если он того пожелает. Но я бы советовал ему не забывать, что мы с Анниккой, вместе, владеем большей частью акций. И его положение председателя не столь прочно, как он думает.
— Ты не должен отстранять Аарне, — вступила в разговор Анникка, голос у нее был хриплый. — Отец никогда не позволил бы этого.
— Черт возьми! — вспылил майор. — Вопрос стоит только о членстве в правлении. Еще Майре пыталась этого добиться. Я должен быть одним из директоров! Пусть увеличат число мест в правлении, если все остальные так незаменимы! Ваш братец ведет себя чертовски самоуверенно! А ведь ты отлично знаешь, что мне нужны деньги. Не могу же я в кредит выкупать у государства свои земли, которые были грабительски отняты у нас! Мое хозяйство не выдержит таких процентов. Многое еще нужно отстраивать. А Орлиное гнездо, его строительство!
— Конечно, конечно, — пробормотала барышня Мелконен. — Да Аарне все из-за того, что ты ходил на завод, а рабочие возмутились…
— А что, в нашей стране порядочный человек уже не может высказать то, что считает нужным? — саркастически спросил майор. — Это подлый сброд, ленивые мошенники! Зато какие у них царские доходы! У них просто не было настоящего хозяина. Будь моя воля, они бы у меня живо присмирели!
— Но ведь это квалифицированные рабочие, обученные еще отцом! — рассердилась Анникка Мелконен.
— Итак, все это происходило в двенадцать часов, — напомнил Палму. — А когда вы ушли, майор Ваденблик?
Майор побагровел от гнева, и глаза его угрожающе блеснули. Но он сдержался и взглянул на часы:
— Когда ты ушла, Анникка? Постарайся вспомнить.
— Нет, я не помню, — ответила та. — Я так перепугалась, когда… когда ты начал драться.
— Ладно, — сказал майор и еще раз посмотрел на часы, часы были дорогие и красивые. — Я не стал досиживать до конца. Ушел около двенадцати. Они при мне успели заказать вино, значит, время до закрытия еще оставалось. А я беспокоился из-за Анникки, она очень перенервничала. Из-за такой ерунды! Мало ли что бывает между мужчинами. Я думал, что она, рассердившись, поехала к себе на квартиру, и пошел сначала туда. Звонил в дверь, так как ключа от квартиры у меня нет. Но оказалось, что Анникка, умница, сразу поехала домой и была уже в постели, когда я вернулся.
— Вы были на машине? — спросил Палму.
Майор Ваденблик остро взглянул на него.
— Я никогда не сажусь за руль, когда выпью, — отрезал он. — На этом вы меня не поймаете. Впрочем, я не большой любитель спиртного. В нашей семье по этой части была Майре. Полагаю, вам это известно. Так что я шел пешком. Когда я выпью две-три рюмки… всегда хожу пешком, чтобы проветриться. Это мое правило. Кроме того, я был не в духе в тот вечер. Не без причины!
— Это правда, я очень расстроилась тогда, — дрожащим голосом проговорила барышня Мелконен. — Отец всегда учил, что собственность — это не привилегии, а социальный долг, очень тяжелые обязательства. Аарне помнит это. И старается как можно лучше заботиться о рабочих. У нас есть и пенсионное обеспечение, и ссуды на строительство собственных домов; компания наделяет рабочих земельными участками и покрывает половину расходов на строительство и доплачивает семьям на детей…
— Баловство! — перебил майор. — Единственное, в чем они нуждаются, — это в дисциплине. У них и так уже и рабочие советы, и доверенные лица, какие-то дурацкие представители… Да что ты дрожишь, Анникка?! Ты больна? Ты еще с того вечера никак в себя не придешь!
— Я… я, наверно, простудилась, — проговорила та, опустив голову. — Тогда еще. Я тоже шла пешком. И только легла, когда ты вернулся.
— Если ты больна, ложись в постель и выпей лекарство, — сердито сказал майор. — Ты здесь не нужна.
Барышня Мелконен, бледная как полотно, поднялась, опираясь на спинку стула.
— Простите, — пролепетала она, — я в самом деле пойду. У м-меня т-температура…
И она вышла из комнаты прежде, чем мы успели удержать ее. Ее скорбное лицо выражало такую неизбывную вину, что… что я опять вспомнил трепыхавшуюся подстреленную ворону с ее сломанными крыльями и перьями, вымазанными кровью. Анникка Мелконен чем-то напоминала эту ворону. Может быть, своим темно-серым платьем…
— Чертовски все изнеженные, — проворчал майор себе под нос. — Нет, от женщин толку не добьешься. Ходит на поводу у своего братца, как комнатная собачка. Конечно, великий человек!.. Что ж, господа, вы удовлетворены?
Но Палму продолжал безмятежно сидеть. Как ни в чем не бывало он откашлялся и степенно проговорил:
— Мы надеялись застать вас, майор, в вашей хельсинкской квартире. И имели удовольствие побеседовать с вашей экономкой.
Майор насторожился, лицо его застыло.
— И что же? — осведомился он.
— Госпожа Хартола придерживается того мнения, что ваша жена не совершала самоубийства.
Палму смотрел в пол и теребил трубку. Лицо майора мгновенно изменилось. Он улыбнулся. Конечно, это была холодная улыбка. Он вынул из кармана трубку и жестяную коробочку с мелким английским табаком.
— Отведайте, — учтиво предложил он Палму, подымаясь и протягивая ему коробочку. — Или вы предпочитаете сигары?
Он нажал на звонок в стене. Потом открыл ящик с сигарами и предложил Палму, Кокки и мне. Именно в таком порядке. В дверях возникла горничная с испуганным лицом и присела. В черном платье, белом переднике, даже с белой наколкой в волосах! Как в старину.
— Чаю! — распорядился майор.
Девушка снова присела и исчезла. Майор решил вернуться к предмету разговора.
— Так-так, госпожа Хартола, — повторил он, растягивая слова. — Думаю, вы удивились, почему я столь долго терпел эту алкоголичку. Дело в том, что она ухаживала за Майре в тяжелые дни. Я даже чувствую себя несколько виноватым перед ней: это Майре пристрастила ее к вину. Она была неотвязна в таких случаях. Госпожа Хартола приехала из Соединенных Штатов не так давно, но, видимо, почва оказалась благодатной. Вы, несомненно, заметили, что она уже законченная алкоголичка. К счастью, мне удалось найти ей новое место, так что мы сможем пристойно расстаться.
— Как же, место в Южной Америке, — заметил Палму.
— Перемена климата пойдет ей на пользу, — твердо сказал майор. — И продолжительное морское путешествие… Так что же она болтала?
— Она намекала, что смерть госпожи Ваденблик — следствие не самоубийства, — Палму был медлителен, как никогда, — но несчастного случая.
Показалось мне или майор действительно облегченно перевел дух?
— Никакого несчастного случая. Ведь на допросах все было выяснено. Она это сделала в порыве гнева, злости. Хотела мне навредить. Как маленькая девочка, которая грозится сделать черт знает что… Майре так и не выросла. И не поняла, что значит жить на своей земле. В своем родовом имении.
Майор набил и зажег трубку и обвел ею вокруг — не только стены, увешанные памятными вещами, рогами и оружием, но и все свои обширные владения, с глухими лесами и сохранившимся феодальным укладом, если вы понимаете, что я хочу сказать. Голосом человека, много страдавшего, но научившегося терпеть, он продолжал:
— Для нее все это не имело цены. Она не могла здесь находиться, хотя врач советовал ей пожить на природе, простой жизнью, говорил, что ей это будет полезно. Но Майре больше нравилось по две недели лежать в больнице и лечить нервы. Нервы! Нервы были ни при чем, обычное похмелье. Соответственный уход и лекарства: морфий, снотворное, черт бы их побрал!.. Простите меня за грубые выражения, — горько сказал он, — но я привык, на войне… а с этой женщиной у меня действительно была адская жизнь. Только здесь, в имении, я и мог скрываться. Вместе с сыном. Я мог бы найти себе занятие в Хельсинки, но я предпочитал тихо жить здесь, а не принимать гостей и наблюдать, как она спивается.
— Госпожа Хартола упомянула, что вы — гм — очень сурово обращались со своей супругой, — негромко заметил Палму.
Майор посмотрел на него с неподдельным удивлением.
— Майре была моей женой. А я — ее мужем!
На это трудно было возразить. Даже Палму, видно, поперхнулся. А майор обвел нас взглядом, полным искренней жалости:
— Вы не понимаете: Майре была из тех женщин, которых нужно пороть. Она нуждалась в дисциплине, в строгой руке. Почему, вы думаете, она вышла за меня замуж? Она надеялась, что хоть таким образом спасется. Но алкоголь делал ее невменяемой. Потом, протрезвев, она становилась покорной, умоляла, просила прощения. Это я, я больше не мог. — Он пожал плечами. Разговор закончился в его пользу. Он высказался. И теперь бодро встал. — До чая еще есть время, — заметил он. — Как вы смотрите на то, чтобы немного пройтись, пока нам поджаривают хлеб на английский манер — я люблю такой! Я охотно покажу вам свои владения. Я сам собирался сходить на свое строительство, к Орлиному гнезду. До сумерек. Посмотреть, затвердел ли бетон. Мы буквально вчера заложили фундамент. И замуровали в него наши семейные документы, согласно традиции. Поэтому я так и торопился вернуться из города.
Майор Ваденблик выглядел совершенно другим человеком. Его лицо выражало живой интерес и неподдельное радушие. Он был владельцем замка, а мы его гостями. Разумеется, отказать хозяину нельзя.
И мы отправились. Майор продемонстрировал нам хлев и конюшню, к счастью, только снаружи. Обе постройки были новехонькие и оборудованы по последнему слову техники. Потом силосные башни и навозохранилище. Денег сюда было вложено уйма. Потом мы взбирались на прибрежный утес, вдоль только недавно проложенной дороги. Майор с удовольствием рассказывал:
— Едва ли вы можете себе представить, сколько приходится платить, если хочешь создать первоклассное хозяйство. Строительство, дренаж, оборудование… Приличных рабочих днем с огнем не сыщешь. Поместье я получил разваленное, разграбленное государством, с вырубленными лесами, заложенной землей и всем, что на ней находится. Теперь я постепенно прикупаю землю, как только представляется возможность. Трудно поверить, но когда-то границы этих владений совпадали с границами волости. Но крестьяне, эти старики, не хотят продавать! Сидят в своих малахаях и брюзжат. Ничего, у меня на них управа найдется!
Он легко шел вверх, ничуть не задыхаясь. Палму пыхтел, останавливался, чтобы отдышаться, и держался за колено. Майор презрительно поглядывал на него. С крутого склона открывался великолепный вид на море. Ближе к берегу несколько диких островов, дальше скалистые островки, а еще дальше, насколько хватало глаз, открытое море, окрашенное заходящим солнцем. Наверху ветер дул немилосердно. Море сердито гнало увенчанные барашками волны прямо на прибрежные камни.
Майор любовно указал на точку повыше — там был заложен фундамент его Орлиного гнезда, его крепости. Бетон уже подсох и посветлел, приготовленный тес лежал на месте.
— Я сначала думал о необработанном граните, — с сожалением в голосе сказал майор. — Как стены в Свеаборге. Но выходило очень дорого, так что дом будет деревянным. Врубимся в скалу, чтобы никакие бури не снесли. Зато семейные документы мы уже вмуровали в фундамент… Смотрите здесь под ноги! Осторожнее, тут скользкая тропинка.
Он повел нас по глубокой расселине, откуда крутая тропинка и вековые каменные ступени вели вниз, спускаясь метров на десять, к плоскому выступу. Внизу, головокружительно далеко, бились об острые камни волны. Ветер сдул мою шляпу. Палму не решился подходить к краю и стоял у самой скалы, укрываясь от ветра и обеими руками держась за надежную опору.
— Это излюбленное место Анникки, — пояснил нам майор. — Даже у меня, черт возьми, иногда кружится голова, но Анникка просто обожает это место. Конечно, здесь будет надежный парапет. Тоже врубленный в скалу. Каменный стол и скамьи. Вот здесь мой предок поджидал корабли, уходящие в открытое море. Он был невидим, сливался со скалой и прятался в расселине. Береговой разбойник, если называть вещи своими именами. Что ж, время времени рознь. Потом уже многие из моих предков плавали на финско-шведских судах. Один был капером. Но это позже, в другое время, более утонченное. А тогда мужчина был мужчиной и порядок был порядком. И никого не жалели. Как море — оно тоже никого не жалеет. — Он задумчиво посмотрел вдаль. — Что за гнусная теперь жизнь! Время мудаков. Даже в армии. Вы, наверно, сами знаете. Но все равно, и теперь сила есть сила. И времена ведь могут измениться. А хозяева и господа всегда остаются хозяевами и господами.
Мы стали выбираться назад. Майор Ваденблик шел впереди, как и положено хозяину и господину. Кокки, улучив момент, шепнул мне на ухо:
— Слушай, этот человек — сумасшедший!
— Не знаю, — честно сказал я.
— Если нет, — решительно сказал Кокки, — то у меня возникает сильнейшее желание проголосовать за коммунистическую партию!
В полном молчании мы вернулись в господский дом. Стол к чаю был красиво сервирован в кабинете майора. Китайские чашки, гренки и джем, горячие булочки. Пахло необыкновенно вкусно. Майор извинился и попросил позволения удалиться. «На одну минуту!» — сказал он и отправился наверх. Палму плотно прикрыл за ним дверь.
— Будь добр, — обратился он ко мне, — забери женщину, ну барышню эту. Вместе с нами, сразу после чая. Отвезем ее и допросим. Послушайся меня хоть на этот раз, серьезно прошу тебя!
— Ты спятил! — разозлился я. — У нас же нет никакой, самой завалящей бумаги! Майор поднимет на ноги всех!
Кокки стоял возле стены и почтительно разглядывал коллекцию оружия. Отнюдь не только старинного. Большинство было исправным и годным к употреблению. Охотничье ружье, бельгийский дробовик, самой лучшей марки, еще ряд ружей. Кокки заинтересовался самым крупным.
— Это что — на слонов? — спросил он. — Не хватает только выбеленных черепов с пулевыми дырками во лбу и датами. И тигриной шкуры на полу. Этому майору только тигров и выслеживать! — Говоря это, Кокки медленно подвигался к двери. — А между прочим, — заметил он, — барышня Анникка Мелконен сняла со своего счета в пятницу вечером полтора миллиона марок — за один раз наличными. Прежде за ней такого не водилось.
— Три с половиной да полтора — вот вам и пять, — посчитал Палму. — Пять миллионов. Такой, значит, был уговор. Эту сумму старик Нордберг и называл девушке.
— Это еще не дает мне оснований… — начал я, но тут Кокки бесшумно прыгнул к двери и распахнул ее.
Мальчик вскрикнул от боли и зажал руками голову. В это же время показался майор, широкими шагами спускавшийся со второго этажа. Лицо у него побагровело и не сулило ничего доброго.
— Ты опять шпионишь под дверью, Эрик! — закричал он и ударил сына. — Черт меня возьми, если я не устрою тебе сегодня хорошую взбучку! Как ты смеешь вести себя так, негодный мальчишка! Да еще при чужих людях!
Мальчик вспыхнул. От боли и ярости его темные глаза наполнились слезами, он сжал зубы так, что мы явственно услышали скрежет. Но промолчал.
— Иди в свою комнату и сиди там. — Майор развернул сына за плечи, но голос его смягчился. — Я приду и поговорю с тобой, когда гости уедут. Тебя нужно учить, Эрик!
Мальчик ушел. Майор вошел в кабинет и принялся разливать чай. Даже не извинившись за инцидент! И первым положил себе сахар и сливки. Как будто так и надо. Мы пили чай, но мне кусок в горло не шел. Хотя булочки были очень вкусные, и масло на них прямо таяло. Майор, как гостеприимный хозяин, поддерживал разговор — о серых куропатках и пойнтерах.
— Шестнадцатого начинается лосиная охота, — рассказывал он. — Если надумаете приехать, милости просим. Отвлечетесь от своего сыска. Если человек может уложить лося, значит, он кое-что смыслит в охоте. Крупная тварь. Бывает слышно, как пуля входит в него. Это, знаете ли, такое чувство, которое вряд ли вы испытывали… Ах да, — вдруг вспомнил он, — мы же в это время будем за границей, на Канарских островах. Нет, это надо будет отменить. Что мне там делать? Тут стройка в разгаре, да и Анникка простужена… Мы ведь завтра в канцелярии бургомистра заключаем брак, если вы не слышали.
— Завтра? — переспросил я.
— Вообще-то назначено было на будущую субботу, — небрежно сказал майор. — Несколько родственников и небольшой званый обед. Но к чему откладывать? На родственников Анникки мне теперь рассчитывать не стоит: после нашего столкновения. Поэтому мы решили перенести все на завтра. И никуда не поедем, останемся здесь. Такая прекрасная осень! Так что добро пожаловать на лосиный гон, если пожелаете.
Фраза была прощальной. Майор поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Спорить с этим было трудно. Палму ткнул меня в бок, но я все-таки был не такой дурак, чтобы пытаться произвести задержание Анникки Мелконен! Но вид, наверно, у меня был виноватый, потому что, с другой стороны, у меня на плечах все же голова, а не кочан капусты! По крайней мере я так думаю.
Признаюсь: потом я раскаивался. Глубоко. Мне надо было послушаться Палму. Хотя я и не уверен, что это изменило бы исход. Ведь я мог задержать ее дня на три. Оснований для тюремного заключения было недостаточно. Я как-никак юрист.
Начало смеркаться. Небо за домом порозовело, воздух стал холоднее. В город мы ехали в полном молчании. Палму даже и не думал меня пилить. Сидел и жевал трубку.
— Что ж, нет так нет, — подытожил он. — Твоя воля, зато одно очко в нашу пользу.
— Какое? — поинтересовался я.
— Убийца должен быть совершенно спокоен — неважно, кто именно из них двоих, — объяснил Палму. — Не мог не успокоиться, увидев твою физиономию. У тебя поразительное умение выглядеть полным идиотом. Причем без всяких усилий с твоей стороны.
Глава одиннадцатая
Итак, барышня Анникка Мелконен и майор Густав Эрик Ваденблик заключили брак на следующий день. В присутствии бургомистра. На груди которого висели цепи, как и предсказывал Кокки. Все правильно, я сам ходил смотреть. Из ратуши прямиком отправились в адвокатское бюро. И не для заключения брачного контракта, отнюдь! Для составления обоюдного завещания. Так что тут Лююли ошиблась: новая госпожа не была в положении. То есть в каком-то, может, и была, но только не в беременном.
В честь этого события я вечером угощал Палму коньяком. В ресторане. С нами был один мой давний товарищ по офицерскому училищу. Пили, конечно, что подешевле, но сидели в отдельном кабинете, чтобы нам не мешали. Я вообще-то пытался выудить у товарища кое-какую информацию. Мы с ним оставались в приятельских отношениях, хотя он и посматривал на меня свысока: он был строевым офицером, а я в свое время служил в военной полиции.
Некогда мой товарищ находился под началом майора Ваденблика, и ему было что рассказать. По отношению к майору он испытывал смешанное чувство: отдавая должное его деловым качествам, он терпеть не мог его как человека.
— На фронте всегда в крахмальных воротничках, — с отвращением рассказывал он. — Выбрит до синевы. Даже во время наступления. Сапоги начищены до зеркального блеска… Но зато прорвется туда, куда прикажут. И позиции удержит, если прикажут. Тут он на своем месте. Крут. Но себя не жалеет, что другие, то и он.
— Впереди всех, — осмелился вступить Палму.
Мой приятель смерил его высокомерным взглядом.
— Майор Ваденблик — кадровый офицер, — наставительно сказал он. — Таких зря под огонь посылать не будут, без крайней необходимости. Слишком дорогое удовольствие для бедной финской армии. Но в личной отваге майора сомневаться нет оснований. Из окопа поднимался и нытиков в чувство приводил — собственной рукой, когда обстановка становилась серьезной и те, у кого кишка тонка, норовили податься назад.
Он увлекся воспоминаниями и для наглядности стал хватать все подряд: ножи, вилки, горчичницу с солонкой. Я поспешил заказать еще коньяку. Если бы не эта своевременная мера, можно было быть уверенным, что он пустился бы в детальный разбор операций под деревушками Мунакуккула и Хярянпюллю. Однако моя щедрость так озадачила его, что он замолк, и я успел задать свой вопрос:
— А почему майора Ваденблика перевели в тыл, в Центр подготовки военнослужащих?
— Слишком большие потери в живой силе, — отрезал он. — Ты ведь знаешь Мареки, он все сентиментальничал в те добрые старые времена. Сидел в Миккели и каждый вечер требовал к себе на просмотр списки потерь. И рыдал над каждым убитым, как над собственным сыном. Понятно, что он не жаловал офицеров, зазря терявших людей. Ваденблик же стремился действовать без передышки и если не находил ничего лучшего, то просто без всякой надобности высылал вперед дозоры. Как минимум одного человека он должен был ежедневно терять, чтобы чувствовать удовлетворение. Воинская доблесть, в его понимании… Это был верный путь попасть в немилость к Мареки, и тот лично позаботился о переводе Ваденблика в тыл. Он еще только разок сходил с нами вместе на вылазку. Хотя людей хватало, майор мог и не беспокоиться… Впрочем, что вы в этом понимаете, военная полиция!
— Не забывай, кто платит за коньяк! — напомнил я.
— В Центре подготовки майор тоже вполне нашел себя, — продолжил мой приятель. — И так муштровал парней, что те благодарили небеса, когда наконец отправлялись на фронт. У них была такая вечерняя молитва: мол, Всемилостивый Боже, сохрани нашему майору здоровье, отправь нас на фронт поскорее, если Тебе это угодно… Н-да, но в мирное время такие люди не нужны. И в начале пятидесятых майору дали коленом под зад.
— По его собственному прошению об отставке, — припомнил я.
— Затихни! — посоветовал мой товарищ. — Он уморил одного офицера-адъюнкта. Сначала назначил ночные учения и марш-бросок. Сам лег спать. А утром стал орать на них. Тогда какой-то офицер-адъюнкт осмелился раскрыть рот и пробормотал, что люди, мол, устали. Майор вывел его на беговую дорожку и заставил ползать, бегать по бревну, взбираться на деревья, и все с полной выкладкой. А остальные смотрели. Причем майор несся впереди и проделывал то же самое, показывая пример. Только без выкладки. Он как бы демонстрировал, что не требует от подчиненных ничего сверх того, что делает сам. В конце концов парень выдохся, и его отнесли в госпиталь. Там бедняга и умер… Жалобу подал врач, не ребята. Они, по слухам, договорились между собой, что дождутся учебных стрельб и майора уложат. Нечаянный выстрел. Майор предпочел уволиться из армии, чем предстать перед трибуналом. А за муштру его не стали наказывать: он ведь сам бегал впереди, хотя и был постарше того офицера… Он и жену свою так же походя убил: спихнул с поезда, когда уезжал из гарнизона.
— Не ври! — сказал я.
— Почти не вру, разве чуток преувеличиваю, — ответил мой товарищ. — Я ведь все время со стороны на это глядел, на его, так сказать, успехи на военном поприще. Потому что такого в Финляндии не бывает. Даже на войне. Я ведь его чуть не пристрелил пару раз, спасибо друзья удержали… Ну короче: он женился на какой-то лотте[11]. Родители заставили. Мезальянс… Первый ребенок у них умер. Примерно через год родился второй. Вот этого двухлетнего ребенка майор и забрал с собой, когда уезжал из гарнизона. А жену спустил со ступенек вагона. Нет-нет, она умерла не тогда. Через полгода. Когда он возбудил дело о разводе. Как говорится, сердце разбилось. Не выдержало майора Ваденблика. Он как лошадиная доза: только для очень крепких организмов. Зато теперь, рассказывают, процветает — богач, имеет поместье, окружен почетом и уважением… Жаль, не подстрелил я его в свое время.
— Но-но, — предостерегающе заметил Палму, — вы, молодое поколение, все какие-то прямолинейные. Так делать нельзя. Так даже думать нельзя. За это рано или поздно попадешь в крепость.
— Ничего, за это можно и в крепости посидеть, — заверил мой товарищ, воодушевленный коньяком. — Было у меня на войне несколько хороших друзей. И все они лежат под черными гранитными плитами. Рядом с Мареки. Все — погубленные зазря, по дури этого чертова майора. И по своей неопытности. Ученые-то ребята в лесу отсиживались, у костра, суррогатный кофе попивали, а потом строчили рапорта, которые майору были очень по душе!
Он и в самом деле завелся и еще долго рассказывал всякие военные истории, может чуток и привирая; я не стану приводить их здесь, в этой книге. Но что касается майора Ваденблика, то мы с Палму твердо усвоили, что на войне майор чувствовал себя в своей стихии. Согласитесь: три рюмки коньяку — небольшая плата за то, чтобы выяснить природные свойства этого человека, проявившиеся в военное время.
— А ты еще подбивал меня задержать барышню Мелконен! — упрекнул я Палму на обратном пути. — Вот у майора действительно душа убийцы!
— Может быть, может быть, — согласился Палму. — Прирожденный убийца. Наверно, такие бывают. Ты, наверно, про них в книжках читал. Но, знаешь, женщины тоже бывают о-го-го! Слушай-ка, я весь взмок от ходьбы, октябрь называется! Тут прямо рядом стоянка есть, давай, а?
Мне ничего не оставалось, как отвезти его домой. На том вечер и закончился. А на следующий день, примерно в шестнадцать часов, я прочитал на последней странице вечерней газеты, что госпожа Анникка Ваденблик скончалась этим утром в своем имении, сорвавшись с выступа скалы поблизости от дома. Смерть наступила мгновенно… Медовый месяц у нее оказался коротким.
Трагический несчастный случай. Так его аттестовали в газете. Разумеется, что же еще! Меня он потряс: обоюдное завещание… майор завладевает контрольным пакетом акций… власть и деньги в руках майора Ваденблика…
Палму не винил меня. Деликатно принес номер вечерней газеты, положил его передо мной на стол и ткнул толстым пальцем в объявление.
— Бойкий господин этот майор, — с укором заметил он. — Он что, в самом деле воображает себя сверхчеловеком? Заранее показал нам место убийства, прямо за ручку привел.
— Но это действительно опасное место, — попытался возразить я, заглушая собственный внутренний голос. — Излюбленное место Анникки. Они наверняка пошли утром смотреть на свою стройку. Майор начал подгонять рабочих, а молодая госпожа — то есть уже не очень молодая, но неважно — пошла на свое любимое место полюбоваться на море…
— Так что свидетелей, то бишь очевидцев, не было — ни на воде, ни на суше, — закончил Палму. — Ты ведь помнишь пропасть, над которой нависает этот выступ? Самое большее, что могут показать рабочие, — это то, что майор спустился следом за супругой. А от этого до неопровержимых доказательств — как до звезд.
— Но нас это не касается, — возразил я. — Это дело тамошнего ленсмана. Ну, еще, быть может, губернского агента криминальной полиции. Если его вообще пригласят. Но вряд ли они захотят раздражать майора. Я имею в виду местных. А мы вмешиваться никак не можем…
Начальник нашего отдела вернулся со своей охоты и лично захотел взглянуть на Вилле.
— Н-да, разбойничья рожа! — проницательно заметил он. — Только почему вы ему разрешаете свободно разгуливать повсюду? Алпио сейчас повел его во двор наводить глянец на наши новые машины. Парень ведь может драпануть!
— Трудотерапия, — автоматически сказал я. — Он несовершеннолетний. Заботы попечительницы.
Начальник понимающе кивнул.
— Конечно, это твое дело, судья. Тонкое дело. Но надо запускать машину на полный ход, чтобы найти неопровержимые доказательства. Одного его признания недостаточно.
— Разумеется, найдем, — заверил я.
И отправился покупать Вилле именинный пирог. У «Фацера». Как и обещал. Алпио подарил ему складной нож. Тигрица, то бишь попечительница, презентовала бритвенные принадлежности. Хотите — верьте, хотите — нет! Что может взбрести в голову такой женщине, одному Богу известно! Говорят, Вилле обещал ей бросить курить.
Что подарила ему Саара, я не знаю. Не любопытствовал. Они довольно долго сидели вдвоем в его камере, несколько часов. После чего Саара отправилась покупать обручальные кольца. Вилле ведь выйти не мог. Да и денег у него не было. А Саара решила, видимо, продемонстрировать свою независимость. Назло родителям. Несовершеннолетним обручаться можно и без их разрешения. Так что в один день отпраздновали и день рождения, и своеобразную помолвку. Веселый был день. У других.
Директор-распорядитель Аарне Мелконен принял нас с Палму сразу. Мы не ждали ни минуты. В кабинете было окно десятиметровой ширины, палисандровое дерево и Матисс на стене. Главная контора фирмы! Преуспевающей. Где и к полицейским относились как к людям.
Единокровный брат Анникки проявил крайнюю озабоченность, едва мы только заговорили о деле.
— Я много раз предостерегал Анникку от этого человека, — сказал он. — Наглый пройдоха и бесчувственный авантюрист. Он даже не догадывается, что в крупной промышленности в наше время нельзя действовать прежними методами. Потому что собственность — это тяжелые обязательства, а не привилегии. Так говаривал наш покойный отец, хотя я в молодости не мог понять его в полной мере. Понял только теперь, когда сам впрягся. Отец был на «ты» с самыми старыми рабочими, крестил их детей, ну и так далее. В «Зимнюю войну» самовольно ушел на фронт — вместе со своими, хотя здесь он был нужнее… Так что это тяжелая, тяжелая ответственность.
— Ваша общая? — Палму удивленно поднял брови. — Насколько я понял, майор Ваденблик собирается отныне взять бразды правления в свои руки. И решать, сколько и на что давать вам деньги. Ведь теперь дело придется иметь с его капиталом.
— Ну нет, на это уйдут годы! — жестко возразил Мелконен. — Конечно, я буду опротестовывать завещание. Вплоть до Верховного суда. Выиграю время. Хотя опротестовать трудно. Документ составлен квалифицированно, да и Анникку не объявишь слабоумной. Хотя это было чистое слабоумие — вступать в брак с таким человеком! Он же сумасшедший. Чудовище!
Палму благосклонно отнесся к этому предположению и, взяв с Мелконена слово сохранить все в тайне, коротко поведал ему о наших подозрениях. Но Аарне Мелконен бурно запротестовал:
— Вы хотите сказать, что майор Ваденблик вместе с Анниккой вытолкнули Майре из окна? Убили ее?! Да нет, ерунда, Анникка ведь моя единственная сестра! Нет, этого не могло быть.
— Комиссар Палму слегка сгустил краски, — поспешно вступил я. — Всякому понятно — даже человеку, абсолютно лишенному воображения, что на подобное способен только майор. Разумеется, это его рук дело. Госпожа Ваденблик, я имею в виду госпожу Майре Ваденблик, не только выгнала его, но и пообещала в ближайшее время начать дело о разводе. Майор — сторонник крутых и скорых действий, в этом мы могли убедиться. Он идет напролом, нагло, как вы только что справедливо заметили. И это он выбросил свою жену из окна. А Анникка, то есть госпожа Анникка Ваденблик, это видела. Может быть, она действительно была не совсем в своем уме… Мы этого знать не можем. А может, она ненавидела свою единокровную сестру.
— Да нет! Анникка не могла ненавидеть Майре, — возразил было их брат, но задумался и в растерянности потер лоб.
Ему было едва за сорок, этому обремененному тяжелой ответственностью человеку, и впереди его наверняка ждала язва желудка, а потом тромб. Надо надеяться, что у него есть дети, готовые продолжить отцовское дело, подумал я с горечью.
— Вообще-то я сейчас вспомнил… — сказал Мелконен, — вспомнил, что у них отношения в самом деле были неважные. Анникка жила с ними по настоянию Майре. Понимаете, Майре в некотором роде была деспотом. Ей постоянно нужен был кто-то, кто выслушивал бы ее, кем бы она командовала. Жить с ней, конечно, было нелегко. Даже очень. Анникка время от времени удалялась в свою квартиру и дулась там неделю или две. Но потом опять возвращалась под крылышко к Майре. Та умела очаровывать, если хотела. Меня, правда, ей не удавалось обвести вокруг пальца. Как-то раз она страшно на меня разозлилась: я настоятельно советовал ей развестись, пока не поздно. Чего бы это ни стоило… А уж с Синиккой…
Он замолчал и погрузился в свои мысли.
— А что с Синиккой? — заволновался я.
— Дело в том, что Майре была любимицей отца. — Воспоминание об этом было явно болезненным для Аарне Мелконена. — Ее он никогда не наказывал. Меня — да! Много раз — ремнем порол. Я же был мальчик. Господи Боже, если бы Майре в свое время получила хорошую порку, и не одну, то я уверен, что и с Синиккой ничего не случилось бы. Мне иногда даже казалось, что она ревнует — бессознательно, конечно, — к тому, что отец лупит меня, а не ее. И с Синиккой повторилась та же история: Майре ее ни разу в жизни не наказала.
Меня, честно говоря, проблемы воспитания детей волновали мало. И я попробовал направить беседу в желаемое русло:
— Синикка погибла в результате несчастного случая, — полувопросительно заметил я.
Палму сердито поднес палец к губам — чтобы я замолчал. Но хозяин кабинета понял его жест по-иному.
— Простите, — извинился он. — Пожалуйста — сигары!
Он достал из ящика стола коробку лучших сигар, предназначенных для гостей. Сам он отрицательно покачал головой: врачи запретили. Разумеется. Язва желудка на подходе.
— Да, погибла в результате несчастного случая, — подтвердил он. — На яхте. По собственной глупости: назло вышла в море в штормовую погоду… Потом я даже стал думать, что, может, это и к лучшему. Из нее получилась бы вторая Майре, если не хуже… Поймите меня правильно: у Майре была совершенно разболтана нервная система, она ведь злоупотребляла спиртным. Вы, наверно, знаете. И она ничего не могла с собой поделать. Убежден… как бы это выразиться… что в минуты просветления она честно пыталась изменить что-то в своей жизни. Причина крылась в ее нервах. Она действительно сама загубила свою жизнь.
— Простите, — сказал Палму, — но у нас есть веские основания полагать, что ее жизнь загубил майор Ваденблик — если воспользоваться вашим выражением. А Анникка оказалась очевидцем происшествия. Затем майор Ваденблик устранил и этого единственного свидетеля. Вне всякого сомнения, после того, как получил предупреждение — потому что наш визит к нему был ошибкой. Должен прямо признать — это мой просчет. И майор не хотел полагаться на волю случая: нервы вашей сестры были и в самом деле не в порядке. Это сразу бросалось в глаза.
— И вы можете выступить свидетелями? — заинтересовался Мелконен. — Этого достаточно, чтобы признать завещание недействительным?
К великому сожалению, я должен был ответить отрицательно. Как юрист.
— Но мы приложим все усилия, чтобы привлечь майора Ваденблика к суду по обвинению в убийстве, — сказал я. — У меня нет ни малейшего сомнения, что он убил и другую вашу сестру, свою новую супругу, — сбросил ее в море. Тот же почерк: там — шестой этаж, здесь — выступ скалы. Кроме того, у нас есть серьезные подозрения, что некий пожилой господин, по фамилии Нордберг, видел в телескоп, как майор выталкивал в окно вашу сестру Майре. Этого господина майор тоже убил, когда тот пытался его шантажировать. А Анникка…
Я собирался как раз сообщить о том, что Анникка, со своей стороны, заплатила Нордбергу полтора миллиона, но Палму с такой силой врезал мне по голени, что я охнул и схватился за ногу.
— Что такое? — участливо спросил Мелконен.
— Нашего командира, очевидно, посетила новая идея, — хладнокровно пояснил Палму. — С ним это случается. Но на самом деле он хотел сказать, что нам нужна ваша помощь. В получении некоторых сведений, необходимых для предъявления обвинения в убийстве.
— Это довольно щекотливая ситуация, — заколебался директор-распорядитель. — Он как-никак держатель наших акций. Впрочем… хорошо, именно потому, что у него наши акции… Я постараюсь помочь, чем смогу. Правда, не представляю, в чем может выразиться моя помощь.
— У вас есть влияние, авторитет, — сказал Палму, прямо глядя в глаза Мелконену. — Мы полицейские — мелкие сошки; мы умудряемся исполнять наши должности, получая за это гроши… Так вот: если мы явимся в банк или к адвокату, от нас отделаются пустыми фразами. У нас даже нет формального права обследовать место гибели вашей единокровной сестры. Но если вы дадите нам рекомендацию и пообещаете свою поддержку, например, в банках…
— Безусловно, — охотно согласился Мелконен. — Если вы сумеете посадить этого человека как убийцу, его право наследования автоматически аннулируется, как в случае с Майре. У него не окажется контрольного пакета акций. И в идеале завещание тоже будет признано недействительным. Знаете что: если вы распутаете это кошмарное дело, я хорошо заплачу…
Палму предостерегающе кашлянул. Аарне Мелконен смутился:
— Я хотел сказать, что охотно сделаю пожертвование… ну, хотя бы в ваш сиротский фонд, если он у вас есть…
И в этот счастливый миг меня осенило.
— На хор! — выкрикнул я. — У нас мужской хор. Если можно, на поездку хора в Копенгаген, с концертом. На всех не хватает денег…
— Пустяки, — пренебрежительно отозвался Мелконен. — Сколько вас едет?
По нашим скромным подсчетам, в лучшем случае могли поехать двадцать четыре человека.
— Сорок восемь, — отважно соврал я, сердце у меня выпрыгивало.
— Хоть сто, — пообещал Аарне Мелконен. — Значит, по рукам. Чек получите в тот же день, когда майор Ваденблик окажется за решеткой.
— Дорожные расходы, проживание и все прочее? — спросил я, не веря своим ушам.
— Все! — сделал он широкий жест.
Пожалуй, даже Матисс в эту незабываемую минуту показался мне поблекшим.
Мы спускались на лифте, обитом панелями из дорогого дерева. Я ухватил Палму за лацканы, хорошенько встряхнул и пригрозил:
— Если ты не распутаешь это дело, Палму, прощения не жди! Сам подумай: сто человек! Все! Даже со скромными данными… Да весь Копенгаген задрожит, когда мы в полный голос запоем: «Это земля…»
— Только не в лифте! — ужаснулся Палму и, чуть помолчав, насмешливо заметил: — Подумаешь, несколько человек съездят в Копенгаген! А ты уже готов на уши встать. Из-за таких пустяков! Ты, как всегда, не улавливаешь сути вопроса. Ведь Мелконен в одно прекрасное мгновение станет обладателем всех акций. Ну, почти всех, девяноста процентов. Боже милостивый, да за это он мог подарить городу новое здание для Полицейского управления!
Палму преувеличивал. А может, и нет, кто его знает. Я прикинул.
— Нет, — сказал я, — не получится. Ты забыл о налоге с наследства, он ведь прогрессивный. Тем более тут наследство по боковой линии. Ты даже не представляешь, в какие суммы это выльется. У нас таким образом происходит обобществление. Но тихонько, под шумок. Чтобы дуракам незаметнее было.
Двери лифта открылись.
— Пошли, — коротко сказал Палму.
Мы вернулись к себе. И, ей-богу, мне было приятно сидеть за своим скромным письменным столом в своем скромном кабинетике. С недавно покрашенными чистыми стенами. И на твердом стуле. Правда, Матисса тут не было. Ничего, кроме карты Хельсинки, у меня не висело. Но ведь и язвы желудка я мог не опасаться. И тромба в сердце, наверно, тоже…
Мы погрузились в работу. То бишь Палму и ребята погрузились, а я за них отвечал и их организовывал. Согласно указаниям Палму. Невидимая сила открывала нам все двери — даже банковские сейфы и тайники. Но это я, разумеется, не афишировал. Мне самому не верилось. Даже шеф полиции дивился и ухмылялся себе под нос, слушая, как мы хозяйничали в … — нет, не могу сказать, где. Но он-то должен был знать все — ведь непременно найдется кто-нибудь, кто станет жаловаться, кляузничать и прочее.
Перво-наперво мы насели на Линнанмяки. Но там нам ничего узнать не удалось. Строители даже писка не слышали. Майор некоторое время был с ними и отдавал распоряжения, а потом стал удивляться, куда это задевалась его молодая супруга. Он сам заметил ее — внизу, волны били ее о камни. И сам, рискуя жизнью, спустился по скале за телом своей жены. Их обоих сняли оттуда на лодке. Майор был совершенно сломлен. Рабочие тоже очень печалились. И, качая головами, показывали то место, откуда майор спустился вниз почти по отвесной скале. Вот это настоящий мужчина! Хоть и орет иногда как бешеный, если разозлится. Но они бы ни за какие деньги не полезли вниз!
На площадке, вернее, на выступе скалы никаких следов не осталось. На теле тоже, то есть следов иных повреждений — кроме тех, что были получены в результате падения и действия волн, швырявших тело на скалу, — не было… Майор переживал потерю мужественно.
— Сколько раз я предупреждал ее! — сокрушался он. — Но женщины вообще упрямы, а Анникка тем паче… Если бы она меня послушалась!
Н-да, не везло майору в браке… Как оказалось, он не заставлял жену идти туда, на скалу, это засвидетельствовали строители. Пошла по собственной воле, с гордо поднятой головою.
Гордо поднятой держал голову и майор. Он встречал нас в своем поместье на пороге дома, отечески положив руку на плечо сына. Этот чертенок при виде нас состроил гримасу. А нам ничего не оставалось, как с подобающим видом принести глубокие соболезнования.
В четверг мы провожали на пристани Лююли Хартола, экономку, если вы помните. Трезвая, она была молчалива и смотрела на нас исподлобья. Что она лобызала Палму, она не помнила. Все-таки мы сумели выяснить, что в тот раз, когда Майре Ваденблик чуть не сгорела в постели, майора в городе не было, он находился в имении. Это она, Лююли, почувствовала запах гари, потому что ей не спалось. А госпожа была в таком жалком состоянии, что врач вынужден был дать ей успокоительное.
Известный терапевт, которого мы посетили, нисколько не важничал, немедленно оставил своего пациента и охотно стал отвечать на наши вопросы. Что значит протекция директора-распорядителя Мелконена!
— Совершенно справедливо, — подтвердил он. — Госпожа Ваденблик действительно продолжительное время после периода запоя принимала морфий. Иные средства не помогали. В принципе эти уколы свалят и быка, если назначать большую дозу. Но я, конечно, не назначал: мне нужно было сначала добиться хорошего сна у пациентки, после этого я мог начинать собственно лечение. Как раз в такой период меня и разбудили среди ночи: звонила она сама и плакалась в трубку. Если бы это был кто-то другой, я бы не поехал. Госпожа Ваденблик была прекрасная женщина, в своем роде… Я посидел возле нее, подождал, пока подействует укол. Я никогда не уходил, пока твердо не был уверен, что она заснула. И сигареты я убрал — вынес в соседнюю комнату. Человеку, принявшему морфий, категорически нельзя курить. Но она, по-видимому, проснулась и сама принесла сигареты. Все остальные спали… Однажды она так же вот поднялась вскоре после моего ухода и прокралась к бару. Она сама мне потом призналась… — Доктор поправил очки и внимательно посмотрел на нас. — Да, прекрасная женщина, — повторил он. — Не стоит ее осуждать. Может, это даже к лучшему… Но если бы майор потрудился позвонить мне в тот вечер, уверяю вас, никакого самоубийства не произошло бы. Я сделал бы ей укол, посидел бы рядом, подержал ее за руку, послушал пьяный вздор. Когда вот так сидишь и слушаешь, можно думать о чем угодно. Лично я всегда решаю шахматные задачи. У каждого свои увлечения. Помимо работы, я имею в виду. Но у госпожи Ваденблик увлечений не было. Это ее и убило. Работой для нее была светская жизнь и выпивка. И не было ничего, на что можно было бы отвлечься.
— Не все же умеют играть в шахматы, — с приятной улыбкой сказал Палму.
— Это верно, женщины в шахматы играют неважно, — согласился врач. — Но майор Ваденблик совершенно неправильно обращался со своей женой. Психологически неверно: бил по лицу, насильно укладывал в постель, запирал шкафы, прятал бутылки. С алког… с дипсоманией таким способом бороться бесполезно. Это болезнь. И обычно наследственная. Горный советник Мелконен… — Он осекся на середине фразы и хлопнул себя по губам. — Н-да, это к нашему разговору не имеет прямого отношения, но господин Мелконен просил меня быть с вами предельно откровенным. Так вот: горный советник Мелконен временами тоже предавался этой слабости. Выпускал пар, как он выражался. Устраивал заранее все свои дела так, чтобы его на уик-энде никто не беспокоил. При этом никаких скандальных историй! Он просто снимал номер в первоклассном отеле, в шерстяных носках забирался на постель и выпивал зараз четыре бутылки коньяку. Потом, конечно, мучился тяжелым похмельем, но напряжение снимал. Все-таки на нем лежал непомерный груз — ответственности я имею в виду, а дети его, увы, мало радовали. Второй брак… впрочем, это уже определенно не имеет отношения к теме нашего разговора. Достаточно сказать, что его вторая жена, мать Анникки, была женщиной скверной и злобной. Полной противоположностью первой жены — матери Аарне и Майре. Та была чудесная.
— Значит, вы полагаете, что Анникка была недобрым человеком? — вмешался я. — То есть с точки зрения наследственности, по материнской линии?
Доктор покачал головой.
— Не стоит преувеличивать, — предостерег он. — Недоброта недоброте рознь, смотря с чем сравнивать. Да, по сравнению с Майре Анникка была недоброй, но зато рядом с майором это был мягкий воск. Вообще наследственную предрасположенность можно уподобить фундаменту, на котором человек сам возводит свое здание.
— Фундамент, — сказал Палму, медленно поднимаясь с застывшим взглядом, словно ему стало плохо. — Доктор, дайте мне сердечное, скорее!
— Это переутомление! — озабоченно сказал я. — Недосыпание, нерегулярное питание… Бич нашей полицейской жизни.
Но доктор уже держал наготове таблетку и наливал из графина воду, поглядывая на Палму профессиональным взглядом.
— Ничего серьезного, — заверил он, опытной рукой нащупав пульс. — Я сам принимаю эти таблетки. Я с удовольствием послушаю и осмотрю комиссара, если он пожелает. За счет компании, разумеется.
Но Палму не пожелал.
— Уже все прошло, — вдруг заявил он сердитым тоном и вырвал у врача руку. — Мы и так задержали вас слишком долго. Ваши пациенты уже выстроились в очередь в приемной.
Мы поблагодарили врача и ретировались…
О нашем расследовании мне осталось рассказать совсем немного. Прошла неделя, но все шаги, предпринятые в разных направлениях, не дали результатов. Плюс минус ноль. Если сначала нам сопутствовала удача, то конец ознаменовался решительным невезением. За что бы мы ни брались, всюду упирались в глухую стену.
Да, мы выяснили, что майор Ваденблик взял в долг деньги под будущий капитал. Много денег, на восстановление поместья. А девятого сентября взял в долг еще три с половиной миллиона, наличными. Впрочем, в этом ничего странного не было: он и раньше скупал земли вокруг своего имения, а деревенские жители, как известно, предпочитают иметь дело с живыми деньгами, а не с направлениями в кооперативную кассу. Или в местный сберегательный банк… Далее мы узнали, что в банках не имеют обыкновения записывать номера выдаваемых банкнотов, разве что в случае крайней необходимости. Просто не успевают. У кассиров других забот хватает… Вот такая ерунда!
Поэтому когда старик Нордберг в одночасье перевел на счет строительной фирмы два миллиона, а еще один миллион положил на книжку, объясняя все это выигрышем в денежной лотерее, в филиале банка и глазом не моргнули. Напротив, очень даже порадовались за такого приятного человека, всегда доброжелательного и обходительного. Тем более что господин Нордберг составил когда-то гороскоп и кассирше и предупредил ее о грозящей опасности: она успела дать знать в центральную контору о чеке на необычайно крупную сумму, выписанном в какой-то лесопильной компании. Человек, предъявивший чек, успел улизнуть, но факт подлога был установлен… Я рассказываю все это только для того, чтобы объяснить, почему кассирше не могло прийти в голову записать номера купюр.
Красноперого господина мы искали очень усердно и даже поместили объявление в газете с его описанием и просьбой откликнуться. Мы хотели выяснить, не заметил ли он чего-нибудь особенного, какой-нибудь мелочи, пока место происшествия было еще в полной сохранности и не вытоптано… Но господин не объявился.
— Вот она, жизнь! — философски замечал Палму. — Нет никого опаснее хладнокровного и наглого убийцы. И чем больше на его счету убийств, тем вернее он попадается. Практика это подтверждает. Ты об этом наверняка читал — в детективных романах, разумеется. А что мы знаем об Анникке? — продолжал он. — Недобрая нервнобольная особа. Может, она и есть убийца?.. Нордберг сначала добродушнейшим образом вымогает у майора три с половиной миллиона, а затем обращается к Анникке, когда видит, что из майора больше не выжмешь. Это при условии, что майор — очевидец, а убийство совершено Анниккой. Та сначала собралась заплатить, сняла деньги, но передумала. И убила старика. Ты заметил, какие у нее были огромные ноги? Чудовищного размера!
— Но ведь ясно как день, что майор… — начал я.
— Слишком ясно, — не дав мне договорить, буркнул Палму. — В том-то и загвоздка.
— Вот и разгадывай, это твоя прямая обязанность! — гневно возразил я. — А я не для этого тут сижу. Доставай доказательства откуда хочешь, хоть из-под земли, но имей в виду, что я уже намекнул на спевке хора, что нам готовы оплатить поездку в Копенгаген!
— И кто тебя за язык тянул! — с досадой проговорил Палму.
— Кто бы ни тянул, а обещание дано, — сказал я. — Можешь вообразить, что они со мной сделают, если все провалится. Суд Линча! Их, между прочим, сто человек!
Палму погрузился в размышления, вертя в руках трубку.
— Хоть из-под земли, так ты сказал? — переспросил он наконец. — Что ж, тебе и вправду придется отвечать. За это тоже.
— За что угодно! — заверил я. — За мной сто человек, целый хор. И начальник отдела. И директор-распорядитель Мелконен. Так что можно и ответить.
Больше Палму ничего говорить не стал. Продолжал свои безуспешные попытки пробить стену. То в одном, то в другом месте. Перебрал всех на Матросской улице в поисках хотя бы одного человека, выходившего из дома или проходившего мимо в ту ночь. Удалось установить единственное: жильцы дома были твердо уверены, что Нордберг вернулся домой примерно в четверть первого, ибо в его окнах горел яркий свет почти до часу ночи; однако определить сквозь занавески, кто находился в квартире, они не могли.
Барышня Похъянвуори, судя по всему, была единственным человеком, столкнувшимся с убийцей нос к носу в воротах. Выпустившим его из двора, когда тот не смог справиться с замком. Мы снова допросили ее, и Палму выяснял, не мог ли этот псевдопьяный быть переодетой женщиной. Такая мысль, разумеется, ей в голову не приходила, но ее воспоминания были столь смутными, что, поколебавшись, она в конце концов признала, что в этом ничего невероятного нет. Из опознания тоже ничего путного не вышло. Разумеется, мы старались не выпускать майора Ваденблика из поля зрения, и, когда он появился в городе, Палму показал его девушке. Но та только покачала головой: рост как будто тот же, но ручаться она не может.
Неделя была унылой. Вилле наскучило сидеть, и он приставал с вопросами, когда его выпустят. Тем более что фотографию его так и не поместили в газете.
А Палму все распространялся о хладнокровии, наглости и прочем и ничего не предпринимал. А ведь он даже отдаленно не представлял всю меру наглости и бесстыдства майора Ваденблика! Только тешил себя иллюзией, что понимает, а на самом деле и его собственная жизнь висела однажды на волоске!
— Ну что, может быть, мы тоже осмелеем и что-нибудь предпримем? — предложил наконец я.
— Вообще-то мы с Кокки именно так и хотим поступить, — ответил Палму. — Спасибо тебе, что и ты придерживаешься того же мнения. Потому что за все это придется отвечать тебе.
— Его надо арестовать! — Я жаждал мщения. — Будет сопротивляться — огреть дубинкой! Разок.
Палму покачал головой.
— С этим человеком так просто не справиться. Размахивая дубинкой. Он прошел войну. Нет, даже и не думай: он рассмеется тебе в лицо, и будет прав. Пожалуй, у нас с Кокки есть план повернее.
— Какой?! — Я даже привстал от волнения.
— Поехать и разнести все к чертям собачьим, — просто ответил Палму. — Кокки уже припас тротил. Осталось только употребить его по назначению. Под твою ответственность.
Глава двенадцатая
Я, разумеется, не поверил словам Палму. Решил, что он не хочет говорить, что именно задумал. И попытался догадаться сам. Было сырое и пасмурное октябрьское утро. Туман по капле просачивался из окна в кабинет. Палму ушел договариваться о машине, а я, стыдясь самого себя, полез в ящик письменного стола и вытащил оттуда свой пистолет. Отличный пистолет, длинноствольный и пристрелянный. Проверил, заряжен ли он, и сунул во внутренний карман. Для заднего кармана он был великоват.
Но едва я оказался в машине, под ложечкой у меня заныло. На переднем сиденье в полной боевой готовности сидел наш взрывник с увесистым свертком в ногах. Неужели Палму действительно… Что ни говори, а такую ответственность я не мог взять на себя — за проведение взрыва во владениях майора, хоть он и трижды заслужил это.
Пока мы ехали через город, я с беспокойством поглядывал на Палму. Вид у него был на редкость вялый и неприветливый. Но чего хотеть от старого человека, с утра до ночи мотающегося по этому проклятому делу, да еще небось украдкой, в тайне от меня, прикладывающегося к бутылке? Словно читая мои мысли, Палму обернулся и дыхнул на меня. Нет, ничем, кроме отвратительного табака, от него не пахло. Никаких спиртных паров.
— А что это у тебя так карман вспух? — насмешливо спросил он.
Дело в том, что я распахнул плащ: в машине было слишком жарко и я еще весь взмок, когда увидел нашего взрывника.
— Захватил пистолет, на всякий случай, — сухо ответил я.
— Да-а, — так же насмешливо протянул он, — начальник у нас отменный стрелок, у него вся полка кубками заставлена! Только ты уж сделай милость, проследи, чтобы майор твою пушку не захватил!
Что греха таить, был у меня такой случай: по собственной глупости выпустил из рук пистолет, которым тут же завладел преступник и ранил меня в плечо. Теперь у меня там шрам. Но это когда было? Давно, я был молодым и неопытным. Время и Палму еще не успели надо мной поработать. С тех пор я стал другим.
Замечу, что позже Палму не ехидничал по поводу моего пистолета, даже наоборот. Неизвестно еще, чем все закончилось бы, если бы его не было. Так что с моей стороны это явилось проявлением дальновидности и смекалки. Так я оцениваю свой поступок по зрелом размышлении. В остальном, увы, я оказался полным болваном.
Всласть поиздевавшись надо мной, Палму постучал водителю по плечу:
— Не так быстро, и не угоди в кювет. А то взлетим на воздух всей компанией.
— Да нет, это не взорвется, — успокоил его наш специалист, ткнув ногой в сверток (я так и подскочил на сиденье). — Капсюли у меня отдельно, в кармане. Если вы не будете толкаться, то все будет в порядке.
Видимость из-за тумана была плохая, и мне казалось, что мы ползем как черепахи. Вообще терпеливостью я похвастаться не могу. Хотя и пытался воспитать ее в себе. Вернее, Палму пытался. Честно говоря, нервы у меня были на пределе, и я даже грубо оборвал Кокки, когда тот принялся в очередной раз что-то рассказывать о своей знакомой стюардессе:
— Чего только не случается у них на аэродроме! Вот в тот же день, когда Нордберга убили: в последнюю минуту выскакивает на поле старик в какой-то дурацкой шляпе, словно на рыбалку собрался…
— И с рыболовными снастями, — раздраженно договорил я. — Все понятно. Сделай милость, помолчи. У меня и без тебя голова пухнет!
Кокки надулся, а Палму осуждающе посмотрел на меня. Я сам пожалел о своей резкости, но слушать болтовню Кокки я был не в силах. Так мы и сидели в полном молчании, а автомобиль медленно полз вперед по мокрой дороге. В Таммисаари мы не останавливались. Мне было не до кофе.
Машина встала перед домом майора. Хозяин на этот раз встречать нас не вышел, только в окне заколыхалась занавеска. Мы, стало быть, были нежеланные гости. Мы постучали, но — тщетно; подождав немного, отправили Кокки в обход, к черному крыльцу. Появившаяся вскоре девушка открыла нам дверь, хотя, разумеется, в воле майора было не пускать нас дальше кухни.
Девушка провела нас в гостиную и пошла доложить хозяину. Майор Ваденблик не только не стал здороваться с нами за руку, но даже не соизволил подняться из-за стола, за которым разбирал ружье.
— Охота на лосей открывается только через шестнадцать дней, — с издевкой сообщил он. — К тому же вы, господа, как я вижу, приехали без красных охотничьих фуражек. Чем в таком случае обязан? Прошу извинить — руки в масле. Я всегда сам чищу свое оружие. Больше никто не имеет права прикасаться к нему.
Чаю на этот раз нам не предложили. Мы сидели на тех же кожаных креслах, и молчание становилось тягостным. Не дождавшись, чтобы его угостили, Палму сунул в рот свою трубку и, не спросив разрешения, зажег ее. С ней он чувствовал себя увереннее.
Раскурив трубку и выпустив пару раз дым, он с укором посмотрел на меня. Но я был нем как рыба. Я тоже мог быть упрямым: разговор должен был начать он — так я считал. К тому же, признаюсь, мне решительно нечего было сказать майору, и, сколько я ни ломал голову, на ум ничего не приходило.
— У нас вот какое неприятное дело, майор Ваденблик, — наконец решился Палму. — Вы, вероятно, читали в газетах об убийстве на Обсерваторском холме некоего Фредрика Нордберга, астронома, в ночь на тридцатое сентября. Зверское убийство старого человека.
Майор бесстрастно посмотрел на Палму.
— Ну да, молодежные группировки, битники, — припомнил он и, подойдя к двери, заметил: — Лучше закрыть дверь.
Не обращая внимания на выпачканные маслом руки, он плотно закрыл дверь и даже повернул в замке ключ. Я заметил, что Палму напрягся. Дым из его трубки столбом взметнулся к потолку.
Когда майор вернулся на свое место, Палму сказал Кокки каким-то незнакомым, строгим тоном:
— Открой свой портфель, Кокки, и предъяви улики.
Я насторожился и подался вперед. Фотографию с отпечатками ботинок я узнал сразу, но затем, к моему изумлению, Кокки достал книжку Нордберга — эфемериды, то есть таблицы с указаниями положений звезд на небе в определенные дни. Я сам из любопытства листал ее, но никаких пометок там не обнаружил.
— Битники тут ни при чем, — жестко сказал Палму. — Один человек, высокого роста, рылся в квартире Нордберга сразу после убийства. Вот следы его ботинок, оставленные на полу в туалете.
Майор равнодушно посмотрел на фотографию, выполненную один к одному, вытянул свою ногу и сравнил.
— Одинаковый размер, — хладнокровно сообщил он.
— Тогда, может быть, вы сумеете, майор Ваденблик, объяснить вот это? Этого убийца не заметил.
Я не мог сдержать свое любопытство, подошел и заглянул майору через плечо. Действительно, напротив даты девятого сентября, на полях, бледным карандашом, но характерным старческим почерком было записано: «М-р Ваденблик 3 500 000 мк.». А напротив тридцатого сентября: «В-блик 1 500 000 мк. 24.00».
Я сел на место и пристально посмотрел на Палму и Кокки. Но на их лицах ничего прочесть было нельзя. Конечно, на первый взгляд, это был почерк Нордберга. Несомненно. Но я ведь не эксперт. С другой стороны, я не мог поручиться, что не проглядел эти записи, когда листал книгу первый раз. В нашей группе, между прочим, есть специалист и по подделкам. А я всегда призывал работать сообща, в тесном сотрудничестве. Но в данном случае они с сотрудничеством, по-моему, перестарались.
Однако майор и глазом не моргнул.
— Ну и что? — равнодушно спросил он.
Кокки спокойно вытащил из портфеля две фотографии с отпечатками пальцев и с вежливым поклоном протянул их майору.
— Пожалуйста, сравните их, майор, — еще вежливее предложил Палму. — Посмотрите внимательно. У нас есть время, мы не торопимся. Это ваши отпечатки. Вот эти мы получили, когда были здесь прошлый раз, — мы не решились утруждать вас, майор, обычной процедурой их снятия. — Палму ткнул трубкой, норовившей погаснуть, в другую фотографию: — А вот эти из туалета господина Нордберга.
— Но… — начал было я, да вовремя догадался прикусить язык.
И все же Палму, по-моему, зашел слишком далеко. Никаких отпечатков в туалете не находили, и было глупо предполагать, что майору могло так приспичить. То есть что у него не было времени проделать всю операцию в перчатках.
Майор без интереса повертел в руках фотографии, и едва заметная хмурая ухмылка появилась на его бесстрастном лице. Он наклонил голову и подтвердил:
— Ну да. Я туда заходил. Проверял, не оставил ли этот чертов шантажист какой-нибудь записки. Напрасно потратил время. Старик вел себя честно: унес тайну в могилу, как и обещал. А эту книжку я не догадался посмотреть.
— Так вы — вы признаетесь?! — в полном изумлении воскликнул я.
— Именно, — подтвердил майор словно с облегчением. — Не люблю скрытничать. Все, что делаю, делаю открыто. Для меня это было очень неприятно: красться среди ночи, как какому-то вору. Я имею в виду — в его квартиру на Матросской.
Майор Ваденблик поднялся, вынул из кармана ключи и направился к солидному сейфу, стоявшему в углу. С томительным скрипом тяжелая дверца открылась.
Закрыв сейф, майор размеренным шагом вернулся к столу. С конвертом в руках. Большим желтым конвертом.
— Пожалуйста, судья, — протянул он его мне.
Ага, значит, он все-таки понимал, кто здесь главный! На конверте было напечатано: «Для полиции». Я вскрыл его и развернул сложенный вдвое лист. И с вытаращенными глазами стал читать:
«Я, нижеподписавшаяся Анникка Ваденблик, в девичестве Мелконен, добровольно признаюсь, что в припадке гнева вытолкнула из окна свою единокровную сестру Майре, находившуюся в состоянии опьянения. Мой поступок был вызван тем, что сестра, используя оскорбления и лживые заявления, пыталась разлучить меня с моим мужем, майором Ваденбликом, с которым мы сегодня сочетались браком.
Мой муж был очевидцем происшедшего, но не осудил меня. Мы находимся с ним в связи уже несколько лет.
Некий господин Нордберг также оказался случайным свидетелем происшедшего: он наблюдал случившееся в телескоп с Обсерваторского холма. В августе он начал нагло шантажировать моего мужа, требуя пять миллионов марок и обещая сохранить все в тайне («унести тайну в могилу»). К сожалению, мой муж ничего не сообщил мне, не желая меня волновать. Несмотря на многие трудности, он достал три с половиной миллиона марок и заплатил шантажисту, надеясь, что тот удовлетворится этой суммой.
В то время, когда муж находился в имении, в конце сентября, шантажист позвонил мне и потребовал еще полтора миллиона марок. Я не решилась сообщить об этом мужу и сняла деньги со своего счета, чтобы отнести их Нордбергу, который должен был ждать меня на Обсерваторском холме в полночь того же дня, когда было назначено заседание правления в ресторане «Кяпи». Воспользовавшись разгоревшимся спором, я ушла до окончания заседания. Я боялась идти ночью в парк и захватила с собой, не сказав мужу, его резиновую дубинку, оставшуюся у него с времен войны и хранившуюся в ящике письменного стола.
Из слов шантажиста мне стало ясно, что мой муж, ничего не говоря мне, уже заплатил ему более крупную сумму. Наглый старик пытался оправдать свое вымогательство тем, что его племянница якобы повела себя легкомысленно и теперь ей нужно покупать квартиру. Я поняла, что наше благополучие и счастье находятся в опасности и что мы никогда не избавимся от вымогательств этого человека.
Я пришла в исступление и ударила его по голове дубинкой. Потом оттащила в кусты и в слепой ярости принялась бить его по лицу дубинкой и пинать ногами.
За этим меня застал мой муж, который еще прежде заметил мое возбужденное состояние и тайно последовал за мной на Обсерваторский холм, предчувствуя беду. Он не смог предотвратить мои действия, но понял, что они были совершены в припадке гнева, ибо подверженность таким припадкам — наша наследственная черта. Желая избавить меня от последствий содеянного мною, он набросил на тело пальто и, чтобы труднее было опознать убитого, выбросил все из его карманов в одну из урн в парке.
Желая защитить меня, он взял ключи старика и пошел в его квартиру, чтобы проверить, не оставил ли тот какой-нибудь записки, свидетельствовавшей о происшедшем.
Но вот к нам в дом явились вы, полицейские, словно жуткие ищейки, и мои нервы сдали. Я поняла, что в моей жизни больше никогда не будет ни одной спокойной минуты. Мое единственное счастье — наше сегодняшнее бракосочетание. Но я не хочу губить жизнь своего мужа, хотя он и уверяет, что со временем все забудется. Поэтому мне придется искупить свой поступок единственно возможным способом.
Я пишу это, пока муж спит. Завтра я прыгну в море с выступа скалы — такого же высокого, как окно, из которого выпала Майре.
Я оставляю свое признание в конверте, адресованном полиции, на таком месте, где муж его наверняка найдет. Пусть он решит, как с этим поступить, и простит меня за все хлопоты, которые я ему доставила».
На этом текст заканчивался. Ясное и недвусмысленное признание. Внизу стояли дата и подпись Анникки Ваденблик.
Молча я протянул документ Палму. Он начал медленно читать. А я новыми глазами посмотрел на майора Ваденблика. Твердое лицо, жестокие глаза. Увы ему! Современный мир не терпит гордецов, наперекор всем живущих по своей воле. Сплетни, зависть, клевета. В конце концов, что я знаю о майоре Густаве Эрике Ваденблике? А он, что ни говори, отличился на войне, имеет много наград, восстанавливает обветшавшее родовое имение…
Майор сидел за столом, не подымая глаз. Мужественный человек, скрывающий свои чувства. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Пока Палму читал, он аккуратно повесил на место вычищенное ружье и достал карабин. Но разбирать его не спешил, просто положил на стол перед собой. Бывают такие тяжелые минуты в жизни… Хотя тогда я еще не подозревал, какой тяжелой окажется эта минута для майора.
Палму наконец дочитал, сложил бумагу и с отсутствующим видом сунул ее во вскрытый конверт. Наморщив лоб, он уставился в пол. Попытался затянуться, но трубка его совсем погасла.
— Это ее собственная подпись, можете не сомневаться, — язвительно заметил майор, прервав молчание. — У вас наверняка есть графолог — проверяйте! Это вы, проклятые ищейки, довели Анникку до самоубийства! Я любил ее. Берег и взял бы все на себя и никогда никому не показал бы эту бумагу!
— Да-да, это полное признание, — благожелательно согласился Палму. — Однако вы забыли о фундаменте. — Майор шевельнулся и взял со стола карабин. Палму тем временем продолжал: — Я говорю о краеугольном камне, который строители по глупости заложили в основание. Мы ведь ищейки, майор!
И Палму беспечно наклонился, чтобы выбить трубку о каблук. В ту же секунду карабин в руках майора выстрелил. Пуля пролетела над головой Палму ровно в том месте, где только что находился его лоб. Раздался сухой щелчок: пуля угодила в дерево.
В следующую секунду я выхватил свой пистолет и держал его наготове. И при первой попытке майора перезарядить ружье, я выстрелил ему в локоть. Для меня было очевидно, что было совершено покушение на жизнь комиссара, хотя я, клянусь, ни сном ни духом не ведал, что Палму такого уж особенного сказал.
Майор Ваденблик даже не охнул. Он просто выпустил из рук карабин и зажал локоть.
— Какого черта! Вы что — с ума сошли?! — рявкнул он. — Это нечаянный выстрел! Кто-то оставил ружье заряженным. Или этот негодник трогал мое оружие, хотя ему строжайше запрещено… — Он осекся и медленно повторил: — Или этот негодник трогал…
Вдруг, словно подброшенный какой-то силой, он выпрыгнул из кресла. Расширенными глазами он уставился на запертую дверь. Мы, трое, тоже повернулись и посмотрели. Миновавшая Палму пуля угодила прямо в нее и оставила там уродливую дырку.
Майор медленно, как во сне, двинулся к двери. Его раненая рука плетью висела вдоль тела. Мы поднялись следом. По-прежнему так же медленно он повернул в замке ключ и открыл дверь. На полу в коридоре лежал двенадцатилетний Эрик Ваденблик, сын своего отца, — с пробитою пулей головой. Висок был раздроблен и залит кровью. Он не успел даже вскрикнуть. Майор рухнул на колени.
— Мой мальчик! — простонал он.
Он попытался встряхнуть сына, потом прижал его безжизненную голову к своей груди. Несгибаемый майор низко наклонился над ребенком, и слезы закапали из его глаз. Майор Густав Эрик Ваденблик плакал. Может быть, впервые в своей взрослой жизни. Впрочем, этого знать я не мог.
Но плакал он недолго.
— Ну, смотрите, чего вы добились! — прошептал он с искаженным от горя и ненависти лицом. — Помогайте!
Он не мог сам поднять мальчика. Я взял его на руки и перенес в зал на диван. Помочь ему уже никто на земле не мог, но Кокки все же позвонил по телефону и вызвал муниципального врача. В любом случае тот требовался майору — чтобы заняться его локтем. Портреты предков с равнодушными лицами взирали на нас со стен.
— Мой мальчик, мой мальчик! — хрипло повторял майор. — Все кончено, теперь все равно… Ему я хотел передать цветущее и богатое имение. Как это делалось прежде, в старину. Чтобы он стал владельцем родовых земель. И заводов Мелконена тоже… Пусть все остальные живут так, как могут, — мы, Ваденблики, живем так, как хотим… А теперь его нет… — Он обернулся к нам и в бешенстве прокричал: — Какого черта! Проклятые легавые! Вы так ничего и не поняли! Теперь мне все равно… Это он, мой мальчик, мой сын, положил начало всему. Неужели вы до сих пор не поняли?! Это он кинул зажженную сигарету Майре в постель. Он всыпал горсть пилюль в рот мачехи и улизнул, пока она была еще в полубессознательном состоянии после укола. Мне пришлось отправить его в поместье, чтобы он не убил ее.
Майор отер лоб, взгляд его скользнул по портретам, висящим на стенах, и он стал успокаиваться. Он взял себя в руки.
— Анникка опередила его, — продолжил он. — Вытолкнула Майре из окна. Это лучшее, что можно было для той сделать.
Ошеломленный, смотрел я на убитого мальчика. И мертвый, он был прекрасен, как ангел. Но душа его знала зло. Я помнил ту ворону. И понимал. И верил майору.
Но еще больше меня ошеломило то, что Палму как ни в чем не бывало сунул в рот свою трубку и сказал:
— Вернемся все же к делу. Подлинность подписи я не собираюсь оспаривать. У меня нет никаких сомнений, что госпожа Анникка подписала бы все, что вам понадобится, даже чистый лист бумаги. — Он повернулся к нам и скомандовал: — Теперь идем! Поднимем на воздух Орлиное гнездо майора и посмотрим, что лежит под фундаментом! — Палму метнул взгляд на майора, выронил трубку и рявкнул: — Кокки! Держи!
От нервного напряжения я оцепенел. Но Кокки среагировал мгновенно и успел перехватить здоровую руку майора, собравшегося кинуть в рот капсулу с синильной кислотой. Да, маленькая военная хитрость. Немецкого образца… Откуда только он умудрился достать эту штуку!
И вот только тогда нервы майора не выдержали. Он стал бушевать. Он бесновался, не обращая внимания ни на руку, висевшую плетью, ни на своего мертвого ребенка, лежавшего на диване. Палму пришлось достать из машины наручники и нацепить их майору. Но даже это его не усмирило. А может быть, наконец прорвалась его душевная болезнь, потому что у него на губах выступила самая настоящая пена. В книгах я читал о таком, но никогда прежде не видел. И до конца поверил в то, что такое возможно, только в имении майора Ваденблика, увидев все собственными глазами.
Муниципальному врачу пришлось сделать ему успокаивающий укол, прежде чем заняться рукой. Я не жалел, что ранил его. Нет! Особенно после того, как мы услышали про Синикку. Потому что все началось с нее…
Но не буду забегать вперед. Мы оставили констебля, нашего водителя, охранять врача от возможного нападения со стороны майора, а сами отправились к Орлиному гнезду. Совершать восхождение. Наш взрывник уже совсем извелся, ожидая нас. А я был в таком одуревшем состоянии, что он запросто сунул мне под мышку один из своих тяжеленных свертков. Это меня просто взорвало: я буду всю дорогу тащить сверток! Я, конечно, швырнул его на землю. Вернее — положил. Очень осторожно. Не потому, что испугался, разумеется, нет. Но не к лицу командиру группы таскать свертки! Когда есть Кокки, хочу я сказать.
Постройка за это время выросла как на дрожжах. Работа была в самом разгаре, так что строители смогли нам помочь. Краеугольный камень был заложен на месте будущего очага — под ним, и сверху залит бетоном. О его закладке и торжестве по этому поводу майор нам объявлял еще в прошлый раз, и рабочие подтвердили, что он действительно положил под камень металлический ящичек, как того требует обычай, когда господа строятся.
Так что для начала мы подняли на воздух всю конструкцию. Расчистили место. Все равно майору это убежище уже не могло понадобиться. Строители тоже не протестовали, хотя весь их подряд шел коту под хвост. Но, по их мнению, майор был не из лучших подрядчиков. Они даже развеселились, когда услышали первые взрывы. Все они в свое время воевали.
А наш взрывник работал просто с увлечением. Слишком редко он получал возможность потрудиться вот так всласть. Обычно ему приходилось любоваться плодами чужих рук…
Ну что я могу еще добавить? Под камнем мы действительно нашли жестяной сундучок, в котором лежал плотный лист бумаги с древом рода Ваденбликов. И ключи старика Нордберга. И запачканные кровью ботинки. И конверт, на котором дрожащей рукой Нордберга было написано: «Непременно сжечь после моей смерти». Старик описывал все, чему оказался свидетелем. А именно: что в половине третьего утра майор Ваденблик выбросил из окна ярко освещенной квартиры женщину. Апрельской лунной ночью. Что в дверях появилась Анникка и все видела. Что она пыталась закричать, но майор зажал ей рот, и тут же в комнату ввалились гости. Все произошло в считанные секунды, как писал старик.
Так что без подробного отчета самого майора Ваденблика в общем можно было обойтись. Хотя там он, в частности, сообщал о том, как хладнокровно и преднамеренно совершил убийство шантажиста. Доводил до сведения будущих поколений. Чтобы потомки помнили, что Ваденблики всегда живут так, как хотят, в любые времена. А так, как могут, пусть живут другие… Мы и сделали, что смогли — посадили майора за решетку. Но до сих пор я не знаю, предназначал ли он свои вымазанные кровью ботинки и связку ключей в будущий фамильный музей в качестве экспоната или считал фундамент наиболее надежным тайником. Кто его разберет. Майор Ваденблик — человек хладнокровный.
Разумеется, сначала мы отправили его на операцию, и Палму специально просил хирурга постараться получше починить майору локоть, чтобы ничто не мешало ему трудиться в исправительной тюрьме над превращением камня в щебенку.
Потому что пожизненное заключение он, конечно, получил. Психиатры его не освидетельствовали. Как можно — самого майора Ваденблика! Он, впрочем, тоже не просил об этом. Но, по моему глубочайшему убеждению, разум майора, несомненно, помрачен. Психически здоровый человек таким быть не может, что бы там ни говорили апологеты смертной казни. Так или иначе, но вряд ли майор Ваденблик сумеет при жизни выйти из тюрьмы. И на нем этому роду суждено угаснуть…
Но не думайте, что нрав майора был укрощен. Ничуть! Теперь он стал похваляться своими подвигами и по собственной инициативе рассказал всю историю с Синиккой. Дочкой Майре, если помните. К ней он решил подкатиться сразу после увольнения из армии. Он занимался тогда продажей автомобилей за комиссионные, делом в то время малоприбыльным. К тому же затрагивающим честь. Зато однажды к нему пожаловали Синикка с Майре, интересовавшиеся новыми машинами. С этого начались их совместные катания. Майор — видный мужчина, этого у него не отнимешь, и на женщин действует, как известно, неотразимо. По крайней мере на женщин определенного рода. А тем более на неопытных девочек, искательниц приключений. Так что майор вполне воспользовался предоставившейся ему возможностью и растлил несовершеннолетнюю девчонку. Понуждая ее таким образом выйти за него замуж и надеясь получить доступ к деньгам Мелконена. Старик Мелконен был еще жив в ту пору.
Однако Синикка решила, что она майора хитрее. Маленькая авантюристка! Она как пай-девочка отправилась на прием к врачу, едва заметив, что у нее случилась некоторая задержка в известных делах — надеюсь, вы понимаете, на что я пытаюсь деликатно намекнуть. Кроме того, ведь так положено — посещать врача после изнасилования. А ведь ей не было еще семнадцати! И вот когда они с майором в очередной раз отправились покататься на роскошной яхте Мелконенов и в шуме ветра, треплющего парус, майору уже чудился звон свадебных колоколов, Синикка, торжествуя победу, заявила, что, мол, майор попался, и что на чужой каравай рот не разевай, и не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. И, мол, побаловаться с таким мужчиной она не прочь, но обручаться или выходить замуж — нет, увольте! Никогда в жизни! Хоть умри — не будет! И даже пригрозила, что расскажет все матери и деду, горному советнику Мелконену. Она заметила, что мать поглядывает на майора чересчур нежно! А уж горный советник Мелконен — это с гарантией! — примет меры, чтобы в этой стране майору не светило разбогатеть…
В ответ на ее речь майор Ваденблик, человек действия, схватил девчонку за шкирку и швырнул в море. И для верности еще полавировал вокруг, пока не убедился, что она точно утонула. Затем выбрал подходящий скалистый островок, завалил и потопил яхту, а сам вплавь добрался до него. Наградой ему была слава и горячая благодарность — когда он рассказывал о единоборстве со стихией ради спасения Синикки…
Теперь о Вилле. Вилле пошел добровольцем в автобатальон. Дело об угнанной и разбитой машине слушалось при закрытых дверях. Но Вилле — славный парень! — не был осужден даже условно. Благодаря нашим стараниям. Вот что значит помочь полиции в расследовании серьезного преступления! Арска же получил по заслугам, и тоже не без нашего участия. И не без участия дорожно-транспортной группы. Так что в тюрьму он все-таки попал. Правда, для несовершеннолетних — за что нас со слезами на глазах благодарил его отец. Уже несколько лет, как он не мог справиться с сыном, тот совсем отбился от рук!
Мне тоже жаловаться на жизнь не приходилось. В Копенгаген мы отправились в количестве ста двадцати человек. На самолете. Расходы взял на себя генеральный директор Аарне Мелконен. В том числе и оплату трехдневного проживания в самых шикарных отелях. Вот так-то! Этот человек еще станет горным советником — помяните мое слово! Если, конечно, не умрет скоропостижно от тромба… Съездили мы просто отлично! Впрочем, вы наверняка видели фотографии в газетах. И отзывы…
Да, я забыл сказать о Кайе. Девчонку нам привлечь вообще не удалось: ей оказалось всего четырнадцать лет! Несмотря на соблазнительный свитер и не менее соблазнительную попку в брючках-дудочках.
Я, кажется, уже рассказывал, что Вилле наконец решился и сделал предложение Сааре Похъянвуори. В тот самый день рождения. После того как Алпио сказал им, что теперь государство платит пособие семьям тех, кто отбывает воинскую повинность. Кстати, портной Похъянвуори, узнав обо всем, никого убивать не стал. И даже плакал от радости, выяснив, что Вилле согласен жениться на его падшей дочери. И так поспешно организовал венчание, что Вилле, едва успев выйти из ворот тюрьмы, уже стоял — стараниями папочки — перед алтарем. Зато и папочка, исстрадавшись душою, обещал презентовать в качестве свадебного подарка стиральную машину. Ведь нынешние молодые без машины ну никак! Я хочу сказать, когда они ждут ребенка…
Что ж, хороший конец — делу венец! Мне остается только рассказать о загадке господина с красным перышком на шляпе. Собственно, если бы у меня достало терпения выслушать тогда в машине Кокки, давно раскрывшего его инкогнито, то никакой загадки бы не было. Но увы: для меня все раскрылось значительно позже. Тогда, когда я и вовсе забыл о нем: у меня за плечами была поездка в Копенгаген!
Как бы то ни было, но одним воскресным ноябрьским утром, часов примерно в десять, когда я еще нежился в объятиях Морфея — надеюсь, вы меня понимаете! — у меня зазвонил телефон. Нет-нет, ничего дурного! Звонила барышня Пелконен. И самым любезным образом приглашала меня на чашку утреннего кофе. Разумеется, я немедленно отправился, успев, однако, побриться.
За столом сидел Он. Тот самый господин.
Конечно, у него уже не было пера на голове, но я узнал его с первого взгляда — настолько точным было описание, данное барышней Пелконен. Посеребренные сединой виски, дружелюбные глаза под густыми бровями… не очень высок и не очень молод — наверняка сильно за пятьдесят, но зато умен, проницателен, гибок и мускулист. Короче, мужчина в самом расцвете сил. И совершенно во вкусе барышни Пелконен — это было написано на ее лице.
— Господин Свартсван, — представила она его, — дипломированный инженер.
— Прошу заметить: черный лебедь, а не Свартфан[12], — весело сказал тот. — Это я к тому, что на Обсерваторском холме я выглядел в этой истории темной лошадкой. Совершенно искренне приношу свои извинения, но я был в полном неведении до самого последнего времени, то есть до того, как связался с барышней Пелконен.
— Он сразу узнал меня! — сияя, сообщила барышня Пелконен.
— Я хожу на выставки собак, — скромно объяснил инженер, — а Надежный Друг — призер!
И он наклонился, чтобы погладить красивого черного терьера, который в таком упоении охранял ноги инженера, что едва улучил минутку, чтобы поздороваться со мной. Я даже почувствовал укол ревности.
— Я всегда любил собак, — продолжил инженер. — А сам держать собаку не могу: я холостяк и живу один. Но собачьи выставки не пропускаю и слежу по газетам за наградами, так что я еще прежде запомнил имя барышни Пелконен. И в то утро на Обсерваторском холме я сразу узнал Надежного Друга, виноват — барышню Пелконен, конечно. Поэтому я немедленно позвонил ей, как только вернулся из Америки.
— Из Америки? — глупо переспросил я.
— Да, в то самое утро, в девять часов, я улетал в США, — объяснил он. — Понимаете: билет, виза, назначенные деловые встречи в Нью-Йорке и Чикаго… Я просто не имел права вмешиваться в дело, которое меня не касалось. Мне пришлось бы являться в полицию на допрос и все такое прочее. Я и так едва не опоздал на самолет, размышляя об этой встрече с барышней Пелконен.
— Господин Свартсван уверяет, что обязан мне решением очень важного для него вопроса, — призналась барышня Пелконен, глядя на своего героя с еще бо́льшим упоением, если такое возможно, чем Надежный Друг.
— Это вообще довольно нелепая история, — решил пояснить инженер. — Видите ли, я должен был принять довольно трудное решение, разрешить, так сказать, нравственную проблему. Барышня Пелконен заметила тогда, что каждый должен выполнять свой долг. Что-то в этом духе. А я всю ночь промаялся — не мог заснуть и все обдумывал, как следует поступить. Эта поездка очень беспокоила меня. Поэтому я и отправился на рассвете в парк: надеялся, что на свежем воздухе смогу привести свои мысли в порядок. Перед поездкой.
— Так что же это за нравственная проблема? — напомнил я.
— Дело в том, что я гораздо лучший коммерсант, чем инженер, — ответил тот. — Наше агентство, вполне процветающее, специализируется на технике. Я служу в нем уже скоро двадцать лет. Я на найме, хотя знаю дело как свои пять пальцев. Представительством у нас занимается директор, еще с двадцатых годов. С тех пор все очень изменилось. А он, честно говоря, совсем законсервировался. Не может отличить электронную аппаратуру от холодильника. Из-за этого страдает фирма, потому что конкуренция в наше время жестокая. Вот я и думал, что только выполню свой долг, если там, в Америке, предложу им кое-какие новые артикулы. И как бы между прочим дам понять, что представлять фирму могут и более компетентные люди. Я имел в виду себя. Но барышня Пелконен наставила меня на путь истинный… Конечно, это глупо звучит, — продолжал он, — но я понял, что мой долг — встать на сторону старика. Ведь это он основал фирму и положил начало ее деятельности. И когда они там, в Нью-Йорке и Чикаго, пытались меня прощупывать, я не сказал про старика ни одного худого слова. Наоборот. И в результате, когда я уезжал, мне поручили заниматься представительством! Полностью! А если бы я стал грызть старика, они выгнали бы меня безо всяких, они сами мне потом признались. Так что, как видите, добродетель вознаграждена. И этим я обязан барышне Пелконен!
…Что я могу еще добавить? Я видел их вместе пару раз на симфонических концертах и однажды — на художественной выставке. Вполне вероятно, что из этого что-то выйдет. Хотя, с другой стороны, мне неведомо, что по этому поводу думает господин Свартсван и каковы его притязания. Одно несомненно: Надежный Друг — благородная собака! Да и с барышней Пелконен все, по-моему, обстоит хорошо.
С начальником отдела у меня почему-то теперь отношения натянутые. Почему — ума не приложу. Во всяком случае, я тут ни при чем. Может, он обиделся, что его не взяли в Копенгаген? Но я никак не мог включить его в список — у него нет голоса! Так же как и у Палму.
Быть может, читатели удивляются, откуда Палму знал про фундамент. Ведь откуда-то он про него знал! Так вот: однажды я прямо и откровенно спросил его об этом:
— Слушай, Палму! Признайся наконец, откуда тебе стало известно про фундамент?
И на этот раз он не стал разводить всякую муру про психологию, генеалогию, человеческий опыт или про то, что убийца вообразил себя сверхчеловеком. Он не стал ни хвастаться, ни издеваться надо мной. Он просто сказал:
— Звезды рассказали!
Матти Урьяна Йоэнсуу ХАРЬЮНПЯА И КРОВНАЯ МЕСТЬ Роман
Роман о двух преступлениях и одном расследовании, обо всех тех, кто не замечает своего сходства с полицейскими
MATTI YRJÄNÄ JOENSUU
Harjunpää ja heimolaiset
1984
© Otava, 1984
Перевод Л. Виролайнен
1. ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ
Женщина показалась в окне так неожиданно, что Харьюнпяа остановился, едва переводя дыхание. Наступила странная тишина — ни скрипа металлической лестницы, ни шуршания одежды. До появления женщины он был полностью сосредоточен на этих звуках и, гонимый вверх какой-то силой, механически передвигал руки и ноги, упираясь взглядом в покрытые пылью перекладины толщиной с указательный палец, на которых виднелись оставленные башмаками следы, и думал только о том, чтобы следы поскорее кончились. Теперь он различал лишь собственное дыхание, лихорадочное и горячее, пульсацию в висках и отдаленный шум уличного движения.
Женщина стояла в окне, ближайшем к пожарной лестнице. Их разделяла застекленная оконная рама. Женщина держалась за ручку рамы и смотрела на Харьюнпяа, будто хотела ему что-то сказать, но окна не открывала, даже не пыталась этого сделать.
Харьюнпяа ждал. На какое-то мгновение ему подумалось, что он выиграл время и сумел избавиться от чего-то неотвратимого, но надежда оказалась напрасной. Лучше было бы не останавливаться. Теперь он ясно осознал то, что все время чувствовал, но о чем старался не думать: он находится на головокружительной высоте.
Целиком предоставленный себе и собственным силам, он поднялся до четвертого или пятого этажа — до карниза оставалось уже немного.
Харьюнпяа опасался смотреть вниз. И вверх тоже. Едва он попытался это сделать, как ему почудилось, что стена начинает падать и за его спиной разверзается бездна. Далеко внизу чернел твердый асфальт двора, а на нем — еще более черное пятно, которое дворнику так и не удалось смыть. Именно на это место упал в сумерках человек.
— Тимотеус! — крикнул Кеттунен из комнаты, когда Харьюнпяа появился в коридоре отдела насильственных действий. Это было в четыре, с тех пор прошло уже почти шесть часов. Перед Кеттуненом лежало донесение, и голос его, обычно подчеркнуто серьезный — так он шутил, — был теперь полон досады и скуки. — Подозревается самоубийство, — буркнул он, — но в этих папирусах не сказано, откуда самоубийца спрыгнул. Черт побери! На месте происшествия побывал Всезнайка Мутанен на пару с новичком, которого только в мае приняли в отдел краж, — где им было разобраться… — Кеттунен замолчал и выразительно посмотрел на Харьюнпяа: — А вдруг того приятеля кто-то спихнул вниз?
Харьюнпяа и бровью не повел. В глазах Кеттунена таилась какая-то хитринка, Харьюнпяа это сразу заметил, и не ошибся — Кеттунен усмехнулся.
— Не беспокойся, Тимотеус. Полчаса назад нам позвонил инженер Паккала с Рябинового шоссе. Он случайно увидел в окно, что какой-то мужчина лезет вверх по пожарной лестнице со стороны двора, выходящего на улицу Маннергейма. Когда он снова выглянул в окно — тот уже летел вниз на уровне третьего или четвертого этажа. А потом послышалось короткое «бац!». Может, ты бы завернул туда до вечера, поглядеть… Я помню одного студента-медика, который в свое время проделал такой же курбет. Но тот паршивец оставил на карнизе свой бумажник и прощальное письмо. Едва я успел взять их в руки, как заметил, что лестница в верхней части отошла от стены — крошки кирпича так и сыпались вниз, когда верхушка лестницы, покачиваясь, задевала стену…
Харьюнпяа вздохнул. Вот теперь и он тут — между землей и небом. Опираясь всем своим весом на ступни, он чувствовал, как дрожат икры и как, словно обручем, сжимает бедра. Он уставился на женщину в окне, думая при этом не о ней, а о страхе высоты, хотя твердо решил, что и мысли такой себе не позволит.
Страх высоты развивался в нем постепенно: сначала стало неприятно смотреть вниз из открытого окна, но уже год спустя приходилось делать над собой усилие, чтобы выйти на балкон второго этажа. И он никак не мог от этого избавиться, хотя знал, чем это вызвано: ему не раз приходилось осматривать трупы упавших с высоты людей, а потом обследовать места, откуда они падали, — забираться на подоконники и карнизы, искать на перилах балкона следы падения — ведь причина и следствие должны быть связаны друг с другом.
А хуже всего было то, что Харьюнпяа стыдился своего страха. В известных обстоятельствах волнение испытывает всякий человек — даже Норри, его начальник, — он это знал, скрыть это невозможно, но между волнением и страхом есть отчетливая разница: только страх не позволяет делать то, что требуется.
Харьюнпяа облизнул губы. Он почувствовал тот же привкус, который был разлит в воздухе, — отсыревшего железа, ржавчины, сажи.
Лишь теперь он начинал понимать, на какую Голгофу добровольно полез; намекни он только Кеттунену, тот охотно забрался бы сюда, но Харьюнпяа поверил дурацкому утверждению, что от страха можно избавиться, совершая то, чего боишься. Было, правда, и другое обстоятельство, которое заставило ввязаться в это дело его самого — он знал, что никто другой не стал бы вообще ничего проверять, заявил бы, что следы, мол, кончаются на двадцать восьмой ступеньке — и всё. И никто никогда в этом бы не усомнился. Но Харьюнпяа был не таков. Он — это он, он полицейский, и его служебный долг — подняться до самого верха. Так он, во всяком случае, считал.
Наконец он понял, что все время смотрит на женщину — точно ждет от нее ответа.
Женщина, видно, такого же возраста, как он, — лет за тридцать. Впрочем, с уверенностью сказать нельзя, может быть, и моложе, всего двадцатилетняя, возможно даже, что это мужчина. Или ребенок. Через стекло плохо видно, в нем отражается солнечный свет, но одно несомненно — там стоит человек, подобный ему или любому другому.
Харьюнпяа подтянулся поближе к лестнице. Теперь он видел лучше: за окном стоит женщина и смотрит на него искоса, как на улице стараются незаметно разглядеть иностранца, инвалида или кого-нибудь еще, кто чем-то отличается от других. Взгляд у женщины смущенный, нет, скорее — испуганный.
Харьюнпяа понимал причину ее страха: за окном чем-то гремит мужчина, инструментов у него нет, одет не в комбинезон, то есть никаких признаков того, что он честен и занят делом; ведь по пожарной лестнице поднимаются только трубочисты, дворники да пожарники, им это подобает, их сразу можно узнать. Харьюнпяа крепче сжал перекладину — решил показать, что его нечего бояться. Не придумав ничего другого, он кивнул и попытался улыбнуться. Очевидно, ему удалось изобразить только какую-то гримасу — женщина испуганно отпрянула от окна.
Харьюнпяа сделал вдох, посмотрел наверх, крепче ухватил перекладину и полез дальше, уже не глядя на женщину. Но он чувствовал, что она снова стоит у окна и снова уставилась на него. Ощущение было настолько сильным, что он невольно скосил на нее глаза — так и есть, она там; через мгновение ему почудилось, что она смотрит на него злобно, но тут она отвела глаза и уставилась в пустоту, а потом вдруг прижалась к стеклу и быстро перевела взгляд вниз, точно проследила за чем-то, стремительно падающим в колодец двора.
Харьюнпяа оторвал руку от ступеньки и схватился за следующую, подтянул ногу, потом другую — лестница под его тяжестью громыхала, как отдаленный гром, его вдруг бросило в пот, даже по лбу потекло.
— Тьфу, дьявольщина!..
Звук лестницы изменился.
Харьюнпяа поднял глаза. Карниз был над ним всего в нескольких десятках сантиметров — он видел волнистый край черепичной крыши с уходящей куда-то деревянной лестницей, на уровне его глаз было чердачное окошко, в глубине которого дремали два сизоватых голубя. Они прижались друг к другу, и в их маленьких голубиных мозгах, может быть, теплилась мысль о том, что уж на этакой-то высоте им ничто не грозит, разве только появятся рядом другие голуби, но теперь они вскочили и вытянули шеи, всем своим видом обнаруживая страх и желание улететь.
Тотчас же загрохотала жесть, птицы захлопали крыльями. Харьюнпяа пригнул голову, что-то задело его волосы, в воздухе закружились пыль и птичьи перья — пушинки, точно живые, в нерешительности парили в высоте, а потом тоже отправились куда-то, где сгущаются сумерки и ничего уже не видно.
Харьюнпяа уставился на перекладину: сажа лежит ровным слоем, следы от башмаков кончились. Только рядом с его правой рукой виднеются два узких светлых пятна, точно след лихорадочного прикосновения руки. Харьюнпяа осторожно приложил к ним свою ладонь. Пятна оставлены большим и указательным пальцами. Тот, кто поднимался здесь до него, добрался до этого места.
2. «ГАСПАР АРИЦАГА ЭЙБАР»
— Вот здесь.
— А не раньше? Мы слишком близко…
— Нет. Я помню тот камень, он похож на копыто.
— Ну, раз так…
Парни свернули с дороги. Полы их пиджаков взметнулись, каблуки застучали по земле. Пистолет в боковом кармане Вяйнё, словно предостерегая, ударил его по бедру. Вяйнё остановился, укрывшись за молодой рябинкой, и прислушался.
Онни прошел вперед. Совсем рядом что-то царапалось и шелестело — звук был очень легкий и торопливый, то ли ветер, то ли какой-нибудь зверек, может быть, птица.
По дороге, с которой они только что свернули, кто-то шел: под ногами, точнее, под двумя парами ног шуршал гравий. Потом послышалось хихиканье и раздался низкий мужской голос — это, наверно, та же парочка, которая останавливалась возле пляжа; девица позволяла себя лапать на виду у всех, на ней было коротенькое платье, открывавшее колени, когда она поднимала руку.
Музыка доносилась теперь не просто отчетливо, а даже громко — так, как она всегда слышится из танцевального зала с открытыми окнами, если между тобой и залом остается всего лишь какой-нибудь лесок или строение. Контрабас равномерно ухал: думп-думп, а голос певца дребезжал, как жесть, и разобрать можно было всего несколько слов:
«Никогда не… е… шипо-овник…»
Вяйнё, раздув ноздри, сделал глубокий вдох, коленные связки у него дергало, словно в них вселился какой-то бес.
Только теперь он до конца осознал, что они на чужой территории.
Никто из их рода не бывал здесь годами, если не считать того, что они с Онни забежали сюда днем, — чтобы заранее приглядеться к месту. Но тогда это было безопасно, казалось почти игрой.
Онни был очень честолюбив. Он рисовался даже перед Вяйнё, хотя в этом и не было нужды — они отлично знали друг друга, были почти как братья.
Всего две недели назад Онни освободился из тюрьмы. Его посадили в Турку за неуплату штрафов, выручить его было некому, а позвонить по междугородному полицейские — эти проклятые плоскостопые — ему не позволили. Он стыдился того жалкого положения, в каком оказался. Слабаки всегда вызывали у него, как, впрочем, наверно, и у других, презрение. Компания с Козьей горы — это чертово отродье, — оказывается, просто смеялась над ним, а больше всех Фейя. Понятно, что Онни захотел ему отомстить.
— Вяйнё! — Это был не возглас, а всего лишь горячий шепот, но он дошел сквозь тьму, точно Онни стоял рядом. — Вяйнё!
Вяйнё сунул руку в карман, нащупал оружие, повернулся, но не двинулся с места. Городской шум достигал его ушей и вызывал воспоминания о доме — так же слышался шум транспорта у них на Гористой улице. С удивлением он почувствовал, что не уверен в себе, как человек, находящийся в комнате, где движутся какие-то тени.
Может быть, следовало дома дать понять, что они с Онни не шутят и не просто так болтают. Кто-нибудь им помешал бы — Севери во всяком случае. Может, и Миранда или даже Рууса. Все шло бы по-прежнему, даже приятно, и он продолжал бы ходить к Улле.
— Эй, Вяйнё!
Пальцы Вяйнё ощупали оружие — оно показалось ему большим и неуклюжим. Да таким оно и было: едва влезло в карман и оттягивало его теперь своей тяжестью.
«Гаспар Арицага Эйбар»…
Это звучало, словно древний язык или заклинанье, приносящее удачу. Это была марка оружия, его имя, которое значилось на рукоятке, — «Гаспар Арицага Эйбар». Вяйнё зашагал по вьющейся тропинке, усыпанной рано опавшими листьями, прямо к невысокой вершине холма. Онни стоял уже там.
— Он в зале! — шепнул Онни, его лицо улыбалось, он был возбужден, как спортсмен, выходящий на финишную прямую. — Я смотался вниз… В окне кто-то мелькнул… Я подумал — кто это? Это был Фейя. Точно он, Фейя, сын Хулды и Манне. Ошибки быть не может. Где ты там замешкался?
— Хотел проверить, нет ли на дороге плоскостопых.
— Они пешком не ходят. Да и плевать нам на них, они в таких делах ничего не смыслят, дурачье.
— А еще там кто-нибудь есть?
— Нет, наверно…
— Есть или нет?
— Не видал я других. Почем мне знать, может, среди белобрысых…
Они постояли молча.
Оставалось метров пятьдесят. Спуск с холма к танцевальному залу шел через заросли березок и сосен высотой в рост человека. Музыка, смешанная с шумом голосов и выкриками пьяниц, отчетливо раздавалась в лесу.
Вяйнё стало всерьез страшно — а вдруг там собралась вся Фейина компания? Об этом они совсем не подумали. А их только двое. Он почувствовал, что Онни тоже заколебался, и понял, что сейчас еще не поздно как бы мимоходом сказать:
— А может, все-таки пойти к Лимингантам? Стоит этим ребятам лишь слегка намекнуть, как Криворотый все расскажет Фейе, и тот так струхнет, что целую неделю не решится даже сапоги натянуть.
— Сейчас мы ему покажем! — сказал Онни хрипло, и по его голосу Вяйнё понял, что минута упущена, что отступить теперь все равно что признаться в трусости. Он подумал, что в голосе Онни, пожалуй, прозвучало желание разжечь в себе злобу, которой в нем не было — сейчас, во всяком случае. — Давай сначала по глоточку?..
— Ладно! — согласился Вяйнё и схватился за плоскую бутылку, чувствуя, что теперь он безраздельно с Онни, что об отступлении не может быть и речи, что Онни уже ничто не остановит. Он сделал большой глоток, рот обожгло.
Со двора донесся взрыв смеха. Певец объявил в микрофон, что после следующего танца будет перерыв.
— Скоро он выйдет…
— Да. Но это будут его последние шаги. Доставай свою пушку.
Они вытащили оружие.
«Гаспар Арицага Эйбар» — военный кольт, массивный и квадратный, в его магазине помещаются девять патронов. Вяйнё опустил кольт, задев стволом кустики брусники, и сдержал участившееся вдруг дыхание.
Пистолет Онни — «FN» — назывался «Беби». Маленький, словно игрушечный, он выглядел на большой ладони смехотворно, но его легко носить и можно мгновенно спрятать. В сущности, «FN» принадлежал Вяйнё, а «Гаспар» — Онни, но на этот вечер они поменялись оружием: Кюести как-никак был отцом Вяйнё, а Онни он приходился только дядей.
Онни снял предохранитель. Вяйнё пришлось минутку пошарить, прежде чем он нашел шершавую собачку — потом и его оружие щелкнуло, тихо, словно что-то шепнуло. Они взвели курки заранее, едва только кончился асфальт — будто там проходила граница. Маленький пистолетик нежно сказал «тик-так», а «Гаспар» проронил металлическим голосом «клак-клак».
— Пошли!
Они пригнулись пониже и стали спускаться с холма. Мох пружинил под ногами, ветки брусничника цеплялись за голенища сапог, шум стал явственнее. Огни виднелись уже отчетливо, за стволами деревьев мелькнул белый торец дома.
— Манне все-таки попал за решетку, — неожиданно для себя шепнул Вяйнё, и ему показалось, что его голос зашуршал и задрожал, словно фольга.
— А что толку? Тюрьма белобрысых… Разве это наказание? Отсиживался там в безопасности. Для такого может быть только одно наказание…
— Но он умер…
— В постели. От страха. Он был трус — ты же знаешь, что он ударил Кюести сбоку, так что тот не успел защититься. И Фейя такой же, как его отец, — тоже убийца.
— Да… хотя он и не сам… но все-таки его отец…
Онни остановился и схватил Вяйнё за локоть.
— Ты вспомни Кюести! — почти крикнул он, и лоб его прорезали морщины. — Как он лежал на остановке автобуса, на грязной, затоптанной ногами остановке. Из груди била фонтаном кровь, прямо из сердца…
— Молчи, Онни! — выдохнул Вяйнё и почувствовал, как дрожит рука Онни; она так сжала его локоть, что стало больно.
— Рууса пыталась его поднять, да где ей, с ее-то силами… А белобрысые советуют: оставь, он же мертвый… Что они понимают — вот так, на земле! А один еще и смеется — мол, так и надо, поубивайте друг друга, по крайней мере избавимся от вас, нечистей. И это сделал Манне! А Фейя, сынок его, теперь танцует! Дьявольское отродье, он же убийца!
Лицо Онни, искаженное болью, стало совсем серым. Он утирал глаза рукавом, и Вяйнё пришлось отвести взгляд.
Он подумал об отце. Тогда Вяйнё был еще совсем маленьким, лет четырех-пяти, и произошло это не при нем. Он помнил отца только по рассказам, хотя его одежду он хорошо себе представлял. Вернувшись из морга, Рууса принесла ее с собой, бросила во дворе, облила бензином и подожгла. Соседи вызвали пожарную команду, одежду залили водой и разложили для просушки по всему двору. Но, даже обгорелая, она все-таки была одеждой Кюести, его отца. Рууса умоляла, чтобы ей позволили все сжечь, в конце концов она совсем обезумела, стала кричать и рухнула на землю. Там ее плоскостопые и подобрали. Неделю продержали взаперти, боялись, что она надумала самосожжение. В ратуше за костер ее оштрафовали.
— «Гаспар Арицага Эйбар», — беззвучно шепнул Вяйнё.
Лесок кончился, пошел редкий кустарник. Трава у танцевального зала была вытоптана. Подвешенный к карнизу прожектор освещал двор, образуя яркий круг. Приятели заткнули оружие за пояс и остановились у края освещенного двора: тут, казалось, было безопасно — они видели все, что происходит во дворе, но сами оставались в тени.
Здание с танцевальным залом было белое и высокое, как дом общины в любой деревне. Из распахнутых окон, помимо музыки, слышалось шарканье танцующих ног и какой-то неясный гул.
Входная дверь находилась посреди фасада, но лестницу к ней пристроили так, что она вела к торцу дома. На лестнице стояли курильщики. Один был в брюках с галунами, как у швейцара.
Справа примостились низкие строения — гаражи или кладовки; последнее, покрашенное в красный цвет, — уборная. К забору были прикреплены мишени, желающие могли пострелять по ним из духовых ружей. На маленьком столике находились призы: стеклянные вазочки, карманные фонарики, гипсовая овчарка.
Как обычно на танцах, многие бесцельно бродили взад и вперед. Всё белобрысые. Ни одного цыгана.
Вяйнё показалось, что на них все смотрят, но на самом деле взгляды в их сторону бросал только какой-то один пьянчужка. Вяйнё дышал лихорадочно, он так крепко сжал спрятанный за спиной пистолет, что шероховатая поверхность оружия впилась в ладонь.
— Может, он уже ушел, — сказал Вяйнё тихо.
— Нет… Еще тут. Сейчас музыканты кончат, начнутся танцы под пластинки, тогда он выйдет.
— Вон тот, деревенский, следит за нами.
— Я усек. Не гляди в его сторону — он и не подойдет.
Вяйнё наклонил голову и попытался вслушаться в мелодию танго, это то самое, которое приятно слушать с закрытыми глазами, то, где за безбрежным морем раскинулась совсем другая, непохожая на эту страна. Но танго подходило к концу. Фейя должен скоро показаться. И тогда надо будет стрелять. А пьяная деревенщина по-прежнему не отрываясь глазеет на них. Теперь он и вовсе к ним направился.
— Что делать, Онни? Убежим?
— Нет. Останемся на месте. И разделаемся с Фейей.
Пьяный подошел ближе. Он старался ступать твердо, как все пьяные, но шаги были неверные, он чуть не упал, споткнувшись о корень; физиономия красная, на руке болтается пиджак, ширинка расстегнута.
Вяйнё так прикусил щеку, что почувствовал во рту вкус крови. Господи, до чего же ему хотелось все бросить и убежать! Вместе с тем он чувствовал отвращение, почти злобу, он знал, чего этот тип от них хочет, эти грязные навозники всегда хотят одного и того же, они назойливы, как мухи, садящиеся на падаль. Сразу видно, что это за дурачье. Впрочем, кто не подозревает в глупости другого, сам глуп. Так всегда говорил Севери, если Рууса осмеливалась пилить его.
Танго оборвалось неожиданно, точно вовсе и не звучало. Стоявшие на лестнице парни спустились вниз и рассыпались по двору. Дежурный открыл обе половинки двери.
Перед ними возник пьяный, он тяжело качался, словно мешок, наполненный водой.
— Хай! — сказал он.
Вечно они говорят «хай!». Думают, что к ним надо так обращаться. Вяйнё смотрел мимо парня, будто того и не было. Потом вдруг подумал: а не заставить ли Фейю сначала их увидеть. У него тоже, конечно, с собой пушка. Рот Вяйнё приоткрылся, сердце забилось сильнее. На лестницу высыпала толпа молодежи. Вяйнё вытянул шею, но не видел пока того, кого искал. И хотя он не смотрел на Онни, но сразу почувствовал в нем перемену — теперь это тот самый Онни, каким он всегда был для белобрысых.
— Хай, это ты! — радостно воскликнул Онни, потом понизил голос и таинственно шепнул: — Тебе, наверно, бутылку?
— Именно это нашему брату и требуется… Я сразу смекнул, чего вы тут торчите… Я с цыганами всегда дружил… Так что открывай лавочку, покупатель пришел стоящий.
— Послушай-ка, начальник… — Онни взял пьяного за плечи, наклонился к нему и шепнул в самое ухо: — Ты верно угадал, я сразу смекнул: ты парень что надо. Но я поленился захватить товар с собой. Иди вон туда, вдоль дома, потом заверни за угол. Дорогу знаешь? Свернешь направо. Дойдешь до сарая…
Вяйнё едва перевел дух — на лестнице мелькнули черные волосы. Потом показался весь человек. Это был Фейя. Ошибки быть не могло — горбатый нос, как у всех в их семействе. Вяйнё испуганно попятился…
— Онни!
— …и постучишь в дверь, если без этого не откроют. Там наш приятель, он тебе продаст, сколько захочешь. — Онни засмеялся, взял парня за плечи, повернул кругом и слегка подтолкнул в сторону двора. — Только поторопись! — крикнул он еще вслед. — Он может скоро расторговаться!
Фейя стоял на нижней ступеньке. Он отирал лоб белым платком, на ногах у него были сапоги из хорошей блестящей кожи. Он не сошел в сторону тира, как многие, а направился прямо к ним. Потом остановился и повернулся спиной. Вот он достал из кармана сигареты, протянул стоявшему рядом белобрысому, но тот не взял, вытащил свои и что-то недружелюбно буркнул.
Онни выхватил из-за пояса пистолет. Казалось, он смеется, но глаза были как два холодных лезвия. Рука вытянулась прямо вперед.
Вяйнё тоже вытащил руку из-за спины. Он все время искоса следил, что делается во дворе, ему показалось, что в глубине двора появился и второй цыган, моложе Фейи, почти мальчик; не успел он приглядеться, как пьяный деревенщина наткнулся на умывальник перед уборной, и бумажные полотенца разлетелись по воздуху, какая-то девушка взвизгнула, парни стали сквернословить.
— Фейя! — крикнул Онни. Он хотел, чтобы Фейя увидел и понял, за что́.
Фейя быстро обернулся, сигарета выпала из его пальцев, рот открылся, словно он хотел крикнуть, а рука поползла в карман. Пистолет Онни звонко взвизгнул: риу! В воздухе вспыхнули желтые искры, показался дым, куда-то улетела гильза. Вяйнё понял, что он тоже должен выстрелить, рука его направилась туда же, куда была вытянута рука Онни, и он нажал курок. Выстрел прогремел мощно, как взрыв, волна от него ударила в стену и откатилась во двор.
Онни уже бежал к лесу, кусты на его пути трещали, мелькали белые манжеты рубашки. Вяйнё тоже бросился за ним, но успел заметить через плечо, что кто-то лежит на земле, а остальные рассыпались по двору, потом разом закричали — казалось, что кричит одно могучее животное, логово которого разворошили копьем.
— Сашка… домой, расскажешь…
Это были единственные слова, которые можно было разобрать, но и они прозвучали как-то странно, словно заржала лошадь, сломавшая ногу.
Ветки били Вяйнё по лицу, цеплялись за одежду и рвали ее — рука обо что-то стукнулась, и «Гаспар Арицага Эйбар» снова выстрелил. Но теперь звук был иной — как удар хлыста, в воздухе мелькнули осколки камня и мох. Пуля, видно, ушла в землю. Ногу Вяйнё пронзительно ожгло, но он не придал этому значения, а бежал все дальше во тьму, отталкивая преграждающие путь ветки, и не слышал уже ничего, кроме своего натужного дыхания.
3. АНТТИ-НОЛЬ-ТРИ
Харьюнпяа так сжал перекладину на уровне живота, что побелели руки, потом опустил правую ногу вниз — ну, еще, еще немного… Левое бедро оказалось уже почти на уровне рук, но тщетно: правая нога нашаривала только пустоту. А ведь перекладина-то есть, вне всякого сомнения, есть — всего на расстоянии нескольких сантиметров или даже миллиметров, но, чтобы уж точно в этом увериться, надо ее все-таки нащупать.
Карабкаясь вверх, Харьюнпяа не заметил, что расстояния между перекладинами такие большие. Минуту назад ему пришлось изо всех сил тянуться. А перед этим он чуть не ступил куда-то в сторону, мимо лестницы, и так испугался, что ткнул ногу в стену — нога оказалась между перекладинами, и он только чуть-чуть коснулся их каблуком. Оба раза сердце у него зашлось от мысли, что могло случиться: полы куртки взметнулись бы вверх, руки начали бы хватать пустоту — он стал бы невесом, в ушах засвистел бы ветер.
Он прижался к лестнице, стараясь успокоиться и подавить чувство страха, но в голове завертелись возможные заголовки и заметки завтрашних газет: «ПОЖАРНЫЕ СНЯЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО С ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ»… «„Кошек мне иногда приходилось снимать с дерева, но старшего констебля с пожарной лестницы — ни разу“, — признался начальник пожарной части…»
— Дьявол меня побери!
— …мо! …ийство!
Лестница дрогнула, сильно и угрожающе. Потом снова, несколько раз — кто-то внизу, видимо, тряс ее.
— …мо! …ийство!
Харьюнпяа понял, что крик адресован ему, что кричит Кеттунен, и, хотя слова доносились очень слабо, он догадался и о том, какое у Кеттунена дело.
В первый раз он поглядел прямо вниз: лестница как будто сужается, расстояния между перекладинами, казалось, становятся уже и уже, а под конец все сливается вместе и превращается в острое копье, устремленное во тьму, к асфальту; мусорные контейнеры выглядят маленькими, почти неразличимыми, точно грязные кусочки сахара, стоящий возле них микроавтобус напоминает перевернутую набок пепельницу. А Кеттунен — Харьюнпяа наконец различил и его — выделяется темным пятном у самой пожарной лестницы и глядит вверх, запрокинув голову так, что лицо его кажется эллипсом — ничего, кроме рта и крика:
— Тимо! Убийство!
Кеттунен размахивал руками, потом метнулся к машине — включил мотор и зажег фары. Видимо, чтобы поторопить Харьюнпяа.
Харьюнпяа обтер ладони, сначала одну, потом другую, стараясь крепче держаться за перекладину, опустил ногу — и тут только заметил, что он снова на уровне того окна, мимо которого недавно поднимался.
Теперь в комнате, казавшейся желтым шестигранником, горел свет. Он увидел стены, потолок и пол, ведущую куда-то дверь; женщина стояла у раковины, мыла и отжимала тряпку.
Харьюнпяа пришла в голову, может, и безумная, но, в сущности, совсем неплохая мысль: окно находится всего в каком-нибудь метре от лестницы, открывается с его стороны, и лестница прикреплена к стене как раз возле подоконника. Можно влезть в окно и спуститься по лестнице в доме — это будет гораздо быстрее, чем ползти по пожарной. Он дотянулся до стекла и постучал — женщина взглянула на окно, но, кажется, не заметила его. Харьюнпяа постучал снова — с такой силой, что стекло задребезжало.
— Откройте! Будьте добры, откройте!
Откуда-то донесся рев сирены — сначала одной, потом второй; Харьюнпяа приписал мелькнувшие синие молнии машинам с сиренами, но тут же понял, что это невозможно: машины шли по другую сторону дома. Он поглядел вниз. Кеттунен включил сигнальные огни. Странно было видеть их сверху. Они казались шаровыми молниями, делящими двор на сегменты, — при этом было похоже, что огни неподвижны, а двор, точно сумасшедшая синяя карусель, кружится вокруг них. Харьюнпяа заторопился.
— Откройте…
Кухня была пуста, женщина исчезла; только свет горел по-прежнему и из незакрытого крана в мойку текла вода.
Харьюнпяа набрал в легкие воздуха, будто собираясь нырнуть — выхода не было, придется спускаться так до самого низа. Началось бесконечное нащупывание одной ступеньки за другой, кряхтенье, ушиб за ушибом — рук, колен, голеней, а в голове неумолчно стучало: нельзя распускаться, надо держаться, нельзя сдаваться. Ноги обшарили пустоту; целую мучительную минуту Харьюнпяа висел только на руках, прежде чем вспомнил, что нижние перекладины спилены, и догадался отпустить руки — оказалось невысоко, но Харьюнпяа все-таки упал. С трудом поднявшись, он направился к машине, дернул дверцы и бросился на сиденье рядом с Кеттуненом.
— Что стряслось? — отдышавшись, спросил он. Во рту у него горело, руки болели, спина взмокла; он вдруг смертельно возненавидел Кеттунена. Шины взвизгнули, машина рванулась и юркнула в щель между домами — стены вспыхнули синим. Кеттунен хрипло крикнул:
— Антти-ноль-три!
Он вскинул руки и нажал на красный тумблер так, что хрустнуло.
— Оуу! — послышалось сверху, сначала приглушенно, словно неуверенно, потом вдруг так громко, что в ушах зазвенело: — Уй-уй-уй!
— Что?!
— Я же тебе сказал! Чего ты там высиживал? Я уж думал, ты с голубями снюхался и гнездо с ними на крыше вьешь…
Харьюнпяа расслабился и откинулся на спинку сиденья. Он не в состоянии был ни о чем думать. Уставился в окно и автоматически отметил, что улица перед ними хорошо просматривается — был четверг, будний вечер. И вдруг почувствовал радость, почти головокружительную радость от того, что жив, цел, сидит в машине и куда-то зачем-то едет. Ненависть к Кеттунену прошла, может быть, это вообще была ненависть не к нему, а к тому, на что Кеттунен его толкнул. Вслед за тем он почти с облегчением подумал, что предстоящее дело, какое бы оно ни было, не придется расследовать подразделению Норри — сам Харьюнпяа был на дежурстве просто как помощник, — дело, скорее всего, попадет к Кандолину, который только что перешел из отдела грабежей в отдел насильственных действий и был в эту ночь дежурным комиссаром.
Кеттунен свернул на улицу Нурденскьёльда и остановился перед трамвайными рельсами. Пальцы Харьюнпяа нащупали на сиденье экземпляр донесения, брошенный туда, видимо, в спешке. Он развернул бумагу. Это был перечень поручений, данных по рации: «А-0-3 — убийство, новое, убийца где-то поблизости».
— Что, собственно, случилось? — удивился он, чувствуя себя одураченным. — И где?
— На Малом пороге. Ты что там отсыпался, что ли?
Харьюнпяа открыл было рот, но прикусил язык, сделал глубокий вдох и крикнул так, что перекричал даже сирену:
— Я боялся! Я до черта боялся свалиться вниз!
Кеттунен бросил взгляд на Харьюнпяа, быстрый и какой-то досадливый, как на человека, напившегося в неподобающем месте, потом повернул машину на Паровозное шоссе и, только выехав на прямую дорогу, сказал:
— Там скверная история с выстрелами. По крайней мере двое убитых. Раненых бог знает сколько. Это зал для танцев — злодеи явились во двор и, не глядя, стали палить во все, что шевелится.
Харьюнпяа ничего не ответил, только чуть крепче налег на подлокотник. Машина неслась, подминая под себя дорогу. Сирена выла. Звук был то выше, то ниже. Они ехали по тому же маршруту, которым обычно возвращались из центра в Полицейское управление, но на этот раз не поднялись на улицу Пасила, а продолжали ехать вдоль пристанционных путей. Из рации донеслось оповещение, и Харьюнпяа увеличил громкость.
— …стреляющих было двое, они скрылись в ближайшем лесочке и, может быть, попытаются выбраться через него в центр. Обоим лет по двадцать — двадцать пять, оба цыгане. Одеты…
— Цыгане! — охнул Кеттунен. — Следовало догадаться! У кого еще хватит идиотизма стрелять в толпу… в невинных… забавы ради…
— …под ними светлые шерстяные свитеры или рубашки. Тот, который пониже, обут в сапоги, во что другой — неизвестно. Оба вооружены и опасны… убегая, продолжали стрелять из леса… Повторяем для всех групп захвата…
— Господи, хоть бы не попались нам навстречу! — сказал Кеттунен, сжав зубы. — Я не знаю, что… Эти цыгане просто ненормальные, до того подозрительные, что готовы уложить всех встречных, если им покажется, что среди них есть враг…
Кеттунен еще некоторое время что-то бормотал, потом оторвал одну руку от баранки, отвел полу куртки, вытащил пистолет и опустил его на сиденье. В свете мелькавших уличных фонарей нержавеющая сталь поблескивала тусклой синевой. Харьюнпяа вспомнил о своем оружии. Оно все еще лежало в ящичке, куда он его положил, направляясь к пожарной лестнице; это был обыкновенный темный «Смит-Вессон», который ему выдали, чтобы в обществе сохранялись спокойствие, закон и порядок. Стоя на страже этих ценностей, он пристрелил им попавшую под поезд собаку.
Слева промелькнуло Полицейское управление. Перед ними появился «сааб» оперативного отдела. На его крыше тоже мелькали сигнальные огни, но звук сирены тонул в реве их собственной. Харьюнпяа тревожно потер подбородок: «сааб» шел от Полицейского управления — это означало, что даже группы, находящиеся на отдыхе, были отправлены на задание, следовательно, дела на Малом обстоят хуже некуда. Вскоре перед ними показалась еще одна сигнальная лампа. Она, наверно, принадлежала какой-нибудь «ладе» из криминальной полиции. Харьюнпяа хотелось, чтобы в машине оказался Кауранен, старший дежурный отдела насильственных действий.
По рации почти без перерыва поступали сообщения:
— …принял и докладывает, что Миккольское шоссе перекрыто.
— Со стороны Рябиновки кто-нибудь есть?.. Полицейское управление спрашивает, есть ли кто со стороны Рябиновки?
— Три-пять-два находится на Кладбищенском холме…
— Надо перекрыть пешеходную улицу Военного управления с западной стороны Рябиновки.
— Понятно…
— Шесть-один! Вызываем шесть-один!..
— На шоссе Церковного настоятеля путь перекрыт. Управление, слышите меня?
— Черт побери! — воскликнул Кеттунен. — Окружают весь район!
— Верно, — буркнул Харьюнпяа, и рот у него точно одеревенел. — Только успеют ли охватить достаточно широко?
Беспокойство Харьюнпяа нарастало, по опыту он знал, что направление к месту преступления слишком большого количества групп часто не приводит к добру — вполне может произойти так, что по-настоящему руководить действиями никто не будет: одни приказы прозвучат по нескольку раз, а другие — самые нужные — ни разу.
По Шишечной улице все три машины — «лада», «сааб» и микроавтобус — ехали друг за другом. В окнах домов черными силуэтами, словно вырезанными из картона, появлялись люди. На улицах останавливались любопытные, а ребятишки стайками бежали в сторону Малого порога.
— Вон они! — крикнул вдруг Кеттунен, согнулся, точно в него чем-то попало, и затормозил — машина со скрежетом ткнулась в край тротуара, и Харьюнпяа так стукнулся о щиток, что охнул.
— Один из убийц вон там, во дворе, — бросил Кеттунен.
Пистолет был у него уже в одной руке, другой он пытался открыть дверцу.
Харьюнпяа схватил его за рукав.
— Где, черт побери?
— За той зеленой оградой целая компания, я еще издали их заметил… Позади всех — черноволосый парень, цыган. Когда «лада» подошла, он опустился на корточки и спрятался за другими… При виде «сааба» — тоже, потом опять встал… а когда мы подъехали, он снова спрятался…
Кеттунен говорил быстро, рывками, время от времени касаясь дула пистолета.
— Погоди-ка…
— Нет! Пошли! — крикнул Кеттунен и вырвал руку, за которую его удерживал Харьюнпяа. — Сейчас же захватим убийц. Не позволим им потешаться, что ищейки проехали мимо…
— По-моему, умнее…
Кеттунен не стал слушать. Он распахнул дверцу и выскочил из машины. Харьюнпяа схватил микрофон:
— Управление! Управление! Слышите Калле-Юсси-единичку?
Его голос утонул в других голосах, не дошел по назначению: ему не ответили.
Кеттунен, пригнувшись, уже крался по улице. Харьюнпяа бросил микрофон, схватил свое оружие и распахнул дверцу — он не мог позволить Кеттунену идти одному. В голове у него мелькнуло, что на заднем сиденье лежат бронежилеты — но теперь их поздно доставать и напяливать, Кеттунен уже притаился у живой изгороди. Харьюнпяа направился следом за ним. В голове его вертелась мысль, что они поступают так, как ни в коем случае не следует поступать: у беглецов есть оружие, они опасны — и они с Кеттуненом выбрали самый верный путь, чтобы увековечить свои имена на белой мраморной доске полицейского училища.
— Кеттунен!
— Они там, вон как гогочут… Не дадим им опомниться, самое лучшее — захватить врасплох… Я заскочу вон в те открытые ворота, а ты подстрахуешь…
Из-за кустов виднелся свет и доносились голоса, слов было не разобрать. Кто-то смеялся. Что-то с досадой сказал мужской голос. Любопытные на улице уставились на полицейских, но, чуя опасность, держались поодаль. Сирен «лады» и «сааба» больше не было слышно.
— Там и женщины есть, — шепнул Харьюнпяа; сердце у него дробно стучало, он чуял, недоброе, подозревал какую-то ошибку.
— Как не быть женщинам, если убийца тут и живет. У цыган всегда хорошие дома. Тимо, пошли!
Кеттунен шагнул вперед, повернулся и оказался в воротах. Вот он уже стоит, расставив ноги, чуть согнув колени и вытянув вперед руку, крепко сжимает оружие.
— Не двигаться! — крикнул он. — Всем — ни с места!
Харьюнпяа вышел из-за его спины, шагнул мимо него, оказался на лужайке и увидел: наружная дверь дома открыта, дверь из прихожей в комнату — тоже, там в одиночестве работает телевизор. Во дворе стоят: мужчина средних лет, женщина без чулок, в домашнем халате и девушка лет двадцати с парнем — эти влюбленно обнялись. Кроме них — мальчик с круглыми от испуга глазами. Все — светлокожие. Они как раз собирались подойти поближе к живой изгороди, чтобы разглядеть микроавтобус, который стоял с раскрытыми дверцами, бросая синие лучи на столбы и стены.
— Господи помилуй!
— Что?.. Кто?
— Не волнуйтесь! — крикнул Харьюнпяа. — Криминальная полиция.
— Кто прятался от полицейских машин? — строго спросил Кеттунен, все еще не догадываясь опустить пистолет. — Кто это был?
— Что я тебе говорила, Яни…
Мальчик вышел вперед, вернее, его вытолкнули. Волосы у него были темные, при свете уличных фонарей почти черные. С трудом сдерживаясь, чтобы не разреветься, он едва выговорил:
— Я играл…
— Верно. Яни просто валял дурака. Мы сидели у телевизора, когда услышали сирены. Из любопытства вышли поглядеть — столько машин, одна за другой… Честное слово, Яни ничего не сделал.
— О’кей! — сказал Харьюнпяа и повернулся. Его ожгла досада, словно оса ужалила. Он побежал к машине, услышав еще, как Кеттунен читает наставления:
— …чтоб это было в последний раз… нашел время играть… рядом целую кучу людей пристрелили…
Вокруг микроавтобуса стояли люди, кое-кто из молодежи протиснулся вперед.
— Кого-нибудь пристрелили?
— А что вы там делали? Остальные уже уехали. В кустики приспичило?
Харьюнпяа влез в машину и захлопнул дверцу. Потом подошел Кеттунен, потный и задыхающийся, сел, ни слова не говоря, за баранку и дал газ. Сирену он больше не включал. Прошло некоторое время, прежде чем он нашел в себе силы выругаться:
— Идиоты! Будто у нас других дел нет, еще и за этими щенками следить…
— Н-да…
— Что «н-да»? Нечего зубы скалить, подозревать — наш служебный долг… И, между прочим, я читал в одной газете, что страх высоты — вовсе не страх. Это болезнь честолюбцев, которые стремятся к тому, на что не способны… За славой гонятся.
— Оставь.
— Иди ты на фиг!
Они проехали мимо полицейского мотоцикла, стоящего на Малопорожском шоссе, поднялись на вершину холма и помчались вниз — асфальт кончился, и в дно машины застучал гравий. Справа мелькнули пляж и река. Потом они очутились в лесу, за городом. По обе стороны песчаной дороги, почти запрудив ее, стояли машины. Какие-то люди бежали в ту сторону, куда ехали полицейские, другие — им навстречу, кто-то махал рукой, чтобы они проезжали; на камне сидела девушка в белом платье, мужчина пил из бутылки; наконец за деревьями показалось светлое строение. Вокруг него стояли полицейские машины и машины «Скорой помощи», слышался рев сирен, и казалось, что весь лес охвачен голубым пламенем.
4. САШКА
Состязаясь со смертью, оставалось только бежать: чумп-чумп-чумп… И прерывающееся дыхание, и улица, качающаяся под ногами. И сердце, которое колотится, и разъедающий глаза пот. И страх, что вот они сейчас выскочат, схватят его и закричат:
— Сашка!
Он был еще жив. Он не умрет… Не должен…
Сашка ускорил бег, хотя ему было уже совсем плохо. Он добежал до улицы Наместника — большой, яркой, с мчащимися по ней машинами. Здесь он осмелился оглянуться — никто его не преследовал, полицейских машин не было видно. И все-таки все висело на волоске. Вдруг появилась машина с синей мигалкой, Сашка бросился в заросли живой изгороди, машина проехала мимо — но чуть дальше остановилась, погасила огни и стала караулить. Плоскостопые ждали Вяйнё и Онни. Хотя откуда им знать, что стреляли именно эти — за здорово живешь они могут схватить и его, Сашку, хотя Фейя — его родной брат.
Выбиваясь из сил, Сашка добежал до перекрестка и свернул направо по главной магистрали. На минуту мелькнула мысль, что здесь он лучше защищен, но тут же пришла другая: это не так — слишком много белобрысых его видело. Им хватит того, что цыган бежал — Сашка шкурой чувствовал, как они всегда готовы свалить на него любую вину, а уж теперь, в темноте, почти ночью, тем более. Они заранее уверены: он что-то натворил, — и тут же позвонят плоскостопым. Надо добраться до дому. Как можно скорее. Хорошо бы поймать такси.
Только теперь Сашка вспомнил. Дрожащими пальцами он расстегнул ворот и вытащил цепочку. На ней висел маленький золотой крестик, полученный от матери — Хулды; он зажал его в кулаке и торопливо продолжал путь, держа руку на шее.
— Господь всемилостивый, пошли мне такси…
Хулда много раз говорила, что Бог помогает человеку. Но никогда ничего такого с Сашкой не случалось. После смерти Манне, три с лишним года назад, Хулда стала немножечко того, он хорошо помнил отца, ему было тогда тринадцать. Бог поможет и дозволит свершиться только тому, что человеку положено, — так говорила теперь Хулда.
Но Фейю все-таки застрелили.
Когда раздался выстрел, Сашка был на другом конце двора и сразу все понял — ведь им столько раз угрожали. Стрелявших он не видел. Только Фейю — он попытался метнуться куда-нибудь в безопасное место, но не смог, упал. Сашка хотел подбежать к Фейе. Но все бросились навстречу ему, толкались, орали и давили, словно обезумевшие животные.
— Сашка, иди домой, расскажи, — еле выдохнул Фейя, задыхаясь от боли и пытаясь вытащить из заднего кармана пистолет, чтобы отдать брату. Но не смог — сил не хватило. И Сашка тоже не смог взять, потому что подошли белобрысые.
— Это были Вяйнё и Онни, — совсем тихо сказал Фейя. — Из семейства Кюести, Вяйнё — его сын… знай это, Сашка… — Больше он ничего не сказал, только смотрел на него черными, мягкими, точно бархатными, глазами, на его шерстяном свитере появилось вдруг у груди красное пятно, которое все расплывалось и расплывалось, а Фейя уже неподвижно лежал на спине.
— Фейя!..
На глаза у Сашки навернулись слезы. Фейя лежал такой одинокий и такой израненный. Он был замечательным братом, ведь именно он объединял их всех, хотя Хулда и считает, что это их с Калле заслуга. Но они уже старые, пусть себе так и думают. Фейя им и Злючку купил — как с ней теперь быть? Кто ее отремонтирует? А когда у него хорошо шла торговля, он, бывало, плеснет Старине Калле вина в кружку с кофе, и потом они поют какую-нибудь цыганскую песню.
Что сказала бы Хулда? И Калле? И Орвокки — тем более что она опять в положении, хотя это еще и не заметно. Ноги Сашки молотили землю, сердце билось, в горле свистело.
Такси! Оно еще далеко, но едет сюда, и на крыше горит желтый огонек — значит, свободно. Сашка выскочил на середину мостовой и дико замахал руками, всхлипывая от облегчения. Это был красный «мерседес», он приближался. Водитель заметил Сашку, зажег сигнальную лампочку и подъехал к обочине. Сашка подбежал к машине. Открывая дверцу, водитель согнулся. Сашка схватился за ручку.
— Погоди-ка! — сказал таксист, и Сашка понял, что он разглядывает его, заметив, как Сашка вспотел и как тяжело дышит. Это был молодой парень со светлыми усами, прыщавый. Вдруг лицо его приняло новое выражение — такое, какое у них всегда бывает, когда они видят цыгана, — казалось, он надел маску, глаза стали какими-то рыбьими. Он даже не дал открыть дверцу. — Чего тебе?
— Подвезите!
А чего это у тебя такой вид, точно ты от кого-то удираешь? Натворил чего?
— Нет, нет, боже упаси! Мне просто домой надо!
Сашка стал нетерпеливо перебирать ногами, не в силах успокоиться, руки его тоже двигались, стараясь открыть дверцу.
— Не дергай, приятель! Признавайся — чего натворил?
— Ничего. Добрый господин водитель, мне надо ехать, я ужасно тороплюсь…
— А деньги у тебя есть?
— Есть. Нет… они остались у Фейи. Но Хулда заплатит, когда мы приедем, она обязательно заплатит, поверьте, добрый господин водитель…
— Как же — Хулда заплатит, а Аллан даст моей лошадке сена… Пардон, у меня уже есть заказ.
— Неправда! У вас огонек горит и счетчик не включен…
— Промой уши, парень. Я сказал — у меня заказ.
Водитель захлопнул дверцу, и Сашка едва успел отдернуть пальцы. Он снова схватился за ручку, но таксист нажал на кнопку — дверной замок щелкнул, потом он погасил огонек и включил счетчик.
— Я нуждаюсь в помощи! Фейю застрелили… они и меня поймают!..
Сашка держался за ручку и стучался в стекло, он побежал рядом с машиной. Водитель прибавил газ, машина набрала скорость, Сашка споткнулся, руки обожгла боль, и он шлепнулся посреди мостовой. Такси удалялось, оставляя за собой шлейф черного дыма.
На другой стороне дороги остановилась зеленая «шкода». В ней сидели мужчина и женщина, они с удивлением смотрели на Сашку, но из машины не вышли. Сашка с трудом встал на ноги и захромал в сторону «шкоды»; колено саднило, но хуже всего было ладоням — асфальт оставил на них множество ссадин. Водитель опустил окошко.
— Вы видели? — всхлипнул Сашка.
— Да нет. Мы остановились посмотреть, что там с такси непонятное… Случаются ограбления…
— Вы заметили его номер?
— Не обратили внимания. Ни к чему было… не хочется впутываться.
— Пекка, поехали! — вмешалась женщина.
— Ну ладно, не так уж это важно, — вздохнул Сашка, почувствовав вдруг страшную усталость. — Будьте добры, отвезите меня на Козью гору. В переулок Мадетоя, совсем рядом с вокзалом…
— Пекка! Я боюсь…
— Нам в другую сторону. Мы сворачиваем на следующем перекрестке. Как-нибудь в другой раз…
Сашка ничего не сказал. Он заставил свои ноги побежать, но бежал с трудом, задыхаясь и, как ни старался, двигался медленно. «Шкода» проехала мимо него, перекресток она миновала — ее задние огни понемногу уменьшались, пока совсем не исчезли вдали.
Сашка прислонился к двери. Он почувствовал запах дома — знакомый, успокаивающий, и ему вдруг показалось, что он никуда не уходил и ничего не случилось; но тут он снова все вспомнил. Ему захотелось крикнуть: «Фейю убили!» — но он сдержался: это было бы постыдно, не по-мужски, да и вообще нельзя — дети проснутся и поднимут рев.
В ванной кто-то был. В дверную щель пробивался свет. Слышался плеск воды и мурлыкающее пенье — это, наверно, Орвокки, должно быть, стирает, не успела раньше — Хулда ей не позволяла. Но почему именно она? Почему бы ей уже не спать?
На кухне тоже не спали — там горела маленькая лампочка. Луч света освещал спящего Алекси и Сашкину постель, уже приготовленную на полу рядом с Алекси. Из кухни донесся вздох, скрипнули ножки стула — это не спала Хулда. Сашка двинулся с места. От облегчения, что добрался до дому, что Хулда не спит, он едва не расплакался. Проглотив слезы, он остановился на пороге кухни.
Хулда, одетая, сидела за столом. Она уже расстелила свой топчан, убрала иконки и, вынув шпильки, расплетала косы; в ее волосах было больше седины, чем черноты. Она не смотрела на дверь, но услышала Сашку.
— Хулда, я должен вам рассказать…
Хулда смотрела сердито — она не любила, когда он заходил без стука, если она собиралась спать. Впрочем, нет — просто он забыл о своих руках, надо их помыть. Хулда знала, что в ванной Орвокки и что он не может пойти туда. Сашка подошел к мойке, открыл кран и потянулся за полотенцем.
— Ты что? Это мое личное полотенце! — вспылила Хулда. — Господи помилуй…
— Простите, Хулда, прости… — У Сашки не было больше сил сдерживаться, лицо его сморщилось. — Фейя! — всхлипнул он. — Они стреляли в Фейю!
— Нет!..
Хулда поднялась со стула и замерла посреди кухни. Лицо ее стало серым. Она не хотела верить, но уже верила страшному известию. Оно сразило ее так, будто это в нее стреляли, а не в Фейю.
— Нет!.. — Она снова села. Ее руки упали на стол, пальцы сжались в кулаки. Она закричала, точно ее душили: — Нет! Нет!
Алекси повернулся на своей постели. В задней комнате запищали малыши.
— Хулда, не надо. Хулда, дорогая…
На кухню приплелся Лустиго. Царапая когтями пол, пес завыл, словно понял: случилось что-то нехорошее. Потом в дверях показалась Орвокки. На ее побледневшем лице застыл немой вопрос, но было видно, что она уже догадалась, в чем дело.
— Он умер? — прошептала она.
— Не знаю… Он был еще жив, когда я побежал, он велел мне бежать домой.
— Где это случилось?
— На Малом пороге… на танцах…
Орвокки ничего не сказала — она ничего не сказала, хотя они соврали ей, что идут смотреть скачки, она знала, что Фейя не станет таскаться за другими женщинами. Ее лицо медленно исказилось, точно у нее заболело вдруг сердце, она схватилась за косяк и согнулась, словно оберегая дитя, которое еще не появилось на свет. Алекси стоял теперь в дверях, испуганный и растрепанный после сна, старшие девочки тоже были уже на ногах и, всхлипывая, топтались в ночных рубашках за спиной Орвокки — они всё слышали. Малыши с раскрасневшимися лицами протиснулись в кухню между ног старших, заревели и стали дергать Орвокки за платье, Лустиго выл, потом залаял, а Хулда раскачивалась на стуле, как заведенный механизм, и причитала, не закрывая рта. Все вдруг поняли, что их прежняя жизнь кончена, одна из ее частей утрачена навсегда и всем им угрожает что-то страшное, более беспощадное, чем раньше.
Сашка направился было к Орвокки, повернулся, посмотрел на Хулду и остановился, наткнувшись на край мойки. Он знал, что Фейя сумел бы двумя-тремя словами заставить всех замолчать, но Фейи нет, Фейя лежит где-то окровавленный, его трогают чужие руки и что-то с ним делают. Сашка чувствовал, что его душит отчаяние. Не в силах больше сдерживаться, он крикнул:
— Я их всех убью!
Он метнулся к ящику с ножами и рванул его. Но сестры, Орвокки, даже Алекси бросились к нему:
— Нет, Сашка!
— Я их убью!
— Не надо… ты знаешь, чем это кончается…
Они держали его за руки, за рубашку. Мишка колотил его маленькими кулачками по затылку. Половик сбился, ящик с ножами и вилками упал на пол.
— Уберите кто-нибудь подальше финский нож!
— Я…
— Нет, Сашка, ты нам теперь нужен…
— Нет, нет…
Потом все умолкли. Один за другим они отпустили его и стояли, тяжело дыша. Хулда встала. Она больше не плакала. Ее лицо стало каменным, словно скала, неведомо откуда появившаяся у них в кухне.
— Кто это сделал? — спросила она тихо.
— Сыновья Кюестиной Руусы.
— Севери и Вяйнё?
— Вяйнё и Онни.
— Та-ак…
Больше Хулда ничего не сказала, да этого и не требовалось. Девочки перестали всхлипывать, Орвокки увела малышей в заднюю комнату, где их плач постепенно затих. Казалось, воздух вокруг стал вдруг хрупким и острым, словно стекло, требующее крайней осторожности в обращении. Все поняли, что должны теперь еще крепче держаться друг друга и не сдаваться.
— В чем дело? Хулда, в чем дело?
Это кричал Старина Калле. Его крик доносился приглушенно — он единственный имел свою комнату, и дверь в нее была закрыта.
— Придется ему рассказать, — решила Хулда. — И спросить совета — что теперь делать…
Остальные молчали, потом закивали головами: хоть Калле уже немного не в себе, но все-таки он умен, этот старый, мудрый человек. И Хулда вдруг будто проснулась.
— Девочки! — воскликнула она. — Вы это в каком виде, бесстыдницы! Алекси, сей момент марш прибираться, и нечего тут… Поправь половики. Ты, Хелли, соберешь ножи с пола и помоешь…
Хулда заметалась по комнате, прибирая вещи и застилая постели, ее негромкое брюзжание ни на минуту не прекращалось, но слушать его было скорее приятно, чем досадно — оно помогало чувствовать, что жизнь продолжается.
— Орвокки, пускай Хилья присмотрит за твоей малышней, а ты садись за телефон. Позвонишь в больницу, спросишь, куда они его отвезли. Не умеешь мужа возле себя удержать… гоняешь его по танцулькам… известно, чем это кончается…
Потом они вышли в прихожую и постучали в дверь Калле — его комната не имела окон и была, собственно говоря, кладовкой, но, когда оттуда убрали вешалку и полки, она стала просторнее. В кухне Калле нельзя было устроить, потому что дети да и все остальные постоянно там толклись — он думал бы, что его уже никто не уважает, раз ему не дают покоя.
— А?
Старина Калле лежал в постели, маленький, сухонький, словно птичка, и щурил глаза от света. Подбородок его зарос серебристой щетиной, в руке он держал карманные часы, точно боялся, что кто-нибудь их украдет. Сашка наклонился к нему поближе.
— В Фейю стреляли. Но, может, он еще жив.
— А?
— Сыновья Кюести стреляли в Фейю. В старшего сына вашего Манне.
— Да, Манне был мужик что надо. Он убил Кюести.
Орвокки каким-то совсем чужим голосом говорила в комнате по телефону:
— Нет, я не об этом… Но куда его увезли? В какую больницу? Почему? Почему не можете сказать? Да, да, я его родственница… Я прошу вас, скажите, куда его увезли… Не надо…
— Это бессовестно — стрелять из пистолета, — сказал Калле, — теперь ни у кого уже никакой чести нет…
Он снова опустил голову на подушку и закрыл глаза, точно уснул посреди фразы. Но когда все повернулись, собираясь выйти, он выкрикнул на удивление резко:
— Кто завтра поедет продавать картошку? Мне, что ли, придется? И куда машина-то делась? Фейя вечером говорил, что поедет на машине, хоть она и полна картошки.
— Не беспокойтесь, Калле! — сказала Хулда. — Постарайтесь уснуть. Я погашу свет. А как услышу о Фейе — приду рассказать.
— А?
— Постарайтесь уснуть.
— Где машина? — спросила Хулда, закрывая дверь. Голос у нее был сердитый и губы сжаты. Потом, точно вдруг что-то вспомнив, она опустила голову, разглядывая руки, и сказала совсем другим тоном: — Я к тому, что надо ее домой пригнать. Чем еще завтра заработаешь? Деньги-то все в картошку вложены.
— Машина на Малом пороге. Пригнать ее?
— Та-ак…
Хулда повернулась и зашаркала к кухне. В сущности, она оставила вопрос без ответа. Сашка стоял один в прихожей. Сначала он думал о машине и о картошке — они там, на темной стоянке между танцзалом и железной дорогой, в кустах. А Вяйнё и Онни — где они? Плоскостопые, наверно, все еще там. Но они не знают, что это их машина, и не догадаются устроить в ней засаду. Он сумел бы ее завести, хотя у него и нет ключей, Фейя не раз показывал ему те концы, которые надо соединить. Потом Сашка стал думать о Хулде, как она держится, и вдруг вздрогнул, пронзенный новым ощущением — он стал взрослым в один миг, сразу и окончательно, его уже нельзя отчитывать; Фейи нет, а Старина Калле не в счет. От этой мысли Сашка невольно прислонился к стене — он не знал, как обо всем позаботиться.
— Они не сказали! — жалобно говорила Орвокки. — Может, его никуда и не увозили… Может, Фейя…
— Молчать! — вспылила Хулда. — Ты, Алекси, останешься приглядывать за Калле. Дверь открывать никому не смейте! И никуда не ходите. Понял? А вы все, быстро обуваться! Орвокки, вызови такси… Если понадобится, все больницы объедем, где-нибудь найдется.
И вот Хулда уже в прихожей — большая, смуглая, ищет руку Сашки.
— Возьми-ка…
Это деньги. Новые купюры, еще гладенькие, настоящие деньги, те, которые спасают и помогают, — Хулда достала их откуда-то из тайника, где они были припрятаны на черный день.
— И это тоже.
Сашка вздрогнул. В другую руку Хулда сунула ему пистолет — холодный, тяжелый, пугающий — особенно потому, что его дала Хулда. Он не мог толком разглядеть оружие и боялся, что не сумеет им воспользоваться. Его вдруг стала бить дрожь.
— Вы хотите, чтобы Вяйнё и Онни… чтобы я?..
Хулда не сразу ответила. Они оба молчали. Сашка понял, что внутри у матери все плачет, что она едва держится на ногах, но притворяется сильной, чтобы выдержали остальные.
— Нет, — шепнула наконец Хулда. — Но гляди в оба. Онни такой, он на все способен… только Бог их все-таки покарает…
— Может, сказать плоскостопым, что это они?
— И думать об этом не смей! Такого позора мы на себя не возьмем. Сами позаботимся о своих делах — белобрысым на нас наплевать. А свяжешься с ищейками — пропадешь.
5. МАЛЫЙ ПОРОГ
— Подумайте спокойно, — сказал Харьюнпяа со всей мягкостью, на какую только был способен. И так как женщина уже не плакала (видимо, подействовал укол), он решил продолжить: — Постарайтесь вспомнить, стоял ли он у окна еще до первого выстрела? Или подошел только после того, как раздался выстрел?
— Нет… Нет…
Женщина, закрыв лицо руками, снова автоматически закачала головой.
— О’кей! Остановимся, — вздохнул Харьюнпяа.
Он и женщина находились в маленькой кухоньке за буфетом. Из буфета не доносилось никаких звуков — наружную дверь охранял констебль из полиции нравов. Зато из танцевального зала отчетливо слышались растерянные голоса собранных там свидетелей, а с улицы — возгласы, торопливые шаги, новости, передаваемые транзисторами, и треск заводимых мотоциклов. То и дело кто-нибудь распахивал дверь в кухню, ведущую прямо со двора, и испуганно извинялся:
— Простите…
— Можно пригласить Мононена?
— Собаки вернулись — следы кончаются на пляже. Сказать, чтоб еще поискали?
— Полицейское управление выясняет, можно ли разобрать запруду.
— Послушай, Харьюнпяа, а кто руководит наружными поисками?
Харьюнпяа научился размышлять, не обращая ни на что внимания. У него уже сложилось общее представление о случившемся, но ему казалось, что сейчас очень важно получить показания этой женщины. Он снова посмотрел на нее. Ему хотелось встряхнуть ее или просто прикоснуться к ней, чтобы между ними установилась хоть какая-нибудь связь. Но он остерегался сделать это, потому что женщина была вся в крови — руки, одежда, даже волосы. Кровь пробовали оттереть бумажными полотенцами, но безуспешно. Это была чужая кровь. Врач обследовал женщину и не нашел на ней ни царапинки — это была кровь убитого, который лежит на полу в буфете, — Харьюнпяа едва успел на него взглянуть.
Наружную дверь снова с силой распахнули, и в кухню с шумом ввалился присланный на подмогу Турман, второй сотрудник технического отдела. В руках он держал тяжелый следственный портфель, брови были недовольно сдвинуты. За ним с камерой на шее вошел Кеттунен.
— Расследование на улице ни хрена не дало, — буркнул Турман и заметил женщину. — Извиняюсь… Черта лысого там разберешь, все уже затоптали медики, всякие зеваки и по крайней мере полсотни полицейских — а им как раз надо было следить за тем, чтобы туда никто не ходил…
Он посмотрел на женщину сощуренными глазами, но даже бровью при этом не повел.
— А гильзы? — спросил Харьюнпяа.
— Ни одной. Мы все обшарили…
— У них были револьверы, — вставил Кеттунен.
— Засунь свой револьвер знаешь куда… Извиняюсь. Тот свидетель, которого Кауранен допрашивал, стоял метрах в пяти — это вообще-то офицер, — и он уверен, что стреляли из пистолетов. Гильзы, конечно, втоптали в землю, по крайней мере сантиметров на пять. Я отметил место, его надо основательно прочесать металлоискателем. Больше я ничего не мог сделать, только сфотографировал. Мертвяк-то здесь или нет?
Харьюнпяа предостерегающе поднял руку, встал и наклонился к женщине:
— Если можете, подождите еще минутку…
Он открыл дверь в буфет.
Все втроем остановились на пороге. Помещение не было особенно большим — метра три в ширину и десять в длину. Оно выглядело мрачно, как многие буфеты. Половицы стерты, из них торчат сучки. На стенах старые рекламы взбадривающих напитков, теперь уже выцветшие и засиженные мухами, на маленькой полочке — переходящий приз, который когда-то выиграло содержащее заведение общество. На столах помятая посуда разового употребления и переполненные пепельницы. В воздухе — густой, тяжелый запах крови.
— У-ух! — мотнул головой Турман.
— Медицинская экспертиза будет? — выдохнул Кеттунен.
— Нет. Мы и так знаем, что случилось и почему наступила смерть. К тому же ее констатировал и врач «Скорой помощи».
— Да уж это-то и без врача понятно.
Справа в стене было маленькое оконце, разделенное переплетом на четыре части. В верхнем углу нижнего стекла виднелось отверстие от пули — правильное и круглое, словно украшение; все четыре стекла, стены, стулья и столы испачканы уже потемневшей и высохшей кровью — больше всего крови было на полу, там, где лежал покойник.
— В сонную артерию, что ли? — спросил Турман.
— Да. Когда влетела пуля, он стоял у окна и смотрел на улицу. Потом повернулся направо — как-то вот так, это видно по следу, и попытался добраться до двери. Он свалил вон тот стол и схватился за стул…
— Ужасный конец, — тихо сказал Кеттунен. — И зачем только глазеть в неподходящее окно в неподходящее время!
— Вполне благопристойное место по сравнению со многими другими, — бросил Турман и прошел в глубь помещения.
Харьюнпяа ничего не сказал. Он вспомнил слова врача судебной экспертизы, объяснявшего когда-то, что из поврежденной артерии кровь хлещет почти метровой струей и с огромной силой, пострадавший сначала все понимает и пугается, но потом мозг лишается крови, и человек мгновенно теряет сознание. Они оба правы — и Кеттунен, и Турман.
— Пуля прошла через затылок…
Турман, склонившийся над трупом, быстро выпрямился. Он отошел к задней стене, достал лупу и стал изучать выбоину в штукатурке, смекнув, что беспорядок в помещении не имеет значения, а в техническом отношении важнее всего найти пулю.
— Тут тоже ничего, Тимппа. Это брандмауэр. Пуля ударилась немного плашмя и отскочила куда-то в комнату. Может, она где-то под всем этим, а может, рассыпалась на мелкие кусочки. Тут, на месте удара, прорва свинцовых крошек…
Харьюнпяа и Турман посмотрели друг на друга: они знали, как важно установить тип оружия — в случае, если бы преступники были пойманы и оружие найдено, но, кажется, они потеряли обе возможности — не нашли ни пули, ни гильзы.
— Попробуем все-таки?
— А что нам еще остается? — Турман не сдержал безнадежного вздоха. Но потом в его голове мелькнула какая-то мысль, и он кивнул в сторону окна: — В этом окне двойные стекла.
Харьюнпяа не понял.
— Значит, пуля пробила оба.
— Да.
— Черт побери — «да», «да»!.. Надеюсь, вы не братья с Кеттуненом? Двор ниже окна. Пуля должна была пролететь немного вверх, и дырки в стеклах должны находиться на разных уровнях. Если же смотреть через них во двор, то они на одной линии.
— О’кей! Продолжай.
— Значит, место, откуда стреляли, там, и там я найду эту гильзу. Снимай, снимай, Кеттунен. Нам нужны фотографии. Потом мы немного порисуем и осмотрим этого молчальника… А тебе, Тимппа, не пришло в голову, что если дело обстоит так, то они охотились именно за этим парнем? Хоть он и нашей породы. И что тому цыгану во дворе подбили крыло совершенно случайно?..
Харьюнпяа кивнул в сторону кухни.
— Об этом я и хочу дознаться у той женщины. Мужик подцепил ее в самом начале вечера, и они все время были вместе, и, когда это случилось, она тоже была здесь.
— Просто мне пришел в голову такой вариант. Хотя наоборот — логичнее.
В дверях буфета появился Кауранен с исписанным блокнотом в одной руке и карандашом в другой. От раздражения и досады в уголках губ у него залегли складки — после разговора с десятками свидетелей голова шла кругом. Из-за его спины выглядывал находящийся на дежурстве Тийликка.
— Хедман, наверно, выживет, — начал Кауранен. — Пуля прошла между грудью и кишечником. Врач…
— Господи! — вырвалось у Тийликки. — Точно на живодерне!
— …был уверен, что легкие не задеты и крупные сосуды, видимо, тоже. Внутренности — другое дело. Но если он везучий… Его доставили в больницу и сразу приступили к операции.
— Ты успел его допросить?
— Узнал только, что преступники ему незнакомы. Вернее, он утверждал…
— Почему это невинные вечно страдают больше всех? — сказал Тийликка. — Вот и тут — помер бы тот красавец, а этот остался бы жив. И следствие было бы коротким: цыган споткнулся о корягу, курок был взведен, и пистолет выстрелил.
— …что вообще никого не видел, они же никогда правду не скажут. Я успел собрать предварительные показания. Это Хедман, Фейя Ассер, торговец, живет на Козьей горе, переулок Мадетоя, два.
— Торговец, видите ли. Просто пьяница.
— А я, кажется, нашел одного очень важного свидетеля. Он сейчас здорово пьян, но Кандолин прихватил его и повез в Управление допрашивать. Этот мужик разговаривал с преступниками ровно за минуту до выстрелов. Они пытались ему зубы заговорить. Там что-то концы с концами не сходятся. Но свидетель видел их лицом к лицу.
— Тоже торговцы, а?
— Послушай, Тийликка… — Харьюнпяа встал перед Тийликкой, усилием воли он заставил себя оставаться спокойным, хотя внутри у него все клокотало и очень хотелось с кем-нибудь поругаться. — Тийликка, у меня там в кухне свидетельница, она плохо себя чувствует. Не посмотришь ли ты, чтобы с ней ничего не случилось? Ни о чем с ней не говори. Просто глаз не спускай, ты это умеешь. О’кей?
На лице Кауранена мелькнула едва заметная улыбка.
— Остальные потерпевшие — это те, кому достались синяки да ушибы, когда все одновременно ринулись к дверям, чтобы спрятаться в доме. Больше всех ушиблась та женщина, что у тебя на кухне. И свидетели… имен у меня до черта, а дельного — почти ничего. Один утверждает, что, кроме Фейи, на танцах был еще какой-то цыган, другой говорит — не было. Один говорит, что стреляли четверо, другой — что один. Пока единственный стоящий свидетель, пожалуй, только тот пьяный да еще офицер, который видел оружие. Он именно на него обратил внимание. А что здесь?
— Примерно то же самое. Надо бы поехать домой к Хедману и сообщить…
— Думаешь, надо? Там уже наверняка все известно. Они всегда все знают, у них своя, цыганская, почта.
— Может, у него и родных-то таких нет, которым это не безразлично, — вставил Кеттунен. — Они же то и дело меняют свое жилье и родных. Кто больше даст — тот и родственник. А если и есть настоящие, так они только обрадуются, что места стало больше и один попал в больницу на дармовые харчи.
— Пускай группа Тийликки съездит.
— Мы с Унски в цыганское логово вдвоем не сунемся, — крикнул Тийликка в дверь — он распахнул ее и крепко держался за скобу. — Придайте нам группу с собаками. Кроме того, у нас за весь вечер ни одной передышки не было. Сначала сходим кофе попьем.
Харьюнпяа закрыл дверь.
— Теперь пора осмотреть эту личность, — сказал Турман. — Поможет кто-нибудь?
Все, даже Харьюнпяа, хотя его в кухне ждала свидетельница, подошли к покойному. Харьюнпяа казалось, что так лучше, ожидание ей полезно, может быть, она успокоится и сама расскажет о таких вещах, о которых он, пожалуй, не догадался бы спросить. Харьюнпяа не наклонился над трупом, а встал чуть поодаль; он пришел на дежурство после долгого отсутствия — был в отпуске: сначала в отцовском — после рождения дочери, потом — в очередном. Сейчас он чувствовал себя здесь несколько посторонним; смотрел на Кауранена, Кеттунена и Турмана, с удивлением обнаруживая, что и он точно такой же, как они, такое же невыразительное лицо, так же автоматически действует, то же говорит.
— Отойдите…
— Отодвинь стул, Кеттунен.
— За рукав, берись за рукав.
— Вот та-ак…
Они перевернули покойного на спину.
Мужчине было под сорок, он начинал лысеть. Загнутые вверх усы, почти такие же, как у Тийликки, и очки с толстыми стеклами, одна дужка сползла с уха, и очки сдвинулись на лоб. Пестрая летняя рубашка, куртка и коричневые брюки. Лицо какое-то помятое и дряблое — может быть, из-за крови, перепачкавшей его до неузнаваемости. Турман вытащил из кармана убитого бумажник. Дверь в танцевальный зал вдруг резко распахнулась.
— Ребята, хорошие новости!
Вошел Меэттянен, дежурный комиссар полиции порядка.
Меэттянен был уже почти пенсионного возраста, но, несмотря на это, сохранял военную выправку — вот и теперь он стоял, соединив пятки и выставив вперед подбородок, но, заметив убитого и кровь, отвернулся и, шевельнув губами, точно сплюнув, выдохнул:
— Ух, дьявольщина… — Потом кашлянул и повторил: — Ребята, хорошие новости! Стрелявших задержали.
— Врешь! Где?
— Недалеко от спортклуба. Группа Каллио схватила их по приметам. Они пытались сопротивляться — тут наши парни окончательно убедились — ага…
— Оружие при них было?
— Нет. Но долго ли от него отделаться?..
— А приметы полностью совпадают?
— Ну… Группа, во всяком случае, сообщила, что оба — темномордые, лет за двадцать, оба одеты аккуратно, в черные костюмы, под пиджаками свитеры… У одного вдобавок на большом пальце свежая ссадина, какую курок пистолета оставляет на неопытной руке.
На минуту воцарилось общее молчание — все уставились на Меэттянена, которому трудно было сдержать рвущуюся к губам улыбку.
— Тогда дело ясно как день, — выдохнул наконец Турман, и тут все одновременно поняли, что следует делать.
— Сейчас же в Управление и в камеру…
— Немедленно взять у обоих отпечатки пальцев с остатками пороховой копоти!
— Мордой вниз обоих типов, в тюремную одежду и в разные камеры…
— Наконец-то…
Меэттянен явно ободрился, отошел от двери и даже не пытался больше скрывать улыбку — он оказался победителем, и можно было забыть, что они относятся к «разным командам».
— Не поверите, ребята… Меня тут недавно холодный пот прошиб. Пришло сообщение, что откуда-то со стороны Глинянки послышались выстрелы — или выстрел. Я уж подумал… Но ничего там не нашлось. Это, видно, выхлопная труба или еще что-то. Сегодня просто настоящая война…
— Вот тебе и на. — Голос Турмана прозвучал растерянно — а он был не из тех, кто легко теряется. С разинутым ртом он глядел на вытащенные из бумажника покойного водительские права, точно это было какое-то диковинное животное, потом посмотрел на Харьюнпяа, на Кеттунена и Кауранена, посмотрел так, будто ждал объяснения, и под конец уставился на вытянутое на полу тело, словно ждал, что оно ему что-то скажет. — Это же Рейно Асикайнен.
— Кто?
— Какого черта?..
— Асикайнен?
— Так и есть — у него и усы такие же.
— Какой Асикайнен?
— Ну, Рейно. Рейска. Репэ. Да что вы, черти, не помните?
— Это наш…
— Полицейский?
— Господи. Полицейский… лежит тут, убитый… в крови…
Все остолбенели — точно комната наполнилась запахом какого-то вещества, которое заставило всех задержать дыхание; по лицам было видно, что все думают об одном и том же — что и они находились в опасности и спаслись только случайно. Каждый увидел, как он лежит на полу — с запекшейся кровью на губах и в глазницах, а вокруг стоят сослуживцы.
Наконец Кеттунен закричал срывающимся голосом:
— Здесь убитый полицейский!
— Рейно убит!
— Что там такое? Отойдите-ка…
— Убитый-то — полицейский.
Комната наполнилась вопросами и ответами, движением, шумом. В дверях стояло по крайней мере пять констеблей, потом они тоже вошли, откуда-то появились помогавшие допрашивать сотрудники отдела краж, кто-то выбежал на улицу. Скоро оттуда донеслись голоса — к окнам пятнами вплотную друг к другу прилипли лица.
— Они нарочно это сделали!
— Они на полицейского и охотились, а не на того…
— Не может ли кто-нибудь… хоть бы глаза ему за…
— Катитесь отсюда к дьяволу! Того, к чьим сапогам прилипнет пуля… я сам того парня кастрирую!
— Разве он несколько лет назад не перешел на другую работу?
— Он, кажется, в Вантаа перевелся?
— Крутой был парень — цыганам и другим бандитам спуску не давал. Раз как-то…
— Да ведь убийц поймали. Пошли-ка побеседуем с ними…
— Вон отсюда, все до единого!
— Харьюнпяа! — Тийликка стоял на пороге кухни, держа женщину за талию и за руку. — Что случилось? Это в самом деле полицейский? — Тийликка был ошеломлен, лицо его вытянулось. Потом он вспомнил о женщине и стал ее трясти. — Эта баба… она же вся в крови, ее к врачу надо. Кто он? Какой-то наш парень? Или из полиции порядка?
Харьюнпяа метнулся к кухне и попытался перегородить путь женщине — но не успел, она уже вошла в буфет и широко раскрытыми глазами обводила стены, пол, перевернутые столы и стулья, кровь — ту самую, которая хлынула из артерии Асикайнена, залив и ее. Потом увидела лежавшее на полу тело и замерла…
— Господи…
Она охватила руками свою шею. Харьюнпяа взял ее за плечи, попытался повернуть спиной к трупу и втолкнуть обратно в кухню. Женщина смотрела на Харьюнпяа, в ее глазах не было и тени жизни, большие и неподвижные, они просто застыли, а вокруг темнела размазанная косметика.
— Вы знаете, — начала было женщина, но замолчала, будто захлебнулась. Потом, после паузы, продолжила: — Я хотела впустить его в свой дом… думала приласкать его… целовать ему глаза… хотела гладить его по голове… и чтобы он говорил мне всякие красивые слова…
Женщина вдруг запрокинула голову, судорожно глотнула воздуха — и расхохоталась, но это был не смех, а долгий, отчаянный вопль.
Харьюнпяа втолкнул женщину в кухню, силой заставил ее сесть и с треском захлопнул дверь ногой.
— Послушай! — сделал он новую попытку. — Выслушай меня!
Но все оказалось бесполезным, женщина была в шоке или в истерике, ей действительно требовался врач — она с силой рванулась со стула, стремясь вернуться в буфет, Харьюнпяа удерживал ее за запястья и локти — за все, за что мог ухватить, и ее прежнее оцепенение сменилось яростью. С минуту он думал: сейчас пойду и сделаю что-нибудь с Тийликкой, но тут же решил, что лучше оставить все как есть и просто уйти. Однако, не сделав ни того, ни другого, он просто рявкнул страшным голосом:
— Кауранен! Турман!
В кухню вошел Меэттянен и очень медленно закрыл за собой дверь — он был здесь самым старшим и держался с достоинством человека, привыкшего всем руководить. Он подошел к женщине и похлопал ее по плечу:
— Послушайте-ка, голубушка. Я советую…
— Прекрати! — вспыхнул Харьюнпяа. — Пошли сюда людей. Ее надо доставить к врачу.
Меэттянен отскочил и спросил одними губами:
— Она сумасшедшая?
— Она — нет. Но кто-то из нас сумасшедший…
На лице у Меэттянена выразилось недоверие — он не понял, на кого или на что намекает Харьюнпяа, но все-таки сказал:
— Хорошо. Я пришлю кого-нибудь из своих ребят…
Потом подошел к двери, остановился, держась за ручку и явно испытывая не то затруднение, не то смущение. Несколько раз потерев подбородок, он наконец решился:
— Я еще давеча хотел попросить — еще до того, как выяснилось, что покойник — полицейский… Но теперь и тем более… Когда будут давать материал для газет… может быть, там можно было бы упомянуть, что убийц поймал сотрудник полиции порядка. — Меэттянен махнул рукой и усмехнулся. — Моего имени называть не надо… Я просто к тому, что всегда пишут: уголовная полиция поймала — и слава не раз доставалась не тем, кто ее заслужил.
6. УБИЙЦЫ
Харьюнпяа почти бежал по серому коридору Полицейского управления. Он уехал с Малого порога сразу, как только группа Меэттянена взяла на себя заботу о женщине. В буфете оперативных работников было более чем достаточно, зато, похоже, в Управлении некому было ни встретить, ни допросить преступников. Он оказался прав — в Управлении находился только беспокойно шагающий дежурный Ляхтеэнмяки, которому едва удавалось удерживать в разных комнатах явившихся сюда «свидетелей».
Кандолин заперся у себя в кабинете и стучал на пишущей машинке, с помощью черного кофе ему с трудом удалось привести в чувство главного свидетеля — Кауранена.
Харьюнпяа свернул за угол, толкнул дверь и попал в другой коридор, ведущий к лифтам. В конце его стоял Хиетанен, по прозвищу Шаровая Молния. Он колотил кулаком по укрепленному рядом с закрытой стальной дверью механическому пропускному устройству — утыканному кнопками и мелькающему огнями.
— Черт, черт, черт!
— Шар!
Шар обернулся. На голове у него были наушники, от которых к микрофону у губ тянулись провода; от резкого поворота головы проводок просвистел в воздухе и, как хлыст, ударил в стену.
— Тимппа! Эта чертова штуковина не работает! Завтра я объясню Бакману, куда он может ее засунуть…
— У тебя не та карточка.
Шар выдернул пропуск из регистратора.
— Что за чертовщина, и вправду… — Это был не пропуск, а банковская или какая-то другая карточка с его фотографией. — Вот почему она не лезет. Я впопыхах и не заметил.
Харьюнпяа сунул свою карточку в отверстие и стал набирать секретный код — посторонний не смог бы продвигаться по Полицейскому управлению. Здесь повсюду секретные замки — только в уборную можно попасть с ригельным ключом. Желтый свет сменился зеленым, сигнал звякнул, Харьюнпяа вытащил карточку и распахнул дверь. Они вошли на первый этаж тюрьмы, там было пусто, на содержание дежурных не хватало средств. Оба остановились, поджидая лифт.
— В «садок»? — спросил Харьюнпяа.
— Да. Им понадобился переводчик.
— Этим убийцам?
— Не притворяйся, будто ты не в курсе дела. Небось не хуже моего знаешь, что это цыгане. Каждый раз, как только дело доходит до чего-нибудь серьезного, они ничего, кроме своего языка, не понимают, черт его знает, как он там называется. Того и гляди — потребуют признать его третьим государственным языком[13]…
— А ты?..
— Нет. Два-три слова знаю, остальное…
Шаровая Молния распахнул полы пиджака. За поясом торчала черная ручка резиновой дубинки.
— Вот мой толмач. Убийц полицейского он живо научит даже на санскрите говорить, можешь быть уверен.
— Бога ради, не надо…
Харьюнпяа притронулся к рукаву Шаровой Молнии, но тот резко отдернул руку, совсем как Валпури, когда она еще вдоволь не накапризничалась. Но Шар не капризничал — он смотрел куда-то в потолок, Харьюнпяа заметил, что он прячет глаза.
Лифт остановился, они вошли и оказались в окружении серых металлических стен, словно в консервной банке. Лифт стал опускаться; глазок наблюдателя следил за пассажирами сверху, и кто-то где-то видел, как выглядят их макушки, только то, что происходит в мозгу, оставалось для него тайной.
— Асикайнена никто не любил, когда он здесь работал, — проговорил Шар непривычно глухим голосом. — Он был такой… оригинал. Как и я. И я знаю… Но я его любил. В те времена, когда мы работали в группе краж со взломом, он был моим лучшим другом. А для приработка мы следили за хлебными машинами. Утром, закончив объезд, мы сидели с ним в какой-нибудь забегаловке и ели свежие французские хлебцы. Он мне всякий раз говорил: «Послушай, Шар, в один прекрасный день ты еще станешь начальником криминальной полиции»… Оригинал, и только. Здесь таких, как тебе известно, не любят. — Шар сунул в рот жевательную резинку и быстро заработал челюстями. Потом заставил себя усмехнуться: Ты подумал, что я хочу их проучить. Да нет. Даже дерьмо возить — и то какой-то гуманизм требуется. Это просто для острастки.
Лифт дошел до цокольного этажа. В коридоре, ведущем направо, находились пустые следственные комнаты, но, повернув налево, человек попадал в переход, подобный тем, какие бывают в аэропортах. Сразу за ним шла застекленная комната надзирателей, примыкающая к помещению со скамейками, куда задержанных доставляли прямо из машины.
Сюда, в комнату, прозванную «садком», набилось множество народу — поглядеть на убийц пришли даже надзиратели с верхних этажей. Под яркими лампами «садка» топталась группа Каллио — один констебль постарше, два помоложе. А между ними стояли оба арестованных.
— But why? Please, take my passport and…
— Tsast kiip joor mauth kloust and empti joor pokits!
— But why? Why!
— Kiip joor mauth kloust, juu pladi möödö![14]
— Дьявольщина… — Харьюнпяа остановился словно вкопанный и сжал виски, как будто у него заболела голова. Шар, не сбавляя скорости, протиснулся между стражниками на середину комнаты. Он хорошо говорил по-английски, так как несколько лет назад служил в военной полиции на Кипре.
— Okay. What’s the problem?[15] — начал было он и тут только понял, что́ произошло. Немного пригнувшись и сразу выпрямившись, он сдернул с головы наушники и заорал: — Засранцы! Быть не может!
Отступать было поздно — задержанные дергали его за лацканы и жестикулировали, обрушивая на него поток английских фраз.
Это были негры — африканцы, цветные, черные, с курчавыми волосами и темной кожей, только разных оттенков — лицо длинного было почти черным, словно какое-то редкое дерево, а у того, что пониже, кожа мягко мерцала при свете ламп, напоминая шоколад «Миньон».
Харьюнпяа тяжело перевел дух и медленно, на негнущихся ногах, словно во сне, направился в комнату стражи.
— Вот их паспорта, — сказал Мяэнсюрья. Это был старший надзиратель, мужчина лет пятидесяти, обычно старавшийся скрывать свое мнение, но теперь в его голосе звучал явный ужас.
Харьюнпяа стал набирать номер телефона, а второй рукой открыл верхний паспорт, на первой странице значилось: «Corps Diplomatique»[16]. Ко второму паспорту он даже не притронулся.
— Полицейское управление слушает, номер четвертый, — раздалось в трубке.
— Это Харьюнпяа, звоню из «садка». — Передай снова всем машинам приметы убийц. Задержаны не те люди. Если комиссар на месте, хорошо бы ему быстро прийти сюда.
— Полицейское управление. У телефона номер четвертый, — опять повторил голос в трубке.
— Говорит Харьюнпяа, я в «садке»! Объяви…
— Не стоит, — сказал Мяэнсюрья. — Телефон не работает. В горячие дни с ним всегда так. Правда, его можно включить по коду тревоги, но мы его не знаем. Почему-то его засекретили.
— О’кей…
— Полицейское управление слушает, номер четвертый. Кто пытался к нам дозвониться?
— Кто они, по-вашему? — неистовствовал за стеклянной стеной Шар. Он загнал всех трех констеблей в угол. Те стояли, онемев от смущения, но было видно, что они уже начинали злиться — ведь они действовали правильно, схватили, как им было указано, темнокожих. Констебли, молодые, светловолосые и плечистые ребята, видимо, были направлены в Хельсинки прямо с курсов.
— Кто они, по-вашему?
— Ну, похожи на черномазых…
— Похожи. Черные они и есть. А убийцы — цыгане!
— По рации передали, что оба темные.
— Господи помилуй! И как ты только получил лычки старшего констебля? Неужели ты цыган не знаешь?
— В наших краях цыган называют цыганами… А в международных законах, наверно, найдется парочка параграфов, по которым этих двоих можно выдворить из страны.
— В ваших краях, может, дневальный передает по рации — принесите, мол, мне, ребята, конфет из киоска. А теперь ты в наших краях, в столице! Нашу рацию может слушать кто угодно — газетчики, министры… Это расовая дискриминация — называть цыган цыганами.
Харьюнпяа тихонько пошел обратно к лифту. Мяэнсюрья, расстроенный, следовал за ним.
— Харьюнпяа…
— Да?
— Я о срочной связи — вдруг ты о ней кому-нибудь скажешь… Я не имел в виду, что она плохо поставлена. Не говори ничего такого. Она все-таки помогает провести дежурство — всегда знаешь, когда надо посмотреть новости по телевизору.
— Не беспокойся. Никому не скажу.
— Хорошо. Просто я засомневался. Даже моему месту многие завидуют.
Двери лифта открылись, и в коридор впорхнул Кандолин.
— Стрелки́ здесь?
— Какие-нибудь стрелки́ тут, надеюсь, есть…
— Что?.. Ты куда, Харьюнпяа?
— Кофе пить. У меня за весь вечер ни минутки свободной не было. — Харьюнпяа вошел в лифт и, прежде чем двери закрылись, успел сказать: — Меэттянен хотел, чтобы ты рассказал газетчикам, что этих парней задержали его ребята.
Пить кофе он не пошел. Дошел до конца длинного коридора, напоминающего слепую кишку, и стал смотреть в окно. На улице уже совсем стемнело. И хотя не было еще и середины августа, за стеклом то и дело мелькали желтые листья. Поднялся ветер.
Вдобавок ко всему Харьюнпяа мучило то, что он не любил Кандолина, хотя почти не знал его. Вообще-то Кандолин считался дельным работником и к нему относились с уважением, подчиненные его даже любили. Да и не только подчиненные. Стоило собраться веселой компании в любом углу Полицейского управления, как можно было с уверенностью сказать, что Кандолин там и смеется громче всех.
Может быть, именно этот смех и был неприятен Харьюнпяа?
7. СОВЕЩАНИЕ
— Да, оба цыгане, — сказал Кандолин по телефону. — Свидетелей — десятки. Нет, еще нет. Для проверки кое-кого задержали, но, как руководитель операции, хочу подчеркнуть, что никто пока не арестован.
Долговязый и костлявый на вид, Кандолин чем-то напоминал американского бизнесмена. Его движения отличались быстротой и гибкостью, по возрасту ему не дашь больше сорока, хотя на самом деле было уже за пятьдесят.
— Можете не сомневаться, убийство полицейского не останется безнаказанным. Конечно, на этой стадии… Он не был при исполнении служебных обязанностей, но обнаружились известные обстоятельства, позволяющие предположить, что именно они являются причиной содеянного.
Кандолин был одет в серый костюм и белоснежную рубашку с галстуком в красную полоску. Он носил очки в темной оправе, слишком массивные для его лица, такие, какие вошли в моду у чиновников во времена президента Кекконена. В электричке Кандолина было бы трудно отличить от остальных пассажиров — он мог сойти за представителя любой другой профессии.
— Безусловно. Звоните…
Была пятница, половина второго ночи. Ездившие на Малый порог полицейские и вызванные из дому следователи отдела, теснясь, сидели в кабинете комиссара Кандолина. Совещание не клеилось: в дверь то и дело стучали, кто-нибудь приносил новые сведения, что-то сообщали по телефону, кто-то вспоминал о незаконченном расследовании — но главной помехой был телефон, трезвонивший без передышки. Звонили из всех губернских газет, едва только Финское телеграфное агентство передало полученное известие. Кандолин, который только что узнал, что жертвой выстрелов оказался полицейский, возбужденно, словно очевидец, излагал каждому звонившему ход событий от начала до конца — он никого не хотел обделить. Но на лицах остальных читались ночная усталость, задерганность и недостаток кислорода в комнате без окон.
— Нет, имя пока не могу назвать. Он уже не служил в хельсинкской полиции, хотя раньше работал у нас…
— Кандолин! — Кауранен куда-то сбегал и вернулся — он держал в руке листок из блокнота, — и, так как Кандолин его не замечал, Кауранен сел за спину комиссара и осторожно тронул его за плечо: — Кандолин!
— Простите, о чем вы спросили?.. Ну что за чертовщина!.. — досадливо отмахнулся Кандолин, как бы скомандовав: «Молчать!»
Кауранен вернулся на свое место, сел и стал теребить листок, глаза его были встревожены, на щеках выступили красные пятна, он несколько раз открывал рот, желая что-то сказать.
Кандолин бросил трубку на рычаг и кашлянул.
— Ну, так. Давайте-ка, ребята, сохранять спокойствие — впопыхах такие дела не делаются. Это одинаково важно для всех нас. Что у тебя?
— Асикайнен уже три года как ушел из полиции, — совсем расстроенный, сказал Кауранен, — я только что был…
— И что?
— Ни черта…
— Год назад я что-то такое слышал, но подумал — сплетни.
— Все может быть. Ведь в бумажнике не было служебного жетона.
— Черт побери!
— Как…
— Молчать!
Кандолин встал и, сжав руки в кулаки, оперся на стол:
— Кауранен, ты вполне… уверен?
— Я только что звонил в Рийхимяки, — сказал Кауранен, побледнев и глядя в пол. — Их дежурный вспомнил Асикайнена и рассказал, что он проработал там меньше года и ушел со службы…
— Почему?
На лбу у Кандолина выступило несколько капель. Он с опаской поглядывал на телефон, будто вдруг стал его бояться. Потом быстрыми угловатыми движениями начал приводить в порядок лежавшие на столе карандаши — ему явно хотелось передвинуть и пистолет в полиэтиленовом футляре, но он этого не сделал.
— Ну-у… Из кофейной кассы после появления Асикайнена стали пропадать деньги — суммы небольшие, но все же… Об этом заявили. Асикайнен захотел уволиться. Дело так и не выяснилось. После этого он, говорят, занимался разными делами — был торговым агентом, сторожем. И все такое.
Мужчины молчали, не глядя друг на друга, — по какой-то необъяснимой причине они почувствовали себя запачканными, и им захотелось оказаться сейчас в одиночестве или где-нибудь в другом месте; были тут и досада, и мгновенно мелькнувший страх. Рейно Асикайнен, оказывается, был вор…
Вопреки всеобщему убеждению преступления, совершенные полицейскими, расследуются очень тщательно. Малейшее подозрение рассматривается скрупулезно и безжалостно, дело разбирается глубже, чем оно того заслуживает, — с тем чтобы заподозренный не смог уже больше вернуться к прежней службе, даже если он в конце концов и признавался невиновным. И основывалась такая строгость не на каких-то принципах и не на гордом лозунге: держать знамя незапятнанным, — а просто на желании умыть руки, как это сделал некогда Пилат.
— Почему туда позвонили только теперь? — крикнул Кандолин так, что все подняли головы, — он стоял посреди комнаты совершенно неузнаваемый, кулаки у него сжимались и разжимались, кадык поднимался и опускался.
— Да каждому из нас пришлось допросить трех-четырех свидетелей, — мрачно сказал Кауранен. — Но все одна болтовня…
Кандолин провел рукой по волосам и вернулся к столу.
— Само собой, — сказал он и усмехнулся так, чтобы его давешнее раздражение можно было принять за притворное. — А по домашнему адресу сообщили?
— Пытались, во всяком случае — по всем трем.
— По трем?
— Да. Официальный адрес у него в Вантаа, но он уже с полгода обитал в другом месте. Там живет женщина, по имени Тийна Малмберг, у нее не оказалось телефона. Из бумаг, найденных в кармане, мы узнали его второй адрес — Третья линия, девять СО — Тарья-Леена Яаккола. И третий: Речной остров, Гаванская улица, Яана Суоминен. Самая свежая открытка пришла ему от какого-то Кика на адрес этой Яаны.
— Он не был женат?
— Был. Но развелся, помнится, еще до того, как ушел от нас. Детей, кажется, не было, тогда, во всяком случае.
— А родители?
— Их еще не успели…
— Ясно. Ладно, ладно…
Кандолин снова встал и принялся кругами ходить по комнате. Потирая подбородок одной рукой, он держал другую в кармане так, что из-под полы пиджака виднелась кобура револьвера.
— Ну-у, не беда, — решил он наконец даже с каким-то подъемом. — Газеты, может быть, и назовут свои сообщения не совсем верно… Но следствию это может оказаться даже на руку: народ поймет, как далеко зашла организованная преступность. Пусть потом дают поправку в следующих номерах. Они и без того пишут столько чепухи, препарируют правду как хотят и используют это в своих интересах. Пусть разок и нам послужат. — Он остановился возле стола и отодвинул бювар; его лицо стало серьезным, почти как перед молитвой, и, продолжая, он не поднял глаз: — Если человек однажды ошибся… С кем не бывает в наши тяжелые времена?.. Это еще не значит, что он преступник. Другое дело, если он вообще ведет антиобщественный образ жизни, если его прошлое… — Кандолин поднял голову, строго, одного за другим, оглядывая присутствующих. — А если бы это было и так — мы не должны исходить из того, что погибший представлял собою при жизни, пусть это был даже самый жалкий алкоголик. Нам следует думать о нем как о человеке. Честно говоря, я не могу отчетливо вспомнить Рейно Асикайнена, но его имя в любом случае связано с нами, в общем, по сути своей он был добропорядочным полицейским.
С минуту все молчали. Потом кто-то осмелился сказать:
— Выкладывался-то он до конца…
— Да, Рейска, конечно…
— И бандитов ненавидел, преследовал их безжалостно.
По мере того как присутствующие освобождались от неловкости, их голоса становились громче. Через несколько минут, как и перед совещанием, разговор плыл по комнате волнами — путаный, торопливый, такой, в котором нельзя ничего разобрать, если не сосредоточиться на словах кого-нибудь одного из говорящих.
Харьюнпяа рисовал в записной книжке черный шар. Ему хотелось спать — главным образом потому, что за время отпуска он отвык от ночных дежурств, но в не меньшей степени и оттого, что он не отвечал за это дело и чувствовал себя в известном смысле посторонним. Он знал, что его участие в расследовании закончится в восемь утра. Кроме того, у Норри тоже было нераскрытое дело об убийстве. Харьюнпяа мельком успел ознакомиться с ним перед началом дежурства и запомнил только, что жертву вытащили из-под лодочного причала в Речном заливе и что на ногах у несчастного были красные шерстяные носки.
— …это заметила нейти[17] Хейккиля, но, безусловно, надо принять во внимание…
— …может быть, и так, но более убедительным кажется…
Харьюнпяа следил за разговором вполуха и втайне даже от себя самого желал, чтобы Пожарное управление сообщило вдруг о каком-нибудь трупе или о бушующем пожаре.
Он начал рисовать второй шар и тут впервые вспомнил Асикайнена — живого; он почти воочию увидел, как Асикайнен стоит, прислонившись к киоску справочного бюро на Александровской улице, смеется, покручивая усы, и рассказывает своему собеседнику:
— …в конце концов я от нее освободился. Последнее, что я об этой бабенке слышал, — будто она кружит по какой-то комнатенке в Лапинлахти и твердит: «Неправда, не может быть…»
Харьюнпяа вдруг стряхнул с себя усталость и стал следить за разговором. Он понимал, что в этих обстоятельствах может быть три варианта. Первый и самый неправдоподобный — убийцы пытались пристрелить Фейю Хедмана и заодно случайно попали в Асикайнена. По второй версии задумано было убить обоих — Фейя Хедман мог быть агентом Асикайнена и донести ему о цыганах, торгующих вином или укрывающих краденые товары, — сведения, которые Асикайнен в свою очередь передавал кому-нибудь из полицейских. И по третьей, самой убедительной версии убийцы хотели прикончить именно Асикайнена — в отместку за какое-нибудь дело, проведенное им еще во времена службы в полиции, а в Хедмана пуля попала по ошибке, к тому же он вполне мог навести их на Асикайнена.
— По-моему, когда Хедмана можно будет допрашивать, нам стоит отнестись к нему как к человеку, которому мы доверяем. А если он не захочет с нами сотрудничать…
Кандолин щелкнул указательным пальцем по пистолету, лежавшему в полиэтиленовой кобуре, — это был «FN», такой же, как служебное оружие, употреблявшееся многими еще несколько лет назад. Его вынули из заднего кармана Фейи Хедмана. Согласно сведениям, данным компьютером, пистолет был украден два года назад во время квартирной кражи, случившейся в Порвоо.
— Так вот, о вчерашнем… Важнее всего то, какая ситуация была в буфете перед выстрелом. Харьюнпяа…
Харьюнпяа прочистил горло.
— Это, к сожалению, видимо, мало поможет, — начал он. — Там была буфетчица… ее показания вот тут… во время выстрела она находилась в кухне — пошла доставать корзины с лимонадом. Потом те двое, которые сидели спиной к дверям. Они обернулись уже после выстрела, когда Асикайнен закричал… А с Асикайненом была только женщина — Мериляйнен, Анья Ирмели. Но она была в таком состоянии, что взять у нее показания оказалось просто невозможно. Единственный способ — попробовать снова…
Зазвонил телефон.
— Дежурный криминальной полиции комиссар Кандолин. Ага — идем…
Кандолин медленно опустил трубку. Потом оглядел всех и изобразил на губах улыбку — широкую, как у Никсона, обнажающую даже десны.
— Один из убийц в «садке», — сказал он торжественно. — На этот раз настоящий. Цыган. У него пистолет, от которого так разит порохом, что из него явно стреляли сегодня вечером…
8. ВАЛЛИЛА[18]. 5 ЧАСОВ
Улицы Стуре, Гористая и Промышленная отрезали от южной части Валлилы треугольный участок. Вдоль его узких извилистых улочек стояли выстроенные в первой половине столетия деревянные дома с какими-то странной формы железными крышами; местами эти крыши спускались вниз почти отвесно, так что стен второго этажа даже не было видно за жестью, а окна казались пожарными оконцами; местами же они поднимались ввысь как башни, образуя на чердаках причудливой формы каморки и мансарды.
После того как деревянную Валлилу решили сохранить, многие строения поменяли своих владельцев. Большую часть домов основательно подремонтировали, а некоторые почти целиком выстроили заново, и теперь они выглядели более представительно, чем тогда, когда были новыми. На улицах появились «бемари» и «вольво». Из открытого окна можно было услышать, как кто-то говорит по телефону:
— Нет, там мы настлали пол из широких сосновых досок… Клинкер? Его положили в прачечной — вернее, это теперь сауна, мы ее переделали…
Но были в Валлиле и другие дома. Их стены выгорели на солнце и стали серыми, оконные рамы — трухлявыми, на крышах цвели красные пятна ржавчины, и, проходя мимо них, можно было почувствовать запах гнили, исходивший из вентиляционных окошек каменного фундамента.
Это были дома, принадлежащие муниципалитету. Во дворах там ковыляли старухи в шлепанцах и старики на костылях, сверкая глазами, шмыгали кошки, а по утрам, около десяти, возле этих домов появлялись мужчины с полиэтиленовыми мешками, по вечерам, в эти же часы, — громко смеющиеся женщины. И все, казалось, чего-то ждали: и люди, и дома.
На Бастионной улице, неподалеку от пересечения с улицей Кеуру, стоял один из таких домов. Под его карнизом тянулась рассохшаяся деревянная резьба, выполненная каким-то мастером прежних времен; за домом высились остроконечные скалы кеуруского парка, почти такие же высокие, как дом. В ту августовскую пятницу, в такую рань, что синева на небе еще только угадывалась, из трубы этого дома уже поднимался пахнущий березовыми дровами дым.
Севери остановил машину недалеко от дома, и, хотя он уже дважды проехал мимо него, не заметив ничего подозрительного, он все еще был настороже. Не заглушая мотора, он выключил передачу и склонился к баранке, зорко осматривая улицу.
Она была пустынна. Вдоль обочины стояли те же машины, что всегда, их непротертые стекла запотели от росы, ни одна щелочка не блестела. Движения на улице не было. Даже дворы выглядели безжизненными. Ни возвращающихся домой пьяниц, ни ранних собачников, прогуливающих своих любимцев, ни осторожных филеров, которые, не шевелясь, прячутся возле водосточных труб или в кустах.
Севери вышел из машины. Это был невысокий кряжистый мужчина лет сорока. Его лицо казалось каким-то конусообразным — может быть, из-за маленького подбородка, почти отсутствующего, — но сросшиеся брови и аккуратно прикрывающие верхнюю губу усы возмещали этот недостаток: они придавали ему вид человека, с которым лучше не ссориться — во всяком случае, тогда, когда его рука, как теперь, лежит в кармане брюк.
Севери быстро перешел улицу, ступил на тротуар и направился к дому, и, хотя казалось, что он смотрит только перед собой, он точно знал, что происходит вокруг — три голубя слетели на землю, почтальон толкал свою тележку по Гористой улице, Рууса или Миранда, на мгновенье колыхнув занавеской, выглянула в окно, чтобы узнать, кто идет. Севери дошел до угла и свернул во двор. Теперь — он увидел это уголком глаза — в нижнем окне стоявшего наискосок дома шевельнулась занавеска, это Трехпалый — Гуннар Палми. Вот и хорошо. Теперь Трехпалый знает, в какое время он вернулся, может сообразить, что он ездил далеко, а главное, видел, что Севери вернулся один. Он, конечно, не удержится — расскажет об этом, когда услышит, что случилось на Малом пороге, если это ему пока еще неизвестно. К тому же Трехпалый видел их отъезд, видел, что Вяйнё и Онни сидели сзади. Глаза Севери сузились, улыбаясь, он так хлопнул калиткой итак скрипнул кольцом, что Трехпалый непременно должен был его заметить.
Во дворе пахло сырой землей. Не мешкая, Севери скрылся в отбрасываемой углом дома тени и распахнул дверь погреба, лишь чуть приоткрытую, — из тьмы вырвался запах дров, сырости и паутины. Не останавливаясь, он прошел к крыльцу, схватил газеты и поднялся по скрипучим ступенькам — лесенка была видна с улицы и из окон Палми, он заметил, что у окна все еще кто-то стоит. Севери поднял руку, чтобы постучать, и почувствовал мучительный спазм в животе. Только теперь, когда он наконец оказался дома и в безопасности, когда почти все осталось позади, он понял, как напряжены его нервы. Необходимость быть постоянно настороже, не переставая, грызла его изнутри, точно крыса, — и это будет продолжаться многие месяцы, может быть, годы.
— Чертовы молокососы…
Севери постучал. Миранда тотчас откинула крюк, она ждала в прихожей. Севери вошел.
— Ну?
— Сюда никто не приходил, — шепнула Миранда, задыхаясь и сжимая руки, — ни с Козьей горы, ни из полиции. Но компания Трехпалого явно знает. Они до поздней ночи караулили за занавесками, точно чего-то ждали.
— С ними не стоит считаться. Но если явятся непрошеные гости…
— Не знаю, как быть с Руусой. Она твердит, что нам вообще надо уехать.
— Постараюсь ее вразумить, как только освобожусь.
— Она требует, чтобы ты сразу же утром пошел к Трехпалому и спросил, не согласится ли он съездить на Козью гору посоветоваться…
Севери кашлянул; он и сам было подумывал о чем-то таком, но сейчас эта мысль показалась ему совершенно неприемлемой — какого черта бабы не дают ему самому все решить, как было всегда до этого!..
— Что еще? — буркнул он.
— А то… что все-таки было бы лучше увезти ребят к Тайсто в Тойалу, а не кружить вот так…
Севери раздраженно качнулся, ах, еще и в Тойалу; они ничего не поняли, хотя вчера вечером все обговорили; брат Фейиной жены Орвокки жил в приходе Пялькянне, в получасе езды от Тойалы — окажись парни там, могли бы возникнуть неприятности. И вдруг Севери испугался всего: и того, что ему какое-то время придется ездить к своим перекупщикам одному, и того, что оставил машину на улице — кто-нибудь может подойти к ней и заглянуть в салон. Он сунул газеты жене и прикрыл дверь.
— Погляди-ка, об этом уже пишут? Я перегоню машину.
Он быстро прошел к машине и загнал ее во двор — с улицы теперь был виден только ее нос, потом поднялся на крыльцо и с силой хлопнул дверью.
Во дворе было тихо — постукивал лишь остывающий мотор машины. Сумерки таяли, становилось светлее; уже видно было, что белье, висящее на веревке, — это белье, а не белокрылые птицы, и что зверек, метнувшийся из-под амбара в соседний двор, — просто кошка. Потом издали, со стороны Гористой улицы, донесся шум моечной машины, а по Промышленной прогромыхала первая автоколонна.
— Онни, пора. Я больше не вытерплю. Онни?
Вяйнё отбросил байковое одеяло и попытался встать. Это было нелегко: он лежал между сиденьями машины уже второй час, все тело затекло, карданный вал так больно сдавил правый бок, словно в него пнули ногой, а стоило только пошевелиться, рану невыносимо саднило.
Вяйнё встал на колени. Теперь, когда на нем уже не было одеяла, оберегающего и теплого, когда рассеялась полудрема, все снова показалось ему ужасным: и то, что впредь целыми неделями придется прятаться, и то, что все так невероятно быстро изменилось. Он пригнулся за дверцей, протянул руку через спинку сиденья к багажнику и, нащупывая вещи, тронул Онни за плечо.
— Быстрее, Онни! Нам надо идти.
— А? Где мы?
Голос Онни был вялый, он пил до тех пор, пока Севери не рассердился окончательно и не выбросил бутылку в кювет.
— Мы дома, во дворе, в машине Севери. Он велел подождать четверть часа. Они уже прошли.
— Ага. Я еще минутку покемарю.
— Нет, Онни!
Вяйнё поднялся на сиденье и стал срывать с Онни одеяло. Оказавшись на виду, он вдруг испугался, что кто-то может в любую минуту заглянуть в окошко машины, узнать его и пристрелить.
— Быстро, Онни!
Он почти насильно заставил двоюродного брата сесть и, сжав зубы, стал тянуть его через спинку сиденья; машина качалась, оси скрипели, и на мгновенье, мешая друг другу, ребята превратились в сплошной клубок.
— Черт бы тебя драл…
— Не трогай — руку больно.
— Плевал я на твою руку…
Вяйнё приоткрыл дверцу машины — воздух был приятный, терпкий. Двор казался вымершим. Не задерживаясь, Вяйнё опустился на землю, потянул Онни за рукав, и, согнувшись, они прошмыгнули к двери погреба. Вяйнё втолкнул туда Онни, скользнул за ним и прикрыл дверь. Только после этого он осмелился перевести дух — здесь их не увидит ничей недобрый глаз.
— Я ничего не вижу…
— Подожди-ка…
Вяйнё порылся у себя в кармане, нашел зажигалку и щелкнул. Пламя отбрасывало слабый свет. Но этого было достаточно — Вяйнё увидел стену, сложенную из серых камней, земляной пол и трухлявые доски, положенные как мостки. Он оградил пламя ладонью и пошел, удаляясь от дверей. Онни ковылял за ним. Потолок был такой низкий, что приходилось нагибать голову; в щели между досок сыпались опилки, темная от пыли паутина свисала клочьями, словно рваные тряпки. Мостки расходились налево и направо. Ребята свернули направо. Неприятный запах овощей и плесневелой одежды стал острее. Наконец они увидели лесенку, услышали звук шагов, доносившийся сверху, и остановились. Над ними была кухня.
— Ш-ш…
Вяйнё поднял палец к губам, согнул голову — если стоять тихо, можно расслышать разговор.
Севери бушевал:
— …Ну и что? Значит, по нужному адресу попала, если угодила в плоскостопого, вы-то это знаете, Рууса. И если хотите забыть остальное, то вспомните хотя бы, что́ они тогда в Лахти натворили со своими собаками…
Севери отошел подальше, и его слов больше не было слышно. Вяйнё не мог понять, о чем они говорят. Но ему показалось, что в кухне кто-то плачет, стараясь сдерживаться, — это могла быть Рууса. Потом Миранда крикнула резким голосом:
— Но ты же знаешь, какой шум из-за этого поднимется! Они никогда в жизни не успокоятся, раз это был плоскостопый. Налетят, как шершни, на всех цыган. Все начнут психовать, и нашу семью возненавидят. А рано или поздно кто-нибудь расскажет, что это Вяйнё и Онни, и плоскостопые их здесь найдут, хоть мы парней в дымоходе спрячь!
Поскольку на кухне других мужчин не было, Миранда осмелилась кричать на Севери. И тут Вяйнё все понял. Рука его дрогнула, зажигалка погасла. Стало темно, хоть глаз выколи. Вяйнё дышал, приоткрыв рот, он знал, что понял правильно; и все-таки ему казалось, что это сделал кто-то другой, не он, не Онни, который дышал сейчас рядом с ним, вместе с которым он бежал через лес, а потом по горе над пляжем, через дворы до самой Шишечной улицы.
— Онни, мы убили какого-то плоскостопого…
— Ты что — сбрендил? Постучи, чтобы нас впустили.
— Нет… Послушай, что они говорят.
— …знал бы — придумал бы что-нибудь другое, — говорил Севери, и по голосу можно было понять, что ему страшно, хотя он и не хочет в этом признаваться. — Но история с Фейей еще хуже. Как там сказано…
Послышался скрип — он ходил прямо над ними. Потом зашуршала газета, и он стал читать:
— …операцию, и, по словам комиссара Кандолина, его жизнь вне опасности… Врач полагает, что через неделю, самое большее через месяц он будет на ногах.
— Слава богу, что не хуже.
— Не хуже? А что может быть хуже того, что он станет кружить вокруг нашего дома с пистолетом в руках? Что нам тогда делать?
— Мы уедем.
— Глупости… Лучше постараемся, чтобы переехали они. Это всегда была доля слабых.
— Пусти-ка… я хочу спать.
Онни отстранил Вяйнё, нащупал ступеньки, они заскрипели под его ногами. Потом он постучал — и наверху замолчали.
— Теперь я этих негодяев… — раздался голос Севери.
Его шаги приблизились. Послышался шум — отодвигали стол. Когда откинули половик, голос стал мягче — и в щель проник свет; он образовал квадрат, словно очерченный желтым мелом.
9. ЯАНА СУОМИНЕН
В квартире была только одна комната — не больше клетушки дежурного комиссара, но зато с балконом. Полка со стереопроигрывателем, телевизор и постель заполняли ее почти целиком. Балкон выходил на Гаванскую улицу, напротив стоял недавно выстроенный дом, в квартирах которого зажигались огни по мере того, как люди просыпались. Харьюнпяа повернулся спиной к Яане Суоминен и смотрел в окно; он считал, что так лучше, хотя его присутствие явно ей не мешало.
Было уже утро, но он еще не устал — при ночных дежурствах усталость накатывает волнами: сумрачное настроение, когда глаза неодолимо слипаются, вдруг сменяется бодростью, и в течение некоторого времени чувствуешь себя другим человеком — все видится и слышится отчетливее, чем обычно. Вот и теперь Харьюнпяа точно представлял, как Яана за его спиной поднялась с постели, как натянула колготки, щелкнув резинкой по животу, как наклонилась за лифчиком и стала в него запаковываться — когда она завела руки за спину, чтобы застегнуть лифчик, плечевые суставы хрустнули. При желании Харьюнпяа мог все это увидеть и воочию — по отражению на стекле, стоило только чуть отодвинуться, но он не хотел; пахло ночью, прерванным сном.
Это была третья квартира, куда он пришел разузнать об Асикайнене. У Тийны Малмберг из Большого Лесного переулка в Вантаа уже около года был другой приятель, она протянула Харьюнпяа в чуть приоткрытую дверь записку с номером своего рабочего телефона и попросила позднее позвонить туда. К Тарье-Леене Яаккола с Третьей линии Асикайнен за последние полгода заскочил только пару раз. Несмотря на это, Яаккола была потрясена больше всех из этих трех женщин, она едва не расплакалась. Но ответить на интересующие Харьюнпяа вопросы так и не смогла. Вместо этого она передала ему оставшиеся у нее два полиэтиленовых мешка с какими-то мелочами, принадлежавшими Асикайнену. А здесь, на Гаванской улице, Яана Суоминен открыла ему дверь в одних коротеньких трусиках.
— Ого! — только и бросила она, увидев Харьюнпяа.
— Я из криминальной полиции, старший констебль…
— Вижу. Дело касается?..
— Рейно Асикайнена.
— Его что — убили?
— Да.
Суоминен глубоко вздохнула, и руки ее опустились.
— Входите! — бросила она наконец, повернулась и прошла перед Харьюнпяа, вихляя задом; в ее движениях не было ничего деланного, зазывного, непристойного — одно безразличие.
— О’кей? — спросил Харьюнпяа.
— Что — о’кей?
Харьюнпяа обернулся. Женщина все еще была в нижнем белье — она сидела скрестив ноги и курила.
У нее была светлая, по брови челка и спускающиеся до плеч волосы. Кожа, белая, как сливки, казалась мягкой, как и открытая часть груди. Харьюнпяа подумал, нравилось ли Суоминен, когда ее касались усы Асикайнена. Его нервировала незастеленная постель. Ему казалось, что он — Асикайнен. Харьюнпяа прислонился к подоконнику и, не спрашивая разрешения, закурил.
— Спроси теперь, откуда я знала, что его убили.
— Да?
— Я не знала. Я угадала. С тех пор как Рейно стал швейцаром, он то и дело, особенно в последнее время, впутывался в опасные истории. Его злило, что надо быть любезным с пьяными свиньями, тем более что он знал многих из них еще с того времени, когда занимался сыском. У него и теперь осталось по крайней мере два неоконченных процесса.
— Где он работал?
— Везде понемногу. Последнее время — в этой помойке, недалеко от «Ассы», на боковой улице, где магазин абажуров.
Харьюнпяа вспомнил это место, но не мог припомнить, ходят ли туда цыгане; он подумал, что надо этим поинтересоваться, выяснить, кто с кем судился. Яана запустила руку в лифчик и поправила одну грудь.
— Вы любили его? — неожиданно для себя спросил Харьюнпяа.
Суоминен выразительно на него поглядела и выпустила дым из ноздрей.
— Какое это имеет значение?
— Я просто подумал… раз вы его гражданская жена.
— «Гражданская жена», меня тошнит от этих слов. Мы вместе жили. А что такое любовь? По-моему, достаточно, если оба заботятся об известных физических потребностях друг друга.
— А вы знаете, где он был вчера?
— Где-нибудь пьянствовал. Он это любил. Наверно, и без женщин не обходилось. Меня это не волнует. Только не рассказывай мне, что он был там с такой женщиной, которая льет теперь слезы возле трупа любимого…
— Не буду.
Яана встала и взяла пепельницу. На бедрах вязка колготок была плотнее, кожа под ними выглядела более упругой и блестящей.
— Он с цыганами водился? Говорил о них?
— Тогда он не водился бы со мной, можешь мне поверить.
— О’кей! — Харьюнпяа быстро погасил сигарету. — Я хотел бы взять его вещи.
— Не возражаю. Груз будет небольшой.
Женщина открыла стенные шкафы в кухонной нише. Там лежали главным образом ее собственные вещи, но было несколько мужских рубашек, висели пиджаки и брюки, на полу рядом с большой дорожной сумкой стояли коричневые ботинки и валялся один носок.
— Сумка его.
Харьюнпяа поставил сумку на постель и открыл. На дне лежали десятки старых, истершихся в бумажнике или в кармане лотерейных билетов с загнутыми краями. Выигравшие номера были обведены химическим карандашом.
— Выигрывал он только изредка и понемногу, — объяснила Яана. — Человек мелких удач… Но он ненавидел работу — вернее, не ненавидел. Он хотел, чтобы работа оставляла ему время и для жизни.
Яана Суоминен стала перекладывать вещи в сумку. Вдруг она остановилась совсем рядом с Харьюнпяа, выставив одно бедро, приложив к губам палец с длинным красным ногтем; ее кожа уже не казалась теплой, такой, к которой хочется прикоснуться; теперь она скорее напоминала тонкий полиэтилен, который зашуршал бы под пальцами так же, как ее душа.
— Ты спросил о цыганах… Однажды он все-таки о них говорил. Давно, когда был еще филером.
— Да?
— Три цыгана на чем-то попались — я уже не помню, на чем. Во всяком случае, они были несовершеннолетние или что-то в этом роде, так что их нельзя было засадить за решетку. В наказание Рейно заставил их наложить в штаны. Ты это имел в виду?
— Не совсем. Но и это сойдет.
Яана наполнила сумку, Харьюнпяа ее застегнул; он уже знал, что все напрасно, что ни в карманах Асикайнена, ни в других вещах не найдет ничего полезного, но желание Кандолина, во всяком случае, было исполнено.
— Надо, наверно, составить опись его имущества? — спросила Суоминен.
— Это забота родственников.
— Он иногда говорил, что у него есть участок леса где-то под городом Ювяскюля. Это, кажется, очень денежный товар?
— Может быть.
— Может быть… Похоронная машина увозит человека, полицейский — его вещи, какие-то неизвестные люди — деньги. А мне достаются всего два слова — «может быть».
— Вы не состояли в браке.
— Но больше полугода жили вместе.
— Этого мало. Если он не оставил завещания. В начале следующей недели вас, очевидно, пригласят на беседу. Так что попробуйте вспомнить заранее о разговорах и делах Рейно.
— Вот как.
— Да. До свидания.
Харьюнпяа с сумкой в руках направился к двери. Суоминен села в изножье кровати, но на этот раз не скрестила ноги, а вытянула их, потягиваясь.
— Не хотите ли с утра пропустить для бодрости? — спросила она. Голос у нее был такой же, как до этого, только слова она проговаривала медленнее, многозначительнее.
Харьюнпяа опустил сумку на пол, обернулся и посмотрел ей в глаза.
— Рейно застрелили, — сказал он медленно. — На Малом пороге, в кабаке. Пуля попала в сонную артерию, кровь хлынула фонтаном и за пару минут вылилась вся до капли. Это была жуткая картина.
— Фу. Не надо… — Яана Суоминен отвернулась — Харьюнпяа увидел ее четкий, точно нарисованный графитом профиль. Потом женщина снова обернулась к Харьюнпяа: — Значит, не хотите? Для разминки?
— Нет.
— Жаль.
10. СВИДЕТЕЛЬ
У молоденького цыгана, доставленного в «садок», на заведенных за спину руках были наручники. Лицо парня выражало ужас, он тяжело дышал.
— Зачем вы, добрые люди, привели меня сюда?
— Ты кого застрелил из этого пистолета?
— Никого. Честное слово. Поверьте…
— Из него только что стреляли. Он еще пахнет порохом. В кого ты стрелял?
— Добрый господин начальник, пистолет сам выстрелил. Я и не думал — он стукнулся о землю.
— Так. Где ты его украл?
— Нашел.
— Ну конечно. Зачем ты хотел влезть в автобус?
— Это наша машина. Я хотел угнать ее домой.
— Сколько тебе лет?
— Шестнадцать.
— И собирался сесть за руль? Без прав?
— Да. Там наша картошка. Ее надо завтра доставить в магазин, мы же все живем на эти деньги.
— Не ври! Вы живете на краденое, мошенничаете, выпрашиваете у государства помощь, которая вам не предназначается… это все равно что залезть каждому из нас в карман. И в этой машине случайно оказалась картошка Фейи Хедмана? И эта машина случайно принадлежит Фейе Хедману? И совершенно случайно ты чуть раньше, собираясь застрелить Фейю Хедмана, застрелил из этого пистолета полицейского?
— Нет!.. — Паренек чуть не упал на колени. — Я не стрелял… Фейя… это же мой брат… Он ведь жив?
Никто не ответил. Парень начал дергаться, безуспешно пытаясь освободиться, надзиратели прижали его к стене и держали, пока он не перестал вырываться и не заплакал.
— Это мой брат… мой любимый брат… Он жив?
Наручники сняли.
— Разденься!
— Зачем?
— Разденься!
Мальчик начал раздеваться, но, обнажившись по пояс, остановился.
— Снимай все.
— Я не могу — вы все старше меня.
— Не валяй дурака! Раздевайся.
Наконец мальчик снял с себя все, он был тощий и не очень смуглый. Стыдясь самого себя, он присел на корточки. Кто-то из мужчин сказал:
— Не волнуйся за свой товар, его никто не конфискует. Хоть это и было бы в интересах твоего же народа — ничего хорошего из него все равно не получится.
Все прыснули.
— Тебя задержали по подозрению в одном убийстве и попытке совершить второе, — сказал Кандолин. — Принесите ему арестантскую одежду.
— Я не понимаю… Как вы не уразумеете? — повторяла старшая из женщин — и теперь, когда тут не было других полицейских, Харьюнпяа вдруг поверил, что она говорит правду; по ее голосу было ясно, что она потрясена и пытается сдержать бессильные слезы. А под всем этим он угадывал с трудом скрываемое ожесточение — результат повторяющихся одна за другой несправедливостей. — Если вам плевать на парней, то подумайте хоть обо мне — их матери! Поставьте себя на мое место: в больнице при смерти лежит один ваш сын, раненный какими-то убийцами, а потом в этом преступлении обвиняют вашего второго сына и бросают его в тюрьму. Ведь вы-то знаете, что это неправда… Это неправда!
Харьюнпяа молчал. Он мог бы сказать что-нибудь успокаивающее, ни к чему не обязывающее, но не хотел; ему было странно, что женщина права, что в чем-то произошла ошибка, но он не мог найти ни одного убедительного объяснения этой истории. К тому же утро чересчур затянулось, стрелки часов близились лишь к девяти, хотелось спать, мысли путались почти как у пьяного.
Незаметно для себя Харьюнпяа прибавил шаг, а женщины и дети летели за ним — коридор наполнился шуршанием юбок, стуком каблуков и звяканьем браслетов; в дверях появлялись следователи, но быстро исчезали, и Харьюнпяа догадывался, что по крайней мере в десяти комнатах говорят:
— Семейный совет убийц начинается. Скоро их наберется столько, что и полицейский не протиснется…
— Хулда, я вдруг вспомнила, — тихо, как-то испуганно сказала младшая из женщин.
Харьюнпяа шел впереди и плохо ее расслышал. Вся компания остановилась, Харьюнпяа тоже; когда он стоял в лифте за спиной этой женщины, он увидел ее узкий длинный затылок, похожий на вытянутую шею птицы, а пряди, выбившиеся из прически, отливали черно-синим блеском, как у Элисы, когда она собирала в узел волосы. У женщины был такой вид, точно она где-то всю ночь проблуждала. На руках она качала ребенка такого же возраста, как Пипса, его дочь, и Харьюнпяа показалось, что женщина уже опять беременна и срок немалый.
— Старина Калле и Алекси там вдвоем…
— …поди знай, что этому склеротику в голову взбредет…
— А Алекси, этот рохля, он и не догадается его отговорить.
Женщины, склонив друг к другу головы, о чем-то шептались и, когда заметили, что Харьюнпяа прислушивается, перешли на цыганский язык, он не понял больше ни слова. Тем не менее ему показалось, что, помимо всех других бед, у них появилась еще одна.
— Хиллеви…
Старшая женщина подозвала одну из маленьких девочек, достала из кармана фартука какую-то бумажку — наверно, деньги, — сунула в руку девочки и шепнула ей что-то на ухо. Девочка повернулась и побежала к лифту — ей было лет десять, может, и меньше. Длинная, намного ниже колен юбка плескалась вокруг резво бегущих ног, большие резиновые сапоги хлопали по полу.
— Старик остался дома один, — сказала старшая женщина, обращаясь к Харьюнпяа. — Сидит без крошки… Если бы вы только знали, что вы наделали, арестовав Сашку.
— Завернем за этот угол и дойдем до комиссара Кандолина, — вздохнул Харьюнпяа. — Это он решил задержать вашего парня. Он вам все объяснит. Пожалуй, вам следует знать, что десять человек без устали работают, чтобы выяснить, как все случилось, — все время отыскиваются новые свидетели и улики. Если ваш Сашка не виноват, его отпустят… — Он и сам не знал — лжет он или говорит правду; а новые свидетели и улики — что они дадут? Может быть, кто-то вспомнит теперь случившееся иначе, чем вчера, может быть, Турману повезет и он найдет гильзу. Для верности Харьюнпяа добавил: — Но ночью положение было такое, что мальчика нельзя было освободить после допроса…
— Безвинного мальчишку? Не может быть такого положения, если вы только специально этого не хотите.
Харьюнпяа постучал в дверь Кандолина и вошел. В комнате было полно мужчин, и синий табачный дым плавал в воздухе как овеществленная усталость, которую можно было прочесть на всех лицах. Напротив Кандолина сидел молодой, не известный Харьюнпяа мужчина с редкими светлыми усами, одетый в форму таксиста. Вид у него был такой же невыспавшийся, как у всех. Фуражку он положил на колено. Кандолин, единственный из всех, выглядел не менее бодрым и деятельным, чем вечером.
— Мать этих парней здесь, — сказал Харьюнпяа. — И жена Фейи, и другие. Ждут в коридоре. Они хотели бы поговорить с тобой как можно скорее — заодно и передачу Сашке принесли…
Он взмахнул полиэтиленовым мешком, который держал в руках, — старшая женщина отдала ему мешок и умоляла проследить, чтобы его передали по назначению.
— Ах, ждут в коридоре, — медленно сказал Кандолин и потер лоб. — Пусть наберутся терпения и подождут, раз пришли без приглашения. Пускай не думают, что, как всегда, возьмут нахальством.
Только теперь Харьюнпяа вспомнил, что Кандолина считали в Управлении специалистом по цыганам — правда, репутация эта сложилась у него лет десять назад, когда преступления, в которых подозревались цыгане, случались гораздо чаще.
— И никаким посредничеством мы заниматься не станем, — продолжал Кандолин официальным и вместе с тем многозначительным тоном — это, несомненно, объяснялось присутствием таксиста. — Пускай Сашка Хедман посидит в таких же условиях, как все задержанные. Пусть, как другие, довольствуется здешним питанием…
Харьюнпяа подошел ближе к столу Кандолина; он и сам понимал, что лучше было бы промолчать, но попытался еще раз:
— Они очень перепуганы. И говорили на своем языке, словно на самом деле чего-то боялись. Если бы их понять…
Мужчины слегка усмехнулись. Кандолин сказал:
— Еще бы им не испугаться, ведь парень может схлопотать за убийство пожизненное заключение.
— На военных курсах наш учитель финского раздал всем листочки, — тихо, словно во сне, сказал Кауранен, сидящий где-то у окна. — На них был список цыганских слов. Так, мне помнится, говорилось в заглавии… Но мы посчитали — хватит с нас и того, что старик учит нас финскому. И на следующем уроке мы порвали эти листочки — все одновременно. Черт побери, стоило поглядеть на физиономию деда! Больше он, говорят, ни разу не пробовал учить чужим языкам…
Все громко рассмеялись, даже слишком громко — усталость отключила тормоза; но Харьюнпяа смутился — не оттого, что они осмеяли его, что он сделал или сказал что-нибудь смешное: ему показалось, что его как бы отделили от компании. Он огляделся — все смотрели на него, может быть, это было случайно, но казалось, что Кандолин адресовал следующие слова именно ему:
— Tee tuu mange tsergi hooro…
Смех прекратился, мужчины закашляли. Насупившись, они смотрели на Кандолина, как смотрят на человека, который справился с неодолимой задачей. Только Ехконен, самый младший из следователей в отделе Кандолина, едва достигший двадцати, наивно спросил:
— Что это значит?
Но Кандолин ограничился улыбкой и кивком головы. Потом прочистил горло, как бы желая напомнить, что работа не ждет, и повернулся к таксисту:
— Давайте вернемся к тому, что он сказал. Можете ли вы поточнее вспомнить?
Таксист вздохнул и облокотился о стол — он явно почувствовал себя свободнее, подумал, что тоже относится теперь к этой компании.
— Он говорил: «Фейю застрелили, а теперь они поймают меня».
— Как вы это поняли?
— Да что тут понимать? Приятель явно убегал и торопился сесть в машину… Мне, конечно, показалось, что он чего-то натворил.
— Вы хотите сказать — застрелил Фейю?
— Да, то есть, в сущности… Да, это тоже пришло мне в голову. Хотя в такое, конечно, трудно поверить. Но он меня все-таки напугал, и я решил: не повезу. Только через несколько часов на стоянке у вокзала приятели рассказали мне о вашем сообщении по рации. Я, наверно, заправлялся или ходил пить кофе, когда это передавали…
— А вы сможете узнать того парня?
— Черт побери, настолько-то я его разглядел!..
Харьюнпяа прошел в комнату Кауранена и машинально стал проверять содержимое полиэтиленового мешка — в глубине души он надеялся, что мешок Сашке передадут, что Кандолин хотел проявить строгость только при таксисте. В мешке была чистая рубаха и нижнее белье, две пары носков, банка апельсинового сока, булочки, пакет нарезанной колбасы. Он начал запихивать все обратно — и тут заметил что-то странное. На столе, там, где только что были носки, лежал патрон. Харьюнпяа взял его в руку. Это был обычный патрон, калибра 7,65. Он закрыл глаза, чтобы хорошенько подумать; на столе, несомненно, было пусто, никакого патрона тут не было, у него он выпасть не мог, его патроны другой формы. Значит, этот мог находиться только в вещах, предназначенных Сашке. Харьюнпяа повернулся и пошел к двери.
— Послушайте…
Все столпились вокруг стола. Кандолин разложил там больше десятка фотографий разных цыган. Таксист указал пальцем на одну из них:
— Вот он.
Мужчины с облегчением задвигались. Харьюнпяа увидел в щель между Каураненом и Ехконеном, что на фотографии был Сашка.
— Так, — обронил Кандолин. — Я думаю, лучше всего записать ваши показания. Харьюнпяа, скажи-ка этим цыганским дамам, чтобы приготовились ждать не меньше часа.
— Ты бы обменялся с ними несколькими словами — у них на руках даже грудные дети.
— Ну ясно, они всегда прихватывают младенцев. Это их обычная тактика, дети-то могут разжалобить — по себе, наверно, знаешь…
Это снова вызвало легкий взрыв смеха.
— Скажи, пусть наберутся терпения.
Харьюнпяа, ни слова не говоря, взялся за ручку двери. Какой-то нерв на его лице сильно задергался. В кулаке он сжимал патрон, ставший уже совсем теплым, как яичко маленькой птицы. Он решил, что наличие патрона должно было что-то сообщить Сашке и что женщины пытались провести его, Харьюнпяа; на минуту он почувствовал к ним то же раздражение, что и к Кандолину, и ко всем остальным, но все-таки опустил патрон в карман.
11. ХИЛЛЕВИ
Хиллеви прыгала по бетонным плитам тротуара: на левой, на левой — на правой, на правой — поворот кругом — и сразу на обеих. Остановилась, оглянулась. Такой длинный путь она, прыгая, никогда еще не одолевала. И даже черты ни разу не коснулась, хотя сапоги такие громадные — это ведь не ее сапоги, а Хелли.
Хиллеви вздрогнула. Мысль о Хелли заставила ее вспомнить и о Старине Калле с Алекси. Она о них почти забыла, а ведь Хулда велела идти прямо домой. Их надо чем-нибудь накормить. И проследить, чтобы они никуда не ушли и никого не впустили в дом.
Хулда не сказала — почему. Но она и без того знала. Хулда и Орвокки боятся, как бы сыновья Руусы не явились и не застрелили их. Хотя Калле-то они не стали бы убивать, он ведь такой старенький. А вот Алекси — может быть, хотя он и не совсем… Фейю они уже попытались убить. Он теперь лежит в больнице — и даже докторов не боится. Они, правда, тоже не побоялись — провели там всю ночь. Она спала на скамье в коридоре. А белобрысые их собачили и пытались выгнать, они не знали, что Фейю надо охранять.
Хиллеви вбежала во двор, юбка на ней развевалась, как парус. Она открыла дверь подъезда ключом, висевшим на шее. Он подходил и к двери их квартиры, а к остальным квартирам нет — вот странно, она ведь проверяла. Ключи чужих людей тоже, видно, не подходили к их дверям, раз никто к ним никогда не приходил. Хиллеви стала взбираться по лестнице. Они жили на втором этаже.
Хулде и Орвокки это не нравилось. Они говорили, что это неудобно — всегда приходится идти вверх позади Калле, Фейи и Сашки, а вниз — перед ними. А Хиллеви об этом не думала, у нее ведь не было еще настоящего платья. А вот когда будет… Но тут уж ничего не поделаешь, им не дали квартиры в нижнем этаже. Яркко болтал во дворе, будто его отец говорил, что, живя наверху, они не смогут торговать вином прямо через окно. Но они-то ведь торгуют не вином, а картошкой. Да и продают ее не дома, Фейя развозит по торговцам.
Хиллеви остановилась и схватилась за перила.
У их дверей стояли два незнакомца. Но не сыновья Руусы, а белобрысые. Они звонили и стучали в дверь, один пытался заглянуть в прорезь для почты, но ничего там не увидел — изнутри к ней была прибита полоска жести. Лустиго лаял на кухне, он явно нервничал.
Хиллеви повернулась, собираясь убежать, но один из мужчин ее заметил.
— Ага-а! — сказал он. — Кажется, честная компания возвращается.
Она знала этого человека. Это тот самый толстый дворник, который разрешил им сушить белье во дворе только раз в неделю. У них, видите ли, так много белья, что остальным не остается места. Но у белобрысых и белья-то столько нет, они же грязное носят, они неряхи, им все равно.
— Где твоя мамаша? Или бабушка?
Хиллеви не ответила. Лучше смолчать, никогда ведь не угадаешь, чего этим белобрысым надо.
— Где остальные? — спросил и второй мужчина. Его голос был гораздо приятнее, да и весь он был более симпатичный. Но Хиллеви все равно не ответила. Она же его не знает.
— Ну так я могу тебе сказать, — заявил дворник. — Не забудь передать своей мамаше, что это последнее предупреждение. Таких пьянок, как прошлой ночью, мы больше не потерпим. Такой подняли гам, что ни одна душа в доме уснуть не могла. Хоть это и муниципальный дом, отсюда тоже можно выселить… Поняла?
Хиллеви смотрела на свои сапоги. Мужчины заговорили друг с другом.
— Открой-ка, девочка, дверь, — сказал дворник. — Это мой приятель из Управления домовладельцев. Посмотрим заодно, в каком состоянии квартира. Но сначала ты сама войдешь и посадишь на цепь своего зверя.
Хиллеви зажала ключ в кулачке и не шевельнулась. Мужчины минутку подождали. Потом дворник начал звенеть у себя в карманах.
— У нас есть общий ключ, — сказал он. — Но я не знаю, как там с этой шавкой…
Хиллеви оторвалась от перил, подошла и открыла дверь. Она побоялась, как бы они не сделали чего плохого Лустиго. Это был добрый пес, но уже такой старый, что зубов у него почти не осталось. Лустиго попытался обнюхать гостей. Хиллеви упала на колени, обняла собаку за шею, стала ее гладить и шептать ей в ухо ласковые слова. Потом они вместе заползли под вешалку. Пола выходного кожаного пиджака Фейи задела лоб Хиллеви.
— Цыганами воняет.
— Или этой псиной. Позволяют ей гадить по всему двору. Заставить бы их ложкой собирать каждую кучку…
Хиллеви слышала, как мужчины расхаживают по комнатам, точно по собственному дому.
— А мебель у них все-таки приличная.
— Как не быть мебели, если Управление социального обеспечения дает новую, едва только они испоганят старую.
— А фотографий-то сколько понавешено. И на всех — похороны. Точно ничего живого у них нет. Что это с дверью случилось? Погляди-ка поближе…
— Чертова собака исцарапала.
— Вон на той фотографии весьма смазливая бабенка. С такой даже…
— Фу-у… Дурацкая мысль. Эй, девочка! Кто вам позволил так кладовку использовать? Кто разрешил разобрать полки?
Хиллеви крепче прижалась к Лустиго. Эти типы дураки. Ничего не понимают, такие же глупые, как плоскостопые. Просто недоумки и цыган ненавидят.
— Живет тут у них кто-то, что ли? И кровать стоит… За это можно бы и к ответственности привлечь, если бы на них распространялся закон о защите животных. Они…
— Слышишь, девочка? Скажи матери, что мы это дело так не оставим. Скажи, пусть лучше сама поищет другую квартиру. Понимаешь?
— Оставь ее. Ничего она не понимает.
Наконец дверь хлопнула, и мужчины ушли. Но на лестнице они расхохотались. Даже стены от смеха затряслись.
Хиллеви крепко сжимала шею Лустиго. Она не осмеливалась его отпустить. Знала, что, если отпустит, ей придется признать, что Старины Калле и Алекси нет дома.
Они куда-то ушли. И кто-нибудь их, конечно, может застрелить. А Хулда скажет, что это она виновата.
Хиллеви прикусила губу. Она ждала и прислушивалась, но ничего, кроме дыхания — своего и Лустиго — да еще тиканья стенных часов, не услышала. Потом она вздохнула, поднялась, сбросила сапоги, прошлепала на кухню и взяла два кусочка сахару. Один съела сама, второй отдала Лустиго.
12. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
— Миранда! Возле нашего дома остановилось такси!
Аллан крикнул это так звонко, как может крикнуть только испугавшийся ребенок. Потом сделал движение, словно хотел выпустить штору и убежать, но передумал, остался на месте и продолжал как настоящий комментатор:
— Это «мерседес-бенц»! Спереди только водитель. Сзади два каких-то типа. Старый и молодой. Я их не знаю… Миранда!
Миранда прибежала из кухни, лихорадочно вытирая полотенцем руки. Ожидание и усталость взвинтили ей нервы, из-за детей она не смогла прикорнуть даже под утро. Миранда подошла к щели между шторами и вгляделась.
Она не сразу узнала приехавших. Младший был совсем мальчик. Он стоял спиной к окну и помогал выйти из машины второму. Тот и в самом деле был в возрасте, совсем старик, сгорбленный и сухой. На голове фетровая шляпа. Волосы на висках серебрятся.
— Спаси и помилуй…
Миранда уронила полотенце и схватилась за сердце. Она не могла ошибиться — старик, несомненно, был Калле Хедман, младший — Сашка или Алекси.
— Севери! — закричала Миранда. Потом побежала в спальню, остановилась и стала гнать из комнаты Аллана и остальных детей. — Вон отсюда! Сейчас же в заднюю комнату!
— Почему?
— Мы никуда не пойдем.
— Вы что, бесенята, не слышите? Аллан, иди скажи Руусе, что приехали незваные гости, очень плохие…
Дети притихли. Только Аллан осмелился спросить:
— Они убьют Севери?
— Молчи! Закройте дверь и не смейте подглядывать!
Севери приплелся из спальни — он дремал на диване одетый, сбросил только сапоги; лицо у него было заспанное, но в глазах отчетливо мелькнул страх.
— Что случилось?
— Хулдины мужики приехали!
— Не может… черт побери… — Севери вернулся в спальню и вышел уже в сапогах, с пиджаком в одной руке, с тяжелым длинноствольным револьвером — в другой. — А ты не ошиблась?
— Нет. Двое, приехали на такси.
Супруги приникли к окну. Такси еще стояло на месте, мотор работал. Младший, очень бледный, сел обратно в машину и стал оттуда смотреть на дом. Вид у него был взволнованный. Или виноватый, как у человека с недобрыми намерениями.
— А второй кто?
— Старик, — шепнула Миранда, она вдруг так испугалась за Севери, что чуть не упала. — Виски седые… в руках палка… Может, ты выскочишь в кухонное окно и перелезешь через скалу…
— Нет… Они хитрые, скалу кто-нибудь сторожит. Этого они и добиваются — выманить из дома, а старик и мальчишка — для отвода глаз… До чего осмелели — прямо в дом лезут! Но даром им это не пройдет.
Севери поднял револьвер и опустил палец на спусковой крючок — оружие щелкнуло. Рот у Севери был плотно сжат, ноздри расширились — давешнего испуга словно и не бывало, это опять был человек, который ничего не боится и который умеет подчинить себе даже белобрысых. На крыльце послышались неверные шаги. Потом в дверь постучали.
— Открой, Миранда. Тебе они ничего не сделают… А я даже к двери не подойду. Ни за что не подойду, будь у них хоть какое дело. Сначала пригласи их в дом.
— Что случилось?
Рууса вышла из своей комнаты. Увидев в руках старшего сына оружие, она как вкопанная остановилась.
— Уходите, Рууса!
— Нет уж, хватит! Больше вы не совершите безумных поступков!
— Уходите!
— Нет…
Рууса не ушла, Севери ничего не мог поделать, да и не знал — надо ли; Рууса была женщиной с характером — женщиной прежних времен; когда-то давно, еще при жизни Кюести, она однажды встала между ними и получила удар ножом по руке. Севери прислонился к печке, но хорошо видел прихожую и Миранду, рука которой уже протянулась к крючку. И только тут он вспомнил — стукнул кулаком в стену и хрипло крикнул наверх:
— Ребята, приготовьтесь! Пришли худые гости!
Вяйнё сразу проснулся, соскользнул с одеяла, служившего подстилкой, на голые доски пола и, еще сонный, стал нащупывать какое-нибудь оружие. Он только и разобрал, что Севери что-то крикнул. Но и в его снах тоже все время слышались крики — сейчас ему снилось, что он лежит под полом танцзала в какой-то тесной, пахнущей плесенью щели, а люди танцуют прямо на нем и кричат. Была беспросветная темень, он толком ничего не видел — но вот пальцы его нащупали что-то твердое и холодное. Это был «Гаспар Арицага Эйбар». Теперь он понял, где находится — в каморке на чердаке, там всегда так пахнет: прошедшим летом и газетами.
Вяйнё встал на колени и, прижав оружие к груди, прислушался. Онни храпел рядом. На улице тарахтел мотор, даже чувствовался его запах. Других звуков не было. Впрочем, нет: казалось, весь дом кричит, предостерегая от чего-то; где-то скрипнул пол, дети было захихикали, но сразу затихли.
— Онни…
Вяйнё встал на ноги и стал пробираться к окну. Он сорвал газету — на улице был ясный день, и Вяйнё заморгал, ослепленный. На противоположной стороне улицы стояло такси — черный «мерседес». Водитель нетерпеливо ерзал. Задняя дверца машины была открыта, и внутри сидел молодой цыган. Сердце Вяйнё заколотилось — это был брат Фейи, Алекси. Вяйнё сразу понял, что́ должно произойти. Потом вдруг вспомнил, что вина лежит не только на нем, но и на Онни. Тут же пришла и следующая мысль — они не могут помочь Севери: Севери загородил дверь со стороны чердака тяжелым платяным шкафом.
— Онни!
Онни уже встал и шел к окну. Он сорвал остатки газеты и прижался лицом к темному от сажи стеклу, но сразу же отпрянул — потом схватил Вяйнё за руку, отобрал оружие и снял с предохранителя.
— Это Алекси…
Он сделал еще шаг назад, вытянул руку, поддерживая «Гаспара» снизу левой рукой, и ощерился так, что показались десны. Потом положил палец на курок.
— Взял на мушку, — сказал он, тяжело дыша. — Пуля пройдет через заднее стекло машины. Попадет прямо в цель…
— Погоди!
— Зачем?
— Может, они… Подождем… — Вяйнё показалось, что голова у него заработала только теперь. — Почему они осмелились приехать на такси? — удивился он.
— Действительно… Я на всякий случай все время буду держать Алекси на прицеле. Встань на колени и послушай, что делается внизу.
Онни, не шевелясь, стоял на месте, прикрыв один глаз. Окно казалось ему просто светлым квадратом, а руки — черными, гигантскими, острые грани прямоугольного ствола поднимались над руками, мушка блестела, она смотрела прямо в лицо Алекси. Руки Онни неудержимо дрожали, сейчас он попал бы в шею Алекси, теперь — в плечо. Алекси тоже двигался — вот он наклонился что-то сказать водителю, теперь пуля попала бы ему в ребро. Онни немного расслабился — надо быть осторожным, он вчера подточил курок, оружие теперь легко разряжается.
Вяйнё бросился плашмя на пол и прижался щекой к доскам. Было слышно, что внизу идет разговор, но слова доносились неразборчиво, как сплошное жужжание, различались только интонации. У незнакомца голос, был старческий, он говорил медленно. Севери отвечал резко. Но не угрожающе. И ни разу не прервал гостя — он явно его уважал.
— Алекси чертовски трусит, — усмехнулся Онни, стоя у окна.
— Молчи…
Внизу говорили о Сашке, имя донеслось отчетливо. Это брат Фейи, как и Алекси. Вяйнё не разобрал, какое отношение к делу имеет Сашка; ему показалось, что Севери сухо рассмеялся.
— Он вовсе и не мужчина, этот Алекси, — сказал Онни. — Сколько ему… четырнадцать?
— Тихо!
— Я в этом возрасте уже спал с Каариной Лехикойнен. Помнишь ее? Но Алекси, кажется, для этих дел никогда не созреет…
— Почему?
Вяйнё поднял голову. Он невольно заинтересовался.
— Да ведь он совсем дурачок, они на него пенсию получают… окончательно помешался после той истории.
— Какой истории?
— Да ты знаешь. Плоскостопые схватили его на улице, но так как пришить ему ничего не могли, то в досаде увезли на Босяцкий остров и сказали: «А ну, топай домой!..» Он стал требовать — сами, мол, привезли, сами и обратно везите… Тогда ему приказали спустить штаны и пригрозили посадить в конуру с собакой, если он не послушается, а потом напустили в штаны слезоточивого газу…
— Так то было с этим Алекси? А я думал, что тогда говорили про Алекси — сына Пинка, который переехал в Швецию.
— Нет. Про этого. Такого и пристрелить-то жалко…
— Ш-шш… Не расслышал. Но гость уходит… закрыли дверь на крючок… ковыляет вниз с крыльца…
Дом ожил — захлопали двери, зашумели дети, Рууса что-то или кого-то благословляла. Вяйнё подошел к окну. Гость вышел со двора и медленно побрел к такси, опираясь на палку.
— Это Калле.
Алекси вылез из машины, пошел навстречу старику и помог ему сесть на заднее сиденье. Такси уехало, не оставив за собой ничего, кроме рассеивающегося выхлопа газа, а на окнах Палми шевельнулись шторы.
— Как это он не побоялся сюда приехать?
— Такой старый. Эти старики все норовят делать что-то как в молодые годы… Говорят, он еще из дому удирает продавать часы, очень любит торговать. И пусть бы себе, только продает-то он дешевле, чем купил.
Лестница заскрипела. Парни замолчали. Поднимался Севери — шаги были тяжелые, но бодрые. Приятели сели на постель, и Онни сунул оружие под подушку. Потом за дверью послышалось шуршанье и кряхтенье — это Севери отодвигал шкаф.
Он остановился на пороге. Сердитый или нет — определить трудно: вид у него всегда суровый.
— Угадайте-ка! — сказал Севери, и было похоже, будто он и сам еще чего-то не знает. Но Севери явно не был так раздосадован, как ночью; правда, когда он прочел в газете, что они застрелили плоскостопого, он все-таки стал на их сторону. Плоскостопые столько раз и так нагло водили его за нос, отбирали права за такие провинности, за какие белобрысые отделались бы простым замечанием, а дважды даже побили. Правда, в последний раз за дело — он схватил одного плоскостопого за нос, потому что тот назвал его паршивым негром.
— Сашка арестован.
— Что?
— За что?
— Ни за что не догадаетесь…
Ребята сидели не шелохнувшись. Потом Онни сделал глубокий вдох, задержал дыхание и рассмеялся.
— Его обвиняют в убийстве того плоскостопого и Фейи, — сказал Севери.
— Не может быть!
— Ну и дурачье!
— Вот недоумки…
— Засадили Сашку! — взвыл Онни. Он бросился на постель и так завертел головой, точно у него начался припадок. Вяйнё тоже стало смешно, правда главным образом оттого, что Онни так смеется, и оттого, что все обошлось и никого не пришлось убивать.
— Но, ребята, — сказал наконец Севери уже без улыбки. — Из этого могут выйти и неприятности… Калле рассказал, что Орвокки совсем расходилась. Пригрозила: если Сашку быстренько не освободят, она расскажет плоскостопым, чья это работа.
— Неужели она такая подлая?..
— Конечно. И это грозит вам обоим тюрьмой. На много лет. Так что подумайте, что делать дальше…
— Мы убежим. Уедем к Райнеру и Мустакорве в Стокгольм.
— Не поможет. Вас все равно разыщут. Они теперь и за паромами следят. Но одевайтесь, я скажу Миранде, чтобы принесла вам кофе и еды. И твою ногу надо еще раз посмотреть.
Вяйнё и Онни остались вдвоем. Они сидели на постели друг против друга. Щеки Онни задергались. Он произнес одними губами:
— Плоскостопые схватили Сашку.
И им снова стало неудержимо смешно — оба повалились на постели, натянули на лица одеяла, но успокоиться никак не могли. Ведь плоскостопые схватили Фейиного брата.
13. СИНЕКОРЫИ ПАЛТУС И КОМНАТА С ЗЕРКАЛОМ
Харьюнпяа осторожно повернул голову, чтобы не разбудить Пипсу — девочка, их третья, спала на его голой груди, поджав ножки и сжав ручки в кулачки. Пипсе было пять месяцев, и боли в животике, мучившие ее по ночам, стали наконец проходить. Прошлой ночью она, правда, еще по старой памяти попищала и успокоилась только с час назад — после того, как Элиса положила ее рядом с ним. Пригревшись, девочка спокойно засопела во сне.
Харьюнпяа посмотрел на часы. Было без четверти девять. Но он не стал торопиться и, как ни странно, не почувствовал даже угрызений совести за свое спокойствие. Он закрыл глаза и вдыхал запах Пипсы — аромат молока и сна, тепла и Элисы.
Элиса налила воды в кофейник. Паулина и даже Валпури уже спустились вниз, хотя была суббота — а может быть, именно поэтому: суббота для них — карамельный день. Сейчас они ссорятся между собой из-за того, кто зажжет свет в аквариуме и насыплет рыбкам корм.
— Я! — решительным голосом старшей сказала Паулина, и Харьюнпяа просто увидел, как она вытягивает руку, преграждая путь Валпури.
— Мама! — пищит Валпури.
— Девочки!
— Она и вчера зажигала и дала Йосефине корм!
— Ну и дала. Ты-то ведь не дала, хотя была твоя очередь.
— Она сказала, что не хочет.
— Хи-хи…
Йосефина — это морская свинка. Элиса быстро разрешила конфликт:
— Паулина, погаси свет, и пусть Валпури снова его зажжет — тогда получится, что вы сделали это обе. И обе насыплете в аквариум по щепотке корма.
Выключатель щелкнул, девочки затихли.
Харьюнпяа глядел в потолок, пустой и белый.
При желании он мог бы проснуться вовремя и успеть в Управление. Но он не дал себе такого труда — отпуск кончился так недавно, что ему трудно втягиваться в работу, казалось, он больше не узнаёт себя, не умеет больше быть полицейским, таким, каким должен быть блюститель порядка. Или, может, все наоборот: он не узнаёт других? Во всяком случае, всю ночь в четверг и всю пятницу ему казалось, что он участвует в какой-то бурной демонстрации — только не знает, за что идет борьба.
И хотя он целые сутки занимался историей, случившейся на Малом пороге, он не мог отнестись к ней как к своему делу. Это было дело Кандолина. И Кауранена, и Ехконена, и Нордстрёма. Просто он в этом участвовал потому, что начальник отдела насильственных действий — Ваурасте — так распорядился. А расследование истории в Речном заливе получило совсем другой поворот: Норри добился признаний от одного из подозреваемых, теперь осталось провести несколько допросов, с ними Норри легко справится при помощи Хяркёнена и Вяхе-Корпела. И как сказал Ваурасте: Харьюнпяа может считать себя свободным от этого дела. К тому же Ваурасте, видимо, думал, что, если соединить двоих наполовину бесполезных людей, получится один полезный, и потому откомандировал в помощь Кандолину не только Харьюнпяа, но и Онерву Нюкянен.
— Там, наверно, придется вытряхивать сведения из цыганок — ты можешь пригодиться.
Это несколько утешило Харьюнпяа: они с Онервой понимали друг друга.
Валпури внизу хныкала:
— Мама! Палтус боится подплывать и не ест.
— Конечно, когда другие его кусают, — объяснила Паулина. — Если бы я делала тебе вот так, когда ты подплываешь к корму…
— Ай! Не надо! Мама-а!
— Девочки!
— Паукку меня кусает…
— А вот и нет, просто я сделала вот так рукой. И вовсе это не палтус.
— Пусть она его называет синекорым палтусом. Вы разбудите Пипсу и папу. Ему сегодня на работу, и его могут там задержать. Наверно, задержат.
— Это синекорый…
Часы показывали ровно девять. Харьюнпяа стал перекладывать Пипсу на постель рядом с собой. Он не знал, что делать с рыбкой — месяц назад он купил этих двух рыбешек, но ему, очевидно, продали двух самцов. Более крупный так запугал своего собрата, что тот не осмеливался даже голову высунуть из водорослей, не то чтобы поесть, и через неделю сдох. Может быть, он вообще был болен. Но после этого ситуация стала еще сложнее — другие рыбки принялись нападать на оставшегося в одиночестве тирана, особенно скалярия — роскошная громадина, которой, казалось, отлично живется. И вот теперь этот бывший деспот в свою очередь прячется на дне аквариума. Когда его пытаются накормить отдельно, он пугается руки и трусливо мечется, натыкаясь на стенки. Харьюнпяа начинает почти ненавидеть его. В такие минуты ему даже думается, не лучше ли прикончить рыбку. Но в глубине души ему не хочется этого делать. Пересаживать в какую-нибудь банку тоже нет смысла — там он погибнет от недостатка кислорода и от одиночества. По-видимому, остается только ждать, чтобы другие рыбки приняли его. Вместе с тем Харьюнпяа чувствовал, что этого не произойдет, что в некий день рыбка будет плавать среди водорослей с остекленевшими глазами. А ведь все, в сущности, зависит от его нежелания вмешаться.
Харьюнпяа встал и начал размышлять, стоит ли надевать форму. Все следователи из группы Кандолина носили одинаковую серую форму, и это делало их похожими на близнецов.
— Чему ты улыбаешься?
Элиса неслышно поднялась наверх. Харьюнпяа схватил свои вельветовые брюки.
— Представил себе Кандолина и его компанию. Если бы кто-нибудь стал бить в барабан перед Полицейским управлением — как они все заковыляли бы за ним на своих негнущихся ногах…
— Иди пить кофе. Это не девочки тебя разбудили?
— Да. Нет.
Харьюнпяа открыл дверь, но к выключателю не притронулся. Мягкий рассеянный свет проникал в квадратное отверстие на правой стене, оставляя в комнате полутьму, при которой, однако, можно было разглядеть письменный стол и стулья, чтобы не наткнуться на них. Пропуская вперед посетителя, он встал в сторонке у двери.
— Прошу.
Эйнар Копонен, тот самый свидетель, который говорил с убийцами всего за минуту до выстрелов, сейчас неуверенно остановился в дверях. Чувствуя напряжение во всем теле, он, видно, только теперь понял, как велика его ответственность; в коридоре он уже намекнул, что кое-что слышал от преступников, задумавших злое дело.
— Проходите, проходите! — пригласил Харьюнпяа. — Хотя вы увидите подозреваемого, он вас не увидит — с той стороны окно кажется просто зеркалом. Но не говорите слишком громко.
— Ладно. Так я и думал. Нынче везде техника…
Они прошли на середину комнаты. По сравнению с тем, каким он предстал ребятам в четверг вечером, Копонен был неузнаваем: аккуратный костюм (который явно по большей части висит в платяном шкафу), белоснежная рубашка с галстуком, на ногах до блеска начищенные ботинки, щеки свежевыбриты и пахнут одеколоном, ранка на подбородке заклеена маленьким кусочком пластыря. Явившись в Управление, он смело смотрел всем в глаза и крепко пожимал протянутые руки.
— Ага, герой, значит, там…
Харьюнпяа встал рядом с Копоненом. Он лишь мельком взглянул на комнату по ту сторону стекла — она была маленькая, стены обшиты щитами фанеры, отчасти для звуковой изоляции, но главным образом потому, что в используемой обычно сухой штукатурке легко проделать дыру — стоит только пнуть по ней ногой; высоко под потолком ярко горят лампы дневного освещения, никакой мебели, кроме скамьи на стальных ножках, прикрепленных к полу, в комнате нет. На стене напротив скамьи виднеется квадрат, кажущийся зеркалом.
Сашка сидел на скамье, рядом с ним, прислонившись к стене, стояла Онерва. Они о чем-то говорили.
— Ну как?
Харьюнпяа, сощурив глаза, следил за Копоненом. Лицо свидетеля было абсолютно пустым, может быть, только в глазах мелькнуло легкое удивление. Он склонился ближе к стеклу и почти прижался к нему — на стекле были пятна и потеки: следы плевков, которыми кто-то на той стороне скрашивал ожидание. А может, стекло запачкалось тогда, когда какой-нибудь другой Копонен вот так же прижимался к нему лицом.
— Коне-е-ечно, — тягуче сказал Копонен, и Харьюнпяа показалось, что лицо его стало еще более пустым, может быть, даже разочарованным. Потом Копонен заметил Онерву и сглотнул так, что шевельнулся кадык. Быстро облизнув губы, он снова взглянул на Сашку и сказал, едва разжимая губы: — Конечно. Конечно, вы взяли того, кого надо.
— А возраст? Вы ведь раньше говорили о более взрослых парнях.
— Ну да… Вы же знаете, как можно ошибиться в темноте. И, честно говоря, я тогда был немного под мухой…
— Вот он сейчас стоит, посмотрите на него еще раз.
Копонен молчал и задумчиво жевал губы.
— Конечно, — сказал он наконец, и теперь его голос звучал неколебимо твердо. Он выпрямился и повернулся к Харьюнпяа — уверенность появилась даже в его глазах, а подбородок поднялся чуть ли не вызывающе. — Это, несомненно, один из них — как раз тот, который задавался и не хотел со мной разговаривать, только спесиво глядел мимо меня. Теперь небось повесил голову…
Онерва предложила Сашке немного походить.
— Еще раз посмотрите, — попросил Харьюнпяа.
— От этого дело вернее не станет, — отвечал Копонен и подозвал Харьюнпяа поближе. — Конечно, все они вроде на одно лицо, потому, поди, и осмеливаются совершать столько преступлений. Но этого шельму я по глазам узнаю. Поглядите-ка. Точно такие же цыганские глаза, как у того… — Голос Копонена окреп. От возбуждения он стал переминаться с ноги на ногу. — Гляньте-ка на него — по глазам видно, что он прикидывает, как бы у кого бумажник стянуть, а еще лучше и портки вместе с ним! Как эта девушка-то там не боится? Надеюсь, она свое дело знает? Как бы он на нее…
Харьюнпяа опустил щиток, закрывавший окошко. Потом постучал пальцем по стене, чтобы Онерва услышала, и зажег свет.
— А вы не допускаете, что видели его где-нибудь при других обстоятельствах? — спросил Харьюнпяа, глядя в глаза Копонену. — Например, среди танцующих? Он утверждает, что было именно так.
Копонен сделал глубокий вдох, но ответил не сразу — он посмотрел на свои руки, посмотрел внимательно, словно на них было что-то такое, чего он раньше не замечал.
— Послушайте, — начал он наконец, и голос его задрожал от справедливого гнева. — Я пытаюсь вам помочь. Я стараюсь помочь полиции и всему обществу раскрыть преступление, при котором один из ваших собратьев нагло убит. А вы меня экзаменуете. Точно это я, а не он — преступник.
— Я экзаменую всех, — сказал Харьюнпяа, сел за пишущую машинку и стал вставлять в нее лист. — Запишем эти показания в дополнение к тем, которые вы дали раньше. Как и в тот раз, вы обязаны говорить только правду.
— Не надо мне напоминать. Мне и клятвы приходилось приносить. И я их никогда не нарушал. А если бы нарушил, то вряд ли вы сидели бы тут со своими рассуждениями.
— Я обязан напомнить. Это мой долг.
— Я пожалуюсь на вас комиссару Кандолину. Вы злитесь и задаете вопросы с подвохом.
— Ваше право. Но какой я есть, такой есть и другим быть не могу.
— А вы обязаны. Вот так вот…
Харьюнпяа застучал на машинке. Но тут он вспомнил, что окошко по ту сторону было забрано тяжелой, выкрашенной в белый цвет металлической решеткой; кто-то нацарапал там над стеклом: «Большой глазок». А кто-то другой — под стеклом: «Но его еще проткнут».
14. ФЕЙЯ И ОРВОККИ
Орвокки все продумала: как она слегка улыбнется, как, чуть склонив голову, скажет: «Ну конечно, только отпусти тебя куда-нибудь, ты и убьешь себя…» Она собиралась сказать это так, чтобы Фейя понял, что она уважает, а не клянет его, и вместе с тем так, чтобы он увидел, как она обеспокоена. Но сейчас, когда сиделка ушла и Орвокки осталась в залитой холодным светом и пропитанной резким запахом палате, она стояла молча, дрожала и думала о том, что дитя в ней уже два дня не шевелится.
Ей казалось, она попала сюда по ошибке. Палата была совсем чужой, кровати недобро поблескивали, натянутые между ними шторки должны были что-то скрывать, но, в сущности, ничего не скрывали, на полу стояли склянки, в которые по трубкам лилось что-то такое, что должно было циркулировать только внутри человека. Все вокруг словно криком кричало о том, как трудно больным находиться в этом чуждом им мире.
— Орвокки…
Орвокки повернула голову. Фейя лежал на первой кровати, именно там, откуда тянулись трубки; его глаза глубоко запали, скулы выступили резче, кожа отдавала пугающей желтизной. Руки Орвокки потянулись к горлу, она окончательно поняла, что ей не хватит мужества поддержать Фейю: внутри уже закипали слезы, казалось, кто-то невидимый выжимает их из груди, они поднимаются к горлу, застилают глаза, и губы начинают дрожать.
— Фейя!
Она бросилась к кровати и почти упала на табуретку, голова склонилась на грудь Фейи, и она расплакалась.
— Не оставляй нас, Фейя!
— Орвокки… ничего такого…
— Не оставляй нас!
Орвокки плакала, раскрыв рот, почти беззвучно, и, хотя она чувствовала руку Фейи на своем затылке, она не поднимала голову, не хотела видеть, как Фейя старается притвориться, будто с ним ничего страшного не случилось — ведь это неправда, она ведь слышит, как слабо бьется его сердце, она видела вчера, сколько тревоги и смущения в его глазах — точно у ребенка; она и сама не хотела притворяться, делать вид, что дома все хорошо, но не могла же она сейчас вливать в него плохие вести мелкими ядовитыми капельками.
— Переедем, Фейя, — задыхалась в рыданиях Орвокки. — Уедем все, уедем ко мне домой, в Пялькянне, к Пертти Лошаднику… Ты же знаешь, он нас примет, у него много места, вторая пристройка стоит пустая. И работы с лошадьми хватит. Пертти трех рысаков растит. Сложим все на свою Злючку и уедем.
— Как же… на милость твоих родственников… если уж кому переезжать, так это тем, из Валлилы…
В коридоре послышался стук деревянных башмаков и скрип каталки. В другом конце палаты застонал старик. Орвокки теснее прижалась к Фейе и всхлипнула:
— Плоскостопые задержали Сашку! Они говорят, что это он стрелял в тебя и в того, другого, который помер… он был полицейским… Хулда дала Сашке пистолет, он должен был пригнать машину с картошкой домой. А пистолет случайно разрядился… Ты им сказал, что был один, что Сашки не было… Они не поверили мне и Хулде. Тебе еще тоже достанется за этот пистолет — ты его держал без разрешения, и он оказался краденым…
Фейя, тяжело дыша, попытался лечь поудобнее.
— Я для того сказал, чтобы они Сашку не трогали. Плоскостопые ведь любое дело так повернут, что вечно мы виноваты.
Орвокки рукой нащупала шею мужа, его небритый и колючий подбородок, потом ее пальцы коснулись сухих губ, носа, бровей и стали гладить волосы; она продолжала всхлипывать:
— Нас выгоняют… дворник велел Хиллеви передать Хулде, чтобы мы собирали вещи…
— Нет…
— Вчера вечером мы оставили Алекси и Старину Калле, а им вздумалось поехать в Валлилу, посоветоваться… Севери, бесстыжий, наплел им, что Онни и Вяйнё уже вторую неделю как куда-то уехали… и что если мы заявим о них плоскостопым, они позаботятся, чтобы ты отсюда вышел не иначе как вперед ногами…
Фейя с трудом шевельнулся, пытаясь сесть, но Орвокки крепче прежнего прижала его к кровати и, рассказав ему все плохое, плакала теперь так, что залила слезами всю рубашку Фейи.
— Давай переедем, — бормотала она. — Убежим от всех бед. Только Сашку освободим… Там все было бы легче, чем здесь. И Хулда была бы рада попасть в настоящий дом. Ты бы по-прежнему торговал картошкой. Сашка и Алекси ходили бы за лошадьми. И Лустиго мог бы бегать без привязи…
— Не можем мы так вот за здорово живешь… Детям-то, конечно…
— Можем. Ты ведь знаешь, что Пертти Лошадник хоть и богатый, но не гордый. Ты же летом поверил, что он нам всерьез предлагает: оставайтесь здесь.
— Да.
Они долго молчали. Орвокки почувствовала, как Фейя начал гладить ее голову — легко, нежно, будто каждый его палец в отдельности что-то ей говорит. И снова она услышала, как бьется сердце Фейи, на этот раз в его ударах была сила, было желание жить, оно билось почти так же, как всегда, когда они лежали рядом; лежать так днем и даже не опасаться, что кто-то войдет и увидит, было непривычно. И тут она ощутила, как шевельнулся ребенок. Потом еще раз. Он явно хотел повернуться — ему было неудобно от того, что она так согнулась, казалось, он упрекал ее за то, что она забыла о своих обязанностях; может быть, он пытался сказать, что не хочет рождаться в этом плохом городе, предпочел бы другое место. Орвокки распрямилась и поспешно утерла слезы.
Они посмотрели друг на друга. Глаза Фейи были усталыми, но такими же мягкими и добрыми, как прежде, в глубине их таился смех. На губах Орвокки появилась слабая улыбка.
— Как ты себя чувствуешь?
Ничего, выпутаюсь… Меня тут основательно подштопали. Сначала, кажется, думали, что придется что-то удалить — не то поджелудочную железу, не то селезенку, но потом все-таки оставили. Хотя сказали, что человек может и без них обойтись. Значит, и я бы мог…
Оба замолчали — в комнату, шлепая туфлями, вошла сиделка, она направилась к мужчине, стонавшему во сне, и что-то стала ему делать, но через шторку то и дело поглядывала на Орвокки, словно боялась, что та мешает больному.
Фейя сделал Орвокки знак рукой — наклониться поближе.
— Злючка почти в порядке, — сказал он тихо. — Только второго аккумулятора не хватает, я его в подвал отнес, в тепле он меньше разряжается. И задние фары не работают…
— Кто же их починит?
— Это правда. Будь Алекси мужчиной… И вдобавок ко всему машину надо бы свозить на техосмотр и зарегистрировать. Даже не знаю, кто тут мог бы помочь?..
Они прислушивались к дыханию друг друга и шуршанию сиделки. Орвокки взяла пальцы Фейи в свои и крепко их сжала, но он смотрел в сторону, в пустую белую стену.
— Правда, можно бы… — начал Фейя и замолчал, чтобы смочить пересохший рот. — Можно было бы устроить такой фокус: взять на какой-нибудь свалке щитки, снять с любой рухляди… потихоньку добраться на Злючке до Пялькянне и пройти техосмотр там. Здесь все такие строгие. Обязательно найдут в Злючке десятки дефектов, потому что она наша.
— Думаешь, это возможно?
Только если Сашка освободится. А он освободится… Они, наверно, скоро явятся меня допрашивать. Я скажу, что мы были вместе. Им и придется его отпустить… Алекси сможет ему помочь. Я потом снова лягу в больницу в Валкеакоски или в Тампере. Несколько часов дороги выдержу…
— Я начну все готовить. Как…
Сиделка подошла к кровати Фейи. На ней были белый халат, белые чулки, белые туфли, а кожа обнаженных рук напоминала мыло или тело какого-то червяка. Это была молодая женщина с не по возрасту суровым лицом. Склонив голову, она посмотрела на сумку Орвокки.
— Роува[19] Хедман, — сказала она, — вашему мужу нельзя ничего есть — необходимое питание он получает через капельницу.
— А я и не…
— У вас там, в сумке, наверно, гостинцы. Не могу ли я для порядка заглянуть в нее?
Сиделка взяла сумку, раскрыла ее, привычной рукой торопливо порылась там, но не нашла ничего неположенного.
— Не забудьте — ему ничего не надо приносить.
Сиделка направилась к двери, но оставила в ней щелку, как бы в напоминание о своем приказе. Только тут Орвокки поняла, в чем дело, и вспыхнула: сиделка хотела проверить, нет ли в ее сумке больничного имущества. Так ей, во всяком случае, показалось. Горло у нее перехватило. Не в силах вымолвить ни слова, она встала и притронулась губами ко лбу Фейи.
— Приходи к вечеру снова…
Орвокки вышла из палаты, крепко прикусив губу, — она знала, что лучше промолчать, будто ничего не заметила, иначе они испортят им предстоящую ночь. Она пошла по коридору, он показался ей темным и бесконечным, потом сунула руку под пояс на живот и шепнула, словно в объяснение:
— Они все такие наглые.
15. ЧЕРДАК
Вяйнё лежал на спине поверх одеяла, закинув ногу на ногу, и тихо напевал:
— «Тянется вечер мой бесконечно в сумерках камеры тесной… память о прошлой жизни беспечной… — Голос у него был чистый, но дрожал так, что приводил в волнение даже его самого. — Закованы ноги в тяжелые цепи, одежда моя полосата…»
— Не пой этой песни, — сказал Онни из-под одеяла.
Вяйнё снизил голос почти до шепота:
— «А сердце, как чаша, печалью полно, отравлено жизнью проклятой…»
— Перестань!
Вяйнё замолчал и сидел некоторое время не шелохнувшись. С постели Онни не донеслось больше ни звука. Вяйнё беспокоило, что Онни стал вдруг таким: еще вечером он был веселым, до поздней ночи они вспоминали свои старые грехи и то, как выходили даже из более трудных переделок, а утром неожиданно замкнулся и стал раздражителен. В его глазах не осталось ни смешинки, он уставился в стену, точно силился увидеть что-то сквозь нее. Находиться с ним становилось страшно — так бывает перед грозой, когда бросает в жар и болит голова.
Вяйнё принялся разглядывать крышу. Газета опять прикрывала окно, на чердаке было сумеречно, но это ему не мешало: он уже изучил здесь все до мельчайших подробностей. Наклонная крыша опускалась с одной стороны так низко, что встать во весь рост там было невозможно; листы картона, которыми крыша была обшита изнутри, от времени вспухли и разлохматились по краям. Картон держался на кнопках. Половина из них высыпалась, оставшиеся заржавели и стали похожи на глаза каких-то существ. Вяйнё тяжело перевел дух. Хотя наступила только суббота и они сидели на чердаке всего второй день, Вяйнё казалось, что прошла уже целая вечность; он чувствовал себя так, точно живьем оказался в могиле или лишился вдруг глаз и ушей.
— «Путь моей жизни печальный и горький…»
— Замолчи!
Онни сбросил одеяло и встал на колени.
— Ты никогда не сидел в тюрьме, не знаешь, что это такое. Там не запоешь…
— Ну, в полиции-то я бывал, — осмелился сказать Вяйнё, — однажды целых тринадцать суток просидел в предварилке…
— Да разве это можно сравнивать?.. Это же одно развлечение. В тюрьме тебе придется жить с ними, с белобрысыми, — есть, спать, ходить в мастерскую, — и все время, всегда ты будешь среди них последним человеком. Вернее, тебя точно и не будет вовсе. Там все считаются лучше тебя, даже насильники… Ты для них просто дерьмо. В конце концов ты и сам этому поверишь… и тогда начнет казаться, что ты вообще утонул. Я не хочу слышать эту песню! Не хочу думать о тюрьме! Что угодно сделаю, чтобы туда никогда больше не попадать!..
Онни снова растянулся на своей подстилке и уставился на Вяйнё. Взгляд у него был тяжелый, лицо пустое.
Вяйнё вытянул ноги. Тишина давила его. Правда, и шум тоже не радовал. Онни вскакивал от всякого доносившегося снизу голоса, а когда что-нибудь грохало сильнее обычного, хватался за пистолет и подкрадывался к двери. По лицу его тек пот.
Вяйнё облизнул губы. Он дважды видел, чем кончалась подобная угрюмость Онни. В первый раз это было, когда Саара, дочь Вуокко Аату, сбежала с оулуским Алланом. Онни, узнав про это, вдруг ни с того ни с сего начал колотить по стоявшей на улице машине — он колотил по ней голыми руками и так их разбил, что на косточках до сих пор видны шрамы. Второй раз это произошло после недели молчания, когда… — но дальше Вяйнё не хотел вспоминать. Он повернулся на бок и тихо сказал:
— За это много не дадут, раз Фейя остался жив. Скажем, что выстрелили случайно. Да я и не верю, что Хедманы потащат нас к плоскостопым. У Калле-то, во всяком случае, старые законы…
Он не договорил, потому что Онни скептически фыркнул. Через минуту Вяйнё сказал еще осторожнее:
— Надо что-нибудь придумать, чтобы они всерьез заподозрили Сашку. И не выпускали его. Тогда они ничему другому не поверят… Хотя нам и тут неплохо.
— Ты что, забыл — плоскостопый-то умер.
Вяйнё не нашелся что ответить.
Онни приподнялся на локте.
— Стану я из-за плоскостопого расстраиваться, — сказал он, энергично втянув воздух. — Знаешь, мы однажды ходили с Ялмари и Небесной Овцой в те ямы, что на Бубновом мысу. Хотели попробовать один фокус, но не успели: туда на своих мотоциклах примчались два плоскостопых. «А ну, давайте топайте отсюда!» — скомандовали они. Мы с Ялмари так и припустили, а Небесная Овца — его-то фокус не касался — пошел себе спокойненько, не торопясь. — Онни нагнулся и схватил Вяйнё за руку — его лицо стало совершенно неузнаваемым, оно как будто даже смеялось, хотя и было серьезно. — А Небесная Овца только за два дня до этого вышел из тюрьмы. Он там похудел, костюм на нем болтался… «У тебя что — бегалки не работают?» — спросили его плоскостопые, а Небесная Овца говорит: «Почему же? Работают, только штаны свалятся, если дать ногам волю, в ремне дырочек не хватает…» — Тут Онни еще крепче сжал запястье Вяйнё и больно его встряхнул. — Знаешь, что они сделали? Один из плоскостопых сорвал с Овцы ремень, просто одной рукой, и выхватил свой пистолет… Мы с Ялмари подумали — сейчас застрелит Овцу… Яма так и ухнула, когда раздался выстрел… А он выстрелил в ремень и бросил его обратно Овце. «Может, — говорит, — хватит теперь дырок?» Я тогда и решил: ничуть не пожалею, если и убью когда-нибудь плоскостопого.
Онни отпустил руку Вяйнё и откинулся на постель, зарыв лицо в подушку. С минуту он полежал так, пару раз дернувшись, будто всхлипнув, потом встал, подошел к двери и прижался к ней лбом.
— Я здесь не усижу, — сказал он тихо, почти жалобно. — Дураки мы были, что позволили Севери так решить. Надо было убежать в Швецию. Мы и теперь еще можем удрать… Только сначала надо заглянуть на Козью гору и напугать их так, чтобы не вздумали фискалить… выстрелить, например, в окно и разбить его вдребезги…
Онни повернулся и, понурившись, подошел к окну, поглядел через дырку в газете на улицу, прошел опять к двери, потом остановился возле постели. Там он качнулся, словно ему стало плохо, потом встал на корточки и выхватил из-под подушки своего «Гаспара». Оружие лежало на его ладони — большое и угловатое, как камень. Онни сделал в сторону двери несколько дергающихся движений, будто стрелял.
— Вот что я им устрою, если они войдут в эту дверь. Выпущу всю обойму… а в тюрьму не пойду… не желаю быть тюремным дерьмом.
Потом он снова стал ходить от двери к окну и обратно, не выпуская из рук оружия.
16. КАЙНУЛАЙНЕН
Харьюнпяа положил материал в правую стопку — там уже накопилось около двадцати папок, одни пухлые и лохматые, другие — таких было больше — всего с несколькими страничками. В них лежали анкеты и разные записки, которые составляются о каждом задержанном лице и к которым потом присоединяются протоколы. В левой стопке папок было еще больше. Взглянув на них, Харьюнпяа почувствовал себя почти несчастным, он уже понял, что расследование малопорожского дела — это даже не стрельба вслепую, а просто потеря времени.
Хотелось курить. Но в архиве это категорически запрещено. Он повернулся к Онерве — перед ней лежала та же анкета, что и прежде. Во всем ее облике сегодня было что-то незнакомое и настороженное, Харьюнпяа показалось, что Онерва следит за ним и чего-то ждет.
— Так ничего не получится, — вздохнул Харьюнпяа и, сказав это вслух, почувствовал какое-то облегчение. Они уже третий час просматривали личные дела зарегистрированных в Хельсинки цыган и откладывали в сторону те, в которых встречалось имя Асикайнена. Идея принадлежала Кандолину, он был твердо уверен, что причина убийства рано или поздно обнаружится, и собирался допросить всех до единого цыган, с которыми Асикайнен вступал когда-нибудь в контакт.
— Конечно, не получится! — горячо подхватила Онерва и наклонилась ближе к Харьюнпяа, как человек, уже давно знающий секрет, о котором собеседник догадался только теперь. — Из этого ничего не получится, потому что Кандолин расследует не то. Ты понимаешь, что он расследует?
— Убийство Асикайнена.
— Да. А этот путь — ложный. Настоящей жертвой был Фейя Хедман, Асикайнен умер потому, что некстати выглянул в окно. Я в этом уверена.
Онерва сделала жест, словно хотела, но еще не совсем решилась подвинуть к Харьюнпяа лежавшую перед ней анкету. Вместо этого она открыла свою сумочку и, ни слова не говоря, вытащила себе и ему по сигарете. Оба молча закурили. Под потолком поскрипывал вентилятор.
— Я допрашивала утром Сашку, — сказала Онерва и так затянулась, что сигарета затрещала. — По просьбе Кандолина… Была тем мягким следователем, той доброй тетей, которая все понимает и на груди которой можно всплакнуть… И Сашка плакал. И я его поняла. Он никого не убивал. Но он знает убийц. А про то, откуда у него оружие, он врет просто потому, что веревочка ведет, конечно, домой…
Харьюнпяа мало говорил с Сашкой — он видел парня только два раза: в четверг ночью в «садке», сразу после задержания, и сегодня, в субботу, в комнате опознания в связи с допросом свидетеля Эйнара Копонена; он помнил, как Сашка чуть не рухнул, услышав, в чем его обвиняют, и какая безнадежность была в голосе Хулды Хедман.
— Эти мудрствования Кандолина всех ослепили, — сказала Онерва с горечью и усмехнулась. — Но они не стоят и выеденного яйца… Ты только подумай, если бы они хотели убить именно Асикайнена, неужели они не нашли более удобного момента, когда он был весь на виду. А если задумали убить обоих… Они сделали бы это тогда, когда обе жертвы оказались бы рядом. И дураку ясно, что нужна фантастическая случайность, чтобы пострадавшие очутились на одной линии — один во дворе, а другой в доме, у окна. Фейя же был как на подносе. Тут есть только один вариант…
Харьюнпяа внимательно слушал Онерву. Он чувствовал, что она права. Точнее — знал это. Ему уже с самого начала показалось, что здесь какая-то путаница, но он не дал себе труда особенно разбираться в этой истории — ему не хотелось ею заниматься, и он не считал себя за нее ответственным; теперь же он почти возненавидел себя за слепое выполнение приказов Кандолина. Его оправдывало только то, что он привык работать с Норри — а решения Норри всегда были честными и разумными, в них никогда не приходилось сомневаться.
Харьюнпяа хрустнул пальцами — он почувствовал, как что-то в его сознании прояснилось.
— Онерва, помнишь, та свидетельница, которая была тогда в тире, уверяла, что убить хотели ее… Почему она так думала? Потому, что убийцы, как ей показалось, назвали ее по имени. Эту женщину зовут Нюландер. Эйя Нюландер.
— Да. Они кричали: «Фейя!»
— Понятно. Теперь пойдем посовещаемся немного с Кандолином.
— Погоди минутку…
Онерва откинулась на спинку стула и, склонив голову, смотрела на Харьюнпяа; только теперь он заметил, что Онерва причесалась сегодня по-новому — лоб у нее открыт; а ведь он, кажется, никогда раньше не видел ее лба. Это высокий, с красивой покатостью и малюсеньким шрамом лоб. Он посмотрел в глаза своей коллеге — они такие же светлые и ясные и такие же пронзительные, как всегда, но сейчас в них промелькнуло что-то почти насмешливое.
— Ты, наверно, знаешь, почему Кандолин перешел в отдел насильственных действий? — спросила или, вернее, утвердительно сказала Онерва — она не ждала ответа; все знали, как Кандолин года два назад поклялся, что станет самым молодым старшим комиссаром, — по криминальной полиции слухи курсировали не хуже, чем в обществе самых заядлых сплетниц: начальник отдела насильственных действий Ваурасте был единственным старшим комиссаром, который в ближайшее время собирался уйти на пенсию. — Я с ним вчера говорила, — тихо продолжала Онерва. — Он согласился, что в моих соображениях, может быть, и есть известная проницательность… Кандолин употребил именно эти слова. Он предложил изложить все на бумаге, чтобы не забылось. Я это сделала.
— И?
— И сегодня утром первым делом посмотрела в папку смешанных материалов. Бумага была там. Занумерованная — шесть, точка, шесть, точка, пять. Не знаю, что это значит… — Онерва закурила вторую сигарету и выпустила дым в потолок. — Это первое серьезное дело Кандолина, он же не может признаться в ошибке и тем самым подмочить свою репутацию. Тем более что ему уже пришлось объясняться по поводу тех дипломатов, хотя это и не его вина… Теперь, когда он задержал парнишку, против которого есть хоть какие-то улики, он этого дела из рук не выпустит. А что Кауранен? — Онерва прищурилась.
Харьюнпяа задумчиво потер подбородок.
— Его положение тоже сложное, — сказал он наконец. — Он во что бы то ни стало хочет попасть на курсы унтер-офицеров. Его столько раз обходили, потому что никто его не поддерживал, а он уже в возрасте. Мне кажется, все свои надежды он возложил на Кандолина. Ведь от его слов зависит многое…
— Да, — выдохнула Онерва. — В таком случае, несмотря ни на что, поговорим с Кандолином.
Онерва с минуту помолчала, и Харьюнпяа показалось, что она внезапно заколебалась, то ли оробела, то ли устыдилась чего-то.
— Ну?
— Знаешь, сделаем это после того, как сможем представить что-нибудь более реальное, чем предположения. Тимо…
Онерва умолкла, посмотрела на Харьюнпяа, точно оценивая его, и потрогала лежащую перед ней папку.
— Не смейся, Тимппа, но нам надо начинать с чего-нибудь такого…
Харьюнпяа наклонился ближе к ней.
— Какая-нибудь история с Асикайненом?
— Нет, этого я даже не искала. Я просмотрела только дела всех родственников Фейи и Сашки…
К внутренней стороне папки была прикреплена фотография пожилого, с седыми волосами цыгана, правда старая, сделанная лет десять назад. Его лицо отличалось от лиц на других фотографиях — оно было непокорное и какое-то отчужденное. Или оскорбленное.
— Хедман, Калле, прозвище — Старина Калле.
Онерва перелистнула страницу и остановила палец на среднем столбце. Там на машинке было напечатано:
«Допр. по подозр. в убийстве Кюести Бломеруса (И/Р/3702). Освоб. за отсутств. доказ.».
Ниже этой записи было приписано карандашом:
«Преступление совершил его сын, Манне Х., получил 3 г. 2 м-ца тюремного заключения».
Харьюнпяа выпрямился и тихо вздохнул, он почувствовал себя разочарованным, но попытался не обнаружить этого по его мнению, история была слишком стара.
— Когда я работала еще в отделе сексуальных преступлений, между Шварцами и Алгренами был конфликт, — сказала Онерва и уставилась в папку, пряча глаза от Харьюнпяа, — который завершился резней. Обоим, жертве и преступнику, было меньше двадцати. Мне удалось заставить убийцу открыться — в сущности, мы с ним почти подружились… И хочешь верь, хочешь не верь, но и та история тоже уходила корнями в убийство, совершенное почти двадцать лет назад. Это кровная месть. Хотя главная задача кровной мести состоит в том, чтобы не подпускать друг к другу враждующие семейства. Для мести достаточно одной только угрозы. Но время от времени случается, что при ссоре каких-нибудь юнцов история вдруг всплывает — и тогда дело плохо. Понимаешь?
— Да…
Онерва подняла голову, посмотрела на Харьюнпяа, и ему некуда было уйти от ее взгляда.
— Можешь быть уверен, что убийцы с Малого порога — Бломерусы, — сказала Онерва, и голос у нее был таким же серьезным, как взгляд. — Надо найти родственников Кюести Бломеруса. Это и будут убийцы. Попробуем, Тимо?
— Угу.
— Патрон еще у тебя?
Харьюнпяа немного смутился: он знал, что патрон мог бы стать вещественным доказательством, но скрыл его от Кандолина. Дома он разобрал патрон, но ничего, кроме пороха, там не оказалось. Об этом можно было догадаться — ведь в камере ни у кого нет инструментов.
— Да, — сказал он глухим голосом.
— Хорошо. Тогда заглянем в книжный магазин.
Кайнулайнен покатал патрон на ладони — на большой ладони этого крупного человека он казался совсем маленьким. Харьюнпяа вспомнил Кайнулайнена именно благодаря его росту: он служил охранником еще тогда, когда Харьюнпяа работал в криминальной полиции. Его считали каким-то странным. Но теперь Харьюнпяа понимал, что за странности Кайнулайнена принимали то, что он знакомился со многими своими охраняемыми ближе, чем желательно, и что ребята из отдела наркотиков встречали его на концерте рок-музыки и на торжествах в Старом студенческом зале. Кое-кто вздохнул даже с облегчением, когда он, ничего не объясняя, уволился.
— Ничего мистического здесь нет, — сказал Кайнулайнен, уставясь на патрон. — Я думаю, дело обстоит просто — человек, сунувший патрон в сумку, думал, что парню удастся пронести оружие в камеру. Не для самоубийства… А для того, например, чтобы расчистить себе путь на свободу. Родные верят ему и знают, что он не виновен. И очень в нем нуждаются.
Кайнулайнен опустил патрон на стопку книг, лежащих на прилавке, и вытер руки, как бы давая понять, что больше ему сказать нечего. В лавку стали входить покупатели, и Харьюнпяа с Онервой отошли. Этот магазинчик антиквариата на улице Маннергейма был совсем маленький, не больше комнаты допросов. Когда наконец покупателей по-уменьшилось и Кайнулайнен смог вернуться к разговору, он заговорил как-то неохотно и обращался больше к Онерве.
— А что вы сами думаете об этой истории? — спросила Онерва, снова положив патрон на прилавок.
Кайнулайнен взглянул на Харьюнпяа, потом в окно, отбросил назад свои рыжие волосы и глубоко вздохнул.
— Я так давно от этого отошел, что не могу назвать никаких имен, — сказал он. — Но, по-моему, вам стоит поискать ребят подходящего возраста среди Бломерусов. Например, среди родственников убитого Кюести.
— Мы уже раскопали эти сведения. У него двое сыновей — Севери и Вяйнё. Если судить по описаниям свидетелей, то Севери не годится по возрасту.
— Так поищите других, подходящих… Вы ведь за это деньги получаете.
Дверь открылась, и в лавочку вошел человек, у которого под мышкой было четыре тома энциклопедии. Онерва схватила патрон.
— Спасибо.
Они вышли из магазина и направились к своей «ладе».
— Мне надо было остаться на улице.
— Пожалуй, — согласилась Онерва. — Я помню, что, когда он работал у нас, он знал наизусть все цыганские семейства в Хельсинки и был в курсе всех распрей между ними… Его дед — из цыган. Поэтому он ими и интересовался. Я обычно советовалась с ним, если у нас шли какие-нибудь дела с цыганами. Но вообще-то его не ценили.
— У нас всегда так.
— Потом я нарочно ходила к нему покупать книги. Однажды он мне признался, что просто не мог больше оставаться охранником… что чувствовал себя так, будто он ничем не лучше надзирателя из концлагеря — он ведь тоже делал все, что от него требовали. Он способный человек. Во время ночных дежурств в тюрьме учил языки, шведский и французский. Он даже цыганский немного знает.
— Ну да? — Харьюнпяа остановился. — Погоди минутку.
Он быстро повернулся и пошел обратно в магазинчик.
Кайнулайнен стоял на стремянке, пытаясь дотянуться до верхней полки под потолком. Снизу он казался еще крупнее.
— Что значит: «Tee tuu mange tsergi hooro»? Или что-то в этом роде.
Кайнулайнен посмотрел на Харьюнпяа без всякого выражения. Потом его глаза сузились, точно он как-то незримо улыбнулся.
— Почти дословно: «Дай мне бутылку вина». Еще есть вопросы?
— Нет. Спасибо. Большое спасибо.
17. МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА
— Может быть, сделать так: войти во двор, открыть мусорный ящик, схватить, что под руку попадется, и тут же скрыться? — предложил Харьюнпяа.
На лице Онервы выразилось сомнение, но она ничего не сказала, даже головой не покачала — просто стала придумывать что-нибудь более подходящее.
Прислонившись к стене деревянного коричневого дома на углу Кильватерной и Бастионной, они разговаривали как два только что встретившихся человека.
За стеной слышались обрывки разговора, бормотание телевизора, откуда-то издали доносилась подбираемая на рояле мелодия, обрывавшаяся все время на одной и той же ноте. Но их не интересовали ни голоса, ни сам этот дом — они думали о сером строении, которое торчало в нескольких сотнях метров от них возле самого парка, и о мусорном ящике во дворе.
— Это, пожалуй, слишком дерзко и глупо, — сказала Онерва. — Покажется провокацией. Когда мы проходили мимо дома, шторы, по-моему, колыхнулись — значит, жильцы наблюдают за улицей и, наверно, заметят, если кто-нибудь свернет к ним во двор. А если в ящике полно мусора, тогда в нем придется рыться. На это уйдет время…
— Верно.
— Если же они нас узнают, то поймут, что первый визит был просто блефом.
— Миранда это, кажется, уже тогда заметила — она как-то уж очень выразительно посмотрела, когда взяла повестку.
Харьюнпяа оглянулся. Улица была пустынна. Близился вечер, огни на улицах только что зажглись, и сумерки сразу превратились во тьму: небо стало почти черным, между домами легли тени. Но на соседней улице, ближе к центру, было шумно — мелькали машины, по тротуарам шли веселые компании, то и дело слышались смех и возгласы, предвещавшие бурный вечер.
— Сделаем так — войдем во двор углового дома, — решил Харьюнпяа, — а оттуда через заборы, если они имеются, попадем без всякого шума прямо к мусорному контейнеру, и никто ничего не заметит.
Онерва минутку помолчала, обдумывая, но ничего лучшего не смогла придумать.
— О’кей. Возьмем с собой карманный фонарик и парочку полиэтиленовых мешков.
— А может, одному лучше подождать в машине? — сказал Харьюнпяа, не глядя на Онерву. — Вдруг что случится…
— Что, например?
Харьюнпяа пожал плечами: он и сам толком не мог объяснить, что имеет в виду, — просто ему вспомнился лежавший на полу Асикайнен и то, что убийцы стреляли еще и из леса.
— Так ты пойдешь один?
— Да. И если я не вернусь минут через двадцать, ты влетишь на машине прямо во двор, обстреляешь все вокруг и спасешь меня…
Харьюнпяа напрасно старался — Онерва даже не улыбнулась. Они оторвались от стены и пошли к стоявшей поодаль «ладе». В воздухе пахло дымком, тянувшимся из какой-то трубы. Стал накрапывать тихий теплый мелкий дождик.
Во второй половине дня они уже приезжали в Валлилу и пытались попасть в серый дом — в тот раз совершенно открыто, — но им не удалось пройти дальше порога: женщина лет тридцати открыла дверь, прежде чем Харьюнпяа успел постучать, по фотографиям, найденным в полиции, он узнал в ней Миранду, жену Севери Бломеруса.
— Вам чего? — спросила Миранда.
— Мы из криминальной полиции.
— Дальше?
Харьюнпяа ответил неопределенно:
— Мы хотели бы немного потолковать с ребятами.
— С какими ребятами?
— Хотя бы с Севери. И с Вяйнё. И…
— Севери уехал по делам. А Вяйнё и Онни уже вторую неделю где-то пропадают. На что они вам?
— Какой Онни?
Миранда внимательно посмотрела на Харьюнпяа. Но ее лицо ничего не выразило, когда она, будто мимоходом, сказала:
— Просто Онни Алгрен. Родственник. Он иной раз здесь живет. На что они вам?
— Ах, тот Онни. Ему, кажется, уже около пятидесяти?
— Нет. Лет двадцать. Чего вы хотите?
Онерва решительно ступила на порог и тронула Харьюнпяа за плечо, словно желая что-то сообщить ему.
— Хотели бы немножко побеседовать… Ищем свидетелей одной кражи.
— Какой кражи?
Харьюнпяа пытался прислушаться — царившая в доме тишина казалась подозрительной; ему даже почудилось, что дом полон людей, которые затаив дыхание следят за тем, что происходит на крыльце.
— Это старая история. Кража колес.
— Они об этом ничего не знают.
— Может быть. Просто нам намекнули… Будьте любезны, передайте им эту повестку, когда они вернутся. Пусть для верности мне позвонят.
Миранда протянула руку за повесткой, но даже не взглянула на нее; по ее лицу было видно — она догадалась, что Харьюнпяа говорит неправду.
— Ты заметил? — шепнула Онерва, когда они вышли на улицу.
— Что?
— Лестницу, которая ведет из прихожей наверх, — там на третьей ступеньке лежали ножницы, пластырь и бинт…
Харьюнпяа задумался; весь Малый порог был обследован при дневном свете, и Турман нашел на пути, по которому, как предполагалось, бежали убийцы, кустики брусники с темными пятнами. Он предположил, что это кровь, и анализ подтвердил его догадку. Запросы по больницам ничего не дали — нигде не появлялся цыган со стреляной раной или с царапиной, оставленной осколком.
— Черт побери, Онерва… — Харьюнпяа невольно остановился посреди улицы. — Если бы по этим пятнам на кустиках можно было определить группу крови. И если бы эта публика здесь уже успела сменить повязку и выбросить старую на помойку… И если бы группа крови совпала…
Он вдруг воодушевился — несмотря на то, что тут было столько «если», и на то, что он знал: все было бы намного проще, веди это дело Норри, а не Кандолин; они увезли бы в полицию весь мусорный ящик и обыскали бы этот серый дом от погреба до чердака.
— Тимо, ты только не смейся, мне показалось, что где-то скрипнул пол, даже дважды, тихонько, словно кто-то старался не двигаться, но нечаянно переступил с ноги на ногу. И это донеслось, кажется, сверху. Но я, конечно, могла и ошибиться.
Был уже вечер. Харьюнпяа направился к углу Бастионной улицы, прочь от «лады», и с каждым шагом чувствовал себя все более и более неуверенно. Может быть, они с Онервой занялись глупостями и напрасно действуют тайком от Кандолина, словно хотят доказать, что они умнее других. Да и как это все вообще выглядит: ничего не подозревающее семейство укладывается спать, а он, полицейский, с оружием на боку и фонариком в руках собирается копаться в их помойке, надеясь на большую добычу? Вполне может быть, что Миранда говорила правду. Может быть и так, что кто-нибудь из детей упал и поцарапал колено или Рууса — бабушка — открывала консервную банку и порезала палец.
Харьюнпяа остановился и оглянулся — «лада» казалась отсюда маленькой пустой жестянкой. Он смотрел на нее и думал: не разумнее ли вернуться и все бросить? Но тут Онерва на мгновенье включила фары, будто подбадривая его, и ему показалось, что разумнее и лучше совершать любые глупости, лишь бы не исполнять бездумно то, на что указывает палец начальника. Он помахал Онерве и свернул в угловой двор, точно шел к себе домой.
Первый двор освещался слабо мерцающим светом с улицы, и Харьюнпяа не пришлось пока зажигать свой фонарик. Он быстро пересек двор, прошел мимо ящика с песком, приблизился к невысокой бетонной стене, взобрался на нее и перелез через слабо натянутую сетку. Включив на мгновенье фонарик, Харьюнпяа увидел заколоченную дверь и закрытые фанерными щитами окна. В траве валялись разбитые садовые качели, книги без обложек, какой-то котел — словом, все, что прежние владельцы сочли непригодным при переезде; дом, заслоняя улицу, приглушал городской шум, и во дворе стояла обманчивая тишина — Харьюнпяа слышал только собственное дыхание и шуршанье своего плаща. Он на цыпочках пересек двор и остановился возле поваленного дощатого забора. Перед ним были двор, дом и мусорный ящик Бломерусов.
Харьюнпяа остановился. Дом был большой. Гораздо больше, чем ему сначала показалось; он делился на две квартиры, но во второй жильцов не было — окна пустые, несколько стекол разбито.
Дом как будто спал. Голоса доносились только из города и с высившейся за домами скалы, но Харьюнпяа казалось, что все здесь чутко прислушивается к нему. Он облизнул губы и заученным жестом сунул свободную руку под плащ — оружие на месте.
Машины во дворе нет. Но какой-то транспорт у Бломерусов все же был — на песке отчетливо виднелись следы шин и темное пятно от бензина; Севери, наверно, еще не вернулся из своей поездки или, скорее, снова уехал. Белье колыхалось на веревке, ее поддерживал воткнутый в землю шест. До мусорного ящика оставалось меньше десяти метров.
Харьюнпяа хотел было притвориться пьяным, но тут же раздумал — кто мог его здесь увидеть? Он сделал несколько широких шагов и оказался у ящика; его так и подмывало побыстрее откинуть крышку и схватить что попадется, но он замер и снова прислушался; вдруг шевельнулась безумная мысль, что кто-нибудь нападет на него сзади и запихнет в ящик — как раз в тот момент, когда он над ним нагнется. Однако все было тихо — только вдали кто-то так смеялся, что вся улица звенела, да где-то, по направлению к центру города, проехала машина, выхлопная труба которой была не в порядке.
Харьюнпяа открыл крышку и посветил фонариком. Резкий запах отбросов ударил ему в нос. Но ящик оказался почти пустым, может быть, его опорожнили совсем недавно, только на дне лежало два завязанных полиэтиленовых мешка. Харьюнпяа наклонился глубже и пошарил рукой — его дыхание эхом отлетело от стенок ящика, будто он находился в пещере. Он схватил один мешок, потом с трудом выудил второй, после чего распрямился, закрыл крышку, шмыгнул за ящик, опустился на корточки, продолжая крепко держать мешки, и огляделся, словно вор.
Он посмотрел на часы. Не прошло и десяти минут, Онерва подождет по крайней мере с полчаса, прежде чем станет что-нибудь предпринимать. Харьюнпяа пригладил волосы. Он сделал все, что хотел, и мог уже уходить, но не двигался с места. Он думал: Онерва обратила внимание на скрипнувший пол, на то, как Миранда явно акцентировала на долгом отсутствии Вяйнё и Онни, и перевязочные материалы лежали на лестнице, ведущей наверх. А наружная дверь — днем, во всяком случае, — была закрыта только на крючок. Харьюнпяа опустил мешки на землю и выглянул из-за ящика, ни дать ни взять — мальчишка, играющий в прятки.
До стены дома было рукой подать. В каменном фундаменте виднелась приоткрытая дверь. Харьюнпяа и сам еще не знал, что собирается делать, в голове роились бессвязные обрывки мыслей; он крепче зажал в руке фонарик — и уже через мгновение почувствовал, как мчится через двор, пригнувшись, словно гангстер из какого-нибудь современного боевика.
Харьюнпяа прижался к фундаменту и, открыв рот, тяжело дышал. Крапива жгла ему руки и щиколотки, изгоняла его, защищая обитателей дома. Дом показался ему больше прежнего и представился не то враждебным, не то испуганным; пахло залежавшимся тряпьем, сырой землей, гнилью, постепенным разрушением, которого уже никто не может остановить.
Харьюнпяа заглянул в приоткрытую дверь — за ней оказался подвал, из которого тянуло холодом, там никого не могло быть, и ему там тоже нечего делать. Погасив фонарик, Харьюнпяа обвел взглядом окна: в них по-прежнему темно, даже занавески нигде не шевельнулись. Без дальнейших раздумий Харьюнпяа прокрался к крыльцу, поднялся по ступенькам и наклонился, прижав ухо к дверям.
В доме работал телевизор. Голос доносился приглушенно, вероятно, он стоял в комнате, обращенной к улице. Дверь в ту комнату была, очевидно, закрыта. Никаких других звуков не слышно — ни разговора, ни шагов, ни даже детских голосов.
Харьюнпяа поднял лицо. Замка на двери не было. Вместо него осталась дырка, заткнутая палочкой. Но выше были прибиты еще блестящие от новизны скобы для навесного замка. По ночам дверь, наверно, запиралась изнутри; Харьюнпяа потянул ручку — она не поддалась, разве что на сантиметр, но изнутри послышался легкий звук — она была закрыта только на крючок.
Сунув руку в нагрудный карман, Харьюнпяа порылся там и вытащил согнутую в крючок тонкую проволочку. Его рука дрожала, когда он просовывал ее в дверную щель. Он знал, что делает нечто недозволенное, никому не дозволенное. Но несмотря на это, подтянул проволочку вверх и поднял крючок — в голове у него при этом вертелись объяснения: можно утверждать, подобно попавшемуся вору, что дверь была открыта, что он стучался, но никто не услышал.
Харьюнпяа скользнул в прихожую, закрыл за собой дверь, но крючок не накинул. В темной прихожей ничего нельзя было разглядеть. Пахло догорающими дровами и недосохшим бельем. Харьюнпяа стоял, не двигаясь, и чувствовал, как бьется сердце, как на лбу и верхней губе выступают капельки пота. Дверь, ведущая в глубь дома, была закрыта — он разглядел ее по проникающему сквозь щели свету. Звук телевизора слышался здесь отчетливее. Сейчас звучала музыка из какого-то многосерийного фильма.
Он передвинул большой палец на выключатель фонарика, а другой рукой прикрыл стекло. Его плащ шуршал так, будто рядом комкали пергаментную бумагу. Вдруг кто-то вошел в ближайшую к прихожей комнату. Шаги были легкие, но отчетливые. Харьюнпяа почувствовал, как у него горит лицо. Он сделал движение, желая выйти на улицу, но не успел — шаги остановились. К двери никто не притронулся. Но Харьюнпяа чувствовал, что за стеной кто-то есть, стоит почти у самой двери, может быть даже приложив к ней ухо. Харьюнпяа ждал. Тот, за дверью, тоже ждал и прислушивался. Потом послышался вздох, шорох одежды и снова шаги, но теперь они удалялись.
Харьюнпяа отер лицо рукавом. Оно было влажным, руки и спина тоже, хотя его знобило, в голове мелькали торопливые мысли. Он зажег фонарик. Свет клиньями проникал между пальцев, отбрасывая, в сущности, только тень его руки. Тень была огромная, как лапа черного великана, она охватила комнату, словно детский мяч; на указательном пальце был полицейский перстень, и тень от него тоже остро и отчетливо проступала, покрывая собою висевшие на веревке ползунки почти целиком. На полу в ряд стояли ботинки и сапоги, валялись безногая кукла и пластмассовый полицейский «сааб» — такие продавались на бензоколонках, — но мигалка на нем была вырвана и белая надпись на дверцах содрана.
Харьюнпяа повернулся. Лестница, ведущая наверх, была крутая. Края ступенек за десятки лет стерлись и стали круглыми. Бинт и ножницы исчезли. Харьюнпяа на цыпочках подкрался к лестнице и стал пристраивать ногу на первую ступеньку. Не успел он опереться на нее всем своим весом, как она скрипнула. Он затаил дыхание и прислушался — откуда-то донесся сонный плач совсем маленького ребенка, напоминавший плач Пипсы перед сном. На улице поднялся ветер, на крыше звякнуло то ли железо, то ли антенна. По телевизору кто-то говорил басом.
Харьюнпяа прижал фонарик к груди, свободной рукой уперся в стенку, вытянул ногу и наступил на самый край ступеньки. Ему удалось почти беззвучно подняться выше, но вдруг он остановился — в ухе зазвенело; в детстве он верил, что если звенит в ухе, то кто-то говорит или думает о тебе плохо; его голова и плечи были уже на уровне второго этажа, но дальше он не хотел идти, хотя и не понимал — почему.
Перед ним была чердачная площадка. На полу валялись картонные коробки, финские санки, пустые бутылки и стопка газет. Справа у стены стоял старомодный платяной шкаф, возвышавшийся до потолка, прямо перед ним были две открытые двери. В одной из комнат стояла старая мебель, вторая — та, что к улице, — была пустой, туда из окна падал синеватый свет. На мгновенье Харьюнпяа показалось, что совсем близко от него кто-то ровно дышит, как спящий человек, но, закрыв рукой звенящее ухо, он уже ничего не услышал.
И тут Харьюнпяа понял, почему ему не захотелось подниматься выше: скрип шагов услышали бы внизу. Понял он и другое — он совсем не подумал, что Севери может въехать во двор в любую минуту. Мороз пробежал у него по спине. В каком положении он окажется, если кто-нибудь зажжет в прихожей свет; поистине между ним и Кандолином небольшая разница, решил он с досадой и яснее ясного осознал, что не полез бы в дом, не живи в нем цыгане.
— Ах, черт…
К счастью, ему удалось спуститься вниз так же беззвучно, как подняться наверх.
18. КОЕ-КАКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
— Я больше не выдержу, — сказал Сашка, стараясь придать своему голосу искренность. — Ведь в этих бумагах все…
— Бумаги бумагами, — прервал его Кандолин, — а я хочу услышать все от тебя самого.
— Добрый господин комиссар, честное слово…
— Пожалуйста, без «добрых». Начинай с вечера в четверг. С того, как вы, по твоим словам, приехали с Фейей.
Все слышалось совершенно отчетливо, хотя дверь и была закрыта. Допрос длился уже больше часа. Кандолин, как всегда, говорил обдуманно и четко, но стоило повнимательнее прислушаться к его интонации, и становилось ясно, что он разочарован и раздражен, но почему-то упрямо повторяет и повторяет вопросы, хотя все ему уже и так известно.
— Фейя чинил освещение в автобусе, — механически начал Сашка. — Когда он кончил и мы стояли возле машины, он сказал…
Несмотря на воскресенье — или, может быть, именно поэтому, — Кандолин пришел в больницу с самого утра, чтобы допросить Фейю. Фейя изменил показания, данные при первом допросе, — он объявил, что Сашка был с ним весь вечер и что он видел стрелявших, но не узнал их. Он рассказывал о событиях, случившихся в четверг, совершенно то же, что и Сашка. Но неудачи Кандолина этим не кончались: взбудораженные газетами, к ним явились двое новых свидетелей, после показаний которых Кандолин созвал подчиненных, посоветовался с ними и решил допросить Сашку еще раз.
Теперь вся группа сидела в кабинете Кауранена, стараясь не глядеть друг на друга или делая вид, что происходящее в соседней комнате их не касается. Харьюнпяа облокотился на стол Кауранена и уже в который раз перечитывал страничку с изложением новых показаний.
«…когда свидетельнице были предъявлены хранящиеся в архиве двадцать фотографий цыган от 15 до 25 лет, свидетельница выбрала среди них фотографию № 30072/38 МП (Сашка Оскар Хедман); вышеназванного цыгана свидетельница с уверенностью признала за того, с кем она танцевала в интересующее нас время на названном выше Малом пороге. Кроме того, свидетельница указала на фотографию № 56209/92/3 (Фейя Ассер Хедман). По словам свидетельницы, она видела этого цыгана в названном выше месте, но не танцевала с ним. На специальный вопрос свидетельница ответила, что не заметила ссоры между двумя упомянутыми личностями, наоборот — свидетельнице показалось, что их связывают близкие отношения».
Свидетельницей была девятнадцатилетняя Синикка Лахденсуу. Вторым свидетелем оказался молодой, года на два старше девушки, водитель автокара. Он утверждал, что признает в Сашке юношу, который появился на месте происшествия сразу после выстрелов, но со стороны, противоположной той, откуда стреляли. Он считал, что Сашка не успел бы так быстро перебежать туда через лес. Правда, мужчина не мог с полной уверенностью подтвердить, что то был именно Сашка, однако его показания совпадали с утверждениями подозреваемого.
Харьюнпяа отодвинул бумаги в сторону и только тут заметил, что сидящий напротив него Кауранен все время наблюдает за выражением его лица.
— И что ты нашел там смешного? — спросил Кауранен. У него было усталое лицо. До самого закрытия он торчал в барах, где работал Асикайнен, переговорил с десятками людей, поджидая цыган, но все напрасно. А утром, еще до шести, отправился с Кандолином и Нордстрёмом на Козью гору, чтобы произвести обыск у Хедманов. Они ничего не нашли, да и не знали, что ищут. — Там, кажется, ничего смешного нет, — продолжал он сердито. — Все из-за них летит к черту. Придется снова начинать с нуля. А он безусловно виноват, я уверен. Те свидетели слишком легко отделались. Надо было на них хорошенько надавить. Почему это они явились именно сегодня, может, их кто-то направил? Эта девица вообще не внушает доверия… какая-то участница Марша мира.
Кауранен встал и прошел на середину комнаты. Лоб у него был изрезан морщинами.
— Всю эту компашку Хедманов следовало бы привести сюда. Если их хорошо прижать, кто-нибудь признается, что подучил этих двоих мошенников. Поверьте мне. И без взятки тут тоже не обошлось.
— Давайте не терять элементарной логики, — сказала Онерва, сидевшая у окна.
Кауранен в гневе подскочил к ней. Он чуть не захлебнулся от злости, прежде чем сумел выговорить:
— Логики? Ты лучше скажи, какая логика заставила тебя притащить сюда эти чертовы вонючие мешки с отбросами и копаться в них?
— Послушай…
— Прекратите! — вспыхнул Харьюнпяа. Он понимал, что у Кауранена не было намерения поднимать весь этот шум, просто они все очень устали. Никому не хотелось пережевывать события вчерашнего вечера.
Они с Онервой развязали мешки с отходами в гараже Полицейского управления и нашли там куриные косточки, картофельные очистки и банки из-под молока — все, что обычно бывает в отходах, — но там не оказалось ничего, что позволило бы сделать анализ крови. К несчастью, когда все это было разложено на полу, вошли Кандолин и Кауранен. Едва они с Онервой успели объяснить, откуда взялись эти сокровища, рассказать о своих действиях и выбраться из гаража, как явился Ехконен и сообщил:
— Харьюнпяа, тебе звонили из Турку. Какой-то Вяйнё Бломерус. Сказал, что живет там уже недели две и ни черта ни о каких колесах не знает.
— Он оставил номер, по которому можно позвонить?
— Я не догадался спросить. Он сказал, что находится у тети какого-то Онни.
— Как тебе показалось — это действительно был Вяйнё Бломерус? И звонок не из Хельсинки?
— Черт побери, да ведь он же сам так назвался и сказал, что звонит из Турку. И слышимость была плоховатая…
— Это связано с мешками для отходов? — спросил Кандолин и свернул к кабинету Харьюнпяа, когда тот утвердительно кивнул.
— Тимо! — мягко начал Кандолин и так посмотрел в глаза Харьюнпяа, что между ними впервые возникли какая-то близость и доверие. — У вас с Онервой была хорошая идея. Но вы ее проверили и убедились, что она ошибочна. В этих делах надо уметь отступать. Ты — старший констебль и, как никто, знаешь, что силы нельзя распылять. У нас ничего не получится, если каждый из нас станет действовать соло, руководствуясь только собственными идеями. Мы расследуем убийство, а не мусорные ящики, не так ли?
Кауранен повернулся спиной к Онерве. Она снова стала смотреть в окно. Харьюнпяа уставился на собственные башмаки. Кандолин шагал по своему кабинету от двери к столу и обратно, и голос соответственно то усиливался, то ослабевал.
— …тогда об этой картошке! — почти кричал Кандолин. — Где вы ее украли?
— Купили.
— У кого? Говори — у кого? Что значит — у какого-то крестьянина в уезде Лоппи?
Кандолин, похоже, остановился возле своего стола и стук-пул по нему рукой.
— У меня тут десятки заявлений. Все от крестьян, все касаются кражи картофеля. Вот — украдено двадцать килограммов, тут — три, в этом — около ста… Вы с братом воровали картофель. Потому ты и не говоришь, где он куплен.
— Нет, добрый господин комиссар, я просто не помню его имени…
— Без «добрых», пожалуйста.
— Почему вы не спросите у Фейи? Он-то помнит.
— Я знаю, как мне работать. Не учи меня.
— Я только…
— Я, я, я… — передразнил Кандолин.
— Ах, добрый…
— Я уже сказал — никаких «добрых»!
— Я…
— Я! — рявкнул Кандолин.
Харьюнпяа встал. Кауранен подошел к нему и предостерегающе поднял руку.
— Оставь! — буркнул он. — Кандолин блефует. Он знает, что делает…
— Вернемся к стрелявшему, — сказал Кандолин, и теперь голос у него был обычный, пожалуй, даже с мягкими нотками. — Если не ты, то кто же это был?
— Я не знаю.
— А я знаю, что ты знаешь. Почему ты не говоришь? Что ты выигрываешь тем, что скрываешь виноватых?
— Я не…
— Знаешь ты! Подумай. Стреляли в твоего брата. А ты не хочешь, чтобы преступник получил по заслугам. Над тобой скоро все цыгане станут смеяться. Ты не мужчина, ты жалкий тип…
— Не надо…
— Конечно. Речь ведь не только о твоем брате. Убит человек. Понимаешь?
— Понимаю.
— Тогда рассказывай! Что ты имел против Асикайнена?
— Я уже говорил: я его даже не знаю.
— Так кто же это сделал? Может, твой младший брат — Алекси? Как ты полагаешь, не задержать ли мне и его? Каково ему покажется — просидеть в камере семнадцать суток?
— Не надо, добрый господин начальник полиции… Алекси не…
— Тогда думай, что говоришь. И подумай, как все будут над тобой смеяться, если тебя когда-нибудь освободят. Сашка, скажут они, такой трус… Я тебя не уговариваю, ты сам должен сделать выбор… но настоящий цыган не оставил бы этого так, он бы отомстил.
— Добрый…
Сашка стал всхлипывать. За дверью послышалось шуршание одежды, стук упавшего стула.
— Встать! — закричал Кандолин.
— Пожалейте меня, господин начальник!
— Не разыгрывай сцен — не поможет! Нечего тут на меня молиться!
— Не надо, Господи милосердный!
— Встать с колен! Слышишь, ты!
Харьюнпяа взглянул на Онерву. Глаза ее сузились и стали суровыми, нижняя губа едва заметно дрогнула — Харьюнпяа только однажды видел у Онервы такое лицо — когда они были в квартире, где некий директор-распорядитель выстрелил в живот своей любовницы, бывшей на восьмом месяце беременности.
— Блефует он или нет, но заходит слишком далеко! — зарычал Харьюнпяа, однако не успел он сделать и двух шагов, как Нордстрём вскочил и, выставив кулаки, загородил дверь.
— Оставь! — сказал Нордстрём спокойно; это был крупный мужчина, всегда казавшийся вялым. — Кандолин его не тронет. Он притворяется. Если его придется освободить, надо хотя бы припугнуть. И так пристыдить, чтоб он назвал настоящих убийц и привел нас к ним. Цыгане — это же дьяволы, они обязательно отомстят. А может, он проговорится по ошибке.
— Нет, черт побери!..
Кандолин рывком открыл дверь и резко вошел в комнату.
— Отведите его назад в камеру! Ехконен, займись им…
Харьюнпяа увидел Сашку в открытую дверь. Парень стоял на коленях перед обтянутым зеленым дерматином стулом, как перед алтарем, — руки были воздеты к потолку, пальцы скрещены. Кандолин метался по комнате, словно не зная, куда ему деваться. Он снял пиджак, рубашка под мышками и на спине потемнела от пота.
— Черт бы их всех побрал, это же настоящие артисты…
Кандолин сдернул очки. Без них лицо его стало неузнаваемым, странно пустым и маленьким. Растерянно оглядываясь, он заметил стул Кауранена, бросился на него, спрятал лицо в ладони и изо всех сил потер глаза.
— Черт побери! — усмехнулся он вдруг и снова надел очки — теперь это опять был прежний комиссар Туомо Йоханнес Кандолин. — С ними и сам станешь артистом. Такие хитрые. Но и мне тоже палец в рот не клади.
Несколько минут все молчали.
— Что нам с ним делать? — спросил наконец Кандолин, тихо, словно размышляя вслух. — Сегодня кончаются третьи сутки. Надо либо продлить срок задержания, либо освободить его.
— Освободим, — сказала Онерва, не оборачиваясь. — Он не виновен.
— Ого.
— А на каком основании?
— Виновен или невиновен, какая разница, — сказал Харьюнпяа. — Дело в том, что у нас нет таких показаний, которые признал бы суд.
— Не забывайте Эйнара Копонена.
— Он был в стельку пьян, и это всем хорошо известно.
— По-моему, одних только показаний Фейи достаточно для решения о невозможности продлевать арест.
— Минутку. Я полагаю, надо привести сюда и Алекси, чтобы устроить им очную ставку.
— Да Алекси — ненормальный. Кроме того, ему нет еще пятнадцати.
— Управление защиты детей разрешит. И сумасшедший он не больше других цыган, просто симулирует ради пенсии.
— Сашку надо освободить без всяких проволочек.
— Нет, черт побери! Если мы его сейчас отпустим, нас засмеют цыгане всей Финляндии. Они сочтут нас за круглых идиотов.
— Что тут за похороны? Все такие мрачные…
На пороге появился Турман. В обеих руках он держал по маленькому полиэтиленовому мешку — кокетливо отставив свободные пальцы, он раскачивал мешки, будто колокольчики.
— Отгадайте-ка, что сделал Турман? Я облазил весь лес возле Малого порога с металлоискателем…
И он поднял высоко над головой один из мешков.
— Здесь гильза калибра семь шестьдесят пять, которую я там нашел. А в этом мешке — гильза от патрона из оружия вашего парнишки. Можете быть совершенно уверены, что они вылетели из разных пушек. Это, конечно, неофициальное мнение, никаких микроскопов у меня с собой не было. Для настоящего заключения их надо послать в лабораторию криминальной полиции.
— Может, у него было не одно оружие, — вставил Кауранен.
— Тогда найди и покажи его, — огрызнулся Турман. — Вы задержали не того парня. Не забудьте, что врачи вынули из раненого пулю калибра шесть двадцать пять… Ваш парень не мог выстрелить ни из того, ни из другого оружия.
— Турман, — кашлянул Кандолин. — Могла ли гильза попасть в лес в связи с чем-нибудь иным, кроме событий, имевших место в четверг?
Турман смотрел на него, склонив голову и прикусив нижнюю губу.
— К сожалению, тут нет этикетки с датой выстрела, — выдохнул он.
— Я не шучу, Турман.
— А я иногда это делаю. Особенно если кто-то думает не столько головой, сколько задом… Как я могу определить, когда они туда попали? Но если на месте, где стреляли, находят гильзу, то, да простит мне Господь, я могу предположить, что она связана именно с этой историей, а не с первой мировой войной?
Турман бросил мешки на стол, сдвинул берет на затылок и вышел. В коридоре он запел:
— Да-а-дирлан-да-а…
Кандолин довольно долго смотрел на мешки. Потом быстро и нервно стал барабанить пальцами по столу и наконец, ни на кого не глядя, сказал:
— Это все же кое-какое доказательство… но не решающее. Поступим так, как я и собирался. Освободим парня. Но ни на минуту не выпустим из поля зрения.
19. УЛОВКА
— Ты думаешь, Миранда согласится? — тихо спросил Вяйнё. Прежде чем решиться на этот вопрос, он долго думал. Онни, казалось, и не слышал его. Он стоял на коленях возле окна, через которое просачивался слабый свет, и писал, высунув кончик языка и сжимая карандаш так крепко, что пальцы от напряжения побелели.
— Согласится ли Миранда? — повторил свой вопрос Вяйнё.
— Согласится, — ответил Онни, не отрываясь от бумаги. — Я ее заставлю. Сходи-ка за ней!
— А что Севери скажет?
— Ничего. Он же уехал. И еще не возвращался — ты это знаешь не хуже моего.
— А когда Миранда ему расскажет?
Онни досадливо отмахнулся, потом отбросил карандаш, встал и подошел почти вплотную к Вяйнё. Лицо у него было такое, точно он страдал от головной боли, а руки дрожали — он не спал всю ночь. После того как плоскостопые приходили о них спрашивать, мысль о возможности снова оказаться в тюрьме смертельно его напугала. Севери, вернувшись домой, позвонил в полицию, назвался именем Вяйнё и сказал, что звонит из Турку. Поговорив с полицией, Севери убедился, что у плоскостопых нет ни малейших подозрений, связанных с ними и с Малым порогом. Но Онни этому не поверил. Он размышлял всю ночь и утром изложил Вяйнё идею с письмом. Он ни за что не хотел от нее отказываться, хотя это была проделка в духе белобрысых.
— Миранда не расскажет! Я ручаюсь! — кричал Онни. — И не причитай, словно баба. Я знаю, как все это сделать.
Вяйнё повернулся и протиснулся через щель на чердак. Севери отодвинул шкаф настолько, что они теперь могли выходить сами. От этого им стало немного легче. Хоть в уборную можно сбегать, никого не тревожа.
— Ну? — насторожилась Миранда и прислонилась к мойке. Она устала и изнервничалась — даже детей не осмелилась ни разу выпустить на улицу, чтобы они не наболтали лишнего. Домашние дела все теперь на ней, потому что после визита плоскостопых Рууса слегла в постель и только охала. Да и за Севери Миранда боялась, хотя и старалась этого не показывать.
— Онни и я… Не сослужишь ли ты нам службу?
— Севери сказал, что Онни нельзя больше давать ни капли.
— Нет, мы хотели бы, чтоб ты отнесла один пакет.
— Пакет? Кому?
— Сашке. Сашке Хедману.
Вяйнё уставился в пол. Ему было стыдно за эту выдумку, но пришлось на нее согласиться, чтобы хоть как-нибудь поддержать Онни.
— Как это? — удивилась Миранда. — Он же сидит.
— Ты отнесешь это в Полицейское управление. Оставишь плоскостопым…
— Вы что, с ума сошли? — ужаснулась Миранда и схватилась за край мойки.
— Миранда, — уговаривал Вяйнё, — отнеси. Онни написал ему письмо. Он спрячет его в передаче… Он… он просит, чтобы Сашка не говорил, что это мы. Чтобы он назвал каких-нибудь таких людей, которых и на свете нет.
— Ни за что.
— Ну, Миранда.
— Ведь там все со стульев попадают, если я явлюсь туда с передачей.
Вяйнё понял, что Миранда уже согласна. Она чувствовала, что ее долг — помочь им.
— Они тебя не знают. Оставишь передачу дежурному. Скажешь, к примеру, что ты Сашкина тетка или еще кто-нибудь.
— Не знаю…
— Ну, поможешь? Положи в сумку еды, носки и что сама сообразишь.
— А куда я детей дену?
— Возьмешь с собой. Тем скорее плоскостопые захотят от тебя отделаться. Пускай Аллан галдит, сколько его душе угодно…
Вяйнё вернулся на чердак.
— Согласилась? — спросил Онни.
— Да. Что ты написал?
Онни протянул ему листок и впервые за эти дни улыбнулся. Вяйнё подошел поближе к окну и наклонил письмо так, чтобы на него падал свет.
«Не сознавайся, Сашка, что ты в них стрелял. Они вовсе не уверены, что это сделал ты. Они допрашивали и нас. Алекси тоже сказал, что он там не был. У нас есть новые ружья, только выбирайся оттуда поскорее. Их много, и патронов тоже…»
— Какого черта, Онни…
— Так надо.
Онни выхватил письмо. Он сложил его раз и второй и складывал до тех пор, пока оно не стало с почтовую марку.
— Да попадет ли оно в Сашкины руки?
— Ничего, он не поймет, что это значит. Да оно до него и не дойдет. В тот раз, когда я сидел по подозрению в грабеже, который устроил Оскари, и вы послали мне хлеб… плоскостопые располосовали его до крошки. Это они обязательно заметят.
— А если не поверят? Если догадаются, что это уловка?
— Не бойся. У них на это шариков не хватит. Они на такое, как коршуны, набросятся.
— И что тогда будет?
Онни в ответ только подмигнул.
20. СЕРДЦЕНОСЦЫ
Козья гора — это и в самом деле гора. Площадью примерно в четверть километра, она поросла большими деревьями, скрывающими еще сохранившиеся там старые дома. Но про гору вспоминали редко; та часть города, которую обычно называли Козьей горой, находилась южнее, на месте прежнего поля, и начиналась от железнодорожных путей и шумной Окружной дороги.
Возле станции у железнодорожной насыпи была площадь. Она вобрала в себя часть разрытой и перегороженной заасфальтированной улицы, покрытую песком площадку и остатки двора какого-то прежнего дома, в зарослях ивы и сорняков там еще можно было найти обломки фундамента и серые гранитные ступени, которые уже никуда не вели. Площадь была пустой — если не считать множества старых, поставленных как попало машин, большинство из которых нашло здесь свое последнее прибежище.
К северной части площади примыкала Вотчинная улица. Вдоль нее, почти вплотную друг к другу, стояли коробки пятиэтажных домов. Казалось, стоит раскинуть руки — и пройти между ними будет уже невозможно, но это было не совсем так: у самых стен росли березы и ели, а между ними каким-то непостижимым образом были втиснуты стоянки машин, площадки для детских игр, протянуты бельевые веревки и приспособления для выколачивания ковров. Тут же находился и узкий переулок Мадетоя.
Кауранен стоял в подъезде дома № 2 по этому переулку. Он прятался здесь уже третий час — теперь было половина десятого, стало темно, в квартирах зажглись окна, но он стоял терпеливо, был только слегка возбужден. Секунду назад в другом подъезде, который был ему виден, зажегся свет, и на нижней площадке появилось двое мужчин — оба цыгане. Разглядеть их не удалось, так как они не вышли на улицу, а открыли дверь, ведущую с лестницы в подвал. Мужчины исчезли прежде, чем Кауранен успел поднести к глазам бинокль. Но он был уверен, что это Сашка и Алекси — других мужчин в квартире Хедманов не было, если не считать старика, но его можно было бы узнать по походке.
Кауранен не отрывал глаз от бинокля. Он чувствовал, что там что-то происходит — вернее, он это знал, все время знал. Хулда, мать парней, отправилась куда-то одна еще во время его предыдущего дежурства и вернулась только полчаса назад, а девочки с вечера то и дело выбегали из подъезда с полиэтиленовыми мешками и возвращались пустыми. Кауранена злило, что он не может выяснить, куда они бегают — может быть, прячут что-нибудь, ведь полиция при обыске не осмотрела подвал. Кауранен не решался покинуть свое укрытие, боясь, что Сашка за это время улизнет. Он не очень доверял Онерве. После освобождения Сашки дело и без того стало выскальзывать у них из рук — прямо из полиции Сашка отправился в больницу и, конечно, там постарался сговориться с Фейей так, чтобы уже нельзя было найти никаких доказательств.
В волнении Кауранен крепче сжал бинокль. Дверь подвала открылась. Оттуда задом наперед вылез Сашка и куда-то мелко засеменил. Он тащил черную матерчатую сумку — в ней было что-то угловатое и тяжелое. Алекси шел за ним и нес сумку за вторую ручку. У Кауранена перехватило дыхание, ему пришлось прислониться к стене, прежде чем руки стали его слушаться.
Вот Сашка вернулся в подвал, погасил свет, запер дверь и сказал что-то брату, тот покачал головой. Потом Сашка подошел к двери. Кауранен увидел его лицо прямо напротив себя: оно было напряжено, но совсем иначе, чем в полиции, — ну понятно, больше не надо притворяться. Кауранен опустился почти на корточки, чтобы живая изгородь посреди двора скрыла его. Сашка вышел во двор, остановился и сунул руки в карманы. Постоял так, с виду расслабившись, но зорко оглядывая весь двор, парадную, в которой стоял Кауранен, скользнул по некоторым окнам. Потом дошел до угла дома и заглянул за угол, немного помедлил, словно чего-то опасаясь, повернулся и быстро направился к своему подъезду.
Кауранен достал из-за пазухи рацию и поднес, ее ко рту.
— Нюкянен, слышишь, это Кауранен?
Ответ Онервы прозвучал мгновенно — ее машина была припаркована всего метрах в пятидесяти от него.
— Слышу.
— Заводи мотор. Сашка с Алекси собираются выйти. Они достали из подвала какую-то чертовски тяжелую сумку. Без машины им ее далеко не унести. Может, они такси вызвали. Пока они будут копаться на лестнице, я добегу до машины. Что-то они задумали.
— Принято.
Сашка уже видел Злючку — она показалась из-за грузовика, припаркованного на краю площади. Ну, еще чуть-чуть, немножко еще, думал Сашка. Рука онемела, Алекси тоже выбился из сил — он едва дышал, и его конец сумки стукнулся о землю. Пришлось передохнуть, чтобы сумка вообще не упала, аккумулятор не свалился бы набок и электролит не вытек. Фейя предупреждал об этом.
Они опустили сумку. Алекси, отдыхая, присел на корточки, а Сашке было не до отдыха. В голове роились беспокойные мысли — он вспоминал слова Фейи о плоскостопых: у них все может перемениться в одну минуту, им ничего не стоит снова схватить человека, которого только что освободили. К тому же он вспоминал, что они хотели задержать и Алекси — его собственное освобождение могло быть простой уловкой. Кроме того, оставались Вяйнё и Онни. И Севери. Он опять стал угрожать, предупредил, что им всем будет крышка, если они выдадут их плоскостопым.
— Ну, отдохнул?
— Пальцы совсем свело, — тихо сказал Алекси. — Может, еще минутку?
Он был бледен и более серьезен, чем обычно. Кажется, чуть что — и брат убежит. Сашка огляделся. Мимо прошли две девушки, старая женщина выгуливала пса у перекрестка. Поблизости никого. И все же Сашке казалось, что за ними следят — конечно, это могло быть и оттого, что он только днем освободился: в камере ведь постоянный надзор, хотя виден бывает только глаз тюремщика. А сейчас они посреди улицы, нагруженные тяжелой сумкой, и их вполне могут засечь плоскостопые.
— Берись за ручку, Алекси. Знаешь, что мы несем? Сердце Злючки. Мы — сердценосцы, вот мы кто, — заговорил Сашка, но не сумел вызвать улыбки на лице брата.
Они были уже у площади, оставались последние метры.
— А ты сумеешь поставить его? — задыхаясь, спросил Алекси.
Сашка ответил не сразу. Он попытался вспомнить, как его учил Фейя, но в голове кружился какой-то хоровод из клемм, аккумулятора и проводов с положительными и отрицательными полюсами.
— Сумею, — обронил он. — Откроем капот и вставим аккумулятор… Чертова сумка…
Потом он вспомнил, что один аккумулятор там уже стоит. Можно посмотреть, как нужно ставить. Он вздохнул с облегчением, но тут же его охватило новое волнение — сумеет ли он повести Злючку? Он никогда не садился за ее баранку. Фургоны, правда, водил, даже десятки раз, когда они ездили не по большим автострадам. Но Фейя обещал, что будет сидеть на месте кондуктора и подавать советы. Если сумеет выйти из больницы. Надо думать, сумеет, раз Орвокки обещала об этом позаботиться. Она уже сейчас там, понесла в сумке одежду для Фейи. Орвокки провела в больнице обе ночи, спала на скамейке в коридоре. Сначала ее пытались прогнать, но потом поняли, что от нее там большая польза. Орвокки ведь все умеет, стоит ей только захотеть.
— Опускай…
Они дошли. Вот она — Злючка. Торчит в конце площади, всего метрах в двадцати от крутой железнодорожной насыпи. Оранжевые огни Окружной дороги освещают это место ярче, чем синие фонари Вотчинной улицы. В полутьме Злючка кажется высокой и длинной, она чем-то немного даже пугает. Словно спящий дом. Но стоит посмотреть на нее поближе — и она становится знакомой и надежной, эта их Злючка, бывший рейсовый автобус. Она покрашена в белый цвет с синими полосами — если посмотреть на нее сверху, она может показаться ящиком, завернутым в финский флаг.
Сашка опустил руку на капот, напоминающий морду кита, усатую и всегда улыбающуюся, фары таращатся, как его большие глаза. Теперь, когда они не горят, Злючка их как будто закрыла, но стоит Сашке с минуту на них поглядеть, как он воочию видит: вот их лучи ощупывают ночную дорогу, баранка дрожит в его руках, мотор ровно гудит, нагнетая теплый воздух в салон, где все спят на задних сиденьях, и только они с Фейей бодрствуют и наблюдают за тускло мерцающим щитком и дорогой. Потом Фейя вынет сигарету изо рта и скажет:
— Снижай скорость, переходи на третью. Еще чуть-чуть — и свернем на проселок к Пертти Лошаднику.
— Сашка…
— Что?
— Не знаю… Мне кажется…
— Не пугайся, братишка. Мне тоже иной раз кажется. Теперь надо засучить рукава, наши ведь сидят и ждут, когда мы все подготовим.
Сашка наклонился, чтобы вытащить из-за голенища разводной ключ, но вдруг остановился: глаза Алекси округлились от ужаса. Сашка вздохнул и подошел ближе к брату, стараясь придать своему лицу спокойное выражение; в голове все время вертелась мысль, сумеет ли он завести мотор. Фейя ездил на этой машине последний раз в четверг, тогда он завелся только с восьмой попытки.
— В чем дело?
— Мне кажется, в Злючке кто-то сидит.
— Алекси, что это ты?..
— Я слышал разговор и шум.
Сашка застыл на месте. Стоит вытянуть руку, и он коснется автобуса. Но там все как будто тихо. Он медленно повернул голову, и ему показалось, что его окатили ледяной водой — замок с двери Злючки исчез.
Наверно, девчонки забыли запереть дверь, когда приносили последние вещи, старался успокоить себя Сашка, но знал, что это неправда. Хелли такой оплошности не могла допустить — она знает, что в Злючке лежит почти все их имущество. Она сама загружала ее весь вчерашний день. Сердце у Сашки забилось, как птица в клетке. Его прошиб пот.
Из Злючки донесся шорох, потом протяжный мягкий звук, как будто кто-то вытер ее стенку.
На мгновение Сашку охватило безумное желание броситься наутек — он почти увидел, как Вяйнё и Онни прячутся между сиденьями с пистолетами в руках и караулят дверь. Он схватил Алекси за плечо, пригнул его на корточки возле Злючки и приложил палец к губам:
— Ш-шш!
— Вот видишь, там кто-то есть…
— Да.
Бломерусы знали, что автобус принадлежит Хедманам. Это все знали. Неужели они туда забрались? Но ведь они сообразили бы, что к автобусу могут подойти и Хулда, и Орвокки или кто-нибудь из девочек. А в них они не стали бы стрелять. Только себя бы обнаружили. Нет, они умнее — подкараулили бы на улице, чтобы выбрать жертву и быстро убежать.
Очевидно, в автобусе воры. Или пьяницы пристроились распить бутылочку. Эти там бывали и раньше, почти каждую ночь, пока Фейя не навесил на дверь хороший замок. Это всегда были белобрысые, они даже нужду справляли в Злючке.
— Алекси. Мы сделаем так… Алекси?
Сашка встряхнул брата. Тот совсем обессилел и свалился на землю — с ним часто так случалось, когда он чего-нибудь пугался. Уставившись вдаль расширенными глазами, он как будто старался что-то сказать. Сашка обнял брата за плечи и наклонился к нему поближе. Ему показалось, что Алекси задыхается от смеха. Потом он разобрал слова:
— Сашка, позовем на помощь плоскостопых. Позовем? — с трудом выговорил Алекси, но не смеясь, а плача.
— Подожди тут. Никуда не уходи. Я выясню, кто там. Если воры — они убегут, когда мы стукнем по стенке… Думай лучше о том, что уже завтра утром мы будем у Пертти Лошадника. Жеребята гуляют в загоне, тот, с белой звездой, тоже… ты протянешь ему кусок хлеба, он возьмет его. Ты ведь помнишь, как его губы щекочут ладонь? Думай об этом и жди здесь…
Сашка встал, выхватил из сумки фонарик и поспешил к Злючке. Остановился возле бампера, облизнул губы и нервно обтер ладони, потом поставил ногу на бампер и подтянулся.
Сначала он увидел только сделанные Фейей полки и сиденья. Они были заставлены картонными коробками и полиэтиленовыми мешками. Потом заметил комод — Хулда и его притащила в машину, хотя они договорились, что мебель привезут позднее. Наконец он увидел людей. На полу в объятиях лежали мужчина и женщина. Они вытащили из их тюков постельное белье и бросили его под себя на пол — тут были все Хулдины простыни и платки и даже то одеяло, которое Старина Калле получил в подарок на Рождество — настоящее пуховое одеяло.
— Свиньи! — невольно вылетело у Сашки.
Он оторвался от окна, спрыгнул на землю, молча промчался мимо Алекси и остановился у передней двери. Одна его рука была сжата в кулак, в другой он держал фонарик. Нерешительно потоптавшись с минутку на месте, сделал глубокий вдох и навалился на дверь. Она поддалась — Сашка вскарабкался по лесенке и чуть не упал.
— Вон отсюда! — крикнул он хрипло, зажег фонарик и направил его дрожащий луч в проход.
Парочка лежала ногами в его сторону. Мужчина даже не разделся, просто спустил штаны к щиколоткам. И башмаки не сбросил.
— Вон! — снова, уже задыхаясь, крикнул Сашка: он почувствовал, что воздух в Злючке пропитан чужим запахом — кислым, бесстыжим. Ему пришлось схватиться за спинку ближайшего сиденья.
Мужчина медленно поднял голову и повернулся, чтобы посмотреть на незваного гостя. Сашка увидел тупое пьяное лицо, не бритое по крайней мере пару дней. Это был один из тех бродяг, которые постоянно ошивались возле бензоколонок и клянчили на выпивку у прохожих.
— Погаси свой чертов фонарь, — огрызнулся мужчина. — Ты что, не видишь — мы заняты.
— Вы не смеете делать это здесь, — с трудом вымолвил Сашка дрожащим голосом. — Это наш автобус. Вы взломали замок…
— Заткнись, парень. — Мужчина встал на четвереньки, потом, опираясь на скамью, поднялся. Штаны у него все еще были спущены, он не проявлял ни малейшего признака смущения. — Никакого замка тут не было, когда мы пришли. Мы думали, он брошенный.
Сашка не слышал его слов. Он уставился на женщину, которую только теперь увидел всю. Она лежала на спине на их простынях, потом подняла вытянутые ноги на сиденья по обе стороны прохода, скомканные трусики свисали с одной ноги, платье, словно скрученная макаронина, опоясывало талию. Кожа у нее была белая, между ног разверзлась темная блестящая борозда.
Сашка прикрыл рукой рот, испугавшись, что его вырвет.
— Катитесь отсюда к черту! — твердил он, но мужчина засмеялся и качнулся в его сторону.
— Может, возьмешь небольшую аренду за автобус? — спросил он и кивнул в сторону неподвижно лежащей на полу женщины, а ей прорычал: — Ты же дашь мальчонке? Он, поди, славный паренек и позволит нам потом доделать дело…
— Пошел ты… — вяло пробормотала женщина, потом положила руку на живот и начала его скрести. — Выгони вон этого болвана, я только начала входить во вкус. Гони его к черту!
— Слыхал, что Мийна сказала? — рявкнул мужчина, и в голосе его была железная уверенность в своей правоте.
Сашка отступил на шаг. Мужчина пошел на него, придерживая рукой штаны. Вторую руку, сжатую в кулак, он воздел кверху.
— Проваливай отсюда, черномазый!
Он подходил все ближе. Сашка почувствовал запах водки, пота и грязи. Он повернулся и, спотыкаясь, бросился к двери, получив удар в плечо, пошатнулся и почти вылетел из дверей на улицу.
Бессильно опустив руки, он стоял и смотрел перед собой, ничего не видя. Думать он тоже не мог. Но он слышал, как мужчина закрыл дверь и, стуча башмаками, пошел по проходу к женщине.
21. ОНЕРВА
— Что же нам делать? — спросила Онерва, не в силах скрыть волнения. Ее беспокойство началось с той минуты, как Кауранен сообщил, что Алекси сел да так и не встает с земли. Ей хотелось самой посмотреть, что происходит возле автобуса. Но «лада» находилась от него метрах в трехстах, а Кауранен ни на минуту не давал ей в руки бинокль. Он бесстрастно констатировал:
— Сашка все еще стоит на месте… Мужчина в автобусе, видимо, не цыган… Он возвращается в глубь автобуса, это отлично видно, машину освещают огни Окружной дороги… В автобусе еще кто-то есть… в окне мелькнула голова, словно кто-то приподнялся с полу и сел… Это женщина. У нее африканский перманент. Мужчина подходит к ней… Теперь оба пропали из виду. Может, там какая-нибудь парочка любовью занимается? Онерва, опусти-ка спинку кресла… Сашка — вот идиот! Молотит кулаком по обшивке автобуса! Да он так и руки себе разобьет…
— Поехали…
Онерва включила мотор и схватилась за рычаг скоростей. Но Кауранен успел опередить ее — оторвал одну руку от бинокля и так крепко схватился за рычаг, что он не дрогнул.
— Не нервничай, — процедил Кауранен сквозь зубы и снова отвернулся, чтобы следить за площадью. — Сашка сосет пальцы, подходит к Алекси. Встает рядом с ним на корточки. Оба сидят, положив друг другу руки на плечи…
Кауранен опустил бинокль на колени и посмотрел на Онерву. Его лицо с минуту было тупо-невыразительным, но потом на нем появилась заинтересованная улыбка.
— Постарайся держать себя в руках, — сказал он басовито. — Что мы можем сделать? Ринуться туда и спросить — не надо ли помочь? Ошибаешься. Сашка нас сразу узнает. С таким же успехом мы могли бы вручить ему письменное извещение о том, что за ним назначено наблюдение.
— Мы можем позвать на помощь, например, группу из района Малми. Она прибудет сюда как бы случайно.
— Зачем?
Онерва нетерпеливо шевельнулась и откинула упавшие на лицо волосы.
— Хотя бы затем, что этот тип бил Сашку — ты же сам сказал…
Кауранен поднес бинокль к глазам.
— Они все еще торчат на месте, словно чего-то дожидаются. Надеюсь, они не рассчитывают сбежать на этой рухляди? Она даже не зарегистрирована… Я просто сказал, что мне показалось, будто тот мужик его прибил. К тому же автобус — это личная территория. А оскорбление, нанесенное на личной территории, — это преступление против владельца. Пусть сам заявляет, если сочтет, что может извлечь из этого пользу. Но какое сокровище у них в этой сумке?
— А то, что этот бродяга вломился в автобус со своей бабой, ничего не значит?
— Если они ничего не украли, суд признает, что они забрели туда по ошибке. Мы с Кандолином не догадались обыскать их погреб. И этот автобус тоже. А вообще…
Кауранен довольно долго молчал, опустив бинокль на колени, словно забыл о нем. Потом вдруг обернулся к Онерве, и теперь его лицо сияло от радости по поводу осенившей его догадки.
— Знаешь что? — выпалил он. — В той сумке что-то ценное, какие-то краденые вещи. Они собираются спрятать ее в автобусе. Сумку надо обыскать сегодня же, а автобус — завтра, при дневном свете.
Онерва повернулась к Кауранену и прямо-таки ощерилась, обнажив передние зубы.
— Ты сам-то знаешь, почему мы следим за Сашкой?
— А то нет. Но если бы заодно обнаружилось еще и сокрытие какого-нибудь темного товара…
— Не думаю.
— А я вот случайно подумал.
Глаза Кауранена сузились, губы плотно сомкнулись. Не глядя на Онерву, он склонился ниже к приборному щитку, взял в руки микрофон и нажал кнопку.
— Вызываем Малми. Говорит Катри-три-шесть с Козьей горы, — произнес он.
— Свободен номер три-два-три, — протрещало радио. — Если надо — двинемся в вашу сторону. Что у вас?
— Нужен небольшой обыск, который мы не можем произвести сами. Неподалеку от нас стоит бело-синий ободранный автобус. Возле него двое цыганских мальчишек. У них с собой сумка, есть основание подозревать, что в ней спрятаны краденые вещи. В автобус входить не надо. Возьмете только парней и сумку и отвезете в Малми, чтобы установить личности и выяснить, кому принадлежит имущество.
— Три-два-три принял, обыск проведем.
— Спасибо. Всё.
Онерва дрожащими руками открыла сумочку, достала сигарету и закурила, глубоко затянувшись.
— Теперь ты счастлив? — спросила она, не глядя на Кауранена и с трудом унимая дрожь пальцев.
Кауранен аккуратно положил микрофон на место.
— Конечно, — ответил он. — По крайней мере тем, что сейчас мы можем пойти выпить кофе, не надо бояться, что они от нас улизнут. И если… Не хочу тебя обижать, но в Управлении найдется и другая работа, если тебе не по вкусу сыск.
Онерва схватилась за рычаг скоростей.
— Дело не в этом.
— А в чем же?
— В том, что мне невыносимо то, чего ты даже не замечаешь.
— Чего же это?
Онерва включила мотор, «лада» рванулась, колеса взвизгнули.
Было чуть больше одиннадцати, когда они выехали со двора полицейского участка в Малми. На этот раз за рулем сидел Кауранен, а Онерва — рядом с ним.
— Почему они направились в ту сторону? — удивился Кауранен. — Им ближе через объезд. И ехать за ними было бы удобнее.
— Может, они идут добывать новый аккумулятор, — холодно сказала Онерва.
— В воскресенье? И в такое время? Вечером? Глупости.
— Может, они его украдут. Они же цыгане — что им стоит?
Кауранен взглянул на Онерву и ничего не сказал, только надменно выставил подбородок. Проехав под знаком, запрещающим проезд, он свернул на Сеновальное шоссе.
— Почем я знал, что там был аккумулятор, — буркнул он. — Да и вернут его, если выяснится, что он не краденый. Только он, конечно, чужой. Такой же ворованный, как все их имущество. Если он вывернется из нашего дела, пускай хоть за аккумулятор ответит.
— Останови.
— Почему? Они убегут…
— Останови.
Кауранен подъехал к тротуару и затормозил. Онерва открыла дверцу и вышла. Она медленно перешла тротуар и прислонилась к ограждающим его с другой стороны перилам. Железо было холодным. Стоял туман, и пахло проложенными где-то поблизости рельсами. Уголком глаза она видела, что Сашка и Алекси ушли уже далеко, за несколько сот метров, так далеко, что их было трудно различить.
— Черт побери! Что с тобой делается? — выскочил из машины Кауранен.
— Мне нехорошо.
Кауранен что-то пробормотал, потом принял надменный вид и сердито сказал:
— У меня тоже есть жена. Но она не устраивает таких фокусов из-за своих недомоганий.
Онерва повернулась, подошла поближе к машине, уголки губ у нее дрогнули.
— Я хочу сказать, что у меня есть мозги, — произнесла она хрипло и громче, чем хотела, — а в них участки, способные соображать…
— Не кричи. Что люди подумают…
— Пускай думают, что хотят.
Онерва с силой хлопнула дверцей и почти побежала туда, откуда они приехали.
Кауранен с минуту сидел неподвижно. Потом взглянул в зеркало и увидел, что Онерва уже далеко.
— Ну и пусть идет, черт ее побери…
Он с яростью схватился за рычаг скоростей, рванул машину с места, проехал по Сеновальному шоссе, но ни Сашки, ни Алекси и в помине не было. Он развернул машину и стал колесить по тряским узеньким незаасфальтированным улицам. Все было напрасно. В горле у него застрял ком, который он никак не мог проглотить. Все казалось фантастическим скверным сном; он еще никогда не упускал дичь, которая была глупее его самого.
22. В ПОЛИЦЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ. 23 Ч. 55 М.
Харьюнпяа сразу понял: что-то случилось. Уже от входной двери он заметил, что за стеклянной перегородкой дежурного толпится много народу. И по тому, в каких позах стояли полицейские, он понял, что это не обычный треп, на который здесь часто собираются. Кто-то вышел из оперативного отдела и, подняв руку, что-то объявил, другой нес свернутую в трубку карту в кабинет дежурного комиссара — Харьюнпяа показалось, что там в дверях мелькнул Кандолин, хотя ему следовало быть в своем кабинете. Точнее, в такое позднее время даже не там, а дома.
Харьюнпяа свернул налево, оттуда, сделав несколько поворотов, можно было попасть в дежурное отделение — и тут его охватило какое-то неясное чувство вины, а в голове мелькнула смутная догадка, что так или иначе виновник поднявшегося переполоха — он сам. Вечер он провел дома и вот опоздал, хотя обычно с ним этого не случалось. Через пять минут ему вместе с Ехконеном следовало быть на Козьей горе, чтобы сменить Онерву и Кауранена. Харьюнпяа предпочел бы дежурить в паре с Онервой, но ей удалось найти няньку к сыну только до полуночи.
Харьюнпяа остановился на пороге. За столом дежурного комиссара сидел Вийтамяки из отдела краж, Кандолин стоял спиной к двери, стучал пальцем по какому-то плану, лежащему на столе, и стремительно что-то объяснял, кроме незнакомца в форме комиссара полиции нравов, в кабинете находились дежурный старший констебль, Ехконен, Нордстрём и Кауранен, который сидел на скамье у стены и нервно курил.
— Добрый вечер. Или ночь.
Приветствие Харьюнпяа заставило Кандолина прерваться на полуслове — он быстро взглянул на дверь, но, увидев, кто пришел, выпрямился и повернулся.
— Ага. Ты все-таки пришел.
В кабинете стало совсем тихо. Харьюнпяа раздосадовало то, что разговор смолк и за его спиной — в комнате объявлений. Он бросил взгляд через плечо. Ему было показалось, что все уставились на него, но он, очевидно, ошибся — разговоры зажужжали по-прежнему.
— Сожалею, что опоздал, — сказал Харьюнпяа и только тут сообразил, что Кауранену следовало быть в переулке Мадетоя и что Онервы здесь нет. Но он ничего не успел спросить.
— Мы уж думали, что ты тоже бросил дело, — сказал Кандолин. Он сказал это будто бы со смехом, но глаза у него за темной оправой зловеще сверкнули.
— Как это? — настороженно спросил Харьюнпяа, понимая, что недоброе предчувствие его не обмануло. — Что здесь происходит?
— Здесь происходит что-то такое, чего не должно быть, — почти крикнул Кандолин. — Мы собираемся немедленно задержать цыгана по имени Сашка Хедман. И его брата Алекси. Но по некоторым причинам это оказывается нелегко сделать и даже опасно…
— Как?.. Где Онерва?
Все молчали. Наконец Кауранен крякнул и сказал, глядя в пол:
— Она заболела. Ей стало нехорошо, и она ушла домой.
— Кауранен у нас джентльмен, — усмехнулся Кандолин. — Если сказать прямо, по-мужски: Онерва наложила в штаны. Ей не хватило трезвости. И поэтому Сашке удалось смыться. Женщины на такие дела не годятся. Мягкосердечием только все испортишь. Мы как раз гадали, где ты мог задержаться.
Кандолин испытующе посмотрел на Харьюнпяа. В душе он, видимо, смеялся: вот, мол, тебе, получай.
— У Онервы началась любовная горячка, — прыснул кто-то.
— Выходила бы снова замуж, если так приспичило.
— А может, ей лучше пойти работать в какое-нибудь благотворительное общество. Вязать цыганам чулки и варежки.
— Читай.
Кандолин сунул Харьюнпяа много раз свернутую бумажку. Теперь на его лице была нескрываемая досада. Харьюнпяа развернул бумажку, заляпанную жирными пятнами. Записка была написана кривыми печатными буквами:
«Не сознавайся, Сашка, что ты в них стрелял. Они вовсе не уверены, что это сделал ты. Они допрашивали…»
— Письмо было в передаче для Сашки, — сказал Кандолин, когда Харьюнпяа дочитал записку. — Передачу оставили в дежурке его родственники. Но как теперь быть? Мы ведь успели освободить Сашку.
— Что за чертовщина? — тупо пробормотал Харьюнпяа, теряя способность что-нибудь понимать. Ему было бы легче, если бы Кандолин обвинил его вслух — по лицам присутствующих он видел, что еще до его прихода дело успели обмусолить со всех сторон. Сейчас он чувствовал себя каким-то шутом, человеком, который пустился в пляс где-нибудь в салуне на Диком западе, под пальбу присутствующих. Но он тут же с облегчением подумал, что, в конце концов, он здесь посторонний и может отойти от этого дела, которое ему с самого начала претило.
— И еще вот это… — Кандолин взмахнул ксерокопией, снятой с какого-то объявления, точно собирался отдать ее Харьюнпяа, но вдруг понял, что только попусту тратит время, — …объявление о наглом ограблении, совершенном вчера ночью. Ограблен магазин, торгующий оружием… Кроме всего прочего, оттуда унесли три дробовика, пять револьверов и не одну сотню патронов. Если ты обратил внимание на конец письма и сопоставишь одно с другим, то поймешь, что́ нас ожидает в переулке Мадетоя.
— Не может быть…
— Очень даже может.
Кандолин отвернулся и как ни в чем не бывало продолжал объяснять Вийтамяки что-то, связанное с планом. Кауранен закурил новую сигарету, а дежурный старший констебль и комиссар полиции нравов о чем-то друг с другом заспорили.
— …не забывай, что они боятся собак. Даже для того, чтобы не возникло паники.
— …пускай раздаст автоматы. Возьмем по крайней мере четыре. И каждому — бронежилет и каску.
— …о начале операции договоримся по номеру ноль-один-тридцать.
Харьюнпяа повернулся, губы его побелели, и он подошел к сидящему за столом дежурного Луукко.
— Это ты принял передачу?
— Да, — Луукко спустил ноги со стола. Харьюнпяа напрасно искал в его лице затаенную улыбку. — Знал бы, что из этого выйдет, не принял бы. Но, с другой стороны, даже хорошо, что этакая история начинает распутываться.
— Кто ее принес?
— Теперь ты меня начнешь экзаменовать. Тысячу раз уже спрашивали. Цыганка. Такая же, как они все. Нос, рот и два глаза. Назвалась теткой Сашки Хедмана. С чего бы я стал ее проверять? Сам подумай. Я же знал, что из-за происшествия на Малом пороге задержан цыган. Если бы я слышал, что его уже освободили, я бы не принял передачу. И все дело навсегда осталось бы нераспутанным.
— Ты не спросил, как ее зовут?
— Нет. На сей раз — нет. Но какая разница?
— Да ведь у них все родичи сразу всё узнают. Как это тетка могла не знать, что парня освободили…
— Прошло так мало времени. Обычно я у всякого цыгана спрашиваю документы. Но эта привела с собой кучу ребятишек. Они так ужасно галдели, что я только об одном и думал — как бы от них поскорее отделаться.
— Та-ак…
— К тому же я был здесь один. Начни я проверять ее документы, мелюзга за это время растащила бы всю дежурку. Старший мальчишка уже прыгал по стойке и пробовал дотянуться до пульта.
— О’кей. Спасибо.
— Не гляди так сердито. Небось и у тебя бывали оплошности. А если уж на то пошло, так ведь это комиссар принимает решения и несет за них ответственность.
Харьюнпяа молча вышел в коридор — он просто не мог идти к Кандолину за указаниями: присоединяться ли ему к обсуждению плана операции или присмотреть, чтобы к автоматам были захвачены патроны, а может быть, позаботиться, чтобы машины стояли наготове и каждая группа имела рацию? Но ему все было одинаково безразлично. Он медленно шел по коридору и слышал, какая суматоха стоит в Полицейском управлении — откуда-то доносятся быстрые шаги и обрывки фраз, скрипят бронежилеты, трещат рации. Где-то тявкает собака. Кто-то в подземном гараже проверяет работу полицейской сирены — ее вой поднялся по вентиляционным трубам в верхние этажи и прозвучал как мучительный стон.
Харьюнпяа вошел в пустую комнату личного состава. Он все время неосознанно искал телефон. Хотел позвонить Элисе, хотя и не знал — зачем.
Уже набирая номер, он сообразил, что звонок, раздавшийся среди ночи, перепугает всю семью, а Элису, пожалуй, больше, чем он может себе представить. Достав записную книжку, он набрал другой номер.
— Нюкянен, — сразу ответила Онерва.
— Это Тимппа…
По голосу Онервы Харьюнпяа понял, что она не спала. Поэтому он не стал извиняться, вообще ничего не сказал и не спросил. Он просто слушал дыхание Онервы и знал, что ей и так известно, о чем он думает.
— Я потеряла терпение с Каураненом, — сказала наконец Онерва таким же сдержанным и деловым тоном, как всегда.
— Да…
— Но сейчас у меня нет сил объяснять тебе это. Я стараюсь все забыть, чтобы уснуть. Завтра утром вернусь, словно ничего и не случилось. Откуда ты звонишь?
— Из Управления. Здесь начинается грандиозная операция. Мы почти всей сменой отправляемся ловить Сашку и Алекси. Кто-то принес ему передачу. В ней было письмо…
Онерва промолчала. В телефоне послышался шум и очень отдаленный неразборчивый разговор.
— И ты с ними? — спросила Онерва.
— Да. Я ведь обязан.
— Так ли уж?
В коридоре послышались приближающиеся мужские голоса. Кто-то вел овчарку — царапанье ее когтей отчетливо выделялось среди стука ботинок. Кто-то сказал:
— Это очень умные звери. Не глупее ребенка трех-четырех лет.
— Пату, несомненно, умнее. Поглядите-ка! Пату! Где цыган?
Собака начала громко рычать, потом разразилась истеричным лаем и стала скрести пол, точно куда-то рвалась. Мужчины расхохотались.
— Харьюнпяа! — позвал кто-то от двери. — Собирай ранец, скоро отправляемся. Ты назначен в ту группу, которая войдет в квартиру.
— Я должен идти, — сказал Харьюнпяа в трубку.
— Похоже на то. Постарайся выдержать.
— А что остается? Как-то надо жить на этом свете.
23. АККУМУЛЯТОР
Сашка закрыл за собой дверь, и его поглотила ночь. Хотя он так спешил, что ему некогда было прислушиваться, его сознание все-таки зафиксировало, что Херман Крюк вышел следом за ним на крыльцо, чтобы защелкнуть и второй замок. Он был осторожный человек. Осторожность — это, конечно, хорошо, только времени ушло невероятно много, пока он болтал бог знает о чем, стараясь выведать, зачем Сашке оружие. А ведь он это и так знал. Просто выяснял, решаться на такую продажу или нет. Компания Севери ему известна — теперь он, наверно, им позвонит и предостережет.
Сашка сбежал по лестнице на заросшую тропинку и вздрогнул, когда Алекси вышел из-за куста сирени.
— Продал?
— Продал.
— Сколько?
— Один. И то хорошо. Я думал, мы вовек не сторгуемся, он все охал и охал. Да и денег на два не хватило бы.
— Покажи.
— Не сейчас. Там, подальше. Он предупредил, чтобы здесь не задерживались. Пошли.
Сашка дернул брата за рукав, они выбежали из ворот в закоулок, покрытый хрустящим гравием, свернули направо и понеслись к сверкающим вдали уличным фонарям. Где-то громыхал поезд. Других звуков не было. В воздухе стоял неподвижный туман, вокруг фонарей образовались матовые шары.
Сашка только теперь заметил, что Алекси держится гораздо лучше, чем он предполагал: почти час прождал его на улице и даже в полицейском участке не заплакал, хотя весь дрожал и был очень бледен. Вспомнив о полицейском участке, Сашка сжал зубы. Плоскостопые вели себя настолько великодушно, что согласились выгнать из Злючки парочку, но, конечно, не задержали ее и даже фамилий не спросили. А его с Алекси задержали. И отобрали сумку.
Делами по ограблениям в участке ведал крупный и толстый полицейский, просто боров — тот самый, который год назад учинил у них дома обыск, когда во дворе с веревки стали пропадать джинсы. Ему и в голову не приходило, что никто из цыган даже за деньги не надел бы на себя такие безобразные штаны. Теперь он утверждал, что аккумулятор ворованный. Готов был биться об заклад. И не согласился пройти к Злючке и посмотреть, откуда этот аккумулятор снят.
— Может быть, там и есть другой такой же, — сказал он, — но я бы на вашем месте держал по этому поводу язык за зубами… И не воображайте, что вам удастся заставить меня отвезти вас туда обратно. Полицейских не гоняют по городу вот так за здорово живешь. Морочьте голову другим. И двигайте на своих двоих. Ать-два!
— Чертова скотина.
— Что случилось, Сашка!
— Ничего. Просто иной раз кажется… как я их ненавижу!
От стремительного бега они взмокли и теперь, отдуваясь, перешли на шаг. Слева шла почти темная дорожка, ведущая в какой-то двор. Сашка быстро огляделся. Полицейской машины не видно, других машин тоже. Он толкнул Алекси на дорожку, остановился у стены и вытащил из-за пояса револьвер. Рука, взяв оружие, задрожала, но он попытался придать своим движениям быстроту и ловкость, чтобы Алекси не заметил дрожи.
— Патроны вот здесь, в барабане…
Он нажал большим пальцем на шершавую собачку, и барабан, щелкнув, открылся. Показались шляпки патронов, они блестели, как золотые монетки в окружении синеватого металла. Сашка защелкнул барабан.
— А это предохранитель. Если хочешь выстрелить, его надо оттянуть назад и нажать на курок. Это лучше, чем пистолет, тут всегда видно, взведен курок или нет. Он не разрядится по ошибке.
— У него в дуле дырочка.
— Да. И ствол такой длинный.
Они с минуту постояли молча, почти благоговейно глядя на оружие в Сашкиной руке; странно было знать, что этот кусок металла, который заржавеет, если оставить его на земле, попадая в руки человека, делает его владельца сильным и помогает решать, кто прав, а кто виноват.
— Теперь они нами не покомандуют, — сказал Сашка почти со слезами в голосе. — Ни это дерьмо Бломерусы, ни плоскостопые. Но, Господи, если эти скоты снова в Злючке…
Вспомнив о Злючке, они спохватились, что им нельзя терять время. Сашка сунул оружие за пояс и прикрыл рукоятку полой куртки. Потом братья вышли на дорогу, поглядели в обе стороны и бодро зашагали в район Песков.
— Уедем ли мы когда-нибудь? — вздохнул Алекси, не ожидая ответа, — он думал о том, что полночь уже прошла, а ведь вчера вечером они надеялись добраться к этому времени уже до окрестностей Хямеенлинна.
— Уедем, — успокоил его Сашка, но на брата не посмотрел. — Вот ты не поверишь, а Злючка через час будет уже тарахтеть по шоссе Нурмиярви. Я позвонил домой от Крюка. Все нельзя было рассказать — он ведь слушал… Но я сказал, чтобы шли к Злючке и ждали. Велел Хелли пойти пораньше и убрать белье, чтобы Хулда с Калле не увидели.
— У нас нет аккумулятора.
— Скоро будет.
Они спокойно, не оглядываясь, миновали Сеновальное шоссе, по сразу же пустились бегом, как только попали на Ярмарочную улицу — там их нельзя было увидеть — и остановились только возле станции. Пахло бензином, резиной и ржавым железом. Они прислушались к ночным звукам; где-то в небе, невидимый, прожужжал самолет, издали доносился приглушенный шум города, но здесь вокруг все было погружено в сонную тишину.
Метров десять они крались под прикрытием живой изгороди и остановились, когда она кончилась. Дорога расширялась, превращаясь в изрытый машинами песчаный двор. В конце двора стояла выкрашенная в серый цвет обветшалая постройка. У стены были сложены старые рваные автопокрышки и гнутые листы железа, на земле валялись разобранные моторы и ржавые шестеренки. Во дворе было полно машин, поставленных впритык друг к другу, но Сашку они не интересовали. Он посмотрел в сторону дома. Там стояли два автобуса — настоящая рухлядь, — а рядом с ними он увидел то, что искал.
Это был фургон — новая, хорошая машина, принадлежавшая фирме. Сашка ходил в эту фирму с Фейей спрашивать, нет ли у них нового сигнального реле для Злючки. Когда они уходили, фургон задом въезжал во двор, и Фейя, указав на его аккумулятор, сказал:
— Нам бы такой. Вместо того старого.
Сашка помнил, что аккумулятор находится под полом, почти вплотную к кабине водителя.
Он наклонился и за голенищем сапога нашарил разводной ключ — плоскостопые вывернули его карманы, но про сапоги забыли, а там можно было спрятать даже финский нож.
— Алекси, — хрипло шепнул Сашка, и ему вдруг стало трудно продолжать: он никогда не воровал, во всяком случае так, по-настоящему — в магазинах ему иной раз случалось стащить какую-нибудь мелочь, но это другое дело, там всего так много, будто специально для того, чтобы кто-то попытал счастья; а здесь — на другом конце двора полицейский участок, его крыша хорошо видна. Руки Сашки стали вдруг такими влажными, что разводной ключ чуть не выпал. — Я возьму из этого фургона аккумулятор, — едва выговорил он. — Но у нас не хватит сил дотащить его до дома. Мне помнится, там возле двери стоит велосипед. Подкрадись и возьми его. Неважно, если на нем нельзя ездить, главное — взвалить на него аккумулятор и протащить пару километров. А если пойдем по Окружной, то и того меньше.
— Я… Сашка…
Сашка протянул руку, опустил ее на затылок Алекси и слегка сжал. Он почувствовал, как брат весь дрожит. Но времени не было.
— Все обойдется, — шепнул он. — Не забудь, что иначе мы пропадем. Не забудешь?
— Нет.
— Ну, пошли. И не стучи ногами.
Пригнувшись и огибая валяющийся на земле хлам, каждый из них отправился в свою сторону.
Во дворе не было никакого освещения. Уличные фонари, казавшиеся в тумане далекими шарами, отбрасывали больше тени, чем света. Сашка остановился. Фургон стоял перед ним, большой и темный, распространяя запах бензина и влажной грязи. Теперь пригодился бы фонарик, но плоскостопые его отобрали. Потом, вспомнив о родных, сидящих в Злючке, Сашка глубоко и нервно вздохнул и склонился над капотом.
Ему тут же показалось, что за его спиной кто-то стоит. Он быстро обернулся, кругом была тьма, Алекси где-то чем-то стукнул, может быть, оступился. Но ничего не произошло, тишина не нарушилась. Сашка скользнул рукой по висящему на шее кресту и вслух шепнул:
— Боже, будь милосердным, не подпускай сюда никого. Только на этот раз. — Он действовал ощупью, задел бензобак, подтянулся поближе к кабине — вот он тут, аккумулятор, рядом с другим, точно таким же. Руки Сашки дрожали от волнения. Ему показалось, что он уже почти справился. Он ощупал соединительные клеммы, нашел первую гайку и начал откручивать гаечным ключом.
Потом снова прислушался. Он боялся, что, если мимо проедет машина, Алекси потеряет голову от страха и убежит. Сердце его застучало сильнее прежнего: скорее, скорее.
Гайка была грязная, ржавая и не поддавалась. Сцепив зубы, Сашка молча пытался ее отвернуть. Гайка дрогнула, поддалась. Он стал ее отвинчивать, нащупывая другой рукой следующую. Ему снова показалось, что кто-то подкрался к нему сзади, но, не оборачиваясь, он схватился за следующую гайку, думая при этом о своем револьвере — он не осмелился вытащить его из-за пояса: не дай Бог, упадет, так его ни за что не найдешь в темноте. На кончике носа выступил пот, он капал на руки.
Сашка освободил крепление, отвернул его в сторону и изо всех сил вцепился в зажимы проводов. Здесь была гайка другого размера — пришлось подкрутить гаечный ключ, дергая его пальцами так, словно их било током. А про себя он все время думал: нельзя сдаваться, нельзя, никто не поможет. Он отрегулировал ключ, отвернул гайку и так ударился обо что-то рукой, что почувствовал, как брызнула кровь. Оставался второй провод и последняя гайка. Где она?
Со двора донесся грохот. Сашка остолбенел, дыхание у него перехватило.
— Сашка! — звонко и испуганно крикнул Алекси. И сразу же залаяла собака. Она находилась где-то совсем близко и неистово лаяла. Сашка рывком поднялся, ударился головой о капот и чуть не упал на колени.
— Алекси! Я здесь! — крикнул он и пополз к середине двора.
Собака выла с бешеной злобой. Это была, очевидно, овчарка или какой-нибудь другой зверь крупной сторожевой породы. Сашка выхватил револьвер.
Алекси стоял перед домом, возле самой двери. Он прижал руки к груди, словно боялся, что оттуда кто-то выскочит. Велосипед валялся рядом с ним. А собака — Сашка понял это только теперь — была заперта в помещении, чтобы охранять дом от грабителей. Она рвалась на улицу и бешено царапала дверь. Но никак не могла освободиться. Ее лай разносился, наверно, очень далеко, и это было опасно — ведь хозяин мог договориться с кем-нибудь из соседей, чтобы тот позвонил плоскостопым, если послышится шум.
Сашка засунул револьвер за пояс, схватил Алекси за руку и стал его трясти.
— Ничего не случилось! — шепнул он, зная, что врет и что Алекси это понимает; он и сам был так напуган, что ноги у него подгибались, будто кто-то хотел посадить его на землю.
— Уйдем, Сашка!
— Нет. Мы возьмем аккумулятор.
Сашка наклонился, поднял велосипед и пошел к фургону, он тащил за собой велосипед и брата, а собака выла, словно ее охватило пламя; железки и всякий хлам гремели у них под ногами, и Алекси плакал в голос.
— Отведи велосипед на дорогу, — выдохнул Сашка и заставил Алекси взяться за руль. — А если кто-нибудь появится, спрячься. Заползи под какую-нибудь машину и сиди тихонько…
Он подтолкнул брата в спину и даже не посмотрел, как тот справится, услышал только, что заднее колесо без шины колотится по камням. Потом он согнулся, влез под капот и уже не мог себя успокоить — бессмысленно и бесполезно стал дергать провода голыми руками, прежде чем догадался взять гаечный ключ и употребить его как гвоздодер. Собака лаяла теперь хрипло и отрывисто — казалось, будто где-то вдали стреляют. Сашка думал о том, что аккумулятор надо положить на багажник и накрыть хотя бы пиджаком — но он знал, что это не поможет, если явятся плоскостопые.
24. ОТЪЕЗД
Харьюнпяа вошел в гараж. Там стоял гул от только что заведенных моторов. Две «лады» и серый «транзит» стояли в проходе одна за другой. Фары у них горели, задние рессоры осели от тяжелого груза.
Все, кроме Кандолина и Тийликки, сидели уже в машинах. Тийликка стоял у задней дверцы «транзита», в руках у него был автомат, из которого он целился куда-то в глубь гаража и при этом производил губами звуки, напоминающие стрельбу. Кандолин стоял неподвижно возле первой «лады» и ждал Харьюнпяа.
Харьюнпяа направился к машинам. Ему было жарко. Под курткой на нем был бронежилет, который защищал грудь и живот, плечи и спину, а особенно хорошо оберегал сердце, так как в передней его части в специальном кармане была стальная пластина, которую не могла пробить даже крупная пуля. Назначение жилета — охранять человека от врагов и опасностей. Но как уберечь конечности, шею, голову? Свой шлем Харьюнпяа забыл на столе у дежурного. Впрочем, забыл ли? Шлем был слишком мал и стягивал голову, словно обруч на винтах. В глубине души Харьюнпяа знал, что ведет себя глупо, но и жилет-то было трудно вынести, он так сжимал грудь, так мешал дышать и двигаться — тут и без шлема обливаешься потом.
— Ответили? — громко спросил Кандолин, и стены отразили его голос. Он был в бронежилете такого же цвета, как костюм, и поэтому едва заметном. Похоже, что эта амуниция нисколько его не стесняла — он стоял, такой же длинный и подтянутый, как всегда, непринужденно засунув руки в карманы. На голове красовался шлем, надвинутый на лоб и закрывший верхнюю часть очков, а браво выставленный вперед подбородок был так затянут ремешком, что задевал даже нижнюю губу. Шлем был синий, спереди белыми буквами выведено: ПОЛИЦИЯ. Харьюнпяа покачал головой.
— Я насчитал по крайней мере гудков двадцать, — сказал он. — Тут хочешь не хочешь — кто-нибудь проснулся бы. Но нет…
Он звонил в квартиру Хедманов. Это была старая уловка: если бы кто-то ответил, он пьяным голосом попросил бы к телефону Сашку или просто повесил бы трубку. Так ему, во всяком случае, следовало сделать.
— Наверно, отключили телефон на ночь, — сказал Кандолин. — Дома они. Группа Сёдерхолма на месте уже минут десять, они только что сообщили, что в квартире Хедманов горит свет. Поехали.
И Кандолин так резко повернулся, что каблуки его ботинок заскрежетали на бетонном полу. Он наклонился и сел на переднее сиденье, при этом шлем, коснувшись верха, звякнул.
Харьюнпяа прошел к средней машине. Мысли его были непоследовательны и отрывочны, временами его охватывало чувство безнадежности. Он бросился на заднее сиденье, и машина сразу тронулась. Харьюнпяа старался думать о том, что при любых обстоятельствах он первым проникнет в дом, но это нисколько не улучшило его настроения. Нордстрём проверял сигнальные огни и сирену — машину на мгновенье залило синим светом, и сирена оглушительно взревела: тиа-тиа! Машины подъехали к воротам. Сидящий у телевизора дежурный заметил их и нажал на одну из десяти кнопок пульта — створки ворот открылись, группе ничто больше не препятствовало, не понадобилось даже снижать скорость; их встретила ночь, одетая в густой туман.
25. БОЛЬНИЦА
— В поликлинику?
— Нет. В больницу. К главному входу, — ответил Сашка с заднего сиденья.
Они ехали молча, пока такси не миновало перекресток. Потом водитель обернулся:
— Туда не стоит. В это время там все закрыто. Единственное, что сейчас открыто, — «Скорая помощь».
— Мы договорились, — торопливо возразил Сашка; он и сам все время об этом думал и боялся худшего, хотя и старался надеяться на удачу, а теперь вот водитель высказал вслух его опасения. Сашка беспокойно дернулся и притронулся к висящему на шее кресту, но это его не успокоило. Он почти возненавидел водителя; к тому же тот был похож на очкастого комиссара — даже нос такой же острый.
Сашка сунул руку под свитер. Револьвер был на месте. Он это, правда, и так знал, потому что дуло упиралось в бедро. Но прикоснуться к оружию было приятно; вот и теперь, когда он почувствовал кончиками пальцев шершавую рукоятку, чувство животного страха ослабло, и что-то шепнуло ему, что не может все провалиться из-за одной запертой двери. Он что-нибудь придумает. Хоть стекло в дверях разобьет.
— Так куда подъезжать?
— К главному входу.
— Ладно. Платишь-то ты.
Больница мощно вздымалась ввысь, туман окутывал ее крышу, и невозможно было определить, какой она высоты. Хотя стояла уже ночь, сотни больничных окон были освещены. Водитель свернул на центральную дорожку.
— Вряд ли тут что-нибудь выйдет, парень.
— Какое-то движение там есть, — сказал Сашка, хотя так же хорошо, как водитель, видел, что нижний холл пуст и едва освещен. Он открыл дверцу еще до того, как машина остановилась.
— Минутку! — крикнул водитель, быстро протянул руку через спинку сиденья и так схватил его за плечо, что стало больно. — С тебя пятьдесят шесть семьдесят.
— Но мы ведь поедем назад. — Сашка порылся в карманах и нашел купюру в сто марок — она была у него последней, но у Орвокки и у Фейи что-нибудь еще должно быть. Он сунул деньги водителю. — Мы вернемся на Козью гору, только возьмем здесь еще двух пассажиров. Будьте добры, подождите, пока я не вернусь.
В два прыжка Сашка оказался у входа. Дверей было несколько, все одинаковые, он дернул первую — заперта. Он попробовал следующую. Тоже на замке. Подскочил к третьей, четвертой, пятой. Все двери на запоре. Но сквозь стекла был виден свет, и казалось, все внутри издеваются над ним, смеются, погляди, мол, погляди — ты хочешь сюда, но не попадешь; Сашка различал гардероб, окошко справочной, весь холл, даже тот угол, за который надо свернуть, чтобы попасть в отделение Фейи. Он схватился за ручку и стал трясти дверь.
В конце холла кто-то медленно задвигался. Сашка прижался лицом к стеклу. Это была уборщица или посыльная, а может быть, младшая сестра или еще кто-нибудь, но без белого халата, значит — не доктор. Женщина. Она шла усталой походкой. Сашка стал стучать кулаком по стеклу. Женщина остановилась и посмотрела в его сторону.
— Откройте!
Сашке показалось, что женщина покачала головой. Во всяком случае, она указывала куда-то вниз. Это означало, что больница закрыта, что надо пройти в отделение «Скорой помощи», если ему что-то нужно.
— Откройте!
Он был словно в жару, барабанил по двери двумя кулаками, а по ее нижней железной обшивке колотил ногой. Дверца такси открылась.
— Эй, приятель! — позвал водитель, но Сашка на него даже не взглянул: он считал, что с белобрысыми надо держаться высокомерно и отступать нельзя.
Женщина направилась к нему медленно, неохотно, все еще указывая куда-то рукой. Сашка этого будто и не видел. Он молотил в дверь сильнее прежнего.
Женщина остановилась в тамбуре. Она увидела его одежду, волосы, лицо — и, испугавшись, отпрянула от двери.
— Здесь закрыто! — крикнула она. — В это время нельзя навещать больных. Но если вам нужна помощь, идите вниз, в «Скорую».
— Что?
Сашка поднес руку к уху и прижался лицом к стеклу.
— Здесь закрыто. К больным нельзя…
— Что?
Женщина подошла ближе, одной рукой она принялась открывать замок, а другой, подавшись вперед, крепко придерживала дверь, которую, кажется, приготовилась защищать всем телом.
— Здесь заперто. Сюда нельзя.
— Добрая госпожа доктор!.. — Сашка теснее прижался к стеклу и сунул сапог в дверную щель. — Я только мигом слетаю в одно отделение…
— Нельзя.
— Там лежит мой брат. В него стреляли. Вы его, наверно, помните? Сестра с мужем пришли его навестить и…
— В такое время?
— Да. У них специальное разрешение. От главного врача. Сестра недавно звонила и просила, чтобы я за ними приехал. Ее муж напился, он, наверно, и на ногах-то не держится… Я бы только вывел его. Вы ведь знаете нашего брата, какой он, когда расшумится… Вы же не хотите…
Сашка все глубже втискивался в дверную щель. Женщина инстинктивно шаг за шагом отступала, наконец они оба оказались в тамбуре.
— Ну, только на этот раз, — чувствуя себя совершенно растерянной, сказала женщина. — Но если кто-нибудь спросит, не говори, что это я впустила.
— Не скажу. Тысячу благодарностей, госпожа!
Сашка перебежал холл и свернул в коридор, ведущий к отделению Фейи. Он был там только раз, но безошибочно знал дорогу — уходя, все запомнил. На перекрестке коридоров, между двумя стеклянными дверями, он остановился передохнуть и подумал, что надо быть осторожным, позаботиться о том, чтобы никто его не заметил — сестры непременно поднимут шум, сочтут его вором. Он инстинктивно согнулся, стал меньше.
В коридоре было пусто, Орвокки на скамье не оказалось. Под ложечкой у Сашки засосало, словно он вдруг ощутил зверский голод. Он приоткрыл дверь, скользнул в нее и тут заметил: сумка Орвокки стоит на полу под скамейкой. Она бы ее так не оставила, не будь сама поблизости — скорее всего, в палате у Фейи. Прижимаясь к стенке, Сашка на цыпочках пошел дальше. Он протянул руку к дверной ручке и прислушался. Где-то далеко, за несколькими закрытыми дверями, звенел звонок. Откуда-то доносилось тиканье часов. Но ни голосов, ни шагов нигде не было слышно. Сашка открыл дверь и вошел.
В палате было полутемно, только над дверью горела тусклая лампочка. С минуту он ничего не мог разглядеть. Но знал, что кто-то не спит и ждет — он почти слышал шепот, оборвавшийся с его приходом.
— Сашка?
— Я…
— Иди скорее, — позвала его Орвокки, склонившись над кроватью; голос у нее был напряженный, казалось, она вот-вот расплачется. Платок на ее поясе сверкнул белизной, серьги тихо звякнули. Она поддерживала Фейю за плечи. Фейя сидел. Он был одет, даже в сапогах. Что-то теплое хлынуло в Сашкину грудь, горло сжалось. Он быстро подошел.
— Фейя!
— Сашка…
Они обнялись и на минуту превратились словно в одно существо. Сашка почувствовал, как Фейя сжал его голову — он всегда это делал, когда радовался. Это было так приятно. От радости Сашка не сразу осознал, что обычно сильная рука Фейи на этот раз только слегка скользнула по его шее.
— У тебя точно хватит сил? — спросил Сашка, почти смеясь.
— Надеюсь… если вы поддержите. Даже когда сидишь, в голове что-то странное…
— Теперь быстро! — резко сказала Орвокки и стала помогать Фейе встать на ноги.
— Тише, — раздался чей-то слабый голос с другого конца палаты. — Не мучайте меня, я позову сестру…
В темноте послышался шелест — кто-то обшаривал изголовье кровати и стенку — там были трубки, провода и такой же звонок, как возле кровати Фейи. Орвокки вздрогнула, точно ее ударили.
— Ради бога, милый человек… Простите, если мы помешали. Мы как раз уходим.
Но шелест продолжался, потом послышалось всхлипывание.
Орвокки и Сашка поставили Фейю на ноги, поддерживая его с обеих сторон. Сил у Фейи совсем не было, он тяжело дышал, хотя не сделал еще ни шагу. Они направились к двери, но не шли, а тащились. Сашка почувствовал горький привкус во рту.
— А эти трубки? — вспомнил он.
— Не беспокойся, — выдохнул Фейя. — Я их отрезал. На Белом пороге поставят новые. Увезите меня туда…
— Но если ты…
— Нет… Я не хочу здесь оставаться. Даже врачи налетают здесь огромной белой стаей… Трубки высасывают какую-то жидкость, которая скапливается. Уедем… Пусть поставят новые…
Сашка локтем открыл дверь. В коридоре никого не было. Но где-то поблизости звонил телефон. К нему никто не подходил. Сашка не посмел прислушаться, откуда идет звук. Они перебрались через порог, но с каждым шагом продвигались всего на несколько сантиметров. Орвокки схватила свою сумку. Над дверью зажглась матовая лампочка. Пот струйками стекал по шее Фейи. Теперь зазвонил и другой телефон.
— Ты поставил крылья Злючке? — выдохнул Фейя.
— Поставил. Снял их с одного микроавтобуса, он стоял там поблизости, настоящая рухлядь…
Сашка не решался больше смотреть на Фейю. Он только сейчас увидел, какое бледное у того лицо, почти желтое; такие бывают у покойников, правда, Сашка их никогда и не видел. Он глядел на стеклянную дверь отделения и думал, что вот-вот они окажутся по ту ее сторону, потом в такси, потом — вне опасности. И тут он понял, как надо все устроить. Надо попросить водителя проехать мимо Валлилы, там выйти, а Фейю с Орвокки отправить дальше, на Козью гору. Надо только сделать это все так быстро, чтобы Фейя и Орвокки ни о чем не догадались. А он долго и не задержится, всего минут на пять-десять. И приедет на другом такси, можно даже договориться с этим же водителем.
Если Вяйнё и Онни нет дома, будет Севери. Сашка нервно, со свистом глотнул воздух. Когда известие об их отъезде распространится, думал он, никто не станет смеяться над тем, что они просто сбежали, струсив. А главный плоскостопый не станет больше говорить, будто он, Сашка, не мужчина.
26. ОКРУЖЕНИЕ
В рации светилась лампочка. Другого огня в машине не было. Она въехала в переулок Мадетоя и остановилась — до двора Хедманов отсюда метров тридцать.
Кауранен сидел за рулем и курил, лихорадочно затягиваясь. Кандолин, в шлеме — рядом с ним. Он держал микрофон наготове у губ, а большой палец на тумблере. Харьюнпяа — на заднем сиденье. Он ощупал револьвер, положенный прямо в карман, кобуру пришлось снять: длинный бронежилет опускался ниже пояса. Они следили за рацией, ожидая, пока последняя группа доберется до места, тогда они смогут начать операцию — подняться сначала на крыльцо, потом в квартиру Хедманов.
— Нордстрём сообщает: двор заблокирован с обеих сторон.
— Вас понял. Кандолин.
Говорил Кандолин тише обычного. Он взглянул на часы и стал теребить полученный у дворника ключ, потом вдруг не выдержал и нажал на тумблер.
— Группа, охраняющая балкон, слышите меня?.. Кандолин вызывает группу, охраняющую балкон…
— Собаку вызывали? Если вызывали, мы наготове на углу Бальзамного переулка, как было условлено.
— Не вызывали. Группа, охраняющая балкон, вы меня слышите?
Радио молчало: все как обычно, когда в деле участвует слишком много народу.
Харьюнпяа опустил в машине стекло. Моросил мелкий дождик, живые изгороди и асфальт блестели от влаги. Дома стояли темные. Странно: совсем рядом находятся сотни, может быть, тысячи людей, они спят в своих постелях, согреваемые взаимным теплом, и видят сны, а если кто-то просыпается от кошмара, достаточно поднять голову и увидеть знакомую комнату, чтобы забыть все, натянуть одеяло на голову и снова погрузиться в сон.
Ближе, на расстоянии едва ли не шепота, в подъездах и в кустах прятались неподвижные фигуры. Они были в шлемах и бронежилетах, держали оружие в нервных руках и, сощурив глаза, следили за красным кирпичным домом, прислушиваясь одновременно к тихим сообщениям по рации. Многие из них скучающе думали, что все это напрасная суета, но тут же себя поправляли: речь ведь идет об оружии, захваченном при ограблении, и противники — цыгане. Если в человека выстрелят из дробовика, от него не останется ничего, кроме рваных лохмотьев.
— Вызываю группу, охраняющую балкон.
— Слышу. Вийникка слушает.
— Вы на своих местах?
— Как будто бы. Но здесь ни в одном из окон нет света. Может, они его уже погасили…
— Вы точно у дома Е?
— Да. Но… минутку… Хаутамяки говорит, что это Б.
— Значит, вы на дом ближе к Вассальной улице, чем надо. Перебазируйтесь, сию же минуту.
— Есть.
Кандолин перевел дыхание. Потом стал массировать затылок, будто его ломило. На щитке тикали часы. Издали доносился тихий скрежет, словно где-то пытались завести машину. Звук повторялся, значит, мотор не заводился. В остальном все было тихо. Даже на Окружной дороге.
— Вийникка докладывает: теперь мы на нужном месте. В третьем окне слева горит свет, этаж второй, как и должно быть. Отсюда никто не улизнет.
Кандолин с облегчением вздохнул и поднял микрофон, но Полицейское управление опередило его:
— Шесть-два-три. Направляйтесь в сторону Бастионной улицы. Пришло несколько сообщений, что оттуда, со стороны парка, раздавались выстрелы. Позаботьтесь о своей безопасности.
— Принял, — донеслось в ответ. — Мы на Гористой улице, поворачиваем… Считайте, уже прибыли… На улице много народу… Это на Бастионной, двадцать три.
— Тот самый адрес, где мы были с Онервой, — встрепенулся Харьюнпяа, но его перебили: та же группа сообщила:
— Управление! Пришлите сюда еще людей и машины, только быстро! Это все цыгане. Не угадаешь, что из этого получится…
Кандолин резко обернулся к Харьюнпяа, но ничего не сказал; уголки его губ дергались.
— Там живут Бломерусы, — сказал Харьюнпяа.
— Кандолин! Вызывает Управление.
— Слушаю.
— Вас не интересуют события в Валлиле? Может, это связано с преступлением на Малом пороге?
— Конечно, интересуют, — хрипло сказал Кандолин. — Как там дела?
— Пока неясно. Группа, уехавшая в Валлилу, молчит. Слышны только крики и причитания… Убитых, надо надеяться, нет…
— Сейчас поеду туда. Внимание всем, находящимся на Козьей горе, вызывает Кандолин. Операция прерывается примерно на полчаса. Всем оставаться на своих местах. Следует иметь в виду, что обстоятельства могли измениться и объект может попытаться попасть в дом с улицы. Наблюдайте…
Кауранен включил в машине свет и схватился за рычаг скоростей.
— Группа Нордстрёма приняла к сведению.
Кандолин нагнулся, он нашаривал на полу сигнальную лампу. Кауранен развернулся, выезжая из переулка. Кусты хлестали «ладу» по бокам.
— Вийникка сообщение принял.
Кандолин поднял сигнальную лампу на колени и опустил стекло. Ночной ветер ворвался в салон. Машина затарахтела по улице.
— «Транзит» принял.
Сработало пусковое устройство сигнальной лампы.
— Не включай пока! — бросил Кауранен. — Лучше, чтоб нас не заметили. Не надо сигналить…
Где-то поблизости, чихая и кашляя, заработал мотор. Похоже, его удалось завести. Харьюнпяа поднял стекло и обеими руками вцепился в спинку переднего сиденья. «Лада» влетела в туннель под железной дорогой и, взвизгнув шинами, свернула на Окружную. Кауранен мчал вовсю. Кандолин установил сигнал. Синий свет заполыхал вокруг машины, освещая столбы и дорожные знаки. И так как звукового сигнала не было, слышалось лишь жужжание электромотора, вращающего лампу.
27. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
Было без четверти два.
Уле-Иккала возглавлял группу. Вернее, был в ней старшим — навыки руководителя он давно растерял вместе с надеждой попасть на курсы младшего командного состава. С ним находился Мальчик — так он называл каждого, кто был в его группе, но делал это не для того, чтобы обидеть или оскорбить, а по той простой причине, что никак не мог выучить имена молодых ребят, назначаемых ему в помощники, — они менялись так часто и к тому же были все друг на друга похожи: длинноногие, с пробивающимися над верхней губой светлыми усиками.
Уле-Иккала вел машину. Мальчик не имел еще водительских прав, да он и вообще не смог бы сидеть за рулем: глаза у него от усталости слипались, голова склонялась то на одно, то на другое плечо. Они находились на виадуке над Окружной дорогой, когда под ними прогромыхал автобус, направляющийся к западу. Мальчик раскрыл глаза и сонно огляделся.
— Где мы?
— В полицейской машине. Но скоро будем в участке и выпьем крепкого кофе.
— Вон идет машина без огней. Вон там, внизу. Точно финский флаг…
— «Там, внизу», — это Окружная! И если ты имеешь в виду тот автобус, то фары у него горят. Я видел, как он въехал под виадук. Я ведь не спал…
— Ничего подобного. Видишь, задних огней-то нет. В него может кто-нибудь врезаться… Пьяные водители часто забывают включить фары.
— Я тебе сказал, что фары у него горели.
Уле-Иккала затормозил, и «транзит» остановился посреди виадука. Уле-Иккала глядел на удаляющуюся машину.
— Черт побери! — вырвалось у него.
— Темным-темно.
— Но передние фары точно горели.
— Да-а…
Уле-Иккала крепче сжал руль, не зная, как поступить. Он не любил вмешиваться в дорожные происшествия, они всегда вызывали в нем досаду, но, с другой стороны, деликатное «да-а», произнесенное Мальчиком, показалось ему злорадным и возмутило своей язвительностью. А ведь эти мальчики никогда ничего сами не замечают, вечно приходится указывать им в нужную сторону и кричать: «Глянь-ка вон туда! Смотри же!» Только после этого они начинают что-то соображать. Уле-Иккала потер подбородок и почти почувствовал на языке вкус кофе. Но тут он вспомнил, как кто-то учил его, что нельзя душить инициативу молодых констеблей в зародыше, надо иной раз прислушаться и к их предложениям.
— Поедем поглядим, горят у него передние фары или нет, — обернулся он к Мальчику. — Тот, кто ошибся, платит за кофе. О’кей?
Мальчик кивнул. Уле-Иккала подал метров на сто назад и спустился на Окружную дорогу. Автобус ушел вперед и только чуть виднелся вдали.
— Почему они так покрасили свою машину? По-моему, это просто кощунство.
— Может, она принадлежит какому-нибудь ансамблю или наркоманам. Может, тут пахнет наркобизнесом.
— Да, пожалуй.
«Транзит» нагонял автобус. В нем, похоже, имелись и другие неполадки, не только с задними фарами: за ним тянулась черная туча газа, и шел он зигзагами, то и дело поднимая в воздух песок с обочины.
— Да шофер просто в стельку пьян! — хихикнул Мальчик.
— Погоди-ка. Узнай по рации его регистрационный номер. Потом возьми жезл автоинспектора и приготовься играть его роль.
До автобуса оставалось метров тридцать. Мальчик схватил микрофон.
— Управление, слышите группу три-четыре-четыре?
— Не кричи так, — не разжимая губ, сказал Уле-Иккала. — И не держи микрофон близко у рта.
— Управление! Вызывает три-четыре-четыре.
— Управление слушает.
— Нужна проверка водительских прав. Номер: Ульрих-Хейкки-Ева-восемь-семь. Автобус, бело-синего цвета. Марки не различить…
— Ульрих-Хейкки-Ева-восемь-семь. Одну минутку.
Радио умолкло. Уле-Иккала представил себе, как дежурный Управления склонился над пультом и набрал номер — через секунду на экране появился ответ, дежурный поднес микрофон к губам и нажал на тумблер.
— Три-четыре-четыре, говорит Управление. Номер не перепутан? Компьютер выдает, что это микроавтобус, который давно миновал зрелый возраст и изъят из картотеки.
— Номер верный. Это автобус.
— И что, он движется? Или стоит?
— Идет перед нами… качается… водитель точно под мухой. Что нам делать?
— Разве можно так спрашивать?! — охнул Уле-Иккала. — Нас же засмеют. Мы его остановим.
— По дружбе можем посоветовать: попытайтесь остановить. Помощь нужна?
— Скажи — нет!
— Не нужна. Мы остановим…
— Хорошо, Мальчик, хорошо.
Автобус увеличил скорость. Она приближалась к семидесяти. Водитель их, очевидно, увидел, но не догадывался, голубчик, что́ его ожидает. Уле-Иккала нажал на одну из кнопок нижнего ряда на пульте управления — кнопку, напоминающую маленький гриб, — воронкообразную лисичку.
— Открой окно и выставь жезл, — велел он Мальчику. — Поглядим, как они прореагируют. Обычно начинают дергаться…
Мальчик опустил стекло. Ночь влетела в машину бензиновой вонью и скрежетом колес. Уле-Иккала до упора нажал на сигнал. Хвост автобуса вспыхнул синевой. Сигнал завыл — сразу изо всей силы: «Тиа-тиа-тиа!»
Уле-Иккала перебросил машину на левую сторону дороги и начал прибавлять скорость. Мальчик сжимал в побелевших пальцах надпись: ПОЛИЦИЯ. Но водитель автобуса и не подумал останавливаться — он так нажимал на газ, что дорога окуталась густым шлейфом дыма, словно из заводской трубы. Потом автобус пошел почти наперерез им.
— Осторожно! — крикнул Уле-Иккала; он притормозил, едва не оказавшись в кювете. — Надо же…
И снова им пришлось пристроиться в хвост автобусу. Машины гудели, следуя друг за другом. Сигнальные огни «транзита» ярко отражались в задних стеклах автобуса, сирена ревела до одури. Уле-Иккала незаметно для себя покачивался, будто скакал на лошади. Сердце у него колотилось: недаром он терпеть не мог дорожных происшествий. Мальчик, конечно, станет потом рассказывать другим молокососам, что он на новом «транзите» не мог догнать старую рухлядь. Он снова попытался поравняться с автобусом — но опять получилось то же. И только тут Уле-Иккала сообразил, что надо остерегаться и другого: автобус может неожиданно остановиться, и тогда они обязательно в него врежутся. В целях безопасности Уле-Иккала стал решительно увеличивать расстояние между ними.
— Он сворачивает! — крикнул Мальчик.
Это была правда. Автобус переместился вправо, к самому краю дороги, и заскользил вниз, к шоссе на Хямеенлинна. Но они вовремя это заметили и последовали за ним. Уле-Иккала закусил губу — автобус мчался на бешеной скорости, внизу резко накренился и пошатнулся, но сумел удержать равновесие и покатил дальше.
— Попроси подмогу в Управлении! — крикнул Уле-Иккала. — Скажи, что мы на Нурмиярвиском шоссе и едем на север! Пусть кто-нибудь перекроет дорогу и заодно сообщит в Вантаа. Мы скоро там будем.
Мальчик дрожащим голосом стал объяснять дежурному, что́ происходит. Потом Управление по рации начало вызывать на связь машины. Ответили несколько голосов, но Уле-Иккала их не разобрал: все заглушала сирена. А автобус трюхал вперед как некое страшилище, без задних фар, с синими молниями, сверкающими на задних стеклах.
— Ой, упадет!
— Нет, удержится!
Уле-Иккала и Мальчик дышали лихорадочно. Автобус шел по стороне встречного движения. Между ними тянулось железное ограждение.
— Вдруг кто-нибудь выедет навстречу! Сообщи в Управление!
Уле-Иккала нажал на акселератор, поравнялся с автобусом, опустил стекло и замахал рукой. Все было напрасно. Автобус продолжал идти вперед, между ним и полицейской машиной мелькали ограждение и кусты роз.
— Управление, пришлите помощь! Автобус идет по левой стороне!
— Три-четыре-четыре. Из Хаага к вам выехала группа, но она вряд ли быстро вас догонит. В Вантаа постараются перекрыть развилку. Вы что же, своими силами не можете его остановить?
— Нет, он едет и едет!
— Убери микрофон!
— Три-четыре-четыре, вы слышите? Говорит Управление!
— Убери микрофон! Всегда так: справляйтесь сами, в какой бы переплет ни попали… Им легко там посиживать да карту разглядывать, а вы делайте то, что велит закон…
— Три-четыре-четыре! Слышите меня? Говорит Кауранен из криминальной полиции.
— Заткни глотку! — крикнул Уле-Иккала, повернувшись к рации, и на его щеках запылали ярко-красные пятна. Он ждал следующего прохода в ограждении — они располагались примерно в километре друг от друга, — но тут же понял, что толку от этого не будет: они снова идут позади автобуса.
— Там цыгане! — заорал Мальчик. — Из окна выглянула женщина. С длинными черными волосами и большими серьгами!
— Ишь до чего их разобрала охота путешествовать! Но скоро они успокоятся! — Уле-Иккала снял руку с баранки, задрал подол куртки и с минуту повозился, прежде чем сумел открыть кобуру. Теперь и он увидел женщину. Конечно, цыганка! Она глядела на них и что-то кричала водителю — рот у нее все время был открыт. А может, эта ведьма смеется? Уле-Иккала выхватил пистолет, который служил ему все годы работы в полиции. Он сунул его в руки Мальчику.
— Взведи его!
— Там же люди…
— Взводи!
— Там…
— Знаю я — там цыгане! Взводи!
Щелкнул взведенный Мальчиком курок. И пистолет снова оказался у Уле-Иккала.
Он высунул руку в окно, встречный ветер тут же откинул ее назад, но он сумел ее выпрямить. Вся в заклепках и ржавых пятнах, отчетливо просматривалась боковая стенка автобуса. Уле-Иккала различил и заднее колесо — оно находилось как раз рядом с ним и крутилось по асфальту как большой черный диск. Он подумал о предупредительном выстреле. Но разве его кто-нибудь услышит? Выхлопная труба автобуса ревела так, словно открылись двери преисподней.
Уле-Иккала, опершись рукой на раму, стал целиться. Это было чертовски трудно, так как время от времени приходилось глядеть на дорогу. Но он знал, во всяком случае, интуитивно чувствовал, что заднее колесо на мушке. Он нажал на курок, рука дернулась, раздался выстрел, и сноп желтых искр брызнул в разные стороны. Он взглянул вперед, потом снова нажал на курок во второй и в третий раз. Но ничего не произошло. Автобус катил по-прежнему, цыганка опять высунулась в окно. Они мчались под мостом в Вантаанкоски, и бетонные опоры мелькали, словно белые тени.
— Попал!
Заднее колесо автобуса превратилось в какое-то черное покрывало и стало хлопать, но автобус не остановился, даже не сбавил скорость. Потянуло гарью. Запах шел от колеса.
— Какого дьявола он не останавливается! Он же знает, что мы — полиция! Что за идиот, неужели не понимает, что лучше разобраться на словах!
— Откуда-то дым валит… Заднее колесо загорелось!
Автобус качнуло в сторону центральной полосы, потом стало бросать справа налево и обратно — теперь водитель действительно был в затруднении.. Может быть, и второе колесо начало плавиться? Оно могло лопнуть. В автобусе, вероятно, царил полный хаос, там было, пожалуй, не лучше, чем в аду. Но водитель не останавливался, он гнал и гнал вперед. Дым стал густым и черным, из-под крыла вырвалось оранжевое пламя.
— Управление! — кричал по рации Мальчик. — Шлите помощь! Он горит! Пришлите нам помощь!
28. ЗЛЮЧКА
Харьюнпяа сбежал по деревянной лестнице вниз, во двор. Это была та самая лестница, на которой он сутки назад открывал проволочкой крючок. Но теперь дверь квартиры была открыта, там горел свет, все говорили разом — даже малыши были на ногах, и их испуганный рев отчетливо слышался, хотя Миранда и закрылась с ними в самой дальней комнате. Громче всех орал Севери. Он требовал, чтобы Кандолин оставил перед домом полицейскую охрану до утра. Кандолин громко хохотал — как всегда, когда хотел кого-нибудь унизить. Второй полицейский оперативного отдела тоже что-то бубнил, но слов нельзя было разобрать: выкрики Севери перекрывали все.
Харьюнпяа чувствовал себя, пожалуй, больше обманутым, чем озабоченным, а почему и сам толком не знал. Он крепче прижал к уху рацию и вышел со двора на улицу. Рация молчала.
Пошел дождь. Перед домом стояли три полицейские машины, два «сааба», принадлежащих оперативному отделу, и их «лада». Сигнальные огни не горели. На тротуарах маленькими группками стояли люди, и почти все окна ближайших домов светились. Харьюнпяа поспешил к «ладе». Передняя дверца была открыта, Кауранен сидел в машине боком, выставив ноги наружу.
— В чем дело?
— Я думаю…
Кауранен склонился к рации, слушая какое-то оповещение, но оно его не заинтересовало. Он потихоньку выругался и распрямился; его лицо было растерянным, и, прежде чем спросить, он как-то рассеянно пожевал губами:
— Оно что, само разрядилось?
— Нет. Стреляли явно с улицы. В комнате полно осколков, и на одной стене отчетливо видна дырка от пули. Пулю пока не нашли. Технический отдел разыщет, когда приедет.
— Значит, тревога ложная? Какой-то идиот, шатаясь по улице, вздумал разрядить свою пушку именно в этом месте. По чистой случайности пуля влетела в цыганское окно. Вот и все…
— А может, кто-нибудь захотел их попугать? Или за что-то отомстить?
— Но это не имеет к нам никакого отношения.
— Не забывай, почему следят за Сашкой…
— Он не мог этого сделать. Я думаю, его уже поймали. Или вот-вот поймают. На шоссе Хямеенлинна…
— Внимание! Кауранен, говорит Вийникка, — раздалось вдруг по рации.
— Слушаю. Он там?
— Нет. Обыскали всю площадь, но никакого автобуса не нашли. Другие машины есть. На земле есть следы, похоже, оттуда ушла какая-то большая машина. Мы вспомнили, что вскоре после вашего отъезда слышали шум мотора. Но между дорогой и нами был дом. Кроме того, нам про автобус никто и слова не сказал…
— О’кей. Спасибо. Оставайтесь на месте, пока Кандолин не даст новых распоряжений. Харьюнпяа, позови Кандолина! Быстро!
Кауранен втянул ноги в машину и захлопнул дверцу. Харьюнпяа снова бросился во двор. Но не успел он добежать даже до угла дома, как мотор «лады» затарахтел и синий световой сигнал завертелся на крыше — висящие на веревке ползунки становились то белыми, то ярко-синими.
Сначала в дороге все молчали. Казалось, в мире нет иных звуков, кроме шуршанья колес по асфальту, свиста ветра в щелях окон и жужжания светового сигнала на крыше. Наконец Кандолин нарушил молчание:
— Я — восемь-два-семь, вызываю какую-нибудь группу на Нурмиярвиском шоссе.
Никто не ответил. Дорога убегала под машину, и полосы на асфальте тянулись, словно ленты.
Харьюнпяа сидел сзади один. Внешне он расслабился, положил руки на колени, но внутри что-то твердое и жесткое, как узел в тросе, сжимало и давило его. Он чувствовал, что это последняя поездка, связанная с выстрелами на Малом пороге, что едут они не туда и найдут не то, что предполагают.
— Слушает Вантаа, номер три-два! Нас кто-то вызывал?
— Говорит комиссар Кандолин из хельсинкской криминальной полиции. Вы задержали цыган по имени Сашка и Алекси Хедман, ехавших в автобусе?
— Я?.. Здесь я спрашиваю.
Казалось, этот человек смеется, а может, рация исказила его голос, или он просто глубоко вздохнул.
— Проверьте! — распорядился Кандолин. — Они подозреваются в убийстве.
Группа из Вантаа больше не ответила. Вместо этого по рации донеслось только шуршанье, будто кто-то водил пальцем по микрофону, не зная, как он работает, потом молодой мужской голос крикнул:
— Управление! Срочно «скорую помощь»!
— Ну-ну, три-четыре-четыре, — успокаивающе сказал дежурный из Управления. — Хельсинкское пожарное управление ответило, что они не поедут так далеко, но пожарная часть из Вантаа выслала свою группу и санитарную машину. Они, наверно, сейчас подъедут.
— Здесь требуется «скорая помощь» с врачом! — кричал Мальчик так, что рация дрожала. — Какой-то старик лежит без движения, лицо посинело. И мужчина без сознания. Весь перевязанный бинтами, из-под которых торчат трубки, а из трубок течет кровь. И женщина… у нее тоже течет… оттуда… Она рожает! И не дает никому притронуться! Пошлите «скорую»!
— Спокойно. Сейчас попробуем.
Харьюнпяа сжал край сиденья. Старик — не иначе как Калле Хедман. Харьюнпяа понимал, что значит посиневшее лицо. Он видел такую синеву на лицах умерших от сердечных приступов. Врачи считают, что к реанимации стоит прибегать только в том случае, если после остановки сердца прошло не больше пяти минут, а для стариков и того меньше.
Еще Харьюнпяа вспомнил, как рожала Элиса, лежа под пронзительно яркими лампами, сотрясаемая дрожью, с уже наполовину опавшим животом, а вокруг хлопотали врачи, акушерки, и он стоял с дурацкой тряпкой в руках, которой будто бы должен был вытирать Элисе лоб, — по ее глазам он видел, как была она одинока, и ничто, кроме вскрика Пипсы, до нее не доходило.
Харьюнпяа страшно было даже подумать о том, как безмерно одиночество женщины, если ей приходится рожать на месяц-два раньше времени, да еще на грязной обочине дороги, когда вскрика ребенка можно и не дождаться.
Они приближались к месту разыгравшейся драмы. В машине запахло дымом, сначала слегка, а потом резко и удушающе. Цвет неба изменился. Оранжеватый оттенок, который придавало ему отражение уличных фонарей, стал вдруг красным — казалось, вся дорога впереди охвачена пламенем.
Кауранен сбавил скорость. Автобус стоял на противоположной стороне шоссе, за кустами. Он не свалился в кювет, но весь полыхал. Языки пламени вырывались из его окон и соединялись в вышине, окрашивая в красный цвет густо поднимающийся вверх дым.
Харьюнпяа выскочил из машины. Треск и невообразимый шум оглушили его — казалось, тысячи людей кричат где-то безумно и без передышки. Краска пузырилась на боках автобуса, словно растопленный жир, синее и белое уже не различалось, в воздухе летали лохмотья жирной сажи.
Жар заставил Харьюнпяа пригнуться. Передняя дверца автобуса была распахнута. Перед ней на асфальте лежала на боку собака, похожая на овчарку, уже совсем седая от старости, ее пристрелили двумя выстрелами в голову, язык у животного вывалился, шкура тлела.
— Уходи оттуда! Там никого нет.
Харьюнпяа еще ниже пригнулся, попятился и остановился. С севера и с юга нарастал вой сирен — сюда мчался добрый десяток машин. Кто-то подбежал к Харьюнпяа, схватил его за рукав.
— Уходи отсюда к дьяволу! Здесь ядовитый газ! И Сашка, и Алекси схвачены. Ребята из Вантаа позаботятся о них, отвезут в больницу… Ты что, не слыхал, ведь Кауранен тебе кричал? Мы нужны в другом месте. В Валлиле уже целая война. Кто-то стал обстреливать полицейских из технического отдела, когда они туда прибыли. На чердаке засели по крайней мере двое вооруженных…
Харьюнпяа обернулся и посмотрел на Кандолина.
— Это наша вина.
Кандолин отступил на шаг и, склонив голову, посмотрел на него из-под шлема.
— Не сходи с ума. Если кто-то пускается в путь на такой груде хлама… Разве это не его вина? Разве решится на это человек, который дорожит своей жизнью? А если бы кто ехал навстречу? Пошли отсюда, нам здесь делать нечего, теперь этим должна заниматься полиция из Вантаа.
— Это мы их сюда загнали.
— Тимо, — с мягкой укоризной, будто говорил с больным, произнес Кандолин.
Пожарные машины были уже совсем близко. Как и пылающий автобус, они отражались в очках Кандолина, но Харьюнпяа выделялся в них черным призраком. Он посмотрел вдаль. По лугу в развевающемся платье убегала маленькая девочка, это Хиллеви или кто-нибудь из ее сестер. Харьюнпяа вышел на середину шоссе, чтобы его было видно издалека. Девочка прибежит к нему, если захочет, думал он, зная, что сам не догонит ее, а если и догонит, то не сумеет поймать.
Маури Сариола СУСИКОСКИ И ДОМ ТРЕХ ЖЕНЩИН Роман
MAURI SARIOLA
Susikoski ja Kolmen naisen talo
1984
© Gummerus, 1984
Перевод Ю. Воронина
Глава 1
«Представленное обвиняемым объяснение по поводу того, что он нарушил закон, не будучи осведомленным о действующих в стране правовых нормах, не может служить основанием для его освобождения от ответственности».
Такое резюме однажды вынес некий седоусый уездный судья. Резюме само по себе было весьма немногословным и сухим. Очевидно, в связи с этим немного погодя судья сделал пояснение на общедоступном языке: «С таким же успехом сюда мог бы прийти какой-нибудь болван и стал бы утверждать, что никогда и слыхом не слыхивал о том, что за воровство наказывают!»
Вспомнив этот эпизод, Тимо Тойвиайнен выругался про себя. Черт подери! Ведь всякий, прочитавший в свое время катехизис, знал, что седьмая заповедь гласит: «Не укради». Кроме того, этот седоусый позволил себе сравнить его с болваном.
А это уже был серьезный конфуз.
Даже судебные заседатели улыбнулись в свои бороды. И в довершение этот самый седой медведь, восседавший за судебным столом, вытащил какое-то проклятое «Римское право» и, ссылаясь на него, сделал сообщение, согласно которому еще в древности судебные принципы полностью исключали незнание закона как оправдание при совершении преступления.
При таких обстоятельствах совершенно бессмысленно являться в суд и утверждать, что ты якобы не знаешь соответствующей статьи закона! Прикидываться неосведомленным в таких делах считалось и глупостью, и трусостью. Это все равно что уподобить себя зайцу, который, пытаясь скрыться от опасности, прячет голову под куст.
Вот дьявольщина! При воспоминании об этом эпизоде захотелось выругаться в полный голос. А тут еще попавшийся на тропинке камень. Погруженный в свои мысли, Тойвиайнен наехал прямо на него и от неожиданного толчка едва не свалился с велосипеда.
Случилось все это год назад. Его дело слушалось в уездном суде. И хотя оно было пустяковым, он, очевидно, от излишка ума — черт бы его побрал! — не нашел ничего лучшего, как начал утверждать, будто не знал и не ведал о том, что содеянное им наказуемо.
Поначалу объяснение показалось ему вполне подходящим.
Ведь «Свод законов» Финляндской Республики представлял собой такой увесистый фолиант, что им вполне можно убить быка. И поскольку дебри параграфов в нем настолько непроходимы, то, пожалуй, было бы справедливо не требовать от необразованного крестьянина знания каждой значившейся там завитушки.
Что же произошло тогда?
Сначала имело место упомянутое разбирательство, и прошло оно довольно гладко. Затем как гром среди белого дня грянул приговор, да еще с дополнительными определениями.
Что же из этого следует?
Рот Тойвиайнена скривился в усмешке. Сейчас он уже обрел спокойствие и искусно объезжал все попадавшиеся на тропинке камни, кочки и вылезшие на свет божий древесные корни.
Во-первых: если уж дошло до официального разбирательства, то совершенно напрасно нести околесицу. Во-вторых: задуманное следует приводить в исполнение так, чтобы не попадать на казенные харчи!
Тойвиайнен одобрительно кивнул головой своим размышлениям. Это были размышления умного — или скажем точнее — поумневшего человека. Теперь он будет вести себя разумнее. Сначала произведет рекогносцировку на местности. Выяснит, свободен и ясен ли путь. И только после этого начнет действовать. Конечно, на предварительной стадии нельзя было притуплять бдительность. Теперь же, когда все продумано до конца, можно и расслабиться. Пошел крутой подъем. Слегка приподнимаясь, чтобы сильнее нажимать на педали, Тимо Тойвиайнен спокойно улыбался.
Просыпавшаяся по весне природа пробуждала бодрые надежды. На фоне ее какой-то напыщенный чудак, восседавший на «Своде законов» и диктовавший честному народу наставления и распоряжения, казался полным ничтожеством.
Тойвиайнен протяжно вздохнул.
Он был свободным человеком и свободно странствовал по привольной земле. На чистом, синем небе не было и признака облачка. Солнце светило вовсю, и белые стволы берез переливались в его лучах. Листва на березах распускалась прямо на глазах. Муравьи, соорудившие свой муравейник на самом солнцепеке, деловито сновали туда-сюда. Воздух источал свежесть, а птичье щебетанье ласкало ухо.
Казалось, даже кровь в жилах стала бежать быстрее.
Однако стоп!
Нельзя так безрассудно растворяться в очаровании природы. Тойвиайнен хорошо знал эту местность, так же как и то, что вьющаяся вверх по склону тропинка приведет его к важному наблюдательному пункту. С него хорошо просматривается вся окрестность. Если все вокруг будет спокойно — как и следует ожидать, — то он в полной безопасности сможет осуществить свои не вполне праведные замыслы.
Или лучше сказать: замыслы, не выносящие дневного света.
Тойвиайнен фыркнул.
Не очень-то подходящее выражение, когда вся природа наполнена до отказа светом! Да и собирается-то он заняться делом, которое отнюдь не перевернет мир. Ну а если в нем и содержится что-то противоречащее уголовному кодексу — то ведь во всяком деле есть доля риска.
Итак, вперед!
Только вперед!
С начала исчисления веков известно, что всякий запретный плод имеет свойственное только ему влекущее к себе очарование.
Размышления Тойвиайнена приняли практический оборот. Самое важное сейчас — укрепить тыл. Он заканчивал подъем на вершину холма, с которого открывался вид на всю округу. Внимательный обзор сверху поможет зафиксировать все досадные препятствия, которые могут возникнуть и помешать ему. И даже если, вопреки предположениям, окажется, что в поле его зрения попадет ранее не предусмотренная помеха, то ведь он еще не приступил к осуществлению своих планов. И в таком случае он тотчас откажется от их исполнения.
Слегка запыхавшись, Тойвиайнен достиг вершины холма и прислонил велосипед к дереву. К рулю велосипеда было приторочено несколько утопленных одно в другое пластмассовых ведер. Он осторожно прокрался к растущей прямо на вершине холма высокой ели, просто гиганту. Ее ветки свисали до земли и образовывали надежный наблюдательный пункт.
Тойвиайнен пробрался к основанию ствола, отодвинул ветки в сторону. Обзору лежавшей внизу местности ничто не мешало.
Вот и он. Дом в котлообразной низине. Отсюда, сверху, он будто на ладони.
Тойвиайнен зажмурил глаза, почесал в затылке. И без того морщинистое лицо его еще больше сморщилось. И хотя он родился и вырос в этих краях, хотя он много раз видел эти места прежде — даже с этой почти поднебесной высоты, — его всегда охватывало труднообъяснимое чувство изумления и восторга.
И это не все.
К естественному чувству восхищения примешивалось еще что-то такое, что нельзя было выразить словами. И это «что-то» настораживало и настраивало на мрачный лад.
Такое чувство и охватило его именно сейчас, хотя вокруг благоухал и шелестел прекрасный весенний мир.
Не исключено, что на случайного прохожего этот дом и примыкающие к нему дворовые строения производили на первый взгляд странное впечатление.
Это был тесно замкнутый прямоугольник.
Мало того, что в глаза бросалась четкая геометричность расположения всех построек, каждая сторона прямоугольника была так укреплена, будто была рассчитана на осаду. Основную оборону брали на себя башни, сложенные из крепкого строевого леса.
Жилое здание. Скотный двор и конюшня. Дровяной сарай, забор, небольшая пекарня, сауна… что там еще? Все строения вместе напоминали крепость. Ограду в этой крепости образовывала высокая стена из толстых досок. Массивные ворота в свою очередь были как бы венцом этого необычного сооружения. Мощные столбы, на которых они крепились, и обе половины, сколоченные из толстых досок, завершали это подобие крепости. Ворота стояли под крышей. В огромных их створах находилась маленькая калитка, через которую гость мог войти во двор. Если здесь вообще принимали гостей.
Створы ворот раскрывались только для пропуска транспортных средств, а таковые во двор этого дома заезжали редко. Об этом Тойвиайнен был хорошо осведомлен как по досужим разговорам, так и по собственным наблюдениям.
Тимо Тойвиайнен, пробуждаясь от дум, тряхнул головой и начал набивать трубку. Времени было достаточно. Программа этого дня рассчитана не на минуты. Да и на часы особых ограничений не было. Так что в самый раз спокойно выкурить трубочку и одновременно поразмыслить о мирских делах. И в то же время понаблюдать за жизнью расположившегося внизу дома.
Можно было представить, какой страх замкнутого пространства охватывал человека внутри этих строений. Однако на самом деле во дворе было не так уж тесно. Видимо, предки нынешних владельцев строили с расчетом на будущее, благо, что дерево в середине прошлого века почти ничего не стоило. Его можно было использовать сколько угодно как в стены дома, так и в ограду, окружившую сплошной стеной всю территорию.
Добротная, распиленная вручную доска…
Такой была ограда. А бревна, из которых собрали дом и пристройки, выглядели такими мощными, что казалось, один человек не в состоянии обхватить их руками. Только доставка их на место потребовала, видимо, огромных усилий.
Но если дерево сотню лет назад было дешевым, то не менее дешевой была и рабочая сила. Рассказывают, что в прежние времена в поместье работало около дюжины батраков. Столько же и батрачек. В конюшне стояло два десятка лошадей, а в хлеву более сотни коров.
Тойвиайнен глубоко вздохнул. Всякое говорят. Да и память, похоже, кое-что приукрашивала и преувеличивала. Во всяком случае, все эти суды-пересуды о доме раздуты до невероятных размеров. И все же нельзя сегодня не признать, что предки нынешних владельцев создали нечто такое, перед чем следовало снять шляпу, особенно принимая во внимание, что в их времена основными орудиями труда были топор и пила. Подчиняясь велению этого чувства, Тойвиайнен приподнял козырек своей фуражки.
Да, простору этого двора можно только удивляться. Огромная береза росла прямо посреди него. И колодезный журавль поднимался почти на такую же высоту…
Но что придавало дому эту мрачность? Возможно, то, что по периметру внешней стороны ограды была в свое время правильными рядами высажена сосна. Теперь, когда деревья выросли и им в их тесных рядах недоставало места под солнцем, этот сосновый частокол превратился в странную лесную чащобу. Часть деревьев погибла, и они стояли теперь, озадачивая прохожих своими худосочными ветвями, напоминавшими скелет.
Лаутапоррас[20].
Так назывался этот дом.
Тойвиайнен вспомнил, что, еще будучи ребенком, он удивлялся, откуда могло взяться такое название. Поблизости должна была бы находиться какая-нибудь речушка, с мостками, переброшенными через нее. Тогда происхождение названия было бы понятным. Однако поблизости никакой речки не было. Следовательно, не было и мостков, которые дали бы название поместью. Поэтому объяснение следовало искать в чем-то другом. Возможно, от тесовых ворот оно произошло…
Однако размышления на эту тему надоели Тойвиайнену, и он стал оглядываться вокруг в поисках подходящего камня, на который можно было бы присесть. При этом он по-прежнему внимательно следил за тем, чтобы его наблюдательный пункт оставался незаметным.
Пока он разглядывал окрестности сквозь склонившиеся до земли еловые ветви, ему пришла в голову новая мысль.
Лаутапоррас.
Хм.
Таковым было официальное название этого поместья, наверняка так оно и значилось во всех документах, в том числе и в поземельном реестре. Однако сейчас никто не употреблял этого официального названия.
Дом трех женщин.
Под этим именем была известна всей округе располагавшаяся на дне котлообразной ложбины бревенчатая крепость. Тойвиайнен усмехнулся про себя, вспомнив, что несколько дней тому назад он сам воспользовался именно этим названием. Какой-то человек, с виду господин, проезжая на шикарном автомобиле по шоссе, притормозил и спросил у него:
— Не подскажете ли, где здесь находится Лаутапоррас?
Тойвиайнен немедленно ответил:
— А… Дом трех женщин?
— Нет, Лаутапоррас.
— По-здешнему это одно и то же. Слушайте, я объясню.
Будто на отзвук его мыслей, дверь жилого дома отворилась, и во двор вышла старшая из трех женщин. Ее звали Хелина. Хелину нетрудно было признать даже издалека по крупной фигуре и стремительной, почти мужской походке. На голове у нее был клетчатый платок, а одежда напоминала что-то вроде комбинезона ярко-желтого цвета.
Видимо, она собиралась на полевые работы. В этом доме именно Хелина занималась подобными делами.
Следовательно, хозяином дома была она. Хелине уже перевалило за пятьдесят. Если говорить о ее внешности, то какой-нибудь доброжелательный сторонний наблюдатель употребил бы, возможно, следующее выражение: не весьма привлекательная дама. По мнению же Тойвиайнена, Хелина была если не откровенной дурнушкой, то, во всяком случае, дьявольски мужеподобной. Крупная, угловатая, с глуховатым голосом.
Обитатели этого дома мало общались с внешним миром. Пожалуй, они даже избегали посторонних. Однако при всем при том им приходилось бывать в магазине, на мельнице, где-то еще по другим делам.
Иногда их видели в лесу.
Но встречи с ними на этих землях сегодня Тойвиайнен меньше всего желал. Поэтому он с удовольствием отметил, как Хелина вывела трактор во двор и отправилась прямо в противоположную от него сторону к месту расположения их основных земельных наделов, которых оставалось еще довольно много, хотя в сравнении с прошлым богатством они представляли жалкие остатки. Просторы полей кончались там, где возвышался косогор.
Дальше шли лесные массивы, принадлежавшие Дому трех женщин.
Их было немало. Они простирались до самой небесной синевы, начинавшейся от вершины холмистой гряды. С остальных трех сторон Дом трех женщин также окружали непролазные густые леса, надежно ограждавшие их от внимания соседей.
Все это гарантировало покой.
Внимательный глаз Тойвиайнена обнаружил вскоре и вторую обитательницу дома. Теперь на крыльцо вышла Селма. Если Хелину, занимавшуюся сельскохозяйственными работами в усадьбе, можно было назвать хозяином дома, то Селма, безусловно, была хозяйкой.
Она вела домашние дела.
По сравнению со своей старшей сестрой Селма гораздо больше походила на женщину. Она была значительно моложе сестры, ей было около сорока. Характером — более непосредственна и открыта.
Однако все это имело место лишь в сравнении с костлявой и молчаливой старшей сестрой. По общепринятым же человеческим нормам, Селма была также довольно отрешенным от мира сего, замкнутым существом.
Возможно, это происходило оттого, что Селма постоянно пребывала в тени своей старшей, мужеподобной и деловитой, сестрицы? Возможно, что по этой же причине Селма не вышла замуж. Ибо наверняка многие могли бы соблазниться ею. Даже теперь!
И не только потому, что за ней был большой дом. Или, вернее, треть его. Селма сама по себе была достаточно привлекательной женщиной, с гибкой и стройной фигурой, хорошей осанкой.
Обнаружив направление своих мыслей, Тойвиайнен шумно вздохнул — все одно, какое кому дело до того, что думает он, костлявый старик. Жизнь уже прошла мимо. Были в свое время и женщины, а в молодости — даже в изобилии. Теперь же ему остается лишь скитаться и любоваться вот этой природой.
Ну разве что еще несколько невинных, маленьких проказ…
Однако о них разговор впереди. А сейчас только утро. Да и разведку на местности следует произвести до конца. Добра не жди, если дело подготовлено плохо…
Но вернемся к Селме.
Если Хелина со своими черными волосами, худым лицом и злыми глазами напоминала ведьму, то Селма выглядела совершенно иначе. Красивый овал лица обрамляли светлые волосы, а взгляд темно-синих глаз был всегда доброжелательным. Когда же ей случалось улыбнуться, то внешность ее еще больше выигрывала. Мягкие очертания рта, красивые белые зубы.
У Тойвиайнена запершило в горле, однако ему удалось обойтись приглушенным покашливанием. Едва ли отсюда даже громкий возглас достиг бы усадьбы, но уж лучше поостеречься.
Сидящий на камне под елью пожилой человек переключил теперь свое внимание на третью женщину дома.
Тень пробежала при этом по покрытому морщинами лицу.
Тяжелая доля!
Третьей женщиной в этом доме была не сестра Хелины и Селмы, а их племянница, дочь их сестры, которой была уготована трагическая судьба.
Имя девушки — Элиза.
Этакая длинноногая необъезженная кобылка, молодая привлекательная особа, едва достигшая двадцати лет.
Прошло уже изрядно времени с тех пор, как ее мать оставила сей бренный мир, чему сопутствовали тяжкие обстоятельства.
Эллен была третьей сестрой. Средней. Она родила внебрачного ребенка — ту самую Элизу. И вскоре после этого повесилась в лесу.
Воспоминание об этом событии до сих пор омрачало память Тимо Тойвиайнена.
Он входил в группу поиска и был в числе тех, кто первым подошел к роковой сосне. В те времена еще жил и здравствовал старый хозяин усадьбы. Крепкий, могучий старик. Настоящий патриарх и тиран. Даже имя у него было по-королевски впечатляющее — Густав Адольф. Какой горечью и осуждением был переполнен этот человек! Какая суровость была написана на его лице, какое отчуждение слышалось в голосе, когда он произнес возле тела своей дочери:
— Этим все и кончается… когда непутево живешь!
Тойвиайнен сменил положение. Он ощутил, как по его спине прошел холодок. Ни единой слезы в уголках глаз Густава Адольфа. Этакий кряжистый, насквозь просмоленный кондовый пень, читающий проповедь.
А впрочем, кто его знает, какие чувства и мысли бурлили за этой внешне спокойной маской.
Пожалуй, будет разумнее повернуть свои мысли к сегодняшнему дню. Элиза, дочь той самой несчастной Эллен, провела свою молодость среди этих древних строений, внутри крепкой дощатой ограды и усохших сосен. Единственной отдушиной был просторный двор. Было и общество, состоявшее из двух кровных теток, которые дали обет внимательно следить за тем, чтобы Элизу не постигла судьба ее матери.
При этом воспоминании сапожник скривился в усмешке.
Забытая трубка погасла.
Однако довольно воспоминаний! Все события, касавшиеся других людей, не имели сейчас к нему никакого отношения. Совершенно бессмысленно перебирать в уме дела давно минувших дней, приводившие его в угнетенное состояние.
Старик поднялся с камня и стряхнул со штанов остатки мха. При этом он глубоко вздохнул. Недавнее оцепенение прошло, кровь вновь потекла по жилам, и в нем опять пробудился вкус к жизни.
Следовало приступать к делу!
На этот раз все должно пройти успешно.
Он взобрался на этот холм, чтобы выяснить, открыт ли путь к осуществлению задуманного им предприятия. И убедился в том, что открыт.
Глава 2
Рабочим инструментом, которым собирался действовать человек, было механическое сверло. В детстве, помнится, его называли буравчиком. Мужчина стоял посреди березовой рощи и приглядывал первое подходящее дерево.
Прежде чем приступить к работе, он еще раз внимательно огляделся вокруг.
Полный покой.
Во время войны часто употреблялось выражение «мертвый угол». В данной ситуации, пожалуй, следовало воспользоваться другим термином — «мертвое пространство». Однако дело не в словах, главное оставаться невидимым. Пусть сейчас во дворе Дома трех женщин находится кто угодно, его взгляд сюда не проникнет. Тот самый холм, с которого Тойвиайнен недавно обозревал окрестности, остался между домом и этой прекрасной березовой рощей.
Идеальное место!
Тут можно было бы даже поставить самогонную установку…
Тимо Тойвиайнен смачно ухмыльнулся. Недавние не очень веселые размышления о людских судьбах начисто забылись.
Почему же этот благородный напиток в народе называют «слезой сосны в глухом лесу»? И почему так категорично утверждается, что вы не прикоснетесь ни к какому другому алкогольному напитку, если хоть раз отведаете этого «благословенного, трижды очищенного». И при чем тут какая-то «сосна в глухом лесу», когда благородный напиток можно гнать и среди вот этих белоснежных берез. Место надежное и ручей рядом…
Нет, хватит!
Тимо Тойвиайнен окончательно решил поставить крест на этом. Теперь он намеревался гнать совсем другую жидкость — березовый сок, который стал денежным товаром. Его вывозили даже за границу. И сельский лавочник явно выступает посредником в этих делах. Он, шельмец, обещал:
— Если принесешь мне бидончик, то получишь в лапу солидную пачку.
Большой молочный бидон Тойвиайнен уже приготовил.
Пока он оставил его дома. Вначале он намеревался собирать товар в пластмассовые ведра. Если все пойдет нормально, то завтра он прихватит с собой и бидон.
Однако в задуманном дельце таились две сложности. Во-первых, березовая роща принадлежала не ему. И, во-вторых, добыча березового сока в таких количествах разрешалась лишь в случаях, когда березняк предназначался к вырубке. Только тогда можно полностью выкачивать весь древесный сок из деревьев. Ибо дерево не нуждается более в животворной подпитке.
— Вот проклятие!
Слова вырвались совершенно непроизвольно. Возможно, совесть дала о себе знать. И хотя этому возгласу при обычных обстоятельствах не следовало бы придавать никакого значения, сейчас за ним крылось нечто весьма существенное: в некотором отдалении замаячил знакомый образ старика судьи с седыми усами.
Тойвиайнен слегка помрачнел, однако при воспоминании о разработанном плане, который гарантировал оставить личность березового душегуба неизвестной, его чело прояснилось.
Хорошо зная, что у Тимо Тойвиайнена нет собственного березняка, сельский лавочник Кумпунен доверительно сообщил:
— Сейчас сезон, самая пора гона березового сока. Содержимое твоего бидона будет слито в общую цистерну. И никто никогда не докопается, из какого дерева выкачан сок.
Так что за дело!
Тойвиайнен погрузил сверло в ствол высокой березы и начал вращать его. Давление сока внутри дерева было настолько сильным, что, когда он вытащил сверло, сок так и ударил чуть ли не фонтаном. Тойвиайнен умело приладил к отверстию специальную пластмассовую трубку, а под нее подставил ведро.
Тип-тип…
Когда первые светлые капли упали на дно ведра, на морщинистом лице Тойвиайнена расплылась широкая улыбка. Скоро эти капли превратятся в блестящие монеты, которые образуют длинный-предлинный ряд.
Тойвиайнен перешел к следующему дереву.
У него с собой было семь ведер, каждое — по семи литров. Быстрый подсчет в уме обещал обнадеживающие результаты.
Все устраивалось как нельзя лучше. Солнышко грело, березовый сок расточал весенние ароматы. Журчание ручья ласкало ухо. Цветы на берегах ручья радовали глаз. Береста березы нежила руку.
Человек наделен пятью органами чувств. Сейчас наступило такое мгновение, когда каждое из них мощно и неповторимо заявляло о себе. Это была радость бытия!
Тойвиайнен принялся тихонько напевать.
Он передвигался от дерева к дереву и как будто умышленно выбирал самые красивые березы. Не прошло и часа, как все ведра заняли свои места.
Теперь можно и присесть, не торопясь набить трубочку и полюбоваться весенней красотой. Сейчас самое время посидеть, впитывая в себя прелесть природы. Такая весна продлится недолго. И чтобы глубже воспринять и оценить все зримое, Тойвиайнен нашел ему контрастное противопоставление в виде осени, когда вновь придется сидеть, скрючившись, в избе. Изо всех углов будет тянуть сыростью, а из нависших над землей облаков будет заунывно моросить дождь.
Но это будет тогда.
А сейчас все иначе.
Раскуривая свою трубку, Тойвиайнен посиживал на камне во власти полного покоя и благодушия. Это очарование нарушил внезапный шум.
Из леса донесся какой-то треск или хруст.
Старик вздрогнул.
Последовавший затем повторный хруст прозвучал уже не как легкий треск. Было очевидно, что его вызвал не малый воробушек, а некое крадущееся где-то рядом существо, наступившее невзначай на сухую ветку. Этот хруст донесся до ушей Тойвиайнена, будто внезапный выстрел. Старик разом вскочил на ноги.
С минуту Тойвиайнен постоял застыв, как неподвижный монумент. Живыми были лишь глаза. Старик напряженно вглядывался в ту сторону, откуда донесся непонятный резкий звук.
Лось?
Во всяком случае — зверь большой. Привидения и прочие ужасы в этих местах не отмечались. Да и скот так глубоко в лес не заходил. Правда, к скотскому роду можно отнести и человека. Неужели и в самом деле на хворостину наступил здоровенный сапог?
Дела пошли не по плану.
Минута полной тишины. Казалось, даже птицы перестали петь.
А может, это заяц?
Растерянный Тойвиайнен медленно оглядел все вокруг. Красные пластмассовые ведра ярко выделялись на фоне бурно распускавшейся весенней зелени. Да и прилаженные к древесным стволам пластмассовые трубки едва ли могли остаться незамеченными для постороннего глаза.
Прошло еще мгновение. Но больше ничего, вызывающего тревогу, не случилось. Постепенно Тойвиайнен успокоился. С языка были готовы сорваться проклятия в свой адрес — вот до чего дошел, старый гриб, совсем спятил! И это человек, которого во время войны начальство считало отчаянным храбрецом. Тогда бы он не навострился броситься наутек — об этом говорили многочисленные шрамы на его теле.
Тойвиайнен стиснул зубы. Прошелся, сделав широкий круг. Везде было спокойно. Не обнаружив ничего необычного, он вновь присел на камень возле ручья. Захотелось даже улыбнуться.
Голоса природы были настолько разнообразны, что не стоило бояться всяких потрескиваний и скрипов. Да и вообще, раз уж он решился на это дело, не бросать же его незавершенным. Сумеем еще постоять за себя!
И все-таки Тойвиайнен был настолько выбит из колеи, что любоваться природой ему больше уже не хотелось. Мысли, распустив свои крылья, вернулись вновь к Дому трех женщин.
Производя недавно рекогносцировку на холме, он забыл об одном весьма существенном обстоятельстве. Возможно, потому, что оно было не таким уж важным для него. По крайней мере для мужественного человека. И, вполне возможно, оставалось лишь бабьими сплетнями.
И все же эти слухи были удивительно упорными и настойчивыми. И, как всякие сплетни, со временем обрастали дополнительными подробностями.
— Ей-богу, было!
— Своими глазами видел.
— Невозможно избежать впечатления, что…
Тойвиайнен усмехнулся про себя. Эта усмешка должна была выражать презрение. Однако получилась она деланной, неестественной. В голове блуждали различные мысли. Они подвергали анализу факты, систематизировали их и пытались воссоздать полную, объективную картину.
Однако она, эта картина, оставалась в основном лишь догадкой, ибо Тойвиайнен не относился к тем, кто склонен перемывать косточки трем женщинам и делать безапелляционные выводы. Но если хоть в малой степени поверить в виденное и слышанное другими, то картину можно воссоздать следующую.
Суть ее составляло утверждение: Дом трех женщин не был домом только трех женщин. Там квартировал еще и мужчина.
Весьма таинственный персонаж. Почти легендарная личность. И эта таинственная личность, которая скрывалась посреди усохших сосен и старых строений, обнесенных высокой оградой, эта личность находилась под опекой всех трех женщин этого дома. И пребывание этого персонажа Хелина, Селма и Элиза тщательно скрывали от окружающих.
По мнению соседей, мужчина существовал «наверняка».
В этом распространители слухов были единодушны. Однако единодушие тут и заканчивалось. Когда за чашкой кофе или за выпивкой, а то и просто при встречах на улице развязывались языки, то факты начинали крутить и вертеть вкривь и вкось, пытаясь сделать более или менее достоверное заключение. Но тут мнения резко расходились.
Уже в описании внешности таинственного незнакомца возникали взаимоисключающие обстоятельства. По одной версии, это был лесной обитатель, леший, в лохмотьях, с нечесаными волосами, ниспадавшими на плечи, и со всклокоченной бородой. Другие же уверяли, что видели мельком мужчину, у которого действительно были длинные волосы и борода, но ухоженные, как у актера, а одежда — далеко не рваные отрепья. Находились и такие, кто уверял, что мужчина был безбородым и лысым.
Возраст? Рост? Вес? Одежда и манера общения?
Если знаменитый гималайский снежный человек оставался загадочным существом в высшей степени, то и обитатель Дома трех женщин был не менее загадочен. Чаще все же упоминался молодой и красивый мужчина. Иногда — среднего возраста, но и в этом случае мужественный и элегантный. И хотя некоторые описывали его лешим в лохмотьях, никто и никогда не называл его старым и уродливым.
Где же его видели?
Чаще всего во дворе дома или мельком в комнатах. Дом Хелины, Селмы и Элизы не такая уж неприступная крепость, иногда кто-нибудь заглядывал туда по своим делам. Но всякий раз при появлении гостя в доме женщины спешно препровождали мужчину в укрытие. Если же этот странный человек встречался вне дома, в лесу например, то он мгновенно скрывался.
Когда рассказы об этом мужчине основывались хотя бы на приблизительных описаниях очевидцев, то по ним все же можно было составить какую-никакую, но общую картину. Но когда в это вовлекались любители посудачить и начинали строить догадки и предположения, то дело доходило до совершеннейшего абсурда.
Итак, версий о таинственном мужчине в Доме трех женщин набралось уже изрядное количество. На основании тех из них, которые дошли до ушей Тойвиайнена, он мог сделать следующие предположения:
1. Мужчина был иностранец, авантюрист, с которым кто-то из женщин познакомился, находясь за границей. Родилась любовь, и в результате предмет любви оказался в Финляндии. В настоящее время живет под защитой добрых женщин, находясь на их содержании.
2. Мужчина был беглым арестантом. Темной, ненастной ночью он постучался в дом, закрытый для внешнего мира. Его бедственное положение и мужественная внешность размягчили женские сердца. Его впустили, накормили, и с тех пор он обосновался в доме.
3. Мужчина не был ни иностранцем, ни беглым арестантом, а просто ловким обольстителем, способным ослепить своей привлекательностью женские очи.
Три вышеупомянутые версии были лишь исходными. Когда же их принимались варьировать, а воображения на это хватало, рождались новые сюжеты и дополнения. Продолжая размышлять на эту тему, Тимо Тойвиайнен даже хмыкнул себе под нос, подумав, что недостает лишь самой невероятной: в окрестностях усадьбы приземлился космический корабль и из него высадились маленькие зеленые человечки…
— Вот дьявольщина, придет же такое в голову!
Тойвиайнен произнес эту фразу сердито, вполголоса. Если бы у него был собеседник, они бы продолжали до бесконечности свои комментарии на эту тему.
Невероятные истории и глупые предположения лучше всего оставить на совести их авторов! Но чего это они так и лезут на ум? Очевидно, потому, что он среди белого дня занимается в некотором роде черными делами. Не случайно и вскочил он при хрусте какой-то веточки. И странные мысли поползли вслед за этим…
На ум Тойвиайнену взбрело и такое, что это призрачное существо может появиться здесь, чтобы изгнать его, березового душегуба, вон, за пределы владений поместья.
— Тьфу!
Тойвиайнен сплюнул в мох и поднялся. Воображение может витать где угодно, хоть на небесах, но ноги должны стоять крепко на земле. Березовый сок, конечно, еще не успел наполнить ведра, но уже по начальному результату можно судить, чем закончится его предприятие.
Тойвиайнен успел сделать только один шаг и внезапно остановился. Его будто пригвоздили к месту.
Было слышно, что по лесу кто-то передвигается. На этот раз ошибка исключалась. Сейчас на весь лес разносился уже не хруст и не шуршание, а сильный треск. Кто-то был на подходе к этому месту. И пришелец не собирался таиться. Распустившиеся густые кусты черемухи так и клонились в стороны. Человек ломился напрямую. Тойвиайнен сглотнул.
Его застукали!
У Тойвиайнена не было никаких сомнений в дальнейшем развитии событий. Уже по походке можно было безошибочно заключить, что ничего хорошего от появления этого человека ждать не приходится. Напрасно полагать, что речь пойдет лишь об ознакомлении со «Сводом законов» и все ограничится спорами о том, большое это или малое преступление — губить лес.
Ситуация могла принять совершенно непредсказуемый оборот. Ведь в лесу они только вдвоем.
Когда ветки ивняка расступились перед пришельцем и он предстал перед Тойвиайненом, то к его паническому состоянию примешалась еще и добрая доля несказанного удивления. Что за чудище возникло на поляне? Они неотрывно смотрели друг на друга.
Появившийся мужчина был высокого роста, с резкими чертами лица. На нем была одежда зеленого цвета и шляпа с пером. Но прежде всего Тойвиайнен обратил внимание на широкий пояс незнакомца, к которому было подвешено какое-то холодное оружие.
Это была не финка.
Это был кинжал.
Человек на мгновение остановил свой изучающий взгляд на Тойвиайнене. Однако затем, когда он огляделся и увидел притороченные к березам пластмассовые трубки и ведра под ними, черты его лица исказились от гнева.
На Тойвиайнена обрушился поток иностранных слов.
Незнакомец выхватил кинжал и бросился к Тойвиайнену. Рука поднялась, и замерший от ужаса Тойвиайнен увидел, как блеснул на солнце клинок.
Словно занесенный для удара меч ангела-мстителя.
Глава 3
На протяжении многих лет пребывания в своей должности ленсману[21] Эйно Пармалахти случалось выслушивать самые различные рапорты. Жизнь со всеми ее сложностями и превратностями была ему хорошо знакома. Так что теперь он уже ничему не удивлялся.
И все же недавний телефонный разговор заставил его призадуматься.
— Да-а…
Склонность Пармалахти к таким монологам была хорошо известна в его окружении. Но в данный момент слушатели отсутствовали. Ленсман, сидевший в кабинете своей канцелярии, выглянул из окна во двор и произнес вновь:
— Да-а… Ну и дела!
Пармалахти медленно привстал, подтянул брюки и заправил в них поглубже рубаху. При этом он озабоченно посмотрел на свой ремень, застежку которого в последнее время приходилось все чаще переставлять с одного отверстия на другое, чтобы расширить его. Видно, в наши времена ремни стали делать из плохой кожи, иначе к чему бы им так быстро усыхать!
Из-за нависавшего спереди живота Пармалахти, прежде чем начать двигаться вперед, откидывался сначала слегка назад, как бы для разбега. Он пересек кабинет и вошел в комнату для оперативного состава. Его брови недовольно искривились, когда он обнаружил, что на месте находится только один полицейский, младший констебль Юрки Илола.
— Где Паяла?
— Старший констебль только что ушел.
— Куда?
— Не сказал куда.
— Да-а… Хм.
Ответы Илола были настолько четкими и отрывистыми, что следовавшее обычно за ними почтительное окончание фразы — «господин ленсман» — не достигало слуха, и его можно было только угадывать. Пармалахти спрятал улыбку. Ему нравился этот парень. Несмотря даже, пожалуй, на несколько излишнее служебное рвение новичка, вступившего в должность совсем недавно и проходившего сейчас, по существу, крещение.
А может ли служебное рвение быть излишним?
Несмотря на то что формально они перешли на «ты», официальная полувоенная манера общения между ними осталась. Это происходило оттого, что Илола только-только закончил обучение и приступил теперь к своей первой официальной должности. Вместе с тем точность и вежливость выгодно отличали этого молодого человека.
В настоящее время молодежь так легко усваивает вольное обращение…
Что касается отсутствовавшего сейчас старшего констебля Ристо Паяла, то это совсем другое дело. Они почти ровесники с ленсманом и уже пятнадцать лет вместе тянут лямку в этом округе. Его постоянные сетования, излишняя болтливость и возражения стали для ленсмана привычными. В их отделении служил и третий констебль, Кари Куннас. Он, как и Илола, был молодым человеком. Но если он получал задание не по вкусу, то его кислая физиономия явно говорила: «Иди ты, сам делай!»
Отстраняя эти случайно пришедшие на ум мысли, ленсман Пармалахти буркнул младшему констеблю:
— Надо сходить в больницу. Туда доставили одного мужика, который несет какую-то околесицу.
Илола быстро поднялся.
— Я иду.
— Не торопись…
Добродушный жест руки заставил Илола вновь присесть. Старый ленсман взглянул на своего молодого коллегу. На этого парня приятно было посмотреть. Правильные черты лица, аккуратно подстриженные светлые волосы, высокая, стройная фигура. Он всегда смотрел прямо в глаза собеседнику.
Прежде чем приступить к более подробному изложению задания, Пармалахти припомнил некоторые обстоятельства, касающиеся Илола: родился в Лемпяля, происходит из бедной семьи, закончил учебу с отличными оценками. Прибыв к месту назначения среди зимы, сам без посторонней помощи нашел крышу над головой, сняв комнату у одной вдовы.
Пошли, конечно, разговоры о том, что эта дама и констебль Илола…
Тьфу!
Вдове, Марте Койвистойнен, было уже за пятьдесят. Илола скорее в сыновья ей годился. Да и вообще, он просто не успел бы даже при желании ближе познакомиться с пышными формами своей хозяйки, ибо у него было много других неотложных дел. Он приобрел ветхий «форд» — такой подержанный, что смог полностью выкупить его с первой же зарплаты, и в течение весны привел его в порядок.
Автомобиль оказался совершенно необходим. Илола использовал его в основном для служебных дел, но без особого энтузиазма соглашался представлять счета на оплату расходов, связанных со служебными поездками.
«Этот тарантас так и бежит по ветру. А ветер бесплатный…» — приговаривал Илола.
Скромный парень.
И, конечно, отменный спортсмен. Пущенное им копье описывало в воздухе длинную и красивую дугу. Об этом стало известно сразу, как только снег сошел с поля стадиона. Но, несмотря на то, что констебль Юрки Илола был по всем статьям отличный парень, именно в данный момент ленсман желал, чтобы на его месте оказался старший констебль Паяла. Ибо он, как никто другой, знал местное население и местные условия.
Опыт и длительное пребывание в этих краях позволили ему хорошо познакомиться с местными жителями. Поэтому его можно было послать на дело просто так, без всяких объяснений. А вот Илола придется подробно проинструктировать.
К этому он немедленно и приступил:
— Там, в деревне Ала-Коттари…
При этом ленсман сделал широкий жест рукой. Жест едва ли пришелся в сторону Ала-Коттари, но дал понять, что сама по себе деревенька была не совсем обычной.
И пояснение не заставило себя ждать:
— …живет всякий сброд. И если поступают сведения, что в наших краях кто-то гонит самогон, то в определении этих «краев» можно не сомневаться. В сторону Ала-Коттари всегда стоит внимательно поглядывать. Там дикие леса вокруг, а в них — искусные мастера своего дела.
На лице Илола промелькнуло подобие слабой улыбки, и он скромно подтвердил:
— Что-то в этом роде и я слышал. Хотя самогонного аппарата пока ни разу не находил.
— Еще найдешь, — заверил ленсман. — Так вот об этой самой Ала-Коттари… хотя от нашего села до нее всего немногим более десяти километров, но это уже особый, своеобразный мир. Там своя, тесная и сплоченная коммуна… как бы это объяснить поточнее… — Пармалахти перевел дыхание и продолжал: — Там, как по заказу, все могут пуститься во все тяжкие. К примеру, отлично знают, что охота на лосей запрещена. Несмотря на это…
Илола осмелился и добавил:
— …лось прямо, своим ходом, попадает в котел?
— Точно. А затем все как один начинают отпираться и изображать идиотов. Спрашивают, не имеет ли в виду господин ленсман некое животное, которое бегает по лесу и носит рога на голове?
Илола усмехнулся, он ожидал продолжения.
Пармалахти прищелкнул пальцами:
— Сама деревня небольшая… едва ли больше полудюжины домов наберется.
Илола вставил:
— Я как-то проезжал через нее. Раз или два. После того как я наконец поставил на колеса свою развалину.
Пармалахти кивнул головой.
— Ну, значит, знаешь.
— Да, как мне показалось, этакий идиллический уголок. Редкие избы дремлют по обе стороны дороги. Старые заборы и очень красивый каменный мост…
Пармалахти перебил его:
— Не больно вдавайся в поэзию.
Илола тотчас умолк. Он явно растерялся от этого замечания.
Какие-то добрые чувства возникали в душе Пармалахти к этому парню. Здоровый и подвижный, а с другой стороны, осторожный и вежливый, констебль Илола пробуждал далекие воспоминания. С тем же скудным жизненным багажом когда-то и Пармалахти вступил на эту, полицейскую стезю. Но, насколько помнилось, ему в свое время удалось преодолеть застенчивость быстрее и легче.
Ничего не поделаешь, времена изменились.
Еще Пармалахти подумал о том, что в нынешние суровые и смутные времена Илола казался редкой птицей. Не слишком ли он мягковат для полицейского? В конце концов, это проявится в первом же настоящем деле. И все же едва ли вежливость и обходительность можно причислить к недостаткам молодого человека.
Поставив точку в своих размышлениях и возвращаясь к делу, Пармалахти продолжал:
— Для полной характеристики Ала-Коттари нельзя не упомянуть об одной достопримечательности этих мест, располагающейся немного в стороне от деревни…
— Дом трех женщин?
Ленсман удивился. Он уставился на констебля проницательными глазами, выглядывавшими из-под косматых, поседевших бровей:
— Да ты и в самом деле всего за несколько месяцев успел тут многое разнюхать.
— Я же говорил, что в свободное от работы время кружил по окрестностям.
— И слушал, о чем говорит народ, не так ли?
— И это тоже.
Они поглядели друг на друга. Пармалахти пожал плечами и спросил:
— Ты что же, заглядывал в этот дом? Его правильное название Лаутапоррас. Но, ты прав, сейчас он известен здесь больше как Дом трех женщин.
Илола покачал отрицательно головой.
— Я лишь взглянул на него снаружи. Он хорошо просматривается с дороги, которая в этом месте поднимается в гору. Строение выглядит несколько своеобразно и напоминает крепость…
— Вот как, — раздумчиво произнес ленсман Пармалахти. — Значит, только снаружи разглядывал…
— Именно так.
— Да-а… Может случиться, что тебе придется познакомиться с этим домом и изнутри. Посмотрим… — Ленсман внезапно прервал свою речь. Он заметил, что опережает события, и начал разматывать клубок с другого конца: — Если вернуться еще раз к деревне Ала-Коттари и к ее экзотическим обитателям, то один из них просто уникум.
Так как ленсман задержался на мгновение, чтобы посмотреть, понял ли его собеседник, Илола тотчас произнес:
— Следовательно, самый выдающийся из числа ему подобных?
— Точно. Если в этой деревне все бестии, то сапожник Тимо Тойвиайнен — самая хитрая бестия!
— Это имя мне ни о чем не говорит.
— Естественно, ты не успел еще познакомиться со всеми жителями этой волости.
— Ты сказал, что мне придется посетить больницу. Очевидно, тот самый Тойвиайнен и попал в нее?
— Да. Сегодня, около полудня.
Ленсман машинально посмотрел на часы. Шел третий час. Заметив движение ленсмана, младший констебль Юрки Илола выразил намерение подняться.
Пармалахти махнул рукой:
— Я же сказал, что это не опасно для его жизни. Хотя он и стал объектом нападения и получил ножевую рану.
Это сообщение вызвало интерес, который явно отразился на лице Илола.
— Однако отнесемся к этому событию спокойно, — сказал Пармалахти. — И прежде всего потому, что тебе скоро придется говорить с этим Тойвиайненом и мне хотелось бы подготовить тебя к беседе с ним. Видишь ли, этот самый Тойвиайнен в своем роде артист, непревзойденный рассказчик. Вот тебе только один пример…
Пармалахти принялся копаться в кармане. Оттуда появилась узкая металлическая сигарница. Прежде чем Пармалахти успел взять сигару в рот, Илола уже поднес ко рту начальника огонек.
— Благодарю…
Пармалахти сделал первую затяжку. Его брови нахмурились, но на лице не было признаков недовольства. Скорее наоборот, на нем промелькнула улыбка. Казалось, Пармалахти вспомнил нечто примечательное.
— Видишь ли… Некоторое время тому назад до местных властей стали доходить слухи о том, что в Ала-Коттари… вот именно, где же еще, как не в Ала-Коттари! — На лице Пармалахти появилась саркастическая усмешка, и он продолжал: — По слухам, там играли в карты на деньги. Азартные игры! Ты еще недавно проходил криминальную науку и должен знать, что за это полагается по нашим законам?
— Отвечать? — спросил нехотя Илола.
— Я же спрашиваю.
Илола взглянул на своего шефа, как бы выискивая какой-то подвох с его стороны. Но Пармалахти лишь поощрительно кивнул головой, и Илола пробормотал:
— Кое-что еще осталось в голове из того, что проходили в полицейской школе. Игра квалифицируется как азартная, когда ставки в ней явно превышают доходы игрока.
— Правильно! — зафиксировал Пармалахти. — Особенно в законе подчеркивается вина того лица, которое предоставляет квартиру для азартных игр.
— Совершенно верно.
Пармалахти усмехнулся.
— Так вот, до сведения властей дошла информация о том, что в избе сапожника Тимо Тойвиайнена игра шла так, что…
— Величина ставок повышалась до облаков?
— Да, что-то в этом роде. Только начальные ставки достигали сотенных…
— Ого!
— «Ого», — сказал тогда и я. И направил старшего констебля Паяла на расследование дела. Как оказалось на месте, все было организовано надлежащим образом. У входа в избу Тойвиайнена стоял платный сторож. Однако опытный Паяла обыграл ситуацию так, что застал вахтенного врасплох и помешал поднять тревогу. После этого Паяла распахнул дверь настежь и строгим воинским голосом произнес ту самую сакраментальную фразу, которая уже стала известной присказкой…
Илола не мог не рассмеяться. Пармалахти так красочно описывал эту сценку, что она как живая возникала перед глазами. И поскольку он собирался упомянуть известную в народе присказку, Илола подхватил ее:
— Паяла закричал: «Прячьте карты! Полиция идет!»
Пармалахти усмехнулся.
— Да, именно так и произошло. Обнаруженные на столе деньги были конфискованы, а сапожника Тимо Тойвиайнена допросили в суде. Попробуй отгадай, что он сказал заседавшему там судье? — Илола не успел и подумать, как Пармалахти уже сообщил: — Старик прикинулся несведущим в финском законодательстве и принялся объяснять с выпученными от удивления глазами, что ничего не знал о запрете на азартные игры. Так вот, ссылаясь на свою неосведомленность, этот верзила… да, да, Тойвиайнен еще и на старости лет остается довольно крепким, жилистым мужиком… потребовал оправдательного приговора.
В уголках рта Юрки Илола появилась улыбка, когда он спросил:
— Так чем же все тогда кончилось?
— Старый судья крепко смазал ему по физиономии. А присяжные, как утверждают, слегка добавили. Эта история с Тойвиайненом хорошо известна всей волости.
Добродушное выражение на лице Пармалахти исчезло. Он поднял руку и, чтобы придать своим словам большее значение, постучал ею по столу:
— То была лишь присказка. Я хотел обратить твое внимание, что у Тойвиайнена петушиная глотка. Из нее так и прет. А если подходящей темы не находится, оттуда начинают извергаться водопадом солдатские байки. Правда, справедливости ради нужно сказать, что этот парень не зря провел пять лет на войне. Все время на передовой. Трижды ранен, награжден многими орденами. Но уж если этим воспоминаниям случится вырваться наружу, они приобретают невероятные масштабы и сюжеты. Как-то по нему прошлась пулеметная очередь и прошила насквозь. В другой раз снаряд угодил ему в голову! Так что не вступай с ним в разговоры на эту тему. Иначе погубишь все дело.
— А в чем, собственно, состоит это дело?
Вопрос был поставлен так остро и прямо, что Пармалахти даже удивился. А парень-то вовсе не такой застенчивый, как казалось. Неужели мальчишка осмелился намекнуть на то, что, представляя Тимо Тойвиайнена большим пустомелей, сам ленсман оказался не без греха?
Пармалахти сразу сменил пластинку и тон.
— Я говорил только что с главным врачом волостной больницы Фредериком Кристианссоном, который поведал мне примечательную историю… — Пармалахти осекся и сразу же поправился: — М-да. Конечно, когда речь заходит о сапожнике Тойвиайнене и его бесконечных историях, ему трудно верить. Но когда, с другой стороны, перед тобой непреложный факт — Тойвиайнен в больнице с глубокой ножевой раной… то… отправляйся-ка ты туда и проведи расследование.
Глава 4
Главный врач больницы Фредерик Кристианссон не вызывал симпатий констебля Юрки Илола. Те несколько раз, когда ему случалось иметь дело с доктором, оставили о нем не наилучшее впечатление.
Не изменилось оно и на этот раз.
Кристианссон был высоким и тощим как жердь мужчиной. На его длинном лошадином лице поблескивали выпуклые карие глаза. Конусообразные уши, казалось, были приклеены к голове, а густая черная борода, ниспадавшая с подбородка на шею, могла в зимнюю стужу вполне заменить шарф. Этот образ довершали всегда опущенные книзу и выражавшие постоянное недовольство уголки рта.
С внешностью, дарованной природой, ничего не поделаешь. Но вот свое поведение доктор Кристианссон мог бы, по мнению Илола, заметно изменить. Кристианссон всегда держался отчужденно, высокомерно, насмешливо и был весьма немногословен.
— Могу довести до вашего сведения лишь мои медицинские заключения, — начал он. — С остальным вам придется разбираться самому.
— Подходит.
Ответ Илола был подчеркнуто лаконичен.
Исходя из упоминания Пармалахти о том, что случай был «особый», Илола заключил, что Кристианссон наверняка рассказал ленсману что-то важное о деталях события. Однако доктор, очевидно, строил свои отношения с людьми так, что лишь на уровне ленсмана, судьи или асессора он находил возможным для себя быть более подробным.
— Вам понятно? — спросил Кристианссон.
У Илола покраснел даже затылок, про себя он подумал: «Черт бы тебя побрал, петуха голландского», а вслух произнес:
— Я уже сказал, подходит.
Несмотря на внешнюю сдержанность, ответ прозвучал вызывающе, и Кристианссон внимательно посмотрел на Илола. Взгляд его выпуклых глаз явно говорил: «И этот низкопробный сельский полицейский собирается выпендриваться передо мной?»
Илола незаметно для себя закусил губу.
С высоты своей медицинской башни из слоновой кости доктор Фредерик Кристианссон едва ли мог знать элементарную истину о том, что в нынешние времена редко кто мог начать полицейскую карьеру без высшего образования. Илола поначалу намеревался пойти в кадетскую школу, ибо она, как и карьера полицейского, была наиболее кратким путем к обеспеченной жизни. Это было почти одно и то же.
Тип, подобный Кристианссону, смотрит на него, как полковник на лейтенанта. Закусив удила, Илола отчеканил:
— Не соизволит ли господин доктор сообщить те исходные медицинские данные, которые дадут мне возможность приступить к исполнению моих прозаических полицейских обязанностей?
Теперь пришел черед Кристианссона закусить губу.
Выражение его лица помрачнело, он пытался пронзить Илола своим взглядом. Однако, поскольку тот смотрел на него открыто и смело, стычка на этом закончилась. Пожав костлявыми плечами, напоминавшими платяную вешалку, Кристианссон начал:
— У пациента глубокое ножевое ранение между ключицей и плечом. Почти в том же самом месте, что и ранение, полученное во время войны. Рана сама по себе не опасна, поскольку удар холодным оружием был прямым и рана оказалась нерезаной. Оружие не коснулось кости и не повредило внутренних органов. Характер раны соответствует рассказу пострадавшего, согласно которому в руках у нападавшего был кинжал.
И хотя констебль Юрки Илола решил про себя, что выслушает доктора без всяких замечаний, у него все же вырвался возглас удивления:
— Кинжал?
— Совершенно верно, — ответил Кристианссон. Уголки его рта опустились при этом еще ниже, и он пояснил: — Лезвие кинжала, если констеблю приходилось слышать, обоюдоостро, отточено с обеих сторон.
— Приходилось! — отрезал Илола.
Он вновь вскипел от негодования. Не намекает ли этот почтенный доктор на то, что единственным холодным оружием, которое констебль видел в своей жизни, являются лишь декоративные финки, которые герои романов Ярвенпяя[22] носили на своих поясах.
— Рана зашита. Левая рука пациента будет в течение некоторого времени оставаться нечувствительной, а ее обладатель соответственно — нетрудоспособным, что, однако, большого значения не имеет, ибо Тойвиайнен находится на пенсии. Мелкие сапожные работы он, по его словам, выполняет лишь удовольствия ради.
Илола кивнул головой. Его губы были плотно сжаты. Однако после того, как Кристианссон добавил, что пациента можно уже через пару дней после необходимого обследования отправить на долечивание домой и что ему, собственно, не о чем больше рассказывать, Илола спросил:
— И все же, доктор, еще несколько обстоятельств, требующих уточнения. Где и когда случилось происшествие? Кто оказал первую помощь? И кто доставил пострадавшего сюда?
— На все эти вопросы может ответить сам пациент. Как я уже упомянул, рана не опасна, и пациент вполне в состоянии вести беседу. — Внезапно Кристианссон усмехнулся. Глаза его заблестели. В них появился огонек. Опустившись вдруг со своих поднебесных высот, он сказал почти товарищеским тоном: — Упоминания еще заслуживает неистощимая многоречивость пациента… по всему видно, врожденная. По крайней мере мне пришлось наблюдать этот природный дар в течение всей операции. — Пожимая плечами, Кристианссон добавил: — При телефонном разговоре с ленсманом я изложил ему наиболее существенное из той болтовни, что мне довелось услышать. Однако я, к сожалению, не смогу воспроизвести вновь этот поток. Сами скоро все услышите… я тороплюсь.
Направляясь к Тимо Тойвиайнену, Юрки Илола сделал для себя вывод, что правильно понял одно обстоятельство, которое заботило его все это время. Обычно после преступления с телесными повреждениями и кровавым исходом для поимки преступника незамедлительно поднимались на ноги все силы. Однако на этот раз Пармалахти не очень торопился. Очевидно, в беседе по телефону с доктором Кристианссоном он получил от него какие-то дополнительные сведения. Предположительно такого характера, что поднимать армию и вертолеты не потребовалось…
Медицинская сестра провела Илола к нужной двери. Открыв ее, констебль обнаружил, что находится в двухместной палате, в которой располагался лишь один Тойвиайнен. Такое барство означало, что, во-первых, в больнице были свободные места и, во-вторых, это было сделано для того, чтобы полиция смогла беспрепятственно провести опрос.
Прежде чем Илола успел представиться или что-либо сказать, Тойвиайнен уже обрушил на него свой словесный водопад:
— Ну что же, привет… наконец-то и официальные власти соизволили появиться. А то здесь уже заждались… — Указывая на табуретку, добавил: — А теперь табуретку под себя и слушай, пока я буду тебе рассказывать. В этих краях разгуливает на свободе какой-то преступник, сам дьявол во плоти, и ни с того ни с сего нападает на ни в чем не повинных людей… Надо полагать, что полицейские и их собаки уже идут по следам этого чужеземного гангстера?
Илола присел и подал для начала реплику:
— Нет… еще не успели приготовиться для такой широкомасштабной операции.
Тойвиайнен взорвался:
— Как так? Что за проволочки! Это что же, как в той песне поется: «Пусть баня горит, а мы полежим себе!»?
— Давайте спокойно…
— Мой покой ничто не омрачает. А вот полиции следовало бы действовать поживее!
— Давайте-ка выясним прежде, в чем, собственно, дело.
— Да я уже объяснял этому фельдшеру!
— Кажется, да… то есть определенно. И даже ленсман в курсе дела. Но мне еще не все ясно. А именно мне поручено разобраться во всем этом до самого конца.
Уловив с запозданием смысл своих слов, Илола слегка огорчился. Он же слышал, что может произойти, если Тойвиайнен примется объяснять «до самого конца», — на объяснения одного дня не хватит.
Поэтому Илола быстро поправился:
— Итак, я жду подробностей этого события. Для начала очень кратко.
Во время обмена первыми фразами Илола внимательно изучал Тойвиайнена. Тот вовсе не походил на человека, потерявшего много крови, его физиономия была завидно розовой. Он даже пытался привстать и сесть в кровати. Верхняя часть незастегнутой больничной пижамы приоткрылась, и Илола заметил, что повязка огибала шею и шла дальше под мышку. Вскоре Тойвиайнену пришлось вновь принять лежачее положение. Поворачиваясь при этом на правый, неповрежденный, бок, он не спускал глаз с констебля.
Илола, чтобы придать себе более официальный вид, вынул записную книжку и ручку. Положив блокнот на колено, он решил, что запишет лишь самое основное. Возникнет так называемая «голая версия», и, пожалуй, этого «стриптиза» для начала будет достаточно.
— Итак, — сказал Илола, — начнем с самого начала.
Тойвиайнен недовольно пробормотал:
— Так это что: фамилия, находился ли ранее под судом и следствием и…
Илола прервал его спокойным голосом:
— Я имею в виду ход событий. Все остальные формальности будут соблюдены позже, при составлении официального полицейского протокола.
— Ах, вот как… Значит, мне надо рассказать, как все произошло?
— Именно.
В серых, слегка водянистых глазах сапожника Тойвиайнена появилось выражение сосредоточенности. Когда по прошествии минуты он все еще молчал, Илола начал опасаться наихудшего. За морщинистым лбом копошились, очевидно, раздумья о том, с какой стороны лучше открыть словесный поток. Ожидая развития событий, Илола отметил, что, несмотря на преклонный возраст, Тойвиайнен выглядел еще крепким мужчиной. И хотя волосы заметно поседели, они оставались довольно густыми. Тяжелый подбородок, близко сидящие глаза над картофелеобразным носом.
Однако молчание затянулось дольше положенного, Илола вопросительно поднял брови. И сразу вслед за этим выяснилась причина затянувшегося молчания.
Тойвиайнен прокашлялся и посмотрел в сторону. Тон голоса, когда он начал, был слегка раздосадованным:
— С чего начать?.. Сегодня утром мне пришла в голову дурацкая мысль отправиться на дело… законность которого была сомнительной. Ведь наш брат не может знать, что закон говорит о гонке сока…
Илола был немного озадачен таким началом.
Он уже слышал, что Тойвиайнен в суде пытался прикинуться неосведомленным по части законов. Но если под этой «гонкой» подразумевалось самогоноварение, то этот фокус не пройдет. И хотя будто топором вырубленная физиономия Тойвиайнена действительно производила впечатление глупой, за этим грубым обрамлением светились весьма неглупые глаза. Поэтому притворное незнание закона в части самогоноварения никак не вписывалось в эту картину.
Разъяснение недоумению последовало незамедлительно.
— Я не знаю, — медленно произнес Тойвиайнен, — запрещена ли добыча березового сока в это время года или нет. Но если это случилось в чужом лесу, то, надо полагать, за этим может последовать и наказание. Так?
Может, — подтвердил Илола.
— Я подумал, что об этом нужно с самого начала сказать откровенно.
— Правильно сделали.
— Итак, я пошел в березовую рощу… ту, что растет на землях поместья Дома трех женщин. Если слышали о таковом…
— О Доме трех женщин?
— О нем.
— Слышал… в общих чертах. Он располагается где-то около деревни Ала-Коттари.
— Да, там. В ней и моя хибара стоит. Итак. Я высверлил дыры в деревьях, приладил в них трубки, а под ними поставил ведра.
— И сколько было этих ведер?
— Сколько?.. Да около… — И Тойвиайнен быстро сменил тему разговора: — Пребывая затем в ожидании, я погрузился в весеннее очарование природы. День был наполнен светом, листья приятно пахли, пели птицы, а…
— Так-так, — прервал его Илола. — А что, если мы оставим описание прелестей природы и перейдем к тому, что затем произошло?
На лице Тойвиайнена появилось хмурое выражение. В голосе звучала едва сдерживаемая горечь, когда он бросил:
— Тогда-то мне и досталось!
Ожидая продолжения, Илола наклонил голову. Однако из широкого носа Тойвиайнена доносилось лишь пофыркивание. Поэтому констеблю пришлось заняться выуживанием деталей происшествия:
— Вас ударили?
— Как видите.
— Знаете ли вы нападавшего?
— Этой дьявольской физиономии мне никогда не приходилось видеть раньше! — сердито замотал головой Тойвиайнен.
Илола сделал первую запись: «Прест. неизв.». Одновременно он удивился, куда девалось так обильно рекламировавшееся красноречие Тойвиайнена.
Однако долго ему удивляться не пришлось.
Сапожник Тойвиайнен, судя по всему, преодолел языковой барьер, вызванный ожесточением, которое возникло при воспоминании о недавних событиях. Ожесточение смягчилось, и тон стал значительно спокойней, когда он спросил:
— Могу ли я изложить всю эту историю своими словами?
— Конечно.
— Это может занять некоторое время. Я, как известно, основательный в этих делах человек.
Подавляя вздох, Илола произнес доброжелательно:
— Время есть.
— Ну, тогда… Видите ли, произошло все это так. Когда я посиживал там на берегу ручья и покуривал трубочку, в лесу вдруг раздался ужасный треск, заросли ивняка раздвинулись в стороны, как при порыве бури, и из них выступило какое-то живое существо. Все это мне пришлось не по вкусу, поскольку… поскольку совесть моя была не совсем чиста.
— Понимаю, — откликнулся Илола.
— Появился мужчина. Совершенно незнакомый. Я имею в виду его физиономию. И одет он был странно. На голове — шляпа торчком с узкими полями, да еще и с пером. А на ногах такие… как их раньше называли… ну, десантные ботинки. Или даже не совсем ботинки. Скорее сапоги. На отворотах меховая оторочка и застежки. На нем был зеленый пиджак и коричневые галифе. В них, на коленном сгибе, вшиты кожаные вставки, а боковой карман меньше и расположен выше, чем на финских галифе.
Илола слушал все это с некоторым удивлением. Настолько описание было подробным. Но одновременно оно напомнило ему знаменитого лучника, который был когда-то славен своими приключениями в Шервудском лесу.
Не имея в виду ничего дурного, Илола выразил эту мысль словами:
— Похоже на то, что появился сам Робин Гуд.
Лицо Тойвиайнена помрачнело. Лоб собрался в складки, и он буркнул:
— Зубоскалите? Не верите?
Илола поспешил развеять сомнения:
— Верю, конечно! Это только на пользу делу, что вы вспоминаете так подробно.
— Ну ладно… — Тойвиайнен успокоился так же быстро, как и рассердился. Теперь, когда он продолжил, его слова ложились ясно и спокойно: — Насколько я помню, названный вами герой был вооружен луком, чего у встреченного мной человека не было. Но у него был широкий пояс, и на нем в ножнах висел кинжал. — Устремив на Илола прямой и твердый взгляд, Тойвиайнен продолжал: — А чтобы вам не утруждать себя вопросом, откуда мне известен этот вид оружия, объясняю. Во время войны я принимал участие в боях за Салла, а там было много этих самых, братьев по оружию… пронемецки настроенных финских военных. Многие из них носили кинжалы на поясе.
— Все ясно, — ответил Илола. — Доктор также подтвердил, что рана вам нанесена кинжалом. Но как все же произошло это столкновение там, в лесу?
Глаза Тойвиайнена сощурились.
— Сначала некоторое время мы неотрывно смотрели друг на друга. Но затем, когда взгляд этого молодца оторвался от меня… когда он стал озираться по сторонам и увидел просверленные в березах отверстия, трубки в них и ведра внизу… тогда он просто взбесился.
— Вы имеете в виду… его охватил припадок бешенства?
— Вот именно, — вцепился Тойвиайнен в это выражение. — От бешенства он стал бордовым и бросился на меня. Выхватил кинжал из ножен… и… у меня кровь застыла в жилах, когда я увидел, как сверкнуло на солнце это обоюдоострое оружие. Наступая на меня, он стал выкрикивать, будто выплевывая, какие-то иностранные слова. Мое восприятие в то ужасное мгновение так обострилось, что некоторые из этих слов запали в мою память и звучат до сих пор в ушах…
Илола быстро наклонился вперед, проявляя чрезвычайный интерес к этим словам:
— Могли бы вы повторить какие-нибудь из них?
— Одно по крайней мере было похожим на «тиип». Второе — «ройпер». А третье что-то вроде… «мёртер».
Сначала эти слова повергли констебля Юрки Илола в недоумение.
Первые два слова, произнесенные Тойвиайненом, не говорили ему ни о чем. Однако третье оказалось в буквальном смысле слова ключом к этой загадке. Постигнув его, он смог расшифровать и два первых:
Диеб. Ряубер. Мёрдер.
— Минутку! — произнес Илола осевшим голосом. — Если предположить, что этот странный человек говорил по-немецки, то прежде всего он назвал вас вором.
Щеки Тойвиайнена вспыхнули румянцем. Взъерошив свои седые волосы на затылке, он возмутился:
— Да?! Не слишком ли он хватил!
— Вы же находились на чужой земле. К тому же брали березовый сок из деревьев, принадлежащих другим.
Тойвиайнен вздохнул. Его физиономия скривилась при этом. Однако, несмотря на огорчение, он оказался в состоянии дать находчивый и по-своему оправдательный ответ:
— Не кажется ли вам, что мое преступление настолько ничтожно, что его можно скорее назвать… мелкой кражей.
— Не будем сейчас об этом. Илола, приободренный недавним озарением, продолжал уже быстро и уверенно: — Второе услышанное вами слово может означать «бандит».
— Час от часу не легче!
— А впереди еще хуже. Если мы на верном пути, то незнакомец назвал вас в заключение даже «убийцей».
Широкий подбородок Тойвиайнена дрогнул.
— Что же это он себе позволяет! — вскричал сапожник. Обвинение было настолько тяжелым, что его поначалу полный ненависти и протеста голос как-то сник в конце: — Это я-то убийца?! Да это же… это же дьявольски глупо и чертовски несправедливо, иначе не скажешь!
Илола хотел было вставить в этот словесный поток свое пояснение, но Тойвиайнен продолжал возбужденно кричать:
— Дело-то было совсем наоборот. Этот дьявол с кинжалом напал на меня и едва не убил…
Илола стал успокаивать Тойвиайнена:
— Сравнение следует понимать иносказательно. Незнакомец увидел поврежденные красивые березы. Он понял, что из них выкачивается питающая их жидкость… он понял, что деревья обречены на гибель. Потому-то и назвал вас убийцей.
Тойвиайнен замотал головой.
Так как он, очевидно, все еще не понял всего до конца, Илола пояснил:
— На этом свете существуют убежденные и преданные своему делу защитники природы. Они настолько привержены этой идее, что превратили ее почти в культ, религию. Взять, к примеру, Брижит Бардо… — Заметив подавленное выражение на лице Тойвиайнена, он поправился: — Не будем брать такие примеры. Предположим лишь, что какой-то фанатик эколог, став свидетелем горькой судьбы только что распустившихся берез, мог кричать и обвинять… и даже называть убийцей того, кто погубил деревья.
Теперь Тойвиайнен наконец понял. Но он и не думал сдаваться — наоборот, прикинулся крайне оскорбленным:
— Конечно, ухо все стерпит. Да мне, признаться, наплевать на то, что вылетает изо рта, как слюна. Но если от слов перейти к делу… на человека нападают с оружием в руках… это уже, наверно, нечто совсем иное!
— Безусловно, — согласился Илола.
Войдя в раж, Тойвиайнен продолжал запальчиво:
— Была какая-то секунда до отправления Тойвиайнена на тот свет! Этот бандит напал так внезапно… и метил своим проклятым кинжалом прямо в сердце, так что конец был бы неизбежен, если бы я в последний момент не сделал шага назад.
— Вы хотите сказать, что этот решающий шаг спас вам жизнь?
— Так же верно, как этот мир! Прежде всего это ослабило силу удара. И, кроме того, кинжал, метивший прямо в грудь, пришелся несколько в сторону… в область предплечья.
Чтобы показать все наглядно, Тойвиайнен двинул своим левым плечом. Гримаса боли прошла по его лицу. Переведя дыхание, он произнес:
— Вот так все это и произошло!
— Не совсем, — парировал Илола. — На этом происшествие не закончилось. Что было дальше?
Тойвиайнен зло усмехнулся.
— Ну, грохнулся я на задницу! А точнее, на спину, врастяжку, во весь рост.
Так как продолжения не последовало, Илола поторопил:
— Так, а дальше?
Большая пятерня Тойвиайнена поднялась к затылку:
— Дальше? Тот парень ушел! Исчез в роще, только кусты затрещали.
Илола спросил с удивлением:
— С тем и ушел?
— С тем и ушел. Скрылся.
— Неужели даже не повернулся, не посмотрел в вашу сторону? Чтобы проверить результат своего удара?
— И не подумал. Прямо с того места и дал тягу.
— Не показалось ли вам, что, совершив кровавое деяние, человек только после этого осознал… понял, что сотворил? И с испугу бросился бежать?
Тойвиайнен ответил с усмешкой:
— Послушайте-ка, констебль. Мне было тогда не до впечатлений. Я был чертовски рад, когда остался один. Но, видите ли, поскольку эти дела мне немного знакомы… мне и во время войны не раз доставалось… я и на этот раз вышел сухим из воды.
— Вы сделали сами себе перевязку, не так ли?
— Да. Я снял с себя рубаху и разорвал ее на бинты. Затем вскочил на свой велосипед и так рванул вперед, будто сам дьявол гнался за мной. Почти сразу же, выехав на шоссе, я встретил автомашину. За рулем сидел незнакомый человек… но, когда он увидел, что я наполовину раздет и грудь у меня забинтована, он сразу взял меня в кабину…
— И затем — прямо сюда, в больницу?
— Да, малоприятная поездка. Ну а конец вам известен. — Подвигав вновь левым плечом, но на этот раз лишь слегка и осторожно, Тойвиайнен добавил: — Или, лучше сказать, конец вы узрели своими глазами.
Пребывавший в раздумье младший констебль Илола произнес:
— Да уж, конечно.
Сейчас его больше, чем судьба Тойвиайнена, интересовало другое обстоятельство. И он стал неторопливо выпытывать:
— Следовательно, у вас нет ни малейшего представления о том, кто был человек, совершивший на вас нападение?
Тойвиайнен ответил тотчас, не моргнув глазом:
— Нет, но я, пожалуй, догадываюсь.
— Ну?
— Только сначала я хотел бы предварительно обосновать свою догадку, можно?
— Конечно. Но все-таки ближе к делу.
— Сейчас вам станет все ясно. — Брови Тойвиайнена насупились. Внимательно наблюдая из-под них за Илола, он стал рассказывать: — В этих краях я провел всю свою жизнь. Вкалывал на лесоразработках, строил, рыл осушительные канавы. Сапожничать я начал только в преклонном возрасте… по старой памяти — в детстве я был в подмастерьях у сапожника. У меня, в моей избе, даже нет всех необходимых сапожных принадлежностей. Но вместе с тем моя хибара — это своеобразное информационное агентство. Туда заходит всякая публика посидеть и поболтать…
«Именно так, — подумал Илола. — И переброситься в картишки».
Не будучи посвященным в размышления констебля, Тойвиайнен бойко продолжал:
— Тем самым я хочу сказать, что знаю весь народ в этом районе. Как забулдыг сплавщиков, так и кичливых господ. Поэтому со счетов сразу следует сбросить возможность того, что этот тип из местных. — Значительно приподняв одну из бровей, Тойвиайнен добавил: — Я имею в виду местных жителей, проживающих здесь по официальным документам, легально.
Не понимая еще до конца, к чему клонит его собеседник, Илола сказал:
— Но вы же говорили, что костюм на нападающем был необычным.
— И это тоже, — тотчас дополнил Тойвиайнен. — Этот человек очень походил на иностранца… я бы даже сказал… во всяком случае, внешность у него совсем не финская. Знаете, когда я теперь вспоминаю все это… как вы думаете, кого он мне напоминает?
— Трудно угадать.
— Говорит ли вам о чем-нибудь имя Эдуард Диитл?
Имя было очень знакомым. Илола казалось, что он вот-вот его вспомнит. Однако, к досаде своей, он все же был вынужден признать:
— Никак не приходит на память.
Сапожник Тойвиайнен объяснил, будто громом поразил:
— Командующий армией немецких горных стрелков, генерал-полковник. Австриец. Любимец Гитлера. Одновременно находился в хороших отношениях с финским маршалом Маннергеймом. Погиб в авиационной катастрофе в конце войны.
Констебль Илола с трудом сдержал свое изумление. Что за чертовщина происходит с этим человеком? Еще недавно он говорил на местном диалекте. А точнее, мешая диалект с литературным языком. Теперь же его манера вести разговор внезапно изменилась и стала вполне литературной, вплоть до артикуляции.
Ну и ну!..
Видно, этот старый ворон с картофелеобразным носом и широким подбородком хотел поначалу сыграть простачка? А может, дело обстоит иначе? Возможно, вначале он хотел показать, что не очень склонен к языковым тонкостям, однако теперь, когда речь зашла о военной истории, он изменил свою манеру изъясняться и показал, что умеет говорить вполне корректно?
Сам черт его не поймет!
Удивление констебля Илола сменилось откровенным недоумением, когда он обнаружил еще одно обстоятельство. Правда, внешне незначительное.
Однако…
В устах сапожника Тойвиайнена имя немецкого генерал-полковника должно было звучать «Тиетл» или, по крайней мере, «Диетл». В то время как с них сходило совершенно правильное: «Диитл».
Илола бросило в пот.
Что это, какая-то дымовая завеса?
Если неизвестный обладатель кинжала действительно употреблял выражения «Диеб», «Ряубер», «Мёрдер», то Тойвиайнен только что произнес их точно так, как это сделал бы необразованный финн, не владеющий немецким языком.
Откуда это несоответствие?
Загадка, однако, разрешилась так быстро, что Илола выругался про себя. Легкая усмешка промелькнула в уголках губ Тойвиайнена, когда он, будто предугадывая и предупреждая сомнения Илола, дал объяснения не высказанным вслух вопросам:
— Если господин констебль удивляется тому, что я знаю генерал-полковника Диитла… или, говоря точнее, знаю факт его исторического существования, то ответ весьма прост. Прежде всего, фото генерала Диитла во время войны часто публиковались в газетах, во-вторых, в своей избе я частенько по вечерам при свете лампы почитываю военную историю.
По части правильного произношения генеральского имени пояснение также последовало незамедлительно:
— Говорят, в беде невольно умнеешь. Я бы сказал, что она озлобляет. У меня когда-то постоянным спутником по охоте был один хельсинкский магистр, по имени Курт Лавикайнен. О нем можно было бы сказать, что у этого человека преобладали низменные вкусы, поскольку он не чурался общения с простыми людьми в избе сапожника.
Констебль Илола почти предвидел дальнейший ход беседы. Он выругал себя за то, что позволил сапожнику догадаться о ходе его детективного мышления.
А Тойвиайнен тем временем продолжал:
— Чтобы показать ему свои знания, я начал рассказывать о генерале Тиетле. Тогда он… весьма доброжелательно… наставил меня, разъяснив, что правильное произношение фамилии генерала — Диитл. Это настолько ущемило мое самолюбие, что после я даже во сне мог бы правильно все произнести. — Пока Илола пытался преодолеть свою минутную растерянность, Тойвиайнен продолжал разъяснять: — Этот генерал-полковник выглядел весьма представительно на фотографиях военного времени. И одновременно был улыбчивым, доброжелательным… С виду и не скажешь, что на его плечах лежала огромная ответственность.
Теперь Илола получил возможность для ответного удара. Конечно, Тойвиайнен был тут совершенно ни при чем, однако, будучи раздосадованным своим неудачным выступлением в роли Шерлока Холмса, Илола попытался взять реванш:
— Вот как? Следовательно, напавший на вас человек был веселым и доброжелательным малым?
Тойвиайнен ответил вполне серьезно:
— Я бы не сказал этого. Я хотел лишь подчеркнуть, что чертами лица он напоминал генерала Диитла. Полагаю, что оказываю вам услугу, упомянув это обстоятельство.
— Каким образом?
— Если вы отправитесь в библиотеку и посмотрите там на фотографию генерал-полковника, то опознание личности напавшего на меня человека значительно облегчится. Ибо, если я начну перечислять его приметы: худое лицо, острый нос и…
Илола вынужден был признать, что Тойвиайнен прав.
— Все ясно. Я запомню это. Спасибо за помощь. — Слова Илола были настолько искренними, что на лице Тойвиайнена появилась доброжелательная улыбка. Однако она тотчас исчезла, как только Илола вернулся к делу: — Вы намекнули на то, что у вас есть серьезное предположение насчет личности напавшего на вас человека?
Тронутые сединой ресницы сапожника Тойвиайнена взметнулись вверх. Однако взгляд его устремился прямо на Илола, и он отчеканил:
— Этот дьявол с кинжалом, вне сомнений, подопечный Дома трех женщин. Готов дать голову на отсечение, что это именно так.
Глава 5
Судя по времени, день уже был на исходе. Но весенние вечера, как известно, продолжительные и светлые. Солнце стояло еще довольно высоко над горизонтом, когда в кабинете ленсмана началось небольшое совещание.
На этот раз и старший констебль Ристо Паяла был на месте. Третий волостной полицейский, младший констебль Кари Куннас, находился в отпуске.
Взглянув на двух своих подчиненных, ленсман Пармалахти добродушно произнес:
— Так-так, в сборе вся ударная группа, силами которой предстоит окружить Дом трех женщин и извлечь из его недр преступника.
Старший констебль Паяла усмехнулся. Это был мужчина средних лет, крепкого сложения, с угловатыми чертами лица и широкими залысинами на лбу.
— Точно, — иронически откликнулся Паяла. — И домашний обыск учиним, вплоть до бани и амбара. Да еще и погреб осмотрим.
Ленсман поднял брови.
Круглое доброжелательное лицо его не стало от этого более суровым. И все же он, очевидно, намеревался дать понять, что делу — время, потехе — час. Разглядывая поднимающиеся от сигары жидкие завитки дыма, ленсман перешел к делу:
— Ту картину, которую только что нарисовал Илола, я уже воссоздал ранее на основании хода событий и разговора по телефону с доктором Кристианссоном. Она, конечно, более скупа, но в общих чертах полностью совпадает с изложением Илола. Так что… — Пармалахти затянулся сигарой и продолжил: — Так что когда я услышал, что человек с кинжалом после совершения нападения бросился в лесную чащу, то подумал, что только дьявол может помочь нам задержать этого бродягу в непролазных лесах близ Ала-Коттари…
В присутствии старших сотрудников молодой констебль Илола предпочитал помалкивать. Но сейчас он счел все же необходимым заметить:
— Как я уже упомянул, Тойвиайнен сразу же поднял шум в отношении операции по задержанию. Спрашивал, лают ли уже собаки и кружатся ли в воздухе вертолеты.
— Вот как!
Возглас старшего констебля Паяла сопровождала насмешливая улыбка. А Пармалахти выразил свое отношение еще определенней:
— Теперь этот герой будет хвастать перед дружками, когда информация о происшествии попадет на страницы газет.
— Ну, по этому поводу может появиться лишь небольшое сообщение, — предположил Паяла. — Но в общем-то присоединяюсь к мнению ленсмана, поскольку Тойвиайнен большой болтун и пройдоха.
Илола взглянул вопросительно на Паяла, а затем осмелился заметить:
— А не полагаешь ли ты, что сапожник выдумал всю эту историю? Сочинил сказку о новом Робин Гуде.
Пармалахти повернулся в сторону Илола и удивленно взглянул на него:
— Такое мне не приходило в голову. Для чего этому мошеннику выбрасывать подобное коленце?
Илола смутился. Однако требовательный взгляд Пармалахти ждал пояснения, и Илола пришлось отвечать:
— Ну, хотя бы уже потому, что этот человек известен как большой плут. И если ему взбрело на ум выкинуть этот фокус, то хотя бы лишь потому, чтобы попасть на страницы газет. И заставить власти побегать.
Ленсман и старший констебль переглянулись. Оба одновременно отрицательно покачали головами.
— Не подходит, — сказал Пармалахти.
Того же мнения был и Паяла:
— Едва ли. Конечно, этот шельмец… этот Тойвиайнен, человек такого склада характера, что от него можно ожидать чего угодно. Но только, пожалуй, сумасшедший станет колоть себя кинжалом в грудь, а…
Во время этой паузы Пармалахти закончил его мысль:
— А наш друг Тойвиайнен совсем не сумасшедший.
Паяла добавил:
— Скорее дьявольски хитер!
Констебль Илола выругался про себя. В присутствии этих суровых, многоопытных коллег следует воздерживаться от выдвижения умопомрачительных идей! Одновременно, ощущая неловкость, Илола припомнил и то, как он, допрашивая Тойвиайнена, чуть было не нашел ключ к раскрытию преступления только на том основании, что сапожник знал фамилию генерал-полковника Диитла и умел ее правильно произносить…
Какая чертовщина!
Илола поторопился исправить положение и поспешно произнес:
— У меня тоже сложилось такое впечатление, что сапожник говорит правду.
— Ну то-то же, то-то же! — заключил ленсман. — Это дело следует рассматривать трезво, на холодную голову…
Илола почувствовал, как покраснели его щеки. И хотя замечание ленсмана не было выговором, Илола решил, что теперь он заговорит лишь тогда, когда его спросят.
Ленсман продолжал:
— Судя по описанию Тойвиайнена, невольно возникает фигура какого-то… я бы сказал… немецкого туриста. Или даже не туриста. Скорее человека, который разгуливает по своим собственным владениям, этакий владелец замка. В тирольской шляпе, в сапогах с отворотами до колен, в зеленом охотничьем костюме… Однако поскольку мы не в Баварии, а здесь…
Воспользовавшись короткой паузой, в разговор вступил Паяла. Его тон был весьма сдержанным и обыденным:
— Владельцев замков и других сказочных героев можно смело исключить из наших расчетов. То же самое можно сказать и о туристах. Они обычно передвигаются в автомобилях, ставят палатки, обращают на себя внимание в магазинах и киосках. Ничего подобного в этих краях в последнее время не наблюдалось.
Паяла и в самом деле уже успел навести по телефону справки по этому делу. Ответы жителей, владельцев магазинов и заправочных станций были на этот счет только отрицательными.
— Так-то вот, — произнес Пармалахти. — Если еще принять во внимание, что туристы передвигаются по дорогам, а не бегают с кинжалом в руке по лесам, то…
На этот раз Пармалахти прервал свою речь намеренно.
Ощущалось, что в комнате вызревает какое-то заключение. Мысли всех вращались на одной орбите. Понимая, что последнее слово принадлежит ему, Пармалахти наконец высказал свое мнение:
— По причинам, упомянутым мною выше, бесполезно организовывать массовый поиск. При таких обстоятельствах можно бегать по лесам высунув язык в поисках иголки в стоге сена. Но… — Пармалахти помедлил и затем сформулировал свое основное заключение: — Но имение Лаутапоррас… я имею в виду Дом трех женщин… его следует проверить! — Заметив недоуменные выражения на лицах коллег, Пармалахти сделал отрицательный жест рукой и добавил: — Это вовсе не значит, что мы все трое направимся туда, как стадо слонов, и потребуем тотчас, от порога: «Выдавайте преступника!» Туда пойдет Илола, один… и немедленно.
Илола вздрогнул.
И все-таки произошло так, как он и надеялся, хотя в душе немного сомневался в том, что такое ответственное задание будет поручено ему. Скрывая на устах улыбку, Илола подумал, что и по праву именно он должен быть «основным» следователем по делу, ибо он допрашивал Тойвиайнена и…
Илола прервал свои размышления, так как дальше последовал инструктаж ленсмана:
— Ты в наших краях человек новый. В этот вояж отправишься в штатском… в прогулочном костюме. Войдешь в дом как нейтральный, посторонний человек и скажешь…
— Добрый день! — предложил старший констебль Паяла. Он, казалось, слегка злорадствовал.
Ленсман взглянул в окно. Солнце уже опустилось низко над горизонтом и коснулось маячившей вдалеке трубы центральной котельной больницы. Лишь частично разделяя шутку Паяла, Пармалахти спокойно произнес:
— Добрый вечер. Так, пожалуй, будет правильнее. Но если говорить серьезно, то Дом трех женщин довольно сомнительное место. — Ленсман поморщился и продолжал: — По правде говоря, мне тут недавно один доброжелатель предлагал даже провести официальную проверку и обыск дома. Ибо туда, по слухам, наведываются сомнительные гости… или, точнее сказать, какая-то таинственная мужская личность. — Ленсман сердито уточнил: — Однако советчиков я отправил восвояси! Это свободная страна, и визиты гостей сюда не запрещены. Если даже гость задерживается на длительное время, то это исключительно частное дело. Во всяком случае, не предусматривается никакой проверки по линии полиции, если нет…
В этот момент в разговор вмешался Паяла и, перебив ленсмана, заключил:
— Если нет оснований для подозрений, что с этим визитом связано преступление… или иное противозаконное действие.
Пармалахти кивнул:
— Именно так.
Паяла потер свой угловатый подбородок и взглянул на ленсмана из-под густых бровей:
— А в данной ситуации, ты полагаешь, положение изменилось и есть основания для вмешательства полиции?
Пармалахти досадливо задвигался в своем кресле.
— Совершенно уверенным в этом быть нельзя, — раздраженно ответил он. — Основанием для наших подозрений может быть только рассказ Тойвиайнена. Но дело не двинется вперед, если мы будем тут втроем сидеть и болтать. Так что ты, Илола, отправляйся и делай свое дело.
Однако Илола не чувствовал себя полностью подготовленным для выполнения задания. Возвращаясь к полученным инструкциям, он спросил:
— Значит, имеется в виду, что туда мне нужно идти в штатском… не следует выступать там в роли полицейского? А изображать какого-нибудь лесосплавщика или землемера… или бродягу.
Заметив, что он вновь без нужды осложняет положение, начиная без пяти минут до отправления на задание выискивать себе роли, Илола рассердился на себя. Что за охота превращать обычное дело в криминальную историю высшего класса!
Неужели так трудно держать язык за зубами?
Но слово — не воробей… Теперь остается лишь ждать ответа. То ли это будет ироническая усмешка: «Как же ты еще не додумался предложить выступить в роли бродячего цыгана?»
Однако наиболее мрачные ожидания не оправдались. Ленсман Эйно Пармалахти дал весьма обтекаемый ответ:
— Сначала осмотришься там, на месте. Принюхаешься… я бы сказал… к тамошним ветрам. И после этого все будет зависеть от ситуации. Будешь вести себя по своему разумению… будешь делать так, как тебе покажется наиболее целесообразным.
Глава 6
Прежде чем отправиться на задание, младший констебль Юрки Илола для успеха предприятия постарался воспользоваться опытом своих старших коллег. Ленсман Пармалахти и старший констебль Ристо Паяла в свою очередь как можно полнее проинформировали его об обитательницах Дома трех женщин.
Так что уже с порога Илола мог назвать их по именам.
Все три женщины находились в это время дома.
Гостиная была необычайно просторной. Чтобы пройти ее из конца в конец, следовало проделать не менее тридцати шагов. В то же время света в ней явно недоставало. Хоть тут и было четыре окна, но все они были маленькие. Кроме того, поделены на бесчисленные квадраты деревянными оконными переплетами. И хотя солнце еще стояло над горизонтом, в гостиной были сумерки. В этой розовой полутьме женские лица показались Илола белыми пятнами, когда все они повернулись, чтобы взглянуть на пришельца.
Женщина, сидевшая за столом, сколоченным из старых толстых досок, была, несомненно, Хелина.
Ее внешность полностью отвечала описанию ленсмана: «Выполняет работу хозяина дома и на него похожа. Худощавая, но вместе с тем крепкая, широкоплечая. Мужеподобная. Черные волосы, черные, как уголь, глаза. Резкий и неприветливый рот».
«Все так», — подумал Илола.
Селму ленсман описал следующим образом: «Лет на десять моложе сестры. И более женственна. Высокая грудь, широкие бедра, крепкие икры. Большие глаза, мягкие черты лица».
«Точно!»
И как верно ленсман — под одобрительные кивки старшего констебля — обрисовал племянницу этих двух женщин, Элизу: «Натуральные рыжие волосы. Их цвет, очевидно, — кровное наследство от канувшего в неизвестность отца. Овальное лицо, белая кожа, веснушки. Зеленые глаза, длинные стройные ноги. Ее легко отличить от тетушек уже по возрасту — Элизе всего около двадцати лет».
«И это заметно!» — подумал Илола.
Элиза и в самом деле была интересной девушкой. Что-то необычное было и в том, что если нынешних подобных ей красавиц в основном изображали на страницах женских журналов в модных одеждах или же в купальниках на пляжах, то Элиза сидела за ткацким станком. В красноватых лучах заходящего солнца полосы тканого полотна оживали в ее руках.
— Добрый вечер! — поздоровался Илола.
Каждая из женщин ответила на приветствие по-своему. Ответом Хелины был легкий кивок головы. Селма и Элиза ответили в полный голос, и Илола обратил внимание на тон и характер их голосов. Голос Селмы был мягким и вежливым. Приветствие Элизы прозвучало тепло и сердечно, в нем послышались даже нотки радости и любопытства.
«В том доме гости бывают редко» — такими словами ленсман напутствовал Илола. Более всего ощутилось это в поведении Элизы, которую неожиданное появление в доме молодого человека приятной наружности явно обрадовало.
— Присаживайтесь! — предложила Селма.
Она хлопотала у плиты. В вечерних сумерках проступали очертания большой печи для хлебов, а за ней, наверху, — лежанка, о которой в стародавние времена говаривали: «Дед с печи рявкнул». К боковой части печи была пристроена дровяная плита, на которой вырисовывались три конфорки с круглыми крышками. Рядом стояла электроплита, и это свидетельствовало о том, что в доме жили не по старым заветам.
Отправляясь на задание, констебль Илола в ходе инструктажа узнал, что, хотя официальное название дома — Лаутапоррас, фамилия его владельцев — Поррас. И здешним «хозяином» была Хелина Поррас.
На столе перед Хелиной лежала стопа различных бумаг и пара книг. Очевидно, руководство по сельскому хозяйству или другая специальная литература.
Илола начал с того, что сказал:
— Сегодня отличный вечер!
Элиза тотчас ответила из-за своего станка:
— Действительно отличный. Весна ведь!
Хлопотавшая у кофейника Селма не выразила своих чувств столь же непосредственно, как ее племянница, но ее благожелательная и теплая улыбка выразила те же настроения. В противоположность им погруженная в бухгалтерские дела Хелина не разделила их восторгов. Она тотчас парировала острым вопросом по существу:
— Это что же, наш гость прибыл сюда наслаждаться природой? Или у его визита есть и иная цель?
Илола прокашлялся.
В этом грешном мире трудно играть втемную, да еще и наугад. Если Селму и Элизу можно было бы провести, то Хелина быстро разгадает его блеф.
Решение следовало принимать немедленно.
«Будешь вести себя по своему разумению…» — так напутствовал его ленсман Пармалахти. Можно было бы прикинуться и сплавщиком. Но тогда к Элизе он уже не подойдет и на пушечный выстрел. Для этого было достаточно хоть раз взглянуть на Хелину. Тень героя из «Песни об огненно-красном цветке»[23] тотчас пала бы на него.
Итак, не было никаких оснований выдавать себя за кого-то другого. Совершенно очевидно, что, если вдруг бродяга сплавщик примется расспрашивать о человеке в зеленом костюме, ему укажут на порог. А если гость сразу, с порога, покажет, что за ним сила, то дело, хоть и слабо, но двинется вперед.
Констебль Илола прокашлялся еще раз и спокойно произнес:
— Полагаю, что и полицейскому… наряду с выполнением служебных обязанностей… дозволено наслаждаться красивым вечером.
Его слова привели присутствующих в оцепенение.
Хелина и Селма переглянулись. Губы сидевшей за ткацким станком Элизы приоткрылись как бы для восклицания. Однако его не последовало. Она облизнула губы и закрыла рот.
В углу виднелись красивые напольные часы. Из недр их массивного основания доносились удары маятника.
Несколько секунд прошли в гнетущей тишине. Затем все встало на свои места, когда «хозяин» взял вожжи в свои руки.
— Следовательно, вы полицейский?
Хелина приподнялась за длинным столом. Ее тощая фигура распрямилась, и темные глаза вперились в Илола. Молодой констебль почти физически ощутил этот взгляд, проникавший чуть ли не до печенок.
Илола облизал пересохшие губы и подтвердил:
— Да, именно так.
— Что-то я вас раньше не видела.
— Я в этих местах новый человек. Вступил в должность недавно.
Хелина обошла стол и направилась к Илола. Поскольку она смотрела на него сверху вниз, констебль чувствовал себя неловко. Он поднялся со скамейки, стоявшей у входа, куда Хелина усадила его жестом руки.
Сейчас они стояли друг против друга.
— Сюда, — сказала Хелина холодно, — может явиться любой прохожий и заявить, что он из полиции.
— Абсолютно верно, — согласился Илола. — Так что давайте знакомиться с документами.
— Это я и намереваюсь сделать!
Без дальнейших объяснений Илола извлек из кармана бумажник. Вытащил оттуда служебное удостоверение. Не церемонясь, Хелина выхватила его и направилась к окну. В красноватом отсвете заходящего солнца она прежде всего внимательно ознакомилась с текстом удостоверения, а затем стала изучать фотографию. Когда она повернулась к Илола, чтобы сравнить ее с оригиналом, то одарила его отнюдь не мимолетным взглядом. Илола еще раз почти физически ощутил, что исследуется каждая морщинка на его лице. Казалось, что взгляд Хелины вначале скрупулезно изучил область глаз, затем нос и подбородок.
В заключение сухим кивком головы она дала понять, что все в порядке.
Повернувшись в сторону сестры и племянницы, она объявила:
— Этот господин — младший констебль Юрки Илола. С ним все ясно. Однако…
Последнее слово повисло в воздухе. Хелина решительными шагами направилась к порогу и вернула констеблю его удостоверение. Угловатое движение руки вновь указало Илола на скамью возле входной двери, и он подчинился, как школьник.
Или даже, как нищий-побирушка.
Чуть ли не в створе входной двери…
Ну что ж, поговорим и отсюда. Через минуту ему вновь понадобится дар речи. Хелина тем временем вернулась за длинный, массивный стол. В свете заходящего солнца и падавших от него постоянно удлинявшихся теней ее угловатая фигура выражала своеобразную, фатальную торжественность.
Слабая дрожь пробежала по спине Илола.
Он чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Однако уже через мгновение он овладел собой. Конечно, у этой суровой дамы, игравшей здесь роль «хозяина», было бесспорное преимущество: дома и стены помогают. Однако, с другой стороны, никуда не уйти и от того факта, что в этой стране господствуют закон и порядок. И за полицейским, исполняющим свои служебные обязанности, железная поддержка всего общества.
Илола кончиками своих нервов почувствовал, что, случись такая ситуация на обыкновенной вечеринке, ему бы сразу дали от ворот поворот. Однако теперь им придется танцевать под его музыку.
— Итак, — начала Хелина. В ее голосе прозвучали ледяные нотки, она продолжила: — Итак, чем наш дом обязан той сомнительной чести, что сам господин полицейский соизволил пожаловать под эту крышу?
Что за черт!
Человеческое достоинство Илола было оскорблено, и с его губ были готовы сорваться грубые слова. Сразу же, с самого начала, его пытались загнать в угол и привести в положение ответчика. Холодное, пренебрежительное отношение Хелины полностью лишило его надежды на взаимное сотрудничество и понимание по делу.
Не стоит ли призвать эту женщину к порядку и поставить на место?
Ощутив в себе такие намерения, Илола, однако, вздрогнул. Не было никаких оснований переходить на личности. Он лишь выполнял свой служебный долг и поэтому должен сохранять спокойствие и присутствие духа. Поскольку партнер по игре занял сразу непримиримую позицию и дал понять, что с богатого стола бедному Лазарю не перепадет и крохи, он лишний раз почувствовал скованность своего положения.
С подчеркнутой доброжелательностью Илола начал:
— И о существу, я действую в интересах вашего дома…
Однако вступление оказалось неудачным. Едва он успел закончить, как Хелина сердито бросила:
— Да будет вам известно, что этот дом не нуждается в опеке властей!
Когда в комнате вновь воцарилась напряженная тишина, недоумение Илола, возникшее у него еще раньше, теперь усилилось. Почему здесь его тотчас приняли в штыки? К чему эта контратака, прежде чем началась собственно атака? Нормальной реакцией в этом случае был бы обеспокоенный вопрос со стороны хозяев дома: «Господи, боже мой! Что случилось?»
Здесь же ощущалось, что в воздухе так и витало какое-то беспокойство. И это подспудное напряжение проявлялось не только на суровом, вытянувшемся лице Хелины, но и в поведении явно насторожившихся Селмы и Элизы.
Взгляд Илола скользнул по Селме.
Лучший способ приготовления кофе, и в наши дни, — на дровяной плите. Во всяком случае, Илола случалось обращать внимание на рекламу в отелях южной Финляндии или в домах отдыха в Лапландии: «Здесь пищу и кофе готовят на плите». И хотя в доме стояла электроплита, Селма хлопотала возле дровяной. Когда на минуту она приоткрыла дверку и сунула в топку пару чурок, ее лицо в свете пламени показалось медно-красным. Этот редко возникающий цвет лица, очевидно, стал еще более выразительным оттого, что она покраснела.
Когда затем она бросила крышку на конфорку, удар оказался настолько сильным, что прозвучал как металлический взрыв. При этом Селма повернулась в сторону старшей сестры и кинула на нее непонятный для постороннего взгляд.
Элиза не отрывала глаз от станка. Когда она наклонялась, чтобы поправить пряжу, то делала это как-то неровно, нервно.
Илола попытался собраться с мыслями. Всякое он слышал об этом доме. Однако, поскольку срок его службы в этой волости был небольшим и, кроме того, на людские пересуды не следовало обращать особого внимания, он все россказни об этом доме пропускал мимо ушей. В конце концов ему окончательно опротивели эти сплетни. Однажды в кафе автозаправочной станции до его слуха дошел обрывок разговора, который сидевшая за соседним столиком компания вела о Доме трех женщин, и какой-то непристойного вида тип изрек с похабной ухмылкой:
— Там, говорят, этих двух старых дев ублажает один здоровенный бугай. Видно, и молодая племянница не отстает от них.
Ничего не скажешь. Свободная страна. Говори что угодно. Даже во всеуслышание, в присутствии официального лица, сидящего за соседним столом. И все же Илола на всякий случай запомнил физиономию говорившего. Может, придется встретиться с ним нос к носу и при других обстоятельствах.
Пока, однако, такой встречи не случилось.
А вот в этот дом ему пришлось явиться. И дело надлежит вершить без всяких предвзятостей.
Мысли Илола скользнули в сторону настолько, что прошло мгновение, прежде чем он смог ответить Хелине на ее комментарий:
— У меня нет намерений принимать на себя обязанности поверенного в делах этого дома. Однако уж коли совершено преступление, то власти обязаны его расследовать.
Слово «преступление», повисшее в воздухе, застало женщин врасплох. Прошло некоторое время, пока Хелина заговорила. Она, вне сомнения, была здесь тем лицом, которое решало и за других.
— Кто, — спросила Хелина медленно, — совершил преступление? И против кого?
— По существу, совершено два преступления.
— Два?
— Да.
— Какие?
— Одно из них…
Только сейчас Илола задумался, как, собственно, классифицировать преступление, касающееся того, что некто гнал сок из березовых деревьев на чужом участке земли, не имея на то разрешения. При этом он вспомнил: в больнице при допросе сапожника Тимо Тойвиайнена тот настойчиво уверял, что его деяние было всего-навсего мелкой кражей. И в самом деле это можно квалифицировать как воровство. Или самоуправство. Или порчу леса. Или сознательное причинение ущерба чужой собственности. Таких примеров на лекциях по праву в полицейском училище не приводилось.
Поэтому лучше всего изложить события так, как они имели место в действительности.
И приступить к изложению двух событий с менее значительного. Тут кстати ему вспомнилось назидание из начального курса английского языка — «Как излагать дурные вести». «Сначала зажгли лучину. От нее воспламенилась борода. А затем сгорел и дом со всеми его обитателями».
Кроме того, хронологический порядок требовал, чтобы события излагались во временной последовательности.
— Этим утром, — начал Илола, — один человек из деревни Ала-Коттари, расположенной недалеко отсюда…
Хелина перебила его:
— Кстати, и это поместье, Лаутапоррас, относится, согласно земельному регистру, к деревне Ала-Коттари.
Констебль Илола внимательно взглянул на говорившую. Ему стало очевидно, что Хелина Поррас принялась вносить малозначительные уточнения с единственной целью: выиграть время, чтобы обрести душевное равновесие. Илола едва не выпалил, что пришел сюда не для того, чтобы вести счет перьям на ангельских крыльях. Однако сдержался. Вместо этого он сказал:
— Проживающий в Ала-Коттари сапожник Тимо Тойвиайнен…
— Ах, он!
— Именно он, — спокойно отреагировал Илола.
— Невыносимый человек!
— Хм. Мне трудно выразить свое отношение к нему.
— Законченный мошенник!
— Этот мошенник, — продолжил констебль Юрки Илола, — бродил сегодня утром по вашим угодьям. С несколькими ведрами и прочим снаряжением, предназначенным для добычи березового сока…
Заканчивая допрос Тимо Тойвиайнена, Илола подробно расспросил его о месте происшествия. Он намеревался наведаться туда перед тем, как побывать в этом доме. Однако затем передумал. Едва ли это принесет какую-нибудь пользу. Тойвиайнен рассказал, что нападавший унес кинжал с собой. Так что на месте можно было обнаружить лишь примятую кочку и надломленный куст ивняка. Или несколько следов крови самого Тойвиайнена.
Наступал решающий момент, предстояло выяснение личности мужчины с пером на шляпе, в ботинках с отворотами и в костюме зеленого цвета.
Так как высиживание на скамейке у входа, подобно мальчику на побегушках, было малоприятным, Илола обрадовался пришедшей на ум мысли встать и подойти к окну. Указывая на маячивший вдалеке холм, Илола сказал:
— Там, за этим холмом, как вам известно, вдоль берега ручья расположилась березовая роща.
Элиза мгновенно ожила при этом.
Она выскочила из-за станка и тоже бросилась к окну, произнеся взволнованно на ходу:
— Это та самая роща. Очаровательная роща! Там я всегда по весне собираю белые фиалки. Неужели этот негодяй успел нанести ей непоправимый ущерб?
Констебль Илола был уже готов сообщить, что повреждено лишь несколько деревьев, когда в его ушах прозвучал холодный голос Хелины:
— Элиза! У нас достаточно берез. Отправляйся на свое место!
Элиза тряхнула волосами. Однако это непокорное движение головой было единственным выражением протеста. Не вымолвив ни слова, молодая девушка вернулась к ткацкому станку. Длинные стройные ноги промелькнули перед глазами Илола, когда она бросилась на скамейку за станком.
Теперь уже не было никаких сомнений, кто правил в этом доме.
Кроме того, начинало казаться, что власть эта была безоговорочной.
Хелина Поррас произнесла:
— Господин констебль!..
Тон голоса свидетельствовал о намерении скорректировать диоптрию бинокля: то ли Хелина сомневалась в дальнейшем ходе событий, то ли она просто настроилась на более вежливый лад. Во всяком случае, ее манера говорить разительно переменилась:
— …Березы всего-навсего березы. Моя племянница, Элиза, их верная защитница. Однако вы, господин констебль, вряд ли пришли сюда ради этих нескольких берез?
— Нет, конечно, — ответил Илола. — Как я уже упомянул, действия сапожника Тойвиайнена в вашем березняке с точки зрения закона всего-навсего мелкое хищение.
— Вот тебе раз! Мелкое, — вырвалось у Элизы. Несмотря на недавнее предупреждение, она не смогла не вмешаться в разговор и была одарена взглядом, который должен был ее обуздать. Кроме того, этот недобрый взгляд сопровождался еще и словами:
— Работаешь, ну и работай! Или отправляйся в другую комнату, пока мы беседуем с констеблем.
Однако Элиза не последовала ни одному из этих советов. В глазах загорелись непокорные искры, и она запальчиво заявила:
— Когда речь заходит об интересах дома, у меня равное право все знать. Тебе, кажется, известно об этом!
Последние слова девушки обратили на себя особое внимание Илола. В них явственно слышалось упрямство и нежелание подчиняться. Казалось, Элиза так и хотела заявить: «Я совершеннолетняя. И владею третью этого дома». Но и это было еще не все. Казалось, что за этими словами крылось нечто иное — угроза.
Очевидно, Хелина различала оттенки голоса своей племянницы точнее, чем гость, ибо немедленно уступила:
— Пожалуйста, оставайся! Но не встревай без нужды.
— Я заговорю, когда придет мое время.
Слова девушки прозвучали как-то по-особому, пророчески, отчего лоб Хелины вдруг нахмурился. Она резко повернулась и посмотрела прямо в глаза своей племянницы. Некоторое время женщины неотрывно смотрели друг на друга. Затем веки Элизы медленно опустились. Она пожала плечами. И хотя признаки смирения были налицо, Хелина нашла нужным сказать дополнительно в назидание:
— Никто не намерен лишать тебя права говорить. Однако прежде чем сказать, следует хорошенько подумать.
Элиза не ответила.
Повернувшись вновь к констеблю, Хелина сказала подчеркнуто спокойно:
— Продолжим. Цель вашего посещения состоит, очевидно, в том, чтобы, помимо этого незначительного происшествия с березовым соком, сообщить что-то иное… более серьезное?
— Дело обстоит именно так.
— Что же произошло?
— Кровавое злодеяние.
От плиты послышался звук разбившейся посуды. Там стоял шкаф, и Селма брала в это время оттуда кофейный сервиз. Одна из чашек выпала из ее рук и стукнулась об пол, рассыпавшись на мелкие куски, которые она не стала собирать, — стояла на месте, будто окаменевшая. Лицо побледнело, а голос донесся откуда-то из глубины, подавленно и тихо:
— Кто-то… умер?
Кровь отхлынула от лица Хелины. Но она владела собой лучше, чем сестра, и сказала, обращаясь к Селме:
— Держи себя в руках. Ты же взрослый человек! — Поджав губы, она повернулась затем к Илола и спросила: — Что вы имеете в виду? Говорите яснее!
Прежде чем ответить, Илола взглянул на Элизу. Девушка тоже была потрясена, однако сообщение не выбило ее из колеи, как теток. Из ее широко раскрытых глаз так и фонтанировало любопытство.
Тягостное напряжение не могло больше продолжаться, да и Илола решил, что увидел достаточно. Он не случайно употребил только что всего два скупых слова. Теперь, однако, настало время дать пояснения:
— Никто не умер.
Со стороны посудного шкафа донесся вздох облегчения. Селма наклонилась собрать осколки кофейной чашки. Напряженное, едва скрываемое выражение страха на лице Хелины также улетучилось. Теперь у нее была возможность перейти в наступление:
— Вы что, решили играть в прятки? Не можете выражаться яснее? — Илола не успел даже ответить, как с уст Хелины полился поток одновременно вопросов и комментариев: — Когда произошло преступление? И где? Кроме того, какое отношение все это имеет к нам, обитателям этого дома, если какой-то Тойвиайнен решил поиграть со своим ножом?
— Он не играл.
— Что?
— Его ударили ножом.
— Кого, Тойвиайнена?
— Именно его. И не каким-нибудь сапожным, а кинжалом.
Хелина и Селма мгновенно переглянулись. Брови Хелины взлетели вверх. Селма смотрела на нее широко раскрытыми от ужаса глазами. Но уже секундой позже они овладели собой.
Загадочная история!
Когда Хелина позже повернулась к Илола, чтобы задать ему вопрос, ее голос был сдержанным и спокойным:
— Было бы лучше, если бы вы рассказали нам обо всем этом подробней. И сообщили бы, не намерены ли вы опросить нас в связи с этим происшествием.
Илола подосадовал на себя. Он упустил момент, размышляя, как вести себя дальше, а этим воспользовалась Хелина и четко и значительно произнесла:
— Во всяком случае, я могу прямо заявить, что никто из нас ничего не знает об этом.
— Так ли уж?
— Именно так!
В резком ответе прозвучал как бы вызов. Дверь захлопнулась у него перед самым носом в тот момент, когда он потянул за дверную ручку.
Он заколебался.
В создавшейся ситуации он мог бы отправляться восвояси. Однако в его сознании ожил образ ленсмана Пармалахти. Этот круглолицый пожилой господин был, по сути, добродушным существом. Но при необходимости мог стать и сущим дьяволом. Ленсман обещал ждать Илола, как бы долго констебль ни задержался с разбирательством.
Так что можно было ожидать, что если он вернется с этими скудными результатами, то услышит саркастическое замечание: «Не много же тебе нужно — поверил с первого слова!»
Констебль Юрки Илола, воспользовавшись возникшей паузой, изготовился для продолжения беседы. Хелина, сидя за столом, не сводила с него глаз. Ее рот вытянулся в тонкую презрительную полоску. Остальные женщины хранили молчание. Но так как гнетущая тишина оставалась и атмосфера накалялась, Селма встрепенулась и спросила:
— Как быть с этим… с кофе?
Хелина ответила, даже не повернув головы:
— Мы успеем выпить его и позже.
В Илола заговорило оскорбленное самолюбие. Селма, конечно, имела в виду предложить кофе и гостю. Так как неуклюжая попытка смягчить атмосферу окончилась столь внезапно и бесцеремонно, у Илола не оставалось сомнений: Хелина Поррас сделала все, чтобы представитель официальных властей убрался отсюда как можно скорее.
Илола постарался взять себя в руки.
Нет, отсюда он так просто не уйдет.
Да и не каждому дано ощущать признаки изменения погоды. Даже если вот-вот грянет гроза.
Если гость сидит словно к месту пришитый, что с ним делать хозяину дома? Едва ли он наберется смелости послать должностное лицо ко всем чертям.
Глядя на Хелину невинно-младенческим взглядом и произнося по-ангельски кротко слова, Илола принялся объяснять:
— Я, естественно, и представить себе не мог, будто вы знаете что-то о происшедшем. До березовой рощи отсюда не так близко, чтобы что-то увидеть или услышать. К тому же Тойвиайнену удалось быстро добраться до больницы. Виновник же кровавого злодеяния не замедлил скрыться.
Илола выдержал паузу, выжидая реакции на свою реплику.
Однако никакой реакции не последовало. Женщины даже не обменялись взглядами. Лицо Хелины словно окаменело. Селма продолжала стоять, прислонившись к буфету, и неотрывно смотрела в пол. И даже Элиза, живо интересовавшаяся ходом беседы, внезапно умолкла.
Илола начало казаться, что он вещает голым стенам, но, несмотря на это, он упрямо продолжал:
— И хотя непосредственно о происшествии вам ничего не известно, возможно, вы располагаете какими-то косвенными фактами, догадками. Именно ради этого я и пришел сюда. Итак…
Выдерживая преднамеренно очередную паузу, Илола не ждал, что кто-то поможет ему продвинуться вперед. Но все же надеялся на выражение хоть какой-то точки зрения. Ведь, насколько ему было известно, женщины — разговорчивый народ. Но его продолжала окружать холодная стена молчания, и поэтому он был вынужден продолжать свой монолог:
— Мы, должностные лица, конечно, ведем розыск виновного. И в этом деле мне хотелось бы надеяться на вашу помощь. Поэтому я коротко изложу ход событий и опишу приметы скрывшегося преступника.
Теперь окаменевшая Хелина слегка ожила, в ней появились признаки жизни. Сверкнули огненные, как острый перец, глаза, и гордый затылок откинулся назад.
В течение почти десяти минут Илола излагал все, что ему было известно по делу. Кроме действий, имевших при этом место, он особо тщательно описал приметы и манеру поведения мужчины, нанесшего удар кинжалом. Подчеркнул он и то, что мужчина, очевидно, был иностранцем, поскольку, предположительно, говорил по-немецки. Когда в конце Илола еще раз детально и тщательно описал одежду этого человека, дело, по его мнению, было изложено исчерпывающе.
Его ни разу не прервали.
Однако, когда его информация иссякла, упрямое молчание продолжалось. Илола был готов выйти из себя. Нежелание говорить приобретало демонстративный характер. Не без основания можно было предположить, что между присутствующими существовал тайный сговор. Во всяком случае, таково было впечатление.
В помещении царила мрачная, холодная атмосфера.
В чем же смысл затеянной женщинами игры? Естественное, непринужденное поведение, попытка уйти от основного вопроса с помощью легкомысленной болтовни — так обычно ведут себя женщины, попавшие в затруднительное положение. Или, возможно, это лишь игра воображения Илола, у которого пока еще отсутствовал достаточный опыт в этих делах. Во всяком случае, такое поведение было бы вполне понятным применительно к людям, у которых действительно есть что скрывать.
Однако вместо этого — явное, вызывающее, враждебное молчание?..
Пытаясь найти причину такого странного поведения, Илола подумал и о том, что, возможно, женщины не очень-то рассчитывали на умение друг друга вести себя искусно. Существовала опасность сказать что-либо невпопад, противореча сказанному другой. Если же молчать, то не будет и сбоя!
Кроме того, он ведь еще не поставил ни одного вопроса напрямик.
Поэтому Илола, оставив раздумья, подбодрил себя: «Вперед, матадор!»
— Знает ли кто из вас описанную мною личность? — спросил Илола.
Все три женщины одновременно отрицательно замотали головами. Как будто их дернули за веревочку. В то же мгновение произошло и заметное изменение в их поведении. Они освободились от оцепенения. Возможно, это произошло оттого, что они ожидали худшего? Илола не успел проанализировать это до конца, ибо, как только рухнуло молчание, Хелина Поррас, словно по общему согласию, перешла в наступление. Очевидно, ей вспомнилось, что нападение лучшая защита, и она запальчиво заявила:
— Описанное вами лицо совершенно неизвестно всем нам. С вашего позволения и я бы хотела задать вопрос. Были ли при данном инциденте свидетели?
Теперь настал черед Илола отрицательно мотнуть головой.
— Следовательно, нет! — восприняла в штыки ответ Хелина. — Значит, единственным основанием для всех этих утверждений служит заявление самого Тойвиайнена?
Илола несколько раз кашлянул. Прочистив горло, он произнес:
— Да, дело обстоит именно так…
Черные зрачки Хелины блеснули. Рот, обрамленный тонкими губами, изогнулся в иронической усмешке, когда она стала давать оценку показаниям Тойвиайнена:
— Не имею чести хорошо знать этого господина, однако те, кто знаком с ним, утверждают, что это великий фантазер!
Илола счел нужным отчасти согласиться:
— Безусловно, он очень разговорчивый человек. Но…
Хелина перебила его:
— Наговорит с три короба! Это на трезвую голову. А он ведь к тому же еще и пьяница!
Илола попытался вставить слово:
— Так-то оно так…
— Именно так! — безапелляционно заявила Хелина. — А спьяну ему и бегемоты могут почудиться. Мне пришло это на ум, когда речь зашла об этой сказке с кинжалом, шляпой с пером и зеленым одеянием. Так что… ну да ладно…
«А остальное — это уже твоего ума дело», — подумал Илола, ибо Хелина Поррас прервала свою фразу таким образом, что дала понять — для разумного сказано достаточно, а с недоумком и говорить не стоит.
Изрядно утомившийся, Илола пустил в ход последний аргумент:
— Сапожник Тойвиайнен, конечно… таков, какой есть. Не хочу вступать в спор о том, насколько правильна ваша характеристика…
— Она попала в самую точку!
Подбородок констебля подался вперед, и он сказал несколько вызывающим тоном:
— На этот раз история не плод фантазии! Неотвратимым доказательством является ножевая рана, полученная Тойвиайненом. И я вообще не верю, что на этот раз он что-то придумал от себя. Не верю даже, что он преувеличил или приукрасил эту историю.
— И все-таки вы сказали: историю…
— Я имел в виду его рассказ!
— Ах, так, ну что же…
Высокомерие Хелины начало раздражать Илола. Ставя под сомнение достоверность показаний Тойвиайнена, Хелина одновременно косвенно давала понять, что чиновник, допрашивавший его, был излишне доверчив. И именно это поднявшееся откуда-то изнутри раздражение помогало Илола продвигаться вперед в выполнении его миссии.
Более того, это раздражение решило возникшую кризисную ситуацию.
Он ведь с самого начала размышлял, как подобраться к сути дела. Недоброжелательная, напряженная атмосфера, установившаяся в доме, вынуждала его медлить и сомневаться больше обычного. Необходимо было поставить один нелицеприятный вопрос. Однако теперь, когда сапожник подвергся всеобщей и жестокой экзекуции, расставить точки над «i» можно было за его счет.
— Между прочим… сапожник Тойвиайнен твердо уверен в том, что напавший на него человек находил убежище в этом доме, — выпалил Илола без долгой подготовки.
Заряд угодил прямо в цель.
Рука Элизы, лежавшая на ткацком станке, взлетела ко рту, как бы желая помешать восклицанию, готовому сорваться с губ. Лицо Селмы вздрогнуло, а обмякшие губы неестественно раскрылись. Даже сильный и монолитный образ Хелины дал трещины. Черты обострились, глаза сузились, и темный багрянец стал медленно разливаться по лицу.
— Что?! — воскликнула она грубым и низким голосом. — Что вы несете?
Ответ Илола не заставил себя ждать. Он решил, что пикировку лучше провести на одном дыхании. Какая разница, шла ли в этом случае речь о мнении Тойвиайнена или о слухах, будораживших всю деревню. Главное — заставить камень сдвинуться с места.
— У вас в доме длительное время гостил какой-то мужчина, — заявил Илола, переходя прямо к делу. Правда, произнося эти слова, он смотрел мимо Хелины. — То ли родственник, то ли близкий… а может, и просто посторонний. — Хелина подняла руки к шее, как будто ее горло чем-то сдавило. Используя ее замешательство, Илола пошел напролом: — Но с течением времени и посторонний человек становится своим. Может, даже в такой мере, что прирастает… да, именно прирастает своим нутром к дому и его обитателям. И тогда он считает своим правом защищать интересы дома… оберегать его собственность от угрожающей ей опасности. Не исключено, что в такой критической ситуации он мог прибегнуть к насилию в большей степени, чем того требовалось для отражения опасности или с учетом незначительности наносимого ущерба. Следовательно… я имею в виду…
Вдохновенная речь констебля Илола стала угасать. И он почувствовал, что и сам попал в опасную зону. Признаки грозы были очевидны, и гром грянул в то же мгновение. Рука Хелины, касавшаяся шеи, стала медленно опускаться, ее пятерня собиралась в кулак.
Грохнув кулаком по столу, Хелина закричала внезапно изменившимся, грозным и мужеподобным голосом:
— А ну-ка, заткните вашу глотку! Каким бы важным господином вы ни были, говорить буду я, а вы — слушать.
Илола проглотил пилюлю и сказал примирительно:
— Ну что же, давайте.
— Стыдитесь!
— Стыдиться… чего же, собственно, мне стыдиться?
— Вы пришли сюда и распространяете вымыслы пьяницы и забулдыги!
— Ну, зачем же…
— Вам и этого еще недостает! Ибо на основании его болтовни вы делаете выводы… вы даже готовы утверждать, что мы прячем здесь какого-то преступника…
Констебль Илола невольно подлил масла в огонь:
— Это мнение не только Тойвиайнена, но и многих других.
Хелина окончательно вышла из себя.
— О чем же? — закричала она. — Не о том ли, что этот дом является прибежищем для преступников?
— Да нет же, не стоит так обобщать. Речь идет лишь о том, что в этом доме некоторое время жил какой-то мужчина.
— Здесь не было никакого мужчины!
Илола потер ладонями колени. Было чрезвычайно трудно настаивать на факте, в подтверждение которого нельзя было привести ни одного аргумента или доказательства. А Хелина тем временем уже возводила вторую линию обороны. Вызывающим голосом она бросила другим женщинам:
— А ну, скажи-ка, Селма! И ты, Элиза! Видели вы здесь мужчину, прячущегося по закуткам? А может, прямо под забором?
— Боже милосердный, нет, конечно! — вырвалось у Селмы.
Элиза ответила коротко, с бесстрастным лицом, уставившись в пол:
— Не видела.
Все еще не давая констеблю произнести ни слова, Хелина продолжила свой возбужденный монолог:
— Естественно, сюда заходят мужчины. Калитка в этих воротах всегда открыта. Но у нас нет оснований их прятать! Мифические гости — это лесозаготовители, оптовики, торговцы или просто бродячий люд в поисках работы… Всех не упомнишь…
Илола выдавил из себя с трудом:
— Да, да.
— «Да, да», — передразнила Хелина. Неприязненно глядя на Илола, она продолжала: — Конечно, у нас бывали и гости, и даже мужского пола. Поэтому, если кому и случилось увидеть мужские портки на нашем дворе, так неужто это такая невидаль! А если, не дай бог, какой-нибудь болтливой бабе покажется, что она увидела мужчину здесь, в самом доме, то… боже упаси!
Илола не находил слов для ответа. Да его и не спрашивали. Хелина вошла в раж, и теперь ее невозможно было остановить:
— Разве мы живем не в свободной стране? Разве люди не имеют права свободно приезжать и уезжать отсюда? Или, может быть, в какой-то статье все же записано, с кем именно лояльному гражданину дозволено общаться… каких гостей можно принимать? Если это так, то означенная статья для меня остается пока совершенно неизвестной. Только и всего…
Здесь Хелина сделала паузу, чтобы перевести дыхание, и одновременно театрально развела руками. Илола не замедлил воспользоваться этим:
— Уважаемая госпожа…
— Я девица.
— Уважаемая мадемуазель. Давайте все же не будем устраивать здесь балагана… Если подойти к этой истории по-деловому, без эмоций, то, судя по вашему повествованию, можно сделать заключение, что у вас бывали гости, однако никто из них долго здесь не задерживался…
— До чего же вы догадливы!.. Да, ни одно существо мужского пола не находило приюта под этим кровом.
Илола поднялся со своей скамьи у дверей. Собираясь уходить, он сказал:
— Ну что ж, дело прояснилось… и довольно основательно. Сожалею, что обеспокоил.
— Вы же исполняете свой долг.
Слова принадлежали Селме. Она с явным неодобрением следила за бурными излияниями своей сестры. И теперь, как бы извиняясь за нее, сказала в полный голос, в котором звучали сочувствие и тепло:
— Не обижайтесь.
— Ну что вы, — пробормотал Илола.
На лице Селмы появилась улыбка. Только теперь Илола отметил, что она очень даже симпатична. Женщина в самом соку. Фигура, может быть, слегка полновата, но эта округлость не распространялась на лицо. Оно было выразительным, с тонкими чертами. Если потщательнее причесать волосы, хорошо уложить да приодеть — ей наверняка был бы гарантирован успех там, где гремит музыка и крутят веселые танцы.
Заметив, что, пожалуй, слишком долго задержал взгляд на Селме, Илола автоматически повторил:
— Ну что вы…
Селма промолвила благожелательно:
— Вы хотите сказать, что… что здесь у вас обошлось относительно спокойно. Бывает и хуже.
— Что-то в этом роде.
Живой словесный обмен между младшей сестрой и констеблем, носивший доброжелательный характер, явно пришелся не по душе Хелине. Она бросила в сторону Селмы строгий взгляд. Уже у самой двери Илола повернулся к Хелине и сказал:
— Если хотите потребовать возмещения убытков с Тимо Тойвиайнена за ущерб, причиненный деревьям, то…
Ответ Хелины был готов:
— Едва ли стоит судиться с этим негодяем. Его слушать-то просто невыносимо. Кроме того, он — куда ни кинь — безнадежно глуп…
— Прощайте, — сказал констебль Илола.
Глава 7
На следующее утро констебль Юрки Илола вновь отворил дверь в гостиную усадьбы Лаутапоррас. Сразу же, с порога, он бойко объявил:
— Это опять… я!
В просторной комнате на этот раз находилась лишь одна женщина, Элиза. Сейчас она сидела не за ткацким станком, а за длинным столом и точно на том же месте, где вчера восседала Хелина Поррас.
На этом схожесть положения кончалась.
Если перед Хелиной лежали бумаги и какие-то суховатые с виду узкопрофильные специальные книги, то Элиза листала иллюстрированный и красочно оформленный журнал. По сравнению с угловатыми формами Хелины и ее жесткими чертами лица Элиза была олицетворением молодости, свежести и женственности. Появившаяся на ее лице улыбка обнажила ряд ровных белоснежных зубов, а зеленоватые глаза ярко блеснули.
— Похоже на то, — согласилась Элиза. — Проходите, пожалуйста, и садитесь.
Когда Илола собирался сесть, как и вчера, на стоявшую у двери скамейку, изящно очерченные брови Элизы недоуменно приподнялись:
— Боже мой! Можно и сюда, поближе.
Илола пересек всю комнату по крепкому деревянному полу. Это действительно было древнее творение. Шаги прошлых поколений изрядно поизносили поверхность широких половиц, так что на местах сучков образовались полукруглые выпуклости. А в мощных бревнах, из которых были сложены стены, виднелись следы затесов плотницкого топора. На стенах не было видно ни единой картины — не было даже хранившихся в старых домах настенных гобеленов с вытканными на них изречениями из Священного писания, — вместо этого обстановку оживляли несколько богато и красиво исполненных домотканых ворсовых ковров.
В то время как Илола усаживался за стол напротив Элизы, та захлопнула журнал. Глаза девушки весело сверкнули, когда она заметила:
— Как видите, это «Домашний очаг», его не нужно прятать. Но если признаться, у меня там, в моей комнате, есть кое-какие другие, более фривольные издания.
Илола улыбнулся.
— Хорошо припрятанные, не так ли?
С минуту лицо Элизы сохраняло весьма потешный и шаловливый вид, ибо она с трудом сдерживала желание показать язык. Но затем девушка все же посерьезнела:
— Мои тетки вовсе не такие старомодные, как о них сплетничают. Не говорю уж о той чепухе, что за мной здесь будто бы следят, что я нахожусь под постоянным надзором и что меня тиранят.
Илола поторопился вставить:
— Я по крайней мере этому не верил.
— И все же это так. По слухам, я чуть ли не пичуга, которую заточили в клетку.
— Даже так?..
— Как-то раз здесь появилась какая-то странная старуха, повязанная платком, она, видите ли, пришла пожалеть меня и посетовать на мою судьбу. Тогда у меня невольно вырвалось: «Ну и ну!»
Элиза тряхнула при этом своими медными волосами. Они были обрамлены в тон красной лентой. Когда она внезапно поднялась и направилась к плите, Илола заметил, что на ней были брюки черного цвета. Это были не джинсы, но в то же время сшиты не из обычного сукна. И хотя штанины были прямыми, брюки сужались у бедер так, что приятные округлости ласкали глаз. Туфли были также черными. По форме они были очень изящными, на низком клинообразном каблуке.
— Могу я предложить вам кофе, который вчера остался лишь словами?
Илола ответил на озорной девичий взгляд улыбкой, однако поспешил отказаться:
— Не утруждайте себя.
— Да какой же это труд! В отсутствие Селмы можно приготовить кофе и без медного кофейника и плиты.
В доме оказалась кофеварка. И уже одно это несущественное обстоятельство опровергало слухи, ходившие в округе, о том, что женщины жили по обычаям каменного века. Прошлым вечером Илола заметил во дворе усадьбы автомобиль «мазда»[24], последней модели, цвета красного вина. Воспоминание об этом, а также отсутствие его в данный момент на стоянке пробудило у констебля смелую надежду.
Он спросил:
— Вы одна дома?
Элиза отмеряла в это время ложкой кофе, закладывая его в бумажный пакетик кофеварки, и сказала через плечо:
— Да. И тому есть особая причина, о которой я расскажу чуть позже.
На душе у Илола полегчало. Такая ситуация его устраивала. Причина отсутствия тетушек могла быть любой, но ситуация сама по себе преотличная. Хотя Элиза настойчиво уверяла, что не является объектом притеснений или тирании с их стороны, однако Илола обратил внимание вчера вечером на то, что родственницы уже одним своим присутствием подавляли живую и непосредственную манеру общения молодой девушки.
Элиза наполнила водой стеклянный сосуд кофеварки и включила в сеть. Предоставив машине делать свое дело, она вернулась к столу и села.
— Обе мои тетки, — начала она, — были ужасно раздосадованы некоторыми вашими вчерашними подозрениями. После вашего ухода здесь произошел острый обмен мнениями. А так как каждая из нас, обитательниц этого дома, не очень-то горазда говорить… как бы это половчее выразиться…
На лбу Элизы появились морщинки. Казалось, ей трудно подобрать нужные слова. Констебль Илола слушал и воспринимал все с легким удивлением.
Чего следовало ожидать? И чего вообще хочет это милое создание?
Избегая взгляда сидящего напротив нее мужчины, Элиза рассеянно двигала рукой, лежавшей на столе. Когда она заговорила, на ее лице выступил легкий румянец:
— Поскольку в деревне продолжают упорно утверждать, что в нашем доме укрывается какой-то мужчина… и поскольку в свете вчерашних событий дело зашло так далеко, что его можно обвинить даже в кровавых злодеяниях, то Хелина и Селма решили полностью лишить эти слухи всяких оснований.
Илола удивленно моргнул глазами.
Он ничего не понимал. Но решил, что лучше всего дать высказаться девушке, не перебивая ее.
Длинные пальцы тонкой руки Элизы продолжали скользить по поверхности стола по мере того, как она говорила:
— Решено, что в дом будет взят посторонний человек… такой… нейтральный наблюдатель. Через него официальные власти смогут впредь получать когда угодно и какую угодно информацию. Это заявление моей тети Хелины.
От этих слов Илола стало немного не по себе. Кто другой, как не он, представитель официальных властей, задавал здесь вчера малоприятные и назойливые вопросы?..
Однако Элиза явно не собиралась говорить ему колкости. Она не случайно упомянула, что речь идет о мерах, предпринятых Хелиной. И все же на ум приходили всякие сомнения по мере того, как он слушал девушку.
А Элиза тем временем продолжала:
— Этот замысел легко осуществить. В нашем доме длительное время жила старая служанка… можно сказать, мебель, полученная по наследству. Ее зовут Хелена. Однако год назад Хелену препроводили в дом для престарелых…
В этот момент Элиза подняла голову. Взглянув на Илола, она заметила в глазах молодого полицейского тень сомнения и поспешила сказать:
— Нет, Хелену отправили туда вовсе не потому, что ее умственные способности стали слабеть. Какой бы свидетельницей она в этом случае была! Наоборот, Хелена Мякеля по-прежнему очень живая и подвижная особа с острым слухом и зрением. Короче говоря, в расцвете своих душевных сил. — Слегка улыбнувшись, Элиза продолжала: — Но ей стало трудно передвигаться… шаги замедлились… и поэтому она стала в некотором смысле обременительной в этом доме… во всяком случае, моя достопочтенная тетушка Хелина соизволила так охарактеризовать создавшееся положение. Поэтому ее и отправили в дом для престарелых.
Только теперь Илола стал постигать суть задуманной операции:
— Так что же, ее хотят вернуть назад, в дом?
— Именно так. Это соответствует общим устремлениям, так как Хелена не прижилась в доме для престарелых. От нее поступают грустные письма и весточки. И, по мнению Хелины, возвращение в дом Хелены не что иное, как наш подвиг милосердия.
Гримаса на лице девушки выразила ее подлинное отношение к этической стороне этого милосердного деяния. С такой же откровенностью она рассказала и о практической стороне этого дела.
— Основная цель возвращения Хелены заключается, конечно, в том, чтобы вернуть прежний блеск и прочность семейному щиту. Постоянно присутствовать здесь, быть в некотором роде привратницей. Но прежде всего мишенью для прицельных вопросов со стороны официальных властей. — Заметив досадливое выражение на лице Илола, Элиза пояснила: — Вы уж не обижайтесь… речь не идет о личностях. Но, сытая по горло клеветой и ложью, тетя Хелина намерена положить этому конец. И у тети Селмы тоже нет ничего против этого. Правда, она относится к этому делу более гуманно… не так утилитарно. Она полагает, что Хелене просто лучше жить здесь, чем в доме для престарелых. Ведь это место было на протяжении десятков лет родным домом для Хелены.
— Да… я понимаю.
— Мои тетки отправились по этому делу рано утром. И они намереваются привезти Хелену сюда уже сегодня… если, конечно, бюрократия и формальности позволят.
— Вот как.
До этого момента Элиза говорила размеренно и спокойно.
Заключение прозвучало несколько иронично:
— Несмотря на поздние годы, зрение и слух Хелены безупречны. Если же еще принять во внимание, что по характеру она бдительна, как горностай, то не исключено, что известное вам дело в самом недалеком будущем получит однозначное и безапелляционное признание официальных властей, а именно: поскольку орлиный взгляд Хелены не отыщет в этом доме мужчины, то, следовательно, такового… не существует.
Илола, по правде говоря, не знал, что и думать.
Безусловно, план Хелины Поррас был просто гениален. Это был нокаут всяким слухам. Но одновременно Илола подумал и о другом. Уж не собирались ли захлопнуть дверь конюшни тогда, когда лошадь выбежала из нее? Это пока еще не оформившееся и смутно маячившее подозрение привело к тому, что Илола бросил острый взгляд на очаровательную рассказчицу.
Поле боя нужно было расчистить.
И сейчас для этого представился подходящий момент, который, возможно, никогда не повторится. Конечно, было бессердечно оказывать давление на Элизу теперь, когда она оставалась без резервных оборонительных сил. Хотя внешне девушка выглядела бойкой, Илола чувствовал, что внутренне она хрупка и ранима.
Прочь сантименты!
Илола собрался с духом и выпалил:
— Вполне может быть, что мужчины, о котором идет речь, здесь уже нет. Однако это не исключает возможности, что он квартировал здесь раньше.
На щеках Элизы вспыхнул румянец.
Она выпрямилась и быстрыми шагами направилась к тому самому буфету, около которого вчера вечером хлопотала Селма. Открывая створки буфета, она, стоя спиной к Илола и не оборачиваясь, резко сказала:
— Этот вопрос, кажется, был исчерпан еще вчера!
Илола чертыхнулся про себя.
Он с трудом удержался от вздоха, который стремился вырваться наружу.
Впереди опять стена!
Тысяча чертей!
А может быть, подозрения все же напрасны? Элиза несомненно была самым слабым звеном в этой цепи. В ней не было ни стойкости Хелины, ни спокойной уверенности Селмы. Так размышлял Илола, вступая сегодня в этот дом, и, застав девушку одну, почувствовал тайную радость. А может, вернее сказать: вероломную радость.
Он попытался разорвать цепь.
Но она не разорвалась!
Элиза молча накрыла на стол. Кофе был отличным, а домашние булочки — рассыпчатыми, но застревали у Илола в горле.
Ничего себе, хорош гость!
Когда Элиза наливала вторую чашку, Илола решился, ибо между ними возникла стена молчания и ее следовало сломать. Не найдя ничего другого, Илола сказал, опустив голову:
— Сожалею…
— Ничего.
И если голос Илола был унылым, то короткий ответ Элизы прозвучал как отзвук какого-то тайного горя.
— Поговорим о чем-нибудь другом, — предложил Илола.
— Давайте.
Как ни странно, лекарство подействовало. Нехотя начатая беседа обо всем и ни о чем приняла затем приятный и непринужденный характер. Они стали говорить о защите природы, и случилось так, что те самые погубленные березы, которые стояли сейчас в лесу, навели их каким-то незримым образом на этот разговор. Однако непринужденная беседа длилась недолго. Внезапно Элиза прервала ее:
— А знаете что!
— Что?
— Вчера вечером я побывала на месте происшествия.
— Неужели?
— Нет, не из любопытства… Мне не давали покоя те березы. Я знаю эти места с детства… А наступившие майские ночи так светлы и прозрачны. И я отправилась туда, когда мои тетки уже уснули.
— Неужели не было страшно?
Элиза тряхнула головой. Волосы, собранные под красной лентой, всколыхнулись волной.
— Ничуть. Хотя по пути пришлось миновать то дерево, на котором моя мама… повесилась.
Илола вздрогнул.
Чтобы подавить рождавшиеся в воображении страшные картины, он быстро спросил:
— Ну а что на том месте?
— Отыскала березы.
— И что же?
Лицо Элизы дрогнуло.
— Меня охватила дикая ярость. Я стала вырывать из древесных стволов трубки, по которым бежал березовый сок, и забросила их как можно дальше. А сок из ведер вылила под основания деревьев… наивно полагая, что они впитают в себя хотя бы часть этой живительной влаги.
— А затем?
— Раскидала все ведра по лесу и… с тяжелым сердцем вернулась домой.
Илола кашлянул.
Расценив это покашливание как возможный упрек, Элиза обеспокоенно спросила:
— Вы рассердились на меня? Я сделала что-то не так… помешала, как принято говорить, расследованию?
Милое дитя!
И хотя Илола не произнес этих слов, в его глазах засветилась необычайная нежность. Внезапно он ощутил тяжесть на душе. Но тут подоспела спасительная мысль, и Илола поспешил выразить ее словами:
— Да я ведь по делу. Я отправился сюда утром пораньше, чтобы побывать на том месте, в березовой роще. Заглянул сюда к вам в надежде, что кто-нибудь укажет мне путь туда.
Они посмотрели друг на друга. Их взгляды встретились.
Илола поблагодарил судьбу за то, что его совесть была чиста. Или, если сказать точнее, почти чиста. Он действительно отправился сюда именно с этой целью. Но все же слегка покривил душой, ибо сапожник Тимо Тойвиайнен описал место происшествия с такой точностью, что констебль нашел бы его и сам без труда.
— Я с удовольствием провожу вас.
Голос Элизы мгновенно изгнал из памяти молодого констебля сапожника Тойвиайнена со всеми его пояснениями и описаниями, и Илола обрадованно воскликнул:
— В самом деле?
— Конечно. — Ее ответ прозвучал как нечто само собой разумеющееся.
День был ясным и солнечным. На синем небе виднелось лишь одно-единственное белоснежное облачко. Они направились по дороге, извивавшейся вдоль полей и обрамленной по обеим сторонам густыми желтыми зарослями мать-и-мачехи. У опушки леса появились белые фиалки. Цветы пенились белыми коврами и терялись в лесной глуши. По мере того как лес сгущался, фиалок становилось все меньше. Элиза сорвала несколько цветков.
Илола взглянул на шагавшую рядом с ним девушку.
О чем она думала? Это скоро прояснится.
Навстречу им в лесу, возле тропинки, попалась крепкая сосна. Невысокая, она, однако, кучно обросла ветвями. Ствол ее был шишковатым, а мощные ветви расходились во все стороны, подобно мускулистым рукам.
Когда Элиза сошла с тропы, сделала несколько шагов и положила у основания сосны свой маленький букетик цветов, мороз прошел по спине Илола.
Неужели здесь?..
Тяжелое чувство охватило его так сильно, что он даже потерял на мгновение способность думать. Однако уже через минуту он, к своему удивлению, был в состоянии осмотреть место глазами полицейского чиновника. Очевидно, давали о себе знать профессиональные навыки.
И все же было жутко. Если кто-то решил покончить с собой, то более подходящее место было трудно найти. Нижний, очень крепкий сук сосны возвышался всего метра на три над землей. Пресытившемуся жизнью человеку вовсе не нужно было взбираться на дерево. Прямо под суком стоял высокий, почти двухметровый камень. Он был необычным по форме и очень подходил для избранной цели.
Одна из сторон камня была пологой, и по ней нетрудно было взобраться на его вершину. Противоположная сторона была, наоборот, почти отвесной. Приговоривший себя, стоя на вершине каменной глыбы, мог легко обвязать веревку вокруг сука. А затем все просто — петлю на шею и шаг в сторону. До боковины камня, стоявшего вертикально, оставалось достаточно места, так что…
Бросайся в пустоту.
Ощутив жестокость своих мыслей, Илола почувствовал, как у него потемнело в глазах. Когда же он посмотрел на Элизу, которая, положив цветы у ствола дерева, замерла на мгновение возле него, устремив взгляд куда-то вдаль, горячий ком подступил у него к горлу.
Не прозвучало ни слова.
Пантомима окончилась, и Элиза шевельнулась. Как бы освобождаясь от сковавших ее магических сил, она вновь ступила на тропу и произнесла притворно обыденным голосом:
— Продолжим наш путь. Тропа огибает этот камень стороной, она не доходит до березовой рощи, минует ее почти рядом, Между ними остается кустарник.
«Напал так внезапно…» — вспомнил Илола рассказ Тойвиайнена. Теперь он почувствовал облегчение, ибо ему следовало приниматься за работу. Как знать, может, он еще сделает что-нибудь полезное. Место же, где мать Элизы лишила себя жизни, было символом безнадежности, безысходности.
Тут уж ничего не поделаешь.
В деле же по нанесению ножевой раны Тимо Тойвиайнену — если только это слово можно употребить в данном случае, поскольку удар был произведен кинжалом, — все пока еще оставалось неясным.
В тот самый момент какая-то волшебная сила направила луч света в сознание Илола, и его осенила догадка. Так как тропинка точно вела к месту происшествия и так как ее отделял от места совершения преступления лишь кустарник, упомянутый Тойвиайненом, сквозь который на него бросился человек с кинжалом, по крайней мере одно обстоятельство становилось почти очевидным.
Тот самый человек, одетый в зеленый костюм и шляпу с пером, говоривший на иностранном языке и выражавший здесь свое возмущение, шел по этой самой тропе.
А тропа начиналась от Дома трех женщин.
На язык так и просились проклятия в свой адрес. Неужели у него настолько заклинило мозги, что он оказался не в состоянии проанализировать события с этой стороны?
И все же, следуя дальше по тропе, Илола принял решение: если на месте происшествия, как и следует ожидать, не найдется ничего примечательного, он пошлет все это дело к лешему. Ибо Тойвиайнен, который скоро оправится от своей легкой раны, примется хвастаться своими приключениями на всю волость. Тот же тип, который причинил ему телесное повреждение, вырвется к этому времени из блокадного кольца. Его уже никакие расследования на месте не вернут назад.
— Здесь. За этими кустами.
Элиза остановилась так внезапно, что погрузившийся на мгновение в свои пессимистические размышления Илола едва не наскочил на нее. Девушка показала на почти трехметровые ивовые заросли. За ними виднелись высокие березы. Свет переливался в их стройных стволах, а только что распустившаяся листва напоминала подвенечную вуаль природы.
Формальности ради Илола наклонился, чтобы осмотреть тропинку.
Конечно же!
Камни, кочки, хвоя, проступившие на поверхность корни деревьев, опять кочки… и ничего больше…
Усмехаясь про себя, Илола раздумывал над тем, что в полицейских детективах преступник, как правило, наступает так удачно и на такую благодатную синеватую вязкую глину, что сыщик без труда снимает гипсовый слепок с его следа. Если на подошве сапога оказываются гвозди, то и они непременно видны в отпечатках следов, так что…
Илола поднял взгляд с тропы. Так как кусты были очень густыми, он предложил:
— Подождите меня здесь. Я пройду взгляну, что там, по другую сторону?
С того самого момента, когда они остановились у места гибели матери, Элиза стала совершенно другой. И вот только теперь улыбка впервые появилась на ее лице:
— Не забудьте: часть того, что вы увидите, — следы моей работы. Я была так сильно раздосадована из-за поврежденных деревьев, что поддела несколько ведер ногой. Поэтому, если вы там обнаружите красные пластмассовые кусочки, то…
Илола рассмеялся.
Было так приятно смеяться посреди этой расцветающей природы в обществе Элизы. Благожелательно усмехаясь, он ответил:
— Непременно.
Элиза осталась ждать.
Илола задержался ненадолго. Едва прошло минут пять, как ветки ивняка вновь закачались и он опять появился на тропе.
— Вот такой ширины, вот такой долины!
В подтверждение своих слов Илола развел руками. Элиза весело рассмеялась. Стройный, широкоплечий парень хорошо сыграл роль хвастуна рыболова.
Илола в это время думал уже о другом.
Возвращение по этой самой тропе вновь приведет к необходимости миновать роковое место у сосны. А облако печали только что сошло с чела Элизы.
Поэтому Илола предложил:
— Давайте вернемся по шоссе? Пройдем по следам Тойвиайнена. Надо и это сделать. Да и вообще…
Последнее слово повисло в воздухе. Но Элиза уловила деликатность своего спутника.
— Давайте, — ответила девушка.
Глава 8
Хелена Мякеля переходила из комнаты в комнату и разглядывала цветы.
Она была счастлива.
Нельзя сказать, чтобы за ней плохо ухаживали в доме для престарелых. Не в этом дело. Она постоянно ощущала неудобство оттого, что попала в положение, когда вынуждена была принимать помощь от других людей. Она же не считала себя настолько больной и старой, чтобы быть не в состоянии ухаживать за собой самостоятельно. При необходимости она могла оказаться еще полезной и другим.
Правда, ноги у нее стали совсем никудышными. Да и спина сгорбилась.
Но еще сегодня утром она трудилась в саду. Собрала полное ведро смородины. Кроме того, работала по дому. Полила цветы. Кто же еще о них позаботится? Хелина и Селма в отъезде. А Элиза оставалась все той же — со своими вечными причудами.
Она, видите ли, увлечена искусством. Неизвестно только, какой художник из нее получится. Вторым увлечением Элизы была охрана природы. Это тоже суета сует. И все-таки она очень, очень любила Элизу. Она пестовала ее, когда та была еще грудным младенцем и когда ее мать постигла такая жестокая доля…
Легкая печаль омрачила доброе расположение духа старой Хелены. Заменой матери стала она девочке после того рокового случая.
Прежние воспоминания, однако, отступили, когда Хелена выглянула во двор. Розы были в полном цвету. Они напомнили ей о том незабываемом дне, когда Хелина и Селма забрали ее из дома для престарелых сюда, к себе домой.
Это произошло утром.
А вечером того же дня, желая показать, что совсем не бесполезна здесь, она развила бурную деятельность. Вместе с Элизой они высадили саженцы, которые в эту пору августа стали бурно распускаться.
На каждой веточке было до пяти крошечных распустившихся бутонов розы. Элиза произносила вслух их названия. Но еще крепче запали они в память Хелены после того, как она прочла их названия собственными глазами: «Оллгоулд», «Монтана», «Нина Вейбал», «Куин Элизабет».
Вот они в полном цвету. Посаженные ее собственными руками…
С губ Хелены сорвался вздох глубокого удовлетворения. Морщинистое лицо расплылось в доброй улыбке. Однако, когда она с кувшином, полным воды, вошла в следующую комнату, которая принадлежала Элизе, улыбка погасла, а брови нахмурились.
Ох уж эти картины, написанные Элизой!
В своем ли она уме, бедняжка?
Ни одну из них нельзя считать нормальной.
Неестественно вытянутые головы, несоразмерные фигуры. А самая большая, та, что висит на стене — «Горящий ангел», — это какой-то ужас, фу!
Только одну картину и можно было считать настоящей. Она называлась «Черноокая Сюзанна». Возможно, потому, что посреди желтого венчика цветка, изображенного на ней, виднелась черная клякса.
Очень хорошо.
Но остальные картины… Они угнетали и лишали покоя душу.
К тому времени, когда Хелена вернулась в гостиную, подавленное настроение стало постепенно проходить. Здесь было просторно и покойно. Кошка, мягко ступая, пробралась к ней и, прижавшись, начала приводить в порядок свою шерстку.
Стало уютно. Настроение поднялось.
Как и розы во дворе, кошка тоже была дорогим воспоминанием. Она еще котенком появилась в доме. В мае. Всего за день или два до возвращения Хелены в это столь желанное окружение. Сейчас кошка уже подросла и неотступно следовала за Хеленой.
Кто же еще даст ей молока?
Хелена взяла кошку на руки и села в качалку. Кошка сразу принялась мурлыкать. Глаза ее все больше смыкались по мере того, как рука Хелены гладила ее.
В качалке можно было бы задержаться и подольше. Однако Хелена вдруг что-то вспомнила, испуганно посмотрела на стрелки часов.
Сегодня ее должна была навестить Ольга!
Они ведь условились.
Как же так, она едва не забыла об этом! Предстояли весьма приятные мгновения. Она смогла бы хоть ненадолго выступить в роли хозяйки дома! Хелина и Селма были за границей. А Элиза разрешила ей эту встречу: «Конечно же, ты можешь принять свою давнюю подругу. У вас наверняка есть о чем поговорить».
К счастью, до прихода гостьи оставалось еще достаточно времени. Да, но где же сама Элиза?
Вылезая из качалки и осторожно опуская кошку на пол, Хелена начала аукать:
— Элиза, ау… ау…
Однако ответа не последовало. Ну да ладно, сегодня субботний вечер, и у молодых много дел в эту пору. Хелена выглянула из окна. Хелина и Селма отправились в путешествие в автомобиле. Элиза же часто пользовалась велосипедом. Ходила она и пешком. Ох уж эти странные скитания по лесу. И чаще всего вокруг того самого места, где стоит та роковая сосна…
Легкий озноб прошел по телу старой женщины. Она ведь жила и тогда в этом доме. Тот несчастный случай произошел почти сразу после рождения Элизы. И прошло с той поры около двух десятков лет.
Но такое никогда не забывается.
Нет!
А сейчас следует думать о другом. Через минуту здесь будет Ольга. Нужно накрыть на стол, поставить кофейник на плиту…
К приходу Ольги все было готово.
Когда друг детства Ольга Ойттинен, проживающая ныне в деревне Ала-Коттари, снимала с головы платок, а затем и пиджак, Хелена разглядывала ее со стороны. Похудела. И поседела. И все же еще красива. Казалось, целая вечность прошла с той поры, когда обе они вот такими же августовскими вечерами танцевали на мосту через деревенскую речку.
Темный блеск воды. Звуки гармоники. Теплые сумерки и восходящий месяц.
— Да!
Услышав возглас Хелены, Ольга обернулась:
— Чего это ты дакаешь?
— Да ничего!
Ответ прозвучал почти сердито. Недостает еще, чтобы они с Ольгой принялись ворошить давно забытое. Два высохших сухаря! Вспоминать времена, когда тело было молодым и упругим. И когда…
Хелена прервала нить своих размышлений. Она поймала себя на том, что готова произнести еще раз «да»… Но как это истолкует Ольга?
— Добро пожаловать! Очень приятно, что ты смогла прийти, — сердечно приветствовала подругу Хелена.
— А что мне могло помешать? Одинокая вдова, дети разбежались по всему белому свету.
— Так, так…
Хелене не понравилось такое начало. Не забыла ее подружка напомнить, что и замужем она побывала, что и дети у нее есть. А другой и этого счастья не перепало. В душе Хелены начинало пробуждаться раздражение, однако оно прошло, как только подруги сели за кофе. После этого беседа пошла сама собой.
После того как были обсуждены все наиболее важные дела, Ольга оглянулась вокруг и заметила:
— И этот дом приутих.
— Да, это так.
Беседа на минуту прервалась. Обе женщины погрузились в свои мысли. Им припомнились прежние времена. При жизни старого хозяина Густава Адольфа и его жены Хенрики дом был всегда полон жизни. Лошади ржали на конюшне, в хлевах мычали коровы. Служанки хлопотали внутри дома, батраки трудились на полях. Теперь же не видно скота, впрочем, и служанок тоже. Что бы подумал старый хозяин, если бы смог взглянуть на все это? Дал же он всем своим дочерям сельскохозяйственное образование, следовательно, верил, что они продолжат его дело.
Однако получилось иначе. Все стало приходить в запустение. Это было видно хотя бы уже по тому, что прежняя фамилия «Лаутапоррас» за время ведения хозяйства дочерьми сократилась до «Поррас».
Хелена очнулась от своих раздумий, когда Ольга сказала:
— Я сейчас подумала о том… что, видно, и таинственные мужики покинули эти места.
Прошло некоторое время, прежде чем Хелена поняла, о чем идет речь.
А поняв, возмутилась до глубины души.
Черт возьми!
Когда Хелену Мякеля забирали обратно сюда из дома для престарелых, никто и словом не обмолвился, что ее собираются использовать в качестве «ока и уха» этого дома. А вместе с тем и «щита» против внешнего мира. И все же Хелена инстинктивно улавливала все это, сознавала ситуацию.
Она прожила в доме для престарелых один год. Обстановка полной бездеятельности способствовала рождению всяких слухов и сплетен. Что еще там делать, кроме как только перемывать людские поступки и косточки! Исчерпывалась одна тема, возникала другая. Престарелых обитателей дома посещали знакомые, рассказывали волостные новости, которые затем подвергались всестороннему обсуждению и обрастали всяческими подробностями.
Пробыв в доме для престарелых около полугода, Хелена услышала первые шепотки о доме Лаутапоррас.
Оказывается, что этот дом вовсе не был Домом трех женщин.
В нем появился… кто бы вы думали?.. Мужчина!
Сейчас Хелена Мякеля не хотела вспоминать все. Слухи и пересуды разбухали и обрастали немыслимыми подробностями. Поэтому, вернувшись в дом, она, конечно же, сразу стала внимательно осматриваться и оглядываться вокруг.
Вот этими собственными глазами.
И очень осторожно.
Ибо на эту тему в доме было наложено табу.
Об этом она догадалась уже потому, что обитательницы дома ни разу не коснулись этой темы. Молчание Хелины и Селмы было понятно, но, возможно, Элиза иногда могла бы позволить себе…
Но и та тоже. Рот оставался на замке. И постепенно Хелена стала сомневаться в достоверности этих слухов. Даже после истории с сапожником Тойвиайненом, когда по деревням прошел целый поток слухов, намеков и предположений.
Попытка убить Тойвиайнена имела место за день до возвращения Хелены. И поэтому старая и умудренная жизненным опытом женщина имела возможность поразмыслить кое над чем. А так как пересуды на тему о том, что незнакомец, напавший на Тойвиайнена с кинжалом в руке, был выходцем из этого дома, не затихали, то…
У хозяек дома появилось, очевидно, намерение раз и навсегда поставить прочный заслон всем этим слухам.
Что касается таинственного мужчины, то Хелена в течение всего лета не заметила и тени его!
Она пыталась тайно обнаружить следы более раннего пребывания мужчины в доме, однако и в этом ее постигла неудача.
Ничего.
Даже забытого лезвия для бритья или шнурка от ботинок.
Ни единого признака пребывания в доме в течение многих месяцев мужской персоны, ни одного подтверждения этой версии Хелена не нашла.
Следовательно, дом был свободен от подозрений.
А значит, и его репутация была незапятнанной. Это была истина, несмотря на то, что репутацию дома пытались и, очевидно, до сих пор пытаются очернить. Уверившись в достоверности своего заключения, Хелена приняла решение.
Уж коли ее взяли в дом, чтобы защищать его честь, она выполнит свои обязанности до конца. Деревня может подбрасывать какого угодно навоза — щит Хелены все отразит!
Именно в данную минуту она должна дать почувствовать это Ольге Ойттинен.
Хелена перевела дыхание, устремила на Ольгу гневный взгляд и сердито сказала:
— Какого лешего ты несешь, говоря о таинственных мужиках?
Ольга опешила от суровости нанесенного ей удара. В замешательстве она пробормотала:
— Ну… всякое об этом говорят.
— Что именно?
— Ну… всякое.
— На этот раз тебе придется ответить за свои слова!
Ольга и ответила, заикаясь:
— Ты что, хочешь сказать, что я сплетница?
— Именно это, и вдобавок — самая отъявленная!
У Ольги отвисла челюсть. Она глотала воздух. Лицо позеленело. Не веря своим ушам, она произнесла:
— Ты что, собираешься меня оскорбить? Ну и ну. Никогда бы не поверила.
Теперь Хелена заговорила вполне спокойным голосом:
— Ты только что утверждала, что под крышей этого дома квартировали какие-то мужики…
— Ничего подобного!
— Я слышала это своими собственными ушами…
— Я только между прочим сказала, что дом приутих.
— А что еще сказала?
— Да оставь ты!
— Повторить твои слова?
— Валяй, если помнишь.
Хелена произнесла медленно и раздельно:
— Вообще-то я не намерена вытягивать из тебя вновь эти слова. Однако цель твоя была абсолютно ясна. Ты хотела сказать, что в этом доме был мужчина. И еще намекнула, что, может, он остается здесь и до сих пор.
Ольга вскочила на ноги. Она подобрала подол своей юбки и закричала голосом, полным ярости:
— И это благодарность за все?
— За что?
— За то, что я взяла на себя труд прийти сюда. И…
— Это ты должна меня благодарить. Кофеек-то пришелся по вкусу. И булочки ты пихала в рот так, что едва не задохнулась.
Последняя фраза попала в цель, так как Ольга и в самом деле едва не задыхалась. Зеленоватый цвет лица сменился на темно-красный, а глаза метали молнии. Она повернулась кругом и пересекла комнату. Срывая платок и пиджак с вешалки, она тряслась от ярости:
— Дожили до того, что бабы из богадельни возомнили из себя невесть что! Никогда бы не поверила…
Не успев даже повязать платок, с пиджаком под мышкой, Ольга бросилась к двери.
В тот самый момент, когда она открыла дверь, Хелена крикнула ей вслед:
— Беги, да поскорее! И рассказывай всем, что слышала здесь. Но говори правду. Здесь нет никакого мужчины. И никогда не было.
Дверь с грохотом захлопнулась за гостьей.
Уставившись на дверь, закрывшуюся за Ольгой, Хелена только теперь поняла, что произошло. И хотя она очень удивилась своей недавней вспышке, она все же не раскаивалась в происшедшем. Наоборот, наружу так и рвался приступ смеха. Хоть раз эта баба услышала слова правды. И побагровела… физиономия стала красной, как пион.
— Хи-хи-хи.
Хелена следила взглядом, как Ольга пересекает двор. Из окна хорошо просматривалось все пространство до самых ворот. Добравшись до них и отворив калитку, Ольга еще раз обернулась.
Она погрозила на прощание кулаком.
Чтобы вернуть душевное равновесие, Хелена подкрепила себя еще чашечкой кофе. Потом поднялась, убрала со стола и дала кошке молока. За этими хлопотами улеглись последние всплески волнения. Посреди всех этих забот она вдруг обратила внимание на отсутствие Элизы.
Где она?
Уже перевалило за семь. Элиза должна была появиться хотя бы потому, что давно настало время поесть. Правда, они договорились, что на период отсутствия Селмы и Хелины они не будут соблюдать установленного режима, а каждый по мере необходимости будет брать из холодильника закусить, чего захочет. И все же отсутствие Элизы выглядело странным.
Не сказала ли ей девочка раньше днем что-нибудь о своей отлучке?
И когда она видела Элизу в последний раз?
Хелена начала припоминать. Очевидно, во второй половине дня. Не пришло тогда в голову взглянуть на часы. Да еще этот визит Ольги совсем выбил ее из колеи. Тем более что кофепитие обернулось так неожиданно и неудачно!
Где же Элиза могла задержаться?
Августовское солнце перед закатом начало алеть. Просторный дом притих. Вылакав молоко, кошка забралась на печь, оставив Хелену в полном одиночестве. Другой молчаливый компаньон — напольные часы стояли в углу.
Хелену стала одолевать тревога.
Она попыталась успокоить себя рассуждениями о том, что Элиза вовсе не обязана отчитываться ни перед кем в своих отлучках. Обе тетки, конечно, поглядывали за ней. Судьба их сестры, матери Элизы, не должна была повториться. Однако ни Хелина, ни Селма не требовали от Элизы подробных отчетов о ее поведении. Девушка была уже совершеннолетней. Поэтому уж кому-кому, а старой домоправительнице нет оснований беспокоиться, если девушка отсутствует несколько часов.
Однако эти объяснения, основанные на разумных доводах, не помогли.
С каждой минутой напряжение возрастало.
Чтобы как-то отвлечься, Хелена начала вытирать пыль. Старомодная мебель, стоявшая в зале, потребовала много усилий для приведения ее в порядок, но вскоре Хелена с ней справилась. После этого она взяла с полки первую попавшуюся книгу. Это был какой-то приключенческий роман. Такого рода книги ее вообще не интересовали. Поэтому, прочитав пару страниц, она отложила книгу в сторону.
В дополнение ко всему внезапно потемнело.
С удивлением она посмотрела на часы. Стрелки их были едва различимы, но все же она смогла понять, что было только восемь часов. В такое время в августе еще светло.
Она подошла к окну. Загадка сразу прояснилась.
Еще недавно светило солнце. Теперь же все небо затянулось черными тучами. Первая вспышка молнии внезапно разрезала небо, а за ней последовал удар грома.
Усилился ветер.
Скоро первые капли дождя ударили в окна. Затем начался такой ливень, будто разверзлись все хляби небесные. Однако не прошло и десяти минут, как капризная погода выкинула еще одно удивительное коленце. Небо прояснилось почти мгновенно, будто усиливающийся ветер в один момент расчистил его своей метлой.
Показалась луна.
Наступило полнолуние. В вечерних сумерках лунный свет был настолько ярким, что тени сосновых деревьев, окружавших двор, четко обозначались на земле. Так как часть сосен высохла, их ветви в лунном свете напоминали какие-то скелетообразные щупальца. Черные, как уголь, тени на земле повторяли эту картину.
«От всего этого может и в озноб бросить», — подумала Хелена.
Она стояла у окна и смотрела во двор.
Какой-то смутный инстинкт нашептывал ей все сильнее, что тут что-то не в порядке.
И вдруг она вспомнила.
Испуг перехватил дыхание.
«Осенние розы так хороши, что я отнесу букетик… туда».
Да, именно это сказала Элиза. Во второй половине дня. Эти слова прошли мимо ее ушей. Очевидно, она была слишком занята ожиданием визита этой проклятой Ольги. Или, возможно, дело обстояло иначе: она преднамеренно не хотела воспринимать этих слов? Эти паломничества Элизы к месту гибели матери были, по ее мнению, странными.
Более того.
В них было что-то неприятное, почти противоестественное. Если бы Элиза носила цветы на могилу матери, то все было бы понятно и отвечало установленным добрым обычаям. Конечно, нельзя не принимать во внимание и того, что фамильный склеп Лаутапоррасов находился в приходском селе, а до него — около двадцати километров.
И все же…
Чего ради выбирать местом поклонения сосну? Это разнесчастное дерево уже давно следовало свалить. Спилить под корень, чтобы и пня не было видно. А затем забыть, закрыть эту трагическую историю тяжелым покрывалом.
Но сейчас об этом уже бесполезно говорить.
Сейчас Элиза пошла туда! Когда именно она отправилась, Хелена не заметила, помнит лишь те слова: «Осенние розы… я отнесу букетик… туда».
Хелена с трудом подавила тяжелый вздох. Слова постоянно звучали в ее ушах, как глухой чугунный звон. Почему Элиза до сих пор не вернулась? Прошло уже столько времени!
Утешение на миг принесло предположение о том, что, может, девушка продолжала свою прогулку по лесу, пересекла его и заглянула в деревню, чтобы повидаться с кем-нибудь из друзей? Нет.
Это никак не вписывалось в установившиеся здесь порядки.
Прежде всего, у Элизы в деревне Ала-Коттари не было сердечного друга. Едва ли даже просто знакомые. И во-вторых, в обычаи Элизы не входило отсутствовать так долго, ничего не сообщив об этом.
На лбу старой женщины выступил пот. Она почувствовала сильное сердцебиение и боль, вызываемую им. Освещаемый лунным светом дом раскинулся перед ней. Бушевавший во время грозы ветер не стих и после ее окончания. Тени раскачиваемых ветром веток продолжали свою пляску на земле. Они напоминали отвратительных пресмыкающихся.
Было страшно.
Только внутри дома можно было чувствовать себя в безопасности. Однако нельзя больше медлить. Нужно выходить из дома. Выяснять причины исчезновения Элизы. Это необходимо.
Машинально Хелена набросила на себя пиджак и повязала платком голову. Выйдя во двор, она направилась к дороге. Из-за охватившего ее предчувствия беды она не ощутила даже ломоты в больных ногах, шаги были удивительно быстрыми. Полная луна так хорошо освещала окрестности, что не было опасности оступиться в выбитую колею. Однако, когда дорога у опушки леса сузилась до тропинки, Хелена вынуждена была замедлить шаг.
Было страшно погружаться в шумевший лес. К тому же в темноте. Лунный свет проглядывал только местами из-за качающихся вершин деревьев.
Но она знала эти места хорошо, так что при необходимости могла бы пробраться вперед и на ощупь.
Хелена плотно сжала губы и продолжала свой путь.
До цели оставалось немного.
Как в ужасном сне, она продиралась вперед. Несколько раз спотыкалась и падала. Однако тут же поднималась и продолжала путь. Усилия истощали силы, легким не хватало воздуха, а сердце билось так, будто хотело выпрыгнуть из груди.
Когда она наконец достигла цели и увидела фигуру, висящую на ветви дерева, мир померк в ее глазах.
Глава 9
Самолет вылетел с Родоса в полночь. Он приземлился в Сеутула[25] на рассвете. Хелина и Селма Поррас взяли свой автомобиль со стоянки, предназначенной для путешественников дальних рейсов, и отправились на нем домой. К тому времени, когда они подъезжали к родным местам, уже полностью рассвело.
— Посмотри-ка, никак Ольга Ойттинен…
Взгляд Хелины различил женщину, ехавшую им навстречу на велосипеде. После того как они разминулись, Хелина взглянула в зеркало и недовольно сказала:
— Эта баба слезла с велосипеда и смотрит нам вслед.
— На нас всегда смотрят.
Комментарий Селмы был сдержанным и коротким. Она не стала утруждать себя и оборачиваться назад. Однако, когда они поднялись на вершину горной гряды, с которой уже был виден их дом, Селма удивленно произнесла:
— Что это за сборище? И в этом-то месте!
У дороги действительно стояло с полдюжины человек. Двое на мопедах, двое на велосипедах и два пешехода. При приближении автомобиля они устремили свои взгляды в сторону Лаутапоррас, оживленно жестикулируя при этом. Но когда красная «мазда» поравнялась с ними, все будто окаменели.
Хелина вновь посмотрела в зеркало.
— Они глазеют на нас, как публика на того космонавта, при открытии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
Селма пожала плечами. Хелина повернула автомобиль на дорогу, ведущую к дому. Она увидела, что обе створки ворот распахнуты настежь, и заметила с усмешкой на губах:
— У Хелены, кажется, гости. Видно, прибыли на тройке?..
Селма не ответила.
Хелина подогнала автомобиль к ступенькам дома. Сестры открыли багажник и взяли каждая свои вещи. Когда они вошли в гостиную, то увидели старую Хелену, сидевшую у стены.
Завидя прибывших, Хелена разразилась безудержными рыданиями.
— Что случилось?
Рука Хелины, освободившаяся от автомобильной перчатки, замерла. Селма опустила чемодан на пол и поспешила к Хелене:
— Что с тобой?
— Когда…
Потоку слез не видно было конца. Тогда и Хелина бросилась к Хелене, схватила ее за плечо и сурово спросила:
— Чего ты ревешь?
Хелена протяжно всхлипнула. Когда она подняла глаза, они были совершенно отсутствующими.
— Элиза умерла.
Сестры быстро переглянулись. Хелина спросила:
— Что за чепуху ты несешь?
Хелена вновь всхлипнула.
— Брось хныкать!
Брови Хелины нахмурились от гнева, и, взглянув на Селму, она спросила:
— Она что, сошла с ума?
Селма вынула платок из сумки. Вытерла им глаза старой женщины и тепло сказала:
— Хелена, золотко, успокойся.
— Это верно, Элиза умерла.
Глаза Селмы расширились. Рот Хелины сжался в узкую полоску. Ее рука все еще лежала на плече старухи. Сжав пальцы, она безжалостно впилась в плечо Хелены.
— Где Элиза?
— Они увезли ее.
— Кто?
— Полицейские.
— Говори, бога ради, яснее! Что сделала Элиза… если полиция ее увезла?
— Элиза умерла.
Хелина ослабила свою хватку, сняла руку с плеча. Она отступила на пару шагов. На какое-то время в гостиной все затихло, слышалось лишь мерное постукивание огромных часов в углу. Затем Хелена сказала:
— Эта бедняжка повесилась на той же самой сосне, что и ее мать.
Наступила гнетущая тишина. В глазах Хелены вновь появились слезы. Хелина и Селма неотрывно смотрели друг на друга.
Сестры стояли перед притулившейся к печи старухой. Сложив руки на груди, Хелена присела на сколоченный из деревянных планок стул. Рука Хелины потянулась вперед, чтобы еще раз встряхнуть пожилую женщину, однако тут же отдернулась назад.
— Они говорили… о вскрытии, — вздохнула Хелена и продолжала: — Все так ужасно. Весь мир рухнул передо мной… я совсем потеряла разум.
Из плотно сжатого рта Хелины вырвался длинный вздох. Селма стояла возле нее белая как полотно. Внезапно Хелина тряхнула головой. Сделав несколько шагов к длинному столу, она тяжело села за него и сложила рядом сжатые в кулаки руки.
Первое, что она сказала:
— Не может быть! — А затем: — А если все же это так, то расскажи наконец, что все это значит?
Хелена подняла голову.
Она взглянула на сидящую за столом Хелину и стала говорить почти обыденным тоном, но прерывисто:
— Вчера вечером мне показалось странным… где так долго задерживается Элиза? Вдруг я вспомнила, что девочка сказала еще днем о своем намерении отнести осенние розы… туда. Вспомнив, я страшно перепугалась, но потом пошла… пошла туда и нашла Элизу… потеряла сознание.
— Так… а что дальше?
— Когда я очнулась, то направилась домой. Я бежала будто от наваждения. Хотя не понимаю, как на этих больных ногах я смогла добежать…
— Боже милосердный! — вырвалось у Селмы.
Ее перебила Хелина. Прерывающимся голосом, но очень внятно она спросила:
— Это ты позвонила в полицию?
— Конечно, я. Ленсман уже спал, но…
— Он приехал?
— Да. И какой-то констебль с ним. — Рука Хелены поднялась к груди. Сбиваясь на плач, она рассказала: — Я только показала им, откуда начинается тропинка. Я была совсем сбита с толку. И с сердцем что-то случилось. Потом приехал доктор, Кристианссон. Он сделал мне какой-то укол… весь мир померк… мне стало все безразлично. Почувствовалась усталость во всем теле… провалилась, как в пустоту… — Вздохнув с сердечным надрывом, Хелена продолжала: — Где-то перед утром я пробудилась. Во дворе стояли две полицейские машины. И кроме них — «скорая помощь». Они принесли Элизу из леса… сказали, что заберут с собой… и показали веревку… спросили, из этого ли она дома. Я не смогла ответить.
Кожа напряглась на щеках Хелины.
— Как выглядела та веревка? — спросила она.
— Такая белая, с красной полоской посредине.
— Ну… да ладно. А что полицейские? Обещали ли они вернуться?
— Да… сразу же утром.
И, словно эхо этих слов, с улицы донесся вой сирены. Взгляд в окно подтвердил, что прибыла полицейская машина. Двери автомобиля растворились, завывание прекратилось. Тучный ленсман Эйно Пармалахти выбрался из машины. Его Хелина знала хорошо, а вышедший вслед за ним молодой человек оказался совершенно незнакомым. Он был одет в полицейскую форму синего цвета. Похож на борца, выглядел еще моложе того, который побывал у них весной. Когда прибывшие открыли дверь, Хелина отметила про себя, что констебль своими усами и бородой напоминал короля Густава Адольфа II.
— Доброе утро, — поприветствовал всех Пармалахти. Ленсман казался каким-то растерянным. Будто лишь для того, чтобы сказать что-нибудь, он пояснил: — Со мной констебль Кари Куннас. Тот, второй полицейский, Илола, который побывал тут у вас весной, в отпуске.
Так как никто из находившихся в комнате женщин ничего не ответил на это, ленсман стал покашливать, прочищая горло. Потирая свою округлую щеку, он произнес:
— А дело-то наше весьма печально… как вы уже, очевидно, знаете.
Повернувшись к сидевшей у печи Хелене Мякеля, Пармалахти осведомился:
— Как вы себя чувствуете?
Поскольку ответом послужил лишь подавленный вздох, ленсман сказал, обращаясь к хозяйкам дома:
— Ночью ей была оказана медицинская помощь. Хотели организовать для нее сиделку, но она уверила нас, что справится сама… А когда мы услышали от нее, что утром из поездки возвращаетесь и вы, то…
С губ Хелены сорвался слабый вздох.
— Да что вы все обо мне!
Теперь жизнь вернулась и к Хелине. Указывая на Хелену, она сказала:
— Она рассказала нам… совершенно ужасную новость. Поначалу мы с сестрой просто не поверили.
Ленсман поспешил вставить:
— Да, дело обстоит именно так. — Говоря подчеркнуто официально и адресуя слова своему помощнику, Пармалахти продолжал: — Покажите-ка, констебль… это.
Младший констебль Кари Куннас вскрыл привезенный с собой пакет, в котором находился канат. Он был изготовлен из искусственного волокна, причем одна из вплетенных в него нитей была красной. Следя за вскрытием пакета, Пармалахти вдруг вспомнил, что во времена парусного флота британские корабли оснащались канатами, в которые всегда вплеталась одна такая нить. Отсюда и выражение: «Найти красную нить». Правда, оно употреблялось при раскрытии преступлений. Сейчас же речь шла о явном самоубийстве, и ленсман признал официально:
— Ваша племянница Элиза повесилась вот на этом канате. Знаком ли он вам?
Когда Куннас опустил канат на стол, сидевшая за ним Хелина отпрянула назад так, как будто перед ней бросили змею. И все же она заставила себя взглянуть на него и ответила почти незамедлительно:
— Кажется, знаком. — Показывая пальцем на то место, где на канате обозначилось примерно двухсантиметровое коричневое пятно, она дополнила: — Помню и это пятно. Я пролила сюда невзначай каплю машинного масла. Это буксировочный канат из комплекта автомобильных принадлежностей. Но он надрезан с обеих сторон. Отсечены прицепные крюки. И дополнительно на канате появилось… этот узел, удавка… — Разглядывая неприязненно канат и не касаясь его, Хелина добавила: — Но этого каната не было в автомобиле. В последний раз я видела его висевшим на стене сарая. Наверное, там его сейчас нет…
— Очевидно, — кивнул ленсман. — Можно взглянуть и на то место. Но уже сейчас дело представляется ясным. Так что, Куннас…
Жест ленсмана носил характер приказа. Подчиняясь ему, констебль замотал канат и сунул обратно в пакет. Затем он положил его на скамейку, стоявшую у двери. Когда неприятная вещь исчезла из поля зрения, Хелина Поррас вздохнула и сказала:
— Фу, как это ужасно.
Раздался звук открываемого ридикюля. Селма вынула из него платок и промокнула глаза. Обращаясь к ней, Хелина сказала:
— Присядь и ты. И вы, конечно, ленсман. Ой, ой… как это все глупо… не знаю, что говорить и что делать.
Ленсман присел.
Покашливая, он сказал:
— Все это чрезвычайно грустно… весьма обременительно. Но нам необходимо немного побеседовать. Ничего не поделаешь.
Глава 10
Заключение было оформлено двумя днями позже. На совещании в кабинете ленсмана присутствовали кроме Эйно Пармалахти старший констебль Ристо Паяла и младший констебль Кари Куннас.
Все полицейские силы волости.
За исключением констебля Юрки Илола. Он находился в отпуске. О нем, однако, сразу же зашла речь, едва ленсман успел открыть совещание словами:
— В свете проведенного расследования следует заметить, что девушка была немного странной.
— Вот именно, — сердито буркнул констебль Куннас, — уж если завела шашни с нашим Илола…
Рот ленсмана остался открытым.
Когда минуту спустя он вспомнил, что рот следует закрыть, его губы вытянулись в строгую линию. И он уставился на бородатого молодого человека.
Это было для него полной неожиданностью.
В это самое время старший констебль Ристо Паяла внимательно наблюдал за мухой, колотившейся о стекло оконной рамы. Она была удивительно большой. Настоящая лошадиная или трупная муха. Жужжание было настолько сильным, что вызывало досаду. Паяла поднялся и пошел открыть окно. Выпустив муху, Паяла оставил половину приоткрытой.
— Как так? — спросил ленсман.
Младший констебль Кари Куннас неловко задвигался. Улыбка сошла с его лица. Ответ последовал вперемешку с покашливанием:
— Это была… шутка.
— Вот как! — откликнулся ленсман. — Нашел время для шуток. Об одной из подобных я прочел в газете сегодня утром. Президент США Рональд Рейган перед выступлением по радио, пробуя голос… так, развлечения ради, сказал… что скоро припрет Россию к стенке.
Констебль Куннас ответил не сразу. Он тоже читал эту газету. Но так как ленсман не спускал с него глаз, пришлось ответить:
— Их видели… на танцах и вообще… как Элиза Поррас сидела в автомобиле Илола.
— Ты считаешь, что они проводят вместе время?
Заметив, что употребил не ту временную форму, Пармалахти поправился:
— Я имею в виду — проводили?
Кари Куннас погладил бороду и отвел взгляд.
— Да… Но как на это посмотреть. Они встречались… как говорят… весной. Я же тогда был в отпуске… когда приключилось это происшествие с сапожником Тойвиайненом. Оттуда, видно, все и пошло.
— И это, по твоему мнению, странно?
Затылок у Куннаса побагровел. Выходя из терпения, едва сдерживаясь, он пробормотал:
— Не нужно… придираться к словам.
В разговор вмешался старший констебль Паяла. Не торопясь, он сказал:
— В этом есть доля правды. Потому-то я и вздохнул с облегчением, что Илола не было на месте, когда мы вынимали девушку из петли.
Короткие, толстые пальцы ленсмана стали постукивать по столу. С минуту он пребывал в молчании. Затем сказал сухо:
— Вот как. Только этого еще не хватало.
Перед ленсманом лежала кипа бумаг. Все они касались проводимого расследования. Им руководил Пармалахти, а поскольку в нем принимали участие трое полицейских, все обстоятельства дела были хорошо известны всем троим.
Продолжив совещание, Пармалахти повторил вводную часть:
— Давайте не выходить за рамки дела. Предваряя наше совещание, я упомянул, что Элиза Поррас была в какой-то степени странной, под этим я имел в виду одно-единственное обстоятельство. У нее было обыкновение постоянно посещать то место у дерева, на котором повесилась ее мать лет двадцать тому назад. Это было… во всяком случае, так считает доктор Кристианссон… своеобразной навязчивой идеей.
Паяла и Куннас промолчали.
Выдвинув нижнюю губу вперед, Пармалахти продолжал:
— Эти медицинские умствования так дьявольски запутанны, что нормальному человеку трудно определенно сказать «да» или «нет». Во всяком случае… если я правильно понял Кристианссона… навязчивая идея может обратиться в такое состояние, когда человек желает идентифицироваться со своим идеалом… слиться с его судьбой… выкинуть вслед за ним тот же самый фортель.
Паяла и Куннас продолжали хранить молчание. Ленсман взглянул на ногти своих пальцев, похожих на сардельки. Выбравшись из дебрей научно-медицинских догматов, он почувствовал себя бодрее и сказал:
— Правда, совместное заявление по этому вопросу теток покойной, Хелины и Селмы Поррас, говорит об ином. Согласно ему, в характере и поведении их племянницы никогда не наблюдалось признаков, которые говорили бы о том, что она помышляет о самоубийстве.
Старший констебль Паяла, хранивший до сих пор молчание, включился в разговор:
— Именно так. И прежде всего, мне кажется, нужно принять во внимание рассказ Хелены Мякеля. Хотя она уже стара и ограничена в движениях, ум ее продолжает оставаться ясным.
Пармалахти согласился:
— У меня точно такое же мнение. О ней никак не скажешь — старый склеротик. Как свидетель, она заслуживает полного доверия.
— Она рассказала, что в тот трагический день в поведении Элизы не было ничего необычного.
— Точно.
— Наоборот, Элиза пребывала в полном душевном равновесии. В добром расположении духа и даже приподнятом настроении.
— Точно, — согласился Пармалахти. — Только следует уточнить, что, когда девушка упомянула о розах, которые она намеревалась отнести к месту смерти матери… она погрустнела.
— Разве это неестественно?
— Пожалуй.
— Вряд ли такая прогулка доставит кому-нибудь удовольствие!
— Нет, конечно, — заметил Пармалахти. — И меньше всего дочери, которая направляется почтить память своей матери, погибшей так трагически. Но от этого еще огромный шаг до того, чтобы… черт подери… чтобы накинуть веревку себе на шею.
Послышался шумный выдох. Он вырвался из носа констебля Кари Куннаса. Нос у него был слишком большим. Очевидно, именно поэтому Куннас отрастил усы и клином бороду, чтобы отвести внимание от этой досадной частности.
Голова ленсмана тотчас повернулась в его сторону.
— Чего сопишь?
Куннас пожал своими плечами борца. При этом он четко произнес:
— Это, насколько я понимаю, крайний педантизм. Есть другое, совершенно точное объяснение.
— Какое? — спросил ленсман.
— Временное умопомрачение. Типичный случай.
Несмотря на то что Пармалахти нахмурил брови, Куннас продолжал как ни в чем не бывало:
— И что в этом удивительного? В этой стране каждый день по меньшей мере один человек теряет самообладание до такой степени, что лезет в петлю или пускает пулю себе в лоб. Или…
Рука Пармалахти поднялась, отвергая сказанное, затем последовал осуждающий взгляд.
— Не стоит продолжать… об этом. Мы все хорошо знаем, что человек может лишить себя жизни различными способами, при различных обстоятельствах. Ну а что касается идеи о временном умопомрачении… то это обстоятельство, очевидно, нельзя не принять во внимание. К тому же другого объяснения и нет.
Уголки рта Куннаса насмешливо вытянулись. Он сказал многозначительно:
— Эти обстоятельства, вне сомнений, более точно сможет объяснить Илола. Он-то уж должен знать душевный склад своей зазнобы.
На этот раз ленсман разгневался не на шутку:
— Нечего тянуть Илола в каждую дыру! Это тебе не Инаринский полицейский округ.
Куннас притих.
Краска, выступившая на его щеках, показала, что он хорошо понял намек. Склока, случившаяся в упомянутом Пармалахти округе, обратила на себя внимание всей страны. Виновные были уволены и затем буквально осаждали своими кляузами ведомство канцлера юстиции.
Суть намека ленсмана состояла в том, что склоку в Инари породили ссоры среди личного состава. Раздраженное замечание Пармалахти говорило о том, что ему кроме этого известны еще некоторые обстоятельства. А именно — в его собственном округе младшие констебли Илола и Куннас не ладили между собой. Издевательские замечания Куннаса, стремление куснуть отсутствующего коллегу, были не чем иным, как наветами на Илола, и ленсман взял его сторону.
Однако после этой вспышки Пармалахти вновь принял спокойный, деловой вид и стал говорить:
— Итак, продолжим. В наличии лишь две версии. Если речь не идет о самоубийстве, совершенном в состоянии временного умопомрачения, то остается вторая — преступление. Но против этого говорят многие исключающие это предположение обстоятельства. Давайте рассмотрим это дело без эмоций. Официально я не запрашивал помощи из губернской центральной криминальной полиции. Вообще-то я звонил туда, но тотчас услышал в ответ старую песню…
— Которая звучала примерно так, — предположил Паяла: — «…Людей не хватает, работы много. Да и из имеющихся в наличии часть в отпусках. И поскольку случай выглядит ясным…»
— Совершенно точно, — откликнулся ленсман. Бросив взгляд в сторону Куннаса, он продолжил: — «…да и вообще этот случай в криминальном отношении не показателен. И так как в нашей стране каждый день кто-то кончает жизнь самоубийством, расследование данного происшествия вы можете произвести самостоятельно…»
Куннас отвел взгляд в сторону. Он покраснел еще больше.
— Мы закончили расследование этого дела, — произнес Пармалахти. — Упомянутые мною обстоятельства, исключающие преступление, являются следующими. Пункт первый. Никто не согласится быть повешенным добровольно. Если бы жертва оказывала сопротивление, то остались бы явные следы. Однако таковых не обнаружено ни на месте происшествия, ни на теле девушки. — Сопроводив свое первое заключение кивком, он продолжил изложение: — Можно предположить, что девушка сначала была задушена. И только потом вздернута на дерево. В этом случае на шее остались бы подтеки. Однако в наличии лишь следы трения о канат.
Ленсман взглянул на своих подчиненных. Оба одобрительно кивнули.
— Пункт второй. Можно сказать с полной уверенностью, что канат принадлежит дому, в котором жила Элиза. Он снят со стены сарая. Это канат для буксировки автомобилей, он отсечен с обеих сторон… отрезан с помощью пуукко[26] так, что металлические буксировочные крюки удалены. Исходя из этого…
На этом речь ленсмана оборвалась.
Во двор въехал автомобиль.
Он резко затормозил. В следующее мгновение дверца отворилась. Из автомобиля появилась знакомая Пармалахти фигура, которую он тотчас опознал. А еще раньше он признал автомобиль. Это был тот самый «форд»-развалюха, который младший констебль Илола, не жалея сил и свободного времени, привел в рабочее состояние.
— Илола идет!
Ленсман затих. Лица Паяла и Куннаса также застыли. Но это продолжалось лишь секунду, а затем по комнате полетели торопливые слова:
— Парень прервал свой отпуск!
— Кто-то ему сообщил об этом…
— Так в газете же было небольшое объявление.
— Да, но в нем не было упомянуто даже имя девушки!
— Бедняга Илола, нелегко ему сейчас…
Уже скрипнула дверь. Однако Пармалахти успел произнести еще несколько слов. Бросив в сторону Куннаса осуждающий взгляд, он прошипел низким голосом:
— Черт побери! Об их связи могли бы мне рассказать и раньше. А теперь вот и не знаешь, как отнестись ко всему этому. Когда…
Дверь распахнулась.
Пармалахти замолчал. Он взглянул на появившегося в двери Илола. Лицо молодого человека было бледным и так осунулось, что под кожей резко обозначались мышцы. Когда он замер на мгновение у двери и оглядел всех присутствовавших, комнату заполнила гнетущая тишина.
Илола первым нарушил ее:
— Я знаю все. Вам не следует волноваться и проявлять излишнюю чуткость и деликатность. Не бойтесь… я не стану буйствовать.
Пармалахти облегченно вздохнул. И все же он испытывал глубокое сочувствие к парню. Что бы дальше ни случилось, теперь уже ничего не изменишь.
Илола выглядел уставшим, а голос зазвучал приглушенно, когда он продолжил:
— Я хочу принять участие в расследовании. Это для меня больше, чем… просто служебная обязанность.
Пармалахти несколько раз кашлянул. Приглашая жестом Илола сесть, он спросил:
— Как тебе удалось узнать… узнать и так быстро приехать?
Илола тяжело сел. Затем опустил голову на руки и некоторое время пребывал в таком положении. Когда он выпрямился, то было видно, что он полностью овладел собой.
— Селма Поррас позвонила, — сообщил он. — Она сочувственно относилась к нашему общению с Элизой. Можно даже сказать… покровительственно. В то время как Хелина не очень одобрительно смотрела на наши встречи. — Тяжело вздохнув, Илола дополнил: — Я рассказывал Селме о своих домашних делах. Она знала, что мои родители живут в Лемпяля и что я провожу свой отпуск у них…
— Так, так, — поторапливал ленсман. — Все ясно. И ты отправился в путь?..
— Немедленно. Селма позвонила рано утром. Прежде всего я заглянул в Лаутапоррас. — Подавленным голосом молодой человек продолжал: — Поспешил на место происшествия, к этой распроклятой сосне!
Скорбный вздох вырвался незаметно из груди Илола. Скрипнули зубы. Голова выпрямилась, и, хотя глаза по-прежнему были грустными, подбородок, по мере того как он продолжал свой рассказ, упрямо двигался вперед:
— Это дерево. И этот камень под ним. С него можно легко дотянуться до нижней ветки. Но на месте происшествия ничего существенного добыть не удалось. Однако затем, когда…
Илола взглянул на часы:
— Когда я позже побеседовал с Хелиной и Селмой около двух часов… и после того, как опросил эту старую служанку, как же ее имя?..
Ленсман помог:
— Хелена Мякеля.
— Так вот, когда я выслушал еще и ее рассказ, то все это вызвало у меня удивление… из всего того, что удалось узнать, я сделал некоторые выводы и… и…
Илола ударил кулаками по своим коленям. Следующие слова он как бы выдавил из себя:
— Я уверен, что не все в порядке в этом деле. Есть в нем какая-то червоточинка!
Ленсман долго смотрел на Илола. Затем незаметно взглянул на Паяла и Куннаса. Старший констебль пожал плечами, а младший затряс отрицательно головой.
— Успокойся! — промолвил Пармалахти. Он сказал это нарочито начальственным тоном. Мысли Илола по вполне понятным причинам пришли, очевидно, в хаотическое состояние. Пытаясь охладить чересчур разгоряченную голову своего подчиненного, Пармалахти заговорил сдержанно и по-деловому: — Именно это обстоятельство мы в данный момент и обсуждаем. Очень хорошо, что ты приехал и сможешь высказать свое мнение.
Мнение Илола не замедлило последовать. Оно вырвалось наружу, как крик души, но смысл его был однозначным:
— Это не могло быть самоубийством!
Пармалахти сказал успокаивающе:
— Посмотрим, посмотрим…
— Этого не может быть! — Илола начал жестикулировать руками. Когда он принялся обосновывать свою точку зрения, глаза его были полны отчаяния: — Я знал Элизу! Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Это было весной, когда я расследовал дело Тойвиайнена. В течение лета мы сблизились настолько, что буквально угадывали мысли друг друга. Элиза по натуре была светлым и радостным существом. Она питала большие надежды на будущее… на наше будущее. На то, чего не…
Обстановка становилась невыносимой.
Мужчины избегали смотреть друг на друга. Ленсман Пармалахти, пытаясь овладеть ситуацией, направил разговор на обсуждение лишь голых фактов.
— Ты, наверное, знаешь, что канат был снят с гвоздя на стене сарая этого дома?
Илола тотчас возразил:
— Его мог стянуть кто угодно. Я удостоверился. Сарай не закрывается.
— Однако…
— Во двор можно легко попасть, особенно ночью. Калитка в воротах всегда открыта.
Пармалахти вздохнул:
— Ты, конечно, прав. Но лишь в этом пункте. А как объяснить то обстоятельство, что возможный убийца не оставил после себя никаких следов. И прежде всего на месте происшествия…
Илола перебил:
— Я слышал, что в тот вечер была гроза. Ливень смыл все следы.
— Послушай. Девушка сама забралась на тот камень. На каблуках туфель остались следы мха…
— Мха полно в лесу!
— Хорошо. Не будем говорить больше о месте происшествия. Поговорим о другом. Криминально-медицинской экспертизой установлено, что на теле Элизы Поррас не обнаружено никаких следов насилия, кроме следа от канатной петли на шее.
Лицо Илола дрогнуло.
Пармалахти добавил:
— Она также не стала объектом насилия. По этому вопросу тоже есть официальное заключение. Далее… у нее ничего не пропало…
Илола уже потерял свою прежнюю уверенность, но все же запальчиво возразил:
— Кто же ходит в лес с деньгами?
— Во всяком случае, у нее было бриллиантовое кольцо. Довольно дорогое.
Илола был вынужден согласиться:
— Знаю. Это подарок ее теток в день конфирмации. Она всегда носила его на пальце.
— Кольцо тоже в сохранности.
Поскольку Илола не смог сразу ничего ответить, ленсман начал освещать наиболее важную сторону события:
— Теперь о побудительной причине к совершению возможного преступления. Элиза, как известно, была порядочной и милой девушкой. Трудно поверить, чтобы кто-нибудь желал ей зла. И все же… посмотрим на это дело хладнокровно, как на математическую задачу. Не указывая при этом ни на кого пальцем. Так вот… Нельзя не принять во внимание и то обстоятельство, что Лаутапоррас — большое и богатое хозяйство. Особую ценность представляют его леса. А Элиза владела третьей частью этого богатства.
Илола моргнул. Заметив его удивление, ленсман сдержанно продолжал:
— Наследниками этой части собственности Элизы Поррас являются ее тетки, Селма и Хелина Поррас. И если предположить… как это ни кажется невероятным… если исследовать и этот возможный мотив, то перед нами возникает каменная стена!
Только теперь Илола понял. Нехотя, чтобы лишь что-нибудь сказать, он невнятно произнес:
— Тетки в это время отсутствовали. Они были на Родосе.
— Вот именно, — подтвердил Пармалахти. — И это обстоятельство достоверно подтверждено. Гид той групповой туристической поездки, а также ее участники подтверждают, что в момент происшествия Хелина и Селма были еще на Родосе.
Пожимая плечами, ленсман поставил последнюю точку:
— При таких обстоятельствах брать под подозрение лиц, которые в момент происшествия находились за тысячи километров от него, абсурдно.
Глава 11
Когда Селма Поррас через несколько дней позвонила и предложила встретиться, констебль Илола весьма удивился и стал размышлять, к чему бы это. Оттенок таинственности в голосе Селмы еще больше пробудил его интерес.
Когда после обмена обычными вежливыми фразами Илола согласился на встречу, голос Селмы в телефонной трубке перешел почти на шепот:
— Мое непременное условие, чтобы никто не знал о нашей встрече.
Брови Илола полезли вверх от удивления, но он быстро отреагировал:
— Хорошо, можно и так.
— Хелина в городе по банковским делам, но я не хочу, чтобы о нашей встрече знала эта самая, Хелена Мякеля…
— Понял. Организуем встречу иначе, не у вас. Что вы предлагаете?
— Подойдет ли вам, если я отправлюсь пешком отсюда в направлении деревни Ала-Коттари. Прямо сейчас. А вы выедете на машине навстречу мне. Встретимся на шоссе. Возьмете меня в машину… а там посмотрим.
Илола не стал раздумывать. Решение было принято незамедлительно.
— Ясно. Немедленно выезжаю.
Августовский день был необыкновенно красив, но у Илола не было времени наслаждаться его прелестями. В напряженном раздумье он вел машину в сторону Ала-Коттари. Ее редкие домишки быстро промелькнули мимо. На краю деревни Илола заметил знакомую мужскую фигуру, копошившуюся во дворе.
Это был сапожник Тимо Тойвиайнен.
Он свалил большую сосну. Ствол был уже очищен от сучьев и распилен на чурбачки. Тойвиайнен орудовал топором, когда заметил автомобиль.
Он распрямил спину и помахал рукой в знак приветствия.
Илола ответил на него. Почти сразу же вслед за этим ему пришлось резко затормозить. Селма Поррас ждала в укромном месте, в придорожном кустарнике. Завидев автомобиль, она вышла на дорогу.
— Не успела пройти дальше.
— Хорошо и так.
Илола посадил женщину в машину. Едва он успел проехать пару сотен метров, как Селма указала на небольшую проезжую дорогу:
— Поверните туда. Рядом с ней есть подходящее место. Там можно спокойно поговорить.
Илола сделал, как было приказано. Сам-то он намеревался провести беседу в автомобиле. Но, может быть, Селма почувствовала бы себя стесненной в кабине крошечной, как консервная банка, машины. И так как встреча была организована на ее условиях, у него не было оснований выставлять свои.
Очевидно, Селма намеревалась рассказать нечто исключительно важное.
Доказательством тому — помимо особых предосторожностей — глубокая озабоченность на лице.
— Остановитесь здесь.
Они вышли из автомобиля у небольшой поляны. Посреди лужайки стоял огромный камень, а возле него пара валунов поменьше.
— Здесь детьми мы играли в церковь…
Илола удивился, но ничего не сказал. Что-то уж больно издалека начала. Но, видно, скоро и до сути доберется.
Указав на большой камень, Селма продолжала:
— Хелина была священником. Она читала проповеди на том камне. А я и сестра Эллен играли роль прихожанок. Мы сидели на этих маленьких камнях.
Илола проворчал:
— Вот как. Может, присядем и мы?
Они сели друг против друга на «приходские» камни. Селма не торопясь огляделась вокруг. Со странным, грустным выражением на лице она тихо сказала:
— Чудесный день.
— Да… верно.
— Человек должен быть счастлив и благодарен тому, что живет.
— Да. Конечно.
— Живет таким прелестным осенним днем.
Илола был слегка сбит с толку. Ему оставалось только соглашаться. Неужто лишь о погоде они приехали сюда говорить? Он взглянул на небо. Несколько перистых облаков по-королевски величаво плыли в синем небе. Лучи солнца окрашивали их в белоснежный цвет.
Голос Селмы был легким и нежным. В нем хранилась теплота воспоминаний. Илола почувствовал, как испарина проступает на его лбу. День и в самом деле был жарким. Необычайно знойный день, тем более что на дворе был уже конец августа. И все же причиной, вызвавшей испарину на лбу, было внутреннее напряжение.
Когда же к делу?
— Тот мужчина, — сказала Селма, — тот мужчина действительно жил у нас.
Илола вздрогнул. Об этом таинственном мужчине речь шла еще весной, когда приключилась та история с Тойвиайненом. На весенних допросах все три женщины категорически отрицали возможность проживания у них некоего мужчины.
Об этом самом мужчине речь велась и всего несколько дней назад. К этому времени в доме осталось лишь две женщины. Илола еще и теперь живо помнил, как, получив от Селмы тревожное известие по телефону, заглянул в дом и, осмотрев все места и выслушав все обстоятельства, имевшие отношение к смерти Элизы, в порыве горя и гнева поставил прямо вопрос: «Если тот человек, который, как утверждают, проживал в этом доме… Если такой существует, то скажите же об этом наконец прямо. Как знать, может, и это обстоятельство имеет отношение к делу?»
Однако сестры и тогда единодушно отрицали существование мужчины.
Значит, теперь Селма решила заговорить?
Рассказать правду!
Именно поэтому она и организовала встречу так, чтобы освободиться от влияния старшей сестры. Избавиться от постоянного свидетеля в доме — старой служанки.
Вскоре Илола, без дополнительного понуждения, получил ответ на роившиеся в его голове вопросы.
Подавленным голосом, но все же вполне ясно Селма повторила:
— Да, этот человек существует. — Глядя на сидевшего напротив нее молодого человека, Селма раздельно и внятно продолжала: — Смерть Элизы сломила меня. Я потеряла сон, бессонными ночами меня стала одолевать тоска. Я тысячу раз задавала себе вопрос, имеет ли факт проживания у нас этого мужчины какое-нибудь отношение к случившемуся с Элизой. Это представляется мне и сейчас невозможным…
Илола уже оправился от первого потрясения и смог сказать:
— Все в мире взаимозависимо! Все взаимосвязано! А в этом деле… возможно, особенно!
Селма вздохнула.
Она поправила волосы. Затем приспустила подол своей юбки. Следующим движением, вызвавшим раздражение Илола, была попытка поправить лифчик на своем пышном бюсте. Затем ее рот приоткрылся, и язык прошелся по губам, увлажняя их. Они не были накрашены, однако все же оставались ярко-красными. Создавалось впечатление, что она постоянно покусывала их, незаметно для окружающих.
Вздох повторился, на этот раз он длился долго, будто после сытного обеда.
Наконец она собралась с силами:
— Я расскажу всю правду! Не могу больше нести это бремя на своей совести. Я слишком близка… хочу, чтобы посторонний, нейтральный человек поразмыслил надо всем этим…
— Сделаю все, что от меня зависит.
— Повторяю еще раз, что, возможно, поступаю слишком глупо… Расходую напрасно ваше время… Сообщаю вам обстоятельства, не имеющие значения.
Илола наклонился вперед. Он протянул руку и коснулся колена Селмы. Скрывая внутреннее напряжение и нетерпение, он спокойно посоветовал:
— Расскажите-ка все.
— Можете ли вы… называть меня на «ты»? Это… как-то сблизит и придаст нашим отношениям более доверительный характер.
— Расскажи все!
Последовавшая затем беседа на солнечной поляне навсегда врезалась в память констебля Юрки Илола. Селма начала:
— Зимой, в начале этого года, сразу же после Крещения, моя сестра Хелина уехала за границу, в Грецию. Путешествие продолжалось всего неделю. После этой поездки Хелина очень изменилась. Она как будто помолодела и смягчилась характером, воодушевление и радость жизни так и наполняли ее. Вскоре выяснилась и причина. Она рассказала мне и Элизе, что во время поездки повстречалась с человеком… уже не очень молодым, но мужчиной ее мечты.
— В самом деле?
— Именно так! Хелина рассказала, что пригласила его в Финляндию. Погостить, побывать в нашем доме. И этот человек обещал приехать. Но поставил одно необычное условие.
— Какое?
— Он не хотел ближе знакомиться с этой страной. Не намеревался никуда ни ездить, ни встречаться с финнами. Довольно странно, не так ли? Но влюбившаяся по уши Хелина не видела в этом ничего странного. Она была на седьмом небе. Как-то между прочим она упомянула, что это условие определяется особым складом характера этого человека. Он был художником. Исключительная личность. Легко раним, нелюдим, отшельник в своем роде.
Илола, слушавший с неослабным вниманием этот рассказ, нахмурил лоб. Заметив это, Селма пояснила:
— Мы с Элизой тоже поначалу были весьма озадачены. Однако затем, когда этот человек приехал, не прошло и недели, как наши предубеждения развеялись. Даже мы… приходится в этом признаться, привязались к нему. Да так… что это скоро дало о себе знать.
Лицо Селмы при этом дрогнуло. Она сложила руки на груди. Пальцы переплелись, подавляя внутреннее напряжение, от которого густая краска прилила к ее щекам. Заметив это, Илола спокойно проговорил:
— Говори всю правду! Меня ничто не удивит.
— Это очень трудно. Так стыдно… особенно теперь, задним числом.
— Смелее!
— Боже мой! Я и сама в этой истории представляюсь в сомнительном свете. Он падает даже на Элизу…
Последняя фраза пронзила душу Илола. Он был достаточно сообразителен и угадал, что за этим последует. Неужели еще и Элиза?..
Заметив смятение Илола, Селма поспешила успокоить его:
— Погоди… дай досказать. Твои самые дурные предположения не оправдаются. Однако, прежде чем я начну рассказывать о наших взаимоотношениях и стесненной ситуации, которая порождалась ими, позволь мне рассказать, о каком госте идет речь.
— Конечно! Это же самое важное.
Селме стало явно легче, поскольку рассмотрение сути дела несколько отложилось. Илола тоже ощутил что-то в этом же роде. Селма начала:
— Имя этого человека Конрад Глас.
— Следовательно, немец? Я подумал, что Хелина повстречалась с греком.
Руки Селмы сделали непроизвольное движение, как бы опровергая это:
— Нет-нет, он сказал, что по национальности немец. И сообщил, что зовут его Конрад Глас.
— Сообщил?
— Да, именно. Я никогда не видела своими собственными глазами его паспорта. И никаких других официальных документов, удостоверяющих его личность. И кроме того… хотя он и говорил на безукоризненном немецком языке, мне иногда казалось, что он понимает и… по-фински.
Илола удивился.
С минуту Селма собиралась с мыслями. Затем она принялась объяснять:
— У меня нет прямых доказательств в подтверждение своих догадок. Но иногда я испытывала удивительное, почти физическое ощущение… когда мы, женщины, говорили между собой по-фински, Конрад понимал нас.
— Следовательно, он скрывал это?
— До самого конца! Если вообще мое чисто инстинктивное предположение соответствует действительности.
— Как он выглядел? Сколько ему лет… и как он вел себя?
— Он никогда не говорил, сколько ему лет.
— Но все же примерно, судя по внешности?
— Что-то около пятидесяти. Может, и постарше. Но выглядел он очень моложаво. Зубов полон рот, густые волосы. Стройная и сильная мускулистая фигура…
Рука Селмы вдруг взлетела ко рту. Очевидно, она заметила, что описание было слишком детальным, пристрастным и воодушевленным.
С минуту она молчала.
Все ее существо говорило о внутренней борьбе. Но затем она приняла внезапное и наверняка весьма драматичное для себя решение:
— Раз уж я обещала быть откровенной, — сказала она глухо, — то сдержу свое слово!
— Я слушаю.
— Мы выполнили пожелание Конрада и сохранили его пребывание в тайне. И все же в деревне возникли слухи. Неожиданные гости… а Конраду нужно было гулять, дышать свежим воздухом…
Чтобы ускорить рассказ, Илола промолвил:
— Эта сторона известна. А вот внутренняя жизнь… взаимоотношения внутри дома.
Селма закусила губу.
Слова с трудом сходили с языка, но все же сходили:
— И я совершила падение, отдалась ему.
Илола поспешил отвести взгляд в сторону. Он услышал длинный, подавленный вздох Селмы, а затем и следующие слова:
— Этот мужчина… был неотразим. Когда он покорил меня, нам удавалось скрывать наши отношения от Хелины. Но, когда затем он стал поглядывать и на Элизу, положение стало совершенно… невыносимым.
С тяжелым сердцем Илола ждал продолжения.
— У них обоих, — говорила Селма, — было два общих увлечения. Оба страстно любили природу. Кроме того, Конрад учил Элизу живописи. Но не тревожься… я уверена, что, прежде чем между ними успели установиться близкие отношения… произошло это столкновение с Тойвиайненом.
Теперь, когда был преодолен самый трудный барьер, Илола осмелился взглянуть вновь в лицо Селмы.
— Да, верно! — воскликнул он. — Об этом случае я почти забыл. Я знал, что произошло, лишь со слов одной стороны. Но как пережили этот случай в вашем доме? Что случилось затем?
— В тот день в нашем доме поднялся невообразимый переполох. Как ты, очевидно, помнишь, была ранняя весна. Утром Конрад отправился в лес гулять. На нем был тот самый зеленый костюм. Он называл его маскировочным. И кинжал был при нем. По его заверениям, для самозащиты. Если бы, к примеру, медведь встретился на пути… он был способен говорить и такие глупости…
Илола сухо заметил:
— А на самом деле произошло еще глупее!
— Ты прав. Примерно в полдень Конрад прибежал из лесу домой. Он был страшно перепуган… глаза чуть не вылезали из орбит… сказал, что убил человека!
— Убил?
— Так заявил Конрад. Он рассказал, что встретил в лесу какого-то незнакомого человека, который погубил красивые, здоровые березы, выкачав из них сок. В ярости он назвал этого злодея бандитом, грабителем… и, кажется, убийцей… имея в виду деревья…
Илола вспомнил описание события Тойвиайненом.
Оно было почти идентичным.
— Затем, — продолжала Селма, — по словам Конрада, он бросился на мужчину. Ударил его кинжалом. Удар пришелся в сердце, и человек упал навзничь, на землю. Придя в себя и поняв, что натворил, Конрад вынул кинжал из раны и бросился бежать.
Илола кивнул головой.
Точно так же, слово в слово, описывал события и сапожник при опросе в больнице.
Селма продолжала:
— Примчавшись домой, Конрад начал истошно кричать и требовать, чтобы его немедленно вывезли из дома… вон из этих мест… из этой страны. Он опасался, что вот-вот нагрянет полиция…
Илола подтвердил:
— Так, собственно, и произошло на самом деле. Это я прибыл тогда к вам, правда, только вечером.
— Я помню это. Но еще несколько слов о немедленной транспортировке Конрада. Хелина была, конечно, очень озабочена. Но для меня этот случай был дарован небесным провидением! Возникшие между мной и Конрадом, за спиной Хелины, отношения были для меня, честно говоря, сплошным кошмаром. Только тогда я прозрела, когда поняла, что он начал ухаживать и за Элизой…
— Понимаю, — сказал с горечью Илола. — А что думала Элиза?
— Я уверена, что и для нее это было большим облегчением. Поверь мне!
— Я верю. Ну, а что потом? Эту персону запрятали как можно дальше?
— Да. И следы замели.
— Как он уехал… каким путем?
— Элиза увезла его на автомобиле, в город, на вокзал. На время пути Конрад был запрятан в автомобиле, в пространстве между передним и задним сиденьями. Лежал там скрючившись. Потом сел в поезд. А затем…
Селма сделала красноречивое движение руками, которое должно было означать, что Конрад исчез в неизвестном направлении. Тогда Илола задал уточняющий вопрос:
— И с тех пор этот человек не появлялся?
— Да нет, появлялся.
— Что?!
Илола показалось, что он ослышался. Однако Селма совершенно спокойно пояснила:
— Даже позже я встречалась с ним однажды. Однако… если рассматривать этот факт на фоне печальной судьбы Элизы… на нее Конрад не мог оказать никакого влияния.
Илола спросил запальчиво:
— Это почему же?
— Потому, — ответила уверенно Селма, — что мы встретили его с Хелиной только сейчас, на Родосе. Он даже провожал нас на аэродром. А один и тот же человек не в состоянии присутствовать сразу в двух местах.
Илола промолчал. Селма добавила:
— Во всяком случае, когда речь идет о двух географических точках, находящихся в противоположных частях Европы.
Глава 12
В полицейском участке у Юрки Илола и Кари Куннаса был общий кабинет. Когда Илола возвратился около полудня, Куннас язвительно заметил:
— Ничего себе свиданьице!
— А что?
— Три часа из-за одного телефонного звонка.
— Да… именно так.
— А чего это ты такой неразговорчивый? Кто был этот утренний клиент?
— Просто один человек.
Куннас досаждал Илола своим любопытством. Так как оба молодых человека были совершенно разными по своему характеру, то и отношения между ними сложились не наилучшим образом, и, помимо всего этого, Илола считал Куннаса посторонним в деле с Домом трех женщин, поэтому на все его вопросы он отвечал нехотя и в весьма туманных выражениях.
Куннас фыркнул и углубился в свои бумаги.
— Где Пармалахти? — спросил Илола.
— Отправился в город. Там какие-то соревнования по стрельбе среди полицейских офицеров-ветеранов. Наш-то не попадет теперь не только в мишень, но и в стену сарая!
— Не скажи…
Илола без всякого интереса отсиживал вечерние присутственные часы, занимаясь малоинтересными, рутинными делами. После ухода Куннаса он остался — ждал ленсмана. Так как Пармалахти не появился в участке и в шесть часов, он позвонил ему домой.
Поначалу Пармалахти выразил недовольство. Он сказал, что у него гость. Но когда Илола объяснил, в чем дело, возражения ленсмана как рукой сняло:
— Вали сюда… да поскорее!
Ленсман жил в старом деревянном доме, располагавшемся посреди густого сада. Он был местным жителем уже во втором поколении. Его отец всю жизнь проработал здесь волостным ветеринаром. Комнаты в доме были просторными и светлыми. Илола провели в библиотеку. С одного из кресел поднялся для приветствия высокий и стройный мужчина. У него было узкое лицо, серые глаза и черные волосы. На госте был твидовый пиджак в крапинку, а на шее — освежающий лицо красный галстук.
Пармалахти представил:
— Инспектор по криминальным делам Сусикоски из Центрального полицейского управления. Случалось, наверное, слышать?
Илола был так поражен, что на минуту забыл о своем деле. Весьма уважительно он поторопился сказать:
— Конечно, слышал! Добрый день, господин инспектор.
— Называй меня просто Олави, — сказал небрежно гость. — Ведь мы как-никак коллеги.
Илола покраснел от удовольствия. Сусикоски был авторитетной фигурой в полицейских кругах. Посреди мягких кресел находился круглый столик, на котором стоял кофейный прибор. Третья чашка уже стояла наготове. Пармалахти разлил кофе и одновременно произнес скороговоркой:
— Довольно редкая случайность — повстречал в городе своего старого знакомого Сусикоски, пожалуй, можно даже сказать, друга…
— Можно, — подтвердил Сусикоски.
— Когда мы встретились, я пригласил его в гости, попариться в сауне. Была у меня и корыстная цель. Странные стечения обстоятельств там, в Доме трех женщин, не дают мне покоя… — Он взглянул на Илола и продолжал: — …пожалуй, даже больше, чем я выражаю это внешне. Поэтому я решил: дай-ка я расскажу эту историю Олави. Вот мы и сидим здесь за кофе и табаком и обсуждаем это дело уже около часа.
На столе стояла знакомая коробочка для ленсмановеких сигар и пачка сигарет «Колт». Ленсман курил сигару, а Сусикоски — сигарету. Илола не получил приглашения закурить: ленсману было хорошо известно, что восходящая звезда в метании копья не курит. Однако доброе отношение старших товарищей по работе значило для Илола гораздо больше, чем предложение закурить.
Пармалахти тем временем продолжал суетливо излагать:
— Я подробно доложил все обстоятельства дела, которые мы имеем на сегодняшний день. Так что мой друг Сусикоски знаком с ним, не так ли?
Сусикоски ограничился кивком головы. Пармалахти дополнил:
— Он знает с моих слов все обстоятельства, лиц, проходящих по делу, всю картину событий. И в довершение всего ты как раз звонишь и сообщаешь, что самый существенный вопрос получил свое объяснение.
Воодушевленный Илола приступил к рассказу.
— Да. Эта странная история…
Пармалахти приподнял свою увесистую лапу:
— Не так стремительно! Ты сейчас успокоишься и доложишь нам, не торопясь, самым подробным образом, что рассказала тебе Селма Поррас.
Илола принял совет к сведению.
Он весьма подробно и точно изложил все, что слышал на утренней солнечной поляне. Когда ленсман задал ему несколько уточняющих вопросов, Илола четко на них ответил.
Инспектор по криминальным делам Олави Сусикоски ни слова не произнес во время доклада, продолжавшегося около часа. Вместе с тем его лицо все это время было весьма сосредоточенно.
Когда Илола в конце концов закончил свое повествование, Пармалахти задумчиво затянулся сигарой и повернулся в сторону Сусикоски.
— Теперь твоя очередь зажечь трубку и попыхтеть!
Дымящаяся между пальцами сигарета вспыхнула, как бы давая ответ: «Я не курю трубки. Но намек понял». Для верности Пармалахти уточнил:
— Дело теперь предельно спрессовано. Как говорится, орешек в скорлупе. Так что было бы интересно послушать…
Телефонный звонок прервал ленсмана.
Судя по всему, он был не из приятных. Пармалахти нахмурил брови и стал нехотя отвечать. Телефон стоял в проходной комнате, и, поскольку дверь туда осталась открытой, Илола и Сусикоски слышали, как менялся голос ленсмана по мере продолжения разговора.
Сначала он был обыкновенным, даже слегка раздраженным. Затем напрягся. Послышались отрывистые, вопросительные фразы.
К концу голос ленсмана выражал уже крайнюю тревогу. Закончив разговор, он вернулся быстрым шагом к остальным. Его лицо покраснело, глаза безостановочно моргали.
Он выпалил:
— Если наихудшие предположения осуществятся… то дьявол вновь за работой!
Бросив свое грузное тело в кресло, ленсман продолжал, переводя дух:
— Звонила Хелена Мякеля. Теперь вещунья несчастий сообщила, что на этот раз пропала Селма.
По спине Илола прошел холодный пот.
Лицо Сусикоски заострилось. Но голос прозвучал твердо, когда он посоветовал:
— Говори, пожалуйста, яснее! Куда она могла пропасть? Только что Илола доложил, что у него недавно была продолжительная встреча с ней.
Пармалахти развел руками.
— Не знаю! — вздохнул он. — Могу сказать лишь одно, что Хелена пыталась объяснить свои сомнения вперемешку со слезами. На дворе уже вечер, а она одна дома…
Сусикоски перебил:
— Где вторая женщина, Хелина?
— По-прежнему в городе. Илола же сказал, что, по словам Селмы, она отправилась туда еще утром.
— Следовательно, в Хямеенлинна? — уточнил Сусикоски. — Или в Тампере? Отсюда до того и другого города примерно одинаковое расстояние.
— Имеется в виду Хямеенлинна.
— Значит, так. Хелина по-прежнему там, а Хелена одна дома. Так где же все-таки Селма?
Жест рук ленсмана, выражавший как бы сожаление по поводу хода событий, повторился. Слова убыстрились, оставаясь, однако, разборчивыми:
— Как следует из рассказа Илола, он оставил Селму Поррас прямо у ворот дома. Хелена Мякеля сейчас сообщила об этом по телефону, подтвердив, что Селма появилась дома в полдень. Она была чем-то обеспокоена, ходила из угла в угол и в конце концов сказала, что пойдет погулять и успокоиться… в лес.
Брови Сусикоски поползли вверх.
Илола произнес изменившимся голосом:
— В лес?
— Да, — подтвердил Пармалахти. — Точнее, по ягоды. Собирать малину. Ее, говорят, полно на склонах Хаттухарью.
Сусикоски спросил резко:
— И она до сих пор не вернулась?
Сусикоски взглянул на часы и вслед за этим в окно.
Было 19.41.
— Следовательно, Селма собирает ягоды уже целых семь часов? — подытожил Сусикоски.
— Именно так, — буркнул ленсман. — А обещала вернуться через час или, в крайнем случае, через два. Уходя, она дважды повторила это. Так, чтобы оставшаяся дома Хелена не беспокоилась за нее. Особенно потому… — Следующие слова ленсман произнес с трудом: — Особенно потому, что в последнее время в их краях приключалось… всякое.
В комнате на некоторое время установилась гнетущая тишина.
— Нехорошо, — сказал Сусикоски. И тотчас продолжил: — И лучше не станет, если мы будем тут прохлаждаться.
Пармалахти внезапно оживился:
— Никто и не собирается торчать здесь. Надо отправляться туда, на место. И следует торопиться, ибо освещения хватит на час-два, не больше.
Через десять минут они были уже в пути. Дежурить в участке оставили констебля Куннаса, а старшего констебля Паяла прихватили с собой в машину по дороге. Инспектор по криминальным делам Сусикоски тоже отправился вместе с ними. Во время своих постоянных разъездов он брал с собой дорожное снаряжение. Когда он быстро переоделся и Илола взглянул на него, то внезапно что-то вспомнил.
Генерал-полковник Диитл.
Австриец по происхождению, довольно молодой, командующий немецкой альпийской дивизией. После опроса Тойвиайнена Илола, чтобы убедиться в правдивости его рассказа, взглянул на фотографию этого человека в энциклопедическом словаре. Так как на голове Сусикоски была сейчас зеленоватая форменная фуражка, а ястребиные черты его лица ясно обозначались на фоне заходящего солнца, именно Диитл и пришел на ум Илола.
Недоставало только «Эдельвейса».
Кроме того — именно сейчас, когда автомобиль мчался вперед, — на лице комиссара отсутствовала так шедшая ему очаровательная мальчишеская улыбка. Ее Илола успел заметить за кофепитием у ленсмана.
Сейчас Сусикоски был другим.
Когда дорога поднялась в гору и внизу, в долине, показался Дом трех женщин, Сусикоски произнес только одно слово:
— Этот?
Ленсман молча кивнул.
Хелена Мякеля уже ждала их во дворе. Она показала направление, в котором ушла Селма, и сквозь слезы повторила несколько раз:
— Может, и мне поехать с вами? Может, и я чем помогу?
Ленсман похлопал старушку по плечу:
— Поберегите свои ноги. Мы уж как-нибудь вчетвером обойдемся. И, если поиски не увенчаются успехом, поднимем на ноги всю округу.
Полицейские потянулись друг за другом к тропинке, ведущей в ягодные места. Ленсман с хмурым видом возглавлял шествие. Почему-то ему припомнился один случай, который произошел недалеко отсюда в соседнем районе. Там тоже несколько полицейских шли цепочкой один за другим, а засевший в избе бандит расстрелял их всех по одному.
Ленсман, сердито мотнув головой, отогнал это малоприятное воспоминание.
Едва ли здесь, на вершине холма, их мог поджидать снайпер.
Но в общем-то события могли принять весьма неожиданный оборот.
У подъема тропинки в гору ленсман Пармалахти посмотрел в сторону западной половины неба. Большой красный солнечный шар спускался к горизонту и вот-вот был готов коснуться его. Конечно, даже после захода солнца его отсвета еще хватит, хотя августовские ночи в это время были уже темными.
— Не отставать!
Передав приказ через плечо, Пармалахти и сам убыстрил шаг. Он начал чувствовать одышку. Лишние килограммы, как и годы, давали о себе знать. Однако он продолжал упорно продвигаться вперед. Когда тропинка пропала в чаще бурелома, он скомандовал:
— Рассредоточиться! За ориентир движения взять вон то место, где высоковольтная линия проходит через вершину горной гряды.
Когда они прибыли на место, солнечный диск уже наполовину ушел за горизонт. Вечерние сумерки опустились на землю. Деревьев на вершине было мало, и, так как они не давали густой тени, все вокруг просматривалось еще довольно четко.
Они поднимались на вершину с разрывами в цепи примерно метров в десять. Пармалахти был крайним и вышел прямо к основанию стальной опоры высоковольтки. Он внимательно осмотрелся.
Он знал эти места с детства. Прямо и направо тянулся опасный провал. Если вершину горной гряды принять за крышу муравейника, часть которого некая гигантская рука откинула куда-то прочь, то в этом месте образовывалась почти отвесная круча высотой в несколько десятков метров.
Пармалахти помнил, как еще в детстве родители предупреждали их, детей, об этих опасных местах.
Так что и Селма Поррас должна была об этом знать.
И все же…
Как загипнотизированный, Пармалахти сделал несколько шагов к провалу. Он подошел близко к краю настолько, насколько хватило смелости.
В кустах малины и скрывалось то узкое отверстие. Скала, покрытая вереском и мхом, обнажалась. Дрожь прошла по спине Пармалахти, когда на секунду он представил себе, что здесь могло случиться. Если бы кто-то падал отсюда вниз, то в последнее мгновение он вцепился бы в кусты. Они оторвались бы вместе с корнями, и падающий увлек бы их за собой в глубину.
— Эй! Быстро сюда!
Край обрыва образовывал дугу. Бывший в цепи крайним правым констебль Илола что-то разглядел на дне обрыва.
Тревожный крик Илола привел всех в движение. Полицейские бросились по краю пропасти к констеблю.
Внизу, в карьере, виднелись очертания фигуры в белом, распростертой на земле. Овал лица, повернутого вверх, отливал темнотой, а волосы — светом.
Илола повернулся к подоспевшему Пармалахти:
— Это Селма! — Пронзительным голосом, полным тоски и гнева, молодой констебль спросил у своего начальника: — Опять самоубийство? Или предположим, что это… несчастный случай?
Глава 13
Осенние октябрьские дни были серыми и туманными. Это отражалось на настроении: казалось, что небо давит сверху. Выглядывая на улицу, младший констебль Илола подумал, что трескучий мороз, снежная буря, дикий ветер — все что угодно — были бы гораздо более приятными, чем такая погода.
Эта мысль промелькнула, как тень.
Его одолевали куда более серьезные размышления.
Илола еще раз вынул из ящика стола кипу документов. Здесь были собраны все материалы официального расследования по происшествиям, имевшим место в Доме трех женщин. Это были фотокопии. Подлинные документы находились в распоряжении более высоких полицейских инстанций. Очевидно, в губернском управлении.
После гибели Селмы Поррас было возбуждено официальное ходатайство об оказании окружному полицейскому отделению профессиональной помощи. Что касается инспектора по криминальным делам Сусикоски, то он уже на следующий день вынужден был выехать в Хельсинки, а оттуда прямым ходом на какую-то конференцию, за границу.
Сотрудники губернского управления посуетились пару дней на месте.
Безрезультатно.
Конечно, было обследовано вдоль и поперек место происшествия. Или место самоубийства. Кто как толковал. Грустная складка появлялась в уголках рта Илола всякий раз, когда он вспоминал окончившиеся безрезультатно расследования, проведенные его старшими, более опытными коллегами.
Была доставлена даже служебная собака. Она обнюхала место происшествия, беспокойно покружила рядом. На этом все и закончилось. Конечно, животное здесь ни при чем. Лес был полон следов и запахов.
Здесь росли ягоды, грибы, некоторые жители окрестных деревень собирали шишки хвойных деревьев. А некоторые просто бродили по лесу удовольствия ради.
Столь же незначительные результаты дали и опросы населения. Полиция обошла все дома в Ала-Коттари. Однако оказалось, что никто ничего не видел и не слышал.
Выводы:
Селма Поррас могла соскользнуть в пропасть, неосмотрительно собирая ягоды у самого края обрыва. В последний момент она попыталась ухватиться за кусты, так как стебли малины были обнаружены в ее судорожно зажатых кулаках.
С той же вероятностью могло произойти и другое. В то время, когда Селма была занята сбором ягод, кто-то незаметно подкрался к ней сзади и толкнул в спину…
Можно было также предположить, что Селма под влиянием пережитого семейного горя решила броситься со скалы вниз сломя голову. В последний момент чувство самосохранения заставило ее уцепиться за кусты.
Констебль Илола вздохнул.
Он пытался решить эту загадку, продолжая машинально разглядывать бумаги. Было еще одно примечательное обстоятельство, которое пока не успело найти своего места в этих бумагах.
Это произошло вчера.
Хелина Поррас продала дом. Всю усадьбу Лаутапоррас. Теперь она целиком принадлежала ей. Доли сестры и племянницы перешли к ней по наследству.
Ленсман Эйно Пармалахти присутствовал в качестве официального нотариуса при заключении этой сделки. Она совершилась в гостиной дома, и по возвращении оттуда ленсман сказал громко в присутствии всех своих трех подчиненных:
— Что же тут удивительного? Все выглядит законно. При расследовании обстоятельств гибели Элизы и Селмы Поррас не обнаружено никаких фактов, дающих основание предполагать преступление.
Ленсман говорил это, шагая мимо кабинетов своих подчиненных. При этом он хранил загадочное выражение на лице. Входя в свой кабинет, он тихо насвистывал.
Сразу после этого он отправил констебля Куннаса с каким-то поручением, после чего пригласил к себе в кабинет старшего и младшего констеблей, которые услышали довольно редкий монолог:
— Что ж тут удивительного? Все законно, — вновь повторил ленсман. Интригующе улыбаясь, он некоторое время постукивал пальцами по столу. Затем сообщил: — Цена, предложенная за имение, была огромна. И, что самое интересное, Хелина Поррас захотела получить все наличными. Пачки денег в синей упаковке Финляндского банка лежали горой. — Пока Паяла и Илола, тяжело переводя дыхание, переваривали эту новость, Пармалахти добавил: — Если в наше время вдруг объявляется настолько консервативная личность, что не доверяет даже банкам и пренебрегает их услугами, то это по меньшей мере вызывает недоумение. Однако ничего недозволенного в этом нет. — Оттопырив по своему обыкновению нижнюю губу, Пармалахти добавил: — Хелина Поррас только что получила свеженький заграничный паспорт сроком на пять лет.
Лицо ленсмана помрачнело. Упорно борясь с какими-то внутренними переживаниями, которые стремились вырваться наружу, он закончил короткое совещание следующими словами:
— Это для вашего сведения. Так-то, ребятки. Идите-ка и занимайтесь, как обычно, расследованиями случаев вождения машин в нетрезвом состоянии и кражи велосипедов!
Вспоминая это вчерашнее весьма внушительное сообщение, Илола проклинал все на свете.
Он был один в комнате.
Его соседа по столу, констебля Куннаса, призвал к исполнению служебных обязанностей телефонный звонок. Какой-то пьяный на автобусной остановке посреди села начал дебоширить, да так сильно, что понадобилось вмешательство полиции.
Хорошо иногда побыть и одному.
Илола вновь начал перебирать бумаги. В голове копошились всякие мысли; задача была не из легких. Помимо официальных документов возле него лежал листок с его собственными пометками.
Они в основном содержали некоторые соображения и выводы, сделанные инспектором по криминальным делам Олави Сусикоски.
Вернувшись из заграничной поездки, он заглянул к ленсману Пармалахти где-то в конце октября. Тогда, пару недель назад, Илола тоже получил приглашение на встречу с ним в дом ленсмана.
Это был вечер с сауной…
Внешне — обыкновенная встреча в неофициальной обстановке. Но, прохлаждаясь после бани за кружкой пива, можно было поговорить о том о сем. Если в ходе такого дружеского общения случалось коснуться служебных дел — то и такое разрешалось.
Все высказывания Сусикоски по известному делу прочно врезались в память Илола. На следующий день, на свежую голову, он и сделал эти заметки.
Сейчас они лежали перед ним.
Любопытный мужик этот самый Сусикоски…
Его суждения объективны и хладнокровны. Но сейчас некоторые соображения, высказанные им тогда, вырисовывались рельефнее. В частности, перст Сусикоски особо указывал на следующие обстоятельства:
1. Алиби Хелины Поррас.
Как могло случиться, что и в том и в другом случае они были железными?
И действительно — они были неоспоримы!
Во время гибели своей племянницы Элизы Хелина находилась на Родосе. Правда, уже по дороге домой, однако все еще на том далеком острове. Это подтверждалось авиабилетами. Это же подтвердили и многие свидетели.
Перед отправлением самолета она заходила в ресторан и ужинала там. Кроме нее за столиком сидели еще два человека, засвидетельствовавшие это. Вместе с ней была ее сестра и мужчина, который пришел их проводить.
О мужчине пока известно только, что его зовут Конрад Глас. Была также информация о том, что он негласно провел в имении Лаутапоррас период с января по май. И после этого — уверившись в том, что убил сапожника Тойвиайнена ударом кинжала, — немедленно скрылся.
Таково первое алиби Хелины Поррас.
Во время гибели Селмы она находилась на палубе судна на подводных крыльях, мчавшегося по озерным просторам Ванаявеси! На глазах у десятков свидетелей. Утро того же дня она провела в городском банке. После этого принимала участие в заседании какого-то просветительско-политического общества. Это заседание как раз проходило на борту упомянутого судна и включало в программу ознакомление с местными достопримечательностями. В том числе и с музеем скульптора Эмиля Викстрема[27], в Висавуори.
Известие о смерти сестры Хелина Поррас получила только по возвращении домой, где-то около полуночи.
Алиби вновь было железным — как и в первом случае.
Ни о какой инсценировке не могло быть и речи.
Несомненно, обращая внимание на это обстоятельство, Сусикоски имел в виду нечто иное. Очевидно то, что это прочное, как алмаз, алиби — дважды подряд — не могло быть случайностью.
Следовательно, все было организовано заранее?
Хелина — на авансцене, под лучами прожекторов, подручный — на задворках, вершит темные дела!
Да, предстояло разгрызть твердый орешек. Переходя в своих заметках к следующему пункту, Илола уже заранее тяжело вздохнул.
2. Если «подручный» выглядел в заметках как весьма условная фигура, то старая служанка Хелена Мякеля в обоих случаях оказывалась в самом центре. Она была одна-единственная в доме во время исчезновения Элизы, так же как и в случае с Селмой. Она же подняла и тревогу.
Однако подозревать ее было просто абсурдом. Тем более что престарелая Хелена как орудие осуществления преступных замыслов была совершенно немыслима.
Хелену в свое время препроводили в дом для престарелых. Оттуда ее забрали обратно, и она была счастлива, обрела душевное тепло и пристанище. С чего бы ей кусать благословенную руку? Тем более что самыми близкими для нее в доме были как раз Элиза и Селма. За Элизой она ухаживала с детских лет.
Таковы невеселые размышления на эту тему.
Практическая же сторона совершения преступления ею была и того нереальней. Возможно ли предположить, что испытывающая затруднения в передвижении, страдающая сердечными приступами престарелая женщина способна забраться на камень и вздернуть Элизу на сосновую ветку? Столь же абсурдно было предполагать, что она в состоянии подняться на вершину Хаттухарью и сбросить оттуда Селму в пропасть.
Ерунда!
Крест на этом! Вычеркиваем ее имя из списка.
Следующая версия — Конрад Глас.
Однако сразу же при отработке версии о возможном его личном участии в преступлении возникает непреодолимая пропасть. Через нее не перепрыгнешь, ее не обойдешь.
В случае с Элизой этот человек был явно невиновен. В тот вечер он был на Родосе в обществе Селмы и Хелины.
В случае с Селмой подозреваемый господин смог бы успеть прибыть в Финляндию. Однако где бы он скрывался, когда вся округа была поднята на ноги и каждый мало-мальски незнакомый человек, несомненно, был бы задержан.
Крест на этом! Вычеркиваем его имя из списка.
Но ведь существовало и третье имя… третье подозреваемое лицо… Констебль Илола застыл в раздумье.
Его взгляд остановился на имени сапожника Тимо Тойвиайнена. Он сразу же вспомнил и отрывок из беседы, имевшей место в сауне у ленсмана.
Инспектор по криминальным делам Олави Сусикоски тогда сказал:
— Я не знаю этого человека и даже ни разу не видел его, но между тем имя его все время мелькает в этой истории. Он маячит везде, подобно горностаю, который мечется среди груды камней. Он, как молния, то прячется за тучу, то возникает в просвете. Сапожник Тимо Тойвиайнен…
Однако развить свои рассуждения Сусикоски не смог, так как в этот момент ленсман Пармалахти звонко рассмеялся. Отсмеявшись и попридержав от сотрясений свое объемистое брюхо, он принял серьезную позу и заговорил значительным тоном:
— Друг мой, тебя извиняет лишь то, что ты — как я уже упомянул — не знаешь этого человека. Иначе мне пришлось бы искать короткое замыкание в твоих мозгах. Кроме того, ты также не знаешь местных обычаев и людских характеров. И прежде всего Тойвиайнена, который известен здесь как завзятый болтун, ни одному слову которого верить нельзя. Поэтому сколько-нибудь разумный преступник не возьмет Тойвиайнена подручным в столь серьезных преступлениях. Даже во сне. — Затем последовало привычное постукивание пальцами по столу и дополнение: — И, наконец, Хелина Поррас! У этого дома свои традиции, и чтобы гордая Хелина, с ее твердым характером… Я хорошо знаю местный люд — ведь я родился и вырос здесь. Пьяница сапожник и старшая дочь дома Лаутапоррас вместе плетут преступную паутину?.. Ха-ха.
На минуту Илола оторвался от своих размышлений, так как из вестибюля донесся шум и гам. Окно его комнаты выходило в палисадник. Однако оттуда не было видно, припарковалась у участка полицейская машина или нет. Но судя по всему — да, так как из вестибюля доносилось пьяное бормотанье, а в ответ следовали резкие и отрывистые замечания констебля Куннаса.
Послышались шаги и грохот захлопнувшейся двери.
Шум прекратился.
Несомненно, младший констебль Куннас действовал и на этот раз решительно. Его боялись, но не уважали. Из него так и била через край сила. И высокомерность. Прежде чем взять за грудки пьяного, он непременно демонстративно натягивал на руки перчатки. Ибо недоставало еще джентльмену касаться голыми руками какого-то прощелыги.
Илола постарался не думать об этом и вновь обратился к своим записям.
«Место совершения повешения».
Именно так он записал в своих заметках. Хотя, очевидно, следовало бы написать: «Место совершения самоубийства».
Память об Элизе с горечью и болью напоминала о себе. Но сейчас следовало хладнокровно анализировать только факты. Именно так поступал Сусикоски. Каково же, собственно, было его мнение? Инспектор по криминальным делам так прокомментировал ситуацию:
— Отсутствие отпечатков пальцев на шее жертвы… я имею в виду оставленных после возможного удушения, а также подкожных кровоизлияний… их отсутствие можно объяснить следующим образом: убийца еще на земле накинул петлю на шею своей жертвы и совершил удушение. Затем произвел инсценировку самоубийства, то есть вздернул жертву на дерево.
Илола стало не по себе. Возникшая перед ним картина была ужасной. Но вслед за этим они перешли к обсуждению менее горьких чисто технических проблем. Сусикоски по-прежнему размышлял как бы со стороны:
— Что касается мха, следы которого остались на туфлях, то убийца мог снять их с ног жертвы и потереть о скалу на месте повешения так, чтобы следы остались как на граните, так и на каблуках.
Илола быстро перевернул страницу.
Теперь в его записках появилось слово «канат».
Хмуря лоб, Илола вспомнил, что у инспектора Сусикоски, казавшегося ему иногда, пожалуй, даже слишком умным, было свое объяснение и на этот счет.
— Канат висел на стене сарая. По всей видимости, убийца приходил за ним заранее, если, конечно, придерживаться основ криминальных теорий. Но что он сделал затем?.. Постараемся поставить себя на его место. Для того чтобы отсечь металлические крюки от каната, он едва ли бы стал рубить канат в сарае Дома трех женщин. Нет, ни в коем случае. Лицо, готовящее убийство, непременно возьмет буксировочный канат с собой, проберется незаметно в свой сарай и положит канат на чурбан. Парой ударов топора он отсечет буксировочные крюки с обоих концов каната.
Так оно и было. Это подтверждается состоянием поверхности концов каната. Они, это совершенно очевидно, не подравнивались затем ножом, канат был использован по прямому назначению сразу.
— Ну а что дальше?
— Отсеченные от каната крюки могли оказаться тяжелой уликой. Если их найдут и выставят во время судебного процесса на столе перед судьей, то никакие отговорки не помогут. Приговор вступит в силу неотвратимо. Следовательно, крюки было необходимо немедленно уничтожить. Однако изделия из стали трудно уничтожить: в огне они не горят, в воде они, конечно, потонут… в озере или в колодце. Однако опыт и статистика говорят, что в аналогичных случаях преступник, почти как правило, закапывает вещественные доказательства в землю…
Размышления констебля Илола были прерваны.
В кабинет вошел Кари Куннас. Лицо у него было красным, а выражение на нем — злым. Он начал с того, что сердито буркнул:
— Этот дьявол сапожник, вдребезину пьяный, принялся нести какую-то околесицу, говорить загадками.
Сердце Илола дрогнуло.
— Это ты Тойвиайнена притащил в каталажку?
Куннас кивнул головой и, обогнув стол, сел за него. Рукой он поглаживал бороду.
— Мужик с утра подался в город. Там немедля налакался. Как же иначе! И когда это чертово отродье возвращалось в полдень домой в рейсовом автобусе, нетрудно себе представить, чем сопровождался вояж!
Странное чувство возникло в душе Илола, когда он вспомнил, что сию минуту думал о Тойвиайнене. Однако он продолжал молчать и дал Куннасу высказаться до конца.
— Да и сейчас этот мужик, видно, уже из последних сил вновь принялся куражиться. Я попробовал его утихомирить и сказал, что, очевидно, обычные якоря его уже больше не держат. Подумай только, что этот шутник мне промычал в ответ!..
— Ну?
— Утверждал, что у него есть и стальные якоря. Такая, видите ли, волшебная вещица, в которой так и переливается денежный звон!
Какое-то колесико повернулось вдруг в голове Илола. Оно как бы скользнуло на положенное ему место. Крюки буксировочного каната были железными. И по своей форме они могли напоминать якоря.
Сердце Илола затрепетало, когда он услышал продолжение повествования Куннаса:
— Будучи уже почти в бессознательном, полусонном состоянии, сапожник сказал, что скоро станет сказочно богатым и тогда такие вот, как я, замешенные и выросшие на навозе и пробравшиеся в высокие полицейские чины, не станут больше изгиляться над ним.
Илола быстро спросил:
— Послушай, а ты не смог бы его снова разговорить?
Куннас отрицательно качнул головой.
— Да он сразу же принялся храпеть, лишь только рухнул на пол каталажки.
Илола встал.
— Послушай!
— Что?
— Позаботься о том, чтобы этот мужик побыл в камере еще некоторое время. По крайней мере несколько часов.
— Он там просидит эти несколько часов без всяких усилий с моей стороны.
— При любых обстоятельствах не выпускай его, пока я не вернусь.
Не сказав больше ни слова, Илола поспешно вышел. Его охватил необычный, не передаваемый словами азарт. Садясь в автомобиль, он еще не привел свои мысли в какой-то стройный, логический порядок.
Одно лишь было бесспорно.
Еще несколько минут назад он решил, что Тойвиайнен никак не подходит на роль убийцы. Прочь его фамилию из списка подозреваемых.
И, невзирая на это, он едет сейчас прямым путем к избе Тойвиайнена!
Глава 14
Так что же сказал тогда инспектор по криминальным делам Сусикоски, припомнил еще раз про себя Илола?
«Лицо, готовящее убийство, непременно возьмет буксировочный канат с собой, проберется незаметно в свой сарай и положит канат на чурбан. Парой ударов топора он отсечет буксировочные крюки с обоих концов каната».
Младший констебль Юрки Илола, затаив дыхание, стоял в сарае сапожника Тойвиайнена.
В сарай он попал без всяких затруднений.
Деревенские сараи в этих краях никогда не закрывают на замок. На дверях этого сарая был лишь засов. Илола оставил дверь сарая полуоткрытой. Из нее лился свет. Свет проникал и через редкие щели стенной обшивки.
К счастью, изба сапожника стояла в некотором отдалении от других жилых строений. Шоссе, правда, проходило совсем рядом. Но если бы кто-то из посторонних и обратил внимание на полуоткрытую дверь сарая, то предположил бы, что там возится сам сапожник.
Илола, прищурив глаза, огляделся вокруг. Сердце учащенно билось, а во рту пересохло.
Неужели он напал на верный след?
Неужели Тойвиайнен, находясь в состоянии опьянения, действительно выболтал правду?
Если так, то его многозначительную фразу можно было понять следующим образом. Отсеченные от каната крюки продолжали находиться у него. Они были его козырной картой. Правда, они могли изобличить его как преступника. Но одновременно они могли сослужить и другую службу. Они являлись гарантом того, что лицо, поручившее ему совершить преступление, его работодатель, должен был выполнить свою часть договора.
То есть выплатить деньги.
Кто был этим работодателем, не стоило труда угадать. Логика подсказывала, что им была Хелина Поррас. Только она одна извлекала пользу из смерти своих родственников. Однако подонок и пьяница сапожник и высокопоставленная, воспитанная на высоких моральных принципах владелица имения — в тесном преступном сотрудничестве?..
Никак не сочеталось.
Это еще предстояло решить.
В слабых сумерках сарая, источающего запах дерева и смолы, Илола еще раз вспомнил слова инспектора Сусикоски: «Опыт… говорит, что… преступник почти всегда… зарывает вещественные доказательства в землю».
Илола вздохнул.
Тойвиайнен мог забраться в какую-нибудь непролазную лесную чащобу, каких в северной Финляндии предостаточно, и затолкать крюки в какую-нибудь расщелину в скале.
И все же…
Илола почувствовал, как мурашки прошли по его телу. Он был во власти каких-то необычных ощущений. Словно в лихорадке. Что-то глубоко запрятанное в его душе подсказывало, что он приближается к решению этой загадки.
Но он не был провидцем.
И его собственного магнитного поля было явно недостаточно для обнаружения стальных буксировочных крюков.
Все это Илола прекрасно понимал. И все же его глаза остро всматривались в каждую вещь в сарае.
Козлы для распиловки дров. Колода для рубки дров. На стенах висели различные инструменты, в углу на полке — ящички с гвоздями. Пол был покрыт опилками, кусками древесной коры и щепы.
А где же сами дрова?
Сарай сравнительно просторный, и у левой стены его сложена поленница метровых дров разных пород. Направо лежала груда сосновых чурок. Они были сложены по всем правилам искусства: крест-накрест, друг на друга, так, чтобы могли сушиться.
Сосна?
Во время повала и распиловки сосны Илола как раз и увидел Тойвиайнена, когда проезжал мимо. Тойвиайнен еще помахал ему в знак приветствия рукой. И вслед за этим Селма выпрыгнула на обочину дороги из кустарника прямо перед автомобилем. Это произошло так близко от подворья Тойвиайнена, что он вполне мог зафиксировать встречу.
В тот же самый вечер Селма соскользнула в пропасть. Она упала с высоты около двадцати метров и разбилась о лежавшие на дне камни.
В тот же самый вечер.
Всего через несколько часов после того, как Тойвиайнен явился свидетелем встречи женщины с полицейским…
Илола уставился на дрова в штабелях.
Если существует озарение сверху, то, может, это было именно оно?
Перед ним мерцали сосновые дрова. В следующее мгновение Илола забыл все, что отвлекало, и полностью сосредоточился на одном сугубо практическом обстоятельстве.
Под нарубленными, сильно пахнущими смолой сосновыми дровами находились дрова других древесных пород. Там была и небольшая аккуратная поленница из березовых чурок. Они выглядывали из-под сосновых и, судя по размерам, были нарублены для сауны.
Илола нагнулся, чтобы посмотреть.
И хотя набросанные сверху сосновые дрова были совершенно свежими и влажными, березовая поленница под ними была уже просушена и готова для использования. Какой дурак станет бросать влажные дрова на сухие? Раздумывая над этим, Илола передвинул свежие в сторону. Теперь сухие чурки обнажились со всех сторон.
Это была аккуратная и ровная поленница. Даже торцы дров подогнаны друг к другу с миллиметровой точностью.
Илола принял решение.
Он засучил рукава и стал отбрасывать сосновые дрова в сторону. Он так же быстро разобрал и березовую поленницу. Она была сложена у самой стены, в крайнем углу сарая.
У стены стояла лопата.
Илола поплевал на ладони и стал рыть в том месте, где ранее была поленница. Он работал без остановок, как профессиональный канавокопатель. Сначала земля была твердой, но затем стала мягче.
Послышался скрежет.
Острие лопаты наткнулось на что-то твердое. Но не на камень. Такой звук рождается лишь при соприкосновении металла с металлом.
Глава 15
На дворе шел дождь и бушевал ветер.
В комнате у камина было покойно и по-домашнему уютно. Отсветы пламени играли на золотых тиснениях корешков книг, стоявших на полках, которые занимали три стены от пола до потолка. В четвертой находилось окно, в которое барабанил дождь.
Ленсман Эйно Пармалахти и констебль Юрки Илола сидели на диване. Напротив в мягких креслах расположились инспектор по криминальным делам Олави Сусикоски и губернский полицейский комиссар Уолеви Лехти.
На столе стояли коньячные рюмки.
Сусикоски отпил из своей рюмки и сказал:
— Хелина Поррас не принимала никакого участия в убийстве сестры и племянницы.
Слова Сусикоски прежде всего были обращены к инспектору полиции. Уолеви Лехти был знаком с этим делом лишь поверхностно. Илола и Пармалахти, напротив, знали его во всех деталях.
Встреча носила частный характер и поэтому не обязывала к официальным заключениям и выводам. Однако, с другой стороны, Лехти предстояло в недалеком будущем выступать государственным обвинителем по делу.
По сведениям из неофициальных источников, предварительная оценка проведенного расследования по делу Поррас была достаточно высокой.
Дело, по правде говоря, оказалось настолько необычным, что вызвало интерес в самых высоких кругах. А поскольку Пармалахти и Лехти были добрыми знакомыми и поддерживали это знакомство вне рамок официальных отношений, то ленсман и организовал эти вечерние посиделки.
Сусикоски, доводивший расследование до конца силами Центра и Интерпола, стал приоткрывать «крышку гроба»:
— Для того чтобы понять ход событий в полном объеме, необходимо начать издалека. А фон начинает вырисовываться еще с той поры, когда молодой Тойвиайнен принимал участие в последней войне[28].
Инспектор полиции Лехти наклонился слегка вперед. Опиравшийся на руку и выдвинутый в сторону собеседника подбородок, легкое подрагивание ноздрей и острый взгляд — все это говорило о предельной сосредоточенности Лехти. Хотя ему уже были известны общие рамки картины и основные штрихи рисунка, каждое слово инспектора по криминальным делам могло дополнительно осветить некоторые важные детали картины в целом.
Глядя на Уолеви Лехти, не скажешь, что он имеет отношение к полицейскому департаменту. Это был человек хрупкого телосложения, небольшого роста, с темными волосами и темными глазами, в которых временами вспыхивали огоньки, нервные руки с длинными пальцами напоминали скорее руки пианиста. Если бы он в свое время попытался поступить на полицейскую службу, как говорится, прямо «с крыльца да в дом», то вряд ли попал бы туда — его, очевидно, отчислили бы в самом начале отбора кандидатов. Однако его дорога к должности комиссара полиции пролегла через университет.
— Взаимное доверие прессуется крепче всего на войне, — отметил Сусикоски. — Там-то и родились прочные доверительные отношения между соучастниками преступления. Тимо Тойвиайнен нашел там настоящего товарища. Молодого парня того же возраста. По имени Пааво Силтанен. Вместе им пришлось побывать не раз в трудных переплетах. В грохоте боев, испытанное огнем, родилось между этими двумя парнями кровное братство.
Ленсман Пармалахти добавил:
— Да, у обоих сильный послужной список. Не стыдно и показать.
— Не стыдно, — согласился Сусикоски. — Но сейчас речь пойдет о более позднем периоде жизни этих двух человек.
— Я упомянул об их заслугах, чтобы и правда не забывалась.
— Не забудется. Однако законы войны и мира существенно разнятся между собой.
«Именно так, — подумал Пармалахти. — Если в бою ты убьешь десяток человек — получишь медаль и благодарность в приказе. Если же на гражданке дашь кому-нибудь по морде, то будешь осужден, а имя твое попадет в криминальный регистр».
Однако сейчас было интересно послушать продолжение рассказа Сусикоски.
— Эти два молодых парня были схожи и по характеру. И тот и другой выросли в бедности. И поэтому там, у дымного полевого костра, они мечтали вместе о том, что, когда кончится эта проклятая заваруха и страна поднимется из этой грязи, поднимутся и они, станут процветать.
Пармалахти не удержался, чтобы не сделать еще одного замечания:
— И разбогатеют!
— Да, наверняка, — согласился Сусикоски. — Планы были крылатыми. Однако, как известно, Тойвиайнену не довелось их осуществить. Но, очевидно, в избе сапожника искра мечты все же постоянно тлела под холодными углями.
Сусикоски кашлянул. Не слишком ли он сбился на поэтический лад?
— И уговор не забылся, — продолжил инспектор полиции. — Хотя судьба Силтанена сложилась не совсем обычно. Когда Финляндия заключила перемирие с Советским Союзом, ребят этой возрастной группы перебросили в Лапландию. Они должны были изгнать немцев из страны. Однако Пааво Силтанен перешел на сторону немцев. — Сусикоски поднял палец и уточнил: — Нужно заметить, что этот поступок Силтанена не нарушил взаимного доверия, установившегося между приятелями. Силтанен не был трусом. Он не покинул поле боя в положении, которое поставило бы под угрозу жизнь товарищей. Он в принципе не пожелал воевать против немцев, внезапно превратившихся из братьев по оружию во врагов. Перед побегом Силтанен рассказал Тойвиайнену о причинах, побудивших его к этому. Договорились, что если когда-нибудь после войны судьба вновь сведет их, то они пожмут друг другу руки.
Пармалахти вновь не удержался, чтобы не вклиниться:
— И это не осталось просто словами…
— Действительно, случилось и рукопожатие, — согласился Сусикоски. — Но для этого нам следует вернуться к весне тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года. О Силтанене не было ничего слышно в течение сорока лет, и Тойвиайнен забыл о нем. Чтобы поразвлечься и, кроме того, подзаработать, Тойвиайнен отправился добывать березовый сок из деревьев, принадлежавших Дому трех женщин.
— И тут случилось непредвиденное, — буркнул Пармалахти.
— Именно так. На Тойвиайнена, пребывавшего в безмятежном настроении, набросился человек, говоривший по-немецки. В тот самый момент, когда нападавший занес кинжал для удара и Тойвиайнен уже был готов расстаться с жизнью, он узнал его…
— Пааво Силтанена?
— Именно. Тойвиайнен успел произнести имя друга детства. Тогда и Силтанен узнал своего товарища. Кинжал опустился.
Пармалахти пожелал уточнить. Он повернулся в сторону комиссара полиции Лехти:
— Тойвиайнен не получил в тот момент удара кинжалом. Хотя позже и утверждал это.
Лехти кивнул головой.
— Понимаю.
Сусикоски продолжал:
— Теперь и пришел тот самый момент рукопожатия, о котором они договаривались в молодости, надеясь на встречу вновь. Да, рукопожатие состоялось! Когда волнение улеглось, они присели на кочку и стали обмениваться новостями.
— У Тойвиайнена, — заметил Пармалахти, — не было особо ярких воспоминаний о прожитом.
— И не удивительно. А вот на долю Пааво Силтанена выпало за границей приключений хоть отбавляй. Германия по окончании войны находилась в состоянии полного хаоса. Силтанен выхлопотал себе новые документы, удостоверявшие его личность, выучил язык и принялся поначалу заниматься всякими «взрывоопасными» делами. Однако затем, разобравшись в обстановке, освоил роль покорителя дамских сердец и стал жить на содержании у женщин. Нужно сказать, что он был дьявольски красивым мужиком…
Тут впервые в разговор вступил констебль Илола:
— Похож на генерала Диитла.
— Действительно, очень похож. А с другой стороны, всегда находятся податливые женщины. За эти десятилетия Силтанен успел окрутить многих. Однако добыча всегда оказывалась мелкой. И только с приближением старости в его сети попала действительно золотая рыбка.
— Хелина Поррас, — предположительно сказал инспектор полиции Лехти.
— Именно она. Они познакомились на Родосе. Хелина пригласила своего героя в Финляндию. Огромная усадьба привела в движение изобретательный ум Силтанена. Он знал, как слепо Хелина влюблена в него…
Пармалахти добавил:
— Этот донжуан соблазнил и младшую сестру, Селму. Пытался подобрать ключи и к Элизе.
Сусикоски согласился:
— Так, развлечения ради. Или для времяпрепровождения. Однако этого ему не следовало делать, ибо обстановка в Доме трех женщин стала взрывоопасной. И поскольку основной целью Силтанена, не принимая во внимание этих мелких любовных увлечений, была именно Хелина…
— Ты имеешь в виду финансовую сторону дела, — уточнил Пармалахти. — Большое поместье, конечно, лакомый кусок. Его следовало обратить в деньги. Но препятствием на этом пути стояли Элиза и Селма.
Сусикоски согласно кивнул головой. Он взял рюмку с коньяком и посмотрел сквозь нее на свет. Посмаковав глоточек, он продолжил:
— Как раз к тому моменту, когда обстановка в доме достигла критической точки, Пааво Силтанен… которого в Доме трех женщин знали под именем Конрада Гласа… и наткнулся на своего боевого товарища. Он рассказал ему о ситуации. Только теперь перед приятелями замаячили большие деньги, о которых они мечтали в молодости и которые можно было взять — протяни только руку.
Ленсман тихонько просвистел куплет из старой солдатской песни «Жизнь в окопах».
— Да, да, — согласился Сусикоски. — Там была мечта. А здесь — действительность. Мечты могли осуществиться, если действовать бесцеремонно и последовательно.
Комиссар полиции Уолеви Лехти заметил, что излишком совести эти приятели не страдали.
— Я уже отметил в самом начале, что в водовороте военных событий между ними установились отношения полного доверия. Пааво Силтанен беззастенчиво и прямо заявил, что если им удастся устранить Элизу и Селму так, чтобы в обоих случаях было самоубийство или несчастный случай, то Хелина унаследует весь дом и продаст его.
— Что и произошло, — перебил Пармалахти.
— Точно. Но не будем опережать ход событий. Задержимся еще немного на планах, которые разрабатывались Силтаненом и Тойвиайненом в весенней березовой роще. Когда дело будет доведено до конца, Хелина выедет за границу и…
Нижняя губа Пармалахти выдалась вперед. С презрительными нотками в голосе он повторил хорошо известную концовку многих сказок: и станут они жить-поживать да добра наживать…
Сусикоски посерьезнел. Расставляя правильно и четко ударения, он продолжил:
— Такова была цель. Но прежде предстояло осуществить немало важных дел. Перво-наперво Силтанену следовало исчезнуть, прежде всего для восстановления душевного равновесия Хелины. Хелина ни в коем случае не должна знать, что за всем этим стоит Силтанен.
— И Тойвиайнен! — добавил Пармалахти.
Сусикоски взглянул на Пармалахти, давая понять, что ленсману не стоило бы вмешиваться в его речь на каждом шагу, и затем продолжил:
— Силтанену необходимо было немедленно исчезнуть также и потому, что финская полиция могла отреагировать на упорно циркулирующие слухи о некоем мужчине, который скрывается в Доме трех женщин. Поэтому дело организовали так…
Несмотря на недавний жест Сусикоски, Пармалахти нашел необходимым еще раз вмешаться в разговор:
— Они договорились о том, что только теперь Тойвиайнен получит этот удар кинжалом. В то место, куда Тойвиайнен был ранен еще во время войны и, следовательно, знал, что это относительно безопасно. После этого Силтанен бросился в Дом трех женщин и рассказал историю о том, как он убил человека и должен поэтому немедленно выехать из страны.
— Продолжай, — велел Сусикоски.
— Тойвиайнен в свою очередь перевязал рану своей рубахой и поспешил в больницу за помощью. А затем принялся рассказывать историю о неизвестном, одетом в зеленое, говорящем по-немецки и напавшем на него с кинжалом в руке.
— Точно. Будь добр, продолжай, — сказал Сусикоски.
Пармалахти взглянул вопросительно на Сусикоски. Но поскольку он уже вошел во вкус, ему не хотелось прерывать своего повествования:
— Прежде чем сыграть эту интермедию с кинжалом, они, конечно, договорились, что Тойвиайнен выполнит все условия договора и будет затем по-царски вознагражден. Сперва он начал слежку за Элизой и, выбрав подходящий момент, набросил сзади канат ей на шею, а затем и повесил на дереве.
В камине что-то треснуло.
Звук был не особенно громким, однако все вздрогнули. Ленсман поднялся и направился к камину унять огонь. Обернувшись через плечо, он сказал, обращаясь к Сусикоски:
— Теперь твоя очередь продолжать.
— Давай-давай, у тебя неплохо получается.
— И все же продолжай ты…
— Ну хорошо. Собственно, теперь уже нечего и продолжать. Выведя из игры Элизу, Тойвиайнен случайно стал свидетелем встречи Илола с Селмой. Тойвиайнен заторопился. В тот же вечер он прокрался вслед за Селмой на вершину Хаттухарью и сбросил ее в пропасть.
Комиссар полиции Лехти слегка вздрогнул, по его телу прошла легкая дрожь. Не поддаваясь, однако, наплыву чувств, он спросил:
— Следовательно, все это основывается на признаниях Тойвиайнена?
Стоявший около камина Пармалахти опустил кочергу и громко сказал:
— Да, так. Он очнулся в полицейской камере в тяжелом похмелье. И именно в тот момент ему предъявили доставленные Илола крюки, отсеченные от каната.
— И он сломался?
— Тут же! Этот человек известен как большой болтун…
Комиссар полиции Лехти поднял брови и спросил:
— Неужели Силтанен не знал об этом? Ведь он доверил ему ответственное и абсолютно секретное дело.
— Едва ли… С момента встречи друзей прошло около сорока лет. И надо сказать, Тойвиайнен оказался способным сохранить эту тайну до того момента, когда был поставлен перед неопровержимой, жестокой правдой.
Пармалахти с издевкой добавил:
— Этот человек хорошо известен тем, что, становясь объектом судебного разбирательства, он всякий раз прикидывается глупым и неразумным. Очевидно, и на этот раз он намерен свалить все на Силтанена.
Уолеви Лехти помрачнел и сухо произнес:
— Это мы увидим… поглядим… — Вслед за этим комиссар спросил: — А Пааво Силтанен… или Конрад Глас… или бог его знает кто еще… он задержан в Греции?
Сусикоски ответил:
— Да. Немецкие власти весьма пунктуальны и даже педантичны при выдаче преступников — своих граждан. Много всяких формальностей. Но в конце концов мы заполучим его.
— Как его задержали?
— В процессе слежки за Хелиной Поррас. — Так как лоб Лехти при этом слегка нахмурился, Сусикоски пояснил: — Два обстоятельства тщательно скрывались от Хелины. Прежде всего то, что Селма беседовала с Илола перед своей смертью. И особенно то, что Тойвиайнен задержан и признался. Хелина Поррас отправилась в Грецию к своему любимому, можно сказать, с легкой душой…
— И тогда капкан захлопнулся?
— Именно тогда. Я отправил туда пару своих парней. Греческие власти со своей стороны оказали всяческое содействие.
Комиссар полиции Лехти был в глубине души чувствительной натурой. Он слегка прикоснулся ладонью к своим темным волосам, а затем долго разглядывал свои длинные пальцы пианиста. Взглянув исподлобья на Сусикоски, он спросил:
— Как Хелина Поррас отнеслась ко всему этому? Что она сейчас думает об этом деле?
— Сначала она подняла невероятный шум, — ответил Сусикоски. — Бесновалась, как тигрица, и уверяла, что ее золотко невинен, как ангел. Но когда перед ней раскрылась вся страшная правда — трудно сказать, о чем она сейчас думает.
Примечания
1
Перевод на русский язык М., Молодая гвардия, 1985.
(обратно)2
Г. Вайнер, Л. Словин. На темной стороне Луны. М., Молодая гвардия, 1990.
(обратно)3
Имя — уже знамение (лат.).
(обратно)4
«Кайно» в переводе с финского — застенчивая, стеснительная; «Пелконен» — боязливая, трусливая. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)5
Правильно: «Sapienti sat» — «Мудрому достаточно» (лат.).
(обратно)6
Самое существенное, главное (франц.).
(обратно)7
Моя вина, моя великая вина (лат.).
(обратно)8
Пусть консулы будут бдительны! (лат.)
(обратно)9
В. Шекспир. Гамлет. Акт I, сц. 5. Перевод Б. Пастернака.
(обратно)10
Имеется в виду война между СССР и Финляндией в 1939—1940 гг.
(обратно)11
Лотты — члены женской военизированной организации «Лотта Свярд», созданной в Финляндии в 1919 г.; активно участвовали в «Зимней войне».
(обратно)12
В переводе со шведского «свартсван» — черный лебедь, а «свартфан» — черный черт.
(обратно)13
В Финляндии два государственных языка: финский и шведский.
(обратно)14
— Но почему? Возьмите, пожалуйста, мой паспорт и… (англ.)
— Заткни свою пасть и выверни карманы! (искаж. англ.)
— Но почему? Почему! (англ.)
— Заткни пасть, хватит болтать! (искаж. англ.)
(обратно)15
— О’кей. В чем проблема? (англ.)
(обратно)16
Дипломатический корпус (франц.).
(обратно)17
Принятое в Финляндии обращение к незамужней женщине.
(обратно)18
Один из городских районов Хельсинки.
(обратно)19
Принятое в Финляндии обращение к замужней женщине.
(обратно)20
В переводе с финского — деревянные мостки, настил, гать.
(обратно)21
Ленсман — чиновник, выполняющий функции полицейского чина в сельской местности Финляндии.
(обратно)22
Известный финский народный писатель.
(обратно)23
Финская народная песня, герой которой — сплавщик, ветреный и неотразимый покоритель женских сердец.
(обратно)24
Автомобиль японского производства.
(обратно)25
Хельсинкский аэропорт.
(обратно)26
Финский нож, финка.
(обратно)27
Эмиль Викстрем (1864—1942) — видный финский скульптор.
(обратно)28
Имеется в виду вторая мировая война.
(обратно)

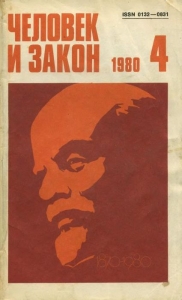

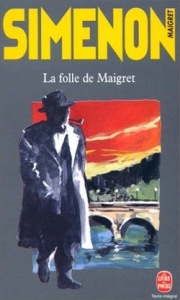

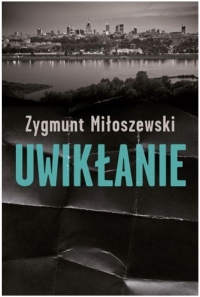



Комментарии к книге «Современный финский детектив», Мика Валтари
Всего 0 комментариев