Ольга Лаврова, Александр Лавров Побег
Однажды Знаменский смеха ради подсчитал, сколько времени он провел за решеткой. Вышло, что из двенадцати лет милицейской работы — года три, если не три с половиной. На нарах, конечно, не спал, но отсидел-таки по разным тюрьмам.
Таганку, по счастью, застал уже в последний момент. Она угнетала даже снаружи: от голых, откровенно казематных стен за версту несло арестантским духом, безысходной тоской. Внутри было, понятно, того хуже, особенно к вечеру, в резком свете прожекторов. И все радовались, когда Таганку начали крушить и крушили (долго — не панельный дом сковырнуть), пока не обратили в грязный пустырь.
Но она осталась королевой уголовного фольклора («Таганка, все ночи, полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня…» и т. д.). Почему бы, кажется, не «воспеть» Матросскую Тишину или Пересыльную, прятавшуюся в путанице железнодорожных и трамвайных отстойников? Или добротную Бутырскую крепость, в которой, к слову, содержали еще Пугачева? Ан нет, символом неволи утвердилась вонючая Таганка. (А в нынешние времена это самое «зачем сгубила» возвели в ранг эстрадной песни под электронный визг и гром. Ну да ладно, не о том речь).
Тех, кто «сидел за Петровкой», чаще всего помещали в Бутырку. Официальное название — «следственный изолятор». Доехать туда было просто — практически центр города; тюремная стена замаскирована от прохожих жилым домом, так что и морально легче — нырнул в невинный с виду подъезд, в руке портфельчик. Кто знает, что там у тебя набито в портфельчике?
Сегодня Знаменский был даже с «дипломатом», потому что папочку вез тоненькую, почти невесомую. Начальство подкинуло для отдохновения после многомесячного изнурительного дела пустяковое происшествие. Ему бы нипочем и не попасть в кабинет серьезного следователя, но заявители, они же потерпевшие, подняли бучу, что совершен чуть ли не теракт против представителей власти, и областной милицейский работник, спасаясь от их давления, сплавил «теракт» в Москву.
А всего-то и было, что на строительстве дороги бульдозерист зло подшутил над прорабом: во время совещания придвинул его будку к самому краю карьера, так что вылезти нельзя и даже ворохнуться внутри боязно — как бы не покатиться вниз. Полчаса, проведенные высоким совещанием в этой ловушке, показались ему за сутки.
После банды уголовников, сплошь рецидивистов, которыми Знаменский до того занимался (грабители, насильники, сбытчики краденого, наводчики), бульдозерист Багров явился для него сущей отрадой.
Родился и до сорока пяти лет прожил он в небольшом по нынешним меркам городе, имевшем некогда важное торговое и политическое значение и славную историю. Багров этой историей интересовался, гордился, ею подпитывал врожденное чувство собственного достоинства, своей человеческой ценности.
Исконно русским духом веяло от высокой плечистой его фигуры, крупной головы, сильно и четко прорисованного лица. Приятно было слушать говор, не испорченный ни блатными словечками, ни столичным жаргоном, замешанным на газетно-телевизионных штампах, отголосках модных анекдотов и иностранщине.
Глаза смотрели прямо, порой вызывающе, но на дне их таилась слабость. Воля была надломлена многолетним пьянством. И жаль становилось недюжинную натуру, без толку тратившую и понемногу утрачивавшую себя.
В тюрьме Багров томился чуждым ему обществом сокамерников, а особенно остро — бездельем. К Знаменскому с первой встречи расположился дружелюбно, охотно «балакал» обо всем, но сердца не распахивал и никогда не плакался в жилетку…
Торопясь с уличного пекла в проходную Бутырки, Знаменский увидал впереди грустную сутуловатую спину пожилого адвоката Костанди, которому по совету Пал Палыча жена Багрова поручила защиту. Адвокат был неказист, не блистал красноречием, но в суде разгорался столь трогательной жаждой обелить, отстоять, выгородить обвиняемого, что часто добивался успеха. Какой-нибудь поскользнувшийся юнец или шофер, ненароком сбивший пешехода, или ревнивый муж, пересчитавший ребра сопернику, — все они находили в Костанди пламенного и искреннего заступника. Говорили, что настоящих злодеев он защищать ни разу не брался, ни за какие богатые гонорары.
Костанди предстояло познакомиться с Багровым, Багрову — с адвокатом, и им обоим — с материалами следственного дела.
Унылый носатый Костанди Багрову не понравился. Два раза он переспросил фамилию, недоуменно пожал плечами.
— Я грек, — тихо пояснил адвокат. — Русский грек.
— Ладно, на здоровье, — нехотя согласился Багров. Процедура ознакомления с делом заняла рекордно короткое время. Комментировать что-либо Багров не желал, ходатайств никаких не заявил. Адвокат тоже не просил о дополнении следствия, но, задумчиво вглядываясь в клиента, адресовался к Знаменскому (поспособствуйте, мол, налаживанию контакта, ведь вы с обвиняемым, я вижу, на дружеской ноге):
— Мне было бы легче строить защиту, если бы я полнее представлял поведение Багрова в быту, обстановку в семье и прочее.
— Не любит он распространяться о себе, — отозвался Знаменский.
— Не люблю, — подтвердил Багров. — Характеристика на меня с места жительства есть. Пьяница и хулиган. Недавно по заявлению жены трое суток отсидел, потому как посуду дома переколотил и соседку обхамил да облаял. И хватит. Нутро напоказ выворачивать — совершенно не к чему.
После краткой паузы адвокат начал складывать свои бумаги.
— Всего доброго.
Вздохнул и вышел. Знаменский — следом: потянуло извиниться за Багрова и посоветовать подробно побеседовать с его женой. Но Костанди опередил советы:
— Интересный какой человек. Очень несчастный… Мне повезло.
Знаменский с симпатией пожал узкую горячую руку. Адвокатов он, честно говоря, недолюбливал — в целом. Хотя многих уважал. Но подобные Костанди попадались редко.
— Защитники, полузащитники… — процедил Багров, когда Знаменский вернулся в кабинет. — От кого меня защищать, Пал Палыч? От меня самого если. А на суде все будет аккуратно, ясней ясного. Наломал дров — изволь к ответу.
«На суде Костанди тебя, невежу, удивит, — усмехнулся про себя Знаменский. — Будет время — приду послушать».
Он убрал папку с делом, сунул в карман авторучку, давая понять, что официальная часть разговора закончена.
— Ну, вот и все. Багров… Так и простимся?
Тот понял, что следователь ждет откровенной исповеди, но навстречу не пошел:
— Сам горюю, гражданин майор. Я от вас худа не видел.
— Вот вы меня напоследок и уважьте.
— Чем?
— Расскажите все по правде. Не для следствия, следствие закончено. Мне лично.
Багров улыбнулся большим ртом.
— Что же, завсегда приятно вспомнить… На Выхина, вы знаете, я большой зуб имел. Ну и порешил: устрою ему пятиминутку по-своему! Только он бригадиров собрал, я прицепил его прорабскую будку к бульдозеру — и прямиком ее к котловану. Развернул аккуратненько и поставил на самый край. В окошко не пролезешь, а в дверь — это с парашютом надо. Страху они хлебнули — будь здоров! Еще немного, и могли загреметь…
— Я же не о том, Багров, отлично понимаете. Дремучая вы для меня душа. Может, рассчитывали остаться безнаказанным?
— Да что я — маленький?
— Не похоже. Тем более не верю я вашим объяснениям. Всерьез ненавидели прораба Выхина?
— Для вас лично? Конечно, Выхин — просто так себе, вредный человечек. Куда его ненавидеть!
— Вот видите, концы с концами и не сходятся. Знали, что придется расплачиваться, и все-таки устроили кутерьму! А вдруг бы грунт действительно пополз?
— Там пенек еловый я приметил, — подмигнул Багров, — он держал. А вообще вся затея сглупа.
— Я примерно представляю себе, что такое дурак. Картина иная.
— Спасибо на добром слове… Ну, может, со зла. Этак вдруг наехало… Сколько б ни врали, а русский человек работать умеет. Если пользу видит. Но когда дорогу кладем абы как, ради квартальной премии начальникам — захочешь работать? И во всем сущая бестолковщина. Круглое велят носить, квадратное катать. Гравий с бетоном — на сторону. Лет через пять от трассы одни ухабы останутся. А, что толковать!..
— И приписки небось.
— Да где без них, Пал Палыч? На приписках нынче земля стоит.
Оба помолчали. Вроде и вязался откровенный разговор, но ответа на вопрос Знаменского не было.
— Однако, Багров, не Выхин же придумал круглое носить, квадратное катать. Он вот удивляется: понятия, говорит, не имею, чего на меня Багров взъелся!
— Тогда одно остается — спьяну накуролесил.
— Думал я, — серьезно и как бы советуясь с Багровым, проговорил Знаменский. — И опять не выходит. Уж очень точно вы с этой будкой: поставили тютелька в тютельку над котлованом. Еще бы сантиметров тридцать — и ау.
— Это да, — с гордостью кивнул Багров. — Сработано было аккуратно.
— И непохоже, что вы хоть теперь раскаиваетесь.
— А чего раскаиваться? Потеха вышла — первый сорт! Вы бы поглядели на Выхину рожу! Он ведь о своем авторитете день и ночь убивается, и вдруг такая оказия!
— Так, — все силился протолкаться к правде Знаменский. — Не спьяну, значит. Да и выпили вы по вашим меркам не очень.
— Грамм двести и пивка. Бывало, чтоб забыться, втрое больше принимал, и то не всегда брало.
— Багров, от чего забыться? Расскажите, право. Вам теперь долго-долго не с кем будет поговорить.
Багров крепко, кругами потер лицо; стер наигранное веселье. Взгляд отяжелел, налился тоской. Он упер его в пол.
Неужели так и уйдет неразгаданный? Костанди сказал «очень несчастный». Он что-то учуял особое. А Знаменский не понимал… Нечего делать, не всякое любопытство получает удовлетворение. Кнопка под рукой, пора вызывать конвоира.
Но Багров вдруг вскинул голову и спросил быстро, боясь, видно, передумать:
— Вы, Пал Палыч, женаты?
— Нет пока.
— Считайте, повезло.
— Да?.. — вот уж чего тот не ждал. — Мне ваша жена показалась чудесной женщиной. И она так тяжело переживает…
Багров оживился:
— Переживает? Вот и распрекрасно! Пусть переживает. А то вздумала меня тремя сутками напугать!
— Ну и ну… — опешил Знаменский.
Понял он наконец: Багров решил «доказать» жене. Виданное ли дело?! Ну была бы мегера, а то женщина редкостная, светлая какая-то. Да и красивая — тихой, страдательной красотой. О муже говорила просто и грустно, и ни слова осуждения. И ей-то в пику навесить себе срок?..
— Выходит, назло своему хозяину возьму и уши отморожу?
— Ничего, мои уши крепкие. А ей урок на всю жизнь. Все я был, видите ли, нехорош! Ну, пил, и что? Под заборами не валялся, всегда на своих ногах приходил.
— Неотразимый аргумент! Вы, по-моему, изрядный самодур, Багров.
— Такой уродился. И давайте, Пал Палыч, без педагогики. Еще не хватает про печень алкоголика и прочее. Дома уже вот так! — показал ладонью сколько достал выше головы. — Как мужа с работы надо встретить? Первое дело — лаской. А она? Опять, говорит, приложился. И всех слов. Шваркнет на стол яичницу с колбасой! губы в ниточку — и на кухню, посудой греметь… Сижу, жую… Дочка в учебники ткнулась, будто меня вовсе нету. Иной раз плюнешь — и спать. А то посидишь-посидишь в такой молчанке, да и грохнешь кулаком об стол! Будет кто со мной говорить или нет? До какой поры мне ваши затылки разглядывать, так вас перетак?! Дочка в слезы, а у этой наконец язык развяжется — совестить начинает. Тут уж одно средство: шапку в охапку и в пивную. До закрытия.
Знаменский отчетливо представил описанную картину. Что с таким поделаешь? Пьяница в своих глазах всегда прав.
— Выходит дело, не повезло с женой. А на мой взгляд… Я ведь человек посторонний, выгоды нет вашу жену хвалить. Но что хотите, а Майя Петровна очень милый обаятельный человек.
— И на трое суток меня закатала — тоже обаятельная? Чтоб между мужем и женой милицию замешивать, это… Век не прощу! Нашла чем меня взять! Меня, Багрова! Да я три года отсижу — не охну! А она пускай вот теперь попляшет без мужа, авось прочухается!
— У меня от вашей логики аж зубы ноют… То, что вы сделали, Багров, нелепо! Понимаете? Дико и нелепо!
— Нелепо? Не-ет, гражданин Пал Палыч. Оригинально — согласен. Но тут большой расчет! Вот отсижу, вернусь, жизнь покажет…
* * *
Жизнь доказала через шесть месяцев после приговора.
В суде Костанди нарисовал трагический облик человека, не нашедшего в жизни применения своим богатырским силам и так далее, и Багрову дали минимально — два года.
Четверть срока истекла, и Багров снова ворвался в неспокойный быт Петровки.
Тот февральский день начался для Пал Палыча трудно: с посещения одного из райотделов милиции, где он просил о снисхождении к подследственному. Впечатление от разговора осталось тягостное.
Не раз они с Кибрит и Томиным (да и с другими коллегами) замечали, что некоторые люди и дела почему-то «прилипают» и тянутся за тобой десятилетиями. По-разному, конечно. То пылящееся в архиве дело обнаружит вдруг «метастаз», разросшийся из маленькой твоей давнишней недоработки. То все натыкаешься и натыкаешься на какого-то человека — сначала он свидетель, потом потерпевший, потом родственник подследственного, а потом, бывает, и сам подследственный. Тут уж, кажется, конец бы: разобрался с ним, передал материалы в суд, и унесла его судьба. А он отсидит и опять появляется на твоем пути — свидетелем, потерпевшим, подследственным. Просто подшучивает жизнь или чему-то тебя научить стремится — не разберешь…
На сегодняшний визит Знаменского понудил телефонный звонок из прошлого. Звонивший назвал себя — Чемляев. Фамилия помнилась Знаменскому, голос был неузнаваем: старый, слабый и жалобный. А когда-то он гремел, полный праведного негодования. То был голос бескомпромиссного борца.
С Чемляевым Знаменский близко столкнулся, когда вел дело крупной автобазы. Следователь, который начал его, пошел на повышение, и Знаменскому передали груды папок, завалившие стол и стулья. Тут содержались путевые листы за несколько лет на добрую сотню машин, а также неисчислимое множество всяких других документов, которыми занимались матерые ревизоры.
Выводы их не оставляли места сомнениям. Все многолетнее преуспеяние грузовой автобазы престижного ведомства целиком основывалось на жульничестве. Машинам приписывалось несусветное количество якобы перевезенных грузов на нереальные расстояния. А так как показатели работы измерялись в тонно-километрах (т. е. сколько тонн и на какое расстояние перевезено), то шоферам и дирекции полагались отличные премиальные.
Неизрасходованный же бензин через несколько «своих» автоколонок тек «налево», а чаще — чтобы уж вовсе без хлопот — просто варварски сливался в кюветы.
Бунт на базе против подобных трудовых успехов подняли несколько шоферов во главе с бывшим танкистом Чемляевым, горевшим, бежавшим из плена и не боявшимся никого и ничего. Он-то и добился наконец возбуждения уголовного дела против руководства автобазы.
Прав он был и по-человечески и юридически, всяко.
Но прав был и главный его противник — директор автобазы Дашковцев.
— Почему тягать одного меня? — возмущался он. — Точно так работают все автобазы страны! Что прикажете делать с неизбежными простоями на погрузке и разгрузке? Никуда от них не денешься. Не денешься от малых грузов на малые расстояния. Или лошадей с телегами воскресить? Вы поймите, Пал Палыч, все, все абсолютно накручивают спидометры и раздувают тонны и километры. Это система работы. Потому что в корне порочен принцип измерения труда в тонно-километрах. Он всему причина! А вы ухватили меня, потому что честный дурак за рулем попался… Я даже и не злюсь на него по-настоящему. Но не с меня же спрос, а с Госплана и Совмина!
— Но вы признаете, что перевыполнение плана годами шло за счет приписок? — вынужден был спрашивать Знаменский.
— Доказанный факт.
— Это законченный состав преступления: злоупотребление служебным положением с корыстными целями и должностная халатность.
— Эх, Пал Палыч, давайте тогда всех директоров пересажаем. И большинство шоферов — непосредственно ведь они спидометры крутили и в путевых листах враки писали!
— Сейчас речь только о вас, — тускло возражал Пал Палыч.
Дело Дашковцева ведомственная прокуратура прекратила, о Чемляева дружно вытирали ноги. Знаменский тайком от матери глотал на ночь снотворное…
И вот много лет спустя — телефонный звонок. Боготворивший отца-героя сын Чемляева, не снеся его поражения, проникся ярым цинизмом, обозлился на государство, на общество, спутался с блатнягами и наконец вошел в банду. А банда засыпалась на взломе торговой палатки.
Коллега в райотделе посмотрел на Знаменского рыбьими глазами и попросил не засорять ему голову посторонними для расследования соображениями. Пал Палыч прислушался внутренним ухом к разбитому, дряхлому голосу Чемляева, уселся поплотнее на жестком стуле и принялся втолковывать коллеге, что тот упускает собственную выгоду.
— Парень вам противен: отказывается отвечать на вопросы, держится волчонком, дерзит и прочее. А я приношу вам ключ к его запертому сердцу. Объясняю его психологию. Не воспринимайте меня как ходатая, сам их не терплю — но как источник ценной информации. Благо вы опытный умный следователь, — Знаменский понятия не имел, что он за следователь, но комплимент не помешает, — сумеете извлечь пользу из сведений о прошлом обвиняемого. Разумеется, не впрямую заговорив об отце, тут, я думаю, мы друг друга понимаем, парень еще больше взбеленится. Но как-то косвенно, осторожно вы нащупаете к нему подход…
Коллега начал обнаруживать признаки жизни: почесал натертую очками переносицу, поправил галстук, стал подавать реплики.
Через полчаса они перешли на «ты», и была намечена линия поведения коллеги в отношении Чемляева-младшего… Даже если ее удастся очень грамотно провести, парню это поможет на воробьиный шаг. Ну, на два. Грустно.
А когда грустно, тянет к друзьям. Сашу неизвестно где ловить. Ну а к Зиночке есть предлог заглянуть.
* * *
— Зина, прислан с официальным приглашением. В следующую субботу в нашем доме — великое торжество. Мамино пятидесятилетие.
— Неужели уже пятьдесят? Прямо не верится!
— Значит, в субботу, в девятнадцать ноль-ноль ждем.
— Непременно!
— А теперь мне требуется твой совет непрофессионального порядка. Что нам с Колькой дарить матери? Mы уж прикидывали так и эдак…
— Да, своего рода проблема.
— Отец всегда преподносил роскошные букеты. Среди зимы это впечатляло. Но у него, естественно, были друзья в ботанических садах. А главное, о каждом цветке он тут же рассказывал что-нибудь удивительное. Выходил не букет, а целая поэма.
— Послушай… она ведь любит животных. Может быть, канарейку, попугайчиков?
— Нет, только никого в клетке!
— Тогда щенка? Рикки, например, жуткий шалопай, но без него в доме было бы очень пусто.
— Гм… и правда, надо подумать.
Томин любил бесшумно появляться и громко здороваться.
— Фу-ты, опять подкрался, как кошка!
— Тренируюсь, Зинаида… Когда говорят: «Пал Палыч вышел», нетрудно догадаться, куда он вошел. У вас интим или служебная беседа?
— Приглашаю Зиночку на семейный праздник. Но ты тоже в числе званых, так что присоединяйся.
— Прекрасно, обожаю ходить в гости, — и, не уяснив даже сути праздника, перешел к делу: — Начальство подкинуло мне твоего бывшего знакомого. Помнишь такого Багрова?
— Ну конечно. В июле — августе осужден за хулиганство. А что с ним теперь?
— Да так, мелкая шалость, — и вручил Знаменскому копию телетайпного сообщения.
Тот прочел вслух:
— «21 февраля в 17 часов 30 минут бежал из-под стражи с места отбывания наказания Багров Михаил Терентьевич, приговоренный к двум годам исправительно-трудовой колонии. Принятыми на месте мерами розыска преступника обнаружить не удалось. Год рождения 1930-й. Место рождения — город Еловск, Московской области. Одет в телогрейку и ватные брюки защитного цвета. Документов и денег при себе не имеет. Передаем приметы сбежавшего… — тут Знаменский сделал пропуск, поскольку приметы ему не требовались. — Цели и мотивы побега не установлены. Примите срочные меры к обнаружению и задержанию преступника. Координация розыскных мероприятий по месту осуждения Багрова».
На этой неделе уже вторая рука протягивалась из прошлого! И одна новость хуже другой.
— По меньшей мере странно, — хмуро сказал Пал Палыч. — Он же сам себя посадил. Из «принципиальных» побуждений…
— А-а, который с бульдозером? — вспомнила и Кибрит.
— Угу. Побежал за добавкой. И мне велено его поискать.
— Но как ему удалось?
— Подробностей пока не знаю. Кажется, выдумал какую-то прежнюю кражу, повезли его на место, чтобы показал, где, у кого. Тут он и фюить… Потому я к тебе, Паша, — помоги вникнуть в душевный мир этого деятеля. Куда и зачем он мог податься?
— Совершенно не представляю. Дело ты прочел?
— Прочел. Он ведь без уголовных наклонностей?
— Без. Но когда выпьет — с крепкими заскоками.
— Ну, если уголовных связей у него нет, он у меня недолго набегается. В родном городе его всякая собака знает. Туда опасно.
— Да вроде и незачем, — в сомнении пожал плечами Знаменский.
— Стало быть, надо перетряхнуть родных и приятелей на стороне… Что ж, поработаем немножко ногами. Сегодня выезжаю в колонию.
— Не исключено, что придется и головой поработать. И вообще, Саша, нельзя его недооценивать. Темперамент. Энергия. Часто непредсказуемость поступков. Прибавь к этому крайнюю ситуацию, в которую он поставил себя побегом. А если еще дорвется до водки…
— Тебя беспокоят трудности розыска или моя неявка в гости? — подмигнул Томин. — Кстати, когда и какому поводу?
Услышав ответ, спросил алчно:
— А пельмени будут?
— Еще бы!
— Тогда хоть с того света явлюсь!
И никто не постучал по деревяшке…
* * *
При словах «поезд дальнего следования» Томину заранее сладко зевалось. Чего ему катастрофически не хватало в жизни, так это времени. Лишнего часу поспать, лишних двадцати минут, чтобы поесть, не говоря уж — почитать. Не уголовные сводки, а хорошую какую-нибудь добрую книжку в благородном переплете, можно даже с картинками.
Чуть не двое суток на колесах; кого бы взять с собой для души? Он открыл книжный шкаф, на глаза попался «Робинзон Крузо». Немножко вроде не по возрасту… Но зато какая отключка от реальности! Отсыпаться, отъедаться и читать историю про необитаемый остров.
Мать привычно уложила маленький разъездной чемоданчик, отдельно в сумку упаковала съестное — на дно более лежкое, сверху скоропортящееся. Как всегда заботилась, чтобы потеплее оделся, и, как всегда, попусту, потому что всякие шапки-ушанки и свитера Томина отягощали.
На выходе из подъезда столкнулся с пожилой докучливой парой, жившей ниже этажом. Отделаться «Добрым вечером» не удалось.
— Минуточку, Александр, нам надо поговорить.
«Опять?!»
— Честное слово, — поклялся Томин, — я постоянно хожу в мягких тапочках! Мама подтвердит. Уже не хожу, а почти порхаю.
— Положим, вы иногда ночью двигаете стулья. Однако сейчас дело не в том. Мы хотим сообщить подозрительный факт.
И начался бестолковый рассказ о какой-то трубе. Едва удалось отвязаться — сугубо тактично, а то мать не простит.
В купе спалось прекрасно, но «Робинзон Крузо» разочаровал. Он оказался трусишкой и перестраховщиком. После того как увидел на прибрежном песке след босой ноги и смекнул, что приплывали туземцы, лет семь-восемь шагу не ступал от своего жилища. Из детства помнилось что-то другое.
Томин сунул томик в чемодан и уставился в окно. Поезд шел на север, а где-то навстречу ему пробирался Багров. Полями и перелесками, глухими тропами не пройдешь: снег. А дороги тут редки. Одет он по-лагерному, приметно, денег нет. Чем питается? Как избегает опасных встреч?
Удивительно, что в первый же или хоть второй день от населения не поступило сигналов о краже верхней одежды: самая срочная забота беглого — избавиться от арестантского обличья. Или ошиблись, определяя возможный для Багрова маршрут и давая соответствующие указания на места?.. Нет, вряд ли. Отсюда неведомых путей нет. И техника поиска отработана. Бегали же и раньше отчаянные головы. Причем в летний сезон, и то почти всегда неудачно.
За окном стужа и снега, снега. Редкие станции. Проводница разносила чай.
«Пожую-ка я чего-нибудь и еще вздремну. Никуда Багров не денется».
(В дальнейшем, изучая обстоятельства побега, следователь вычислил, что Багров разминулся с Томиным, когда тот еще почитывал «Робинзона Крузо». Багров лежал на платформе товарного состава, полузарывшись в щебенку).
…Томин выпрыгнул из «газика» возле ворот колонии на глазах у группы осужденных, возвращавшихся с работы. Мелькнуло знакомое лицо. Ба, это ж мошенник Ковальский по кличке Хирург (кличка отражала искусство, с каким он «оперировал» карманы зажиточных ротозеев). Произошел скользящий обмен взглядами; Томин «не заметил» Ковальского. Зачем вредить человеку? Зэки не любят тех, кто знаком с «мусорным» начальством…
Первым делом надо было связаться с Петровкой. Нет, никаких сведений, наводивших бы на след Багрова, не прибавилось.
— Совершенно ничего? — удивился Томин. — Слушайте, ребята, вы меня крупно подводите! Расширьте район поиска, еще раз разошлите приметы и фотографии.
Теперь предстояло заняться собственно тем, ради чего Томин прибыл в студеные северные края: выяснением вопроса, почему или зачем Багров ударился в бега.
* * *
Если прикинуть по карте Московской области, то до Еловска рукой подать. Однако весть о Багрове пришла сюда тремя днями позже.
(Авторы вынуждены извиниться за название «Еловск». Оно вымышлено, так как рассказываемая история правдива и действующие лица ее живы.)
Город стоял на возвышенности и виден был издалека. Некогда выдерживал он набеги татар и поляков. И сейчас еще (если издалека) рисовался на горизонте сумрачной древней крепостью — расстояние «съедало» разрушения, причиненные зубчатым стенам, башням и церковным куполам.
Но чем ближе, тем призрачнее становилась крепость, на вид лезли фабричные трубы, телевизионные антенны, башни высоковольтной линии. Внутри же старина попадалась уже отдельными вкраплениями, город выглядел как обычный областной, с полудеревенскими окраинами.
Но за счет малой текучести населения отчасти сохранялся в Еловске патриархальный дух. Считались и ближним и дальним родством. Стариков не хаяли даже за глаза. Парни были менее патлатыми. Мини-юбки что-то все же прикрывали.
Двадцать с лишком лет прожила в Еловске Майя Петровна Багрова, коренная ленинградка, выпускница филфака ЛГУ. Ехала с намерением отработать положенные три года и вернуться обратно. Иного и не мыслила. Как можно без театров, Невы, белых ночей, самих ленинградцев?
Была она человеком ясного ума, независимого характера, свободных суждений. Родителей рано потеряла и чувствовала себя хозяйкой собственной судьбы. Но вот выпало на долю нежданное замужество, и осела она в чужом городе мужней женой. Внешне постепенно прижилась. Опростилась. И город постепенно ее принял, зауважал. И все же оставался немного чужбиной.
Вот и сейчас, подъезжая в ранних февральских сумерках к Еловску и следя, как с каждым километром распадается образ старой крепости, она вспоминала набережные и проспекты своего детства и юности и ехала как бы не совсем домой. Отгоняя это ощущение, принялась утрясать сумки, поплотнее увязывать свертки. От остановки недалеко, но в переулке скользко, неровен час упадешь — все разлетится.
В верхнем освещенном окне маячила пушистая голова. Катя, дочка. Единственная по-настоящему родная на свете. Высматривает меня, тревожится. Ага, заметила!
Катя выскочила в переулок в чем была, подхватила сумки.
— Ой! Так и надорваться недолго! Мама, ты просто невозможная! Где ты пропадала?
— В Москву ездила. А так и простудиться недолго.
— Когда я простужалась!
Они поднялись на свой второй этаж, Катя с интересом разбирала покупки. Майя Петровна устало разделась и села, зажав под мышками озябшие руки.
— Кажется, ты начинаешь оживать: наконец-то новый шарф! — Катя подбежала к зеркалу примерить. — Какой теплый, прелесть!.. Только, знаешь, он скорее мужской… у Вити почти такой же. А тут что?
Она выкладывала на стол пачки печенья и сахара, плавленые сырки, сухари.
— Сколько всего!.. Неужели копченая колбаса? Извини, это выше моих сил! — сунула в рот довесок и с блаженной улыбкой начала жевать.
— Небось опять не обедала?
— Без тебя никакого аппетита, честное слово! Но зачем столько, мам? — удивлялась весело, доставая банки с компотами.
— Вздумалось сделать запасы, — отозвалась Майя Петровна.
— Ничего себе! Ожидается голод, что ли? Нет, это малодушие — оттягивать объяснение. Все равно неизбежно.
— Катя, я должна на несколько дней уехать.
— Куда? — с любопытством подскочила к матери.
— От начальника колонии пришло письмо… недели две как… Отец там на хорошем счету, отлично работает. Потому разрешено свидание…
Катя отступила, свела брови. И уже не ребячливая ласковая девчонка стояла перед Майей Петровной, стояла взрослая дочь — осуждающая, готовая к бунту, неукротимая. Разительно похожая сейчас на отца.
— Так вот для чего ты занимала деньга у Елены Романовны! На дорогу и гостинцы. И шарф предназначается дорогому папочке… как награда за доблестный труд в местах не столь отдаленных!..
— Катюша, давай поговорим, — мягко и спокойно предложила Майя Петровна.
С некоторых пор она всегда держалась спокойно, ровно. Редко что выводило ее из равновесия. То было спокойствие много пережившего и передумавшего человека.
— Что толку разговаривать! Ты все равно поедешь!
— Девочка… ты не забыла, что он твой отец?
— Нет, — резко отрубила Катя. — Мне слишком часто тычут это в нос…
Майя Петровна поднялась. Тоненькая и хрупкая, душевно она была сильнее дочери и привыкла утешать. Положила руки на Катины плечи, потянула к дивану. Посидели, обнявшись, объединенные общей бедой.
— Мамочка, разве нам плохо вдвоем? Уютно, спокойно. И такая тишина, — нарушила молчание Катя.
— Да, тишина…
Катя сползла с дивана и стала на колени.
— Мамочка, разведись с ним! Давай с ним разойдемся! Самый подходящий момент. Ты подумай — вернется он, и все начнется сначала!
— Подходящий момент? Отречься от человека, когда он в беде — подходящий момент? — мать укоризненно покачала головой. — Если мы теперь ему не поможем, то кто?
Катя потупилась было, но снова взыграла багровская кровь:
— Ты всю жизнь, всю жизнь старалась ему помочь, а чем кончилось?.. Я вообще не понимаю, как ты могла за него пойти?! Ведь Семен Григорьевич…
— Не надо, замолчи!
— Не замолчу! Я знаю, что он тебя любил! Он до сих пор не женат!
— Катерина!
Катя не слушала.
— Талантливый человек, мог стать ученым, делать открытия. И все бросил, поехал сюда за тобой. Надеялся! И что он теперь? Директор неполной средней школы! А ты? Бросила ради отцовской прихоти любимую работу и пошла в парикмахерши!.. — она всхлипнула и уткнулась в материнские колени.
Та в растерянности погладила пушистую ее голову. Впервые дочь столь откровенно заговорила с ней о прошлом.
— Иногда мне кажется… я его возненавидеть могу…
— О господи, Катя!.. Это пройдет, пройдет. Раньше ведь ты души в отце не чаяла.
— Да, лет до десяти. Даже удивительно. Правда, он тогда реже пил… или я еще была дурочкой… Представлялось — веселый, сильный, смелый, чуть не герой…
Она зашарила по карманам, ища платок, не нашла, утерлась по-детски рукавом.
— Такой и был когда-то, — слабо улыбнулась Майя Петровна. — Но каким бы ни стал теперь, он любит и тебя, и меня, и…
— Он тебя любит?!
Катя пружинисто вскочила, схватила с комода фотографию в деревянной рамке и круглое зеркало:
— Ты сравни, сравни! Посмотри, что он с тобой сделал!
Ах, эта фотография. Сколько раз Майя Петровна пробовала убрать ее, а Катя «в приказном порядке» требовала вернуть. Она обожала эту фотографию ленинградских времен и горевала, что не похожа на мать.
Майя Петровна покорно посмотрела в зеркало. Различие убийственное, конечно. И определялось оно не возрастом. В зеркале отражалась просто другая женщина. Словно бы и те же черты, но куда пропала та окрыленность, та победительная улыбка, свет в глазах? И горделивый поворот шеи, уверенность в себе?
Хорошо, пленка не цветная, а то прибавился бы еще акварельный румянец и яркое золото волос. Она привезла в Еловск чисто золотую косу. Почему волосы-то пожухли? Странно. Остальное понятно, а это странно. Теперь то ли пепельные, то ли русые. Может быть, от перемены воды?
— Ну? — требовательно вопросила Катя. — Разве бывает такая любовь, чтобы человека изводить?
Майя Петровна развела ее руки, державшие фотографию и зеркало. Сказала серьезно:
— Да, Катюша. Бывает и такая. Я еду завтра в семь вечера.
И Катя спасовала. Голос матери был тих и бесстрастен, но исключал возражения.
…Катя в кухне разливала по тарелкам суп и расспрашивала о московских магазинах, когда в дверь постучали. То явился Иван Егорыч, участковый. Поздоровался, глядя в сторону, помялся, наконец выдавил:
— Я насчет Михал Терентьича… Пишет?
— Последний раз — с месяц назад… Что-то случилось?
— Да такое вдруг дело, Майя Петровна… сбежал он…
— То есть как… я не понимаю…
— А вот так. Сбежал из-под стражи, и все тут.
Катя ухватилась за мать, та оперлась о спинку стула.
Участковый перешел на официальный тон:
— Должен предупредить: в случае, если гражданин Багров объявится или станет известно его местонахождение, вы обязаны немедленно сообщить… — Потоптался и добавил виновато: — Не обижайтесь, Майя Петровна, мое дело — служба…
* * *
А в колонии Томин вел разговоры, разговоры, разговоры.
Сначала с молоденьким лейтенантом, который отвечал за воспитательную работу в подразделении, где числился Багров. Лейтенант был вежливый, культурный, необмятый новичок. Томин предпочел бы старого служаку — пусть грубого, ограниченного, но насквозь пропитанного лагерным духом и знающего все фунты с походами.
На вопрос о Багрове лейтенант смущенно заморгал:
— Откровенно говоря, я им подробно, то есть индивидуально не занимался.
— А кем занимаетесь подробно?
— Есть ряд лиц, которые меня интересуют…
— И как успехи?
— Рано судить, товарищ майор.
«Это верно, судить можно года через два после освобождения».
— Вас как занесло на эту должность?
— Видите ли… я заочник педвуза.
— А-а, собираете материал для диплома? И какая тема?
— «Проблемы перевоспитания личности со сложившейся антисоциальной установкой».
«Мать честная! На сто докторских хватит. И он рассчитывает найти тут положительные примеры? Святая простота».
— А Багров оказался не по теме?
— Да, я так считал…
— Не тушуйтесь вы. Я ведь не инспектирующий чин. Я сейчас просто гончий пес, который старается взять след.
— Понимаете, товарищ майор, я посмотрел по делу, что за ним. Побеседовали. О поступке своем выразился вроде бы критически. У него такое характерное словечко: «сглупа». Дальше увидел его в работе. Классный бульдозерист, и трудился без бутафории, всерьез. В общем, два месяца назад назначили его бригадиром.
— Словесный портрет ангела.
— Оценку даю в сравнении с остальным контингентом. Много неангелов.
— Понятно. Итак, все было распрекрасно, но вдруг…
— Нет, не совсем вдруг. Недели две, а может, три до того… я не сразу обратил внимание… но, в общем, он изменился.
— Конкретно?
Лейтенант подумал, вздохнул:
— Сами понимаете, заключение есть заключение. У каждого в какой-то период обостряется реакция на лишение свободы. У кого тоска, у кого агрессивность, разное бывает… Я посчитал, что у Багрова тоже.
— Еще раз конкретнее, без теории.
— Стал он ходить в отключке. Полная апатия. А вместе с тем — по данным ларька — курит втрое больше прежнего.
— То есть внешне — вялость, внутри — напряжение?
— Именно так я и расценил. Но работал как зверь. Даже с каким-то ожесточением. Его бригада заняла первое место. Я предложил Багрову внеочередное свидание с женой: думал расшевелить.
— И? — насторожился Томин.
— Знаете, в тот день впервые я над ним задумался. Не в плане диплома, просто по-человечески. В лице никакой искорки не проскочило. «Спасибо, говорит, гражданин лейтенант. Разрешите идти?» — и все. А через несколько дней — эта история.
— Тут мне важно во всех подробностях.
— Слушаюсь. Расчет у него был хитрый. Приходит с покаянным видом, хочу, говорит, облегчить совесть. И рассказывает, как в прошлом году посылали его здесь неподалеку с партией строительных машин. Вроде как сопровождающего и одновременно по обмену опытом. И на обратном пути, дескать, поджало его с деньгами, а очень требовалось выпить. Тогда залез в какой-то незапертый дом около станции и взял денег двадцать пять рублей и сапоги. Сапоги продал в другом городе на базаре.
— И вы поверили?
— Сначала не очень. Но, с другой стороны, когда пьющего человека возьмет за горло… Словом, послали запросы. Действительно, прибывала в прошлом году партия машин и при ней Багров. И действительно, есть такая нераскрытая кража.
— Кто-то из барачных соседей поделился с ним прежними подвигами.
— Да, теперь-то я понимаю. Но тогда вообразил совсем другое. Решил, что поведение Багрова объяснилось: колебался человек — сознаваться или не сознаваться. Отсюда замкнутость и прочее.
«О, трогательный лейтенантик! К другому Багров и не сунулся бы с подобной байкой».
— Так… Дальше?
— Дальше приехал тамошний следователь с оперативным работником, повезли его, чтобы документально все зафиксировать на месте… Удрал он от них вот здесь, — лейтенант показал на карте.
— Рядом железнодорожный узел. Н-да… Так что же это по-вашему? Просто истерический порыв на свободу? Хоть день, да мой?
— Не знаю, товарищ майор. Боюсь с ним снова ошибиться.
— Взаимоотношения с другими осужденными?
— Нормальные, думаю. Да такого не больно и обидишь.
— Вызовите ко мне тех, кто общался с Багровым больше всего. И еще заприметил у вас своего крестника. Хотел бы повидать, не афишируя. Его фамилия Ковальский.
— Можно прямо сейчас, — обрадовался возможности услужить лейтенант.
Они заглянули в небольшой зал с низкой дощатой сценой без кулис и сдвинутым сейчас в сторону столом под суконной скатертью. На сцене сидел Хирург со старенькой гитарой; двое заключенных пели.
— Репетируют, — шепнул лейтенант. — Через неделю концерт самодеятельности.
Некоторое время понаблюдали за происходящим. Хирург поправлял сбивавшихся певцов, подавал советы: «Тут потише, потише, не кричи», «Демин, не забегай вперед!» Исполнение его не удовлетворяло.
— Души нет, ребята, — втолковывал он. — Старательность есть, а души нет. Слово надо чувствовать! «Темная ночь, разделяет, любимая, нас…» — проникновенно напел густым баритоном. — Понимаете?
Те растроганно вздохнули.
— Ковальский! — окликнул лейтенант. — Прервитесь ненадолго.
Тот с сожалением положил гитару.
— Репетируйте пока без меня. Пойду воспитываться.
Но, увидя в коридоре Томина, искренне разулыбался.
— Александр Николаевич, счастлив вас видеть!
— Так уж и счастлив… — добродушно усмехнулся Томин.
Они отошли от дверей зала.
— Как живется, Ковальский?
— Полагалось бы спросить: «Как сидится?» Что ж, как видите, существую… — Но не выдержал шутливого тона: — Тяжко, Александр Николаевич! Что тут скажешь? И руки в кровавых мозолях, и вся обстановка… щи да каша, радость наша. Иной раз такая тоска!..
Лейтенант ревниво воспринял сердечность, проявленную его заключенным к заезжему сотруднику МУРа. С ним Ковальский был суше и сдержаннее.
— Но все-таки вы при любимом деле. Есть отдушина.
— Да это урывками.
Ковальский был от природы музыкален, обладал отменным голосом и слухом. Даже в Бутырке, будучи подследственным Знаменского, при его ходатайстве добился разрешения участвовать в самодеятельности.
— В основном я, Александр Николаевич, расконвоированный дровосек.
— Я не сентиментален, Ковальский.
— В смысле, что вам меня не жалко?
— Ничуть. Хотя в принципе вы мне симпатичны. Но вы железно заслужили и кровавые мозоли, и щи с кашей, и тоску. Вам здесь не нравится? Очень хорошо. Авось не потянет обратно.
— Боже упаси!
— Если рискнете зажить честной жизнью, поможем.
— Спасибо, Александр Николаевич.
— Пока не за что.
Лейтенант почувствовал себя лишним.
— Я больше не нужен, товарищ майор?
— Нет, спасибо.
Ушел понурившись. Похоже, Хирург ему «по теме», мельком отметил Томин. Даже — не исключено — гвоздь диплома.
— Вы сюда насчет побега? — спросил Хирург. — Если не секрет.
— Какой секрет!
— Хотели меня о чем-то спросить?
Вспомнил прошлое. Однажды Знаменский и Томин прибегли к его содействию и получили пригодившиеся им наблюдения Ковальского над его сокамерником.
Томин успокаивающе улыбнулся:
— Хотел спросить, как поживаете.
Ковальский улыбнулся в ответ, и разговор возвратился в дружеское русло.
— Пал Палыч жив-здоров?
— Все нормально.
— Поклон ему огромный. Передайте, что частенько вспоминаю наши разговоры.
— Расширим. Привет и пожелания успехов в работе всему коллективу Петровки, 38. Как народ относится к побегу?
— По-разному. Растравил душу этот Багров — на волю-то каждому охота. Но большинство считает глупостью: или поймают и срок накинут, а не то волки показательный процесс устроят.
— Тоже вариант… Ну что ж, Ковальский, авось и еще когда встретимся. Ступайте пойте.
Но тот заволновался, просительно прижал руку к груди:
— Можно еще пять минут? Я понимаю, ничем не заслужил, но…
— Не мнитесь. Гитару, что ли, приличную выхлопотать?
— Ах, если б гитару… Без дальних слов, вот что. Шесть лет назад была у меня во Львове женщина… довольно долго. Она уже ждала ребенка. Жениться хотел, честное слово! До тех пор жил под девизом «Memento mori» — то есть «Лови момент»…
— Перевод несколько вольный. Дословно: «Помни о смерти».
— Вывод, по существу, тот же. Помни о смерти — стало быть, спеши жить… Так вот, первый раз тогда в душе что-то серьезное прорезалось. Но подвернулась одна сногсшибательная афера, на Черном море, а потом смыло меня курортной волной, и прости-прощай. А здесь вдруг выплыла передо мною она, Надя из Львова… Пока сидишь, в голове, видно, какая-то сортировка происходит… Все время у меня перед глазами, будто только вчера видел. Даже во сне снится. И ребенок. То сын, то дочка… Может, все это смешно, наверно, глупо… но если бы узнать, вышла ли замуж, где теперь, как ребенка записала… Если поспособствовать, Александр Николаевич, а? Она ведь меня любила. Чем черт не шутит? Через год моему сроку конец…
— Координаты есть? — Томин открыл записную книжку на чистом листке.
Хирург взял книжку и авторучку, быстро исписал листок.
— Тут все, что я о ней знаю. Адрес, естественно, на тот момент.
— Ладно, Сергей Рудольфович, сделаю.
Томин не был сентиментален, но был отзывчив на доброе.
* * *
А дальше перед ним сменялись осужденные, от которых он пытался добиться какого-нибудь проку.
Вот сухощавый парень с торчащими на стриженой голове ушами:
— Да кто я такой, чтобы Багор со мной разговоры разговаривал? Разве что оставит на пару затяжек — и всей нашей дружбы.
— Значит, не слышали о готовящемся побеге?
— Даже ни словечка! Всем как снег на голову!
Другой — неторопливый, обстоятельный, с пронзительным взглядом заплывших глаз.
— Вы работали с Багровым в бригаде. И в столовой сидели рядом, верно?
— Да.
— Отношения были приятельские?
— Более или менее.
— Он делился своими настроениями, планами?
— Багор — мужик самостоятельней. Если что переживал, рот держал на запоре.
— Побег был для вас неожиданностью?
— Да уж чего, а этого не ждали. Главное, срок небольшой, у начальства в почете ходил… Пропадет теперь ни за грош…
— Очень он тяготился неволей?
— Ну… матерился иногда. А в общем, ничего.
— Вы, по-моему, неплохо к нему относитесь?
— Уважал. Очень даже.
— Можете мне поверить, что чем меньше он сейчас пробудет на свободе, тем для него же лучше?
— Допустим.
— Тогда подумайте и скажите: что могло толкнуть Багрова на побег? Куда? Не просто же шлея под хвост?
— За чем-нибудь да бежал. Думаю была причина. Какая — не знаю.
Третьему:
— Вас часто видели вместе.
— Клевета, истинный крест, клевета! Ни сном ни духом не причастен.
— Я вас не обвиняю. Спрашиваю об отношениях.
— Никаких отношений! Ничего общего! И статьи вовсе разные.
— Он, говорят, переменился в последнее время. Отчего?
— Не знаю отчего. Злой сделался. Как новеньких в барак прислали, так не подступись…
Опять Томин связался с Москвой.
— А что волноваться? — ответили с другого конца провода. — В конце концов, не бандит же — простой хулиган. Теперь из-за него всю милицию в ружье поднимать?
— Не будем дискутировать, — нажал на басы Томин. — Этот мужчина начинает мне не нравиться. Надо выявить все случаи хищения не только одежды, но и денег, документов. Пропажа буханки хлеба — и та сейчас может дать зацепку, ясно? Шевелитесь там, сони окаянные!
Между тем лейтенант по заданию Томина принес карточки тех, кто прибыл в последней партии. Бритые физиономии в фас и профиль и краткий текст. Томин перебрал их, на одной остановился.
— Глядите-ка, земляк. Иван Калищенко. Тоже еловский.
— Первые дни был даже с Багровым в одном бараке, — подсказал лейтенант.
— Так-так… Что за личность?
— Скользкий какой-то, товарищ майор.
— За что осужден?
— Работник почты. Систематическое хищение путем подлога. Кстати, он рядом. На кухне дневалит.
— Давайте его!
Калищенко доставили чуть не силой. Он и в дверях продолжал еще препираться с лейтенантом:
— Ну с одного города, ну и что?.. Здрасьте, гражданин начальник… Пойдут теперь допросы-расспросы!
— Не много ли шума? — постучал Томин по столу карандашом.
— Дак ведь от ужина оторвали! И так не ресторан, а коли еще простынет…
Калищенко можно было дать и сорок и пятьдесят в зависимости от выражения лица, подвижного и несимпатичного. Блудливые глаза и самодовольная щеголеватость, которую он умудрился как-то сохранить даже в ватнике, выдавали в нем бабника. Но не это резко настроило Томина против земляка Багрова. Сработал механизм, который Кибрит называла интуицией, а Томин по-русски — чутьем. Чутье подсказало, что поганый, хитрый стоял перед ним субъект. Верить ему нельзя было ни на грош.
— Сядьте и отвечайте на вопросы.
Властный тон заставил даже лейтенанта вытянуться, а Калищенке, наверное, почудились на пиджаке Томина генеральские погоны.
— Слушаюсь, гражданин начальник, — притих он и уселся на краешек табуретки.
— Прежде знали Михаила Багрова?
— Кто ж его, колоброда, не знал? Тем более на одной улице живем, все художества на ладони.
— В каких были отношениях?
— А я чего? Я от него подальше.
— Что так?
— Дак ведь отчаянный был, только свяжись.
— Враждовали?
— Никак нет, гражданин начальник, делить нечего.
Есть у него какой-то камень за пазухой против Багрова. Но о чем спросить, как спросить, чтобы камень нащупать?
— И семью его знаете? — наугад копнул Томин.
— Так точно. Май Петровне завсегда здрасьте… — тут он ухмыльнулся слегка, и в ухмылке проскользнуло злорадство.
Томин помолчал, прислушиваясь к себе. Следующий вопрос был уже с прицелом:
— Вы женаты?
— Само собой.
— Жена ваша с Багровой общается?
— Куда нам, гражданин начальник: Май Петровна — дамочка культурная, много о себе понимает, у ней другие знакомства, с высшим образованием. А нас ежели когда пострижет-побреет — и все наше удовольствие.
Придуривается. Но чем-то его Багров с женой уязвили. Может, взять на уважительность? Такие вот поганцы обожают престиж.
— Калищенко, я нуждаюсь в вашем совете. Как человек, знающий Багрова с детства, что вы можете предположить о причине побега?
Нет, не купился.
— И-и, мало ли что Мишке в голову могло взойти! Я за него отвечать не берусь.
— Противный тип, верно? — вскользь кинул Томин.
— Ой, верно! — и сразу спохватился: — Конечно, как на чей вкус.
— Куда он, по-вашему, мог податься?
Калищенко затряс головой:
— Знать не знаю, ведать не ведаю!.. Да пропади он пропадом, чтоб я из-за него холодную кашу ел!
— Ладно, идите.
Тот поспешно удалился. И даже воздух в помещении посвежел.
— Что-то тут нечисто… — обратился Томин к лейтенанту за неимением другого собеседника. — Но правды он не скажет.
— А если припугнуть?
«Ай да дипломник педвуза!»
— У вас практикуются пытки? Или есть яма с голодными тиграми? Ладно-ладно, шучу, — потрепал он по спине покрасневшего лейтенанта.
И в третий раз сел за аппарат спецсвязи. По счастью, Знаменский оказался на месте.
— Про субботу помнишь? — заорал в трубку. — Смотри, мать обидится!.. Что?.. Иван Калищенко?.. Н-нет, Саша, такой по делу не проходил и никем не поминался.
— Меня, понимаешь, совпадение настораживает. Появляется Калищенко, Багров делается сам не свой, выдумывает историю насчет кражи и с комфортом уезжает из колонии. И бежит. Причем сам Калищенко Багрова безусловно не переваривает и о жене его отзывается с каким-то ядом. Словом, насолить ему он бы не отказался.
— Раз земляк, привез какие-то вести с родины, — уверенно сказал Знаменский.
— Мог и выдумать, он такой.
— Да?.. Саша, тут что-то с женой Багрова. Ради нее он способен на любые дикости.
— Так ли? Когда предложили свидание раньше срока — не сморгнул.
— Это неважно, это поза! Например, мне ругал ее на все корки. Я почти поверил. Только потом понял, что там что-то сложное, роковые страсти-мордасти.
— И что может быть с женой? Заболела? Отказалась от свидания?
— Не знаю.
— Ну что ж, пожелай мне тогда счастливого пути в Еловск.
С этого разговора начало в Томине нарастать смутное беспокойство. Он даже подумал о самолете (хотя убежден был, что в любом случае опередит Багрова), но погода завернула нелетная.
…И опять он спал в купе, смотрел в окно, доедал со дна сумки дорожные припасы.
Поезд, сначала полупустой, постепенно заселялся. Где-то плакал грудной ребенок. За стенкой азартно забивали козла. Дюжий буфетчик из вагона-ресторана развозил кефир и конфеты; потом собирал бутылки. Все это не мешало. Но ни есть, ни спать уже решительно не хотелось. Томин амнистировал «Робинзона Крузо», пробежал десяток страниц и отложил. Было неспокойно и скучно. Он уже жалел, что проинструктированная начальником станции проводница так долго охраняет его от попутчиков.
О Багрове думать-гадать бесполезно, нужна свежая информация. Он решил подумать о субботе; сочинить нестандартный тост. За этим занятием его таки сморило, и как раз тогда явились попутчики. Набилась в вагон компания туристов с рюкзаками, лыжами и прочим снаряжением. На долю Томина достались два парня и некрасивая девица в очках.
Когда он открыл глаза вторично, парней оказалось уже трое, и девушки (обе новенькие и смешливые) резали на газете батон.
«Либо ходят друг к другу в гости, либо размножаются почкованием. Второе, конечно, забавней, но купе не резиновое».
Он умостился поудобней в своем уголке. Забренчали на гитаре, завелись петь, бросили, переключились на анекдоты. Забулькало в стаканах, запахло пивом. Песни были известные, анекдоты тоже.
«Вернемся к тосту, концовка еще не дотянута».
Через несколько минут он уловил, что речь шла о нем:
— Да он и не спит. Он просто меланхолик.
— У него сварливая теща и куча детей…
— Ребята, перестаньте.
— А собственно, почему? Битых два часа человек сидит как истукан. Не ест, не пьет и не веселится. Это неестественно.
— А может, он просто стеснительный?
— Сейчас я выясню! — произнес задорный девичий голосок.
Томина дернули за рукав, и он отозвался притворно-сонливым тоном:
— Я вас слушаю.
— Скажите, вы всегда такой… м-м… унылый?
— Я очень мрачен от природы. Кроме того, без малого два дня я толок воду в ступе. Не пробовали? Жуткое занятие.
— А куда вы едете?
Девушка была смугленькая, с ямочками на щеках. Ладно, давай поболтаем.
— В маленький далекий городок.
— Там вы тоже будете толочь воду в ступе? — ямочки стали глубже.
— Не исключено.
— Мне вас искренне жаль… Хотите бутерброд с сыром?
— Кажется, нет.
— А с колбасой?
— Спасибо, еще меньше.
— Ко всему прочему вы еще и вегетарианец? — вмешался сидевший рядом парень с гитарой.
Вместо ответа Томин тронул пальцем струну:
— Слышишь звук? Подтянуть надо.
— Может, споем? — улыбнулся тот насмешливо.
Томин забрал гитару, тщательно настроил. И сыграл «Чижика-пыжика».
— Ничего смешного. Подчас это сложнейший вопрос — где был Чижик-пыжик такого-то числа в такое-то время…
Он коротко задумался: в субботу непременно заставят петь. Надо хоть вспомнить, как это делается.
Он взял несколько аккордов и запел — ребятам не знакомое, потому что свое: про часы, которые шли, опережая время, и очень этим гордились; потом про то, как за Полярным кругом решили строить арбузолитейный цех… Тексты у Томина были юмористические, подтекст грустный и вольнодумный, мелодии запоминающиеся.
(Пора тогда стояла на редкость гитарная. Все пели, многие сочиняли, кто во что горазд. У Томина получалось недурно, а по мнению друзей, лучше всех).
* * *
На развилке шоссе чернел столбик с указателем: «Еловск — 12 км».
Возле него затормозил и остановился грузовик, в кабине которого сидел заросший исхудалый Багров.
— Все, браток, дальше не по пути, — сказал молодой шофер.
— Подбрось меня, парень, — с надрывом попросил Багров. — Хоть полдороги. Спешу.
Шофер хмыкнул.
— Все спешат. Время — деньги. А у тебя, похоже, ни того, ни другого.
Он дотянулся через пассажира до дверцы, открыл ее приглашающим жестом.
Багров не двинулся.
— Устал я. Тебе во сне не приснится, как я устал!
— Какая-нибудь попутка прихватит, — беспечно обнадежил парень. — Подождешь — не пропадешь!
Под тяжелым взглядом Багрова он осекся, насторожился. Густело молчание. Только щетки поскрипывали по стеклу. Парень инстинктивно подобрался, готовый к любой неожиданности.
Двенадцать километров. По сравнению с преодоленным расстоянием — такая ничтожная малость. Но их надо пройти на обмороженных ногах. Да еще скрытно, хоронясь и от встречных и от попутных. Двенадцать километров. Двенадцать километров. Если бы этот сосунок мог понять…
— Ну ладно. Пусть будет спасибо, — Багров заставил измученное тело пошевелиться, сполз на землю.
Прикрывая лицо, поднял воротник полушубка, который был ему и короток и тесен; надвинул шапку на лоб.
Грузовик испуганно умчался.
Первые шаги — самые трудные, позже боль притупится. Двенадцать километров — не полторы тысячи. Это близко. Это рядом. А мокрый снег — даже хорошо. Проезжим несподручно приглядываться, кто там пехом тащится.
…Томин находился в Еловске с утра.
Казалось бы, логично, попав в Москву, забежать домой и на работу, и он уже вышел на площадь со своим чемоданчиком и опустевшей «пропитательной» сумкой, но вдруг вернулся позвонить из вокзального отделения милиции.
На предположительном маршруте Багрова обнаружились наконец случаи недавних пропаж (шапка, полушубок, валенки, бидон молока). И если «автором» везде был Багров, то, судя по датам, двигался он на диво быстро.
Томин пересек площадь и взял билет до Еловска. Тревога, звеневшая до того комариком, зажужжала шмелем…
Первым прибежал в дежурку извещенный о прибытии инспектора МУРа участковый Иван Егорыч. Человек местный, что Томину и требовалось:
— У меня к вам тысячи полторы вопросов, и все как раз местного значения. Город, естественно, знает про побег?
— Понятное дело.
— И что предполагают о причинах?
— Да не очень и предполагают. Ждут, чего будет, — развел руками Иван Егорыч.
— Но случай-то редкостный!
— Так Багров и сам редкостный. Коснись кого другого, люди бы на все лады голову ломали. А раз Багров… чего только не вытворял…
— Особенно под градусом, — добавил дежурный. — Некоторые просто считают, что наскучило трезвому сидеть — он ноги в руки и пошел.
— И вы того же мнения, Иван Егорыч?
— Ну нет, не такой дурак, чтобы за пол-литра в побег. Какая-нибудь идея приспичила. А вот какая — тут за него не угадаешь.
— Надо обязательно угадать! Смотря по содержанию идеи, будем прикидывать, где Багрова искать.
— Брат у него младший на Дальнем Востоке рыбачит… — после короткой паузы припомнил участковый.
— Дядька есть в Киеве. По матери, — подал голос дежурный.
— На Востоке брат, в Киеве дядька — это все не то. Похоже, Багрова надо ждать у вас, в Еловске.
— У нас?! — привскочил даже участковый. — Все равно что в мышеловку!
— Какой тогда расчет на волю рваться? Нет, товарищ майор, ошибка.
— Смотря по содержанию идеи. Зацепка вот в чем: в ту же колонию попал один здешний. Именно после с встречи с ним у Багрова резко изменилось настроение, и вскоре — побег.
Дежурный с участковым переглянулись обеспокоенно.
— Мог земляк сообщить ему такую новость, которая Багрова перевернула? К примеру, отец при смерти, жена в больнице?
— Да все, слава Богу, здоровы. А кто здешний, товарищ майор?
— Некто Иван Калищенко.
— У-у, Калищенко мог чего угодно натрепать!
— Он-то трепанет, да Михаил навряд поверит! — загорячился дежурный. — Ванька от него до самой армии с битой рожей ходил — за поганый характер!
— Но, между прочим, пили вместе не один раз за последнее время, — покачал головой Иван Егорыч.
Они еще потолковали на эту тему, и Томин внимательно выслушал обмен мнений.
— Решим так, — подытожил он, — Багров мог поверить Калищенко в двух случаях — или понимал, что тот сообщил правду, или известие было очень похоже на правду.
Собеседники выжидательно молчали.
— Подумайте: что-нибудь произошло, что вплотную затрагивает Багрова? Предположим, он был бы здесь — что-нибудь всколыхнуло бы его, заставило вмешаться?
Дежурный с участковым подумали вместе, подумали порознь и отрицательно покачали головами.
«Ничего не вытанцовывается! А Багров все ближе… Но, собственно, кто поручится, что его несет именно в Еловск? Ах, да, Паша ручался. Впрочем, были случаи, и он обманывался…»
Пришел еще и еще кто-то, присоединился к обсуждению.
— Давайте зайдем с другой стороны, — сказал Томин. — Нет ли серьезного нераскрытого преступления — старого, еще до ареста Багрова?
Дежурный сощурился, стараясь уловить мысль Томина.
— Это, значит, ход такой: Мишка чего-нибудь натворил и, пока не поймали, сел по мелочи?
— А Калищенко ему шепнул, что теперь, мол, докопались до прежнего?
Томин кивнул.
— Хитро! Да только не про нас. Ничего хоть мало похожего. Верно, Егорыч?
— Бог миловал. У нас «висячек» вовсе нет, — похвастался он к слову.
— А коза, Егорыч?
Все засмеялись.
«Счастливые люди. Единственная «висячка», да и та из козьей жизни».
Но слушать про козу было некогда. Шмель гудел неотступно, и благодушное настроение присутствовавших начало понемногу раздражать. Не усидев на стуле, Томин взялся расхаживать по просторной дежурке.
«Придется вернуться к Пашиной версии. Только не сразу тыкать пальцем в жену».
— Ставлю на повестку дня семейный вопрос, — объявил он. — Домочадцы, родственники в Еловске. Какие родственники? И какие события? Все подряд.
Стали перебирать:
— Варвара — золовка — двойню родила.
— Катерина Багрова со своим Витькой поссорилась. Тихон сессию в техникуме сдал…
— Старика Багрова ревматизм скрутил… А старуха у дочери гостит. А двоюродная сестра…
«Мать честная, все-то они знают, а толку чуть! Тут до вечера не переслушаешь».
— А что насчет отношений с женой? — спросил он, перекрывая галдеж.
Наступило общее несколько натянутое молчание. Затем ответил какой-то грузный, лысоватый, сильно на возрасте:
— Я вам скажу откровенно, ничего хорошего ни ей, ни ему. Он наш коренной, можно сказать, на печи вырос, она — ленинградская. Совсем две разные породы. Не пара она ему была, не пара и осталась.
Дежурный запротестовал:
— Верней — он ей не пара, вот эта да! Майя когда приехала, мы только рты раскрыли! Если бы у Михаила не те кулаки, его бы с зависти извели, когда он ее у директора отбил!
— Потому что хват был, не вам чета! — вскинулся лысоватый. — Ведь такой парень под уклон пошел! Бывало, что на аккордеоне, что плясать… И ничего на свете не боялся, пятерых подряд мог на обе лопатки!
В дежурку вопросительно заглянул высоченный молоденький парнишка.
— Виктор Зуев из штаба дружины, — шепнул Томину участковый. — Катерины Багровой, можно назвать, жених. Может, пригодится?
— Может, и пригодится.
Участковый сделал парню знак войти. Томин обернулся к дежурному:
— Вы директора помянули. Кого имели в виду?
— Семен Григорьича, конечно, — удивился тот, настолько это казалось ему общеизвестным.
— Фабулу в двух словах.
— Да это уж дела давно минувших дней…
— Э-э, не говори, старая любовь не ржавеет, — усмехнулся Иван Егорыч. — Загорский Семен Григорьевич был с Майей Петровной раньше еще знаком, до Еловска, — пояснил он Томину. — Приехал вскоре после нее, и все твердо считали, что вот-вот свадьба. Но Михаил пошел в атаку…
Виктор нервно вылез вперед:
— Простите, я не понимаю… Зачем этот странный разговор?.. Дескать, не ржавеет…
— Ты, Витя, погоди, тут серьезный вопрос, — остановили его и велели сесть. Опять завелся общий гомон:
— Зачем бы Семен Григорьевичу здесь оставаться?
— И то верно…
— Как Майя с Михаилом поженились, ему был прямой путь обратно в Ленинград.
— Не верил Семен Григорьевич, что они уживутся, ждал, пока Майя Петровна не выдержит. Вот что я думаю, — припечатал участковый.
Виктор положительно не был способен высказываться сидя. Снова вскочил:
— Почему вы ему приписываете что-то такое?.. Он всю душу отдал школе, возился с каждым, как с собственным! Я Семен Григорьевича глубоко уважаю и люблю…
— Вот чудак! — изумился дежурный. — В Еловске такого и человека нет, который бы Семен Григорьевича не уважал. Мы ведь о другом — мы о Багрове сейчас.
— А что о нем? Пьяница и скандалист, каких мало!
— Сплеча рубишь, молод еще! — оборвал лысоватый. — Ихняя вся порода такая. Дед до восьмидесяти лет за стол без рюмки не садился. Он до революции извозом промышлял — Савелий Багров, — так иной раз на большой дороге наскакивали по трое, а то и по четверо — голыми руками расшвыривал! Михаил Багров — лихих кровей! Вот откуда норов.
— Неужели вы не согласны, что он антиобщественный? — не сдавался потенциальный зять.
Лысоватый утратил свой пыл.
— Теперь уж, конечно, антиобщественный… Какой-то в нем надлом случился. Стал человек себя терять.
— Э, Павел Матвеич, — махнул рукой дежурный, — по-русски это называется просто: спился.
— Просто? Про Михаила-то Багрова — просто? Когда он что спроста делал, скажи? Мы что — сплетничать собрались? Или заметку в стенгазету сочиняем? Если станем примитивно судить — промахнемся так, что после не расхлебаем!..
Томин, вникая в их споры, мрачнел и мрачнел. Вспомнились слова Знаменского: «Роковые страсти-мордасти».
— Прошу внимания!
Не все услышали (о Томине слегка подзабыли), пришлось, повторить. Дождавшись тишины, он медленно и раздельно проговорил:
— Предлагается следующая задача: Багрова кто-то смертельно обидел, оскорбил, опозорил. Какова будет реакция?
— Да ведь нет этого ничего, товарищ майор! — испугался дежурный.
— Допустим, есть. Что сделает Багров?
Томин поочередно обводил взглядом присутствующих. Каждому явно становилось не по себе. Он обратился к лысоватому, как наименее предубежденному против Багрова:
— Ну? Как на духу?
Тот прокашлялся, сглотнул, произнес тихо:
— Может и убить.
— Ваше мнение? — к участковому.
— Может, — вздохнул тот.
Не было необходимости опрашивать остальных. Слово сказано.
— Давайте все успокоимся и серьезно подумаем. Я боюсь, что Багров чрезвычайно опасен. Когда я заговорил о его жене с Калищенко, у того в глазах заиграло злорадство. И… словно знает он о ней что-то нехорошее.
— Гаденыш! — шепнул дежурный.
— Представим себе, что Калищенко расписал Багрову, как его жена утешается с Загорским. Мог придумать правдоподобно. Он, по-моему, достаточно хитер.
— Калищенко? — воскликнул Виктор. — Это с почты? Да он же… Вот подлец! Он же к Майе Петровне подкатывался!.. Без мужа дескать, скучно, под локоток… А она ему… не знаю точно, кажется, по щекам… И тут — Семен Григорьич навстречу. Калищенку шуганул, а Майю Петровну до дому проводил…
— Катерина рассказала? — осведомился участковый.
— Ну да.
— А чего повздорили-то?
— Повздорили — помирятся, — нетерпеливо прервал Томин. — Главное для нас теперь — фактор времени. Конечно, Багров не на вертолете летит, но при его характере… пожалуй, завтра-послезавтра объявится. Оперативные соображения?
— Посты ГАИ надо известить, чтобы транспорт проверяли, — предложил дежурный.
— Принято. Дальше?
— Общественность проинформируем, — решительно (и, разумеется стоя) сказал Виктор, мысленно созывая штаб дружины.
— Нет, шума поменьше, спугнем. Молва у вас, наверное, быстрее телеграфа.
Все согласились.
— Еще и то скажу, — добавил участковый, — об Семене Григорьевиче надо подумать. Слух если прилипнет… Ославят их с Майей Петровной — потом не отмоешься.
— Слух — не смертельно, — отмахнулся Томин. — А вот предупредить Загорского надо. Где он живет?
— При школе и живет. — Дежурный набрал номер. — Семен Григорьевича попрошу… Куда?.. А вернется?.. Ясно. В Новинск он уехал по школьным делам. Дня на три.
— С Новинском потом свяжемся. Следующее. Где Багров на первое время может затаиться? Хоть несколько часов ему нужно с дороги отдышаться, осмотреться.
Все призадумались.
— Иван Егорыч, записывайте, — подтолкнул Томин.
— К отцу не сунется…
— Не-ет старик его в амбар запрет, да еще вожжами, пожалуй. К друзьям по бутылке.
— К Матвею может.
— К Матвею — да. К Андрею Зубатому тоже. Записывай обоих.
— Алабина запиши, Петра.
— Сомнительно.
— Зато городом не надо идти, с краю.
— Ладно, для верности. И Лопатиных уж тогда.
— А вдруг он прямо домой — и… что-нибудь Майе Петровне? — предположил Виктор.
— Белым днем не осмелится, а к ночи присматривать будем.
— Развод в восемь? — спросил Томин.
— В восемь. Гусев — замнач по оперативной части — вернется в шесть.
Томин глянул на часы. К семи надо быть в Москве. Принять душ, сменить рубашку — и к Паше: ведь сегодня знаменательная юбилейная суббота, на которую он обещал явиться хоть с того света.
* * *
Багров одолел свои двенадцать километров.
Облепленный снегом, зелено-бледный, почти неузнаваемый добрел до стоявшего на отшибе обнесенного плетнем дома. Осторожно заглянул в окно и постучал пальцем по стеклу. За дверью послышался голос: «Кто там?»
— Дед Василий, отвори.
Дверь приоткрылась, высунулась седая голова. Уставилась на пришельца с недоумением, пошевеливая бровями, стараясь сообразить, кто пожаловал.
— Да я же это, я… — просипел Багров.
— Мишка?! — ошеломленно вскрикнул дед. — Откудова тебя черт нанес?..
— Ш-ш… один ты?
— Кому у меня быть?
Уединенно жил старик, держал пасеку. Ходили к нему только за медом, который он предпочитал выменивать на продукты, чтобы не таскаться самому в город: ноги донимали. А последние дни визитеров не случилось, и некому было доложить деду Василию о городских новостях.
— Чего не пускаешь? — беспокойно заозирался Багров; тело его рвалось в тепло и укромность.
— Снег стряси.
Нежданный гость снял шапку, хлопнул о колено, криво надел и чуть как бы пошатнулся. Спиртным, однако, не пахло, дед Василий в свои без малого девяносто лет сохранил и безошибочное обоняние, и зоркость. Он взял веник, сам обмел Багрова от плеч до валенок.
— Теперь заходь.
И, запирая за ним, тоже внимательно осмотрел округу. Багров рухнул на табуретку у теплой печи, закрыл глаза. Дошел!
— Дошел, видать, до ручки, — пробурчал дед Василий. — Сымай тулуп, Михайло.
Тот кое-как расстегнулся, стащил полушубок, дед бросил его на лежанку сушиться. Шапку, дивясь дорогому меху, уважительно повесил на гвоздь. Потом оглядел небогатое свое стариковское хозяйство, достал растоптанные бахилы:
— Обутку смени.
— Не могу, потом. Картошкой пахнет… — запекшимися губами выговорил Багров.
— Картошка с голодухи — вред один. Меду тебе надо, мед силу даст. Спасибо, чайник горячий, — он старательно задернул занавеску на окне, к которому приставлен был стол.
Долго и жадно ел Багров хлеб с медом, запивал чаем. Оживал. Хозяин счел, что пора и поговорить.
— Сколь же ты не досидел, Михайло?
— По амнистии, дед.
— Ты это… не загибай! Думаешь, я по старости сдурел вконец?
— А не сдурел, так не спрашивай.
— А ежели мне интересно?
— Ишь ты, ему интересно! — язвительно скривился Багров.
— Дерзить не смей! А то вот тебе Бог — а вот порог! — Дед Василий распрямился; даже и теперь еще проступали в нем прежняя стать и размах.
— Так-таки и выгонишь? Савельева внука?
— Только ради светлой памяти, — помолчав, сказал дед и перекрестился. — Слава Господу, Савелий не дожил!
— Слушай, мне от тебя ничего не нужно. Может, переночую — и прощай. Вот только… выпить бы малость.
— Выпить нету, — решительно ответил хозяин.
— Врешь. Держишь небось для зятьев.
— А хоть бы и держал! Водки не дам! Ты через нее и сгинул!
Невдалеке забрехала собака, дед Василий озабоченно приник к занавеске, проследил за кем-то, обернулся к обмякшему за столом Багрову:
— А скажи на милость, за каким шутом ко мне-то пожаловал? То годов пятнадцать глаз не казал, а то на тебе — явился!
— Прикажешь к Матвею идти? Или к Андрюшке Зубатому? Там меня враз и прихлопнут.
— Все одно поймают, Михайло. Куда денешься?
— Потом пусть ловят, — равнодушно уронил тот.
— Пото-ом?..
Косматые брови взлетели, собрав лоб в глубокие морщины, затем поползли вниз, нависли по бокам ястребиного носа.
— Чевой-то ты задумал? А? — грозно приступил дед к гостю.
Но уже не те были годы, когда Мишку устрашал закадычный Савельев друг.
— Дело есть, — твердо и тяжело легли его слова поверх стариковского окрика. — Что-то жарко у тебя, — попробовал отвлечь разговор в сторону.
Дед сел против него.
— Это от меду. Сколько ден не емши-то?
— Двое суток.
— Ох, Михайло, натворишь ты беды! Ведь чисто зверем смотришь!
— Я сейчас зверь и есть… Зверь за добычей, а за зверем — охотники.
— Ну, вот чего: отвечай по чистой совести — какое твое намерение?
По совести Багров ответить не мог. Но старик был пока очень нужен. И — подспудно где-то, на дне сердечном — было перед ним немного стыдно. Потому ответ прозвучал без вызова, по-родственному:
— Слушай, дед, я много куролесил, верно. Однако не подличал. Ты за мной какую подлость помнишь?
— Еще бы не хватало!
— Так вот те крест — мое дело справедливое.
— Будто ты в Бога веруешь!
— Тогда памятью Савелия Багрова клянусь! — поднялся торжественно.
Встал и дед Василий.
— Гляди, Михайло, не бери греха на душу!
Багров пошел к лавке, повалился на нее:
— Стемнеет — разбудишь.
Хозяин зашаркал к окну. Снег перемежился, но тучи висели серым пологом.
— По такой погоде часов с пяти смеркаться уж начнет, — сообщил он.
Багров не откликнулся — спал.
* * *
Снег перемежился. В поле зрения появился дворник с широченной лопатой; послышался характерный скребущий звук. Томин стоял у отворенной форточки и прихлебывал жидкий и слишком сладкий кофе, который налил ему из своего термоса дежурный (извинившись, что некрепкий и пересахаренный: и то и другое «из-за сердца»).
Еловские стражи порядка, «заведенные» Томиным, теперь уже сами себя подхлестывали и делали все как надо. Период чесания в затылке миновал. Но на долю Томина оставалось кое-что, чего он не мог никому передоверить.
— Иван Егорыч, подскажите, с кем Багрова ближе всего?
— Исключая мужнину родню, Майя Петровна со всеми ладит. Но так чтобы закадычно… вот, правда, с Сергеевой они дружат. Это завпарикмахерской. Вдвоем нам шею мылят.
— Мне бы с ней перемолвиться без свидетелей. Они вместе работают или посменно?
— Как когда. Ну-ка, Витек, добеги.
Дворник, скрывшийся из глаз, теперь двигался в обратном направлении, толкая перед собою целый сугроб. Куда он денет такую гору? Тут нужна лопата поменьше. Но дворник, словно в ответ, уперши черенок в согнутое колено, поднял сугроб и широким махом откинул в сторону. Отличные мужички жительствовали в Еловске… Виктор вернулся с известием, что заведующая Сергеева управляется одна.
…В маленькой парикмахерской на три кресла «предбанник» для ожидающих был отделен от основного помещения полузадернутой портьерой.
У Сергеевой сидел клиент, доносились самые обыденные реплики. Единственное упоминание о Багровой не представляло интереса: та пошла к врачу, потому что лишилась сна. Но Томин все же прислушивался.
«Здесь немного снять?.. Одеколончиком?..» Женский голос почему-то нравился. Такие голоса — у благополучных, жизнерадостных людей.
Клиент выплыл из-за портьеры в благоухающем облаке, и Томин занял его место.
Женщина в белом халате спиной к нему заметала остриженные волосы. Затем скрылась за внутренней дверью и тотчас вернулась, неся чистое полотенце и мисочку с водой. Томин внутренне ахнул. На полдороге Сергеева увидела его в зеркале и резко остановилась, плеснув мисочки на пол.
Долго они молчали, отброшенные этой встречей лет на тринадцать — пятнадцать назад, когда она — нынешняя Сергеева, прежняя Шахова — отдала Знаменскому и Томину своего мужа, крепкого подпольного дельца. Beроятно, не страстно любимого, но любящего, щедрого и очень богатого.
По собственному побуждению отдала, без нажима и внешней необходимости. Заподозрила, что он замышляв «убрать» опасного свидетеля, — и отреклась, не побоявшись статьи с конфискацией.
На всегдашний Пашин вопрос — что, мол, толкнуло? — ответила: «Я могу быть женой расхитителя, но не уб…» И дальше выговорить не сумела, захлебнулась страшным словом.
Как преобразили ее протекшие годы! Нет бы увянуть — пополнела, расцвела, только столичный лоск сошел. Кто бы поверил — ведет трудовую жизнь, стоит, надо думать, в очередях, стряпает. Н-да, до чего все-таки Земля круглая. То Ковалевский, теперь она…
— Здравствуйте, Елена Романовна, — встал Томин, спохватившись.
— Здравствуйте.
— Не смотрите на меня как на выходца с того света!
— Для меня оно так и есть. Зачем вы?.. Что вам нужно?..
— Зря напугались, Елена Романовна. Я зашел всего-навсего побриться и так же не ожидал встретить вас, как вы меня.
— Брить я вас не стану. Руки дрожат… Нет. Нет, вы не случайно! Вы же пользуетесь электробритвой — по коже видно. Вы пришли ко мне!..
— Да, но только как к близкой подруге Майи Петровны Багровой. Так мне вас рекомендовали.
— Вон что…
Женщина поставила наконец мисочку, бросила на спинку кресла полотенце. Но Томин видел, что ее не больно-то отпустило.
— И чего же вы хотите?
— Кое-какой информации от женщины, с которой Багрова откровенна. Кстати, люди проходят, заглядывают в окна, а мы с вами беседуем. Довольно неестественно. Сделайте хотя бы вид, что вы меня стрижете. Надеюсь, ножницы удержите?
Сергеева, поколебавшись, взяла расческу и ножницы, накинула на плечи Томина полотенце.
— Не понимаю, почему информацию должна давать именно я. Считаете, что прежний опыт так меня характеризует?
— Да откуда я знал, что вы — это вы!
— Поймите, тогда это касалось только меня. Я распоряжалась своей судьбой. Чужой — не могу.
— Бог мой, сколько драматизма!
Сергеева сделала неосторожное движение.
— Уши стричь не надо, — мягко попросил Томин.
— Извините.
— Дело всего в нескольких вопросах.
— Майя — честная, глубоко порядочная женщина. И скрывать ей, по-моему, нечего. Говорите с ней сами. Я не имею ничего против вас лично, но мне невыносимо вас видеть!
— Елена Романовна, если б не чрезвычайные обстоятельства… опасные, между прочим, и для вашей приятельницы, я бы не настаивал.
Сергеева заикнулась что-то спросить, но бросила ножницы.
— Нет у меня сил с вами разговаривать… Все было похоронено. У меня не только новая семья — душа новая! И вдруг…
«Ничего с ней не получится. Дохлый номер. Жаль».
— А затылочек-то подпортили, — сказал он, разглядывая себя в профиль.
— Сами напросились.
— И сколько с меня за художественную стрижку?
— Бесплатная услуга. На память.
«И голос-то стал прежний».
Томин скомкал полотенце и раздраженно сунул ей в руки.
— Пал Палычу привет передать?
— О господи!
— Спасибо, передам. Желаю счастья.
Сначала она ощутила только облегчение. Мало-помалу стихала дрожь; задышалось ровнее; но в ногах была еще слабость. Она села боком к зеркалу, подперлась кулаком; перебирала сказанное ею, сказанное им.
Почувствовала раскаяние: ведь эти двое, Знаменский и Томин (хотя и не ведая того), спасли ей жизнь. Был день, когда она висела на волоске…
Голос Багровой вывел женщину из оцепенения:
— Лена! Устала без меня?
— Нет… голова болит… — первое, что пришло на ум.
— Пора закрывать — короткий день. Я за тобой — благо все равно по пути.
— Погоди… Маечка, мне надо тебе два слова…
Та взяла полотенце с обрезками черных волос, которое Сергеева так и забыла на коленях, бросила в раковину.
— Где два, там и двадцать, — проницательно определила она. — Разденусь тогда. — Села, приготовилась слушать.
— Только что у меня побывал человек из МУРа.
Багрова не переменилась в лице, только сжала подлокотники кресла:
— Они… нашли Михаила?
— Думаю, наоборот.
— Но хоть какие-то следы — где, что с ним?
— Майя, они приходят только спрашивать. Этот человек хотел что-то разузнать о тебе… или о самом Михаиле. К сожалению, я не знаю. — С появлением подруги мысли ее приняли другой оборот. — Маечка, я к тебе очень привязалась… Ты не сомневаешься?
— Что это ты вдруг?
— Потому что обязана предостеречь… вернее, дать совет. Если Томин… из МУРа, если он к тебе придет — будь с ним до конца откровенна!
— У меня нет тайн, которые интересуют МУР.
— Но… я не знаю, они могут появиться… скажем, Михаил сообщит, где он находится… Извини, я понимаю, положение щекотливое, но в любом случае помни — Томину можно довериться. Для вас с Катей… даже для Михаила это будет лучше.
Майя Петровна пристально и изумленно всматривалась в подругу.
— Лена, ты его рекомендуешь, словно старого приятеля!.. Им надо поймать Мишу, и все! Где здесь «лучше», где «хуже»?.. Легко давать советы при семейной идиллии… У меня, кстати, аспирин есть. Примешь?
— Не болит у меня голова.
— Тогда что с тобой? Сама не своя, похоже, плакала.
— Прошлое навалилось…
Она испугалась было вырвавшихся слов, но сразу за тем почувствовала, что они нужны, что перед ней человек, которому можно исповедаться. Майя — умная душа — все поймет, верно оценит и простит. И на сердце сделается легче.
Но начинать было тяжко.
— Тебе известна моя сегодняшняя жизнь… — женщина приостановилась, принуждая себя не отрываться от ясных Майиных глаз, которые сейчас изумленно расширятся. — Когда-то у меня была другая фамилия… и прозвище Шахиня.
— Шахиня… вот странно.
Только не останавливаться. Силком выталкивать слова, застревающие в горле.
— Не странно, Майя. Я тогда была обвешана драгоценными камнями… Чистой воды, но темного происхождения… Жила барыней и белоручкой…
Последний ров перепрыгнуть, нечего тянуть:
— К нам в дом наведывался тихий старичок… подпольный миллионер по кличке Черный маклер. Я… была супругой крупного валютчика.
— Ты?!..
* * *
Обратный путь к зданию милиции Томин проделал по идеально расчищенному и даже подметенному тротуару. А снегопад вот-вот возобновится, и дворник это знает. Но — прав. Раз что делаешь, надо делать чисто и до конца.
В дежурку Томин заскочил только за адресом Багровых. Виктор навязался проводить. Ладно, поможет развеять досаду от неудачи с Шахиней. (Я в претензии, а вот Паше будет подарок, что у нее «новая душа».) Теперь бы хоть с женой и дочерью Багрова не промахнуться!
Дорога лежала мимо той же парикмахерской, и кроме Сергеевой, в глубине вырисовывался еще один женский силуэт.
— Кажется, Майя Петровна! — ухватил Томина за локоть Виктор.
— Да?.. — Томин постоял в раздумье. — А пускай себе потолкуют.
В переулке провожатый понуро замедлил шаги.
— Вон их окна, а вон — дверь. Второй этаж.
— Ты понял, что надо про все помалкивать? — на всякий пожарный напомнил Томин.
— Да, конечно!.. Мне вас подождать? — Без своего штаба дружины парень слонялся, как неприкаянный, да еще с девушкой в ссоре.
— Последи, будь другом, чтоб мне не помешали. Если что — скажи, никого дома нет, сам поджидаю. Вот и при деле будет…
— Вы — Катя Багрова?
— Да. Я — Катя Багрова.
Бедный Виктор. С такого крючка ему не сорваться.
— Майи Петровны нет?
— Вероятно, с минуты на минуту…
— На ней синее платье?
— Да…
— Тогда могу сообщить, что ваша мама увлечена сейчас беседой с Еленой Романовной. И думаю, меньше чем за час они не управятся.
— Вы-то откуда знаете?
— По долгу службы, — он протянул свое удостоверение.
— Насчет отца? — завибрировала Катя.
— Естественно.
— Что с ним?
— Пока ничего нового.
— Выходит, не там ищете, где надо!
— Выходит, так. А где надо?
Девушка не сразу уловила скрытый смысл вопроса. А уловив, на минуту утратила задор.
— Почем я знаю… Можете сесть.
— Благодарю за разрешение, — серьезно сказал Томин и снял пальто. — А если бы знали, Катя?
Вопрос был ей явно неприятен, она помолчала.
— Понятия не имею. Я еще несознательная. Едва доросла до танцплощадки. Сколько добавляют за побег?
— В данном случае — до трех лет.
— Мало! — с неожиданным ожесточением выпалила она.
— Катя! — урезонил Томин. — Надеюсь, это минутное озлобление. Вы возбуждены, к тому же с Витей поссорились… Кстати, из-за чего?
Вскочила, разгневанная:
— Да какое вам дело! Еще не хватало рассказывать!
— Ого! Немножко в отца, а? «Лихих кровей».
— Ну и что?! Отец не так плох… если б не пил. И вырос в другой среде.
— Я уже наслышан про детские годы Багрова внука.
«Везет мне сегодня на строптивых дам. Чем бы ее отвлечь ненадолго, чтобы не искрила?»
Он оглядел стопку учебников на этажерке:
— Вы кончили школу?
— Да, готовлюсь в институт.
— В какой?
— В юридический. Советуете?
— Вам — нет.
— Это почему же?
— Выдержки ни на грош. Терпения, по-моему, того меньше. И сдается, маловато человеколюбия. Впрочем, вы ведь не всерьез — про юридический.
— Человеколюбие?.. Представляю, какой вы гуманный! Войди отец сейчас в эту дверь — ему от вас будет одно: «Руки вверх!»
— А он может войти, Катя?
Та замерла, боязливо покосилась на дверь, на Томина:
— Не пугайте меня зря!
— Может, и не зря.
— Как?! — ужаснулась девушка. — Он… пробирается в Еловск?.. Господи! Не хватает, чтобы его тут ловили… вели по улицам… руки за спину…
— Наверняка еще неизвестно, Катя. Потому я и хотел кое о чем спросить Майю Петровну.
— Ради Бога, не трогайте маму! Мама и так извелась! Я вам на все отвечу.
— Н-нет, есть вопросы, которые я могу задать только ей лично… — Томин взглянул на часы. — Мне надо идти. Сумею — загляну попозже. Нет — пусть мама непременно позвонит в милицию завтра с утра.
Уже у выхода обернулся:
— А если все-таки неровен час… не прячьте на чердаке или в подвале. Боюсь, у вашего отца скверное настроение. Он опасен.
Взвинченная, переполошенная, слушала она, как поскрипывали ступеньки под ногами Томина. Что значит опасен?.. Все Багровы по-своему опасны, мелькнула задиристая мысль, и Катя посмотрелась в зеркало, проверяя, насколько она сама опасна.
Томин неплотно затворил дверь — оттого и ступеньки были слышны, и в щель дуло. Опасен… Что он имел в виду? Когда это говорит старший инспектор МУРа (титул из удостоверения), то… Притягивая дверь за ручку и накидывая крючок, Катя вдруг ощутила холодок внизу живота и задвинула засов, которым пользовались лишь в ночное время.
Ну где же мама? Уже и стемнеет скоро. Почему не возвращается, как обещала? По детской привычке сунулась к окну. Раньше она вот так нетерпеливо ждала отца… Господи, как жизнь могла быть прекрасна, если б он не пил!
* * *
Шахиня выговорилась, и Сергеева с Багровой поставили на ней жирный крест, не поколебав взаимного доверия и дружбы.
Теперь речь шла о Майе Петровне.
— Мучительней всего неизвестность, — признавалась она. — То представляется, что в сугробе замерз… то крадется где-то задами, будто вор… И все гадаю — дойдет или не дойдет.
— Куда, Майя?
— Домой, наверное.
Сергеева поразилась:
— Но домой же бессмысленно! На что он может здесь рассчитывать?
— Михаил не привык особенно рассуждать. Да и куда ему еще?
— И что ты будешь делать, если действительно?..
Та устало вздохнула:
— А что можно поделать? Только ждать.
— Маечка, эта слепая любовь тебя погубит!
— Ой, Лена, насмешила! — слабо улыбнулась Багрова. — Какая слепая любовь? Моей слепой любви хватило года на два от силы. Потом была зрячая… А там и она пошла на убыль…
У Сергеевой в горле застрял комок. До чего судьба несправедлива! Даже неловко за свое счастье и безоблачный мир в семье.
— Майя, — тихо произнесла она, когда вернулся голос, — я бы никогда не стала спрашивать, но ты сама заговорила. Я смутно слышала о Загорском…
— Да… был Загорский, Лена. Все, кроме печати в паспорте.
— Но почему же…
— Почему променяла? — докончила за нее Maйя Петровна. — Ах, Лена, — повеселела она, — надо было видеть Михаила тогда, девятнадцать лет назад! Ты застала уже ошметки прежнего человека. Он был совершенно из Мамина-Сибиряка: такая стихийная сила, размах, удаль! Кого я раньше видела? Чистеньких мальчиков из приличных семей. А Михаил… нет, ты не можешь представить…
— Но Семен Григорьевич — не мальчик.
— Да, согласна. Умный, благородный тактичный… Обаятельный… Однако потускнел он рядом с Михаилом Багровым. Прикинь, Лена, сколько мне было. А Миша так неистово добивался… — она развела руками, — невозможно было устоять!
— Но когда первый угар прошел, когда ты взглянула трезво…
— Да ведь не сразу же, Лена. Понемножку-потихоньку утекало и не возвращалось… Он не напивался до беспамятства, но как-то шалел и вылезало что-то… свинское… А протрезвится — и снова Илья Муромец.
— А… Загорский не был причиной, что Михаил начал пить?
— Да что ты! Полгорода родственников и свойственников. Свадьбы, поминки, крестины, именины — и везде Михаил душа общества, везде «пей до дна, пей до дна»… И нахваливают: «Ох, молодец! Ох, силен мужик!» Единственное было спасение — уехать. Сколько раз звала! Не мог оторваться от родового гнезда… Оскорблялся за своих: не любишь, мол, брезгуешь… А во мне тоже дурацкий гонор играл — не хотела подлаживаться: грибы солить, капусту квасить. Да и Семен… Григорьевич был рядом, не хотела я на его глазах обабиться.
— И почему не уехал? Все бы стало проще!
— Уперся, не хуже Михаила: «Мало ли что, я всегда поблизости, а ты, Маечка, не обращай на меня внимания». Не обращай внимания, когда мы каждый божий день в школе вместе!.. Я перед ним фасон держала, а Михаил перед своими куражился. Доказывал, что хозяин в доме. Не дай Бог подумают, будто приезжая вертихвостка в руки забрала! И пил порой лишнего — только чтобы доказать… Уже не для веселья — стал привыкать. Ну что, Лена, банальная история, тысячи жен страдают, о чем тут философствовать?
— Майя, ты должна была уйти! Жить с человеком, который на глазах деградирует. Во имя чего?!
— Однажды заикнулась о разводе. Страшно вспомнить. Он меня ударил… и сразу заподозрил Семена, еле удержала, чтоб не кинулся выяснять отношения!
— Бедная моя. Он же еще и ревновал!
— Первые годы — совсем нет. Был слишком уверен в себе. Но когда почувствовал, что я уже не та… Конечно, вообразил, что замешан Загорский. Тут начал беситься. И это распространилось на школу вообще. Ревновал меня к ученикам, к тетрадям, к родительским собраниям.
— И ты все принесла в жертву.
— Это была последняя попытка, Лена. Он дал клятву: ты бросишь школу, я брошу пить.
— Сколько не пил?
— Месяца два. Наверное, думал устоять. А как понял, что не может… это его подкосило.
— А ты и смирилась, сложила лапки!
До чего ей хотелось поднять подругу на борьбу! Ей чудилось слабоволие там, где была стойкость характера — только иного, чем у нее.
Багрова усмехнулась:
— Я чувствую, у тебя на языке слова о женском достоинстве и прочее. А поставь себя на мое место. Добром Михаил меня ни за что бы не отпустил, понимаешь? Он бы на все пошел! Оставалось только сбежать. Тайком собрать вещички, подхватить Катьку — и деру. Скажи, куда? Близких родственников уже нет. Дальних подобрала ленинградская блокада. Не было просто угла, куда деться!.. Единственный человек, на которого я могла бы опереться, — это Семен.
— Не так это мало — Семен Григорьевич Загорский.
— Но у него же на плечах школа! И есть этические нормы, если ты зовешься педагогом… Но возьмем даже грубо житейски. Вот мы уезжаем. Михаил бросается вдогонку. Чтобы не дрожать за Загорского, надо затаиться где-нибудь на несколько лет. Он на это не пошел бы — унизительно. Он рыцарь гордый.
— Не сгущай краски, Майя! В конце концов, есть милиция. Неужели нельзя было найти управу на Багрова?
— То-то твоя милиция который день его ловит — поймать не может. Думала я уйти, Лена, думала. Но пока дозрела — сил не осталось. Выгорела дотла.
— Мне тоже одно время казалось, что я, как колчушка.
— Но ты же полюбила! И ожила. А я… ну да, очень уважаю Семена, считаю родным практически человеком. А все остальное быльем поросло. Значит, взваливать ему на плечи себя и Катю, подвергать опасности, просто спекулируя на его чувстве?..
«Хоть бы и так!» — чуть не вырвалось у Сергеевой, но она спохватилась. Обе надолго замолчали.
Майя Петровна встрепенулась, вспомнив, что Катя, конечно, без нее не ужинает.
— Прорвало сегодня. То тебя, то меня… Нет, подумать только — Шахиня! Пора по домам, Лена.
— Погоди, Майя, погоди… Мне кажется, надо сообщить о твоих подозрениях, что Михаил направляется домой.
— Хватит мне одного раза, когда я сообщила в милицию. Сорвалась, не стерпела — и что?.. Да они, видно, и сами знают. Недаром прислали столичного сыщика.
— Я за тебя боюсь. Может, вы с Катей поночуете пока у нас?
— Что это ты выдумала, Лена? Ну и ну! Я как для него была, так и осталась. И Катя тоже… У нее было воспаление легких в восьмом классе, он на работу не ходил, даже не пил дней шесть, сидел у кровати, не дышал… А когда я ногу сломала? За грибами ходили, я свалилась в овраг, так Михаил восемь километров меня до больницы на руках нес!.. — Она начала одеваться, приостановилась: — Однажды он привез воз черемухи ко дню рождения. Настоящий воз, на телеге… И знаешь, Лена, где-то далеко-далеко стоит и еще пахнет… этот воз черемухи…
* * *
Во второй половине прошлого века был написан фундаментальный трехтомный труд под названием «История кабаков в России в связи с историей русского народа». Свет увидел только том первый. Рукопись двух остальных автор сжег, придя к убеждению, что опубликовать их — значило бы «донести на народ, отнять у него последний приют, куда он приходит с горя».
Еловские выпивохи «Истории кабаков», понятно, не читали и о приведенной цитате не слышали, но отрадное местечко, где до ночи торговали спиртным, нарекли именно так: «Валюхин приют». Безотказная Валюха давно состарилась, а там и померла, передав бразды правления дочери; та в свой черед достигла пенсионного возраста и удалилась на покой, и ныне в «приюте» хозяйничала Валюхина внучка (по паспорту Светлана). Но он так и остался «Валюхиным приютом», и внучка смирилась с тем, что ее именуют Валюхой, и сохраняла семейные традиции. Вот только — прискорбное обстоятельство — перестала верить в долг.
«Приют» располагался удобно, невдалеке от центральной улицы и имел при себе укромный закуток, огороженный штабелями пустых ящиков. Ящики же служили столами и стульями, а в углу имелась и постель: умятая куча стружек, периодически обновляемая заботами самих клиентов.
Сейчас их присутствовало всего двое. Один уже «хорошенький», второй только-только навеселе и жаждавший добавить. Но держателем капитала был упившийся, и потому приятель увещевал его и пытался привести в чувство: «Володя, ну будь мужчиной!.. Володя, у меня и огурчик есть… огурчик!» Володя мычал и норовил завалиться в стружки.
К щели между ящиками прильнула темная фигура. Его уже стерегли на дальних подступах к городу, уже сотрудники органов были заранее настороже и невольно рыскали взглядом по лицам прохожих, памятуя, что Багров, вероятнее всего, одет в черный полушубок и норковую шапку, а он без препон достиг «Валюхина приюта».
Никогда прежде не таившийся, напротив, любивший показать себя, он успел приобрести навыки гонимого и выслеживаемого — быть осторожным, бесшумным, незаметным. Да и изучил сызмала все проулки, пролазы и ветхие заборы в городе, где ничего не изменилось за протекшие полгода.
Узнав обоих «приютских», Багров скользнул внутрь закутка и окликнул негромко:
— Эй, Зубатый!
Тот обернулся и, моргая, смотрел на черную фигуру.
— Не признаешь, Матвей?
— Мать честная, Багров!.. Миша, друг!.. — изумление и подобострастный восторг объяли Зубатого.
— Тихо! — цыкнул Багров. — Ты меня не видел, не слышал, ясно?
— Разве я не понимаю? Да я для тебя!..
— Водка есть? — оборвал Багров его стонущий шепот.
— Эх!.. — застрадал Зубатый и остервенело набросился на приятеля:
— Володька, Володька, черт!..
— Не буди. Спит — и слава Богу, болтать не будет, — остановил Багров, успев заодно выглянуть и обозреть окрестность.
— Да как же, Миша, у меня получка третьего дня была, а у него сегодня!
— Пустой?
— Пустой…
— Возьми у него.
Зубатый заколебался. С одной стороны, он понимал — нужда Багрова превышала всякое обычное человеческое желание выпить и ее надлежало немедленно удовлетворить. С другой стороны, «Валюхин приют» диктовал свои правила поведения, нарушить которые считалось крайне зазорным.
«С высоты» лагерного опыта и опыта побега, заставившего преступить многие барьеры в душе, тутошний этикет представлялся Багрову уже просто дурацким.
— Мне вот так! — провел он по горлу. — Ты понял?
Зубатый решился и возложил на алтарь дружбы все свое самоуважение и репутацию. Он обшарил карманы приятеля, нашел деньги и вопросительно посмотрел на Багрова. Тот показал три пальца, Зубатый отсчитал, сколько надо, прочее сунул обратно и поспешил в глубину закутка к освещенному окошку Валюхи.
Багров откупорил поллитровку и опрокинул в жаждавшую гортань. Но ни на мгновение не поддался желанию опорожнить посуду до дна. Он напьется вдосталь, до полного забытья. Но после. После. Оторвался от горлышка, сунул Зубатому солидный остаток. Тот поднес другу заветный огурчик. Багров куснул, не ощутил никакого вкуса.
Водка с отвычки слегка оглушила. Он присел на ящик, ожидая, пока предметы вокруг обретут должную четкость. Зубатый, нервничая, стоял на стреме: вот-вот потянутся завсегдатаи на Валюхин огонек.
— Куда ты теперь, Миша?
— Не твое собачье дело.
— Тоже верно… — смиренно признал Зубатый. — Может, чего надо? Из жратвы там, одежонки?
Багров тряхнул просветлевшей головой, забрал непочатые бутылки.
— Мне от тебя надо одно — топай домой, и чтоб ни звука!
…Миновав спортплощадку и ледяную горку, Багров приблизился к зданию школы.
Проверил, на месте ли нож, и постучал в боковую дверь. Молчание и тишина. Он постучал еще раз. Застекленный верх двери слабо осветился, донесся кашель, потом женский басок:
— Кого надо?
— Семен Григорьевича позови, — прикрыл Багров будничной интонацией все то невыносимое, что привело его к двери Загорского.
— Уехал в командировку.
— Куда?!
Голос подвел его: слишком нежданно и несправедливо было отнято вожделенное: «Сейчас… вот сейчас… Наконец-то!»
— А ктой-то? — обеспокоилась женщина.
— Свой, тетка Пелагея, свой.
Магическое слово. Как не ответить своему?
— В Новинске Семен Григорьевич. По учебному вопросу. — Но свой вроде как перепуган, и голос не разберешь чей. — Да ктой-то там?
— Надолго он?
— Дня, сказался, на четыре.
Тетка Пелагея вдела в прорезь цепочку и приотворила дверь, но не увидела никого в открывшуюся щель, только холодом обдало грудь и шею.
— Стряслось чего? — спросила она в темноту.
Четыре дня! Для Багрова четыре дня были — что четыре месяца. С момента побега он делил свою жизнь на «до» и «после». «До» истекало нынче вечером, так он себе назначил, этим дышал и держался, чуя, что завтра удача может отвернуться.
Сегодняшний же вечер принадлежал ему по множеству несомненных примет, он был тем самым вечером. И вдруг четыре дня — как стена, на которую налетел с разгону, когда все тело напружено и изготовлено для единственного и страшного движения.
Багров повалился на колени и закусил руку, чтобы не закричать. Ах, Загорский, проклятая язва! За ним смерть пришла, а он, вишь ты, в командировке…
Тетка Пелагея, не получив ответа, замкнула дверь, погасила свет.
Ощутив во рту кровь, Багров разжал зубы, сунул горящую голову в снег. Что теперь?..
Теперь добраться до Новинска. Разыскать Загорского там. Решение отмене не подлежит. Стену надо проломить! Где-то найти силы и довести дело до конца.
Сейчас бы дедова меду. И с водкой.
Дед Василий!.. Он же послан в город за Майей! Увидеться с ней «после» — единственное, о чем думал Багров, дальше он не заглядывал. И хотя «после» не наступило, отодвинулось, заградилось массой возможных препятствий, — мысль о встрече с женой затомила горькой и жгучей усладой. Даже сердце захолонуло, когда представилось, что она, может быть, уже ждет. Сколько бы ни ярился он на изменницу, разлюбить ее не мог.
Багров скрылся в тени дома и стоял, раздираясь надвое между необходимостью спешить в Новинск и желанием увидеть Майю. Вернуться к ней из Новинска надежды почти не было. Всякому везению есть предел…
* * *
Томину давно пора бы мчаться в Москву, а он все торчал в еловской дежурке, обговаривая с Гусевым — замначем по оперативной части — детали и тонкости предстоящей ловли Багрова. Мечту о чистой рубашке и душе пришлось похоронить. Побрился он, пока пытались дозвониться до Загорского. Не мешало предупредить человека. Раз они знали, где директор школы, то и Багров легко мог узнать. Два часа на попутке — вот тебе и Новинск. Но Загорский еще не возвращался в гостиницу.
Томин начал прощаться.
— Ладно, думаю, сегодня событий не предвидится. Утром вернусь.
Было условлено, что его добросят до магистрального шоссе и там Гусев водворит его в ходкую машину, держащую курс на столицу. Томин уже разговаривал со Знаменским — извинился, что опоздает.
— Ну, пожелаю вам… — протянул руку дежурный. — Шофер давно мотор греет.
— Да-да, гоните меня… — в воображении призывно возник праздничный стол; но неутихающая смутная тревога опять пересилила: — Только еще попробуйте Новинск, а?
Дежурный не стал спорить, проще набрать номер. На сей раз Загорский оказался на месте.
— Пожалуй, лучше мне, — решил Томин. — С посторонним человеком легче о таких деликатных… Семен Григорьевич? Здравствуйте, с вами говорит старший инспектор Томин из Московского уголовного розыска.
Загорский удивился. Выслушав томинскую версию причин и целей побега Багрова, произнес с отвращением:
— Какая дикость!
Но дальнейшие рекомендации встретил в штыки:
— Простите, это для меня неприемлемо. Вероятно, вам рисуется робкий интеллигент, который побежит отсиживаться в милиции… Никаких «но»! Завтра же я возвращаюсь в Еловск!
— Разъединился, — досадливо пожал плечами Томин. — Ну почему люди так упрямы?
Они с Гусевым направились к выходу, столкнулись с Виктором.
— Новостей не принес? — спросил Томин.
— Нет. Майя Петровна минут пятнадцать как домой пошла… Матвей Зубатый шмыгнул, тихонький такой, даже трезвый вроде… Старый пасечник в город приплелся.
— Дед Василий? — недоуменно сощурился Гусев. — По зимнему времени его никогда не видно.
— Что за дед? — перестраховки ради поинтересовался Томин.
— Савелия Багрова закадычный был друг. Зачем это он из берлоги вылез?.. А-а, у Алабиных нынче сороковины справляют, должно, к ним… Да поедем мы, товарищ майор, или нет? — шутливо притопнул Гусев на Томина.
— Едем, едем.
Они вышли, дежурный зевнул, поболтал термосом — пустой.
— Витек, организуй кипяточку. Допек этот старший инспектор. Больно моторный.
Затрещал телефон.
— Дежурный Еловского горотдела милиции… — сказал он. — Телефонограмму? Давайте.
Принялся записывать, внезапно изменился в лице, продолжая писать, вывернул трубку микрофоном вверх и одышливо запричитал:
— Витя! Виктор! Вороти его! Вороти скорей!..
Тот чудом успел задержать машину в последний момент.
— Вот, товарищ майор, — сокрушенно показал дежурный запись в книге.
Гусев наклонился через плечо Томина, и оба прочли:
«По вашему запросу № 132/п о розыске совершившего побег из мест лишения свободы Багрова Михаила Терентьевича сообщаем: фотография Багрова предъявлялась работникам междугородных рейсовых перевозок. Шофером автобазы № 4 Тульского стройкомбината Сердюком разыскиваемый опознан как попутный пассажир, который сошел с автомашины Сердюка, не доезжая до Еловска 12-ти километров, сегодня около 11-ти часов…»
Эх! Они напридумывали с три короба хитростей, но — в расчете на завтра-послезавтра. Багров же стал реальностью сегодня.
Требовался полный пересмотр планов. Какой вечер у Томина погорел! Какие пельмени! Какой тост пропал ни за грош!
* * *
Кто не едал пельменей Маргариты Николаевны Знаменской, тому бесполезно расписывать достоинства оных. Достаточно сказать, что их никогда не бывало много, хотя, случалось, намораживала Маргарита Николаевна по целому ведру. И неизменно они перешибали любое другое угощение и делались гвоздем стола. Количество едоков значения не имело: пельмени съедались подчистую что впятером, что вдесятером — всегда.
Порой она даже в гости ходила с кульком пельменей, как другие несут в подарок собственной выпечки торт или бутыль домашней наливки.
От Маргариты Николаевны домогались рецепта, секрета. Она охотно делилась опытом. Хозяйки выполняли все в точности. Получалось вкусно — и только. А у Маргариты Николаевны — потрясающе. Но она сама не знала, отчего ей так удавались эти маленькие полумесяцы с мясной начинкой…
В последние годы многолюдные сборища у Знаменских бывали редки. Отошли в прошлое со смертью главы дома. К тому по выходным вечно набегали друзья и сослуживцы, в основном почему-то молодежь. Теперь отмечался лишь Новый год и семейные даты, да и то в узком кругу.
Но нынче день выдался особенный, и Знаменские задумали его широко. На кухне с утра хлопотали институтские подружки Маргариты Николаевны. Пал Палыча снаряжали то в булочную, то на рынок. Колька сдвигал столы и бегал занимать у дворовых приятелей стулья.
Кибрит тоже пришла загодя, с намерением помочь. Но ее Маргарита Николаевна на кухню не пустила; посадила прометывать петельки и пришивать пуговицы к новой кофточке, которую намеревалась надеть. Белая кофточка, черная вразлет юбка и гранатовая брошь в форме бантика у горла — вот и весь наряд. Да свежевымытые, пышной волной уложенные волосы без намека на седину. Такая хорошенькая, моложавая юбилярша — хоть замуж выдавай!
Зиночка увлеклась, заставила ее накрасить ресницы, тронуть губы.
— Ну хоть чуточку! Слегка!
— Да у меня и помада-то засохла…
Но минимум косметики действительно придал лицу праздничность и яркость.
Потом они препирались о туфлях: Маргарита Николаевна предпочитала более разношенные, Зиночка настаивала на изящных коричнево-красных.
— Один час вы стерпите, а там можно сменить, никто не заметит. И, пожалуйста, не выскакивайте в переднюю! Вы должны принимать торжественно, посреди комнаты… А теперь хотите не хотите, маникюр.
— Не до него мне было со стряпней. А сейчас уже поздно, буду вонять ацетоном.
— Не будете! Фен у вас есть? Высушим мгновенно! Где лак?
Маргарита Николаевна, смеясь, покорялась. Когда кто-то заглядывал, спрашивая инструкций, Кибрит заслоняла ее, оберегая предстоящий эффект.
— Поздравительная телеграмма! — возвещал из коридора Колька и щелчком отправлял листок под дверь.
— Коля, скажи Павлику, пусть…
— Он ненадолго отбыл.
— Неужели на работу вызвали?! — испугалась Маргарита Николаевна.
— Нет-нет, — успокоила Кибрит. — Это он за подарком. Я знаю.
Подарок добывался при ее участии, и было немножко неспокойно — как-то еще Маргарита Николаевна примет подобное подношение.
— Поздновато он что-то спохватился, скоро народ пойдет… Зиночка, почему я вас так редко вижу? Одно время, честно говоря, мне казалось… Я была почти уверена.
— Одно время мне тоже казалось, Маргарита Николаевна, — без обиняков созналась та.
— А теперь?
— Как-то… заглохло.
— У вас или у него?
— По-видимому, у обоих…
— Как жаль!
— Мама, тебя Шурик просит к телефону!
— Ты вернулся, Павлик! Очень хорошо, но подойти не могу, маникюр делаю… Нет, Зиночка, мало сказать, жаль! Боюсь, он без вас останется бобылем.
— Вот этого допускать нельзя, — подняла Кибрит серьезные глаза. — При его работе нужно очень много домашнего тепла. В противовес.
— Разве я не понимаю! Семейные заботы, семейные радости. Может, это временное охлаждение? Ведь вы так друг другу подходите, Зиночка!
Кибрит тронуло искреннее огорчение Маргариты Николаевны. Непростительно расстраивать человека в такой день.
— Все может быть! — бодро согласилась она и загудела феном.
Начали прибывать гости. Первый плотный косяк составили старые друзья. Тех, что с отцовой стороны, легко было отличить по цветам в руках. Все они так или иначе занимались физиологией растений, биологией растений и массой иных «логий» (а попросту говоря, ботаникой), и букет в феврале не представлял для них проблемы. Причем не базарной покупки, разумеется; не полумертвые, из южных краев доставленные гвоздики подносили они юбилярше, но нарциссы и ландыши, примулы и гиацинты, тюльпаны и розы — все, что способно цвести и благоухать в подмосковных оранжереях хоть круглый год, когда приложены труд и умение.
Многие из этих гостей давным-давно не виделись со Знаменскими и между собой надивиться не могли, как изменились сами, как вытянулся Колька, возмужал Пал Палыч (для них навсегда Павлуша), главное же — как не постарела Маргарита Николаевна.
Вторым эшелоном потянулись родственники, несколько сослуживцев Маргариты Николаевны, молодые кандидаты наук, бегавшие к ней за помощью со своими диссертациями и теперь образовавшие вокруг нее преданный пажеский корпус.
— Ну, Колька, наверное, пора, — шепнул Пал Палыч.
Тот исчез в недрах квартиры. Пал Палыч обратился к матери:
— Мама! Твои нечестивые сыновья взяли на себя смелость подарить тебе нового члена семьи!
Разволнованный Колька внес двухмесячного щенка дога. Поскольку пес был уже увесистый, передние лапы его он свесил через плечо, и сначала зрителям предстала тыльная часть «члена семьи». Колька сделал «кругом», и присутствовавшие отозвались градом одобрительных междометий. Морда у щенка была симпатичнейшая, глаза пытливые и ясные.
— Надеюсь, он умеет и сам передвигаться? — хладнокровно осведомилась юбилярша, не выдавая противоречивых чувств, вызванных четвероногим подарком.
— Еще как! — воскликнул Колька и спустил щенка на пол. — Мама, он лучших кровей! Родословная, как графа!
При этом слове у Маргариты Николаевны болезненно дрогнули губы.
— В роду три победителя породы! Родители заняли первые места на последней выставке! — продолжал рекламировать Колька.
Мать присела и тихонько свистнула, привлекая внимание щенка. Тот подошел, по-детски косолапя. Она громко щелкнула у него пальцами перед носом. Щенок не отпрянул. Он заинтересовался, понюхал пальцы и чихнул. Ацетон — догадалась Маргарита Николаевна. Сколько же новых хлопот, беспорядка и тревог! Щенок уселся и попытался почесать ухо, забавно промахиваясь и стукаясь лапой об пол. Вокруг засмеялись. Он опять не напугался, даже нахально, со стоном зевнул. Ладно, хоть нервная система крепкая.
— Ну что ж, — сказала Маргарита Николаевна, — хвалю нечестивых сыновей за смелость. Я назову его Граф.
У Пал Палыча отлегло от сердца: приняла. Графом звали собаку, которую отец завел году на четвертом после рождения своего первенца. Она была той же породы и той же масти. И мать очень любила того Графа, долго переживала его смерть и зареклась держать в доме собак. Так что подарок был рискованный вдвойне: собака, да еще и копия той собаки.
— Но имей в виду: если ты не будешь с ним гулять… — мать взяла Кольку за вихор.
— Клянусь! У меня уже и поводок есть! И миска ему, и подстилка.
Завязался обмен мнениями о выращивании и дрессировке собак, прививках и прочем, пошли трогательные собачьи истории. Институтские подружки успели поснимать фартуки и переодеться. Маргарита Николаевна внесла завершающие штрихи в сервировку и наметила время, когда ставить воду на пельмени. Хорошо, что мороз — они вольготно лежат на балконе.
— Мам! — влетел Колька. — Истекают последние минуты, которые организм может прожить без пищи!
— Я и сама проголодалась. Давай звать к столу.
* * *
Дед Василий, вероятно, вспомнил партизанскую выучку, когда побрел выслеживать Михайлову жену.
Вот ведь как навязался Мишка на шею — не стрясешь! Чтобы по холоду, да еще затемно тащиться в город… давненько такого с дедом не случалось. Сперва он на Багрова руками замахал, как на чумового: даже не заикайся, даже думать не моги, чтоб я пошел!.. Это тебе близко, а мне — невозможное дело!
Но Михаил улестил, разжалобил, чуть не в ноги бухался. Умолил-таки. Сам надел на деда валенки с калошами, замотал шею шарфом. И поплелся старый. И конспирацию сумел соблюсти — так ему казалось — полную.
Как велено было, заглянул в парикмахерскую, увидал Майю и порешил дожидаться ее возле дома. Когда озяб и устал до дрожи в коленях, вошел внутрь и устроился на мусорном бачке под лестницей, беззвучно понося последними словами и Мишку и себя самого за уступчивость. Только Майю не ругал: уважал со слов правнуков, которых та в школе учила.
Нескоро хлопнула дверь, впустив Михайлову жену.
— Май, а Май! — тихонько окликнул он.
Багрова осторожно приблизилась и всмотрелась.
— Боже мой, дедушка Василий, это вы?
— Я, я, — кряхтя поднялся дед. — На-ка вот.
Багрова прочла записку в слабом свете лестничной лампочки и схватилась за сердце.
— Что сказать-то ему?
— Идемте, дедушка, идемте!
Она помогла ему сойти с заснеженного крыльца, но тут дед Василий отстранился:
— Давай-ка поврозь. Ты — до угла и пожди. Нагоню — опять вперед и пожди, где темно.
Майя Петровна, не вникая в наставления деда, послушалась.
Сверху Катя, то и дело совавшаяся к окну, заметила мать, удалявшуюся по переулку. Пока вскочила на подоконник и открыла форточку, чтобы позвать, Майя Петровна свернула за угол.
«Второй раз чайник выкипает! Вот куда она, куда на ночь глядя?!.. А это кто еще шаркает?»
Шаркал дед Василий, ободряемый тем, что теперь путь обратный, к теплой печи. К Кате была обращена сутулая дедова спина, но на повороте за угол, под фонарем, девушка узнала его. Таких высоченных стариков было только двое: ее собственный дедушка Терентий да пасечник. К нему она наведывалась за сотовым медом этой осенью.
«Мама и думать обо мне перестала… Виктор — рохля, неизвестно чего ждет, чтобы помириться… Отец же… Главное, конечно, отец. Неужели и впрямь здесь появится?.. Надо подготовить маму, а мамы нет… Ну за что мне такое наказание?»
Отчаянно жалея себя, Катя расчесала и переплела косу. Зеркало всегда хоть немного утешало.
…Багров ждал, подперев лоб кулаками. Размеренно постукивали ходики. Вдруг не придет? Уже все сроки минули. Или дед сплоховал?
На душу навалилась тьма кромешная. Мучительно зудело недоделанное. Но еще мучительней была потребность увидеть Майю. Он не анализировал — для чего. Только бы увидеть. Наяву. Жажда эта росла по мере того, как убывала уверенность, что жена откликнется на его призыв. Начало уже потухать чувство самосохранения. Еще полчаса — час, и он сам ринется в город.
Одна из принесенных поллитровок окрашивала зеленоватым ветхую скатерть, покрывавшую половину просторного стола. (На голой половине, что поближе к дневному свету, дед рукодельничал). Найдя дом пустым, Багров сковырнул с бутылки металлическую шляпку, но отпил немного, твердо помня, что пока нельзя. Две вещи в комнате гипнотизировали его — бутылка и ходики.
Чтобы не видеть их, он скрестил руки на столе и положил на них голову. И только когда услыхал шум в сенях и встрепенулся, понял, что спал. Всего-то восемь-десять минут, но так глубоко, что тело совершенно обмякло, а перенапряженные нервы расслабились.
— Все, боле я тебе не слуга, — просипел дед Василий и, опираясь на Майю Петровну, скрылся в спальной каморке.
Супруги не поздоровались. Не до того было, чтобы обмениваться приветствиями. Смотрели глаза в глаза — страдание в страдание.
— Дошел все-таки… — сказала она.
— Дошел.
— Одичал-то как, господи!..
Он поднялся и ждал, весь отдавшись огромному облегчению, что Майя наконец рядом.
— Знаешь, Миша, ты на разбойника похож. На самого настоящего.
Слабо улыбнувшись, она преодолела те несколько шагов, что их разделяли, погладила его бритую голову и заросшие щеки.
Багров беспомощно поник и уткнулся головой в плечо жены.
— Майка… Маечка… Маюшка моя… Единственная… — Начал целовать ее руки, лицо. — Грязный я… колючий… противный?
— Да, побрить бы не мешало. С одеколончиком… Погоди, Миша, дай раздеться, натоплено здесь.
С детской счастливой улыбкой Багров наблюдал, как она вешает пальто, медленно снимает платок.
— Не могу долго зла на тебя держать. Ведь уж такой был злой, такой злой, а увидел и…
— И слава богу, Миша, зачем злиться?
Она обернулась, таким знакомым движением утопила шпильки в пучок.
— Маюшка! — рванулся Багров, прижал к себе (осторожно, только чтобы ощущать ее реальность). — Тоской я по тебе изошел… Словно сто лет минуло…
— Но я же совсем собралась, Миша! Носки шерстяные купила, белье, еще что-то… Уже билет был. Если ты хотел меня видеть… не потому же ты сбежал, что… просто соскучился!
Он отвернулся, радость на лице стала меркнуть.
— Миша, ты что-нибудь там натворил?
— Я-то ничего не натворил.
— Неужели без нее, проклятой, не вытерпел? — кивнула Майя Петровна на бутылку.
— Чего я не вытерпел, мы сейчас разберемся, — постепенно к нему возвращалось прежнее напряжение. — Садись, рассказывай, как без меня жила.
— Обо мне ли теперь речь, Миша!
— Именно что о тебе. Рассказывай, а я в глаза смотреть буду.
Они сели друг против друга к столу. Майе Петровне так необходимо, так насущно было выяснить, что стряслось с мужем, но знала: раз уклоняется, донимать прямыми вопросами бесполезно, надо повременить.
— Ну, смотри… — согласилась она. — Только рассказывать почти нечего. Что было — я писала.
— Лучше без меня в доме-то? Или хуже?
— Тихо, Миша.
— Тихо… Ну, дальше?
— Катя все с Виктором Зуевым. Целуются по углам напропалую. Я думаю, пусть, а? Он парень хороший.
— Ладно, пусть.
— Третьего дня у твоих была. С матерью погоревали вместе, а отец так ругается — страшное дело. Даже про ревматизм забыл.
Все это Багров пропускал мимо ушей.
— Что все про других? Про себя скажи.
— Не разберу, чего ты добиваешься… Ну, живу день за днем. Бабы в глаза жалеют, а за спиной — кто как. Клиенты чаевые суют — на бедность, видно. Участковый заглядывал — велел непременно про тебя заявить, если что… Еще рассказывать?
Надвинулся момент главного объяснения, а у Багрова — хоть тресни! — слова не шли с языка. Он плеснул пальца на два водки в стакан. Голодный желудок мгновенно всосал и выбросил отраву в кровь, и Багров сумел выдавить:
— Загорский как изволит поживать?
— Загорский?..
Майя Петровна не удивилась вопросу, то был один из привычных заскоков мужа; но испытала секундную растерянность, оттого что всплыл в памяти совсем недавний разговор о Загорском с Леной.
— Не знаю, кажется, поехал куда-то.
— А говоришь — «не знаю»!
— Тут про всех все знают, — возразила она.
— Именно! И захочешь утаить, да не удастся, Майя Петровна!
Он возбужденно закружил по комнате. Майя Петровна все еще не могла взять в толк, что с ним происходит.
— Миша! Ты много выпил, что ли?
— Пустяки я выпил.
— Тогда не пойму… Как будто играешь. А игрушки-то живые — Катя, ты, я. И всем больно!.. Я хочу знать, что случилось. Ведь все очень серьезно, Миша! А мы — о чем говорим? Бабы, клиенты, теперь еще Загорский!
Багров сел на место, сжал пустой стакан. Произнес с ненавистью, отбросив все недомолвки:
— О нем и говорим. О нем да о тебе.
— Что?!.. Так вот с чем ты шел! — ужаснулась она.
— Да. С тем шел, с тем и пришел.
Излишне и уточнять, зачем пришел. Если уж ударился в бега, прорвался через полстраны — ясно, что у него на уме.
Сидит против нее, между воспаленных красных век — мрак и безумие. Прощается с ней, готовясь переступить последний рубеж. Ее муж. Чуждый, будто бесом одержимый… и несчастный. Господи, как она устала искать выхода, бороться! Но она за него в ответе, не может оставить на съедение самому себе.
Когда Майя заговорила, Багров изумленно дрогнул от тихого сострадательного голоса:
— Ну что у тебя за судьба, Миша?.. Зачем все так нелепо… Всю жизнь шиворот-навыворот, шиворот-навыворот… Даже воз черемухи — в сущности, тоже нелепо…
— Это к чему?
Он ждал оправданий, покаяния. Может быть, под всеми завалами ревности, ярости, обид тлело желание простить. Ее, не его, нет.
— К тому, что зря ты шел, Миша. Ничего нет. Ничего. Пусто.
Багрова будто по затылку огрело этой ее материнской жалостью.
— Врешь! — ахнул он.
— Когда я врала…
Никогда, он знал. Но сейчас восстал против своего знания.
— Майка, ты не шути! Ты мне душу не выворачивай! По-твоему, я как волк, как бешеный пес… все эти дни где ползком, где бегом… по лютой стуже… куски воровал… это что все — сглупа?!..
— Лучше не рассказывай.
— Нет, ты говори — сглупа?.. Я ведь все равно дознаюсь, пара пустяков!
— Дознавайся… Мне бы оскорбиться, а даже сил нет. У кого только повернулся язык?
— Скажешь, и под вечер к нему не бегала? И до дому он тебя не провожал? И… все прочее? — слабея, перечислял Багров, а мысли спутывались и в голове что-то опрокидывалось вверх тормашками.
— Провожал? — переспросила Майя Петровна. — А-а, вон что!.. Хорошо, сейчас я расскажу, как он меня провожал!
Она рассказывала с малейшими подробностями, какие могла припомнить, что-то намеренно повторяла, сознавая, что ему важно все до последнего звука и жеста.
Багров умирал и воскресал одновременно. Умирал, скрежеща зубами, бешеный, одичалый человек с наточенным на соперника ножом. Воскресал не оскорбленный, не опозоренный женой муж — жертва клеветника.
Когда она умолкла и ходики отстукали десятка два неспешных тик-таков, спросил едва слышно:
— А погода была хорошая?
Полная чушь. Что за разница — хорошая ли, плохая погода! Но Майя Петровна приняла вопрос серьезно. Значит, какой-то малости Михаилу не хватило или просто времени для окончательного поворота.
— Ветер дул сильный, Миша.
Ветра она терпеть не могла и помнила, что поспешила распрощаться с Загорским, потому что продрогла.
Багров толчком поднялся и рухнул поперек стола лицом в ее ладони.
— Маюшка, прости! Подлец я, что поверил! Прости, Маюшка…
Рукам стало мокро. Впервые он при ней плакал. Майя Петровна тоже не была плаксива, но его потрясение, тихий жаркий шепот вызвали слезы и у нее. На душе посветлело, снизошел мир.
Она простила. Конечно, простила, ведь как никто другой понимала, почему он поддался Калищенке. Отбивая Майю у Загорского, Багров отбил не девственницу. Эта заноза засела в нем навсегда: что тот был первым. Ему это представлялось особым преимуществом и вечной опасностью.
Тем более что Загорский упорно держался радом, словно выжидая своего часа.
Майя Петровна понимала мужа. Он ее — нет. Хотел за строптивость наказать одиночеством. При избытке жизненных сил, которыми был наделен, и помыслить не мог, что протекшие полгода Майя наконец-то отдыхала по ночам…
* * *
Между тем в дежурке кипели страсти. Опять спорили, каждый по-своему трактовал линию поведения Багрова с момента, когда шофер высадил его на шоссе. Оттуда лежали три дороги: асфальтом, лесом и полем. Полем — дальняя — слабо утоптанной тропинкой до деревни и птицефермы, оттуда тракторной колеей к Еловску.
— На кой шут ему крюка давать? Дом уж рядом, a он в сторону двинет?
— Возле дома-то особая осторожность и нужна! Какой зверь к логову прямиком ходит? Непременно петлю заложит, со следа сбивает.
Кратчайший путь был лесом, тут удалось бы скостить километра четыре, если б не снег.
— Да много ль его нынче, снегу?
— В низинах и по колена. Не лось же он, по сугробами переть!
— Багров-то? Да ногастей любого лося. Еще как пропрет! А где и лыжня накатанная выручит. Лесом, лесом!
Асфальтовый вариант большинство отвергало — велик риск нарваться на знакомого. И один Томин, только что с комфортом проехавший по всему багровскому маршруту от колонии и наглядно проследивший всю бесконечную протяженность его, трудность и рискованность (за доставку военного донесения Героя могли дать), уверенно сказал, дождавшись паузы:
— Ни лесом, ни полем. Где ему с лосем равняться, небось на последнем дыхании. Пошел он асфальтом. К опасности привык, да еще метель полдня слепила. Занавесила его.
Дежурка поразмыслила и приняла мнение Томина. О дороге спорили потому, что отсюда вычислялось примерно время, когда Багров добрался до окрестностей Еловска. Получалось, часам к двум.
— Но засветло же он в город не сунулся? — нетерпеливо обратился Томин к Гусеву.
— Нет, товарищ майор. Думаю, отсиделся в каком-никаком сарае часов до шести-семи. Потом двинул в разведку.
— Отлично! Он уже двинул, а мы гадаем — лесом или полем! Одиннадцать минут назад получена телефонограмма. Что сделано?
Дежурка озадаченно притихла. Что сделаешь за одиннадцать минут? Почему-то всем рисовалось, что Багров сперва «устроится на постой», дабы отдохнуть от дальних странствий, и уж потом приступит к своим нехорошим делам. На постое его и надеялись захватить.
Томин тоже держался подобного взгляда до телефонограммы. Она опрокинула их прежние расчеты. Значит, и нынешние Багров мог опрокинуть.
Две точки притяжения существовали для него в городе: Загорский и жена. От этих конечных точек и надо толкаться, чтобы не плестись у него в хвосте, но, по возможности, опередить.
— Да ведь облаву готовим, товарищ майор… А что вы предложите?
— Срочно засаду у дома Багрова, засаду у школы и кого-то отправить в Новинск. Пусть удержит директора, пока Багров на свободе.
Гусев не страдал ложным самолюбием:
— Спасибо, товарищ майор. Действительно раскачиваться некогда. Разрешите привлечь штаб дружины?
Людей для путной облавы явно не хватало.
— Ну, что делать. Только с умом!
Школу как наиболее верный объект Томин взял на себя; в подмогу — участкового Ивана Егоровича.
Они обогнули здание по широкой дуге, подыскивая мало-мальски удобное укрытие. Над служебной дверью горела лампочка в проволочной плетенке и призрачно светилось одно окно.
— Пелагея телевизор смотрит, — вполголоса сказал участковый и пояснил, что та работает в школе уборщицей и ведет холостяцкое хозяйство Загорского, а он за то уступил ей комнату в своей квартире.
Еще по пути сюда Иван Егорыч сетовал, что школа дескать, на юру и спрятаться возле нее негде. Так оно и было. Придется ожидать Багрова внутри, что по многим соображениям гораздо хуже. Став поодаль, они совещались, как поступить, когда внимание Томина привлекла цепочка следов, ведшая напрямик через спортплощадку.
— Иван Егорыч, постойте на шухере, я поинтересуюсь. Отсюда вам обзор хороший, если что — подайте сигнал. Какой-нибудь безобидный.
— Мяукаю я с детства совершенно натурально, на два голоса, — серьезно сообщил участковый. — Чистая кошачья драка.
Однако мяукать не понадобилось, никто вблизи не появился, и Томин внимательно и с неприятным предчувствием рассмотрел то, что сумел, на снегу.
Без Кибрит некому было вычислить рост, вес, комплекцию и прочее. Томин лишь констатировал, что кто-то недавно приходил, потоптался, сплюнул кровью и ушел обратно. Нога очень крупная, шаг широкий.
Тетку Пелагею вторично за вечер оторвали от телевизора. Прежде всего Томин задернул шторы у Загорского, включил свет и не велел гасить. Расспрашивать предоставил Ивану Егорычу, с которым та держалась свободней.
Описанный теткой Пелагеей визит настолько органично ложился на Багрова, что почти и сомнений не оставлял. Рассказывала она четко, только со временем находилась не в ладах: час ли назад, полтора ли являлся неведомый посетитель — ответить не могла.
Томин позвонил дежурному, обменялись новостями: Виктор помчался в Новинск, вторая засада на месте. Участковому определили побыть все-таки в школе для верности, Томин возвратился в милицию, нещадно грызя себя. Сколько раз жизнь щелкала его по носу за гонор, но он опять впадал в самонадеянность. Ведь предупреждал Паша: «Нельзя недооценивать Багрова» и еще что-то про энергию и напор. Послушать товарищей по работе, этих-то качеств у Томина хоть отбавляй. А вот на поверку беглый зэк — изголодавшийся, изнуренный — проявил их куда больше.
На что еще он способен? Чем занят сейчас?..
В дежурке Гусев напутствовал группы захвата:
— Итак, имеем восемь адресов. Стесняться не приходится, в каждый курятник будем нос совать. Сверяем часы. Девять сорок шесть. Операцию назначаем на десять десять. Имеете добавления, товарищ майор?
— Старайтесь потише. Восемь адресов — это наше предположение. Кто поручится, что не двенадцать?
Гусев обернулся к «захватчикам»:
— Для пресечения слухов: по каждому адресу, где пусто, оставляем своего человека. Пусть следит, чтобы не перебежали из дома в дом шепнуть.
* * *
Багров как-то выпал из ситуации, переживая обманчивое впечатление, будто отныне все хорошо. Заговаривал о пустяках, по-доброму улыбался.
Майя Петровна с сожалением вернула мужа к действительности:
— Что же теперь, Миша?
— А что теперь? — все еще безмятежно отозвался он. — Спасибо, Загорского унесло. Постарался его ангел-хранитель.
— И твой тоже.
— Верно, и мой не подвел.
— Но что ты дальше?
Багров задумался, начал грустнеть.
— Поеду назад в ту же колонию. Придушу Калищенку, гада!
Прозвучало полусерьезно, и в том же тоне Майя Петровна «восхитилась»:
— Очень умно рассудил, Миша. То-то нам с Катей радости!
— Выходит, спустить ему? Пускай подличает дальше, как нравится? — скривился Багров.
— Да не о нем думай — о себе, о нас!
Багров опять помолчал и совсем потускнел.
— Конечно, придется сидеть. Эх… Только жди, Майка! Мне без тебя зарез!
— Подожду, Миша, — покорно согласилась она.
— Я знаю, прежнего нету, — с новой мукой покачал головой Багров. — Привычка тебя держит… Катька у нас, дом… А ведь было счастье, Маюшка! Куда делось?
— Все здесь, Миша, на донышке. И твое, и мое, — показала та на бутылку.
— Брошу! Веришь? Брошу! Я уже отвыкать стал. Отсижу, и уедем давай, как ты хотела. Опостылело тут теперь! Начнем по новой, а?.. Может, тогда вернется… обратно полюбишь?..
Майя Петровна ответила осторожно, выверив наперед интонацию:
— Отчего не полюбить, Миша. Мужчина ты видный, работящий.
То была ложь во спасение; ничего не стоило толкнуть на новые безрассудства буйную и переменчивую его натуру.
— Но сейчас-то ищут тебя, Миша. Объявись сам, скидка будет. Объясни, как было… люди же — поймут! Прошу тебя!
— Противно, Майка. Словно побитая собака на брюхе…
— Переломи себя, Мишенька! Пойдем. Пойдем вместе!
Вот и перегнула палку, сразу воспротивился:
— Еще не хватает, чтоб ты меня за ручку вела! На весь город потеха! Сам дорогу найду.
— Значит, пойдешь? Честно?!
Багров медленно обогнул стол, Майя Петровна встала навстречу.
— Поцелуй!
То было требование залога, обещания; или печать, скрепляющая договор.
Майя Петровна поцеловала мужа. Но губы-то лгать не умели.
— Я вещи соберу, продукты… — заторопилась она. — Принесу в милицию.
— Побудь еще, Майя…
Пока она была здесь, единственная его желанная, пусть хоть такая, только прохладно-ласковая, Майя принадлежала ему. А дальше — какие немеряные версты разделят их! Сколько они не увидятся!
Майя Петровна понимала, что муж ждет от нее еще каких-то слов, чувств. Но где их взять? Силы ее иссякали.
— Скорей надо, Миша, чтоб сам ты, пока не поймали!
— Ну… ладно, — смирился Багров. — Подожду, пока обратно полюбишь.
Она кое-как повязала платок, надела пальто и, уже одним рассудком, а не исчерпавшим себя сердцем сознав, что надо смягчить боль мужа, — прислонилась к его груди, дала себя обнять напоследок.
И вот — скрылась в сенях, мелькнула мимо окна и канула в темень за плетнем.
Багров окинул прощальным взором дедову горницу, прислушался, как тот заливисто похрапывает в каморке. На столе мутно зеленела бутылка. Багров отвел глаза, но их опять потянуло к зелени.
Лукавое самооправдание нарисовало картину сдачи властям, раздуло предстоящее унижение. Багров налил стакан до краев. Не пропадать же. Может, последний раз в жизни!
* * *
В милиции было пусто. Две минуты назад группы захвата приступили к операции. Еще через тридцать — сорок минут станут известны итоги. Томин и дежурный помалкивали. Обоим хотелось верить в удачу. Дежурному оно удавалось процентов на семьдесят, Томину процентов на двадцать.
Однако, если спросить, питает ли он надежду взять Багрова в ближайшие часы, Томин, не колеблясь, ответил бы «да». Но не облавой. Просто… ну не могла столь тихо завершиться эпопея Багрова.
Мысль эту Томин обнаружил в себе уже в готовом виде, не заметив, как она созрела. Но таким — подспудно рожденным — он внимал, пожалуй, больше, чем логически обоснованным. Внутренний голос предупредил: готовься к бурным событиям. Хорошо, если не трагическим.
По коридору кто-то бегом — и, запыхавшись, влетел в дежурку. Один из «штабистов» Виктора, приданный засаде в качестве связного.
— Меня послали… сказать на всякий случай… Катька на рысях усвистала.
— Тебе бы за ней бежать, а не к нам, балда!
— Да ведь не было распоряжения, товарищ майор… чтобы следить, — растерялся конопатый «штабист».
— В какую сторону ударилась? — спросил дежурный.
— По Пионерскому.
— Гм… куда ее понесло…
— А жена Багрова дома?
— Так точно, товарищ майор. Хотя… не наверняка.
— Желательно потолковей.
— Свет наверху горит. Но не видно, чтобы ходили.
— Подымись в квартиру, узнай. Под благовидным предлогом.
— Есть!
Он ринулся наружу, а Томин прервал задумчив дежурного:
— Пионерский куда ведет?
— Я вот как раз сижу, мозгую. Магазины закрыты, дальше — обувная мастерская, прачечная, всякие бытовые услуги. Детсад, стадион. Еще дальше — автобаза, заправка. А там уже огороды, поля. Куда ее понесло?.. Если только у лесопилки свернула, в жилой массив? По забору протоптано, но темень же! Шалая деваха…
Рассуждения дежурного ничего не объяснили. Как кольнуло Томина это «усвистала на рысях», так и торчала иголочка. Правда, Катя отнюдь не жаждала встречи с отцом. Но что погнало ее из дому в одиннадцатом часу вечера?
* * *
А погнало Катю именно желание встретиться с отцом.
Странное поведение мамы, от двери дома вдруг заспешившей прочь, и странное же явление старика пасечника наконец сцепились в ее уме; она уразумела их связь и смысл.
— Ох, мама… Ох, Маечка Петровна! Ну совершенно невозможная!
Что выйдет из свидания родителей? Что отец вообще задумал? Чего потребует от матери? Муровец предупредил: «опасен». А она тайком; даже слова никому не сказавши!..
Нет, мочи не было покорно ждать. Страх за мать, негодование, обида, что родную дочь как бы и не принимают в расчет — все смешалось и вихрем вынесло Катю на Пионерский проезд. Ее мнением не интересуются? Ну так она заставит поинтересоваться! Она им все выложит! Отцу, конечно, в основном. Мама — святая мученица. Но зачем она соглашается быть мученицей?! «Ах, человек в беде, его надо поддержать». Разве мы виноваты в его беде? Мы из-за него тоже в беде. И виноват он, он один! Пусть же сам и расплачивается!
Катя приостановилась, глотая злые слезы и соображая, где надо свернуть, чтобы попасть на дорогу к пасеке; тут важно не ошибиться, дальше фонарей не будет.
И увидела Майю Петровну, показавшуюся из-за детсадовской ограды. Слава Богу, цела! Возвращается! Первый порыв был — броситься навстречу. Приласкать, отругать, пожаловаться.
Но тогда мама все поймет и не пустит ее к деду Василию. У нее своя правда — у Кати своя. И Катина правда останется только клокочущими в горле фразами, ни на что не повлияет, ничего не изменит.
Майя Петровна ступала торопливо, но слегка неровно, как очень уставший человек. Руки зябко засунула в рукава, подбородок уткнула в воротник от ветра.
Катя только по матери и заметила ветер; самой он был нипочем. Отодвинувшись за палатку «Пиво — воды», пропустила Майю Петровну. «Точно с похорон, бедняжечка моя!» Хорошо, что ее не будет при Катиной схватке с отцом: в мамином присутствии язык не все выговорил бы.
…Багров шел сдаваться. Полушубок распахнут, шапка набекрень. Хмель размыл протест, чувство унижения. Захотелось покоя. Хоть под замком. Пускай они теперь решают, хлопочут, лечат его обмороженные ноги. И кормят. Первым делом пускай, собаки, накормят.
Вон впереди какая-то фигура, и можно не прятаться. Даже чудно… Ба, да фигура-то знакомая! Багров радостно раскрыл объятия:
— Катюха! Доченька!
Что-то подломилось в Кате, и несчастной девчонкой с тугими косичками она нырнула в распахнутый полушубок к родной груди. Но секундно. Сивушный запах вернул всю непримиримость ее восемнадцати лет.
— Пьяный! Опять пьяный. Вечно пьяный!
— Последний нонешний денечек, Катюха. Зарок дал.
— Заро-ок? Старая песня! Пусти меня, пусти! Чего облапил! Скажи, зачем ты явился?!
Она отпихивалась от отца, тот дурашливо придерживал ее за локти.
— По тебе соскучился! Дай, думаю, навещу.
— Слушай, с тобой можно нормально? Идет себе веселенький, как с праздничка. Или ты совершенно уже ничего не соображаешь?
Багров разжал руки:
— Ну, давай нормально. Авось пойму.
— Вот и пойми: хватит маму мучить! Ты нам не нужен. И мы тебе не нужны. Была бы водка!
— За мать не решай! — повысил голос Багров. — Мы с ней все обсудили, все добром.
— Видела я, как она от твоего добра шла: сама не своя и слезы в три ручья!
Про три ручья Катя приврала, даже не заметив. Главное было пронять отца. И проняла. Тот болезненно поморщился:
— Почему слезы?
— Не иначе как от счастья! — съязвила Катя. Впервые она вела себя столь решительно и враждебно, и только туповато-добродушный настрой от выпитого стакана не давал пока Багрову взорваться.
— Ну, хватит, потолковали. Мне пора, мать ждет, — он отстранил Катю и двинулся дальше.
Твердо помня, что Майя будет ждать в милиции, он нес ей последнюю — нетронутую! — поллитровку. Наглядное подтверждение обета, маленький подвиг.
«Мать ждет». Катя вообразила, что ждет дома. Это уж хуже некуда! Она повисла на отце, не пуская его.
— Нечего тебе в Еловске делать! Мало нам было сраму!.. Уходи, уезжай отсюда!.. Пусть тебя где подальше ловят!
Багров стряхнул ее и начал накаляться. Своя, кровная и вона что придумала — посылает его опять в бега!
— Ну сильна, дочка! Вот сокровище вырастил!
— Ты меня вырастил?!.. — взвилась Катя. — Ты мне всю жизнь отравил! Я из-за тебя в институт не попала!
— Готовиться надо было, а не с Витькой целоваться! — рявкнул Багров.
— Да меня Семен Григорьич так подготовил, что куда хочешь поступить могла! Вспомни-ка — время экзамены сдавать, а папашу посадили!
Имя Загорского дочь вонзила в такое еще кровоточившее, что Багров задохнулся. Объяснение с женой похоронило ненавистный призрак, но могила была слишком свежа. А тут — новость, представившаяся Багрову чрезвычайно многозначительной. Загорский занимался с Катей? Для чужих подобного не делают. И — скрытно!.. Что еще от него скрывают?
— Семен Григорьич подготовил? — переспросил тихо. — А я и не знал.
— Мало ли чего ты не знал! — подливала масла в огонь Катя. — К примеру, мама до сих пор во сне уроки ведет. Ты храпишь с перепою, а она бормочет: «Алабин, иди к доске…»
— А Семен Григорьича во сне не поминает?
— Отчего и не помянуть? Уж не хуже тебя!
— Катька!! — вне себя гаркнул он.
— Ну, ударь, ударь! Маму уже бил, теперь меня давай!
Багров схватил ее за плечи и затряс:
— Мать бил?!.. Я — бил?.. Пальцем не трогал!
— Своими глазами видела! Прямо по лицу!
— То один раз… тогда причина была… — оттолкнул он дочь, стремясь вместе оттолкнуть и постыдное воспоминание.
Но та не дала «закрыть тему»:
— Знаю, какая причина! Думаешь, спала, не слышала? Мама уйти хотела. И почему только не ушла!.. Я бы на ее месте без оглядки…
Земля на могиле зашевелилась, холмик стал осыпаться.
— Куда ж бы она ушла? — спросил Багров со зловещей вкрадчивостью. — К кому?
— Господи, будто на тебе свет клином сошелся! Жили бы сейчас тихо, культурно…
— Тихо-культурно… С Загорским, что ли?
Катя закусила удила:
— Да хоть бы и с ним!
Призрак полез наружу, обдавая загробным холодом. Призрак с незапятнанной репутацией, с двумя высшими образованиями, трезвый, уважаемый, очень культурный — первая любовь Майи, проклятие жизни Багрова. Оцепенение, с которым тот готовился вновь принять на плечи весь сброшенный было груз, внешне могло показаться спокойствием.
— Говори, дочка, говори, я кое-что соображать начинаю… — медленно и как бы равнодушно произнес он. — Только вопрос, будет ли ей с Загорским счастье?
Обманчивое спокойствие отца окончательно лишило Катю разума.
— Да Семен Григорьич — золотой человек! — закричала она в каменное его лицо. — Он бы с мамы пылинки сдувал! Еще бы не счастье! Это ты вот — горькое горе!
В раскрывшуюся могилу ухнуло все — покаяние перед Майей, ее умиротворяющие речи, решение идти с повинной. Туча бесов ринулась в душу Багрова.
— Та-ак… — протянул он, зверея под их натиском. — Так, Майя Петровна… Поверил, развесил уши… Иудиным поцелуем предала. «Иди, объявись». Чтобы, значит, место очистить!.. Ну, все. Кланяйся мамаше! Да пусть своему Загорскому учебник географии в гроб положит! Еще, поди, заблудится на том свете!
Он круто и четко развернулся и стремительно двинулся прочь от дочери, от города, от жены.
Разумеется, Катя не сознавала, что делала. Она просто закатывала скандал, чтобы дать выход накипевшему и спровадить отца. Накипело много, за полгода его заключения особенно, а за последние дни — прямо невыносимо. И она надеялась избежать хотя бы той бури пересудов, которая подымется, если его заберут «на дому». На этом Катя «зашкалилась».
И только сейчас поняла, на чем «зашкалился» отец, зачем — за кем! — рвался на волю. И что она порушила удачным скандалом. В ней взыграла лихая кровь, а отец воспринял злые реплики как откровение, как наконец-то достоверно узнанную правду.
— Папа! Папа, погоди!.. — не своим голосом завопила она и побежала следом.
Растолковать ему… признаться, что врала со зла… Семен Григорьевич готовил к экзаменам не ее отдельно — целую группу… мама никогда не звала его во сне… и совершенно ничего между ними не было…
Но Багров удалялся, Катя отставала. Отчаявшись, повалилась в сугроб. Когда вернулось дыхание, побежала обратно.
Дома записка от мамы добила ее: «Катюша, где ты? Приходи в милицию повидаться с отцом. И, пожалуйста, будь с ним поласковей».
* * *
В дежурную часть возвратилась первая, затем вторая группа захвата во главе с Гусевым. Обе разочарованные.
Конопатый связной сообщил, что Майя Петровна вернулась домой и, не раздеваясь, снует по кухне, а Кати пока нет. С ним послали кого-то из освободившихся людей; решено было не выпускать из виду жену и дочь Багрова: их вечерняя суета вызвала сомнения.
Так что дежурка встретила Майю Петровну удивленным и выжидательным молчанием.
— Добрый вечер, — сказала та с порога; она несла аккуратно перевязанный сверток и старенькую сумку со сломанной молнией, полную консервных банок, пачек сахара и другой провизии.
— Здравствуйте, Майя Петровна… — отозвалось несколько голосов.
Томин с любопытством всматривался в жену Багрова. После всего о ней слышанного ему рисовалось нечто яркое, впечатляющее. А в Багровой не было даже «изюминки». Никакого женского задора, кокетства. Хорошее лицо, спокойное благородство в повадке. Вроде бы не из тех, вокруг кого разыгрываются «роковые страсти-мордасти».
Томин представился.
— Вы по поводу моего визита?
— А-а, Лена мне говорила… — не поняла она. — Нет, я не к вам.
По лицам присутствующих догадалась, что ее появление неожиданно и, следовательно, мужа в милиции еще нет.
— Михаил в городе. Сейчас он придет… Я принесла теплые вещи и продукты. Надеюсь, это можно?
Обращалась она к дежурному как наиболее, очевидно, знакомому.
— Вы видели мужа? — скорее всех отреагировал Томин.
— Да.
— Где?
— У Василия Васильевича Полозова, — сообразив, что заправляет тут Томин, сосредоточилась на нем.
— У деда Василия! — ахнул в досаде Гусев.
— Как вы узнали, что он там?
— Василий Васильевич записку принес.
Томин укоризненно покосился на дежурного, тот развел руками:
— Думал, сороковины…
— Да-а… Старика Полозова мы не предусмотрели! — корил себя Гусев.
— Сколько времени назад вы расстались? — Томин задавал вопросы быстро, чтобы получить ответы раньше, чем Багрова оценит ситуацию.
— С полчаса примерно… нет, больше.
— И он сказал, что явится в милицию?
— Он обещал.
— Сколько ходу от Полозова до вас?
— Минут двадцать — двадцать пять, — отозвался за нее Гусев.
— От Полозова забежали домой и прямо сюда?
— Да.
— Дома пробыли долго?
— Вот только собрала…
— Ровно четверть часа, — доложил от дверей мальчишеский голос.
Это конопатый связной — согласно инструкции «контролировать передвижения» домочадцев Багрова — притопал за Майей Петровной.
— И до милиции от вас ходу… Быстро шли?
— Нет.
— Тогда еще пятнадцать, — определил сам Томин.
— Имеем пятьдесят минут, как минимум, — подытожил Гусев. — Напрямик от Полозова сюда два раза можно гуляющим шагом поспеть.
— Михаил вот-вот будет, — старалась убедить присутствующих Багрова. — Он понимает, что это единственный выход в его положении.
— Пора бы уже, Майя Петровна, если решил.
— Ну… надо и с духом собраться, Алексей Федорович.
Томин прислушался к себе… нет, не приближался Багров к милиции… все это розовые мечты — будто он мирно сдастся на милость правосудия.
Гусев нетерпеливо переступал с ноги на ногу.
— Да, конечно, — сказал ему Томин.
И Гусев спешно отошел, чтобы сколотить группу и отправить к деду Василию. «Необходимо, но безнадежно», — мельком подумалось Томину.
— Муж объяснил вам цель побега? — осведомился он, отвлекая Багрову от суеты за ее спиной.
Под нацеленными со всех сторон взглядами Багровой стало душно. Она расстегнула пальто, сдвинула с головы платок.
— Пусть Михаил сам расскажет. Избавьте меня…
— Только одно: Калищенко замешан? — тихо спросил Томин.
Она немного отвернулась и кивнула. Томин спросил еще кое-что, осторожно уточняя суть происшедшего между супругами объяснения. Женщина говорила с неловкостью, через силу.
Помещение заполнялось сотрудниками, которые пачками прибывали с пустых адресов. При виде Майи Петровны у каждого новоприбывшего возникал естественный интерес, и вокруг нарастали говор и перешептывание. А она все тянулась взглядом к поминутно хлопавшей двери, надеясь, волнуясь, недоумевая, почему Михаила нет и нет.
Зазвонил телефон.
— Дежурный еловского горотдела милиции слушает… Спокойнее, гражданин, ничего не разберу. Фамилия ваша? Давайте по буквам.
Записывая, он прикрикнул на своих:
— Потише, мужики!
— А что там?
— Угон машины… Да, гражданин, слушаю вас… Ну ясно… Ясно. Номер какой?.. Кто?! Точно, без ошибки?.. Ясно, спасибо.
Выругался сквозь зубы, хлопнул трубку на аппарат и грузно встал. И сразу как-то все замолкли.
— Упустили Багрова, — мрачно сказал он Гусеву. — Остановил самосвал, вытряхнул водителя, сам за руль — и прощайте! По Новинскому направлению. В сильно нетрезвом виде…
— Давно?
— Точно сказать не может. Пока, говорит, добежал до автомата у заправки… Минут двадцать-то наверняка уж.
— Шофер еловский?
— Кто-то из Степановых, не разобрал кто.
Вот оно! — стало ясно Томину. Вот теперь началось то самое.
«А участковый сидит в школе. А он мне почему-то нужен».
— Ивана Егорыча сюда в темпе, — сказал он кому попало, пробираясь за Гусевым сквозь тесноту к карте района.
— До развилки, товарищ майор, одна дорога — прямо. Но тут нам его не достать. Развилку перекроем на всякий случай — вдруг свернет. Свяжемся с ГАИ области. Если проскочит дальше к Новинску, то где-нибудь здесь нагоним, машина у нас ходкая.
На карте палец Гусева шутя придавил самосвал с пьяным Багровым. Карта все сводит в одну плоскость, на ней — просто.
Дежурный дозванивался в ГАИ, излагал ситуацию, просил выслать мотоциклистов на перехват. Гусев распустил по домам лишних людей, достал из сейфа пистолет, привычно вставил обойму (но то была привычность тира); сделал знак успевшему появиться участковому, что берет его на задержание. И тот тоже передернул затвор пистолета, внимательно осмотрел и несколько раз перехватил в руке. Свой Томин всегда носил в кобуре под мышкой, проверять его не было надобности.
Майя Петровна все это время стояла почти в центре дежурки, вокруг нее сохранялся свободный пятачок, как бы зона отчуждения. У ног — сумка с провизией, сверток. Широко раскрытые вопрошающие глаза следили за военными приготовлениями.
«Почему именно я должен успокаивать жену Багрова? Здесь полно знакомых людей», — направляясь к Майе Петровне, ворчливо думал Томин.
— Неужели в него будут?.. — ошеломленно проговорила она.
— Ну-ну, надеюсь, до этого не дойдет.
— Вы обещаете?
Черты ее лица, до сей поры как бы затушеванные будничным спокойствием, проступили четко, открывая свою одухотворенную и трагическую красоту.
«А я, оказывается, подслеповат. Никакие изюминки не нужны, чтобы из-за этой женщины разыгрывались страсти».
— Разве кто-нибудь хочет? Оружие существует на случай крайней необходимости.
— Лена Сергеева хорошо говорила о вас… поэтому я прошу… Я понимаю, Михаила надо остановить во что бы то ни стало… Но с ним трудно силой. Он совсем взбеленится и может бог знает что…
— Понял, постараемся.
— Вы обещаете… не стрелять?
Томин еще раз заглянул в ее хрустальные, полные глубокого света глаза.
— Могу обещать только за себя.
«И здесь ходи в мягких тапочках!.. Удружила Шахиня. Поделом вам за сентименты, добренький старший инспектор».
— Сообщите в Новинск, — распорядился он, одеваясь.
— Есть! — вытянулся дежурный, приняв сердитый тон Томина на свой счет.
— Ни пуха ни пера, — пожелали вразнобой, но от души провожавшие.
Томин, Гусев и участковый Иван Егорыч чеканно отозвались положенной фразой.
Садясь в машину, Иван Егорыч зыркнул вдоль улицы:
— Катерина Багрова бежит!
Но дожидаться ее — с чем бы она там ни бежала — было некогда. Теперь единственной заботой, целью, желанием стал ревущий где-то на темном шоссе самосвал ЮКР 16–16. Опередивший их — на сколько километров? — неизвестно. Выкладки Гусева грешили приблизительностью.
Раз за разом они опаздывали! А выигрывал дистанцию не матерый преступник, имевший связи в уголовном мире, опытный в состязаниях с системой ловли разных «зверей», — выигрывал (в одиночку!) всего-навсего ревнивый муж, вооруженный только любовью и жаждой мести сопернику!
«Нельзя недооценивать Багрова. Нестандартность поступков. Энергия. Напор». Паша еще мягко выразился… Что-то он поделывает? Праздничное застолье, наверное, в разгаре.
* * *
В застолье наступила та пауза между ужином и чаем, когда все уже сыты, чуть под хмельком и каждый развлекается как может.
Пажеский корпус — бывшие подшефные Маргариты Николаевны кандидаты наук — были отправлены на кухню мыть посуду. И тоже попутно развлекались болтовней и анекдотами. Колька азартно играл в шашки со старейшим другом семьи.
— Ты, кажется, возмечтал пролезть в дамки, — хмыкнул тот сквозь полудрему.
— Возмечтал!
— И напрасно, братец, — маститый партнер сделал ответный ход, разрушивший все Колькины построениями
— А где же твой Граф? — задержалась рядом мать.
— Твой Граф! — горячо и неискренне возразил Колька.
— Хорошо, примем компромиссный вариант — наш Граф.
— Наш Граф наелся и спит без задних ног.
— Луж было много?
— Было и похуже. Но я все доблестно ликвидировал и каждый раз мыл руки.
— Образцовый ребенок! — мать подмигнула, указав незащищенное место в обороне противника, и Колька снова ринулся в атаку.
Кто-то затеял танцы под мелодии двадцатилетней давности. Пожилые танцы, лишенные прыти, танцы-воспоминания, молодившие этих женщин и мужчин, дома зачастую уже перешедших в разряд бабушек и дедушек.
Пал Палыч покружился с Зиночкой в вальсе, осчастливил скучноватую дальнюю родственницу бодрым фокстротом и вдохновенно провел мать сквозь сложные фигуры танго.
Номер был сольным и заслужил аплодисменты, сразу после которых Пал Палыч направился в переднюю, набрал 02 и попросил дежурного по городу. Всех их он знал по голосам и тотчас определил: Дайков. Этот много раз выручал.
— Добрый вечер, Григорий Иваныч, Знаменский. С личной просьбой можно? Запропал где-то в Еловске один мой друг-приятель. Некто Томин… Да, из МУРа. Нельзя ли поинтересоваться, когда он выехал в Москву?.. Есть, жду.
Он присел у телефона. Не потому что ждать предстояло долго, но шнур от трубки до аппарата был довольно коротким, и — если на ногах — приходилось гнуться. Машинально Знаменский отметил, что сиденье стула теплое. Только что кто-то долго с кем-то разговаривал.
Из комнаты Кольки вышел сонный Граф, присел, открыл крантик. По полу растеклась внушительная лужа и, найдя где-то уклон, побежала ручейком в сторону ванной. Ручеек истончился и иссяк, протянувшись сантиметров на тридцать. Следственная привычка фиксировать пустяки.
— Алло! Слушаете?
Дайков так поспешно передал сведения из Еловска, что Пал Палыч не успел и поблагодарить. Суббота, происшествий в столице, конечно, хватает.
Выглянула Зиночка, оценила ситуацию и призвала Кольку с его тряпками.
— Не будет Саши, — сказал ей Пал Палыч. — Поехал брать Багрова. А я-то держал для него заветный кусок судака и три дюжины пельменей на холоду — только в кипяток бросить.
— И держи. Завтра вернется — первым делом про пельмени спросит.
— Точно, — улыбнулся Пал Палыч.
«Явится с рассказами, как выслеживал и хватал Багрова, и примется уплетать пельмени. Сядем на кухне, по-семейному…»
Но мысль эта ничем не подкрепилась в воображении. Пельмени были реальны, а Сашу почему-то не удавалось поместить в кухне и попотчевать этими реальными, горячими, с маслом и горчицей, как он любил.
Озадаченно созерцал Пал Палыч пустоту, не желавшую заполняться Томиным. Чего проще? Завтра воскресенье, он свободен. Придет, как всегда, голодный, сначала съест заливного судака, потом… Нет, не приходил. И в понедельник не приходил. Странно.
Между тем народ снова потянулся к столу, где расставляли чашки и сладости.
— Павлуша! — окликнул старейший друг дома, застав Пал Палыча в задумчивости у телефона. — Можно подумать, гости тебе глубоко опротивели!
Пал Палыч сбросил вялость и присоединился к oбществу. Первым делом он ссадил Графа с Колькиных колен, приказав не портить собаку. Затем помог пажескому корпусу с включением электросамовара (его кто-то преподнес сегодня Маргарите Николаевне): шнур не доставал до розетки, требовался удлинитель. Следующим номером стало спасение Зиночки от посягательств Афанасия Николаевича. Сей милейший профессор на покое, пенсионер с незапамятных времен, пускался бурно ухаживать за женщинами, едва пригубив сухого винца.
— Спасибо, Пал Палыч, — потирая зацелованную до локтя руку, смеялась Зиночка. — Он уверял, что я напоминаю ему «утраченную в юные годы» мать… Слушай, как жаль, что Шурика нет. И спеть некому. Или сам рискнешь?
Знаменский, случалось, подпевал и аккомпанировал другу, благо гитарой владел отлично — еще отец обучил и пристрастил. И голосом Пал Палыча Бог не обидел. Но, поскольку своего он не сочинял, то при Томине держался в тени. Теперь же, не раздумывая, снял со стены семиструнную.
— Только для тебя, Зиночка!
Но запел не для нее и отнюдь не то, чего она ожидала — не из Сашиного репертуара, а из отцовского. Тот любил полузабытые народные песни минорного или шутливого толка.
Вниз по Во-олге реке
С Нижня Новгорода
Снаряжен стру-ужо-о-ок,
Как стрела-а-а летит… –
протяжно начал Пал Палыч и увидел осветившееся нежностью лицо Маргариты Николаевны.
Песня неспешно излагала убедительную просьбу одного из гребцов к товарищам: «Уж вы бросьте меня в Волгу-матушку».
Маргарита Николаевна осторожно поставила блюдо с пирогом и заслушалась. Ни родные, ни друзья не представляли себе, какую брешь в ее душе пробила смерть Пашки-большого, как сам себя именовал в кругу семьи Павел Викентьевич Знаменский. Всегда бодрая, приветливая, любившая посмеяться, Маргарита Николаевна сиротствовала по мужу втайне, не ища сочувствия, никого не отягощая своей печалью. Она не потеряла вкуса к жизни, не хлюпала ночами в подушку — нет, но знала, что до последнего вздоха будет ощущать себя вдовой.
А вот, оказывается, Павлик — Пашка-маленький — чувствовал ее вдовство. Как бережно выводит мелодию, повторяя отца даже в интонациях… Только не задрожать подбородком!
Но Пал Палыч тоже уловил опасность и концовку пропел утрированно, с расчетом на юмористический эффект:
Лучше в Во-олге мне быть
У-утопи-има-аму,
Чем на свете мне жи-и-ить
Нелюби-и-има-аму!
При этом он адресовался к Зиночке, переключив на нее общее внимание.
Водворив на место гитару, Пал Палыч принялся показывать фокусы с колодой карт, с яблоком, исчезавшим под шляпой. И коронный: потолкавшись меж гостей, выложил перед ними носовые платки, авторучки, записные книжки — все, что повытащил из карманов. Публика обомлела и заставила шуточное воровство повторить. Тут уж все бдительнейше оберегали свое имущество, но два-три отвлекающих приема позволили Пал Палычу даже умножить добычу.
Подобным штукам обучил его не так давно один карманник, косвенно проходивший по делу о разбойном нападении. В ответ на изумленные восклицания окружающих Пал Палыч торжественно пообещал не использовать своих способностей в условиях городского транспорта и пояснил, откуда сии способности взялись.
Возник дружный интерес к его работе. Собравшиеся очень далекие от повседневных занятий Пал Палыча — предлагали либо чересчур серьезные либо чересчур наивные вопросы. Что им расскажешь?..
За чаем Пал Палыч воспроизвел допрос «подзалетевшего» ревизора, с которым толковал накануне. Сценка была разыграна на два голоса, Знаменский пародировал и себя и подследственного. Сам был сочувственно-вежлив, добродушен и мягок. Собеседника изображал сумрачным упрямцем.
— Анатолий Иванович, свидетели вот утверждают, знаете ли, что после проверки магазинов вы еле стояли на ногах.
— Просто старательно исполнял свою службу.
— Если вас не затруднит, поконкретнее.
— Тщательно проверял кондиционность продуктов.
— Ну, однако, не с макарон же вас шатало, Анатолий Иванович?
— Что я, по-вашему, мышь, чтобы макароны грызть? В первую очередь проверяешь ценные продукты.
— То есть, видимо, напитки? Вполне вас понимаю. И как же вы проверяете?
— Научно. Сначала органолептически.
— Простите мое невежество. Проще говоря, нюхаете?
— А как же иначе? Определяю букет. А уж дальше перорально.
— Перорально… То бишь внутрь?
— Внутрь.
— Ага, с этим ясно. А еще вот говорят, Анатолий Иванович, свертки вы с собой выносили. С рыбой, с ветчиной.
— Что значит — свертки? Контрольные образцы! Отчет пишешь вечером, вдруг какую деталь надо припомнить. Тогда повторно дегустирую.
— Как же мне в протокол записать… Надомная работа в форме ужина, вас устроит?
— Пожалуй, ничего. Пишите.
— Благодарю вас, Анатолий Иванович.
Непритязательная сценка почему-то насмешила чуть не до слез. Все считали, что Пал Палыч на редкость в ударе. И только мать да сидевшая рядом Зиночка улавливали за его веселостью спрятанное смятение.
Маргарита Николаевна подошла, нагнулась к плечу:
— Павлик, отчего нервишки шалят?
— Не знаю… Беспокойно как-то…
— Мне почему-то тоже, — призналась Зиночка. — То ли дома включенный утюг оставила, то ли что…
— Павлуша! — воззвал кто-то с другого конца стола. — А какие еще преступники бывают?
— На любой вкус! — крикнул Пал Палыч, покрывая шум.
Спросят же! Какие преступники… Осторожные, хитрые, глупые, несчастные, озверевшие, сентиментальные, удачливые, тупые, плоские, сложные, лицемерные, непрошибаемые, отзывчивые на доброе слово, холодные, расчетливые, безрассудные и отчаянные… как, например, Багров, которого где-то там по темени и морозу ловит Саша. Вместо чаепития с яблочным пирогом. Бедняга.
Багров…
— Утюг ты выключила. Мы тревожимся за Сашу.
— Да?.. Но с какой стати, Павел? Он в таких передрягах бывал, страшно вспомнить. Сегодня ведь детские игрушки!
* * *
Багров замкнулся на самого себя, каким пришел к двери деда Василия. Снова стал он целеустремленным хищником. Настигнуть свою дичь раньше, чем настигнут его самого. Остального просто не существовало. Только б успеть! Только бы повезло!.. Вот уже развилка — примерно четверть пути.
И вдруг — на тебе! — мотоциклист ГАИ на хвосте. Багров утопил педаль газа, выжимая из мотора все, что тот еще способен был дать. Залить бы бак не худым бензинчиком, залить бы собственною кровью, желчью, ненавистью — никакому бы «начальнику» не угнаться!.
Но самосвал оставался лишь самосвалом, к тому же груженым. Мотоциклист легко догнал, пошел вровень, знаками приказывая Багрову остановиться.
Вот уж чего тот органически не мог сделать. Но гаишник этого не знал. Осужденный за хулиганство, беглый — переданные сведения держались, конечно, в уме, но главное, что заботило «начальника»: пьяный за рулем. Ненавистная категория, с которой он свирепо боролся всю жизнь.
Вырвавшись немного вперед, стал прижимать самосвал к обочине.
— Не мешай ты мне, зараза! Убирайся с дороги! — заорал Багров, сам себя не слыша за гулом двух моторов.
Он поневоле тормознул, не сумел вырулить… — и сбил мотоцикл. Тот закрутился на шоссе, человек вылетел из седла далеко вперед и безжизненно распластался на обочине.
«Убился!..»
Ладони враз сделались липкими, воротник приклеился к шее. Багров застонал и остановил машину. Вылез на шатких ногах. Зачерпнул грязного придорожного снега с мелкими льдинками, потер лицо.
Когда нагибался, в кармане булькнуло — заветную бутылку он после Кати, естественно, откупорил, но расходовал мучительно экономно; больше взять будет негде.
Хлебнул, ввинтил обратно в горлышко затычку и подошел к недвижному телу. На время оно заслонило даже фигуру Загорского.
— Эх, начальник…
Ему он не желал ни зла, ни погибели. А вот убил. Убил. Будь оно трижды проклято!
Лица видно не было. Но полезла в глаза кобура. В кобуре — целая обойма смертей.
— А, теперь все равно! — оборвал свои колебания Багров. И — словно еще одну черту переступил — расстегнул кобуру, забрал оружие.
…Милицейскую «Волгу» он обнаружил позади себя почти на полпути к Новинску. Это была катастрофа. Отчаяние и скрежет зубовный. С «Волгой» не потягаешься. Их там трое-четверо, все с пушками. После мотоциклиста церемониться не станут, пальнут по колесам, и амба.
Но «Волга» еще не знала, чьи габаритные огоньки посвечивают метрах в восьмистах перед ней. Ее-то задолго выдавала мигалка, а Багрова — номер, который разберешь, только изрядно приблизившись.
Если б успеть спрятаться, пока она еще далеко! Годилась любая проезжая грунтовка, уводящая вбок. Но мутная голова отказывалась припомнить, есть ли тут какие-нибудь проселки.
На рискованной скорости вошел Багров в поворот. Но и за поворотом не открылось спасительного проселка.
Насилуя машину, Багров гнал, гнал и гнал. А мигалка сокращала расстояние. И вот — поздно уже, «Волга» рядом.
…Томин и его спутники понятия не имели о том, что случилось с мотопатрулем ГАИ. Куда раньше их к месту происшествия поспел припозднившийся автобус, который дребезжал потихоньку домой с несколькими пассажирами.
Находясь, в отличие от Багрова, в нормальном состоянии, они обнаружили, что человек жив, и отвезли его по развилке в ближайшую сельскую больничку. Мотоцикл они сочли за лучшее тоже втиснуть в автобус и затем, возвратясь на прежний маршрут, сдали в милицию попутного городка неподалеку от основной трассы — на Новинск. И оттуда уже, окольно, новость побежала по телефонным проводам к Еловску.
Так что «Волга» догоняла — и догнала — не совсем того Багрова, какого знали Гусев с Иваном Егорычем, а по их рассказам и Томин. И повели себя, применяясь к «устаревшему» представлению о нем.
В эти первые минуты сработала интуиция только у шофера. Когда Багров, не подчиняясь повелительным жестам Гусева, продолжал гнать и тот сказал: «Подсекай!» — шофер тоже не подчинился и даже взял левее.
— Нельзя. Может долбануть.
— Брось, Андрей… — возразил Гусев, но все же засомневался.
Главное, «Волга»-то была новенькая, долгожданная, любая ее царапинка — огорчение!
— Товарищ майор?
Томин не успел вынести решения, как самосвал резко сбавил скорость, но не притерся к обочине, а свернул почти под прямым углом, казалось, просто в чисто поле.
Пока «Волга» разворачивалась и возвращалась назад, Багров отъехал от шоссе метров на сто и забуксовал, потому что под колесами была не настоящая дорога, но две глубокие колеи, полузасыпанные снегом. Вели они к обширному строению под двускатной крышей, которое Томин (в сельском хозяйстве не разбиравшийся) окрестил мысленно амбаром.
Туда и устремилась черная фигура, выскочившая из кабины самосвала.
Не будь при Багрове пистолета, он признал бы свое поражение и сдался. Ни малейшей надежды добраться до Загорского уже не оставалось. Во имя чего тогда бороться?
Но с той минуты, как он засунул пистолет за брючный ремень и холодный металл начал согреваться, от него как бы яд некий потек к сердцу. Я тут, с тобой, я — сила, я навожу страх, я бью наверняка, я — твоя удача… И в момент окончательного крушения накопившаяся отрава захлестнула мозг бредовым пафосом последней схватки.
Захваченным из кабины фонариком Багров обежал свою крепость. Сарай был дощатый, щелястый, с земляным полом. В глубине белели сложенные штабелем бумажные мешки (то ли цемент, то ли удобрение). Под ногами валялись железные пруты, и двумя из них Багров крепко подпер дверь. Допил остатки водки, которая до слез опалила пересохшую гортань. Приник к щели в стене: что там погоня?
Милицейская «Волга» как раз тормозила на обочине. Багров расширил ножом щель, чтобы свободно поместилось дуло, оперся плечом о стену — от допитого остатка накатила полоса дурмана.
Очнулся он от тишины: замолк мотор самосвала.
Преследователи его шли по колее, меся снег, Гусев поругивался:
— Чего он думает добиться? Совсем очумел!
Огибая грузовик, Томин вспрыгнул на подножку, повернул ключ зажигания. Сделалось слышно, как по полю гуляет ветер. В расчистившемся небе висела полная луна, снежное поле искрилось.
А амбар стоял темный, молчащий, и вдруг от него остро пахнуло опасностью, и Томин непроизвольно переступил шага на два вбок (не подозревая, что инстинкт увел его из-под прицела).
Но — редкий случай — он не поверил себе. В амбаре всего-навсего осатанелый мужик. Допустим, даже супермужик. Однако встречались и похлеще. Не хватало еще перед ним робеть.
Гусев закурил, дожидаясь, пока Иван Егорыч разведает обстановку. Тот обошел амбар кругом, тихонько доложил:
— Все стены глухие. Только сзади вверху небольшое окошко. Без стекла.
Гусев задумчиво выпустил струю дыма и указал сигаретой на амбар. Ивану Егорычу объяснений не требовалось.
— Гражданин Багров!.. — громко окликнул он. — Михаил Терентьич! — Вроде официально, но вроде как и по-свойски.
— А-а, здравствуйте, наш участковый! — донеслось в ответ. — Старый друг.
— Выходите-ка по-хорошему! Все равно деваться некуда!
— Нет, Скалкин! Нельзя нам по-хорошему. Я с тобой еще за прежнее не посчитался, когда ты меня на трое суток!..
— Предупреждаю: если придется брать силой, будете отвечать за сопротивление представителям власти, — вступил Гусев.
— А ты меня прежде возьми! Проверим на прочность твою шкуру… представитель власти!
— Если у вас нож — еще одна статья, Багров. Еще срок.
Тот злорадно усмехнулся:
— А ты иди да посмотри, что тут у меня… Сроком напугал! Не будет мне больше никаких сроков!
Со стороны осаждающих бранчливая эта беседа носила характер чисто разведывательный: старались определить, насколько Багров пьян и агрессивен. Приглашая его выйти по-хорошему, ничего хорошего от него не ждали.
Гусев поманил своих спутников в сторонку на оперативное совещание.
— В окошко пролезете, Иван Егорыч? — спросил он.
— Если скинуть шинель…
— Тогда, товарищ майор, я предлагаю так: мы с вами вышибаем дверь, Скалкин одновременно с тыла, через окно. Согласны?
— Нет.
Гусев немножко удивился, но не заспорил. Наверное, у майора что-то свое на уме. Участковый же выдвинул новый вариант:
— Вообще-то можно разобрать часть крыши и взять его… под контроль.
Томин вообразил себе свалку внизу, в темноте, и Ивана Егорыча на крыше с его «контролем» при небогатом опыте учебных стрельб. Пардон, увольте. Это вам не на два голоса мяукать.
— Нет.
Томин решил последовать совету и мольбе женщины с хрустальными глазами: «С ним нельзя силой!..»
— Попробую образумить. Я для Багрова абстрактная величина, никаких дополнительных эмоций не вызываю.
— Можно попытаться, — заинтересовался Гусев.
— Но надо войти внутрь. Через стену не разговор, нет контакта.
— А вот это рискованно!
— Рискованно, товарищ майор! — всполошился Иван Егорыч. — Мужик здоровенный… себя не помнит…
— Он вас не впустит, — понадеялся Гусев.
— Да зачем это в одиночку… Багров того и не стоит, чтобы геройствовать!
— Простите, Иван Егорыч, за операцию в конечном счете отвечаю я. Вмешивайтесь, только если услышите борьбу!
Гусев, а за ним участковый выразили свое волнение тем, что крепко пожали Томину руку.
«Раньше в подобных случаях крестились и говорили «Господи, благослови!» — подумал он, направляясь к амбару.
И — вот опять! — запах опасности ударил в лицо. Что за притча! Томин собрался и внутренне построжел. Мельком глянул на луну. Идеально круглая. Говорят, в полнолуние люди совершают гораздо больше безумств.
— Хочу кое-что сказать вам, Багров! — произнес он раздельно, обращаясь почему-то к стене правее двери. И именно оттуда хриплый голос осведомился:
— Это кто ж такой?
— Я человек вам неизвестный. Может, потолкуем для знакомства без свидетелей?
Щель между досками приходилась ниже уровня глаз, и Багров стоял, неудобно пригнувшись. Снаружи были враги. Еще недавно он воспринимал их иначе, без ненависти, сосредоточенной на Загорском. Теперь пистолет просился поработать против кого угодно. Этот крепыш в штатском, который явился знакомиться, тоже враг. Раз снаружи, то враг. И не о чем с ним толковать.
— На кой черт ты мне сдался? — спросил Багров, прилаживая ненадежнее дуло.
— Как знать, Багров… Я вот думаю, мы поладим. Ну? Впустите меня. Неужели побоитесь одного-то? А мой друг Пал Палыч Знаменский рассказывал, что вы человек отчаянной храбрости.
Томину случалось пользоваться именем Знаменского как паролем — и обычно срабатывало. Сработало и на сей раз. Напоминание, что есть на свете хорошие люди, на минуту сбило накал злобы в Багрове. Параллельно присоединилось кичливое желание доказать свою отвагу.
Он отвел пистолет и внимательно посмотрел в щель. Гусев с участковым застыли в отдалении. Устраивая игру в прятки, Багров не обдумывал стратегии и тактики; ждал ходов противника. Ход сделан. Чем же ответить?
— Ладно. Одного пущу. Только руки из карманов вынь. Вынь, говорю!
Багров выбил подпорки, дверь открылась. Томин приостановился на пороге, привыкая к полутьме. Сквозь щели, окошко и худую местами крышу проникал лунный свет, давая разглядеть очертания предметов.
— Ну, чего ж ты? Заходи, раз такой смелый.
Томин вошел внутрь и увидел Багрова. Приспустив рукав полушубка, тот втянул в него пистолет; дверь он притворил, оставив лишь узкую щель для наблюдения. Затем рывком вскинул руку с пистолетом, и Томин оказался на мушке.
«Ну вот! Какого лешего я попер против предчувствия?!»
— Это новость, — сказал он вслух. — Как вы его раздобыли?
— Сам, голубчик, приплыл.
— Пистолеты сами не плавают. Сколько пуль в обойме?
— Всем хватит! Восемь штучек, как огурчики!
— Ваше счастье, что ни одной не истратили.
— Специально для тебя припас… Ну, давай, что ли, потолкуем. Как звать тебя, раб Божий?
«Замечательный диалог. Но рука у него постепенно устает, так что продолжим».
— Старший инспектор МУРа майор Томин.
— У Бога майоров нету, — с издевкой усмехнулся Багров. — Имя говори.
— Александр.
— Александр, значит… И что же такого пришел ты мне сказать, раб Божий Александр? Какое заветное слово?
Туманный световой шнур протянулся сверху и уперся в стену рядом с Багровым, расплывшись серым пятном. Это луна краем заглянула в окно под коньком крыши. Пятно будет постепенно перемещаться, примет прямоугольную форму и скоро высветит голову и плечи Багрова… который пока готов глумливо выслушать «заветное слово».
— Не к тому я Багрову шел с этим словом, — Томин уныло понурился… чтобы осмотреть пол возле себя; справа вырисовывалось что-то угловатое, зато слева было удобное пустое местечко.
— Ты считал, я сопливенький! — упивался Багров властью оружия.
— Да нет, всем известно, что Багровы лихих кровей. Я считал, Михаил Багров — мужик с крутыми заносами и запутался в своей жизни, дальше некуда. Не помешает ему человеческий разговор. А выходит, человеческий разговор вам без надобности. Зачем было меня впускать?
— Зачем?.. — он уже как-то подзабыл и, ища объяснения, напал на гениальную идею: — А вот пальну ceйчас — еще одна пушка моя. С двумя-то я всех порешу, сколько ни сбегись!
«Недурно… Впрочем, он пьяноват, да и луна слишком уж круглая».
— Значит, полагаете, я пришел сглупа?
— Ясно, сглупа. Те вон, — кивнул Багров на дверь, — поди, не сунулись!
— Ошибаетесь, Багров. Поверьте, я умею достаточно быстро падать, чтобы вы промазали — рука-то вон подрагивает. И умею, падая, выхватить оружие и выстрелить раньше, чем успеете вы.
То была чистая правда, и все мышцы уже изготовились, и место на полу присмотрено.
— Так за чем остановка, майор Александр? — вдохновился Багров. — Попытай счастья. Может, и поживешь еще. До полковников дослужишься. А я до своей черты дошел, понял? Что ты меня, что я тебя… Жалко, одно дело не доделал… а так все едино!
Томин задумчиво хмыкнул. Конечно, и луна, и водка, и оружие — все влияет. Но главный корень — безысходное отчаяние. А откуда оно?
— Вы, кажется, и впрямь хоть сейчас на тот свет…
— От этого света меня с души воротит! Ну, давай, кто кого!
Серый квадрат наползал на Багрова, но еще не вобрал его целиком. Томин надеялся, что противник не отодвинется в тень, что его удержит у двери стремление следить за Гусевым и Иваном Егорычем.
Кувырком кинуться на пол, выстрелить и попасть — не проблема. Но куда при этом угодит пуля, Томин поручиться не мог. Да убережет Багрова луна.
— Ладно, дуэль так дуэль, — притворно согласился Томин. — Но зачем торопить судьбу? Дуэль потерпит.
Три раза повторил он красивое словечко. Пусть проникнет в сознание ли, в подсознание Багрова — куда пробьется. Главное, что дано имя. Оно предписывает соблюдение определенных принципов. Оно подразумевает, что соперники достойны друг друга и равны.
И уже по праву дуэлянта (а не инспектора МУРа) Томин спросил:
— Скажите, почему вы не явились в милицию, хотя дали слово жене?
— Этого ты не трожь! — запретил Багров.
Но дуэлянт Томин не послушался:
— Она сидела там, в дежурной части, и ждала. Принесла какие-то трогательные свертки с едой… Потом мы стали собираться за вами. Майя Петровна увидела, как заряжают пистолеты, и помертвела.
«И я обещал не стрелять в ее мужа… Ах, чтоб меня ободрало — обещал не стрелять!»
— Я пришел образумить вас, Багров.
— Замолчи, майор.
— Нет, раз начал, то договорю. Я ведь побывал в колонии и добрался до Калищенко. Калищенко — мразь и подлый врун!
— Кончай! — почти взмолился Багров, не в силах перенести еще один нравственный переворот.
— Минутку внимания. Мы намерены стреляться. Исход неизвестен, а перед смертью не врут. И я говорю вам: у вас нет дела в Новинске! Ни единый человек не допускает даже мысли о правоте Калищенко. Один вы. Почему?..
Багров забыл придерживать дверь, слушая Томина. Она покачивалась под ветром, все шире открываясь. Донесся скрип шагов. Багров выглянул.
— Кто там третий топает? — спросил без интереса.
— Наверное, шофер. Надоело ждать в машине. Но сюда никто не войдет, пока наш разговор не кончится… так или иначе.
…Двое снаружи чувствовали, что находятся под наблюдением, и Гусев загодя подал знак шоферу, чтобы тот не бежал: нельзя было выказывать тревогу.
— Товарищ капитан, сейчас передали по рации…
— Потише, Андрей.
— Багров вооружен! Сбил мотоциклиста, взял пистолет…
— Мать честная! — ужаснулся Иван Егорыч.
Гусев выразился более энергично.
Оба дослушали подробности и по-новому поняли поведение Багрова. Эх, минут бы на десять — пятнадцать раньше! А теперь что сделаешь, когда майор у него!
Удалось ему? Не удалось? Какая внутри обстановка? Чем помочь?
Гусев надумал:
— Ты, Андрей, закури и иди спокойно, будто обратно к машине. Потом тихо-тихо кругом сарая. Найди сбоку дырку, щель. Разглядеть вряд ли, но, может, хоть расслышишь, что там. Если майор в опасности, махнешь нам. Будем врываться.
Участковый тоже надумал и даже более мудро:
— Михаил Терентьич! — крикнул он. — Живой мотоциклист-то! В больницу свезли. Побился сильно, однако живой! Слышь, Михаил Терентьич?
— Слышу… — отозвался Багров после паузы.
И участковому полегчало; верно он угадал: Багров боялся, что на нем уже висит покойник. Теперь психике — разгрузка, а значит, и майору помощь.
Действительно, у Томина крепла уверенность, что возможен мирный исход. Он говорил и говорил, а Багров слушал. Это было уже очень много — что слушал. Конечно, не все слышал. Что-то пролетало мимо ушей, что-то глохло в толще недоверия, но что-то все же просачивалось.
Терзаясь противоречивыми чувствами, Багров пристально всматривался в лицо человека, белевшее шагах в трех. Друг? Враг? Рука с пистолетом была почти опущена, ноги едва держали. Если поверить, то снова жить. Но как поверить?..
— Мне кажется, я понимаю вас, Багров. Сначала Пал Палыч кое-что объяснил насчет вашего характера. Потом люди в колонии. Потом я приехал в Еловск и дослушал про вас остальное. Вспомните, в критические моменты вас всегда губила водка. Вот и сегодня дорвались — и сошли с рельсов. Немудрено после недели в бегах. Но еще не поздно. Еще есть выбор.
«Скоро сам растрогаюсь от своего красноречия. Неужели не проймет?»
— Если собственной жизни не жалко, пожалейте жену! Я вот, признаться, пожалел: обещал в вас не стрелять. Потому и распинаюсь Так что можете без опаски меня ухлопать… Она и сейчас наверняка сидит, как я ее оставил — белая от страха, от горя…
— Эх, майор! Еще вопрос, за кого она боится.
— Ну почему вы верите Калищенке?! Ведь сами били его за подлый характер!
— Кабы один Калищенко. А когда родная… — и оборвал.
«Родная — кто? Не дочка ли, «усвиставшая на рысях» неизвестно куда?!»
— Багров, что случилось после вашей встречи с женой? Ведь что-то же случилось! Скажите мне, может, вместе сообразим, где ошибка? Мы одни, между нами и останется.
Луна уплывала из окошка, и светлый квадрат сползал с Багрова и терял четкость.
Томин переступил с ноги на ногу и пошевелил пальцами в ботинках: подошвы стыли.
«Да-а, братец, мягкие тапочки только дома годятся».
В амбаре гуляли сквозняки. Дверь покачивалась с тихим басовитым скрипом.
«Давно бы уж назад ехали, кабы не уговоры. Досчитаю до двадцати. Если будет молчать, прямо назову Катю. Кто еще ему «родная»? А эта красивая злючка могла, могла!.. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь…»
Ветер снаружи разыгрался всерьез. В амбаре зашептались обрывки бумаги.
«Майор, похоже, честно старается… Майя ждет в милиции… Гаишник жив… Господи, сколько еще сидеть… Катька, змея, могла и наврать. Как она потом за мной бежала, как звала… Я никого не убил. Хоть это хорошо… А зачем тогда все было? Тоска душит — сил нет… Но Майя ждет. Она меня ждет. Еще раз ее увижу…»
Багров расслабился.
Томин расслабился.
Шофер, подслушивавший у стены, расслабился и потер замерзшее ухо.
И тут дунул ветер, и дверь за спиной Багрова гулко хлопнула.
«Продал?!» — яростно взорвалось в его мозгу, он вскинул пистолет и выстрелил в упор.
Распахнул дверь, готовый к сражению. За дверью было пусто.
Багров обернулся к Томину, который еще стоял, покачиваясь, пытаясь зажать рукой бьющую из раны кровь.
— Майор… — леденея, позвал Багров. — Майор!..
— Дурак, — сквозь зубы произнес Томин и стал оседать на пол, уже не слыша голосов подбегавших людей.
* * *
Молча и недвижно сидела Майя Петровна в дежурке. Рядом притулилась Катя. Наплакалась и уснула.
В милицию она ворвалась, причитая:
— Мамочка, прости! Мамочка, прости!
Ни слова не проронила Майя Петровна, слушая захлебывающуюся исповедь дочери. Только смотрела с глубоким отчужденным изумлением. Были вещи, которых она не прощала…
Далеко за полночь возле горотдела затормозила машина. Майя Петровна встала, выпрямилась. Первым вошел осунувшийся участковый.
— Иван Егорыч… — вопросительно потянулась к нему Багрова.
— Ведут, — угрюмо буркнул тот и направился к дежурному. — Ведут ее ненаглядного.
— Да она не в курсе, — вполголоса пояснил дежурный.
— И зря! Докатился ваш Багров, — обернулся Иван Егорыч, — на человека руку поднял.
Майя Петровна совсем побелела.
— Загорский?..
— Загорский жив-здоров. А вот майор…
— Погиб?!
— На грани, — отрезал Иван Егорыч и тяжело сел подле дежурного.
— О нем Москва справлялась, — вспомнил тот.
— Надо сообщить. Родных вызвать…
Катя со сна ошалело уставилась на отца, переступившего порог дежурки. Движения его были заторможены, вялы, лицо безучастно. Вот шатнуло, и Гусев подпер его плечом. Но даже Катя поняла, что шатало не спьяну. Сказывалось телесное и душевное изнеможение.
Багров медленно поворачивал голову, осматриваясь. На Кате задержался, но довольно равнодушно. Наконец увидел жену. К щекам, ко лбу прилила кровь, жилы на висках вздулись неестественно, в мизинец толщиной. Он разлепил спекшиеся губы:
— Майя, прости…
Это было все, что у него сейчас было. Два слова. Единственная просьба к судьбе.
Дежурка забыла дышать, переживая драматичность момента.
Майя Петровна без звука подняла ладонь, обращенную к мужу, и широко повела ею в воздухе, будто ограждаясь невидимой стеной.
Отреклась.
Хуже любого приговора, потому что пожизненно.
Накинула пальто, платок и вышла, как из пустой комнаты.
Катя нагнала ее возле милицейской «Волги». Майя Петровна о чем-то расспрашивала шофера.
— Мамочка! — вцепилась в нее Катя. — Прости его! Это я виновата! Он такой несчастный!.. Как мертвый!..
Майя Петровна легонько оттолкнула дочь и второй раз за вечер посмотрела на нее в крайнем изумлении. Но теперь в глазах появились проталинки.
— Вернись и накорми его, — приказала она. — В сумке все есть.
— А ты?!
— Я в больницу. Не жди.
* * *
Пал Палычу не спалось. Тоскливая штука — бессонница. Не так давно и улегся, а уже мочи нет. С боку на бок, с боку на бок…
Телефонный звонок выдернул его из постели и в три прыжка донес до прихожей.
— Прошу прощения, что разбудил, — сказала трубка голосом дежурного по городу. — Но тут из Еловска поступили новости, и я подумал…
— Не тяните, Григорий Иваныч!
Тот зачитал телефонограмму, добавил что-то сочувственное.
Знаменский деревянно поблагодарил. И остался стоять в прихожей, слепо уставясь на свои босые ноги, без определенных мыслей и чувств, зная только, что в его жизни стряслась огромная беда.


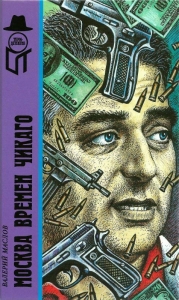


Комментарии к книге «Побег», Ольга Александровна Лаврова
Всего 0 комментариев