Юлиан Семенович Семенов Тайна Кутузовского проспекта
Вместо предисловия
Когда главы повести шли в набор, я встретился в Нью-Йорке с гражданкой США Викторией, дочерью замечательной русской актрисы Зои Федоровой, убитой в 1981 году.
Любители кинематографа помнят роли, сыгранные ими: «Подруги» Зои Федоровой и «Двое» Виктории вошли в анналы искусства навсегда — как документы эпохи.
— Мама была у меня в гостях несколько раз, — рассказала Виктория. — Однако, когда я пригласила ее в восьмидесятом, вскоре после того как здесь выпустили мою книгу «Дочь адмирала» — отец умер в звании адмирала флота США, — маме отказывали в выдаче паспорта. Я обратилась за помощью к тому сенатору, за которого голосовала, — Брэдли. После совещания в его штабе мне ответили: «Если бы мама просилась в эмиграцию, сюда, к вам, для воссоединения семьи, мы бы могли оказать какую-то помощь. В ином случае брежневская администрация нам откажет: «Давать или не давать выездной паспорт для поездки в гости — наше внутреннее дело… »
Я позвонила маме и рассказала ей об этой беседе.
— Меня скоро убьют, — сказала она, и это было не первый раз, когда мы перезванивались. — Ладно, в среду пойду на прием…
Она позвонила в среду вечером: «Я им сказала, что, если меня, русскую до последней капельки, патриота России, не выпустят в гости к дочери и внуку, я подам на эмиграцию…»
В пятницу ее убили… «Мосфильм» отказал в том, чтобы выделить зал для гражданской панихиды. А мне не дали визу, чтобы приехать на ее похороны: «Кто такая Зоя Федорова? У нас нет на нее никакой информации…» Тогда я положила мой советский паспорт в конверт и отправила его в Посольство СССР.
* * *
… Сталин любовался открытым, с ямочками на щеках, улыбчивым лицом Зои Федоровой. Вручая ей очередную Сталинскую премию, заметил:
— Это вас не я награждаю, а народ благодарит, товарищ Федорова.
Зоя не смогла сдержать слез счастья:
— Спасибо, дорогой Иосиф Виссарионович… Как говорят военные: «Служу Советскому Союзу!»
— Нет уж, пожалуйста, оставайтесь замечательной русской актрисой… Военными становятся, художниками рождаются… Как у вас дела? С жильем все нормально?
— Если б даже было плохо, я бы все равно не сказала, Иосиф Виссарионович… Без квартиры жить можно, без вас — нет…
— Я ж не бессмертен, — с болью, тихо заметил Сталин. — Придется и без меня пожить. Просьбы есть какие? Говорите честно, мне в радость помочь вам…
Федорова замерла, покрылась внезапно — от шеи — бледностью:
— Иосиф Виссарионович, у меня репрессирован отец… Он ваш солдат, его оклеветали… Он ни в чем не повинен…
На мгновение лицо Сталина закаменело. Как-то заново, словно бы оценивающе обсмотрев Зою, чуть усмехнувшись, ответил:
— Вот мы вам и подарим машину — неудобно отца домой везти на трамвае… Зайдите к товарищу Берия, потом позвоните Поскребышеву, он вас соединит со мной… А Лаврентия Павловича я предупрежу…
* * *
Из материалов дела: «В период приблизительно между тринадцатью и семнадцатью часами одиннадцатого декабря 1981 года в доме номер 4/2, квартире 243 по Кутузовскому проспекту была убита Федорова Зоя Алексеевна, семидесяти двух лет, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственных (Сталинских) премий.
Смерть Федоровой З. А. наступила в момент, когда она говорила с кем-то по телефону, от выстрела в затылок, произведенного из пистолета «Зауэр» калибра 7,65 (пистолет системы «Зауэр» продается в США, Аргентине (гор. Игуасу) и Бразилии).
В квартире обнаружены отпечатки пальцев неизвестных. С журнального столика изъят отпечаток пальца на дактилоскопию.
Из протокола осмотра квартиры жертвы, проведенного следователем прокуратуры Сазоновым, прокурором-криминалистом Герасимовым, экспертами НТО Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома Антроповым и Гритьевым в присутствии понятых Александровой и Кондрашкиной, явствует, что обстановка в комнатах не нарушена. Дверные замки шкафов целы. Следов взлома нет. Обнаружено 2400 рублей, кольца — с камнями и без камней, браслет, подвеска, кулон, цепочки и запонки желтого цвета. Следы насилия в комнатах не просматриваются.
Дверь взломана не была. По данным экспертизы, квартира чужим ключом, сделанным со слепка, не отпиралась, из чего можно сделать предположение, что убийцей был человек, хорошо знакомый Федоровой, который и находился в квартире жертвы».
… Из справки: «Федорова Зоя Алексеевна привлекалась по ст. 58, пп. 10 и 11 и по решению ОСО МГБ СССР была приговорена к двадцати пяти годам тюремного заключения. В 1956 году полностью реабилитирована».
* * *
«… Советское государство понесло тяжелую утрату. 19 января 1982 года после тяжелой продолжительной болезни скончался советский государственный деятель, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, первый заместитель Председателя КГБ СССР генерал армии Семен Кузьмич Цвигун.
Более четырех десятилетий жизнь и деятельность С. К. Цвигуна были неразрывно связаны с работой по обеспечению государственной безопасности нашей Родины. Этому ответственному делу он отдавал все свои силы, опыт и знания…
Светлая память о Семене Кузьмиче Цвигуне, верном сыне партии, государственном деятеле, навсегда сохранится в сердцах советских чекистов, всех советских людей…»
Франс Пресс: «В московских кругах упорно говорят о том, что родственник Брежнева и его креатура в КГБ Семен Цвигун не умер, а покончил жизнь самоубийством в правительственном загородном санатории».
Рейтер: «Осведомленные московские круги утверждают, что гибель Цвигуна связывается с именем артиста Бориса Буряцы, вхожего в дом Брежнева. При этом подчеркивается, что Цвигун был многолетним сотрудником и близким другом Брежнева: тем более странно, что подпись Брежнева под некрологом отсутствует…»
* * *
«… 25 января 1982 года на восьмидесятом году жизни после непродолжительной тяжелой болезни скончался член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда Михаил Андреевич Суслов. Ушел из жизни видный деятель Коммунистической партии, Советского государства и международного коммунистического движения. Вся его жизнь, все его силы и знания, весь его талант были отданы партии и народу…
На всех постах, которые ему доверяли Коммунистическая партия и народ, Михаил Андреевич Суслов проявил себя выдающимся организатором, несгибаемым борцом за великое дело Ленина, за успешное решение задач коммунистического строительства. Являясь крупным теоретиком партии, он многое сделал для творческого развития марксистско-ленинской теории, твердо отстаивал ее чистоту. Он внес большой вклад в дело расширения и укрепления интернациональных связей…
Михаила Андреевича Суслова отличали большевистская принципиальность, требовательность к себе и другим, исключительное трудолюбие, умение творчески подходить к острым и сложным вопросам современности. Человек большой души, кристальной нравственной чистоты, исключительной скромности, он снискал себе глубокое уважение в партии и народе…»
Из медицинского заключения о болезни и причине смерти Суслова Михаила Андреевича:
«М. А. Суслов, 79 лет, длительное время страдал общим атеросклерозом с преимущественным поражением сосудов сердца и мозга, развившимся на фоне сахарного диабета. В 1976 году перенес инфаркт миокарда. 21 января 1982 года возникло острое нарушение кровообращения в сосудах ствола мозга с глубокой потерей сознания, нарушением дыхания и некоторых других жизненно важных функций организма…»
* * *
«Спецгруппу Угро МВД СССР, созданную по делу об убийстве Федоровой З. А., расформировать.
Полковников Павлова В. Я., Савицкого У. Р., Костенко В. Р. вернуть в их подразделения.
27 января 1982 г.
Министр внутренних дел СССР Н. Щелоков».
Савицкого перевели в Ригу заместителем СКВ по режиму с прибавкой зарплаты на девяносто рублей; запил; вскоре умер от цирроза печени.
Павлова отправили в Узбекистан с повышением.
… С января по май восемьдесят второго года Костенко — после того как группу расформировали — провалялся в клинике у Ларика: тот удар в печень, что получил в Армении, в семьдесят втором еще, когда брал бандгруппу на аффинажной фабрике по делу Кешалавы, время от времени давал себя знать. Вернувшись в министерство, на глаза начальству не очень-то показывался, запомнив на всю жизнь слова, сказанные как-то Константином Симоновым: «Служить не отказываюсь, но служить не навязываюсь…»
… Что-то изменилось в стране: в КГБ сел никому не ведомый Федорчук из Киева — новая метла по-новому метет. Один из первых приказов был весьма странный, носил явно идеологический оттенок: «Запретить сотрудникам появляться в джинсах, только пиджак и галстук — желательно отечественного покроя».
В октябре Костенко пригласили в кадры, предложили перевод с повышением, куда-то на Камчатку. Он обещал подумать, поняв, что все, кто был завязан на деле Федоровой, отчего-то неугодны в Москве. Андропов, хоть и лишенный реальной власти, ибо теперь сидел в ЦК, на идеологии, под Брежневым и Черненко, тем не менее интересовался делом Федоровой, хотя кому-то это явно не нравилось.
Второго ноября Костенко вызвал заместитель министра по кадрам: «Приказ я завизировал, поздравляю от всего сердца, вернетесь генералом, обещаю…»
Десятого ноября, в День милиции, министр Щелоков обратился к народу по телевидению. Лицо — пергаментное, как маска, глаз от текста не отрывал. Брежнев лежал мертвый уже, началась схватка за лидерство. Победи Андропов — министр внутренних дел знал это, — и дни его будут сочтены.
Так и случилось: перевели в «царскую группу» Министерства обороны — с «Чайкой», пятьюстами рублями, бесплатным питанием, пайком, адъютантом, порученцем, кремлевкой и госдачей… Негоже обижать номенклатуру, Все должно быть тихо, тактично, с соблюдением привычного этикета: выводы, однако, сделали все — при встрече норовили обойти, не заметить, а уж если некуда было деться, разговор облекали в форму междометий, лица каменные, срок на обмен мнениями — минута-две, иначе может быть неверно понято наверху, каждый второй донесет, какое там второй — каждый…
1
На пенсию Костенко вышел в конце восьмидесятых — после того, как с помощью журналиста Ивана Варравина закончил разгром банды заместителя министра Чурина и его помощника Кузинцова…
… Поднимался он, как и раньше, в семь тридцать, полчаса занимался утомительной гимнастикой, а потом, проводив Маняшу, насыпал в кастрюлю брусничный лист, брикетик почечного чая, зверобой, шиповник, бросал щепотку валерианы (дефицит, впрочем, у нас все дефицит; раз в месяц приносил заместитель министра Цветмета Федя из аптеки Четвертого управления Минздрава — в простонародье, со сталинских времен — «кремлевка»), долго спускал воду, чуть не пять минут. Чайник покрывался накипью за полгода, водохозяйство Белокаменной редко меняет фильтры, «экономика должна быть экономной», трубы проржавели, по бюллетеням платим почечникам в тысячу раз больше, но посчитать, что выгодней — ремонт канализации или выплата по болезни, — недосуг, да и зачем? Одно дело — была б личная выгода, а так считай, не считай, деньги — ничьи, беречь государственные — пропади они пропадом, прожил день — и слава богу.
После того как бурый чай начинал пузыриться — спасение от камней, почечных колик и печени, — Костенко забирал из ящика «Аргументы и факты», «Книжное обозрение», «Огонек» и принимался за проработку прессы. Толстые журналы не выписывал, и не потому, что денег не хватало: пенсия полковничья, двести пятьдесят, Маня свои приносит, да еще по совместительству нанялась чертежи на дом брать;. Правительство подобрело, раньше за такое в тюрьму гнали, а теперь даже Аришке помогают, ей, как молодому специалисту, положили сто десять, а за фирменные зимние сапожки две сотни отдай и не греши, на панель, что ли, идти?!
Толстые журналы он не выписывал оттого, что Булганина помнил, Николая Александровича, бывшего премьер-министра. Было это в шестьдесят третьем, в районе Новодевичьего монастыря и Пироговки, там в те годы орудовала банда Носа. Костенко его «вытаптывал», обходил ЖЭКи; разговорился с отставником, который управлял домом, куда с Воробьевых гор, из замков, что москвичи нарекли «Заветами Ильича», переселили опального члена Политбюро.
«Что значит наша школа, сталинская, — задумчиво говорил управдом. — Каждое утро Николай Александрович получает двенадцать газет, я точно помню, информацию чекистам давал, и работает с ними — с красным карандашом в руке… Многотиражки даже получает, не только центральные… Резолюции кладет, служебные записки пишет, все в шкап складывает — придет время, вернут его в Кремль, помяните мое слово… «Кукурузник» не вечен, бог ему за Иосифа Виссарионовича отомстит… На кого руку поднял, мужик, а?! Так вот, Булганин поработает с газетами часов восемь — и на прогулку… С рабочим классом связь поддерживает, «на примкнувшего» порою бутылочку берет, на Шепилова, значится… Выпьет глоток — и беседует, расспрашивает о ситуации, советуется с народом, светлая голова, одно слово — сталинская гвардия…»
Костенко вспомнил этот разговор, как только отдал пистолет и получил пенсионную книжку: на следующий день после того, как не надо было ехать в министерство, отправился в библиотеку и сел за журналы; ходил, как на работу, — восемь часов, с обеденным перерывом; стресс поэтому, связанный с отставкой, перенес спокойно.
Вчитываясь в журнальные публикации, Костенко поначалу диву давался, как он отстал от жизни. Вспоминая обязательные политзанятия, нудные лекции пропагандистов, на которых он сидел, надев черные очки, чтобы не заметили, когда уснет (почти все, кстати, приходили в темных очках, не один умный), он поражался тому, какой гигантский вред приносили обществу эти обязаловки, во время которых все спокойно внимали обязательной лжи, внешне принимая ее как правду — так и рождалась государственная шизофрения, раздвоение, а то и просто расщепление (как лучины) общества: в кабинете — один человек, с женой на кухне, включив радио, — другой, на собрании — третий, у начальства — четвертый, во время разбора очередной «персоналочки» — пятый…
Порою он по два-три раза перечитывал особенно смелую статью: как можно такое печатать?! В меня въелся, а может, передался по наследству инстинкт охранительного страха, думал он. Сколько лет Россия жила в условиях свободы мысли и слова? После освобождения крестьян — лет десять, потом пришел Победоносцев, тогдашний Суслов; начало века — мелькнули либералы Витте и Столыпин; с февраля семнадцатого разгул свободы потом — гражданская, террор — белый ли, красный, всё одно террор; после — восстание своих, Кронштадт, и как следствие — нэп, кооперация, сытость, право говорить — вплоть до двадцать девятого… И — снова ночь легла над Россией, кровавая ночь бесправия и страха. Несчастная страна, то — пик, то — провал.
Статьи серьезных экономистов и историков были альтернативны — не привычные плач и критиканство, но предложения выхода из кризиса, — поражали его смелостью: неужели это не читают в Кремле?! А если читают, то отчего не следуют рекомендациям ученых? Костенко взял чистый лист бумаги — по привычке статьи и обзоры конспектировал — и записал колонку: четыре часа — прочтение и анализ шифровок от послов из узловых столиц мира; четыре часа — изучение сводок по стране, особенно из республик (хотя, считал он, столичные амбиции влияли на информацию, что шла из Прибалтики — республик с трагической историей, — кто-то явно нагнетает страсти, причем не только с той, но и с нашей стороны. Зачем? Кому на пользу?); три часа — официальные приемы, переговоры; три часа — текущие дела, совещания со штабом, выработка стратегии — на завтрашний день, тактики — на сегодняшний вечер, ситуация такова, что считать надо минутами, не часами. Итого кремлевский рабочий день — четырнадцать часов. Вот и получается, что нет времени на журналы, ведь теперь и по субботам работают… Тут-то и начинается трагический разрыв между тем, что не доходит до кремлевских кабинетов, но зато впитывается сотнями миллионов читателей. У нас ведь так алчно читают не оттого, что мы какие-то особые, просто нечем себя занять. В бизнес не пробьешься, кругом запреты, индустрии развлечений до сих пор нет и в помине, рестораны плохи, дороги, а решишь пойти — места не сыщешь, в одном Париже кафе и ресторанов больше, чем во всем Советском Союзе. У нас принято бифштекс брать с водкой, а у них можно с чашкой кофе весь день просидеть за столиком; такого б клиента наши официанты в сортире утопили… Туризм? Нет его. Дансинги для молодежи? Раз, два — и обчелся… Вот и читают…
Костенко поначалу традиционно пугался слов «собственность», «выкачивание денег», «бессрочная аренда». В нем жило привычное отталкивание, вдолбленное с детства, которое на самом-то деле, признался он сам себе на пятом месяце библиотечной работы, есть некий генетический код привычного страха перед новым. Действительно, спросил он себя, когда я лучше работал и раскрывал дела, которые до меня лежали в архивах? Когда надо мной не стоял погонялыцик и не требовал ста справок каждый день. Ну а крестьянин? Что он, из другого теста сделан? Сейчас над ним бригадир, председатель, агропром, райком, райисполком, и все его учат, как хлеб убирать… Ну а дай ему волю? Продай землю? Сделай его свободным, как при Столыпине? Или нэпе? Тогда на кой черт ему погоняльщик? Дай магазин, чтоб принимал его продукт, и деньги за это плати… А куда ж администраторов девать? Если бы американский фермер отчет в исполком писал, а пуще того — в агропром, мы бы народ на хлебные карточки должны были посадить, мор бы начался… Всегда на Руси был управитель над мужиком, помещик, урядник, контролер: «семеро с ложкой, один с сошкой»… Сами отучили народ работать — жди команды сверху! Чего ж на несчастный народ валить? Сверху все видней… Сам держу все в руках… Самодержавие… Абсолютизм власти… А он, абсолютизм этот, всегда одним кончается — бунтом, особенно когда Человек начинает осознавать свою уникальную неповторимость…
Костенко возрадовался, услыхав по телевидению, что теперь колхозам и совхозам будут платить за хлеб валюту. А фермеру? Арендатору? И тут же: «… объединения и главки помогут купить колхозам и совхозам то, что им требуется». Одну минуточку! А отчего председатель или тракторист не могут сами поехать за границу и купить то, что им надо? Снова бюрократия оттирает мужика от плодов его труда? Опять недоверие к личности? Государственное опекунство? Как же растить поколение тех, кто может сам принимать решение? — «Значит, государство все должно отдать мужику и работяге?! А что тогда делать аппарату?» — «Пенсию пусть получают! Царскую пенсию! Только б все напрямую было, чтоб не путалась страна в бумажках и отчетах, — погибнем!»
… В ту памятную пятницу Костенко засиделся в библиотеке до позднего вечера, разбираясь с понятием «акция». Сделать работяг хозяевами заводов, завязать качество труда с заработком, ввести закон о помощи по безработице — повышение производительности труда всегда связано с уменьшением числа работающих за счет новой техники, — представил себе ярость консерваторов («мое поколение — все как один консерваторы») и журнал закрыл. Снова уперся рогом в те термины, которые вбили в него за тридцать пять лет работы.
На улице дождило, грусть была в городе, в людях, что стояли возле автобусной остановки, в бутафорских витринах магазинов, да и в самом небе, низком и сером.
— Товарищ Костенко, — услышал он за спиной вальяжный, красивый голос, — извините меня, я б вас подвез домой, а по пути посоветовался бы.
Костенко обернулся: рядом с ним стоял невысокий мужчина в скромном сером костюме, серой шерстяной водолазке, только туфли из лайковой кожи, с медными пряжками, видно, очень дорогие.
— С кем имею честь?
— Меня зовут Эмиль Валерьевич, фамилия Хренков, я из кооператива «Заря», вчера про нас была передача на телевидении, в шестнадцать сорок…
— А какое я имею отношение к кооперации?
— Что, считаете нас акулами капитализма?
— Не считаю. Откуда, кстати, вы меня знаете? Почему здесь ждете?
— Бдительность и страх — категории пересекаемые, товарищ Костенко, — заметил Хренков. — Простите, если что не так. Просто Ястреб мне сказал, что вы в этой библиотеке работаете, ну я и подъехал…
Ястреб торговал в киоске «Союзпечати», снабжал «Московскими новостями». Костенко сажал его дважды: домашние кражи, брал квартиры номенклатуры, называл себя «Робин Гудом, Народным мстителем». Воровать начал с голодухи, — отца расстреляли по «ленинградскому делу», мать спилась. Вернулся из лагеря с туберкулезом, пришел домой к Костенко, тот помог ему прописаться. Воры добро не забывают: завязал, получил киоск, сейчас живет кум королю…
— Что у вас? — спросил Костенко. — Говорите здесь.
— Не согласились бы пойти к нам работать? Помочь в борьбе с рэкетирами, очень трудно жить, товарищ Костенко.
— Частный сыск хотите создать?
— Что-то в этом роде… Я не смею унижать вас разговором об оплате, но, как понимаете, денег мы не пожалеем.
— Оставьте телефон, — сказал Костенко.
— Это несерьезно… Ваше министерство против частного сыска, зачем мне светиться? И так живем, как мишени…
— Тогда до свидания…
— Честь имею, — кивнул Хренков и пошел к «Волге», что стояла поодаль.
Когда он сел за руль и резко (слишком резко) взял с места, чтобы набрать скорость, проезжая мимо остановки, Костенко вгляделся в окно машины — лицо человека в темных очках, что устроился на заднем сиденье, показалось ему знакомым, и не просто знакомым, а очень его в свое время интересовавшим. Машинально взглянул на номер «Волги», запомнил. Назавтра заехал в ГАИ — машина принадлежала летчику международных линий Аэрофлота Полякову, в настоящее время находится в Латинской Америке, доверенности никому не оставлял. Ребята из Угро проверили: «Волга» Полякова стояла запыленная на втором этаже кооперативного гаража возле памятника Гагарину. Вечером Костенко зашел в министерство.
— Слушайте, мужики, как бы мне посмотреть дело об убийстве Зои Федоровой?
Он просидел с папками до одиннадцати, надо бы Машуне позвонить. Впрочем, она привыкла, что он порою исчезал на неделю — работа. Набрал номер: «Маняш, я зашел к себе, в министерство… Хм… «К себе»? К ним, так точнее… Скоро буду. Как ты? — и, не дожидаясь ответа, положил трубку.
— Слушайте-ка, — спросил он дежурного по управлению, — я помню, была папка с фотографиями свидетелей, где она?
— Осталась на Петровке.
Раньше б сразу же туда рванул, подумал Костенко. Годы, а может, ощущение отлученности от дела. Любительство предполагает неторопливость и право на свободу во времени, только действующий профессионал — физически, до боли в затылке — ощущает фактор времени, некая вмонтированность в твое существо внутренних секундомеров…
На Петровку Костенко приехал утром, в девять. Сначала сделали «робот» того, кто подходил к нему, — Хренкова. Папку искали долго, дело нераскрытое, повисло. Как ни странно, Щелоков и Цвигун были в высшей мере корректны, не гнали, как обычно. Порою Костенко казалось, что все они хотели спустить дело на тормозах, хотя не только Москва гудела, но и Запад тоже.
Папку нашли только к одиннадцати. Костенко медленно пролистал страницы, остановился на семьдесят третьей: «Иосиф Павлович Давыдов, театральный администратор, проживает в Москве, на улице Красных строителей, дом семь, квартира девять, не судим, образование среднее».
Справка на него пришла довольно быстро, к двум: «Давыдов Иосиф Павлович выехал из СССР по израильской визе в Вену 29 января 1982 года».
Вторая справка пришла из ОВИРа к пяти: «Джозеф Дэйвид, гражданин США, вылетел сегодня утром рейсом Москва — Нью-Йорк самолетом «Пан Америкэн», экономическим классом, приезжал по туристскому ваучеру, неделю жил в Москве, отель «Националь», три дня в Ялте, отель «Ореанда».
Вечером установили всех Хренковых. В кооперативе «Заря» Хренков ни в штате, ни на договоре не числился. По приметам ни один из семисот сорока трех человек с такой фамилией не мог быть случайным собеседником Костенко, ибо никто из установленных Хренковых не имел маленького, едва заметного шрама на левой брови. Костенко усмехнулся: «Я как могильщик Литфонда. Митя Степанов рассказывал, был у них старик, который приходил к больному писателю, болтал с ним о новостях, если тот был в сознании, сулил счастливую жизнь, а сам тем временем промерял мизинцем и большим пальцем рост несчастного — какой длины заказывать гроб… Нормальные люди ищут в лице собеседника что-то новое для себя, запоминают глаза, манеру улыбаться, а я, словно легавая, цепляюсь за то, что может впоследствии оказаться следом. Наверное, я пропустил множество интереснейших людей, потому что для меня родинка какая или прыщ важнее глаз, слез, трясущихся пальцев, смертельной бледности…»
— Дело тухлое, полковник, — заметил заместитель начальника столичного Угро, — что это тебя потянуло? Или соскучился по работе?
— Хочу маленько поковыряться…
— Пиши рапорт.
— А без рапорта нельзя?
— Ты что, целка? Забыл законы?
Костенко усмехнулся:
— Законы помню, бардак забыл.
Заявление тем не менее написал и отправился к Ястребу.
… Мишаня Ястреб сделал свой киоск совершенно особым: весь в портретах писателей — Шекспир, Шукшин, Хемингуэй, Толстой, Пушкин, Лермонтов, звезд кино и эстрады — Высоцкий, Пугачева, Вилли Токарев, Бабкина, Элвис Пресли, битлы, Тихонов и Броневой; где-то достал мегафон, которым пользуются экскурсоводы, гоняющие туристов по Москве (бедолаги-провинциалы в магазины норовят, колбасы ухватить, а их силком в Пушкинский музей — голых римлян смотреть; сами раздеты, пальто б где к зиме взять), поэтому киоск Мишани сделался своего рода культурным островком в микрорайоне.
— Кто не купит академический журнал «Вопросы экономики», — вещал Ястреб своим хриплым голосом, — рискует остаться в неведении, отчего мы катимся в пропасть!
Старик в фетровой шляпе (отчего наши старики ходят в тапочках, спортивных брюках, но обязательно при галстуке, в черном пиджаке и коричневой шляпе?) усмехнулся:
— Терпеливые, дурни, лентяи и трусы — оттого и катимся.
В очередь, однако, встал.
— Неужели вы упустите возможность приобрести справочник железных дорог? — продолжал между тем Ястреб. — Да, он прошлогодний! Но что сейчас так ценится, как старая книга?! Через пять лет она станет уникальной и ее у вас купят в любом букинистическом за десятку!
— А на хрена эти справочники? — снова пробурчал старик. — Езжай на вокзал, становись в очередь и прей. В России справочникам верить нельзя, мы — непредсказуемые…
Торговля шла бойко. Увидев, что очередь разрастается (один стоит, а к нему трое подлетают, мол, мы раньше свой черед занимали), Костенко понял, что минут двадцать он потеряет, а времени в обрез (Военная прокуратура дала справку, что генерал Трехов, тот, что реабилитировал Зою Федорову, живет в Переславле-Залесском, туда пилить и пилить), обошел киоск, постучал в дверь и сказал:
— Ястреб, это я.
Тот приоткрыл дверь.
— А, полковничек! С кандалами пришел? Погоди, я мигом всех раскидаю, заходи, гостем будешь…
И внутри киоск у него был как маленький теремок: занавесочки, столик с тремя резными табуреточками, коечка, покрытая ковром, электроплитка, турочки из Сухуми — чеканные, ручной работы, то ли медь, то ли латунь; под прилавком — ротапринтные издания, книги, которые на черном рынке стоят сотню, не менее.
— Уважаемые покупатели, приношу глубочайшее извинение, — возгласил Мишаня, — пришел фронтовой друг, я вынужден прервать работу на полчаса. Рекомендую посетить кооперативное кафе «Сладость» — во дворе, третий подъезд, угостят настоящим кофе, учитесь цивилизации, кафе — место для любви, разговоров и сделок!
Он захлопнул окошко и сел напротив Костенко.
— Ты мне должен доказать, полковник, что эти ротапринты я получил незаконно. У меня накладная есть. В БХСС подался?
— Да ладно, — Костенко махнул рукой, — если у нас государство не может торговлю наладить, так хоть ты их научи… Наши из Угро не тревожат?
— Русский человек за книгу душу отдаст, — ответил Ястреб, — так что с вашими орлами порядок, работаем в полном контакте… Я им пообещал вывесить плакат: «Разыскиваются особо опасные преступники», ручку жали, меня в простоте не возьмешь…
— Я в отставке, Ястреб… Ни в каком я не в ОБХСС… К тебе пришел по другому делу…
— А разве в отставке дела бывают? Если ты, к примеру, отставной маршал — в дурака с адъютантом режешься, генерал — клубнику разводишь, а полковник — совместительствует, на двести пятьдесят только святой ныне проживет…
— А если не совместительствую, а для души?
— Полицейский для души наручники надевает, ему это как циркачу гиену отдрессировать…
— Тоже верно, — согласился Костенко. — Скажи-ка мне, Ястреб, ты Хренкова давно видел?
— Кого?
— Эмиля Валерьевича Хренкова…
— Не знаю такого. Откуда он?
— Из «Зари».
— Это которые инструментами торгуют? Компьютерами?
— Точно.
— Я оттуда Людку харил, секретаршу ихнюю…
— Старик, а греховодишь.
— Ничего подобного. Тренирую простату. В нашем возрасте это необходимо… Кто-то рассказывал, как один наш знаменитый поэт к академику Фрумкину пошел, тот был главным урологом Красной Армии, про него еще Михалков написал: «генерал из генералов, маршал мочеполканалов»… Поэт его спрашивает: мол, сколько раз в неделю надо трахаться? А Фрумкин ответил: «Чтобы трахаться — надо трахаться постоянно»… Если запустишь — конец… Сломанную руку сколько месяцев человек после гипса разрабатывает! То-то и оно! А женилка, полковник, не рука! Без руки жить можно, а без женилки, да еще с простатой, как булыжник, — прямой путь в онкологию.
— Ну-ну, — вздохнул Костенко…
— Нужна девка? — спросил Ястреб. — Отставнику можно. Партийцы не схарчат, пенсию не отымут…
— Жены боюсь, — ответил Костенко.
— Так тебя ж после молодухи на нее потянет! Спасибо еще скажет, полковничек… Ислам надо учить… Многоженство — верх разума. Хочу в мусульмане податься, татары народ надежный, ей-богу… И звучит красиво: «Михаил Рувимович Ястреб-заде». За одного этого «заде» мне десять «рувимов» простят…
— Ты бы не мог эту самую Людку про Хренкова спросить, а?
— Полковник, если я в лагерях за дополнительную пайку не ссучился, то разве сейчас в сексоты пойду?
Костенко закурил:
— Дай слово, что в тебе умрет, что я сейчас открою.
— Даю слово.
— Помнишь артистку Зою Федорову?
— Это которую Щелоков уконтрапупил?
— Кто это тебе сказал?
— Так Нагибин в «Огоньке» напечатал, неужели не читал?
— Читал… Писатель в книге на все имеет право, на то он и отмечен искрой божьей… Так вот Хренков этот меня интересует именно в связи с Зоей Федоровой…
— Не сходится, полковничек… Если ты в отставке, то при чем здесь несчастная Федорова?
— Надо уметь отдавать долги.
— Мне отдай… Мне эта власть задолжала, за всю мою растоптанную жизнь задолжала…
— Бабок у меня нет, Мишаня. Чем возьмешь?
— Хренков, Хренков, Хренков, — задумчиво повторил Ястреб. — Ну-ка, покажи ксиву…
Костенко протянул ему пенсионное удостоверение. Ястреб изучил его, вернул, заметив:
— В ваших падлючих типографиях и не такое можно напечатать…
— Кстати, о Щелокове… Хоть он мне генерала зарезал, а ведь обещал звезду дать, но я помню, как он на встрече с детективщиками запонки им показывал золотые: «Это подарок великого советского музыканта Ростроповича, моего друга, он мне их дал перед тем, как его изгнали с Родины… А я их ношу, потому что придет время — он героем сюда вернется…» Так что прямолинейно и однозначно ни о ком судить нельзя, Ястреб, даже о Щелокове.
— Это он в застое этакое брякнул?
— Так он после застоя сразу и слетел… В зените своей власти официально заявил… И еще сказал, что дирижерскую палочку Ростроповича у себя на столе держит, как напоминание о расейском бездумном расточительстве, когда сами собственные таланты давим. Мол, что имеем — не храним, потерявши — плачем…
— Полагаешь, на него напраслину возвели?
— Ястреб, я полагаю только в том случае, когда имею улики… Ладно, если вспомнишь что о Хренкове, зайди, чайку попьем.
— Адрес не поменял?
— А кто легавым новые квартиры дает? Я ж не передовик какой или министр… Ну, пока, Ястреб… Мне нравится, как ты дело развернул… Учишь государственных идиотов коммерции…
Костенко вышел из киоска, Ястреб тут же открыл окно, высунулся с мегафоном и моментально собрал очередь. Внезапно закричал: «Полковник, погоди!»
Сначала Костенко решил было не возвращаться — зачем открываться, но потом сказал себе: «Ты отставник, ты никто… Кому ты нужен? Раскроешься, закроешься, все кончено, жизнь — мимо, конец…»
И — вернулся.
— Слушай, — сказал Ястреб, — в лагере со мной один бес сидел, мы его раскололи, его в пятьдесят седьмом взяли, подполковником МГБ был, курва… Мы его сквозь строй гоняли — у-у-у-у… После двадцатого съезда его окунули, пытал, говорили, пятнадцать вмазали… Так мы ему кличку дали — Хрен. Злой был, отмахивался по форме, за себя стоять умел…
— Хрен? От фамилии, что ль?
— От злобы. Знаешь, как говорят: злая горчица, злой хрен… Фамилия у него другая была…
— А шрамик на левой брови был?
— Он весь у нас в шрамах ходил…
Костенко достал из кармана фоторобот Хренкова, протянул Ястребу:
— Он?
— Он, курва, чтоб я свободы не видал, он! Ну, сука, а?! Жив, выходит!
— Он не просто жив, Ястреб… Он, сдается, в деле. Ко мне подошел, сославшись на тебя, иначе я б с ним и говорить не стал… Забыл все, что я тебе показал?
— А ты мне ничего и не показывал, полковник…
… В Переславль-Залесский Костенко приехал в полночь, потому что у автобуса полетел скат. Менять его — да еще под дождем — дело долгое, матерное, пассажиры пытались остановить машины, — куда там.
Странные у нас люди, думал Костенко, глядя, как мимо несчастных пассажиров, чуть не кидавшихся под колеса, проносились «Волги», «Жигули», «рафики». Стоит поговорить с человеком часок-другой — откроется тебе, Душу распахнет, последним поделится, а вот помочь незнакомцам, проявить номинальную культурность — ни-ни. Почему в нас мирно уживается Бог с Дьяволом? Оттого, видно, история наша столь трагична: собирали Империю кровью, жестокостью собирали, небрежением к людишкам, во всем превалировала Державность, а ведь происходит это понятие от «держать», то есть «не пускать», а всякое «непускание» по своей сути грубо и безжалостно, то есть бескультурно…
В какой еще стране так собачатся в очередях, на рынках, в трамваях, в какой, как не у нас, доносы на соседей пишут?
Он никогда не мог забыть немецких военнопленных; в сорок шестом работали на Извозной — строили «ремеслуху». Кирпичи друг другу передают, и каждый: «битте зер» — «данке шен», как только язык не отваливался за день?
… В Переславле, ясное дело, мест в гостинице не было, их ни в одной гостинице страны никогда не бывает, если только не запасся предварительной начальственной бронью или не сунул администратору в лапу, решил подремать в кресле. Дежурная раскричалась: «Тут что, ночлежка?! А ну вали отсюда, у меня люди отдыхают!» Он попросил разрешения позвонить в милицию, женщина разошлась того пуще: «Ты меня не пугай! Пуганая! Вали, говорю! А то сама милицию вызову, пятнадцать суток враз схлопочешь».
— Где хоть милиция, объясните.
— Иди да ищи, я тебе в гиды не нанималась.
— Сука, — сказал Костенко, — гадина…
— Товарищи! — женщина заверещала тонко, пронзительно. — Бандит! На помощь!
Двери пооткрывались, выскочили постояльцы — кто в длинных сатиновых трусах, кто в кальсонах, только один выглянул в пижаме и тут же дверь захлопнул.
Костенко машинально просчитал, что дверей отворилось восемь, а номеров — тринадцать. Дежурная рыдала в трубку: «Милиция? Коль, это ты?! А ну, давай сюда наряд! Бандюгу забери, у меня свидетели, гони быстро».
Колей оказался крепыш сержант, он с порога спросил дежурную:
— Где хулиган?
— Вон, гад! Грозился, матерно обзывал… Правда, мужчины? — спросила она постояльцев.
Те отвечали невразумительно, смотрели, однако, на происходящее с интересом.
— Поехали, — сказал сержант. — Там разберемся. — Дежурной бросил: — Составь заявление, и чтоб свидетели подписались.
— Вы сначала проверьте мои документы, — попросил Костенко.
— В отделении проверим.
— Проверим здесь, — сказал Костенко и протянул ему свою полковничью пенсионную книжку.
Коля долго изучал ее, потом сказал зрителям:
— Расходитеся, граждане, театр здесь, что ль?!
— Нет, а в чем дело? — сказал тот, что вышел в кальсонах. — Вы нам по-гласному все объясните… Нас ото сна оторвали… За спиной у народа теперь нельзя, не разрешим…
— Молчи, «народ»! — отрезал сержант. — Как на рынке виноградом спекулировать, так, понял, «индивидуал», я твой номерок давно заприметил, а если скандал, на «народ» киваешь…
Люди молча и быстро разошлись по номерам.
Костенко предложил сержанту сесть рядом:
— Пусть гражданочка дежурная возьмет ключи, и давай-ка посмотрим пять номеров — есть там постояльцы или пустуют?
— Коля, он меня матерно обзывал и грозил глаз вырвать! — испуганно заплакала администраторша.
Костенко спросил сержанта:
— По какой статье дамочка проходила?
Сержант понизил голос:
— Так вы с контрольной проверкой, что ль, товарищ полковник?
Услыхав последнее слово, дежурная заплакала еще пуще:
— Начальник, не губи, не губи, начальник, дам я тебе номер, но он же бронированный, без исполкома не могу я, запрет мне на эти номера, вдруг начальство нагрянет, их селить надо, не губи…
— Агентов надо выбирать понадежнее, — заметил Костенко сержанту, — она ж взятки за номера берет. По нонешним временам вы ее не отмоете, придется сажать, как ты ей будешь в глаза смотреть? Да и сам под монастырь попадешь… Смотри, парень…
— А я чего? — спросил сержант, потупив очи долу, — я ничего такого с ней не имею… А без присмотру гостиницу оставлять нельзя: скопление, мало ли чего может случиться…
… Утро было солнечным, небо — высокое, синь непроглядная, какое-то странное ощущение невесомой массы, ассоциировалось с вселенской тишиной, миром, бессмертием и безмятежным вечным покоем… Хотя вечный покой скорее приложим к кладбищу, если идти от «передвижников»… Все двояко толкуемо, нет одной правды и никогда не будет. Приближение к правде — слагаемость множества мнений…
До того домика, в котором жил отставной генерал Трехов, можно добраться на автобусе, что ходил раз в два часа, или топать семь километров вдоль по берегу Плещеева озера — оно искрило мелкой зыбью, сентябрьский камыш казался бархатным, стайки чирков пролетали стремительно, как реактивные истребители: брать пример с Божьей твари и подвешивать — под копию с нее — атомные бомбы… Эх люди, люди, порожденье крокодилов… Жуки — прообраз танка, крот — сапер, воистину из ничего не будет ничего; проецируем Божью тварь на мощь разрушения, вгрызание в глубь самих себя, подкрадывание к дьяволу, который сокрыт в каждом…
На третьем километре на поднятую руку откликнулся наконец шофер бензовоза — молоденький парень, волосы что солома, глаза — синие, громадные.
— Куда вам, дядя?
— А здесь неподалеку, на берегу, возле Зубанихи старик живет…
— Генерал, что ль?
— Точно.
— Чокнутый…
— Да ну? Давно ли?
— А как Горбачев пришел. Раньше молчал, а вот стали товарища Сталина хулить, так и он, — туда ж…
— Любишь товарища Сталина?
— Его все честные люди любят.
— Ты сам-то с какого года?
— Старый уже, — усмехнулся паренек, — с шестьдесят пятого.
— Да, дед прямо-таки… Ты ж ни Хрущева не застал, ни Сталина… Откуда в тебе любовь к Иосифу Виссарионовичу?
— А папаня работал в охотхозяйстве, его Василий Иосифович держал, сын вождя… И консервов привезет егерям, и бутылку каждому… Чего ни попросишь — кровель там, стекло, — всем помогал, и взятки, как сейчас, не брал: все от чистого сердца… За это его масоны с сионистами и погубили мученической смертью…
— А масоны — это кто?
— Ну как? Враги народа, нерусские.
— А сионисты?
— Так это ж евреи! Вы что, шуткуете, дядя?
— Почему? Просто интересуюсь, как ты себе это мыслишь. Радищева в школе проходил?
— А как же! До сей поры помню, очень замечательно писал про страдания народа…
— Он, кстати, масоном был. Радищев-то…
— Ты, дядя, давай, напраслину на русского писателя не неси, а то высажу, и точка…
— Да вот тебе истинный крест, — серьезно ответил Костенко. — Для интереса сходи в библиотеку, посмотри издание Радищева, там про то сказано…
— Какая у нас библиотека?! Одни собрания сочинений — то Брежнев был, то сусловы там всякие с соломенцевыми, двух слов сказать не могут, а туда ж — за Пушкиным в ряд…
— Сионисты, — рассмеялся Костенко. — Дорогу небось тоже они, сионисты, мешают проложить, по ухабинам елозим?!
— У них руки длинные… Если б от нас что зависело — сразу б провели…
— Ну так и провели б!
— А ты пойди в исполком, сунься! С Гушосдором поговори! От ворот поворот— и точка!
— Масоны там сидят? Нерусские?
— Да что ты с этими долбанными масонами ко мне привязался, дядя? Все об них говорят, что ж, людям не верить?!
— Об них не все говорят, об них наши цари говорили с охранкой… И Гитлер… Ладно, хрен с ними, с масонами этими… Мясо дают? Колбасу? Сыр?
Шофер покосился на Костенко, оглядел его наново, прищурливо, холодно:
— А вы вообще-то наш?
— Нет, украинец…
— Ну, это разницы нет, что хохол, что русак…
— Полагаешь?
— А что? Если б вы чуркой были — я б вас по физиономии отличил, прибалтийца какого — по выговору, я с ними в армии служил, аккуратные ребята, своих в обиду не дают, молодцы, это только мы как в расколе живем, только и ждем, чтоб друг дружку схарчить, будто шакалы какие…
… Генерал Трехов отмахнулся от костенковского удостоверения:
— Я любому человеку рад, мил-душа, живу бобылем, милости прошу в зало…
У Костенко стало тепло на сердце. «Зало» было комнатой метров шестнадцати, вдоль стен стеллажи с газетами, журналами и книгами, уютный абажур, такой у бабульки был, только у нее белый, а у этого — красный. Спаленка крохотная, метров шесть, зато кухня с русской печкой — настоящая, просторная, впрочем, Костенко отметил, что ему мешало здесь что-то, потом понял — холодильник, чужероден.
Генерал словно бы понял его:
— Погреб отменен, мил-душа, но я дважды сверзился, еле отлежался, пришлось изнасиловать российскую первозданность атрибутом антиэкологической цивилизации… Увы, молочко из погреба несравнимо с тем, что хранится в холодильнике, но годы вносят свои коррективы… Чайку с дорожки? Хлебушка с салом?
— Ни от чайку, ни от хлеба с салом не откажусь, товарищ генерал…
— Мое имя-отчество легко запоминаемо, мил-душа… Я Иван Иванович… А вы?
— Владислав Романович.
— Красивое созвучие. Очень раскатистое, какое-то театральное… Присаживайтесь, сейчас накормлю… С чем пожаловали?
— Я по поводу Зои Федоровой…
— Кто это?
— Актриса, которую убили восемь лет назад…
— Погодите, погодите, я ее реабилитировал бы… Так?
— Именно… Я думал, вы ее сразу вспомните…
— Через меня прошли десятки тысяч людей, Владислав Романович… Я и Сергея Королева дело закрывал, и Туполева, и детей Микояна, и Тату Окуневскую реабилитировал, жену моего фронтового друга Бориса Горбатова, и Павла Васильева, гениального сибирского поэта… Пильняка, Бабеля, Тухачевского, Мандельштама, Мейерхольда, Вознесенского, Михоэлса — разве всех в памяти удержишь?! Видимо, ее дело было легким, в других-то приходилось разбираться, мил-душа… Таких показаний навыбивали, стольких свидетелей выставили… Липа? Ясное дело… Но — докажи! Молотов требовал развернутых справок по каждому делу, особенно в связи с военными, его же подпись там стояла… Каганович велел справки на всех секретарей райкомов Москвы ему лично пересылать… По Наркомпути — тоже… Никита Сергеевич постоянно интересовался Украиной, только Ворошилов в ус не дул… Знаете, кстати, как он пил? Две чарки водки, а после — для похмельной бодрости — фужер шампанского. И — все. Умел пить, знал, когда остановиться… Но он уже тогда, мил-душа, мало что воспринимал, парил, так сказать, считал, что если Хрущев в своей речи сказал, мол, Сталин винил Ворошилова — «английский шпион», то с него все списки автоматически снимутся, а он ведь тоже на сотни тысяч давал свою подпись…
— Иван Иванович, вы не помните, кто был следователем Зои Федоровой?
Генерал поставил на стол квашеную капусту, буханку хлеба, сало, порезанное щедрыми кусками, и варенье:
— Конечно, не помню, мил-душа… Если б записи вел, а то ведь все тогда было «совсекретно»… Никто не знал, когда придет приказ прекратить реабилитацию и вернуться к восхвалению великого кормчего, будь он проклят…
Костенко достал фоторобот Хрена, показал его генералу. Тот долго вглядывался, потом задумчиво произнес:
— Я его допрашивал… Он в Лефортове сидел…
— По какому делу?
— Кажется, по тем спискам, которые подписывал Абакумов…
— Зою Федорову арестовали по указанию Берии…
Генерал покачал головой:
— Сдается мне, там была какая-то игра… Что-то там было особенно коварное… Вы угощайтесь, мил-душа, угощайтесь, а я пока расслаблюсь и повспоминаю…
Костенко положил кусок сала на черняшку, чуть присолил, съел быстро, с нескрываемым аппетитом. Есть дома, где угощение всласть, а бывают такие, где совестишься кусок со стола взять.
— Хорошо едите, — заметил генерал. — Я-то на твороге сижу, рак был, полжелудка вынули, ничего, третий год уже, дети всех врачей-убийц съехались, чьих отцов я реабилитировал, а их следователей — сажал…
— Иван Иванович, врачей реабилитировал Берия…
— Он их выпустил, мил-душа… А дело по-настоящему закрывал я… Лаврентий Павлович только крохотный кусочек айсберга приоткрыл в своей борьбе за интеллигенцию, он был игрок мудрый, учитель был не кто-нибудь, а Хозяин… Кстати, у вас портретов Зои Федоровой нет?
Костенко с готовностью разложил перед генералом фотографии Федоровой: и кадры из фильмов, и в шикарном платье со знаками лауреата Сталинских премий, и убитую — с телефонной трубкой в руке…
Генерал отодвинул все фото, оставив одно — со Сталинскими премиями.
— Вот что я помню точно, мил-душа… Прямо-таки страницу дела вижу: «… после вручения мне Сталинской премии я набралась смелости и обратилась к Иосифу Виссарионовичу: «Дорогой товарищ Сталин, у меня отец репрессирован… » Зоя Федорова была у Сталина на Ближней даче… Потом ездила к Берии на улицу Качалова… Сталин умел давать взятки, это не брежневские дилетанты, тот был злой гений дозировок, все просчитывал вперед… Эк ведь как сумел «обоймы» создать, организовать классиков… Детская литература: ба-бах ордена Ленина Чуковскому, Маршаку, Михалкову, Гайдару и Барто — гении, высшие авторитеты, только их и читать детям… Ба-бах премии артистам, любимым народом: Крючкову, Алейникову, Андрееву, Черкасову, Марецкой, Зое Федоровой — только они говорят с экрана правду, они, и никто больше… Так же и в балете было, и в театре, в науке, живописи… Пойди кто хоть слово скажи против Александра Герасимова, Серова, Налбандяна, Иогансона… Что там всяких Гудиашвили, Кончаловские, Мешковы, Сарьяны?! Третий сорт… Хоть и тем давал от пирога, но орденок поменьше, премию пожиже, все взвешивал, фармацевт… Так вот я вспомнил: вскоре после визита Федоровой к Сталину на дачу и к Берии в особняк ее и забрали… Ей ведь шпионаж шили, я вспомнил, шпионаж и террор, мил-душа, у нее какой-то американец был во время войны, верно?
— Верно. Военный атташе, капитан Джексон Роджер Тэйт…
— Его когда выслали из страны?
Костенко улыбнулся:
— Ухватили кончик шнурка?
— Не сглазьте, мил-душа… Так в каком его турнули?
— В сорок пятом.
— В сорок пятом, — задумчиво повторил генерал. — Смотрите, как интересно: первый американец, которого турнули, — в год Победы… А Сталин «железный занавес» начал заново строить в сорок шестом… Понимаете, к чему я веду?
— Понимаю… Вы ищете личные мотивы для высылки американца.
— Точно… Ее, видимо, пытались вербовать… Впрочем, о мертвых или ничего, или хорошо…
Костенко хмыкнул:
— А как быть со Сталиным? Он же мертв…
Генерал покачал головой:
— Жив… Многомиллионен… Его жаждут рабы, мечтающие о жесткой руке и «новом порядке»… Если о нем молчать — придут те, кто страшнее его… Придут такие тупоголовые изуверы, такие неграмотные солдафоны, что Россия после них перестанет существовать как цивилизованное государство… Стоп, стоп, стоп… Фамилия Бивербрук вам говорит что-нибудь?
— Доверенное лицо Черчилля? Прилетал к нам в июле сорок первого?
— Молодчина, мил-душа, молодчина, память — форпост ума… Так вот я вам расскажу историю с Бивербруком, а потом напомню про любопытный приказ Лаврентия… Лично я документ не видел, вероятно, братья Кобуловы, его заместители, часть архивов успели сжечь накануне ареста, их же взяли только на другой день, а Всеволода Меркулова, ставшего в сорок первом начальником разведки, и вовсе арестовали через неделю — после первых показаний членов группы Берии… Но об этом эпизоде вспоминали все… Так вот, мил-душа, когда к нам приехал Бивербрук, зная о его специфических наклонностях, Берия подвел к нему мальчика-переводчика: после того как лорда торжественно проводили, мальчик исчез, как в воду канул… Берия посрывал шевроны со своих помощников, кого-то отправил на фронт, кого-то приказал вывести на Особое Совещание, а потом выяснилось, что Сталин этого мальчика просто-напросто подарил лорду. Тот обратился к нему с личной просьбой — после успешного окончания переговоров, — и вождь отдал приказ заранее загрузить прелестное дитя в аэроплан англичанина… Тогда-то Берия и издал приказ: следить за всеми союзниками, мотивируя это необходимостью гарантии личной безопасности наших «боевых друзей по антигитлеровской коалиции». Вот мне и сдается, не было ли желания у Лаврентия Павловича превратить Зою Федорову в «охранницу» ее американского Друга? Конечно, она отказалась, и тогда на нее начали крутить дело… Абракадабра была какая-то: «Он просил ездить в районы, где расположены военные заводы, и производить там фотографирование заборов, через которые можно сделать лазы…» Что-то вроде этого, мил-душа. За точность — не отвечаю… И еще — но это тоже надо проверять — где-то и как-то пересеклись пути Зои с Галиной Серебряковой, писательницей, эпопея о Марксе, с Лидией Руслановой… И, кажется, с Ром-Лебедевым, этим чудесным цыганским актером… Конечно, я сделал преступление: надо было б вести хоть одностраничные конспекты, но я тогда полагал, что оттепель быстро кончится: через полгода после двадцатого съезда Хрущев круто повернул, стал говорить, что, имей он Сталинскую премию, — с гордостью бы носил на груди. Все время печатались статьи о «неоднозначности» Сталина… Расстрелял всех ленинцев, сделал страну концлагерем — и на тебе: «неоднозначен»… Мы ж нация мифотворцев, живем иллюзиями и преданиями, подгоняем факты под то, что нам угодно, а не следуем за ними… Чайку подогреть?
— А не трудно? Давайте я сам…
— Все вещи в труде, — усмехнулся генерал. — Когда слишком бережешься, начинается распад… Все сам, только сам — в этом залог жизнестойкости…
Он вернулся через пять минут: на лысом большом черепе римского патриция бисерился пот, виски были запавшие, с синевой, уши восковые — морщинистые и очень большие.
Не жилец, подумал Костенко. Это пот у него выступил от усталости, плитка нормальная, не спиральная, только та дает жар… Надо уходить, а я не имею права уйти, потому что он ящичек доброй Пандоры, если такая была. Его надо разговорить, он вспомнит, он обязательно даст мне зацепки, помимо той, которую уже дал. Будь проклята безнравственная нравственность моей профессии, прав Ястреб, «легавый, взял след», не сойду, а утеряю — скулить стану, тьфу, противно.
А женщина, которой выстрелили в затылок, когда она говорила по телефону? Несчастная женщина, прошедшая одиночки, пытки, лагеря? Потерявшая во Владимирском изоляторе свои лучшие дни? И бабьи — безвозвратно, и, главное, те, что принадлежали искусству: несыгранные роли, расстрелянные мечты, постоянное воспоминание о съемочной площадке, о крике «мотор!», когда начинается таинство кинематографа и все замирает вокруг оператора: ты и камера, и никого больше…
Почему меня сняли с дела Федоровой? Всех асов сняли, оставили стариков и мальчиков, а тех, кто прошел огонь и воду, отвели: «Не пачкайтесь, тухлое дело. Незачем вам в нем мараться, повиснет на всю жизнь нераскрытая феня…»
Сначала делом интересовался зампред КГБ Цвигун; погиб — загадочно. Потом посадили цыгана Борю, друга дома. После умер Суслов — одно за другим, все в течение полутора месяцев. Федорчук, пришедший на смену Андропову, вообще отказался помогать: «Это дело Угро, к нам не имеет отношения».
Господи, какие же все советологи наивные! Неужели им было не ясно, что после смерти Суслова ситуация наверху стала накально-критической?! Что может человек, брошенный на пропаганду? Андропова лишили власти, то есть реального знания происходящего, переместив с Лубянки на Старую площадь. ЧК оказалась целиком в руках группы Брежнева: Федорчук, Цинев, их окружение… А Старый Господин был на последнем издыхании. А Москва, столица, как издревле повелось, решала все: Гришин и Черненко шли в одной упряжке… Новое руководство ЧК в их руках. Щелоков — само собою…
Стоп, остановил себя Костенко, а ведь группу по Федоровой окончательно раскассировали недели через две после того, как умер Андропов, а Черненко стал Генеральным… Точно! Вон оно куда тянет, а мы, дурни, дальше собственного носа ничего не видели… Вот уж воистину, лучше свобода — с карточками на сахар, чем коррумпированная тирания, смысл которой — оболванить народ, лишить его права на мысль, слово, несогласие, альтернативу… Неблагодарные мы люди… Черт, но кто ж из наших говорил мне тогда, когда я особенно активничал: «Голову сломишь, Славик, не высовывайся, все сложнее, чем тебе кажется…»
И Костенко вспомнил этого человека — Дима Степанов, он, точно.
— Я чай завариваю особый, мил-душа, — продолжал между тем Иван Иванович. — Зверобой, брусничный лист, шиповник…
— … валерьяновка, пустырник, — добавил Костенко, — и почечный брикет…
— Слежку за мной поставили? — усмехнулся генерал.
— Я отставник, не в моей власти, просто одним недугом маемся, — ответил Костенко. — Я этим чаем держусь последние семь лет…
— Вы что-то очень важное вспоминали, мил-душа?
— Точно. Плохой я сыщик, если вы смогли прочесть это на моем лице…
— Какой вы сыщик — не знаю, а вот я прокурор — отменный, честно признаюсь… Я ведь до этого в ЦК работал, у Кузнецова, убиенного Сталиным, Маленковым и Берией…
— Вас чаша миновала?
— Представьте — да. Но я всегда старался как можно меньше попадаться на глаза начальству. Тихо делал свое дело — и точка… Потом я не курировал органы, а только готовил проекты речей, следил, сколько раз упомянуто имя Сталина, какие оценки даются его теоретическим работам и практической деятельности… После ареста Кузнецова пару раз со мной провели беседу, вызвал Георгий Максимилианович, передвинули в ВЦСПС, на этом все кончилось… Кстати, о Федоровой… Вы не поднимали дела, кто ей дал квартиру на Кутузовском проспекте? Это — симптоматично, там чаще жили те люди, к которым был интерес у первых лиц, режимный проспект, режимные дома…
— Спасибо, Иван Иванович… Это — интересное направление поиска… Сколько я помню, такого рода версию мы не отрабатывали…
— Поглядите, кто ордер выписывал, встретьтесь, коли жив человек, большое обычно начинается с малого… Когда я выбивал комнату дочери Рыкова, потом Крестинской, Серебряковой, всюду стоял и номер решения той инстанции, которая выделяла жилплощадь… Что-то меня крепко зацепил Кутузовский проспект, мил-душа, — задумчиво повторил генерал. — У вас никаких намеков на ее связь с первыми лицами, членами их семей не проскакивало в деле?
— Так круто мы не смотрели, Иван Иванович… Но ее вроде бы посещали люди, связанные с семьей Леонида Ильича…
— Кто именно?
— Певцы, актеры… Галина Леонидовна — человек общительный и в общем-то демократичный… Она не чуралась людей и была совершенно независима в знакомствах и встречах…
Генерал усмехнулся:
— А бедные дети сталинского Политбюро представляли родителям список школьных друзей, которых намеревались пригласить на день рождения… Из двадцати фамилий вычеркивали пять-шесть кандидатур — как минимум…
— Охрана?
— Нет, отцы. Охрана только подбирала справки, вычеркивали отцы, — генерал снова усмехнулся. — Недавно я подивился краткости нашей памяти: читал воспоминания Никиты Сергеевича в «Огоньке», там фотография дана: впереди высокий, широкоплечий Сталин, а чуть позади маленькие Микоян, Хрущев и Маленков… Но ведь это слепленное фото, монтаж… Сталин был коротышка… А тут — чуть не на голову выше соратников… Сноску б дали, что ли… ЧК помогала вам в расследовании?
— Поначалу — да. А потом как отрезало… Вы ж помните, тогда произошла трагедия: наша пьянь забила до смерти одного из работников секретариата Андропова в метро, ночью уже, ну и пошла вражда… Да и потом Щелоков… Мне сдается, он ощущал на себе постоянный глаз Андропова, но был прикрыт Чурбановым — да и то в какой-то мере, ибо понимал, что первый заместитель вот-вот станет министром…
— Щелоков бы стал либо зампредом Совмина, либо секретарем ЦК, партитура была заранее расписана… Меня только до сих пор ставит в тупик то, что сердце Брежнева само «остановилось»… Он же на американском стимуляторе жил… И умер за два дня перед пленумом, когда, говорят, новый председатель КГБ Федорчук, не являясь членом ЦК, должен был войти в Политбюро, — невероятная кооптация… Федорову, кстати, убили из пистолета иностранной марки?
— Да. Вы слыхали об этом?
— Нет. Просто подумал, что убийца — если это было заказным убийством — ни в коем случае не использовал бы советское оружие…
«Заказное убийство?» — Костенко полез за сигаретами, но, вовремя спохватившись, сунул пачку в карман.
— Да вы курите, курите, — сказал генерал. — Когда Леониду Ильичу врачи запретили курить, он просил помощников себя не ломать: «Хоть любимым запахом потешусь…» Кстати, — генерал поднялся, — один из следователей Зои Федоровой по профессии был инженером, специалистом по радио… Да, сдается, что так, мил-душа… Они ж все начинали плакать, когда я выкладывал на стол папки с их «делами»… А тот держался крепко, достойно, сказал бы я, держался… Когда я взял с него подписку о невыезде — ясно было, что сажать надо, сажать и судить: гнал в каземат заведомо честных людей, — он тогда рассмеялся, глядя мне в глаза: «А с ЦК подписку о невыезде не хотите взять? Меня ЦК мобилизовал в органы, был бы радиоинженером, горя б не знал, а меня с любимого дела сорвали, сказали, что партии угодна борьба с врагами, а каждый, кто попал на Лубянку, — враг, невиновных Советская власть не карает… Как бы вы на моем месте поступили?» И я был обязан ему ответить: «Не знаю…» Я и до сих пор не знаю, как бы повел себя, окажись в его положении…
— Но ведь вы ничего не показали на секретаря ЦК Кузнецова, Иван Иванович? А покажи вы на него — большую б карьеру сделали…
— То был не допрос, мил-душа, то было собеседование, а это, как Бабель говорил, две ба-альшие разницы… Мы, мил-душа, все грешны… Если не делом, так помыслом, не помыслом, так незнанием того, как бы повели себя, усевшись на табурет, что ввинчен в пол напротив следовательского стола… Вы мне оставьте фотографию этого господинчика… Копия есть? Или единственный экземпляр?
— Есть еще. Но учтите — это робот, правда, прекрасно выполненный.
— А может, останетесь у меня постоем? Я вам кое-что расскажу из прошедших эпох — может пригодиться: в частности, о том, что мне рассказала Федорова, когда я вручил ей документ о реабилитации…
Встретив Костенко (на кухне пахло картошкой с луком), Маняша ахнула:
— Миленький, миленький, что с тобой?
— Ничего…
— У тебя глаза больные! Совершенно больные глаза… Ну-ка, давай мерять температуру…
Он погладил ее по щеке (Господи, когда ж я в последний раз называл ее «персиком»? Как же быстро мы отвыкаем от ласковой поры влюбленности. Неблагодарность человеческой натуры? моральная расхлябанность? ритм нынешней жизни?), покачал головой:
— Температура нормальная, Маняш… Просто во многия знания — многие печали.
— Ты его нашел?
— Да…
— Интересно?
— Если «страшно» может быть «интересным» — да.
— Самые интересные сказки — страшные.
Костенко устроился возле маленького бело-красного кухонного столика, улыбнулся:
— А ведь воистину счастливый брак — это затянувшийся диалог… Мне с тобой чертовски хорошо, Маняш…
— Заведи молодую любовницу, тогда еще больше оценишь… Хочешь рюмку? С устатку, а?
— Стакан хочу.
— Плохо тебе?
— Очень.
— Да что ж он тебе такого наговорил? Черт старый!
— Не надо так… Он — чудо… Он выдержал испытание знанием ужаса… И остался жив… Нет, я неверно сказал… Не как медуза там какая, а как гражданин идейной убежденности…
— Ты не боишься таких людей? — спросила Маша, налив ему водки и поставив на длинную деревянную подставочку сковородку с картошкой; лук слегка обжарен, присыпано петрушечкой. Четверть века вместе, каждый понимает каждого («знает» в этом случае звучит кощунственно, протокольно: впрочем, и «понимает» — не то, «ощущает» — так вернее).
— Каких? — спросил он, медленно выпив стакан водки. — Сформулируй вопрос точнее, Маняш…
— После всех этих ужасов, о которых пишут, после моря крови… У меня перед глазами все время стоит письмо Мейерхольда, как его, старика, били молодые люди, которые не могли не помнить театра имени Мейерхольда… Как можно остаться идейным? Я понимаю, это не мимикрия, но все же, по-моему, это борьба за себя, Славик, борьба за свою обгаженную жизнь, за крушение идеи…
Костенко ковырнул картошку, есть, однако, не стал, хотя мечтал об ужине, пока трясся в автобусе…
— Робеспьер был идейным человеком, Маняш…
— А сколько голов нарубил?
— Давай тогда предадим анафеме и Пугачева, и Кромвеля, и Разина… Действие рождает противодействие… Око за око, зуб за зуб… Из ничего не будет ничего… После республики Робеспьера появилось консульство «железных» диктаторов, а после — император Наполеон… А потом вернулись Бурбоны, родившие — своей дурью — террор новой революции, которая наряду с лучшими людьми поднимает и муть, люмпен, жестокость, месть… Но ведь — через кровь и восстания — все кончилось демократической республикой… Значит, несмотря на реакцию, кто-то хранил веру в государственную уважительную доброту? Если бы до февраля семнадцатого Россия властвующая — крохотулечка, процент от всего населения — поделилась своими благами с массой народа, думаешь, люди б пошли громить околотки? Если б в сентябре Керенский дал народу хоть что-либо, кроме свободы слова и митинга, думаешь, Октябрь победил бы?
— Ты стал отставным крамольником, — сказала Маша и автоматически, по привычке, включила маленький приемник.
— Выключи, — сказал Костенко. — Как не стыдно…
— Мне не стыдно, Славик… Мне страшно. И чем дальше — тем больше… Сейчас всем страшно, милый…
— Оттого, что много говорим, а мало делаем?
— Так думаете вы, мужчины, умные — особенно… А ты постой в очереди… Ради интереса — постой… Злоба людей душит, понимаешь?! Черная, одержимая… И — толкают друг друга, осатанело толкают, Славик, с яростной сладостью толкают, а локти — хуже кулаков, такие костистые, такие безжалостные… Детей толкают, Славик!.. Поешь картошки, пожалуйста… Я уж и так второй раз на плиту ставлю, перехрустит… Да, забыла, тебе какой-то Птицын звонил… Раза четыре…
— Кто такой?
— Я же не знаю твоих знакомых, Славик. Птицын и Птицын… Сказал, что он тебе очень нужен…
— Наверное, из Совета ветеранов… Телефон оставил?
— Нет.
Костенко начал уплетать картошку, усмехнулся:
— Найдет, если он мне нужен… Если б я ему понадобился — тогда другое дело… Заметила, как мы разобщены и не умеем друг другом пользоваться? Нет, не шкаф достать или там заказ к празднику — а в общем государевом деле… Погоди, Маня, — он вдруг поднялся. — А ты фамилию не спутала? Может, Ястреб звонил?
Она расхохоталась:
— Точно, Ястреб, я ж говорю, птичья фамилия!
… В киоске Ястреба горел свет. Костенко постучал в дверь, никто не откликнулся. Странно. Он обошел киоск, выискивая щелку, чтобы заглянуть внутрь: по всем законам свет ночью в киоске должен быть выключен. Впрочем, у него здесь все схвачено, подумал Костенко. Этому закон не писан. Щелочку он нашел между портретами Пугачевой и Высоцкого. Первое, что увидел, была бутылка коньяка, почти до конца выпитая, три бутерброда. левая нога Ястреба была неестественно задрана, словно бы вывернута и мертво лежала на коечке, покрытой аккуратным ковриком…
2
На счастье, дежурную группу МУРа возглавлял майор Глинский, один из учеников Костенко; принесся через десять минут.
Мишаня Ястреб убит был сильным ударом «колющего тонкого предмета» в шею, в то время, когда он наклонился за книгой — ротапринтное издание «Царствование Алексея Михайловича». Отпечатков пальцев обнаружить не удалось, работал профессионал: следов ограбления не было. Эксперт взял анализ на запах. Собака потеряла след в двухстах метрах от киоска, видимо, убийца сел в машину.
Взглянув на эксперта, Костенко поинтересовался хмуро:
— Когда его убили — примерно? Рискните ответить на глазок…
Эксперт Галина Михайловна еще раз прикоснулась тыльной стороной ладони к шее Ястреба:
— Вы меня ставите в неудобное положение, Владислав Романович, я должна поработать в морге… Приблизительно часа полтора тому назад… Но это не официальный ответ, чисто априорный, не взыщите…
Костенко попросил Глинского проверить карманы Ястреба, все бумажки с записями, а сам пошел к автомату.
— Манюнь, я, видно, сегодня поздно вернусь, ты ложись, солнце… Постарайся вспомнить, когда мне Ястреб звонил.
— Что-нибудь случилось?
— Да…
— Серьезно?
— Да.
— Ты не один?
— С табором…
— Слава богу… Он три раза звонил, Славуль… Днем, потом часов в семь и незадолго до твоего приезда.
— Разница была какая?
— Не понимаю…
Костенко рассердился:
— Ну, днем спокоен был, потом заволновался, вечером торопился…
— Я не помню, Славуль… Я как-то этим звонкам значения не придала… Последний раз он, кажется, чуть пьяненький был, какой-то агрессивно-торжествующий…
— «Я ему очень нужен», так он сказал?
— Вроде бы… Или «он знает, как я ему нужен»… Ты правда не один?
— Куда я один-то гожусь ныне, Машуня?! Спи, малыш… Не жди меня, чтоб я не дергался…
… Глинский выложил на стол паспорт Ястреба, удостоверение Общества книголюбов, ручку марки «Паркер» с золотым пером и записку: «Отдать Лене за поставку «Слепящей тьмы» в четверг, в семь».
— Сегодня четверг? — спросил Костенко.
— Четверг.
— Денег в киоске нет?
— Пять рублей в кармане убитого.
— А чего ж не вытащили?
— Наука хочет посмотреть пальцы.
— Слушай, Глинский, мы с тобой можем сейчас установить Люду? Ту, которая работает секретарем в кооперативе «Заря»? Кооператив заметный: продает инструменты, компьютеры, ксероксы…
— Нам бы хоть один подарил… Фамилии этой Люды нет, товарищ полковник?
— Я Костенко, а не полковник, Глинский… Не надо так меня… Фамилии нет. Проси установку на председателя правления кооператива, через него пойдем на эту самую Людку, она мне нужна…
Бригада осталась работать в киоске, а Глинский с Костенко поехали на Петровку.
… Дмитрия Игоревича Аршанского, председателя кооператива «Заря», нашли у Черных, в кооперативном ресторане на берегу Москвы-реки. Гулял, плясал самозабвенно — махал маленькими ручками, изображая рок, вертел двух роскошных жопастых девок, которые смотрели на него, маленького лысого коротышку, с обожанием.
Костенко пригласил его на улицу
— Мне Людка нужна, Дмитрий Игоревич. Срочно. Не откажите в любезности дать ее телефон или адрес.
— Что, малышок наградила столицу еще одним спидом? — Аршанский мгновенно протрезвел. — Документы извольте, пожалуйста.
— Я оперативный дежурный по МУРу, — представился Глинский. — Вот мое удостоверение.
— МУР не по нашей части, — усмехнулся Аршанский. — Кооперацию добивают затаившиеся сталинисты и общинные плакальщики… Что с ней случилось? Девка хорошая, слаба, правда, на передок, но ведь это МУР не тревожит… Телефон у нее легкий для запоминания: четыреста девяносто девять, девяносто девять, сорок, она, мне кажется, с начальником абонентской сети установила дружеские отношения…
— Адрес не помните?
— Один раз был. Ночью… В состоянии подпития, не взыщите… Еще вопросы есть?
— Завтра не нашли бы время поговорить со мной? — спросил Костенко. — Не допрос, не вербовка — мне нужен ваш совет, всего лишь.
— Совет вам — это и есть вербовка, — заметил Аршанский. — Звоните после семи, может быть, я выкрою для вас полчаса. Но не обещаю, очень много встреч… Предмет совета?
— Убийство.
— Рэкет?
— Нет.
— Хм… А каковы побудительные причины?
— Не знаю. Поэтому прошу о встрече…
Оттуда же, из ресторана, позвонили Людке. Заспанная бабулька ответила раздраженно, с надрывной обидой:
— Побоялись бы Бога, в такое время тревожить..
— Люда сама просила, это Аршанский, председатель, — ответил Костенко, — из кооператива…
— Аршанский, Засранский, какое мне дело?! Увезли Людку, взяла сумочку, намазалась и укатила. Сказала, что на час, а уж два ночи, стерьва поганая!
— Это будет второй труп у тебя сегодня, Глинский, — прикрыв трубку, шепнул Костенко. — Звони в прокуратуру, доставай понятых, гоним к старухе.
— Прокуратура потребует оснований, Владислав Романович… Не дадут они постановления…
Костенко дал Глинскому трояк.
— Купи шоколадку, ладно?
… Бабулька дверь не открывала:
— Ракитники, — причитала она, — смотрите, вымогатели паскудные, я уж ноль-два набрала, тикайте добром…
— Ракитники — это как? — Костенко недоуменно оборотился к Глинскому.
— Рэкетиры, — ответил тот. — Россия чужие слова трудно приемлет.
— А — бюрократ?
— На это есть свое: «волокитчик», «супостат», «коваристый», «сутяга»…
— Соседей будить неудобно, про «ноль-два» она лапшу на уши вешает, — заметил Костенко. — Дура баба, сейчас ее внучку где-то топят или жгут, а она — вишь ты, а?
Глинский приник к двери:
— Бабулька, я из милиции, майор Глинский, позвони по «ноль-два», тебе подтвердят… Мы чего к тебе просимся-то, бабуль? Мы боимся — не было б с Людкой беды…
Старуха позвонила в милицию, было слышно, как она переспрашивала из дальней комнаты: «Глинский?! Как, Габинский?! Тьфу, православных у вас нет, что ль?! Все с подковыкой, ни черта не разберешь… Так открывать ему?! Я трубочку не ложу, я при вас открою, если замолчу, значит, извели меня, на вашей совести буду…»
Старуха цепочку сняла, потребовала документ, Глинский протянул ей удостоверение, она долго шептала звание опердежурного и фамилию, потом наконец впустила в квартиру.
Маленькая двухкомнатная «хрущевка» была обставлена антикварной мебелью (правда, красное дерево соседствовало с карельской березой и орехом), на кухне стояла западногерманская ультразвуковая плитка — положи в духовку мясо на минуту — вот тебе и готовый ромштекс, там же, на кухне, стоял диковинный приемник. Неплохо секретарша живет.
— Бабушка, я за Люду волнуюсь, — сказал Костенко.
— Бабушка преставилась, царство ей небесное… Я — прабабушка ейная… Так и я за ее волнуюсь, за стерьву…
— Она когда уехала?
— Да часов в восемь… Сбежала вниз, потом вернулась, вроде бы краски эти самые взять, чтоб морду загорелой делать…
— Вы в окошко не видели, ее такси ждало?
— Она на их не ездит! Ее сюда то черные иностранцы привозят, то коричневые, меня запрет в чулане, — старуха кивнула на внутренний шкаф, — и чтобы носу не казала… А если чихнешь или там храпанешь с духоты, то назавтра так отлупит, что и жить не хочется…
— Так какая ж машина ее ждала? — рассеянно поинтересовался Костенко. — Наша или та, на которой коричневые ездят?
— Не, не наша, — бабка покачала головой, — цвет уж больно бесстыжий.
— Это как? — не понял Костенко и достал из кармана шоколадку. — Вот вам подарок, бабулечка.
— А это чего?
— Шоколад, — сказал Глинский. Его всегда раздражала манера Костенко вести разговоры со свидетелями, хотя он понимал, что именно такой неторопливый, но скачущий разговор (внешне скачущий) — Костенко через каждую фразу умеет тащить свое, аккуратно и ненавязчиво, понимая, что страх перед должностным лицом даже если оно не в форме, но с красной ксивой, — непременная константа советского человека — должен создать атмосферу располагающей постепенности, никакого форсажа, тем более наступательного…
— Вроде конфекты, что ль? — спросила бабуля, разворачивая шоколадку. Она отломила малюсенький кусочек, положила его под язык. Так тетя Феня пила чай вприкуску, вспомнил Костенко, только вместо шоколада были подушечки. Сейчас днем с огнем не найдешь все скупают на самогон…
— Да, — ответил Костенко, — вроде сливочных конфет, очень полезно для сердца… Бабуль, а где Людина записная книжка?
— На столе, — ответила старушка. — Возле телефона.
— Не позволите взглянуть?
— Вы ж при чине… Глядите… Я власти покорная Только башмаки снимите, она за ковер боится..
Ни на столе возле телефона, ни в столе записной книжки не было.
— А косметичку она где держала? — поинтересовался Костенко. — В ванной?
— Там у нее всякие мыла, что пену дают и сосной воняют… Я-то в баню хожу, она меня не пущает, говорит, что..
Глинский настойчиво поинтересовался
— Что она говорит?
Костенко укоризненно глянул на него, спросил:
— Как шоколадка, бабулечка?
— Страсть как скусная… Я уж ее приберегу…
— Пенсию вам сколько платят?
— Пятьдесять шесть… Спасибо родной партии и правительству… Раньше-то я сорок получала, ну а сейчас как сыр в масле катаюсь, и сметанки можно взять, и сливочек, яички теперь не битые беру… В капитализьме мрут старики с голоду, а мы старость чтим…
— Так вот о красках Людиных, — аккуратно повторил Костенко, — она их на столе держала?
— Нет, на трюме… Чтоб всю себя разглядывать… Особливо когда елочные украшения клеила…
— Какие еще елочные украшения? — не очень-то сдерживая раздражение, спросил Глинский…
— А это когда на лице разного цвета блесточки сияют… На лбу синяя, на щеке желтая, теперь так полагается, вроде закон вышел в защиту женщин, чтоб красоте были прилежны…
— Бабуль, а Мишаня к ней когда звонил? Ястреб?
— Так он завчера звонил! Точно, звонил! Я еще уморилась: «Я, грит, Ястреб»… А я возьми да ответь: «Ты — ястреб, а я — кукушка»…
— Он вечером звонил, да?
— И то верно… Приехал к ней, дверь заперли, меня в чулан замкнули, ну и… Дело молодое, все такими были… Только раньше по-тайному, а теперь бегом да бегом, а в торопливости какая тайна? Одно бесстыдство…
— Ушел-то он поздно?
— Рано ушел… Поутру… Люда ему еще отнесла рюмку для поправки. Печенье и рюмашку, это я точно помню… Она печенья мне не дает, говорит, для здоровья старикам плохо…
— А где ее большая записная книжка? — тихо спросил Костенко.
— Так ведь здесь же, на столе должна быть…
Большой книжки тоже не было…
… Дома у Мишани Ястреба (жену увезли на «скорой помощи», подозрение на обширный инфаркт) остался сын Мишка — до синевы бледный, трясущийся; сказал, что большую телефонную книжку папка взял с собой; все утро звонил куда-то, занято было, а потом плюнул, положил ее в «дипломат» и пошел в киоск.
— Кто ж папку-то моего? — Мишка сжал кулачки (не в пример отцу был худенький и жилистый). — За что?
— Ищем, Миш, — ответил Костенко. — Ты помнишь меня?
— Как не помнить?! Папка вашу фотографию всегда держал, заступник, говорил…
— Где эта фотография?
— В столе.
— Достань.
— А ее при обыске забрали… Пообещали, что завтра вечером вернут, только копии сделают.
— Тебе сколько? Тринадцать?
— Четырнадцать.
— Деньги есть?
— Мама оставила.
— Сам готовить умеешь?
— Мы с папкой сами мясо жарим… Жарили…
Костенко вырвал листок из блокнота, написал свой телефон:
— Звони, Мишка… А если кто будет расспрашивать про обыск — это не потому, что против отца у нас зло… Полагается так… Начнут расспрашивать, а ты трубочку положи, крикни, мол, суп выкипает и звони от соседей вот по этому номеру: «Срочно для товарища Глинского»… Понял?
— Это чтоб посечь того, кто звонит?
— Точно.
— А папку когда домой привезут? — глаза у мальчишки были полны слез, по-прежнему бил озноб, но — сдерживался, не плакал.
— Папка твой крещеный был, Мишка, его надо в церковь везти, а не домой… Я помогу… Договорюсь с батюшкой, там и отпоют его, и все будет по христианскому обряду… Дома тебе не надо его держать, чти отцовскую веру, сынок…
В НТО на Петровке работа еще не кончилась, но Галина Михайловна (боже ты мой, что бессонница делает с женщиной, «Галочка», «Галочка», а она старуха совсем), запомнив три главных вопроса, которые интересовали Костенко, сказала ему:
— Шило, которым убили Ястреба, сделано из особо прочных металлов с добавлением компонентов, употребляемых в радиопромышленности.
— Металлы фондируемые?
— Не просто фондируемые, а строго фондируемые… Часть идет на Байконур, каждый грамм на счету.
— Что дает добавление такого металла?
— Максимальная крепость орудия убийства… Проходит сквозь кость, о ребрах и говорить нечего… Теперь второе… Судя по стертостям внутреннего кармана пиджака, там находилась записная книжка — красного цвета, очень старая, неотечественного производства… Изымали записную книжку в резиновых перчатках — советских, у нас же не резина, а визитная карточка вселенского бардака…
Костенко вздохнул:
— Галочка, бардак в первую очередь отличает как раз порядок.
— У вашего поколения страсть к прямолинейным сталинским формулировкам, Владислав Романович.
— Увы. Хотя сейчас многие по нему вздыхают: алчут порядка.
— Пусть тогда добровольцы едут восстанавливать концлагеря.
— Зачем? Если что случится — будут косить из пулеметов… Учтут уроки прошлого: Иосиф Виссарионович оставил много свидетелей… Что-нибудь еще есть?
— Да. Вы просили поработать с «Волгой» летчика Аэрофлота Полякова… Так вот, его номер сворачивали инструментом с примесью такого же радиокосмического материала, который обнаружен на следах, оставленных шилом… На машине Полякова никто не ездил, это мы установили точно…
Костенко попросил Глинского узнать фамилии всех членов гаражного кооператива, адреса и телефоны, выяснить место жительства полковника Савицкого, который работал в расформированной группе по делу Федоровой.
— За один день?
— Надо бы… Пожалуйста…
— Попробую… Но — не обещаю.
Костенко устало потянулся. Слышимо захрустели суставы:
— Я — обрушусь… Телефон отключу на четыре часа… Если что-нибудь особенно срочное — приезжай…
… Глинский приехал через час: в морге опознали труп Людмилы Васильевны Груздевой, секретаря-машинистки кооператива «Заря»: сбита на небольшой скорости, обнаружен след от удара ребром ладони по шейному позвонку, который вызывает мгновенную потерю сознания…
— Сумочки, конечно, нет? — спросил Костенко.
— Само собой, — вздохнул Глинский.
— Размножьте ее фотографию — живой и убитой, — и отправляйте людей по всем ресторанам: кто ее видел? И — на бензоколонки… Да, да, — Костенко отчего-то рассердился, — могли подзаправиться, сбили-то ее не в Москве, правда?
— Оборотень вы, Владислав Романович… Возле Архангельского ее сбили…
— Там рядом есть ресторан?
— Да. Я туда сам махну.
— Бессмысленно. Работает банда профессионалов, они ее поили в другом месте… Впрочем, для страховки покажите, чем черт не шутит…
… Вахтер в министерстве довольно тщательно изучал пенсионную книжку Костенко, потом звонил куда-то (отделен толстым стеклом, ничего не слышно), после этого книжку вернул:
— Вы отставник… Не можем пропустить… Надо, чтоб пропуск спустили…
Костенко пошел в кабиночку, где были внутренние телефоны, нашел номер отдела редких сплавов. Ответила секретарь, голосочек тоненький, детский.
— Мне бы, солнышко, с вашим начальством поговорить…
— Во-первых, я вам не солнышко, а во-вторых, начальство занято.
Отбой.
«Мы — «самые-самые»! Нация великой культуры! Да ни в каком Таиланде так себя не позволят вести в офисе».
Костенко набрал номер еще раз:
— Простите, я только что звонил вам…
— Я ж русским языком ответила: идет совещание!
Отбой.
Костенко позвонил в партком, объяснился; пообещали спустить пропуск, ждал полчаса, позвонил еще раз. Девица озлобилась:
— Мы — режимное министерство! Сказала ждать — ждите.
— Я ждать не буду, а поеду в МВД и позвоню вашему министру по «кремлевке»! А вы из парткома уходите! Из-за таких, как вы, будут вешать коммунистов!
— Что, что?! Да вы…
Костенко яростно швырнул трубку на рычаг, распахнул дверь ногой (никакой вентиляции, весь покрылся потом), пошел к выходу. День потерян. Преступление. Решил было позвонить в первый отдел, но побоялся за сердце: а что, если и там такие же держиморды?
Возле милиционера (первый кордон), его окликнули:
— Где здесь Костенко?
— Я.
— Пропуск заказывали?
— Да.
— Оформляйтесь…
… Заместитель начальника отдела редких сплавов — рослый, широкоплечий человек с негритянской шевелюрой, хмуро выслушав Костенко, спросил:
— Анализ проб у вас с собой?
Костенко протянул ему заключение НТО.
Человек внимательно ознакомился с заключением экспертизы, вызвал секретаршу (расфуфыренная стерва, откуда в хорошенькой девке — если грим стереть — столько холодного хамства?), попросил сделать две копии и пригласить товарища из первого отдела…
— Как мне вас величать? — спросил Костенко. — Вы не представились.
— Ах да, простите, товарищ Кузьменко, меня…
— Не Кузьменко, а Костенко, с вашего позволения.
— Простите еще раз… Я Иван Спиридонович Назарян. Вы меня, скажу прямо, ошарашили вашей экспертизой… Это ж стратегическое сырье особого назначения… Мы считаем его по граммам…
— Где добываете?
— Я не могу ответить на этот вопрос, скажу прямо… Секретные данные…
— Американцы с разведспутников НАСА имеют об этом информацию?
— Конечно… Но зачем нам самим подтверждать их выводы?
— Заключенных на добыче этого элемента используют?
— Сейчас придет наш первый отдел, — Назарян откинулся на спинку кресла, — с ним обговорите детали, я готов помочь только техническими спецификациями.
Сотрудником первого отдела оказался совсем еще молодой человек лет тридцати пяти, веснушчатый, одетый вызывающе шикарно, с хорошей улыбкой — внезапной и открытой.
— Я Ромашов Сергей Георгиевич, — представился он, — служба безопасности и все такое прочее.
— Костенко Влади…
— Знаю, знаю, Владислав Романович… В связи с чем ваших коллег заинтересовал наш металл?
— Он не коллег заинтересовал, а меня…
— Вы же в отставке, насколько мне известно… А дело по убийству Ястреба поручили вести капитану Строилову… Вас утвердили внештатным консультантом…
— Хорошо работаете, — заметил Костенко. — Мне еще об этом не сообщили… Откуда этот Строилов?
— Из академии, Владислав Романович… С кафедры следственной работы.
— Я должен понять вас так, что разговаривать вы намерены с ним? Консультант, да еще внештатный, вас не устраивает?
— Ну почему же… Мы готовы побеседовать с вами и ответить на те вопросы, которые входят в нашу компетенцию…
Кто же меня эдак-то подсек, подумал Костенко, я ведь в рапорте черным по белому написал, что прошу разрешить мне довести до конца прерванную (не по моей вине) работу. Ей-ей, как скорпионы в банке…
— Тогда я изложу суть дела, а вы уж решите, вправе ли мне отвечать или нет, ладно?
Назарян и особист кивнули одновременно, однако Назарян при этом мельком глянул на большие часы с вестминстерским боем, стоявшие в углу кабинета.
— Итак, вчера шилом или, если хотите, штыком был убит киоскер Ястреб, имеющий… имевший выходы на человека, который контактирует с неким американцем… Ястреб сидел в одном лагере со спутником американца, — отбывал срок за садизм: до пятьдесят третьего был следователем МГБ… Номер «Волги» использовали с чужой машины, сворачивали отверткой, в ней тоже обнаружена примесь вашего хитрого металла… Ночью была убита женщина, ее ударили ребром ладони по шейным позвонкам, а потом бросили под машину… У нее дома продолжается обыск, и я… точнее, руководство группы… сориентировали оперативных сотрудников на поиск всех металлических предметов — нет ли там каких статуэток, ножичков или вилочек с примесью вашего металла. Вот, собственно, и все.
— Что значит старая гвардия, — заметил особист. — Весь доклад — две минуты.
— К понятию «старая гвардия» я чаще отношу Молотова или Кагановича, — отрезал Костенко.
— Мерзавцы, конечно, но работать умели, этого у них не отнимешь… Авиационные заводы во время войны ставили за три месяца, — заметил Назарян.
— Только потому, — сказал Костенко, — что Байбаков вымаливал у Берии дополнительное питание для каторжан, в основном партработников ленинской поры… Строили, действительно, быстро, но похоронили там не менее ста тысяч большевиков…
Словно бы стараясь уйти от этой темы, особист поинтересовался:
— У вас есть оперативные данные на американца?
— Я допрашивал его в свое время…
— Вы же не служили в ЧК…
— Этот американец меня интересовал с восемьдесят первого… Впрочем, — отыграл Костенко, — он был русским, эмигрировал, шел по моему профилю, по делу «катал». Аферы, но с выходом на мафию… Для вас, полагаю, он интереса не представлял… Другое дело — человек, который возил его на машине с фальшивыми номерами до пятьдесят третьего, повторяю, был майором или подполковником бывшего МГБ… Потом его судили и дали пятнадцать лет…
— Фамилия?
Костенко улыбнулся, ответив вопросом на вопрос:
— Фамилия? Если б я знал всех, кто сидел в Саблаге по делам Берии или Абакумова, я бы назвал фамилию…
— Ни фото, ни робота?
— Есть фоторобот.
— Можно взглянуть?
— Зайдите к капитану Строилову, он теперь шеф… Но по роботу его опознал убитый, Михаил Ястреб. Кличка у этого садиста была Хрен.
— Можно познакомиться с вашей разработкой? — спросил Ромашов.
— К начальству обращайтесь…
— Мы дадим наше заключение по металлу завтра к вечеру. Согласны, Иван Спиридонович? — Ромашов обернулся к Назаряну.
— Не успеем. Дня через три. И потом нам нужен этот самый штык… Завтра не успеем.
— Время теряем, — сказал Костенко.
— Мы пришлем ответ завтра вечером, — повторил Ромашов.
Дружески распрощавшись, уже возле двери, Ромашов остановил Костенко вопросом:
— Это поможет раскрытию обстоятельств убийства Федоровой, Владислав Романович?
Костенко сдержался, чтобы не повернуться на каблуках, так неожидан был вопрос. Положил руку на медную ручку массивной двери, спросил:
— У вас было слишком мало времени, чтобы узнать о моей причастности к расследованию убийства Федоровой.
— Было. Еще в восемьдесят втором, когда меня перевели сюда… А до этого я работал в КГБ, слыхал о деле Федоровой, вашу фамилию знаю отменно… Если хотите перемолвиться парой слов — милости прошу, пропуск выпишут без свинской волокиты… Фамилию мою запомнили?
… Костенко решил было поехать на Петровку — новость с капитаном Строиловым его ошарашила, но потом сел в холле на диванчике возле рахитичной пальмы. Три кресла, две пепельницы. Странно, сейчас надвигается новая кампания — на этот раз против курения. Неужели начальство не понимает, что любой запрет рождает постепенный, но грозный протест миллионов?
Запретили водку — взвинтилась наркомания, самогон повсеместен, теперь ввели карточки на сахар…
Запретят курево — еще страшнее станет наркомания, спекуляция будет черной, хоть все внутренние войска против этого дела брось.
Разрешение — к добру, запрет — к гибели. Какой плод сладок-то? В том и штука, что запретный, это тебе не «Краткий курс», это — Библия.
Сколько ж времени он там просидит у Назаряна, подумал Костенко об особисте Ромашове. Наверняка сейчас к Назаряну потянутся люди с папками…
Действительно, через пару минут запыхавшись прибежали два сотрудника с папками под грифом, потом женщина, затем генерал с кожаным портфелем.
… Ромашов вышел через полтора часа. Не удивился тому, что Костенко ждал его, кивнул:
— Пошли ко мне. Отвечу, что помню.
Костенко достал фоторобот, показал Ромашову.
— Этого человека не встречали?
— Нет, — ответил Ромашов.
— Твердо?
— Абсолютно.
— Фамилии следователей Федоровой запамятовали?
— Один умер. Либачев, сдается мне. А Бакаренко, по-моему, жив, работал в ВОХРе Академии наук, но вроде бы оттуда погнали — спивается.
— Их сажали?
— Не помню. Кажется, из партии исключили.
— Звания и пенсии оставили?
— Сняли. А почему вас так интересует этот? — Ромашов кивнул на фото.
— А потому, что он сидел вместе с Ястребом… А Зою Федорову мучили садисты… И работал этот человек на руднике Саблага, где добывали тот металл, из которого сделаны шило и отвертка… Что из себя представлял Бакаренко?
— Говно. После ареста Берии развалился до задницы, руки тряслись, плакал…
— Тогда он боялся, что посадят, теперь-то страх прошел…
— Почему вы у Назаряна сказали, что у вас нет фото?
— Потому, что не знал о вашем участии в работе по Федоровой.
— Вот моя карточка, — сказал Ромашов, протянув Костенко визитку. — Давайте я допишу домашний телефон. Звоните, если чем могу быть полезен. От Назаряна ответ получите завтра. Металл действительно с рудников Саблага. Этого, однако, в назаряновском заключении не будет. Если встретитесь с Бакаренко, я дам вам заявление старого большевика Савушкина — на этом он дрогнет.
… На Петровку, после того как Костенко нашел домашний адрес Бакаренко, эксперты позвонили с квартиры Люды: ножичек для разрезания страниц книг сделан из такого же металла, что и шило с отверткой.
Ну, Хрен, теперь держись, подумал Костенко, теперь я на тебя кандалы надену, сука! Тогда от вышки ушел, сейчас не открутишься, курвин сын…
С таким настроением он и пошел к заместителю начальника МУРа:
— Разрешите войти внештатному консультанту, товарищ подполковник?
Заместитель начальника в свое время стажировался у Костенко, прилюдно величал «Мастером». Сейчас, не поднимая глаз от бумаг, разложенных на столе, сухо ответил:
— Да, пожалуйста… Присаживайтесь, я закончу работу, а потом побеседуем.
— Ты потом доработаешь свои вшивые бумаги, — с холодной яростью ответил Костенко. — А сначала поговоришь со мной, ясно?
Подполковник медленно поднял голову — круглую, с приплющенными ушами боксера и свернутым носом. Глаза у него были страдальческие, растерянные, бегающие.
— Я завизировал бумагу, что ты руководишь работой как главный научный консультант, Мастер. С правом на проведение оперативных мероприятий… А меня вызвали на ковер, и я с боем отстоял для тебя титул «внештатного консультанта»…
— Кто на меня попер?
— Не отвечу. Хоть казни…
— Причина?
— Ты с Мишаней Ястребом дружил?
— Если не будет кощунством соединить такие понятия, как «дружил» и «профилактировал», я дам тебе положительный ответ.
— Ты знал, что он купил завскладом той типографии, где печатают самые дорогие ротапринтные издания?
— Нет.
— Но ты знал, что он ими торгует из-под полы?
— Догадывался.
Подполковник достал листок бумаги:
— Это нашли у Ястреба при повторном обыске: «Костенко — в подарок — набор ротапринта».
— Ты знаешь, что я его два раза сажал на скамью подсудимых?
— Да. Но при этом просил прокурора не вертеть ему на полную катушку.
— И судей просил, потому как советская власть виновна в том, что он стал вором в законе: отца расстреляли, мать спилась, он уму-разуму учился в детприемнике.
— Романыч, поменяй имя на Дон Кихота. Ты что, дитя? Не понимаешь, что высшая благодать у нас — схарчить своего?
— Понимаю. Объясни: что входит в функцию «внештатного консультанта»?
— Ничего не входит! Ни-че-го! А Строилов — сука, чей-то сыночек или племянничек! Но поскольку мозгом дела — так или иначе — будешь ты, он получит внеочередное звание и тему для диссертации! А тебя потом разберут на парткоме. И вклеят связь с уголовным элементом! Не понятно, что ль?
— Где Мишанину бумажку нашли?
— В мусоросбросе.
— Больше ничего?
— Нет.
— Почерк его жены взяли?
Подполковник вздохнул:
— Нет, конечно… Чего не подсказал?
— Только сейчас допер… Может, она какие телефоны для него записывала…
— И еще: стоило тебе влезть в дело, как на город повесили два убийства: Ястреб и Людка. Думаешь, приятно? Звонки, запросы, вызовы…
— Объясни мне еще раз мои права — в новом качестве.
— Давать идеи, когда потребует Строилов.
— И все?
— И все.
— Правом контроля за реализацией своих идей я не обладаю?
— Ты ничем не обладаешь. Никакими правами… Операцию ведет Строилов.
— Передай ему от меня привет… А я уж лучше вернусь к себе в библиотеку… Приобщусь к динамиту знаний… Жаль, что Мишаню погубили… Он ведь на Хрена вышел, через Людку вышел… Их поэтому и убрали… Ребенку ясно… Ты завтра из Цветмета ответ получишь, придержи у себя на час, дашь взглянуть, ладно?
Подполковник покачал головой:
— Нет, Романыч. Я по горло с тобой нахлебался. Не проси, не ставь меня в сложное положение, шкуру снимут.
— А когда ты у Розки дох, — вздохнул Костенко, — с меня шкуру не снимали? Она ведь «малину» держала, и санкции тебе никто не давал, чтоб ее трахать! Я это на себя взял?! Или нет? А когда ты выступал на бегах, пьяный в лоскуты, я на себя это ЧП взял?! Или, может, кто другой?!
Костенко поднялся и вышел из кабинета, яростно захлопнув за собою дверь.
… В квартирке, где ютились «афганцы», Костенко спросил, кто здесь старший по званию. Им оказался Игорь, капитан, инвалид второй группы, двадцать восемь лет. Принимал со сдержанной солдатской доброжелательностью, открыто.
— Я хочу представиться, — сказал Костенко, протянув свою пенсионную книжку. — Из Афганистана меня выслали через пять дней после введения наших войск…
— Были советником в «Царандое» [1]?
— Да.
— Почему выслали?
— Потому что не хотел консультировать нацизм… Амин — нацист: «революцию в белых перчатках не делают». Любимая его фраза, цитировал Сталина, как «Отче наш»… Несчастного Тараки задушил, семью его вырезал, интеллигенцию и духовенство посадил в тюрьмы, расстрелы проводил из пулеметов, без суда и следствия… Когда наши высадились, когда открыли ворота тюрем и освободили узников, я считал, что, освободив тех, кого еще можно было спасти, наши ребята должны сразу же вернуться домой… А когда я понял, что это — надолго, с прицелом на Персидский залив, я отправил злой рапорт, сослался на здоровье и был отозван, так сказать… Открыл вам все, чтобы не было недомолвок… Согласны говорить по делу? Или что-то в моем поведении вам кажется неправильным?
— И да, и нет, товарищ Костенко… Но то, что консультировать фашизм — грех, в этом я согласен… Нас там натаскивали на ненависть, киплинги конца двадцатого века, но мы честно смотрели в глаза смерти.
— Все смотрели в глаза смерти, Игорь… по батюшке-то как?
— Можно без батюшки, возраст позволяет… Что у вас к нам за дело, товарищ Костенко?
— Вы фильмы с участием Зои Федоровой видели?
— Это которую убили? Нет, не видел.
— Можно устроить у вас просмотр?
— Какой просмотр?! — Игорь горько усмехнулся. — Откуда деньги на видео? Где зал с креслами для инвалидов? «Наши мальчики выполнили свой интернациональный долг!» Государственная болтовня и никакой реальной помощи! Нам, знаете, кто помогает? Вьетнамские ветераны США! А «комсомольцы-добровольцы» только раскачиваются… А Язов и вовсе молчит, будто не было Афганистана…
— Хорошо, а если я устрою просмотр?
— Где?
— На киностудии… С хорошим залом…
— Цель?
— Какая цель? — задумчиво переспросил Костенко. — Как вы думаете, что нам сейчас более всего вредит?
— Всеобщее равнодушие.
— И хамство… А еще?
— Бюрократия.
— Точно. А еще?
— Саботаж перестройки…
— Верно. Кто руководит саботажем?
— Правые силы… Аппарат… Бюрократия, которая ненавидит Горбачева…
— Государственная мафия — вот наш бич, Игорь…
— Верно, государственная мафия — это страшно… Только при чем здесь смерть Зои Федоровой? Я читал в «Огоньке», как у нее Щелоков кольцо забрал после того, как адъютант ее шлепнул…
Костенко отрицательно покачал головой.
— Нет, Игорь, это все на поверхности… Слишком просто… Покойница устраивала левые концерты, тогда актерам очень мало платили, надо было вертеться… Данные об этом в ее деле лежали, хватало на то, чтобы арестовать и провести дома обыск… Вот тебе камушек и тю-тю — без мокрухи… Найдутся у вас люди, которые захотят мне помочь? Я кое-кому из начальства поперек горла стал…
— Мы не штурмовые отряды, товарищ Костенко… Нам надо наших ребят лечить, ставить на ноги, стресс снимать…
— Про лечение обещать боюсь, хотя, может, что и удастся… А вот стресс снять можно… Стресс рождается резким сломом жизни, невозможностью адаптироваться в новых, мирных условиях… А они, наши условия, не мирные, Игорь… За прошедшую ночь мафия убила двух людей, которые вышли на того, кто мог бы пролить свет на дело Федоровой…
… Через два дня Игорь позвонил Костенко, пригласил зайти, угостил чаем и сказал:
— Так вот, по поводу кооперативного гаража… Слесарь Окунев чалился в Саблаге с пятьдесят четвертого по пятьдесят восьмой, — грабежи и квартирные кражи. Свой инструмент запирает в сейфик. Однако отвертку у него поменяли…
Игорь достал из стола отвертку диковинного цвета и протянул ее Костенко…
Тот спросил:
— Он заметил пропажу?
— Он только послезавтра вернется… На рыбалку уехал, так что отверточку надо вернуть завтра вечером… И еще: ребята о Федоровой с родителями поговорили, с бабушками и захотели посмотреть картины, где она снималась. Только небось они все черно-белые?
… От «афганцев» Костенко отправился на Петровку, позвонил из автомата, чуть изменив голос, попросил Галину Михайловну выйти, передал ей отвертку: «Из того гаража, где стоит машина пилота. Ответ мне нужен завтра утром, иначе подведу друзей… Зашла к Лысому?» — «Да. Бывший следователь Бакаренко действительно жив, квартира на Кутузовском проспекте…»
— Спасибо, Галка.
Женщина вздохнула:
— Возраст, словно воронка, все в себя вбирает! Для Ксюши я «баба», старуха, для тебя «Галка»… В двенадцать подъезжай, думаю, управлюсь с отверткой…
— Запомни, хозяин отвертки — тоже пациент Саблага… Пусть ребята посмотрят… Но, понятно, сделать это надо мимо Строилова…
С Петровки Костенко поехал в отделение милиции, что было возле Киевского вокзала. Начальником Угро туда бросили Колю Ступакова. Когда Федорчук разгонял кадры, особенно обрушился на тех, у кого была крепка хозяйственная хватка, а Николашка сколотил для стариков из ящиков маленькую сараюшку на участке, который выбил возле Наро-Фоминска. Донос написали через неделю после новоселья: «Отгрохал хоромы, интересно, на какие деньги?»
Из инспекции министра пришла «телега»: «Разобраться и доложить».
Николаша, зная, что живем среди гиен и крокодилов, хранил квитанции на каждый гвоздь, не то что фанерный ящик; представил начальству, через неделю пришло решение: либо Ступаков сносит строение, либо увольняется из органов.
Николаша предпочел увольнение. «Знаешь, — сказал он тогда Костенко, — при Ленине самым страшным наказанием для врагов была высылка за границу и лишение гражданства, а потом уж расстрел. Я б скорректировал: самое страшное наказание — работать под дураком в бесправном государстве, а потом — расстрел… Как понимаешь, о высылке теперь мечтают, как о манне небесной, да хрена выпустят…»
Он утеплил свой сарайчик и нанялся комендантом поселка, семьдесят пять рублей, завел кур и двух коз — не жизнь, малина…
Как только Черненко, очередной великий теоретик марксизма, преставился, а Федорчука из министерства унизили переводом в маршальскую группу, Николаша Ступаков написал письмо новому министру. В органах восстановили, но, правда, сунули его в Угро маленького отделения — дорабатывать до пенсии.
Костенко он обрадовался, достал из сейфа початую бутылку коньяка и пачку вафель:
— Давай, Славик, за нашу просранную жизнь по пять капель!
— Потом, Коль… Я к тебе по делу… Разрешишь сейчас вызвать некоего Бакаренко? Пенсионера по статусу, сталинского палача по профессии. И дай мне комнатушку: надо провести разговор…
— Так меня за это снова попрут, Славик! Превышение полномочий, самодеятельность…
— А ты позвони на Петровку, поинтересуйся: мол, Костенко — внештатный консультант или нет?
— А меня спросят: отчего вас это интересует?
— А ты ответишь: он пришел устанавливать адреса кооперативных мастерских радиоремонта.
— А они припрут с проверкой… Если тебя нарекли «внештатным консультантом», значит, выдры, копают…
— Фамилия Строилов у тебя на слуху?
— У меня в районе генерал Строилов живет…
— Наш?
— Нет. Военный строитель…
— Ну так как, Николашка?
Тот вздохнул, пододвинул Костенко телефон, налил себе коньяк, сделал долгий глоток, вафлей закусывать не стал, приложился к мануфактурке…
Костенко набрал номер Бакаренко:
— Ивана Львовича, пожалуйста…
— Деда, тебя, — голосок был пронзительный, девичий. Господи, в чем они-то виноваты, маленькие? За что и на них грехи взрослых ложатся?
Костенко вспомнил, как Розка (дочь его агента Рыжего, был карманным вором, завязал, не мог прописаться. Костенко помог, с тех пор Рыжий — дочку очень любил — был с ним на связи) кричала проституткам, которые расшифровали ее отца: «Мой батя сука, говорите, да? Я ему ноги мыть буду и воду пить, потому что из-за него не стала такой лярвой, как вы, из-за него я в семье жила, как нормальная! Все стучат, только одних колют, а другие проскальзывают! Из вас, подлюг, две — стукачки, не меньше! Бейте, бейте, все равно ваш проигрыш, а батьку моего не трожьте, бритвой глаза повырезаю!» Не она вырезала… Ей вырезали. Рыжий повесился. Жена его, Линда, лежит в психушке и заливается истеричным смехом с утра до ночи, — хохот у нее постоянный, никак помочь не могут…
— Бакаренко, — услышал Костенко раскатистый, достаточно молодой голос.
— Полковник Костенко, — ответил ему в тон, рокочуще. — Я не мог бы просить вас, товарищ Бакаренко, заглянуть в отделение…
— Милости прошу ко мне… Можем поговорить дома.
— Это служебный разговор…
— У меня отдельная комната…
— Спасибо. И все же лучше у нас, в отделении…
— Что-то срочное? Я ж только вчера беседовал с Виктором Павловичем…
Да ты на связи, цыпонька, понял Костенко, ну и ну…
— Я приехал из Владимира по делу, связанному с «малограмотными внуками Дзержинского»…
— Простите, не понял…
— Так у нас кое-кто расшифровывает МВД. Жду вас в отделении возле Киевского, вы адрес знаете, получасовой разговор, нужен совет, причем — безотлагательно. Машину подослать?
— Да я ж в трех минутах от отделения, товарищ Костенко… Хорошо, подойду..
Но сначала он позвонит в отдел, подумал Костенко, и те ввалятся сюда. Наверное, разумнее было идти к нему. Впрочем, дома он, как в крепости. Удостоверение пенсионера на него не подействует, а здесь и стены мне в помощь. Да еще сейф, да еще два портрета.
… Бакаренко оказался маленьким сухоньким старичком, в форме без погон, с орденской колодкой: две Красные Звезды, медали «За отвагу» и «За победу».
— Здравствуйте, Иван Львович, — Костенко поднялся ему навстречу, обменялся рукопожатием, сунул руку в карман и тщательно протер ее о подкладку. — У меня к вам только один вопрос, — он достал фоторобот Хренкова, — когда вы его видели последний раз?
— По-моему, в пятьдесят третьем, — ответил Бакаренко. — А в чем дело?
— Как его фамилия?
— Не помню… Встречались мельком.
— Он арестовывал Зою Федорову вместе с вами?
— Я дело Федоровой не вел. Я оформлял документы, которые были заранее подготовлены… Пару раз побеседовали — и все.
— А он? — Костенко кивнул на фоторобот, не отводя немигающих глаз от лица Бакаренко.
— Иногда оставался с ней в камере, когда полковника Либачева вызывали на совещание… Вам бы лучше спросить обо всем этом деле Либачева, он был старшим, я — исполнительствовал…
— Либачев ее бил, да? — нажал Костенко.
— Зачем повторять досужие вымыслы, товарищ Костенко? Расшатаем доверие к органам, кто станет порядок держать, когда стачки станут всеобщими? Хотим получить вторую Польшу? Были садисты, слов нет, одни Кобуловы чего стоят… Но не надо же бросать тень на аппарат…
— Вы Федорову не били, я понимаю, Иван Львович… А он, — ткнув пальцем в фоторобот Хрена, спросил Костенко, — мог? В ваше отсутствие?
— К Зое Федоровой запрещенные методы следствия не применялись… Тем более, в деле были бесспорные улики: ее связь с американским разведчиком, разговоры с ним… Это все зафиксировано техникой… Но я не очень понимаю, зачем меня потребовалось вызывать в милицию, когда ее дело закрыто?
— Оно только начинается, Иван Львович.
— Вы мне предъявите, пожалуйста, удостоверение и постановление на допрос… Вы ж не совета у меня просите, товарищ Костенко… Вы допрашиваете меня… С нами такие фокусы не проходят…
— Постановление на допрос не выписывается, — Костенко достал из стола бланки допроса свидетеля, — что ж вы, юрист, а такие азы позабыли? Дело в том, что он, — Костенко снова ткнул пальцем в фоторобот Хрена, — связался с гражданином США, который проходил по делу Федоровой… А у меня к тому же есть показания ветерана партии Савушкина про то, как вы, лично вы, его били… Он написал об этом. Так вот, от того, как пойдет наша беседа, будет зависеть судьба этого письма: я вашей крови не жажду, мне лишь нужно докопаться до истины. Ясно?
— Ясно, — тихо ответил Бакаренко.
— С письмом Савушкина ознакомиться не желаете?
— Покажите.
— Хорошо. После того как вы мне ответите: перед походом сюда, ко мне, вы Виктору Павловичу, оперуполномоченному, у которого состоите на связи, звонили? Он вам посоветовал прийти ко мне?
— К сожалению, он в отпуске…
— Кому еще звонили?
— Никому.
— Читайте, — Костенко протянул Бакаренко письмо Савушкина, переданное ему особистом Ромашовым.
Тот словно бы обсматривал каждое слово, лицо закаменело еще больше, но когда дошел до фразы «в суде подтвердить правильность моих слов могут Граевский Роман Иосифович, он меня отхаживал в камере после допросов, и персональный пенсионер, ветеран КПСС Григорий Сергеевич. Оба живы, письменные показания дали в нотариальной конторе», — хрипло попросил стакан воды.
Выпив алчущими, но при этом медленными глотками, письмо вернул…
— Где гарантии, что, если я вам стану отвечать, это письмо не попадет в комиссию по реабилитации?
— Попроситесь в больницу, — Костенко усмехнулся, — с сердцем плохо… Больных не судят… А партбилет и погоны у вас и так отобрали, чего же бояться-то?
По этому делу ты не пойдешь, ты по Зое пойдешь, подумал Костенко, да и Савушкину уж не поможешь — три месяца как на Ваганьковском…
— Хорошо, — медленно ответил Бакаренко. — Я готов к собеседованию…
— Федорова отвечала на все ваши вопросы без принуждения?
— Без принуждения.
— Вы сказали, что ее вам передали… Кто?
— Помощник това… простите, Абакумова вызвал меня и Либачева… Сказал, что Зоя Федорова призналась в шпионаже в пользу американской разведки и в подготовке терактов против тов… против Сталина… Дал нам папку с записями ее разговоров с этим самым американским капитаном… Вот и все…
Костенко покачал головой:
— Не сходится, Иван Львович… Вы бы за шпионку «Красное Знамя» получили… А у вас только «Звездочка»… И в постановлении Особого Совещания ее в шпионаже не обвинили… Лишь разговоры в целях ослабления, подрыва и свержения Советской власти… Свидетелей практически не было, только данные, собранные на капитана Тэйта…
— Моя заслуга, что ее под шпионаж не подвели, ну меня и отблагодарили за это… Всю жизнь партии отдал, а сделал доброе дело — выставили из рядов…
— Как же вы рискнули? Против самого министра государственной безопасности восстали?
— А не надо из всех, кто тогда правил державой, делать недоумков. Недальновидность эта чревата рождением у молодежи нигилистического недоверия… О державе болею, не о себе…
— Между прочим, «держава» происходит от слова «держать», «не пускать», «обуздывать». Есть такая пословица из русской сказки: «Жил-был татарский державец…» А державец — это хан, владелец, султан… Это понятие к нам от татаро-монгольской оккупации пришло — «держава-то»… Аккуратней с ним обращайтесь… А что касается «безверия», то как вы мне объясните феномен веры в Сталина, который уничтожил всех, кто вместе с Лениным руководил Союзом Республик?
— Вместе с Лениным Союзом руководили Молотов, Калинин и Ворошилов.
— Молотов был техническим секретарем ЦК, Ворошилов — с четырьмя классами образования — сражался против Ленина в «военной оппозиции», а Калинин подписал декрет о «сплошной коллективизации». И править они стали после Ленина, а не вместе с ним… Ленин не правил, он руководил. Есть разница?
— История рассудит…
— Рассудила… Ее, конечно, можно и в четвертый раз переписать, сглотнем, но правда — сказана, чтоб ее убить, нужно карательный аппарат раз в пятьсот увеличить… Вы в органы пришли в тридцать пятом?
— Ничего подобного… В тридцать восьмом, накануне ареста Ежова… Я первые реабилитации проводил, когда Лаврентий Пав… когда тов… простите, когда Берия пришел…
— Сколько раз вы были у Абакумова по делу Федоровой? Чем он интересовался в первую очередь?
— Он ее сам вызывал, я только вел ее в секретариат…
— По скольку времени он ее держал у себя?
— Не помню… Часа по три, надо ведь размять человека, а уж потом приступать к делу…
— К какому?
— Не понятно, что ль? Она ж по дочке убивалась, крохотуля совсем была… Абакумов обещал ее выслать — без суда, потом, говорил, вернем, на студии восстановим, познакомим с иностранцем, англичанином вроде… Ну, мол, станешь с ним работать…
— К американцу ее тоже подвели?
— Нет. А в общем-то никто этого не знал, такие вещи това… Берия на личном контроле держал: взаимоотношения с союзниками, да тем более сорок пятый год… Не дала она Берии, вот он и взъелся… Это у меня такое предположение…
— Вы знали, что Зоя ни в чем не виновата?
— Она жила с американцем…
— Это криминал?..
— По тем временам — да!
— Но вы не верили, что она шпионка?
— Нет. Я и отмыл ее от этой статьи.
Костенко покачал головой:
— Вы ж подписали — для постановления Особого Совещания — «шпионаж, антисоветская пропаганда и преступная группа сообщников». Кто-то на ОСО оставил ей одну лишь «пропаганду». Кто?
— Не мой уровень. Не могу знать.
— Кто вам передал материалы с требованием оформить статью о шпионаже?
— Полковник Либачев.
Костенко снова закурил:
— Который мертв… След обрывается…
— Это точно, оборван.
— Помните Савушкина? — снова нажал Костенко.
— Помню.
— Кого вызывали на допросы по делу Федоровой?
— Запросите архивы… Столько лет прошло… Разве в голове все удержишь?
— Бориса Андреева, народного артиста, трудно из памяти выбросить…
— Так он мычал, ни «да», ни «нет»…
— Значит, кого-то помните… Ладно, найдем всех, кого вы выдергивали на допросы и очные ставки…
— Все поумирали, — усмехнулся Бакаренко. — Мартышкин труд.
— После того как шлепнули вашего шефа, люди все рассказали ближним…
— Пересказ — не улика… Нет и не может у вас быть улик… Нас теперь так легко не взять — демократия…
И Бакаренко вдруг рассмеялся мелким, трясущимся смехом.
В это время дверь отворил Николаша Ступаков и, не глядя на Костенко, сказал:
— Сейчас получим постановление на обыск у вас дома, Бакаренко… По поводу самогонного аппарата. Пошли, будем изымать, телевидение я уже пригласил, «Добрый вечер, Москва!» приедет… Лицо твое покажут москвичам, жди звонков и встреч в подъезде с теми, кто тебя опознает.
И тут Бакаренко рухнул:
— Ладно, ставьте вопросы.
… Вопросы ставить не пришлось. Костенко позвонил Глинскому, и тот сказал, что слесарь Окунев, владелец саблаговской отвертки из кооперативного гаража, утонул во время рыбалки: лодка перевернулась. Последний свидетель мертв…
3
Дмитрия Степанова удалось найти не сразу. Раньше, до того как он занимался главным своим делом — литературой и журналистикой, Костенко знал, где его отловить, а теперь, когда прочитал интервью про то, что тот начал выпускать газету, вытаптывал его два дня, пока наконец Бэмби, старшая дочь Митяя, не продиктовала ему тайный телефон отцовского офиса.
Звонил часа три — без перерыва. Все время занято. Решил было, что Бэмби перепутала номер; та рассмеялась: «Дядя Слава (а самой-то уж тридцать! вот время-то бежит, а?! Жизнь прошла — и не заметил!), у них всего две комнаты, один аппарат на десять человек, там ад, но совершенно особенный — ощущение шального, кратко-данного, неведомого всем нам ранее счастья». — «И такой появился?» — «Появился; зайдите к отцу, убедитесь сами…»
… Секретарь звенящим голосом задала ужасающий вопрос.
— А вы по какому вопросу?
Костенко хотел было повесить трубку, но удержал себя: все секретари в нашей стране одинаковы, в чем-то подобны сыщикам, только в нас, сыщиках, заложен инстинкт гончей — догнать и схватить, а в них — гены немецкой овчарки, охранить и не дать.
— Скажите вашему шефу, что это Костенко… Он у меня стажировался на Петровке, в шестьдесят втором…
(Господи, двадцать семь прошло! Старики надменно и самоуверенно не ощущают собственной слабости… Делом Федоровой надо б какому двадцатисемилетнему заниматься, а не мне!)
— Не сердитесь, — ответила секретарь подобревшим голосом, — его рвут на куски, поэтому я получила указание от коллектива стать цербером.
— Перечитайте Булгакова, — посоветовал Костенко. — Там про это уже было.
Сняв трубку, Степанов усмехнулся:
— Не ярись, Славик… Зоя у нас каторжанка, дисциплине не на курсах училась, в концлагере, школа что надо…
Встретились в кооперативном ресторане «Кропоткинская, 36» около десяти, за час перед закрытием.
— Что грустный? — спросил Степанов, обсмотрев осунувшееся лицо друга.
— Думаешь, ты — веселей?
— Я — в драке, сие понятно, а ты у нас теперь созерцатель…
— Нам, созерцателям, труднее, Митяй… Со стороны все много страшнее видится, потому что есть время на обдумывание следующего хода… А ведь ходят не одни только черные, белые тоже обдумывают каждый ход..
— Раньше ты говорил без намеков.
— За то и погнали… — он вдруг зло рассмеялся. — «Вы по какому вопросу?»… Надо ж, а?!
— Слава, мы начали полгода назад… С разгульной демократии начали: «никакой табели о рангах, все равны, делаем общее дело, единомышленники, человека ценим по конечному результату труда…» Все, как полагается… И — понесло! Шофер начал учить журналиста, как писать. Стенографистка дает советы художнику, как верстать номер, бухгалтерия: «так — нельзя и эдак нельзя, а здесь не велит инструкция» … А — как можно? Ты мне это скажи, я ж на хозрасчете, самофинансировании и полнейшей окупаемости! И — пошла родимая расейская свара: а почему он такую премию получил?! я ему не подчиняюсь! а по какому праву его послали за границу, а меня — нет?! Равенство?! Э-э-э, Славик, нет, до равенства мы еще должны расти и расти, пьянь гению не ровня, исполнитель созидателю не пара…
Костенко удивился:
— Что-то слышатся в твоем плаче нотки привычного: «да здравствует гениальный пожарный, биолог, филолог, экономист и жандарм всех времен и народов» … Эк тебя за год своротило…
— Должен сказать, что наша генетически-рабская душа, увы, все еще жаждет дубины и окрика… «Мы ленивы и нелюбопытны…» Не диссидент писал — Пушкин…
— Нет на тебя «Памяти»…
— А что — «Память»? Может ли она одержать верх? Не она, так тенденция? Может, Слава. Но кто тогда России будет хлеб продавать? Америка? Не станет. Во веки веков запретит своим фермерам иметь с нами дело… Синдром гитлеризма стал единым с понятием «погром», а этого интеллигентный мир не примет более…
— Чего тебе-то волноваться? — Костенко хотел улыбнуться, но получилась какая-то гримаса скорбного, презрительного недоумения. — Или таишь в крови гены Христа, Эйнштейна, Левитана и Пастернака?
— Власти, Славик, если она не хочет превратиться в изуверскую, придется выводить на защиту маленьких эйнштейнов и пастернаков русских солдат. А это и будет началом гражданской войны. И презрением цивилизованного мира… Впрочем, Каддафи нам поаплодирует…
— «Память» не зовет к погрому… Она требует выслать инородцев в Израиль…
— Татары и якуты в Израиль не поедут… А равно калмыки с черкесами… Гитлер поначалу тоже предлагал выслать немецких евреев на Мадагаскар… Кончилось — Освенцимом, несмываемым позором германской нации…
Официант стоял чуть поодаль, лощеный, готовый к работе, сама корректность: раз люди беседуют, нельзя перебивать; взгляд Степанова, однако, поймал сразу, шагнул к столу, приготовился запоминать, хотя блокнотиком не гребовал.
— Что хочешь? — спросил Степанов. — Давай закажем пельмени и копченую курицу, это у них фирменное… Пельмени, словно в «Иртыше»… Помнишь?
— Это в подвале, напротив Минфлота? Где теперь «Детский мир»?
— Да… Ты ж там с нами выступал… Помнишь, как Левон Кочарян отметелил пьяного Волоху?
— Тоже умер…
— Мне сказали… Мины рвутся рядом… Смерть одногодок перестала удивлять… Ужас ухода друзей стал нормой…
— Водку здесь подают?
Степанов хмуро усмехнулся:
— За валюту. Спасибо, что хлеб еще за рубли отпускают… А водку выпросим… У директора Федорова, они тут с Генераловым добрые… Никогда мы взятку, кстати говоря, не победим… Идеалист был Ленин… Полагал, что эту генетическую язву можно исправить законом, судом или — пуще того — расстрелом… Ясак триста лет несли, потом триста лет борзыми щенками платили, при Леониде Ильиче бриллианты были в цене, а сейчас кому чем не лень… Вечное в нас это… Лишь российский интеллигент никогда никому не давал, оттого и страдал всегда… Впрочем, Некрасов шефу тайной полиции Дубельту засаживал — измудрялся в винт проигрывать, за это цензорский штамп на Чернышевского получил, нигде такое невозможно, вот она, наша особость, в этом — спору нет — мы совершенно особые…
— А ты Федорову какую взятку даешь, что он тебе водку за рубли отказывает?
— Дружбу я ему даю Слава… Дружбу и восхищение…
Федоров словно бы почувствовал, что говорят о нем, вырос как из-под земли, весь словно бы вибрирующий (так напряжен внутренне), смешливо поинтересовался, когда в городе начнут стрелять; «То есть как это не начнут?! Смешишь, барин! Мы без этого не можем»; деловито рассказал два анекдота, один страшнее другого, оттого что и не анекдоты это вовсе, а крик душевный; в водке, подморгнув усмешливо, громко отказал; прислал графин с «соком»; самая настоящая «лимонная».
— Поразительный бизнесмен, — заметил Степанов. — Начал на пустом месте, за пару лет вышел в лидеры, партсобраний с коллективом не проводит, а дисциплина — как в армии… Впрочем, нет, там про нее стали забывать… Тебе, кстати, фамилия Панюшкин ничего не говорит?
— На слуху, но толком не знаю…
— Поразительной судьбы человек… В двадцать первом, после введения нэпа, ушел в оппозицию: «Ленин предает социализм, кооператоры — акулы капитала, им место в концлагере, а не в столице»… Его и предупреждали, и уговаривали добром, — ни в какую: «Требую чрезвычайного съезда!» Дело кончилось тем, что Дзержинский его окунул на Лубянку. Спас Сталин, — отправил на низовку в провинцию, спрятал до поры. Вернул в тридцатых, провел через испытание — говорят, поручил Панюшкину, — купно с управляющим делами ЦК Крупиным уничтожить Николая Ивановича Ежова… А у того — за полгода перед казнью — советские люди должны были учиться «сталинским методам работы»… После этого Панюшкин стал послом в Китае и США, а засим возглавил отдел ЦК, который формировал наш загранкорпус, всех тех, кто кибернетику считал происками космополитов, а генетику — вместе со всякими там буги-буги, Пикассами, Хемингуями и Ремарками — сионистским заговором. И стал на Руси самым великим писателем Бубеннов вместе с Павленко и Суровым… А ведь Бунин в ту пору был еще жив… Да и Платонов улицы подметал — не в Париже, а здесь, на родине, в Москве…
— Я другое сейчас в библиотеке нарыл, Митяй, — откликнулся Костенко. — Я убедился в том, что большинство сталинских министров, кого он привел к власти в тридцатых, были родом из бедняцких крестьянских семей… Почитай некрологи — убедишься…
— Это ты к тому, что после нэпа бедняками остались лишь те, кто водку жрал и рвал на груди рубаху: «даешь всеобщее равенство?!» Тогда как справный мужик всей семьею вкалывал на земле? Ты про это?
— А про что ж еще? Именно про это… Сталин привел к власти тех, для которых главный смысл жизни: «скопи домок»… А при этом — «разори хозяйство»… И Даля они — по безграмотности своей — не читали, а ведь тот писал: «Только расход создает доход»…
— При Сталине, Митя, Даль был запрещен, это я доподлинно в своей библиотеке выяснил… Знаешь, почему?
— Доподлинно — нет, но догадываться — догадываюсь.
— Ну — и?
— Никто так любовно не разъяснял несчастному русскому человеку — в массе своей лишенному права на собственность, — что такое «земля», «хозяин», «купец», «выгода», «предпринимательство», «труд», «закон», «право», «найм», «рубль»…
— Сходится, — вздохнул Костенко. — Несчастный народ, лишенный права на понимание истинного смысла самых животворных понятий…
— Это точно, несчастный…
Сладостно выцедив лимонную, Костенко усмехнулся:
— Тот, кто пьет вино и пиво, тот наемник Тель-Авива… Видал майки «памятников»? Ничего поэзия, а? Рифмоплеты из общества трезвенников сочиняли, не иначе… Слушай, Мить, ты когда Щелокова впервые увидел?
— Что-то через полгода после того, как он въехал на Огарева, шесть.
— А когда он вам про запонки Ростроповича говорил? Что, мол, гордится великим русским музыкантом и все такое прочее?
— В самый разгар шабаша, Славик… Меня это, кстати, здорово удивило… Нет, поначалу обрадовало… Удивило— потом уже… По тем временам такого рода ремарка требовала мужества.
— Не помнишь, это уже после того было, как его молодцы забили насмерть андроповского чекиста в метрополитене?
— Не «его», а «ваши»… Ты ведь при нем третью звезду получил, нет?
— Это ты меня хорошо подсек, — усмехнулся Костенко. — И поделом: нет лучшего адвоката человеку, чем он сам…
— Не сердись.
— Так ведь поделом… За это сердиться грех… Ястреба давно видел?
— Года три назад… Он в полном порядке, мне кажется…
— Его убили, Мить… Из-за меня…
— То есть?
— Давай его помянем…
Выпили. Закусывать было как-то неудобно, подышали корочкой теплого еще калача. Закурив, Костенко сказал:
— Я снова начал дело Зои Федоровой крутить…
— Ты ж в отставке… Ешь, пельмени остынут… Почему «из-за тебя»?
— Я расскажу, если хочешь…
— Хочу.
— А с Цвигуном тебе видаться не приходилось?
— Приходилось.
— Когда?
— По-моему, в начале семидесятых… Потом он себе подобрал бригаду писателей, они ему романы шлепали и сценарии… Настоящий разведчик, прокладывал дорогу в литературу Леониду Ильичу, великому стилисту…
— Тебе кажется, что это он прокладывал дорогу Брежневу? Или есть факты на этот счет?
— Хронология — это факты… Сначала он стал выпускать свои боевики в кино, а вскорости Брежнев захотел поучить писателей тому, как надо создавать настоящую литературу… — Степанов вздохнул. — До чего ж мы гуттаперчевы, а? Но Цвигун не производил впечатлений злодея… Вполне доброжелательный мужик… Все, кто его знал, относились к нему с симпатией.
— В последние годы он не изменился?
— Вроде бы — да.
— А в чем? Глаза стали другими? Ищущими? Испуганными? Затаенными? Мерцающими? Изменилась походка? Манера речи?
— Когда я видел его в последний раз — кажется, в Доме литераторов это было, — он сидел в ресторане с друзьями, за рюмочкой и — крашеный был… Не седой, каким я его помнил, а густо-каштановый…
— Сколько ему тогда было?
— Не помню… Хотя, погоди-ка, он вроде бы с геройской звездой сидел… А ему дали Героя в шестьдесят два года, странно как-то, после юбилея…
— Брежневские книги появились уже? Я про восемьдесят первый спрашиваю, когда Зою Федорову убили…
— Боюсь соврать, Славик… Почему ты вернулся к этому делу? Отставникам разрешили работать по расшитым делам?
— Думал — да. Выяснилось — нет… Меня всегда жал один эпизод: в подъезде, где жила Зоя Алексеевна, лифтеры — во время ремонта — нашли в шахте пакеты с долларами… Не помню точно сумму, не в этом дело, завтра буду знать… Один пакет — над выходом из кабины шестого этажа, другой — на четвертом… Рядом… Очень что-то близенько, понимаешь? Словно кто-то версию нам навязывал… Мы было сунулись по начальству, да тут же сразу и обожглись… Намекнули, будто этот эпизод ушел к людям Цвигуна… И — с концами… Мой коллега — его потом из Москвы перевели — намекал, что, мол, держал в руках кончик… Какой именно — не открыл… Но вроде бы ему запретили отрабатывать ту версию…
— Почему?
— Не знаю…
— И сейчас молчит?
— Может быть, сейчас-то и сказал бы, но — умер…
— Жена? Дети?
Костенко хохотнул:
— Митя, ты нас не знаешь… И никогда не узнаешь… Мы, Митя, молчуны… Нас так жизнь научила… Чтобы жена и дети были живы, надо молчать… Намертво… Мы ж комбинаторы, ходим по темному лабиринту… И не знаем, откуда ударят… А особенно больно бьют свои, понимаешь?
Костенко вдруг резко поднялся, стремительно осмотрел зал.
— Ты что? — Степанов удивился.
— Отсюда по «межгороду» позвонить нельзя?
— Куда?
Костенко сел, как сломился:
— Хороший вопрос… Позвонить надо в Узбекистан… А куда именно — не знаю… Хотя бы на Петровку, а?
(О том, что «держал кончик», ему сказал полковник Савицкий, тот, которого — после того, как раскассировали группу — перевели в Ригу; там и умер от цирроза печени. Павлова подвинули в Узбекистан, а Павлов с Савицким крепко дружил, ему мог открыться, только ему, никому больше.)
… Как всегда, выручил майор Глинский; позвонил в крошечный кабинетик ресторанного бухгалтера через десять минут, продиктовал телефон полковника Павлова (генерала, значит, так и не дали, отметил Костенко, а ведь сулили, на кресте божились); живет в Ташкенте. «Капитан Строилов сбился с ног, вас ищет, если будет спрашивать, что сказать?» — «Промолчи». — «Он въедливый». — «А ты будь умным»…
… Услыхав сонный голос Павлова, Костенко понял, что в Ташкенте сейчас раннее утро; извинился:
— Я могу к тебе вылететь, если подтвердишь, что Савицкий рассказывал про кончик…
Зевнув, Павлов поинтересовался:
— Ты уже на пенсии?
— Да.
— А я еще нет… Так что приезжай через три месяца и двадцать семь дней…
— Будет поздно.
— Это твой вопрос, Костенко.
— Ответ понял.
— Ждал другого?
— В общем-то — да.
— Зря. Все возвращается на круги своя… Не бейся жопой об асфальт, мой тебе добрый совет…
Костенко вернулся к столу, посмотрел на пустую бутылку. Степанов понял его:
— Поздно уже… Едем ко мне на чердак. Там и добавим…
Степанов жил на двенадцатом этаже, один. Дети теперь наведывались к нему редко — свои заботы; в одной комнате пытался работать, освободив крохотный пятачок на письменном столе, захламленном старыми верстками, записями и корреспонденцией. Вторая комнатка, заваленная книгами (стеллажей не хватало), горнолыжными ботинками, альпинистскими пуховками, мыслилась как спальня, хотя обычно обваливался он у себя в кабинете на узенькую кушетку, застланную буркой, которую ему подарил на Домбае Миша Лотоков, самый ранимый и нежный черкес изо всех, кого так любил Степанов; больше разве что любил Магомета Конова, но тот не черкес, тот человек мира, личность особой ковки, таких бы менеджеров нам с миллион — не дали б завалить перестройку… За что нам такой удел: отдавать на закланье молоху нищей и злобной зависти лучших людей страны?!
— Посмотри, что в холодильнике, — сказал Степанов, — а я выдам пару звонков, газета идет в печать, мои работают до утра…
В холодильнике было три плавленых сырка, немного масла, несколько яиц и два ломтика колбасы. В морозилке лежала ледянющая бутылка «посольской», две свекольных котлеты и куриная нога.
Жаль Митьку, подумал Костенко, хотя он сам избрал свой удел. Неужели все люди творчества обречены на одиночество? Живут в себе, внутри постоянно движется что-то, ищет выхода, мучает. Я-то его не всегда могу терпеть, а как женщина? Ей другое потребно, ей хочется всегда и во всем покорной ясности, надежности, изначальных гарантий… Да, «гарантии» скорее мужское понятие, завязано на политику и бизнес… Политика — одно, мужчина и женщина — другое, непересекаемость… Кто это сказал: «Только гений не боится жены»? А-а, это Митька вспоминал Твардовского…
Костенко включил газ, вымыл сковородку, порезал тоненько плавленые сырки, положил их в расплавившееся масло (какой-то неестественный белый цвет, раньше было желтое, да и теперь на базаре бабы желтое продают, сбитень, только стоит дорого), отодвинул письма, нераспечатанные еще конверты, блокноты с летящими Митькиными записями и накрыл стол:
— Митяй, жду!
Тот пришел через пять минут, разлил по рюмкам, кивнул на маленькое поляроидное фото длинноносой голубоглазой женщины в очках:
— Давай за нее… Татьяна… Чудо… Единственная — после Нади, — кого я любил… Люблю…
— Расстались?
— Да…
— Твердо?
— Не от меня зависит… «Старость — это большое кораблекрушение…» Знаешь, чьи слова?
— Нет.
— Де Голля… Сказал моему партнеру по бизнесу Алексу Масковичу, тот у него начальником разведки Северного фронта был…
— Давай за светлую память Левушки Кочаряна жахнем, Митяй…
— Мы ж пили…
— Он заслуживает того, чтобы повторить, штучный был человек…
Жахнули; прошло медленно, с теплом. Костенко подошел к плите, разбил яйца, «сейчас сказочной яичней угощу; по-прежнему сам кормишься, бедолага; смотри, в старости надо режим блюсти, откроется язва — не встанешь».
— «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». За одну такую строку поэт обречен на бессмертие…
Костенко поставил сковородку на стол:
— Давай с пылу, с жару… Вкусней, небось, чем если по тарелкам раскладывать…
— Ужасно рад, что ты позвонил, Славик… Я днем парю, а здесь, ночью, один, отдаю концы…
— Переезжай к нам…
— Я особь прячущаяся, Слав… Мне себя постоянно слушать надо: заворочается что внутри — я мигом к машинке… Спать вам с Манюней не дам…
— Слушай, Мить, помнишь, в восемьдесят первом, когда я позвонил после убийства Федоровой, ты сказал чтоб я в это дело не лез, голову сломаю… Объясни, отчего так резанул?
— Думаешь, помню?
— Надо вспомнить.
— Черт его знает… Время было зыбкое, Славик… Не было в нашей истории более мягкого и безотказного человека, чем Брежнев… Когда у его сослуживца по Молдавии, у предсовмина Рудя, сын умер, Виталик, аспирант Бауманского училища, похоронен рядом с Высоцким, кстати, говоря, Брежнев приехал на панихиду и плакал, как ребенок… Он злого близким не делал, Слав… Чем мог помочь — помогал, если, конечно, удавалось к нему пробиться… А — глядишь ты, и в Чехословакию войска ввел, и в Афганистан, и Сахарова при нем сослали, и Некрасова с Ростроповичем и Барышниковым страна лишилась…
— Трагедия тоталитаризма: великой страной правил неграмотный человек…
— Ты, кстати, на Ваганьковское сходи… Посмотри могилу Щелоковых… Две гильзы: и она застрелилась, и он… Там же и могилка бабки, матери его жены… Осталась сиротой, беспомощная, неухоженная… Повесилась…
— Щелоков, кстати, был не злобный… Старался добро делать… Но разве это качество определяет лидера и его команду? Добрый человек — не профессия, а данность…
— Злодей — хуже, — отрезал Степанов. — Знаешь, когда Брежнев пережил свою первую трагедию? Молодым еще человеком… Дочь, десятиклассница, сбежала из Кишинева с артистом цирка Евгением Милаевым… Да, да, тот, который потом героем соцтруда стал… Почти одногодкой Брежнева был и уволок девчонку из дома первого секретаря молдавского ЦК… Представляешь? Скандал… И, говорят, именно Щелоков предложил это дело не таить, а сразу же доложить Сталину… Расчет был сметливый — у вождя дочь Светлана номера откалывала, сын Василий пил по-черному, а Яков и вовсе в плен попал… Тиран жалел тех, кто оказывался в его ситуации, норовил приблизить — хоть в этом был человечен… Кстати, незадолго до гибели Федоровой я видел, как Цвигун в Доме кино ей руку целовал… А ведь к Федоровой, говорят, не только дочь вождя заезжала, но и те, кого она любила… И в это же время ваши забили до смерти андроповского человека в метро… Свара… А Щелоков и Цвигун — дети гнезда Леонидова… Понимаешь, какая передряга была? Видимо, поэтому я тебе и сказал это… Кстати, ты книжку Вики Федоровой читал?
— Конечно, нет!
— Могу дать.
— Где достал?
Степанов удивился:
— Разве не говорил? Вика подарила, Зоина дочь, я ж ее в Америке нашел…
Костенко отодвинул бутылку:
— Митяй, больше не пьем… Я тебя сейчас допрашивать стану, ладно? С меня даже хмель соскочил: она ж — свидетель!
Сняв пиджак, он набрал свой номер, сказал Маше, что задержится у Степанова, поинтересовался, кто звонил, удивился тому, что капитан Строилов два раза спрашивал, не терпится резвунчику, и, положив трубку, придвинулся к другу:
— Постарайся вспомнить все мелочи, имена, детали, Митяй, это для нас, легавых, главные уцепы.
… Через минуту после того, как Костенко положил трубку, неизвестный мужчина вышел из «Волги», стоявшей возле дома полковника с выключенными фарами, валко двинулся к автомату и, набрав номер, не представляясь, сказал:
— Эмиль Валерьевич, сейчас Славик у некоего Степанова… Его постоянно разыскивает капитан Строилов, мадам Машуня сама никому не звонила. Пока все…
… Выслушав сообщение боевика, Хрен поднялся с широкой тахты, застланной громадной шкурой уссурийского тигра, подошел к звукосистеме и включил запись Вагнера. Он долго стоял возле колонок, которые рождали неземной, возвышенный эффект звучания, густо, ощутимо заполнявшего квартиру: в свое время он сломал стену, разделявшую две комнаты, получился зал: тахта, небольшой секретер, шведская стенка, сделанная из карельской березы, и — все, ничего лишнего. Поэтому музыка была абсолютной, поглощающей пространство, властвующей…
Хрен сел к секретеру, подвинул стопку голубоватой финской бумаги, достал «паркер» и начал чертить схему. Сначала он написал букву «К», от нее провел линии к трем «Б», поставил в кружки буквы «Д», «Я», «Л», «С»; получилась система: Костенко — боевики — Дэйвид — Ястреб — Люда — слесарь.
Себя он обозначил «А»; завязал все линии на себе.
Да, увы, допущен ряд ошибок, я позволил себе поддаться эмоциям. Я поверил записям бесед Костенко по телефону: «катимся в пропасть, правые тащат нас к сталинизму, поворот общества к концепции люмпена: «Пусть хоть трижды гений, но если живет лучше меня — сажать его на кол, все должны быть равны». Я переоценил его критику Системы, восхваление кооперативов как единственной альтернативы выходу из тупика, я слишком доверился его нападкам на темень и остолопство миллионов наших обломовых, которые никогда не научатся работать, быдло, без кнута не умеют, прав был Сталин, знал чернь, как никто… Я плохо подготовился к операции с человеком, который держит в голове те нити к Зое, которые мне неведомы и без которых мое дело не зазвучит так, как могло бы… Почему он снова полез в расследование после нашей встречи? Что подтолкнуло его к этому? Узнал Дэйвида? Ночью? Стекла затемнены… Да и столько лет прошло… Нереально… Тогда — почему? Подтолкнул Степанов? С нейтрализацией Ястреба, Людки и слесаря все концы обрезаны, нитей, ведущих ко мне, нет… А если?
И он дописал еще несколько букв: «П», «С», «В» — Пшенкин — Строилов — Варенов. А букву «Д» обвел еще одним кружком и поставил в центр большого, с завитушками, вопросительного знака…
Смяв лист бумаги, посмотрел на свет второй — не осталось ли следов. Сколько раз корил себя за то, что приучился нажимать, как заставляли в первом классе. Посмотрел и третий лист, здесь — чисто. Первые два сжег, пепел спустил в унитаз, вернулся на тахту и, закрыв глаза, долго лежал, наслаждаясь Вагнером, потом набрал номер и сказал:
— Варенку хочу…
Ответа ждать не стал: незачем. Фирма веников не вяжет: люди получают большие деньги, но лишь по конечному результату…
4
Капитан Строилов, возглавивший группу по расследованию обстоятельств убийства Ястреба Михаила Рувимовича и Груздевой Людмилы Васильевны, был высок ростом, по-донкихотовски тощ (хотя, подумал Костенко, мы знаем рыцаря печального образа по фильму, где его сыграл Черкасов, может, в мировом кино есть другие идальго, отличные от нашего, однако теперь иного не примем, привычен), в подчеркнуто элегантном переливно-черном костюме с двумя шлицами (в таких выступают декламаторы во время скучно-официальных кремлевских концертов) и прямо-таки распахнуто-доброжелателен.
— Как я рад, что вы откликнулись на мой к вам призыв, Владислав Романович! — Он стремительно поднялся из-за стола и выбросил длинную руку навстречу Костенко.
(«Он был, как выпад на рапире, гонясь за высказанным вслед» — Костенко сразу же вспомнил пастернаковские строки о Ленине и услыхал в себе последние, провидческие слова этой поэмы, написанной в середине двадцатых: «Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход…»)
— Здравствуйте, — ответил Костенко, пожимая ледяную, очень сухую, казавшуюся поэтому старческой, ладонь Строилова.
— Меня зовут Андрей Владимирович, — представился капитан. — Устраивайтесь, пожалуйста… Садитесь за мой стол, вам, асу, положено сидеть на председательском месте… А я примощусь на подоконнике. Рассказывают, что в молодые годы вы сидели на подоконнике или уголке стола — обязательно с линейкой в руке, правда?
— Правда.
— Можно поинтересоваться — почему?
— Черт его знает… Линейка — метроном, отсчет внутреннего темпоритма… Ногами можно поболтать… Потом, знаете ли, в мои годы сад «Эрмитаж» часто посещали хорошенькие девушки… А я по природе наблюдатель, доставляет радость любоваться прекрасным… По какому поводу искали, Андрей Владимирович? — Костенко устроился на подоконнике и сразу же полез за сигаретами.
— Во-первых, хотел познакомиться с вами. Наслышан, как и все, но ведь работать с вами никогда не приходилось… Во-вторых, хотел посоветоваться о деле… В-третьих, мне сказали, что вы как-то увязываете гибель Зои Алексеевны Федоровой с убийствами Ястреба и Груздевой. Это правда?
— Допустим… Но вы ж в расследовании дела Федоровой участия не принимали…
— Я Зою Алексеевну хорошо знал, Владислав Романович…
— Да? Но если вы ее хорошо знали, то ваша фамилия наверняка была б в ее телефонной книжке…
— Моя фамилия была в ее телефонной книжке, — так же невозмутимо, со странно-доброжелательной улыбкой ответил Строилов. — Более того, я сам вписал в нее свой домашний и служебный номера.
— Это когда было? — Костенко раздавил в маленькой пепельнице окурок и сразу же закурил новую сигарету. — В каком году?
— В том самом, — лицо Строилова резко изменилось, постарело в мгновение. — Они тогда у моего отца собирались, отмечали годовщину Лидии Андреевны Руслановой, все владимирские узники съехались, кто еще был жив…
— Погодите-ка, — лоб Костенко свело рублеными морщинами, — вы хотите сказать, что именно ее записная книжка — надо понимать последняя — была похищена преступником?
— Почему «преступником», а не «преступниками»?
— Вопрос правомочен… С вашим батюшкой об этой трагедии говорили?
— Конечно… Он считает убийство Зои Алексеевны политическим преступлением.
— Мотивы?
— Мотивов нет… Интуиция…
— В каком году вашего отца забрали?
— По «русскому делу»… В сорок восьмом… Следом за Вознесенским и Кузнецовым… Он в Ленинграде работал, по строительной части… И очень дружил с Лидией Андреевной Руслановой и ее покойным мужем…
— По Особому Совещанию шел?
— Конечно… Старик — кремневый, его на процесс просто так не выведешь…
— Герой гражданской войны Иван Никитович Смирнов, член Реввоенсовета Троцкого, тоже был не робкого десятка, однако ж — уговорили, вышел…
— Отец знал об этом… Поэтому предпочел бы смерть ужасу постановочного процесса.
— Вам тогда сколько было?
— Три месяца… Кстати, отец убитого Ястреба с моим стариком по одному делу шел, — Ястреба расстреляли, моему вломили двадцать пять с поражением в правах: «попытка создания Российской республики с выходом из СССР»… Так что искал я вас столь настырно оттого, что ко всему этому клубку, — Строилов кивнул на тома старого дела Федоровой и папочки с материалами по Ястребу и Людке, — у меня интерес не столько служебный, сколько гражданский.
Верю ли я ему, подумал Костенко, мы отучились верить людям; змейски просчитываем свои мысли и поступки почище шахматных гроссмейстеров — на много ходов вперед…
— Отчего вы меня унизили внештатным консультантом, капитан?
— Я не могу зачислить вас в опергруппу, Владислав Романович… Закон есть закон… Поэтому пробить статус внештатного консультанта тоже было не просто, но, к счастью, прошло, да и взрыва зависти не будет…
— Зависть всегда будет… Если что и неистребимо, так это зависть, особенно в нас.
— Гены бесправного рабства? В этом народ неповинен, его поставили в условия жути — вот и результат.
Костенко достал еще одну сигарету, но удержался, закуривать, не стал, в маленькой комнатке и так было синё от табачного дыма, а Строилов постоянно покашливает, может, с легкими нелады, эка какой пергаментный, хоть и не стар…
— Матушка жива, капитан?
— Умерла.
— Воспитывались у родных?
— В детдоме…
— Слушайте, может, пойдем кофейку попьем? А то задохнетесь в вашей конуре…
— Жду звонка, Владислав Романович. Чекисты обещали подослать материалы…
— Вы о книжке Виктории Федоровой, дочери Зои Алексеевны, знаете что-нибудь?
— Нет.
— Рассказать?
— Конечно.
— Книжка называется «Дочь адмирала»… Виктория пишет о трагедии матери и о том, как Зоя Алексеевна смогла найти в Штатах ее отца… Через американцев… Виктория написала о том, кто и как пытал ее мать, о Руслановой, кстати, написала, когда они вместе сидели в одной камере владимирского политизолятора… О том, как именно Зоя Алексеевна организовала… Как бы это помягче выразиться… Побег, что ли… Да, видимо, так… Легальный побег своей дочери… Впрочем, «легальность» и «побег» понятия взаимоисключающие… Словом, после опубликования этой книги за океаном Зоя Федорова стала отказницей, хотя, как говорится, мать за дочь не отвечает, как и сын за отца… Такую формулировочку помните?
— Не то чтобы помню… Знаю.
Костенко кивнул на папки дела Федоровой:
— Познакомились как следует?
— С этими документами не знакомиться надо, Владислав Романович… Их следует в компьютер запускать — если бы они у нас были — для тщательного анализа… Я не очень-то понимаю, отчего в выдвинутых версиях на первое место сразу же вывели убийство с целью грабежа? И почему вероятие убийства с политическими целями было на самом последнем месте?
— Вы раньше в МУРе не работали?
— Нет.
— Какая у вас тема диссертации?
Строилов улыбнулся:
— У вас хорошие источники информации.
— Плохих не держим.
— Тема у меня выстраданная, Владислав Романович… «К вопросу об истории подготовки процессов тридцать восьмого года: анализ процессуальных нарушений действовавшего законодательства».
— Голову не свернут?
Строилов ответил вопросом на вопрос:
— Полагаете, возможна реставрация?
— Аппарат-то ведь по-прежнему всемогущ…
— У меня пистолет есть… Коли реставрация — застрелюсь, позора не переживу, это равнозначно разгрому поколения, публичная казнь идеи, вселенская компрометация нации, от такого страна не оправится…
Медленно закурив, Костенко, не отрывая глаз от лица Строилова, сказал:
— Я готов более подробно рассказать о книге Виктории Федоровой… Мне кое-что перевели… Есть зацепки…
— Серьезные?
— Как размышление для поиска — да… Конкретных — нет… И еще… Что вам известно о том процессе, который Зоя Алексеевна была намерена возбудить в Штатах против адмирала Тэйта?
— Против отца Вики?
— Да.
— Этого нет в деле…
— Вы проскользили… Там об этом упоминается, но почерк у оперов районной милиции детский… Она намеревалась начать процесс, потому что адмирал использовал в своих мемуарах те материалы, которые Федорова хотела опубликовать сама… Ясно?
— А в те годы публикация за границей книг и мемуаров, связанных с разоблачением Сталина и его палачей, каралась, — словно бы продолжая Костенко, заключил Строилов.
— Горячо, — усмехнулся Костенко. — Вот-вот наступите на угли…
Строилов не понял:
— О чем вы?
— Забыли детские игры?
— Мы в детприемнике не играли, Владислав Романович. Нас там гусиным шагом учили ходить сызмальства… Мы дикие были, дикие и тихие, игр сторонились, каждый в себе… И последний вопрос: у вас врагов много?
— А как без них жить?
— Дело в том, что вчера на вас анонимка пришла… Просто так от нее не отмазаться, придется писать объяснение.
— Сюжет каков? Что я Мишаньке Ястребу помогал ротапринты воровать?
— Это было позавчера, Владислав Романович… Это б полбеды… Кто-то из тех, кому о вас многое известно, очень многое — словно бы друг писал, — сигнализирует руководству, что, мол, полковник Костенко катит бочку на чекистов, обвиняя их в убийстве Федоровой, и что результаты своего частного сыска запродал западникам.
— Так вы и разберитесь с этой анонимочкой, — враз заскучав, ответил Костенко. — Я в общем-то не защищен, карты свои — не все, конечно, но весьма серьезные — разложил на столе, валяйте, тешьтесь…
Строилов достал из стола конверт:
— А я уж начал, Владислав Романович… Поскольку в анонимке много пишется о вашей семье, словно бы, повторяю, сочинял близкий человек, — поглядите-ка почерк, а?
Костенко покачал головой:
— В такой постановке — глядеть не стану… А как уликовый документ, как след к убийце Федоровой — посмотреть стоит. На дактилоскопию не брали?
— Брали.
— Ну и что?
— Ответ в вашу пользу, Владислав Романович… На конверте пальцев нет, обнаружили подобие следа от перчатки… Эксперты определенно ничего не утверждают, но высказывают предположение, что состав, из которого изготовлены эти самые перчатки, идентичен тому, который остался в киоске Ястреба… Нерусское производство — во всяком случае… Поэтому ваш интерес к бывшему театральному администратору, а ныне гражданину США Джозефу Дэйвиду, мне кажется в высшей мере оправданным… Хотите работать вместе — вот вам моя рука…
Они обменялись рукопожатием. Костенко снова подивился тому, как холодны пальцы капитана, сколь суха его ладонь и как она аристократически длинна. Он похож не на Дон Кихота — на коня. Странная ассоциация. Впрочем, нет, — у породистых скакунов очень узкие лодыжки, а вообще кони — хорошие люди, с ними можно идти в дело. Он сразу принял мою версию: дело Федоровой тлело все эти годы; молодец, подеремся…
— Ну а если мы вместе, — Строилов поднялся, — не сочтите за труд сказать нашей науке, чтобы она меня не обтекала… Говоря откровенно, эксперт Галина Михайловна меня в упор не видит…
Костенко наконец усмехнулся:
— Видит… Точнее — присматривается…
… Через десять минут Галина Михайловна из НТО положила на подоконник (не на стол Строилова) таблицу с отпечатком пальца:
— Это я накопала на пояске убитой Люды. Дактилоскопия проходит по картотеке, — не глядя на капитана, докладывала она Костенко. — Варенов Исай Григорьевич, сорок седьмого года рождения, проживает на Солнечной, семнадцать, освобожден из мест заключения три года назад, проходил по делу о вооруженных грабежах и насилии…
— Где отбывал наказание? — Костенко легко спрыгнул с подоконника и потянулся к телефону.
— Не в Саблаге, — Галина Михайловна словно бы ждала этого вопроса. — Но работает он в том кооперативном гараже, где стоит «Волга» вашего подопечного пилота.
Строилов набрал номер районного управления, продиктовал адрес Варенова, попросил немедленно взять на контроль. «Сотрудников высылаю, буду на связи».
Дал команду по селектору:
— Членам группы срочно выехать в Измайловское управление…
— Едем, — сказал Костенко Строилову. — Только лучше в отделение, оттуда сподручней начать работу…
— Нет, — ответил капитан, побледнев еще больше. — Пусть начнут молодые сыщики, надо позволить им проявить инициативу. Подождем…
— Если бы не анонимочка — можно ждать, капитан… А так я не очень-то понимаю, кто за кем охотится: мы за ними или они за нами?
— Спасибо, Галина Михайловна. — Строилов мягко улыбнулся эксперту. — Ваш босс и я делаем одно дело, вы меня признайте, ладно?
Галочка даже не обернулась:
— Я свободна, Сла… Владислав Романович?
— Не меня надо спрашивать, Галка, — ответил Костенко, — босс — боссом, а капитан руководит группой… Помогай ему…
Когда Галина Михайловна ушла, Строилов прерывисто вздохнул:
— Спасибо, полковник… Перед тем как мы начнем работу по Варенову, заедем к отцу… Не отказывайтесь… Простите, конечно, что я смею давать вам советы… Дело в том, что одним из следователей моего отца был тот самый, кто терзал и Зою Федорову…
Костенко лениво поинтересовался:
— Либачев? Или Бакаренко?
Строилов этому вопросу не удивился:
— И они тоже. Кстати, Бакаренко уже отправил письма о вашем самоуправном допросе — сразу по трем адресам… Но речь идет о третьем… Его фамилия Сорокин…
— Покойный ныне…
Строилов как-то странно пожал острыми птичьими плечами, хотел было возразить, но — промолчал.
— Может быть, к вашему батюшке попозже заглянем? — спросил Костенко. — Время, счетчик включен…
— Полагаю, получасовой визит к отцу поможет вам.
— «Нам».
— Нет. Именно вам… Вы же считаете, что Сорокин мертв…
— А вы?
— А я нет…
… Уже около «Волги» Костенко — в обычной своей манере (полнейшая, чуть ленивая незаинтересованность) — спросил капитана:
— Вы себя не озадачивали вопросом: отчего после убийства Федоровой у нее дома изъяли двенадцать кассет?
Строилов словно бы споткнулся:
— Где они?
— Попробуйте поискать… Да и сохранились ли эти записи? Вот в чем вопрос…
5
Когда Семену Кузьмичу Цвигуну в пятидесятом году исполнилось тридцать три, торжество отметили славно, было много гостей, говорили хорошие слова, застолье получилось отменным, воистину дружеским, хотя виновник торжества словно бы кончиками пальцев ощущал, что среди собравшихся находится некто, цепко и настороженно наблюдавший за каждым его жестом, не то что словом. Впрочем, через неделю это ощущение размылось, отошло, но не исчезло, оттого что не в первый уже раз за последний год ему приходилось слышать шелестящий заспинный шепот, будто никакой он не запорожский казак, а самая настоящая жидовская морда, ибо на их хазарском языке слово «цви» означает «олень», а у них только аристократов так называли, главных шейлоков и раввинов…
На всякий случай он отправил запрос в архив, получил метрические выписки не только на отца, но и на деда с бабушкой; рассеянно показал сослуживцам; усмехаясь, заметил при этом:
— Хочу докопаться до Сечи, все ж таки именно оттуда идет мой род, репинскую копию не зря держу в спальне…
Спустя месяца три после торжеств хозяин Молдавии Брежнев пригласил его (рядового начальника отдела республиканского МГБ) в кабинет и, угостив чаем с традиционными сушками, шутливо заметил:
— В тридцать три Христа уже распяли, а ты все отделом командуешь… Смотри, упустишь свое время, Семен…
Наделенный смекалистым юмором, человек от природы рисковый (хоть и чуть заторможенный), Цвигун знал о Брежневе все: Центр требовал информацию о республиканской верхушке. Шептались, что товарищ Сталин обмолвился о возможности проведения съезда: как-никак, со времени последнего прошло двенадцать лет, да и война уж давно кончилась, пора бы.
В его, Цвигуна, маленький кабинетик на третьем этаже одного из самых больших и красивых зданий молдавской столицы стекалась информация обо всех, кто хоть как-то был на виду, то есть имел реальную силу, а таких — пять процентов от всего населения, не больше, над ними и работать. Над ними и одновременно под ними — в этом именно крылась трагедийность ситуации, могуче-бесправными подданными которой были все работники аппарата МГБ, ставшие — волею Сталина, в тридцатых еще годах, — суверенными владельцами секретных досье на тех именно людей, которым они — по старым нормам партийного этикета — должны были подчиняться.
Связи начальственных жен, поведение детей, утехи самих руководителей, мнения, высказанные ими в кругу Друзей, количество упоминаний имени великого вождя в рапортах, отчетах, речах, застольях — все это поступало в сейф Цвигуна — прежде чем быть (или не быть) переданным министру, который, понятно, назначался Москвой, ей одной служил, на нее во всем и ориентировался.
— Будь моя воля, — ответил тогда Брежневу волоокий, статный красавец Цвигун, тая странную, чуть подмигивающую улыбку на округлом, женственно-мягком лице, — я б уж давно себя заместителем министра назначил, Леонид Ильич… Но ведь сил нет, без благословения партии ничто в республике невозможно…
Брежнев пружинисто поднялся, рассмеялся, сняв трубку телефона, соединился с домом:
— Вика, пусть что-нибудь на стол соберут, скоро буду…
Цвигун сразу же отметил, что хозяин не сказал «мы будем», хотя человеком он был хлебосольным и открытым гостям. Впрочем, какой я ему гость — сошка. У него Черненко, Щелоков, Дымшиц, Гречко, Тихонов — гости. Вместе начинали в Запорожье и на Днепропетровщине, малая родина, да и потом держатся молодости своей. Только в молодости дружба бескорыстна, на всю жизнь закладывается.
В машине ехали молча (поговори, когда рядом охранник торчит), и лишь в особняке, когда Леонид Ильич шел по дорожке к двери, Цвигун понял: сейчас решается его судьба.
И — не ошибся.
— Слушай-ка, Семен, — Брежнев легко утвердился в привычном ему одностороннем «ты», — что это за сплетни такие идут, мол, секретарь ЦК, — он ткнул себя пальцем в грудь, — гоняет на трофейных машинах, покупает их в Москве, сам сидит за рулем, уезжает куда-то один?! А еще какую-то гнусность начинают возводить и на детей?! Кто за этим стоит? Думал? Подумай, я не тороплю. Имей в виду, если на предстоящем съезде большевистской партии все будет так, как должно быть, то есть товарищ Сталин подвинет к себе именно нас, молодое поколение, прошедшее войну, то и всем вам откроются весьма и весьма серьезные перспективы… Так что, рассуждая обо мне, вы все о себе в первую очередь думайте… Ясна позиция?
— Конечно, Леонид Ильич… Я рад, что получил от вас установку…
Брежнев покачал головой, усмехнулся чему-то:
— Никаких установок я никому не даю… Я обмениваюсь мнениями. Установки — по твоей части… С товарищами из Москвы я перемолвился, так что жди назначения, олень—цви…
… В тот именно день, после обеда, в саду, Цвигун и назвал благодетелю несколько имен информаторов, чего делать не имел права, — нарушение служебного долга.
Именно он решился сказать Леониду Ильичу про то, что кое-кто из аппарата начал обсуждать связь первого секретаря с Надеждой, умницей-красавицей, женой члена бюро Ивана Ивановича, говорят и о том, что за городом содержится специальный особнячок для их потаенных, трепетно-нежных встреч, — Брежнев любил эту женщину высоко и отверженно.
Молдавский хозяин ничего на это не ответил, заперся потом с женой, Викторией Петровной (настоящая хозяйка дома, дружочек). Разговор был тихий, долгий, добрый. Она погладила мужа по голове, горько вздохнула:
— Я все про нее знаю, Ленечка… Бог тебе судья… Не волнуйся попусту, я всегда рядом с тобой, защищу, если кто посмеет написать в Москву… Нам с тобой теперь о будущем надо думать, а его достигают только те семьи, где жена обладает даром понимающего всепрощения… Мне теперь детьми только и заниматься, женщина стареет скорей… Не страшись…
Именно он, Цвигун, разыскал дочь хозяина, когда та сбежала из Кишинева с циркачом, просил простить девочку и понять ее: «скандал надо обернуть романтической трагедией, лишь это смогут простить московские пуритане».
Именно поэтому он вошел в узкий круг доверенных людей первого — Щелокова, Черненко и Бодюла.
… Лишь когда Сталин рекомендовал Брежнева кандидатом в Президиум и секретарем ЦК на девятнадцатом съезде партии, переставшей быть «большевистской», превратившейся в партию державы, Цвигун впервые за последние два года уснул спокойно и без кошмарных сновидений, ставших за последние месяцы привычными, рвущими душу, даже в ушах стучало молоточками, — «Цви, цви, цви…».
Прощаясь с соратниками, Брежнев (парил как на крыльях, ночью просыпался, щипал себя за руку — «не во сне ли все это, боже?!») сказал Цвигуну:
— Жди вызова, Семен. Будет для тебя и в Москве работа…
В Москву, однако, перевести его не успел, оттого что вскорости после окончания съезда великий вождь приказал долго жить. Практически сразу же после похорон Брежнев загремел заместителем начальника политуправления — по военно-морскому флоту; был в Молдавии королем, переместился в трамплинный секретарский кабинет на Старой площади — и, на тебе, сокрушительный обвал…
Но и за те короткие месяцы, что провел в Москве, он успел обзавестись связями, а у нас только тот переживет смутное время, кто понарасставлял потаенные вехи. Наша общность тем и разительна, что не только одни муравьишки и свистокрылые чирки живут законами стаи, но и человечки тоже. Что один может? А — ничего! Кто на крыло поставит? Кто путь укажет? Это на Западе — один и есть один, а у нас он не один, он — нуль без палочки, дерьмо, ничто. У нас общность нужных держит, у них — надменная личностная гордыня, на ней они лоб-то и расшибут, сгниют в одночасье, попав в пучину очередного кризиса капитализма…
Именно поэтому все его кадры не полетели в тартарары, хотя ждали этого (коль хозяин нагнулся, всем его близким греметь), а худо-бедно сохранили свои позиции. И когда — путем сложной интриги — Брежнев вымолил себе пост второго секретаря ЦК КП Казахстана, Цвигун вскорости оказался неподалеку — на посту зампреда таджикского КГБ; республики близкие, то на охоте свидятся, то на каком слете передовиков; чаще всего собирались в Ташкенте, ибо Брежнев смог переместить Рашидова с поста декоративного президента Узбекистана на ключевую партийную позицию.
Там, в Таджикистане, Цвигун бесстрашно восстал против концепции республиканских приписок, повалил местную мафию, несмотря на недовольство некоторых московских руководителей.
Анализируя работу Рашидова и его окружения, Цвигун прекрасно знал (рапорты читал ежедневно, ходу не давал, но и не уничтожал), что, действительно, Шараф Рашидович по-царски принимает гостей, а все расходы списывает на министерства, крупные заводы, институты. Конечно, непорядок, но ведь нет в нашей дикой тьмутаракани цивилизованной (как во всем мире) статьи под названием «представительские расходы»! Не себе же Рашидов эти деньги берет! Зачем они ему?! И самолет свой, и машины, дачи, квартиры, дома, повара, охрана, массажисты, врачи, портные, обувщики, шоферы, стенографисты — за все ж это платит государство! Избранник народа должен всего себя отдавать работе, благу трудящихся, общему делу… Дефицитные строительные материалы (люди Цвигуна провели негласную ревизию) шли не на черный рынок, а на возведение новых научных центров, промышленных комплексов спортивных сооружений… Да, этот дефицит Рашидов получал взамен на сердечность гостеприимства, отправку в Москву посылок со свежими овощами и фруктами, передачу нужным людям сувениров — в конце концов, надо делать скидку на национальный характер: и каракулевое пальто здесь принято называть «сувениром», у них так испокон веку было… Самое страшное для партийца что? Личная корысть. А где она? Только возвращаясь в ужас тридцать седьмого года, можно было позволить разгоряченному мозгу фанатичного правоохранителя назвать радение о благе республики «взяткой» или «подкупом». И Брежнев всегда повторяет: «Дайте людям пожить спокойно, народ устал от нервотрепок». Но когда однажды Цвигун пробросил, что неплохо бы ввести статью представительских расходов, Леонид Ильич заколыхался в смехе: «Семен, ты, может, и законсервированные лагеря прикажешь уничтожить? Власть вправе разрешать или не разрешать, но ее инструменты должны быть неприкосновенны. Без страха мы жить еще не научились, да и вряд ли когда научимся, а уж если научимся — державе придет конец, помяни мое слово»…
… Когда однажды, в Баку уже, кто-то — воспользовавшись его мягкостью и доброжелательством, — сказал, что отец посаженного за валютные операции мальчика готов дать миллион тому, кто поможет несчастному, Цвигун рассмеялся:
— Что ж, приводите… Только с миллионом чтоб пришел… Расстреливать за взяточничество без вещдоков — против закона, мы по закону живем, не как-нибудь…
(Значительно позже, когда в Баку Леониду Ильичу подарили бриллиантовый перстень о десяти — а то и больше — каратах, стоимость которого исчислялась упаковками зеленых, не рублями, он даже не смог разрешить себе и подумать, допустим ли такой подарок, да и подарок ли это вообще? Разум отторгал возможность самого рождения такого вопроса, хотя он рождался, иначе б не мелькало в голове и не просыпался бы порою среди ночи от жуткого крика. Но — поздно уже: кричи — не кричи, никто теперь не поможет, «ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа!»)
Когда Брежнев, восстав из пепла, переместился в Москву, накануне октябрьского заговора против кукурузника, посмевшего замахнуться на память Вождя, Цвигун был загодя направлен председателем КГБ Азербайджана: пора искать верных людей и там. Пролетарский интернационализм рождается не на пустом месте, а из фамилий верных инородцев, приведенных штабом Первого Лица на ключевые посты.
В Баку лепил своего заместителя Гейдара Алиева; ему же отдал кресло, когда Брежнев порекомендовал Андропова в КГБ.
Назначение было несколько неожиданным:
— Я этого здания боюсь, — усмехнулся Андропов, чуть побледнев.
Брежнев кивнул:
— Именно поэтому мы вас туда и назначаем. Ничего, кадрами поможем, дадим орлов в помощь…
Первым орлом оказался Цвигун, вторым — Цинев, палладины Брежнева; западня, крышка захлопнулась..
… Столичная жизнь была Цвигуну внове. Поначалу он чувствовал себя неуютно, но постепенно приобщился к миру культуры — сызмальства испытывал почтение к артистам: покойного Алейникова иначе как «Ваня Курский» не называл, идентифицируя художника и роль, им сыгранную. Познакомился с писателями, режиссерами, сценаристами, завороженно слушал их рассказы. Говорить поначалу совестился, боялся сморозить не то, умел, однако, поддерживать разговор доброжелательной заинтересованностью и ни к чему не обязывающими междометиями. Попросил соответствующую службу послушать, что о нем говорили новые знакомцы. Оказывается, отзывались хорошо и много, горделиво делясь с приятелями (особенно в редакциях и на киностудиях) своим дружеством с «первым человеком в ЧК». Того, кто слишком амикошонствовал, полегоньку от себя отводил. Тех, кто знал меру, внимательно обсматривал, прикидывая, какой прок может из этого выйти, не понимая еще толком потаенный смысл своей задумки — что-то зыбкое чудилось ему, неоформившееся покуда в четкий план мероприятия. Как-то рискнул рассказать фронтовой эпизод — воевал честно, прошел фронт с первого дня и до последнего. Подлипалы застонали восторженно: «Ваше истинное призвание — литература!» Не он, но они, без всякого понуждения, от сердечного холодеющего перед золотопогонством рабства, предложили записать его застольные истории прозой; ему, однако, мечталось — сценарием, чтоб фильм был, чтоб все, как по правде. Слепили сценарий. И — пошло-поехало! Читал написанное соавторами, как свое, постепенно все более и более отталкивая от себя правду: «Неужели это я, господи!» Началось постепенное раздвоение личности; засиживался до утра, исчеркивая написанное профессионалами, потому что хотел приблизиться к идеалу — его, Семена Цвигуна, литературному идеалу. Словно немой, он слышал в себе мелодию, но не мог ее выразить. Он только ощущал, что — можно и хорошо, а что — нельзя, то есть плохо.
… Став первым заместителем Андропова, он не мог курировать девятку, ибо традиционно она замыкалась на председателя, однако исподволь, неспешно Цвигун добился того, что начал влиять на кадровую политику и в этом подразделении, загодя обмолвившись об этом с благодетелем.
В ту пору Леонид Ильич набрал силу, удивляясь тому, как легко Косыгин и Подгорный отдали ему безбрежное главенство, добровольно, без особого, а тем более явственного нажима переместившись в его тень. Впрочем, помогал Суслов, постоянно повторяя, что русскому народу нужен державный символ, ничего не попишешь, такова традиция, а в традиции заложена мудрость седой старины, не нам ее менять, грех. «Культ личности был отмечен перегибами, спровоцированными окружением, в то время как у нас сейчас нет никаких оснований к подобного рода страхам — Леонид Ильич русский человек, и окружают его верные друзья, так что издевательства над нацией, спровоцированные инородцами, исключены сами по себе».
Тогда именно Брежнев и заметил Цвигуну:
— Надо знать все обо всех… И еще: чтоб не трепали имя детей! Такого не прощу. Они широкосердные, как и я, этим легко воспользоваться, народец наш кнут чтит, добротой — брезгует…
Когда «грязные сплетни» о детях первого лица неудержимым шквалом покатили по Москве, Цвигун позвонил супруге благодетеля: «Как быть?»
Конкретных рекомендаций не получил, поэтому сделал так, что дети — сначала сын, потом дочь — сами пригласили его на ужин; говорил с каждым по отдельности, по-отцовски, но в то же время подставляясь для удара и шутки: был бы родней — одно дело, а так — надобно держать дистанцию, не забывая ни на секунду, кто ты, а кто они. Дети смеялись:
— Не в полицейском государстве живем! Что ж нам, списки приносить на утверждение — с кем можно встречаться, а с кем нельзя?!
Именно тогда он ощутил себя между молотом и наковальней: дети не хотели менять принятый ими образ жизни — вольготный и богемистый, а к благодетелю с этим не пойдешь, не поймет…
Именно тогда он до конца растворился в творчестве— единственное успокоение…
Правил свои рукописи, записанные профессионалами, как можно чаще выходил на люди, словно бы норовя этим отмыть манеру поведения детей Первого Лица; тогда же и подбросил Леониду Ильичу идею о написании им своих воспоминаний. С молчаливого благоволения вождя подобрал кандидатуры «коллективных брежневых»; в том, что будут молчать, — не сомневался, правила игры в державе известны всем, напоминать не надо, ученые.
Когда однажды кто-то из охраны все же рискнул доложить, что один из контактов детей «связан с уголовным миром», раздраженно ответил:
— Так развяжите…
Пусть думают. В конечном счете вопрос охраны Первого Лица замкнут на Андропова, пора научиться скалиться, из добрых веревки вьют.
Наконец о скандалах детей спросил и Председатель.
— Юрий Владимирович, — ответил Цвигун, — я не смею вторгаться не в свою прерогативу… Если поручите мне курировать охрану Леонида Ильича и семьи — приказ выполню. Иначе — не хочу быть неверно понятым. — И нажал: — Есть ведь люди, которые не прочь поспекулировать нашими отношениями с генеральным, более четверти века вместе…
Андропов тогда ничего не ответил, но вскоре после этого расписал ему информацию, поступившую на дочь и Щелокова. Присвоенные драгоценности из Гохрана страны, уникальные картины, гоночные машины, подарки вождю ко дню рождения: на аффинажной фабрике был заказан план Москвы с трассой следования благодетеля из Кремля на дачу — светофоры сделаны из топазов, изумрудов и сапфиров, подсвечивались маленькими лампочками, чудо что за игрушка!
Цвигун ощутил тогда безысходность, тревогу и рвущую тяжесть в груди: сказать об этом можно только Брежневу, но поймет ли?! Не был бы Леонид Ильич так добр, возьми он хоть в малости манеру сталинской суровости, но ведь нет! Нет у него этого, норовит править людьми Хозяина добром. Нельзя! Они только сталинский страх понимают, слово для них не закон, им кнут надобен… Чего медлит?! Почему не отдает хозяйство?! Кто, как не я, предан ему?! Да, верно, Андропов подконтролен, но все равно последнее слово за ним, а вдруг не уследишь?! Тогда что?
Вспомнил информацию о разговоре Юли Хрущевой с друзьями: «Если бы Никита Сергеевич пожертвовал Серовым — в угоду тем, кто вроде бы болел о престиже лидера, о том, чтобы его не корили потворством сотруднику Лаврентия Павловича, — никогда бы Брежнев с Сусловым не захватили власть, Серов был предан семье до последней капли крови…»
Ах, если бы и эту расшифрованную запись подслуха можно было доложить благодетелю! Но ведь теперь иные правила: «да» и «нет» не говорить, «черного» и «белого» не называть!
Он вспомнил слова одного из своих знакомых писателей, цитировавшего Библию: «Во многия знания многие печали».
… Он понял, что Андропов поставил его под неотмываемый удар, передав ему, Цвигуну, решение верха лично задержать академика Сахарова и увезти его в ссылку.
По роду своей службы он знал, обязан был знать, что Брежнев вызвал к себе Щелокова и безулыбчиво заметил:
— Ты кончай у себя посиделки с музыкантами устраивать! Очкарик твой, что на большой скрипке пилит, — Рамтрапович, что ль?! — в эмиграцию подает… И пусть себе! А за тобой из-за этого Андропов следит! И вообще будь разборчив с теми, кого приближаешь…
Цвигун знал, что с тех пор благодетель не принимал Щелокова. При этом он отдавал себе отчет в том, что именно Щелоков истинный друг ему, как-никак вместе начинали в Молдавии. Такой работник, да тем более сидящий на ключевом охранительном посту, сладок, но разве может ему быть союзником тот, кто теперь еженедельно звонил Голикову, помощнику Вождя, и плачуще молил, чтоб тот устроил ему встречу с Леонидом Ильичом, а Стратег был непреклонен.
Он мучительно искал выхода, — об этом ни с кем делиться нельзя, — искал и не мог найти его, потому что надо было принимать самостоятельные решения, а годы, проведенные в аппарате, отучают человека от того, чтобы быть самим собою, и снова тяжкий сплин безнадежной депрессии давил на него гранитом жуткого надгробия, когда вроде бы дышишь, ходишь, смеешься, жмешь чьи-то руки, а на поверку — мертв, отпевают…
Вызвал Суслов, обрушился грубо:
— Вы взяли на себя заботу о семье Леонида Ильича, а к чему это привело?!
Цвигун бросился звонить Брежневу, не соединили. Семья тоже отказала в поддержке. Впал в еще более тяжкую депрессию, а тут Андропов добавил, сказав на коллегии, публично:
— Все сочиняешь, писатель? Может, профессию пора менять? Кто вместо тебя делами будет заниматься?!
… Щелокова пасли, собирали компромат постоянно. Как остановить это?!
За дочерью Первого Лица тоже смотрели неотступно, доложили о ее новых контактах — якобы встретилась с актрисой Зоей Федоровой, которой вновь отказано в выездной визе в США; сидела за одним столом с двумя диссидентами; ходатайствовала перед отцом за каких-то цеховиков, запросившихся в Тель-Авив, требовала присуждения Борису Буряце государственной премии.
Что делать? Как поступить ему?
Андропов усмешливо молчит. Суслов срывается на фальцет, кричит, белеет лицом. Брежнев не выходит из кинопросмотрового зала на даче, словно бы исключив себя из жизни страны, — пусть все идет, как идет…
Именно в тот день он ощутил — как и в пятидесятом — кожей, кончиками пальцев, что кто-то постоянно смотрит за ним, за всеми, кого он любит, что-то страшное готовят против него, и он сел к столу — писать письмо Леониду Ильичу о заговоре, который теперь постоянно виделся ему — явственно и ужасающе…
Но письмо не давалось. Он привык работать с секретарями, помощниками и консультантами, которые писали тексты выступлений и записок. Он научился легко забывать литераторов, сочинявших для него сюжеты романов и сценариев, считая, что пахнущая ледерином обложка с его именем на корешке создана им самим. Он поэтому растерялся, ощутив свое бессилие выразить то, что рвало сердце и мозг, и снова тяжкая, словно мокрое ватное одеяло, тоска навалилась на него, и он уехал за город, а потом попросился в Барвиху, на лечение, полагая, что там сможет закончить свое письмо-обвинение…
Но его снова и снова вызывал Суслов, и безжалостно-требовательно глядели в его переносье голубые глаза Андропова, и ощущалась пустота окрест — с каждым днем все более зловещая. И он понял тогда, что только-только начавшаяся жизнь катится в тартарары.
Чем чаще Семен Кузьмич просыпался среди ночи — снотворное не действовало уже, — тем явственнее он понимал, что работы по коррупции, против тех людей, имена которых то там то здесь проскакивали в соседстве с неприкасаемыми, да и не только с ними, невозможна, ибо приведет к непредсказуемым последствиям, когда надо будет называть черное — черным и принимать решения, а разве это возможно?!
Кому верить, в ужасе думал он, кому открыть сердце, у кого спросить совета?! Нет кругом людей, пустыня, затаенная, ледяная, окаянно-душная, с низкой черно-дымной хмарью, в которой роятся враги, давно уже алчущие броситься на спину, распластать на ледяной изморози и найти острыми резцами слабенькую синеву сонной артерии…
Каждое утро он поднимался с бессонной барвихинской кровати разбитым, ожидая очередного звонка Суслова: «Что у вас нового по делу Федоровой? Что с Буряцей? Есть ли информация о том, где находится истинный штаб по фабрикации гнусных слухов о семье того, кто так дорог советскому народу?
Ну что, что отвечать этому страшному человеку, что?!
6
Генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского Союза Строилов, удостоенный этого звания в сорок третьем, после ранения, медленно поднялся с кушетки навстречу сыну и Костенко, тяжело оперся на массивную палку (как он ее только в руках держит, он же ее легче, пушинка, в чем только душа держится) и, сделав качающийся шаг к столу, кивнул на массивные стулья:
— Прошу…
Усаживался он осторожно, как бы по частям, — сначала завел одну ногу, потом, уцепившись длинными (точно как у сына) пальцами за краешек стола, медленно опустил торс, после этого подтащил рукою левую ногу, а уж затем откинулся на спинку, сделавшись величественным и отстраненно-недоступным.
— Знакомься, папа, это…
Генерал чуть досадливо перебил его:
— Присаживайтесь, Владислав Романович… Имя мое вы знаете, отчество Иванович, рад, что откликнулись на просьбу заехать… Не взыщите, что не тяну вам длань, верен нашему революционному изначалию: «рукопожатие отменено»…
— Почему, кстати? — поинтересовался Костенко, усаживаясь напротив генерала.
— Думаю, профилактика тифа. Этическая подоплека — если она была — мне неизвестна. Я ж из своей деревни Мирославлево — прямиком в Смольный…
Строилов-младший улыбнулся:
— Отцу понравился анекдот про двух англичан: один спрашивает: «Джон, вот ты рафинированный, истинный интеллигент, скажи, как и мне стать таким же?» — «Надо закончить Оксфорд». — «Я закончил!» — «Не тебе — дедушке!»
— Это не просто анекдот, — заметил генерал. — Это притча, а в любой притче сокрыто Библейское. Слава Богу, мой отец был справным мужиком, церковной книге был прилежен, чему и нас, детей, наставлял… Андрюша, не сочти за труд, сделай кофе… Вы голодны, Владислав Романович?
— Нет, благодарю.
— Глядите, — генерал усмехнулся. — Я, как ветеран, прикреплен к гастроному, в дни праздников отоваривают копченой колбасой, гречневой крупой и финскими плавлеными сырками…
— Спасибо, — повторил Костенко, — я, честно говоря, сижу как на иголках, у нас ЧП, нашли преступника, надо начинать дело…
— Понимаю… Постараюсь быть кратким… Я увидал у сына робот человека, которого вы ищете… Это мой следователь Сорокин. Он человек страшный, потому что в нем совмещены ум, садизм, сила и сентиментальность.
— Но ведь он мертв… Так мне сказал Бакаренко, так считают в ЧК…
— Это он, — повторил генерал. — В таком не ошибаются.
Костенко сразу же полез за сигаретами, генерал покачал головой:
— Единственная просьба: если можете не курить хоть полчаса — удержитесь, пожалуйста. Я вас более чем на тридцать минут не задержу… Некоторые психологические штрихи к портрету палача помогут вам нарисовать образ преступника…
— Да, да, конечно, — сказал Костенко. — Если станет невмоготу, выйду на лестничную площадку, там покурю.
— Вы очень любезны, благодарю вас. Итак, Сорокин… Знаете, с чего началось наше с ним собеседование? С побоев? Отнюдь. С пытки бессонницей? Это — потом. С лампы в глаза? Тоже — после… Он начал работать со мной, зачитывая отрывки из книги «История царских тюрем» … Да, да, именно с этого… Я процитирую по памяти ряд пассажей, если угодно… Еще в конце восемнадцатого века, долбил мне Сорокин, была принята инструкция, по которой секретные арестанты доставлялись в острог глубокой ночью — он многозначительно посмотрел на меня тогда, — и тюремному офицеру нет дела ни до имени, ни до преступления секретного узника… Тогда же придумали заталкивать арестантов на ночь в долбленое бревно — чтоб сделать невозможным побег… Отмечалось, что на пойманного полицией человека, еще не судившегося, часто невиновного, в уезде — по приказанию не только исправника, но и дежурного писца суда — надевали рогатки на шею или приковывали цепью к стулу, чаще всего из дуба, так что арестант и шага сделать не мог… А еще Сорокин зачитал мне про то, как разгромили Запорожскую Сечь и последний кошевой Петр Кальнишевский был брошен в Соловецкий застенок, заточен в башню и умер там в возрасте ста двенадцати лет — без права свиданий или переписки, живой труп… Вот так… Посмеиваясь, пуская мне табачный дым в лицо, — генерал как-то странно усмехнулся, глянув на сигареты Костенко, лежавшие на столе, — только он папиросы курил, «Герцеговину Флор», Сорокин заключил чтение выдержек из труда Гернета выводом: «Мы ничего нового не изобрели, следуем тому, что было в державе искони… Мы не торопимся, время для нас не существует, мы его регулируем, оно не теснит нас своими рамками… Можем ждать сколько угодно, пока вы решитесь выскоблиться, облегчить себя чистосердечными показаниями, только это может сохранить вам жизнь». Это было, хочу напомнить, в сорок восьмом году, здесь, в этом городе, в трех километрах отсюда, на Лубянке… Я готов отвечать на ваши вопросы, Владислав Романович… Я — единственный, кто выжил и помнит его лицо — до самой крошечной морщинки, до шрамика на брови, до манеры разговаривать, думать, до выражения его глаз, когда он впервые ударил меня резиновой дубинкой — сверху вниз, с оттягом… ниже пояса… Вы не можете представить себе его глаза, когда он заглядывал мне в лицо, после того как я очнулся после болевого шока… В его глазах стояли слезы, на губах плясала истерическая улыбка, но временами лицо замирало, и он не мог сдержать оскала… Да, да, он как-то не по-людски скалился, мне даже показалось тогда, что у него растут резцы, словно у вампира, перед тем как наброситься на жертву…
— У него действительно довольно заметны резцы, — сказал Костенко. — Сколько ему тогда было лет?
— Запросите комитет, — посоветовал Строилов. — Я могу ответить довольно приблизительно… Лет двадцать семь, не больше…
— Значит, сейчас ему под семьдесят? — Костенко удивился. — Он выглядит значительно моложе… В каком он тогда был звании?
— Он допрашивал меня в штатском. Неудобно же бить, когда ты под погонами…
— Когда кончилась война — если он начал работу с вами в возрасте двадцати семи, — ему было двадцать четыре?
— Ну и что? Александр Исаевич Солженицын был капитаном, когда его схватили, и было ему тогда немногим больше двадцати…
Строилов-младший пришел с подносом, на котором стояли три чашечки кофе:
— Я уже запросил чекистов, — заметил он, — и мне объяснили, что после вывода из Политбюро Молотова и Кагановича с Маленковым было отдано устное распоряжение Никиты Сергеевича — «почистить архивы»… Иван Серов почистил довольно круто, особенно московские, львовские и киевские хранилища…
— Я обязан дать показания, Владислав Романович, — продолжал Строилов-старший. — Я — единственный свидетель зверств Сорокина… Остальные — ушли… А мне — восемьдесят девять, с вашего позволения.
— Надо позвонить в прокуратуру, — сказал Костенко.
— Но прокурор спросит, кто ознакомил меня с вашим фотороботом? Это же пока что хранится в вашем деле, следовательно, секретно. Вот почему я хотел, чтобы мы обсудили ситуацию вместе… У меня уже было три инфаркта… Зафиксированных…
— Если мы… Если вы, — Костенко обернулся к капитану, — обратитесь к начальству с просьбой опубликовать в газетах фоторобот? Пройдет?
Строилов-младший отрицательно покачал головой:
— Какие основания? Дело против Хрена еще не возбуждено… Улики косвенны… Прокуратура нас истопчет…
— Меня несколько пугает, — вздохнул Владимир Иванович, — что вы норовите бороться с фашизмом методами крепкой парламентской демократии… А нашей демократии всего пару лет от роду, парламентской и года нет… Смотрите, не свернули б вам шею… Фашизм крепок единством, а вы друг с дружкой разобраться не можете… Кстати, это традиционно: правые у нас всегда были едины, кодла, а либеральные интеллектуалы рвали друг другу чубы, вот их по одному и щелкали…
— Выход есть, — сказал Костенко. — Или Ваню Варравина я к вам подошлю, боевой репортер, славный парень, наш, либо писателя Дмитрия Степанова… Это будет документ… Это печатать надо в газете… Вы готовы рассказать подробно про систему пыток, которым вас подвергал Хрен… Сорокин?
— Конечно, — ответил генерал. — Он и током меня пытал, почему-то пристрастие у него было к половым органам, ток через них пропускал… И бил дубинкой по шее — так, что глаза вываливались, язык становился огромным, как кусок вареного мяса… Никаких следов на теле, очень обдуманно работал… И самое главное — через день после того, как Андрей взял ваше дело, поздним вечером раздался звонок… И мне сказали следующее… Цитирую дословно: «Если пикнешь хоть слово, твой сын никогда не станет майором… Похороны за твой счет»… Могу свидетельствовать под присягой: звонил Сорокин.
— Именно поэтому, — добавил капитан, — я выступил против того, чтобы вы, Владислав Романович, были включены в группу… Я хочу, чтобы вы были свободны в выборе форм и методов того поиска, который вы вели до меня…
Генерал, начав поднимать себя со стула — так же по частям, как и садился, — заключил:
— И чтобы вы оба точнее поняли Сорокина: он был невероятно изобретателен в психологическом давлении: раз вызвал меня, положил на стол его фотографию, — Строилов кивнул на сына, — крохотуля еще, серенький, будто старичок, и говорит: «От тебя зависит, лишим мы выродка фамилии и ты потеряешь дитя, если не шлепнут в одночасье, или оставим его Строиловым, решай». В блокаду я потерял семью… Всю… Без исключения… На Смоленщине деревню сожгли немцы, Строиловых постреляли каратели… Один как перст… А любого человека сопрягают с миром — то есть с памятью поколений — кровные связи, от этого не уйти… И снова вспоминаю глаза его… Я порою относился к нему, как ботаник к мурашу, я его анализировал… Согласитесь, явление: палач под советскими погонами и с той же партийной книжкой, что у меня… Хотя в камере мне рассказывали, как следователи-комсомольцы били первого главкома революции Николая Крыленко… Галошами по лбу, а ему было за пятьдесят… Если фальшивый суд над Промпартией был политической постановкой, направленной против академиков, против тех, кто группировался вокруг Бухарина, то пытки тридцатых годов отмечены печатью зверства нового Хама против апостолов революции, эра всепозволенности… Неужели самое важное — назвать врага? Неужели мы с готовностью поверим в то, что вчерашний друг — это враг, лишь бы только обвинили с амвона? Неужели в нас сокрыто нечто непознанное и страшное, неистребимо и угрожающе таящееся в каждом, готовое выплеснуть ужасом в любой миг, лишь бы снова пророкотали сверху — «ату»?!
— Вы на Сорокина установку запрашивали? — спросил Костенко капитана.
— Интересующий нас Сорокин действительно числится умершим, — ответил Строилов-младший и набрал номер районного управления; ответили, что Варенова дома нет, ждут; бригада на изготовке.
… Выехав из двора на Бородинский вал, Строилов спросил:
— В отделение поедем? Или у вас другие планы?
— Другие…
— Будем брать Варенова?
— Рискованно.
— Точнее — бесполезно.
— Польза-то будет, хоть придется отпустить через семьдесят два часа: наверняка у него алиби…
— А палец? Костенко поморщился:
— «Я с ней танцевал. За поясок ее держал…» Если за ним стоит Сорокин, — от всего откажется, роль вызубрена… Но польза будет, банда станет его мотать, отчего выпустили, о чем допрашивали, кто… Но кто же мог стукнуть Хр… Черт его раздери! — Костенко рассердился. — Кто мог настучать Сорокину про вашего отца? Про то, что именно вы ведете дело Ястреба и Людки?! Почему вообще он подошел ко мне на улице? Почему он держал в машине американца, которого я допрашивал по делу Федоровой и который свалил через месяц после того, как мы вышли на связи Галины Леонидовны? Чего он добивался? Зачем я ему? Или он переоценил информацию, собранную обо мне: «критикует, недоволен медленностью реформы, считает, что растет организованный саботаж правых сил, очевидны попытки скомпрометировать Горбачева, заметна консолидация бюрократической системы, идет наработка подпольных связей в борьбе против демократии и гласности»?! Говорил я так? Да. И продолжаю говорить… Но ведь я по пальцам могу перечесть тех, с кем общаюсь… Щупальца? Спрут?
Костенко полез за сигаретами, глянул в зеркальце, закурил, усмехнулся:
— Заметили номер машины, которая нас пасет?
— Конечно.
— У вас хорошая выдержка.
— Иначе б не выжил.
— Не думаете пропустить тот «москвичонок» вперед и стукнуть его?
— Думаете, у него чужой номерной знак?
— По аналогии с «Волгой» Сорокина — да.
— Остановить возле автомата?
— Нет.
— Почему?
— Голуби насторожатся. И про то, чтобы жахнуть их или, тормознув, поставить задницу, — я не прав. Я наляпал за эти дни массу глупостей… И очень важно, что ваш батюшка вспомнил про то, как сука сострадально показывал ему вашу фотографию… Казалось бы, проходное палачество, но я в этом вижу какую-то отмычку ко всему делу
— Какую именно?
— Не знаю… Просто я почувствовал нечто… Я никогда не умею сказать, Андрей Владимирович… Давайте-ка заедем на Петровку, возьмем лист бумаги и начертим схему: что знаем, что чувствуем, что надо делать: мне — свое, вам — ваше…
— Вместе не хотите?
— Получится — так или иначе — вместе… Только к этому «вместе» надо идти с разных сторон… Ваш отец прав: с фашизмом бесполезно бороться методами парламентского демократизма… Мы кокетки, Андрей Владимирович, мы играем в демократию… Знаете, как в свое время Шеварднадзе нагнул домушников в Грузии? Нет? А очень просто: провел изменение Уголовного кодекса республики и в два раза повысил срок за домашние кражи… Ну, воры и ринулись из Тбилиси… А здесь — «ах, нет, что вы, надо профилактировать преступность, Леонид Ильич правильно говорил: «Народ устал от жестокостей, дадим людям пожить спокойно! »… Дали…
… Свернув с бульварного кольца на Петровку («Москвич» за ними не поехал, газанул к Трубной), Строилов вывалился из-за баранки, Костенко не успел его даже остановить (дуралей, наверняка вторая машина идет следом, контрольная), бросился к телефону, набрал «02». Зря все это. Бандюги сейчас свернут к ресторану «Узбекистан», там можно не только номер поменять, а слона вывести, никто внимания не обратит: в условиях демократии, даже молодой, люди начинают терять рожденный тоталитарностью дух всеобщего внимательного доносительства, думают больше о себе (личность пробуждается), чем о том, как одеты и о чем беседуют окружающие…
— Напрасно вы это, — сказал Костенко, когда запыхавшийся капитан бросился на свое сиденье, яростно газанув, развернулся, чуть не врезавшись в маршрутное такси, и погнал вниз, следом за «Москвичом». — Смысл? Куда несетесь?
Не отвечая (совсем пепельный стал), Строилов сделал круг, проскочил мимо «Узбекистана», свернул к Центральному рынку, в ярости ударил кулаками по баранке и, неожиданно для Костенко смачно выматерившись, пояснил:
— Дежурный по ГАИ начал выяснять, кто я такой, вместо того чтобы номер записывать и передавать тревогу на посты…
— Внове вам? Бисмарк еще писал, что русские медленно запрягают, но быстро ездят… Сначала нас жареный петух должен в зад клюнуть, до этого — неповоротливы мы и спокойны до абсолютной избыточности… Я ж говорил — зря…
Лишь отзвонив по начальству в ГАИ (говорил с едва сдерживаемой яростью, но корректно, выдержки не занимать), запросив Измайлово, не засекли где Варенова (нет, не засекли, как сквозь землю провалился, ищем повсюду), закончив обмен информацией с КГБ — запросил данные на родственников Сорокина, если такие остались, — Строилов ждуще повернулся к Костенко.
Тот поискал глазами большой лист бумаги. Строилов словно бы понял его (как же это часто бывает: чувствование желания собеседника за миг перед тем, как он выразит это словом! Мы еще только стоим перед познанием безбрежных загадок мира, щенки полуслепые, а гонору сколько?! убежденности в собственном всезнании?! исступленной веры в дурьи побасенки?!), достал из ящика убогого стола (только в малоразвитых странах такая мебель в рабочих кабинетах, как у нас) графленый для преферанса лист (ай да кооператоры, ну, молодцы, а!) и убежденно заметил:
— Не умеете на огрызках писать… Я тоже… А за гонки — простите. С обидой не совладал…
— Ничего, бывает… Я через это проходил. Ну, давайте чертить… Вернемся к декабрю восемьдесят первого… Из дела явствует, что Маргарита Набокова, подружка Зои Алексеевны, приехала к ней между двенадцатью и часом с небольшим, так?
— Так.
— Из ее показаний можно сделать вывод, что она ждала под дверью чуть не пятьдесят минут, так?
— Именно.
— И слыхала в федоровской квартире шум льющейся воды, так?
— Так.
— Потом стала звонить от соседей, но телефон Зои Алексеевны был постоянно занят… Верно?
— Да.
— Переносной телефонной трубки в ванной комнате у Федоровой не было, так?
— Верно.
— Значит, по логике, ее именно в это время убивали… Или уже убили… Или убийца просил ее не открывать дверь. Так?
— Так.
— Или она сама почему-то не хотела открыть дверь… Возможно, к ней пришел Гена, просил снова пустить его на постой… Так?
— Так…
Костенко поудобнее устроился на подоконнике, лоб свело морщинами, упрямо шел за мыслью:
— Кто и сколько раз допрашивал ее постояльца Гену из оркестра МВД? То-то и оно… Один раз, потом — ни-ни! Откуда он взялся в доме Федоровой? Кто навел? Кто дал ее адрес и телефон? Назвал администраторшу, а ее и не вызывали на беседу… Все прошло мимо нас… Я ж говорю: только-только приближались к чему-то, что было неугодно некоей силе, нас одергивали: «Занимайтесь расследованием, а не фантазиями…» Но возникает следующий вопрос… И Бронислав Брушинский, старый друг Зои, и артист Москонцерта Владимир Руднев в один голос показывают, что Федорова звонила к ним от часу до трех, сколачивала бригаду для поездки на гастроли в Краснодар… Так?
— На это я не обратил внимания.
— Я ж говорю, почерк у оперов плохой… Я обратил внимание, десять раз дело утюжил… Какой смысл врать этим людям? По-моему — никакого… Да, верно, следов насилия и воровства не было, но не значит ли это, что к версии обыкновенного грабежа нас подталкивал убийца, оставивший на полу гильзу? Профессионал наверняка б забрал… А перед нами разыграли спектакль любительства…
— Почему? Испуг, желание поскорее уйти…
— Верно… Все верно, только почему в районе двенадцати в квартире слышался шум льющейся воды? А когда Федорова говорила по телефону с друзьями, то никакого шума не было? Вроде б только она с кем-то переговаривалась… Кстати, подружку свою, Маргариту, она звала к себе после часа, та приехала раньше… И знаете, что я сейчас подумал? Как-то мой друг из ЧК сказал, что разведчики, желая избежать подслуха, включают воду — никакое радио или телевизор не упасет от звукозаписи, все равно отделят нужные голоса от посторонних, а вот шум воды делает невозможным сохранить смысл того, о чем говорят люди, желающие хранить тайну… Кто-то из наших выдвинул версию, что Зоя Алексеевна, попав в отказ, была связана с организацией, которая помогала деньгами таким же, как и она, несчастным… Я начал крутить эту линию, но поступил приказ — «не надо, ерунда, мы проверяли»… А что, если нынешний Дэйвид, в прошлом Давыдов, был тогда у нее? Или Хренков… Тьфу, Сорокин! А уж эта сволочь наверняка знает, как уходить от звукозаписи…
— Связи не вижу.
— Я тоже пока не вижу, но что-то во мне молотит… Чем дальше, тем больше меня интересует, чем этот советский Дэйвид занимается в Америке. Мы допрашивали по делу Зои племянника Арманда Хаммера, почему-то писали его «Гаммером», и очень большую лису допрашивали, по имени Лев Иосифович Родин, американский бизнесмен русского разлива… Как думаете, можем через них установить нынешнюю профессию Дэйвида, которого возит в «Волге» с чужими номерами садист с плачущими глазами — штурмбаннфюрер Сорокин, он же Хренков?
Строилов, подражая Костенко, ответил с ленцой:
— Мне сегодня в Госконцерте сказали — я наобум лазаря туда позвонил, — что Дэйвид сейчас подвизается в качестве менеджера русскоязычных писателей и актеров.
Костенко усмехнулся:
— Ну, Строилов, ну, сукин сын, умыл меня, губочкой обтер, как младенца! Ну а дальше? Кассетки-то Зоины где?! Где они?! Кому понадобились?!
Спрыгнув с подоконника, Костенко достал записную книжку, пролистал ее, досадливо выматерился, полез в карман, перебрал несколько визиток, нашел нужную, набрал номер и, закурив, присел на краешек стола:
— Алло, товарищ Ромашов? Это Ко… Неужели у меня такой приметный голос, что по первым словам узнаете? Правда? Хм, не знал… Ну, здравствуйте, угрозыск приветствует ЧК… У меня вопрос: не могли бы вы — а если не можете., то кто может из следственной службы КГБ — установить: не имел ли некий Сорокин из бывшего следственного или Пятого управления, ранее называвшегося Секретно-Политическим отделом, осужденный в пятьдесят седьмом за палачество, в личном пользовании пистолет марки «Зауэр»? Я-то? С Петровки… Телефон? Сейчас спрошу… Какой у вас номер, товарищ Строилов? Готовы? Диктую…
… Строилов позвонил Костенко около часа ночи, долго извинялся за то, что так поздно тревожит, наконец объяснил:
— Я бы не посмел вас тревожить, Владислав Романович, но эксперты из Ярославского областного НТО сообщили, что лодку слесаря Окунева подняли…
— Того, который из кооперативного гаража? Что в Саблаге сидел?
— Именно… Так вот, ребята считают, что лодочку его кто-то расконопатил перед тем, как отправить по рыбу… И бензина в мотор залили на самое донышке только б к середине озера выехать…
— Окунев один там был?
— В том-то и дело, что привез его какой-то приятель на «Волге»..
— Только не говори, что это был Сорокин.
— Не говорю. Другой был. То ли кавказец, то ли еврей… Переночевал у той бабки, где всегда останавливался Окунев, уехал затемно, вот все, что пока имеют.
— Ехать туда надо.
— Завтра поутру отправлюсь.
— Вам нет резону… Вы — городской, пусть там районная милиция граблит, они это умеют… Вы меня ждите, у меня завтра архиважная встреча.
С кем — не сказал. Он и не мог говорить об этом никому. Если хочешь сделать настоящее дело, научись молчать, иначе все пробалаболится.
7
— Эмиль Валерьевич, вы мне поверьте, — Варенов снова подался к боссу. Пахнуло перегаром. Хренков поморщился, откинулся на спинку стула; на холеном, сильном лице мелькнуло жалостливое презрение. — Я битый-перебитый, тертый-перетертый, Эмиль Валерьевич, сейчас самое время уехать на отдых! Володя точно формулировал: «лечь бы на грунт, опуститься на дно»… Я это шкурой своей изодранной чувствую…
— Обнаружил за собой слежку? Что-то подозрительное во дворе? Странные телефонные звонки? Если чувство подтверждено фактами, тогда это спасительная интуиция, повод для действия… Если же просто кажется — надо перекреститься, нервы разгулялись… Негоже, Исай, впадать в панику попусту…
Они сидели в обшарпанном общепитовском кафе. Народу не было — утро. Лениво-снисходительные официанты не обращали на них внимания — ни коньячку не просили, ни пивка, чтобы поправиться: кофе, сыр, омлет, три порции студня. Это не клиенты, хотя седой, поджарый, спортивного кроя, лет шестидесяти пяти, в скромном американском костюме и фирменных американских туфлях с медными пряжечками производил впечатление настоящего гостя, — именно такие и выступают по высшему разряду, с коньяком «Варцихе» и десятью порциями черной икры. Да и собеседник его, человек молодой, в элегантной спортивной куртке, джинсах и «адидасах» последней модели, производил впечатление человека денежного. Официант — психолог что твой Фрейд, он от государства зарплату получает сто рублей, а заработать надо тысячу, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, без знания людей, без обостренных женских чувствований клиентов будешь жить впроголодь, как чернь инженерная…
— Ну, вспоминай, — дружелюбно нажал Хренков; лицо непроницаемо, постоянно собрано, глаз не видно, скрывают дымчатые очки «ферарри» (говорят, в странах гниющего капитала такие двести зеленых стоят, страх подумать). — Выскобли себя. Во всем себе самому признайся, сразу гора с плеч свалится. Каждый человек таит в себе нечто такое, в чем ему страшно или стыдно признаться. Но это — дурь! От неуважения к себе такое проистекает, поверь… Помочь тебе? Задать вопросы? Подвести? Может, пьешь чрезмерно? Это убивает в человеке душу, невосполнимо… Похмельный человек, особенно если норовит вином успокоить страх, — находка для противника. Такой и на язык невоздержан, и колется в первый же момент, и подозрителен сверх меры… Вчера где пил?
— У Коли.
— Он один был?
— Один, — очищаясь, с тянущейся готовностью, будто бы даже завороженно, рапортовал Варенов.
— Что пили?
— Коньяк.
— Где купил?
— В «Арагви».
— Когда?
— Позавчера.
— Как попал туда?
— Приехал поужинать.
— С кем?
— Один.
— Кто обслуживал?
— Баба. Новая, я ее не знаю.
— Какая из себя?
— Жирная.
— Сколько лет? Приметы?
— Лет сорока, блондинка, глаза черные, родинка на левой щеке.
— В каком зале сидел?
— В правом, слева от оркестра.
— А до этого? Пил?
— Да. Друг зашел…
— Кто такой?
— Поделец.
— В завязке?
— Да.
— Как зовут?
— Вы не знаете.
— Назовешь — узнаю.
— Вася Казанеленбаум.
Хренков усмехнулся:
— Знаешь, как звучит самая распространенная фамилия русского атеиста?
Варенов расслабился: Хренков ставил вопросы неспешно, но как-то изнутри требовательно, не отрывая постоянно ощущаемого тяжелого взгляда, замеревшего где-то на его переносье; с трудом разорвал нечто, притягивавшее его к собеседнику, и откинулся (но не резко, свободно, а осторожно, ожидаючи) на спинку стула; ответил, откашлявшись:
— Не знаю, Эмиль Валерьевич, откуда мне…
— Крестовоздвиженберг.
— Что, правда был такой? — Варенов удивился искренне, с подкупающим доверием.
— Был, — усмехнулся Хренков, — у нас все возможно… По какой статье этот твой Вася проходил?
— Валюта.
— Больше с ним не встречайся. Валютчиков не только угрозыск пасет, но и ЧК.
— Не мог же я лагерного друга погнать, Эмиль Валерьевич…
— Кстати, подавай на обмен квартиры… И сиди на даче, там же рай, мы ее не зря купили, Исай… И девок вызывай наших, проверенные, ни СПИДа, ни триппера, да и не стукачки, резвись — не хочу! Скажи-ка мне, а после этого самого Крестовоздвиженберга ты ощутил тревогу?
Варенов покачал головой:
— Нет, он здесь ни при чем… Он мне ничего такого не предлагал, не щупал, я б почувствовал… Мне после Людки, ночью, пригрезилось, будто указательный палец у меня резиновую перчатку порвал… Когда мы перчатки жгли, я толком внимания не обратил, но во сне, словно кино показали: торчит палец из этого американского треклятого гондона, торчит, чтоб свободы не видать…
— Вот так, да? — нахмурившись, спросил Хренков. — Пригрезилось во сне? Или убежден, что было на самом деле?
— Не знаю… Если пригрезилось, то уж так явственно, так по делу, что и понять нельзя: было или сон дурной… Но вроде бы я ее за пояс пальцем держал…
— Ладно, — задумчиво протянул Хренков, — хорошо, что выскоблился… Ко мне больше не звони, договорились? Я сам звонить стану — в случае нужды… Не мне учить тебя: сейчас в стране демократия, так что, если вдруг твой пальчик действительно торчал, мы тебя все равно вытащим, только молчи как камень.:. Теперь без вороха улик в суд не отправят. Людку ты драл, как и все, не отрицай этого… И походи-ка завтра и послезавтра по городу… Можешь выступить в хаммеровском центре, где угодно… Хвост увидишь — не реагируй, и проверяйся как можно меньше, живи с расправленной грудью, забудь страх, Исай, перестраивайся…
— Хотите усечь легавых, если они наладили за мной слежку?
— Нет такого термина «слежка». Непрофессионально это… Употребляй слово «наблюдение», так будет грамотно… Но в принципе ты прав, я хочу именно этого… Пить не больше двухсот грамм… Это не просьба. Это — приказ… Технику проверки наблюдателей я сейчас тебе на улице преподам, нехитрая наука, но азы ее знать надо… И последнее, — Хренков достал из кармана несколько фотографий, разложил их на столе. — Этот человек тебе никогда дорогу не пересекал?
Варенов долго разглядывал цветные поляроиды, потом вернул их боссу и задумчиво ответил:
— Черт его знает… Что-то знакомое в облике есть. Если я его видел, то на Петровке, у него глаза мусорные…
— Верно говоришь… Именно на Петровке ты и мог его встречать…
— Он не полковником ли был? В бесах ходил, командовал в сыске?
— Допустим… Фамилию запамятовал?
— Да разве они свои фамилии называют…
— Костенко… Тебе это имя ни о чем не говорит?
— Нет, — ответил Варенов убежденно. — Не слыхал.
Хренков сунул в карман фотографию и поднялся, бросив на стол десятку:
— Запомни это лицо, Исай. Сейчас поработаем часок, потом езжай на дачу, прими элениум и поспи, а в семь можешь начинать гульбу, о’кэй?
Натаскав Варенова на азы установки за собою наблюдения, Хренков расстался с ним возле «мерседеса» Исая, вышел на площадь, остановил такси и отправился в библиотеку Ленина. Оттуда, из курилки, позвонил по телефону и, не называясь, ограничившись лишь раскатистым «добрый день», чуть изменив голос (добавил хрипотцы), сказал:
— Моченов хромает, одному ходить трудно, пусть ему помогают в передвижении начиная с сегодняшнего дня, он с дачи выйдет в шесть, вот бы его и встретить, все же фронтовой друг, кто ему поможет, как не однополчане?!
… Через полчаса по цепи будет передан приказ босса: «Поставить наблюдение за Вареновым. Проследить все его контакты. По возможности сделать фотографии тех, кто его топчет. Главная задача — установить, не пасут ли его службы».
А Хренков в это время сидел в читальном зале для научных работников за книгой и делал выписки из «Истории социального страхования в России» — хотя думал о другом, о главном, о жизни своей думал…
… Оказавшись в Саблаге, пройдя через издевательские побои, он ощутил, как начал крошиться его изначальный стержень. Убежденность, что произошедшее — дурной сон, вот-вот кончится, не может такое длиться долго, сменилась отчаянием: жизнь проиграна, растоптана, пущена по ветру.
Глумление блатных, которые легко перебросили кликуху «фашист» с долбанных пленных, недобитых троцкистов с бухаринцами на него, верного сталинца, отдавшего жизнь борьбе против контрреволюции и запрятанного в глубинную человечью потаенность предательства, именуемого УК «шпионажем», подвело его к грани слома: залезь на нары к пахану, подставь задницу, и побои враз кончатся, позволят покупать в ларьке печенье и маргарин — вот и начнется нормальная жизнь зэка. Что ж, это тоже надо пройти, за одного битого двух небитых дают.
Он замкнулся, ушел в себя, держался, как мог, более всего страшился признаться в том, что рожден в городе Глупове: конвоиры, для которых еще пять лет назад он был богом, истиной в последней инстанции, теперь, усмехаясь, смотрели, как его гоняли урки, смешливо переговариваясь: «Палачей народ метелит!», «Кому служил?». Он все чаще слышал в себе этот вопрос и чем дальше, тем больше убеждался в том, что никому здесь служить нельзя, кроме как самому себе, ибо остальные предадут за понюшку табаку, почувствовав хоть малейшую себе угрозу.
Он ощутил слабый мельк надежды, когда Хрущев отрулил назад, заявив, что он бы с радостью носил сталинские премии, имей хоть одну, воспринял это как симптом — масса не простит дураку замах на Иосифа Виссарионовича, люди чтут самодержца, слюнтяев не жалуют. Людишки хотят иметь над собой твердую руку, которая лишь и указует, как жить, что думать, кого чтить, а кого бить насмерть…
Написал письмо в Москву: «Был, есть и буду верным сталинцем! Признание на суде рождено давлением новоиспеченных чекистов из комсомолят. В лагерях царит террор, урок натравливают против верных дзержинцев, раньше такого произвола не было…»
Из-за его ли письма, из-за других ли писем подобного рода, но в Саблаг прибыла комиссия, — МВД, КГБ при Совете Министров (при — эк изгаляются, только б унизить контору, нет на них Сталина, сразу бы в щели заползли, тараканьи нелюди) и прокурорские работники — всего девять человек.
Когда пришел его черед предстать перед комиссией, сердце ухнуло от счастья: за столом, но с краешку, в незаметинке, устроился полковник Шкирятов (то ли племяш, то ли еще какой родич незабвенной памяти Матвея Федоровича, главы партконтроля, — гроза контры и всех прочих интеллигентишек); знакомы были с сорок пятого, по Венгрии еще, работали под Абакумовым, подчищали вражин, жили душа в душу, только Шкирятов хозяйственными делами занимался, в оперативной работе был слабаком, не всем такая способность отмеряна, особой кости люди, да и крови особой, самой что ни на есть чистой…
В отличие от въедливых прокурорских (вшивари, почувствовали послабление, начали из себя целок строить, вернуть бы наше время!) и медлительных, несколько тяжеловесных — толком еще не сориентировались — эмвэдэшников, отвечавших теперь за порядок в лагерях, Шкирятов и его начальник (этот — из новых, в коридорах не встречался, а может, из провинции переместили в Центр, дай-то бог) не задали ему ни одного вопроса, только строчили в блокнотики, не поднимая на него глаз.
Эти условия игры он принял сразу, нападал на прокурорских: «Произвол, культ личности осужден, а методы остались! Я никого никогда не пытал, свидетелей нет, меня взяли давиловкой и шантажом, не один я маяк потерял, посильней люди терялись, свято веря Сталину!» Требовал пересуда, отмены приговора, как необоснованного: «А пока будет приниматься решение — партия во всем разберется, справедливость восторжествует, зароком тому деятельность нашего ленинского ЦК во главе с выдающимся марксистом Никитой Сергеевичем Хрущевым, — прошу оградить нас, политических заключенных, от преследования уголовного элемента…»
… Шкирятов вызвал его вечером, молча подмигнул, кивнув на тарелку репродуктора, говорил сухо, рублено, давал понять, что беседа фиксируется:
— С вашим заявлением разбираются… Напишите, кто из лагерной администрации проводит политику на раскол среди заключенных…
— Вы уедете, а мне тут жить… Я в своей жизни никого не продавал и сейчас продавать не намерен, — не отрывая влюбленных глаз от лица Шкирятова, ответил тогда он, — не «Хрен» какой, а подполковник Сорокин, сталинец, а значит — патриот. Если б меня перевели из этого гадюшника в дальний филиал, где ссыльные живут, в библиотеку, скажем, и не тыкали всем и каждому моей статьей, — тогда бы я дал информацию. Устную, конечно… А так — увольте…
Через две недели его отправили в лагерь, где сидели бытовики. Часть из них была расконвоирована уже; приносили с воли продукты, водку, теплые носки, деревенские валенки; посадили в библиотеку; началась жизнь; со дня на день ждал отмены приговора, но Никита вдруг снова круто повернул, пуще прежнего попер на Сталина; вскорости, правда, снова отступил — петляет, понял Сорокин, на этом и сломит себе голову! Люди хотят линии, чтоб как рельс была, блестела чтоб и вдаль уходила, а когда сегодня одно, а завтра другое — ржа начинается… Это можно там, где парламенты всякие и конгрессы, а у нас крутить нельзя, у нас надо дрыном по шее, тогда проймет.
Там-то, в тишине и покое, он по-настоящему пристрастился к науке, признавшись себе, что пропустил целую жизнь, относясь к знанию, как к школьной занудине. Только здесь, в лагере, понял, отчего у арестованных интеллигентов в первую очередь опечатывали библиотеки, а после все книги свозили в контору: динамит, страх как рвануть может, если всех до него свободно допускать.
И пуще всех иных наук привлекла его сравнительная история Наводку дал учитель из Тамбова, посаженный за гомосексуализм. Грех его был столь уникален в городе, что даже разбирался на бюро. Кое-кто предлагал судить педагога по любой статье, только не по этой, стыдной, — позор области. Учителя пробовали склонить к даче чистосердечных показаний, которые бы позволили вывести его на пятьдесят восьмую статью, сулили минимальное наказание, но тот твердо стоял на своем: «Не я один грешен, но и Чайковский был таким, и англичанин Оскар Уайльд, готов нести крест за врожденную любовь к брату, не к сестре…»
Он-то и наставлял Сорокина:
— Вы посмотрите, мой сладкий, поглядите внимательно и неторопливо, сколь капризна и недотрожлива амплитуда истории! Растворитесь в ней, поддайтесь ее непознанному разуму, и, право, каторжная жизнь наша покажется вам не такой уж жуткой… Я готов с вами поработать, у вас здесь тихо, устроимся под лампою, станем спорить, как други, и поражаться, будто малые Дитяти, тому таинственному, изначально заложенному в нас, что не поддается никакому логическому объяснению…
Слова пидара лились скользким маслом. Тошнотворный запах, исходивший от него, был омерзительным, но тюрьма — бо-ольшой учитель, быстро наламывает бока: бери разум ото всех, кто рядом, хоть по крупице, но бери, а коли запах гадости, так ртом дыши, за каждую науку надобно платить, ничто само с неба не падает, это только бородатый еврей обещал: «Провозгласим коммунию равных, и все блага мира станут нашими»… Не станут. За них дохнуть надо от зари до зари, чтоб хоть какой интерес получить, а интерес никогда общим не бывает, он завсегда свой.
Сорокин тогда зримо увидел волны российской истории: от ужаса Ивана Грозного, убившего космополитическую новгородскую демократию и затолкавшего в имперскую мясорубку казанских мусульман, чтобы открыть путь в сибирскую Татарию, страна пришла к благостной тихости Федора Иоанновича — ни опричнины тебе вседержавной, ни казней, спустилось на человецев благоволенье Божье… Однако же в затаенной тихости этой вызревал уже дух заговора бусурмана Борьки Годуна. Убил он несчастного царевича, не убил ли, — одному Господу известно, но молва людская единит Московию покрепче указа или площадной казни — раз понесло, что загубил истинного продолжателя династии, — ничем не отмыться, хоть ковром перед народом стелись… Не мы, не подданные, но Бог должен хранить царя, Бог, и никто другой! Мы — малость козявочья, если что и можем, так Богу следовать, куда поведет он нас за истинного государя — туда и пойдем. А умер Годун (или траванули его, поди разберись теперь), и понесло-поехало! Одного за другим скидывали всех, кто царапался на престол: «дай нам Димитрия, он — кровинушка Иванова, от своего все снесем, только б был наш, в кого деды и отцы уверовали»… И только когда Димитрий нагрянул с поляками и стал из-за этого Лже, только пройдя сквозь чумную жуть, выбрали Михаила Романова, и настало успокоение на многострадальной земле… А как воцарился на троне его сын Алексей Михайлович, державший власть без малого полвека, захомутал вольных хлебопашцев крепостным правом, сделав их государевыми людьми (кому крепости служат, как не мощи государства?!), так смог и Смоленск вернуть, и Украину присоединить к Московии! Мужицкие бунты вроде разинского — ишь, пьянь, вольницы захотели! — выжигал калено, голов рубить не страшился, оттого и остался в памяти собирателем. При этом он понимал, что России потребны окна в Европу, но пуще всего боялся скорости — исподволь приглашал в Москву западных мастеров, лицедеев и газетных дел мастеров, но держал их при себе тайно, люду не очень-то показывал, знал, чем может дело кончиться…
И снова, как и сто лет назад, в середине шестидесятых, по смерти его, началась привычная уже катавасия, драка за трон, а точнее — за влияние на него. У нас, как понял Сорокин, влиять важней, чем править… Пока-то Петр Алексеевич набрал силу, пока-то заворочался на удивление пораженной Европе, сколько мути в конце века прошло, сколько крови пролилось?! А ушел Петр — после четверти века правления, — снова буза: те, кого взрастил он, первые же и предали его, а Марта Скавронская, чухонка, стервь, ставшая русской императрицею, завела Верховный тайный совет, где кости трещали у всякого, кто на язык слаб и мнение свое имел, шпионов расплодила, кровушка пошла по державе, ей и захлебнулась, а на смену ей пришел внук государя, угодный боярской оппозиции, и под диктовку светлейшего, Меншикова, сукина сына, отменил все то дедово краеуголье, на чем стала империя. Но и того вмиг схарчили, а уж что дальше пошло, когда бусурманные супостаты правили народом, так и сказать ужас, и шло все, как шло, покуда во дворец не ворвалась гвардия и не привела на трон дочь Петра, нежную Лисафет, и стал мир, и Михайло Васильевич Ломоносов явил себя изумленному человечеству, и сверкали Воронцов и Бестужевы-Рюмины… Но почти ровно век после смерти Алексея Михайловича, деда, преставилась внучка, дочь Петра. И пришел на русский трон сын ее сестрицы Аннушки, рожденный от брака с голштинским принцем Карлом Фридрихом, нареченный в своей прусской неметчине Карлом Петром Ульрихом, ставший в Москве Петром Третьим, женатый на немецкой куколке Софье Фредерике Августе. Он сразу повернулся к своей треклятой неметчине, заключил постельный мир со своей Пруссией, ввел в армии западные порядки, норовил отворить ворота Московии всем своим пруссакам, да не успел: Женушка задавила в одночасье, превратившись из немецкой принцессы в русскую государыню. С тех пор и пошло: тот, кто громче всех об русском интересе вопит, тот и есть нерусский! Династия отныне только именовалась романовской, на самом деле немецкой стала: в наследнике Павле от Петра Великого лишь шестнадцатая долька русской крови осталась, остальная — немецкая… Вот и встает вопрос: мог ли русский, славянский государь (или государыня) пойти на то, чтобы разодрать славянскую Речь Посполиту, легко отдав ее краковское сердце австриякам, а познанские земли — Пруссии?! И ведь снова, — отмечал для себя Сорокин, — именно середина века переломилась, и снова другая история началась — те же шестидесятые, как и в прошлом веке… Вперед-назад, вперед-назад, как словно кто тормозами неразумно балует… Кто?! И в конце века — как в прошлом — началась вакханалия! То Годун хитрил, то Сонька егозила, а тут Павла задушил собственный противник. В пятьдесят четвертом преставился Николай, расстреляв декабристов. В двадцать пятом — века предшествовавшего — убили Петра I, в двадцать четвертом века нынешнего пришел Сталин, раскидав своих противников. В пятьдесят четвертом преставился Николай Павлович, а в нонешнем веке, через девяносто девять лет, Иосиф Виссарионович почил в бозе… В прошлом веке в начале шестидесятых Александр Освободитель даровал землю мужику, а его за это неблагодарные бомбой подняли. А век до того Екатерина пришла… А еще век прежде — Алексей Михайлович помре, и заваруха приспела в одночасье… Так, может, не случайно были эти повторения в нашей истории? Может, следует ждать и ему, Сорокину, нового знамения?
И — дождался ведь! Именно в шестьдесят четвертом, на сломе века, сбросили окаянного кукурузника, а спустя два года его расконвоировали…
Вот тогда Сорокин и сделал для себя главный вывод: никакие идеологии этой Державе не подойдут, не по Сеньке шапки! Надо таиться, ждать свое время и служить тому, кто себя утвердил не погонами и звездой, а делом, то есть золотом, — оно и здесь, в лагере, красит жизнь, дает масло, теплые кальсоны и меховую шапку — о большем в нашей Державе мечтать не приходится, она — прихотливая, живет не разумом, а шальным случаем, с ней ухо надо востро держать, а то расплющит ненароком, не заметив даже…
Обслуживая книгами бытовиков, ведя среди них агентурную работу — не столько на кума, сколько на себя, — Сорокин неторопливо плел свою сеть, рисовал в уме схемы, поражаясь тому, сколь несовершенен разум русского дельца: только б урвать поболее, нахапать, напиться, а потом голову под крыло — и ждать, когда легавые забарабанят в дверь леденящей ночью, — пусть даже на дворе июльская духота…
Он не сразу и не случайно заводил разговоры с зэками. Кум, ставший корешем, рассказывал многое о каждом узнике: кто цех держал, кто с подчиненных взятки драл, а кто сидел в паутине, не шевелился, а ему со всех сторон несли.
— Если сами несли — на чем сгорел? — удивлялся Сорокин.
Кум похохатывал:
— Милый, им бы такого, как ты, заполучить, конспиратора, знающего службу, никто б не прихватил… Но, по счастью, наши люди — кремень, никто не разинется на их икру с «Волгой»…
Сорокин долго прицеливался к дельцам, а потом словно сокольим камнем рухнул на заведующего лагерной баней Осипа Михайловича Шинкина, хозяина семи цехов — в Москве, Днепропетровске, Сочи, Ашхабаде, Запорожье, Краснодаре и Кишиневе.
Слушая его («жидюга пархатый, не хватило на вас Гитлера, и Сталин не успел, все цацкался, суда ждал на Лобном месте, — душегубки надежней»), Сорокин не мог себе даже и представить, что именно этот человек сделается его благодетелем, крестным отцом, наставником в новой жизни.
Именно там, во время лагерных посиделок в библиотеке, они и разработали свою теорию охраны бизнеса, не ведая, что открывали велосипед, заново изобретая структуру мафии: «босс» должен иметь «заместителя», который обладает навыками сыска, понимает толк в агентурной работе, знает, как строить допрос, и не страшится применить такие методы воздействия на представителя чужого клана или того, кого подозревают в стукачестве, которые заставят заговорить самого, казалось бы, сильного человека.
Именно он, Шинкин, продиктовал перед выходом Сорокина на волю адреса своих заместителей по «праву» и «бизнесу», подарил свою фотокарточку с безобидной надписью («это — пароль для них»). Именно он снабдил его паспортом умершего Бренкова Эмиля Валерьевича — родственников не осталось, чистота, проверку на воле провели, документ вполне надежен, живи — не хочу!
Сорокин хохотнул:
— Меня «хреном» урки звали, хочу, чтоб в паспорте не «Бренков» был, а «Хренков».
— В Москве сделают, не штука… Сорокина похорони надежно, с этим именем тебе будет трудно, — тянешь хвост. С одним паспортом тебе, — если дело раскрутишь, — не управиться… И еще: тут, в округе, потрись, с немцами Поволжья дружбу наладь, пригодится, особенно баб ищи, всякое может случиться в жизни…
… Заметив, как лицо Сорокина свело нескрываемо-яростным презрением, когда тот заметил в пятой графе своей новой ксивы слово «еврей», Шинкин хохотнул:
— Привыкай, дзержинец-сталинист! У вашего Феликса Эдмундовича жена не русская была и не полька, да и бог ваш, Карла Марла, — не чуваш, а вы ему до сей поры поклоны лбом бьете… И запомни: не нация определяет человека, но — ум. Тебя не жид сажал, вы в ЧК всех жидов постреляли, но твой же русский собрат… И судил тебя русский… И били тебя смертным боем не жиды, а — твои, кровные… А не хочешь со мной дело иметь, брезгуешь, — других найду, вали отсюда, падла…
Простые эти слова поначалу ошеломили Сорокина своей чугунной, рвущей душу правдой; паспорт молча положил в карман, зная, что при освобождении шмона не будет, — давно расконвоирован, как и христопродавец этот долбанный…
Предъявив — по прошествии года — паспорт «заместителям» Шинкина, получил еще два паспорта и деньги на приобретение дома в Краснодарском крае и дачи в Малаховке (смеясь, называли ее «Мэйлаховка»). Положили оклад в тысячу рублей и поручили работу. Так и начал он плести свою сеть боевиков, осведомителей, «разведку» и «контрразведку» подпольного синдиката, который производил люстры, колготки, водолазки, модельную обувь — миллионные доходы. Государство в упор не видело, чего хочет народ, то есть рынок, а цеховики — видели, жили без шор, не старыми догмами, а извечным, непрерываемым делом.
Именно он, Хренков Эмиль Валерьевич, наладил первый контакт с Системой, зарядив тех, кто имел выходы на охрану права, именно он стал заниматься «кадровой политикой», способствуя проводке нужных людей в начальственные кабинеты министерств и комитетов.
Все шло, как шло. Шинкин, вернувшийся из лагеря, вновь поселился в Кратове, на даче (какая там дача, замок) тещи своей, Аграфены Тихоновны Загрядиной, дело расширил, Хренкову дал премию — двести пятьдесят тысяч и вторую степень инвалида Великой Отечественной. Когда Шинкин пошел на риск и, используя хренковские связи, подал на индивидуальный автотуризм в Польшу и ГДР, Хренков впервые ощутил душное чувство обреченной зависти: страх перед площадью в нем был вечный, в могуществе конторы не сомневался, расколют.
Тогда-то и потянуло его в шик: приобщился к свету, начал обедать в «Национале», а ужинать в Доме кино, — воистину, «не говори, забыл он осторожность».
Там-то, в ресторане Дома кино, к нему за столик и подсела Зоя Федорова — чуть пьяненькая, глаза сужены тяжелой яростью:
— Ну, здравствуй, следователь! Давно я этой встречи ждала…
8
Уже доехав до Марьиной Рощи, Костенко вдруг ощутил в себе страх. Еще в метро он установил, что за ним тащатся двое; он знал, что этих двух должны пасти ребята с Петровки, счетчик включен, операция вступает в решающую стадию. Он был убежден, что переиграет мафиози, запутает их, шмыгая через проходные дворы и чердаки, как-никак тридцать пять лет оперативной работы, полковник Дерковский был отменным учителем, да и Григорий Федорович Тыльнер, ставший агентом угрозыска в ноябре семнадцатого, часто встречался с молодыми, даже после того как ушел в отставку, не говоря уж об Иване Парфентьеве, начальнике МУРа; самородок; блатные его Цыганом звали, может, действительно, было что-то цыганское в его крови — а уж глаза явно ромэновские, пронзительно-черные, с голубиной поволокою, в них постоянно были сокрыты страсть, песня, доброта, ярость, колыбельная нежность, чудо что за народ, цыгане, загадка цивилизации, скорбь о вселенской тайне, игра…
Страх, родившийся в Костенко, был настолько оглушающим, неожиданным для него самого, что он сел на скамеечку, достал из кармана свой любимый «Московский комсомолец» (молодцы ребята, костят что надо, работают во фронтовых условиях, но не сдаются, словно по крику живут: «Великая Россия, но за нами Москва, отступать некуда») и углубился в чтение, хотя строк не видел, слились в штрихованную черно-белость…
С самого начала работы на Петровке, а потом и в угрозыске Союза повелось так, что начальство направляло его на самые боевые участки (бандформирования, вооруженные группы налетчиков — предшественники нынешних штурмовых отрядов мафии, особо опасные одиночки — с пистолетом и финкой).
Постепенно Костенко все более и более ощущал в себе появление обескоженных, порою даже каких-то радарных чувствований. Он явственно видел опасность за несколько дней до того, как приходили данные о том, что действительно именно эта опасность угрожает ему и в том именно месте, которое ему зыбко представлялось. Чем дальше развивалось в нем это качество, тем увереннее он предсказывал погоду на ближайшие два, а то и три дня (впрочем, профессор Юра Холодов, соученик по школе, отдавший жизнь изучению магнитного поля, только посмеивался: «У тебя остеохондроз, Слава, сосудики жмет, а этот индикатор понадежнее барометра, ты не Сафонов и не Кашпировский, живи спокойно»).
Лишь мельком взглянув на человека, он ощущал его скрытые недуги, особенно страшно чувствовал приближение неминуемого конца у раковых больных; смерть Левушки Кочаряна предсказал за месяц до того, как любимый друг их шалой, растерзанной молодости (вот уж воистину «потерянное поколение») сел в свое большое кресло возле окна, в нем и умер — бесстрастно-мужественно. Смерть мужчины должна быть формой продолжения стиля его жизни.
Во время охоты за Скрипачом, который перестрелял пять человек во время налета на кассу фабрики, когда взял семьсот тысяч рублей, поиск привел Костенко в Молдавию. Опрашивать ему пришлось людей самых разных, вплоть до шофера секретаря ЦК Щелокова. Тот, кстати, и рассказал ему поразительную историю: председатель Совмина Константинов занимал роскошный особняк, а в этом особняке, в прихожей с лепниной (музею б тут быть, а не пристанищу бюрократа с челядью) висело четырехметровое зеркало венецианской работы, цены которому не было. А круглосуточную охрану молдавского вождя нес солдатик из глухой деревни; замерз бедолага в своей деревянной будке, продуваемой насквозь сухим зимним ветром, решил войти в прихожую барского дома, отогреться; света нет, только в кухонном окне торчал огрызок окаянно-желтой луны; страж осторожно вошел в святая святых, и первое, что увидел, было лицо человека, пристально и неотрывно на него смотревшего; солдатик сделал шаг навстречу смутно знакомому ему парню, прошептал отчаянно «кто идет?», царапнул заледеневшими ногтями затвор; «стрелять буду!», еще один шаг сделал (колени трясло ужасом), а тот, похожий на него, — навстречу, ну и жахнул из трехлинейки. Зеркало с шуршаще-водопадным грохотом заискрило на пол… Сначала в городе потешались, но — как говорили бабки — не в потехе дело, на зеркало грех руку поднимать, быть беде. И впрямь — через три дня Константинова погнали, надо было крепить интернационал, предсовминовское место завсегда отдавали молдаванину, назначали местного Рудя, и Константинов из-за (этого помер от сердечного приступа, не смог пережить обиды, да и с особняка погнали, как теперь людям глядеть в глаза?!
Костенко навсегда запомнил слова щелоковского шофера: «Можно, конечно, продолжать издеваться над народными приметами, только если народ над ними столетиями не смеялся, значит, резону не было… Битое зеркало — к горю, так было, есть и будет вовек». А что? Правда. Пойди поспорь. Объяснить не можем, оттого и потешаемся: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда».
Когда же я ощутил страх, подумал Костенко. Сегодняшним утром? Нет. В метро, когда обнаружил за собой слежку? Нет. Этот страх жил во мне со вчерашнего дня. Видимо, с той минуты, когда Строилов-старший рассказал, что к нему постоянно звонят. Наверное, я соотнес жестокость затаившихся нелюдей с беззащитной беспомощностью несчастного старика. Да, я за то, чтобы взорвать наши ужасные тюрьмы, пропахшие вековым ужасом карболки, крови, затхлости, и построить Цивилизованные помещения для тех, кто преступил Закон. Разные люди его преступают, по разным причинам, да и государство сплошь и рядом повинно в том, что граждане встают на стезю зла: когда мир незащищенных бедных, которых не тысячи, а многие десятки миллионов, соседствует с миром упакованных, — о социальной гармонии говорить преступно… К милосердию надо взывать, с Богом идти к каждому, кто оказался за решеткой… К каждому? К тому, кто растлил пятилетнюю девочку тоже? Или готовит убийство беспомощного старика? Меня всегда упрекали в гнилом либерализме, но растлителей я бы сажал на электрический стул. Американцы народ верующий, богобоязненный, но безжалостно сажают зверей под ток и — правильно делают. А мы считаем, что, если режим в колониях будет унизительно-беспощадный, это остановит тех, кто освобождается. Не остановит, ожесточит еще страшней, убьет все человеческое…
Нет, сказал себе Костенко, я испугался в тот момент, когда принял решение идти сюда, в Марьину Рощу, к Артисту. Я иду к бывшему (бывшему ли? пойди установи с гарантией?!) вору в законе Дмитрию Дмитриевичу Налетову, окрещенному Артистом потому, что был похож на Николая Черкасова. Он и говорил «под него», и плясал, и стихи декламировал, особенно Маяковского — точь-в-точь как Черкасов в фильме «Весна».
И шел он к нему не в бирюльки играть, а договариваться о том, чтобы Артист включился в дело. С Вареновым, был убежден Костенко, милицейскими методами не справишься, тут надо по-иному, иначе просрем все, а прощения за это не будет…
Имею ли я на это право, снова и снова спрашивал себя Костенко. Возможно ли мне, полковнику уголовного розыска, садиться за стол переговоров с вором в законе, даже имея целью разгром банды?
Во-первых, в который уже раз возражал он себе, я не полковник, а отставник, дистанция огромного размера; во-вторых, Павел Нилин не зря написал «Жестокость» про то, как именно бандит спас ситуацию в далеком таежном районе, разрушив общность своих сотоварищей по банде. А кто сейчас помнит Нилина? Или Паустовского? «Государеву дорогу» Пришвина? Юрия Тынянова? Ольгу Форш? Вот уж, воистину, беспамятство! А «Дикая собака Динго» Фрайермана? Тот же «Март-апрель» Кожевникова? Иваны не помнящие родства, воистину! Или коршуны, кидающиеся на упавшего, — только б свежей кровушкой пахло… Ни в одной стране нет таких зашоренных групп, как у нас: одни не принимают того или иного писателя, оттого что он не с ними, другого — потому что сам по себе, третьего — традициям не верен, а как им быть верным в искусстве?! Были б верны — Пушкина б не имели, он первым стал писать тем языком, которого и поныне нет краше и современней…
Понесло, сказал он себе, стой; не об этом речь. Если я разрешил себе переступить границу служебной этики, которой был верен всю жизнь, тогда надо прыгать в такси и мотать отсюда, чтобы запутать голубей, которые воркуют в ста метрах от меня, переговариваясь о чем-то и придерживая при этом книжечки на крутых коленях. Нельзя прыгать в такси, возразил себе Костенко, словно бы продолжая дискуссию со своим вторым «я», поймут, что я их обнаружил. Уходить надо лениво, путать рассеянно, чтобы их не оставляла уверенность в том, что я ничего не заметил. Главное — ответь себе: имеешь ли ты право на тот поступок, который может дать ключ ко всему делу? Или следует идти так, как велит традиция? И, таким образом, остаться в тупике, темном и безнадежно-глухом? И опасном для людей на улицах, ибо Сорокин и Варенов (а сколько еще с ними? только ли эти два боевика?) будут спокойно жить в городе и продолжать свое дело, которое ежедневно, ежечасно и ежеминутно разлагает не только тех, кто близок им, но и грозит смертью тем, на ком они остановят свой страшный цинковоглазый взор.
Костенко поднялся, сложил газету, сунул ее в карман, поискал глазами урну, не нашел, конечно; втер окурок каблуком, совестясь и за самого себя, а пуще за несчастный Моссовет, и неторопливо двинулся к блочным домам. Артист жил в километре отсюда, возле церкви, там и нырну…
… Дмитрий Дмитриевич Налетов пришел в уголовный мир путем, увы, типическим: отец его, Дмитрий Федорович, в прошлом слесарь Дорхимзавода, был призван в июле сорок первого, когда старшему сыну, Николаю, исполнилось семнадцать, среднему, Василию, четырнадцать, а младшему, Дмитрию, одиннадцать. Жена его, Галина Никифоровна, продолжала работать на Дорхиме уборщицей, на пятьсот сорок рублей в месяц. Николашка, закончив десятилетку, стал учеником слесаря, приносил шестьсот; хватало выкупить карточки — и хлеб, и сахар, и соль, и макароны, и четыреста граммов масла, и кило мяса в месяц. В сорок втором призвали и его. Отец и старший сын погибли в одночасье, под Сталинградом. Осталась Никифоровна с двумя мальцами, в комнате с земляным полом на Извозной улице, без воды и света, всего в ста метрах от Можайского шоссе, по которому летали, как и раньше, улюлюкающие «паккарды» вождей: из Кремля — на дачу, с дачи — в Кремль, к семужке, фазанчикам, буженинке, икорочке и копченостям…
Мать вымолила еще полставки, надрывалась, чтоб можно было выбрать мальцам еду по карточкам, тяжко кашляла, а в соседских домах на Можаечке жили начальники, приезжали на «ЗИСах» и «Эмочках» поздней ночью, раньше двух-трех часов редко. Как великий вождь советского народа уедет к себе, так и они по домам в одночасье — кто одну сумку с продуктами волокет, кто две, а детишки у них румяненькие, ухоженные, голосенки звонкие, веселые, особенно когда во дворе после уроков играют (с сорок третьего налетов не было уже), вокруг пересохших фонтанчиков вольготно детворе, только «извозных» к себе не подпускали, «хулиганье», мол, замарашки рваные…
А как маманя у Налетовых слегла в лихорадочном ярко-румяном ознобе, как заволынили в бухгалтерии с бюллетнем, как принялись гонять мальцов от стола к столу, так Василек замкнулся в себе, лицом повзрослел, особенно, когда врач сказала, что матери нужно молоко с медом и маслом, а его только на базаре можно взять — в обмен на шмотье или за большие сотни, откуда?!
— Господи, — надрывно стонала мать, плохо понимая, что с нею, только кулачки прижимала к груди, жженье там у нее было и мокрота заваривалась, — раньше-то б на паперть вышли, люди добрые б подали, а сейчас и церквей нету, бедненькие вы мои сироты…
Мальчики снова пошли в завод, заняли очередь на прием; выдали две банки американского яичного порошку и буханку хлеба, а что с порошком делать, если подсолнечного масла ни капли нет, на чем омлет жарить?! Да и дровишки кончились, буржуйка третий день не топлена, от земляного пола могилой тянет, холодом…
Вот тогда-то Васек взял длинный столовый нож, сунул его за пазуху и отправился в подъезд, где жили начальники. Время было позднее, сел он на третьем этаже, дождался, когда приехала машина и здоровенный дядька в черном пальто, меховой шапке и бело-желтых бурках засопел по лестнице; вытащив нож из-за пазухи, стал у него на пути (рослый был, хоть и жердь жердью, а шея, как веточка ромашки и, колотясь мелкой дрожью от ужаса, прохрипел:
— Отдай добром жрачку, а то нож суну…
Здоровенный дядька бросил сумку под ноги, Васек подхватил ее и ухнул в темную жуть лестничного пролета, слыша вдогон вопль:
— На помощь! Товарищи, грабят!
… Наутро Васек поменял на толчке уворованные банки шпрот, «Казбек» и связку сосисок на бидон молока, масло и мед; вернулся домой — там участковый сидит; молоко с медом не взял, а Ваську увел. Через два дня в каморку Налетовых пришел пахан — руки в наколках, русалки какие-то да якоря, ни одного родного зуба — сплошь фиксы, бросил к буржуйке охапку поленцев, достал из кармана трубочку денег, перевязанную ниткой, пояснив Димке:
— Братана твоего выслали, мы — подможем… Я пока мать покормлю, а ты валяй в партию, слезу пусти, иди на крик и, пока сюда кого из них не приведешь, — не слезай…
Мать кое-как выходили, пошла на инвалидность. Димка сунулся в завод, но — не взяли, молодой еще, иди учись…
Вот и стал его учителем дядя Женя, вор в законе, домушник.
И пошло-поехало…
… С Костенко жизнь свела Артиста в шестьдесят пятом: задержали его оперы райотдела, но, поскольку Налетов был в розыске, вызвали дежурного по МУРу:
— У нас тут концерт, прямо хоть кино снимай!
… Артиста взяли на малине, хмель не прошел еще; концерт, действительно, давал отменный: и черкасовская чечетка, когда тот в молодые годы патипаташонил, и подражание песенкам Марка Бернеса (оперативники ему гитару принесли), и Мирова с Новицким шпарил, закрой глаза, ну, точно эти самые конферансье изгиляются, один к одному!
Костенко устроился на лавке, отполированной до зеркального блеска задницами задержанных, закрыл глаза и прямо-таки подивился таланту арестованного (три побега из колоний, семь судимостей, вор большого авторитета), позвонил Левону Кочаряну, тот, по счастью, был дома, попросил приехать; взял Артиста под расписку и, вместо того чтобы везти его в тюрьму, пригласил в ресторан «Будапешт», который раньше был «Авророй» и славился как центр всех московских процессов, особенно когда там держал джаз Лаци Олах, лучший ударник Москвы.
Артист попросился на сцену, и Костенко, не унижая его честным словом, пустил, прочитав в глазах вора такую благодарность, что в клятвах надобности не было; выступил; проводили аплодисментами, звали на бис…
Договорились, что Кочарян покажет Артиста своему режиссеру. Он, Левончик, тогда еще не постановщиком был, а ассистентом. Однако назавтра Костенко закатали строгача, Артиста отправили в Бутырки, но Левон смог перебросить ему весточку: «Держись, Слава из-за тебя погорел, отмотаешь срок — жду, постараюсь помочь, ты этого заслуживаешь, место твое — в искусстве, а если и нет, то — рядом с ним».
Артист вышел через месяц после того, как Левона похоронили. В Москве, конечно, не прописывали, позвонил на Петровку, спросил телефон Костенко; увиделись.
— Против стены нет смысла переть, — сказал Костенко. — Дуборылы и есть дуборылы… Я позвоню в Зарайск, у меня там приятель начальник розыска, постараюсь устроить в городской клуб… Образование получил?
— Восемь классов.
— Поступай в школу рабочей молодежи.
— Зарайский угрозыск захочет, чтобы я стукачом у него стал?
— У него своих хватает… А и захотел бы — ты агент сладкий, о таком только мечтать можно, — я бы не позволил, тебя на сцену за уши надо тащить…
— Не выйдет, — Налетов покачал кудлатой седой головой. — Я только под газом расслабляюсь, а трезвый от зрительских взглядов леденею, двух слов сказать не могу…
— Пройдет… И приезжай в Москву почаще, по субботам и воскресеньям приезжай, в концерты ходи, театры… Денег не предлагаю, у самого нет, наймись на какую еще работу, там можно подкалымить… А будешь по театрам ходить — наверняка хорошую бабу снимешь, женишься… Вот тогда иди ко мне, прописку пробьем…
Пробивать ему пришлось не прописку, а отмену новой статьи, которую закатали Артисту. В клубе, где он начал работать, был детский танцевальный ансамбль, детишки занимались всласть, он им и «полечку» ставил, и «краковяк», заканчивали поздно, не хотели расходиться от дяди Димы… И возьмись откуда нелюди — маленькую Ниночку, девять лет всего, крохотулечка, тростиночка с косичками, опоганили и прирезали в осеннем безлюдном парке…
Налетов ждал неделю, две, поиски ничего не давали. Тогда он нащупал малину, купил водки, пришел туда гулять. Феня его была уникальной, провел толковищу с местными урками, получил след и прихватил двух нелюдей — одному шестнадцать лет, другому семнадцать.
Перед тем как казнить псов, отобрал у них показания, все честь по чести, заставил написать, что пили перед преступлением, где время провели, отчего на такое решились. Связав намертво двух сук, неторопливо сходил домой, взял магнитофон и записал их показания на пленку; слушаешь — леденит… После этого спокойно сунул нож в горло, даже лицо не изменилось…
В городе его судить не решились — народ бы отбил; все стояли за него, бабы криком исходили вокруг милиции, из обкома комиссия приехала, с трудом вывезли в Москву.
Костенко поднял Митьку Степанова, тот подключил коллег, драка за Артиста продолжалась год. Мастодонты грохотали: «Самосуда захотели? Может, линчевать начнем подозреваемых?! А где наше главное завоевание — демократическое судопроизводство?!»
Налетов относился ко всему этому шуму равнодушно, словно бы дело касалось не его; от адвоката отказался; на суде вместо последнего слова задал молодой судьихе вопрос: «А если бы вашу доченьку вот так распяли, тоже б процессуальных норм требовали? Или сами б нехристей исполосовали по глазам бритвой? Если скажете, что ждали бы суда, приговаривайте меня к расстрелу, жить в этой сучьей державе не желаю…»
Крутили и вертели, что, мол, он ничего не замышлял, в порядке аффекта все это у него вышло, а он стоял на своем: «Никакого аффекта, все заранее обдумал, ибо знал, что псы получат исправительную колонию, а оттуда выйдут стервятниками, и не одну мою Нинульку погубят, а десятки детишек, виноватых лишь тем, что народились в нашей стране».
Дали ему срок, но через три года помиловали: весь город отправлял каждый месяц по письму, так Костенко общественность научил, у нас главное, чтоб каплей долбить, отписываться бюрократам надоест, придумают что-нибудь…
И снова Артист поселился за сто первым, опять ему Костенко помог. Каждую субботу приезжал в Москву, тут и повстречался с женщиной — в церкви, где заказывал службу по Кочаряну; тихая, маленькая, в очках, преподаватель химии в техникуме, Диана Артемовна. Женился, работал в заводском клубе, стал авторитетом, не воровским — им он был всегда, — а человеческим.
Вот к нему-то, оторвавшись от боевиков, и пришел Костенко, не в силах скрыть нервный озноб, потому что шел он сюда для того, чтобы снова отправить этого человека в тюрьму, на муку и — вполне вероятно — гибель.
… Ночью, когда Варенов, отпустив такси, медленно поднимался к себе на четвертый этаж хрущобы, Артист, дождавшись, когда тот вставил мудреный ключ в сияющий медью финский замок, сделал два кошачьих прыжка с того пролета, что вел на пятый этаж, схватил лицо Варенова так, что указательный и безымянный пальцы правой руки уперлись в глазные яблоки, а левой рукой нажал финочкой ровно на столько, чтобы металл пропорол куртку, и осторожно ввел Исая в темную квартиру, пришептывая:
— Будешь умным — уснешь живым, Варево…
9
… Людмила Николаевна Дрожжина, по первому мужу Сорокина, оказалась очень крупной женщиной. Глаза у нее были водянистые, чуть навыкате, волосы тщательно крашены, хотя седина у корней безжалостно оттеняла искусственную каштановость. На ней был байковый халат, ужасающей — как и все сделанное отечественной легкой промышленностью — расцветки.
Приняла она Костенко в маленькой комнате, заставленной коробками и дырявыми чемоданами, на радиаторах отопления стояли треугольные картонки из-под кефира и молока, повсюду были разложены скукоженные пластиковые пакетики. Закуток утильщика, а не жилье…
На вопросы женщина отвечала поначалу раздраженно, но, видимо, возраст брал свое — старость любит разговор и воспоминания об ушедшем.
— Так ведь я и не хотела на развод подавать — говорила она, стремительно лузгая семечки. — Это его мать, она тогда со мной жила, пилила каждый день: «Выкинут из квартиры, в Сибирь сошлют, подавай, дура, бумаги!» А тут и вправду пришли из ХОЗУ, стали метраж обмерять, будто он и так им неизвестный, пугали… Чтоб словом претензию какую выразить, — так нет же… У нас слова только для того чтоб врать, у нас намеками людей со свету сживают, все кому не лень намекают ну и начинает страх душить… Я — за ручку, написала по форме: и Хрущеву, и Булганину, и Ворошилову что, мол, так и так, меня-то за что?! Дошло, видать, письмо, комиссию прислали, а бабка в одночасье от страха-то и померла… Ну, меня и оставили в покое, только через полгода прислали бумагу, чтоб я добровольно одну комнату освободила… А я что, дура?! Одну освободишь так они и со второй попрут… Вот я и подала на развод, так, мол, и так, не хочу быть женой врага народа… Они перепугались, вызвали меня, говорят, что сейчас врагов народа нет… А потом я за Дрожжина замуж вышла, он сначала у полковника Либачева шофером был, а как всех пересажали при Никите в дежурной части работал…
— Где он?
— Так оппился и в одночасье преставился… Я ж с магазина каждый день то колбаски принесу, то чекушку, то сырку… Это раньше разрешалось, только теперь злоба людей одолела, при Сталине-то начальство понимало, что на семьдесят три рубля зарплаты не проживешь, разрешали брать, только чтоб не беспредельничать: унес на пятерочку или там десятку, но больше — ни-ни, стыд надо иметь, да и потом не в заграницу воруем, не чужим даем, а себе, народу…
Костенко вздохнул:
— С тех пор Сорокина не видели?
— Ни разу…
— Любили его?
— Вообще-то он непьющий был… Культурный… Только один раз ударил, и то — поделом…
— За что?
— Надька ко мне с деревни приехала, соседка… А тогда ж только по справке можно было в город катать… Иначе разве наш народец к работе приучишь? Потому и еда в магазинах была, что деревенским барьер поставили… Ну а она без всякого разрешения прикатила, лекарства для матери хотела купить, хорошая была женщина, Полина Васильевна, как сейчас помню… Мой-то поздно на работу уезжал, не то что сейчас все валом к девяти прут… Он ночью приедет, отоспится, а к себе часов в одиннадцать шел, не раньше… Ну, посидели мы, мадерки взяли, он с распределителя часто ее приносил, разговорились, она и сказала, что, мол, председатель у них людоед, никого в город не пускает, как Гитлер какой… Он ее повыспрашивал — как змей был хитрый, уж так стелет, такой ласковый, так поддается, — а потом меня в спальню пригласил, да и поучил: «Кого в дом пускаешь, такая-сякая?! Чтоб духу ее не было сей миг!» Прав был, конечно, нельзя закон нарушать… Я не в обиде на него за то, что отлупил, он грамотный, лучше меня знал, что можно, чего нельзя…
— Так вы про него ничего не знаете, Людмила Николаевна? Ни письмеца он вам не написал из лагеря, ни посылки не попросил?
— Я как замуж вышла, мне с Сорокиным нельзя было… Дрожжин-то, я ж говорю, шофером на службе остался, приписали б какую связь…
Кивнув на сковородки, маленькие тарелочки, стоявшие на столе, пустые консервные банки, сложенные под радиатором, Костенко улыбнулся:
— Угощать любите? Стряпать?
— Каждая женщина этому прилежна…
— Наверно, когда с Сорокиным были, от гостей продыху не было?
— Да что вы?! Только Либачев с Бакаренкой и приходили… Они ж в те годы новых к себе не подпускали, только чтоб свои! Да и то, мы, бабы, на кухне, а они в столовой, отдельно… У них же все тайное было, мы только тарелки подносили, стюдень, конечно, первым делом, винегрет, колбаску с сырком…
— После того как Сорокина увезли, к вам никто не приходил от него?
Она махнула рукой, колышаще рассмеялась:
— Ой, да что вы! У них и раньше-то, в хорошие времена, когда Сталин был живой, царствие ему небесное, как кого из ихних в подъезде заберут, так они в упор не замечали жену или там детей, наскрозь них смотрели… Так теперь не умеют, опаскудел народ, бессильные все… Почему порядок был? Потому что в каждом был страх! Разве можно без страха жить?! Только страх совесть и хранит… Э, верни Либачева с моим-то, дай им на недельку воли, все б наладилось! И в магазинах было б полным-полно товару! И болтать бы приутихли! И депутатов этих самых в Сибирь бы — заводы строить!
— Думаете, если депутатов сослать — вмиг бы еда появилась?
— А то?! Раньше поди слово скажи! Вмиг захомутали б! Ну и работали поэтому!
— Ну а с артистами как быть? С писателями? Говорят да пишут.
— Так от них вся беда! Еврей-то этот… как его? Жванецкий… Со сцены над нами глумится, а зрители хохочут и хлопают…
— Сорокин вам про Зою Федорову ничего не говорил?
— Как не говорил?! Еще как говорил! Признался, что влюбленный был в нее, когда холостяковал… В нее все мужики были втюренные… Уж так ее любил, так восхищался, даже карточку ее на стене держал, клеем прилепил, потом ножом сдирал, следы остались, обоев-то не было тогда, композитором каким-то заклеили, Будашкиным вроде б…
— А чего же он ее содрал?
— Сказал «так надо». Вопросы ему задавать нельзя, государственная тайна… «Надо» — значит, «надо»… Потом-то уж люди говорили, что она и не Федорова была на самом деле, а какая-то американка, подменили вроде ее, операцию на лице сделали, чтоб сподобней шпионить… Ее ж и убили за то, что на американца шпионила… Кара все одно настигнет, куда б от нее ни прятался…
— Считаете, что и после тюрьмы шпионила?
— А они все, кого Никита повыпускал, шпионили… Обида их грызла, ну и будоражили народ… Не, я верно говорю, без хлыста с нами не управиться, нам строгость нужна, иначе дом по кирпичикам разберем…
… Сестра Сорокина — звали ее Нинель Дмитриевна — оказалась двоюродной, однако брата своего любила очень и гордилась им нескрываемо:
— Зорге Звезду дали, Николаю Кузнецову тоже, а Женю нашего обошли… Он же в тылу врага работал, был грозой гитлеровцев, и взяли его по ложному доносу, никогда и никого он не сажал… И убили его от страха, что он добьется правды…
— Как убили? — Костенко удивился. — Кто?
— Из лагеря письмо пришло, там все было написано: власовская банда его извела… Милка, его жена, от него отказалась, заявление против него отправила, а все его письма — он сначала ей писал — мне переправляла… Я ему только ответила, а тут похоронка…
— Это когда ж случилось?
— При Брежневе уже… Тогда и Либачев освободился, заглянул ко мне, чайку попили…
— Симпатичный был человек?
— Страшный он был, — ответила Нинель Дмитриевна убежденно. — Но я его в этом не виню, его таким сделали… Сейчас их всех костят почем зря, а в чем их вина? Что присяге были преданы? Приказ старшего выполняли? Честно служили партии? Вот пусть партию и обвиняют, она их такими сделала, поди не выполни приказ — это ж преступление! И тогда так было, и сейчас так… Только тогда кричали «Ура, Сталин!», а сейчас «Долой Сталина!», вот и вся разница… Корень не тронули, корень жив…
— А от кого вы узнали, что ваш брат был разведчиком вроде Зорге?
— Милка говорила… Когда она еще его агентом была… Он ведь жениться на ней и не думал… А она его брюхом прижала, мол, понесла от тебя… А она бесплодная, потому что нелеченой венерикой переболела… Я раз увидела у Белорусского мужчину — ну Женя, и все тут! Я за ним… А он не один, с дамой в манто, вроде иностранки, красотка, только больно уж худенькая… Я уж крикнуть наладилась: «Женечка, дорогой» — а он как сквозь землю провалился.
— Это где ж было?
— А как от Белорусского вокзала к Дому кино идти… В костюмчике шел сером, седой, поджарый, точно как иностранец… Я тогда и решила — может, его для хитрости в лагерь посадили? А на самом деле к другой работе приставили… Я там два раза его видала, только второй раз из маршрутного такси…
— Давно?
— А нет… С год тому как…
— Тоже в сереньком костюмчике и в ботиночках с золотыми пряжками, да?
— Неужто он?! Вы знаете его, что ль?
— Нинель Дмитриевна, мне сдается, что под Евгения Сорокина другой человек работает… Только поэтому я к вам и зашел. Та женщина что с ним шла какая была из себя?
— А зачем она вам? Что-то уж больно я разговорилась…
Костенко усмехнулся:
— Теперь не страшно. У вас, кстати, похоронка на брата где?
— Да я ж три раза комнату обменяла! Разве бумажка при таких переселениях сохранится? И потом, даже если б я начала за льготы хлопотать, мне б так и так отказали — только родителям дают, детям да женам… А Милка его мать отравила. Чего ж мне хранить-то? Смысла нет… Ну а та женщина, что с ним шла, была вертлявенькая, рыжулька, по земле как летала и ножки, словно балеринка, ставила — шлеп-шлеп…
… Сын полковника Либачева, кандидат технических наук Револт Федорович, назначил Костенко встречу во время обеденного перерыва у себя в институте. Выслушав вопрос, кивнул:
— Понимаю… Вами, конечно, движет не праздный интерес?
— Отнюдь. — Костенко понял, что с этим человеком силки ставить бесполезно: резкий, реагирующий на каждое слово, он не принял бы игры, говорить надо в открытую.
— Я готов ответить, если смогу…
— Кого из сослуживцев вашего отца вы помните?
— Я должен быть убежден, что мои ответы не обернутся какой-нибудь разоблачительной статьей, где будет склоняться имя родителя…
— Даю слово.
— Я не оправдываю его, никоим образом не оправдываю, но у меня взрослые дети, сами понимаете…
— Понимаю. Поэтому повторяю свое обещание еще раз.
— Я вам верю… Чтобы вам было понятнее то, в каких условиях я воспитывался, расскажу один эпизод… В девятом классе один мой дружок шепнул, что, оказывается, вместе с Лениным в шалаше под Разливом скрывался Зиновьев… А Сталин туда приезжал потому, что ближайшие ленинские соратники — Троцкий, Каменев и Луначарский — сидели в тюрьме у Керенского, в Крестах… Я возьми да и спроси отца — правда ли? Он ответил не сразу, походил по комнате, потом спросил, кто рассказал мне об этом. Я ответил, он кивнул, достал из холодильника бутылку, выпил, закусил квашеной капустой и только после этого сказал: «Как же ты, Револя, позволяешь всякого рода мерзавцам безнаказанно клеветать на Ильича?» А через месяц родителей моего школьного дружка забрали, а его самого сослали за Полярный круг… Он только через девять лет вернулся, когда моего отца посадили, встретил меня возле подъезда и плюнул в лицо… Драться не мог — безрукий, на лесоповале по плечо откорныжило… От него я это снес — по заслуге получил… А когда беда с ним случилась, я отца спросил: «За что ж Леньку выслали?! Неужто ты помог?!» — он снял ремень и меня в кровь исхлестал… Не по заднице бил — по лицу, по шее… Пряжкой, наотмашь, и спрятаться некуда, всюду доставал… А ночью пришел ко мне — я в столовой спал, на диване, — сел в ноги и завыл: «Сыночка, любимый, прости ради господа бога, у меня сердце рвет, за тебя каждый миг страшусь, знаешь, сколько у меня врагов, представь только, скольким нелюдям счастье будет, если тебя в камеру сунут?! Никому ж верить нельзя, сыночка! Миленький мой, пойми это на веки вечные! Ни-ко-му! Каждый у нас предатель, каждый!» Знаете, как он плакал той ночью? Мать его успокаивала, я выл щенком, а он сидел и рыдал, а потом поднялся, взял стул, начал в отдушины заглядывать, а сам себя по голове кулаками молотил — боялся, что записали нас… Несчастный человек, так ему страшно было жить на земле, так одиноко… Я помню, раз к нам его учитель зашел, Ройтман, дядя Мотя, тоже полковник, его уволили из органов в сорок девятом, тогда всех евреев гнали, а потом сажали под гребенку… Никогда не забуду, как отец спрятался за шкаф, а матери шептал: «Скажи, что меня нет дома, не могу я с ним говорить!» А тот слышал все, стоял, посмеивался, а потом крикнул: «Тебя сразу после меня возьмут, дурак!. Лучше б поговорил да и рапорт написал…» И — ушел… Отец вышел из-за шкафа, плюнул под ноги, а после кинулся его догонять, но не смог… Ну, давайте, спрашивайте, времени у меня в обрез, на хозрасчет сели, надо поворачиваться, только так и можно из нашей тьмутараканьей спячки выползти, если не задушат страну квасные недоделки…
— Сходно мыслим, — кивнул Костенко. — Кого из отцовских сослуживцев помните?
— Все на одно лицо… Хотя одного помню… Дядю Женю Сорокина… Это, пожалуй, самый был из всех симпатичный…
— В чем это выражалось?
Либачев удивился:
— То есть?
— Ну, «симпатичность» его…
— Он приветливый был, без подарка не приходил, умел слушать… Когда дядька мой — он был физик — начинал говорить о проблемах науки, слушал внимающе, остальные-то баранами глядели… Отчаянный был — это мальчишкам и женщинам нравится: раз стойку на подоконнике выжал, а мы ведь на шестом этаже жили…
— Он у вас с женой бывал?
— Да… С Кирой… Красавица была, по-английски прекрасно говорила…
— Кира?
— Да… Она приходила к нам лет десять назад — отец уж не поднимался… Тоже умерла… Кажется, они вместе работали…
— Когда отец вернулся, вы с ним о его делах говорили?
— Пытался… Но это кончалось ссорами… Он защищал не Сталина или Рюмина, он себя защищал, свою жизнь… Каково себе признаться, что лучшие годы отдал дьяволу?
— Вы знаете, что он работал по делу Вознесенского?
— Догадывался… Он этой темы избегал…
— И вел дело Федоровой…
— Об этом обмолвился… Сказал, что жалел ее, но американец, с которым была связана, еще в двадцатом году был в России, шпион, работал при штабе Колчака, дружил с адмиралом… А ее, говорил, Сталин поначалу опекал, хотел снова пригласить на дачу… Прямиком из камеры…
— «Снова»? Она бывала у него на даче и прежде?
— Видимо, да… Я отчетливо помню отцовское слово — «снова»… Я, кстати, это допускаю… Сталин не был отшельником, отнюдь… Но, в отличие от Берии, он не был хамом, он, мне сдается, жаждал любви… И когда женщина тянулась к нему, начиналась высокая связь, не скотская… Такую связь держат в тайне — и мужчина и женщина… И потом — это мне отец открыл, — в охране Берии были сталинские осведомители, поэтому перечень женщин, которых к нему таскали, остался в архивах. А сталинского архива не было, все уничтожалось на корню… Сказывался опыт его сотрудничества с охранкой…
— Полагаете, эта версия небезосновательна?
— Убежден… Другое дело: вступил ли он в эту связь с санкции партии? Или же продал душу дьяволу
— Вас не зацепило, когда отца посадили?
Либачев усмехнулся:
— Еще как! У нас всегда бьют по родственникам, институт заложников, высшее проявление людской злобы… Пришлось уехать из дому, работал в тайге, в Сибири поступил в институт, скрыл, конечно, что отец осужден, а когда все открылось, я уж диссертацию защитил, за год управился, у нас, на мое счастье, бюрократия медленная, гниет, а не действует… Я-то еще ничего, а каково несчастному сыну Берии? Прекрасный инженер, честнейший человек, но ведь живет под чужим именем… А чем он виноват? Или сын Ягоды? Того и вовсе расстреляли, когда тринадцати не было… У нас сын отвечал, отвечает и будет отвечать за отца — в этом вся наша вековая жестокость и мелкое неблагородство… Я помню, как родитель, больной уж, его рак поедал, телевизор смотрел, особенно когда артисты разные выступали, поэты… Посмеивался презрительно, ногти грыз: «Дружочки мои! Ишь, как разливаются соловушками…» Да вот еще что, — лицо Либачева помягчело, улыбка тронула рот, — отец, помню, дядю Женю Сорокина «пересмешником» называл… И правда: он так потешно копировал всех, кто сидел за столом, так менялся, изображая людей, что, казалось, в нем жил не один человек, а множество совершенно разных индивидуальностей…
— Он к отцу не приходил после освобождения?
— Так он же умер в лагере… Отцу кто-то из стариков об этом сказал, письмо, что ли, оттуда пришло… Бакаренко, отцов заместитель, тот частенько к нам захаживал… Всегда бутылочку приносил, самогонку сам делал, как слеза была, на травах…
— С Бакаренко давно виделись?
— В прошлом году…
— Как вы к нему относитесь?
— Мне кажется, он только потому не сел, что сдал отца и дядю Женю Сорокина… Трусливый он человек, но — беззлобный…
Костенко не сдержался:
— Этот беззлобный человек комиссара Савушкина галошей бил по лбу и под ногти иглы засаживал…
Либачев не удивился, пожал плечами:
— А чего вы хотите? Если бы он не выбил из него показания — самого б посадили… И галошами б по лбу били, иглы загоняли… Все в порядке вещей… И все это может повториться, если Горбачев не сумеет удержать ситуацию лет десять, пока не придут люди, подчиняющиеся закону, а не пахану… Как считаете — сумеем?
— Если Запад не поможет — провалим… Мы живем в условиях такой бесправной нищеты, что злоба может разъесть страну, как ржа… Только состоятельные люди сочиняют для детей сказки и песни, голодные учат злу и зависти…
Прощаясь, Костенко крепко пожал короткую, сильную руку Либачева-младшего.
— Слушайте, а что особенно любил Сорокин? Книги? Картины?
— Какие книги?! — удивился Либачев. — При чем здесь картины?! Кто тогда об этом думал?! В нашем классе только один я жил в отдельной квартире, все остальные — в коммуналках, по пять человек в комнатушке… Куда книги ставить? Где репродукции вешать?! Он студень любил, вот его страсть! Студень, понимаете?! Я до сих пор такой студень в кулинарии покупаю, хоть в прошлом был раскормлен до безобразия, — отец паек получал, «врачебное питание», так сказать… Мамаша на нем не только дом держала, но и свою сестру с братом в люди вывела… Студень — вот истинная страсть дяди Жени, да еще ансамбли песен и плясок, он танцевал, как бог, все мечтал живую балерину посмотреть…
10
Когда Зоя Федорова подсела к столику Сорокина в Доме кино, он ощутил в голове тонкий, изматывающий Душу писк. Этот рвущий виски писк напомнил тот, что он никогда не мог забыть: первую бомбежку в сорок первом, когда он трясущимися руками дергал веревку черной светомаскировки, то и дело оглядываясь на подследственного, который сидел перед его столом, кажется, военный, готовил его под расстрел, уговаривал взять на себя шпионаж (раньше мотал на связь с англичанами, потом срочно переделывал на гестапо, пришлось переписывать целый том показаний)… Веревка не поддавалась, никто не мог и предположить, что фриц прорвется в московское небо, думали, что очередная кампания с этими чертовыми светомаскировками, повисят и снимут… Арестованный поднялся: «Давайте помогу». Сорокин тогда сорвался от ярости, подбежал к двери, распахнул ее, заорал конвою, чтоб бежали к нему, а сам накинулся на несчастного, сшиб его ударом на пол и начал бить сапогами по лицу, повторяя слюнно-пенно: «Я тебе помогу, фашистский ублюдок, я тебе так помогу, что Лон… Берлин кровавыми слезами заплачет!..» А полковник этот, пока был в сознании, хрипло выдыхал смех — вместе с кровавыми пузырьками, делавшими рот его проститутским, вульгарным: «Лонд-Берлин, ой, не могу, Лондо-Берлин…»
Сорокин перестал бить его, лишь когда ухнула бомба, заглушившая на мгновение лай зениток; прохрипел конвою, справившемуся наконец со светомаскировкой, чтобы утащил контру из кабинета, а сам бросился в подвал, ощущая подвертывающую, разболтанную дрожь в суставах…
… И здесь, в Доме кино, пережив леденящее ощущение безглазого, дурно пахнущего (сладкое тление ужаса), сопровождавшегося все той же — к счастью, никому не заметной — разболтанной трясучкой в суставах, он понял, что если сейчас, не медля, не перейти в яростное наступление, то может случиться непоправимое: актриса чуть поддатая, здесь у ней, суки, все свои, начнется скандал, придут легавые; протокол, «фамилия, имя и отчество», а паспорт на другое имя, вот и конец жизни, больше не подняться, каюк…
… Сломав очередного арестанта, Сорокин обычно переходил на доверительное дружество с несчастным, а они, словно бы отторгая спасительно-выборочной памятью кошмар унижений, бессонницы, пыток, которые предшествовали слому, шли на это, тянулись к нему, полагая, что он, Сорокин, единственное живое существо, с кем они общались в течение месяцев, а то и лет, теперь-то, когда ужас кончился, не может не отблагодарить за те признания, которые несчастный сам и формулировал, старательно выводя буквы ученическим пером.
Именно во время этих собеседований Сорокин, не педалируя, очень мягко, возвращался к самому началу, называл имена людей, вскользь упоминавшихся в деле, заинтересованно и доброжелательно расспрашивал о них, демонстративно закрыв папку: «Это не для протокола, писать ничего не будем, сам хочу для себя разобраться, поговорим, как большевики, — открыто, без страха…»
Особенно интересовали его те, которых жертвы называли в самом начале следствия (еще до применения высшей степени устрашения) в качестве свидетелей, способных подтвердить их невиновность и верность делу великого Сталина.
Когда арестант был сломан уже и подписал все то, что позволяло доложить руководству о раскрытии очередного контрреволюционного заговора (а это автоматом давало повышение по службе, премию, квартиру, а возможно, и орден), надо было создавать задел на новых вражин.
Поэтому, разговаривая за чашкой чая с бутербродом о тех, кого поминал арестант, Сорокин порою лениво выбрасывал на стол протоколы допросов: «Вы на него (нее) надеялись, а вот что она (он) о вас показывает… Нет, не сидит… Дома живет… А вы верили, голубчик (голубушка). Люди, батенька мой (милая моя), животные неблагодарные, это вам не олени какие или медведи, предадут за милую душу, словно бы это доставляет им удовольствие, сладострастие какое-то…»
Не каждый, конечно, арестант ярился на «предателя», некоторые держались, а случайные, кого надо было изолировать по спущенным спискам, на этом сыпались, такие подробности вываливали, столько пикантностей открывали, что о заделе можно было не беспокоиться… Протокола нет, а пленочка-то шуршит серебром, шуршит, навечно закладывает в память казны новеньких вражин. Связь поколений, так сказать. Прав Федор Михайлович: «Социализм — это когда все равны и каждый пишет доносы друг на друга…»
Сорокин, конечно, не помнил имен всех людей, которые упоминались во время допросов Федоровой, но за ресторанным столиком, где сейчас сидели ее друзья, он видел и Татьяну Окуневскую, отпущенную в одно время с Зоей Алексеевной, и актера, чем-то похожего на Жженова, — отгрохотал на каторге долгие годы, и поэтому стратегия атакующей защиты родилась в его мозгу немедленно: высший смысл первых часов ареста заключается в том, чтобы доказать узнику: «Как ни оправдывайся, все равно в тебе есть грех, в каждом есть грех, безгрешные только на небе живут», и на этом смять его, вынуть человеческий стержень, породить в душе мятущийся ужас, полнейшее переосмысление прожитого: действительно, каждый в чем-то затаенно виновен, особенно в той стране, где все законы про «нельзя», но нет — и, дай боже, не будет — закона про то, что «можно»…
Не отрывая глаз от лица Федоровой, он тогда сказал:
— Да и я сюда не просто так пришел, я с вами повидаться пришел… Нет, я не стану сообщать вашим приятелям о наших с вами собеседованиях про них всех — забыли, небось, как мы о вашей подруге беседовали? О Борисе Андрееве? О третьем, что за столиком вашим сидит, Жженов, кажется? Могу напомнить. Архивы у меня, пленочки держу дома, голос-то у человека не меняется — если только не рак горла…
Он заметил, как обмякло тело женщины и в глазах появилось что-то темное, словно кто перед лицом одеялом взмахнул; значит, угадал, попал в точку страха…
— Я никого не закладывала, — сказала Федорова потухшим голосом. — Как вы это из меня ни выбивали…
Сорокин расслабился:
— Фамилию мою запамятовали?
— Имя помню: Евгений Васильевич…
— Это не имя, Зоя Алексеевна, это псевдоним. Кто ж свое настоящее имя арестованному открывает? Хотя, неважно, зовите как угодно… Вы действительно никого не предавали: один на один могу вам это подтвердить… Но ведь пленочку можно настричь так, что и не отмыться… Мы людям верить не умеем, мы документам приучены верить… Так вот, давайте-ка мирно и дружно перенесем наш разговор на тот день, который вас устроит. У меня к вам серьезное деловое предложение, Зоя Алексеевна… Насколько мне известно, вы в Америке процесс против адмирала Тэйта то ли проиграли, то ли не начали, а на кону, как мы слыхали, большая сумма стояла… Вот у меня и возникла идея: почему бы нам с вами не написать книжечку «Палач, адмирал и жертва. Диалог трех жертв двух Систем»? Не отказывайтесь сразу, не надо… Я после смерти Сталина был, как понимаете, демобилизован, работаю в Академии наук, кандидат, есть свободное время и друзья, которые могут предложить выгодный контракт… Не рубите сгоряча, Зоя Алексеевна, подумайте… А я к вам загляну, если разрешите… Дня через два… Хотите — вы ко мне, оставлю адрес…
Он играл беспроигрышно, знал, что к нему она не пойдет, дома и стены помогают; нажал:
— Кстати, ваши непосредственные следователи Бакаренко и Либачев понесли наказание: Либачева нет в живых, а Бакаренко спился, бог шельму метит…
— Били-то меня не только они… Вы — тоже…
— Я спасал вас, Зоя Алексеевна… Вы не знаете, как там били… А у вас и зубы целы, и лицо не изуродовано… Я докладывал Абакумову, что вы стойко переносите воздействие устрашением, значит, действительно не виноваты в самом страшном — в попытке террора против товарища Сталина…
Федорова сгорбилась, руки бессильно упали вдоль тела:
— «Товарища Сталина»… Волк свинье не товарищ…
— Тогда за такие слова вас бы шлепнули в одночасье… А сейчас они — в ваших устах — дорогого стоят, ведь нынешние владыки норовят Иосифа Виссарионовича отмыть, все на Берию валят… Мелюзга, мелкие врали, на этом и сгорят… Что Берия без Сталина мог? Несчастный чучмек, плохо говоривший по-русски… Я вам про ту пору много могу рассказать — с этой стороны баррикады… А вы — с той… Чем не сенсация? И про адмирала у меня сенсация припасена, верьте слову, — обеспечите дочь и внука на всю жизнь…
… И когда через два дня, собрав через свои старые связи всю информацию о Федоровой, ее дочери, о том, что, находясь в отказе, актриса была на грани срыва, он пришел к ней, предварительно обложив квартиру наблюдением, она ему дверь открыла; не сразу, правда, таясь какое-то мгновение около замка, ощущая бессильный, душащий страх, но — открыла все же. Палач, если он настоящий палач, навсегда входит в плоть и кровь жертвы, превосходством своим входит, ибо долгие месяцы он был ее всевластным владыкой, а такое никогда не забывается.
Включив воду в ванной, Сорокин тогда начал первым наговаривать на магнитофон, изредка поднимая глаза на Федорову (она была в синем платье, туфли с замшей, даже грим наложен, молодец старуха, не сдается, женщине и умирать-то надо молодой):
— Да, я палач, — по должности и званию. Я расскажу про то, через что мне пришлось пройти, прежде чем я приказал ввести в мой кабинет гордость советского кинематографа Зою Федорову — глаза громадные, распахнуты миру, ямочки на щеках, растерянная улыбка, известная в стране каждому, — дважды лауреата Сталинской премии, звезду экрана, королеву мальчишеских грез…
Я родился в двадцать первом году. Отец, демобилизовавшись из Красной Армии — он воевал под знаменами конницы Буденного, — вернулся в свою будочку сапожника. В партию его приняли перед наступлением на Львов, которое планировал Сталин. Сапожников было мало, партийцев среди них того меньше, поэтому он примкнул к ячейке коммунхоза и был в городском активе, все большевики шли к нему набойки ставить — свой, так что и заработок был, и напрягаться особенно не надо — до той поры, пока не провозгласили нэп и не поперли изо всех щелей кооператоры… Мать мне уж после рассказывала, какая это была трагедия для отца: «Ленин предал революцию, перекупили его немцы, снова буржуи при деле, а где ж торжество мировой революции?! Всеобщее равенство?! Чтоб никто ни от кого не отличался?! Чтоб все были равны по достатку?!..»
Мать перечила ему: «Так ведь зато теперь голодных нет, Вась! Кто работает до устали, может и булочки купить, и конфетку ребенку, а раньше-то хоть зубы на полку клади…» Отец не унимался: «Пусть зубы на полку, но мое красноармейское сердце не может терпеть, чтоб один форсил в шубе и на пролетке катил в ресторан-кабак, где буржуйские танго играют, а другой — как жевал черняшку, так и поныне ее жрет!» Матушка замечала: «Так ведь укомовские не толь на пролетках, на автомобилях шикарят, и пайки им дают, и барские дома под себя позанимали». Отец отвечал: «Власти так положено! Власть на то и власть, чтоб над нами стоять, сами такую выбрали!» От обиды запил, работы поубавилось, да и активничать начал — как ни вечер, так идет на диспут какой и костит новых буржуев на чем свет стоит… А людям приятно, когда того, кто сноровистее, прилежнее, а оттого — богаче, матюгом кроют и требуют у него все нажитое отобрать… Ясно, такому хлопают и «ура» кричат… Мать моя слова боялась, в России все пуще смерти слова боятся, и не зря, как оказалось… Кто уж там придумал петицию Ленину, не знаю, но отец одним из первых подписался, чтобы нэп отменить, кооператоров посадить в концлагеря, с конфискацией имущества, только чтоб все люди были равны по заработку и чтоб никто не выделялся… Из Москвы приехал комиссар Забуров, предупредил, что это есть уклон, просил одуматься, потому что, мол, самим нам из разрухи не встать, голытьба, надо привлекать капитал и головы деловых людей, пусть хоть они гниды и кооператоры, все равно надо терпеть… Отец — ни в какую! А тут еще Гликман организовал товарищество сапожников, большинство работяг к нему примкнуло, потому что он жратву давал и заказами обеспечивал. Отца, как родительница рассказывала, аж знобило от ярости, пустился во все тяжкие, примкнул, говорила мама, к группе, которая стала тайно печатать прокламации против буржуазного нэпа и кооперации, стал выступать на бирже труда, собирал безработных, зажигал их словом ненависти к тем, кто сыт и одет. На базаре выступал среди тех, кто нэпманские кадки таскал и с утра хлебное вино пивком лакировал, хоть и в запрете был алкоголь… И по этому поводу отец гневался: «Ленин сам не пьет, поэтому не понимает душу нашего человека, не дает завить горе веревочкой, а новый буржуй любой финьшампань добудет, был бы золотой червонец в кармане…»
Ну и докричался: сначала из партии вычистили, а как обиделся и пошел во весь голос костить Ленина с Троцким за измену великой идее, так нагрянули ночью люди в кожанках и увезли отца в ГПУ… Вернулся он через полгода, изношенный до крайности, но — тихий… И сидел на углу бывших Губернаторской улицы и проезда императора Александра Второго, переименованных в улицу Ленина и проезд Зиновьева до той поры, пока Сталин не прикрыл нэп и начал коллективизацию… Вот тогда-то папаша и распрямил спину… В партии его восстановили, поручили проревизовать гликмановский кооператив, он, конечно, постарался и стал после этого начальником горкомхоза… Ну, ясно, ордер нам выдали, занял отец три комнаты Гликмана в большой семикомнатной квартире, жить бы и жить, но, видно, слишком долго его обида терзала, сердце стало шалить. Однако — не сдавался, пил, как пил: тогда ведь ему со всех сторон несли, даже когда голод пришел, как начальнику не потрафить?! От него теперь все зависит — разрешит или нет. У отца в подчинении двести человек стало одних контролеров под семьдесят душ, не то что раньше у кооператоров: три человека в правлении вот тебе и вся бухгалтерия…
Словом, в тридцать четвертом преставился отец, опился, говоря честно… Через пять дней нас с матушкой уплотнили, две комнаты бывший отцов заместитель отнял, а мне уж тринадцать лет было, соображал что к чему, жрать хотел постоянно, а что мать могла дать, когда карточки упразднили?! Раньше, при карточках, хоть что-нибудь обламывалось, а как отменили их, так для нашего уровня людей начался истинный голод, с тех пор про карточки и мечтаем — какая-никакая, а гарантия, что не помрешь с голодухи… Вот и пошел я в шестнадцать лет на завод, как раз в тридцать седьмом это было, тогда и объяснили нам, отчего с продуктами перебои, жилья нет и ботинки нельзя купить… Кто правил страной? Промышленностью? Сельским хозяйством? Вот они, перед вами, на скамье подсудимых, глядите: Розенгольц, Радек, Ягода, Дерибас, Ратайчак, Лившиц, Пятаков… Всех не перечесть… Троцкисты как один, да и нация одинаковая… Правда, про нацию шепотом говорили, намеками, потому что на Мавзолее рядом со Сталиным стоял Лазарь Моисеевич… Но хоть, слава богу, один, а раньше-то — страх и перечислить! Троцкий, Зиновьев, Каменев, Кон, Цеткин — а русские-то где?! Один Калинин?!
В тридцать девятом меня призвали, поучили год, дали габардиновую гимнастерку и синие галифе, повесили уголок и направили в НКВД… До этого я и вправду винтиком был, что скажут, то и повторял, как попка, пойди не повтори, страна притихла, только на митингах все друг перед другом выворачивались, никто чтоб не молчал — круговая порука! Дали мне комнату на Можайском шоссе, восемнадцать метров, пол паркетный, в ванной — газовая колонка, горячая вода круглый день, мойся — не хочу! Мать к себе привез, к больнице ее прикрепил — и души там всякие, и лекарства, и синий свет от бронхита, рай!
Первый допрос я не один проводил, со старшим лейтенантом Либачевым, — он наконец поднял глаза на Федорову, — да, да, с вашим главным следователем, который на меня ногами топал: «Слюнтяй, не можешь от американской потаскухи показаний получить! В белых перчатках решил работать?! Это на фронте стрелять кончили, а мы продолжаем, пока всю скверну не выжжем!» Никогда не забуду первый допрос, Зоя Алексеевна, умирать буду — не забуду… Я ведь парнишкой еще был, двадцать лет всего, несмышленыш…
— Лермонтов в двадцать лет уже был великим поэтом, — возразила Зоя Федорова, зябко слушая исповедь своего палача.
— Так ведь он гений был! Ему культура мира была открыта, потому что по-французски да по-английски говорил, как на родном языке… А я? Что я знал в жизни? Что молчать надо — знал! Не высовываться — тоже знал! Беспрекословно верить тому, кто над тобой сидит, — вдолбили! А разве вы не преклонялись перед Сталиным, как перед богом?
Словно бы сопротивляясь самой себе, Федорова ответила:
— Не то чтобы преклонялась, но, во всяком случае…
— Ах, Зоя Алексеевна, Зоя Алексеевна! Зачем себе-то лгать? Вспомните, как молили меня: «Разрешите написать Иосифу Виссарионовичу! Он не знает, что вы здесь со мной делаете! Он немедленно освободит меня!» Разве не было такого? Запамятовали? Не сердитесь, я ж вас не корю… Когда меня наладились после смерти Сталина исключать из партии, я тоже писал письма «дорогим товарищам», членам хрущевского Политбюро, мы спокон веку челобитные несли вождям, они только и могут спасти и сохранить… Не от Сталина в нас это — ото всей горькой истории нашей… Ну да ладно, отвлекся я… Я ж еще и не начал выскабливаться перед вами, я только подхожу к этому… Так вот, вызвал меня ночью Либачев… Было это, как сейчас помню, четырнадцатого июня сорок первого года… На стуле посреди его кабинетика сидел человек в шелковой сорочке какого-то нежно-кремового, невиданного мною раньше оттенка, брюки на нем были модные, широченные, расклешенные, с серебряной искоркой, туфли, хоть и без шнурков, на босу ногу, но — лаковые, с тупым носком, я такие только в кино и видал…
— Вот, — сказал Либачев, — смотри на этого типа! Смотри и запоминай каждое его слово!
— Я не «тип», а дзержинец, — ответил арестант с довольно заметным акцентом. — Меня в ЧК лично Феликс Эдмундович принимал…
— Один он? — спросил Либачев. — Или еще кто с ним был?
— Были.
— Фамилии, конечно, позабыл?
— А почему вы мне «тыкаете»? Научитесь соблюдать чекистский кодекс.
Либачев задумчиво повторил слова арестованного, словно бы осматривая их, как диковину какую, и чеканно повторил вопрос, перейдя на «вы».
— Фамилии помню, — ответил арестованный, — Артузов там был, Уншлихт и, кажется, Беленький.
— Очень замечательно, — кивнул Либачев. — А Кедрова не было?
— С товарищем Кедровым я познакомился на следующий день… Я с ним работал до двадцать седьмого года.
— Я могу записать ваше показание в протокол?
— Это — можете.
Либачев нацарапал вопрос и ответ, дал подписать, промокнул здоровенным пресс-папье и продолжил:
— А как вы относились к товарищу Кедрову?
— Странный вопрос… Это мой учитель… Большевик, в партии чуть не с начала века, конспиратор, он меня в первую командировку отправлял.
— Когда?
— В двадцать втором.
— Куда?
— Этот вопрос является посягательством на государственную тайну… Запросите мое командование в разведке, если там посчитают нужным — ответят… И объясните: меня вызвали по срочной надобности из Берна, вызвали шифром тревоги, я бросил группу, чтобы повторить здесь сообщение о дате начала войны, а меня — вместо того чтобы начать немедленную работу по переводу группы на новые задачи — держат в камере… Вы хоть доложили Сталину, что я здесь? Товарищу Берии, наконец.
— Доложили… Скажите-ка, у вас никогда не было подозрений по поводу Кедрова?
— Да вы с ума сошли!
— Выбирайте выражения!
— Война вот-вот начнется! О чем вы думаете?!
— Вы утверждаете, что война начнется «вот-вот»?
— Да!
— Кого с кем?
— Нацистов против нас.
— Нацисты — это кто? Дружественный нам рейх?
— Это он вам дружественный, — взорвался арестант. — Вам! А не мне!
— Что ж вы от остальных чекистов отгораживаетесь? Зря, мы тоже дзержинцы… Ладно, это нервы у вас стали шалить… Давайте запишем ваши показания о том, что Кедров — настоящий большевик и что Германия нападет на нас в ближайшие дни… Какого числа, кстати?
— Двадцать первого.
Либачев хохотнул:
— Кто ж войны по будням начинает? Настоящие стратеги войну к воскресным дням приурочивают… Не откажетесь подписать правильность ответов?
— Этих — не откажусь.
Либачев снова промокнул бланк протокола допроса своим пресс-папье и, подойдя вплотную к арестованному, склонился над ним крюком:
— Так вот, «дзержинец» сратый, Уншлихт и Артузов признались в своей троцкистской контрреволюционной, диверсионно-шпионской деятельности и расстреляны! А «товарищ» Кедров идет под трибунал за то, что, являясь старым агентом английской разведки, выполнял задание своих хозяев и сеял панические слухи о предстоящем нападении Германии на Советский Союз! Ты был его человеком — сам признался, за язык не тянули. Поэтому, если хочешь, чтобы твоя семья не оказалась в соседней камере, садись и пиши собственноручное признание: когда и где получил указание Кедрова завербоваться к англичанам, чтобы разрушить союз двух великих держав Европы.
— Вы что, с ума сошли?
Либачев тогда посмотрел на меня так, что я на всю жизнь запомнил:
— Вот как ведут себя настоящие враги… Запомни это… И заставь его говорить… Сейчас… при мне…
У меня даже голос осел:
— Как?
— А так, как тебе подсказывает революционное сознание.
Я подошел к арестанту и, скрывая дрожь в голосе, сказал:
— Наших товарищей пытают в буржуазных застенках… Революция не мстит… Скажите правду, и мы передадим дело в наш пролетарский суд.
— Я сказал всю правду. Я никогда ни к кому не вербовался. Кедров для меня был, есть и останется большевиком.
Либачев обгрыз свои ногти — и без того чуть не до мяса обгрызанные и сказал тихо:
— В зубы только не бей. Он на процессе с расквашенным ртом не нужен. У нас неделя сроку, двадцать второго Кедрова трибунал судит, этот — соучастником пойдет, если не хочет свидетелем обвинения.
— Какие у вас доказательства? — спросил арестант. — Улики какие?
— Ну! — Либачев прикрикнул на меня. — Слабый, что ль?! Или — жалеешь вражину? Вот на него показания, — он ткнул пальцем в папку, — девять человек на него показали, как на шпиона, продажную шкуру, за фунты работал, сволочь! Чтоб отнять у нас все то, что дала революция!
И я, зажмурившись от страха, со всей силы ударил человека в ухо, да так ударил, что он, слетев со стула, остался лежать на полу…
— Из графина хлестани, сказал Либачев, — враз заскребется.
Вылил я на него воду трясущейся рукой, арестант открыл глаза, посмотрел на меня с невыразимой тоской и жалостью, медленно поднялся, сел на свой стул посреди комнатки и сказал:
— А я не верил, что нацизм — заразителен… Ты ж гитлеровец, сынок, самый настоящий гитлеровец.
Вообще-то в сорок первом «гитлеровец» не было обидным словом… В какой-то многотиражке даже напечатали «товарищ Гитлер», чуть ли не на заводе имени Сталина… Но ведь недавно еще мы «Профессора Мамлока» смотрели, «Семью Оппенгейм», там фашистов несли, только в сороковом эти фильмы запретили, но все же обиделся я и еще раз ему врезал — никакой я не гитлеровец, а молодой большевик, ученик великого Сталина, страж завоеваний революции.
И снова он сбрыкнул, но не обмяк, готов был к удару.
— Бейте, — сказал он. — Можете до смерти забить, ничего от меня не добьетесь, клеветать не стану, гитлеровцы поганые.
Тут выскочил Либачев из-за стола и стал его пинать сапогами в пах, живот, грудь.
— Ну чего?! — задышливо крикнул он мне. — Помогай! Что говорю?!
Никогда я не смогу описать, а уж тем более объяснить, как и почему во мне поднялась неведомая дотоле, но все же какая-то родная тьма и забилось что-то давно забытое, но — теплое…
Я не мог сдержать дрожь, бившую меня, будто малярия колотила; в глазах ощутил песок, скулы свело, ужас и шальное ощущение воли сделались неразделимыми, я почувствовал в себе огромную силу, что-то рысье, тягучее, и даже зажмурился оттого, что мысль исчезала, уступая место ознобному, неуправляемому инстинкту…
А потом я ощутил чудовищно-сладостное ощущение всепозволяющей власти — особенно когда и мой мысок вошел в мягкий живот арестанта, корчившегося на полу…
… Умаявшись, Либачев позвонил по телефону и дал команду, чтоб привезли жену арестанта:
— Он молодой, — кивнул на меня, не отводя глаз от серого лица арестанта, лежавшего недвижно, — стенки здесь тонкие, фанера, послушаешь, как он с нею на диванчике поелозит, посопят вдоволь, вот веселье будет, а?!
… Словом, дал арестант показания, поди не дай… Сторговались, что возьмет на себя английское шпионство, но Кедрова закладывать отказался… Кедрова вывели на трибунал двадцать второго июня, когда уж война шла, — судили за «распространение заведомо ложных, панических слухов о подготовке войны Германией против своего союзника — СССР». Судить начали утром, а после выступления по радио Вячеслава Михайловича оправдали… А двадцать третьего забрали снова — свидетель, как-никак… Ну и шлепнули в одночасье. — Сорокин вытер пот, выступивший на лбу, и неожиданно спросил: — У вас доски какой нет, Зоя Алексеевна?
— Что? — Федорова не поняла его сразу, слушала с ужасом, кусая губы…
— Досточка, может, какая есть на кухне? — Сорокин сейчас говорил тихо и спокойно, словно не он только что истерично хрипел в магнитофон.
— Подставка есть хохломская…
— Не сочтите за труд принести, а?
Женщина с трудом поднялась, опасливо озираясь, вышла на кухню, вернулась с хохломской доской, протянула гостю…
Сорокин расставил ноги, положил досточку на колени и, коротко взмахнув рукой, ударил ребром ладони, Доска хрустнула, как кость, выбелило свежее дерево — с той лишь разницей, что открытый перелом только в первый миг сахарно-белый, потом закровит, а дерево — неживое, не больно ему; как было белым, так и осталось…
— Вот так-то, Зоя Алексеевна, — сказал Сорокин. — Это сейчас, когда я не молод уже… Представляете, какая сила во мне была, когда я вас допрашивал? Что бы с вами стало, ударь я хоть раз по-настоящему? Я ж вас жалел, Зоя Алексеевна, жалел… Думаете, снимаю с себя вину? Нет. Я когда с Абакумовым в Венгрии был, книжек запрещенных начитался, начал кое-что понимать про нашу профессию, знал, что план гоним — для пополнения бесплатной рабочей силы! Но я никогда не мог забыть того страшного ощущения, когда сильный, казалось бы, человек, вроде того нелегала из разведки, которого мы с Либачевым уродовали, становился все более подвластным мне, маленьким и беззащитным, а ничто так не разлагает человеческую душу, как ощущение властвования над тем, кто тебя слабее и безответнее… Кого ж мне винить в этом, Зоя Алексеевна? Кого? Вы Сталину верили, и я Сталину верил… Вы своему режиссеру верили — «мол, так играй, а не иначе!» — и я своим начальникам-режиссерам не мог не верить: «Вот показания на вражину — два, пять, десять! А он молчит! А что он по правде задумал?! Какое зло может принести народу?!» Я ж не человека бил! Шпиона! Диверсанта! Фашиста! Разве я вас бил больно? А?
— Не в этом дело, — Федорова судорожно вздохнула. — Боль перетерпеть можно, женщина к боли привычна… Но нельзя передать словом состояние, когда здоровенный мужичина замахивается на тебя, шлепает пощечину, за волосы таскает, господи… Вы ж из меня человеческое выбивали, делали из меня животное…
— А как мне было поступить?! Ведь если б вы не подписали хоть что-нибудь, меня б бракоделом объявили! А бракодел — сродни шпиону! За ним глаз да глаз… Я знал, что такое попасть в камеру… Я знал, что для меня это сроком вряд ли кончится, скорее всего — пулей… Да, да, так! Поэтому мне, палачу, было страшней жить, чем вам, жертве… Думаете, я не знал, что вы ни в чем не виноваты? Знал… Сострадал вам, ох как сострадал! Но что я мог сделать?! Как должен был поступить человек — по профессии палач, который знал, что его жертва ни в чем не виновата?! Если бы он, палач, сказал об этом во всеуслышание, то Берия бы его, палача, превратил в кусок мяса! В отбивную! Дайте совет, молю, дайте! А то мне трудно будет вам рассказывать, как страшно было вести ваше дело, самое, пожалуй, страшное изо всех… Ведь про вас сам Сталин спрашивал, понимаете?! Лично он!
— Господи, да что ж мне вам посоветовать-то? Вы, который мучил меня, лишил материнства, бабьей короткой жизни, вы, который… Вы, тот самый, вы… просите совета у меня?..
Подбородок ее задрожал, глаза наполнились слезами, она отвернулась к окну, и в это короткое мгновение он обнял ее холодным, оценивающим взором, вновь потупился, свел лоб морщинами (он научился менять лицо, особенно — враз старить его) и прошептал глухо:
— Что вы почувствовали, когда вас привезли во внутреннюю тюрьму?
— Стыд, — ответила Федорова без раздумий и, утерев глаза пальцами, вновь поворотилась к нему.
— Что?
— Стыд…
— Это когда вас раздели, обыскивая?
— Да нет… Женщины к этому иначе относятся, мы ж к гинекологу ходим, такая доля… Мне за все стало стыдно… За то, что меня — артистку, которую знает народ, могли затолкать в машину и упрятать в тюрьму… За то, что бессловесная женщина в советской военной форме полезла пальцами… Зачем? Искала, не спрятано ли там чего? Те, кто меня брали, знали, что и одеться-то не успела толком… разве не могли ей об этом сказать? Стыдно стало за то, что нет у нас людей, а только истуканчики, которые следуют не мысли и сердцу, а одной лишь инструкции. Стыдно стало за тот мертвящий запах карболки и затхлости, убогий запах извечной, привычной нам несвободы… За вас мне было стыдно — за то, что мучили меня, зная, что я ни в чем не виновата… Достоевского почитайте… У него все про это сказано… За страну стало стыдно… Только это потом случилось уже, во Владимире, когда я — слава тебе, господи, — с Лидией Руслановой в одной камере оказалась… Там и за нас, арестанток убогих, бывало стыдно, когда баба голосила под окном: «Юноша с лицом слоновой кости, карие глаза! Откуси, отгрызи два моих соска…»
— А страшно было?
— Не знаю, — задумчиво ответила Федорова. — Если б вы все быстро делали, а вы ж по-обломовски работали, изморной ленью брали… Месяцы шли, годы… За это время начинаешь смерти жаждать, как избавления… Наверное, Сталин понял наш характер, когда в ссылке среди русских жил, почувствовал, что хоть мы и неумелые обломы, зато совестливые, стыдимся сказать, когда видим, что не так, боимся словом человека обидеть, страшимся врагом назвать врага — если только не чужеземец он, все думаем, образумится, ошибка вышла… Вот он на хребет-то нам и влез… И разобщил народ на квадратики, чтоб вам его было легче держать под мушкой… И в каждом квадрате радиотарелка с утра до ночи в уши — бу-бу-бу-бу… Одно и то же, одно и то же, а раньше-то этого самого репродуктора никто в глаза не видел, новинка, поди не поверь, если месяцы и годы талдычут одинаковые слова, а кто их не повторяет — исчезает из жизни… Повторяй человеку месяц, что он свинья, — поверит… А тут годы бубнили… Чтоб стыд наш гневом залило и бунт заполыхал, надо такого натворить, чтоб каждого задело — а пуще того баб, у которых на руках некормленные дети и дров нет, чтоб буржуйку растопить… А Сталин все мерил жменей: одного — под пытку, другому — орден, третьему — новую комнату, четвертому — расстрел… Чересполосицей народ разомкнул, поставил друг против друга… Стыдно мне было, — повторила Федорова — только одно и держало, что дочка осталась на воле… Хотя какое там «на воле»… Я была в тюрьме за стеной, она — в тюрьме без стен, разница невелика, гарантий ни у нее, ни у меня не было, не знали мы что такое гарантии, да и не узнаем никогда…
— Ну ладно, Сталин, все понятно, — согласливо кивнул Сорокин, — а сейчас-то вам разве не стыдно, что не пускают к дочке в гости?
— Еще как стыдно… Так мы ж всегда под глыбой державы жили! Не она для нас, а мы под ней… Сейчас хоть, слава богу, нами правит не больной деспот, так что надежда есть, у Брежнева дети добрые…
— Сын или дочь? — рассеянно уточнил Сорокин.
— А это уж мое дело, не ваше…
— Вот видите, — он сострадающе улыбнулся, — размякли, сказали то, что говорить никому не надо… Хорошо, я — как копилка… Все умрет во мне… А если б на моем месте гад сидел?
— А разве вы не гад? — Федорова вздохнула. — Самый что ни на есть гад.
— Мы ж уговорились, Зоя Алексеевна… Я — палач… Но — одновременно — жертва более сильных палачей… И те, в свою очередь, тоже жертвы… У нас виновных нет, у нас одни расплющенные… А ведь стыд есть сострадание… Сталин-то велел вас к себе привезти, на Ближнюю дачу… А вы в несознанке были… Каково Абакумову? А? Вы об нем подумайте! О Берии подумайте! Сталин ваше кино часто смотрел, он «Подруги» любил, повторял, что хочет побеседовать с глазу на глаз…
— Ну и как же вы посмели ему отказать?
— Расскажу. Только вы к нашему следующему собеседованию постарайтесь припомнить, что с вами было в камере в мае, вскорости после праздника Первомая… У нас тогда цепочка получится: вы — я, я — вы… Чем не сенсация?!
После этой беседы он провел тщательную работу: слетал (никому не доверил) в Краснодар, повстречался с нужными клиентами (его группа работала в тесном контакте с начальством из Сочи, имевшим выходы наверх; гарантировали передачу цехам необходимых станков и сырья), договорился со старым дружком, что тот отправит в Москву несколько людей с посылками для актрисы: «Надо побаловать любимицу народа фруктами, не умеем хранить память, оттого и живем в дерьме, найдите к ней подходы по своим каналам, посмотрите, с кем она тут контактовала во время гастролей, оттуда и тяните». Вернувшись в Москву, вышел на тех, кто был знаком с солистом оркестра МВД Геной Титовым, пустил по Москве информацию о том, что он не просто квартировал у Федоровой, но выполнял ряд ее поручений коммерческого характера — купить что, продать, да и, мол, тянуло его с детства к пожилым женщинам, форма эдипова комплекса. Только после того как зашуршало в городе, отправился на вторую встречу, дав задание своей команде искать неудачливого литератора, который сидит без денег, считая при этом, что в его бедственном положении виноваты вездесущие враги, а никак не он сам…
11
— Ты меня хорошо знаешь, Вареный? — переспросил Артист, пробуя лезвие финки о ноготь большого пальца. — Что замолчал? Комбинируешь? Отвечай! Зря мыслью танцуешь, проиграл — толкуй.
— Я ж говорю, по кликухе — знаю.
— Это понятно. Меня все блатные по кликухе знают. Я спрашиваю, как ты меня знаешь? Хорошо или понаслышке?
— Хорошо.
— Кто тебе про меня говорил?
— Леня.
— На Руси полмильона Лень. Кликуха? По какому делу проходил?
— Косой… В Донецке брал кассу…
— В Новочеркасске он кассу брал… Кем ты ему был?
— Я не жопник, не подставлялся… Массаж делал, брюки гладил, подарки принимал как близкий…
— Ну и что он тебе про меня рассказывал?
— Говорил, что вы ему учитель.
— Верно говорил. Значит, если ты ему близкий, то мне ты — флендра, в рот написаю — проглотишь. Так?
— По закону — да.
— Сомневаешься, что ль?
— Я говорю — по закону имеете право.
— По закону я на все имею право. А ты проглотишь?
— Вы мне предъявите, в чем я провинился? В чем предмет разбора? Из-за чего вы начали толковщину?
— Это не толковщина, Вареный… Это процесс… И чтобы ты понял, отчего я заявляю эту толковщину процессом — хотя мне с тобой толковать не положено, ты масенький для меня, такими, как ты, я расплачивался, на кон ставил, — расскажу тебе случай про то, как два авторитета пошли в побег… Они шли через мордовскую тайгу, понимая, что их уже объявили в розыск… Шли по компасу, ели четыре сухаря в день и один кусок вяленого мяса. И однажды ночью к их костру вышел медведь и попер на одного из друзей, и шваркнул его лапой по спине… А второй не потек, схватил тлеющее полено и засадил в глотку медведю и поворотил зверя на себя… А в этот миг я — да, да, я тебе, если дотолкуемся, спину свою покажу — успел выхватить из-под рюкзака штык и засадил его медведю в шею… Я не знаю другого человека, который бы пошел с поленом на медведя, только чтоб друга спасти… Таких людей на этой грешной земле больше нет, Вареный… Таких людей надо оберегать и холить… А вы этого человека убили…
— Кого вы имеете в виду?
— Ястреба.
— Мне эта кликуха неизвестна.
— Это не кликуха. Фамилия.
— Я такого не знал. Зря вы мне выдвигаете это обвинение. Если недостаточно моей клятвы, скажите, когда и где это было, я выставлю алиби, и, если вы мне не поверите, можете пригласить кого хотите для официального разбора.
— Подумай еще раз, Вареный. Я отдаю себе отчет в том, что ты не был скрипачом в этом деле, не ты вел соло, ты шел вторым, стоял на шухере, ждал в машине — это мне понятно… Но то, что замазан его кровью, для меня ясно.
— Жизнью клянусь, не мазался!.. Ничего об этом Ястребе не знаю!
— Хорошо… Что ты делал неделю назад?
— На даче дох.
— На малине, что ль?
— Нет… Мы малин не держим… Нормальная дача…
— А потом?
— Потом был в деле.
— В каком?
— Отношения к Ястребу не имеет. По закону могу не отвечать, другое число.
— Хорошо… Кто подтвердит, что ты дох на даче? Семь дней назад, день и ночь, главное — ночь?
— Нянька.
— Блатная?
— Нет.
— Какая же ей вера? Ты выставь мне свидетеля, который ботает по фене и готов ответить перед нашим законом, я ж не один буду решать, со мной еще два авторитета в деле…
— Официально заявляю: няньку можно взять в толк, она проверенный человек, покрывать ложь не станет.
— Мне нянька не нужна… Мне твой пахан нужен, Вареный. Я ему хочу этот вопрос задать. Если он тебя отмоет и даст мазу, я пойду по другому следу.
— По закону я не имею права отдавать пахана. И вам это известно лучше, чем мне, потому что вы не просто законник, но и авторитет…
— Пеняй на себя, — задумчиво ответил Артист и, не спуская глаз с Вареного, медленно, словно бы с натужной болью, откинулся на спинку стула. — Где телефон?
— А что? — Вареный подался к нему. — Зачем? Кому вы хотите звонить?! Не верите?! Я ж официально клянусь! Абсолютно официально!
— Где телефон? — повторил Артист и поднялся. Он сыграл усталость, позволив Вареному увидать опущенные плечи, обвисшие руки, склоненную набок голову, — все эти минуты говорил с напряжением, сейчас настала разрядка. Ну, прыгай на спину, Вареный, уникальный шанс, я ж к телефону иду, авторитетов вызову, придет твой последний час, не пропусти мгновение…
Он шел медленно, шаркающе передвигая ноги; только б не переиграть; любой вор — артист, только опытный — талантливей, а шестерка — как провинциальный конферансье с прошлогодними анекдотами, разрешенными к публичному исполнению цензурой.
Артист ощутил движение за своей спиной за долю секунды перед тем, как услышал его; пружинисто пригнулся; массивная пепельница грохнула в дверь. Он шарнирно развернулся и принял Варенова на грудь. Тот словно бы летел следом за пепельницей, выставив лобастую голову, чтобы опрокинуть врага, заломать шею, разбить лицо об пол, а потом подтащить к телефону и вызвать своих, для совсем иной уже толковищи.
Артист ударил Варенова ребром ладони по загривку, тот рухнул кулем, распластавшись по полу обмягчевшим телом.
Ухватив Варенова за чуб, Артист поднял его голову, заглянул в побелевшее лицо. Веки дрожали, значит, беспамятство играл. Ударил лицом об пол, раз, два… пять, снова посмотрел на веки: лежали ровно, восково.
Медленно разжал пальцы; голова грохнулась на паркет; пошел в ванную, набрал воды в стакан и заглянул на кухню; телефон стоял на подоконнике, моргала красная лампочка автоответчика; нажал кнопку костяшкой указательного пальца, убавил громкость, прослушал голоса, записал номера телефонов, куда просили позвонить, пошел в комнату и вылил воду на голову Варенова. Тот дрогнул, заскребся. Артист вернулся на кухню, тщательно вытер стакан полотенцем, оставил на столе.
Закурив, неторопливо повернулся: Варенов стоял на пороге, раскачиваясь, как пьяный. Кровь текла по лицу.
— Иди сюда, — сказал Артист. — Снимай трубку и набирай телефон… Винить меня нечего, я упреждал… Или отдай добром Хрена, я с ним толковищу наедине проведу…
Произнося эту фразу, глаз с лица Варенова не спускал, ждал, как отреагирует на слово «Хрен». Тот дрогнул. Попался, сука…
… К Костенко позвонил отсюда, от Варенова, когда тот ушел смывать кровь в ванную, продиктовал телефон:
— Вроде бы сейчас живет по этому номеру…
… Костенко сразу же связался со Строиловым, сказал, что едет к нему, пусть ждет. Строилов дождался, тут же установил адрес по телефонному номеру. Через двенадцать минут туда, на Парковую, отправили бригаду. Через пятьдесят три минуты муровцы засекли неизвестного, вышедшего из дома «объекта». Неизвестный (лет тридцати пяти, блондин, голубоглазый, рост примерно сто семьдесят пять, одет в кожаную куртку и черные брюки, особых примет не замечено, на мизинце правой кисти массивное золотое кольцо) остановил частника и, профессионально проверившись, сел в машину (номерной знак МЕУ 74–81). Машина взяла направление в центр. Возле большого барского дома на Потаповском неизвестный, не отпуская водителя, быстро прошел во двор и скрылся в подъезде двухэтажного строения. (После Октября во дворах красивых ампирных громадин, законченных как раз накануне переворота, таких уродцев понатыкали во множестве; и старорежимную красоту приятно изговнять, мстительно пригнув до уровня безликого равенства, да и в графу «заботы о повышении благосостояния трудящихся» вполне вписывается реляция про то, что увеличили Жилфонд, — в такую трущобину можно вселить двенадцать семей, на каждую — по комнате, экономия налицо: одна стена — капитальная, барская, три других — в один кирпич, не замерзнут, батарею поставим.)
В строении «неизвестный» пробыл не более пятнадцати минут. Наружка, оставленная на Потаповском, приняла в наблюдение молодого парня, вышедшего из темного подъезда через минуту после «неизвестного». Две машины продолжили прослежку частника. «Неизвестный» расплатился с ним возле дома семь на улице Строителей, вошел в четвертый подъезд. Судя по тому, что зажглись окна на третьем этаже, он жил в квартире номер двенадцать; установили имя и фамилию: Владимир Аркадьевич Никодимов, сорок четвертого года рождения, русский, не судим, образование незаконченное высшее, работает на договоре в москворецком торге, разведен; жена, Никодимова Валерия Юрьевна, сорок девятого года рождения, инструктор Росконцерта по организационным вопросам.
Парень, вышедший следом за Никодимовым, был взят в наблюдение под кличкой Длинный. Его довели до Варсонофьевского переулка. Там жила Валерия Юрьевна Никодимова. Пробыв у нее десять минут (устанавливать не пришлось, на двери была табличка с фамилией и инициалами), Длинный вернулся домой в двадцать три сорок семь и больше никуда не выходил. Фамилия Страхов, зовут Геннадий…
Установку по жильцам всех квартир на Парковой (судя по номеру телефона, который дал Артист, там жил Сорокин) Костенко и Строилову принесли в пять утра на чердак дома, стоявшего напротив того подъезда, из которого вчера вечером вышел Никодимов. Нужных фамилий — ни Сорокина, ни Хренкова — среди жильцов не оказалось.
— Что будем делать? — спросил Строилов.
Не отрываясь от окуляров бинокля, Костенко ответил:
— Ждать.
… Ждали до восьми.
— Глаза не слипаются? — спросил Строилов, растирая лицо своими донкихотскими, длиннющими пальцами.
— Слипаются.
— За кофе, может, съездить?
— Потерпим.
— Хотите отдохнуть?
— В лицо его знаю один я…
— Думаете, мог бороденку отпустить?
— Мог… Судя по всему, у него очень развито чувство опасности… Но я не могу взять в толк: зачем ему следить за нами?! — Костенко опустил бинокль, закурил, потер покрасневшие глаза и недоумевающе, с нескрываемой растерянностью поглядел на Строилова.
— Я постоянно задаю себе этот же вопрос.
— Кто ему мог рассказать, что вы теперь ведете дело Ястреба? Кто?
— Об этом знают восемь человек, все наперечет…
— То-то и оно… Оттого и страшно…
Костенко снова уперся в окуляры бинокля и сжался: Хренков, он же Сорокин, неотрывно смотрел ему в глаза — протяни руку, тронешь.
— Он, — прошептал Костенко.
Строилов неожиданно для самого себя съежился, опасливо поднес к губам «воки-токи» и прошептал:
— Человек в спортивном костюме — тот, кто нам нужен. Не спускать с него глаз. Делайте фотографии. Докладывайте о маршруте постоянно…
… Строилов-старший посмотрел на мокрые еще фотографии человека в спортивном костюме, трусившего по улице, откашлялся, положил пергаментную руку на птичью свою грудь и тихо сказал:
— Это он, Сорокин, мой следователь…
В десять часов тридцать минут Валерия Юрьевна Никодимова зашла в кабинет своего начальника с текстом телекса в Нью-Йорк. Адресат — Джозеф Дэйвид. Американца срочно вызывали на переговоры о концертном турне советских актеров по Соединенным Штатам.
В одиннадцать сорок Костенко подвезли с Петровки домой — отключиться хоть на пару часов, не спал всю ночь.
Во дворе было чисто, в подъезде тоже. Однако взгляд его — тренированный, всезамечающий, особенно в ситуациях экстремальных — отчего-то задержался на деревянной дверочке, закрывавшей электрическую и телефонную разводку на лестничной клетке. Костенко даже не понял, что его кольнуло; зашел в пустую квартиру, прочитал Маняшину записку про то, что и в какой последовательности надо подогреть, вынес табуретку на лестничную клетку («вот ведь ужас, какие слова напридумывали, а?! сами себя к тюрьмам толкаем, — «клетка»; какая же у нас чудовищная, беспросветная судьбина»), осторожно встал на нее, приоткрыл зелененькую дверочку пошире и сразу же заметил возле своей разводки маленькую пластмассовую присосочку; надел очки, зажег спичку; «Мэйд ин Гонконг»; («Вот так номер! Значит, и мои разговоры пишут?! Кто?!»)
… Вместе со Строиловым приехал эксперт из НТО. Пока смотрел присоску и «пальчики», капитан, выпив чашку крепчайшего кофе (бессонная ночь сделала его лицо серым, глаза, окруженные сине-желтым, провалились, такие у здоровых людей с тяжкого похмелья бывают), заметил, хрустко потянувшись:
— Заезжал ваш знакомец Ромашов, из комитета, сказал, что нам высылают все материалы следственного дела по Сорокину… Пистолет у него был… Именно «Зауэр»… Подарен лично Абакумовым… Изъят при аресте, где находится сейчас — неизвестно.
… Позвонили с Петровки:
— Добрый день, товарищ полковник, это дежурный по…
— Я сплю, — перебил Костенко, — позвоните через два часа…
— Так к вам же капи…
Костенко осторожно положил трубку на рычаг, пояснив:
— Не надо знать тем, кто нас слушает, что капитан Строилов находится сейчас у меня… Интересно, определит эксперт, куда подтянут этот телефонный жучок? Или он может передавать текст моих разговоров на расстоянии?
Оказалось — на расстоянии, до километра; сиди себе в машине и катай на диктофон. Ну бандиты пошли! Ну техническая оснащенность! Сыщикам бы такую!
Костенко зашел к соседям, оттуда позвонил на Петровку. Дежурный сообщил, что Злой (так называли Сорокина в сводках наружного наблюдения) был прописан на Парковой под фамилией Витман. После пробежки был дома, никого не принимал, только что вышел из квартиры и в настоящее время приехал в Безбожный переулок, к Пшенкину Борису Михайловичу, литератору…
В два часа позвонили из Ярославля: фотографии Никодимова и Страхова, переданные по фототелеграфу в редакцию областной газеты, предъявлены той старушке, у которой останавливался слесарь кооперативного гаража Окунев и его неизвестный спутник. Старушка (Цыбунина Анна Максимовна) опознала в Геннадии Страхове человека, приезжавшего вместе с ее покойным постояльцем. Однако после того, как к ней зашли соседки, показания изменила, сказав участковому, что это не точно: «могла и ошибиться, глаза-то старые, слепые»…
В три часа Строилов собрал оперативное совещание; прежде чем идти с докладом к высокому начальству, решил связать все эпизоды воедино, постараться выработать версии; первое слово предоставил Костенко.
Тот поднялся, оглядел членов оперативной группы (мальчишечки совсем, лица хорошие, с такими можно идти в разведку; куда тебе в разведку? отходил; а может, нет еще?), горестно вздохнул и, спросив у капитана разрешения закурить, начал докладывать:
— Я признателен нашему руководителю, капитану Строилову, за предоставленную возможность поделиться своими соображениями по тому узлу проблем, который ва… нам предстоит развязать… А не выйдет — будете… будем рубить… Итак, первый осмотр квартиры Зои Алексеевны Федоровой, проведенный двенадцатого декабря восемьдесят первого года, показал, что в комнатах не было следов борьбы, насилия и грабежа. Обстановка в шкафах и тумбочках не была нарушена. Найдены пустые коробочки из-под колец с товарными ярлыками — от тридцати до трехсот пятидесяти рублей, изъяли двенадцать кассет, бывших в употреблении, — лежали в тумбочке возле кровати, нашли сберкнижку на имя Федоровой — вклад сто девяносто семь рублей восемьдесят девять копеек… В стенке — при тщательном осмотре — найдены еще две кассеты, «Лоу Войс» и «Панасоник», кулон желтого металла с белым камнем, брошь, перстень. С журнального столика изъят отпечаток пальца на дактилоскопию. В корреспонденции, лежавшей на пианино, обнаружено четыреста сорок рублей, десять золотых коронок. Около балкона нашли изделия из белого и желтого металла: шесть пар запонок, подвеску, серьги, кольца, браслеты… Что-то еще было — точно не помню… На следующий день осмотр квартиры продолжался… Нашли конверт с двумя тысячами рублей, еще несколько колец, гарнитур из браслета, двух колец и кулона… Следовательно, версия грабежа должна была отпасть сама по себе… Однако кто-то сверху требовал работать именно эту версию… Почему? У меня нет ответа… Незадолго до гибели Зоя Алексеевна получила письмо… Вскрыв его она обнаружила свой портрет из журнала — с выколотыми глазами; там же была записочка: «Грязная американская подстилка, тебя ждет именно такая смерть за предательство Родины!». Вскорости она получила еще один свой портрет с идентичной записочкой… Заметьте, выстрелили ей в затылок, пуля вышла через глаз… Однако версию политического убийства нам отрабатывать не давали… Один из допрошенных мною сотрудников ВЦСПС — он посещал несколько раз Зою Алексеевну — обличал ее в своих показаниях: «Я слушал разговоры тех людей, которые у нее собирались, — о пытках, расстрелах и мучениях в так называемых «сталинских лагерях» и словно бы погружался в грязь. Однажды я не выдержал и сказал: «Как вам не смрадно жить прошлым?!» В ответ на это она обозвала меня стукачом и сексотом… Больше я у нее не бывал…» Одна из допрошенных показала: «Федорова очень плохо говорила о товарище Сталине — даже после того, как убрали Хрущева и снова начали писать правду, каким великим стратегом был Иосиф Виссарионович. И вообще у нее слишком часто бывали какие-то странные типы… Раз я у нее встретила отвратительного еврея с длинным носом… Может, ее сионисты убили?»
Строилов усмехнулся, процитировав злую эпиграмму на одного литератора: «И сам-то ты горбат, стихи твои горбаты, кто в этом виноват? Евреи виноваты».
Костенко кивнул:
— Тем не менее мы и эту версию пытались отрабатывать… А вот ее квартиранта, солиста ансамбля песни и пляски МВД некоего Геннадия Семеновича, нам удалось допросить только один раз; сверху жали: «хватит, надоело, не туда гнете»… Он утверждал, что познакомила его с актрисой — в семьдесят седьмом году еще — администратор московского эстрадного объединения общества слепых, а у меня были сведения, что эту самую администраторшу кто-то аккуратно к солисту подвел… Кто? Я вышел на краснодарский след, тоненький, пунктирный, но — многообещающий… Однако из Краснодара позвонили руководству, скорее всего Медунов: «Не цепляйте честных людей»… Я не утомил вас, товарищи?
Ответили, как школьники, завороженным единым выдохом:
— Не-эт!
— Ладно, — хмуро улыбнулся Костенко, — пойдем дальше… От этого самого квартиранта Гены я вышел на некоего «Олега» и «Викторию Ивановну» из Свердловска… Вроде бы она — работник Ювелирторга, сделала Федоровой гарнитур за пятнадцать тысяч рублей, как раз на ту сумму, что актриса выручила от продажи своей дачи… Но ведь, судя по осмотру места происшествия, гарнитур этот похищен не был… Мне и эту линию оборвали — не приказно, конечно, а, как говорил великий кормчий, «тихой сапой»… Ну и, наконец, главное, «Олег»… Тот ли это был «Олег», которого называл квартирант, или нет, выяснить не удалось — не дали. Об этом эпизоде я говорю вам первым… Время настало… Не потому, что гласность, но из-за того, что произошло в Москве за последние дни… Итак, «Олежек» этот был артистом, гастролировал от Москонцерта, ездил с цыганскими ансамблями, с грузинскими, армянскими, кажется, еще с еврейскими и молдавскими… «Олежек» говорил — и я эту информацию получил, — что его друг Борис Буряца, артист Большого театра, продал одному из тузов уголовного мира, скупщику краденого, некоему «Федору Михайловичу» кулон работы Фаберже за двадцать пять тысяч… А некий студент Ленинградской духовной академии поведал, что у Бориса Буряцы, который пользуется покровительством какой-то очень важной дамы по имени Галина Леонидовна, дома хранится на миллион рублей антиквариата и пистолет, похожий на «Зауэр»… Я эту информацию отправил своему начальству… Те перебросили по инстанции. Прошло часа три, и меня выдернули: «отдайте материалы». Я возразил — мол, не по правилам; не понял еще, о ком шла речь; врезали выговор, информацию отобрали… Но ведь память отобрать нельзя… Так что — я помню… А на следующий день я еще одно сообщение получил: тот же «Олежек» говорил друзьям, что о Зое Федоровой, о том, кто ее окружает, информирован Борис Буряца… Вот так-то… А он, Борис, после скандального ареста, связанного вроде бы с похищением бриллиантов у Ирины Бугримовой, укротительницы тигров, и последовавшего затем довольно скорого освобождения прожил недолго — где-то в поездке, уж не в Краснодарском ли крае?! — занедужил внезапно, попал на операционный стол и умер в одночасье, а ведь молодой еще человек, все свои тайны унес, а их было много, ох как много… И я их знаю…
Костенко снова полез за сигаретой, извинительно глянув на Строилова. Тот пожал плечами:
— Владислав Романович, не ставьте меня в неловкое положение, вы здесь старший…
Костенко закурил и, сильно потерев затылок, продолжил:
— Теперь давайте посмотрим, что произошло десять дней назад… Все бы шло, как шло, не подойди ко мне человек, представившийся Хренковым Эмилем Валерьевичем… Ну подошел, ну пригласил поработать в кооперативе, ну назвал нашего общего знакомца Мишаню Ястреба… Все бы ерунда, не разгляди я в его машине Давыдова, которого допрашивал по делу Зои Алексеевны, — говорил я с ним на свой страх и риск, без протокола, оттого как он вертелся вокруг Буряцы и его сотоварищей, а также «дамы-покровительницы»… И когда я пришел сюда — посмотреть, что осталось от дела Федоровой, — выяснилось, что Давыдов этот теперь стал «Дэйвидом», причем чудодейственно быстро, без всяких препятствий свалил в Америку — через месяц после убийства… За него, как я выяснил, похлопотали: сверху было указание, то ли от Щелокова, то ли от кого еще… Ясно? Вот поэтому я и запросил данные на Хренкова. Но того, который ко мне подошел, в столице среди Хренковых не оказалось… Пришлось сделать робот. Сначала робот опознал Мишаня Ястреб: «садист-следователь, арестовали в пятьдесят седьмом, били смертным боем в Саблаге, называя Хреном». Потом опознал генерал Трехов, который и Зою Федорову освобождал, и следователя ее сажал… Я, именно я, попросил Ястреба найти мне подходы к Хрену, который назвал «свой» кооператив… А по случайности в этом кооперативе работала подружка Мишани, и, видимо, Ястреб нашел — скорее всего, через Людку — эти самые подходы, за что и был убит… И Людка — тоже… Практически одновременно… А затем — убрали слесаря гаража Окунева, где хранилась машина, с которой снимали номерной знак… Тоже, кстати, чалился в Саблаге… А затем батюшка нашего руководителя, генерал Строилов, назвал фамилию робота — подполковник бывшего МГБ Сорокин, Евгений Васильевич. Поэтому я вновь и вновь задаю себе вопрос: отчего Федорову не пускали в гости к дочери? Кто именно? Она не хотела эмигрировать, мечтала повидать дочь и внука — всего лишь. Почему раньше ее пускали в Штаты, а потом превратили в озлобленную отказницу?
Я задаю себе вопрос: почему спустя восемь лет после убийства актрисы ко мне — вполне конспиративно, чувствуется профессионал — подошел Хренков, он же Витман, он же Сорокин, имевший прямое отношение к той трагедии, которая в конце концов и разметала ее семью? Почему вместе с ним был Дэйвид, завязанный на Бориса Буряцу? И тех, кто его окружал, поддерживал, двигал? Я задаю вопрос себе: отчего в квартире Федоровой было так много магнитофонных кассет? Я посмотрел книгу Виктории Федоровой «Дочь адмирала». Почему мать не рассказала ей о том, что она обратилась с просьбой об освобождении своего отца к Сталину? Именно к Сталину, а уж после возник Берия… Это мне подтвердил и народный артист Юрий Медведев во время нашей беседы, это же он повторил на допросе у инспектора угро 40-го отделения Карасева — пятого февраля восемьдесят второго года… Многие свидетели утверждали, что Зоя Федорова жила довольно стесненно, но, как любая мать, мечтала помогать дочке и внуку — поэтому так много гастролировала, — нужны были деньги… Покупала — для этого же — золотишко и камушки… Так говорили — фактов нет… Опрошенный тем же инспектором Карасевым друг Федоровой — они вместе работали на картине «Иван Никулин, русский матрос» в сорок третьем году еще — утверждает, что Виктория за свою книгу получила в Штатах двести двадцать пять тысяч долларов, ни в чем не нуждалась… У одного из допрошенных писателей проскочило утверждение, что во время поездки к дочери Зоя Алексеевна намеревалась обратиться в суд с иском к отцу Вики адмиралу Тэйту — он вроде бы использовал ее откровения, опубликовав их без ее на то согласия: в случае положительного решения суда она бы получила сто тысяч долларов неустойки… Эта линия тоже не отрабатывалась… Впрочем, сие понятно: мы не входим в Интерпол, дикари…
Снова спрашиваю себя: зачем я, знающий о деле Федоровой больше других, понадобился Сорокину и Джозефу Дэйвиду? Странный симбиоз садиста из бывшего МГБ и так называемого импресарио из Нью-Йорка… Причем понадобился я им вскорости после того как вышел в отставку, на пенсию, отнюдь не «райскую», а всего лишь полковничью. Ну а все дальнейшее вам известно… И про то, как за мною поставили слежку, и жучок к телефону, и как звонят к генералу Строилову, странно звонят, почерк чувствуется соответствующий, манера сороковых годов, абакумовско-рюминская школа нагнетания ужаса, расшатывания человеческой психики. Сорокин, он же Хренков, он же Витман, — под контролем, Никодимовы — тоже, никодимовские боевики — выявляются. Наблюдатели, что за нами топают, установлены. Версия убийства слесаря гаража Окунева отрабатывается… И — главное: ждем прилета Дэйвида. Как с ним построить комбинацию? Или — сразу брать? Так ведь МИД не даст — улик нет, я б на их месте тоже был против… Что прикажете делать?
Строилов осторожно кашлянул, прикрыв рот узкой ладонью:
— Видимо, сначала вы расскажете, как удалось выйти на адрес квартиры Витмана-Хренкова-Сорокина, Владислав Романович…
Он смотрел на Костенко, не мигая, лицо было замершим и бледным — до синевы.
Старый дурак, сказал себе Костенко устало, когда же ты отучишься влюбляться в людей с первого взгляда? Мало себе лоб бил? Ну, отвечай, закладывай Артиста, предавай его, он же тебе верит, как Богу, а Богу все прощают, даже измену…
12
Брежнев, Андропов и Щелоков жили на Кутузовском проспекте, в одном доме и одном подъезде — на третьем, пятом и седьмом этажах.
Эти три человека, являясь членами ЦК одной партии, членами «парламента» одной страны, были притом индивидуальностями совершенно разными, друг друга взаимоисключающими.
К заговору против Хрущева секретарь ЦК Андропов, отвечавший за связи с компартиями социалистических стран, примкнул на самой последней его стадии, после того уже, как Никита Сергеевич, разыгрываемый Сусловым, провел новые постановления против крестьянства, когда секретарям сельских партячеек и руководителями райкомов (сельскохозяйственных) было приказано развернуть кампанию за сдачу коров колхозам: «объясните народу, что более выгодно получать бесплатное молоко на ферме, чем мучиться с кормами, пасти, вручную доить». Так по самой идее крестьянского хозяйства был нанесен еще один хрясткий удар. С тех пор и пошли неводить Москву «плюшевые десанты» — крестьяне, которых отучили работать так, как они привыкли спокон веку. При Сталине они жили и помирали в деревнях беспаспортными крепостными, в город — ни-ни, за это каторга светит, только какие сорвиголовы, окаянные смельчаки рисковали прорываться в столицу, чтобы купить колбасу да сыр — узнает кто из соседей, в тот же миг напишут куда следует, ну и «воронок» тут как тут — восемь лет по Особому Совещанию за «экономическую контрреволюцию». Но когда Хрущев разрешил несчастному классу-кормильцу получить паспорт, гарантировавший свободу передвижения по стране, но при этом вновь начал отнимать у бесправных хозяев коров и свиней, когда землепашец получил взамен за это возможность взять в городе масло, сметану, колбасу, не вкладывая в товар ту любовь, сладостную усталость, силу, поэтическое рассветно-закатное время, что вкладывали его дед и бабка, ситуация в стране изменилась кардинально; еще более хрустко затрещала казарменно-плановая экономика, начались закупки зерна за границей.
Подталкиваемый аппаратом к сталинско-сусловской догматике, Хрущев повторял на каждой «встрече с тружениками села», что лишь избыточные бюджетные вложения государства изменят облик деревни, только трактора, грузовики, гигантские агрогорода, элеваторы, фермы, оборудованные по последнему слову техники, определят перелом в сельском хозяйстве.
Он запрещал себе понимать (да и Лысенко рядышком, захотел бы — не позволил, обладал распутинской магией, действовал на Хрущева как удав на кролика: когда дочь пыталась говорить, что Лысенко — хуже шамана, Никита Сергеевич багровел, разве что ногами не топал, хоть детей своих нежно любил), что лишь одно может спасти крестьянина: гарантированное право собственности на землю, скот и корма. Ленин, введя нэп, не вложил в сельское хозяйство ни единого червонца — просто на смену продразверсточному грабительству пришел разумный налог. И признательный крестьянин уже на второй год продналога ответил стране тем единственно, чем мог ответить, — изобилием продуктов, ибо труд только тогда в радость, когда видны результаты его, коими ты, хозяин, вправе распоряжаться по собственному усмотрению, а не по приказу чиновного рыла.
Андропов изучил все работы Ленина, написанные после введения нэпа; особенно тщательно конспектировал его кооперативный план, но постоянно соотносил это с ситуацией в Венгрии (эпизоды будапештского восстания отложились в нем навечно. Синдром этой памяти жил отдельно от него. Он никогда не мог забыть, как побелело лицо сына, когда тот увидел на фонаре, перед воротами резиденции, тело «Пишты», их служителя по дому дяди Иштвана, повешенного за ноги; мальчик постоянно играл с ним в шахматы. Он всегда помнил последнюю встречу со сталинским гауляйтером Венгрии Матиасом Ракоши. Тот задумчиво говорил: «Вы сами еще не понимаете, что натворили на двадцатом съезде…» Тем не менее, когда дети подросли, Андропов убежденно повторял: «Однообразие — противоестественно. В равной мере это приложимо и к социалистическим моделям»). С одной стороны, поработав в европейской Венгрии, он видел воочию, сколь результативны кооперативные и единоличные хозяйства, но, с другой, будучи явлением, сформировавшимся в сталинское время, он не мог отказаться от той схемы, которую вдолбили всем и вся в стране: «лишь через совхозы и колхозы, а никак не через Личность пахаря, общество может прийти к благосостоянию».
Он еще не был готов к тому, чтобы предложить свою доктрину (все мы по каплям выдавливаем из себя рабов, да никак выдавить не можем — сколько лет уже, чуть не весь двадцатый век!), но и не мог соглашаться с тем, куда повернул Хрущев: началось новое отчуждение крестьянина от последних остатков собственности, хоть и бескровное, отличное от ужаса коллективизации, но, тем не менее, безнравственное по своей сути, форма цивилизованного сталинизма (если, впрочем, таковой возможен). И если кровавый вихрь коллективизации (точнее — уничтожение крестьянства как основополагающего фермента общества) можно было свалить на инокровный элемент, злокозненных и вездесущих жидомасонов, пробравшихся в ЦК в Октябре семнадцатого или того ранее (вокруг Ленина много юрких роилось), то на кого сваливать эксперименты шестидесятых годов, когда страной правили русские и — в какой-то мере — украинцы?
Примкнул к антихрущевскому заговору Андропов и потому еще, что Никита Сергеевич, героически провозгласивший (наперекор могущественным адептам жесткого курса) борьбу со сталинским культом, сам начал сползать в реанимацию этого же культа: три геройские Звезды, фильмы, посвященные его семидесятилетию, симпозиумы ученых о его теоретическом вкладе в сокровищницу марксистско-ленинской мысли, премии мира — все это было чуждо Андропову и как политику, и как личности.
Зная незлобивость Брежнева, лояльность по отношению к коллегам, сентиментальную чувствительность (это, кстати, несколько пугало, лидер должен быть логиком, открытым всем точкам зрения и поэтому чуждым сантиментам, которые таят в себе примат личных привязанностей), Андропов все же решил поддержать его, тем более что тот обещал полную свободу рук Косыгину с его экономической реформой, призванной передать предприятиям права на действия, а не на слепое выполнительство пробирочно спланированных приказов, спущенных из центра…
Первую зарубежную поездку Брежнева и Косыгина в социалистические страны организовал именно он Андропов.
В передачах Центрального телевидения было видно невооруженным взглядом, как давил Косыгин, — своей неторопливой убежденностью, точностью формулировок и совершеннейшим спокойствием, в то время как Брежнев страшился камеры, фразы вязал с трудом тушевался, хотя внешне явно выигрывал, — широкая улыбка, ямочки на щеках, заинтересованная доброжелательность. Косыгин был сух, с годами его сходство с Керенским сделалось совершенно разительным, одно лицо, разве только не было постоянного порыва, столь свойственного первому русскому социалистическому премьеру.
В следующую поездку Брежнев отправился уже один: Косыгин явно мешал ему. Андропов не просто почувствовал это, он это узнал от своих коллег в социалистических странах. Тогда именно он и написал свои грустные стихи: «Бывают всякие напасти, да, люди часто рвутся к власти, но и такая есть напасть, что люди сами портят власть»
Аналитик, он понял стратегию Брежнева, когда тот подтянул Щербицкого, битого Хрущевым Рашидова — подружились в Средней Азии; Кунаева, который работал с ним бок о бок во время «ссылки» в Казахстан после смерти Сталина; передвинул из ВЦСПС на Москву Гришина, одним из первых начавшего славословие нового вождя; ввел в ЦК Романова, поставил на важнейший отдел в аппарате Черненко — стародавнего помощника, работавшего под ним в Кишиневе; оттуда же перетащил Щелокова, поставив его на ключевой пост министра охраны порядка, обладавшего правом отдавать приказы внутренним войскам и дивизии имени Дзержинского, расквартированной в Москве.
Именно тогда Андропов впервые задумался о державной концепции «стаи». Сталин захватил руководство вместе с теми, кто был с ним на критических рубежах истории. Молотов в семнадцатом еще занимал, как и он, антиленинскую позицию в вопросе войны, мира и сотрудничества с Временным правительством. Тащил Ворошилова, Буденного и Мехлиса, работавших с ним в Царицыне, откуда их всех вместе с треском отозвал Ленин; двигал вверх Маленкова и Ежова, прошедших обучение в его секретариате.
Так и Брежнев начал собирать своих, именно тех, кто был верен ему лично. Воистину инстинкт стаи. Хрущев на такое не шел. После того как убрал Молотова, Кагановича, Маленкова, Булганина, Шепилова, Первухина, Ворошилова и Сабурова, всю сталинскую рать, работал с теми, кого вынесло наверх, не очень-то конструировал свое большинство, полагался на то, что пришедшие вновь — с ним, и не потому, что он их назначил, но оттого только, что верны предложенному им курсу… Лишь с Жуковым и Фурцевой он поступил по-византийски, потеряв, кстати, в их лице своих наиболее надежных сторонников… (Не тогда ли Суслов начал плести силки дворцового переворота?!)
Анализируя неторопливую, аппаратно-кадровую политику Брежнева, его кошачьи, осторожные подвижки, Андропов понял, что тот работает методами Сталина, — поры двадцатых годов, когда все перемещения верных людей в конструировавшейся партийно-государственной Системе осуществляли Каганович и Куйбышев, ведавшие личными листками, хранившимися в оргинструкторском отделе ЦК на Воздвиженке.
Поняв это, Андропов предпринял первую попытку спрогнозировать будущее: Брежнев, видимо, плавно спустит на тормозах решения XX и XXII съездов; чувство благодарности было присуще ему; Сталин был его кумиром времен войны, Сталин переместил его из Кишинева в Кремль, сделав секретарем ЦК, он не станет завершать начатое Хрущевым дело, он, наоборот, отдаст должное памяти великого кормчего, народу это угодно, дрожжи традиционного самодержавия и оскорбленного в своей вере чувства народа («мужик, что бык, втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не вышибешь») дадут ему, продолжателю великого дела, политический барыш — «прилежен памяти». За это одно многое простится и спишется, особенно когда экономика затрещит по всем швам.
Андропов не ошибся в прогнозе — дело пошло именно так, как он и предположил…
Оставаясь секретарем ЦК по связям с социалистическими странами, Андропов продолжал отстаивать линию XX съезда. Это был вызов — молчаливый, корректный, но совершенно очевидный.
Убирать Андропова — всего через два года после октябрьского заговора — было не так-то просто: новый вождь обещал аппарату спокойствие и стабильность, он должен держать слово. Спасла матерь Византия: либерала переместили на площадь Дзержинского.
Андропов ответил по-своему: «Ни одна политическая акция — будь то процесс типа Синявского и Даниэля, размещение ракет на Кубе или операция в регионе Среднего Востока — не может быть осуществлена без соответствующего решения Политбюро. За деятельность Комитета отвечает партия, она же обладает правом и обязанностью постоянного контроля, как, впрочем, и Прокуратура Союза».
Этот его мягкий ультиматум, аккуратно упакованный ссылками на труды Ленина, было трудно не принять.
Приняли, полагая, что Цвигун и Цинев смогут предложить новому председателю свои условия игры, профессионалы, на них лежит вся текущая работа, поди уследи, что делается во всех кабинетах Дома.
(Он, тем не менее, услеживал; стань любой другой на место Андропова, в стране бы полилась кровь, как в тридцатых. В России порою куда важнее не дать свершиться массовому террору, чем сделать решительный шаг вперед к прогрессу. Рискованно, чревато откатом в прошлое, ужас стал привычным, благо — зыбко-загадочным, страшно в него верить.)
Став председателем КГБ при Совете Министров, аккуратно лавируя между Косыгиным, Сусловым и Брежневым, Андропов, тем не менее, смог убрать странно звучавшее «при». Появился КГБ СССР. Войдя в Политбюро наравне с Громыко и Устиновым, они создали свое, наиболее оперативное подразделение в Системе, даже на трибунах кремлевского зала сидели вместе, «могучая кучка», триумвират.
Понятие «текучка» Андропов исключил из лексикона, замкнул дела на себя.
Именно ему на стол пришла информация о генезисе Щелокова: приехал в Москву с множеством планов по реконструкции системы внутренних дел, повороту к общественности, связям с творческой интеллигенцией, но постепенно его окружение начало создавать вокруг новоявленного генерал-полковника ореол выдающегося партийно-государственного деятеля. Начались подношения — на первых порах безобидные хрустальные вазы с портретами ко дню тезоименитства, уникальные ружья, а там уж до японской аппаратуры недалеко, до «мерседесов», «БМВ», квартир родственникам… У Брежнева было сто семьдесят своих, прикрепленных к кремлевскому спецпитанию. Щелоков прикрепил к министерскому спецбуфету всех родственников. теща, Галина Ивановна, гоняла шоферов с пайками: «У, власть ваша паскудная, даже колбасу не умеет сделать нормальной, один крахмал! Пожить бы вам, как при царе-батюшке люди жили!»
Выходить с этими сигналами на Брежнева было невозможно: тот держал на даче подарочные «роллс-ройсы», по двести тысяч долларов каждый, гоночные звероподобные «альфа-ромео» и штучные «даймлеры»… В коллекции ружей хранились «Черчилли», «Пёрде», «Перле», нет им цены. Потом пошли подношения изумрудами, бриллиантами, сапфирами — в доме повешенного не говорят о веревке…
… Несколько раз Брежнев вызывал Андропова, ласково уговаривал его принять погоны генерала армии, большую Звезду. Тот отказывался наотрез, не входило в систему его представлений о личности современного политика. (Сын, Игорь, подарил ко дню рождения одно из первых изданий Плеханова о роли личности, самый дорогой подарок, перечитывал в который уже раз.) Брежнев сыграл обиду: «В какое положение ты ставишь меня, в конце-то концов?!» Андропов пожал плечами: «Но я никогда эту форму не стану носить». «Да ходи хоть в пижаме!» — Брежнев усмехнулся. А вскоре такие же генеральские звезды получили Щелоков, Цвигун и Цинев — всех уравнял Леонид Ильич, никакой разницы между членом Политбюро и рядовыми членами ЦК. Вот как надо сажать либералов на задние лапы, вот оно — искусство византийской власти…
Андропова, как и всех в стране, шокировали геройские звезды нового вождя, литературные и прочие премии, не меньше, чем фильмы о Щелокове, снимавшиеся к его очередному юбилею. Он все чаще вспоминал октябрь шестьдесят четвертого, слезы Хрущева на Пленуме ЦК, и в сердце его рождалось ощущение трагической и непоправимой безысходности…
Он трудно скрывал свое отношение к Щелокову. Первому лицу, увы, был обязан — правила игры; держался, как мог, но именно потому, что внешне держался вполне спокойно, не имел права выплеснуть, болезнь шла вовнутрь, жгла его, каждодневно и ежечасно пепелила. Особенно резко обострилась в семьдесят пятом, когда Шелепин разослал членам Политбюро записку о новом культе — на этот раз Брежнева… Поддерживать Шелепина было поздно уже: окруженный Кириленко, Сусловым, Кунаевым, Щербицким, Романовым, Гришиным, Тихоновым, Гречко, Черненко, Щелоковым, вождь теперь был недосягаем. Пришла пора игры: не перечить, когда выносилось постановление об очередной звезде, не возражать против публикации теоретических трудов о выдающемся вкладе в сокровищницу, но, наоборот — зная о настроениях в массах — способствовать этому шабашу честолюбия, нацелив себя на будущее. Воистину, приказано выжить…
Однажды, занедужив, Андропов приехал домой днем. Возле лифта толкались три милицейских чина, генерал и два подполковника: загружали огромные вазы, оленьи рога, живопись (портреты щелоковской жены и невестки). Вспомнил, что секретарь утром оставил на столе записочку, — у министра внутренних дел сегодня день рождения. Поздравлять — мука, говорить обязательные в таких случаях слова — язык не повернется, учиться начальственно-лакейской науке не уважать себя было противно его существу. Поступаться можно многим, только не основополагающими принципами. Решил дать телеграмму; впрочем, это еще рискованнее — Щелоков немедленно покажет всем: «мы с Андроповым неразливанны»…
Он держал в своем огромном сейфе (остался в кабинете от Дзержинского) оперативную информацию не только на Гречко, Рашидова, Кунаева, Щелокова, с Запада приходили сообщения и о других, о Первом Лице тоже: когда, где, кто, сколько.
Этой информацией Андропов не мог делиться ни с кем. Она жгла руки и рвала сердце. Порою его охватывало гулкое, безнадежное отчаяние.
Желание выйти на трибуну Пленума становилось все более неподвластным ему, хотя он прекрасно понимал, что тщательно подобранное большинство освищет его и сгонит с позором, прокричав при этом начальственным уголовникам, обиравшим страну, подобострастное «многия лета», — а внутренние войска Щелокова позаботятся о том, что должно произойти следом за такого рода выступлением.
Все чаще и чаще он ощущал себя пленником обстоятельств. В ушах звенело постоянно повторяемое Сусловым и Брежневым: «Только психи могут выступать против того спокойствия, которое наконец воцарилось в стране; несчастным надо помогать в больницах». С каким трудом удалось спасти от психушки Виктора Некрасова?! Генерала Петра Григоренко травил лично Епишев, ставленник Брежнева, второй человек в Министерстве обороны, комиссар: «Сумасшедшего надо лечить, он не ведает, что несет!»
Сын и дочь принесли Андропову книги Бахтина — дворянин, репрессированный, ютился в каком-то крохотном городишке, жил впроголодь.
Андропов прочитал книгу Бахтина в воскресенье, а в понедельник приказал найти квартиру для писателя: «Нельзя же так разбрасываться талантами, это воистину великий литературовед».
Позвонили от Суслова (непонятно, кто настучал?!). Разговор с Михаилом Андреевичем был достаточно сложным, главный идеолог считал Бахтина опасным, чересчур резок в позиции, бьет аллюзиями. Андропов, однако, был непреклонен: «Михаил Андреевич, я подчинюсь лишь решению секретариата ЦК, речь идет о выдающемся художнике, не так уж у нас много таких, истинную цену «выдающемуся стилисту» Маркову вы знаете не хуже меня».
А на стол каждый день поступала информация о крахе экономики страны, о тотальной коррупции и взяточничестве, но при этом мелькали такие имена, которые составляли цвет брежневской гвардии, его надежду и опору, — табу, не тронь, сгоришь!
Глухой ропот в народе и был ропотом — не страшно, пусть себе, главное, чтоб недовольство не оформилось в идею, не стало Словом. А Словом владеют интеллигенты, кому Бог силы не дал — наградил умом, а ум — разрушительная сила, от него горе, верно Грибоедов писал…
Суслов внимательно читал сводки, держал руку на пульсе происходящего, изучал критические выступления инакомыслящих, особенно Солженицына, Сахарова и братьев Медведевых; труды Чалидзе и Некрича вниманием не баловал — чужаки; с Солженицыным во многом соглашался и поэтому все жестче и круче требовал принятия мер против него. Андропов провел через Политбюро повторное решение: КГБ не вправе провести ни один арест, не получив на то соответствующего постановления Прокуратуры: наиболее заметный диссидент может быть арестован лишь по согласованию или постановлению ЦК, «слово партии прежде всего». Казалось бы, простецкое решение, однако прохождение было трудным: номенклатурные мудрецы раскусили андроповский ход, — тот умывал руки, легко ставя над собой и ЦК, и правоохранительный орган, призванный надзирать за соблюдением норм, записанных в кодексах и Конституции…
Чем жестче был нажим Суслова, тем последовательнее Андропов подчеркивал в своих выступлениях, что КГБ работает под руководством партии и выполняет лишь указания ЦК, — никакой возврат к тридцать седьмому или пятьдесят второму году невозможен, каждый шаг подотчетен…
Когда он был на отдыхе в Кисловодске, позвонил дежурный по КГБ: «Выставка абстракционистов снесена бульдозерами».
Обычно сдержанный, научившийся прятать истинные чувства под личиной снисходительного юмора, Андропов тогда сорвался:
— Какой идиот посмел сделать это?! Какой кретин решился на эдакий неотмываемый вандализм?!
Дежурный аккуратно кашлянул в трубку:
— Указание члена Политбюро ЦК товарища Гришина…
… Андропов располагал информацией, что ряд молодых были противниками вторжения в Чехословакию. Тридцатисемилетний секретарь Ставропольского горкома Горбачев встретился со своим соучеником по юридическому факультету Млынаржем, ставшим секретарем ЦК Чехословацкой компартии при Дубчеке; во время беседы поддерживал «Пражскую весну», бесстрашно говорил, что «нас ждет такой же процесс, надо к нему готовиться загодя». Человека этого Андропов запомнил, такие — редки, увы. Куда как легче бездумно повторять лозунги, никто не подкопается…
Стань эта информация известна Брежневу и Суслову, никогда бы Горбачев не был передвинут в ЦК…
Так же, как и тогда, в Кисловодске, Андропов сорвался в разговоре по ВЧ с Андреем Павловичем Кириленко. Осень семьдесят девятого года, проблемы Афганистана:
— Хотите, чтобы мы получили свой Вьетнам?! Понимаете, к каким последствиям приведет высадка наших войск в Кабул?! Отдаете себе отчет, что мы там завязнем?! Это же любительство, а не политика!
Однако (и в этом Андропов, как и все люди его поколения, был убежден) он не смел даже допускать и мысли о том, чтобы саботировать решение большинства; все чаще вспоминал слова Троцкого, стоившие ему жизни: «Права или не права партия, но это моя партия, и я обязан выполнять все ее решения…»
А Брежнев между тем, купаясь в сусловской пропаганде, уверовал в себя окончательно, любовался авторскими экземплярами своих книг, оглаживая тяжелой рукой сафьяновые переплеты, перечитывал страницы, шевеля потрескавшимися губами, и как-то по-детски дивился своей смелости в отдельных пассажах (Суслов отредактировал те фразы, в которых «писательская бригада» забивала положения об инициативе и собственности. Инициативу Михаил Андреевич пропустил, «собственность» почеркал: «Век должен пройти, прежде чем наше общество согласится на то, чтобы спокойно обсуждать смысл русского слова «частная», слишком много наслоений»). Иногда Брежнев засыпал со своей книгой на коленях; Виктория Петровна тихо плакала, глядя на любимого. Победив Шелепина, Леонид Ильич резко сдал: раньше надо было постоянно чувствовать мышцы спины, быть собранным, пружинным; теперь же, ощутив над-мирность, одинокую, плывущую величавость, он позволил себе расслабиться, а это бьет по организму — настоящий спортсмен умирает во время тренинга, тот, кто лег на диван, — уходит раньше…
Он лишь изредка зажигался, становясь прежним Брежневым: то, когда Алиев преподнесет перстень, — очень идет лидеру рабоче-крестьянской партии, то, раскатывая по дорогам дачи на штучном лимузине, отделанном внутри красным деревом, — новый подарок Хаммера, то, включая макет Москвы, усеянный драгоценными самоцветами светофоров.
Будет ошибочным считать, что Брежнев не знал о ситуации в стране. Знал, дети ему говорили. Он, однако, достаточно устал от тридцатилетней изматывающей борьбы за лидерство. Теперь борьба кончилась. Андропов бессилен предпринять что-либо, ибо окружен его гвардией — Цвигун и Цинев не спускают с него глаз. Рядом с Устиновым сидит верный ему Епишев, первый заместитель, комиссар, без его визы ничто и никто не двинется в армии. Щелоков — хоть и безумствует со своими артистами, что мутят в стране воду (жили б как все, а то сами нервничают и народ баламутят, безумцы), — крепко держит в руках аппарат внутренних войск, а с тех пор, как Зять стал его первым заместителем, каждый шаг шалуна известен в доме, да и дети за него горой, балует их, позволяет все, что захотят. Не надо бы так, но, с другой стороны, если мы не имели молодости, прошла в борьбе за хлеб насущный, который только должность гарантировала, то им-то можно пожить всласть, жизнь ведь быстролетна…
Когда однажды Андропов тронул на Политбюро вопрос о теневой экономике, о том, что в ряде регионов страны произошло сращивание разветвленной мафии с аппаратом Системы, причем в Сочи, как и в Днепропетровске и Ростове, нити ведут к воротам государственных дач, Брежнев повторил обычное:
— Не надо раскачивать лодку… Обобщения — опасны… Можно разбираться с отдельными случаями, но делать выводы — преждевременно, пусть аппарат работает спокойно, он наша надежда и опора…
Суслов молчал: создав образ Брежнева, он оказался им же и раздавленный; голосовал против предложения Андропова; арест директора Елисеевского магазина ЧК пришлось проводить без санкции члена Политбюро Гришина — не позволил бы; так же — без санкции партийного руководства — был взят сочинский городской голова Воронков. Началась обхватывающая, внешне, правда, незаметная, затаенная атака на брежневскую коррупцию. Андропов подвинул к этой работе Прокуратуру, вычленив изо всех замов одного — Найденова; подсказал ему направление удара, снабдил материалами, но сам в эту драку не лез — за Медуновым и иже с ним стоял аппарат, не сладить, сомнут…
… Случай действительно закономерен в такой же степени, как закономерна случайность.
Лениво отмахиваясь от текущих дел, новый вождь подолгу жил на своих дачах, все чаще и чаще просил показывать ему те фильмы, которые полюбил с молодых еще лет; растрогался после «Тихого Дона», повелел наградить исполнителя главной роли орденом Ленина и званием народного артиста СССР — одновременно, такого раньше не бывало: «уж больно хорошо этот Мелихов играет, надо отметить». После любимого «Зигмунда Колосовского» посмотрел «Подруги» с Зоей Федоровой; поплакал. Андропов, узнав об этом, нажал: Викторию Федорову, дочь актрисы и адмирала, выпустили в Штаты, к отцу, «угодно духу хельсинкских соглашений, Белый дом оценит такой жест Москвы».
Кто-то, запамятовал, кто именно (наверное, дети), похлопотали за саму Зою Федорову в восемьдесят первом: «мать не пускают в гости к дочери, в Америке может начаться очередная кампания». Брежнев поинтересовался, сколько актрисе лет; ответили, что за семьдесят; сказал — обратиться к помощнику по культуре Голикову, разберется. Тот разобрался: «с ней дело плохо, организовала побег дочки, сейчас имеет дело с отказниками, говорят, через ее руки проходят миллионы, распределяет деньги тем, кто ждет выезда, да и ей помогают, рука руку моет».
Брежнев повелел, чтобы уточнили; можно б помочь: старуха, какой от нее вред?
В одночасье начался скандал в доме — на этот раз с артистом Буряцей. Краем уха Вождь услышал, как говорили, что цыган знаком и с Зоей Федоровой; того, что касалось близких, не забывал никогда, становился внимательным, постоянная сонливость слетала вмиг, глаза делались прежними, зоркими; начинал подолгу смотреть на свое отражение в зеркале — перед каждым Пленумом так собирался (вспомнил, как брат, крепко поддав, позволил себе шутку: «Лень, про тебя говорят — «бровеносец в потемках»; отлучил на время; дурак, знай, что можно позволять при гостях).
— Пока во всем не разберутся, никуда эту Федорову не отпускать, — сказал, как отрезал.
Между тем, наблюдая за ростом коррупции и мафии, понимая, что страна катится в пропасть, Андропов, закрепив свои позиции в Прокуратуре, решил, что настало время переходить к решительным действиям, ибо вся Москва уже говорила о том, что дочь Генерального секретаря проводит дни и ночи в обществе Буряцы, а тот, как сообщали информаторы, связан с людьми, имевшими выходы на коррумпированное подполье. Сделки заключались миллиардные, был задействован высший эшелон Системы.
Аккуратные попытки подтолкнуть к действиям Щелокова успехом не увенчались: тот тормозил дело, говорил, что надо тщательно перепроверить полученные сообщения, возможно, кто-то хочет бросить тень на семью Вождя, можно допустить, что все это — дьявольская работа сионистских западных спецслужб, которые страшатся гигантского авторитета, завоеванного в мире добрым гением Леонида Ильича, — понятно, что это бесит противника, следовательно, возникшая ситуация должна быть подконтрольна лишь ЧК, а никак не Министерству внутренних дел.
Андропов согласился с такого рода концепцией Николая Анисимовича, попросил его, однако, не отказываться от совместных проработок отдельных эпизодов, и в тот же день поручил Цвигуну осуществлять руководство операцией, заметив при этом, что на нем, Семене Кузьмиче, лежит прямая ответственность за то, чтобы Генеральный секретарь был в абсолютном неведении о происходящем: «никто не вправе попусту нервировать Леонида Ильича, нам слишком дорого его спокойствие».
Этим он отрезал все пути Цвигуну и Щелокову идти с челобитной к Брежневу: «сами принимайте решения, сами выносите рекомендации, решать буду не я, а ЦК, слишком сложное дело…»
Андропов понимал, что каждый его шаг и поступок подконтрольны. Он жил в состоянии постоянной круговой обороны. Неожиданный для всех арест Буряцы, проведенный Прокуратурой и следственным отделом КГБ в январе восемьдесят второго года, — вскоре после того как была ограблена укротительница тигров Ирина Бугримова, казалось бы, частный эпизод, стоявший, тем не менее, в одном ряду с делом Федоровой, — повел к непредсказуемым последствиям.
(Как только Андропова с помпой проводили из ЧК на место Суслова, новое руководство КГБ сразу же передало Буряцу уголовному розыску со строжайшим указанием Щелокова подойти к делу неординарно…
Казалось бы, скандал был погашен, но, тем не менее, Брежнев по-прежнему не принимал Щелокова, хотя тот нажал на следователей, и статья, по которой Буряца был взят КГБ и Прокуратурой, была заменена на другую, значительно более легкую…
А перемещение Андропова вверх означало, что он теперь обязан курировать не только идеологию, но и внешнюю политику, — то есть своих прежних коллег по триумвирату, Громыко и Устинова. Разделяй и властвуй. В Кремле они теперь сидели поврозь — Громыко и Устинов, как всегда, вместе, Андропов — возле спящего Брежнева и бойкого Черненко. ЧК, таким образом, от борьбы с коррупцией была устранена. На этот раз пронесло…)
Борьба за власть входила в решающую фазу, и, ясно, победить в этой борьбе обязаны Черненко или Гришин, но никак не Андропов, — чужак.
… Хренков, он же Витман, он же Сорокин, узнал об этом через вновь налаженные связи: ниточки-то высоко тянулись, вокруг детей бродили свои люди, выходившие на вельможных массажистов, ясновидящих, поваров, министров, секретарей, певцов, катал, педикюрш, гадалок, портных, скорняков, танцоров, актрис, фарцовщиков, академиков и шоферов — вот они, истинные источники информации, да здравствует информационный взрыв!
13
— Полагаете, что я должен отвечать на ваш вопрос? — Костенко закурил, не спуская глаз со Строилова. — Это что-то новое в сыске… Раньше каждый из нас имел право не называть своих источников информации…
— Вы и сейчас обладаете таким правом, Владислав Романович, — ответил капитан. — Тем более, вы не состоите в штате… Речь идет о другом… Варенов исчез…
— То есть? Убили, что ль?
— Нет…
— Входили в квартиру?
— Нет. В квартиру пока не входили, чтобы не засветить… Но на телефонные звонки он не отвечал — ни утром, ни днем, в квартире царит полнейшая тишина, из знакомых нам боевиков в подъезде никто не появлялся…
— Через чердак могли попасть!
Строилов кивнул, посмотрев при этом на своих молодых коллег:
— Именно эту возможность мы и просчитали… На чердаке обнаружили следы, ночные следы, которые вели от подъезда Варенова к тому, где есть выход во двор, к продуктовому магазину… Нашли его пальцы на люке, который ведет именно в тот подъезд, следы совершенно свежие, идентифицированы. Значит, он свалил… Я не хотел обращаться в прокуратуру за постановлением на обыск в его квартире, за его берлогой постоянно смотрят люди Сорокина, мы их уже установили, нити завязываются на некоего Рославлева Павла Михайловича… Мы взяли его в наружное наблюдение, выходов пока что, во всяком случае, ни на Никодимова, ни на Сорокина — нет.
— Знаете что, — задумчиво сказал Костенко, обращаясь к сыщикам, — я бы просил вас оставить меня — на пару минут — наедине с руководителем группы.
— Пожалуйста, не сердитесь, друзья, — сказал Строилов, посмотрев на Костенко с некоторым удивлением. Дждавшись, пока все вышли, заметил: — Верные же ребята, Владислав Романович… Зачем вы их так?
— Только затем, что не хочу вас подводить под монастырь… Вы б меня лучше отчислили, капитан, пойдет на пользу дела, право… Я установил адрес Хрена так, как считал нужным, единственный шанс… Вы бы пошли за Дэйвидом, считая, что он вас выведет на Сорокина… Я тоже допускал такое вероятие, но мне хотелось исключить малейшую возможность провала — мы имеем дело с профессионалом… Если станет известно, как ваш консультант получил информацию о квартире Сорокина, — с вас сорвут погоны…
— Пусть. Главное, что меня интересует: Варенов жив?
— Был — во всяком случае… Уйти мне из вашей группы надо потому еще, что я хочу задействовать связи моих друзей… И не здесь, а в Нью-Йорке… Вы понимаете, что вам и вашим сотрудникам — а я им, хоть и внештатно, пока что являюсь — надо согласовывать такую операцию. И не дни на это уйдут, а недели.
— Я готов поручить вам отладить такую связь… Я не боюсь ответственности… Заканчиваю докторскую, так что — в случае чего — найду работу юрисконсульта…
— Вы умеете играть, как оперативник старой школы…
— Не люблю слово «оперативник»… Предпочитаю — «сыщик», традиционно и в десятку.
— Верите людям, Строилов?
Капитан откинулся на спинку стула:
— Скорее «нет», чем «да».
— А вот я, старый дурак, верил.
— Вы не были сыном репрессированного, Владислав Романович… А я это с детского дома помню… Не со школы или университета, а именно с детского дома… Постарайтесь меня понять.
— Понял… Мне верите?
— Да. Другое дело — вы не очень-то верите мне.
— В чем-то — нет.
— Почему? Я дал какие-то основания?
— Пожалуй, что нет… Просто я привык к постоянным подножкам начальства… А вы мой начальник…
— Улика весьма чувственна, — усмехнулся Строилов. — Женственная, сказал бы я.
— У вас детский дом, у меня опыт тридцатипятилетней работы в системе: мы ж все друг друга харчим, закладываем, подставляем… При генетически общинно-коллективистской традиции на практике мы злющие индивидуалисты, разобщены, словно гиены: все друг дружке враги, глотку готовы перегрызть по любому поводу…
— Жизнь трудная, Владислав Романович… Бытие определяет сознание… В очередях люди научились ненавидеть друг друга, особенно тех, кто стоит впереди…
— Накануне нашествия Чингисхана очередей, сколько мне известно, не было… Завоевали нас только потому, что князья катили бочки друг на друга… Князей нет, а в остальном картина не изменилась… Ладно, капитан, обменялись мнениями, и — слава богу… Зовите людей, неловко…
Строилов поднялся, распахнул дверь, пригласил своих сотрудников, извинился за то, что заставил ждать, и продолжил — будто и не прерывал совещания — повторением той же фразы:
— Пожалуйста, не сердитесь, друзья… Какие у кого соображения? Прошу…
— Товарищ капитан, — Костенко поднялся с подоконника, — как с моим предложением?
— По поводу того, чтобы задействовать ваши связи в Нью-Йорке? Информация на Джозефа Дэйвида?
Зачем он все раскрывает, подумал Костенко, нельзя ж так все вываливать! А может, их поколение по-новому строит комбинации? Нет, но откуда во мне такое страшное, пепелящее чувство недоверия ко всем?! Я ж никому не верю! Никому! Ты веришь, возразил он себе, ты по-прежнему веришь, просто за эти дни тебе открылось много такого, о чем ты не знал, и ты испугался и поэтому пригибаешься от каждого произнесенного слова… Ты боишься, признался он себе, что один из этих славных парней может быть связан с тем, кто расскажет о совещании другу, а тот — подруге, а подруга — еще одной подруге, и это дойдет до Сорокина: у него хорошие уши и длинные руки, на него работает Система, не кто-нибудь.
Костенко молча кивнул, разъяснять ничего не стал.
— По-моему, интересное предложение, — сказал Строилов, обводя взглядом лица коллег. — Ни у кого возражений нет?
Самый молоденький паренек в джинсовом костюме, что сидел у двери, спросил:
— Каким образом полковник намерен задействовать американцев?
Строилов наконец улыбнулся:
— Нам был дан ответ: «источники информации обсуждению не подлежат, расшифровке — тоже»…
Костенко заново обсмотрел сидевших в комнатке Строилова, ощущая неловкость за то, что смел не верить им, а потому — бояться. Он хотел сказать что-то этим ребятам, напряженно ждавшим от него хоть какого-то слова, как-никак, живая легенда. «Давайте выпьем за тех, кто в МУРе, за тех, кто в МУРе, никто не пьет». За него как раз пили, ему и песня эта посвящена, так, во всяком случае, утверждали старожилы НТО. Он, однако, ничего не сказал, только дверь распахнул рывком, как-то грубо, но в этой грубости была видна растерянность.
Строилов проводил его взглядом, хотел было продолжить совещание, но, заметив в глазах сыщиков мольбу, поднялся и побежал следом за Костенко.
Он нагнал его уже у лифта, тронул за локоть:
— Если я вас чем-то расстроил — простите, пожалуйста…
— Да будет вам, — вздохнул Костенко. — Ничем вы меня не обидели, просто очень страшно стареть… Знаете, как об этом сказал де Голль?
— Откуда мне…
— Он сказал: «Старость — это большое кораблекрушение»…
Строилов достал из внутреннего кармана конверт и протянул его Костенко:
— Что делать с этим?
Костенко открыл конверт, увидел дактилоскопию, справки НТО и картотеки: «Отпечаток пальца принадлежит Налетову Дмитрию Дмитриевичу, клички Паташон, Зверь, Артист…
— Где сняли палец? — спросил Костенко, почувствовав, как ухнуло сердце.
— А вы как думаете?
— Наследил у Варенова? Но вы ж к нему не входили…
— На косяке двери…
— К делу подшили?
— Нет. Жду ваших рекомендаций…
— Кто проводил экспертизу?
— Галина Михайловна.
— Народу было много?
— Одна… Ее страховал один из моих мальчиков.
— Верите ему?
— Как себе.
— Можете дать эту дактилоскопию мне?
— Да.
— Понимаете, чем грозит?
— Конечно.
— Почему так легко идете на это?
— Потому что мне вас очень жаль…
— Это как понять?
— Понимать это надо так, что поколение моего отца уйдет не сломанным, со стержнем внутри, мы — дети своего времени, а оно — новое, а вот вы живете с разорванными сердцами…
Костенко вздохнул:
— Слушайте, мне очень неспокойно за вашего батюшку… Постоянно один… Можете кого-то попросить — на эту неделю хотя бы — посидеть с ним?
— Кому он мешает?
— Сорокину. Как и Федорова ему мешала… Чекисты сказали, что на процессе Сорокина не было ни одного свидетеля, — только документы, страницы следственных дел… Ни вашего отца, ни Зою Федорову, ни Лидию Русланову отчего-то на процесс не вызвали — а ведь они убойные свидетели… Выступи они против него, он бы не девять лет получил — а он получил именно девять, Мишаня Ястреб ошибался, — а все пятнадцать… Ромашов сейчас выясняет, кто отвел свидетелей… Скажете: «срок давности». А существует ли он — по отношению к такого рода преступлениям?
… Степанов долго чертыхался, — «нет времени, Славик, зашиваемся», потом, однако, согласился:
— Я позвоню американским коллегам отсюда, подъезжай, зануда.
— Знаешь, что такое «зануда»?
— Знаю, знаю, — это человек, который подробно, в течение получаса, отвечает на дежурный вопрос «как дела?»…
… В редакции у Степанова было как в Содоме и Гоморре: в крошечной двухкомнатной квартирке работали двенадцать человек.
— Здесь у нас и газета и журнал, — пояснил Степанов. — По советским стандартам надо держать в штате душ семьдесят, платить в среднем — каково словечко?! — по сто пятьдесят, только б сохранить равенство нищих, а у нас вкалывают с утра до ночи, но и получают по-людски.
— Посадят, — убежденно сказал Костенко. — Как что изменится наверху — в одну ночь заберут.
— Это у нас умеют, — согласился Степанов. — Только это будут последние посадки нашей государственности — реабилитировать нас станет государственность качественно новая… Ладно, садись и жди, сейчас приедет мой приятель, крутой американский газетчик, изложишь ему суть дела, только не хитри и не секретничай, они этого не понимают.
— Слушай, а на кой черт тебе эта суматоха? Жизнь прожил вольной птицей, зачем под занавес навесил на себя вериги?
— А кто демократии поможет? Болтать все здоровы…
— Демократии в этой стране никто помочь не в силах, — убежденно заметил Костенко. — Утопия.
… Они подружились двадцать девять лет назад, когда Степанов пришел в МУР стажером-сыщиком, после того как в очередной раз поскандалил с гаишником (мощная сила, воспитывающая среди водителей ненависть к Советам и ее зловещим детям под погонами, — нигде так не умеют унижать человеческое достоинство, как у нас, особенно на нижних этажах власти, абсолютная всепозволенность при полнейшей всезапрещаемости). Он пришел на Петровку, чтобы до конца утвердиться в сложившемся издавна мнении: все мусора — гады, негде пробы ставить.
И навсегда запомнил ту ночь, что провел в дежурке МУРа, — вместе с Костенко.
Он никогда не мог забыть, как Костенко — тогда еще худенький, кожа да кости, иссиня-черноволосый, в модном переливчатом костюме и узконосых туфлях (выплачивал долги три месяца, мечтал одеваться, как Бельмондо, все те, кто рос в нищете, поначалу мечтают иметь красивые вещи) — по-волчьи крался вдоль маленького, покосившегося домишки в Тропарях, неподалеку от церкви, там в те годы была деревушка, городские огни едва виднелись…
Костенко шагал бесшумно, порою с яростью оборачивался на двух сыщиков из дежурной опергруппы и Степанова, беззвучно матерился, потому что в домишке дох Длинный, вооруженный ТТ и финкой; три часа назад угнал «Волгу», взял во Внукове промтоварный, ранил сторожа; если сейчас что услышит — станет отстреливаться, терять нечего, рецидивист.
Костенко махнул Степанову рукой, чтоб остановился в простенке между оконцами. Если, спаси господь, зацепит «стажера-писаку», с него сорвут погоны, выгонят взашей, на такого рода операции вольных не берут, самореклама, сам иди под пулю, за это деньги платят, стольник в месяц, а других не тащи…
Степанов, тем не менее, поскакал за ним, больше всего страшась, что загремят пятаки в кармане, поэтому руки держал по швам, как солдат на параде.
Костенко долго стоял возле двери, что вела в комнату, задышливо успокаивая дыхание. Он не оглядывался, потому что не мог себе представить, что кто-то ослушается его и потащится следом за ним под пулю.
Степанов чувствовал, как собирался Костенко, он не отрывал взгляда от его спины, словно бы слыша в себе медленные «раз, два, два с половиной, два и три четверти». Откинувшись, Костенко жахнул в дверь каблуком, бросился в комнату, мгновенно сориентировавшись, чуть не упал на кровать, где спал Длинный, укутавшись с головой красным ватным одеялом, выбросил в падении правую руку, скользяще сунул ее под подушку, ухватил ТТ, неловко оступился, упал, стремительно перекрутился два раза и навел пистолет на бандита:
— Руки в гору!
Длинный заорал что-то, выхватил из-под матраца финку и хотел было броситься на Костенко, но запутался в одеяле и по-клоунски, беспомощно рухнул на пол.
Сыщики кинулись на него, финку выкрутили, надели наручники, бросили на стул.
Костенко медленно поднялся и с тоской посмотрел на свои переливчатые брюки: при падении вырвал кусок с мясом, ни одна штопка не возьмет, когда еще соберет башли на новый костюм?!
— Где ворованное барахло, Длинный? — спросил Костенко, не отрывая глаз от дыры на брюках.
— В сарае, где ж еще…
Костенко обернулся к сыщикам, те сразу же вышли. Старуха, вернувшись из чулана, хрипло спросила:
— Натворил чего?
Костенко кивнул.
— На кого ж меня кидаешь, сыночка? — старуха заплакала. — Пенсии нет, помру с голоду, кто глаза закроет?
— Общественность, — усмехнулся Длинный.
— Пасть порву, — пообещал Костенко.
— Значит, в один лагерь со мной пойдешь, — огрызнулся бандит.
— Где его одежка? — спросил Костенко старуху. — Дайте ему, мамаша, пусть одевается, в тюрьму повезу.
Старуха принесла ратиновое пальто, мохеровое кашне, костюм-тройку и лаковые туфли.
Костенко покачал головой:
— Ватник ему дайте, мамаша… И сапоги… Он теперь надолго сядет.
— Это мое, — сказал Длинный, кивнув на пальто. — Заработал честным трудом, свидетелей выставлю.
— Оставь матери, продаст, харчиться ж ей надо… Кто теперь об ней позаботится?
Длинный усмехнулся:
— Власть… Она у нас добрая, всенародная.
Пришли сыщики, доложили, что барахло действительно спрятано в сарае, под дровами, все в целости, продать ничего не успел.
… Когда Длинного вывели на улицу, Костенко обнял плачущую старуху, прижал ее к себе, и Степанова тогда поразило сходство их лиц: в них была одинаково безнадежная скорбь и отчетливое понимание того, что никому, никогда, ничего не дано изменить в этом мире, — кому что отмерено, того не избежать, как бы кто ни старался искусить судьбу…
Вздохнув, Костенко пролистал паспорт Длинного, открыл его портмоне, достал оттуда сотенную ассигнацию и подтолкнул ее старухе мизинцем:
— Возьми, мать… На первое время, глядишь, хватит, больше дать не могу, ворованные…
Старуха прижалась пересохшими губами к его руке. Он руку не отдернул, смотрел куда-то в угол темной комнатушки с земляным полом, трухлявыми стенами и обшарпанными, кривыми рамами. Разруха и безысходность…
В машине уже сказал Степанову:
— Сколько б ни кричали о борьбе с преступностью — с места не сдвинемся, покуда власти угодно, чтобы народ жил в нищете…
Степановского приятеля из «Пост» звали Джон Малроу…
Он внимательно выслушал Костенко, записал что-то на маленьких листочках растрепанного блокнотика, поинтересовался, получит ли его газета право «первой ночи», если он накопает серьезную информацию в Штатах. Степанов сразу же включился в разговор: «Мы опубликуем материал — если дело пойдет так, как рассчитывает полковник, — одновременно, это по-джентльменски».
На этом и порешили.
… Неподнадзорная пересекаемость судеб, рожденная встречами — запланированными и случайными, — являет собою одну из основных загадок цивилизации. Высшее таинство человечества — записные книжки с номерами телефонов и адресами. Если бы какой диктатор смог отдать приказ (еще сможет, найдется такой!), обязывающий математиков просчитать на компьютерах таинственные линии общности, связывающие (или, наоборот, разделяющие) людей, составляющих те или иные государственности, то картина получится жутковатая, ибо станет ясным, что история развивается не по объективным законам, но по принципу неконтролируемых случайностей, подвластных лишь высшей логике Бытия.
Джон Малроу начинал журналистскую работу с того, что проводил дни и ночи в управлении криминальной полиции Нью-Йорка. Шел шестьдесят восьмой год, взрыв леворадикального движения в Гринвич Вилледж, прелестном районе огромного города, где традиционно жили художники, артисты, писатели, студенчество. Взрыв этот совпал с вьетнамской трагедией. На каждом углу продавались майки и значки: «Я люблю Хо!», «Народ, угнетающий другие народы, кует цепи для самого себя»; хорошо продавались лозунги Мао: «Имперализм — бумажный тигр», «Винтовка рождает власть». Здесь же во время ночных гулянок продавали марихуану. То и дело вспыхивала белоглазая, неуправляемая поножовщина. Задержанные проходили наркологический контроль — практически все ширялись.
Одновременно (словно бы заранее был разработан сценарий) в Вашингтоне начались расовые беспорядки, запылали особняки — всего в трех милях от Белого дома. Столица была заклеена лозунгами: «Черные предают Америку», «Белые расисты продолжают дело Гитлера», «Цветные — главная угроза мировой цивилизации», «Евреи — наймиты масонского капитала, хайль Гитлер!». В Вашингтоне, однако, не поддались панике. Телевидение и газеты печатали фотографии улыбающегося Вилли Брандта: «Каждый настоящий социал-демократ в юности обязан пройти через леворадикальный коммунизм, естественная болезнь роста». Он сказал это, когда его сына арестовали в Западном Берлине во время демонстрации, проводившейся немецкими маоистами.
Американские политологи разработали стремительно-продуманный план: черные общественные деятели были приглашены в правительственные организации. В районах с цветным населением лидеров этнического меньшинства подвинули в мэрии. Расовая проблема поэтому постепенно нормализовалась, хотя поначалу казалось — особенно натурам неуравновешенным, склонным к шараханьям, — что положение в стране вышло из-под контроля центральной власти…
Тогда-то Джон Малроу и сделал себе имя, потому что именно во время столкновений представителей закона с преступными элементами выстраивалась концепция преодоления тупиковой ситуации: власть достаточно сильна и мобильна, чтобы сдержать хаос, пока законодатели приведут основные уложения страны в соответствие с качественно новой ситуацией, создавшейся в мире.
… Джим Волл, инспектор полиции, в группе которого Малроу чаще всего пасся, сделался — по прошествии двадцати лет — большим начальником, при этом вложил свои деньги (взяток не брал, невыгодно — слишком велик риск) в акции той химической компании, где работала жена, получил крепкие дивиденды, это дало ему высокое ощущение независимости и уверенное право на отставку — в том случае, если бы приказ руководства вошел в противоречие с его принципами.
Прочитав факс, отправленный из Москвы стародавним другом Джоном Малроу, заместитель директора Волл попросил нью-йоркских парней поинтересоваться, что из себя представляет некий Джозеф Дэйвид. Ответ пришел ошеломляющий. Волл немедленно послал факс Малроу: «Дело — любопытно. Я не смогу рассказать того, что можно, ни по факсу, ни по телексу, хотя есть и такое, что рассказать — даже при нашем дружестве — я тебе не смогу».
Основания отвечать именно так у Волла были серьезные: оказывается, нью-йоркское бюро его конторы уже давно присматривалось к Джозефу Дэйвиду в связи с «русской мафией», довольно крепко утвердившейся в Бруклине и на Майами.
Первые годы после выезда из Москвы Дэйвид перебивался тем, что толкал русских певцов и актеров в рестораны и на съемки в массовках.; Бизнес не очень-то получался: языковой барьер; учил английский по словарю, потом нанялся мажордомом к директору издательства, полагая, что, если погрузиться в англоговорящий мир, исключив общение со своими, дело сдвинется с мертвой точки. Мучительно стараясь понять босса и его гостей, тоскливо думал: «Эх, вас бы научить русскому, мы б горы своротили — с моими-то московскими связями!»; протолкнул хозяину томик мемуаров отказников, получил небольшие комиссионные. Не бизнес, права на рукописи заметных людей эмиграции ему не передавали, слишком мелок; все чаще вспоминал Россию — вот где можно вертеть бизнес, если только имеешь голову на плечах…
Все изменилось в восемьдесят шестом, когда разрешили навещать родных, — сразу же полетел к сестре, та работала педиатром в Хабаровске, уезжать категорически отказалась: двое сыновей в институте, чего бога гневить?!
Дэйвид попал в поле зрения таможенного контроля, полиции и ФБР, когда он, вернувшись из очередного вояжа в Москву (это было два года назад), обратился к наиболее престижным охотничьим магазинам с предложением приобрести тульские ружья, сделанные ведущими русскими мастерами по спецзаказу. Его выслушали с явным интересом (никто так не умеет прощать коверканье своего языка, как американцы, страна интернационалистов, чистый Вавилон), попросили внести конкретные предложения, одобрили идею («фантастик», «марвэлэс»), но после того, как Дэйвид передал условия будущим партнерам, в дверь его маленькой однокомнатной квартиры на 23-й улице (неподалеку от отеля «Челси») позвонили около двух часов ночи. Он посмотрел в глазок; на площадке стоял старик в дорогом желтом пальто ангорской шерсти, в руке трость с серебряным набалдашником. Рядом с ним торчал молодой верзила в кожанке, с остервенением жевавший резинку.
— Кто? — спросил Джозеф Дэйвид, ощутив внезапный озноб. — Что вам надо?
— Меня зовут Петрилли, — ответил старик. — Я пришел к вам с добром… Это по поводу ружей… Пожалуйста, не бойтесь, отворите дверь…
— Я вас совершенно не боюсь! Почему я вас должен бояться?! Но вы не позвонили заранее и не сделали аппойнтмент… У меня гостья…
— Поговорим на кухне, — усмехнулся Петрилли. — Я тоже начинал работу в подвале, потом уж перебрался в особняк… Повторяю, не бойтесь, у нас пока нет к вам претензий. Я пришел с предложением… И зря вы сказали про девку. Лгать — дурно. У вас нет девки, мы следили за квартирой…
Словно загипнотизированный, Дэйвид открыл дверь, повторяя себе все время: «Идиот, звони в полицию! Что ты делаешь, безумец?»
Петрилли пальто снимать не стал, по-хозяйски вошел в комнату, обставленную старой мебелью, сел в скрипучее кресло. Верзила замер в дверном проеме.
— Слушайте, Джозеф, вы очень молодой американец, — начал Петрилли. — Вы не знаете жизнь этого сложного города, поэтому можете наломать дров и потерять голову… ее вам просто-напросто отрежут, понимаете? Запомните, торговля оружием традиционно находится в наших руках, итальянцев. Мы выяснили, что вы не обсуждали вопрос о ружьях в русском Бруклине. Иначе бы могла начаться война. И вы бы в этой войне проиграли, поверьте. Вы решили действовать без нас — мы вам этого не позволим. Мы готовы уплатить вам пять процентов со сделки, если поможете нашим людям заключить хороший контракт с русскими оружейниками. Советовал бы вам не отказываться от этого предложения… Нам выгодно то, что вы владеете русским, знаете русских, еще бы вам их не знать, если вы среди них выросли… При этом мы готовы помочь вам в продюсерском бизнесе, у нас и там достаточные связи. Понятно?
С трудом скрывая озноб, Дэйвид ответил:
— Я должен все взвесить. Оставьте свой телефон.
Петрилли поднялся:
— Не валяйте дурака! Мышь интересуется адресом льва. Завтра в десять вечера мои мальчики придут к вам, и вы заключите с ними соглашение… Все… Теперь можете вызывать девку — без этого не уснете…
… Девку он вызывать не стал. Трясущимся пальцем набрал номера телефонов знакомых импресарио — Пантелея Давыдовского и Шпильмана; один был в Москве, пробивал гастроли Робертино Лоретти, другой вел переговоры с Еврейским театром. Позвонил к Игорю, в Бруклине о нем говорили как о человеке, который знает все и всех. Встретились утром, на Брайтон Бич, в центре «русского Нью-Йорка».
Выслушав бледного Дэйвида, срисовав его тонкие трясущиеся пальцы и синие обгрызанные ногти, Игорь вздохнул:
— Вы же здесь не первый год живете, Ося… Что за русская манера ухватить все самому?! В этой стране такие штучки не проходят — возьми свое, но поделись с ближним. Это только в России каждый хочет ухватить все, поэтому и здесь живут черт-те как… В одной руке два члена не удержишь…
— Какой член?! — взмолился Дэйвид. — Я же объяснил вам: пришла итальянская мафия! Они не шутят! Они хотят отнять мой кусок хлеба! Я готов поделиться с теми, кто возьмет меня под защиту. Итальянцы предложили мне двадцать процентов, это грабеж!
Игорь попросил подождать. Через три часа в маленькое кафе, где они встретились, подъехал невысокий мужчина с копной негритянских волос, одет в старый свитер и истрепанные джинсы; «мерседес» (последняя модель, серебристый, тяжелый) запирать не стал — там остались два телохранителя; присел рядом с Дэйвидом на краешек стула и горестно покачал головой:
— Послушайте, не надо нас ссорить с итальянцами. Мы не хотим перестрелок. Вам предложили пять процентов со сделки, пять, а не двадцать — никогда не лгите своим, вырежем язык. Так вы соглашайтесь. Понятно? Нам отдадите два процента, три себе, хорошие деньги.
Что же касается вашего бизнеса, связанного с актерами и писателями, — мы обладаем всей информацией о вашей активности — будете платить десять процентов со сделок, мы, в свою очередь, поможем вам через наши возможности, а у нас они серьезные. При этом вы будете выполнять ряд наших просьб, которые вас ни к чему не обязывают, — во время поездок в страну победившего счастья. Я думаю, вы достаточно умны, чтобы не ответить «нет».
С тех пор Дэйвид стал курьером мафии.
Именно он заказал Хренкову (после того, как заключил с ним договор на книгу «Палач и жертва») сенсационный труд: «Советская мафия. Структура. Устав. Связи».
Именно за этой микрофильмированной рукописью он и отправлялся сейчас в Москву.
Именно об этом Волл и рассказал Джону Малроу. Как все же хорошо дружить с полицией!
— Можешь назвать издателей, с кем он вел переговоры? — спросил Джон Малроу.
— Нет, малыш. Это конфиденциальные сведения.
— Но ты ведь понимаешь, что я вытопчу имена людей, которые вели с ним переговоры на издание столь сенсационных книг…
— Это будет большая ошибка, Джон, — сказал Джим Волл.
— Почему?
— Потому что за этим маленьким человечком стоят большие силы… Он не догадывается об этом, его, говоря на жаргоне, играют… Я бы просил тебя не влезать в это дело, Джон… Ты можешь сломать операцию… Мои люди караулят его…
— Хорошо, я обещаю тебе не лезть в дело, Джим. Но тогда расскажи мне сам: какие проекты он обсуждал с издателями? Я могу быть полезен. У меня есть информация с той стороны.
— Серьезная?
— Сенсационная…
— Я весь внимание, малыш.
— Это я весь внимание, Джим. И чтобы у нас с тобой получился разговор, я назову тебе одно слово: «Хренков». Это русская фамилия. Она упоминалась в разговоре Дэйвида с издателями?
Волл открыл папку с грифом «Совершенно секретно», пролистал страницы, их было не меньше пятидесяти, остановился на последних трех, пробежал глазами, профессионально вычленяя нужные фразы, покачал головой:
— Нет, малыш. Эта фамилия не упоминалась.
— Ты должен назвать мне фамилию, которой оперировал Дэйвид! Я тогда назову тебе другие имена, это может помочь делу…
— Он оперировал фамилией русской актрисы… Мисс Зоя Федорофф, жена адмирала флота Джексона Тэйта…
Малроу покачал головой:
— Не хитри, Джим… Имя этой женщины давно известно по обе стороны занавеса… Это не есть ключ… Я обещаю тебе помочь, если назовешь человека, которого представлял Дэйвид.
— Ты никогда не был так настойчив… Завербовался в КГБ?
— Туда не вербуются… Это не наша армия… Туда вербуют… Разные состояния, Джим… Корень один, смысл разный…
— Не сердись, но я должен задать вопрос: кто оплатил твой билет из Москвы? Ты сам?
— Бедный Джим… Вы все чокаетесь к концу службы… Вы перестаете верить друзьям… Позвони моему редактору, я отправил ему факс, он оплатил расходы, связанные с моим расследованием… Это первый случай, когда ты и русские могут работать сообща… Пока они идут на это — надо рисковать, Джим… Мы боимся, они боятся, мы не верим, они не верят, пропустим момент, потом может быть поздно, у них все может быстро измениться, слишком много людей, которые мечтают все повернуть вспять… Если мы не протянем им руку, там может быть катастрофа… Придут новые коричневые, а это очень опасно для мира, Джим…
Волл поднялся из-за стола. Огромный, грузный, в широких старомодных подтяжках, он забросил сильные руки за спину, прошелся по кабинету, потом остановился над Малроу и, переваливая свое огромное тело с пяток на мыски, спросил:
— Тебе что-нибудь говорит имя Айзенберг?
— Нет.
— Какие имена они тебе дали?
— Это не по правилам, Джим.
— Это по правилам. Я назвал тебе Айзенберга. Назови теперь ты.
— Дэйвид оперировал именем Айзенберга? Как автора манускриптов?
— Да.
— Он оперировал только одним именем?
— Это второй вопрос, Джон.
— Хорошо, я отвечу тебе… «Витман» или «Сорокин»… Такие имена не упоминались?
— Нет.
— Как зовут Айзенберга?
— Его имя идентично имени известного французского писателя… Если русские не играют тобой, ты должен угадать.
Малроу покачал головой:
— Мне не надо гадать, Джим. Я знаю. Этого французского писателя звали так же, как интересующего меня человека, — Эмиль.
Волл вернулся за стол, положил свои огромные руки на папку:
— Верно. Мистер Эмиль Айзенберг. По словам Дэйвида, он в ближайшее время приедет в Штаты — подписывать контракт на будущие книги…
— Одна связана с делом Федоровой, а другая?
— «Русская мафия».
— Как будет назвываться книга о Федоровой?
— Я не отвечу на этот вопрос, Джон… Я сказал и так слишком много… Я верю тебе — только потому и говорил, малыш… А сейчас я думаю, что не должен был этого делать…
— Но ты знаешь, как должна называться будущая книга об актрисе?
— Я знаю несколько названий… Какое выберет издательство — их дело, не мое… Меня вообще не очень интересует эта книга… Меня интересует второй манускрипт — о русской мафии… о ее связях…
— Хорошо… Я помогу тебе… Мистер Айзенберг — это, как понимаешь, псевдоним — пытал миссис Федорову.
Волл кивнул:
— Сходится… Одно из возможных названий «Палач и жертва»… Можешь передать это русским…
— А если они спросят, когда ожидается приезд мистера Айзенберга?
— В этом месяце.
— Дата неизвестна?
— Нет… И передай, что я бы хотел получить данные о том, чем занимался в России мистер Игорь Бах, в прошлом москвич, тридцать девятого года рождения, художник, ныне — один из бруклинских мафиози, контролирует бензиновый бизнес в Майами и два рыбных дока в нашем городе…
… Через день после получения информации об «Эмиле Айзенберге» семипалатинское УКГБ сообщило, что «Сорокин Евгений Васильевич — после расконвоирования в марте 1965 года — снимал комнату в семье Фрица и Марты Айзенберг, механизаторов колхоза имени Шестидесятилетия Октября (до этого — колхоз им. Берия, им. Кагановича, им. Хрущева).
Фриц и Марта Айзенберги выехали в ФРГ сразу после того, как им не разрешили прописаться в Саратовской области, где они проживали до массовой депортации немцев Поволжья летом сорок первого. Дочь, Ева, еще в 1986 году переехала в Краснодарский край, где вышла замуж за Хренкова Эмиля Валерьевича, который взял ее фамилию, эмигрировала в ФРГ следом за родителями. Муж остался в СССР.
— Сходится, — сказал Костенко, возвращая Строилову информацию чекистов, — надо обращаться в ОВИРы, там где-то его фотография торчит. Вполне может быть, что он уже получил выездной паспорт… Не упустить бы…
— Готовьте запрос, — сказал Строилов. — Действительно, счетчик включен, хотя я не очень-то понимаю, отчего он так заторопился.
— На нем трупики висят, — ответил Костенко. — Мишани и Людки…
— Думаете, только их двоих?
… Из Краснодарского края сообщили, что Эмиль Валерьевич Айзенберг, пенсионер, пасечник, прописан в Привольном; большую часть времени проживает в отрогах гор — сдает мед в потребкооперацию; четыре месяца назад запросил выездную визу в ФРГ для воссоединения с семьей: его жена, Айзенберг Ева Фрицевна, выехала в Эссен в 1988 году; вызов прилагается.
… Корреспонденцию в доме Айзенберга доставала из ящика соседка, Меланья Тихоновна Божко. К ней-то и приехал разбитной, чубатый шофер, «Здорово, бабка, не померла еще? Давай, что есть, дядьке Эмилю»…
Охапку газет, два письма и овировскую открытку передал экспедитору армавирского райпотребсоюза Гнушкину. Тот зашел в кабинет заместителя председателя, следующим утром зампред отправился в Сочи, заглянул к стародавнему приятелю — в прошлом завотделом исполкома, а ныне директору кооперативного ресторана, оттуда поехали на почту и позвонили в Москву. Люди из группы Строилова сразу же установили, что фамилия московского абонента была Никодимов, боевик Хренкова-Витмана-Сорокина.
Затем были зафиксированы три звонка: Никодимов связался с неким Ибрагимовым, тот позвонил Сандумяну, который и вышел на Сорокина:
— Эмиль, пришла путевка в санаторий, будешь выкупать?
14
Борис Михайлович Пшенкин начал фейерверково. Его повесть о рабочих Дальнего Востока пришлась ко времени, особенно образ главного агронома-добрый, смелый, широко образованный передовик, пример для подражания, настоящий литературный герой, а не ломкий студент или страдающий интеллектуал, полный сомнений и комплексов. Повесть издали в конце шестидесятых. Поросль молодых литераторов, «дети XX съезда», ворвавшиеся в литературу, когда их отцы и матери возвратились из тюрем, медленно, но неуклонно задвигались в тень. Переизданиям они не подлежали, рецензированию в газетах — тоже, незачем лишний раз напоминать читателям имена, которые должны исчезнуть. Суслов уже дал неписаную директиву поворачивать вспять, к привычному прежнему. «С критикой можем выплеснуть и ребенка. Да, были отдельные нарушения законности, но не это определяло наше триумфальное движение к развитому социализму, которому ныне аплодирует все прогрессивное человечество»
Именно тогда был до конца фальсифицирован марксизм: примат «сознательности» (или «духовности») вынесли на первое место. «Бытие» стало подчиненным, вторым, суетным. Один из шестидесятников пошутил: «Если, действительно, сознание определяет бытие, то пришло время распускать компартию и примыкать к Лавре или Ватикану, поскольку это их лозунг — «Сознание определяет бытие», «Дух превалирует над Материей».
Всю нашу убогую нищету, произвол, закрытость границ нужно принять как разумную данность, благоволение, сошедшее на страну победившего счастья, а если человек не хотел согласиться с этой аксиомой, то сразу же отправлялся следом за Синявским или Григоренко.
Рокоссовский однажды сказал, как отрезал: «Недоучившийся поп пытался командовать нами, профессионалами армии».
История повторилась: такой же недоучка от религии — Михаил Андреевич Суслов, — предавший самоё доброту учения Христова, затолкал в марксистские догмы те огрызки нравоучения, которые позволяли ему и его присным, клянясь народом (в первую очередь русским, самым, пожалуй, многострадальным, если не считать тех, на кого обрушился геноцид, — карачаевцев, балкарцев, крымских татар, немцев Поволжья, греков, калмыков, турок, чеченцев, ингушей, да и прибалтийские республики с западными регионами Украины испили горькую чашу), манипулировать понятием, требуя от людей убежденной веры в то, что дважды два есть пять, а высшее счастье жизни составляет тотальная несвобода.
… Придворная критика, получив сладкий социальный заказ, подняла повесть Бориса Пшенкина до небес: и талантливо это, и смело, и недостатки показаны — но не злобно, разрушающе, а конструктивно, и характеры выписаны, и слог — в отличие от телеграфного, американо-хемингуёвого — самый что ни на есть народный, верный раздольным и неспешным традициям отечественной словесности.
Твардовский однажды сказал про литератора, в судьбе которого сыграл исключительную роль: «Выдержит ли у него темечко ухнувшую тяжесть нежданной славы?»
Пшенкинское темечко славы не выдержало. Погарцевав на читательских конференциях, он сел за новую повесть, сконструировал ее довольно быстро, по привычной схеме: всезнающий балагур-колхозник, крутой председатель, прославившийся в войну, но чурающийся передового опыта; партийный вожак, сменивший городскую квартиру на избу (жена танцует буги-вуги, упивается отвратительным Ремарком), встретил на селе молодую ветеринаршу, свою судьбу; ну, конечно, и пьяноту Пшенкин вывел, и бабку-колдунью, что зелья знает и несет тарабарщину, в которую, как ему казалось, он заложил глубокий, сокрытый смысл — с критикой основ марксизма… Журнал печатать его не стал: «Повторяешься». Он махнул в другое издание, там тоже отвели, толкнули в третий, противуположного лагеря — жахнули отрывок под рубрикой «Нарочно не придумаешь».
Начинались семидесятые, пришло время глухого самопознания, хоть и не разрешенного, но, тем не менее, повсеместного — все народы страны глухо роптали, дразнить их становилось все опаснее, как-никак дважды два есть четыре, а отнюдь не пять.
Как былинные плачи, так и крикливые агитки, набившие за десятилетия оскомину, не устраивали более читающую публику; ждали альтернативных героев и неординарных ситуаций. Разрешенная литература, вырождаясь в титулованное графоманство, молчала. Люди уходили в себя, замыкались, шел подспудный раскол общества на ячейки. Тех, кто отчаялся ждать и срывался на крик, — сажали, высылали или увозили лечить в психушки.
Другие, промучившись годы в ОВИРе, валили на Запад. «Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения». Левые, как и полагается спокон веку на Руси, били друг друга, словно Пат и Паташон, — на усладу зрителям. Правые теснились единой группой, понимая, что любое изменение обстановки ударит в первую очередь по их позициям, — в бой ринутся интеллектуалы, связанные с наукой и техникой, люди знания, адепты асфальта, их на «Синь-травах» да «Багряных закатах» не возьмешь, им давай анализ и новый ритм, им, видишь ли, Петр Первый угоден, которого все истинные патриоты Державы не зря считают Антихристом за бесовскую страсть к западной гнили и небрежение к исконным традициям Государства, превращенного им в империю, где правили одни чужеземные супостаты…
Пшенкин попытался переписать повесть, но — зациклило, не мог превозмочь себя, пальцы отказывались выводить слова, что бились в голове, — дурных нет, теперь все все видят, но одни имеют силу крикнуть правду, а у других она словно комом в горле встает…
Тогда-то ему и стали объяснять, кто погубил Русь, разрушил уклад, угодный нации, перевел стрелки на чужие рельсы, что гонят в бесовскую пропасть.
Пшенкин внимал этим словам, холодея от боли и гнева, сорвался, прокричал на собрании: «Кто нами правит?!»
Скандал замяли, даже в Союз писателей приняли, чтобы сподручнее было «работать» с «народным самородком». Отложив свою рукопись, Пшенкин отправился в Бюро пропаганды советской литературы и вкусил сладость беструдного заработка: выступил на заводе в обеденный перерыв, полчаса отбарабанил — вот тебе деньги. Поехал куда на север — двойные. Чем не жизнь?!
Но ведь память — страшная сила, в ней постоянно сокрыт взрыв: он не мог забыть рецензий на свою первую вещь, чтения ее по радио, приглашения на телевидение, в литературную передачу, всяких там диспутов в газетах с двумя портретами: один твой, другой — кто спорит; дарить можно, женщины падки на тех, чьи фотографии печатают…
Сел за третью повесть — решил рассказать о горьком детстве своем, но все равно не шло: как надо расписать черное зло и выразить ужас, что клокотал в нем так, словно кто кисть сдавливал холодными пальцами: «Неймется? Окстись! В тепле живешь, квартиру дали, деньги даром плывут — хоть и небольшие, но жить можно в сытости! Не замай!»
Поделился с приятелем, тот убежденно ответил: «А это гипнотизируют тебя. Сейчас всех талантливых самородков сатанинские силы стараются отвести от творчества, чтобы самим занять ваши места в литературе… Ты магнитами себя окружи, бесы магнит не переносят».
Пшенкин достал три магнитных бруса, поставил на стол, но — не помогло: страх давил его пуще прежнего, и чем больше появлялось новых имен в литературе, чем больше премий раздавали всяким недоделкам, тем ужаснее было его отчаяние — словно за поездом бежишь, последний поезд, не догонишь, хана, руки тянешь к поручню, а вагон все дальше и дальше, тю-тю…
Ну и запил Пшенкин, по-черному запил… Винил в трагедии всех, только не себя. Денег теперь не хватало. Стал занимать. Долги отдавать не мог, по Москве не ходил, а крался.
Но поскольку Пшенкин пользовался благорасположением писательского начальства (те хорошо знали, кого поддерживать, а кого задвигать. Помогали прежде всего незаметным, их страшиться нечего, не конкуренты, а выдернешь из дерьма — руки будут лизать, да и устойчивое большинство на съезде, любых интеллектуальщиков задушат, истинный голос народа), он получил новую квартиру в том доме, куда заселяли литераторов, чтоб были под надзором. Ккогда все скопом, легче толкать лбами и получать информацию: любые перевыборы, гарантирующие руководящим литкорифеям сохранение их «Волг», дач, премий, переизданий, хвалу наемной критики, надо готовить загодя, знать настроения каждого и, соответственно, с каждым работать. А уж работать — умели, ух как умели! Кого поднять на щит («соловей русской поэзии!», а этот «соловей» хуже воробья); кого ударить пыльным мешком по голове: «далек от чаяний народа», но потом — в знак примирения — отправить в Монголию или Чехословакию, у монголов кожаные пальто дешевые, в Праге люстру можно взять, да и красный загранпаспорт есть высшее свидетельство благонадежности: «смотри, товарищ, не подведи, родина тебе верит»… Так, разделяя и властвуя, создав обойму дутых гениев, «Баянов отечественной словесности», жили сами, да и покорным середнякам не мешали, не считая, конечно, таких досадных эпизодов, как предательство власовского недобитка Солженицына, сионистского наймита Виктора Некрасова или злобного клеветника Василия Гроссмана, — но с теми решал верх, «Баяны» лишь оформляли через «Литературную газету» гнев общественности…
Могучий директор ведущего военного издательства (постоянно держал руку на пульсе передряжьей писательской жизни, ибо надо было пополнять группу верных людей, которые могли бы сочинить за какого-нибудь генерала мемуары, угодные основополагающему направлению, спущенному начальством для военной истории) получил информацию и о Пшенкине. Поскольку «стервятники» (так он с лаской называл членов его постоянной группы «переписчиков») были при деле, загружены сверх головы, деньги гребли лопатой, переиначивая в нужном русле смысл наговоренного на диктофоны военачальниками, Пшенкин показался ему кандидатурой вполне приемлемой для использования: лишенный хоть какой-либо индивидуальности, этот сочинитель как раз и годился для мемуаристики: за строками воспоминаний не виделось слово мастера, все гладко, никаких неожиданностей…
С Пшенкиным поработали еще пару месяцев, пригласили в застолье, где собирались литературные «авторитеты», пообещали договор на новую книгу, съездили к его родственникам — не таит или в себе ненароком семена «малой нации» — и после всесторонней проверки пригласили в золотопогонный кабинет, отделанный, как и следует быть, мореным дубом, где и заключили договор на «спецредактирование».
Встретился с тем генералом, за которого надо было написать фолиант, получил от него в подарок диктофон и наговоренные пленки, сел за работу, управился быстро, сдал в печать… Тут же подкинули второго воспоминателя: обработал и этого. Встречаясь порою с «авторами», с теми то есть, чья фамилия будет стоять на обложке будущей книги, Пшенкин запоминал многое из того, что деды говорили за рюмашкой. Часто это было в противовес тому, что ему предписывали готовить для читателя. И когда Пшенкин сел за третий том, решил блеснуть — жахнул в нескольких местах неправленую правду, то, что ему говорил очередной генерал, пригласив на дачу, подальше от чужих ушей.
После этого договор с Пшенкиным не то чтобы расторгли, но заволынили, записи отдали другому, и он снова обрушился в тяжелое, безысходное пьянство, но теперь уж в новом качестве: он жил не только былинными мифами, что закладывали в него те, которые исподволь готовили таких, как он, к черновой (но высокооплачиваемой) литературнозаписной работе, но и высверками неожиданной, пугающей правды, которыми поделились старцы.
Тот генерал, что оказался последним, читая «свой» труд, замотал вдруг лысой, крутого лада головой и произнес с горечью: «Ах, Боря, Боря, не так же это все было! Врем! В глаза врем! Ведь, если б Тухачевский скрутил голову усатому засранцу, такой войны, что выдюжили, не было б, сколько б русского народу сберегли! Лучше б сейчас про это аккуратненько напечатать, чем таить… Через десяток лет правда так бабахнет, что склады могут вспыхнуть… Сколько истину не таи, все одно откроется! И про заградбатальоны откроется, и про «СМЕРШ», который больше своих стрелял, чем шпионов, — своих завсегда легче, и про то, какие болваны пришли на командование, когда усатый весь командирский корпус под ежовские пулеметы подвел! Эх, Боря, сынок, ты запоминай, что я говорю! Ты старайся мою крамольную правду между строк затолкать, люди намек быстрей всего понимают…»
Вот тогда-то с ним и встретился Витман-Хренков-Сорокин, давно уже запросивший у своих боевиков информацию на тех, кто умел писать, но — в силу каких-то причин — скатился в пьянь и злобу…
— Боря, Боря, талантливый ты наш человек! Не губи себя! Ты державе нужен! У тебя ж книга — брильянт, своим словом написана, — говорил он, похмеляя Пшенкина в кафе на улице Герцена, что напротив ТАССа. — Сейчас ляжешь спать, я рядом побуду, не оставлю тебя… А проснешься, в баньку пойдем, попарю, алкоголь выведу, человеком станешь…
Годы, проведенные им под министром государственной безопасности Абакумовым и последним его шефом, начальником следственного управления Рюминым, лагерное житье, работа в подпольном синдикате цеховиков — все это не могло не научить Сорокина лицедейскому искусству мимикрии…
С одними он был кликушей — чувствовал в самой глубине своей постоянное трепетное ожидание близкого горя, которое очистит и облегчит, так что и играть-то не надо было, стоило лишь позволить себе стать самим собой. Иногда он пугался этой дергающейся жалости, томящего ожидания близкой и неотвратимой беды, сладостного удовлетворения, которое возникало в нем, когда он зримо представлял себе миг крушения, а ведь теперь только б и радоваться, восстал ведь из пепла, жил так, как и представить себе раньше не мог, — не надо оглядываться, страшиться зайти в ресторан, чтоб донос сослуживцы не отправили в партком по поводу морально-бытового разложения, считать мятые рубли, откладывая на «Победу», взвешивать каждое слово в разговоре с коллегами, онанировать в сортире на зыбкий образ женщины-мечты, потому что любая связь, не оформленная в ЗАГСе, была чревата тем, что сорвут погоны и выбросят на улицу, как нашкодившего кота… Умом все это он понимал, но затаенного в генах изменить не мог, чаще думал о плохом, чем о хорошем, особенно когда планировал операцию…
Труднее было работать с интеллектуалами. Особенно долго готовился к беседе с профессорами, которые сидели на науке, на такой именно, которая могла пойти навстречу просьбе седого, немногословного, видно, много пережившего на своем веку «заместителя генерального директора по вопросам снабжения и сбыта», а могла и отказать в заключении договора на экспериментальное опробование новой техники в цехах подведомственных ему предприятий. Он выбрал себе роль суховатого прагматика, понимающего рабский ужас нашей экономической школы, общинную тьму и бескультурье импотентной бюрократии, — роль свою играл достойно, срывов не было.
С партийными работниками и областными мышатами было легче всего: фронтовой офицер, инвалид, служил под Гречко, видался с Леонидом Ильичом, лично он и орден вручал; в сырье и станках, говоря откровенно, мало что понимаю, но комсомолята затеяли нужное дело, молодежь — наша надежда, как не тряхнуть стариной да не помочь им?! После беседы накрывал стол, по первому разу не в ресторане, а у себя в номере отеля, на газетке, важно, чтоб балычок был, салями, домашние маринады, вареная курочка и хорошая водка… Это уж когда начальники крючок заглатывали и приезжали в Москву — тут и ресторан (кабинет в «Узбекистане»), и девочки в номер, и сувениры — поначалу скромные, всякие там альбомы икон, набор дефицитной литературы, а к шубкам да зимним сапогам можно переходить только во время третьей встречи…
… Пшенкина взял именно на истеричном кликушестве, «я — старый разведчик, сражался в тылу врага, помоги, Боречка, завершить книгу, написал, а дошлифовать нет таланта, кто поможет русскому человеку, как не однокровец, остальные-то зло в себе несут, зависть и зло, эх, Боря, Боря, пострадал бы ты с мое, помучился б, тогда понял мою кровоточащую душу».
Иногда ему казалось, что последние двадцать лет он и не живет вовсе, а играет роли — сегодня злодея, завтра добряка, послезавтра дурня, а уж заканчивает неделю несчастным, всепрощающим простаком…
Навсегда запомнил, как в лагере педрила рассказал ему про английского актера, приглянувшегося королеве в роли Отелло: «Пусть этот мавр придет ко мне на ужин».
Пришел. Ужин закончили в спальне ее величества; первая леди осталась довольна.
Через неделю увидала этого же актера в роли Гамлета: «Хочу, чтобы датский принц провел со мной вечер за чашкой шокелату».
Провел. Закончили в спальне. Была в восторге; на прощание заметила: «Сегодня хочу тебя без грима, таким, каков ты есть на самом деле».
— На самом деле я импотент, ваше величество. Если вы хотите именно меня — любви не будет, я играю в постели роли — либо мавра, либо принца.
Сорокин много раз перелопачивал с Пшенкиным те фрагменты, которые наработал с Федоровой. Пленки расшифровывал сам, переписывал от руки, дав себе имя Палача, а Зое — немки Марты; действие перенес в гестапо военных лет и сегодняшний германский город; палач и жертва, все сходится, никаких подозрений, в аллюзиях сами побоятся себе признаться, каждому здравомыслящему понятно, что Сталин и Гитлер — две стороны одной медали, только Гитлер чужих изничтожал, а кормчий — своих; текст дал перепечатывать машинистке, адрес который нашел на доске объявлений; оказалась глухая бабка, тыкала одним пальцем; тогда приспособил Людку — раньше-то Вареный поставлял ее в номера, нужным гостям, только потом обратили внимание, как она на машинке барабанила, — что твой Ван Клиберн.
Сухая точность изложения, которой учили его Абакумов, Либачев, Бакаренко, играла с ним злую шутку. Он выхолащивал написанное, чувствуя при этом, что своими руками губит работу, но переступить через себя не мог — в нем неистребимо жила его правда, а он постоянно старался обернуть ее в свою пользу, понимая, впрочем, что чем меньше поворачивать ее себе на выгоду, тем она страшнее, — то есть вещь будет дороже.
… Пшенкин, откормившийся на щедрых хлебах палача, готовил для него раз в месяц переписанный наново текст той или иной главы.
Сорокин садился к столу и, обхватив голову сильными пальцами, шлифовал каждую фразу. Он с ужасом отмечал, что Пшенкин вытягивал все то русское, что он намеренно скрывал, замыслив сделать для западного читателя предисловие, в котором заложит фугас, дав подлинные имена, адреса, объяснив истинные обстоятельства дела и прокомментировав, что по законам конспирации он не имел права писать правду, — даже в перестроечной России.
«Палач. Скажите, Марта («Зоя», «Зоя», «Зоя» — в нем все ликовало и пело), что вы ощутили, когда вас впервые поставили в шкаф? Вас там сколько времени Держали? Двадцать четыре часа?
Марта. Уж и не помните? Сами, небось, распоряжение отдавали…
Палач. Я был лишен права на то, чтобы отдать распоряжение, Марта… Я выполнял приказ… Понимаете? Мы все были звеньями одной цепи. Цепочка протягивалась сверху донизу, прервать ее было невозможно… Следовало хитрить, таиться, идти на обман, но такой, который бы оказался приемлемым для начальника; тот, в свою очередь, обманывал высший эшелон; тотальность лжи, подчиненной непререкаемому, хоть часто и бесполезному, основоположению: «применить высшую степень устрашения»… Срок, срок, срок… Отчет, отчет, отчет… А может, ради успеха комбинации надо было затаиться и ждать, пока арестованный дозреет без применения пыток и устрашения? Это верх наслаждения, когда арестант сам разваливается…»
Сорокин поднял глаза на Пшенкина, покачал головой:
— Ах, Боря, Боря, милый ты мой человек, добрая душа… «Разваливается» — русское слово, тюремный жаргон… А это «небось»? Так в гестапо не говорили, ведь читатель невесть что может подумать…
— Валерий Юрьевич, в каком веке живете?! Сейчас все, что угодно, можно печатать…
— Сейчас — да. А завтра? Ладно, эти словечки мы замараем… Кофейку сваргань, я продолжу чтение…
«Марта. Значит, считаете, вам было страшнее жить под Гитлером, чем нам, жертвам?
Палач. Конечно! Вам-то ведь было уж нечего терять! Когда захлопывалась дверь камеры — человек кончен, вместо имени — номер или инициалы. А мы ждали, Марта… Мы верили в то, что бред рано или поздно кончится, потому и норовили установить добрые отношения с теми, кого вводили к нам на допрос: неизвестно, как повернется дело в будущем…
Марта. Неужели вы сомневались в незыблемости рейха?
Палач. Поначалу — нет, не сомневался… Но ведь чем глубже погружаешься в подробности, чем больше правды открывается, тем хуже становится сон, тем больше у нас появляется психов — был нормальный товарищ, как все мы, — а назавтра кукарекать начал в кабинете…»
Сорокин тщательно вымарал слово «товарищ», заменил на «человек» и, принюхавшись к запаху кофе, продолжил чтение, усмешливо покачивая головой.
«Марта. Хотите, чтоб я пожалела вас, бедненьких?
Палач. Хочу… Мне было страшнее и горше, чем вам, поверьте…
Марта. Не верю… Когда вы бросили меня в камеру, полную клопов, и они жрали меня всю ночь, а свет был выключен, и не было от них спасения, казалось, я хожу по ним, как по болотной воде, хрусткой и кровавой, а они лезут по мне, шевелятся в волосах, заползают в уши, ноздри, глаза, я забыла, что такое жалость, я испытывала звериную сладость от того, как давила их, била вспухшими ладонями, прыгала, вслушиваясь в сытный звук лопающегося умирания безмолвных палачей.
Палач. И снова вы не вправе судить меня, Марта… Судите науку… Думаете, такая камера родилась сама по себе? Нет. Она появилась как следствие работы человеческой мысли… Да, да, не возражайте! Трудился целый институт, сориентированный на то, чтобы помочь рейху быстрее добиваться от узников правды… Конечно, пытки надежнее всего развязывали языки, физическая боль противоестественна, она отторгается разумом, но ведь после того, как узник дал показания, угодные высшей правде фюрера, он мог отказаться от них в суде! Скандал! Брак! Палач становится узником! В то время как мука, подобная той, которую пришлось перенести вам, входит в мозг навечно, никаких следов, зато постоянная память об ужасе, вы никогда не начнете скандал в суде… Намерены возразить, что наука не имела права на такие эксперименты?
Марта. Вы никогда не думали, что этой муке могла быть подвергнута ваша мать? Дочь?
Палач. Моя мать выросла в условиях ада, ей не привыкать к клопам, тесноте, голоду… Нашими пациентами были люди иного разлива, Марта, те, которых отличал внутренний аристократизм… Чернь не страшна режиму, страшны мыслящие, которых всегда крошечное меньшинство… Вы говорите «дочь»… Это вопрос морали — отношение к детям… Но мораль сама по себе аморальна, дорогая Марта. Инквизиция зажигала костры, следуя морали той поры. Ученые, отправившие на костер Бруно, свято следовали постулатам своей морали… Наши доктора, работавшие со вшами и клопами, следовали в своей работе утвержденным нормам морали рейха.
Марта. Мораль вашего рейха подобна старой кликуше, которая истошно выкрикивает заученные слова, лишенные здравого смысла… Она не может изменить себя, она безграмотна и темна, она психически нездорова… А вот ученые… Неужели здравомыслящие люди служили вашей камарилье?
Палач. Мораль не только выкрикивает заученное, Марта… Эта кликуша контролирует деятельность финансовых органов, которые платят деньги, — оклад содержания, премии, награды…
Марта. Тридцать сребреников…
Палач. Почему тридцать?! Десять! Пять! Нужно время, не очень к тому же большое, чтобы объяснить ученому: «Твори! Ты свободен. В условиях нашей системы, которая дала тебе все! Неужели ты не отблагодаришь ее за то, что она подняла тебя, приобщив к знанию?! Неужели ты не ощущаешь связующих корней с той нацией, которая отточила твой разум и отличила тебя из миллионов подобных?! Твори! Все то, что неизвестно человечеству, может быть открыто тобою, и не думай о том, морально это по отношению к другим или нет, всякое открытие морально, даже если поначалу оно кажется варварством, — не ты бы открыл, так другой! Это только посредственность мечтает быть на виду, истинный гений презирает людей, они словно мошка для него, мораль толпы он должен презирать, чтобы свершить такое, что сделает его бессмертным. Плоть — тленна, имя обречено на память, будь свободен, как ветер!»
Марта. Неужели ученые — а они мне кажутся мудрецами — могли пойти за такой абракадаброй? То, что вы сейчас говорили, — не просто грешно, это истерично, то есть глупо… А ученые прилежны логике…
Палач. О, как вы ошибаетесь! Они люди, и ничто человеческое им не чуждо… А если не им, то их женам, детям, родителям… Нельзя жить в обществе и быть от него независимым… Я помню одного доктора, он занимался изучением психологии человека в экстремальной ситуации… Он был совершенно аполитичен, этот ученый, он жил в мире формул, но когда он вывел, что постоянный писк комара может привести человека к полнейшему истерическому безволию, мы испробовали это изобретение — да, да, мы, я не смею скрывать от вас, — мы показали ему фильм о работе с подследственным, и Я наблюдал за его лицом: оно сияло счастьем, потому что он увидел реальное подтверждение своей высокой правоты, он прорвался к бессмертию, ибо вывел закон соотношения звуковых колебаний человека и насекомого, новый шаг к пониманию единства всего живого на земле… Он сказал мне: «Если бы не я, то к этому пришел бы кто-то другой»… Миром правит «ego», его величество «я»! И мне стало страшно жить, когда я до конца убедился в этом… Страшно, Марта… Нет морали, нет идей, есть «я», огромное, крошечное, грохочущее, тихое, но только одно «я-я-я-я-я»! Вот в чем начало и конец всего…
Марта. Когда меня грызли эти ваши страшные клопы, я думала только об одном существе — о моей дочке, которая осталась одна…
Палач. «Моей»! Именно так! Вы думали о вашей дочке! Потому что она принадлежит вам… Вы же не думали о чьем-то ребенке, вы страдали о своем…
Марта. С вами страшно говорить…
Палач. А когда вам было страшнее: тогда, в Моабите, или сейчас, на свободе?
Марта. Конечно, сейчас.
Палач. Почему?
Марта. Потому что вы ходите среди людей и ничем из них не выделяетесь… Сколько таких, как вы? Только моложе — вот в чем ужас… Ждут своего часа… Вас не повесили за ваши злодейства — он какой ухоженный, дородный… Значит, кому-то вы нужны? Кто-то заинтересован, чтобы вы и вам подобные были живы? Кто? Сколько их? Чего они ждут?
Палач. Боитесь, что прошлое может повториться?
Марта. Очень.
Палач. Но ведь ваша дочь живет за океаном! И внук там! Вы же за них страшитесь? Но они нам теперь недоступны… Значит, «я»?! Опять «я»?! Значит, все же каждый думает лишь о себе?! Если так, то мы, действительно, будем нужны постоянно! Думаете, я хочу, чтобы вернулось прошлое? Нет, я его тоже боюсь, потому что никогда не знал, выйду ли из своего кабинета или окажусь в камере с клопами, дорогая Марта… Но вы правы в одном: я — профессионал… Я знаю, как переступать через свое «я» во имя «мы»… Знаете, что такое «мы»? Это рабство, то есть страх. Хотя — точнее — наоборот: страх, то есть рабство… Как бы вы вели себя, окажись снова лицом к лицу со мною в камере тюрьмы?
Марта. Я бы покончила с собой.
Палач. Как? Чем? Вы забыли прошлое, Марта. Тюрьма обрекает на долгую жизнь — до объявления приговора или звука шарнирно-падающей гильотины… В тюрьме, в нашей тюрьме, никогда и никто не может кончить с собой, — слишком это сладко для узника, он не вправе распоряжаться ничем, а уж тем более своей жизнью… Вы боитесь меня до сих пор, да?
Марта. Да. Я даже страшусь сказать старому генералу, что вы живы… Он один не боится вас…
Палач. У него порвется сердце, если вы скажете, что я жив… Вы слишком добры, чтобы сказать ему об этом…
Марта. Но я все чаще и чаще думаю написать о вас в прокуратуру… Наверное, я сделаю это…
Палач. Можете… Только после того, как выйдет наша книга. Вы же понимаете, что закон обратной силы не имеет, да и доказать вы ничего не сможете… Мы были гражданами одного рейха, молились одному богу — вы в камере, я в кабинете, нельзя уйти от себя, Марта…
Марта. Во всем виновата Система?
Палач. Только она. И чем скорее мы это поймем, тем будет лучше для будущего. Люди рождаются ангелами, дьяволом их делает наша Система, с нее и спрос…»
Сорокин вымарал слово «наша», крикнул Пшенкину, разливавшему кофе по чашкам:
— Борисочка, душа моя, ну что же тебя так в русизмы тянет? Ты уж, пожалуйста, ближе к подлиннику будь, у тебя не немцы говорят, а наши люди… Слышишь меня?
— Слышу, — ответил Пшенкин каким-то иным, потухшим голосом. Он вошел в комнату с хохломским подносом и, поставив перед Сорокиным чашку крепчайшего кофе, добавил: — Очень хорошо слышу. Только ведь и я не дурак… Не про какую ни Германию и гестапо вы пишете, а про Россию с ее ГУЛАГом! И у палача имя русское, и у жертвы… Я ж какой-никакой, а писатель… Хоть и неудачливый — из-за того, что черт меня дернул на этой земле родиться…
Сорокин колышаще посмеялся, потом лицо его замерло, он взял ручку и быстро дописал:
«Палач. Марта, а вы и впрямь не знали, что ваш любимый прилетал в нашу страну не первый раз?
Марта. Он никогда не был здесь раньше… Он никогда не лгал мне…
Палач. Лгал… Он был здесь в двадцатом году. Он работал с нашими врагами…»
15
Сорокин потер лицо короткими пальцами, покрытыми щетинистыми волосками, почувствовал, как к щекам прилила кровь и забила злыми колючими молоточками, — такими доктор Бензель простукивает нервные корешки, китайская медицина, спасает ото всех болезней, а пуще всего от старения. Умирать надо здоровым, без гниения, внезапно.
Бензель работал в Крыму, в санатории ЦК. Сорокин ездил туда каждый год — до восемьдесят второго, пока был жив Леонид Ильич. При Андропове, когда начали закручивать гайки, сразу же прекратил; снимал квартиру в Ялте, даже в интуристовский отель не лез, хотя можно было: пришла пора незаметности, надо отлежаться, долго такое не продержится, слишком надежно все схвачено, вопрос месяцев, пары лет — от силы; перемелется — мука будет.
… Тщательно побрившись (одно из самых любимых занятий; употреблял опасную бритву золингенской стали, любил рисковый скрип металла о кожу, особенно возле сонной артерии; часто виделось, как металл легко перерезает пульсирующую синеву; отчего-то возникал явственный запах парной свинины), Сорокин открыл платяной шкаф, выбрал костюм — как обычно, скромный, но обязательно американского кроя; одел легчайшую шелковую сорочку, повязал карденовский галстук, примерил туфли, которые позавчера привез Никодимов, — отдавал ему, чтобы разносил кто-то из боевиков, непрестижно надевать новые вещи, уроки английских лордов — дворецкий должен помять костюм и пару раз пройти под дождем в новых лайковых туфлях, только после этого можно появляться в свете…
Выйдя из подъезда, Сорокин неторопливо двинулся по улице, остановился возле будки телефона-автомата, подставил лицо неяркому, осеннему уже солнцу, пробившемуся сквозь низкий московский смог, постоял так мгновение, глянул в стекла витрины — там четко отражались те, кто шел у него за спиной, только после этого снял трубку и набрал номер Варенова; долго слушал длинные гудки, дал отбой, набрал другой номер (наружка смогла сфотографировать через телевик его палец, тыкавшийся в цифры), спросил, не представившись:
— Ну, что с Вареным? Не попал, случаем, в клинику?
— Мы проверяли, — ответили ему. — Его там нет. Эксперты допускают, что у него мог случиться нервный криз…
— За городом не появлялся?
— Нет.
— С соседями беседовали?
— Ничего тревожного.
— А если инфаркт? Лежит в квартире без помощи?
— У нас есть ключи… Можем зайти… Действительно, вдруг с человеком беда…
— Без моего указания — не надо… Дайте помозговать…
Положив трубку на рычаг, Сорокин резко повернулся, охватив улицу сузившимися глазами; ничего подозрительного; остановил такси и поехал к трем вокзалам; там нырнул в туалет, вышел оттуда в очках и кепчонке, надвинутой на глаза, вскочил в последний вагон электрички; на станции Кратово соскочил последним, когда состав уже двинулся; по тропинке трусил — сквозь сосновый бор, любуясь огненными стволами громадных деревьев.
Остановился он возле дачи с покосившимся забором; на участке работали три парня спортивного кроя. Немецкие овчарки, ринувшиеся было к нему в рыкающем оскале, признали своего, играючи пошли рядом.
… Шинкин Осип Михайлович, лагерный благодетель, который паспортами его снабдил, работой, квартирой и дачами, сидел за столом красного дерева (восемнадцатый век; скупил антиквариат в конце шестидесятых; реставрировал; отправил на свою дачу возле Риги, в дом сына и племянника; по нынешним подсчетам на каждый вложенный рубль получил не менее двух тысяч прибыли — пару миллионов, если считать чохом). Возле камина в низких, топящих креслах со львами-подлокотниками устроились три гостя — из Сочи, Грозного и Днепропетровска, руководители тамошних кланов, тузы.
Впервые они встретились на совещании Управления (так Сорокин предложил именовать их союз) в семьдесят шестом.
Представив собравшимся «Спиридонова» — под таким псевдонимом Сорокин в ту пору работал на юге страны, — Шинкин дал ему первое слово.
— Коллеги, я благодарю нашего друга Гридина (так, в свою очередь, он называл Шинкина, конспирация и еще раз конспирация) за предоставленную возможность поделиться соображениями о ситуации в державе, — начал Сорокин глуховатым баском; от волнения покашливал, словно бы в горле застряла мягкая рыбья косточка. — Хотя ситуация сейчас подконтрольна и вроде бы особых оснований для беспокойства нет, но мои эксперты из отдела перспективного планирования считают, что некоторая нескромность высших членов Управления, показное небрежение к законам этой страны — к законам неписаным, к нашей темени, которая может простить голод, холод, издевательства власти, но никогда не простит богатство соседа, даже если оно заработано каторжным трудом, — может оказаться чреватой последствиями. В этом смысле мы страна уникальная, и это следует всегда помнить. К сожалению, ряд наших коллег об этом забыли, что немедленно спровоцировало Комитет: Лубянке пришлось кое-где шваркнуть лапой. Правда, пока что попали не в тех, однако может ненароком и нас зацепить…
Хочу также поделиться достаточно тревожными соображениями по поводу того, как развивается наше дело. С одной стороны, мы имеем громадный рост производства, что способствует насыщению потребительского рынка товарами повышенного спроса, и это — в свою очередь — снижает опасность социального взрыва, который вполне возможен. Для нас нет ничего страшнее государственной нестабильности. Лишь параллельность развития нашего сектора государственному скрежету может служить гарантией устойчивости Системы… С другой стороны, рост нашей активности породил чрезмерную заорганизованность структуры Управления. И в этом я вижу самую главную опасность, ибо тоталитарные режимы — я имею в виду Сталина и Гитлера — многое прощают тем, кто далек от политики, но никогда не потерпят наличия сильной организации… Главным преступлением Вышинского против государственности был проведенный им разгром воровских малин; для отчета, конечно, красиво, но для реальной борьбы с грабежами, домовыми кражами, вооруженным разбоем этот шаг был самоубийственным, ибо лишил НКВД целой сети осведомителей, через которых только и можно было получать информацию о подготовке наиболее кошмарных преступлений… Когда малины были уничтожены, когда нанесли удар по самой структуре воров в законе, преступность стала зримо расти, причем преступность самая страшная, то есть неожиданная, спонтанная, совершенно не подконтрольная… Почему Управление, подобное нашему, было невозможно при Сталине? Потому что любую организацию — какой бы она ни была — следовало уничтожить в зародыше… Людей нашего типа, то есть истинный цвет нации, ее деловую прослойку, чаще всего уничтожали воры — в тюремных камерах и лагерях… При сталинском режиме страну морально убивали и тем, что снабжали лишь избранных, отметив их печатью особости, а остальных не брали в счет, винтики, второй сорт, молчаливое большинство — ибо народ наш, по словам Иосифа Виссарионовича, отличается долготерпением — ив этом он прав. Процесс раскрепощения, начатый Маленковым на августовской сессии Верховного Совета пятьдесят третьего года, когда он снял с крепостных колхозников налоги, — необратим, иначе страна рухнет… Эксперименты Хрущева нам дорого стоили, поэтому он и ушел… Но не думайте, что нынешний режим, с которым мы пока что работаем вполне лояльно, станет терпеть нас, если мы превратимся во всесоюзную организацию, — этого нам не простят, яблоко от яблоньки недалеко падает… Поэтому я предлагаю загодя разукрупниться и создать десять — двенадцать опорных центров, связанных между собой опосредованно.
Шинкин заметил:
— И начнется поножовщина между своими… Ты это предлагаешь? Чтоб мы уподобились американским коллегам? Нет уж, наша сила в единстве.
— Мы сохраним единство, Осип Михайлович. Кадры решают все. Мы подберем людей на ключевые посты, мы будем верстать планы для всех, мы будем контролировать прибыль наших центров, но если будем ворочаться в стране, как слон в лавке, нас станут расстреливать из пулеметов — вот вам мой прогноз… Либо надо загодя поворачивать страну — через наши возможности в высших эшелонах власти — к возвращению в тоталитаризм, опирающийся на наших людей, либо превращаться в монолит, но составленный из региональных центров…
— Когда мы едины, — возразил «Цавребов» из северо-кавказского подразделения, — когда мы знаем каждого, когда, наконец, мы верим друг другу, и эта вера базируется на фундаменте общего интереса, замыкающегося на Москву, значительно меньше шансов, что в наши ряды войдет чужой…
Сорокин улыбнулся:
— Даю гарантию, что стукач немедленно станет известен группе моих экспертов, вы неоднократно имели возможность убедиться в этом… Кстати, хотел бы сообщить, что стоимость нейтрализации скомпрометировавших себя работников Управления резко возросла… Прошу предусмотреть в годовом бюджете новые расценки.
— Сколько стоит устранение? — уточнил сочинский «Лузгунов».
— Нейтрализация, — нажал Сорокин, — стоит сейчас как минимум десять тысяч… В особо экстренных случаях или же в условиях повышенного риска стоимость возрастает до двадцати.
— Из кого состоит контингент тех, кто занимается черной работой? — спросил «Цавребов».
— Планированием и подготовительной работой по нейтрализации, — еще круче нажал Сорокин, хотя говорили на открытой веранде ресторана, снятого на весь день, подслушку не наладишь, — занимаются младшие братья (так называли между собой воров в законе). За это им, да и за охрану наших интересов мы теперь обязаны отчислять пять процентов от чистой прибыли — на премиально-представительские расходы… Прежняя ставка — три процента — стала нереальной, растет инфляция, цинк (так назывался рубль) теряет истинную цену… Естественно, непосредственным исполнением работы младшие коллеги не занимаются, эти благородные люди живут по закону, и мы не можем не уважать их традиции… Я встречался с авторитетными руководителями их подразделений, мы провели конференцию в Кисловодске, они поставили меня в известность, что вопрос найма исполнителей черновой работы по-прежнему надежно отработан…
— Думаю, в этом пункте мы согласимся с просьбой экспертов, ставки поднимем, — заключил Шинкин. — А вот как решим с децентрализацией?
— Я против, — сказал «Грызлов» из Днепропетровска. — Я согласен с высказанным опасением: может начаться свара между своими.
Проголосовали: предложение Сорокина забаллотировали.
Вернулись к его доводам значительно позже, когда ЧК арестовала директора Елисеевского гастронома Соколова и начала охоту за руководителем московского торга Трегубовым. Тот держался, как мог, — все же председатель ревизионной комиссии МГК, депутат Верховного Совета России; в разговоре с посланцем Шинкина горестно заметил: «Идиотство какое-то, право! словно я о себе думаю! Я же раб плана, мне каждый день надо Венгрию накормить! Да, да, именно так — Москва по численности населения сродни целой стране! А откуда брать товар?! Попробуй не поставь в город колбасу и мебель — тут же на ковер! Вот и приходится вертеться! Тому сунь, у этого возьми — попробуй иначе, сразу полетишь с кресла! Система делает из людей преступников»…
Тогда — на второй всесоюзной конференции Управления, собравшейся в Пятигорске, — Сорокин предложил смелый проект:
— При том, что младшие братья делают свое дело, и делают его отменно, в новых условиях следует переориентировать работу моих экспертов… Расценки на нейтрализацию чужих снова повысились, и мы не можем не поднять ставки — спокойствие работы того стоит… Но я бы предложил резко увеличить расценки на приобретение новых друзей в Системе — до миллиона рублей! Значительно легче контролировать ситуацию сверху, чем рубить засохшие сучья снизу… И треска много, и чужих глаз предостаточно…
— Миллион — не штука, — согласился Шинкин, — в конце концов наша чистая прибыль составляет четырнадцать миллиардов… И все это вкладывается в воспроизводство, мертвым грузом не лежит… Сколько людей сверху придется зарядить?
— Не менее пятидесяти, — ответил Сорокин — Я готов защищать эту цифру с карандашом в руке…
Шинкин тогда посмеялся:
— С карандашом не надо, «Спиридонов». Зачем грифелем бумагу мазать? Следы могут остаться… Ты ж в кармане солнечный компьютер носишь, на нем и доказывай…
Пятьдесят миллионов Сорокину выделили, возразил лишь «Азилов» из Самарканда: «Деньги будут практически бесконтрольны, не очень, конечно, большие, но все же копейка рубль бережет».
Шинкин удивился:
— Предлагаешь, чтоб «Спиридонов» у министров и секретарей обкомов расписки брал? Так, мол, и так, миллион получил, служу Советскому Союзу?!
… На прошлогодней встрече, когда экстренно съехались ведущие члены руководства Управления, Сорокин поставил вопрос о том, кого следует считать союзником, — в свете совершенно неожиданных перестроечных процессов, разворачивавшихся в стране.
— Да, конечно, Система была, есть и будет стержнем нашего общества, — говорил он. — Поскольку народ исстари воспитан так, что без разрешения первого лица — будь то страна, республика, область, город или район — ни одно деяние не может быть проведено сквозь этажи исполнительной власти, мы должны безоговорочно поддерживать аппарат — лишь в этом залог нашего благополучия. Да, бесспорно, Сталин виноват во многом, он был излишне догматичен, спора нет, но то, что он понял — «без железной руки с этим народом не совладать, искомый вариант — диктатура, то есть реанимация абсолютной монархии, когда вместо одного богопомазанника правит двадцатимильонная партия, но ведомая опять-таки одним человеком, авторитетом» — делает ему честь. В этом гарантия того, что мы еще вернемся к переосмыслению этой личности во всех ее противоречиях… Кто станет нашим главным противником? Это теперь понятно: кооперативное движение, хрупкая мечта гражданина Бланка, сиречь Ульянова-Ленина… К счастью, наши друзья в Системе за последние месяцы научились силовым приемам демократической борьбы: они не только задействовали Министерство финансов с его антикооперативным прессом, но и бросили против этих деятелей управляемые ими средства массовой информации… Они не закрывают кооперативы — не надо резких поворотов; они просто ставят их в такое положение, когда лучше самим закрыть дело подобру-поздорову.
Когда ряд изданий ныне постоянно обсуждает суммы заработков кооператоров — а на фоне нашей традиционной нищеты это вызывает к ним понятную ненависть самих широких слоев населения, — можно не бояться их подъема. Мы исходили и пока что продолжаем исходить из того, что при всех возможных передрягах Система сможет сохранить самоё себя и не поддастся кооперативным «рыночникам», ибо реальное появление свободного рынка в этой стране означает конец нашей деятельности.
Кто еще выступает против кооперативного движения? «Демократический фронт»? У них нет серьезной программы. Левые группы? Они поддерживают кооператоров, но левые не страшны до тех пор, пока разобщены и сражаются друг с другом за честолюбивое лидерство, конечно, «Память» могла бы стать самым надежным партнером, накал ее ненависти к кооператорам безудержен, поскольку те бросили вызов общинной доктрине, провозгласив примат деятельной Личности, если бы не вызывающая защита ими идей фашизма, абсолютной монархии и достаточно бескультурный антисемитизм…
«Азилов» из Узбекистана бросил реплику:
— При чем здесь фашизм, монархия и антисемитизм?! Они ненавидят всех, кроме русских! Их вопли уже поспособствовали тому, что наша активность в Прибалтике блокируется местными коллегами! Думаете, этого не случится у нас, в Средней Азии?! В Закавказье?! На Украине?! Поддерживая их, Система может оказаться в границах Московии! Они же необразованны и лишены страсти бизнеса! Они не понимают, что все железнодорожные артерии, связывающие нашу экономику с Западом, проходят через Украину и Белоруссию! А там тоже проснулось национальное сознание, чему во многом способствовали именно вопли «Памяти»…
«Азилова» поддержал «Арсен».
Как всегда, накал страстей снял Шинкин:
— Казалось бы, — он усмехнулся, — я должен был первым выступить против того, чтобы работать с «Памятью»… А я, наоборот, такую идею поддерживаю… Действительно, эта группа много глупит, но зато она фанатична, а это сейчас угодно… Как и то, чтобы искать виновных за развал экономики в чужих, но никак не в самих себе. Это привлекает к ним толпу, а с толпой шутки плохи: в армию забривают именно толпу… Так что я бы попробовал с ними поработать… Подвести к ним поддающихся ученых и публицистов, цивилизовать их, перенести направление главного удара с евреев на кооператоров и тех экономистов, которые отстаивают идею рынка, немыслимого без кооперации и личностей… А нам ни то, ни другое не нужно… Так что, давайте пока не будем принимать однозначного решения… Вынесем вопрос на очередной съезд, а деньжат я бы им подбросил, но только при условии, что руководить их агитпропом станут люди, управляемые нашими экспертами… И еще: надо постоянно требовать усиления налогового пресса — это убьет кооператоров и сильных руководителей индустрии. Подключить всех, кого можно, к этой кампании — нам налоги не страшны, мы деньги не отдаем и не декларируем… Далее: идет драка за децентрализацию… Это тоже для нас гибельно… Как и любая конкуренция… Пусть твои фашисты, — Шинкин улыбнулся Сорокину, — бьют и по этим позициям, нам о них нельзя забывать ни на минуту… Пусть воют о державности, о том, что Русь искони стояла Москвой, головою, так сказать, пусть кричат, что только юрким нужна конкуренция, самому духу этой страны отвратительна, потому как бездуховна, пусть на дух жмут, духом сыт не будешь, лишь бы в дело не лезли…
— В дело люди без таланта не влезут, — ответил Сорокин. — В них силен охранительный страх: «А ну, сунусь, да ни хрена не накормлю страну? Не одену? Сметут же людишки!» Нет, в этом смысле они не страшны, им бы покрасоваться, артисты, эстраду любят…
… И вот сейчас, получив вызов шефа (четыре безответных звонка в восемь утра), Сорокин увидел трех региональных руководителей ведущих кланов (днепропетровский — самый сильный, туда, на родину Леонида Ильича, чужих мусоров не пускали; начиная с шестьдесят шестого года этот город стал закрытой зоной). Встреча эта не планировалась. Что-то стряслось? Сразу же просчитал в уме: что могло до них дойти? Самое страшное, если кто-то сообщил о паспорте на выезд в ФРГ. Здесь и закопают, несмотря на то что три охранника, работавшие в саду, найдены им же, обучены и натасканы. Они же и пришьют. Абакумов годами любовно растил своих ближних, а как Сталин моргнул, так взяли они под белы рученьки своего шефа и преспокойно сунули в камеру внутренней…
В доли секунды он вспомнил все свои наиболее серьезные мероприятия, а также общесоюзные операции, находившиеся — по уставу Управления — под его контролем.
Провалов нигде не было; связь отлажена отменно; случись что в стране, в самом дальнем регионе — сообщили бы немедленно; информация о загранпаспорте, завязанная на двух рукописях, — о них, мафиози, сидящих здесь, и о Зое (миллион зеленых, особенно если продать в Голливуд, как обещал Давыдов) — не могла к ним прийти, иначе бы не звали сюда, хотя почему? Когда он кончил свои разговоры с Зоей, сказал своим вскользь, не педалируя: «Старуха нас больше не интересует, пусть ею занимаются те, кто алчет снять бриллианты или всучить ей живопись, особенно ее интересует Де Вит»; а уж дальше — техника, не его забота; главное, что ее голос и его страницы надежно упрятаны, а то, что Пшенкин перелопачивает манускрипт, — так и он, Пшенкин, не вечен, пора закругляться. И деда Строилова, последнего свидетеля, нейтрализуют, наводка передана, верная наводка для шестерок: геройское золотишко, одна Звезда чего стоит, да и побрякушек с платиной штук пятнадцать, живые деньги. Нет, на меня выходов нет, я играл через седьмых лиц, поди докопайся… Даже если и прихватят фрайеров, они на того покажут, кто с ними повязан, а от того беса надо шесть адресов пройти, чтоб на моих парней выйти, хрена выкуси!
Тем не менее он ощущал себя сейчас так, как бывало порою в кабинете Рюмина или Абакумова: выдернут после бессонной ночи, допрос в пять часов закончил, потом на квартиру Киры махнул, или иностранки, балериночки нежной, выпил в сладость, оттуда домой, к постылой дуре Милке, а в десять звонят — «срочно к руководству», вот и трясешься, пока едешь на площадь: «Что случилось? С какого бока ударят?!»
Он никогда не мог забыть, как однажды Абакумов навалился медведем: «Хозяин требует Федорову! А она в несознанке! Не можешь сломать дуру?! Какой же из тебя мужик? Даю час на размышление. Не внесешь дельное предложение — сорву погоны».
Сорокин понимал, что бешеная баба все вывалит Вождю, нельзя ее к нему пускать, скандал. Хотя, с другой стороны, Сталин сам приехал домой к Кавтарадзе, когда того выпустили, — без зубов, в шрамах, кожа да кости… Но ведь никого из тех следователей, кто с этим самым Кавтарадзе работал, не тронули! Даже, говорят, медали подбросили, вроде бы «За отвагу»… А Кавтарадзе сунули послом в Румынию — на откорм… Нет, в обиду нас Отец, конечно, не даст, но — вонь может пойти, старец на язык злой, скажет, как отрежет, не подняться потом, так и помрешь в подполковниках где-нибудь в Джезказгане…
Придумал он тогда лихо: «Федорова в психлечебнице, сдвиг, невменяема, опасно оставлять одну, сильны проявления агрессивной депрессии, врачи обещают поставить на ноги в ближайший месяц, пока же она все время требует встречи с любимым, день и ночь кричит: «Тэйт, где ты!? Где ты, Тэйт?! »
Абакумов вздохнул: «Оформи рапортом. И налягте же на бабу! Трое молодцов, а скрутить одну американскую раскладушку не можете!»
… Кивнув Сорокину на кресло возле гостей, Шинкин из-за стола не поднялся, хмуро осведомился о здоровье, а потом спросил:
— Кого из твоих близких можно отправить в Сочи и Днепропетровск?
— Что-нибудь случилось? — спросил Сорокин, опустившись в низкое, топкое кресло. — Мне никаких сигналов не поступало…
— Случилось, — ответил днепропетровский «Никодимов». — Два наших директора подали на выезд… Поступок не санкционированный, работу вели тайно…
Сорокин ощутил, как зажало сердце. Неужели играют? Могут. Эти могут все, асы. Зачем? Если узнали про Дэйвида, будут ждать его прилета, захотят перехватить. Связь. Самое важное в Деле. Только один раз здесь был разбор, кончившийся смертным приговором, случай из ряда вон выходящий, убрали краснодарского цеховика, который утаил сорок миллионов, — устроили показательный процесс, другим в устрашение…
— Давайте фамилии, — негромко сказал Сорокин, откашлявшись. — Займемся сейчас же… Серьезные люди? С выходами?
— Выходы есть, — ответил Шинкин, думая о чем-то своем. — Не очень серьезные, но тем не менее они бывали на наших региональных конференциях…
— Кто прислал вызовы?
— Веня и Шурик.
— Лос-Анджелес?
— Шурик теперь живет в Атланте.
— Наверное, я сам поеду в Днепропетровск, — сказал Сорокин. — А почему здесь коллеги из Сочи? Тоже что-то произошло?
— Нет… Пока что — нет, — ответил Шинкин. — Коллеги предлагают созвать внеочередной съезд в связи с кампанией, начатой против нас в прессе… Бесы перестраиваются, клеймят нас «организованной преступностью», пора и нам подумать о перестройке… Ты был прав, Эма, когда говорил о децентрализации… То, что мы сделали, — недостаточно, надо ломать структуру, лучше поздно, чем никогда… Когда и где будем встречаться? Нужен такой город, где ты можешь гарантировать стопроцентную безопасность для делегатов…
— Стамбул, — Сорокин хмуро усмехнулся. — Дайте день на размышление…
… Капитан Строилов дослушал последние слова Сорокина, выключил аппаратуру, положил ладонь на плечо шофера и тихонько сказал:
— Поехали…
И в эту как раз минуту генерал Строилов, выйдя из лифта, достал связку ключей и начал отпирать замок чуть трясущейся рукой. Когда дверь отворилась, он почувствовал, как его рот зажали потной ладонью и стремительно втолкнули в квартиру. Старик упал. В ту же секунду зазвенели стекла. На двух парней, ввалившихся в дверь следом за генералом, бросились с балкона сыщики. За ними стоял Костенко, бледный как полотно, не отрывая глаз от недвижного старика, распростертого на полу…
16
— «Скорую» вызывайте, — сказал Костенко сыщикам из местного (Николаши Ступакова) отделения.
Говорил сейчас очень тихо, как-то заторможенно, не разжимая рта, чтобы не показать обмершим псам — в наручниках уже, — как мелко стучат зубы.
Склонившись над мертвенно-бледным генералом, он осторожно подложил ладонь под голову, чуть приподнял ее на себя и, заметив, как дрогнули уголки рта старика, прикоснулся губами к его выпуклому, античному лбу; того ужасающего, невозвратного холодания не было; господи, только б жил!
Костенко поднял глаза на парней — одному лет семнадцать, малолетка, отпустят, гуманисты, второму чуть больше, — оперся ладонями о паркет, поднялся, взял грабителей за уши, яростно вывернул их, шепнув:
— Пикнете — пристрелю, оказывали сопротивление власти… Где третий?
Парни, становясь все более бледными, сопяще молчали…
— Пошли, — сказал Костенко и, продолжая выворачивать им уши, повел на кухню, к окну, в котором торчали зубчатые стекла. Пригнув их головы, он прошептал: — Вы пришли убить отца, псы… Я предполагал, что придут, но не думал, что подставят такую шваль. Сейчас я пригну ваши хлебальники к стеклам и выколю вам зыркалки, если сейчас же, сразу, не скажете, где ваш третий! Считать не буду… Ну?
— На улице, в «Москвиче».
— Номер двадцать четыре — пять три?
— Да.
Костенко отбросил сук и достал «воки-токи»:
— Пятый, — шепнул он, — бейте тот «Москвич» в задок. Со всей силы бейте. И составляйте протокол… За рулем сидит их вошь, берите его в отделение и сажайте в камеру.
— Шофер не согласится нашу машину курочить, запчастей нет…
— Приказ слышали? — Костенко едва не сорвался на крик. — За невыполнение под трибунал пойдете! Вторую машину подгоните к «Пионеру», примите гостей… И глядите по сторонам, может быть, заметите четвертого, того, кто наблюдает за всей операцией… Малейшее подозрение — ставьте наблюдение, это — цепь…
Костенко сунул «воки-токи» в карман, снова взял гнид за уши и, не скрывая уж более дрожи в лице, прошептал:
— Сейчас пойдете на улицу. Ясно? Двор простреливается, положат, если вздумаете бежать. Выйдете к «Пионеру». Там будет стоять такси. Ясно? Сядете на заднее сиденье. Все. Идите.
Отпустив их уши, ставшие сине-красными, он снял с парней наручники, провел по коридорчику к двери и, открыв ее, кивнул на человека, стоявшего на лестничном пролете возле окна:
— Таких здесь восемнадцать… Ясно, нелюди? Старик жив, поэтому вышка вам не светит… Но помните: если решите бежать — пристрелим.
Через три минуты зашершавил «воки-токи»:
— Докладывает «пятый»…
— На приеме, — ответил Костенко.
— Операция закончена.
— Подозрительных не было?
— Около «Диеты» стояла «Волга»… Когда наши отъехали, она рванула на разворот к брежневскому дому.
— Садитесь им на хвост! Ведите до конца! Установите их, это сейчас самое важное! Еще раз предупредите ГАИ: псы ощерились! Не упустить! На связь выходите в угрозыск местного отделения…
(Имя друга, Николашки Ступакова, не назвал, еще неизвестно, как пойдет дело, — несанкционированность и все такое прочее, а тому еще надо пенсию получить, нет ничего хуже, чем подставлять своих.)
… После того как доктор из «Скорой» сделал Владимиру Ивановичу Строилову укол («мне кажется, он упал головой на тапок, сантиметр бы левее, летальный исход неизбежен»), вызвав медсестру из Пятнадцатой клиники, которая шефствует над сталинскими жертвами и афганскими мальчиками, Костенко рванулся к Ступакову.
Псы сидели в камере: Гуслин Петр Сергеевич, ученик десятого класса, член ВЛКСМ, судимостей и приводов не имел, Залоев Виктор Матвеевич, экспедитор почтового отделения, член ВЛКСМ, судимостей и приводов не имел, и Стружкин Андрей Дмитриевич, шофер отделения связи, член ВЛКСМ, приводов и судимостей не имел.
— Кто дал наводку на квартиру генерала? — спросил Костенко.
— Какого генерала? — Залоев пожал плечами. — О чем это вы?! Мы никакого генерала не знаем… Если б нас на месте задержали, были б свидетели, а так только при Сталине на людей напраслину катили…
Костенко кивнул:
— С тобой ясно… Гуслин, тоже не будешь отвечать?
— А чего мне отвечать-то? Схватили на улице…
— Тебя никто не хватал… Сам сел в такси…
— Это не такси, а ваша оперативная…
— Откуда знаешь?
— Там в багажнике ваш скрючился, пистолетом в спину уперся.
— Стружкин, сколько тебе обещали за дело? — Костенко затушил окурок в спичечном коробке, вопросы ставил устало, незаинтересованно, словно бы обмяк, прикрывал то и дело веки, словно они сделались тяжелыми, неподъемными…
— А я их вообще впервые вижу… Вы мне дело не шейте… Мою машину разбили, приволокли сюда ни за что, ни про что, издеваться над собой не позволю…
— Ну что ж, — Костенко кивнул. — Иди, пиши, что этих псов никогда не видел, и потом можешь катиться ко всем чертям…
Проводив взглядом Стружкина, которого вывел из камеры милиционер, Костенко дождался, пока стих безнадежно-тюремный звук шагов, достал из кармана конверт с поляроидными снимками, бросил на лавку:
— Можете посмотреть… Тут все зафиксировано… Как вы из его машины вылезаете, как с ним прощаетесь… А ведь он сейчас возьмет на себя ответственность за дачу ложных показаний… А это — срок. Ясно, нелюди? Что касается свидетелей и улик, то после вас эксперты приезжали, там ваших пальцев полно, это — неубиенная улика… Меня сейчас другое интересует. Кто вам сказал про генерала? Ответите — отпущу… Но вам это невыгодно… Вас сегодня же вырежут, потому что вы — свидетели… Ясно? За три дня я возьму банду… Клянусь, — Костенко медленно поднял на них ненавидящие глаза. — Клянусь жизнью, псы… И тогда вы пойдете на процессе свидетелями, а не соучастниками… Гуслину дадут условно, маломерок еще… Тебе, Залоев, светит трояк… Если, конечно, старик не умрет… Вы ж бросили его, восьмидесятидевятилетнего, на пол, сталинские недострелыши… Молчим?
— А мы все сказали, — тихо повторил Гуслин, втягивая голову в плечи; поляроидные снимки рассматривал со страхом, глаза лихорадочно бегали.
Костенко поднялся:
— Пойдем, Гуслин… А ты здесь один посиди, Залоев, подумай… Шагай, Гуслин, я тебя в другую камеру посажу, к серьезным людям, не ровня этому нелюдю, там тебе все по закону растолкуют… Пойдем…
Он стукнул ладонью в дверь, конвоир сразу же распахнул ее, словно подслушивал. В темном коридоре, освещенном тусклым светом лампочки, забранной решеткой, Гуслин услышал хриплый хохот, доносившийся из соседней камеры.
— Посмотри в глазок, — сказал Костенко парню. — Полюбуйся на своих будущих учителей…
Гуслин молча замотал головой.
— Да ты не бойся, — усмехнулся Костенко, — смотри, а то наклоню…
Тот приткнулся к глазку. Три обросших детины в рванье гоготали, играя в «тюремное очко».
— Отворяйте камеру, сержант, — сказал Костенко.
— Не надо, — прошептал Гуслин. — Я скажу… Наводку на генерала дал Федька Рыжий, он со Стружкой в одном доме живет, на Кропоткинской…
Федькой Рыжим оказался Арсений Федяшкин, тридцати двух лет, судимый за квартирные кражи, официант кафе «Отдых». Попросив Ступакова установить связи пса, Костенко заглянул в кабинет, где Стружкин кончал строчить показания.
Дождавшись, когда тот поставил закорючистую подпись, разложил перед ним — трескучим карточным пасьянсом — поляроидные снимки.
— За дачу ложных показаний срок получишь, — сказал Костенко. — Бери второй лист и пиши про Рыжего.
— Про какого Рыжего? — Стружкин съежился, голос стал писклявым, слезливым, отчаянным.
— Ты мне вола не верти, паскуда… Арсений Федяшкин на очной ставке скажет правду, а ты умоешься большим сроком.
— Я без адвоката отвечать не буду…
— Ну и не надо… Никто тебя не понуждает говорить без адвоката… Валяй, вызывай… Только сначала я твоего адвоката к старику Строилову свожу… Поглядим, как он тебя после этого станет защищать.
— На одном адвокате мир не сошелся. Другого вызову.
— Пиши фамилию, вызовем, тварь…
— А какое вы имеете право меня оскорблять?! Я что, в фашистский застенок попал?!
— Знаешь, что бы с тобой сделали в фашистском застенке? Или у нас, при Сталине? Знаешь? Думаешь, если мы вознамерились по закону жить, то вам теперь все можно?! Все с рук сойдет?! Ошибаешься, Стружка… Если б ты был сиротой голодным — одно дело, а ты ж барчук, ты жизнью балованный, тебе лагерь внове будет, а до лагеря еще надо через тюрьму пройти…
— Вы меня на испуг не берите… Не расколюсь… Без адвоката ни слова не скажу…
— Ах, если б я был фашистом, — Костенко сокрушенно покачал головой, вздохнул и медленно поднялся. — Сейчас я в «Отдых» еду, что Рыжему передать? Говори — запомню…
С этим и вышел, ощущая глухую, безнадежную ярость. А ведь такие, подумал он, вполне могут нас в фашизм затолкать, если только дать расходить эмоциям…
… В «Отдых», конечно же, не поехал — рванул прямиком в аэропорт «Шереметьево», забитый детьми, стенающими женщинами, угрюмыми стариками — немцами, евреями, армянами, стайками веселых туристов, растерянными иностранцами, счастливыми командировочными, оценивающе-выжидающими носильщиками — вавилонское столпотворение…
Связался по рации со Строиловым. На Петровке его не было, дежурный ответил, что капитан поехал к отцу:
— Генералу очень плохо, товарищ полковник. Он потребовл вызвать прокурора и представителей комитета, хочет дать показания на Сорокина… Считает, что сейчас это единственное законное основание для его задержания… Он требует, чтобы его брали немедленно… Говорит, — голос дежурного сорвался, — «сделайте это, пока я жив»… Где вы?
— Еду в Шереметьево… Предупредили наших?
— Да.
— Скажите Строилову, что мы возьмем его…
— С чем? У нас же на него ничего нет…
… Лицо генерала было пергаментным, виски запали, сделались желтоватыми, голубоватые прожилки чуть покраснели и зримо, то и дело судорожно замирая, пульсировали, существуя как бы отдельно от неподвижных, устремленных в потолок глаз.
— Я, Строилов Владимир Иванович, боюсь реанимации сталинизма, — он говорил с трудом, страшась делать глубокий вдох, порою проводя сухим языком по запекшимся бескровным губам. — Я вижу, как мы поворачиваем вправо… Те, кто начал революцию перестройки, стали опасаться ее размаха… Я не против того, когда спорят на улицах, я за то, чтобы сталкивались разные мнения… Но я был и останусь противником национал-социализма и сталинизма… Обе эти ипостаси сейчас перешли в атаку… На нас… На несчастную страну… Народ, многие годы лишенный знания, слушает демагогов — нацисты всегда кричат громче других… А сталинисты повторяют то, что вдалбливали в головы несчастных людей последние шестьдесят пять лет… Вся наша история — это история абсолютистских запретов, на этом и сыграл Сталин… Он стал Иосифом Первым, и это легло на подготовленную почву: люди, отученные самостоятельно думать и лишенные права на свободную работу — без приказа и надсмотрщика, — ждали того, кто рявкнет, ударит, посадит, казнит… Дождались… Я увидел фотографию человека, которого знал под фамилией Сорокин, Евгений Васильевич… Пусть капитан Строилов даст нам это фото сейчас же… Приобщите его к моему заявлению… К этому исковому заявлению… Сорокин бегает трусцой… Да, да, я в полном сознании. Я хочу подписать записанную вами страницу… Вы ведь пишете протокол? Или только фиксируете мой голос?
— И то и другое, Владимир Иванович, — ответил прокурор. — Все делается по закону, не волнуйтесь…
— Я не знаю, что такое «волноваться»… В последние дни я стал бояться, это страшней… Сорокин бегает трусцой в кроссовках, которые стоят сотни рублей… В спортивном костюме, который не появляется на прилавках магазинов. Он живет хорошей жизнью, тот, который был осужден за «незаконные методы ведения следствия»… Почему ни Русланова, ни Федорова, ни я не были вызваны в качестве свидетелей? Это неправильно, что его обвиняли в «незаконных методах»… Такие методы были законны в его время… Я расскажу вам, какие это были методы… Он и его сослуживцы — если их так можно назвать — связывали мне руки за спиной, крутили жгутом ноги и тянули затылок к пяткам… Это называлось у них «гимнаст». Подложив под лицо подушку, они били меня резиновой дубиной по шее… Такой допрос продолжался в течение десяти часов — пока я не терял сознание… Сорокин требовал, чтобы я признался, будто выполнял шпионские задания члена Политбюро Вознесенского… И секретаря ЦК Кузнецова… Потом он засовывал мне в нос шланг от клизмы и пускал горячую воду… А я был привязан к стулу… И я захлебывался, а он стоял надо мной и смеялся… А со стены, из-за его спины, на меня смотрел тот, кого и сейчас многие жаждут, — фашист по имени Сталин… Руками Сорокиных Сталин убивал мыслящих, ему надо было привести к владычеству покорных кретинов, чтобы навечно продолжить в стране ад… Я не нахожу объяснения тому, что происходило… Вы успеваете писать?
— Да, папочка, — всхлипнул Строилов, — товарищи успевают, ты только не торопись, не утомляй себя…
Врач взял руку генерала, нащупал пульс, сокрушенно покачал головой.
Старик раздраженно поморщился:
— Дайте я подпишу то, что наговорил… Формы протоколов допроса остались прежними? Как и в то время? Эх, вы… Дайте ручку…
— Владимир Иванович, — сказал прокурор, — вы подпишете, когда мы все закончим…
— Нет… Сейчас… У меня в любую минуту может остановиться сердце…
Он медленно сжал в посиневших пальцах перо и подписал две страницы.
— Хорошо… Благодарю… Хочу продолжить… Сорокин называл мне сотни имен, мне казалось, что он хотел превратить всю страну, всех людей во врагов народа… Он торгаш по природе, он торговался за каждого, вымаливал, обещал, снова бил…
Чекист, приехавший вместе с прокурором, спросил:
— Владимир Иванович, сколько раз он пытал вас на допросах?
— Не помню…
— Очень важно, чтобы вы вспомнили… Это крайне важно для следствия…
— Я сидел во внутренней три года… На допросы он вызывал меня раза четыре в неделю… Один день говорил, пугал, путал… Три дня — мучил… Считайте сами… Да, еще я пролежал в больнице два месяца… После пыток у меня случился паралич левой ноги… Он был пьяный, когда бил меня, и попадал дубинкой не по ягодице, а по позвоночнику… Это было в пятидесятом, в мае месяце… Точнее — Первого мая… Я музыку на улицах слышал… Лозунги кричали по радио… А еще я могу свидетельствовать за Лидию Русланову и Зою Федорову… Он их не так мучил, как меня… Он их ставил в карцер, в каменный шкаф… На сутки ставил, на трое — без движения, как в гробу…
— Он знал, что вы ни в чем не виноваты? — спросил прокурор. -
— От него требовали, чтобы я стал виноватым… Он прекрасно знал, что я никогда ничьим шпионом не был…
— Но он никогда не говорил вам, что знает про вашу невиновность? Не просил согласиться подписать самооговор, потому что это нужно партии, стране, Сталину?
— Нет… Это говорил Рюмин… Когда меня принесли к нему из лазарета… На носилках… И в камере мне это же говорил… Фамилию не помню… Наседка… Уговаривал признаться, чтобы выйти на процесс… И там открыть всю правду… Но я-то знал, что это за игры…
— Сорокин вас пытал один? — спросил прокурор. — Или приглашал заплечных, чтобы держали?
— Когда как… Меня же к нему доставляли в наручниках… Руки за спиной… Да и на ногах еле стоял, держали в карцере, на воде и куске хлеба, сил не было защищаться… У него глаза становились какие-то белые, когда он через меня пускал ток… От него очень пахло затхлостью… У некоторых людей есть особенный, душный запах затхлости… И все они отчего-то стрижены под скобу… Я требую, чтобы он, Сорокин, был привлечен к суду не за «нарушение методов ведения следствия»… Я требую, чтобы его судили за осмысленный, звериный, сладострастный садизм… Сорокин страшен как явление: если не соглашаешься с тем, чего он требует, ты перестаешь быть человеком, делаешься тварью, пустотой, насекомым… Это страшнее, чем гитлеровский нацизм, понимаете? Это мистика какая-то… Сорокин пытал большевика, про которого ему сказал начальник, что тот — враг. Одного слова для него было достаточно… Понимаете? Слова барина, который давал ему право на все… Такого не было в истории человечества… А еще — но это было только два раза — он повалил меня и начал прижигать папиросой ступни… Это было накануне Октября… А потом сам мазал язвы мазью Вишневского…
— Теперь главное, — схватив синими губами воздух, продолжил Строилов. — В измене Родине, то есть в измене самому себе — понятия «Родина» и «я» неразделимы, — повинен и предатель, но еще более тот, кто подтолкнул его к этому дьявольскому, трудно понимаемому шагу… Так вот… Я стал изменником… Я — предатель… Да, да, пишите это… Я изменил себе, то есть Родине… И повинен в этом Сорокин… Он устроил очную ставку с моим шофером, Кириллом Семенычем, я с ним прошел войну… Тот должен был написать в протоколе, что я приглашал в машину английского консула, показывал ему военные объекты, получал за это пачки долларов и отдавал их — в моей же машине — эмиссарам Вознесенского для разворачивания работы «русского заговорщического центра»… Сорокин два года выбивал из меня признание, что мы хотели вывести Россию из Союза Республик, реставрировать капитализм, да еще пригласить из Штатов Керенского — в новые премьеры… Кирилл Семеныч молчал, отрицал все, хоть был забит до полусмерти… Тогда Сорокин приказал ввести его внучку, девочку-подростка, ей шестнадцати не было… Когда девочку втолкнули, Сорокин сказал: «Ты, лярва, в ансамбле танцуешь?! Раздевайся догола, сучонка, потанцуй напоследок перед дедом, пока я тебя в камеру не отправил! Люблю танцы, лярвочка!» Она стала белой, внученька его, а Кирилл Семеныч пополз со стула, впадая в медленное, не верующее в реальность происходящего беспамятство… А Сорокин подошел к девочке, начал с нее кофточку снимать… Аккуратно пуговички расстегивал, к себе прижимал… А она стоит, маленькая, трясется, как замерзший воробушек… Вот… Тогда я и сказал, что готов подписать на себя что угодно, путь только отпустит девочку… И мы с ним начали писать сценарий… Про то, как и почему я — один я, без группы, только я — пошел на измену Родине… Значит, Сорокина надо судить за измену, за пособничество измене Родине, за понуждение к тому, чтобы люди становились предате…
— Папа! — Строилов подался к отцу. — Папочка! — Он растерянно обернулся к прокурору, потом перевел взгляд на доктора. — Папочка… Папа мой…
… Костенко сидел в маленькой, без окон, комнате шереметьевского аэропорта, слушал голоса дикторов, смотрел на старый телефонный аппарат, страшась снять трубку и позвонить Строилову. Сердце жало, он чувствовал беду, понимал, что, если бы все обошлось, капитан наверняка связался бы с ним. Более всего Костенко ощущал свою случайную и суетную малость на этой земле, когда уходил друг или родной человек. Что сказать тем, кто стоит у гроба, неотрывно глядя на загадочную бездыханность ледяной материи, которая обречена на скорое превращение в пепел или тлен? Как выразить скорбь? Слов, адекватных таинству смерти, не существует… Больше всего он страшился тихих разговоров за спиной о том, как добираться на поминки, что удалось достать к столу, кто с кем поедет, где надо прихватить еще одну бутылку. В храме скорби бездумно включался суетный счетчик плотской жизни, словно бы сбросили груз — и айда дальше…
Костенко все же пересилил себя, набрал номер; все понял, услыхав женский голос: почему-то в доме, где случилась смерть, к телефону подходит именно женщина.
— Что? — спросил Костенко, ужасаясь нелепости своего вопроса. — Где Андрей Владимирович?
— Позвоните позже, — тихо ответила женщина, — он собирает отца…
— В госпиталь?
— Нет… Собирает… Одевает его… Владимир Иванович умер…
— Скажите, что Костенко звонил… Скажите… Я очень… Словом, скорблю… С ним я, скажите… Сердцем с ним… Я приеду…
Положив трубку, он явственно увидел лицо генерала, бездонные голубые глаза, скорбный рот с опущенными уголками и тщательно заштопанные рукава старенького свитера (а я даже не знаю, что случилось с женой капитана; почему развод; такой семейный человек; верно, «нежным дается печаль»; кто им стряпал, кто стирал; как поздно мы вспоминаем обо всех этих мелочах, которые и определяют жизнь). Именно эти заштопанные рукава, чиненая скатерть на столе и скрипучие кресла вспомнились сейчас ему особенно явственно; кто объяснит требовательную выборочность памяти?
Через «воки-токи» Костенко вызвал дежурного. Тот словно бы понял, что интересует полковника.
— Никодимова и неизвестный с цветами стоят возле официальных делегаций…
— Хорошо… Пусть наша девушка попросит их срочно позвонить в Росконцерт… Дэйвида пригласите в депутатский, я туда подойду… Пусть товарищи смотрят за Никодимовой и ее спутником. После разговора с Росконцертом они будут с кем-то связываться, меня интересует этот номер… Никого из тех, чьи фото я показывал, в зале нет?
— Нет.
— А на стоянке?
— Тоже.
— Здесь должен быть кто-то еще… Смотрите в оба…
Через три минуты Костенко поднялся, надел темные очки и, пройдя через служебный вход, двинулся навстречу Дэйвиду, который, весело болтая с аэрофлотской девушкой, семенил в депутатский зал.
Костенко пристроился рядом, кивнул девушке: «Спасибо» — и, взяв Дейвида под руку, тихо спросил:
— С прибытием, Давыдов, припоминаете меня?
— В чем дело? Кто вы? — Дейвид испуганно повернулся к нему и, побледнев, попробовал выдернуть руку.
Костенко покачал головой.
— Десять минут назад ваши знакомые убили очень хорошего человека… Подельца Зои Алексеевны Федоровой… Пошли кофейку выпьем, здесь рядом… Люди кругом, не волнуйтесь. Надо перемолвиться…
— Погодите, погодите! Вы товарищ Костенко?! — деланно изумился Дэйвид. — Рад вас видеть…
— По поводу радости — не надо.
— Нет, но вы меня ошарашили! «Мои знакомые», кого-то «убили». О чем вы?!
— Пошли присядем… Не надо на проходе толочься…
— Знаете что, товарищ Костенко, давайте расставим точки над «i». — Дэйвид полез за сигаретами, но никак не мог попасть в карман. — Я никакой не Давыдов, а Джозеф Дэйвид, гражданин США… И я нахожусь в международной зоне, а не в России! Я еще не перешел вашу границу… Поэтому я сейчас подниму такой крик, что Горбачеву с его перестройкой это не понравится, а уж нашему Бушу тем более…
— Вы-то не перешли границу, — согласился Костенко, — зато ваш паспорт перешел… Вы ж его сами аэрофлотской девушке отдали…
— Это провокация, — сказал Дэйвид упавшим голосом. — Я протестую…
— Против чего? Я приглашаю вас выпить чашку кофе… Только лишь… Разговор пойдет на людях, секретов особых нет… Хотя вы можете попросить меня перенести разговор в другое место, без свидетелей, — чтобы у вас не было неприятностей в Нью-Йорке… Это только кажется, что Двадцать третья улица и ресторан «Эль Кихоте» далеко от Шереметьева…
Дэйвид дрогнул:
— Откуда вы зна… Хорошо, я не против, давайте выпьем кофе, но я не понимаю, в чем дело? Меня люди ждут…
— Если хорошие люди — подождут.
Костенко подвел Дейвида к пустому столику, рассеянно кивнул на стул, отошел к стойке бара. Шумная группа туристов, вылетающая «по трассе дружбы Москва — Берлин», толпилась возле бара. Судя по одежде, туристы из провинции, цвет пиджаков и брюк удручающе коричнево-черен. Когда ж мы оденем по-людски несчастных, чтобы в нас не тыкали пальцами? Где совесть у тех, кто обязан думать о престиже страны? встречают-то по одежке, не по чему еще…
Заказав кофе, бутерброды с колбасой и две рюмки водки, Костенко терпеливо ждал, пока все это поставят на поднос; не оборачивался, был убежден, что Дэйвид ждет его, готовясь к разговору, лихорадочно просчитывает варианты ответов, а вопросов-то может быть уйма, есть чем интересоваться; это хорошо, что он сейчас бьется жопой об асфальт, пусть себе, василек…
Костенко расплатился с неохватной буфетчицей (бедненькие, со страху ведь толстеют, норовят сразу же утолить вековечный голод, наесться от пуза, боятся, что завтра отнимут место, закроют бар, запретят торговлю, у нас всего можно ждать); повернулся, увидел Дэйвида, который стремительно и жадно, как урка перед допросом, затягивался «Кэмэлом» без фильтра, ободряюще кивнул ему и снова сразу же — высверком, грохотом — увидел лицо генерала Строилова, когда тот медленно, рушаще, словно старая сосна, падал на пол в прихожей…
Медленно опустившись рядом с Дэйвидом, полковник потер веки. Снова появилось лицо Строилова — близкое, прекрасное, живое.
Достав «воки-токи», Костенко вызвал «девятого».
— Слушайте-ка, свяжитесь с нашими, пусть выяснят, где тело генерала… И объясните сыну — это надо сделать архитактично, — что необходимо отправить покойника в морг… Для вскрытия… Меня интересует лобная часть, особенно правый висок… Если там набухла гематома от удара, значит, он не умер, а его убили…
Спрятав «воки-токи», Костенко поднял наконец глаза на Дэйвида. Тот сжимал окурок, не чувствуя, видимо, боли, хотя тлеющий огонек явственно жег кожу.
— Погасите, — сказал Костенко. — Пальцы будут болеть…
— Что? Ах да, спасибо… Вы меня ошеломили, — товарищ Костенко… Эта встреча… Смерть… Я в полнейшей растерянности… Столько лет прошло, отвык от всего этого…
— Со времени нашей последней встречи прошло двенадцать дней, мистер…
— Вы что-то путаете… Я же помню, когда мы встречались… Это восемьдесят первый год… Вскоре после трагедии с Зоечкой…
— Вы же тогда отрицали свое знакомство с Федоровой… Почему теперь — «Зоечка»?
— Она для всего советского народа была и останется «Зоечкой», ее свято хранят в памяти…
— Не паясничайте… А то зачитаю показания, которые дал на вас Борис Иванович Буряца… Помните такого?
— Что-то слыхал, — ответил Дэйвид. В глазах его наконец появился ужас, пульсирующе расширявший зрачки.
— Ну-ну… Значит, вы меня — с тех пор, как нам довелось беседовать на Петровке, — не видели?
— Откуда, товарищ Костенко?!
— Подумайте еще раз… Вы могли меня видеть совершенно случайно, кто-то сказал на улице, вот, мол, мусор, который знает про дело «Зоечки» то, чего не знаем мы… Такого не могло быть?
— Вы как-то странно ставите вопрос…
— Разве это преступно — увидеть человека на улице?
— Я многих видал на улицах! Знаете Ирочку? Из Моссовета?
— Не юродствуйте… Мне трудно говорить с вами, Давыдов… Случилась беда, понимаете? Убили того человека, которого пытал Эмиль…
— Какой Эмиль? — Дэйвид втянул голову в плечи. — О чем вы?
— О Хренкове-Айзенберге… А теперь можете идти в город… Но имейте в виду: вы больше не нужны автору манускриптов о Зое Федоровой и структуре нашей мафии… У него на руках заграничный паспорт… Он уезжает… Ясно? Есть человеческое понятие — «не нужен»… Номер в отеле не нужен… Костюм… Контракт… Бриллиантовый кулон не нужен… А есть — волчье… Так вот, волчье «не нужен» означает лишь одно: смерть…
— Так не выпускайте его! — взмолился Дэйвид.
— На каком основании? Он едет к жене… Воссоединяется, так сказать… Да, вы идите, идите, я не держу вас… Вас люди ждут… Они ведь должны вас отвезти к нему? С третьего этажа прыгать высоко, да и не там вас кончат, а за городом, вы, возможно, знаете адрес, там и проткнут шилом…
— Погодите, пожалуйста, товарищ Костенко! Только не торопите меня! Я ничего не понимаю, мне нужно собраться, — Дэйвид снова закурил, поднял рюмку, расплескал водку — рука тряслась неуправляемо, да он и не скрывал этого, ужас был в глазах, ставших черными, оттого что зрачки расширились так, словно бы взрывались изнутри. — У вас ко мне, лично ко мне, есть претензии?
— Нет.
— Так чего же вы от меня хотите?
— Ничего.
— А зачем вы меня здесь встретили?! Зачем весь этот ужасный разговор? Я больной человек, у меня страшное давление… Почечное… Что мне теперь делать?
— Не знаю. Берите свой паспорт и отправляйтесь к вашим людям…
— Зачем вы меня пугали шилом?! Это ведь не шутка? Нет?
Костенко поднялся, достал из кармана фотографии, бросил их на стол:
— Это еще не все, Давыдов… Поглядите для начала эти, поймете, что я не пугал…
И неторопливо пошел из бара.
Дэйвид подвинул фотографии, стремительно просмотрел их: Сорокин во время пробежки, возле кратовской дачи, у телефона-автомата, рядом с «Волгой», на скамейке бульварного кольца — рядом с Никодимовой: она смотрит в сторону, он читает газету; стремительно перебрал нумерованные фото из уголовных дел: убитый Мишаня Ястреб, тело Людки на асфальте, укрытый простыней труп Бориса Буряцы, Зоя Федорова с простреленной головой…
— Погодите, — услыхал Костенко крик Дэйвида. — Подождите же! Скажите, что мне делать?!
Костенко неторопливо обернулся, мгновение смотрел на Дэйвида задумчиво, лицо свела гримаса боли, потом как-то досадливо махнул рукой:
— Верните фотографии… Если станете говорить правду, поможете себе… И нам… Разговор будет без протокола…
— А диктофон?!
— У нас это не доказательство.
— Так у нас доказательство!
— Вы меня не интересуете, Давыдов… Решайте свои вопросы в Штатах. Меня интересует только один человек, тот, которого вы продавали своим издателям как «Айзенберга»… Готовы к разговору?
— Только не надо таких вербальных нот в голосе, товарищ Костенко.
— Понятие «вербальная нота» к «вербовке» отношения не имеет. Если уж вас и решат вербовать, то это будет ЧК или ГРУ, мне вы за кордоном не нужны… Да и здесь, повторяю, тоже… Вы мне просто-напросто нужны живым… На те дни, пока вы здесь… Контракт Сорокину привезли?
— Кому?! Не клейте мне лишних! Я не знаю никакого Сорокина! Я привез контракт Айзенбергу! Да, да, тому, который бегает по улицам в спортивном костюме… И парится у себя на даче… Там же принимает душ Шарко и массажи…
— Это детали, — поморщился Костенко. — Если контракт у вас, то он его заберет, и вы ему больше не будете нужны!.. Ясно? Или еще раз объяснить, что такое «не нужен»? А мне нужны его рукописи… Больше я ничего не хочу… Если договоримся — гарантирую, что выберетесь отсюда живым… Вот, собственно, и все… Я понимаю, что вы мне боитесь верить… Ваше дело… Хотя запомните: нет больших либералов в странах, подобных нашей, чем люди в правоохранительных органах — можете называть их карательными… На этом, кстати, всегда горели советологи того государства, где вы сейчас живете… Так вот, если мы уговорились, я предоставлю вам возможность обсудить кое-какие детали с американцем… Он — настоящий американец, не натурализовавшийся. Ну, как?
— Я же ответил…
— Зачем я был нужен Соро… Айзенбергу?
— Вы же сами ответили… Издатель хотел, чтобы был комментарий того же сыщика, кто вел расследование по делу об убийстве Федоровой… Это сенсация, за нее платят…
17
… Приехав к себе в Поволжье летом тридцатого года, Михаил Андреевич Суслов, двадцативосьмилетний преподаватель марксизма-ленинизма, двинутый просвещать молодежь сразу после устранения из Политбюро Бухарина и Рыкова и исключения из партии Троцкого, Каменева, Смирнова, Зиновьева, Радека, Крестинского, Раковского и Преображенского, увидал в родной деревне такой голодный разор, что пришел в ужас: по ночам рубили яблоневые сады, растаскивали избы выселенных в сибирскую каторгу справных мужиков, нареченных отныне «кулаками», и увозили в степные схроны то, что оставалось еще в сусеках.
Дядька, отдавший Мишаньку в церковно-приходское училище (мечтал направить по духовной линии смышленого мальца), говорил тихо, то и дело оглядываясь, хотя сидели на завалинке:
— Помрет русское село, племяш… Ты к власти близкий, донеси правду: мор грядет… У мужика свое отняли, он на чужой земле работать не сможет, ты ж Библию знаешь, нельзя противу естества идти, сгинет Русь…
Вернувшись в Москву, Суслов засел за изучение партийных документов, заново проконспектировал работы Сталина и лишь после этого написал ему письмо, в котором доказывал необходимость самой суровой борьбы против затаившихся оппозиционеров, которые мутят воду и сбивают с толку колхозника, только-только начавшего приобщаться к социализму.
Он ощущал возвышенное, странное чувство, сочиняя свое письмо, ибо понимал, что оно должно определить его судьбу на многие годы вперед. Он совершенно точно понял, что Сталин — самый поразительный в истории человечества ренегат, ибо выписал на отдельные листочки отдельные цитаты из его выступлений только на протяжении двух лет, когда Сталин — руками Бухарина — уничтожил сторонников колхозного строя во главе с Каменевым и Зиновьевым, а потом уничтожил Бухарина, последовательного противника закабаления мужика.
… В двадцать шестом, валя Троцкого, Каменева и Зиновьева, генеральный секретарь утверждал:
«Индустриализация страны может быть проведена лишь в том случае, если она будет опираться на постепенное улучшение материального положения большинства крестьян…»
«Чем была сильна зиновьевская группа? Тем, что вела решительную борьбу против основ троцкизма. Чем была сильна троцкистская группа? Тем, — что она вела решительную борьбу против ошибок Каменева и Зиновьева…»
«Мы все, марксисты, начиная с Маркса и Энгельса, придерживались того мнения, что победа социализма в одной, отдельно взятой стране невозможна… Вот что говорит Энгельс: «Может ли революция произойти в одной стране? Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, то есть по крайней мере в Англии, Америке, Франции и Германии…
Правильно ли это положение теперь? Нет, неправильно…»
(Суслов не удержался, черканул: «Потому что власть сделалась собственностью тех, кто пришел наверх»; испугался, порвал на мелкие кусочки, вышел в коридор, заперся в сыром сортире и спустил бумажки в унитаз; ночью проснулся в ужасе: а вдруг какой засор — всплывет?)
«Товарищ Троцкий, видимо, не признает того положения, что индустриализация может развиваться у нас только через постепенное улучшение материального положения трудовых масс деревни… Рост частного мелкого капитала в деревне покрывается и перекрывается таким решающим фактором, как развитие нашей индустрии».
«Разве партия когда-либо говорила, что полная, окончательная победа социализма в нашей стране возможна и посильна для пролетариата одной страны? Где это было и когда — пусть укажут нам…»
«Партия не терпела и не будет терпеть того, чтобы оппозиция пыталась конструировать отношения между крестьянством и пролетариатом не как отношения экономического сотрудничества, а как отношения эксплуатации крестьянства пролетарским государством».
«Что значит политика разлада с середняком? Это есть политика разлада с большинством крестьянства, ибо середняки сейчас составляют не менее шестидесяти процентов всего крестьянства…»
«Недавно на Пленуме ЦК и ЦКК Троцкий заявил, что принятие конференцией тезисов об оппозиции должно неминуемо привести к исключению из партии лидеров оппозиции. Я должен сказать, что это заявление товарища Троцкого лишено всякого основания, что оно является фальшивым…»
И спустя полтора года, после того как Троцкий был исключен из партии, отправлен в ссылку, а затем выдворен из страны, — поворот на сто восемьдесят градусов:
«Группа Бухарина требует — вопреки политике партии — свертывания строительства колхозов и совхозов, утверждая, что совхозы и колхозы не играют и не могут играть серьезной роли в развитии нашего сельского хозяйства. Она требует — тоже вопреки партии — установления полной свободы частной торговли и отказа от регулирующей роли государства в области торговли, утверждая, что регулирующая роль государства делает возможным развитие торговли… Одновременно группа Бухарина обвиняет партию в том, что она ведет политику «военно-феодальной эксплуатации крестьянства… »
Суслов помнил, как группа молодых «красных студентов» из Поволжья, запершись в маленькой комнате Власова, ликующе шепталась о том, что после изгнания из ЦК Троцкого, Зиновьева, Каменева, Радека засилье «малого народа» кончилось. Именно они, представители «малого народа», шли с атакой на вековечный уклад русского крестьянства, которое было для них безликой массой, никогда ими не понимавшейся.
Однако Суслов боялся признаться себе в том, что, изучая речи Сталина на съездах партии, он не мог вычеркнуть из памяти слова Иосифа Виссарионовича, произнесенные в девятнадцатом году, когда тот поддерживал Предреввоенсовета Троцкого: «Я должен сказать, что те элементы, нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии, — крестьяне, не будут добровольно драться за социализм… Отсюда наша задача — эти элементы перевоспитать в духе железной дисциплины, заставить воевать за наше общее социалистическое дело…»
Суслов был готов уже в двадцать восьмом открыто выступить против «малого народа» в партии, набросал ряд заготовок, понимая, что такого рода выступление будет угодно генеральному секретарю, сказавшему довольно громко старому большевику Сосновскому: «Что ты вяжешься с партийными раввинами?! Ты ж русский! С нами б тебе и идти, отрекись — дадим хороший пост…»
Что-то, однако, сдержало тогда Суслова, и он потом только диву давался своей проницательности, прочитав интервью генсека еврейскому телеграфному агентству США — после того как на Западе стали открыто говорить об «общепартийном еврейском погроме», учиненном Сталиным под напором черносотенного крыла партийных новобранцев: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли…»
… Сочиняя свое письмо Сталину об «идеологических диверсантах» в колхозах, молодой преподаватель марксистско-ленинской теории прекрасно понимал, что он совершает акт особенный, клятвопреступный, но все происходившее в стране убеждало его, что именно такой поступок позволит ему подняться так, что помощь несчастному народу станет делом реальным, ощутимым, весомым, а не митингово-декларативным, пустым, начинавшим постылеть людям, уставшим от посулов, дрязг и постоянной напряженной нестабильности…
И в тридцать первом году, после получения сусловского письма генсеком, дотоле никому не известный преподаватель марксистской теории сделался ответственным сотрудником ЦКК ВКП (б). Именно через его руки прошел разгром группы Рютина, решившего — первым в истории партии — уничтожить тирана, захватившего власть. Именно он в тридцать четвертом году исключал из партии лучших ленинградцев, верных Кирову. Именно он готовил материалы на всех «командиров производства», строителей Днепрогэса, Кузбасса, Сталинградского тракторного, за что и был в тридцать седьмом поднят к руководству, а вскоре введен в ЦК и Верховный Совет и направлен первым секретарем Ставропольского крайкома партии — в кабинет человека, за неделю перед тем брошенного в камеру пыток.
Именно он, Суслов, планировал варварское выселение чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, получая сводки про то, сколько скрывшихся от депортации было выловлено и поставлено под пулемет. Оттуда Сталин перебросил его в Вильнюс, только-только освобожденный от оккупации. Там председатель Бюро ЦК Литвы Суслов осуществил депортацию двухсот тысяч литовцев, в первую очередь крестьян. Тут у него случился первый припадок эпилепсии. Отсюда он приехал в Москву, на Старую площадь, став секретарем ЦК.
Здесь он погрузился в кураторство идеологии, готовил разрыв с Тито и, затаившись, планировал решающий удар по космополитам, загодя изучая оперативную информацию по делу еврейских врачей. Сталин хотел, чтобы этот спектакль носил ярко выраженный эмоциональный оттенок, никаких двусмысленностей, пришло время открыто плевать на все и всякие еврейские информационные агентства США, с которыми нельзя было не считаться в условиях всесоюзного голода, людоедства, разрухи — тогда еще Сталин побаивался гнева народа, теперь он убедился в том, что снесут все, а уж голод — тем более, стоит только заранее обозначить тех чужих, которые во всем этом повинны…
Суслов правил статью, написанную для «Правды»: «Американская разведка направляла преступления большинства участников террористической группы (Вовси Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и другие). Эти врачи-убийцы были завербованы международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», являющейся филиалом американской разведки… Во время следствия арестованный Вовси заявил, что он получил директиву об «истреблении руководящих кадров СССР» через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса…»
Он же, Суслов, редактировал заготовку, рожденную в аппарате заместителя министра Рюмина: «Подлая рука убийц и отравителей оборвала жизнь товарищей Жданова и Щербакова… Врачи-преступники умышленно игнорировали данные обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, назначали неправильное, губительное для жизни «лечение»…»
Как и тогда, в тридцатом, сочиняя письмо Сталину, в котором винил троцкистов и бухаринцев в агитации среди крестьянства против колхозов, хотя знал, что против колхозов в эмиграции уже выступал Троцкий, а Бухарин был вынужден колхозы поддерживать — поди не поддержи, не на Принцевых островах живешь, а дома, под надзором ГПУ, — Суслов сейчас правил и редактировал бредни с какой-то отрешенной вдохновенностью, зная прекрасно, что Сталин спаивал Щербакова, а Жданова не пускал в отпуск даже когда тот же доктор Коган писал о необходимости серьезного кардиологического обследования «дорогого товарища Жданова»…
Чем явственнее Суслов знал правду, тем вдохновеннее и атакующе писал ложь, находя в этом какую-то жмущую сердце злость к себе, к своей растоптанной жизни, брошенной на алтарь того дела, которое представлялось ему единственным и главенствующим…
Когда после смерти Сталина он был выведен из Президиума ЦК вместе с Брежневым, когда ощутил ватную стену отчуждения вокруг себя, ибо на Старой площади все знали его преданность Сталину, он пошел ва-банк и попросился на прием к Хрущеву — сразу после речи Маленкова на сессии «Верьховного» (иначе произносить не умел) Совета, сделавшей Георгия Максимилиановича самой популярной фигурой в стране.
— Никита Сергеевич, — сказал он тогда, — Родина отблагодарит вас за свержение грязного югославского шпиона Берии, но неужели вы не понимаете, что присутствие Маленкова в главном кремлевском кабинете не гарантирует нас от опасности нового термидора? Он же спит и видит, чтобы убрать вас, а никто, кроме меня, не может подготовить материалы на Маленкова. Хотите вы того или нет, но я — единственный, кто работал под его непосредственным руководством…
Именно этот разговор изменил судьбу Суслова — в очередной раз. Несмотря на то что Хрущев достаточно долго колебался, стоит ли ставить на того, кто изгонял в Сибирь целые народы, механика борьбы за власть подвигла его на то, чтобы уже в пятьдесят пятом году, когда Маленков был сброшен и стал министром электростанций, рекомендовать Михаила Андреевича в состав Президиума ЦК.
Именно Суслов выступил на Пленуме против Маленкова, Молотова и Кагановича, отмежевавшись, таким образом, от общего с ними прошлого. Именно он — спустя семь лет — стал инициатором свержения Хрущева, именно он начал создавать культ Брежнева — больной, эпилептик, вечно мерзнувший, надевавший калоши уже в сентябре и запрещавший шоферу ездить с дачи на Старую площадь быстрее, чем сорок километров в час. Несчастным водителям приходилось тащиться на третьей скорости, сверхмощный мотор «ЗИЛа» жрал тридцать пять литров бензина на сто верст пути, в автобазе сокрушенно качали головами, особенно после того как все звенья партаппарата начали изучать новое теоретическое открытие Леонида Ильича о том, что «экономика должна быть экономной»…
До последнего дня своего он поддерживал Лысенко, не позволяя задевать его в печати ни единым словом; организовал атаку на Дубчека, вторжение в Чехословакию; первым проголосовал за высылку Сахарова в Горький; требовал ареста Валенсы и все более тщательно калькулировал процент инородческого элемента в партийном и государственном аппарате, закрывая некоторые посты даже для украинцев: «Там еще не до конца изжиты западные тяготения, ставка должна делаться на уроженцев восточной части России, тлетворные влияния Европы туда достаточно трудно досягаемы…»
Будучи по природе пуританином, он свято исповедовал мораль и жил, понимая свою трагическую разрубленность: с одной стороны, он видел себя, знающего всю правду об ужасе коллективизации, а с другой — существовал и действовал как человек, предавший эту правду, сделавший все, чтобы эта ужасная правда стала «клеветой, работой врагов, злонамеренной оппозиции нацеливавшей свое жало против великого марксиста-ленинца нашей эпохи…»
Понимая, что в нем соседствуют две взаимоисключающие личности, он искал оправдания этому ужасному разъедающему мозг и сердце (атеросклероз начался ещё в тридцать седьмом) состоянию. Он искал оправдания тому, что с ним стало, не в себе самом, но в тех объективных причинах, которые привели его к этой трагедии.
Постепенно, не сразу, исподволь в нем родилась твердая схема: да, я пошел на жертву, отдав на закланье главному делу жизни собственную нравственную целостность, я был обязан пробиться вверх, чтобы отсюда, с Олимпа, быть по-настоящему полезным несчастному русскому народу, ставшему объектом игры в руках членов Политбюро — евреев (Троцкий, Каменев и Каганович), грузин (Сталин и Орджоникидзе), украинцев (Кириченко и Шелест), армян (Микоян), белорусов (Мазуров и Машеров), финнов (Куусинен), латышей (Пельше).
Он ломал себя, приучая — год за годом — к тому, чтобы постигнуть великую науку ожидания. Он делал все, чтобы места белорусов и финна в Политбюро были переданы русским, армянина — русско-ориентированному казаху, латыша — русскоориентированному украинцу или же, что еще лучше, русско-украинскому полукровке с последующей заменой на чисто русского партийца.
Он видел, что Брежнев совершенно сдал, дни его сочтены, он напряженно и последовательно готовился к тому, чтобы стать первым лицом, возглавив Политбюро, и поэтому делал все, чтобы имя Леонида Ильича, который подарил стране двадцать лет благостного спокойствия, отмеченного печатью державной, солидной неторопливости, свойственной истории Российской империи, было прозрачно-чистым. Он, именно он, Суслов, сможет явить человечеству первый пример того, как наследник не поносит имя предшественника, но, наоборот, делает все для возвеличения его памяти: никогда такого, увы, не было — теперь будет, новая страница в развитии Державы. Умные историки, заранее расставленные им на ключевые посты в науке, смогут объяснить этот феномен преемственности, столь угодный будущему. Хватит, надоело отрезать прошлое! Как ни пытались отрезать Сталина — не вышло, силу не отрежешь, только слабость исчезаема, из ничего не будет ничего, так угодно Провидению…
Именно поэтому, начав атаку на Цвигуна, провалившего дело опеки семьи Леонида Ильича, позволившего потечь гнусным слухам о тех, кого так любил генеральный секретарь, Суслов преследовал свою тайную цель: уже при жизни Брежнева сделаться его добрым опекуном, неназванным поводырем, человеком, радеющим об имени первого лица более, чем само первое лицо…
Суслов знал, что сентиментальность Брежнева может в любую минуту обернуться неожиданностью. Когда генерал армии Епишев, комиссар Советской Армии, доложил ему о том, что режиссер Роман Кармен пошел на поводу у американцев, снимая свой фильм «Неизвестная война» (нашел кого приглашать в комментаторы; лицо кинозвезды Ланкастера вполне типично, смотреть противно, и здесь примазались, ничего не поделаешь, свой свояка видит издалека), Суслов позвонил в Госкино и задал всего лишь один вопрос, понимая, что именно вопросительная краткость вызовет в Гнездниковском переулке смятение:
— А что вы думаете о роли русского народа в фильме «Неизвестная война»? Или отдали право на это размышление главному противнику?
(«Главным противником» в ту пору определялись Соединенные Штаты Америки.)
Вообще, чем дальше, тем чаще он ловил себя на том, что подражает незабвенной памяти Иосифу Виссарионовичу в манере говорить, вести заседания Политбюро и общаться с теми деятелями литературы и искусства, которых порою считал нужным вызвать к себе в кабинет.
Он принял Галину Серебрякову — как-никак написала книгу о Марксе, отсидев в концлагерях добрых семнадцать лет, не озлобилась, гордилась членством в партии, которое ей вернули без перерыва в стаже; довольно стойко перенесла и то, что на Ленинском комитете ее смогли искусно забаллотировать и не дать премии.
Он полагал, что Серебрякова станет просить поддержки при новом туре голосования, видимо, поставит какие-то житейские вопросы — квартира или дача, — однако она стала говорить о другом, неожиданном:
— Михаил Андреевич, ведь вы же знаете, как и я, что ни Бухарин, ни Каменев, ни Серебряков, ни Крестинский с Сокольниковым никогда не были ничьими шпионами! До каких пор мы будем унижать друзей Ленина сталинской ложью? Честные люди, они высказывали свое мнение — вот их вина. Каким бы сложным человеком ни был Троцкий, но ведь он в своем поезде наркомвоена сделал сто сорок тысяч километров по фронтам гражданской…
Суслов поднялся из-за стола, походил по кабинету, потом подошел к огромному сейфу и положил узкую ладонь, казавшуюся бессильной, изнеженно-девичьей, на выпуклый замок:
— Они у меня все здесь, — сказал он тихо, с внезапной болью, удивившей его самого. — Они тут лежат, товарищ Серебрякова, замкнутые… И пока партия доверила мне этот кабинет, возврата к вопросу, который вы ставите, не будет… Товарищ Гроссман вам говорил, наверное, что я беседовал с ним по поводу его рукописи… Талантливо? Да, если страшное можно назвать талантливым… Но издана его книга — ранее чем через сто лет, а то и двести — не будет, нельзя этого делать, я слишком хорошо знаю мой народ, товарищ Серебрякова. Мы, русские, только внешне спокойны и неторопливы, а на самом-то деле нет людей более горячих, чем мы, вам же приходилось видеть наших в лагерях и тюрьмах… Только следуя линии власти, можно сохранить стабильность… Кулачные бои не французская забава и не английская — наша…
— Немецкие бурши сражались не кулаками, Михаил Андреевич, а кинжалами…
— Русы и пруссы — это не случайная близость, товарищ Серебрякова… Это неподнятый пласт языкознания… Мы близки не только духом, но и кровью. Боярин Кобыла не русак, а пруссак, а ведь был близок к тому, чтобы сесть на наш трон… Так что мой вам совет: не возвращайтесь к той теме, которую подняли, вас не поймут… Я — во всяком случае…
… Госкино доложило Суслову, что с Карменом проведена довольно жесткая беседа, затребован сценарий — для вторичного контрольного прочтения, указано на неточность позиции в отношениях с американской стороной и артистом Ланкастером.
Епишев благодарил сердечно, сказал, что теперь у его аппарата развязаны руки, Кармена вызовут в ПУР для крутой беседы, хватит чикаться с писаками, продыху нет от этих сратых «интеллектулов».
— Интеллектуалов, — поправил Суслов. — Но смысл, конечно, не меняется, вызов традициям, никогда это слово в нашем лексиконе не употреблялось, внесено чужаками, в этом, пожалуй, я согласен с Солженицыным, с его «образованщиной»…
Но через три дня на приеме в Большом Кремлевском дворце Брежнев, заметив Кармена, приглашенного, как обычно, с Майей, женою его, любимицей аппарата Генерального секретаря, совершенно неожиданно для всех покинул свое председательское место за столом Политбюро и направился к пепельно-бледному Роману Лазаревичу, распахнув руки для объятия задолго перед тем еще, как приблизился к нему.
Прижав к себе худенького, хрупкого Кармена, он спросил:
— Слушай, а ты помнишь, когда мы с тобою впервые познакомились?
— В Кремле, — ответил Кармен, — на первой встрече с деятелями искусства…
— Это при Никите Сергеевиче, что ль?
— Да.
Брежнев покачал головой:
— Нет, Роман, короткая у тебя память… Было это в сорок первом, на Украине, я засел с моей «эмочкой» в кювете, а ты мимо ехал, дорога пустая, немец бомбит, танковый прорыв, не выберешься — пристрелят… Все неслись мимо, как мы руками с шофером ни махали, только ты остановился и втроем с твоими товарищами машину мою из кювета вытащили… Ты еще сказал: «С тебя бутылка, подполковник»… Я ответил, что, мол, сейчас отдам, а ты посмеялся, воевать, сказал, надо, а пьяным только дурак воюет… Вот я и решил тебя сейчас при всех отблагодарить, добро не забываю, зла не прощаю, спасибо, Роман…
И Суслов, и Епишев — как, впрочем, и все, собравшиеся в зале, — видели это объятие. Епишев подскакал к Кармену первым: «Роман Лазаревич, ты ж наша гордость, фронтовик, ветеран, герой, на тебя вся надежда, нажми на американцев, чтоб твое кино как следует поднять, ведь такая замечательная работа…»
Суслов горестно подумал: «Никому нельзя верить, предадут вмиг, что за народ, боже праведный!»
Он никогда не мог забыть, как его помощник Воронцов принес ему свой комментарий, написанный совместно с молодым профессором филологии Феликсом Кузнецовым, о том, как еврейская банда ГПУ погубила Маяковского, включив в операцию по травле великого поэта своего давнего агента Лилю Брик, сестру печально знаменитой еврокоммунистки Эльзы Триоле, жены Луи Арагона, одним из первых восставшего против «диктата московского ЦК».
Суслов довольно долго изучал воронцовский документ, понимая, что такого рода публикация вызовет однозначную реакцию на Западе и весьма неоднозначную в России. После колебаний он склонился к тому, что вертикализация национального характера значительно важнее европейского брюзжания; в конце концов, Россия — для русских, а не для французов с итальянцами; согласие на публикацию дал, хотя попросил смягчить некоторые формулировки: «лишний гвалт нам не нужен, бить надо фактами».
Воронцов отправил рукопись — комментарий к собранию сочинений Маяковского, издававшегося «Огоньком», — в Главлит, несмотря на то что Анатолий Софронов просил Воронцова убрать ряд абзацев — «слишком остро, не поймут». Тот посмеялся (лежал в Кремлевке, на Мичуринском, отдохнул, чувствовал себя прекрасно): «Боишься шабаша, Толя? Если не мы их, значит, они — нас, усвой это правило диалектики».
Однако руководящий работник Главлита отказался подписать этот комментарий в печать: «Я слишком русский человек и поэтому не могу позволить себе мазаться антисемитизмом. Наши аристократы не подавали руки жандармам и юдофобам».
Воронцов поначалу оторопел, а потом даже рассмеялся:
— Слушайте-ка, вы на кого работаете, а?
— На партию, — ответил тот. — То есть на интернационализм.
— Вы мне лозунгами не отвечайте. Вы знаете, кто я? Знаете. Вот и извольте выполнять указание.
Этим же вечером Константин Симонов, к которому Брежнев питал удивительную почтительность, даже на сталинградские торжества приглашал с собою на трибуну, отправил письмо Генеральному секретарю. Тот позвонил Суслову домой, на Бронную, вечером:
— Чем там твой помощник занимается, Михаил? Фронтовики протестуют, не надо меня ссорить с творческой интеллигенцией…
Суслов немедленно связался со своей приемной и продиктовал «сидельцу» болванку приказа об увольнении Воронцова по собственному желанию на пенсию — с сохранением дачи, кремлевского пайка и клиники; самому Воронцову звонить не стал и дал указание впредь с ним не соединять…
Сразу же после этого собрал совещание и нацелил Политпросвет на подготовку цикла теоретических конференций о научном вкладе Леонида Ильича в сокровищницу марксистско-ленинской мысли.
Информация о том, что Цвигун так ничего и не сделал, чтобы немедленно остановить расползание слухов о личной жизни сына и дочки Первого Лица, подвигла его на то, чтобы вызвать члена ЦК и Союза советских писателей, кинематографиста, генерала армии Семена Кузьмича Цвигуна из Барвихи, где тот приводил в порядок расшатавшуюся нервную систему:
— Если в течение недели вы не сможете положить конец гнусным сплетням, распускаемым о людях, которые далеко не безразличны Леониду Ильичу, если вы не добьетесь того, чтобы ни одна капля зловредной клеветы, гуляющей по Москве, впредь не марала имя человека, ставшего лидером всего прогрессивного человечества, — пенять придется на себя, призовем к партийной ответственности.
— Михаил Андреевич, но мне в таком случае необходимы санкции на чрезвычайные меры, иначе ни я, ни кто другой на моем месте не сможет прекратить слухи…
— Инстанция — не нянька! Раньше нужно было думать о мерах! Повторяю: если в течение недели порядок не будет наведен, кладите на стол партбилет, партия — не богадельня!
Суслов знал, что делал: он понимал, что Цвигун не может ответить ему исчерпывающе. Что ж, в таком случае придется отвечать «политику Андропову, который сумел выстроить себе замок из слоновой кости, спрятавшись в нем от грязи, которую переправляет на стол ему, секретарю ЦК, требуя подписи под каждым решением против тех, кто думал инако и поступал не как все, а по-своему, «якающе».
Требуя пустяшные — в свете всего происходившего в мире (Афганистан, Эфиопия, самиздат, «звездные войны», крах экономики, Камбоджа, либерализация Китая, постоянные заговоры против товарища Чаушеску со стороны эмигрантских террористов, ситуация на Кубе) — данные о том, как, в частности, развивается дело по задержанию убийц Зои Федоровой, пути которой якобы пересекались с тем, кто имел выходы на семью, аппарат Суслова постоянно атаковал вопросами Цвигуна и Щелокова, а те даже не могли толком переговорить друг с другом, чтобы выработать общую линию, ибо знали, что люди Андропова не спускают с них глаз: трагическая взаимоувязанность тотальной несвободы.
Суслов отдавал себе отчет в том, что, ударяя по Цвигуну, он одновременно бьет и по Андропову — одно ведомство. В этом был глубинный смысл задуманной им операции: Андропов давно перерос свой государственный пост, становился некоронованным королем политики, отодвигая, таким образом, его, Суслова, с кресла «номер два». Суслов при этом сохранял с председателем КГБ самые добрые отношения, как-никак ставропольцы, он там родился, я — состоялся, казачья косточка, мудрость и широта, вольница и смелость…
После очередного разговора с Цвигуном (вышел из кабинета второго человека страны смертельно бледный) Суслов встретился с Брежневым, который теперь бывал на Старой площади только три раза в неделю.
Говорили о Щелокове. Слишком много нареканий, идут письма, нельзя не реагировать, Андропов, видимо, не сможет и дальше замалчивать факты.
Брежнев позвонил Председателю Совета Министров Тихонову:
— Слушай-ка, милый, — сказал он своим особым, сытым голосом, так говорил в минуты наибольшего напряжения (захлебно шутил с Твардовским за день до вторжения в Чехословакию, анекдоты рассказывал), — сделай милость, возьми себе заместителем Щелокова…
Тихонов засмеялся:
— Леонид Ильич, да он же вор! Самый настоящий вор! Казни, но в замы не возьму.
… Когда Цвигун застрелился, Брежнев позвонил Суслову:
— Зачем же ты так людей калечишь, а? Ну, виноват, ну, наказали б, но под пулю подставлять не надо… Он же был мне верен, как пес… Или тебе мои люди перестали нравиться? Может, считаешь, что пришло время окружать старика другими? Не рано ли меня хоронишь? Не думай, что в мое кресло сядешь, серым кардиналом не меня называют, а тебя, не меня критикуют в республиках, а тебя, запомни это… Я добрый-добрый, но до поры, шутить со злыми можно, они трусливые, а с добрыми не шуткуй — добрый человек силен… И уже если я твои архивы подниму — по тридцатым и сороковым годам, — повалишься так, что пол носом прошибешь… Народу ты накосил предостаточно, сотнями тысяч исчисляются, если не миллионами, уважаемый народный избранник…
… Он пожалел об этом разговоре назавтра, когда сообщили, что Суслов при смерти; на заседании Политбюро увидел холодные глаза Андропова, скрытые толстыми стеклами очков, угольки Горбачева, сидевшего рядом с «Юрой», бесстрастные — Громыко, единственного, с кем оставался на «ты», и понял вдруг, что остался совершенно один среди этих людей; только Суслов утирал слезы, когда он читал наизусть Есенина (знал почти всего, от корки до корки), остальные — рассеянно внимали; только Суслов стоял с ним плечом к плечу, защищая память Сталина; только несчастный старик в пенсне первым ставил вопрос на Политбюро о присвоении ему, Брежневу, очередной Звезды, не обращая внимания на то, что те же Горбачев и Андропов рисовали на стопках бумаги какие-то сложные диаграммы, стараясь не смотреть на кардинала…
… Вот тогда-то, после всех этих скандалов с артистами, будь они неладны — одну убили, другую ограбили, третьего посадили в острог, чтобы принести горе дочери, — он и начал задумываться о том, кто же примет из его рук империю, кто сохранит по нем благодарственную память…
Тогда-то он и сказал себе, что лишь Черненко или Гришин смогут сохранить то, что он создавал эти долгие и прекрасные двадцать лет, вот тогда-то он и решил лишить Андропова реальной власти, переместив из КГБ, отдав при этом всю кадровую политику Черненко, — в конечном счете все решает математическое большинство голосующих, что ж еще-то?
Как и все люди малой культуры, лишенный глубинного политического чувствования, он не мог себе представить, что выборы Генерального секретаря будут происходить не на Старой площади, а в кабинете министра обороны Устинова — того, который, казалось, всегда и во всем был с ним, с Брежневым.
Вот и пойди разберись в людях…
Маленькая частность — гибель старой русской актрисы — оказалась одной из тех крошечных капель, которые могут оказаться последней, той, которая переполнит чашу — горя ли, терпения, усталости или тотального, пугающего своей тишиной безразличия…
— Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей (Псалом 117,9).
— Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека (Псалом 117,8).
— Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и сердце которого удаляется от Господа (Иеремия, 17,5).
— Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, Сбирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни (I Тимофей, 6,17–19).
— И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге… В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение; боящийся несовершен в любви… Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь: чтобы любящий Бога любил и брата своего (I Иоанн, 4, 16, 18, 20, 21).
Как же мог Бог не карать презрительным забвением всех этих несчастных, самопредавших себя Сусловых, Брежневых, Гришиных, главным стимулом которых была не любовь, а страх и жажда удержать наслаждение, полученное ими от обладания властью?
Несчастные, могли ли они дать счастье согражданам своим?
И страдалица Зоя была обречена на муки не только теми, кто арестовал ее в сорок шестом, пытал в сорок седьмом и убил в восемьдесят первом, но и тем, что рождена она была здесь и жила в те страшные годы, которые именуют то «культом», то «застоем», а смысл в них затаен один: предательство того Бога, которому эта страна кланялась с той поры, как изрубила и сожгла прежних богов своих, горестных и добрых Перунов…
18
Варенов пришел в себя только в купе сочинского экспресса: за триста рублей достал купе в международном вагоне, обрушился на мягкую койку, затолкал под голову подушку и, запрокинув руки за голову, хрустко вытянулся, ощутив смертельную, безвольную расплющенность. Все те долгие часы, что он клеил пластырь на разбитую бровь и переносье, кружил по городу, собирал из тайников деньги (распихал по карманам сорок тысяч сотенными, не бог весть сколько, но какое-то время можно продержаться), менял такси и вагоны метро, опасаясь слежки, но усталости не чувствовал, а лишь постоянный, изматывающий, зубоклацающий ужас. Только здесь, в вагоне, сломался, перестав ощущать тело…
Он понимал, что, после того как назвал проклятому Артисту телефон Большого Босса, жизнь его рухнула, прошлое перечеркнуто, пощады не будет.
Если бы не ночная операция с Людкой, он бы пошел на Петровку, в ЧК, Прокуратуру, к черту, дьяволу и рухнул бы на колени, взмолившись о защите, отдал бы мусорам этого оборотня Эмиля. Он представлял себе, как его участливо выслушают, а потом неминуемо зададут вопрос про то, где он был той ночью, и, как бы он ни вертел, все равно развалят до задницы. Даже если и сохранят жизнь, то вломят пятнадцать лет строгого режима — медленная смерть, гниение, лучше уж сразу пулю в затылок. И Эмилю открыться нельзя: он не простит того, что я отдал его телефон, ни за что не простит, его только Никодим знает и я, да и то он открылся две недели назад, раньше к себе не подпускал, общался через Толика, а тому задания передавал кто-то еще, без имени и адреса, конспирация, неверие никому и ни в чем.
Достав из авоськи (специально купил неприметную, на такие ни мусора не зарятся, ни ворюги) бутылку коньяку, расцарапал пробку, приложился к горлышку, начал пить большими глотками, в который раз уже уговаривая себя, что это последняя, сейчас надо быть трезвым, предстоит принять решение, возможны разборы и толковища, надо быть постоянно собранным, это не профсоюзные собрания, каждое слово надо взвешивать, любой миг быть готовым к неожиданностям, На такое рода процессах все решает мгновение: умеешь вовремя отмахнуться — твое счастье, нет — смерть, не взыщи, все по закону…
Мечась по Москве, Варенов постоянно искал выход. Ему казалось, что спасение где-то рядом, хотя мысли были рваные, путаные, огрызки какие-то. Он верил, что мысль живет отдельно от плоти, по своим, неподвластным человеку законам, и то, чему суждено произойти, свершится вне и без человеческой на то воли, само по себе.
До того мгновения, пока поезд не тронулся, Варенов не очень-то отдавал себе отчет в том, почему он поехал именно в Сочи, а не в Днепропетровск, Ашхабад, Пятигорск, Ригу или Одессу, где тоже были надежные люди. Только оторвавшись от бутылки и ощутив размягчающее тепло, он понял, что в Сочи ему нужен Петух, который знал многих авторитетов в стране, потому что снабжал их охрану магнитофонными записями самых популярных певцов и ансамблей. Именно он, Петух, может дать наводку на Артиста. А если Артиста удастся нейтрализовать, тогда дело закроется само по себе: единственный свидетель его разлома раз и навсегда замолчит.
Хорошо, замолчит, очень замечательно, но ведь Эмиль спросит, где я был все это время. Что отвечать? А очень просто: увидел тройную слежку, топтали и в подъезде, решил свалить, оторваться, а уж потом, убедившись, что чистый, позвонил бы.
Он снова приложился к бутылке: хмель не брал, только проходил озноб, не так бил трясучий колотун.
Варенов лежал на кушетке, растирая бесчувственные одеревенелые пальцы о мягкое одеяло. Ладно, допустим, я все это ему выложу. Что б я сделал на его месте? Как бы я поступил?
Когда в дверь резко постучали, Варенов вскинулся, ощутив безнадежную закупоренность: если войдут мусора, только и остается, что тянуть руки в гору. На пороге, однако, стояла проводница:
— Постелить вам?
— Что?! Конечно, постелите!
— Билетик ваш, пожалуйста…
— У меня два… Приятель позже сядет… В Харькове…
Проводница улыбнулась:
— А может, приятельница?
Он покачал головой и, глянув на женщину — под пятьдесят, но сбитенькая, с игрой, — достал из кармана стольник:
— Может, бутылочку найдете?
… Пришла она к нему, когда проехали Тулу. Ощущая звенящую дрожь, он быстро раздел ее, нервно, словно мальчишка, лязгая ремнем, разделся сам, ищуще потянулся к ее рту пересохшими губами и, застонав жалостливо, услышал ее молящее: «Тише, услышат, миленький…»
Проснулся он ночью. В купе никого не было. Вскочил, ощупал карманы куртки — пачки денег были на месте. А если она их увидела? Сдаст, обязательно сдаст. Вышел на перрон в Харькове. Молоденькая проводница, сменившая напарницу, посмотрела на него с понимающей улыбкой.
Свалить, что ли? Еще хуже — телеграмму дадут; будь что будет; вернулся в вагон, поскребся в первое купе, отворил дверь. Женщина спала, укрыв лицо рукой, он положил ледяную ладонь на ее плечо, шепнул:
— Чего ж ушла? Я жду…
— Сейчас, — ответила она, — только тронемся… Ты ж захрапел, я и подумала, что тебя на всю ночь сморило…
… В Сочи он вышел выспавшимся, колотун прошел, но выпить хотелось по-прежнему. Молил себя: «Жди, нельзя сейчас, потом, после Петуха, захмелишься, а то все дело погубишь». Но кто-то другой, живший в нем, посмеивался: «Все погубишь, именно если не выпьешь. Петух почувствует в тебе страх, а с ним надо жестко говорить, держать марку, да ты и кружева не умеешь плести, когда не поддатый».
На привокзальной площади взял такси, сказал везти в «Ахун», накрыл стол на две персоны. Зарядив официанта, попросил принести икорки, осетрины, балыка, алчно выпил тягучую соцкую и сразу же позвонил Петуху.
— Жду, друг! Предлагаю выступить по высокому разбору…
— Сейчас не могу, Варево… Что ж заранее не сообщил?
— Я только с самолета… Стол накрыт…
— Ты один?
— А что?
— Нет, ничего, просто интересуюсь… Телок не привез?
— В Тулу со своим самоваром не ездят… На полчаса хоть подгреби… Машину прислать?
— Могу сам на трех приехать, — усмехнулся Петух. — Ладно, жди…
… Пили до упору, потом отправились в «Жемчужину», купили люкс, сняли двух проституток, заказали ужин в номер. Там Варенов и обрушился; проснулся словно бы от толчка, потянулся к куртке: денег не было; вскочил, ощупал джинсы, две упаковки стольников лежали в задних карманах; автоматически просчитал, что осталось тысяч пятнадцать, главные деньги рассовал в куртку, благо карманов много; из гостиницы тут же свалил; если лярвы погорят, мусора неминуче придут к нему — потерпевший…
Петуха дома не было. А может, он меня и почистил? С этого станется, шакал. На обострение идти нельзя, только он в состоянии помочь, больше соваться не к кому, тупик.
Ждал его часов восемь; дождался. Тот обрадовался — без игры, от души:
— А я тебя в «Жемчужине» искал, Варево!
— Меня лярвы обобрали…
— Да ну?! Крупно?
Варенов пожал плечами:
— Крупно, мелко, теперь не воротишь… Не мусорам же заявление писать… Мне один друг должен пятьдесят косых, надо взять, хочешь войти в долю?
— Дело чистое?
— Я по мокрому никогда не ходил, сам знаешь…
— Сейчас все смешалось, Варево…
— Я не мешаюсь… Как Артиста, кстати, найти? Записную книжку оставил в Москве…
— Артист давно завязал…
— Ссучился?
— Он большой авторитет, Варево… Таким нет резона сучиться… Устал, наверное… Да и потом, говорили, у него любовь…
— Ну, это его заботы… Пошли, жахнем, зябко мне. Только сначала узнай его номер, а? Или адрес, я лучше к нему без звонка подъеду, чего лишний раз марать человека…
… Петух позвонил в Москву, рассказал о просьбе Варева; адрес Артиста ему дали. Информация об этом звонке ушла двум адресатам: Сорокину по одним каналам, Костенко — по другим.
… Варенова и двух вооруженных боевиков, принявших его в наблюдение следующим же утром во Внукове, взяли в подъезде дома, где жил Артист. Операция вступала в последнюю фазу: Айзенберг завтра улетал в Берлин — туда не нужна западная виза, зачем светиться возле посольства, гласность гласностью, а ЧК всех на пленку снимает, контора работает, он-то уж это понимал как никто…
Никто, впрочем, не знал, что у него был билет на поезд Москва — Берлин, который отправлялся с Белорусского вокзала послезавтра вечером, а в кармане к тому же лежал второй паспорт, на имя Андрея Григорьевича Суконцева…
Строилов сломался. Отправив отца на вскрытие, вернулся домой, лег на узенький кожаный диванчик, укрылся пледом, подтянул острые колени к груди и замер, страшась пошевелиться. На телефонные звонки не откликался, и не потому, что не было сил протянуть руку, но оттого, скорее, что знал заранее, кто звонит и как станут говорить.
Внутри стало пусто, как в квартире, из которой вынесли все вещи жильцы, уезжающие отсюда навсегда…
Чем дальше, тем он обостреннее ощущал, что отец — худенький, беспомощный, с трудом ковылявший в магазин со своей олимпийской пластиковой сумочкой, готовивший ужины (часто пережаривал, бедненький, совсем стал слепеньким), — есть последнее родное существо, связывавшее его с сотнями Строиловых, живших когда-то на земле. Он был той пуповиной, которая позволяла капитану ощущать свое родство с прошлым, без которого жизнь возможна только в том случае, если у тебя есть жена, дети, братья и сестры, добрые тетушки, старенькие дедья, родня, одним словом. А когда ты остался один, образовалась такая гулкая тишина в себе самом, что всякое движение страшило, как в детстве, когда просыпался в спецдоме и с ужасом слушал безутешные всхлипы тех, кто вместе с ним был заключен в эту тюрьму — разве что только без колючей проволоки нос решетками на окнах.
… Посадив в машину задержанного Варенова, сунув ему в рот сигарету, Костенко снова набрал номер Строилова, зная заранее, что никто не ответит.
— Догадываешься, куда я звоню, Варево?
Тот покачал головой.
— К человеку, у которого твой хозяин отца убил…
— У меня нет хозяев, — ответил Варенов, обретя уверенное спокойствие, как только кончилась изматывающая душу неопределенность. До этого он все время ждал подсказки, верил, что в последний момент что-то поможет ему, кто-то возьмет под защиту, нельзя ему гибнуть, несправедливо это, вся жизнь впереди, дохнут те, кто заранее отмечен, а я-то обречен на долгую и счастливую жизнь, зря, что ль, переводил тысячи на гадалок?!
Сейчас, сидя с тем, чью фотографию ему показывал Босс (когда ж это было? недавно ведь совсем, а кажется, жизнь прошла!), Варенов видел лицо Эмиля и слышал его слова: «Сейчас такое время пришло, Исай, что нужно все отвергать, никаких играшек, они в суд без улик не пойдут, так что — выпустят, а если нет — мы тебя выкупим, рукастые…»
Он словно бы зубами держался за эти слова, как за спасательный круг держался, и поэтому чувствовал входившее в него успокоение.
— У меня есть твой палец, Варенов, ты знаешь, где мы его нашли, нет смысла запираться… Тем более ты там, видимо, не главный был… Говори правду, у меня времени мало, лучше сразу определим позицию, глядишь, и поможем в чем…
— Вот они, мои пальцы, — Варенов кивнул на кисти, стянутые наручниками. — Каждый человек имеет пальцы, они для того и даны, чтоб следы оставлять…
— Не юродствуй… Я ж тебе не про пальцы говорю, а про палец… И не спрашиваю, откуда у тебя при задержании был пистолет в кармане… Все равно скажешь… Я тебя спрашиваю про хозяина, он меня занимает.
— А я говорю, что нет у меня никакого хозяина! А пистолет вы мне сами в карман засунули…
— У нас кино есть, как ты этот пистоль в подвале на Лесной брал.
— Вы суду кино предъявите, пусть посмеются.
— Не беспредельничай, Варево…
— И вы — не надо… Вы мне вину докажите… Я вам свою честность доказывать не обязан… Ваше время теперь кончилось, по закону будем жить…
Костенко кивнул:
— Верно. И жить будем по закону, но и расстреливать — по закону — тоже будем.
Он снова закурил, сказал сыщикам, сидевшим рядом с Вареновым, чтобы везли его оформлять на Петровку, и, подняв наконец глаза на арестанта, негромко сказал:
— Думай о том, Варево… какое алиби выставишь на ту ночь, когда Людку убивали… Видишь, я поступаю по закону, силков не ставлю, даю шанс…
… Сорокинские боевики молчали, отрицали все вчистую: и финки им не принадлежат, впервые видят, и Варенова никакого не знают, точка! Ни на один вопрос не отвечали. Крутые парни, ничего не скажешь, школа…
Костенко заехал домой, взял из своего НЗ две бутылки «Посольской», написал Маше записку, чтоб не ждала, останется спать у Строилова, выгреб в кулек из холодильника все, что было, и отправился на Кутузовский проспект — буду стучать, закричу, откроет, не может не открыть…
… Он поднялся на четвертый этаж строиловского дома, остановился возле квартиры генерала, положил кулек на пол и прижался ухом к двери. В соседней квартире кто-то бездарно-деревянно разучивал гаммы, в другой визжали дети; в угловой, у телефона, надрывалась глухая бабка, повторяя крикливо-равнодушное: «Громче, Лид, не слышно! Гутарь громче, в трубке трещит, теперя, говорят, всех подслушивают!»
Положив ладонь на дверь, Костенко пошлепал несколько раз. Стучать костяшками казалось ему невозможным сейчас, любой резкий звук для Строилова ножом по стеклу…
Никто не отвечал.
Костенко склонился к замочной скважине, прижался губами, ощутив тошнотворный привкус меди:
— Андрей, открой, у меня дело…
В квартире по-прежнему царила тишина.
— Андрей, не заставляй меня карабкаться по лестнице… Все равно войду, окно ж на кухне открыто…
Он не слышал шагов; дверь отворилась внезапно. В проеме стоял обросший, еще более осунувшийся Строилов. На нем были толстые шерстяные носки, поверх джемпера натянут старенький армейский ватник. Выутюженные в стрелочку переливные брюки казались чужеродными, словно с другого человека.
— Очень срочно? — спросил он потухшим, заметно севшим голосом.
Костенко поднял кулек с гостинцами, вошел в квартиру, включил свет и только тогда ответил:
— Да.
Строилов по-прежнему стоял не двигаясь, в комнату не приглашал:
— Докладывайте здесь.
— Я принес водку… Вам надо расслабиться.
— Я не пью.
— Да и я не алкаш… Полагается… По-христиански…
— По-христиански полагалось бы предупредить меня, что за папой началась охота… А не играть в самодеятельность…
— Можно пройти на кухню?
— Нет… Мне надо побыть одному…
Костенко положил наконец злополучный кулек на подзеркальный столик, полез за сигаретами, одернул себя: старик просил здесь не курить — надо перетерпеть, оперся о дверь и отчеканил:
— Мне горько напоминать, что именно я просил вас найти человека, который бы эти дни побыл с Владимиром Ивановичем. И мне будет еще горше, если вы скажете, что не помните этих моих слов.
— Я приучил себя не верить словам. Я ненавижу слова. Ненавижу, понимаете?! Каждое слово — перевертыш! В устах одного это правда, у другого — ложь, у третьего — лесть, у четвертого — предательство… Вы что, не могли сказать: «У меня есть данные, что за стариком охотятся»?!
— У меня не было данных, капитан… Я чувствовал это…
— Вы не в театре работаете, а в уголовном розыске.
— Я, между прочим, нигде не работаю… Так что позвольте мне жить так, как я хочу… И если бы, следуя моим чувствам, я не обратился к Николаше Ступакову и не получил у него в помощь двух парней, Владимир Иванович не умер бы у вас на руках, а лежал на полу, исколотый шилом!
— Уходите отсюда…
— Никуда я не уйду… Простите, что брякнул… это жестоко… Пожалуйста, простите… Просто я очень не люблю просить, понимаете? И повторять не умею дважды… Наверное, это плохо…
— Можете дать слово, что у вас не было фактов?
— Клянусь… Это очень страшно — жить чувствованиями, но без этого в нашей профессии нельзя… Думаете, мне легко носить это в себе? А еще я чувствую, что Сорокин может уйти…
— Дайте сигарету…
— Не дам.
— Я не курил только из-за па… Дайте, не надо быть классной дамой, дайте…
Костенко протянул ему пачку и, подхватив свой кулек, пошел на кухню.
Там было холодно, стекол, конечно, никто не вставил. Костенко нашел старое одеяло, заколотил створку, включил газ, нашел сковородку, пожарил вареную колбасу, сделал бутерброды с сыром и, заглянув в комнату (Строилов снова лежал под пледом), спросил:
— Сюда принести?
— Не хочу…
— Я ж старался…
— Ешьте… И пейте на здоровье… Я вам не мешаю.
— Андрей, я понимаю, как вам больно… Но зачем людей обижать? У вас было страшное детство… А у меня? Отец погиб, мать — медсестра… Я голодным был до того дня, пока не попал в университет… Получил стипендию — двадцать семь с полтиной, — впервые наелся от пуза… это очень унизительно — быть голодным, Андрей, и ходить в одних туфлях по три года… У меня с тех пор пальцы подвернуты, нога-то росла, а купить новые ботинки не могли… И комнатенка у нас была при кухне — восемь метров… Стенка фанерная, шепот слышен… А в университете надо было каждый день благодарить товарища Сталина за счастливую жизнь, какой не знает ни один человек на земле… Мы с порванными душами жили…
— Это как? Все понимать и молчать при этом?
— А вы-то сами когда заговорили?! И не путайте меня, оборванца, с собой! Вы после пятьдесят третьего стали неприкасаемым, Андрей Владимирович! И попробуйте сказать, что я не прав!
— Петя Якир тоже был неприкасаемый? Или Красин? Внук того, наркома?! Сажали обоих! Мучили, погубили!
— Вас тоже сажали?
— Хотите доказать, что и я тварь?! Сам знаю… Налейте стакан…
Строилов выпил, от закуски отказался, занюхал хлебом.
Костенко мягко улыбнулся:
— Не думал, что вы так умеете.
— Невелика наука… знаете, как сердце рвет?
— Догадываюсь…
Строилов покачал головой:
— Нет… Не знаете… Когда отец вернулся… Налейте еще… Спасибо…
— Закусите…
— Я не пьянею… Так вот… Когда отец вернулся, он сразу за мной приехал… В детприемник… А я стал от него вырываться… Кричать стал: «Уйди, не хочу!» Извивался, когда на руки взял, по щекам… бил… Плевал ему… в глаза…
Костенко спрятал лицо в ладони, налил себе водки, тягуче выпил ее, закусывать тоже не стал, она сейчас была спасительно-необходимой:
— Воспитатели вдолбили, что враг?
— Нет… Я боялся людей в военной форме… Самое для меня ужасное были погоны… И чем больше была на них звезда, тем страшнее казался человек, олицетворение тюремной несвободы… Я впервые назвал старика «папой», когда мне исполнилось тринадцать… Семь лет, бедненький, жил не с сыном, а с волчонком… Понимаете? Я не верил, что он отец мне… Мне ж вдолбили, что отца нет… И никогда не будет… И объяснял мне про это младший лейтенант Жимерикин, воспитатель. А ту страницу показаний, которые папа… диктовал перед смертью… где он требовал привлечь к суду Сорокина, подписать не успел… А без его подписи это не документ… Для суда, во всяком случае… И Сорокина за садизм и за пособничество предательству не посадят… Вот так…
Костенко вздохнул, руки беспомощно упали вдоль тела:
— И те, кого мы взяли, молчат… Адвоката требуют…
— Правильно делают…
— Это как понять?!
— А так… Либо станем цивилизацией, либо снова скатимся в привычное для этой забубенной страны прошлое… В зверство скатимся, в фашизм, к новому Сталину… К тому, что дети будут в лица отцов плевать. Знаете, что я отцу говорил? «Из-за тебя мама погибла. Другие молчали и выжили, а тебе покрасоваться не терпелось, мол, умней других!» Это мне не воспитатели вдолбили… Это мне девочки из старшей группы объяснили… Будущие матери… Каких они детей воспитали, а?!
— Значит, согласны отпустить Сорокина?
— Я обязан выполнить свой долг… Изобличить и поймать… Пусть закон решает… Да, с адвокатом. Только так… Налейте…
— Подогреть колбаску?
Строилов досадливо махнул рукой, и Костенко увидел, как по его совершенно неподвижному лицу покатились слезы, крупные, как у ребенка…
Поднявшись, Костенко бросился к нему, обнял голову, прижал к себе и сам, не выдержав, затрясся, а Строилов сидел недвижно, только лились безутешные слезы, и Костенко вдруг явственно увидел малыша в черном бушлатике и больших, не по размеру башмаках, стриженного наголо, в комнате с зарешеченными стеклами и тусклым, только нашим тюрьмам присущим электрическим светом, делающим все окрест безнадежно-серым, одноцветным, предсмертным…
— Я не отпущу Сорокина, — продолжая сотрясаться, сказал Костенко. — Все что хочешь говори, а я его не отпущу!
… Он ушел глубокой ночью, когда убедился, что Строилов уснул.
Написал записку: «Пожалуйста, не езди на работу и не поднимай трубку. Я вернусь вечером. Или ночью. Слава».
19
Свет лампы резким овалом высвечивал текст.
«11 декабря 1981 года в 20 часов 30 мин. гр-ном Федоровым Юрием Михайловичем, уроженцем г. Москвы, в квартире № 243 дома 4/2 по Кутузовскому проспекту был обнаружен труп его родственницы Зои Алексеевны Федоровой.
О происшедшем Федоров сообщил по телефону «02» в Дежурную часть «Петровки, 38». На место происшествия была направлена оперативная группа Киевского РУВД, а затем оперативно-следственная группа ГУВД. Кроме того, на место происшествия выезжали руководящие сотрудники РУВД и ГУВД.
Осмотром места происшествия установлено:
1. Квартира гр. Федоровой З. А. состоит из трех изолированных комнат и расположена на четвертом этаже в подъезде № 6 девятиподъездного 9-этажного дома;
2. Труп гр. Федоровой находился в полулежачем положении, в кресле, стоящем в гостиной около стола, в одном метре от входа в комнату. Голова запрокинута назад, в правой руке зажата телефонная трубка. Сам телефонный аппарат находился на столе.
Во время Великой Отечественной войны З. А. Федорова вступила в интимную связь с сотрудником военно-морского атташе посольства США Джексоном Роджером Тэйтом, от которого родила дочь Викторию. Некоторое время была замужем за кинооператором Раппопортом. С 1946 по 1955 г. находилась в местах лишения свободы. В 1955 г. была реабилитирована, после чего вновь приступила к работе в кинематографии, находясь в штате Театра-студии киноактера. В 1978 г. вышла на пенсию, но продолжала участвовать в концертах, преимущественно в гастрольных поездках (амплуа — комик). Поддерживала связи с многочисленными работниками искусства в различных городах страны. Ее дочь — Федорова Виктория Яковлевна, 1946 г. р., по окончании ВГИКа была зачислена в штат киностудии «Мосфильм», снималась в 15 кинофильмах, получала призы, в том числе в 1968 г. приз ЦК ВЛКСМ. В 1975 г. В. Федорова выехала в США для встречи со своим отцом — Джексоном Р. Тэйтом, являвшимся контр-адмиралом в отставке, и осталась в США, выйдя замуж за гражданина США Ф. Пойема. В настоящее время имеет сына, проживает в г. Стамфорд, штат Коннектикут. Участвовала в съемках фильма антисоветского содержания, является автором такого же рода книги под названием «Дочь адмирала».
З. А. Федорова трижды выезжала в США для встреч с дочерью и в 1981 г. вновь подала ходатайство для получения визы, в которой ей было отказано.
По мнению некоторых знакомых З. А. Федоровой, последнее время она была несколько ограничена в средствах, в связи с чем часто участвовала в гастрольных поездках.
В целях раскрытия совершенного преступления:
- в 123-м отделении милиции г. Москвы создан специальный штаб, в состав которого вошли работники ГУУР МВД СССР, УУР ГУВД Мосгорисполкома, Киевского РУВД г. Москвы, сотрудники Московской городской и Киевской районной прокуратур. В настоящее время к работе по данному делу подключено УКГБ СМ СССР по г. Москве и Московской области;
- выполнен ряд следственных действий и проведены неотложные мероприятия оперативно-розыскного характера: назначено проведение экспертиз (трассологической — по замкам и ключам, химической — по одежде племянника Федоровой, баллистическая, судебно-медицинская);
- о совершенном преступлении дана информация по городу, а также во все МВД (УВД) страны.
Установлено, что 11 декабря 1981 г. Федорова 3. А. примерно в 13 ч. 15 мин. звонила гр. Грушинскому, бывшему сотруднику Росконцерта, и просила его назвать ей артистов, которых она могла бы пригласить на совместные гастроли, в связи с тем что к ней приехали из Краснодара и приглашают на гастроли. Грушинский продиктовал ей ряд телефонов, записи которых были обнаружены на столе рядом с телефонным аппаратом.
Имеются также сведения, что Федорова на протяжении ряда лет занималась скупкой ювелирных изделий. При тщательном осмотре квартиры Федоровой были обнаружены 60 пустых коробочек из-под ювелирных изделий.
В целях организации работы по раскрытию совершенного преступления проведено инструктивное совещание при зам. начальника РУВД по оперативной работе. Для городских органов милиции установлена ежедекадная отчетность о проделанной работе по данному делу.
С использованием возможностей МВД СССР проведена работа по установлению объектов утраты или похищения пистолетов системы «Зауэр» в целом по стране. Выявлено таковых 3 случая, обстоятельства которых устанавливаются.
Через УООП ГУВД Мосгорисполкома установлены лица и организации, имеющие в пользовании пистолеты указанной системы. Установленные организации отработаны, а трое граждан, имевших оружие системы «Зауэр», проверяются.
В ходе работы по делу проведен комплекс мероприятий, по результатам которых определены возможные мотивы совершения убийства З. А. Федоровой, на основании которых разработаны следующие версии:
- убийство совершено родственными связями потерпевшей из корыстных или иных низменных побуждений;
- преступление совершено лицами из числа иных связей Федоровой по тем же мотивам;
- убийство совершено лицами из числа уголовно-преступного элемента с целью ограбления;
- преступление совершено с целью сокрытия другого преступления или по политическим мотивам.
В соответствии с разработанным по приведенным версиям планом выявлено 13 человек из числа родственных связей Федоровой З. А., 247 человек из числа ее иных связей. Опрошено и допрошено 643 человека.
Непосредственно по 1-й версии проведены следующие мероприятия:
- проведена отработка родственников потерпевшей; проверены их алиби, направлялась на экспертизу их одежда. По результатам проверки их причастность к убийству не усматривается;
- осуществлены проверки всех родственных связей Федоровой, проживающих в г. Ленинграде;
- установлены и проверены два человека, которые ранее состояли в браке с В. Я. Федоровой.
По 2-й версии проведена следующая работа: проверкой архивных материалов установлена преступная группа П. и Ш., члены которой были знакомы с потерпевшей и в своих преступных целях даже использовали ее автомашину «ЗИМ», которая впоследствии была продана в г. Ашхабад. Известно, что П., 1937 г. р., уроженец Москвы, ранее трижды судимый, перед арестом в 1968 г. работал администратором в Москонцерте, где занимался организацией концертов. Там же он познакомился с С., 1941 г. р., одним из активных членов преступной группы, погиб в 1975 г. С. также был знаком с Федоровой З. А., по доверенности водил ее а/машину «ЗИМ», посещая Федорову, неоднократно занимал у нее деньги. П. и С. организовывали «левые» концерты. Вместе с членами своей преступной группы П. неоднократно выезжал в Краснодар, где имеет обширный круг знакомств среди работников филармонии. В 1970 г. П. и Ш. были осуждены к различным срокам лишения свободы. Фактическое местонахождение П. в настоящее время устанавливается. Ш. в июне 1981 г. совершил разбойное нападение на кассира в г. Калинине, скрывается, находится во всесоюзном розыске. В г. Калинин командировался сотрудник уголовного розыска, имевший фотографию Ш., который сделал выборку его известных связей. В настоящее время проводится работа по установлению связей Ш. и его розыску. Дактокарты Ш. и П. проверены. Совпадений с пальцевыми отпечатками, обнаруженными на месте происшествия, не установлено.
В результате изучения образа жизни Федоровой З. А. установлено, что в октябре — ноябре 1981 года она с группой артистов принимала участие в гастрольной поездке по Краснодарскому краю. Как следует из допроса Грушинского, к Федоровой приезжали сотрудники Краснодарской филармонии, приглашавшие ее вновь участвовать в гастролях. В УВД Краснодарского края были командированы сотрудники УР, которые установили работников указанной филармонии: Б. (ранее судимого по ст. 58 УК РСФСР — 24 г.) и Г., занимавшихся организацией концертов в честь столетия станицы Привольная, в которых принимала участие З. А. Федорова. Проводится проверка Б. и Г., а также установление и отработка их связей.
Проверена проживающая в Краснодарском крае жена Ш. Кроме того, в Москве установлена еще одна его жена, 1955 г. р., в отношении которой организована необходимая проверка.
В ходе работы по делу в ОБХСС Севастопольского РУВД г. Москвы поступил анонимный звонок, что к данному преступлению может быть причастен гр. Б., ранее проживавший в д. № 4/2 по Кутузовскому пр-ту, хорошо знавший З. Федорову. Установлено, что Б. имеет высшее техническое образование, длительное время не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, по месту прописки фактически не проживает, поддерживает связь с неким Г., который владеет немецким языком, встречается с гражданами ФРГ. Также известно, что одной из их связей является Б., проживающая: Кутузовский пр-т, 4/2, поддерживающая связи с лицами, ведущими сомнительный образ жизни, ранее была замужем за Б., место нахождения которого устанавливается (Б. был ранее судим за разбойное нападение с применением огнестрельного оружия). В результате проведенных мероприятий Б. был установлен и допрошен. Проводится проверка Г.
Из показаний связей Федоровой известно, что в начале декабря 1981 г. квартиру потерпевшей посещали трое мужчин, предлагавших ей для приобретения различные драгоценности. В это же время в квартире Федоровой находилась ее подруга Н., в присутствии которой Федорова показывала пришедшим мужчинам уже имевшиеся у нее ювелирные изделия. В связи с изложенным были установлены:
1. Г., 1941 г. р., несудимый, разведен, окончил художественное училище, длительное время не работает, злоупотребляет алкоголем.
2. Л., 1948 г. р., по профессии мастер-ювелир, за недоверие в октябре 1981 г. уволен из ювелирного салона, в настоящее время не работает.
3. М., 1946 г. р., инженер московского завода.
В целях проверки имеющейся информации Г. доставлялся в 123-е о/м, где на предварительном допросе отрицал факт предложения им Федоровой З. А. для продажи ювелирных изделий.
Г. был задержан в порядке ст. 122 УПК РСФСР, по месту его прописки и фактического проживания были проведены обыски, в результате которых материалов, представляющих интерес в связи с расследуемым убийством Федоровой, получено не было, однако в результате проведенной работы он был изобличен в совершении двух мошенничеств и арестован по признакам ст. 147 УК РСФСР.
Также был проведен обыск на квартире гр. Л., в ходе которого был изъят перстень желтого металла с камнем темно-синего цвета, который, по словам жены Л., не принадлежал никому из членов его семьи, и 4 гос. номерных знака. В настоящее время Л. задержан в порядке ст. 122 УПК РСФСР, его отработка продолжается.
Был произведен обыск по месту жительства гр. М., в ходе которого изъята магнитола, которую якобы дала ему З. А. Федорова для производства ремонта.
Определены регионы страны (всего 36), где проживают иногородние связи Федоровой, в территориальные органы милиции которых направлены задания для их отработки на причастность к совершенному преступлению.
Из показаний свидетелей следует, что на квартире З. А. Федоровой длительное время проживал солист ансамбля ВВ МВД СССР по имени Гена, которого после имевшей место ссоры Федорова попросила выехать из ее квартиры. В связи с этим был установлен Т., который был проверен на причастность к убийству Федоровой.
С 11.02 по 20.03.1981 г. на квартире З. А.Федоровой проживала гражданка Италии — Анцелотти Анна Мария, 1937 г. р., со своим ребенком, которая по месту жительства Федоровой встречалась со своим сожителем А., 1940 г. р., работающим референтом. Проверкой установлена их непричастность к убийству.
По 3-й версии:
осуществлены мероприятия по розыску и проверке особо опасного рецидивиста К., 1945 г. р., который в ночь с 21 на 22. XI. 1981 г. совершил в г. Краснокамске Пермской обл. из огнестрельного оружия убийство водителя такси. По адресу: Кутузовский пр-т, 4/2 проживает сестра преступника — Л., а на территории 165-го о/м проживает бывшая жена К.; необходимые мероприятия по установлению и задержанию разыскиваемого К. проводятся.
Из показаний Ф. следует, что незадолго до происшествия в квартире Федоровой З. А. была заменена газовая плита. Принятыми мерами слесари, проводившие данную работу, установлены и проверены на причастность к совершенному приступлению.
Проводится проверка и отработка лиц из числа состоящих на учетах в ПНД и представляющих социальную опасность.
По 4-й версии:
органами КГБ проводится проверка сведений, полученных по месту работы потерпевшей, которые не исключают возможность, что Федорова могла оказывать негласную помощь лицам, выезжающим из СССР.
Также сотрудниками КГБ проводится работа по установлению связей Федоровой З. А., отбывавших вместе с ней лишение свободы в 1946-55 гг.
Продолжается проверка граждан, являющихся установленными владельцами пистолетов системы «Зауэр».
И. о. начальника ОУР Киевского РУВД г. Москвы подполковник милиции Цофилс Э. Н.».
I
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову
СООБЩЕНИЕ
В результате мероприятий, проведенных оперативными группами, установлено, что слесарь кооперативного автогаража Окунев отбывал наказание в Саблаге в одной зоне с интересующим вас Сорокиным Евгением Васильевичем.
Заболев острым перитонитом, он был на грани смерти, однако с помощью приятеля Сорокина, некоего Шинкина Осипа Михайловича, из Семипалатинска был вызван профессор-хирург, который и спас Окунева, проведя уникальную операцию.
С тех пор Окунев превратился в «адъютанта» Сорокина, выполнял все его поручения и представлял интересы последнего среди уголовного элемента, поскольку считался «вором в законе». Один из наиболее активных домушников, проникавший в квартиры с самыми эффективными запорами.
Связи Окунева подтверждают, что именно в Саблаге он изготовил несколько уникальных наборов инструментов из металла особой прочности, выплавлявшегося в те годы именно в этом регионе.
Есть сведения, что Окунев готовился к тому, чтобы по отбытии срока наказания переквалифицироваться в специалиста по сейфам, которых в стране крайне мало, однако по приказанию Сорокина от этого отошел, сообщив, что хозяин приказал ему «завязать».
Вернувшись в Москву, Окунев реализовал преступному элементу несколько стилетов и финок, сделанных из саблаговского металла, но затем переквалифицировался на изготовление инструментария для автолюбителей, получая металлические заготовки из района, где отбывал срок.
В кооперативный гараж его устроил некто «Никодимов», справки о котором наводятся.
Этот же «Никодимов» был с ним на постоянной связи, передавая Окуневу заявки на ремонт автомобилей лиц, близких к О. М. Шинкину, ибо Окунев считался одним из лучших мастеров по металлу.
В последнее время поступили сведения, что Окунев начал излишне шиковать, купил «Волгу» и «Жигули», приобрел дачу, часто посещал «Метрополь» и Хаммеровский центр, что якобы вызвало недовольство Сорокина, встречавшегося с ним довольно редко.
Между ними произошла ссора, и Окунев якобы сказал: «Я с тобой рассчитался за добро, хочу жить так, как живется, мне кандальной свободы не надо, человек должен быть волен как птица».
При этом Окунев начал пить и в нетрезвом виде ездить на своих машинах; в семье начались скандалы, и его жена Лидия Георгиевна Крисанова жаловалась соседям, что муж «снова связался с урками, приходят к нему ночью, пьют до утра и говорят такое, что волосы шевелятся».
Она же якобы позвонила «Никодимову», заметив подругам, что лишь этот человек может образумить ее мужа: «Пока зарабатывал нормально, был тихим, а как стал грести деньги лопатой, изменился совершенно, дерьмо из ушей поперло».
Последний скандал в квартире Окунева произошел за день до его отъезда на рыбалку. По словам жены, он не думал уезжать на Плещеево озеро, потому что намеревался поехать к своему знакомому художнику, «кажется, Баху, у него родственник в Америку отвалил», но в ее отсутствие неожиданно собрался, оставив записку, что вернется послезавтра.
Послезавтра его тело привезли из морга.
Работа по направлениям «Никодимов» и «Сорокин» продолжается.
Полковник Долев».
II
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову
СООБЩЕНИЕ
Человек, назвавшийся «Эмилем», позвонил в номер Джозефа Дэйвида в 22.10, сказав, что через двадцать минут ждет «дорогого друга в обычном месте».
Как и было заранее условлено, Дэйвид ответил, что у него очень высокая температура и он не может подняться, поэтому просит «Эмиля» заехать к нему.
«Эмиль» ответил, что в таком случае он приедет завтра в десять часов утра.
Однако в 22.45 этого же вечера в номер Дэйвида, по его словам, пришла неизвестная и передала четыре кассеты, потребовав взамен контракт на издание книг.
По словам Дэйвида, неизвестная не вынимала правую руку из кармана, почему он и был вынужден передать ей два контракта.
Кассеты прилагаются.
По данным экспертизы, кассеты были заранее засвечены, никакой информации не содержат.
Наблюдение подтвердило, что действительно к Дэйвиду именно в это время заходила иностранка, в то время как группа была сориентирована на посещение Дэйвида либо «Хреном», либо теми его контактами, фотографии которых были розданы сотрудникам.
Квартира, где прописан «Витман», он же «Сорокин», пуста, к телефону никто не подходит.
Все попытки установить его результатов пока не дали.
Наблюдение продолжается.
Старший лейтенант Киршун»
III
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову, полковнику Костенко
Сов. секретно
В связи с запросом, полученным вами из ФБР на некоего Баха Игоря Валентиновича, сообщаем: действительно, Бах И. В. эмигрировал в США 27 февраля 1982 года, судимостей не имел, выехал по немецкой визе (мать, урожденная Гаазе Матильда Феликсовна), по профессии инженер-нефтяник, профилактировался Московским городским управлением КГБ СССР по поводу валютных операций с иностранцами, а также торговли живописью.
Его двоюродный брат, художник-любитель Бах Александр Николаевич, по профессии ветеринар, славился тем, что блестяще имитировал работы мастеров голландской школы.
В этой связи считаем нужным сообщить, что незадолго до трагической гибели Зоя Алексеевна Федорова переслала в США своей дочери (через итальянскую знакомую, жившую у нее на квартире) работу голландского мастера Де Витта.
Об этом стало известно за день до гибели З. А. Федоровой, потому что ее дочь, пришедшая с картиной в оценочный отдел фирмы «Сотби», проводящей аукционы не только в Лондоне, но и по всему миру, получила официальный ответ специалистов, что предъявленная ею картина не является подлинником, а лишь искусной подделкой кисти великого голландца.
Уже после смерти Федоровой, в процессе отработки версии политического убийства актрисы, было установлено, что она уплатила за эту картину неизвестному (или неизвестным) девять тысяч (9000) рублей из тех пятнадцати тысяч (15000), которые были выручены ею от продажи подмосковной дачи.
Будучи по характеру крайне вспыльчивой и открыто-прямолинейной, З. А. Федорова могла вызвать того человека (или тех лиц), которые продали ей Де Витта, и пригрозить им, что обратится в милицию, ибо продана ей была подделка, если они не вернут ей деньги.
Поскольку эта информация пришла к нам только что, считаем необходимым поставить вас в известность.
Ст. оперуполномоченный Киреев».
IV
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову
СООБЩЕНИЕ
Работа по художнику-любителю Баху Александру Николаевичу позволяет сообщить следующее.
1. В разговоре с «Петром» художник Бах не отрицал, что в начале восьмидесятых годов действительно много работал по мотивам старых фламандцев. Более того, он припомнил, что продал кому-то «Купидонов», написанных им по картине Де Витта. Кому именно, ответить затрудняется, но, во всяком случае, не брату: «Я ему свои вещи дарил за то, что он передал мне свой «Москвич».
2. На вопрос, отчего он не вступает в Союз художников, Бах ответил, что обстановка там и в Министерстве культуры такова, что профессиональные мастера прозябают в бедности, за границу выезжают с большим трудом, а получить право на персональную выставку в стране крайне сложно и связано с тем, что надо, по его словам, «пробивать лбом стену, без связей этого сделать невозможно». Он также добавил, что процедура приема в Союз длится годами, так что «значительно выгоднее лечить пуделей и сиамских котов тех живописцев, которые состоялись в сталинский или брежневский период, денег загребли тьму, внукам хватит, не то что детям, и на вырученные от святого дела помощи «меньшим братьям» вполне можно безбедно жить и заниматься живописью в свое удовольствие, тем более что я от природы человек испуганный, свое говорить и писать боюсь, легче имитировать ушедших гениев…».
3. Контактов Баха с уголовным элементом не просматривается, хотя его посещают люди, связанные в прошлом с кружком Бориса Буряцы, но он этого имени не знает, абсолютно наивен в вопросах бизнеса и, судя по сообщениям его знакомых, равнодушно относится к деньгам — тратит их на альбомы живописи, собрал уникальную коллекцию, на краски и кисти, которые ныне чрезвычайно дороги.
4. На вопрос «Дины», отчего он не уезжает в США, хотя получил вызов от двоюродного брата, Бах ответил, что никогда не эмигрирует, ибо любит Россию, хорошо устроен, живет в свое удовольствие, а там, по его словам, «надо работать, как в наших кооперативах, — до пота и красных бегунков в глазах, спасибо, не хочу, да и конкуренции здесь никакой, ветеринаров мало, большевики всю живность вывели, что же касается искусства, то пишу в свое удовольствие, честолюбием не заражен, только б не мешали жить, как живу».
5. О своем брате и его жизни в США Бах осведомлен мало, говорит, что тот занят бензиновым бизнесом, вроде бы устроен неплохо, но относится к нему с некоторым юмором: «Слишком суетлив, живчик, такие умирают от инфаркта, все хочет взять нахрапом, никакой созерцательности, хотя парень добрый…»
6. Всю поступающую информацию по работе с Бахом буду сообщать и впредь.
Лейтенат милиции Жванов».
V
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову полковнику Костенко
Настоящим сообщаю, что Сорокин Е. В., состоя в органах МГБ, действительно имел сотрудницу по имени Кира, которая умерла в 1976 году и к преступлениям, совершенным Сорокиным, отношения не имела.
Сестра Киры в то время была солисткой танцевального ансамбля Метрополитена им. Л. М. Кагановича.
В те годы ее фамилия была Лазуркина, имя и отчество — Ирина Владимировна, 1936 года рождения, адрес и нынешняя фамилия неизвестны, среди друзей имела кличку «Иностранка», поскольку изысканно одевалась и говорила с английским акцентом. По внешнему портрету, переданному нам, можно допустить, что женщиной, получавшей контракты у Дэйвида, является Лазуркина.
Мл. оперуполномоченный Краснов».
VI
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову
СООБЩЕНИЕ
Установлено, что в день убийства Ястреба и Груздевой в кооперативном гараже на Ленинском проспекте появились люди, опознанные механиком Тимашевым Григорием Ивановичем и сторожем Беликовым Николаем Михайловичем как Ястреб и Груздева.
Они спрашивали, где слесарь Окунев, говорили, что у них несчастье с машиной, стукнули правое крыло, надо срочно выправить, обещали уплатить любые деньги.
Механик Тимашев дал им телефон Окунева, и Ястреб позвонил ему из гаража, договорившись при этом приехать к нему немедленно.
Мл. лейтенант Львов»
VII
«Петровка, 38, Управление уголовного розыска, тов. Костенко
Дорогой Слава!
Ты не оставил домашнего адреса, поэтому отправляю письмецо на Петровку в надежде, что тебе передадут его. Итак, по пунктам:
1. Мы намерены поднять на очередной Сессии вопрос о правомерности приема в качестве вещественных доказательств в борьбе с организованной преступностью оперативных записей разговоров мафиози и съемок их операций видеокамерой, хотя, не скрою, существует достаточно сильная оппозиция такого рода предложению: «Уподобляемся западным спецслужбам!»
Наивность такого рода оппозиции очевидна, однако весьма могущественна — при нашей-то дремучей ненависти ко всему чужому, особенно иностранному.
Насколько мне известно, западные службы никогда не сажали изобретателя водородной бомбы Оппенгеймера, нападавшего на Белый дом и требовавшего прекратить гонку ядерных вооружений. Он нападал на президента со страниц ведущих газет и с экранов телевидения, но в Горький его никто за это не выдворял, как и не сажали в психушку Джейн Фонду или в мордовский концлагерь актера Пола Ньюмена, выступавшего против режима…
Сталинская Конституция была самой демократичной в мире, отвергала доказательства, собранные оперативным путем, — записи телефонных разговоров, фотографии, — но при этом разрешала пытать арестованных и удовлетворялась их истеричными признаниями, расстрел неминуем.
Мы — византийцы, нам самое важное соблюсти форму, суть дела нас мало волнует.
2. Даже если это изменение к Уголовному кодексу будет в принципе принято, пройдет очень много времени — при нашей страсти к всенародным обсуждениям, — прежде чем такого рода доказательства станут практикой законотворчества. Так что, если ты помогаешь крутить дело против мафиози и оно близко к завершению, то, боюсь, наши крестные отцы разобьют твои доказательства в пух и прах.
3. Что касается преступлений, совершенных сталинскими садистами против ленинцев, то судить их (да еще по второму разу!) не станут: надо начинать сотни тысяч процессов — прямой путь к гражданской войне, ибо, как ты понимаешь, при нашей жестокой дикости кара обрушится не только на этих зверей, но, главное, на их жен, детей, внуков, а это уже процент, число новых жертв будет измеряться семизначными цифрами… Потяни ниточку: кто ответствен за гибель правозаступника Анатолия Марченко? На скамью подсудимых придется сажать не только тех, кто подписывал постановления, но и всех тюремных и лагерных охранников, врачей, прокурорских, судей… С этой точки зрения отчаянная попытка Горбачева построить правовое государство и подвести, таким образом, черту под нашей вселенской доносительской злобой — самый оптимальный вариант, если только президента не заблокируют крайне правые силы которых у нас десятки миллионов, а левые и те, кто его поддерживает, разобщены и взаимокусаемы — обычное горе России.
Если чем могу быть полезен, пиши или звони.
Твой Иван Варравин».
VIII
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову
На ваш запрос сообщаем, что Эмиль Валерьевич Айзенберг состоит на учете в психдиспансере № 4 по поводу шизофрении и временных провалов памяти и, таким образом, к судебной ответственности привлечен быть не может без повторного стационарного обследования.
Гл. врач Шамякин».
IX
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову
Настоящим сообщаю, что Шинкин Осип Михайлович, 1918 года рождения, закончил войну в звании подполковника, командира ордена Александра Невского отдельного мотострелкового полка, дважды ранен, награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина». В 1952 году уволен из рядов Советской Армии и исключен из КПСС за связь с космополитами и агентами «Джойнта». Еще до увольнения было запрошено согласие командования на его арест как пособника секретных служб США и Израиля. Такое согласие было дано 6 марта 1953 года. В связи с реабилитацией врачей-убийц, агентов «Джойнта», запрос был отозван. С тех пор Шинкин О. М. работал в системе Кожгалантереи. Орден Ленина, которым он, оказывается, был награжден 7.1.1943 за мужество и героизм, проявленный им во время ликвидации формирований Паулюса, а также орден Отечественной войны I степени, которым он был награжден в День сорокалетия Победы, до сих пор им в военкомате не получены.
Зам. райвоенкома майор Чикин».
X
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову
Настоящим сообщаю, что 11 апреля 1951 года Жарикова Антонина Васильевна изменила в Бауманском ЗАГСе гор. Москвы в метрике имя и отчество своего сына Варенова Ивана Николаевича на «Исай Григорьевич».
Проведенной работой установлено, что отцом Варенова являлся старший лейтенант Советской Армии Варенов Николай Кириллович, попавший в плен в августе 1943 года. Находясь в концлагере Маутхаузен, он возглавлял одну из подпольных групп коммунистического сопротивления и по заданию Комитета вступил в Русскую освободительную армию генерала Власова А. А. для организации перехода солдат и офицеров РОА через линию фронта на соединение с частями РККА.
Ему действительно удалось организовать переход батальона власовцев в Восточной Пруссии, после чего он, как и все его люди, были осуждены за измену Родине на двадцать пять лет лагерей с последующим поражением в правах.
В декабре 1950 года Варенов Николай Кириллович совершил побег, добрался до Москвы и остановился в комнате своей жены Жариковой Антонины Васильевны, чтобы отсюда направить петицию от имени заключенных на имя И. В. Сталина с требованием пересмотра дела и восстановления справедливости.
Однако Жарикова А. Н. сообщила органам МГБ о том, что у нее скрывается ее бывший муж, изменник Родины и власовский недобиток.
Варенов Н. К. был арестован, судим и приговорен к высшей мере социальной защиты.
Именно после этого Жарикова поменяла имя и отчество ребенка, но 4 мая 1951 года была выселена на сто первый километр, где и погибла при невыясненных обстоятельствах.
Варенов Исай Григорьевич воспитывался в семье дяди по матери, Жарикова Василия Васильевича, работавшего водопроводчиком в ЖЭКе № 21 Киевского райисполкома г. Москвы, в 1962 году поступил в МАДИ, откуда был исключен, когда выяснилось его подлинное имя и связь с изменником Родины Вареновым.
Реабилитирован Варенов Николай Кириллович был в 1963 году, когда Варенов Исай Григорьевич был осужден за вооруженный грабеж и отбывал наказание в Саблаге.
Его «учителем» в зоне был Сорокин Евгений Васильевич, который, как сейчас стало известно, был следователем его отца и готовил материалы на расстрел Варенова Николая Кирилловича, применяя при этом недозволенные методы ведения следствия.
Мл. оперуполномоченный Скоробогатько».
XI
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову полковнику Костенко
Сообщаю, что разрешение на обмен Федоровой З. А. ее жилплощади по набережной Шевченко на трехкомнатную квартиру по Кутузовскому проспекту было дано председателем Исполкома Моссовета после обращения к последнему одного из лиц, близких к семье Л. И. Брежнева, фамилия этого человека устанавливается.
Майор Неустроев».
XII
«УУГРО ГУВД Мосгорисполкома капитану Строилову
По неподтвержденным данным (находятся в стадии отработки), брат художника Баха, ныне эмигрировавший в США Игорь Бах, 12. XII. 1981 был госпитализирован в городскую больницу № 62 по поводу острого приступа аппендицита, начавшегося, по его словам, в ночь с 10. XII. 1981 на 11. XII. 1981.
Приступ, однако, был купирован терапевтическими методами лечения, операции не было.
В больнице его навестил некий Никодимов, данные на которого устанавливаются.
Лейтенант Ознобишин».
Костенко откинулся на спинку стула, помял лицо. Сюжет всего дела прояснялся, складываясь в полнейшую безнадегу. Рассветало, позвонил на посты. Ответили, что Сорокина по-прежнему нигде нет, исчез, как сквозь землю провалился, Варенов молчит, только улыбается, так же ведут себя боевики. С третьего поста сообщили, что вокруг интересующей квартиры крутятся подозрительные. Костенко провел по глазам ладонью, отключился на десять минут, потом резко поднялся и позвонил оперативному дежурному Глинскому:
— Малыш, выручи машиной, а?
20
Поскольку Берия знал, что Сталин благоволит Федоровой не просто как красивой женщине, великолепной актрисе, но прежде всего как русскому художнику, национальной героине, знакомой в стране каждому и каждым любимой, комбинация по ее устранению — в отличие от сотен тысяч подобного рода устранений и нейтрализаций, когда было достаточно выписать постановление на арест, все остальное прикладывалось само по себе, — готовилась достаточно тщательно.
Берия помнил, как зимой сорок пятого — незадолго перед тем, как на Тушино стали прибывать американские летчики, чтобы включиться в работу по подготовке совместного выступления против японцев, — во время одного из застолий на Ближней даче Сталин сказал:
— После победы экономическое положение народа, видимо, серьезно ухудшится… Все деньги будем вкладывать в создание атомного проекта… Главная задача: накормить Москву… В России всегда все определял центр… Такова историческая традиция… Надо заранее дать сатисфакцию русским, выделив их надежное долготерпение, — во имя славы Державы… Конечно, в условиях нынешнего братания, — Сталин чуть усмехнулся, — с западными демократиями, которые поставляют нам «студебеккеры», орудия, шинели и свиную тушенку, добром терпеть никто не захочет, распустились, забыли про спасительную и необходимую узду страха…
Берия дивился тому, как аккуратно и отрешенно ставил задачи генералиссимус. Раньше, в двадцатых, он мог публично сказать, — да еще в присутствии Троцкого и Каменева: «Грузию придется перепахать», — не думая о том, что эти его слова станут известны в Тбилиси каждому десятому, а это значит — всем.
Новое время, новые песни, воистину.
Теперь, когда миновал ужас коллективизации, которую ныне славили как «гениальную революцию сверху», после леденящих тридцатых, названных «очищающим вихрем», после поражений сорок первого и сорок второго, определенных пропагандой как один из элементов «гениальной военной стратегии», Сталин до конца уверовал в свое надмирное бессмертие и поэтому зримо готовился к любой фразе, загодя лепил ее, взвешивая каждое слово, и лишь после того, как проанализировал со всех сторон, отдавал вечности…
Наблюдая Сталина последние шесть лет практически ежедневно, Берия все более и более страшился этого человека, преклонялся перед ним, ощущая свою малость, и учился великой мудрости править теми, кого давно и свысока презирал, относясь к людям как к «массе», «материалу», «толпе».
Прикасаясь к архивам, Берия открывал для себя такие подробности, которые рождали в нем ужас: он жил в стране, где знание сделалось столь же опасным, как работа в чумном бараке или на артиллерийском складе, заминированном искусными диверсантами.
Он читал не только показания ленинцев, выбитые на следствии, но и бесстрастные стенограммы архивов, заключения врачей, свидетельства очевидцев, чудом сохранившиеся в картонных папках, на которых по чьей-то неразумной прихоти было начертано «хранить вечно».
Берия никогда не мог забыть документ, в котором описывалось, как в двадцать седьмом году на заседании ЦК Троцкий бросил Сталину:
— Вы — могильщик революции!
Несколько членов ЦК после этого говорили друзьям по телефону (и это, понятно, было зафиксировано), что Сталин сделался белым как полотно — ни до этого, ни после он таким не был, — пошатнувшись, поднялся и, выйдя из кабинета, так хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка.
Но сколько же лет он шел к тому, чтобы отомстить своему врагу за это прилюдное оскорбление! Он выслал Троцкого — сначала в Алма-Ату, потом в Турцию. Он мог уничтожить его на Принцевых островах, но не делал этого, потому что знал: в ЧК работают те, кто помнит Октябрь, а значит, и роль Троцкого, следовательно, сначала надо уничтожить память, а уж после этого — самого врага.
Сталин умел ждать. Он имел информацию о том, что Троцкий ненавидит Ягоду, но тем не менее не давал Ягоде прямого поручения убить главного недруга, позволил только пытку — агенты Ягоды умертвили сына Троцкого, Льва Седова, и дочь Зину; не поручал он устранение Лэйбы и Ежову; лишь перед ним, Лаврентием Берией, поставил эту задачу — спустя двенадцать лет после нанесенного оскорбления, но при этом сформулировал ее совершенно особо:
— После того как троцкистские формирования в Испании доказали свое абсолютное военное бессилие, сама идея Троцкого исчезла с поля мало-мальски серьезной политики… Однако, поскольку Молотов подписал пакт с Берлином, что есть апофеоз миротворческой политики, позволяющей нам быть не в схватке, а над ней, укрепляя при этом свое могущество и расширяя границы Союза Республик, Троцкий, конечно, не преминет развязать кампанию по дискредитации этого пакта, стараясь в первую очередь оторвать от нас ведущих художников Запада… эмоциональные люди, они могут поддаться его доводам, в слове он дока… Именно поэтому нейтрализация такого рода активности Троцкого угодна сейчас истории, делу победы пролетариата, торжеству русской революции, ставшей государственной сутью марксистско-ленинского учения.
Берия съежился тогда, потому что ночью прочитал перевод последнего выступления Гитлера: «Мы живем в такое время, когда идеи национал-социалистической революции немцев стали основоположением имперской идеи третьего рейха!»
… Когда Берия в далеком сорок первом пригласил к себе Зою Федорову и та посмела не лечь с ним в постель, он, после острой вспышки гнева, пригнулся, потому что утром спросил себя: «А что, если она по-прежнему бывает у Сталина? Хозяин умеет конспирировать, видимо, не все в его охране сообщают мне о том, кто посещает его, людьми правит страх, а Хозяин — создатель этой теории государственного страха, какого там страха, ужаса…»
Поэтому Берия, готовый прошлой ночью отдать приказ о начале разработки Федоровой, сдержал себя, повторив презрительную фразу старца: «Не будь примитивным грузином, не бросайся с ножом на горячее говно, дай остыть…»
И он затаился, понудив себя сыграть роль Сталина: «умение ждать — основа успеха».
… В феврале сорок пятого, когда пришла первая информация о том, что сотрудник американской военной миссии капитан флота Джексон Роджер Тэйт бывает на улице Горького в доме лауреата Сталинских премий Зои Федоровой — они познакомились на приеме, об этом уже говорили в кругах творческой интеллигенции, роман начинался у всех на глазах, — Берия ощутил усталое, спокойное торжество: «вот она, расплата»…
Комбинация родилась сама по себе, без привлечения «сценаристов», сочинявших планы мероприятий: идти к Федоровой надо от Тэйта; выскоблить его подноготную, установить связи, настроения, манеру поведения, стиль жизни, выходы на верхние этажи администрации, прошлое…
Первые данные ничего интересного не дали: ирландец, аристократ, генеалогическое древо исчисляется с четырнадцатого века, склонен, как и все «штатники», к авантюрам, воспитывался во Франции, блестящий пилот, мальчишкой еще был близок к штабу президента Вудро Вильсона в Париже во время подготовки Версальского договора, пользуется особым расположением посла Аверелла Гарримана, высококомпетентен, прекрасно знает Сибирь и Дальний Восток, бредит полярными исследователями Амундсеном, Седовым и Скоттом, пьет в меру, разбавляя виски содовой, поэтому совершенно не пьянеет, в Зою влюблен безмерно, ни на кого, кроме нее, не смотрит, к русским относится с открытой симпатией.
Прочитав донесение, Берия сказал заведующему секретариатом Мамулову, чтобы помяли Седова — из русских-то мало кто знал этого исследователя, — отчего американец говорит о нем с таким восхищением, и переключился на другие дела, забыв вскорости об этом своем поручении.
Каково же было его удивление, когда по прошествии двух недель Мамулов доложил, что Георгий Седов готовил свою легендарную экспедицию вдвоем с Александром Колчаком, и были они самыми близкими друзьями, и только благодаря помощи того человека, который вошел в историю России как «верховный правитель», Седов смог получить шхуну и деньги на экспедицию — правительство относилось к нему, как к безумному мечтателю, и лишь Колчак исступленно, словно бы одержимый, помогал ему, отзываясь о царской администрации как о скопище «безмозглых бюрократов, лишенных полета смелости»…
Берия запросил справку на Колчака, потому что, как и все в стране, знал об адмирале лишь то, что было написано в новых учебниках истории и сталинском «Кратком курсе».
Когда документ был подготовлен, он взял его на воскресенье в Серебряный Бор, устроился на веранде, начал лениво пролистывать страницы и не заметил, как увлекся, растворившись в недалеком еще прошлом — всего двадцать пять лет прошло с той поры, как Колчака расстреляли в Иркутске.
… Командующий Черноморским флотом Колчак сразу же встал на сторону революции, приветствовал падение монархии и присягнул на верность Временному правительству. Однако, когда в армии и на флоте начался развал, позиция Колчака резко изменилась: он не считал нужным скрывать свое отношение к тому, как разваливался русский флот, которому он служил верой и правдой.
Военный министр Гучков, поняв состояние тридцатисемилетнего адмирала, отправил Колчака в Соединенные Штаты: широко образованный флотоводец должен был загодя готовить переоснащение русской армии, распределять заказы на строительство кораблей, изучать военную технику и знакомиться с новшествами авиации.
Когда власть в Петрограде захватили большевики и начались переговоры с кайзером в Брест-Литовске, Колчак встретился с русским послом:
— Этот позорный мир будет означать наше полное подчинение Германии, Ленин и Троцкий отдают Россию немцу, поэтому я вижу свой долг в том, чтобы продолжать борьбу с Вильгельмом: лишь крушение пруссака может спасти родину.
В тот же день он посетил английского посла в, Вашингтоне. Имя Колчака было широко известно в Лондоне, адмирал предложил британцам идею минирования входов в лондонский порт — на случай попытки немецкого вторжения.
Его предложение было с благодарностью принято. Лондон откомандировал его в распоряжение штаба Месопотамской армии.
Он отправился в действующую армию через Китай, отплыв из Сан-Франциско. В Шанхае в порту его ждал секретарь русского посла в Китае князя Кудашева:
— Ваше высокопревосходительство, посол ждет вас для крайне важного разговора.
— О чем говорить-то? — вздохнул Колчак. — Россия разваливается, спасение к ней может прийти только через разгром немцев. Свалив кайзера, мы повалим и Ленина с Троцким.
С этим он вернулся на корабль, следовавший в Бомбей, где располагался штаб Месопотамской армии англичан.
Однако в Сингапуре ему вручили шифрованную телеграмму английского кабинета: «Адмирал, кабинет Его Величества просит Вас прислушаться к просьбе князя Кудашева и вернуться в Россию: союзники убеждены, что Ваше место — в рядах тех, кто противостоит большевизму на полях сражений на Волге и в Сибири».
Колчак не сразу дал ответ на эту телеграмму. Он прекрасно знал ситуацию, сложившуюся в России от Архангельска — через Уфу и Омск — до Читы и Владивостока. Она была совершенно уникальна и сопрягалась в его сознании с худшими днями Смутного времени.
Действительно, сразу после того как Ленин настоял на заключении Брестского мира — невзирая на протесты Троцкого, Бухарина и Дзержинского, не говоря уже о подвижнице революционного террора Марии Спиридоновой и герое социалистов-революционеров Натансоне, — союзники провозгласили идею создания Восточного вала антигерманской борьбы. В Архангельске образовалось правительство Чайковского, испытанного борца против царской тирании, который заключил блок с англичанами и пригласил военных советников из Лондона. В Самаре и Уфе к власти пришли эсеры и социал-демократы — Авксентьев, Зензинов, Майский, также стоявшие на позиции революционной борьбы против немцев. Ими был создан Комуч (Комитет Учредительного собрания), а после — Директория, тесно сотрудничавшая с пражскими социалистами Массарика, который выводил из России пленных чехов, чтобы они смогли присоединиться к французской армии, эвакуировавшись из Владивостока. Здесь же оперировали американская, французская и английская миссии. В Маньчжурии хозяйствовал атаман Григорий Семенов, поддерживаемый японцами и французами. Полосой КВЖД командовал генерал Хорват, границы с Монголией контролировал атаман Дутов. Слоеный пирог, прыщи на теле России, что красные бандиты, что белые: «Соусы разные, смысл один, — заметил Колчак, — развал, эгоизм, злодейство…»
… Колчак прибыл из Пекина в Харбин и сразу же оказался в душной атмосфере российских дрязг — лили грязь друг на друга, болтали невесть что, тащили что ни попадя, повторяя как заклинание: «Рука нужна, железная рука, мы без этого не можем, не англичане какие или французики, нам демократия противопоказана, только нагайки и виселицы».
Колчак начал наводить порядок, выехал на встречу с атаманом Семеновым. Тот принял его в своем вагоне (Троцкому подражал, сукин сын!), на вопросы толком не отвечал, посмеивался, зная, что в обиду его не дадут японцы, да и французы помогают исподволь, страшась, впрочем, англичан и американцев: те требовали, чтобы «перчатки были белыми», самовольные расстрелы им, видите ли, не нравились…
Не нравились — так дрались бы! Позицию б заняли! Ан нет! Спокойно наблюдали за тем, как после стычки Колчака с Семеновым адмирала достаточно вежливо, но в то же время твердо пригласили в Японию. Он прибыл в Токио, встретился с начальником генерального штаба Ихарой и вернулся в отель совершенно разбитым: ему стало ясно, что японцы, готовящие интервенцию в Сибирь, не желают иметь с ним дело — слишком независим и патриотичен, нужны марионетки типа атамана Семенова, а никак не личности.
Встретился с русским посланником Крупенским, тот посмеивался горько:
— Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич, плетью обуха не перешибешь! Японцы берут реванш за девятьсот пятый год, им нужны Владивосток и Хабаровск с Читою, и я готов им в этом помочь, лишь бы сокрушить жидовский большевизм… С ними, с масонами, все средства борьбы хороши… Да, обидно, что раскосые лезут, но что делать, если мы, русские, лишены единого стержня и чужды демократии?! Все-таки я исповедую иерархию целей: сначала свалить главного врага, а потом уж думать о наведении порядка в доме.
Из Токио Колчака не отпускали, созвали консилиум врачей, сокрушались о здоровье адмирала: «Такой молодой человек, а легкие никуда не годятся! Да и нервы словно тряпки! Вы очень нужны России, подумайте о себе, больной политик — не политик, право слово…»
Колчак ярился:
— Чем японская оккупация разнится от большевистской?!
Ему отвечали, как ребенку, спокойно и доброжелательно:
— Ваше высокопревосходительство, никто не собирается оккупировать Россию! Токио всегда относился и продолжает относиться с глубочайшим уважением к русскому союзнику. Наши войска лишь гарантируют спокойный вывод из Сибири чехов, а ведь их не менее двухсот тысяч, и они весьма далеки от тех идей, которые вы исповедуете, — сплошь социалисты… Как только чехи уйдут, как только вы, военные, наведете порядок, уничтожив очаги совдепов, наши части немедленно покинут Дальний Восток…
Колчак слушал собеседников, сердце ныло, он понимал, что ему лгут в глаза. И постепенно он пришел к выводу, что надо бежать отсюда, бежать как можно скорее: на юг, к генералам Алексееву и Деникину…
Однако англичане, державшие ледяные пальцы на кроваво-рвущемся пульсе Сибири и Дальнего Востока, не позволили Колчаку уехать. Последний очаг Советов во Владивостоке был сброшен, к власти пришло лоскутное правительство, составленное из равноненавидевших друг друга кадетов, эсеров и социал-демократов. Омская директория социалистов-революционеров, претендовавшая на то, чтобы считаться Временным Всероссийским правительством, руководимая террористами, принимавшими участие в заговорах против членов царской семьи еще с начала века, — такими, как Зензинов, Авксентьев и Аргунов, — продолжала ватную борьбу с военными, которые ее ни в грош не ставили. Приспело время диктатуры, единственной формы правления, которую, по мнению Лондона, примут русские…
И Колчак был привезен в Омск, где его короновали — после ареста членов Директории («товарищи» сратые, в любой миг могут сговориться с Москвой, одного поля ягодки, как ни крути) — «верховным правителем».
Однако полковник Уорд, командовавший в Омске английским батальоном, не дал расстрелять эсеровскую Директорию, поэтому смысл военной диктатуры был с самого начала выхолощен, тотальный страх не сделался камертоном нового правления, а коли так, то и сам переворот оказался бессмысленным.
Французский генерал Жанен, возглавлявший парижскую миссию в Сибири, с горечью наблюдал за активностью англичан во главе с генералом Ноксом: «Они возят адмирала в своем поезде, как паяца… Россия не примет гастролера, не умеющего отдать приказ на расстрел, угодный здешнему национальному характеру… Вместо того чтобы арестовывать Директорию, надо было превратить ее в истинную Директорию. Наполеон стал императором после того, как был призван революционным народом представлять интересы армии в высшем совете республики…»
Особенно французы ярились на полковника Уорда, члена британского парламента и деятеля лейбористской оппозиции: «рабочий» депутат двинул свой мидлсекский полк на защиту военного диктатора, где же ваша честь, полковник?!
Отмычка оказалась куда как простой: Колчак получил эшелоны с царским золотым запасом, сотни миллионов франков, фунтов и долларов…
Поэтому-то его и отдали вскорости красным: надо разлучить адмирала с золотом, суп отдельно, мухи отдельно. Политика при всей ее загадочности только на первый взгляд глубинна, поскобли ногтем как следует — сразу поймешь, кому на пользу…
Как только Колчак попытался собрать Сибирь и Дальний Восток в единую общность, подминая под себя все те девятнадцать правительств, которые существовали тогда между Уфой и Владивостоком, драчливо нападая друг на друга, склочничая и собирая грязь, совершенно не думая об общероссийском доме, так сразу же японцы и французы, как, впрочем, чехи и англичане, изменили свое к нему отношение, ибо стратегия «разделяй и властвуй» возможна только там, где есть что разделять и над кем властвовать.
Эсеры требовали от адмирала остановить крен вправо: «Нельзя победить смуту, если все подчинять идее борьбы с большевистской Москвой, закрывая глаза на злодеяния обезумевших атаманов, ставших не идейными борцами за свободу, а грабителями и бандитами».
Монархисты обрушивались на Колчака за то, что он не ведет войска на Москву и не расстреливает эсеров с меньшевиками.
Кадровые военные во главе с генералом Бодыревым требовали обуздания казачества, которое приказам главного штаба армии не подчинялось.
«… В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…»
И тогда-то молодой американский офицер отправился из Владивостока в Иркутск, к Колчаку, с которым познакомился еще в Америке, на лекции, читанной адмиралом для молодых военных. Цель его поездки была по-американски прагматична: помочь замечательному полярному исследователю, ставшему верховным правителем, скорректировать его линию в пользу уравновешенной западной демократии. Не успел: Колчака расстреляли большевики. Вернулся во Владивосток, поняв, что страна эта — загадочный сфинкс, мистериозна и алогична…
… Имя молодого американского офицера было Джексон Роджер Тэйт.
… Отложив справку, Берия понял: отмщение теперь не просто возможно, но и угодно.
Его не волновало, что Тэйт не успел к Колчаку, это детали, главное — он хотел помочь адмиралу, злейшему врагу Советов, остальное не имеет никакого значения.
Берия понимал, что если следовать логике, то Сталин должен был бы поручить ему арестовать Черчилля еще в сорок втором, во время первого визита сэра Уинни в Россию, — кто, как не он, был мозгом и сердцем самой идеи интервенции в красную Россию?! Однако же Сталин обменивался с Черчиллем дружескими рукопожатиями и поднимал тосты за здоровье выдающегося лидера антигитлеровской коалиции, боевого союзника Советов в их совместном сражении против гитлеризма.
Однако что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Что мог политик, то было недопустимо для простого капитана. С политиками порою подписывают неожиданные, парадоксальные соглашения, капитанов — высылают из страны.
Тэйт оказался первым среди союзников, выдворенным из России в сорок восемь часов: ни Аверелл Гарриман, ни руководитель американской военной миссии не решились вступиться за него — значит, доводы Наркомата иностранных дел, подготовленные службой Берии, оказались такими, что не позволили янки встать на защиту своего сотрудника.
В Вашингтоне Тэйт бросился за помощью в Пентагон, генералы отводили глаза, похлопывали по плечу, советовали надеяться на лучшее; в конце концов отправили на флот, поближе к Японии, — дали командовать кораблем, никакой связи с сушей или, хуже того, переписки с Москвой: «нельзя дразнить дядюшку Джо».
Выдворили его в тот день, когда Федорову отправили на гастроли в Крым и на Кавказ. Они даже не смогли попрощаться.
Через два года он получил от нее письмо, переправленное кем-то из Копенгагена: «Я не хочу ничего знать о вас более. У меня своя семья, прощайте, я теперь наконец счастлива».
Слова были написаны ее рукой — Либачев настриг из показаний, которые несчастная давала во внутренней Лубянской тюрьме совершенно по другим поводам.
… Сорокин не знал подробностей, которые накопали по Колчаку и Тэйту для Берии, но он умел манипулировать словом: лишь однажды Абакумов сказал ему и Либачеву с Бакаренкой:
— Вы ее потрясите по поводу Колчака, может, что скажет, стерва.
Ей сказать было нечего — за это сидела в карцере, не понимая, отчего ее спрашивают про того, кого звали «верховным правителем».
А Сорокину было о чем думать — и в лагере, и потом, когда разворачивал свою работу в мафии: всякое знакомство опасно, любое слово чревато непредсказуемыми последствиями, в наших условиях жить надо, как растение, никаких соприкосновений, всякий человек, если не знаком досконально, опасен. Впрочем, и тот, кто досконально знаком, тоже несет в себе тайну. Отгороженность, да здравствует отгороженность!
… Вот я их и спрошу: «Откройте свои архивы, давайте поглядим, чем Кремль умел вас пугать и дурить, — отчего предали своего Тэйта? Почему не защищали его? Зачем молчала ваша пресса? Зная прошлое — поймешь будущее…»
… Сорокин заново анализировал свой последний разговор с Грозным и Решительным, конспиративными руководителями его запасных центров. Он помнил каждое слово, сказанное помощникам; последнее выступление за долгие годы, поэтому фразы получились литые, выверенные:
— Система находится в состоянии паралича, исполнительная власть не знает, что делать. Многолетняя привычка получать указания у партии сыграла с практиками закономерную шутку: они окончательно потеряли способность к поступкам в условиях демократии. Когда ребенка бросают в воду, чтобы выучить его плавать, — восемьдесят пять процентов за то, что он научится держаться на воде. Человек, которому за сорок, утонет. Итак, мы имеем дело с изверившимися и напуганными людьми, составляющими хребет Системы… Двадцать миллионов старых птенцов, открывших клювы, куда партийная мама перестала закладывать червяков, а чекистский папа зорко следит, чтобы червячков не положили мы, деморализованы и растеряны, поэтому держава разваливается. Что нам следует делать в этих условиях? Первое: всячески помогать Системе. Если бы Кремль набирал людей по уму и способностям, а не по анкете и знакомствам, он бы просчитал: сколько товаров на деле производится промышленностью и сельским хозяйством и сколько доходит до потребителя. Они этого не делают, потому что лишены сметливой хватки бизнеса. Оказалось бы — наши службы считали, — что реального дефицита в стране не существует. Правая рука не ведает, что творит левая, Система все хочет сама, но разве это возможно? Все могут хозяева, а они Системе страшны — конкуренты. Поэтому ваша задача — помогать этому саботажу, бестолочи. Вы должны сделать все — через экономистов, торговцев, бюрократов, верных нам писателей и журналистов, — чтобы, например, все базы никогда, ни при каких условиях не были ликвидированы… Базы — наш резерв, ибо там оседает дефицит, гниет скоропортящееся, хранится замороженное — «а вдруг нападет Джон»?! На хера мы ему сдались?! Кормить триста миллионов?! Но мы-то как раз и обязаны поддерживать этот страх, ибо в нем спасение нашего Управления, залог дела… Вторая задача: пугать бюрократов Системы близкими переменами справа, военным путчем, чем угодно, только б не начали шевелиться… Каков главный идейный стержень нашей борьбы? Национальный вопрос. Манипулируя им, мы войдем в еще более тесный блок с Системой, со всеми ее звеньями. Наш доверчивый народ вполне примет объяснение: «В том, что нет товаров и цены растут, а кооператоры богатеют, виноваты масоны и сионисты». Кто такие сионисты? Узбеки? Англичане? Ха-ха. Кто такие масоны? Радищев и Пушкин? «Клевета сионистов!» Они русскими были, не могли вступить в этот сионистский орден. Значит, кто такие масоны? Тоже жиды. Процесс выявления, разбора, выселения или уничтожения «малого народа», а лучше — народов, займет лет пять, мы запрягаем долго… Потом лет пять новому режиму придется отмываться от погромов, выпрашивая взаймы медицинскую, продовольственную и прочую помощь на Западе — арабы вряд ли прокормят. Значит, во время погромной кампании наше гигантское дело, когда народу внушат, что теневая экономика есть дело рук масонских сионистов, будет расти не по дням, а по часам. Поэтому ищите тех, кто сможет зажигать доверчивый и несчастный народ на вымах! Пусть звенят стекла и на улицах стоят танки — с этими договоримся, ам-ам хотят и солдатики, а никто, кроме нас, их не накормит… Запомните, если бы мы успели закончить дело врачей, никакой оттепели и демократизации, столь опасной для Управления, не было бы: вешая чужих, пугаешь своих, алгебра диктатуры, а в нашей стране невозможно ничто, кроме диктатуры… Все нужно доводить до логического, конца: испанская инквизиция не сожгла всех вольнодумных еретиков — и покатилась вспять, разорилась, превратившись в задворок Европы… Наш государь не дал довести до конца погромы — сам пал жертвой бунта. Гитлер не успел перетравить газом всех жидовинов — пустил себе пулю в лоб. Сталин затянул уничтожение поволжских немцев, крымских татар, ингушей, карачаевцев, повешение врачей-евреев на Красной площади — агукнулся в одночасье… Повторяю: чем хуже обстановка в стране, тем лучше нам и Системе. Мы неразделимы. Повались Система — дело кончено, начнется американский вариант, неприложимый к нашему характеру. Мы не можем, когда правит умный и предприимчивый. Мы алчем жесткого и своенравного, служащего идее государства, а не личности. Из этого исходите в своей практической каждодневной работе. Это наша последняя встреча в этом году. Если и в следующем ничего не изменится, будем отрабатывать новые формы связи, со мной все контакты обрываются — с этой минуты.
… Я был точен в формулировках, думал он, отхлебывая глотки шипучего «Боржоми». Я абсолютен и в прогнозе: Штаты и Западная Европа не простят погромов, а они нужны нам как воздух: назван истинный виновник, ату его, ищите! Пусть резвятся, нам-то надо будет работать в то время, руки развязаны! Изоляция бросит эту страну в объятия Востока, что и требовалось доказать: конкуренции быстрого Запада не будет, непрерывность процесса накопления нами капитала будет продолжаться. Лишь интернациональная демократия может арестовать Хонеккера или Живкова за вывоз капитала… Надежная тирания никогда на это не пойдет. Тем более плебсу объяснили, в ком кроется зло, пока-то разберутся, на наш век хватит, а после нас хоть поток… Нет, я абсолютно точен в позиции: если сюда и возвращаться, то лишь под охраной танков, иначе здесь ничего невозможно: страх въелся в поры, разложил мысль, сделался характером, точка…
… Он лежал, забросив руки за голову, порою поднимался с тахты, делал глоток «Боржоми», брал ложку студня, политого чесночным соусом (нет ничего прекраснее этого кулинарного чуда), и снова ложился, неторопливо перебирая в голове фамилии, даты, встречи, свои слова и слова тех, с кем сводила жизнь.
Строилова нет, это последнее звено, связывавшее его с прошлым.
Все остальное двояко толкуемо, лишь старик мог привнести эмоциональную окраску делу, а в этой стране нет ничего страшнее эмоций, царствует философия столь угодной традициям сходки, которая никакого отношения к закону не имеет — страсти, вилы, кровь…
Шинкин и его люди — гранит, мой Никодимов — тоже. Кто-кто, а они понимают, что спасение лишь в одном — глухой отказ и молчание…
Да и моя психинвалидность — гарантия ото всех случайностей.
Время сейчас быстролетно — как при всех временных демократических деформациях; новости каждый день; только во времена спокойно-надежной диктатуры общество живет долгой и мстительной памятью, информация нулевая, сконструирована пропагандистами, которые строят нужные модели жизни, к самой жизни никакого отношения не имеющие, но именно поэтому и становящиеся настоящей жизнью, чудеса в решете… Ничего, все еще вернется на круги своя, вот тогда-то я сюда вернусь на белом коне и воспою гимн тому, что сейчас стараются предать забвению, гимн верховному вождю, без которого мои соотечественники державу пропьют и просрут в одночасье…
… А Колчак… Сложный вопрос… Спаси бог рассердить америкашек, им нужно, чтоб все было идеально, включи рассказ об адмирале, о том, что на него у нас копали, — вмиг найдутся нелюди, которые обвинят меня в том, что я — агент ЧК… Про адмирала надо будет в Штатах нюхать, советоваться с ихними историками… И козырная карта у меня в кармане: министр Абакумов, по словам полковника Либачева, был вызван Лаврентием Павловичем, и тот предложил пригласить Зойку к сотрудничеству: «Поезжай к своему долбарю, он на юге живет, рядышком с атомным центром, склони его к помощи нам, в золоте выкупаем, все простим». — «А дочка? Ее со мной пустите?» — «Курочка моя, да ты что?! Она у нас в залоге останется! Разве можно тебя с довеском отпускать?! Это после того, как Тэйт станет работать на нас, тогда мы девочку к тебе отправим, сейчас никак нельзя». — «Я не шлюха, принципами не торгую». — «Да разве койка — это принцип?» — «Если любовь — да! Самый что ни на есть высший принцип!..»
Колчака надо расписать с фугасом. Они ж недоумки, америкашки-то, минутой живут, вечности чураются… Им надо Колчака так расписать, чтоб поняли: демократия в России невозможна, а миру — опасна. Чем больше у нас демократии, тем скорее ее зальют кровушкой. Того, кто не умеет отдать приказ на массовые расстрелы, прикончат, у нас над демократом Керенским по сю пору смеются, а Ивана Грозного с Иосифом Великим боятся, а потому чтут, парадокса в них ищут, глубинку, хотя любой нормальный человек должен был бы завопить: «Кровавые злодеи, истерики, зачем господь не сжег вас молнией за преступления ваши!» А — молчат! Фокусничают! Лазейку для отступления берегут!
Дай мне сейчас право навести порядок — за неделю б навел.
В первую ночь — арест пары сотен тысяч, на другой день — военно-полевые суды, в тот же вечер публичные расстрелы; на третий день — арест пары сотен тысяч бракоделов и лентяев, военно-полевые суды, немедленные расстрелы; на четвертый день — обращение миллиона трудящихся о необходимости ввести карточки и навсегда закрыть границы; специальные выпуски газет и журналов в поддержку этой инициативы рабочего класса; показательный процесс десяти-пятнадцати редакторов газет, журналов и телевидения с показом после программы «Время»: «Да, мы были агентами всемирного масонского союза и хотели реставрации капитализма, получали за это деньги от ЦРУ, Солженицына, Израиля, испанского наследника Романова, неонацистов и ЮАР, пообещав им отдать Украину, Литву и Абхазию».
После показа процесса — выступления рабочих, крестьян, писателей и поэтов, прилежных национальной идее: «Немедленная казнь иудушек!» На пятый день — указ о том, чтобы все носили одинаковую форму, никаких различий в одежде, все равны, нет ни бедных, ни богатых; на шестой день — телеграммы благодарности трудящихся за наведенный порядок и проклятие тому, что враги народа называли «перестройкой». Вот и все, чего проще?!
Ничего, ждать недолго, придет время справедливости, всех гнид на лесоповал отправим, десяток крикунов перекупим, перевертыши у нас в цене…
Только так и будет! Иначе никогда у нас не было и быть не может! Александр Первый двадцать лет свои реформы готовил, бумажки слюнявил, колебался, ждал, взвешивал, все думал, как дворяне к этому отнесутся, не отвернутся ли от него, ведь простолюдинам дается послабление, ну и кончилось Сенатской площадью. Александр Второй пятнадцать лет конституцию вертел, боялся, как аристократы к этому отнесутся, — ну и взорвали бедолагу, поделом… Столыпин, поняв, что Николашка испугался свободного мужика с собственной землей, тихо затаился, вместо того чтобы власть брать, — ну и шлепнули витязя! Решив действовать, — действуй! Да, видно, не в нашем это характере, в крови страх и рабство. Вот потому-то нам Сталин и нужен, вот потому только диктатура может заставить работать наше сборище пьяных лентяев, которые слова не понимают, только пистолет и дубину…
Западу теперь вопли против Сталина тоже поперек горла стали, они гарантий хотят, без гарантий кто ж деньги в дело вкладывает?! Я ж не за сталинскую диктатуру, он, дурак, жидов стал обижать, Запад против себя восстановил, они памятливые, Гитлера не забыли. Я за то, чтоб Пиночет пришел, неужто у нас в армии ни одного сильного генерала не найдется?! Такую идею «штатники» примут! Вот что им надо вбивать! Вот на чем я себе имя сделаю! А Колчак — намек: даже ваш человек был ушлепан русскими. «Ты нам диктатуру подавай в полном объеме, что б мы притаилися, ты нам полумеры не суй, свалим, либо — либо!»
Сорокин вдруг услышал шум, подобный морскому прибою, он был шуршаще-галечным, глубинным, а после ему почудилось в этом мощном морском шуме свое имя, скандируемое невидимыми тысячами, «фаши», отряды штурмовиков, охранные батальоны партии фюрера, заградительные отряды Сталина, карабинеры Пиночета — вот она, единственная опора гарантий у нас, а вот я, кто смог сопрячь в себе прошлое с будущим, святую веру в вождя с умением охранять дело, вот я иду, я вернусь к вам, ждите, я вернусь оттуда, вы хотите меня, я дал вам желанный покой тихого равенства, я, я, я, я, я, я…
… Он поднялся с тахты, набрал номер своего помощника, имени и фамилии которого не знал никто, к его услугам прибегал редко, в самых крайних случаях, и сказал, чуть покашливая (обговоренный заранее сигнал срочности):
— Михалыч, помнишь, я тебе фото Славы показывал? Именно… Так вот Манюню его надо бы положить на обследование… Он ведь с ней тридцать лет прожил, душа в душу… Спаси бог, что с ней случится — с ума свернет, а кому псих нужен? Или сопьется, какая для всех нас утрата, а? Никто его не заменит, бедненького…
— Когда? — спросил Михалыч.
— Сегодня. Чего медлить-то? В таких делах промедление смерти подобно… Сегодня и клади…
21
Пшенкин приник к глазку: молодой мужчина в поношенном синем костюме стоял возле двери и медленными кругами массировал левую часть груди.
— Вы кто? — спросил Пшенкин.
— Из Литфонда, по поводу расширения жилплощади…
— А я не писал заявления…
— Я всех московских писателей обхожу, товарищ Пшенкин… В общем-то, как знаете, конечно…
Пшенкин отворил дверь, впустил человека и, подтолкнув ногой разношенные тапочки, пробурчал:
— Осматривайте.
— Спасибо… Только вам бы стоило поинтересоваться моим удостоверением. В городе, знаете ли, неспокойно, грабители шастают…
Пшенкин шарахнулся от него:
— Вы что такое говорите?!
— Правду, — ответил человек и, протянув Пшенкину муровское удостоверение, представился: — Полковник Костенко из розыска.
— А в чем дело? — Пшенкин обмер. Не ответив ему, полковник достал «воки-токи» и глухо пророкотал:
— «Второй», я у «Травкина», занимайте все точки, «мальчики» уже подъехали…
Пшенкин кинулся в комнату и сорвал трубку телефона.
— На Петровку звонить не надо, — полковник положил ладонь на рычаг телефона, — я только что оттуда. Сядьте, я же вам показал удостоверение… Я пришел, чтобы спасти вас…
— От к-к-к-кого?
— Вы догадываетесь, Борис Михайлович…
— Эмиль?
— Да.
— Я чу-в-в-ствовал…
— Вы же не заикались раньше…
— Со страху…
— Не бойтесь… Те, кого он прислал, чтобы вас убрать, под нашим контролем… Пожалуйста, соберите все черновики, заготовки, странички, которые у вас остались от работы над его рукописью…
— Да ведь у меня почти ничего нет, он все забрал, сейчас, одну минуточку… Я давно его п-понял, товарищ… Как вас, кстати? Память отшибло…
— Полковник Костенко… Начальник отдела по борьбе с особо опасными преступлениями… Давайте, Борис Михайлович, скоренько, я помогу вам… К двери, если позвонят, не подходите, я сам открою.
— Конечно, конечно, товарищ Костенко… Я понимаю, спасибо вам… Как г-г-говорится, желтые лица, револьвер… Ах, это наоборот, красные лица, револьвер желт, моя, так сказать, милиция…
— Время, Борис Михайлович. — Начальник отдела по борьбе с особо опасными преступлениями положил руку на плечо Пшенкина. — Время дорого, давайте собирать документы…
— Сейчас… Одну минуточку, вы меня здорово н-н-на-пугали… Сигаретки нет?
— Я не курю. И вам не советую.
Пшенкин открыл створки книжного шкафа, достал две папки:
— Здесь варианты… Разрозненные эпизоды… Нашел д-дурака… Думал, я не пойму, что это про нашу любимую родину… Тоже мне, маскировщик, считает, будто вокруг одни дураки живут…
— А что в других папках?
— Там мое, товарищ Костенко.
— Можно посмотреть?
— Пожалуйста.
Пролистав странички, полковник отложил папку:
— Каких-то отдельных листочков не осталось?
— Сейчас посмотрим. — Пшенкин торопливо копался в пачке исписанных страниц. — Нет, точно, не осталось… Все, что было, здесь… Я ж чувствовал недоброе, сердцем ощущал… Ведь что он норовил сделать-то?! Он норовил под гестапо наши славные органы подсунуть! Я, конечно, не сразу это постиг, в процессе творчества, но все же — постиг его коваристый замысел!
— Борис Михайлович, время… Черканите, пожалуйста, следующее: «Мною передан текст рукописи полковнику Костенко Владиславу Романовичу»… Дата… Подпись… А я вам оставлю расписку…
— А зачем писать-то? Я ж вам все передал? Передал. Не надо лишнюю писанину разводить, не надо…
— Иначе я не смогу приобщить материал к делу… Поймите меня правильно… Кроме благодарности мы ничего к вам не испытываем, Борис Михайлович… Вы поступили как настоящий патриот…
— Я не хочу быть свидетелем… Я вообще ни к чему не хочу касаться… Пойдут разговоры, всякие там вызовы, я систему не хуже вас знаю…
— Давайте я напишу свой текст, Борис Михайлович… Если вас что-то не устроит, скажите, я переделаю… Смотрите: «Я, полковник Костенко Владислав Романович, приношу благодарность члену Союза советских писателей товарищу Пшенкину Борису Михайловичу за то, что он сохранил уликовые материалы. Настоящим подтверждаю, что товарищ Пшенкин Борис Михайлович не может считаться свидетелем по этому делу, ибо он занимался прямой литературной деятельностью…» Устраивает?
— Ну если в таком, как говорится, смысле, тогда устраивает…
— Пишите свой текст…
— Значит, я думаю, так можно будет сформулировать, — Пшенкин достал ручку. — «Передаю полковнику Костенко Владиславу Романовичу тексты, полученные мной из литературной консультации для оказания помощи ветерану войны, их автору…» Устроит?
— Вполне… Только дату поставьте…
— Как раз дату я ставить-то и не хочу.
— Почему?
— А так… Спокойнее… Вы уж не взыщите… Небось знаете, как запуганы люди… Страх в крови…
— Пугать себя не разрешайте — вот и не будет страха… Давайте без даты…
Пшенкин поставил ветвистую роспись, подвинул лист полковнику. Тот кивнул:
— Спасибо… Позвольте мне еще раз посмотреть ваши заготовки, нас интересует любая страничка из манускрипта…
— Пожалуйста… Жаль, что сигаретки у вас нет, перенервничал…
Полковник опустился на колени, открыл створки шкафа, вытащил все папки, пролистал их стремительно, но в то же время высокопрофессионально, убедился, что Пшенкин был прав, архив невелик, снова глянул на часы и пошел к двери, словно бы почувствовав, что именно сейчас постучат.
Так и случилось.
Он прильнул к глазку. Боевики работали точно секунда в секунду, молодцы. Пшенкин сейчас исчезнет, один из самых последних свидетелей, в общем-то, ключевой — прикасался к работе Большого Босса. Записочка на имя товарища Костенко останется на столе, красивая комбинация, ай да молодец Большой Босс…
И полковник открыл дверь, но в ту же секунду из противоположной квартиры вывалило четверо парней, сшибли боевиков, бросились на него и, повалив, заломали руки под наручники, повторяя негромко:
— Тихо, Никодимов, только тихо, кричать не надо, никто не поможет…
… Когда Никодимова и боевиков затащили на кухню к обмершему Пшенкину — вся операция продолжалась менее минуты, — в квартиру вошел Костенко.
— Здравствуйте, — сказал он литератору. — Костенко — это я… Человека, который должен был вас убить, зовут иначе, он никакой не полковник, бандюга по фамилии Никодимов… Разговор его с вами мы слышали, он записан на пленку, какая-никакая, все же техника у нас есть… Сейчас сюда придут эксперты, рукопись и записочку изымут, вам действительно ничего не грозит, это Никодимов правду говорил, он Уголовный кодекс знает, готовился загодя. Я уезжаю, поэтому хочу поинтересоваться лишь одним…
— Я п-п-при нем отвечать не стану, — Пшенкин кивнул на Никодимова, лежавшего на полу лицом вниз, руки за спиной в наручниках, неподвижен.
— Почему? Он теперь на пятнадцать лет — в лучшем для него случае — загремит, так что не бойтесь, он более не опасен…
Пшенкин покачал головой:
— Не буду…
— В комнату можно вас пригласить?
— Удостоверение предъявите…
Костенко достал свою пенсионную книжку. Пшенкин долго елозил вытаращенными глазами по строчкам, потом покачал головой:
— Так вы ж отставник…
Костенко обернулся к одному из строиловских сыщиков:
— Покажи-ка ему свое удостоверение, сынок…
Только после этого Пшенкин вышел из кухни. Костенко присел на подоконник и, закурив искрошившуюся сигарету, жадно затянулся:
— Послушайте, ваш знакомец Эмиль Валерьевич наладился в бега… И это для вас опасно… Он узнает, что Никодимов взят и поэтому вы остались живы… Если хотите, чтобы мы помогли вам не погибнуть — а это вполне реально, — постарайтесь вспомнить: как, при каких обстоятельствах и через кого вы познакомились с «ветераном войны и героем-разведчиком»?
— А при чем здесь «ушел в бега» и как я с ним познакомился?
— При том, что нам его надо найти… Только вы знаете, что было в его подлинных записях и что он просил вас из них сделать. Вы можете, таким образом, претендовать на соавторство, а он заключил контракт на сто тысяч долларов… Ясно? Поэтому вы ему опасны… А нам, чтобы его взять — за другие дела, кстати, — нужно знать его знакомых, те места, где он бывал, машины, на которых ездил, любимые выражения, манеру есть и пить…
— Кто-то из наших литераторов нас познакомил… Кто — убейте, не припоминаю…
— Где?
— На Герцена, в кафе, что напротив ТАССа…
— Когда?
— Два года назад… Что-то около этого…
— Вы там с ним часто виделись?
— Раза три… Он больше любил дома встречаться…
— Здесь? Или у него?
— Здесь.
— У него бывали?
— Один раз.
— Когда?
— В день знакомства…
— Адрес?
— Где-то в переулочке… Дом старинный, красивый…
— Адрес? — повторил Костенко.
— Не помню… В центре…
— Он вас к себе привез, оттого что пьяным напились?
— Несколько…
— Когда отправил домой? Утром?
— Нет, той же ночью… Он мне всего пару часов дал отдохнуть… Потом договор заключили, он меня сразу в машину и посадил… А те, кто был в машине, меня куда-то в Мытищи отвезли, до утра поили, я и рухнул…
— Что за договор подписали?
— О сотрудничестве… Я уж и не помню…
— Если повозить вас по Москве, вспомните дом, где были?
— Не знаю…
— Какая у него квартира?
— Большая… Комнаты три, не меньше…
Или врет, подумал Костенко, или Сорокин возил его на явку… У него один большой зал, никаких там трех комнат нет…
— Из окон-то что было видно?
Пшенкин задумчиво переспросил:
— Из окон? Что-то было видно… Погодите, вроде бы Белорусский вокзал…
Костенко сразу же вспомнил Нинель Дмитриевну, двоюродную сестру Сорокина, спрыгнул с подоконника, рассеянно похлопал себя по карманам:
— Слушайте-ка, у вас сигаретки случаем нет? Тьфу, забыл, — он усмехнулся, — тот Костенко вам курить не рекомендовал… Едем со мной, будем искать дом возле Белорусского, это вам нужно больше, чем мне, едем!
… Точно, Сорокин будет уходить по железной дороге, понял Костенко. Он нас запутал своим авиабилетом. Ну, гадина, неужели свалил, а?!
Попросил ребят связаться с Комитетом, пусть подключают пограничные станции, бросился к машине. Пшенкин семенил за ним, неестественно часто крутя шеей, словно бы ему жал воротник рубашки…
… Костенко сидел закаменев, не спуская глаз с Пшенкина. Тот обалдело таращился на дома вокруг Белорусского вокзала, то и дело отвлекаясь — прислушивался к телефонным разговорам, что полковник вел из машины. Он чувствовал, как ему передается нервозность этого седого человека, хотя внешне тот был совершенно спокоен; вспомнить ничего не мог, все здания казались ему одинаковыми.
Костенко помог ему:
— Вы как туда добирались?
— На машине…
— Очень были пьяны?
— Сейчас это не наказывается…
— Чем он вас угощал?
— Коньяком.
— Сам пил?
— Очень мало… «Мадеру»…
— Закусывали?
— Да… Он мне шашлык взял, а сам икру ел… Сначала стюдень спросил, а как ответили, что нет, так порций пять икры заказал…
— Вам-то икорки предложил?
— Я ее не ем…
— Почему?
— Из-за сострадания к народу…
— А шашлык — можно? Без сострадания?
— Погодите, — Пшенкин прилип к окну, — а вот не этот ли?
— Остановиться?
— Да… Ей-богу, этот! И подъезд вроде бы тот, четвертый этаж, я ступени считал, лифта нет…
Костенко сразу же посмотрел на дом, что стоял напротив; отселили под ремонт, много пустых квартир, окна открыты; осведомился по рации, где ЖЭК, и попросил шофера гнать туда — с сиреной.
Начальника ЖЭКа на месте, конечно же, не было. Главный инженер, как объяснила секретарша, отъехал на совещание, заместитель на участках.
— Кто может подъехать со мною к Белорусскому? — спросил секретаршу.
— А вы кто такой?
— Из МУРа.
— Обратитесь завтра, скоро работа кончается…
— Завтра? А если вас сегодня бандюга ограбит?
— У меня брать нечего.
Несчастная страна, в который уже раз подумал Костенко, никого ничего не волнует, ждут манны небесной… А что они могут в этом затхлом ЖЭКе, возразил себе Костенко. Если бы им позволили действовать, подвалы осваивать, чердаки и первые этажи… Так нет же! Они ничего не могут без приказа сверху, разрешения десяти инстанций… На Западе то, что у нас называют ЖЭКом, — богатейшее учреждение, с компьютерами, своим баром, прекрасной мебелью, люди отвечают за жилье, что может быть престижнее! А у нас? Все просрем, если даже сейчас, когда хоть что-то можно, все равно никому ничего нельзя…
— Послушайте, барышня, — настроившись на лениво-равнодушный темпоритм секретарши, продолжал Костенко, — вы…
— Я вам не «барышня»! В общественном месте небось находитесь!
— Как прикажете к вам обращаться?
— Как все нормальные! «Женщина»! С Луны свалились, что ль?! Все нормальные люди обращаются — «женщина», вы что — исключение?!
Костенко тяжело обсматривал ее, чувствуя, как изнутри поднимается отчаянная ярость, но потом заметил ее разношенные туфли, заштопанную юбку, подпоясанную драным пуховым платком, спортивную кофту, уродовавшую и без того ужасную фигуру, и сердце его защемило тоскливой, пронизывающей болью…
Похлопав себя по карманам, он нашел грязную таблетку валидола, бросил ее под язык и тихо вышел из затхлого полуподвала…
… В отделении милиции взял двух сотрудников, и оперативник угрозыска и обэхаэсовец были, слава богу, в штатском; по дороге объяснил суть дела; вороток нашелся у шофера, бинокль лежал в чемоданчике Строилова, у него там и фотоаппарат был, и блокнот, и маленький диктофончик. Несчастный парень, как он там?
— Борис Михайлович, а кто в той квартире еще был? — спросил Пшенкина.
— Не помню… Вроде бы никого… Духами пахло…
— Мужскими?
— А разве такие есть?
— Есть… Картины, фотографии были на стенах?
— Были… Много…
— Какие-нибудь запомнились?
— Вроде бы… Погодите… Картины были старинные, не русские, с купидончиками… А фото… Там много танцоров… И танцовщиц… Длинноногие все, срамно одеты, не по-нашему…
Костенко обернулся к оперативнику угрозыска:
— Какие тут балерины живут?
— Сейчас запросим, — ответил тот, — если дадите трубочку… Вроде бы тут несколько артистов жили, мы присматривали, были сигналы, что на них наводки клеили, но потом вроде как отрезало, мы еще дивились — в чем дело?
— Не живет ли здесь некая Ирина Васильевна, в девичестве Лазуркина? Была солисткой балета в ансамбле метрополитена?
Опер усмехнулся:
— Иностранка? Когда не на даче — живет, я ее знаю…
… Они высадили Пшенкина возле метро, вскрыли черное парадное, оперативник остался на стреме — наверняка какой энтузиаст прибежит или, того хуже, постовой, начнут скандал, бумагу потребуют, у нас миром говорить не умеют, как что — в истерику, гражданская война, а не разговор; поднялись на пыльный чердак. Костенко вжался в окуляры бинокля, рассматривая квартиры, начиная с цоколя, — литератор от страха прибабашен, четвертый этаж ему мог померещиться.
Окна цоколя были закрыты шторами. на втором с обшарпанного потолка свисала засиженная мухами лампочка. Было что-то безнадежное в этих старинных проводах, витых, как косы, — такие девушки плели, пока новый фасон не окоротил мир. Теперь только певцы с косами ходят, борьба полов — что там классовая! Мебель в комнатах была старая, разностильная, стол без скатерти, пожжен утюгом, не портниха ли живет? Нищета, трущобы! В соседней квартире комнаты были заставлены мягкими креслами, маленькая женщина в длинном халате, отороченном мехом, сидела против огромного экрана диковинного телевизора. На одной лестничной клетке две судьбы; разбитое общество! На третьем этаже в правой от пролета квартире шел ремонт. Трое маляров устроились на перевернутых ведрах, дымили цигарками и выпивали по маленькой. На полу, застеленном газетами, стояла бутылка, лежал батон хлеба, три огурца и несколько плавленых сырков. Женщина в робе смывала старые обои; мы стали обществом, где работают только женщины, подумал Костенко, пока еще работают; скоро, видно, и они отучатся; «Красный молот, красный серп — это наш любимый герб, хочешь жни, а хочешь куй, все одно получишь х…». Сколь за этот стишок давали Сорокины? Кажется, восемь лет каторги. Что ж, за правду надо платить…
На четвертом этаже только в двух окнах горел свет. Была видна богатая люстра, краешек рояля и стол. Во второй комнате просматривался угол тахты. На ней — ноги мужчины, на туфлях золотая пряжечка. Такие же замшевые туфли были на Хренкове в тот день, когда он подошел к Костенко у библиотеки.
На паркете стояла бутылка боржоми и гофрированная тарелочка со студнем из кулинарии. Ай да Либачев-младший, что за память, а?! Мой пациент обожал студень, ай да лапочка…
— Смотрите за ним, — Костенко передал бинокль обэхаэсовцу и достал из кармана фотографию Сорокина. — На тахте лежит этот человек. Я сейчас вернусь…
Он не сразу поднялся. Достав сигарету, сунул ее в рот, но не стал прикуривать. Огонек зажигалки вечером подобен далекому выстрелу: слышать — не слышно, но опытный глаз сразу же снимет слежку.
Я потребую от него свидетелей, которые бы доказали, что он был с ними в день убийства Мишани и Людки, думал Костенко, чувствуя, как все чаще молотит сердце. Наверняка у него уже есть такие свидетели, ответы заранее срепетированы, мастер писать сценарии, школа… И я отвалю, потому что не будет улик… А палец Варенова на Людкином пояске? Отмажется: «Я с ней спал, раздевал ее, поясок снимал, в ночь убийства гулял с ней в ресторане, отвез домой, больше не видел, не клейте мокруху, я не по этому делу». Что дальше? Убийство Строилова? Еще неизвестно, что покажет вскрытие… Потом, Рыжий из кафе «Отдых» напрямую не был связан ни с Никодимовым, ни с Вареновым, там длинная цепочка… Нападение на Пшенкина? Как такового факта не было… Попытка? Доказывайте, мусора, разбивайся в лепешку, Костенко! Хорошо, а показания Дэйвида? Ну и что в них криминального? Сорокин писал книгу о Зое? Писал, не отрицаю, я ж был ее следователем, сейчас понял, что служил нелюдю, решил искупить свой грех, рассказать миру правду… Кто ее убил? Ищите… Я-то здесь при чем? Не надо применять недозволенные методы ведения следствия, осуждено историей… А Управление? Группа экспертов? А он спросит: «Где улики? Записанный разговор? Так он склеен из отдельных слов, лажа… Докажите! Факты на стол, письменные документы. Да и потом, запись разговора — не доказательство… И кино ваше — дерьмо, этому веры нет, у нас демократия». За ними стоят могучие люди из Системы, будут выгораживать, незримо давить, влиять, советовать, напоминать о спасительном для них тридцать седьмом годе, восстанавливать против следствия толпу: «Снова милиция начинает злодейство»… А мало ли у нас таких, которые бы мечтали вернуться к злодейству, спросил он себя, чтобы раскрывать дела и получать за это внеочередные звезды?! Только разреши — всё мигом пораскрывают, выбьют любые показания, лишь кости будут трещать! «Нет ничего страшнее русского бунта, кровавого и бессмысленного…» А следствия? Сталинского следствия, которое стало привычным? «К бунту только те зовут, кому своя шейка — копейка, а чужая головушка — полушка…» А в следствии? Про Сорокина уже многие узнали… Кладем перед ним, если изымем, манускрипт о мафии…
А он лепит: «Речь идет об американцах, здесь же нет имен, инициалы… Докажите, что это Россия…» Хорошо, а разные паспорта? И Витман, и Айзенберг, и Хренков. А где же Сорокин? А он: «Взял фамилию жены, разве это преступление!» Нет, это не преступление, отнюдь. Но отчего Хренков и Витман? А у него заготовлено: «Мы — страна, не умеющая прощать. Со статьей, по которой взяли Сорокина, ему бы не жить в Москве, изгой… Построим правовое государство — вернусь к самому себе, Сорокину…» Конечно, года два за нарушение паспортного режима можно потянуть, но теперь паспорта налаживаются отменять, выскочит…
Если его отпустят за недостаточностью улик — а их действительно мало, — каково будет строиловским ребятам? Они же до конца изверятся в том, что в этой стране есть справедливость… Несправедливый закон — что может быть страшнее?! Значит, возразил он себе, ты волен присвоить себе функцию справедливого законодателя? Ты не вправе делать это, Костенко. Дорога в ад вымощена благими намерениями…
Он заставил себя увидеть лицо генерала Строилова — бескровное, когда его свалили на пол. Ты и это можешь простить Сорокину, спросил он себя. Если ты можешь и это простить, тогда садись к себе на кухню и не высовывай рожу на улицу, чтобы не встречаться с людскими взглядами… Верно написано: не бойтесь врагов, они могут только убить вас, не бойтесь друзей, они могут только предать. Бойтесь равнодушных, с их молчаливого согласия совершается и предательство и убийство…
Костенко спустился во двор, кивнул оперативнку, мол, шухари, и вышел на привокзальную площадь.
Двушек в кармане не было: протянул киоскеру «Союзпечати» двадцатикопеечную монету:
— Будьте любезны, разменяйте.
— Я вам не разменный пункт!
— Очень прошу, товарищ…
— Сказал — нет! По-русски не понимаешь?!
Костенко оглянулся. Бабулька в платочке торговала цветами, осталось три букетика всего.
— Матушка, двадцать копеек не разменяете?
— Какая я те «матушка»?! Сам дед!
— Не сподобился пока… Вы мне за двадцать копеек хоть пару двушек дайте…
— С этого б и начинал. — Старуха взяла у него монету и протянула двушки. — Всяк человек за каждое движение свой резон должен получить…
Костенко подошел к автомату, снял трубку, долго держал ее в руке, а потом медленно опустил монету; снова полез за сигаретами; сунул крошево в рот, повертел в спекшихся губах, потом чиркнул спичкой, прикурил, затянулся пару раз так глубоко, что, казалось, проглотил дым, и лишь после этого набрал номер.
Ответил сухой мужской голос.
— Товарища Шинкина, пожалуйста, — сказал Костенко, покашливая.
— Кто просит?
— Я только что из Краснодара… Он ждет моего звонка…
Шинкин взял вторую трубку:
— Слушаю…
— Осип Михайлович?
— Да. Кто это?
— Вы знаете, что Сорокин сегодня уезжает в Берлин?
— Какой Сорокин?
— Возьмите ручку и запишите его адрес… Готовы?
— Я ничего не понимаю…
— Диктую. — Костенко дважды назвал адрес Иностранки и дал телефон квартиры, установленный оперативником еще из машины. — Успели? Вы обнаружите у Сорокина две пленки — это копия его рукописи: «Управление. Связи. Люди. Методы». Если в течение часа его не возьмут ваши люди, я не отвечаю за последствия… В квартире есть черный ход. До свидания…
… Вернувшись на чердак, Костенко спросил спутника:
— Не двигался?
— Поднялся, взял сигареты и снова лег…
— Он? — Костенко кивнул на фотографию Сорокина.
— Похож, но только он не седой, а черный, и с усиками…
— Значит, он… Ладно… Теперь отваливайте на площадь, там меня ждите… Если какой шухер начнется — услышите… Сразу сюда — и в дело… Оружие с собой?
— Откуда? Нет, конечно… Нам же так просто не дают…
— Жарьте в отделение и берите… Одна нога здесь, другая там…
Как только Сорокина — без галстука, встрепанного по-клоунски, пепельно-бледного (это было заметно даже при тусклом свете уличного фонаря) — трое верзил сунули в машину, Костенко кубарем свалился по лестнице, задыхаясь бросился на площадь, прыгнул в машину и прохрипел:
— К трем вокзалам, по осевой, с фарами!
Выскочив из машины у Ярославского, повторил:
— Через два часа езжайте к Строилову, понятно? Не раньше! Если Строилов не откроет, орите в дверь, что я в Кратове, пасу!
… В Кратове шел мелкий осенний дождик. Пахло сосной. Ветер — незримой ладонью — ласково гладил кроны громадных деревьев, и они, словно волосы податливо-ласковой женщины, шуршаще качались из стороны в сторону.
Костенко шел к даче Шинкина неспешно, то и дело сплевывая под ноги. Во рту пересохло, язык был медный, и рот все время наполнялся пузырчатой, горькой слюной, противно.
Во многих дачах еще горел свет; жалостливо, как ушедшая молодость, светились низкие абажуры, сейчас такие не делают. Луна была зыбкой из-за того, что на нее то и дело нагоняло тучи, которые становились серебристыми, чтобы снова стать непроглядно-черными, когда их сносило в засыпающее небо.
Машина, на которой вывезли Сорокина, стояла возле ворот. Потом — одна за другой — подъехали еще три. Прохаживались высокие люди в кожанках. Давайте, ребята, кончайте ваш разбор с палачом, времени у вас в обрез, смотрите не опоздайте, я дал вам сто двадцать минут, но и за это должны сказать мне спасибо…
Костенко опустился на землю, откинулся на столб и закрыл глаза. В висках молотило, то и дело накатывали приступы горькой тошноты. Он сидел напрягшись, уцепив пальцами мокрую траву, и мучительно ждал, когда же на даче Шинкина прозвучит выстрел.
Примечания
1
Министерство внутренних дел Афганистана
(обратно)

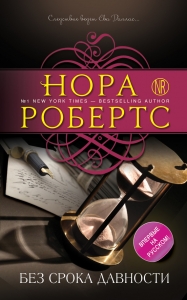
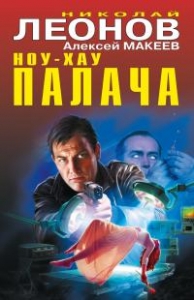
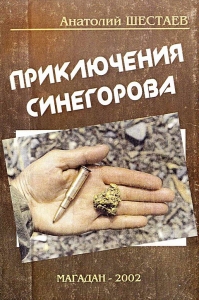
Комментарии к книге «Тайна Кутузовского проспекта», Юлиан Семенов
Всего 0 комментариев