— Пепел Клааса стучал в моё сердце, — повторил Уленшпигель…
— О! — сказала она. — Этой войне нет конца. Неужели мы так и проведём всю жизнь в слезах и крови?..
— Нас предали, — ответил Уленшпигель…
— Мы их распознаем, — сказали Уленшпигель и Ламме…
Шарль де КостёрОТ АВТОРА
Конечно, таких острых ситуаций, которые пережил герой повести, не было в действительности. Но почему же им не дано было случиться, да ещё в такой реальной стране, как Бельгия? Во время второй мировой войны в рядах бельгийского Сопротивления бок о бок с бельгийцами сражались сотни русских, поляков, чехов. И они погибали там… Так что на месте Виктора Маслова, приехавшего на могилу отца в Арденны, мог оказаться молодой поляк, серб или чех. И всё же автор по причинам, вполне понятным, избрал в герои русского юношу, отсюда и проистекает та убеждённость в характере его действий, когда он узнает о предательстве. Автору пришлось заменить имена действующих лиц, ведь там, в Бельгии, и сейчас живут вполне реальные люди, которые могли бы принять на свой счёт события, описанные в повести.
Вот и получается, будто ничего такого и не было. Но разве ж не могло быть именно так?..
ГЛАВА 1
— Пора, ребята, — сказал я, продолжая сидеть в кресле. Столько ждал этой минуты, дни считал, а сейчас понял, что не хочется уходить. Так бы и остался с ними хоть на один рейс.
Николай кивнул в сторону двери:
— Ни пуха тебе, ни пера. Не промахнись мимо полосы. Держи бортовые огни в ажуре.
— Будет сде, — отвечал я, не трогаясь с места.
— Не спеши, — сказал Командир. — Присядем на дорожку.
Мы и без того сидели, но так уж полагалось. И это должен был сказать Командир. Ребята помолчали, поглядывая на меня.
— Значит, таким макаром, — деловито начал Сергей, прервав молчание. — По музеям не ходи, по кабакам не шляйся, стриптизы не смотри. Усвоил?
— Не будь туристом, — сказал Командир.
— Будь человеком, — подхватил Виктор-старший.
— И вообще, наведи у них порядок, — заключил Николай. — А то они совсем загнили.
Ребята дипломатично засмеялись.
— Ты на отца-то похож? — спросил Командир, он всё-таки хотел дознаться до главного, а заодно и меня приободрить.
— Как вам сказать, Командир. Я ведь такой… Отец был сам по себе, я тоже сам по себе. И вообще Масловых в одной Москве пруд пруди. Так что «вояж» может закончиться лёгкой загородной прогулкой, обидно, конечно, будет… — Впрочем, что им толковать, они и без того в курсе.
— Разберётся, не маленький, — продолжал Командир, зная, как много значат его слова для меня.
— Предсказываю: он вернётся героем, — Сергей поднял указательный палец и глянул на меня.
— А как по-французски «хорошо», знаешь? — спросил Николай.
— Бон.
— Лучше «сава», — поправил Николай. — Вот и держись таким курсом: «сава, сава» — и всё будет о'кэй.
— Сто восемьдесят слов знаю, — объявил я. — Вчера Вере экзамен сдавал.
— Сто восемьдесят? — удивился Сергей. — Для культурного человека это даже слишком…
Ребята снова засмеялись, на сей раз без дипломатии. Я тоже посмеялся, стараясь запомнить и этот смех, и позы ребят в рубке, и их прибауточки — все пригодится в дальней дороге. Потом я встал.
— Пока, други. Хорошей вам видимости. Не опаздывайте за мной.
Дверь сочно всхлипнула за спиной, я больше не оглядывался.
На мятых чехлах валялись газеты, пёстрые проспекты. Девчата возились в хвостовом салоне, а Вера стояла у трапа.
— Адью, девочки! — крикнул я. — Пока, Верунчик, — я чмокнул её в щеку, и она, как на привязи, двинулась за мной.
— Виктор!
Я обернулся. Теперь мы стояли на верхней площадке трапа, девчата нас не видели. На дальней полосе полого и изящно садилась «каравелла».
Вера тронула меня за рукав:
— Пойдём с экипажем.
— Меня же встретить должны, ты же знаешь, — терпеливо объяснял я. — Они будут ждать меня с пассажирами. По радио передали, что мы сели, они будут ждать, — я нарочно уходил в эти подробности, опасаясь, что она снова примется за старое.
— Возьми, — она протянула длинную книжицу в серой обложке.
— У меня словарь есть.
— Разговорник лучше. Тут наборы готовых фраз, это удобно.
— Терпеть не могу готовых фраз.
— Все же придётся… — Она настойчиво смотрела на меня глубокими зелёными глазами, но я сделал вид, будто не замечаю её взгляда, и раскрыл разговорник.
— Ладно, пригодится. Гран мерси, мадмуазель.
— Слушай, — упрямо сказала она, накрывая разговорник ладонью. — Останься с нами.
Так я и знал, что она всё-таки примется за своё, женщины без этого не могут.
— Верунчик, откуда такой пессимизм? — быстро спросил я, чтобы помешать ей выговориться, но она и не думала останавливаться.
— Виктор! У меня тоже нет отца, я знаю, что это такое.
— Не прибедняйся. Твой папочка жив-здоров.
— Все равно его у меня нет, — твердила она как заведённая. — И я лучше тебя знаю, что это такое. Мать как-то сказала, что вышла замуж по ошибке. Она, отец… всё это было ошибкой. Понимаешь? И в результате этой ошибки появилась я. Мать даже пыталась что-то сделать, но я все равно появилась: там тоже случилась ошибка. И живу теперь по ошибке, вот что это такое.
— Смотрите, какой безошибочный вывод, — я попробовал усмехнуться.
— Нет, нет, не перебивай, — она опять схватила меня за рукав. — Я лучше знаю это. Понимаешь, ты уже привык, что его нет, ты всю жизнь так жил. И вдруг хочешь это переменить. А там ещё эта женщина. Зачем ворошить то, что должно остаться, как было? Это все равно что копаться в чужом бельё, неужели не понимаешь, в этом есть что-то унизительное. Я не хочу тебя отпускать в эту страну…
— Страна как страна. Нанесена на карту, полноправный член Организации Объединённых Наций, имеет прямое воздушное сообщение с Москвой. Очень даже приличная страна.
— Вот всегда ты так: прячешься за шуточками. Но ты же там один будешь, понимаешь? И эту женщину примешься искать — как ты это себе представляешь? А я сон нехороший нынче видела.
— Нет, не представляю, — я засмеялся, потому что действительно не представлял себе этого.
Вера по-прежнему смотрела на меня долгим, неотрывным взглядом. Сам не понимаю отчего, но этот взгляд все больше раздражал меня, может, потому, что я совершенно не знал, как реагировать на него.
— А что касается отцов, — сказал я как можно беспечнее, — то у каждого свой отец. Они у нас такие, какими мы их представляем. — И припечатал точку, чтобы вышло побольнее: — Вот так-то!
Она закрыла лицо руками и пошла прочь. Я отчуждённо посмотрел ей вслед. Потом подхватил чемодан и зашагал по трапу. Вечно она все усложняет, научилась изображать мировую скорбь по самым ничтожным поводам. И потом эти штучки: сны, предчувствия. Нет, я этого не люблю.
Я шагал по бетонным плитам и с каждым шагом отвлекался от её предчувствий. Далёкая гладь лётного поля, солнечно и нежарко. Тень моя скользила сбоку, переламываясь на швах между плитами, и я почти машинально отметил, что шагаю строго на запад. Справа басовито рокотал «боинг», выползая на полосу, воздух размазывался от его моторов, и дальний лес провис над горизонтом, будто смотришь сквозь воду. Неподалёку стоял «диси-VIII», люки его были распахнуты, и красочная цепочка пассажиров тянулась по трапу. На краю поля застыли серебристо-рыбьи тела самолётов, слетевшихся сюда со всего света. Скоро и нашу рыбину оттащат туда, на стоянку, но меня уже не будет с ребятами. Вера будет молча сглатывать слезы — и поделом. Я уже забыл о нашей стычке и думал о том, кто же меня встретит? Может, Антуан приедет? Хорошо бы. И сразу отправимся к нему. А потом на могилу…
Перебросил чемодан, запустил руку в карман кителя: паспорт и бумажник на месте. В паспорте виза на десять дней, до девятнадцатого августа, в бумажнике чек на десять тысяч бельгийских франков. Так что всего у меня в достатке.
Стрелки-указатели услужливо тянули меня за собой: сквозь стеклянные двери, по светлому коридору, через просторный вестибюль — к чиновнику в тёмной фуражке, сидевшему за высокой конторкой. Представитель жандармерии полистал паспорт, поглядывая на меня с привычно бдительным равнодушием, потом припечатал штемпель.
Я забрал паспорт, шагнул через турникет. Вот когда я очутился в Бельгии, население девять с половиной миллионов человек, конституционная монархия, король Его Величество Бодуэн Альберт Шарль Леопольд Аксель Мария Густав, королева Её Величество Фабиола Фернанда Мария де Лес Викториас Антониа Аделаида Мора и Арагон. Но я вряд ли попаду к ним на приём…
У турникета стояла высокая седая старуха в длинной тёмной сатиновой юбке, почти скрывающей высокие чёрные башмаки, скромненький белый платочек, вязаная кофта. При бабусе два огромных деревянных чемодана, крашенных синим, под цвет юбки. Бабуся была транзитная, билет у неё до Брюсселя, мы ходили смотреть на неё в салоне. Она озиралась по сторонам и в то же время не забывала бдительно присматривать за чемоданами. Народу в зале было немного, туристы уже проследовали, остались только мы с бабусей.
— Ты наш или не наш? — спросила она певуче, когда я поравнялся с ней. — Куда же мне теперь?
— Свой, бабушка, свой. Все в норме.
— А мы правильно прилетели? Дочка-то моя должна здесь быть, а вроде не видать.
— Сейчас появится. Вы сами-то из наших краёв?
— Из Фастова я, до дочки прилетела.
— Куда же вам теперь? — Я поставил чемодан, достал сигарету и посмотрел в зал, но никого не обнаружил. Может, меня ждут на верхней галерее?
— В Брюкино еду. Город ихний.
— Брюгге, — догадался я. — Тиль Уленшпигель оттуда родом.
— Он самый, — обрадовалась она, — мне дочка отписывала. Где ж она запропастилась?
— Мы на двадцать минут раньше прилетели, — успокоил я бабусю.
— Мамо, мамо! — раздался надрывный крик. Раскинув руки, по залу бежала рыжеволосая женщина в пенсне, за ней поспешали два долговязых отпрыска в кожаных шортах.
— Ксаночка! — вскрикнула бабуся и от слабости села на чемодан. Я хотел было попридержать её, но понял, что больше тут не нужен.
Рыжеволосая припала к материнскому плечу, обе зарыдали в голос. Парни неловко топтались перед ними, лопоча по-фламандски.
Я отошёл: не про меня эта история. Наконец-то дочь нашла свою мать и может приникнуть к материнской груди. А я? Самое большое — и то, если повезёт, — найду могилу и постою рядышком. Но и тогда я буду счастлив, потому что до сих пор и могилы той был лишён, и ведать о ней не ведал.
Дочь продолжала всхлипывать, припадая к матери и одновременно заботливо придерживая её на ходу. Внуки с натугой, каждый по одному, прихватили чемоданы, и все они беспорядочно заспешили к выходу. Я провожал их взглядом и тут же увидел тех, которые явно ждали меня. Вот и подошла моя черта.
ГЛАВА 2
Их было четверо — двое на двое. Первая пара помоложе, вторая — значительно старше. Я приближался к ним, пытаясь на ходу разобраться в ситуации. Антуан с женой — те, что помоложе, а вторая пара — кто они? Неужели приехала та самая женщина, о которой Скворцов говорил? Кто же тогда при ней? И вряд ли она могла узнать про меня так скоро. Верно, это друзья Антуана; а может, и отца — кто ведает…
Десятки вопросов теснились в голове, и не было места для первого.
Тот, которого я принял за Антуана, раскинул руки и бросился ко мне.
— Здравствуй, Виктор, — весело сказал он по-русски и полез ко мне лобызаться.
— Так вы не Антуан? — едва успел удивиться я. Меня обнимали, тискали, хлопали по плечу. Всё это сопровождалось радостными восклицаниями, быстрой французской речью. Я еле успевал поворачиваться, расточая ответные улыбки, чмокая подставляемые щеки, пожимая руки. Кто эти люди? Я не знаю о них ничего, кроме того, что это мои друзья и сердца их открыты для меня. Они знали отца, а я был сыном, и этого стало достаточно, чтобы они встретили меня с объятиями. Они расскажут мне то, что я хотел услышать всю жизнь, не имея никакой надежды на это, разве у них есть что скрывать от меня?
Наконец первая суматоха поулеглась, мы могли посмотреть друг на друга.
— Напрасно ты меня принял за Антуана, — засмеялся первый мужчина. — Я Иван Шульга, зови меня просто Иваном.
В самом деле, у него скуластое лицо, доброе и широкое, чистейший рязанец или курянин, просто удивительно, как мог я обмишуриться, приняв его за бельгийца.
— Вы знали моего отца, Иван?
— Мы с ним страдали по разным лесам, — странно ответил Шульга, — но я имею о нём сведения, что твой отец известен для Бельгии.
А это Луи Дюваль[1] и его верная жена Шарлотта, они тоже убивали бошей в партизанах и имели дружбу с твоим отцом.
Мы ещё раз познакомились, на этот раз церемонно пожав друг другу руки.
— А это Сюзанна Форетье, жена твоего друга Антуана, — продолжал Иван. — Она теперь будет твоя симпатическая хозяйка, так что слушай её.
Сюзанна протиснулась между Луи и Шарлоттой и крепко пожала мою руку. Она была хрупкой, подвижной и весело щебетала.
— Она говорит, — перевёл Иван, — что Антуан не смог сегодня приехать, ему не разрешили его капиталисты, но, когда мы приедем, Антуан уже будет дома. И ещё она задаёт тебе свой вопрос, любишь ли ты шампиньоны в сметане? — До чего же странно этот Иван говорил: без малейшего акцента и в то же время как бы не по-русски; я ещё не мог понять, в чём тут дело, да и не до того было сейчас.
Я не успел высказать радости по поводу шампиньонов. Луи перебил Сюзанну и повернулся ко мне. Теперь я мог и его рассмотреть внимательней: длинное, будто сдавленное с боков лицо со смуглой продублённой кожей, цепкие блестящие глаза. Говорит отрывисто и резко, словно сердится. Шарлотта молчит с непроницаемым лицом, такая же высокая и седая, как и Луи, им обоим за шестьдесят.
— О чём они говорят? Я что-то не улавливаю.
— Он ругает Сюзанну за её шампиньоны, — ответил со смехом Иван. — Всегда, говорит, эти женщины лезут вперёд со своей кухней. Луи знает, зачем ты приехал, и он даст тебе ответ за твоего отца.
— Он об отце говорит? Что?
— Он сообщает: ты сильно похож на Бориса; он сразу узнал тебя, как увидел. Он сердечно счастлив, что ты приехал, и хочет много сказать тебе про Бориса. Он требует, чтобы я переводил тебе все, что он будет говорить.
— Спасибо, Иван, без вас я тут как без рук. Я как раз хотел спросить у Луи, нет ли у него отцовской фотографии?
— Мы уже говорили об этом. У него есть лесная фотография, он не взял её, но дома он тебе все покажет. Борис был командиром отряда, а Луи служил его помощником, поэтому ты теперь его желанный гость.
Продолжая разговор, мы двинулись к выходу. Иван спросил, какая погода в Москве. Я болтал как можно беспечнее, пытаясь отвлечься от главного вопроса, который настойчиво вертелся у меня в голове, как только я узнал, что Луи партизанил вместе с отцом. Я понимал, что должен сдержать себя, сейчас не время и не место. Ведь я хотел обстоятельного ответа, и потому нельзя задавать мой вопрос походя, между стеклянной дверью и стрелкой, указывающей на туалет. И всё же я не сдержался:
— Вы не в курсе, Иван, как погиб отец? Расскажите. — Вот он, мой главный вопрос, а потом я уж буду спрашивать о женщине, обо всей той истории, на которую Скворцов намекал. Но со вторым вопросом я ещё повременю.
Иван остановился, сосредоточенно наморщив лоб, и хотел ответить, но я уже понял по его глазам, что он не знает — или больше того, попытается уйти от ответа. Луи вовремя перебил его. Я ждал.
— Он требует, — перевёл Иван, — чтобы я сообщал ему все, что ты говоришь со мной, каждое твоё слово.
Но я уже овладел собой:
— Точка, Иван! Не надо про отца переводить. Скажите Луи, что я вам про Москву рассказываю.
Мы вышли на широкую площадь, до отказа заставленную машинами. Проходы были узкими, мы шли гуськом, и разговор сам собой прервался. Только раз Иван обернулся и, показалось мне, заговорщицки подмигнул, указывая на Луи: молчи, мол, приятель… Но, может, был в его подмигивании иной смысл, а мне после тягостного разговора с Верой мерещатся всякие небывальщины? Во всяком случае, нельзя спешить с таким вопросом после того, что я узнал от Скворцова и увидел смущённые глаза Ивана.
Луи остановился у зелёного «Москвича».
— Привет земляку! — воскликнул я, радуясь, что есть повод уйти от темы. — Вот уж не думал, что первым делом сяду в «Москвич».
Луи постучал ладонью по крылу.
— Он говорит, — перевёл Иван, — что купил эту машину потому, что он сильно любит нашу родину.
Вопрос мой надёжно похоронен, можно начинать все сначала, но теперь я спешить не стану.
Мы сели и тронулись: Луи и Шарлотта впереди, Иван между мной и Сюзанной. Машина выбралась на автостраду. Луи прибавил скорость.
— Будьте добры, Иван, — обратился я к Шульге. — Спросите у Луи: большой ли был отряд, в котором они с отцом воевали?
— Зачем ты всё время мне «вы» говоришь? — обиделся Иван. — Я тебе «ты», и ты мне «ты». Мы люди простые, нас всех капиталисты эксплуатируют, поэтому мы должны говорить с тобой «ты».
— Сразу так не получается, вы уж не сердитесь…
Иван перевёл мой вопрос и ответил:
— Он говорит, что в ихнем отряде было двадцать два человека, и они сделали семнадцать саботажей, по-нашему, дать прикурить, так? А потом Борис научился хорошо говорить по-ихнему и даже ругался, будто валлонец, и его забрали в особенную диверсионную группу. С тех пор Луи с ним больше не встречался, он даже не знал, где укрывалась эта группа. Поэтому я не мог рассказать тебе про твой вопрос, — странная русская речь Ивана то и дело коробила мой слух, но ещё больше удивляло меня то, что он говорил.
Итак, ответ сам собой проясняется. Отец попал в особый диверсионный отряд, и обстоятельства его гибели им неизвестны, в этом всё дело.
— Кто же командовал этой особой группой?
— Та группа существовала в скрытом виде, никто про них не знал, только генерал Пирр. Теперь его похоронили. А Луи будет рассказывать тебе за те семь месяцев, когда они познакомились и вместе били бошей. Борис был отчаянным, не знаю, как это сказать по-нашему, — простоволосым, потому его всё время приходилось удерживать, чтобы он не потерял своей головы. Они ходили на страшные саботажи, и Борис всегда был впереди.
— Ах, Иван, — вырвалось у меня. — Что бы я без вас делал. Летел и думал: как буду здесь разговаривать. Но мне, право, неловко, приходится отрывать у вас столько времени…
— Не беда, — растаял Иван. — Только я, наверное, забыл свой язык, потому что жил в деревне, но я буду стараться. Это нужно для нашей родины, я всегда готов за неё пострадать. Я и в этих иностранных лесах страдал, не жалея сил. А что я получил? Сейчас я почти безработный человек.
— Вас уволили? — встревожился я.
— Я мастер по дереву. Столяр. У меня небольшая мастерская. Но сейчас работы стало совсем мало. А жизнь дорожает. Меня многие сторонятся, потому что я люблю нашу родину и всегда говорю за неё правду. А здесь я есть эксплуатированный и закован в цепи капиталистических стран.
ГЛАВА 3
— Давай, старик, выкладывай, — требовал я, обнимая рыжего. — Ты хороший старик, но сначала давай выкладывай.
Я был навеселе, в голове позванивало, но нить мыслей я не терял и поспевал всюду. Говорили одновременно в четырех углах, и везде мне было место.
Сейчас на очереди у меня рыжий, так я мысленно окрестил его, хотя он вовсе и не был рыжим. У него сложное имя, которое я никак не мог запомнить. Он сидел на диване у окна, я подвалился к нему.
— Бон санте, — ответил рыжий, поднимая бокал с вином.
— Давай санте, — согласился я. — А я слово дал, что до всего докопаюсь. Знаешь, кому — самому президенту.
— О, президент! — рыжий, конечно, не понимал меня, но слушал внимательно и улыбался.
Он выпил и растаял, язык у него вмиг развязался.
— Тогда он положил на стол кусок хлеба и пистолет, — добросовестно переводил Иван. — А Борис стоял перед столом. Но пистолет был не заряжён, так что он не боялся. И он отошёл к окну — для хитрости. А сам смотрит, что этот русский сначала схватит? Если возьмётся за хлеб, значит, его боши послали. И что же, ты думаешь, он схватил?
— Конечно, пистолет, — с восторгом угадал я.
— Да, он схватил пистолет. А ведь сам был худой, как палка. И он повернулся к этому русскому и засмеялся: «Ты меня не убьёшь, там пустая пуля». Чужой его не понял и не выпускал пистолет. И он подумал: «Это большой человек. Он пришёл в свободную страну. Он может остаться здесь, никому не служить и быть свободным. Но он хочет драться с ботами, потому что он большой человек». Тут чужой увидел, что его пистолет пустой, и тоже засмеялся. И он сказал: «Совьёт, Моску». Но он и без того знал, что это русский, ему утром дали звонок из префектуры, что двое русских сделали побег из шахты и их надо ловить. Но он не такой плохой человек, чтобы выдавать русских для бошей. Он служил тогда полицейским, но сердце его было с партизанами. «Совьёт — это бон, — сказал он русскому, — положи пистолет и ешь хлеб». Они с ним поужинали, выпили вина, и он повёл его к попу, потому что поп понимал русский язык. Борис очень хорошо ел, он хотел много есть.
— Едем к попу, — я вскочил с дивана, — пусть священник расскажет дальше.
— Антуан звонил к кюре, — остановил меня Иван. — Он уже спит. Кюре рано ложатся спать, потому что им делать нечего, — Иван тоже был на взводе, но держался молодцом, по-партизански.
— Он хочет опять выпить этот напиток, — продолжал Иван, кивая на рыжего. — Он рад, что Антуан пригласил его сюда, он давно никому не рассказывал об этом. Он положил на стол кусок хлеба и пистолет, он нарочно так сделал…
Я обнял рыжего.
— Спасибо, старик. Ты спас моего отца. Просто не знаю, как отблагодарить тебя. На, возьми, — я вытащил из кармана пригоршню значков. Рыжий долго и тщательно выбирал, пока не остановился на владимирских Золотых воротах. Я прицепил значок к его пиджаку.
Луи позвал меня с другого конца стола.
Стол был длинный, во всю комнату, и я шёл вдоль него, цепляясь за спинки стульев и улыбаясь всем, кто сидел за столом: так радостно мне было с этими людьми в этот вечер в этой комнате. Даже эти эмигрантки, которые прикатили из Голландии и были сами по себе, не могли испортить мне настроение.
Я со всеми на «ты», все мне друзья, а Луи запретил мне называть его «мсье». «Я тебе не „мсье“, — сказал он, — я тебе друг и коммунист». И Шульга свой парень, немного смешной и жалковатый, он всё время словно бы заискивает передо мной. У меня мировые друзья и великолепный президент с шикарной фамилией. И я узнаю, что было на мосту.
— Когда ты приедешь ко мне, — говорил Луи, а мадам Люба переводила, — я покажу тебе сувениры, с которыми мы воевали. — Луи понизил голос. — Тут собралось слишком много народу, и нельзя поговорить как следует. Он говорит, что вы молоды и не знаете, что такое война, но вы должны знать это от него.
— Давайте слушать русские песни, — закричала Ирма, голландка из Ростова, она сидела против нас и демонстрировала свои перстни. — Сейчас я принесу магнитофон и будем слушать русские песни.
Сюзанна возникла передо мной и поставила вазочку с мороженым. Удивительно, как она всюду поспевала. Антуан иногда выходил за ней на кухню, чтобы помочь, а потом возвращался к гостям. Перед Антуаном стоял высокий бокал, но он почти не пил и разбавлял вино водой. Но все равно Антуан мне друг, не то что эта мадам Любовь Петровна, которая сидит с поджатыми губами и изучает меня. Едва она появилась в доме, как сразу же принялась читать лекцию на тему «Бельгия — это перезрелая роза», и осуждающе поджимала губы.
Ирма притащила из машины шикарный «грюндиг», принялась налаживать плёнку. Ей помогал её отпрыск, белобрысый, длинноногий Якоб.
— Ах, как я люблю русские песни, — восторженно предвкушала Ирма, — Виллем их тоже любит, правда, Виллем?
— Я любит русская песня, — отвечал по-русски Виллем, огромный мужчина с тяжёлыми ручищами. Виллем мне тоже нравился, и Оскар мне нравился, и другой приятель Антуана, и другая эмигрантка из Голландии, и все остальные, которые тут собрались. Даже Ирма с её перстнями и наколкой перестала раздражать меня, коль она любит русские песни.
— Виктор! — позвала меня мадам Люба на французский манер, вот кто мне сегодня определённо не нравится.
Я обернулся.
— Луи хочет с вами договориться, — продолжала она недовольно. — Он спрашивает, где вам лучше встретиться?
— Сейчас посмотрю по программе, — небрежно ответил я, доставая листок. — Что там у нас записано?
Так я и думал: мадам Люба удивилась.
— Какая программа? — спросила она, вскидывая выщипанные брови.
— Обыкновенная, — я с радостью подпустил эту шпильку. — Составлена самим президентом при участии Луи, Антуана и Шульги. Называется: программа моего визита в Бельгию, теперь я от этой программы ни на шаг…
Едва мы приехали к Антуану, в Ворнемон, как к дому подкатил роскошный янтарный «пежо». За рулём сидел мужчина в кожаной фуражке.
— Президент, — объявил Иван.
Я удивился, что за президент? Иван терпеливо пояснил:
— В этой Бельгии как только три человека соберутся вместе, так сразу один из них делает себя президентом. Но этот президент имеет хорошую организацию. Он президент Армии Зет[2] Поль Батист де Ла Гранж. Он хотел тебя видеть.
Поль Батист де Ла Гранж уже входил в комнату. Движения его были торжественно замедленными, лицо утопало в улыбке. Видно, он знал Антуана и Луи, потому что сразу обратился ко мне. И как он говорил!
— Он рад приветствовать тебя на бельгийской земле, — начал Иван. — Он жалеет, что не знал твоего отца, но тем больше радости у него сейчас, что он познакомился с тобой. К твоему приезду все готово, Армия Зет ждёт тебя прижать к своему сердцу. Он привёз сувениры, но вручит их потом, как закончит речь, потому что он приветствует тебя в трех видах: как президент Армии Зет, как бывший партизан и как патриот от своей жены, который любит свою родину и всех хороших людей в мире. Он верит, что тебе тут понравится и ты узнаешь о своём отце все, что хочешь узнать.
Президент был великолепен! Элегантный, общедоступный, оптимистический, гармоничный президент — свой парень. Одна фамилия чего стоит.
— Он говорит, что прервал свой ваканс, чтобы встретить тебя, и сейчас спешит в Льеж, там будет заседание ихнего президиума, и он должен рассказать всем прессам о твоём приезде. Тебя будут встречать в Бельгии как героя.
— Какой же я герой?
— Подожди, — оборвал Иван. — Он должен сначала кончить речь, они тут не любят, когда их перебивают. Он говорит, что должен составить программу для твоего пребывания, он рад показать тебе Арденны и этот старинный город Льеж. Но для этого надо иметь программу. Он спрашивает, что ты хочешь увидеть прежде всего?
— Конечно, могилу отца. А потом как вам угодно.
— Могила — это прекрасно, — продолжал президент, — я понимаю ваши чувства и потому записываю: сегодня среда, вы отдыхаете после дороги и знакомитесь с друзьями вашего отца. На завтра запишем оформление документов, поездку на могилу в Ромушан и по местам боев, на мост, где погиб ваш отец. Это будет делать Антуан, так? В пятницу — вы мой гость, я приеду за вами в десять часов утра. Мы посмотрим все, что связано с войной вокруг Льежа, а вечером пойдём на собрание ветеранов.
— Когда же Виктор поедет ко мне? — нетерпеливо спросил Луи, до этого он молчал.
— Прекрасно, Виктор будет у вас в субботу, — записал президент, — вы можете забрать его прямо с собрания, если Антуан не возражает.
— Нам надо повидать одну женщину, — сказал Антуан, — которая делала могилу Бориса. Правда, я не видел её много лет.
Вот она, та самая женщина, правда, пока безымянная.
— Как её зовут? — спросил я.
— Антуан потом тебе расскажет, — ответил Шульга, — ты мешаешь нашему президенту.
До чего же шикарный достался мне президент, как они перед ним робели. Ладно, женщина от меня не уйдёт.
— Значит, включаем в программу мадам Икс, — улыбнулся президент. — На какое число?
Антуан пожал плечами.
— Тогда это будет сверх программы. Небольшой сюрприз для нашего молодого друга. Итак, субботу вы проводите у Луи Дюваля, снова посещаете места боев и узнаете, как мужественно воевал ваш отец. А в воскресенье состоится торжественное возложение венков на могилы партизан, в том числе и в Ромушан. Начало церемонии в одиннадцать часов у церкви Святого Мартина. Согласны?
— Шикарная программа, — заметил я. — Только к чему эта торжественная церемония? Лучше поскромнее…
— Ты не знаешь наших порядков, — возразил Иван. — Это очень торжественная церемония, она проводится каждый год по всем могилам. Кроме того, президент говорит, что он должен познакомить тебя со всеми бывшими партизанами как сына арденнского героя и сделать тебе этот очень хороший сувенир.
— Может, обойдёмся без этих «сувениров»?
Иван снова заговорщицки подмигнул мне, как тогда, в аэропорту:
— На этот вопрос президент не может ответить тебе, но когда-нибудь ты сам узнаешь.
— Играете в свои игры? — усмехнулся я. — Давайте, давайте, пользуйтесь тем, что я ваш гость.
— А теперь я должен вручить вам сувениры. — Президент вытащил из портфеля иллюстрированный журнал с цветной обложкой. — Здесь впервые опубликована историческая фотография особой диверсионной группы «Кабан», в которой состоял Борис Маслов. Там же напечатана статья о партизанах. Это совсем свежий журнал.
— Фото «кабанов»? — воскликнул я. — Неужели оно сохранилось?
— Опять ты перебиваешь? — рассердился Иван. — Президент не любит, когда его перебивают. Он оратор.
Президент усиленно нахваливал свои сувениры: брошюра с партизанскими песнями, биографии героев Сопротивления, газеты и ещё что-то, но я уже слушал вполуха: моё внимание было приковано к журналу, а журнал прихлопнут пухлой президентской ладонью. Наконец ладонь сползла с обложки, и я раскрыл журнал на закладке.
Они стояли в ряд под большим деревом, все как на подбор рослые, крепкие, молодые, в руках автоматы и винтовки, у крайнего — ручной пулемёт, нацеленный в объектив. Отец стоял третьим справа, я сразу узнал его, как узнал бы самого себя, хотя долгие годы разделяли нас. Он стоял, выставив автомат, и это тоже отличало его. Он казался старше, а ведь тогда ему было меньше лет, чем мне сейчас. И сравняться с ним не так-то просто.
Я горячо поблагодарил президента за журнал. Де Ла Гранж улыбнулся.
— Он спрашивает, есть ли у тебя интересные вопросы? — сказал Иван.
— Я хотел бы узнать об особой группе «Кабан».
— К сожалению, о действиях этой группы известно очень мало, потому что все её люди погибли, так он говорит. Он даже не знает, кто был командиром группы, но это можно узнать в архиве генерала Пирра, который ещё не опубликован. Известно, что в группу входили одиннадцать человек, из них четверо русских, два поляка и один югослав.
— На фото их только десять, — заметил я и тут же догадался: — Одиннадцатый тот, кто их снимал, понятно.
— Это так, он с тобой согласный.
— А что они делали в этой группе?
— Они выполняли самые опасные операции: саботажи, расстреливали предателей, освобождали патриотов. Их прозывали «кабанами» за то, что они проживали в глухом лесу на горе. Он хочет объяснить тебе, что кабаны — это ихние звери, они тёмные, волосатые, и нос у них франком. «Кабанами» руководил шеф Виль, только он один знал об этом отряде, что он делает и где скрывается. Президент очень жалеет, но после войны этот шеф Виль сам скрылся со всеми бумагами и деньгами, удрал.
— Так просто и удрал? Куда же?
— Эту историю я тебе потом расскажу, — отозвался Иван, не переводя вопроса. — Об этом Виле вся Бельгия знает.
— Но, возможно, есть другие люди, которые были связаны с группой «Кабан»? — спросил я, не теряя надежды. Мне казалось, что президент что-то недоговаривает, хотя я не имел никаких оснований думать так.
— Он тебе отвечает, — переводил Иван, — что будет искать справки, возможно, ему удастся найти интересных свидетелей. Когда они погибли на мосту, то делали важную операцию, о которой тоже стало известно только потом. Они погибли как герои, и вся ихняя Бельгия почитает их, но историю группы «Кабан» никто специально не изучал. Армия Зет не располагает такими большими деньгами для истории. Но Антуан тоже был связан с «кабанами», он тебе расскажет.
Ничего, сказал я себе, могло быть и хуже. Что же всё-таки выясняется? Три периода отцовской жизни в Арденнах у меня выясняются. Когда мы приехали в Ворнемон, Антуан рассказал, что несколько раз бывал на могиле отца в Ромушан, там лежат три белых плоских камня, подогнанных один к другому. Три периода, три белых могильных камня, на которых пока ещё ничего не написано. Первый камень: побег из немецкого лагеря и все, что было до партизанского отряда, надписи на этом камне сделает Антуан Форетье. Второй камень: партизанский отряд, это связано с Луи Дювалем. И, наконец, третий камень, самый главный, потому что он связан с последним днём жизни отца — группа «Кабан», третий камень, самый белый и чистый, ни одного имени на нём. И самого главного вопроса некому даже адресовать.
— Решено! — объявил я. — С этой минуты я сам займусь историей группы «Кабан».
Президент демократично похлопал меня по плечу.
— Он тебе поможет, — сказал Иван, — потому что ты его друг, он говорит, что вся его Армия Зет будет тебе помогать, и все будут рады, если тебе удастся открыть новости, тогда он опубликует их в ихних прессах. Он спрашивает, есть ли ещё вопросы?
— Только один. Когда познакомились Луи Дюваль и Антуан Форетье?
Иван удивился, но перевёл. Они говорили довольно долго, ответ был короче.
— Они три дня знакомы, когда Антуан получил твою телеграмму о выезде и поехал в Льеж. Их познакомил президент. А раньше они знакомства не имели.
— А ты, Иван, когда с ними познакомился?
— Тоже три дня. Президент позвонил ко мне на дом и сам просил, чтобы я тебя встретил. Я сказал, что я согласный помочь моей родине.
Примерно так я и думал: ещё три дня назад они и вовсе ничего не знали. Значит, отыщутся следы и в группу «Кабан», не могут не отыскаться.
Президент посидел с нами, а потом уехал в Льеж на собрание, но тут же начали наезжать другие гости — застолье продолжалось. Я едва успевал улыбаться и пожимать руки. Скоро весь дворик перед домом оказался заставленным машинами, как стоянка на городской площади. Первой явилась мадам Люба. Прикатила на длинном роскошном «марлине» Ирма со всей своей семьёй, приехал из Уи Оскар, двоюродный брат Антуана. Они названивали во все концы по телефону, скликая новых гостей. Я подивился было такому обилию новых знакомств, но Иван коротко объяснил:
— Ты же из Москвы прилетел. Поэтому они имеют интерес до тебя.
Но никто ни о чём меня не расспрашивал. Они просто подходили ко мне и улыбались. А Ирма села за стол и долго смотрела на меня размытым взглядом. На её руке предательски синела наколка: сердце, пронзённое стрелой, а под сердцем её бывшее имя — Ира. На той же руке нацеплены и перстни, и дорогой браслет.
Потом глаза у Ирмы растуманились, и она принялась рассказывать, как ей удалось — и совсем недорого — купить в Лондоне подержанный «марлин», вполне приличный и ещё не старой модели. У её Виллема много богатых клиентов, он должен иметь хорошую машину, иначе будет мало прибыли.
Мадам Люба подсела к ней, и они дружно взялись за прежнюю тему: «Бельгия — это перезрелая роза».
— Голландия — перезрелый тюльпан, — подпевала Ирма. — Лепестки его красивы, но уже осыпаются…
Я слушал их и дивился: на родину не вернулись и в новом доме не прижились — где же их сердце?
Поздний обед перешёл в ранний ужин. Я находился в приподнятом настроении, я верил: и завтра, и послезавтра все пойдёт так же хорошо и удачно. Даже Ирма перестала меня раздражать, когда притащила «грюндиг» и заявила, что не может жить без русских песен.
Хриплый голос запел под бренчащую гитару: «Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю», — вот без каких русских песен она не может жить, бог с ней, нет мне до неё никакого дела!
Иван подсел к нам, обняв меня за плечи:
— О чём вы тут секретничаете? Или ты нашёл себе лучшего переводчика?
— Программу мою изучаем. Луи волнуется, когда я к нему приеду?
— Твой визит к Луи предвиден на субботу, он тебя с собрания заберёт в свой дом.
— Ай да Иван. Ты молоток, Иван. Мигом разрешил все проблемы. Выпьем по такому случаю.
— Как ты разговариваешь по-русски? — удивился Шульга. — Почему ты назвал меня молотком? Разве я такой глупый?
— Что ты, Иван? Совсем наоборот, Иван. Молоток значит молодец, так сейчас в Москве говорят.
— Ну раз я молоток, — улыбнулся Иван, — тогда ладно. За наших «кабанов». Чтобы ты всё узнал про них.
— Подождите меня, — сказала мадам Люба. — Я тоже с вами. Только узнавать там нечего. В этой группе «кабанов» был предатель, потому они все и погибли на мосту.
Я выпил, но закашлялся. Иван пронзительно засмеялся, хлопнув меня по спине. Это мне помогло, я окончательно пришёл в себя.
Странно, но в мире все оставалось по-прежнему. Мадам Люба глядела на меня с осуждением. Магнитофон продолжал свою песню: «Что нам горе, жизни море надо вычерпать до дна». Сюзанна спешила с шампиньонами. Ничего не изменилось в мире, только я сделался другим человеком, хотя моя рука продолжала двигаться по инерции, опуская на стол рюмку. Я знал, что так останется до тех пор, пока я не узнаю всего. Сначала возникла женщина, теперь предатель. Недаром Скворцов сказал: «Там странная история». Как в воду глядел.
Продолжая улыбаться, я повернулся к Ивану.
— А ты и в самом деле молоток, Иван. Что же ты мне сразу не рассказал, что там был предатель?
— Какой предатель? — невинно удивился Иван.
— Ты что, не слышал, что Любовь Петровна сказала? Повторите ему, Любовь Петровна.
— Разве я что-нибудь сказала? — удивилась, в свою очередь, мадам Люба.
— Сейчас я у неё спрошу, — быстро сказал Иван и тут же перешёл на французский.
Я ничего не понимал. Ловко же они меня провели.
— Что происходит? Теперь вы засекретничали? — спросил я, стараясь говорить так, чтобы голос мой звучал непринуждённо и весело.
— Я спрашиваю у неё, откуда она узнала это? — ответил Иван, не оборачиваясь.
— Так спрашивай же по-русски, чёрт возьми, — не выдержал я. — Есть же нормы общения. Кто же всё-таки вам сказал, Любовь Петровна?
За Любу ответил Иван:
— Она говорит, что слышала это от людей.
— А ты? — взбесился я. — Что ты говорил ей?
— Я спрашивал: у каких людей она слышала это?
— И дальше. Только все говори. И по-быстрому.
— Слушай, Виктор, — Иван посмотрел на Любу, положил руку на моё колено. — Ты сам подумай, откуда она может знать про это дело? Она к нам сюда приехала только в сорок пятом году, когда война уже перестала. Про нашу войну с бошами она ничего не знает. Она пришла сюда на все готовенькое, а теперь берётся судить о наших делах.
— Я собираю материалы, — невозмутимо заявила мадам Люба.
— А где ты раньше была? У кого ты забираешь наши материалы? — обиделся Иван.
— Ты был здесь на свободе, а я в немецком лагере сидела.
— Ты в немецком лагере сидела? — Иван задумался. — Я слышал, ты на ферме работала.
Люба презрительно поджала губы. Ирма подошла ко мне и запустила в волосы руку, ту самую, с наколкой. Но я терпел.
— Любочка, зачем ты лезешь в эти мужские дела? — пропела Ирма. — Кто-то кого-то предал, подумаешь. Будто у них в России предателей не было.
— Вы всё-таки не ответили на мой вопрос, Любовь Петровна, — сказал я мягко, но настойчиво.
— Давно я слышала, лет десять назад, — в голосе Любы звучало притворное равнодушие. — Кто-то из бельгийцев говорил, я не помню. Я ж про «кабанов» материалы не собираю…
— Вот видишь, — оживился Иван, — слышала звон, а не знает, откуда он звонит.
Они снова перешли на французский. Я верил им и не верил. Если я от русских не могу правды добиться, то с бельгийцами ещё труднее будет. Но погоди, Иван. Есть человек, который скажет мне правду. Я огляделся. Антуана в комнате не было.
Луи увлечённо беседовал с Оскаром. Шарлотта задумчиво листала журнал, подаренный президентом, «рыжий» полицейский посапывал на диване.
— Хорошая встреча, — сказал вдруг по-русски Виллем. — Акцент у него был ужасный, но я обрадовался и этому.
Мы разговорились по-немецки. Перед поездкой я пополнил свои прежние знания в надежде, что немецкий поможет мне здесь, однако первый опыт оказался решительно светским.
— Мы едем во Францию, — говорил Виллем, — у Ирмы там тоже есть русские подруги. А на обратном пути заедем в Кнокке, там живёт её приятельница. У меня гараж и три машины, я вожу товары в Германию. Работы много, но раз в год всё-таки удаётся вырваться. Посмотрите на мои руки. — И он раскрыл могучие ладони, пальцы в ссадинах и буграх, под ногти навсегда въелась маслянистая копоть. — Но я люблю своё дело.
— Молодец, Виктор! — крикнула через стол Ирма. — Виллем очень любит русских. К нам часто приходят люди с корабля, и мы с ними вспоминаем родину.
— О, я люблю русских, — подтвердил Виллем.
Вот сколько замечательных вещей узнал я о Виллеме, вот как легко, оказывается, узнать о человеке, который сидит рядом с тобой. Вы просто болтаете и узнаете друг друга. А если вас разделяет двадцать с лишком лет и белая могильная плита — как тогда узнать правду? Отец-то уж ничего не узнает, он даже не знал, что я буду и есть. Он ничего не узнает и не расскажет. Но я-то могу узнать о нём, хочу знать, должен знать.
— Я тоже участвовал в Сопротивлении, — говорил Виллем. — Правда, у нас не было такого размаха, как в Арденнах, но мы тоже не сидели сложа руки.
Я заинтересовался:
— Сколько человек было в вашем отряде?
— Шестнадцать. Мы жили в деревнях, каждый в своём доме. Собирались только перед операциями. У нас в отряде был пароль, по которому человек обязан помочь тебе.
— Какой?
— Честь и свобода. И ещё мы складывали два пальца в виде буквы V — виктория. Так делали все голландские партизаны. А пароль был только у нас.
— Интересно, как он по-голландски звучит?
— Феер ен фрейхайт.
— Феер ен фрейхайт, — повторил я задумчиво. — Честь! Честь хороша до тех пор, пока не появится предатель.
— У нас он был, — живо отозвался Виллем. — Его расстреляли. Правда, не я приводил приговор в исполнение. Я не решился.
Иван с грохотом отодвинул стул и плюхнулся между нами.
— Ты мне не веришь, Виктор?
— А, Иван? Оказывается, ты ещё не разучился говорить по-русски. Я тебе верю, Иван. Ты молоток, Иван.
— Нет, я вижу, ты мне не веришь, — обиженно упорствовал Иван. — Но если ты мне не веришь, давай спросим Луи.
— С Луи я уже говорил. Все, что Луи знает, он мне расскажет. Но про «кабанов» он не знает. Я сам знаю, кого надо спросить.
— Кого?
Антуан стоял в дверях, держась одной рукой за косяк, и внимательно глядел на меня. Взгляд его был спокойным и изучающим. Странно, но я до сих пор как бы не замечал Антуана. Он был тут хозяином, но это никак не обнаруживалось. Он почти всё время молчал, но видел все. А теперь он посмотрел на меня — и я будто заново узнал его. Он был невысок и крепок. Я перевёл глаза на фотографию, прикреплённую к стене, Антуан был там в борцовской майке с глубокими вырезами, в мягких башмаках, снимок сделан в Будапеште, где Антуан выступал в полусреднем весе на европейском первенстве. И сейчас он стоял в той же позе, крепко упёршись ногами, и глаза его видели все. Только взгляд был у него сейчас иным, нежели на фотографии. Он смотрел на меня спокойно и твёрдо, словно знал, о чём я думаю, но ещё не решил, стоит ли говорить мне о том, что знает он сам. Встретившись с моим взглядом, он не дрогнул, а продолжал смотреть так же уверенно и пытливо. Конечно, он слышал разговор Ивана с Любой и имел своё суждение на этот счёт — так говорили его глаза. Но он ещё раздумывал и решал. Ну что ж, решай, Антуан!
Меня словно подбросило к нему.
— Поборемся, Антуан?
Он легко отделился от двери и сделал шаг навстречу.
— Давай поговорим, Виктор, — сказал он, и это было его ответом.
Мы сели. Виллем потянулся к нам с бутылкой.
— Выпьем по маленькой.
— Чуть позже, герр Виллем, — ответил я. — Сейчас мы немного поговорим.
— Я понимаю, — сказал Виллем, улыбаясь добродушной улыбкой. — Серьёзный мужской разговор.
— Да, Виллем, серьёзный мужской разговор. Садись сюда, Иван, и не вздумай переводить отсебятину. Только то, что я буду говорить. Иначе обойдусь без тебя.
— Сидишь и сиди, — отругнулся Иван. — Я буду переводить точно.
Антуан передвинулся на стуле, подался вперёд, поставил локти на колени, сцепил пальцы рук и снова посмотрел на меня тем же спокойно-пытливым взглядом.
— Иван, спроси Антуана, — начал я, — знает ли он, что в группе «Кабан» был предатель и потому эта группа погибла?
Антуан ответил тут же. Голос его был задумчивым, словно он размышлял наедине с собой.
— Он говорит, что не знает фактов, хотя и думал об этом. Но теперь ты сам приехал сюда и сам должен узнать это. Завтра ты поедешь на мост и сам увидишь, как это случилось.
У меня от сердца отлегло: да, теперь я знаю, кому надо задавать мой главный вопрос. И вопрос свой главный знаю — что было на мосту? И каким бы ни был ответ, я его выслушаю. И после этого я поступлю так, как повелит мне сыновний долг.
— Хорошо, Иван. Скажи ему, что я доволен ответом. Но не совсем. Меня интересует собственная точка зрения Антуана. Переводи.
— Он сказал тебе все, что мог сказать, — перевёл Иван. — Он хорошо понимает, что ты сейчас чувствуешь. Ты сын Бориса и имеешь право узнать всю правду. Но ты должен узнать её сам. Та женщина, о которой он тебе говорил, знает много. Надо сделать так, чтобы она рассказала тебе, что знает. Это будет зависеть от тебя. И в лесной хижине он надеется найти что-нибудь, он давно там не был. Вот как ты будешь узнавать свою правду. А он будет тебе помогать. Его дом, его время, машина, память — все находится в твоём состоянии. Все, кроме Сюзанны, так он сам говорит, — заспешил Иван, увидав, что я нахмурился. — Он говорит, что ты очень понравился его Сюзанне. Но он только рад, что ты понравился Сюзанне. Поэтому он верит, что ты узнаешь все, как надо. Женщины в таких делах лучше понимают. Надо только набраться терпения. Ты согласный?
— Спасибо, Антуан. Иного ответа я не ждал. У каждого в жизни случается свой мост, и надо пройти по нему достойно.
— В таком случае он говорит тебе «бонжур» и хочет пожать твою верную руку.
— Бонжур, Антуан.
Он стиснул мою ладонь так, что я едва не присел, но вовремя успел перехватить пальцами его кисть и ответил как следует.
Антуан выдержал и улыбнулся.
ГЛАВА 4
— Быстро нашли меня? — спросил кюре.
— Сюзанна так хорошо объяснила, что я ни разу не ошибся. Всё-таки я штурман.
— Пошли по стопам отца и тоже летаете? — Он ничуть не удивился.
— Вы и про это знаете?
— Сын мой, когда вам будет под восемьдесят, вы поймёте, что знаете слишком много и что большинство ваших знаний, увы, уже бесполезны для вас.
— Зачем же так, мсье Мариенвальд, вы так молодо выглядите.
— Спасибо, Виктор, вы мне льстите. Только к чему это «мсье»? — продолжал он. — Мы с вами соотечественники. Зовите меня просто Робертом Эрастовичем. Я весьма рад, что вы нашли время заглянуть к старику.
— У нас в училище тоже был Роберт Эрастович, — ответил я с облегчением. — Преподаватель навигации, герой войны.
— Ваш отец тоже был героем, — живо отозвался он. — Я рад, что теперь тайна его раскрылась, и вы прибыли к нам.
— Что говорить, мы с матерью были ошеломлены, когда прочитали в газете.
— Ах вот как вы узнали об этом? — Он оживился ещё более. — Расскажите, это весьма интересно. Конечно, это была советская газета?..
— «Комсомольская правда», — ответил я. Как судорожно я вцепился в неё, когда мать позвонила мне перед самым вылетом и незнакомо выкрикнула в трубку: «Боря нашёлся, читай сегодняшнюю „Комсомолку“. Я успел схватить газету в киоске, и мы полетели в Норильск. Лишь после того как легли на курс, я принялся за неё. Статья называлась „Герои Арденнских лесов“, и я удивился: при чём тут Арденны? Но и статья мало что объяснила. О Доценко и Шишкине там говорилось более чем достаточно, а про отца, и то среди других, упомянуто только имя. Борис Маслов — и все. В сущности, ничего, только имя и факт, но вместе с тем так много, что даже не верилось.
И подпись стояла — А.Скворцов. Мы прилетели из Норильска, и я помчался к Скворцову. Тогда-то и сказал он про женщину. И дал координаты отцовской могилы: Ромушан, провинция Льеж, Бельгия. Я написал в Ромушан кюре, потому что Скворцов вспомнил, что там была церковь. Кюре ответил и сообщил адрес Антуана.
— Значит, кроме публикации в этой газете, вы о судьбе отца больше ничего не знаете?
— Почти ничего. Но надеюсь.
— Разумеется, я первый же расскажу вам все, что знаю. Я хорошо помню вашего отца.
Мы продолжали стоять у ворот, где он меня встретил. Кюре изучающе глядел на меня: все тут глядят на меня изучающе. Я тоже на него посматривал: что-то он расскажет? Глаза у него живые и быстрые, хотя лицо изъедено морщинами, нет, не вислые складки на дряблой коже, а именно морщины, неглубокие, но резкие, сплошная сеть морщин. Чёрная сутана до пят с откидным капюшоном, с широкими рукавами. Он поднял руки, приветствуя меня, и стал похож на чёрную птицу. Большая чёрная птица — что-то вроде птеродактиля. И вовсе он не кюре, он чёрный монах. В монахах я разбирался неважно и потому решил уточнить.
— Какого направления вы придерживаетесь? Или имеете сан?
— Я монах бенедиктинского ордена, это очень древний орден, может быть, самый древний из всех ныне существующих, ему уже тысяча триста лет. Древляне ещё ходили в звериных шкурах, а наш орден уже придерживался устава. Впрочем, он никогда не был особенно строгим, труднее попасть к нам. Однако что же мы стоим, оставьте мотоцикл, проходите в дом, Виктор Борисович, — он говорил по-русски чисто и протяженно, сохранив речь старого русака.
И домик у старика был что надо, не дом, даже не вилла, а «шато», как сказала Сюзанна, объясняя дорогу, — двухэтажный «шато» с колоннами, галереями, парадным маршем у входа.
За домом оказалась обширная молельня со стеклянными стенами, перед алтарём были расставлены широкие дубовые скамьи. Из дома в молельню вела галерея, молиться здесь можно со всеми удобствами.
Мариенвальд шагал впереди, всё-таки он немного шаркал, и сутана волочилась по земле. Сутана была старая и пыльная.
Прошли по коридору и оказались в просторной комнате, заставленной книжными полками. Запах пыли и затхлости бил в нос. Я едва не чихнул и с трудом притерпелся.
— Садитесь, Виктор, — он указал на старомодный диван с высокой спинкой, покрытый облысевшей медвежьей шкурой.
— Давно вы из Москвы? — Он грузно опустился на другой конец дивана, пружины снова печально взвизгнули, и снова всклубилась пыль, но он этого не замечал.
— Вчера прилетел. Три часа лета.
— За три часа вы перенеслись из Москвы в Бельгию? — Он картинно всплеснул руками, продолжая разгонять пыль над диваном. — Подумать только, всего три часа! В девятьсот двенадцатом году я добирался сюда четыре дня, а теперь всего три часа…
— Так вы уехали из России до революции? И с тех пор не бывали на родине?
— А зачем? — ответил он вопросом. — Когда началась первая мировая война, я понял, что в Россию уже не вернусь. Капиталы мои лежали в швейцарском банке, я путешествовал по разным странам и в конце концов облюбовал этот прелестный уголок в предгорьях Арденн. В маленькой стране всегда больше свободы, и жизнь экономнее. Сразу после войны я построил этот дом, приобрёл кое-какую недвижимость. Мой капитал с тех пор учетверился. Мне здесь нравится. А в России уже тогда было слишком много правил…
— Кстати, Роберт Эрастович, — прервал я его, — разрешите вручить вам подарок: виды социалистической Москвы, — я протянул ему конверт с цветными открытками, но он лишь мельком глянул на них и отложил в сторону.
— Да, Россия сейчас великая страна, — небрежно бросил он. — Запускает спутники, строит гигантские гидростанции, взрывает бомбы, но какой ценой достигнуто все это?
— Ценой революции, — парировал я.
— Да, да, именно ценой революции, — снисходительно согласился он. — Впрочем, не будем заострять наш политический диспут, вы ведь не за тем сюда прилетели, чтобы обращать меня в свою веру.
— Ни в коем случае! Мой визит носит частный характер.
— Весьма похвальное деяние. Дети должны знать про своих отцов. Я ещё позавчера узнал о вашем предстоящем приезде и был уверен, что вы не минуете меня.
— Антуан вам сказал?
— Не помню, кажется, он, — чёрный монах помедлил. — Да, да, именно он. Кто же ещё мог мне сказать? Итак, я готов выслушать ваши вопросы.
— Когда отец пришёл к вам?
— Это было в сорок третьем, в марте, — он соединил ладони и на мгновенье задумался. — Да, в марте, я хорошо помню, потому что на улице ещё лежал снег, а в комнате топился камин. Его привёл ко мне полицейский. У вашего отца были обморожены ноги, он еле двигался. Одежда висела клочьями, ни разу в жизни я не видел человека в таком горестном состоянии. Он вошёл сюда с опаской и даже кричал, что лучше погибнет, но не дастся в руки бошей. Я объяснил ему, что в этом доме ему нечего бояться. Услышав русскую речь, он несколько успокоился. Я сказал, кто я такой, обещал помощь и сочувствие. Тогда он признался, что убежал с товарищем из угольной шахты, это севернее Льежа. В первую же ночь они потеряли друг друга. Несколько суток Борис, хоронясь от людей, шёл к югу, в арденнские леса, и ничего не ел. Наконец он не выдержал, высмотрел дом победнее и постучался. Так он попал в нашу деревню. Я ещё раз успокоил его, и он заснул. На другой день я дал ему одежду. Однако оставаться в моём доме было все же опасно, потому что меня иногда посещали гестаповские офицеры, хотя ещё в сороковом году я согласился сотрудничать с английской разведкой. К сорок третьему году мы уже имели довольно разветвлённую сеть, в каждой деревне находился свой человек, а динамит и бикфорд мы прятали в лесу. Поэтому на другой день, когда Борис отдохнул и переоделся, я отвёл его в дом Эмиля Форетье, отца Антуана. Этот дом стоял на отшибе, там было безопаснее всего. Но Борис несколько раз приходил ко мне по ночам, я давал ему уроки языка. Он был очень сообразительный и мгновенно все схватывал. Каждый раз он спрашивал: когда же ему дадут оружие?
На столе зазвонил телефон. Звонок был так резок, что я невольно вздрогнул.
Мариенвальд взял трубку и, красиво грассируя, заговорил по-французски. Я вылавливал из его речи отдельные слова: свидание, адвокат, подарок, гостиница, море. Похоже, Мариенвальд был чем-то недоволен, впрочем, я не особенно понимал, да и размышлял больше о своём. Отец пропал без вести в августе сорок первого, а сюда пришёл в марте сорок третьего. Двадцать месяцев плена. И я никогда не узнаю о том, что там было. Двадцать месяцев, шестьсот дней, невозможно даже представить это…
Он снова опустился на диван, взметнув пыль.
— Итак, на чём же мы остановились?
— Отец не рассказывал вам, как ему удалось бежать из плена?
— О да, это было сделано весьма остроумно. Бельгийские шахтёры помогли им забраться в вагонетки и забросали углём. Таким путём им вместе с вагонетками удалось подняться на поверхность, остальное было проще. Он рвался к борьбе. Ни одного нашего разговора не проходило без того, чтобы он не спросил: когда же? А мы могли получить оружие только из Лондона. Каждую неделю мы направляли рапорты в Льеж: где расположены немецкие гарнизоны, зенитные батареи. Разведка наша работала образцово. Из Льежа специальный связной вёз рапорты в Брюссель, а оттуда их посылали голубями в Лондон. Англичане сбрасывали нам голубей на парашютах в больших деревянных ящиках. Тем же путём мы должны были получить и оружие. Я говорил Борису, что надо подождать, но он был слишком нетерпелив. Ваш отец был умным человеком, с ним было приятно разговаривать и даже спорить, но он был слишком горяч, до безрассудства. По-моему, именно это и погубило его впоследствии.
— Как погубило? — не удержался я.
— Он чересчур ненавидел немцев и потому был опрометчив. А с врагом надо драться, имея трезвую голову. Судите сами. Однажды он даже сбежал из дома Форетье, заявив, что не верит нам и сам найдёт партизан. Через три дня он вернулся обратно, отрядов в нашей округе тогда действительно ещё не было, они только организовывались. Но он думал, что мы его обманываем.
Борис рассказывал мне о том, как немцы обращались с военнопленными в лагерях. Его рассказы звучали как дикий кошмар. Он говорил, что немцы пытают людей, травят их собаками, заживо сжигают в специальных крематориях. Я всегда полагал, что тех, кто работает, надо хорошо кормить, одевать, развлекать зрелищами. Государство, использующее рабский труд, неизбежно должно погибнуть, так было, начиная с Древнего Рима…
— Когда же отец ушёл от вас в отряд? — перебил я, не до Рима мне было.
— В конце мая. Мы получили указание начать активные действия против немцев. Бориса передали по цепочке в Бодахинесс. Он уехал туда на велосипеде.
— И больше вы его не видели?
— Увы, с тех пор мы не встречались. Партизанских отрядов тогда было уже много, несколько десятков.
— А как вы узнали, что отец погиб?
— Это было уже после освобождения, когда люди перестали прятаться по лесам и передвигаться стало свободнее. Не помню уже, кто мне тогда сказал, но я очень переживал эту смерть. — Он посмотрел на меня с хитрецой и улыбнулся. — Вы задаёте очень точные вопросы, буквально как следователь. Но в таком случае разрешите и мне задать вам один вопрос: вы уже были на могиле отца?
— Ещё не успел, но буду непременно. Вот только документы оформлю нынче с Антуаном — и я свободный человек.
— Какова же вообще программа вашего пребывания? На сколько вы приехали?
Я рассказал вкратце.
— Президент де Ла Гранж — достойный человек, — отозвался он. — Надеюсь, он сделает ваше пребывание в Бельгии приятным. Со своей стороны и я готов предложить вам свои услуги. Я тоже давно не был в Ромушане. Буду признателен, если вы возьмёте меня с собой, сочту за честь быть вашим переводчиком. Кроме того, у меня есть вилла на побережье, вы могли бы провести там несколько дней, сейчас самый сезон. Море, казино, женщины — что может быть прекрасней! Если пожелаете, мы поедем вместе, я познакомлю вас со своей невестой.
Наверное, мой ответный взгляд выразил недоумение, ибо он быстро возразил:
— Нет, нет, не думайте, что я хочу вогнать вас в расходы. Вам это обойдётся совсем недорого. Разве кое-какие расходы на питание.
Я улыбнулся: я же о невесте подумал. Представляю, какая у такого старца невеста — старушенция, хотел бы я на неё посмотреть! А вслух ответил:
— Благодарю вас, Роберт Эрастович, возможно, я воспользуюсь вашим любезным приглашением. Всё будет зависеть от того, как пойдут дела.
— Однако что же я сижу и пичкаю вас приглашениями? Хорош хозяин! — Он поднялся и вышел в коридор.
Я прошёлся по комнате. Над камином висело распятие, под ним — веер из фотографий, поблекших от времени. Может, у этого самого камина и грелся отец, когда его привёл сюда рыжий полицейский.
Не оставил я без внимания и полки с книгами, прошёлся взглядом по рядам. Здесь были альбомы с марками, книги на всех языках.
Мариенвальд вернулся, держа в руках бутылку шампанского.
— Смотрите, что я обнаружил в чулане, — говорил он, любовно глядя на бутылку. — Подлинная «Клико». Стоит четыреста франков. Мне подарила её на день рождения сестра-настоятельница из соседнего монастыря. Вот и дождалась своей очереди. Но вряд ли мы её всю выпьем.
Стоя у столика, мы выпили немного шампанского.
Я показал глазами на полки:
— У вас неплохая библиотека.
— Что же ещё делать старику? Кроме всего прочего, — объявил он, обводя рукой по полкам, — книги — это ценность. Они стоят на вашей полке, стоят как бы вовсе без движения, а цены на них тем временем поднимаются. Вы вряд ли можете представить себе, как выросли цены на книги за последние сорок лет. Сейчас моя библиотека стоит не меньше миллиона. Кроме того, на старости лет я стал увлекаться филателией. Переписываюсь со всеми континентами. Некоторые мои марки отмечены даже в швейцарском каталоге. У меня самая полная «Австралия» в Бельгии. Одна эта «Австралия» стоит около ста тысяч франков.
«Вот, оказывается, кто он! — мысленно улыбнулся я. — Только о деньгах и толкует. Пригласил меня на приморскую виллу и тут же испугался, что может понести расход».
У меня с собой были марки, я достал пакетик. Чёрный монах с жадностью ухватился за серию «Космос», а мне предложил на выбор пять современных «Австралии».
Я подошёл к камину.
Под распятием висела большая фотография, изображавшая представительного мужчину в генеральской форме, рядом ещё портреты в парадных мундирах, семейная группа с детьми, полковник на коне.
— Занятные фотографии. Тут и автографы есть.
— Да, они мне дороги, — ответил он, подходя к камину. — Посмотрите, вот личный автограф Николая Александровича.
— Николай Второй, его автограф? — я был несколько озадачен: что-то до сих пор мне не попадались птеродактили-монархисты.
— Вы не ошиблись. Мы были близки с царствующей фамилией. Трехсотлетняя династия, одна из древнейших в Европе, и — подумать только — такой трагический конец…
— А это кто? — продолжал допытываться я, указав на центральную фотографию.
— Мой дядя, барон Пётр Николаевич Врангель, генерал армии его императорского величества.
— Тот самый, которого из Крыма вышибли, — не удержался я, однако тут же поправился: — Простите, что я так о вашем родственнике.
Он снисходительно улыбнулся.
— Если хотите, его действительно вышибли, как вы изволили выразиться, но я до двенадцати лет воспитывался в его доме и смею утверждать, что это был высококультурный человек, честный и благородный. В двадцать втором году он приезжал сюда, провёл неделю в этих стенах. Он подарил мне тогда этот значок. — Монах показал на медный крест, покрытый чёрной эмалью. — Видите надпись: «Лукул». Так называлась личная яхта Петра Николаевича. Значок выпущен всего в нескольких экземплярах, ему цены нет. Дядя умер в Брюсселе совсем молодым, сорока девяти лет от роду.
Воздух в комнате становился все более спёртым, пыль лезла изо всех углов, першило в горле. Захотелось на свежий воздух. Можно было просто распрощаться и уйти, но я ещё должен был задать монаху несколько вопросов.
— Может, выйдем во дворик, — предложил я, выглянув в окно: там были столик и скамья.
С холмов тянуло свежестью. Холмы толпились по горизонту, разбегались в обе стороны. А по холмам — поля, перечёркнутые изгородями, купы ближних и дальних рощ, ленты дорог с поспешающими машинами, светлые пятна домов и сараев — вполне житейский и суетный вид. Но даже и здесь, на воздухе, старец казался пыльным и замшелым. Зато я вздохнул свободно.
— Разрешите задать вопрос, Роберт Эрастович, для меня, можно сказать, решающий: что вы знаете про особую диверсионную группу «Кабан»?
— Кажется, ваш отец был в этой группе? — уточнил он, глядя на меня внимательным взглядом. — И вы хотите теперь найти живых свидетелей?
— В том-то и дело, что никого из них не осталось. Даже имена их не все известны. А у меня такое ощущение, будто бельгийцы что-то не договаривают и пытаются скрыть. Без языка-то мне трудно самому разобраться.
— О трагическом конце диверсионного отряда сложена даже песня, вернее, не песня, а стихи. Они написаны по-валлонски, но есть и французский перевод, тоже стихотворный.
— О чём же там говорится?
— К сожалению, у меня под рукой нет этой тетрадки, отвечу по памяти. Да она и незатейлива, эта легенда. Один человек предал их, и в результате этого кровь одиннадцати мучеников пролилась тёмной ночью в Арденнах.
— Одиннадцати? — переспросил я.
— Вам называли другую цифру?
— Отнюдь. Президент де Ла Гранж как раз сказал, что в отряде было именно одиннадцать человек. Но тогда получается, что они погибли все, в том числе и предатель. Это же нонсенс.
— Не верьте стихам, сударь мой, — заключил он, приканчивая бокал. — Легенды существуют лишь для того, чтобы потрясать воображение простонародья. На деле они и гроша ломаного не стоят.
— Но всё же стихи существуют? — возразил я. — Кто-то писал их, опираясь на факты.
— Не будьте легковерным, — мягко, но настойчиво возразил он. — Не поддавайтесь легендам. Верьте только конкретным вещам: деньгам, вердиктам, недвижимому имуществу. Тогда вы не обманетесь. А в этой легенде нет ни сантима для обеспечения факта, сплошные эмоции. Так красивее, поэтому люди и придумали эту красивую ложь, хотя, как вы справедливо заметили, она абсолютно абсурдна.
— Но как же, по-вашему, было на самом деле?
— Немцы отличные вояки, им ничего не стоило справиться с кучкой партизан на мосту. Вот и вся история, которой вы хотите заняться вместе с вашим президентом.
Но кажется, он промахнулся в одном слове.
— На мосту? — переспросил я. — Разве это было на мосту?
— Антуан вам лучше расскажет, как это было. — Опять он на Антуана ссылается, все же он немного смутился и помолчал, прежде чем ответить.
— Ну что ж, — я притворно вздохнул. — В таком случае придётся, как говорят, закрыть эту тему.
— Прекрасное вино, — сказал он, берясь за бутылку. — Редкостная «вдова Клико», вы чувствуете её букет?
— Прекрасный букет, — подхватил я. — Давно не пил такого замечательного вина. Правда, — продолжал я задумчиво, как бы размышляя вслух, — отряд ведь не мог существовать сам по себе. У них наверняка были связные, посыльные, которые находились вне отряда. Не так ли? — я повернулся и глянул на него в упор.
— Ваша идея не лишена остроумия, — ответил он, помедлив. — Недаром французы говорят: ищите женщину. В отряде действительно был связной, вы улавливаете мою мысль?
— Не связной, а связная, так?
— После войны, когда англичане вручали нам медали за сотрудничество с ними, я видел эту женщину. Она получала свою награду.
— Как её зовут? — быстро спросил я.
— Разумеется, её называли как-то, когда она подходила к столу, — он посмотрел на меня, и в глазах его мелькнула еле уловимая насмешка. — Я просто не запомнил. Это было в льежской ратуше. Огромный зал, множество людей, военный оркестр — как тут запомнишь? И разве мог я предположить, что через двадцать четыре года ко мне заявится молодой красавец и станет требовать ответа. Но зачем он вам, мой друг? Не ворошите старое. Все это пылью покрылось. Кто ведает, возможно, вы узнаете то, что предпочли бы не знать. Мой долг предостеречь вас.
— Разве я не имею права знать?
— Увы, — он покачал головой, — вы слишком настойчивы. Но что могу я помнить? Когда мы спускались по лестнице, эта женщина сказала, что живёт в Эвае. Кажется, я даже подвёз её, хотя за бензин тогда приходилось отдавать доллары.
— И больше вы ничего не знаете о ней? — допытывался я, беря его за руку. — Вспомните, Роберт Эрастович, вы должны вспомнить.
— Ах, все это легенды, — он с усилием высвободил руку и откинулся к стене. Глаза его затуманились, плечи обмякли. То ли я его вымотал, то ли он сам осоловел от этой кислятины. — Легенды, легенды, — бормотал он как бы в забытьи. — Они выдумывают красивые легенды, но обманывают лишь самих себя…
Я легонько потряс его за плечи.
— Вспомните же, Роберт Эрастович, вспомните.
— Шерше ля фам — ищите женщину, — упоённо шептал он, и черепашья его голова качалась бессильно.
Баста, больше от него не будет проку. Я отпустил его и решительно поднялся.
— Весьма признателен вам, Роберт Эрастович, вы рассказали мне много интересного. Приезжайте на церемонию, прошу вас.
— Да, да, — он встрепенулся и тяжело встал. — Мы провели весьма содержательную беседу, — он провёл ладонью по лбу. — Ах да, воскресная церемония. Надо посмотреть, есть ли в моторе бензин.
Я невольно улыбнулся. Вот когда я раскусил его: ну и скопидом, даже на бензин жаль раскошелиться…
Я пожал его дряблую руку и направился к мотоциклу.
ГЛАВА 5
Слева раскрылись острые скалы, дорога пошла вдоль ручья.
Антуан вёл машину с изяществом. Левая рука на баранке, правая покоится на колене, готовая в любую минуту метнуться к рычагам или рулю. Лицо не напряжено, словно он и не следит за дорогой, а уселся перед телевизором. А ведь он уже отмахал с рассвета триста километров, отработал смену на своей десятитонной цистерне для перевозки кислоты.
Машина шла ходко — спортивный «рено» с одной дверцей. Мы то и дело обгоняли других, тогда Антуан поворачивался ко мне и по-мальчишески задорно подмигивал.
А я колдовал над картой, прокладывая маршрут и сличая его с местностью. До Ромушана оставалось чуть больше трех километров, а по спидометру мы уже перевалили за полсотни: они пришлись на Льеж.
Так вот где покоится отец: четыре тихие улицы, разбегающиеся от перекрёстка, двухэтажные дома с островерхими крышами, витрины тесных магазинчиков, вывески, рекламные щиты «Esso», кафе под тентом прямо на тротуаре.
И за поворотом церковь. Антуан притормаживает. А я уже выскочил, поспешно шагаю вперёд. Мелькают ряды могил, плоские плиты надгробий, кресты, гранитные глыбы, распятья.
Остановился, нетерпеливо скользя глазами по плитам. Могильное поле обширно, без Антуана мне не обойтись, и тут я сразу узнал тяжёлый светлый камень, хотя не видел его никогда. Солнце было за спиной, воздух над белой плитой дрожал, и волны этой дрожи, будто исходящие от камня, обдали меня ознобом.
Я подошёл и стал. Всё выглядело точно так, как Скворцов рассказывал. И надпись в самом деле с ошибками — не соврал специальный корреспондент. На светло-сером, расколотом на три неравные части граните вырезано: «Борис Маслов, погиб в борьбе с фашистов». И строчкой ниже: «20.VII.1944». Под датой два французских слова, которых я не понимал, Скворцов о них не говорил.
Три расколотых камня, два треугольника поменьше, а на третьем, большом и главном, лежащем в основании плиты, высечена кисть руки, сжимающая горящий факел.
Боже, как навязчиво мне мерещилось: приду на могилу отца, и во мне возникнут возвышенные мысли. И вот пришёл, но мыслей не рождалось. Вместо этого я принялся суетливо оглядывать соседние могилы, ревностно сравнивая: не хуже ли моя… Нет, она была не хуже, там попадались камни и попроще. И вместо возвышенных пошлые лезли мысли: могила на уровне, недорого и со вкусом, и факел этот, будто он горит изнутри, нет, всё-таки неплохо оформлено, напрасно мать опасалась…
Подошёл Антуан. Он нарочно помедлил, чтобы дать мне время прийти в себя.
И тут я начал соображать: ведь до моста отсюда километров тридцать. А ведь тогда война была, не так все это просто было сделать. Война была, война была, когда же она тут кончилась? Бог ты мой, всего полтора месяца не хватило отцу, ведь союзники вошли в Льеж в начале сентября…
Я опустился на колено.
Плита была сухая и тёплая, от этой теплоты и возникал зыбкий воздух, который передал мне свою неуловимую дрожь. Но сейчас я смотрел вблизи, и этой зыбкости не было. Сейчас мне нужна теплота могильного камня. Она меня не согреет, потому что это невозможно и ни к чему, но пусть она развеет мои сомнения.
Я поднял голову. Тоненькая девушка в сером стояла неподалёку, лицо заслонено вуалью, рука бессильно теребит белый платок. Сначала я даже не понял, чем она зацепила моё внимание.
— Подождите минуту, сейчас я сосредоточусь, — сказал А.Скворцов. — Понимаете, такая дурацкая память, прямо спасу нет, помню все телефоны на свете, все имена, заголовки. Про надпись я вам уже рассказал, такую нарочно не придумаешь. Я решил заняться могилой с такой интересной надписью, стал расспрашивать. И споткнулся на первом же шаге. У ограды стояла женщина в синем костюме, я обратился к ней по-французски, не знает ли она, как оказалась тут могила с русской фамилией. И она ответила мне по-русски: «О, это долгая и тёмная история: в ней замешана женщина. Если вас интересует, могу рассказать». Нет, женщина не назвалась, а я не стал спрашивать. Мы очень спешили, мы и без того опаздывали. Иначе я, разумеется, задержался бы. Нет, нет, я ничего не записывал, по блокнотам смотреть бесполезно. Но в том, что я сказал, можете не сомневаться. Фирма работает точно.
И я ничего не спросил у него о женщине. Хотя бы как она выглядела. В синем она была. Русская и в синем. Она знает эту «долгую тёмную историю». И я её должен узнать.
Ещё раз провёл ладонью по камню. Плита была чистой, как белое пятно моей тайны, дёрн аккуратно подрезан, скудные травинки пробивались в сшивах плиты, разделявших её на три неравных треугольника. Моего вмешательства тут не требовалось.
— Ну что ж, поедем, Антуан?
— Мы можем побыть здесь, у нас есть ещё время, — ответил он знаками, мимикой и теми словами, которые я мог понять.
— Едем, — отрезал я.
Он пожал плечами, зашагал к машине.
На карте косой крестик, занесённый в середину большого зелёного пятна. Дорог к крестику нет. С какой стороны лучше подъехать? Пока я строю предположения, Антуан уже развернулся в сторону Ла-Роша. Значит, будем подбираться к лесному массиву с юга.
Мы едем к хижине, а они в тот день навсегда ушли оттуда. Июля месяца двадцатого дня, когда солнце склонялось на закат, они ушли оттуда, чтобы поспеть к мосту до полуночи.
Шоссе петляло холмами. Предгорье кончилось. Кроны деревьев то и дело смыкались, над дорогой, и мы ехали в зелёном тоннеле. Потом взбирались по склону холма, и лес оказывался под нами. Холмы сошлись, шоссе нырнуло в седловину — снова лес стоит стеной. Складки сгладились, дорога легко бежит по склону, и открываются просторные дали с белыми деревушками, полями, перелесками.
Дорога повернула, пошла на подъем, вонзаясь опять в лес. Ещё один пологий подъем, и Антуан поворачивает к высокому каменному сараю. За сараем тарахтит трактор. Там и дом стоит. Старый крестьянин в широкополой шляпе наваливает в тележку навоз.
— Бонжур, мсье.
Он даже головы не поднял. Антуан что-то спросил у него, но он не желал замечать нас и продолжал свою возню с навозом.
— Может, он глухой? — предположил я.
Антуан покачал головой. Крестьянин постучал загребалкой по борту тележки, распрямился на мгновенье, и я увидел его лицо. Оно словно судорогой сведено. Багровый шрам тянулся от правой брови к скуле, рассекая нос и губы. Рот провалился, и вместо ноздрей две тёмные дыры зияли на лице, придавая ему вид застывшей маски. Я не выдержал и отвернулся.
Антуан подошёл к крестьянину.
— Это Виктор Маслов, сын Бориса Маслова, — сказал он, кивая в мою сторону. — Он прилетел из Москвы, он мой гость. Разве ты не помнишь Бориса?
Старик бросил загребалку в тележку, молча обогнул Антуана, залез на высокое сиденье трактора, включил скорость и укатил со своим навозом. На нас он даже не глянул.
Антуан постучал пальцем по лбу, показывая глазами на удаляющийся трактор.
— Война, гестапо, — объяснил он.
— Бедный старик, — ответил я. — На него и глянуть страшно.
Мы двинулись в лес. Каменистая дорога поднималась по склону. Ели вонзались в небесную синеву. Лес был густым, но просматривался довольно далеко. Я не сразу сообразил, в чём дело, а потом увидел — ели стоят правильными рядами, даже интервалы между ними выдержаны. Выходит, лес-то саженый. Вот тебе и партизанский лес!
Но безмолвие леса было вполне партизанским. Лишь самолёт зудел в небе. Я поискал его в просветах ветвей: сверхзвуковик шёл на запад, и пушистая инверсионная нитка туго разматывалась за ним.
Рассыпчато зазвенел колокольчик, я увидел на поляне двух коров. Колокольчики подвязаны к их шеям.
Не доходя до вершины, дорога круто повернула и пологим спуском пошла по обратному склону. У поворота лежали два сросшихся валуна, замшелые и тяжёлые. Под камнями чернела нора. Антуан припал на колено, с озабоченным видом сунул под камень руку. Лицо его посветлело, и он вытащил из норы почерневшее сабо: бельгийский башмак с задранным носком, выдолбленный из цельного куска дерева.
Антуан поставил сабо на землю, принялся крутить его, как стрелку, то в ту сторону, откуда мы пришли, то в сторону хижины, то поперёк тропы. «Раз, два, три», — говорил он при этом.
— Раз, — он повернул сабо к дороге. — Партизаны ушли на саботаж. Два — все хорошо, партизаны в хижине. Три — внимание, идти в хижину нельзя. Это Борис придумал.
Я повертел сабо в руках. Оно было тяжёлое и сырое. Вдоль пятки прошла глубокая трещина, носок надломился. Гниёт старое сабо под валуном, никому оно ни о чём не расскажет.
— Возьмём с собой, — сказал я. — Сувенир.
Антуан кивнул и поставил сабо на валун. Я подумал, что он не понял, но Антуан объяснил жестами: захватим на обратном пути.
Удивительно, до чего легко мы с Антуаном понимали друг друга. И идти по лесу с ним было хорошо. Он двигался уверенно, мягкой походкой бывалого охотника. Иногда он оглядывался на меня, показывая на пролетевшую птицу или белку, неслышно скользившую по ветвям.
Дорога постепенно сходила на нет, сначала превратилась в тропу, потом и вовсе исчезла. Мы шли просекой, свернули с неё, пошли напрямик сквозь подлесок.
— Внимание, — сказал Антуан.
Конечно, это была хижина, хоть я и не сразу разглядел её, густой молодняк почти доверху скрывал низкое каменное строение с покатой крышей. Слепо зияло окошко. Камень порос зелёным мхом.
Я хотел было обойти хижину, но Антуан предостерегающе поднял руку. Я остановился. Он оттащил меня и раздвинул кусты за хижиной. Я обмер: хижина стояла на самом краю скалы, головокружительный провал раскрылся за кустарником. Так что подойти к хижине можно лишь с одной стороны, а там всегда стоял часовой с пулемётом. Надёжное место выбрали «кабаны», но и оно не уберегло их.
— Где дверь? — спросил я. — Антре?
Антуан показал на противоположную стену. Кустарник там оказался слишком густым и упругим. Все же я дотянулся рукой до петли и дёрнул её на себя. Дверь не поддалась. Приглушённый голос позвал меня из хижины:
— Виктор!
Я засмеялся:
— Ах, бродяга, ты уже там? — и вернулся к окну. Антуан подал руку.
В хижине было сумрачно и пахло безмолвной тайной. Глаза скоро привыкли к полутьме, я огляделся. Ничего таинственного в хижине не было. Нары тянулись с одной стороны, в двух местах доски провалились. В углу стояла низкая печь с разваленной трубой. В стену вбито два крюка.
Недолго думая, я юркнул под нары. Горький запах древесного праха ударил мне в нос, но я продолжал лезть дальше, и руки хватали пустоту, пока не наткнулись на холодный камень стены.
Антуан издал радостный возглас. Я выбрался обратно и увидел в его руках солдатскую флягу в коричневом чехле. Фляга была завинчена металлической пробкой. Я потряс флягу, внутри послышался шорох.
— Там записка, — сказал Антуан, приложив палец к губам.
Я поспешно отвинтил пробку. Сухая труха посыпалась из фляги.
Антуан принялся шарить в печке. Я присел рядом. Даже пепла не осталось в этом угасшем двадцать лет назад очаге. Ничегошеньки тут не осталось, ничего мы тут не найдём, кроме скорби.
Антуан полез под нары. Я приподнял истлевшую доску у печки. Доска беззвучно надломилась. Тёмная труха посыпалась на землю, и что-то блеснуло там. Я разгрёб труху и вытащил из щели нож.
У окна я разглядел его. Это был столовый нож, мирный домашний нож, который подаётся к мясу, — с дутой серебряной ручкой в завитушках, с закруглённым концом, чтобы, боже упаси, не порезать палец неловким движением.
Дутая ручка в середине слегка продавлена, а лезвие с одной боковины ржа проела, зато на конце ручки чётко вырезана монограмма: две латинские узорчато сплетённые буквы — M и R, несомненно, они означали имя и фамилию владельца.
Антуан с грохотом выбросил из-под нар покоробленный цинковый ящик, там было с полсотни старых патронов, лежали сошки от ручного пулемёта.
Я показал ему нож. Антуан задумчиво шевелил губами, перебирая имена, которые могли бы подойти под монограмму, потом помотал головой.
— Мариенвальд Роберт, — подсказал я.
Антуан улыбнулся, отдавая должное шутке, и пояснил:
— M — это имя, a R — фамилия.
— Мы найдём этого M и R, обещаю тебе, Антуан.
— Они все погибли, — печально отозвался он.
Я вытер нож, спрятал его в папку, насыпал туда же горстку патронов. Нож да фляга — вот и все наши находки. Но что, собственно, рассчитывал найти я в старой хижине? Я и сам не знал, чего искал. А они не знали, что надо было здесь оставить. Ведь они часто уходили отсюда и всегда возвращались, но тот вечер июля двадцатого дня оказался последним для них, только они не ведали об этом и потому не сумели позаботиться о будущем. А камни молчат.
Развернул карту, обвёл крест, обозначающий хижину, кружком — исполнено.
Карта снова лежит на коленях; мелькают деревни, перекрёстки, рекламные щиты. На развилине Антуан неожиданно сделал левый поворот. Я удивился.
— Направо, Антуан, — сказал я, показывая на карту. — Нам надо направо.
— Эвай, — ответил он. — Нужно заехать в Эвай.
— Ах, Эвай, прекрасный город, — с чувством продекламировал я. — Там живёт одна дама. Недаром молвил чёрный монах: «Ищите женщину в Эвае». Виктор найдёт мадам Икс и посвятит ей свою поэму.
— Мадам Икс, — со смехом подтвердил Антуан. — Виктор должен делать сегодня небольшой визит к мадам Икс.
Эвай оказался сродни Ромушану: такие же полусонные улочки с двухэтажными домами, такой же перекрёсток с голубыми указателями. Разве что магазинов здесь побольше, и витрины пофорсистее.
Антуан остановился у большого продовольственного магазина, витрины которого выходили на две улицы, а вход был с угла. Сквозь широкую витрину я видел, как Антуан пересёк зал и скрылся в соседнем помещении.
Девочка на велосипеде выехала из-за угла и едва не столкнулась с черным «шевроле». Водитель резко затормозил, выскочил из машины, но девочка не упала и виновато улыбалась, спрыгнув с велосипеда. Водитель тоже заулыбался. Так они стояли друг перед другом и красиво улыбались, потом разъехались.
Мадам Икс не показывалась. От нечего делать я включил приёмник. Женский голос пел о безнадёжной любви, оборвать которую не в силах даже смерть. Вечная песенка с незатейливым мотивом, который умирает на другой же день, но песенка, несмотря на это, продолжается в другом мотиве.
Антуан вышел из магазина, сделав на прощанье ручкой миловидной продавщице. Песенка в приёмнике продолжалась.
— Мадам Икс совершает вояж? Улетела в Рио-де-Жанейро?
— Сувенир для Виктора. — Он протянул пачку сигарет и включил мотор. — Сигареты Бориса, — пояснил Антуан, — он курил такие же.
— О! — сказал я. — Спасибо, Антуан. — Сигареты назывались «Кори» и были крепки до одурения. Я закашлялся. Антуан захохотал, но я не сдавался и продолжал мужественно курить, пуская дым в лицо Антуану.
Так, под смех Антуана, мы выехали из Эвая.
ГЛАВА 6
Иван Шульга сидел на травке у моста и безмятежно покуривал. Голубой «фиат» стоял под елью на обочине.
— Какой сервис! — воскликнул я, подходя к Ивану.
— Наверное, ты хочешь сказать: сюрприз? — сосредоточился Иван. — Это такое ихнее слово.
— Я хочу сказать: сервиз. Полный сервиз на три персоны. Закуривай. Партизанские сигареты «Кори».
— Я не курю этот тяжёлый табак, — ответствовал Иван. — Где вы их достали? Я давно не видел таких сигарет.
— Секрет изобретателя, купили в Эвае. Значит, это и есть тот самый мост? — Я огляделся.
Дорога, по которой мы приехали, полого спускалась здесь к ручью и перед самым мостом делала крутой поворот. Быков не было, мост сложен из камня одной аркой. Перила тоже были каменными. Голубой указатель стоял на той стороне. А кругом поднимался старый лес.
Антуан поставил машину рядом с Ивановой и подошёл к нам.
— Засада была на том берегу или на этом? — обратился я к Ивану. — Спроси у Антуана.
— Он говорит, — по обыкновению начал Иван, — что сначала должен рассказать тебе про старика.
— Мы очень мило побеседовали, — заметил я. — Кто бы мог подумать, что старик окажется таким разговорчивым.
— Напрасно ты смеёшься. Антуан говорит, что для нас это главный старик. Но он молчит уже двадцать с лишним лет, с тех пор как убили его единственную дочь. Этот старик знает все про особенный диверсионный отряд, он тоже был «кабаном».
— Вот как? — удивился я. — А он вообще-то может разговаривать? Антуан же сказал, что он свихнулся.
— Подожди, — обиделся Иван, — ты мне мешаешь. Я не знаю, кого из вас переводить сначала. Старик строил эту хижину, где вы были. Тогда он не был ещё стариком, он был крестьянином и ненавидел бошей, как патриот. Его зовут Гастон. Он показывал «кабанам» все дороги, когда они шли на саботажи. Он был у этих «кабанов» самым главным разведчиком. Боши охотились за «кабанами» и схватили старика. Они пытали у него, где находится хижина. Но Гастон молчал и ничего не сказал. Тогда немецкий офицер ударил его саблей по лицу, но он всё равно молчал. Боши взяли его дочь, которой было десять лет, и на глазах Гастона прокололи её штыком. Боши увезли старика в тюремную больницу. Жена его умерла, когда он там сидел. Потом Гастон вернулся домой и нашёл там могилу жены. С тех пор он разлюбил всех людей и не желает разговаривать с ними. Но каждый год в одно и то же число Гастон едет в Брюссель и устраивает там демонстрацию. Он вынимает из машины свой плакат и идёт с ним мимо парламента. На плакате написано: «Позор убийцам моей дочери». Об этом Гастоне в газетах писали и даже делали его фотографию. Сначала его забрала полиция, но он и там молчал, и его отпустили домой. Через год он снова приехал в Брюссель с плакатом и пошёл на эту демонстрацию. Корреспонденты задавали ему вопросы, но он не захотел с ними разговаривать. А теперь к нему привыкли. Он приезжает в Брюссель, проходит с плакатом мимо парламента и едет домой доить коров. Полиция его не трогает. Антуан два раза приезжал к нему, но Гастон ему не ответил. А ведь он знал Антуана, когда Антуан ходил в хижину. Антуан даже думал, что старик сделался немым от сабли, но люди слышали, что Гастон разговаривает со своими коровами. Против коров он не имеет возражения. И ещё говорят, что он читает газеты и смотрит телевизор. Он очень богат, у него много собственной земли, он имеет арендаторов, но и сам работает с утра до вечера.
Я слушал не перебивая эту неожиданную повесть, а когда Иван закончил, подошёл к Антуану.
— Я заставлю этого старика говорить, — заявил я.
— Что же ты ему скажешь? — спросил Иван.
— Ничего не скажу. Покажу ему фотографию отца и всех «кабанов». И скажу, что я сын «кабана».
— Хорошо, мы съездим к нему ещё раз, — сказал Антуан, покачав головой. — Теперь я расскажу, что было на мосту.
— Давай сначала кончим со стариками. Спроси у Антуана про чёрного монаха. Говорил ли Антуан ему о моём приезде?
— Разве он знал, что ты приедешь? — Антуан удивился.
— То-то и оно-то, — заметил я. — Сначала он замялся, а потом сказал, что узнал об этом от тебя.
— Наверное, он напутал, — сказал Антуан, подумав. — Он старик, у него плохая память. Ему мог сказать президент де Ла Гранж, который искал русских переводчиков для тебя. Но весной, когда ты написал мне письмо, я ходил к старику, чтобы он перевёл.
— Значит, сейчас ты ему ничего не говорил? Это точно?
— Нет, — сказал Антуан.
— Он говорит, что не говорил, — перевёл Иван.
— И ещё чёрный монах сказал мне про женщину из Эвая. Это и есть мадам Икс?
— Её зовут Жермен, — ответил Шульга. — Антуан ещё не раскрыл её. Тогда мы спросим у неё, знает ли она этого монаха Мариенвальда?
— Да, старики знают много, но пока помалкивают…
По мосту то и дело пробегали машины. Всякий раз они притормаживали на спуске перед поворотом, а на мосту опять разгонялись и натужно шли на подъем. Конечно, «кабаны» должны были ловить машину как раз на повороте, когда она начнёт притормаживать. Что же было на мосту?
Антуан шёл впереди, оглядываясь по сторонам. На том конце моста мы остановились, сошли на обочину, чтобы не мешать проходившим машинам. С мягким шуршанием проехал синий «бьюик», из переднего окна, высунув морду, на нас смотрела немецкая овчарка.
— Антуан говорит, — начал Иван, — что давно не был на этом мосту. Но он все хорошо помнит. В ту ночь «кабаны» должны были сделать важное дело. Боши увозили из Льежа машину с заключёнными коммунистами. Шеф Виль узнал об этом маршруте, и «кабанам» приказали устроить засаду. Антуан хорошо знает об этом, потому что как раз в этот день он пришёл в хижину с продуктами и табаком, и это был последний раз. У «кабанов» была сильная дисциплина. План каждой операции знали два человека: командир по кличке Масон и его заместитель, Борис, твой отец. За четыре часа до операции план говорили всем, но после это ни один «кабан» не мог выйти из хижины. Так было и в тот день. Масон рассказал этот план, Антуан все слышал, и его не пустили обратно. Антуан просился пойти с ними, но командир не разрешил. Они вместе вышли из хижины и дошли до дома старика Гастона. Старик пустил Антуана, и он лёг спать на кухне. Рано утром Антуан проснулся и удивился: почему они до сих пор не вернулись? Тогда он сам побежал на мост и понял, как все произошло. На этот раз мясорубка войны была установлена на мосту, я правильно перевожу? На мосту пролилась кровь. У бошей оказалась сильная охрана с мотоциклами. Вон в том месте, где наши машины остановились, Антуан видел следы мотоциклов на дороге. Боши увидели партизан и сразу стали стрелять, на ихних мотоциклах стоят пулемёты, я сам это знал, когда сражался за нашу родину. Так вот, по всему мосту Антуан видел очень много пустых патронов, и эти гильзы валялись по всей дороге. Партизаны стали отходить в лес по обе стороны от ручья, видишь — и в эту сторону, и в ту, там гуще. А боши бросали ракеты, потом на дороге валялись пустые картоны от ракет. Они очень хорошо видели партизан и стреляли прямо в них. Несколько бошей были ранены, вот здесь, у перил. Антуан видел пятна крови и кровавые бинты. Боши убитых забрали и увезли на машине, но всех они не нашли.
Антуан начал рассказ задумчиво и размеренно, но, когда дошёл до описания боя, оживился, принялся перебегать с места на место, приседал, взмахивал руками, будто бросал гранату или стрелял из пулемёта, ложился на землю, вскакивал, снова перебегал. Иван повторял движения Антуана, рассказ пошёл прерывистый, сбивчивый, с перебежками и паузами.
— Кого же нашёл Антуан? Отца?
— Антуан нашёл двух убитых: Бориса и югослава, которого звали Петровичем. Антуан вокруг моста все облазил и увидел их на берегу ручья в той стороне, они лежали недалеко друг от друга. Рядом с Борисом стоял ручной пулемёт, он из него стрелял. И вот что понял Антуан. Этот югослав Петрович был убит сразу, пуля в голову. А Борис был ранен в ногу, и он остался за пулемётом, чтобы спасти товарищей. Он сам уйти не мог, и тогда он крикнул: «Уходите, я останусь за пулемётом и буду закрывать вас». Понимаешь? Так думает Антуан. Но вторая пуля попала ему в грудь, и тогда он умер. Он погиб, спасая товарищей. И тогда Антуан решил, наверное, кому-то удалось убежать от бошей. Антуан спрятал убитых и побежал в хижину. Он ждал их весь день, но никто не пришёл, тогда он понял: они все погибли. Он пошёл к товарищам, чтобы похоронить Петровича и Бориса. В Ромушане у них был знакомый кюре, который имел симпатию до партизан, и они похоронили их ночью в этих Ромушанах, а после войны Жермен заказала для Бориса памятник, который ты видел. А пока война не кончилась, они лежали просто так, инкогнито. После войны могилы партизан собирались вместе, но Жермен не разрешила трогать Бориса.
— Значит, Жермен и раньше знала отца? Она что, связной была у «кабанов»?
— Антуан тебе отвечает: она сама тебе расскажет про Бориса. Пусть она сама решит, что хочет рассказать.
— Понятно, — сказал я, — история с романтическим уклоном.
Многое в рассказе осталось ещё неясным.
— А на каком берегу находились партизаны? Спроси.
— По плану было так, — ответил Иван. — Четыре человека должны лежать перед мостом, чтобы кинуть гранату и остановить машину. А семь человек прячутся под мостом на откосах, по двум сторонам. Они выскакивают, убивают бошей, освобождают тех заключённых и убегают в лес. Это был хороший план, так Антуан считает, но он не получился, потому что у бошей оказались мотоциклы с пулемётами.
— Почему же Антуан всё-таки думал, что тут было предательство, как он сам вчера говорил? — Здесь, на мосту, стоя с этими людьми, я не боялся задать свой вопрос прямо, хотя и знал заранее, что на исчерпывающий ответ рассчитывать не приходится.
Антуан ответил не сразу.
— Ещё в хижине Масон говорил, что машина поедет одна, без охраны. А на мосту были мотоциклы. Почему так случилось? Это подозрительный вопрос. Дальше он говорит, что через неделю после боя он побывал снова в хижине «кабанов». И увидел, что в хижине был чужой человек, все вещи были перевёрнуты. Это тоже кажется ему сегодня странным, хотя тогда он подумал, что это старый Гастон разворовал «кабанов» и взял их вещи. И ещё он говорит про карманы…
— Про какие карманы? — удивился я.
— Пойдём туда, где лежал Борис, — Иван показал рукой вниз по ручью, — там он тебе все объяснит.
Мы спустились по откосу, пошли берегом ручья. Ручей извилисто бежал по дну оврага, поэтому наш путь заметно удлинялся.
Антуан остановился.
— Он говорит, — перевёл Иван, — что тогда здесь не было таких густых кустов. Это орех растёт. И мост отсюда был хорошо виден.
Я с беспокойством следил за Антуаном: вдруг мы не найдём? Но он осмотрелся и решительно двинулся вверх по откосу. Орешник сделался реже. Начался молодой сосняк. Солнце пятнами падало на землю, это был южный склон.
Мы разошлись по лесу, не теряя друг друга из виду. Я тревожно шарил глазами по земле: почерневший пень с косым срубом, высохшие сосновые лапы, куча хвороста, валежник, змеистые корневища, горелый ствол. Я разгрёб землю у горелого ствола. Ничего там не было.
Я кружил вокруг да около по этой земле.
— Иди ко мне.
Иван стоял ниже по склону. Я поспешил к нему.
— Смотри, что я нашёл.
Из-под белого камня торчал конец проржавевшей железной ленты от ручного пулемёта. Я кинулся на землю, и горло мне перехватило. Хотелось в голос завыть, но ни слез, ни крика во мне не было, и я принялся в слепой ярости молотить кулаками эту землю, которая не смогла, не захотела укрыть отца, а притянула его к себе, напилась его жаркой кровью. Земля была сухая, твёрдая, колючки впивались в кожу, но я не чувствовал боли и продолжал колотить эту ненавистную землю, потому что не мог сделать ничего другого.
Они стояли и смотрели, как я надрываюсь в бессильной ярости и тоске. Иван пытался меня образумить.
— Ладно, Виктор, хватит тебе, вставай. У тебя же кровь идёт, вставай. Антуан хочет что-то тебе сказать.
На руке и впрямь выступила кровь, ладони сделалось больно.
Я недвижно прижался к земле щекой. Что было на мосту? Земля молчала. Земля сообщала мне о своей тайне, но не раскрывала её.
Я сел, поджав ноги. Снова я был в лесу и видел, что этот лес прекрасен. Скрытая ветвями, восторженно кричала сорока. Зелёные сосны вздыбились над скалой, ветви их свадебно соединились, и солнце подступало к самым глазам, неистово ослепляя их.
Они продолжали смотреть на меня. Я виновато улыбнулся Антуану, потряс ладонями, облегчая их от боли.
Антуан ободряюще улыбнулся.
— Он спрашивает, — сказал Иван, — продолжать ли ему рассказ? Может, лучше дома поговорим, когда ты успокоишься?
— Все, ребята, я в полном порядке. Было и прошло, теперь порядок. — Я вскочил и снова помотал руками.
— Тогда слушай внимательно, — продолжал Иван. — Он говорит, что Борис лежал здесь в странном виде. Антуана это сильно поразило.
— А конкретно?
— У него не было лица, всё было обожжено, узнать невозможно.
— Обожжено? — удивился я. — Чем? И почему Антуан так думает?
— Он этого не знает. Обожжено огнём — и все тут. Кроме того, Борис лежал на спине, и все карманы у него были вывернуты. Антуан хотел забрать его вещи, но в карманах ничего не оказалось. Петрович лежал рядом, у Петровича карманы не были вывернуты.
— Подумаешь, какое дело! — отмахнулся я. — Немцы вполне могли обшарить карманы. А Петровича не заметили.
Антуан с сомнением покачал головой, но спорить не стал. Боль в руке ещё не совсем прошла, и на глаза временами накатывался туман. Белый камень, возле которого когда-то лежал отец, то расползался зыбким пятном, то снова становился белым камнем. Я нагнулся, потянул на себя конец пулемётной ленты, но земля цепко держала её. Я дёрнул сильнее. Земля разошлась змеистым швом. Лента оказалась довольно длинной, и вся она была расстреляна. Куда улетели те пули? Я потряс ленту, чтобы обить землю, и она распалась на два куска. Антуан поднял второй кусок, обтёр руками. Я смотал ленту в клубок — вот и все моё «наследство».
— Послушай, Антуан, — спросил я, — а ты сам-то каким образом в хижине у «кабанов» оказался?
Шульга перевёл мой вопрос, и Антуан громко рассмеялся. Они быстро заговорили. Я ждал.
— Ты, наверное, только сейчас подумал, что Антуан и есть тот самый предатель, — сказал Иван и тоже засмеялся. Он говорит, что всё время ждал, когда ты спросишь его об этом. Он говорит, что ихний комиссар Мегрэ первым делом дал бы ему такой вопрос. Наверное, ты посчитал его шпионом, ведь Антуан знал дорогу до «кабанов» и мог показать её бошам.
— Вот это выдал текст, — я тоже засмеялся. — Я ж не Мегрэ. Да и сам Мегрэ тут ничего не распознал бы: двадцать четыре года прошло, никаких вещественных доказательств, только лента пулемётная, фляга да нож.
— Какой нож? — уставился Иван.
Я показал ему нож из хижины.
Антуан начал говорить. Иван послушно переводил.
— Он говорит, что сначала ты сам должен угадать, как он попал в эту хижину.
— Откуда я знаю? Наверное, отец приехал к ним в Ворнемон. Дела какие-нибудь.
— Антуан даёт тебе Гран-При: ты угадал. У Бориса были партизанские дела. Тогда Антуан ещё ничего не знал про хижину и думал, что больше никогда не увидит Бориса. Но рядом с его домом у леса стоит отель, и однажды ночью Антуан услышал, что партизаны приехали туда на машине делать реквизицию. Он побежал к ним, чтобы они взяли его в свой лес. И это были «кабаны». Борис узнал Антуана, они обнялись. В то время уже и у них в Ворнемоне был партизанский отряд, им командовал отец Антуана Эмиль Форетье. Антуану было тогда семнадцать лет, и отец не брал его на саботажи и не давал оружие. Антуан был только связным. И он хотел убежать в лес, чтобы стать настоящим партизаном. Но Борис тоже сказал: «Мы не можем взять тебя с собой, подожди, когда ты ещё немного вырастешь. А пока носи продукты и табак в нашу хижину». Ихний командир, которого прозывали Масон — я правильно говорю: Масон, может, надо сказать по-нашему: каменщик? Правильно? Тогда Масон заупрямился и не хотел показать Антуану, где хижина. Но Борис сказал: «Мы можем ему доверять, как себе». Они показали ему хижину, и Антуан ходил туда с продуктами. Тогда он и познакомился со старым Гастоном…
— Интересная картинка, — перебил я, подходя к ближней сосне. — Взгляните сюда, друзья. Вам это ни о чём не говорит?
На высоте человеческого роста на шершавой коре были отчётливо вырезаны ножом две буквы, конечно же, те самые M и R.
Антуан присвистнул и принялся бродить вокруг сосны, принюхиваясь. Потрогал руками надрез и снова присвистнул.
— Чему вы удивляетесь? — спросил Иван.
— Те же самые инициалы, что и на ноже. Тебя это не удивляет?
Иван сосредоточился и тоже подошёл к сосне. Разрезы на коре не были свежими, это было видно невооружённым взглядом. Но кто мог это сделать? И зачем это понадобилось?
— Это вырезано много лет назад, — объявил Шульга.
— Нет, — возразил Антуан. — Буквы вырезали в начале лета, потому что в надрезах не видно следов смолы.
— Ты говоришь так, словно я не понимаю дерева, — обиделся Иван. — Сосна слишком старая, она не обязательно должна давать сок.
— Пари, — предложил Антуан. — На сто франков.
— Мне остаётся лишь надеяться, — сказал я, — что я буду свидетелем того, кому достанется выигрыш.
ГЛАВА 7
В давние времена говаривали: точность — это вежливость королей. Наш просвещённый век и тут произвёл поправку: точность — вежливость президентов.
Мой президент, само собой, был сверхвежлив. Без двух минут десять янтарный «пежо» показался на нашем дворе. Рядом с президентом сидела женщина. Я подумал, разбежавшись, что сама мадам президентша прибыла, но женщина вышла из машины и заговорила по-русски, да ещё на певучем украинском говоре. Мы познакомились. Это была фрау Шуман.
Президент так и сверкал белоснежной рубашкой, перстнем, линзами фотоаппарата и даже синтетическим пером на шляпе личной переводчицы. Плащ от Бидермана, костюм от Анкоза — доступно и достойно. И разговор у нас пошёл самый что ни на есть изысканный.
— Сегодня прекрасная погода, — говорил президент, радостно оглядывая горизонт.
— Совершенно согласен с вами, отличная видимость. Лучший день за то время, что я в Бельгии.
Президент заулыбался ещё радостнее:
— Надеюсь, он окажется лучшим вашим днём не только благодаря погоде, но и благодаря тем удовольствиям, которые нам предстоят.
— Я полностью в вашем распоряжении, мсье президент.
— Тогда вперёд, навстречу нашим удовольствиям, — объявил он, натягивая замшевые перчатки.
Я прихватил чемоданчик, заветную папку. Сюзанна помахала нам, и мы тронулись.
По просьбе президента фрау Шуман села впереди. Она, конечно, не немка; муж её был немцем, а она русская. Они жили под Одессой на станции Раздольная. Никогда не думал, что в маленькой Бельгии окажется столько русских, каково-то им живётся вдали от Родины?
Светский разговор продолжался в машине.
— Вы посетили вчера могилу в Ромушане? — спросил президент. — Надеюсь, она вам понравилась?
— Прекрасное надгробие, — отвечал я. — Жаль только, кюре на месте не было.
— Всем нашим людям уже дано распоряжение находиться на месте в воскресенье, когда будет проходить церемония. Тогда мы и познакомим вас со всеми ими. Уход за партизанскими могилами — одна из почётных задач нашей организации…
У меня была своя задача — знакомиться с людьми, узнавать, восстанавливать прошлое. Поэтому я спросил о своём:
— Не помнит ли мсье президент, говорил ли он о моём приезде Роберту Мариенвальду?
Так я и предполагал: президент вскинул брови.
— Почему вы об этом спрашиваете? — ответил он вопросом.
— Антуан ему не говорил. А он знал, что я должен приехать.
— Наша организация довольно многочисленна, — заметил президент, — весьма возможно, ему сказал кто-то другой. Многие знали о вашем приезде. Если желаете, могу навести справки. Мы уже начали по вашей просьбе поиски, и у нас появилась некоторая надежда, что удастся найти живых свидетелей тех далёких событий.
— Вы имеете в виду членов группы «Кабан»? — спросил я.
Президент не ответил, сосредоточенно обгоняя грузовик с сеном. Президент царствовал за рулём и не торопился. Протащившись следом за туристским автобусом, мы, наконец, свернули к большому фанерному щиту на вершине холма.
— Не сердитесь, что я прерву наш разговор, — сказал президент, притормаживая. — Перед нами первый объект сегодняшней программы — монумент Неизвестному партизану. Несколько бельгийских провинций оспаривали честь поставить такой монумент у себя, и после долгих дебатов эта честь была оказана провинции Льеж за ту выдающуюся роль, которую сыграл Льеж в годы Сопротивления. Этот монумент воздвигнут также и в честь короля Альберта.
Мы вышли из машины. Памятник был установлен в глубине небольшого парка. У входа росла берёзка, хорошо она тут смотрелась.
Монумент был лаконичен и строг: гранитная плита, поставленная на ребро и грубо обитая с боков. Внизу — белый шлифованный камень в виде книги.
Президент торжественно пояснил:
— Надпись на этом монументе гласит: «Во славу бельгийских партизан». Здесь похоронены участники Сопротивления, имён которых не удалось установить. В те годы партизаны должны были скрывать свои имена. Особенно сложно в этом отношении было бельгийцам, ведь их могли опознать свои же сограждане во время операций; бельгийцам приходилось конспирироваться особенно тщательно. И многие погибли безымянными. Иногда мы не знаем даже их кличек. Внизу вы видите белый камень, он символизирует книгу, которая когда-нибудь будет написана о замечательных подвигах неизвестного партизана.
И мой белый камень до сих пор целомудренно чист. Только два знака и есть на нём: M и R.
Мы постояли перед памятником и двинулись обратно. Девочка с обручем подбежала к президенту и обратилась к нему с вопросом:
— О чём она говорит? — спросил я у фрау Шуман.
— Она спрашивает у господина председателя, на каком языке я с вами разговаривала?
Я опешил:
— Как вы сказали: господин председатель? Разве мсье де Ла Гранж не президент?
— Кто вам сказал, что он президент?
— Иван Шульга, который переводил позавчера. Он сказал, что мсье де Ла Гранж — президент Армии Зет.
— Похоже, ваш Иван — не самый точный переводчик, — усмехнулась фрау Шуман. — Председатель по-французски и есть президент. Он перевёл буквально.
Вот это номер! Мой ослепительный президент Поль Батист вовсе не президент, а всего лишь председатель.
— Как же называется организация, в которой председательствует мсье Поль Батист? — спросил я с последней надеждой.
— Секция ветеранов войны, — ответила фрау Шуман. — Я иногда делаю для них различные переводы и многих там знаю.
Президент, то бишь председатель, ответил девочке, погладил её по голове, и та с криком «рюс», «рюс» побежала к машине, а я никак не мог прийти в себя. Поль Батист де Ла Гранж в один миг был низвергнут с пьедестала.
— Ради бога, фрау Шуман, — попросил я, — не передавайте наш разговор…
— Я скажу, что рассказывала о себе.
А господин председатель, ни о чём не догадываясь, продолжал разглагольствовать:
— Теперь, когда вы своими глазами увидели наш скромный монумент, я повезу вас к памятнику, сделанному другой страной, а по дороге, чтобы не терять времени, совершим небольшую экскурсию в прошлое и перенесёмся на некоторое время в ряды бельгийского Сопротивления.
— Вы хотели рассказать о живых свидетелях, — напомнил я, не давая ему уклоняться от главного.
— Постепенно мы подойдём и к вашему вопросу, я помню о нём. Как известно, Бельгия была оккупирована немцами в 1940 году. На реке Лис бельгийские войска под командованием своего короля Леопольда Третьего вступили в отчаянное и мужественное сражение с немецкими танками. Однако бельгийские патриоты не покорились. Уже в сорок первом году начали действовать отряды Сопротивления. С каждым годом их становилось все больше. В сорок втором году и в начале сорок третьего в партизанских отрядах появилось много русских, которые бежали из немецких лагерей, и это обстоятельство весьма активизировало нашу борьбу. Сначала отряды действовали разрозненно, но потом были объединены в более крупные боевые организации. В провинции Льеж была развёрнута четвёртая зона Армии Зет, которой командовал полковник Виль, я уже рассказывал вам о нём. Полковник Виль исчез, мы даже не знаем, жив ли он. Но подвиги особой диверсионной группы «Кабан» живут в преданиях. «Кабаны» выполняли самые сложные и опасные операции. По приговору Армии Зет они расстреляли четырех предателей. Под Новый год, когда немецкие офицеры собрались в военном клубе недалеко от города Спа, «кабаны» заложили туда мину и взорвали клуб вместе с немцами. При этом партизаны предупредили бельгийцев, что будет взрыв, и ни один патриот не пострадал. В другой раз они напали на склад горючего и подожгли несколько цистерн с бензином.
Я слушал с интересом. К тому же, как я улавливал из перевода, фрау Шуман всё время называла Поля Батиста «мсье президент». Всё-таки он неплохой мужик, этот де Ла Гранж. К «кабанам» он относится правильно. Я произвожу его в президенты, и пусть он останется таковым. Президент Армии Зет Поль Батист де Ла Гранж, член многих клубов, попечительских советов и так далее, всеми уважаемый и неизменно единогласно избираемый президент.
— Значит, отыскиваются следы и к «кабанам», — не удержался я. — Каким образом удалось узнать об этих операциях?
В смотровое зеркальце я видел, как Поль Батист улыбнулся.
— Мой молодой друг, я составил программу не только для вас, но и для себя. Я вам уже говорил, что наши поиски, к сожалению, осложнены, и, пока мы не выясним некоторых подробностей, я затрудняюсь сказать что-либо определённое. Пока мы будем выполнять нашу сегодняшнюю программу. Перед нами объект номер два.
Машина свернула в сторону длинного сквера, в дальнем конце которого высился огромный белый куб. Он поднимался над лесом, над полем как нечто потустороннее.
— Мы прибыли к монументу, воздвигнутому в память американских солдат, погибших в боях за Арденны, — начал президент, едва мы вышли из машины. — Этот монумент является одной из достопримечательностей Льежа, и я приглашаю вас осмотреть его.
Гигантский орёл, высеченный на фасаде куба, отбрасывал резкие тени на женские фигуры, изображающие скорбь. За кубом открылось обширное поле, щедро усеянное белыми крестами. На каждом кресте вырезано: кто, когда, где? Все зафиксировано на могильной плите, и вся жизнь уместилась в одну строку: имя, дата, место.
Кресты стояли тягучими рядами, казалось, они растворялись в бесконечности. Поле было безлюдным и тихим. Звёздно-полосатый флаг вяло колыхался на мачте. И тут я заметил тёмную фигуру, одиноко затерявшуюся среди крестов и выделяющуюся на фоне их равнодушной одинаковости своей подломленной болью. Женщина стояла на коленях перед крестом и трудолюбиво молилась. Она пересекла океан, пробралась сквозь людские толпы и сутолоку вокзалов к заветной точке: сектор А, седьмой ряд, место двадцать второе. Она бестрепетно осталась наедине с этим сонмом крестов. А строка заполнена чётко на белом кресте: имя, дата, место — ей сообщили все, что надо сообщить, и мать не ведает предательских сомнений, душа её покойна, долг исполнен. Но боль-то, боль навеки запеклась и в этом сердце: почему именно он, а не другой? Почему мой, а не чужой? О чём он думал перед тем, как упасть на чужой земле? Разве хотел он оборачиваться крестом? Но это уже из другой оперы, кресты вправе промолчать, и безропотно застыла среди них фигура женщины.
Голос фрау Шуман вывел меня из задумчивости.
— Мсье де ла Гранж просит обратить внимание на то, что эти кресты образуют в плане тоже крест. Если вы посмотрите на это поле с самолёта…
— Сколько же здесь крестов?
— Четыреста шестьдесят два, — ответил президент. — Америка — богатая страна, — продолжал он с грустной улыбкой. — Только в одной маленькой Бельгии американцы воздвигли шесть мемориалов и монументов в память своих солдат. А у бельгийского правительства нет средств на монументы, мы вынуждены обходиться собственными силами. Американцы же могут позволить себе не только пышность, но и торжественность. Обратите внимание на акустику этого памятника…
Мы уже входили внутрь куба, шаги наши гулко отпечатывались под сводами. Поль Батист перешёл на полушёпот, но голос многократно усилился, отозвался под потолком, вернулся к нам и снова повторился: а-аа-ааа, — затихало и растягивалось эхо.
— Это голоса мёртвых, — шептал президент. — Они переговариваются между собой и напоминают нам о прошлом.
— О-оо-ооо, — отзывался потолок, с каждым разом все тише и тоскливее.
— Да, — сказал я, когда мы вышли на свежий воздух и президент спросил, каково моё впечатление о монументе. — Величественно и впечатлительно, только я не думаю, что монумент Неизвестному партизану хуже. Скромнее — да, но не хуже.
— Наши монументы скромнее, вы правы, — согласился он, — но в них вложено больше сердечности.
Теперь самый раз подступиться к прежнему разговору, который уже прерывался дважды.
— Ваша задача неизмеримо сложней, но и почётней, — начал я. — Какое щедрое сердце надо иметь, чтобы с такой неутомимостью служить своему делу! Вы человек с щедрым сердцем, мсье президент!
Фрау Шуман перевела. Президент был растроган.
— Я только исполняю свой долг, — говорил он, ласково поглаживая руль. — У меня активные помощники, без них я ничего бы не сделал.
— Нет, нет, не пытайтесь разубедить меня, — продолжал я. — Это же невозможно представить: найти живого свидетеля после того, как не осталось никаких следов. И сколько лет прошло. Нет, тут не активные помощники, тут мало одного щедрого сердца, тут нужен аналитический ум.
И он не устоял:
— О, пока что мы узнали очень и очень мало. Этот человек живёт в Льеже, но адрес его неизвестен. Возможно, и имя сейчас у него другое. Но нам почти точно удалось установить, что он имел какое-то отношение к группе «Кабан», вероятно, даже входил в неё. Но участвовал ли он в последнем бою на мосту? Этого мы ещё не знаем.
— Кто же он?
— Его зовут Матье Ру. Во всяком случае, так звали тогда.
В точку угодил президент Поль Батист. M и R — вот он где оказался. Он входил в группу и остался в живых. И когда мы встретимся, Матье Ру, я задам тебе мой вопрос. Но спокойно, спокойно, держи правильный курс, штурман. На белом могильном камне появилось первое имя. А мы ещё до Льежа не доехали.
— Удивительное совпадение, — сказал я с улыбкой. — Примерно так я и думал, мсье президент. Посмотрите-ка на этот предмет, который мы нашли в хижине «кабанов», — я достал из папки нож и протянул его через сиденье президенту. — Что вы на это скажете?
Президент принял нож и замедлил ход, прижавшись к обочине. Он даже перчатки снял, разглядывая нож и крутя его в пальцах.
— Мне кажется, я где-то видел точно такой же нож. — Он задумался. — И совсем недавно. Буквально этим летом. Точно такой же рисунок. Я вообще питаю слабость к монограммам.
— В чьём-то доме, это же личная монограмма, — подсказал я.
— Среди моих знакомых нет никого с такими инициалами, — продолжал он задумчиво. — Впрочем, наше с вами предположение может оказаться ошибочным. Дело в том, что фамилия Ру могла служить и кличкой, так как Ру по-русски означает «рыжий».
— Вот найдём его и спросим: узнает ли он свой нож? Может, даже сегодня? — Я потянулся к ножу. — Возможно, он не такой рыжий, каким хочет казаться.
Президент засмеялся:
— Не торопитесь, мой юный друг, мы обещали навести окончательные справки только к воскресенью. А сегодня у нас и без того насыщенная программа. Сегодня мы предаёмся удовольствиям. Но, я надеюсь, мы всё-таки найдём мсье Ру, и он расскажет о последних неделях и днях жизни вашего отца.
— За этим я и прилетел.
— О да, — отозвался он, трогая машину. — Прекрасно понимаю ваши чувства и готов оказать вам всяческое содействие.
ГЛАВА 8
— Идите сюда, мой юный друг. Отсюда особенно хорошо открывается вид на Маас, а вам за кустами его не видно. Река как бы лежит в основании всей величественной картины.
— Да, да, мсье президент.
— Я предлагаю сфотографироваться на фоне этой замечательной панорамы. Человек, а за ним огромный город, это весьма символично, не правда ли? Я расскажу вам, что перед нами.
— Да, да, мсье…
Льеж раскинулся у моих ног, но это я коленопреклоненно припадал к его камням и плитам. Я прилетел сюда с лёгким сердцем в надежде обрести покой, а вместо этого нашёл тревогу. Я не искал её, она сама явилась и потребовала: «Узнай и отомсти!» Кто ныне ответит тревоге моей, чтобы унять её и развеять? Я переглядываюсь с мерцающим окном под дальней крышей, обращаюсь к древнему собору, который видел и знает все, пытаю ответ под быстрым колесом, бегущим по мосту, пронизываю взглядом теснину улицы, ловлю гудок медлительного буксира.
— На первом плане перед нами мост Святого Леопольда, за ним мост де Зарж… — президент Поль Батист добросовестно трудится над каменной книгой города, но он не в силах помочь мне сегодня.
Что было на мосту?
Льеж безответно лежал внизу, многолико жил, спешил, тосковал. Он охватывался единым взглядом и распадался на тысячи подробностей. Отовсюду прорастал и вздымался камень: шпили соборов, ажурные бордюры замков, купола церквей, резкие взлёты современных зданий, щетинистые трубы, крутые крыши, эстакады. Камень мостов, площадей, фасадов. Солнце стояло ещё высоко, окна домов слепо темнели, но за каждым была своя жизнь. Ряды, полосы, строчки окон. За которым сейчас Матье Ру? Что он делает сейчас? Бреется ли перед зеркалом или обедает на крыше ресторана, а может быть, надевает свежую рубаху или едет в машине по мосту; взял трубку телефона, трясётся в трамвае, стоит в соборе перед алтарём. Не исключено, что он подошёл к окну или свернул на набережную, привычно глянул из машины на холм со старой цитаделью, наши взгляды перекрестились на миг, но мы даже не увидели друг друга.
Он там, но нет его…
— Теперь, когда мы полюбовались этой великолепной панорамой, нам предстоит осмотреть цитадель. Эта старая крепость основана в семнадцатом веке, чтобы защищать город от врагов. Во время войны в цитадели томились политические узники, сейчас мы пройдём к стене, где немцы расстреливали свои жертвы.
Сколько было нынче могил, монументов! Мы проезжали по набережным и мостам, выходили из машины, стояли, склонив головы: монумент жертвам первой мировой войны, памятник погибшим на второй, скульптурная группа в честь павших героев Сопротивления. Кресты, склонённые фигуры, плиты с именами — словно Поль Батист де Ла Гранж до конца моих дней хотел нашпиговать меня памятью о павших.
У входа в цитадель стоят чёрные обуглившиеся столбы. Кресты, кресты, кресты — под купами деревьев, вдоль выщербленных стен, на стриженых лужайках.
Идём вдоль скорбных их рядов. Президент читает имена. Среди них немало русских.
— А здесь лежит инкогнито, — Поль Батист приостановился. — Вероятно, это слово не нуждается в переводе.
Я пригляделся. На многих крестах навеки вырублено лишь это слово «инкогнито». Они предпочли погибнуть безвестными, погибнуть, но не раскрыть своё имя.
— В этих стенах были расстреляны восемьсот героев…
Дорожка привела нас в сумрачный дворик, огороженный высокими стенами. Кирпичи выщерблены пулями, камень покрылся зелёным мхом, порос плющом. Кроны деревьев заслонили небо. Вдоль стены протянулся забор, сделанный из обугленных кольев. Под почерневшим крестом стоит изваяние: узник на коленях в арестантских одеждах, руки упали, бессильно поникла голова. Надо наклониться, чтобы увидеть его страшное потухшее лицо. Он силится поднять голову, чтобы поведать живым о том, что пришлось пережить ему, и не может. И от этого ещё больше отчаянья в его фигуре.
А чуть в стороне — мемориальная доска: тут был совершён отчаянный побег через стену. Восемьсот остались здесь навсегда, одному удалось бежать — такова диаграмма смерти и жизни у этих стен.
— Это был мой кузен, — продолжает президент.
— Кто? — не понял я.
— Мой кузен Мишель. Он совершил этот дерзкий побег через стену цитадели.
— Удивительно, — заметил я со смущением. — А я как раз думал: какой путь побега можно тут избрать? И ничего в голову не приходит, настолько это кажется невероятным.
— Я удовлетворю ваше любопытство, мой юный друг. — Поль Батист улыбнулся. — Ведь это был мой кузен, и он рассказал мне подробности. Их вывели на расстрел в полночь. Десять жертв были выстроены у стены в ряд. Перед ними — отделение немецких солдат с автоматами. Офицер светил фонариком. Но выстрелы не задели Мишеля. Он упал, притворившись мёртвым. Неожиданно ударил гром, разразилась гроза. Солдаты спрятались в укрытие, оставив свои жертвы. Мишель поднялся на колени, нашёл верёвку, которой были связаны руки узников, и понял, что эта верёвка спасёт его. Два раза он срывался под проливным дождём, но на третий ему удалось перебраться через стену. Он спустился в город и незамеченным пробрался к моему дому…
Не случайно президент Поль Батист выбрал нынешний маршрут сквозь кресты, могилы, стены. Теперь я сам могу сопоставлять и сравнивать. Отец был здесь не один. И не один оставался в этой земле. Они были живыми людьми, а превратились в кресты и монументы. Они шли на смерть не ради монументов, а ради жизни, и им было бы обидно знать, что они погибнут в безвестности и смерть их окажется ненужной для жизни. И если этого не случилось, то только потому, что они, погибнув, победили.
— Вы ещё не устали от могил, мой юный друг? — спросил президент с ласковой улыбкой, указывая на поникшего узника. — Обещаю вам, что эта могила будет сегодня последней.
— Что вы, мсье президент? Знаете, сколько могил в России… Когда я был юным следопытом…
— Что такое юный следопыт? — полюбопытствовал Поль Батист.
— Это пионер или комсомолец, который идёт по дорогам боевой славы отцов и дедов. Я был в отряде, и мы ходили в походы по местам сражений. Я почему-то верил, что непременно найду подбитый самолёт отца и узнаю, где он погиб. Такие случаи бывали.
— Когда же вы были юным следопытом?
— О, давно, ещё в школе. И немного в училище, когда сам водил в походы ребят. Однажды мы нашли в глухом лесу разбитый самолёт и даже установили фамилию лётчика, но это был другой…
— Зато теперь вы нашли своего отца, — торжественно провозгласил президент.
— Отца-то я нашёл, но многое мне ещё неясно. Нужно ещё искать и искать.
— Мы назовём вас молодым арденнским следопытом, — президент засмеялся, следом за ним и Татьяна Ивановна. — А я пойду по вашей, как вы говорите, дороге славы и постараюсь тоже стать юным следопытом.
Мы снова вышли на смотровую площадку. Президент дипломатично посмотрел на часы.
— На этом можно и закончить первую часть нашей сегодняшней программы. Сейчас мы снова спустимся с высот на землю: нас ожидает мадам де Ла Гранж.
Машина катилась по крутой улочке, погружаясь в теснину города. Поль Батист безмолвствовал, отдыхая: сегодня он наговорился достаточно, начав с первого льежского князя — епископа Нотгера (десятый век) и дойдя до наших дней.
Я воспользовался благоприятной паузой и свернул на прежнюю тему.
— Скажите, мсье президент, нет ли у вас фотографии Матье Ру?
— Она имеется и у вас, — ответил он с понимающей улыбкой.
— Ах, верно, журнал «Патриот», который вы мне подарили. Но там лишь десять человек, а в отряде их было одиннадцать. Не остался ли Ру за кадром?
— Об этом я не подумал, — признался Поль Батист. — Впрочем, это не будет иметь решающего значения, — он явно успокаивал меня. — Мне сказали в полицейском управлении, куда я обратился, что фотография, да ещё такая старая, им не нужна. У них есть другие возможности для розыска.
Машина выбралась на набережную. По Маасу тянулся караван барж, прошёл быстроходный катер, нагоняя волну на берег. На палубе стояли двое мужчин, один из них смотрел в нашу сторону. Безмолвный мой диалог с городом не желал прекращаться.
— Извините, что я вмешиваюсь в ваш разговор, — обратилась ко мне фрау Шуман, — но я почему-то уверена, вы найдёте этого человека. В полиции нам сказали, что дадут ответ как можно скорее.
— Спасибо вам, фрау Шуман.
— Да какая я вам фрау, — вспыхнула она. — Я же Сидорина, Татьяна Ивановна Сидорина со станции Раздольная.
Я сделал круглые глаза. А она повернулась ко мне, жарко заговорила:
— Я же вижу, как вы за своего папашу терзаетесь. Что только эти проклятые фашисты наделали? И мою жизнь исковеркали, и вашего папашу сгубили. И до сих пор мы должны мучиться. Я-то отмучаюсь скоро, мне семьдесят три уже, а вам жизнь прожить надо, и чтобы повезло. Если потребуется моя помощь с переводом, приходите ко мне в любое время.
— Большое спасибо, просто огромное мерси, Татьяна Ивановна, вы так позволите?
— Конечно, кто же я для вас? Мне так приятно нынче, что я живого русского увидела, а то ведь у нас бог знает что про Россию пишут, — она раскраснелась, откровенничая, заговорила даже с русской живинкой.
— Как же вы превратились в фрау, Татьяна Ивановна?
— Ох, горе моё! Я говорила вам, что муж мой был немец, мы с ним учительствовали. А когда немцы пришли, его взяли на работу в комендатуру. Он не хотел, царство ему небесное. Но немец же, как тут откажешься? В сорок четвёртом наши наступают. Что делать? Муж и говорит: «Придут большевики, нам капут». И поехали мы в Германию, очутились в Гамбурге, где его дед родился и дядя родной жил. Но не вышло нам радости. На мужа смотрели как на немецкого большевика, а я и вовсе русская, про меня и говорить нечего. Мужа во время бомбёжки убило, осталась я одна-одинёшенька со старым дедом. И нет мне никакого житья с немцами, сплошная каторга. Не выдержала, в сорок седьмом году дед умер, продала я этот дом, перебралась сюда, в Льеж, учительствовала, пока было силы, а теперь живу как придётся. Конечно, хотелось бы на родине умереть, и чтобы похоронили на нашем погосте, да, видно, не судьба, никого там у меня не осталось.
Опять война хватает живых, и ничего тут не изменишь.
За мостом Татьяна Ивановна попросила остановить машину. Я удивился:
— Разве вы не поедете со мной к мсье Полю Батисту?
— Мой рабочий день кончился, — ответила она с натянутой улыбкой. — Я в гости не приглашена. Спасибо, что подвезли меня.
Ах вот оно что: президент даёт мне уроки «демократии». Я увидел на углу цветочницу, выскочил из машины и преподнёс Татьяне Ивановне букет пионов. Наконец-то её улыбка сделалась естественной. Мы попрощались.
Дом президента расположен недалеко от центра на тихой улочке. Стиснутый с боков двумя такими же домами, он выглядел вполне пристойно, но недаром сказано: не дом красит человека. Горничная проводила нас на второй этаж. Мы оказались в просторной гостиной. Нас встретили две женщины в вечерних туалетах. Вот когда пошла светская беседа: мы так счастливы видеть вас, какая прекрасная погода, мы уже думали, что вы не можете оторваться от прелестей Льежа, это великолепно, манифик, гран мерси, в это время года всегда прекрасная погода, какой прелестный оранжад, разрешу себе ещё глоточек, как вам понравился собор святого Павла, не правда ли, он восхитителен, он неподражаем, а Дворец Правосудия, это изумительно и благородно с вашей стороны, если бы не моя мигрень, я непременно сопровождала бы вас, ещё глоток оранжада, мой молодой друг, извините мне мою мигрень, о, вы завтракали у синьора Тулио, это шарман, там так мило в любое время суток, вы так внимательны, нет, нет, вам необходимо побывать в музее Курциуса, чудесный вояж, ещё раз гран мерси, ещё глоток, я непременно там побываю…
Мадам президентша оказалась высокой сухой женщиной с тонким болезненным лицом. Другая назвалась Анастасией Ефимовной, урождённая Буш; она была седовласой, рыхлой, с породистым лицом, на руках браслеты и перстни. Мадам де ла Гранж разрешила себе лишь бирюзу с чернью; настоящий бомонд, правда, несколько одряхлевший.
Женщины шелестели тихими голосами, закатывали глаза, всплёскивали ручками. Даже сам президент начал говорить чуть ли не шёпотом, а Буш переводила с великолепным прононсом.
Поль Батист продемонстрировал свой кабинет: тесные полки с книгами, на столе в поэтическом беспорядке раскиданы рукописи и словари: президент занимается на досуге французской филологией. Над столом две фотографии в деревянных рамках: представительный генерал при полном параде и штатский мужчина с задумчиво-печальным лицом. Президент пояснил:
— Это генерал Пирр, командующий Армией Зет, в штабе которого я был связным. На второй фотографии изображён мой незабвенный кузен Мишель Реклю, о котором я вам уже рассказывал. Он погиб в день освобождения Льежа буквально у меня на руках. Похоронен в партизанской могиле. Мы с ним очень похожи, не правда ли, мой юный друг? Только Мишель здесь на двадцать четыре года моложе меня.
— Вы прекрасно выглядите, мсье президент, — отозвался я с должной светскостью. — Никогда не скажешь, что между вами и кузеном столько лет разницы. Правда, особого сходства я не улавливаю.
— Все, кто знал нас, говорили, что мы весьма похожи, — настаивал президент, обольстительно улыбаясь. — Бедный кузен, он мог бы ещё долго жить и наслаждаться жизнью…
На пороге возникла горничная: кушать подано. Мы двинулись в столовую. Старинный стол заставлен тарелками, тарелочками, вазами, бокалами всех видов и назначений. В каждом приборе по три ножа с монограммами. В плоской хрустальной вазе плавают бутоны роз.
И что же я? «Да, да, мадам, масса незабываемых впечатлений, какая прелестная спаржа, гран мерси, вы очень любезны, ах, эти розы, шарман, манифик, о да, обожаю паштет из гусиной печёнки, вы так внимательны, мерси».
Развернул хрустящую салфетку, в углу её красными нитками вышита вязь из пяти букв: П.Б.Д.Л.Г — вот какая великолепная монограмма у моего президента! «Это манифик, необыкновенно тонкая работа, а сколько вложено труда, мадам де Ла Гранж своей рукой вышивала эти прелестные монограммы, это адорабль, не правда ли, мой юный друг…»
Командир сейчас обернётся и скажет: «Виктор, кончай трёп, займись делом!»
— Анастасия Ефимовна, извините, что прерву вас, я хотел бы воспользоваться вашим любезным присутствием на нынешнем торжестве и попросить вас перевести стихи, которые подарил мне мсье Поль Батист. Мне сказали, там есть баллада о человеке, который предал партизан.
— Мой друг говорит, — зашелестела Буш, — что он с удовольствием послушает, как звучит эта прелестная баллада на русском языке. Он спрашивает, кто переводил вам её?
— Барон Мариенвальд. Правда, по памяти.
— Не правда ли, барон прекрасный человек? В последние годы он ведёт несколько замкнутый образ жизни, но, говорят, у него предстоят перемены…
— Простите, вот брошюра. Я правильно открыл?
Она нацепила очки, долго читала, пришепетывая губами, потом начала нараспев:
— Уже минуло двадцать лет… Наши друзья погибли за родину, но гибель их не была напрасной, и мы не забудем их. Они покинули своих детей и жён, чтобы отстоять справедливость на нашей земле. Но однажды студёной ночью сорок четвёртого злой человек выдал наше убежище людям, одетым в серое. Земля Валлонии впитала кровь одиннадцати мучеников из разных стран. Для Сопротивления Арденн это была горькая битва, и убийцы были удивлены, что не смогли покорить тех людей, которых они считали жалкими бандитами. Прохожий, остановись и задумайся перед этими печальными камнями и, если ты добрый христианин, помолись об усопших.
Все сходилось, все! Правда, о мосте там не было ни слова, только об убежище, но это ведь стихи, они имеют право на поэтическую вольность.
— Шарман! Манифик! — шептал президент. — По-русски это звучит столь же красиво?
— Адорабль, — шелестела мадам.
— Наверное, я скверно перевела, — извинялась Анастасия Ефимовна. — Я чувствую, что стихи написаны сильно, с искренней болью, но я же не профессиональный переводчик.
— Почему только там сказано: «Студёной ночью…»? — мимолётно удивился я и похолодел, поняв, что сейчас все обрушится.
— Вы очень тонко заметили это, мой юный друг. В стихах написано буквально «февральской ночью», но по ходу перевода я подумала, что «студёной» звучит более поэтически, не так ли? — Голос её становился все тише, вот-вот совсем заглохнет. Нет, все же она дошелестела: — Я вижу, вы прекрасно чувствуете язык поэзии…
Черт бы побрал всех этих «друзей». Окончательно все запутали. «Кабаны» погибли в июле, а тут февраль. Все сошлось — кроме зимы и лета.
— Что же стало с предателем? — спросил я, будто этот вопрос должен был принести мне облегчение. — Его поймали?
Президент Поль Батист де Ла Гранж поднял колокольчик, лежавший на краю стола. Раздался мелодичный звон. В дверях возникла горничная с подносом. Президент отдал ей распоряжение и грациозно опустил колокольчик.
— Итак, вы хотели узнать о предателе, — нашёптывала над столом урождённая Буш, словно бы не замечала горничную, которая в это время ставила перед ней свежую тарелку. — В самом деле, говорит мой друг, эта история весьма поучительна. Немцы заслали предателя в отряд, чтобы узнать, где находится убежище Виля. Предатель вошёл в доверие к партизанам, разведал дорогу и подступы к штабу — и все это сообщил немцам. Четыре немецких танка и рота солдат на рассвете ворвались на лесную дорогу, которая вела к убежищу Виля. Начался неравный бой. Партизаны мужественно оборонялись, подбили, как говорится на военном языке, головной немецкий танк. Кровопролитный бой продолжался до самого вечера. Одиннадцать человек отдали свои жизни в этом бою, но, когда немцы ворвались в убежище, там уже никого не было: партизанское соединение вместе со штабом скрылось в соседнем лесу. После войны предатель был разоблачён. Его звали Рене Детай. Он был предан суду и приговорён к расстрелу. Мой друг Поль Батист присутствовал при этой казни. Детая расстреляли в цитадели, у той же стены, где немцы уничтожали свои жертвы[3].
Итак, предатель получил возмездие, а мой отец и не был предан. Отец погиб в открытом бою. Не следует верить легендам. На этом тема закрывается. Я найду Матье Ру, и он просто расскажет мне о том, что было на мосту, как протекал тот открытый бой, в котором не было ни предателей, ни преданных. Просто появились непредвиденные мотоциклы, а на тех мотоциклах стояли непредвиденные пулемёты, и непредвиденные молодые парни в чёрных кожаных куртках открыли непредвиденный огонь — вот так, выходит, с ними было. И дело в шляпе. Посидим мы с Матье за столиком, выпьем по рюмочке, и я уйду умиротворённый.
— У вас задумчивый вид, — заметила урождённая. — Мой друг высказал предположение, что эти стихи произвели на вас такое сильное впечатление. Вы, конечно, жалеете этих несчастных мучеников. Из-за одного негодяя погибло одиннадцать жизней.
— Десять, — поправил я почти безотчётно, ибо в этот миг уяснил себе, что никогда не поверю в непредвиденных молодых парней с непредвиденными пулемётами.
Она удивилась, но всё же перевела. Президент улыбнулся.
— Разумеется, вас поразило это трагическое совпадение, тут и там — одиннадцать мучеников. Но возмездие осуществилось, предатель погиб позорной смертью, и никто не оплакивает эту смерть.
— Да, конечно, их было одиннадцать, вы правы, мадам. — Я уже полностью овладел собой: не время и не место расслабляться в этом доме. — И стихи, которые вы перевели мне, чудесны.
— Но всё же в нашем случае их было не одиннадцать, — заметил президент, глядя на меня испытующим взором. — Вы забываете, мой юный друг, что «кабаны» должны были в ту ночь освободить на мосту машину с политическими заключёнными. Как удалось установить, в машине находилось пятнадцать узников. «Кабаны» трагически погибли и не сумели освободить заключённых. Их увезли в Германию и расстреляли.
Ну что ж, все правильно, растёт число не погибших, а преданных, так и запишем.
Впрочем, возникает один вопрос:
— Каким образом удалось установить дальнейшую судьбу этой машины?
— Мой друг готов дать вам исчерпывающий ответ. Для этого он должен рассказать вам о себе и о своей роли в бельгийском Сопротивлении. Если вы, разумеется, не возражаете?
Я, разумеется, не возражал.
И я услышал.
Поль Батист де Ла Гранж родился в Льеже в конце прошлого века и видел ужасы войны четырнадцатого года. Уже тогда он возненавидел войну и решил посвятить жизнь антивоенной деятельности. С этой целью он окончил университет и работал учителем, воспитывая своих учеников в духе гуманистических идей. Началась вторая война. Поль Батист участвует в первых антигитлеровских действиях, распространяя подпольные газеты и листовки. Потом он знакомится с генералом Пирром и становится одним из сотрудников его штаба. Должность довольно скромная, но он исполнял её честно и добросовестно, ежеминутно рискуя при этом жизнью. Вместе со своим кузеном Мишелем Поль Батист был связным генерала. Они осуществляли связь между Льежем и Брюсселем, а также между штабом генерала Пирра и подчинёнными штабами.
— Это были тяжёлые годы, полные страданий, — продолжала рассказ урождённая. — Ежеминутно в поезде, в машине, в людской толпе связной мог быть схвачен немецкими патрулями. Приходилось действовать под чужими именами, изменять внешность. У моего друга была весьма интересная кличка, — урождённая посовещалась с мсье президентом, уточняя его кличку, и снова зашелестела: — Но сначала мой друг хочет сообщить вам кличку своего покойного кузена — Денди. А Поля Батиста в штабе генерала Пирра называли Аббатом, после того как наш друг по поручению своего генерала совершил поездку в Лондон и вернулся оттуда в новом чёрном костюме. Не правда ли, весьма юмористическая деталь, но мой друг говорит, что это была ужасная поездка, они плыли на утлом судёнышке, попали в шторм. Это было ужасно. Поль Батист предпочитал «путешествовать» по родным местам. Несколько раз ему приходилось бывать в убежище полковника Виля, или, как оно называлось в штабе, зона четыре, сектор пять. Поль Батист приходил туда по ночам, передавая приказы своего генерала. Именно генерал Пирр приказал освободить машину с заключёнными, когда она будет следовать из Льежа. А полковник Виль уже сам разрабатывал детали этой операции…
Урождённая воодушевилась, излагая замечательную жизнь своего друга, в её шелесте начал даже прослушиваться скрежет металла, когда она рассказывала о тех неисчислимых опасностях, которые подстерегали её друга.
— Мой друг говорит, — продолжала она, — что он не упомянул о своей деятельности в защиту мира, потому что это естественный долг всех сознательных и преданных борцов. Он не принадлежит к политическим партиям и является независимым демократом, однако он не жалеет своих сил для такой деятельности, тем не менее она отнимает у него не так уж много времени и не мешает отдаваться его любимым занятиям: филологии и путешествиям. Именно во время путешествия вскоре после войны он познакомился с моей подругой, с тех пор они неразлучны.
— Какая целеустремлённая жизнь, — произнёс я, проглатывая паштет из гусиной печёнки.
Великолепный президент, независимый демократ Поль Батист поднял колокольчик и мелодично позвонил.
— Какой чудесный колокольчик!
— Мой друг привёз его из Швейцарии. Они купили его у старого крестьянина. И совсем недорого, всего сто бельгийских франков.
Мадам президентша тоже вставила шелестящее слово.
— Моя подруга просит пояснить вам, что такие колокольчики подвешиваются на шею коровам, чтобы они не заблудились на лесных или горных пастбищах. Не правда ли, очень мило?
Ещё как мило, просто прелестно, восхитительно, очаровательно: звякнул колокольчиком, чтобы прислуга на кухне не заблудилась, — шарман, манифик, а главное, демократично. По-нашему, по-рабочему брякнул колокольчиком — супница на столе. Ещё брякнул — силь ву пле — рыба под бешемелью. Шарман, да и только!
А ведь и в самом деле, шарман. Ответа-то на свой вопрос о машине я так и не получил. Впрочем, это мелочь. Какое значение имеет судьба одной машины с неведомыми узниками на фоне тех глобальных событий, которые нарисовал передо мной демократичный президент. Зона четыре, сектор пять — так это звучит на штабном языке, а машина и вообще там значится под трехзначным номером с дробью, строка, мелькнувшая в сводке, мелочь, недоступная глобальному взору. Как-нибудь да и узнали в штабе, это же детали. Их разрабатывал сам Виль.
Пора и мне менять пластинку.
— Проблема, волнующая меня в данную минуту, — продолжал я, поглядывая на президента, — имеет не столько политический, сколько исторический интерес. В наших разговорах часто проскальзывает имя полковника Виля. Позавчера мсье президент сказал мне, что Виль скрывался со всеми документами. Зачем это ему понадобилось?
За президента ответила президентша: как? Неужели вам ещё не рассказали об этой истории? Человек, которого называли арденнским героем, совершил некрасивый поступок. Незадолго до освобождения он ограбил главный банк в Льеже и взял там несколько миллионов. После этого он, естественно, был вынужден скрыться, забрав с собой все документы.
— Да, — сказал я, ещё не зная, стоит ли мне заниматься деталями этой истории, — это явно не манифик. И даже не адорабль!
Президент Поль Батист тоже молвил слово, и они все трое зашелестели хором, изображая бурный смех.
— Мой друг очень тонко чувствует юмор, — начала урождённая Буш. — Он только что сделал юмористическое заявление, что с обедом, равно как с предателями и грабителями, мы покончили, и предлагает на ваш выбор два следующих развлечения и одну сигару. До собрания остаётся свыше двух часов, и вы могли бы посетить музей Курциуса или галерею изящных искусств, которую посещают все туристы. Нельзя быть в Льеже и не побывать в музее Курциуса.
— Не будь туристом, — сказал Командир.
— Будь человеком, — подхватил Виктор-старший.
— И вообще, наведи у них порядок, — заключил Николай.
Горничная вошла без колокольчика, за нею в дверях появился Антуан. Увидев столь изысканное общество, он несколько смутился и застыл, подмигнув мне.
Они быстро заговорили. По мере того как Антуан отвечал, лицо президента хмурилось. Сначала он не соглашался с Антуаном, но тот продолжал настаивать. Президент положил ладони на край стола и задумался.
— О чём они говорят? — спросил я урождённую.
— О, этот молодой человек, — улыбнулась она вислой улыбкой, — прибыл с дурной целью: он хочет отнять вас от нас.
— Нам в самом деле необходимо ехать, — поддержал я Антуана, — насколько я понимаю, речь идёт о мадам Икс? Этот визит предусмотрен программой.
— Мой друг Поль Батист действительно упомянул об этом, но ваш друг мсье Антуан не подтверждает этого. Он говорит, что вам необходимо поспешить к одному человеку, чтобы поговорить с ним, а мой друг боится, что вы не успеете вернуться к началу собрания. Теперь мой друг должен принять решение.
Президент продолжал думать, нервно поглаживая скатерть, глянул на часы, ещё подумал, опять заговорил с Антуаном.
— Тридцать минут на дорогу, полтора часа на встречу, — вставил я. — В восемь тридцать мы будем на месте, мсье президент. Собрание не задержится.
Президент принял решение. Что тут началось! Поль Батист игриво погрозил Антуану пальчиком, мадам закатила глаза, уроженная заохала: какая жалость, мой друг, такая прелестная беседа, мы не переживём этого, мы будем просто убиты, мне очень жаль, вы так любезны, шарман, манифик, адорабль.
Я схватил папку.
— Умоляю вас, не забывайте о программе, — заклинал президент, кидаясь за нами к лестнице. — Мы должны выполнить нашу программу.
ГЛАВА 9
Мы понеслись. В машине я увидел Ивана Шульгу и обрадовался ещё больше. Однако Иван был рассеян.
— Что, Иван, невесел, по какой причине нос повесил?
— Отстань, ты мешаешь Антуану управлять машиной.
— Ах, ребята, какие вы молотки, что приехали за мной! — Иван не реагировал. — Да ты бледен, Иван? Фирма продаётся с молотка?
— У меня дочь рожает, — сосредоточенно отозвался он.
— Что может быть лучше: заделаешься дедом! Но ты же говорил, ещё нескоро. Не волнуйся, отметим это событие.
— Куда мы едем? — Иван повернулся ко мне, а в глазах его была тоска.
— Он меня спрашивает, куда мы едем? Разве Антуан тебе не говорил?
— Я был занятый с Терезой и Мари. Антуан позвонил: приезжай. Я все бросил и поехал, потому что я должен быть полезен для тебя. Я примчался к нему, мы пересели в его машину и помчались до президента. Он только говорит: «Скорей, скорей», а куда спешим, не говорит.
— Понятно, — ответил я. — Антуан это человек. Он и президенту ничего не сказал. Взял меня за руку и вывел. Но тебе-то я скажу, Иван, мы несёмся в Эвай, к мадам Икс, то бишь к Жермен.
— Чихал я на вашу Жермен, — с тоской огрызнулся Иван. — Как я жить теперь буду? Тереза говорит: вези её скорее. Ты знаешь, сколько стоит ихний родильный дом? Больше тысячи франков за день. Я живу тут всеми эксплуатированный.
— Слушай, Иван, я получил по чеку десять тысяч, возьми у меня. Мне ваши франки до лампочки.
Он немного оттаял, неумело принялся отказываться. Антуан сидел, подавшись к рулю. Мы уже оставили Льеж, пересекли Урт и ехали по всхолмлённой равнине. Размытые тени лежали на дальних холмах. Солнце клонилось в сторону Мааса.
Матье Ру остался за спиной, а на белом камне проступало новое имя — Жермен.
Магазин ещё торговал. Антуан с шиком развернулся на перекрёстке, тормознул за углом.
Покупателей в зале почти не было. Две молоденькие продавщицы с любопытством наблюдали за нами. Антуан пересёк магазин и скрылся в двери, подав нам знак следовать за ним. Мы оказались в низком помещении с настенным зеркалом и квадратным столом, накрытым цветной клеёнкой. Чувствовалось: здесь командует женщина. Рядом была комнатка поменьше, за столом сидел пожилой мужчина и потрошил кур, которые были навалены перед ним жирно-жёлтой кучей. Мужчина кивком поздоровался с нами и продолжал работу.
Деревянная лестница привела нас на второй этаж. Антуан уверенно постучал в дверь.
Жермен была ярколицая, широкая в кости, с высоким бюстом и сложной причёской на голове. Все на месте, все пригнано и как надо уложено. Конечно, она ждала нас, но, увидев меня, матово побелела, судорожно провела ладонью по глазам, как бы прогоняя наваждение. Я открыто стоял перед ней, давая ей первое слово.
Но не такого слова я ждал.
— Борис! — простонала она, припадая к косяку. — Откуда ты?
Антуан довольно засмеялся за моей спиной: ему определённо нравилось то и дело подводить меня под монастырь.
— Это не Борис, — сказал он. — Это Виктор, сын Бориса. Тоже советский лётчик, прилетел из Москвы, чтоб найти могилу Бориса.
— Уи, — сказал я. — Меня зовут Виктор. Я из Москвы.
Жермен растерянно кивала головой и не сводила с меня глаз.
— Мне очень приятно, что вы так хорошо помните отца. Может быть, вы расскажете о нём? Переведи ей, Иван.
Иван послушно перевёл. Она постепенно овладела собой, с усилием оттолкнулась от косяка, кокетливо улыбнулась.
— Здравствуйте, Виктор. Я Жермен Марке, прошу вас в дом, — и первой пошла по коридору.
— Л'амур, — сказал Антуан, толкая меня в бок.
— Он тебе сообщает, что между ними была крепкая любовь, — перевёл Иван.
Жермен шла по длинному коридору. Пожалуй, она чуть полновата для бельгийки. Вроде бы все в норме, но с небольшим перебором: как-никак внизу целый магазин, набитый снедью. У зеркала она приостановилась, на ходу поправляя причёску, улыбнулась самой себе, облизала губы. Так вот ты какая, Жермен Марке, связная особой диверсионной группы «Кабан», замешанная в этой истории, как сказал А.Скворцов. Ты уже ответила мне, как ты замешана. Что ещё откроешь ты мне?
В конце коридора была вторая лестница. Жермен свесилась через перила:
— Ив, к нам приехали гости.
Мы прошли сквозь стеклянную дверь и оказались на плоской крыше в зимнем саду. Стол, два ярких дивана, низкое кресло с привёрнутым зонтом.
Явился Ив, подтянутый, официальный, в нейлоновом рабочем халате, из-под которого выглядывала рубашка с галстуком. За ним возникла продавщица с корзиной вина и вазой с фруктами. А у Ива в руках коробка с сигарами, ваза с цветами. Все тут заранее продумано, все подготовлено. Если я хочу узнать что-либо, надо быть наготове.
Продавщица сделала книксен и вышла. В дверях показалось любопытное девичье лицо, но Жермен деловито цыкнула — и лицо исчезло.
С террасы виднелись разноцветные крыши соседних домов, тесные садовые дворики. Горизонт перекрывала насыпь железной дороги с виадуком над шоссе и железными мачтами по бокам. Дорога была пустынна. Дворики у домов безлюдны.
Выжидательное молчание за столом начинало затягиваться.
Едва ступив на бельгийскую землю, я подумал об этой женщине. Теперь она сидит передо мной, а я медлю. Всё зависит от того, что она знает, а это как раз и неизвестно.
Ив первым прервал паузу. Может, желаете мартини? Мартини со льдом? Силь ву пле, сигару, это настоящий «Упман», вам тоже со льдом? Мерси, мне оранжад, пожалуйста, спасибо, вы так любезны. Светская жизнь продолжалась.
Пора было решиться. Мы подняли бокалы.
— Иван, — начал я. — Скажи мадам Жермен, что я пью этот бокал за её здоровье и счастье. Я от всего сердца благодарю её за то, что она сделала для моего отца, за ухоженную могилу и всё остальное.
Жермен улыбнулась, благодаря меня взглядом.
— Она смеётся, — сказал Иван, — если ты так много знаешь, она не расскажет для твоего интереса ничего нового.
Антуан был прав, тут надо держать ухо востро.
— Скажи ей, что мы как раз знаем очень мало, но хотели бы знать все, что было, особенно про последний бой «кабанов». Пусть Антуан расскажет сначала, где мы были, что узнали и увидели.
Они начали свой разговор. Я сидел, потягивая мартини, и наблюдал за Жермен. Сколько ей лет? Тогда, по меньшей мере, было восемнадцать, а то и больше, всё-таки связная особой группы. Значит, сейчас за сорок. Этого, однако, не скажешь. Выглядит моложе. Умеет владеть собой. Тоже, видимо, не прочь выведать, что я о ней знаю.
Иван приступил к переводу. До чего же нелепо он изъяснялся на родном языке, смех и грех. Мне уж надоело поправлять его.
— Жермен говорит, что она два года состояла связной и часто прятала русских партизан и американских лётчиков, когда ей велели. Шеф Жермен имел связь с Лондоном, сервис «Д», а она была при этом сервисе сержантом. В сорок третьем году они сделали передачу русских списков в Лондон, но она не помнит, был ли там Борис написан, тогда она ещё не свела с ним знакомства.
— Английскую награду она после войны получала? — спросил я. — Это было в Льеже, да?
Антуан посмотрел на меня с некоторым удивлением, но я не стал объяснять ему.
— Она говорит, что боролась с бошами не ради орденов, она патриот ихней родины.
— Ясно. Тогда спроси, знает ли она монаха Роберта Мариенвальда, он ведь тоже на англичан работал.
Жермен прошла в дом и тут же вернулась со шкатулкой в руках. Шкатулка была большая, с инкрустацией. Жермен порылась в ней и достала небольшую фотографию: чёрный монах собственной персоной, но только в белой сутане с муаровой накидкой. Он стоял, благолепно сложив руки, рядом с ним кюре с молитвенником, ведущий службу, перед ним мальчик с деревянным крестом на груди. На заднем плане на скамейках прихожане: лишь женщины и дети. Значит, война.
— Так она отвечает на твой вопрос, — сказал Иван.
— Чёрный монах просит благодати у всевышнего, — заметил я, переворачивая фотографию. — Тут и надпись. Спроси, Иван, можно ли прочитать её?
Жермен кивнула, продолжая копаться в шкатулке. Иван перевёл: «Дорогой Женевьеве — мсье Роберт».
— Женевьеве или Жермен? — переспросил я.
— Женевьева — её покойная тётка, — пояснил Иван, справившись у Жермен. — Сегодня она мало с ним встречается, он даже продукты берет сейчас в монастыре.
Так, так, выходит, что и Мариенвальда придётся записать на белый камень.
Иван продолжал:
— Она хочет показать тебе более интересную фотографию. Так она уверена, что это будет интереснее, чем жадный поп.
Ба, да это отец! И не один. Рядом стоит густобровый мужчина с усами щёточкой. На мужчине партизанский берет со звездой, в руках автомат. А отец простоволос и без оружия, на шее намотан клетчатый шарф. На обороте размашисто написано по-русски: «Дорогой Жермен на долгую память в дни партизанской жизни от Бориса. 10. 07. 44 года».
Всего за десять дней до смерти писал отец, но фотография сделана раньше. Они стоят на фоне деревьев, листья только начали распускаться, это мог быть апрель. Сбоку виднелся угол хижины.
Я внимательно рассматривал карточку, стараясь не упустить подробностей. Второго мужчину я тоже видел, это точно. Антуан заглянул сбоку, кивнул мне в поддержку. Я достал из папки журнал «Патриот». Так и есть, отец снялся с Масоном.
— Узнай, Иван, кто стоит рядом с отцом? Скажи ей, что это очень важно для нас.
— Это Альфред Меланже, — тут же ответила Жермен. — Они оба были «кабанами» и сильно дружили между собой. Альфред был командиром, а Борис ему помогал. Потом Борис спас Альфреду жизнь, а сам погиб.
Антуан тоже был поражён и опередил меня:
— Разве Альфред не погиб?
— Она его видела после освобождения, перед арденнским наступлением бошей, — ответил Иван. — Бориса уже убили, а Альфред был ранен. Борис тогда спас Альфреда, и он уполз от моста. Альфред говорил ей, что в него потом стреляли из угла, и он знает, кто это делал. Он говорил ещё, что у него в Арденнах много врагов. Тогда он оставил ей свою визит-карту.
— И Жермен может сказать, где Альфред живёт сейчас? — Что за чудеса раскрывались нынче! Чем больше я узнаю, тем больше встаёт вопросов, а я ещё ни на один не нашёл ответа.
— Одну минуту, — Жермен порылась в шкатулке. Крышка была откинута, я видел там всякие фотографии, безделушки, конверты, медали с пёстрыми колодками.
Жермен развела руками, но, встретившись со мной взглядом, смутилась и снова принялась с явной досадой рыться в шкатулке.
— Она говорит, что ещё в прошлом году видела эту карту, а теперь не видит её. Она у Ива спрашивает, — уточнил Иван. — Но Ив тоже не знает, он говорит, что не вмешивается в её сердечные дела. Но она всё-таки постарается найти эту карту, мы можем позвонить к ней.
— Где жил Альфред? Она не помнит?
— Тогда он жил в Марше, но улицу она не помнит. Она к нему не поехала.
— Ладно, Иван, замнём для ясности. Спроси, почему Альфред говорил, что у него в Арденнах много врагов?
— Потому что это был особенный отряд, они карали предателей.
— Говорят, что «кабанов» тоже предали, так ли это? — я искоса глянул на Жермен, чтобы не пропустить, как она будет реагировать.
— Я такой вопрос не стану переводить, — нежданно обиделся Иван.
— Ну, ну, Иванушка, опять ты за своё, — засмеялся я. — Что тебе стоит, переведи. И без того ты даёшь ей время на обдумывание. А то сам спрошу, словарь при мне.
Иван неохотно перевёл. Я следил за Жермен. Она спокойно выслушала вопрос и внимательно взглянула на меня. Иван заулыбался:
— Вот видишь, я же тебе говорил. Она со мною согласная: не было у «кабанов» предателя. Она говорит, что на войне люди должны погибать, иначе это не война. А всяких мелочей об этом она не знает.
— А какая операция была в ту ночь, это она знает? — Я нарочно старался засыпать Жермен вопросами, чтобы не дать ей опомниться, но до сих пор она сохраняла полное спокойствие. Даже с визитной карточкой у неё получилось вполне естественно: была и потерялась, с кем не бывает! Зато она и находилась в более выгодном положении: пока-то Иван переведёт, потом мне ответит, есть время подумать и сказать только то, что она считает нужным. Если б я мог с ней с глазу на глаз поговорить!
— Они должны были освободить транспорт с коммунистическими узниками, — продолжал Иван. — Шеф Виль сказал ей, когда их повезут, и она передала это лично Борису. Это была очень срочная операция, и у «кабанов» не было времени подготовиться, они узнали про машину за один день. Может быть, поэтому саботаж прошёл нехорошо, и отряд погиб, только два человека спаслись.
— Ты слышишь, Антуан? Двое? Кто же второй? Как она узнала про второго?
Но, кажется, Антуан и сам уже спросил об этом.
— Альфред сказал ей тогда, что он видел: кто-то из «кабанов» прыгнул за ним с моста в другую сторону и убежал в лес. Альфред говорил, что после этого он два дня скрывался в лесу, хотел увидеть этого «кабана», но не увидел. А потом его спрятали в доме, потому что он был сильно ранен.
— Это был Матье Ру?
— Матье? Матье Ру? — Жермен задумалась, полураскрыв губы, все у неё получалось естественно, даже слишком. Она покачала головой. Нет, она не помнит такого.
Антуан задал новый вопрос.
— О чём он у неё спрашивает?
— Он не понимает, почему она сказала, что Альфред прыгнул с моста? Я ведь правильно тебе перевёл, да? А он теперь спрашивает, правильно ли она это сказала? Как она сказала, так я и перевёл.
— Не суетись, Иван, что она отвечает?
— Она не помнит точно, как ей Альфред говорил. Она не думает над каждым своим словом. А если вы хотите, чтобы она говорила точно, тогда она позовёт своего адвоката. Она на Антуана поимела обиду за такой вопрос.
— Вопросец что надо! Его бы записать золотыми буквами. Но она же уходит, всё время уходит от ответа! Разве ты не чувствуешь?
— Она хорошо тебе отвечает, — огорчился Иван. — Это тебе нехорошие сны мерещатся. Она сообщает тебе, что ты никогда не узнаешь, что было на мосту. Как можно узнать, когда прошло столько лет?
— Я узнаю, но ты не переводи, Иван.
Антуан продолжал говорить с Жермен. Они улыбнулись друг другу и чокнулись. Я присоединился к ним.
— Инцидент исчерпан. Пусть посмотрит ещё раз нашу фотографию, не знает ли она кого-нибудь ещё?
Жермен вгляделась в фотографию и указала на третьего «кабана»: его звали Мишель, он два раза приходил к ней с Борисом. Его фамилии она не знает, помнит только кличку — Щёголь.
Постойте, опять M попалось. Матье и Мишель! Значит, ещё и Мишель? Не много ли этих М? Одно из них явно ложное.
Антуан повернулся ко мне.
— Он спрашивает, — перевёл Иван, — откуда ты узнал про этого рыжего Матье?..
— Перекрёстный допрос продолжается, — рассмеялся я. — Вы что же думаете, я по музеям нынче шатался? Лучше спроси у Жермен, о чём ей ещё Альфред говорил?
— Тогда они мало говорили. Больше она ничего не может вспомнить. Альфред тогда был очень странный.
— Как «странный»? Что она под этим понимает? — тут же спросил я. — Быстрей переводи, Иван…
Вот когда она сбилась, застигнута врасплох, смущена, глаза отводит. Всё ясно, Альфред не странным был, он ей доверял, вот где собака зарыта!
А Жермен продолжала прятать глаза и ещё больше замялась, прежде чем ответить Ивану, — насторожилась. Нет, снова улыбнулась, руками разводит.
— Она не знает, как это точно объяснить, — переводил Иван. — Просто она это почувствовала как женщина. Альфред был худой, измученный, он жаловался, будто у него болят раны. Поэтому она и решила тебе сказать, будто он был странный. Она не понимает, почему ты так удивляешься ею? Разве человек не имеет закона, чтобы быть странным? Она говорит, что тебе как русскому представителю трудно понимать ихнюю психологию.
— Вот уж действительно странное дело! Ничему я не удивляюсь, я вообще перестал удивляться. И если ещё что-нибудь узнаю — и тогда не удивлюсь! Впрочем, это не переводи, Иван. Скажи, что мы благодарим её за интересную информацию. Все это очень важно для нас.
— Она говорит, что имеет ещё, о чём можно рассказать.
— О чём же? — лениво полюбопытствовал я.
— Она знает много других саботажей, которые имела группа «кабан». Они нападали на военные объекты.
— И тогда она тоже заранее знала время и место операций?
— Да, так она говорит. Она получала приказ, от шефа Виля и передавала это Альфреду или Борису.
— А что этот шеф потом сделал, она в курсе?
— Вот видишь, она подтверждает меня, об этом вся Бельгия знает. Я тебе неправильно не перевожу. Она говорит, что он очень смело поступил, обеспечил себя на всю жизнь. Он на банк налетел в городе Льеже и взял там сто сорок девять миллионов франков. Я тебе потом расскажу, а то Жермен будет недовольная, что мы без неё говорим.
— Валяй, валяй, Иван, тут надо по-светски, мы же в хороший дом попали. Видишь, она одобряет своего дорогого шефа.
— Она не сказала, что его одобряет, как ты говоришь. Он был бедный человек, не имел никакого имущества. Он был бедный и смелый. А на ихней войне все наживались. И поп твой наживался, купил себе три отеля.
— Разве он мой? Первый раз об этом слышу.
— Так она говорит, что мы с тобой и с ним одинаково русские. Но ты верно заметил, надо ей объяснить, я сейчас ей объясню. Этот поп — эмигрант от Николая, мы с ним разные русские. Ладно, я ей потом расскажу, она требует, чтобы я переводил без задержки, она продолжает за шефа Виля. Тогда он был хозяином всех Арденн, все его боялись и делали, как он скажет. Но как ему было жить после войны? Его приглашали в колониальную армию в Конго, но он устал воевать и не хотел туда идти. Если бы Жермен была бельгийской королевой, она сама дала бы ему сто миллионов за то, что он уничтожил столько бошей. А он решил взять их сам.
— Ладно, этот Виль тут ни при чём. Так что же это за операции?
— О, они делали большое число всяких операций: саботаж, парашютаж…
— Что за парашютаж такой, с чем его едят? — Иван перевёл мои слова, и они засмеялись. Иван повторил: — У нас все так говорят: парашютаж. Англичане бросали нам на парашютах оружие, консервы, гранаты. Надо было поджечь для них сигналы, поймать эти парашюты и быстренько убежать из этого леса, пока немцы не приехали. Я тоже парашютаж делал, — похвастал он. — Мы из этих парашютов рубахи шили для своего тепла.
Ив вышел и вскоре вернулся с новой бутылкой.
— Он принёс старое бургонское вино. Ты должен его попробовать. А она за это расскажет тебе про такой саботаж, за который твой отец получил орден.
— Ты меня смешишь, Иван. Говоришь про орден, словно это всем давно известно. Я, например, об этом первый раз слышу.
— Разве я сказал тебе про орден? — Иван сделал невинные глаза.
— Не знаю уж, кто из вас сказал, но я хотел бы выяснить подробности.
— Сейчас я у неё спрошу, кто это сказал? — заволновался Иван.
У них пошёл долгий разговор. Антуан тоже включился, даже Ив молвил слово.
— Она не помнит, был ли там орден, — объявил наконец Иван после бурных переговоров. — Но это ты можешь спросить у президента.
— Разумеется, спрошу, — пообещал я. — А теперь, если у вас охота не пропала, давайте все же послушаем, за что он его получил? Но, по-моему, вы уже десять раз об этом друг другу пересказали.
— Это было так, — начал Иван старательно, не замечая моей иронии. — Однажды шеф Виль встретился с помощником генерала Пирра в секретном доме для важных разговоров, и немецкий патруль захватил их для проверки. Телохранитель Виля успел убежать и рассказал партизанам, что боши забрали шефа. При штабе был большой страх. Хорошо ещё, что боши не знали, какие люди попали к ним, тогда они сразу бы их расстреляли. Партизаны решили спасти своего Виля. Тогда они узнали, что боши повезут их на поезде из города Намюра в город Льеж. Три человека из «кабанов» поехали на машине в ихний Намюр, купили билеты и сели в тот же поезд. Когда вагон набрал скорость, Альфред Меланже и Борис налетели на охрану. Борис так смешно рассказывал ей об этом, но она думает, что ничего смешного в поезде не было. «Кабаны» вошли в купе, выхватили пистолеты. Боши перепугались, они их перевязали верёвками, остановили тормоз и спокойно сошли вместе с Вилем и вторым офицером. Об этом даже в газетах тогда писали, боши обещали много франков тому, кто укажет на партизан. А Виль потом целовал Альфреда и Бориса.
— Президент об этом эпизоде не рассказывал. И про орден он ничего не говорил.
— Не отвлекай меня, — отмахнулся Шульга. — Я тебя не слышу, потому что она сейчас говорит.
— Весёленький у нас разговор, — заметил я с кислой улыбкой.
Иван отругнулся на меня по-французски. Все засмеялись.
— Вот видишь, я все перепутываю, — обиделся Иван на русском языке.
— И без того запутал, без словаря не разберёшься.
— Теперь она спрашивает, — продолжал Иван, — слышал ли ты про пожар, который они устроили на складе для бензина? Такой пожар, что его было видно за пятьдесят километров. Никто не мог попасть на этот склад, а «кабаны» попали. Немецкий грузовик ехал по дороге, за рулём сидел бош. Борис вскочил на машину, зарезал боша ножом и забрал руль. А этот грузовик имел пропуск на склад, так они проследили. И Борис въехал на склад на грузовике. Он швырнул гранату прямо в бак, все у них загорелось, а Борис удрал. Боши боялись «кабанов». За каждого «кабана» они назначили большую цифру — пятьдесят тысяч франков. Борис однажды сам принёс ей такое объявление. И он снова смеялся над бошами. Он был всегда весёлый, пел ей русские песни. — Жермен посмотрела на меня влажными глазами, пригубила бургонское. — Боже, как ты похож на Бориса, — она уже решила быть со мной на «ты». — Прямо живой Борис. И голос у тебя такой же, и сердишься ты так же. — Иван послушно переводил, а Антуан посмеивался. Ив флегматично потягивал вино.
Мне сделалось не по себе под её взглядом.
— Спроси, Иван, что мадам Жермен делала во время войны? Как она с отцом познакомилась?
— Ей было всего семнадцать лет, когда сюда пришли эти боши. У неё был жених по имени Арман, так его арестовали в армию, обрезали волосы на голове и убили на фронте. Младшая сестра Жюльетта поехала на велосипеде, её ударили палками. И тогда Жермен подумала сама с собой и решила: если она поимеет к тому возможность, то она будет мстить этим проклятым бошам. Трудно было найти связь с партизанами, но она нашла и стала работать в сервисе «Д». Тётка Жермен умерла, и ей достался этот магазин. Когда боши приходили сюда покупать товары, она смотрела на них с презрением. Они говорили: «Хайль, Гитлер!» А она им отвечала: «Хайль, Леопольд!» Боши сказали ей: ты попадёшь в чёрный лист. Но она имела свой характер. В сорок третьем году она поехала в Брюссель по делам, её захватили в поезде, хотя документы состояли в правильном порядке, и бросили в тюрьму. Два месяца её допрашивало гестапо, и, когда её выпустили, она продолжала прятать на себя русских партизан и американских лётчиков. После войны ей давали ордена, но она не носит этих декораций, она хотела только одного — выгнать бошей. Она давала продукты партизанам из своего магазина, и ей было не жалко. Борис часто приходил в этот дом.
— Как же они всё-таки познакомились, ты не ответил, Иван?
— Она имела знакомство с Борисом через Альфреда Меланже. Они приехали за продуктами на мотоцикле, она им все отдала, а Борис остался, потому что у него была ранена нога во время саботажа, и Жермен искала для него доктора. И она нашла с ним любовь. Альфред потом пугал её, что русского любить страшно, потому что он увезёт её в Сибирь, а она надеялась, что он останется в её стране. Ведь и русские тут остались, как мсье Шульга. Бельгийские женщины лучше русских, так она думает, — уточнил Иван.
— Отец рассказывал что-нибудь о себе? О чём они говорили.
— Он говорил о лагерях, из которых он убежал. Он сильно не любил бошей, они заставили его страдать в своих лагерях.
— Когда она видела отца в последний раз?
Жермен ответила, и я заметил, как Ив самодовольно поджал губы.
— Она тебе говорит, что это было до того, как Ив вернулся из лагеря, и она поимела с ним знакомство. Она много плакала по Борису, но Ив её утешал. Она тогда имела больше молодости, чем сейчас, но все равно она плакала. Хотя и теперь она не чувствует себя старой, ведь это правда? — Иван добавил. — Ты ей должен сказать, что она ещё нестарая, а то она не будет иметь от тебя удовольствия.
— Что за вопрос. Скажи ей, что она просто красавица, ты же лучше меня знаешь, как сказать это по-французски. — Я всё ещё не решил, как мне отнестись к этой женщине. Запишем на всякий случай покрепче это имя на моём белом камне: Жермен Марке. И ещё: Мишель по кличке Щёголь и Роберт Мариенвальд, он же чёрный монах.
Иван перевёл ей все, что полагалось, и даже сверх того, потому что она ответила мне обольстительной улыбкой.
— Теперь она хочет показать тебе свой дом, — объявил Иван.
— Времени в обрез. Скажи ей. — Я решительно тронул Антуана за локоть. — Гран мерси, мадам Марке. Мы весьма благодарны за ваш рассказ об отце и, разумеется, за тёплый приём. А насчёт карточки мы позвоним, поищите внимательнее, просим. Нам очень важно найти Альфреда.
И мы расстались ещё более далёкие, чем в минуту встречи. Жермен осталась наверху, Ив спускался с нами, чтобы закрыть дверь.
— Да, Иван, что же ты её на церемонию не пригласишь, обо всём я должен помнить, — я повернулся и посмотрел на Жермен. В глазах её поблёскивали слезы. Я смутился.
— Антуан ей говорил про нашу церемонию, — ответил Иван.
Жермен заметила мой взгляд, нерешительно улыбнулась.
Адью, мадам.
В машине я первым делом спросил Антуана, давно ли он знает Жермен.
— Он видел её, когда она была ещё молодой, — переводил Иван. — Борис сам рассказал ему про свой л'амур. Два раза Антуан приносил ей из хижины записки, она их читала и целовала. Антуан видел, как она себя мучила, когда узнала про Бориса.
— А как она узнала? Я не рискнул спросить у неё.
— Наверное, ей сказал шеф Виль, потому что, когда Антуан пришёл к ней, она уже плакала. Она много хлопотала над могилой, хотела просить у бошей разрешение, чтобы похоронить его как своего бельгийского мужа. А потом Антуан перестал с ней встречаться. Она тебе не все рассказала, так Антуан говорит.
— Вот видишь, Антуан тоже это заметил.
Иван засмеялся:
— Двадцать лет покупаю в этом магазине вино и продукты и ничего об этой Жермен не знал. Тебя, Виктор, надо записывать в партизанскую разведку.
ГЛАВА 10
Там, где некогда шли партизанские тропы, пролегли теперь бетонные автострады.
Дорога вывела нас в долину Урта. Голубая река извилисто петляла среди лесистых холмов. За первой грядой набегала вторая, за ними синели дальние горы, укутанные лесами. В долине пёстро и многоцветно стояли палатки, машины туристов.
Луи свернул. Дорога пошла на подъем. Спокойные ели громоздились на склоне. Лес становился все более первозданным и красивым. На вираже Луи заехал на обочину. Мы вышли. Безмолвная тишина была вокруг.
— Ля гер, — Луи сложил оба кулака на животе и радостно затараторил: — Та-та-та-та-та… — Прыгнул за обочину, скрылся в кустах, и оттуда просунулась суковатая палка. — Се Борис, — палка исчезла и через мгновенье высунулась у разлапой ели. — Се Луи. Бош, мотосикль. Борис, Луи — та-та-та-та-та…
Автомат, бивший из-под ели, замолчал. Луи как ни в чём не бывало выскочил на дорогу, победоносно поднял руку над головой:
— Виктуар!
Место для засады тут идеальное, и без пояснений понятно. Дорога делает вираж, склон круто взбегает и густ — с какой бы стороны немцы ни ехали на своих мотоциклах, их можно бить прямо в лоб.
Я прыгнул в кювет. Царапая лицо и руки, залёг за кустом, из-за которого стрелял Луи. Куски дороги призрачно просвечивались сквозь ветви. Я прижался щекой к сыроватому мху. Земля ответила мне слабым гулом. Из-за поворота показался грузовик, спускающийся вниз. Кузов был полон острыми глыбами камня.
Я смотрел, как катится грузовик. Стрелять было не в кого.
— Та-та-та, — закричал Луи, подбадривая меня.
Я промолчал и поднялся. Луи развернул машину. Мы обогнали грузовик и снова выехали в долину реки, где пестрели палатки. Красота кругом была такая, что дух захватывало.
Километра через три Луи снова остановил машину.
— Электриситэ! Видишь! — он указал рукой на вершину холма, где высилась точёная мачта высоковольтной линии. Три провода висели над рекой и уходили к другой мачте на противоположной стороне долины.
— Тур электрик. Динамит. Ба-бах! Капут! — Луи счастливо засмеялся.
На красивой земле воевал отец. Я смотрел кругом, и трудно было представить, что среди этой захватывающей красоты гремели взрывы, лилась кровь. Но так было, от этого никуда не денешься.
Луи остановил машину на краю поля, пересечённого проволочными изгородями. Светло-серая гранитная глыба и белая плита. «Героям РАФ[4], павшим за нашу свободу, 2 ноября 1944 года». Луи объяснил мне, что в тот день английский лётчик упал и разбился на этом месте.
Через несколько километров Луи снова стал на глухом повороте. Я не сразу разглядел в сумраке ветвей высокую пирамиду с крестом на гребне. «Маки из Еризе», — написано на одной из граней. Понизу шли имена: Этьенн, Годо, Рене… Они дрались здесь и погибли. И камни их поросли мхом.
С самолёта не разглядеть дорог, разве что шикарные автострады экстракласса. С высоты не видать могил, даже самых пышных. Могилы прижимаются к земле, а мы летаем высоко. Два года я летал над материками, и ориентирами мне были заливы, пятна городов, слияние рек, горные пики или острова. Мне думалось, немало я повисел над ними и знаю материки. Может, я и действительно изучил их, но людей я не видел, и земли их не знал. Я не видел могил, только сувениры, только аэровокзалы. Брюссельский маршрут идёт над Балтикой: острова, польдеры, барашки волн. Но если бы мы и над Арденнами пролетали, что бы я увидел? За десять минут мы бы их миновали: плоский зелёный массив с тонкими нитями рек и пятнами городков. Но вот я спустился на землю, своими ногами прошёл по её лесам, увидел её косогоры и спуски, острые скалы, резкие тени от водокачек, деревьев, крестов. Вот когда я узнал, что красивая эта земля щедро полита кровью, густо заставлена могильными камнями. Вот когда я увидел, как хранит земля своих сыновей, павших за неё.
Луи тронулся дальше. Я следил по карте за маршрутом и делал пометки. Квадратик неподалёку от Ла-Роша — партизаны спустили под откос два грузовика с солдатами. Кружок к северу от Уфализа — напали на эшелон, проходящий по узкоколейке, подожгли пять вагонов. Треугольник чуть южнее Ла-Роша — произвели реквизицию в ресторане. Галочка к северо-западу от Бастони — совершили налёт на зенитную батарею, взорвали два орудия, убили пять бошей.
Мы по крупицам собирали разрозненное прошлое. Оно живёт в Луи, и он передаёт его мне. Бросаем машину на обочине, углубляемся в лес. Я вижу обеспокоенно-ищущие глаза Луи: он вспоминает.
Стоит стеной зелёный лес. Стволы елей позеленели от старости. И пни зелёные. Все тут быльём поросло и зелёным мхом.
Но память живых нетленна. Глаза Луи светлеют, он перебегает на край обрыва, начинает рассказывать, изображая в лицах то, что было давным-давно: немецкий грузовик шёл поверху, мой отец швырнул гранату и хорошо попал. В том бою партизанам досталось четыре автомата.
Шестой час мы крутимся в треугольнике Ла-Рош — Уфализ — Марш. Мы как бы очерчиваем по Арденнам гигантскую площадку, в центре которой всё время остаётся зелёный массив, где была стоянка партизанского отряда. Тут Луи не блуждает. На этих дорогах, вьющихся по холмам, взбегающих на косогоры, перерезающих поля и выпасы, он чувствует себя как дома.
Спускаемся по петлистой дороге в Ла-Рош. Небольшой городишко уютно пристроился по берегам Урта. Со всех сторон его стиснули горы, на крутом холме — старая крепость.
Заехали в Марш. Тут же вспоминаю про Альфреда Меланже, ах, как необходим он нам сейчас! Луи с готовностью отправляется на поиски, но разве найдёшь, мы даже улицы не знаем, к тому же нынче суббота, и мэрия закрыта.
Снова мчимся по автострадам, сворачиваем на асфальтовые просеки. Снова бросаем машину, шагаем в лес. Зелёные ели опять обступают меня как безмолвные вопросы. Удастся ли найти Альфреда и Матье Ру? А Мишель по кличке Щёголь? Как к нему подступиться? Почему чёрный монах не сказал мне прямо, что знаком с Жермен? А стихи-то, стихи, он как бы нарочно подложил их, хотя какой ему смысл докладывать мне о предательстве? Отвлекающий манёвр? Кто же всё-таки сказал ему о моём приезде? Вчера на собрании я задал этот вопрос молодому казначею секции, тот лишь руками развёл.
Другое имя на могильном камне: Жермен Марке. Почему она не захотела дать нам адрес Альфреда? Что она умышленно не нашла его, это точно, я ни минуты в том не сомневался. А её слова: «Прыгнул с моста». Да они же переворачивают всю картину ночного боя. Если «прыгнул с моста», значит, до того стоял на мосту. А по плану было задумано иначе: «кабаны» окружают мост, а не стоят на нём. В этом случае получается, что «кабаны» сами оказались окружёнными. Недаром Антуан задал свой вопрос, переспросил: он вмиг разобрался, что скрывается за этим словом — прыгнул. Неясно только, отчего так вскипела Жермен, когда Антуан переспросил её?.. Вопросов накопилось, что деревьев в лесу.
Луи радостно охлопывает ладонью шершавые бока старого чугунного котла, который мы нашли на месте бывшей стоянки. Трещал костёр, в котле варилось мясо, ребята сидели на брёвнышке у огня и вели свои разговоры. Ребята уходили отсюда, идут цепочкой по лесу среди зелёных стволов, мне даже кажется, что я вижу их далёкие, неясные тени, они выходят на дорогу, чтобы там столкнуться с врагом, а после боя возвращаются к костру и вспоминают. Их мечты, тревоги, надежды ушли вместе с ними, мне горько, что я уже не узнаю об этом, но печаль моя чиста. Рядом со мной Луи, он передаёт мне свою память, и этот лес не скрывает от меня своих тайн.
Подаренная Антуаном карта расцвечена пёстрыми знаками, весь зелёный массив в северной части Арденн усеян ими. Немало дел успел совершить отец. Но кто расскажет мне, что было на мосту? Вот мой вопрос, единственный и главный, все остальные вопросы лишь должны подвести меня к нему.
А здесь какой знак поставить? Давно уже не попадаются дорожные указатели, и я не могу точно определить, где мы: где-то за Ла-Рошем.
У дороги одинокий дом, сразу за ним громоздятся скалы.
Смотрю на Луи. Сунет в рот палец — причмокнет, сунет — причмокнет. А что? И в самом деле — проголодались. Вот Луи и остановился у придорожного ресторанчика.
На фасаде вывеска: «Остелла». Дом невелик, чист и опрятен. С мансарды призывно выглядывают весёленькие занавесочки.
В зале никого. На стене голова оленя с рогами, под ней карта Бельгии и чучело совы. Простые столы и стулья. Скромный бар с пёстрыми бутылками. Дёшево, но со вкусом.
Она вошла легко и почти неслышно. И дверь открылась также неслышно. Она вошла, высокая, с надламывающейся талией и огромными глазами тоскующей мадонны.
— Бонжур, мадемуазель, — сказал я и схватился за стул, чтобы не упасть от такой красоты. — Как вас зовут, мадемуазель?
— Тереза, мсье, — ответила она, даже не улыбнувшись, и в глазах её цвета морской волны осталась та же пронзительная тоска. Не уловить мой акцент она не могла и потому повернулась к Луи в надежде, что тот лучше поймёт её. — Что вы желаете?
Они заговорили, на меня она даже не смотрела, а я глаз не сводил.
Как она очутилась в такой глуши? Какая тоска её гложет?
Вера тоже стояла тогда в столовой. Я увидел её, когда она морщила лоб перед стойкой, мучительно раздумывая, что взять с прилавка. И глаза у неё были такие же тоскующие. «Раз, два, три, — скомандовал я, — берём шпроты». Она засмеялась, и мы сели за столик. Оказалось, она только поступила в отряд, но летала с другим экипажем.
А через три недели, когда мы вышли из кино, она объявила: «Завтра полечу с вами». — «Сама напросилась?» — «Два раза ходила к Арсеньеву», — похвастала она. «Ну и зря, — ответил я, — у нас же рейсы тяжёлые». — «Я думала, ты обрадуешься. Хоть бы для приличия обрадовался». — «А чему тут радоваться? Ты это ты. А работа это работа». Она обиделась, и в глазах тоска сделалась. Я любил её тоскливые глаза.
Тереза кончила разговор с Луи, бросила искоса изучающий взгляд на меня и пошла на кухню. Она шагала, не таясь, не думая о том, как она шагает, а это было как движение волны, которая накатывается и сейчас захлестнёт. И над этой волной она, точно былинка на ветру, вот-вот надломится в талии, сама обернётся волной.
Сейчас она уйдёт, потом вернётся с едой и ещё раз появится, чтобы денежки получить. И все. Прощай, Тереза, я даже не поговорю с тобой, не узнаю, кто тебя обидел и отчего ты запечалилась.
Она принесла салат и бифштексы, однако не ушла на кухню, глянула на меня и осталась в зале, делая вид, будто поправляет вазочки на столиках. Женщины это сразу чувствуют, и, что бы там с ними ни творилось, они вступают в эту игру.
А я молчал как рыба. Мне только гадать: не такая, видно, она уж печальная, если вступила в эту игру, просто ей живётся тут несладко, хоть и опрятно кругом, и бифштекс хорош. Да, место у неё небойкое. Прогорает Тереза, и не является за ней в эту глушь златокудрый принц, чтобы умчать её за тридевять земель на реактивном ковре-самолёте.
Заглядевшись, как она двигается, я неловко разрезал мясо и выронил нож. Соус пролился на брюки. Хорошо, что я был не в лётной форме, а в спортивных брюках. Тереза обернулась. Я с виноватой улыбкой поднял нож, она подошла к столу, протягивая ко мне руку. Я отдал ей нож, бормоча слова извинения. Она прошла на кухню и вернулась, как волна накатилась, с новым ножом. Качнула шеей и снова уплыла.
Я взял в руки нож и глазам не поверил. Это был тот самый нож. С такой же дутой ручкой и такой же старый. И та же монограмма была на нём: сплетённые M и R.
Луи с наслаждением жевал мясо. Кажется, он даже не заметил нашу переглядку. Я потянулся к папке, которая лежала сбоку, и достал свой нож. Все завитушечки на обеих монограммах точь-в-точь сходились. Только мой нож чуть покороче, и выпуклость на дутой ручке чуть иная, но при чём тут выпуклость, монограмма-то одна, одна.
— Смотри-ка, Луи. — И положил оба ножа перед ним.
Луи сравнил ножи, то ли удивился, то ли не понял — покачал головой.
— Тихо, Луи, — сказал я, оглядываясь на дверь. — Надо узнать, как зовут хозяина этого пансионата? Только про нож пока молчок. Комплот, понимаешь?
Конечно же, ничего он не понял, а я, дурак, не сообразил, что он и не поймёт. Едва я взял нож и спрятал его обратно в папку, как Луи поднял крик.
— Луи, Луи, — умолял я. — Комплот…
А Тереза уже показалась из кухни. В руках у неё флакон с жидкостью для вывода пятен.
Луи схватил мою папку и вытащил нож. Что он сказал, я не понял. Но догадаться могу. Примерно это было так: «Простите, пожалуйста, моего друга, но этот юный оболтус по ошибке положил ваш нож в свою сумку. Возьмите его, силь ву пле, обратно».
Тереза недоуменно взяла нож, и я увидел в её переменчивых глазах мгновенный испуг, который она всячески старалась спрятать. Боже мой, отчего она так перепугалась?
Тереза покачала головой, видимо, сказала, что нож не их. Она как будто овладела собой, но испуг ещё таился на дне её глаз.
Я вскочил, с грохотом опрокинул стул и ещё успел подумать при этом: надо его опрокинуть, так будет натуральнее. Луи удивлённо глянул на нас и нагнулся, чтобы поднять стул.
— Простите фройляйн, — выпалил я по-немецки, потому что иного выхода уже не было. — Шпрехен зи дойч?
— Очень плохо, — ответила она.
— Тысяча извинений, милая фройляйн, — продолжал я взволнованно. — Мой друг не понял меня. Он ошибся и подумал, что это ваш нож, вы меня понимаете? Меня зовут Виктор, я только четвёртый день в вашей стране, и этот нож принадлежит мне, вернее, не мне, а моему отцу. Ах да, я ведь ещё не сказал вам о том, удивительная Тереза, что мой отец был здесь партизаном. Он погиб в Арденнах, а его нож я нашёл в старой лесной хижине.
Тереза слушала сначала напряжённо, потом с интересом, огромные глаза её то и дело менялись, то удивление в них вспыхивало, то лукавинки, то пронзительная голубизна. Но тоска-то, тоска всё время таилась в их глубине. А я вовсю разошёлся, откуда только слова взялись.
И она под конец улыбнулась:
— О, вы есть Виктор. Это ужасно, что ваш отец погиб вдали от родины. Вы, наверное, приехали из Праги? — Видно, решила так из-за моего акцента.
— Да, очаровательная Тереза, я прилетел издалека, — что-то удерживало меня от того, чтобы открыться ей.
Луи пытался вставить слово, даже со стула приподнялся, но я остановил его движением руки. Тогда он сел и стал изображать молчаливую усмешку. А я продолжал:
— Извините, пожалуйста, Тереза, что так получилось. Вас, конечно, удивило совпадение инициалов, но это чистая случайность, уверяю вас. Я счастлив, что случай познакомил нас. Разрешите вручить вам визитную карточку моего друга, у которого я остановился. Сколько вам лет, удивительная Тереза?
И в глазах Терезы вспыхнуло такое, что я и сказать не могу: надежда вспыхнула в её ненасытных глазах, но внешне она оставалась спокойной, сказала «данке шон», деловито сунула карточку в кармашек фартука. Итак, главное сделано. Остались сущие пустяки: узнать, как хозяина зовут?
— Прелестная Тереза, — начал я с подходцем, — вы так чудесно нас накормили. У меня нет слов: вундербар, колоссаль, шарман, манифик…
Луи внезапно поднялся и двинулся на меня со сжатыми кулаками. Лицо перекошено от гнева. Я пытался было подмигнуть ему украдкой, но он лишь пуще разошёлся, цепко схватил меня за руку.
— В машину, негодяй! — скомандовал он. — Сию же минуту! — Повернулся к Терезе и закричал на неё. Та вмиг поникла. Луи швырнул деньги на стол и со свирепым видом зашагал к машине. Я кинулся за ним.
— Что происходит, Луи? Мне же нужно объясниться.
Но он уже не слушал:
— Мы едем! Немедленно!
Тереза с недоумением смотрела на нас. Я обернулся и крикнул по-немецки:
— Небольшое недоразумение, очаровательная Тереза, мы очень спешим, но я все объясню позже. — Тычок в спину только придал мне сил. — Я сам к тебе приеду!
ГЛАВА 11
Так вот отчего рассвирепел Луи. Я посмеивался и отнекивался, а перед глазами Тереза стояла, нет, Тереза двигалась перед глазами, как надламывающаяся волна.
Впрочем, и это прояснилось не сразу. А сначала Луи сардонически захохотал и принялся петлять по дорогам, чтобы запутать меня и отлучить от Терезы. Не на такого напал: я засёк километраж по спидометру, затвердил все повороты, мысленно набросал кроки — в общем, «Остелла» располагалась к северо-западу от дороги № 34 и на юго-запад от Ла-Роша, меня на таких дешёвых штучках не проведёшь.
Луи упрямо гнал машину, бросая на меня гневные взгляды. Было неприятно, что я расстроил его, тем более что я никак не мог уяснить причину. Но пока Иван не приедет, мы не сможем объясниться. Я принялся размышлять о ноже. Ясно, что посетителям таких приборов не подавали. Эти ножи с семейными монограммами в особой коробке лежат, их даже для своих не по всякому случаю достают. Тереза этот нож по ошибке принесла. Или знак особый пожелала подать? Так или иначе, одно точно: мне удалось напасть на след Мишеля. Сходство монограмм не могло быть простым совпадением. Все эти завитушечки, вензеля, кренделя — одна рука их вырезала, по одному заказу. Если бы не Луи с его неожиданной выходкой, я уже сейчас, не вызвав никаких подозрений, знал бы имя хозяина «Остеллы».
Дома Луи окончательно утихомирился, заглядывал мне в глаза, подсовывал семейные альбомы, журналы с картинками. Мне все хотелось спросить, за что он так рассердился? Но не со словарём же в руках нам выяснять отношения?
Луи начал рассказывать, как строил свой дом. Он переехал сюда недавно, три года назад, когда вышел на пенсию. Всю жизнь мечтал жить в Арденнах, где прошли его лучшие годы. И сбылась мечта на старости лет.
На специальной подставке стоит блестящая шахтёрская лампа: подарок от администрации при выходе на пенсию. Луи зажёг огонь, демонстрируя, как красиво горит лампа. Шарлотта хлопотала на кухне. Я уж думал, мир настал. Но едва за окном прошуршала машина, как глаза Луи вмиг вспыхнули гневом. Мы одновременно бросились к двери. Я подскочил к машине первым:
— Иван, спроси у него про нож. Почему он нож у меня отнимал?
— Какой нож? — растерялся Иван, попав с корабля на бал.
Луи перехватил Ивана, двинулся на меня с кулаками. Я отступил.
— Он говорит, что будет сейчас рассчитываться с тобой, — непонимающе перевёл Иван. — Что между вами случилось?
— Сейчас я рассчитаюсь с ним, — кричал Луи. — Идём в дом.
— Он зовёт тебя в свой дом, — переводил Иван.
— Передай ему, что я и сам могу кое-что сказать, — требовал я.
— Запрещаю вам говорить по-русски, — кричал Луи. — Слушай только меня и переводи.
— Он запрещает мне разговаривать с тобой, — перевёл Иван.
— Молчи! — цыкнул Луи.
Ладно, кто-то из нас должен проявить благоразумие. Пусть Луи выскажется, и тогда я отвечу. Мы прошли в дом. Иван поздоровался с Шарлоттой.
— Как Мари? — спросила Шарлотта.
— Утром я отвёз её в родильный дом, — отвечал Иван с тревожной улыбкой. — Я только что из Льежа, потому и задержался. А Тереза там сидит. Пока ничего нет.
— Не волнуйтесь, всё будет хорошо, — говорила Шарлотта, не замечая нетерпения Луи, должно быть, она привыкла к подобным выходкам мужа.
Луи продолжал наскакивать на меня.
— Он говорит, что ты турист и ничего не понимаешь в ихней жизни, — сказал Иван, оторвавшись от семейных забот.
— Это становится интересно, — заметил я, присаживаясь к столу. — Ну что ж, давай послушаем.
Луи ладонью хлопнул по столу, очами сверкнул.
— Ты говоришь о предателях, а сам ни одного предателя не видел, — кричал Луи. — Замолчи же ты! — это уже к Ивану.
— Как же я буду переводить, если ты не даёшь мне сказать, — Иван тоже сбился и сказал это по-русски, отчего Луи вскипел ещё более:
— Говорить буду я, а вы будете молчать и слушать меня.
— Хорошо, я буду молчать, — послушно согласился Иван. — А кто же будет переводить?
— Я этих предателей убивал своими руками, — бушевал Луи, не давая Ивану слова молвить. — Молчи и слушай. Я знаю, что такое предатели и с чем их едят. Я с ними не любезничал, не целовался.
— Подожди же, — взмолился Иван на французском языке. — Я все забуду, что ты мне говоришь. А я хочу переводить хорошо.
Луи всё-таки понял, что если он хочет что-то сказать мне, то должен давать слово Ивану и ждать своей очереди.
— Я коммунист, — горячился он. — Я уже тридцать лет коммунист. Тебя ещё на свете не было, когда я стал коммунистом. Мы, бельгийские коммунисты, всегда стояли за народ. И мы, шахтёры, — ядро рабочего класса. Я сделал все, что мог. Мне сказали: ты уйдёшь с шахты. И я пошёл в Сопротивление. Боши сволочи. Я не считаю, что я спас Бельгию от бошей, но я боролся так, что лучше я не мог бороться. Мы боролись вместе с русскими. Тут были и такие борцы, которые получали от Англии деньги, парашютаж, оружие, но они ничего не делали, а сидели по домам. А мы сами добывали оружие для себя и этими же автоматами убивали бошей, — с каждой фразой разговор входил в более спокойное русло, вынужденные паузы, когда Иван переводил, а Луи слушал и собирался с мыслями, хочешь не хочешь, успокаивали его. Луи сцепил пальцы рук, положил руки на стол. Желваки на скулах нервно поигрывали.
— Я тебе скажу, — с болью продолжал он, — как мы с Борисом воевали. Нам сказали: нельзя бить бошей без приказа. Мы видели много бошей, но не убивали их, такой был приказ. Я не понимал, зачем такой приказ, но я солдат, мы делали присягу, а этот приказ пришёл из Лондона. Боши разбили лагерь и поставили свою артиллерию против самолётов, но мы не могли их тронуть. Тогда Борис сказал: «Такой приказ могли дать только проклятые буржуи. Но если мы не имеем права нападать на бошей, пусть боши нападают на нас». И мы стали их дразнить. Они нападали на нас, и тогда мы их убивали, защищаться нам можно было. Мы не прятались по лесам, не получали денег из Лондона, мы воевали сердцем. Только в сорок третьем году мы получили разрешение драться, как мы хотим, а после освобождения у нас сразу отобрали оружие. Вот что мы получили за свою кровь.
— Иван, дорогой, спроси всё-таки про нож. Я понимаю его чувства и сочувствую, но при чём тут нож? А у меня конкретный вопрос: почему он из-за этого ножа на меня накинулся? Должна же быть причина?
Луи сверкнул глазами, однако промолчал на этот раз. Похоже, он уже выкипел. Даже смилостивился, погладил меня по руке.
— Он говорит, что любит твою страну, и мы скоро сядем обедать, но ему больно знать, что он воевал напрасно. Он воевал за свободу, а ему ничего не дали. Все осталось так же, как было до войны. Вот почему у него болит сердце. Он говорит, что слушал в первый вечер, у Антуана, ваш разговор о предателях. И он хочет тебе сказать, что в ихней стране предатели ходят на свободе. Шарлотту отправили в немецкий лагерь Равенсбрюк, и он знает, кто на неё сделал донесение, когда Луи страдал в лесах. Этот человек живёт в сорока километрах отсюда, в долине. И Луи ничего не может с ним сделать. Убивать его? Но Луи коммунист, его партия не разрешает ему убивать людей. Если бы он узнал об этом во время войны, он сам бы расправился с ним, но Шарлотта сказала ему, когда она вернулась домой, а тогда война кончилась. Он написал документ об этом предателе, отдал его властям, но они бросили его бумагу в корзину. И этот предатель сейчас процветает. Ты должен знать это и слушать его. А сейчас он хочет сделать тебе выговор за нож как старший товарищ и коммунист, который любит нашу революцию.
— Ну-ну, это интересно, — я подвинулся к Ивану. — Наконец-то добрались до дела.
— Ты не должен забывать, что находишься в капиталистических странах, здесь много плохих людей. По тому, что ты здесь делаешь, бельгийский народ будет судить о твоей стране. А ты себя неправильно ведёшь. Зачем полез к этой девчонке? К какой девчонке ты полез? — озадаченно переспросил Иван.
Я улыбнулся. Ах, Луи, дорогой, чистый, искромётный и наивный Луи!
Луи увидел мою улыбку, повысил голос.
— Откуда ты знаешь, что это за девчонка? Может быть, она и красивая, в ихних капиталистических странах много красивых мадам, которые продают себя за деньги. Они делают стриптиз, и мужчина сразу падает в обморок. Но коммунист должен презирать таких красивых тварей. А ты ведёшь себя как несоветский человек, ты полез к ней целоваться.
Вот когда мне стало весело. Так вот по какой причине ты вскипел, мой дорогой Луи. Спасибо тебе, что ты следишь за моей нравственностью. Я смеялся, а в глазах Тереза стояла.
— К кому ты полез целоваться? — вопрошал Иван. — Нашёл себе бельгийскую невесту? Где вы её нашли?
Я перестал смеяться. Не до смеха мне сделалось.
— Да объясни же ему наконец, что мне плевать на эту Терезу, — я понимал, что беспардонно вру, но продолжал. — Я же только про нож хотел узнать. Убеждён, что у этих двух ножей один и тот же хозяин. И мы должны разгадать эту загадку. Нам надо ехать туда.
— Ты начитался американских детективов, — с угрозой заявил Луи. — Я не пущу тебя к этой девчонке. Ты мой гость, и я за тебя отвечаю.
— Я американских детективов не читаю, — отозвался я. — У нас своих детективов хватает.
— Где находится этот пансионат? — поинтересовался Иван. — Наш отряд как раз партизанил в тех местах за Ла-Рошем.
Я показал Ивану место на карте. Луи смотрел на меня подозрительно. Я тоже глянул на него: что, Луи, не удалось меня провести?
— Такой небольшой дом, — продолжал Иван с оживлением. — Два этажа и мансарда. А за домом скалы.
— Совершенно верно, — удивился я. — Откуда ты знаешь?
— В этом доме жил предатель, — невозмутимо заявил Иван. — Мы там реквизицию делали.
— Что я говорил? — воскликнул я. — Переведи-ка ему, пусть он послушает и успокоится. Посмотри на него…
— Он тебя любит, — возразил Иван, — он хочет сделать тебе хорошо.
Но я продолжал идти по следу.
— Как звали этого предателя, ты не помнишь, Иван? На пари: M и R — принимаешь?
— Его звали Густав. Он был рексистом, и поэтому его убили.
— Вон куда тебя занесло. Густав, да и к тому же убитый — вариант отпадает. Это не тот дом. Мало ли домов с мансардами, тут на всех чердаках мансарды.
— Это тот самый дом, — упрямо настаивал Иван. — Там близко нет никаких других пансионатов, я два года там партизанил, все места помню. Там дорога делает поворот, а за поворотом мостик. Я у этого мостика замерзал.
— Верно, был мостик. Вот чудеса. Наверное, всё-таки не Густав? — Я задумался, пытаясь сплести звенья разрозненной цепи. — Сколько лет прошло, Иван, ты мог и забыть.
— Это я никогда не забуду. Если бы вы попали в такую страшную историю, вы тоже до самой смерти не забыли бы.
— Говори по-французски, — потребовал Луи.
— Хорошо, — коротко согласился Иван, — я стану рассказывать сразу на двух языках эту страшную историю, — Иван перевёл себя.
Луи откинулся на стуле с выжидательно-насмешливым видом. Я закурил. Шарлотта вошла с тарелками, поставила их на стол, присела, подперев рукой подбородок.
И вот что рассказал Иван, привожу этот рассказ с характерными для него выражениями.
— Моя история состоялась в марте сорок четвёртого года. Тогда мы вели ля гер в лесу около ихней деревни Монт и сильно страдали. Англичане не давали нам никакого парашютажа, потому что имелась плохая погода, и всё время падал дождь. У нас даже на ногах ничего не было, не говоря про еду. Бельгийцы приносили нам хлеб, но они тоже были бедные и сами страдали. Тогда я сказал командиру: «Пойдём в этот пансионат и сделаем реквизицию. Там есть шнапс, и мы согреемся». Командир мне говорит: «Мы там уже забирали один раз, у них ничего не осталось». Тогда я говорю: «Они богатые капиталисты и недавно зарезали корову». — От кого ты знаешь про корову?» — спросил командир, но я имел значение в своём отряде, и я ответил честно: «Мне сказал мой тёзка Жан». Жан делал с нами связь и жил в деревне Монт. Командир послушался меня и сказал: «Хорошо, мы пойдём на эту реквизицию, но надо делать разведку». Я и мой товарищ Гога дошли до этого дома и три часа замерзали в разведке. Там было тихо. Один раз приехала немецкая машина, в ней сидело гестапо, и они уехали обратно. Потом из дома вышла монашка. Мы побежали к себе в лес и сказали командиру: боши уехали. Ночью мы пошли по той дороге, где был мостик. Нам хотелось погреться у ихнего шнапса. Вокруг дома было пусто, но мы ещё раз все осмотрели, там все лежали в постелях. Командир стал стучать в дверь. Они молчали, потому что не имели любовь до нашего голодного народа. Командир отдал приказ: «Ломайте эти двери». Тут все затрещало, и мы вошли в вестибюль, по-нашему — сени. Мы пошли дальше и увидели свет в большой комнате, где они встречают гостей. «Дай нам реквизицию, мсье Густав», — сказал командир, он сделал шаг в комнату и тут же выбежал в обратную сторону. «Зачем ты испугался?» — сказал я и пошёл вперёд. Там горели четыре свечи, и колени мои затряслись, как от ихнего шейка. На столе стоял длинный чёрный гроб, и в гробу лежал мёртвый хозяин этого дома. Он был в чёрном костюме, руки крестом и лицо белое, как у мертвеца. А две женщины стояли на коленях и молились своему богу, на них имелись чёрные халаты. Они увидели меня и стали швырять бутылками. «Зачем ты пришёл? Уходи, дай ему умереть спокойно». Я испугался и сказал: «Пардон. Если в этом доме имеется покойник, то пусть он умрёт спокойно, а мы уйдём голодными». Мы не взяли ни кусочка и ушли. Ребята ругались на нас с Гогой: «Зачем вы не разведали про покойника?» — «Но он же не выходил из дома», — ответил я им, и тогда они замолчали. Я думал, что этот Густав умер сам по себе, но потом туда пошёл Жан, и он разведал, что Густав был предателем, он записал всех бельгийцев, которые сражались в резистансе, и патриоты отомстили ему за это. Они убили его за день до нашей реквизиции. Поэтому и приезжало к ним гестапо, но мы же не знали. На другой день бельгийцы принесли нам еды, и мы поели сухого хлеба. Вот какая страшная история была у меня в этом пансионате. Мы ушли голодными и злыми.
— Напугал ты меня, Иван, и расстроил, — отвечал я со смехом. — Всю мою игру поломал ты своей историей. Вариант отпадает, ты прав.
— Кто же всё-таки убил его? — спросила Шарлотта.
— Жан сказал, что это сделал специальный бельгиец, который приехал из города Льежа. Он убил его пулей. Если ты хочешь, я завтра поеду к этому Жану из Монта и узнаю фамилию Густава.
— Спасибо, Иван, — ответил я. — И без Жана всё ясно. След на «Остеллу» закрывается до выяснения дополнительных обстоятельств.
— Зачем ты притворяешься? — продолжал со смехом Луи. — Ты просто влюбился в неё, как мальчишка, я же видел, как ты перед ней плясал.
— А она красивая? — с улыбкой спросила Шарлотта.
— Они хотят женить тебя на этой молодой Терезе, — подытожил Иван. — Тогда ты станешь хозяином этого пансионата и будешь наливать мартини туристам. И она будет жарить фри. Так Луи говорит. А Шарлотта ему отвечает, что ты хочешь пожалеть эту бедную бельгийскую девушку, наверное, она страдает.
— Меня нож интересует. И кто там живёт. Но если надо, я и её пожалею.
— Он говорит, — переводил Иван, — зачем же мы сидим? Нам надо ехать до этой цыпочки. Он пойдёт к её папаше и будет просить для тебя её руку и сердце. Завтра воскресенье, и кюре обвенчает вас в церкви.
Так они пересмеивались, пока мы обедали. Я отшучивался, как мог.
На десерт пришлась газета. В сегодняшей газете уже напечатан отчёт о нашем собрании, Иван привёз её из дома, да забыл за нашими спорами и шуточками.
На третьей странице в нижнем углу было наше фото: я стоял в центре, президент де Ла Гранж и казначей Роберт по бокам. Мы держались за руки и улыбались. Мне показалось: не очень-то я похож. Впрочем, ребята узнают, вот когда они рты раскроют.
— Похож, похож, — говорил Луи, поглаживая меня по плечу в знак полного примирения. — Борис был точно таким же. Как жаль, что он не знал, какой замечательный сын у него вырос.
— «Сын бывшего русского партизана посещает Льеж», — с чувством перевёл Иван. — Тут и про меня написано: «Дорогого русского гостя сопровождал наш старый боевой товарищ Иван Шульга, который был переводчиком».
— Ай да Иван, — обрадовался я. — Теперь у тебя есть вторая профессия, будет тебе кусок хлеба на чёрный день.
Иван отобрал у меня газету.
— Ты мне мешаешь точно переводить, тут очень интересно написано. — И продолжал с выражением: — В помещении вооружённых партизан перед стаканом вина языки развязались. Благодаря сувенирам и фотографиям годы войны переживаются вновь вместе с их радостью и слишком тяжёлыми жертвами. Этот великолепный вечер Бельгии и СССР закончился в атмосфере симпатической сердечности под звуки нашего гимна и ихней Брабансоны.
— Неплохо изобразили, — заметил я. — Жаль только, про Луи и Антуана ничего не написали. Могли бы, между прочим.
Иван заглянул в газету.
— Нет, про них там ничего нет.
Луи устроился в глубоком кресле у телевизора и деловито засопел. Шарлотта стучала на кухне тарелками.
— Они всегда после обеда спят, — заметил Иван, усаживаясь в соседнем кресле и преклоняя голову. — А потом он будет тебе рассказывать про отца.
Я приложил палец к губам:
— Слушай, Иван, а что если нам сейчас к Терезе махнуть?
— У меня уже есть моя Тереза, — ответил он, прикрывая глаза и вытягивая ноги. Я и оглянуться не успел, как со второго кресла раздалось такое же благодушное сопение.
Я уставился в газету.
ГЛАВА 12
Хоть мы и с запасом выехали, но прибыли не первыми. Несколько машин стояло на просторной поляне, возле которой сходились перекрёстком две дороги. За деревьями проступал чёткий силуэт церкви Святого Мартина, там тоже виднелись машины.
Люди рассредоточивались группами по границам поляны, но в их, казалось бы, случайном расположении имелся определённый центр, от которого они словно вели отсчёт и к которому безотчётно стремились. Я вышел из машины и увидел эту срединную точку. Белый мраморный крест вырастал из груды камней и как бы запрокидывался навзничь. Грани креста были чисты и безмолвны, а за ним возвышались три светлые панели с частыми строчками имён. На средней панели высечена сверху морда льва в опрокинутом треугольнике — эмблема Армии Зет.
Поль Батист де Ла Гранж стоял в центре наиболее солидной группы, я узнал секретаря секции и ещё нескольких бельгийцев, с которыми познакомился на собрании.
Луи решил отвести машину за перекрёсток, а я пошёл к президенту, оглядываясь на могилу и ближние машины: не привезли ли венки?
Президент Поль Батист приветствовал меня торжественной речью: мы рады… приближается волнующая минута…
Я обошёл по кругу, пожимая руки. Тем временем и Поль Батист добрался до сути: заговорил о Матье Ру. Он узнал его адрес: Льеж, рю Университет, дом номер сто, хороший подарок, мой дорогой друг, не правда ли?
Тут мы увидели Ивана, шагающего через поляну, и замолчали. Иван шагал один и цвёл, как утреннее солнышко.
— Можно поздравить, как я погляжу. Кто же?
— Я превратился в деда, — доложил Иван на обоих языках и с ходу принялся принимать поздравления. — Мы назовём его Серж, в честь моего отца. Моя Тереза согласная. Я только что оттуда. — Иван принялся за свои обязанности. — Президент имеет радость доложить тебе, что скоро привезут венки и приедет труба. Тогда мы начнём церемонию.
— Бонжур, Виктор.
Я увидел Антуана, следом изящно шагала Сюзанна: он в чёрной паре, она в бордовом платье с жакетом. Мы же с самого собрания не виделись. Я поспешил к ним навстречу.
— Звонила Жермен? Она приедет на церемонию?
— Она сказала, что у неё дела, но она постарается.
— Карточку Альфреда она не нашла?
— Пока ещё нет. Как идёт твоя программа?
— Программа на уровне, — я показал большой палец. — Узнали адрес Ру. Поедем вечером к нему?
Антуан озабоченно кивнул.
— Но это ещё не все, — продолжал я. — Иван, расскажи им, что за нож я нашёл вчера в пансионате «Остелла». Как ты думаешь, Антуан, стоит этот вариант дальше разрабатывать?
Из ворот Святого Мартина густо повалил народ. Закончилась утренняя служба. Прихожане разбирали машины, проходили мимо, с любопытством оглядываясь на нас. Они уже исполнили свой долг и спешили к тёплым очагам.
Антуан поманил меня пальцем к подъехавшей голубой машине. Так и есть, секретарь привёз венки.
— Роберт просит, — перевёл подоспевший Иван, — чтобы ты выбрал любой венок для отца и дал ему свои мемориальные ленты.
Мы стояли с матерью на краю лётного поля. Проехал автопоезд из трех вагончиков, увозя пассажиров к нашей машине, пора и мне было трогать, да мать все не отпускала, хотя все слова были сказаны. И тогда она суетливо вытащила из сумки узкий свёрток белой бумаги: «Возьми с собой, нет, нет, не раскрывай, там раскроешь. И вообще, мне ничего не привози, мне тряпок не надо, а если деньги останутся, поправь на них могилку в случае чего…» Я поцеловал её, побежал к машине, а она осталась на краю поля, и я долго видел её: и пока мы рулили, выходя на полосу, и когда взлетели, ложась на разворот, — печальная крошечная фигурка на краю огромного поля.
Извлекли венки. Магнолии, астры, лилии, розы, садовые ромашки — и все в еловых лапах. Я оглядел строй из пяти венков и выбрал для отца, венок был не таким большим, но более густым и крепким. Роберт протянул мне визитную карточку и пятьдесят франков.
— Зачем это? — удивился я.
— Счёт из магазина и сдача, — пояснил Иван. — Возьми эти франки, а то он обидится.
Я прочитал на карточке: Густав ван Шор, Эвай. Цветы из Эвая. А Жермен из Эвая не приехала. Хоть не было к тому никаких доказательств, я инстинктивно чувствовал, что она избегает меня.
Присев на корточки, Роберт принялся прилаживать ленты. Я дал ему свою, от экипажа: «Бельгийским и русским партизанам, павшим в боях с фашистами, — от советских лётчиков».
Подошёл президент. Иван перевёл надпись на ленте. Президент с чувством пожал мою руку.
— Бельгийская и советская дружба должна процветать изо всех сил наших народов, — перевёл Иван провозглашённый президентом лозунг на свой русский язык. — Он спрашивает, есть ли у тебя ленты для твоего отца Бориса?
Я достал из папки и развернул материнский свёрток. Там было две ленты. «Лейтенанту Борису Маслову — от ветеранов 263-го авиаполка ДД», — вон, оказывается, какую ленту мать соорудила, недаром она последние недели куда-то ездила, созванивалась по междугородным линиям. Другая лента была короче и лаконичней — «От жены и сына».
Иван перевёл и эти надписи. Президент поднёс к губам розовый платочек.
— Он расскажет об этих лентах всем своим патриотам, — с выражением сообщил Иван.
А народ подходил и подходил, вся дорога за поляной была заставлена машинами. Пришёл автобус из Льежа. Людей было ещё больше, чем позавчера, на собрании, я многих узнавал, то и дело приходилось отвечать на приветствия.
У машины стоит мужчина с пустым рукавом. Шарлотта и Луи разговаривают с коренастым толстяком, у того чёрная повязка на глазу. К другой машине прислонены чьи-то костыли. Четвёртый стоит, держа на весу скрюченную руку. Эти люди приехали сюда не ради пустой формальности или приятного времяпрепровождения, они пришли сюда потому, что война была святым делом их жизни, может, среди них и такие есть, у кого, кроме этой войны, ничего на свете не осталось. Они вместе бились с врагом, но одни из них лежат теперь под белым заломленным крестом, а другие стоят, смотрят на этот крест и вспоминают, как погибали те, лежащие под крестом. На лицах живых улыбки, и глаза просветлены заботами жизни, в петлицах ордена или цветные ленточки взамен их, а там, под заломленным крестом, все безлико, недвижно и стыло, там мрак и покой. Кресты, монументы — они стоят уже почти четверть века. Для меня это — вся моя жизнь, а для заломленных крестов — лишь мгновенье их вечного существования на земле. Им безразлично: жара или снег, здесь ли мы или нет нас.
Но мы пришли тем не менее.
— Нам пора, — сказал президент Поль Батист, трогая меня за руку.
Толпа сгустилась, образовав широкую дугу перед белым крестом. Я оказался в центре этого полукруга рядом с Полем Батистом. Слева от могилы возникли трубач и два знаменосца. Полотнище партизанского знамени было старым и выцветшим, бахрома обтрепалась, эмблема поблекла. Другой знаменосец держал под углом трехцветное бельгийское знамя. Никто не распоряжался ими, все совершалось само собой. Каждый занял своё место и приготовился.
И нам никто не сказал ни слова. Я даже не заметил, как венок оказался перед нами, лишь почувствовал под рукой колкость еловой лапы.
Пронзительно запела труба. Президент посмотрел на меня отрешённым взглядом. Я понял его. Мы приподняли венок и пошли вперёд полушагом. И крылья дуги медленно двинулись за нами, смыкаясь вокруг могилы.
А труба все пела, надрывно и тонко. Десятки подошв шелестели по гравию, наполняя поляну тревожным шорохом. Я сжал шершавую крепь венка, еловые иглы кололи запястье, но я лишь крепче палку сжимал, словно боялся, что она выскользнет. Серые камни и белый крест маячили перед глазами расплывшимся пятном. Холодный комок подкатил к горлу, и я с усилием проглотил его.
Шуршащие крылья дуги замерли. Мы отделились от толпы, чтобы сделать ещё несколько шагов, оставшихся до креста. Венок тяжелел, иглы делались острее. Перед камнями мы, не сговариваясь, повернулись лицом к живым и опустили венок на землю. Президент нагнулся, поправил подставку. Труба наконец замолчала. Знаменосцы перешли и, приспустив полотнища, стали по обе стороны от нас. Поль Батист развернул жёлтый свиток, который каким-то образом оказался в его руках.
— Арман Колар, Бельжик! — выкрикнул он ломким голосом.
И голос слева от меня горестно ответил:
— Мор пур ля патри!
Я скосил глаза. Президенту отвечал Рамель, седой секретарь секции, стоящий под знаменем. Голос его звучал глухо и мощно.
— Милан Петрович, Югослави! — продолжал президент.
— Мор пур ля патри! — отозвался горестный голос.
Я понял, что означают эти слова, на сердце стало тяжко и тоскливо.
— Александр Шаров, Юньон Совьетик! — взывал президент, глядя в свиток тем же отрешённым взглядом.
— Мор пур ля патри, — глухо откликнулся голос, казалось, он исходит из земной глуби.
— Погиб за родину, — почти непроизвольно повторил я про себя.
Поль Батист чуть не сбился, выкликая следующее имя. Оказалось, я вслух произнёс, сам не заметил, но недостаточно громко, чтобы все услыхали. Поль Батист не взглянул на меня, не пошевельнулся, ничем не выдал, что услышал, но всё-таки сделал паузу, давая тем самым понять, что принимает меня.
— Роже Путц, Гран Дюше дё Люксембург!
— Мор пур ля патри!
— Погиб за родину! — выкрикнул я, набирая голос.
Теперь уже все услышали, даже глухой секретарь, но никто не сделал движения, просто строй безмолвно расступился на мгновенье и тут же вновь сомкнулся: я вступил. Ноги мои затекли на восьмом или девятом имени, руки одеревенели, в висках стучало, но я упрямо твердил, стоя в строю: «Погиб за родину, погиб за родину». А мне отвечало глухое эхо: «Мор пур ля патри», словно мы старались докричаться друг до друга на том немыслимом расстоянии, что разделяло нас и тех, которые лежали под заломленным крестом. И при каждом новом имени перед глазами вставала неясная тень, то ли со спины, то ли с груди, не разобрать. Тень пыталась повернуться ко мне, но лица не различить; нет на нём ни глаз, ни выражения. Тени скользили в размытом пятне, и при каждом выклике рядом с прежними возникали новые:
— Иозеф Бозан! Полонь!
— Николай Носенко! Юньон Совьетик!
— Мишель Реклю, Бельжик!
— Жюль Бертран, Бельжик!
— Погиб за родину! Мор пур ля патри!
Сто двадцать девять имён, много это или мало? Это бессчётно, и у строя размытых теней нет ни конца ни края. И лица живых размазаны туманом, в руках белеют платки, и старые боевые знамёна сиротски склонились к земле, в которой лежали те, к кому безответно взывали наши голоса.
— Погиб за родину! — обессиленно повторил я в последний раз и переставил затёкшие ноги.
Президент свернул скорбный свиток.
— Теперь мы должны сфотографироваться на память, — сказал он будничным, хоть и осевшим голосом.
В толпе возникло облегчённое движение, послышались робкие голоса, восклицания. Живые торопились к мёртвым камням. Президент стал рядом, взял мою руку. За плечом раздался возбуждённый голос:
— Это было прекрасно, Виктор Борисович, вы так хорошо смотрелись. А какие прелестные цветы! Спасибо вам, что вы пригласили меня сюда, я была вчера в комитете, мне все про вас рассказали. Все восхищены вашим благородным поступком. Тот поляк тоже поступил благородно, но вы оказались ещё более благородным.
— Полноте, Татьяна Ивановна, — остановил я её излияния. — Что такого я сделал?
На нас нацелились объективы. Возле трубача я увидел рыжеволосую женщину с большой чёрной камерой, которая фотографировала нас на собрании. Остальные были любители, даже Антуан захватил с собой аппарат.
Они нащёлкали нас со всех сторон. Рыжеволосая корреспондентка подошла ко мне.
— Она хочет задать тебе вопросы для её читателей, — сказал Иван.
— Согласен, — ответил я. — Только по-деловому.
— Она спрашивает, — начал Иван, волнуясь перед публикой, — как тебе нравятся русские партизаны в бельгийском резистансе?
— Простите, Виктор Борисович, — выступила Татьяна Ивановна, — ваш друг не совсем точно перевёл вопрос. Мадам Констант спрашивает, как вы оцениваете роль русских партизан в борьбе бельгийского Сопротивления?
— Так я о том и говорю, — возразил Иван, не обидевшись.
— Чудесно, Иван, становись рядом, — подбодрил я его. — В случае чего, будешь дублировать Татьяну Ивановну. — Я уловил в толпе, окружавшей нас, хмурое лицо мадам Любы, но это лишь придало мне уверенности. — Итак, я отвечаю. К сожалению, у меня нет под рукой точных официальных данных, поэтому буду говорить по памяти. Русские партизаны участвовали в борьбе против фашистов во всех странах Европы, где было освободительное движение. В Бельгии, если не ошибаюсь, русских партизан было порядка три тысячи человек. Я хоть и не воевал лично, понимаю: три тысячи — большая сила. И они же не одни тут были, бок о бок с ними дрались бельгийцы. Так что, я думаю, бельгийское Сопротивление внесло достойный вклад в дело разгрома фашизма.
Мадам Констант записала все, что я сказал, и спросила:
— Что вам удалось узнать о вашем отце?
— Я тут всего несколько дней, за это время много не узнаешь. Но я узнал главное: моего отца здесь помнят и любят. Мне уже много рассказывали о том, как отец здесь воевал, однако ещё никто не сказал мне, как он погиб. У меня лично на этот счёт есть две версии, но пока они не настолько определённы, чтобы можно было говорить о них для печати. Вместе с моими друзьями мы сейчас ищем людей, имевших отношение к особой диверсионной группе «Кабан». Пока могу назвать вам лишь одно имя: Альфред Меланже, он был командиром «кабанов». Если нам удастся найти Меланже, то мы узнаем многое.
— Что вы можете сказать… — начала было Татьяна Ивановна, но тут её остановил президент. Татьяна Ивановна смешалась, торопливо заговорила по-французски. В разговор вступил секретарь секции. Мадам Констант с жаром возражала им. Спор разгорался. Со всех сторон раздавались реплики. Многие улыбались.
— Иван, помоги! — потребовал я. — Вот теперь ты можешь вступить.
— Я тебе этого говорить не буду, — отвечал Иван с глупейшей ухмылкой. — Президент ей не велит говорить об этом.
— Это же неприлично, Иван, при прессе! Скандал может получиться.
— Сам узнаешь, — отрезал Иван, не меняя ухмылки.
— Они говорят только хорошее, — вставила Татьяна Ивановна, — потерпите немного, вам скажут.
— Так все же не годится, — пытался я повлиять на них. — А то получается, будто я ухожу от ответа.
Наконец, они пришли к соглашению и утихомирились, но, кажется, и я начал понимать, что они таят от меня. Что тут можно таить, да ещё при всём честном народе? Ладно, подождём, пока они сами раскроются.
— Мадам просит передать вам, что она всё же оставляет вопрос за собой. А сейчас она предлагает вам свою помощь, если вы пожелаете обратиться к архиву генерала Пирра. У неё есть знакомый человек, который связан с этим архивом. Возможно, там найдутся и материалы о группе «Кабан».
— Мерси, мадам. Это было бы прекрасно.
Толпа тем временем распалась на группы. Самые нетерпеливые спешили к машинам, чтобы ехать к монументу Неизвестного партизана, который был вторым пунктом нынешней церемонии. Мадам Люба пребывала возле Луи и Антуана. Про мадам Любу я тоже кое-что понял: она была в синем костюме. Значит, она и сообщила А.Скворцову про могилу, в которой замешана женщина. Только один у меня к ней вопрос: каким образом она про Жермен узнала?
Президент подвёл ко мне седую женщину в чёрном.
— Он хочет познакомить тебя с мадам, — снова вступил в работу Иван, — которая смотрит за этой могилой. Во время войны она знала русских партизан, они были хорошие люди, и она их любила.
— Разрешите, мадам, преподнести вам сувенир. Объясни, Иван, это наша звёздочка, а в середине портрет Ленина, когда он был ещё мальчиком.
— Она говорит, — переводил Иван, — что во время войны она тоже носила наш русский этуаль.
— Ах, Иван, Иван, — я покачал головой, — русскую звезду, хотел ты сказать.
Иван сокрушённо покачал головой:
— Правильно, Виктор. Ты меня поправляй, а то я свой язык совсем разучил, для газеты вопрос напутал. Помнишь, ты меня спросил, как я думаю? По-ихнему я думаю, совсем тут обельгиелся.
— Опять не угадал, Иван. Ты здесь офранцузился, а не обельгиелся, ты же не по-бельгийски говоришь и думаешь, по-французски.
— Нет, офранцуживаться я не желаю, — Иван помрачнел ещё больше.
Я подошёл к нему, хлопнул по плечу:
— Не горюй, Иван, ты мне, знаешь, сколько хорошего сделал! Я же без тебя как без рук, честно говорю.
Татьяна Ивановна заметила с улыбкой:
— По-французски он говорит вполне сносно.
Но Иван продолжал стоять как в воду опущенный. Я посмотрел на него внимательней.
— Взбодрись, Иван, ты же дедом нынче стал. Отметим вечером. Хоть ты и офранцузился, так ведь в Европе живёшь.
И тут его прорвало:
— Ну её в задницу, эту Европу. Как же я теперь в Россию поеду с малым ребёнком? Уж я решил все: продам дом, мастерскую и уеду к себе на родину. Моя мать под Смоленском проживает. А теперь моя Тереза не будет согласная.
— Так вот что тебя гложет? Чепуха, Иван, твою Терезу мы мигом уговорим. А внук — что? Да я вас в своём самолёте мигом домчу. Для грудных у нас специальные колыбельки имеются, Серж и не проснётся.
— Так ты советуешь? — несколько оживился Иван. — Не желаю я тут до конца офранцуживаться.
— Что за вопрос? Сегодня же вечером поедем к Мари с цветами. Надо же поздравить счастливую мать.
Президент окликнул нас. Мы попрощались с женщиной, следившей за этой могилой, и пошли к машинам. Я подхватил Татьяну Ивановну под руку.
— Садитесь к нам в машину, Татьяна Ивановна. Я вас с Луи познакомлю. Он замечательный человек, всё время хочет мне что-то сказать и не может.
ГЛАВА 13
Так вот что они скрывали все эти дни! Мне бы давно догадаться про это слово «декорасьон», о котором они всё время говорили, а я сидел как истукан и не мог сообразить, что сие значит.
Президент Поль Батист уже вытащил из портфеля плоскую зелёную коробочку, достал следом вторую, поменьше. И за грамотами полез! Роскошные у него были грамоты, в золоте и всяких завитушках. Вот уж действительно развели они игру с отцовскими наградами. Но что теперь скажешь: проиграл я им эту игру.
Поль Батист покосился на меня, перехватил мой взгляд и просительно улыбнулся: ничего, мол, не поделаешь, такая была у нас игра, мы вели её по всем правилам и, кажется, не проиграли. Но теперь мы не будем играть.
Я толкнул в бок Ивана:
— Какие там ордена? Выкладывай.
Иван скосил глаза в сторону президента:
— Ты получишь за отца хороший серебряный орден и лист чести. Этот орден сделан по имени ихнего короля, которого звали Леопольдом. У меня тоже есть такие декорации.
— Ты неправильно переводишь, Иван, — засмеялся я, оглядывая зал, где мы собрались. — «Декорасьон» — это значит награда, а ты переводишь буквально.
— Но ты меня понимаешь, — отозвался он.
— Я тебя понимаю, Иван.
Столы были расставлены в виде буквы «П», занимая большую часть просторного зала. Сквозь стеклянные стены видна автострада, убегающая к холмам, стоянка, забитая автомашинами. Люди с оживлением рассаживались за столом, поглядывая в нашу сторону. Антуан и Луи сидели против меня, между ними мадам Люба. Иван занимал место рядом с президентом. Официанты в белых пиджаках осматривали накрытые столы.
— Во время войны, — рассказывал Луи Дюваль, а мадам Люба переводила, — на этом перекрёстке тоже стоял ресторан, правда, тогда он не был таким большим и модным. Хозяин этого ресторана был честным патриотом. И вот однажды мы с твоим отцом возвращались из штаба. Мы ехали на велосипедах и сильно устали. Дело было утром, и мы рассчитывали, что бошей тут не будет. Мы поставили велосипеды у столба и вошли в зал. И что же ты думаешь? Конечно, боши сидели тут, шесть здоровенных бошей за большим столом. Уходить нам нельзя, боши могли бы остановить нас и обыскать, а мы имели при себе пистолеты. Мы сели в уголке. Хозяин знал, кто мы такие, и был сильно напуган. Мы думали, что все обойдётся, но боши смотрели на нас с подозрением. Теперь и мы разглядели их, это были гестаповцы. Они шептались между собой и поглядывали на нас. Что нам было делать? И тогда Борис налил полный стакан вина и пошёл прямо к ним. Там сидел офицер в пенсне, худой и важный, как гусь. Борис подошёл к нему, притворился пьяным и начал говорить на плохом немецком языке. Если бы он заговорил с ними по-французски, боши сразу поняли бы, что перед ними не бельгиец, но знать немецкий язык бельгийцу не обязательно. Борис все это рассчитал и он сказал им: «Господа офицеры, я хочу выпить вместе с вами за славу великой Германии». Офицер холодно посмотрел на него и ничего не ответил. Борис обиделся: «Неужели вы не хотите выпить с бельгийским патриотом? Или вам не нравится мой акцент? Да, я плохо говорю по-немецки, но я хороший патриот и хочу выпить с вами», — «Иди на своё место и пей», — рявкнул офицер. Но Борис уже разошёлся и стал наступать на гестаповца: «Ага, значит, ты не хочешь выпить с патриотом? Или у тебя нет денег? Я работаю в карьере, и великая Германия так хорошо мне платит за это, что я могу угостить немецких офицеров вином». Они на него обозлились. Я сидел ни живой ни мёртвый, сейчас у него вывалится пистолет из кармана, тогда мы погибнем. Но Борис не растерялся. Он сказал: «Господа офицеры, я поднимаю этот бокал за великого фюрера. Зиг хайль!» Он повернулся к портрету фюрера, который висел на стене, поднял стакан и выпил его.
Что же было дальше, как ты думаешь? Боши вскочили и выпили своё вино, правда, чокаться с Борисом не стали, но тот, по-моему, не жалел об этом. Тогда Борис сказал им: «Спасибо, господа, теперь я могу спокойно уйти отсюда». Мы сели на велосипеды и уехали. Потом в отряде я передразнивал Бориса, как он играл перед бошами, но тогда в этом зале мне было не до смеха. А Борис мне ответил: «Я бы застрелил того гусака, только и всего». Вот какой отчаянный был у тебя отец, он никогда никого не боялся.
Президент де Ла Гранж постучал ножом по бокалу. Говор над столом затихал. Поль Батист поднялся и оглядел зал.
— Медам и мсье, — начал он приподнято и взволнованно. Все взгляды обращены на него. — Сегодня мы собрались в этом зале по весьма волнующему случаю. — После каждой фразы президент делал торжественную паузу и полуоборачивался к Ивану. Шульга переводил. И снова вступал президент. — Мы с вами уже посетили сегодня три могилы, восславляя отдавших свои жизни, но наш путь ещё не окончен, и теперь мы пришли сюда, чтобы приветствовать живых. Слава и доблесть отцов переходят к сыновьям, от сыновей — к внукам. В нашей с вами воле сделать так, чтобы имена тех, кто погиб за наши идеалы, дошли до будущих поколений, и мы должны исполнить свой долг перед грядущим.
Красиво он говорил. Я уже понял, к чему он клонит. Верно, и в Бельгии есть такая награда, вроде нашего ордена Отечественной войны, которая является фамильной реликвией и передаётся из поколения в поколение.
Президент сделал паузу, протянул руку ко мне. Я встал. Президент продолжал. До чего же интересные вещи он говорил:
— Борис Маслов погиб и награждён орденом посмертно. Но теперь к нам приехал его сын Виктор Маслов. По поручению совета я прочитаю вам грамоту, о которой мы долгое время ничего не знали. Мы восстанавливаем справедливость спустя десятилетия. Эта грамота была обнаружена в архивах генерала Пирра, — он прочистил горло, и тон его сделался ещё более торжественным. — Административный совет Армии Зет имеет честь сообщить мсье Борису Маслову, что благодарственный бельгийского королевства орден Леопольда второго класса отдаётся ему за боевые услуги, оказанные братству Армии Зет, убежище Виля, зона четыре, сектор пять. Подписано генералом Пирром августа месяца пятого дня одна тысяча девятьсот сорок четвёртого года, город Брюссель.
Прижавшись друг к другу, они стояли на перроне. Состав был уже подан, за стрелками протяжно пели гудки. И время оставалось лишь для главных слов.
— Береги себя, — сказала она.
Он слегка отодвинулся от неё, глянул в её влажные глаза.
— Я тебя беречь буду, — ответил он. — Поэтому знай, я героем к тебе вернусь. С Золотой Звездой.
— Умоляю тебя, не надо, — испугалась она и заплакала. — Не нужна мне твоя звезда, ты мне нужен! Только ты один!
— Вот увидишь, буду героем, — твердил он. — Разве не порадуешься тогда?
— Не надо, не надо, — слёзно молила она, протягивая к нему руки, потому что вагон в этот миг двинулся, и та же неумолимая сила потащила его за собой от неё. Он отступал от неё спиной к площадке, чтобы последний раз увидеть и запомнить её лицо, а она тянула руки и уже не доставала, потому что вагон уходил беспощадно и навсегда.
— Буду, буду, — как заклинание отвечал он.
— Не надо, не надо, — взывала она глазами, руками, голосом, слезами и криком, потому что он уходил все дальше и дальше, уже надолго, уже навечно, уже лица не различить под гулкой крышей в сумраке перрона, уже не лицо, а белое расплывшееся пятно, уже ни пятна, ни рук, ни гимнастёрки, ни даже красной ускользающей точки последнего тамбура — уже ничего. И лишь колеса бессмысленно и безжалостно стучали в висках: буду, буду…
Так расстались они, отец и мать, в том далёком сорок первом июля месяца двадцать пятого дня, но ещё не скоро узнал я о том, как они расстались. И не сразу я понял, что тут к чему, потом подрос и начал разбираться. И горько мне было думать: грозился стать героем и погиб ни за грош. Срезался в первой же стычке, может быть, не успев даже выпустить ни одной пули во врага. И пропал. Верно, потому и пропал: слишком сгорал от нетерпения сразиться, поторопился, не рассчитал хладнокровно и мудро, ринулся неосмотрительно, сгоряча, прямо в лоб, без оглядки. И срезался, пропал нелепо и безвестно, как пропадает неудачник.
Долгие годы горевал я от мысли об отце-неудачнике, пока не услышал в трубке тоскующий вскрик матери.
Многое, если не все, переменила та минута. Нет, отец не растерялся в своём первом бою, его срезал более опытный враг, он был сбит, но не пропал: прыжок и рана, лагерь и голод, побег и свобода — через все прошёл он и снова стал в строй. И было много схваток, он отомстил им за первое своё поражение, за свою боль и бессилие, за унижение и побои — он сполна расквитался с ними. Теперь я точно знал это, потому что в руке моей зажата плоская коробочка, а в коробочке сверкает эмаль, и аплодисменты перекатываются по залу.
Президент раскрыл мне свои объятия, и я почувствовал на щеке теплоту его влажных губ. Все встали, громыхая стульями, и хлопали стоя.
— Виват! — истошно завопил Луи.
И они что было мочи подхватили: виват! Кричал безрукий ветеран, кричала Татьяна Ивановна, кричал седой секретарь, придерживая рукой слуховой аппарат, а пуще всех Иван Шульга. Даже сам президент два раза прихлопнул в ладоши и молвил: «Виват, виват!»
Вот так это случилось в воскресенье августа месяца, как и было зафиксировано в программе, составленной самим президентом. Не только отцовский орден — я сам получил медаль и к ней именную грамоту с присвоением мне почётного звания партизана Армии Зет. Президент собственноручно приколол медаль с изображением льва в опрокинутом треугольнике к моему кителю, заявив при этом, что отныне самым юным партизаном Армии Зет будет молодой следопыт Виктор Маслов.
Снова они кричали и хлопали.
Пришлось и мне выступить.
— Я слишком взволнован в данную минуту, — сказал я, — но, надеюсь, вы поймёте мои чувства. Я взволнован и горд той честью, которую оказали моему отцу и благодаря ему всей нашей семье. И вот что я хотел бы вам сказать: Бельгию и Россию разделяет много стран, пограничных кордонов. Когда была война, мой отец добирался до вашей страны много месяцев, он прорвался сюда сквозь рвы и колючую проволоку, сквозь огонь и заставы. Бельгия дала ему свободу, а вместе со свободой он получил оружие, чтобы бить врагов. Сейчас на земле мир, и мне понадобилось всего три часа, чтобы прилететь к вам, хотя расстояние между нашими странами не сделалось короче. Сильнее стало наше стремление узнать друг друга. Теперь я узнал вас, дорогие друзья, отныне между нами не существует преград и границ, наши сердца будут соединяться мгновенно, как только мы подумаем друг о друге, хоть, верно, есть такие люди, которые хотели бы разорвать дружбу, возникшую между нами. Но наша дружба сильнее их!
Президент предложил первый тост — за погибших. Его приняли при молчании. Но пошли другие тосты — за живых, за дружбу, за президента, началась застольная сумятица. Ко мне подходили знакомые и незнакомые, поздравляли, приглашали в гости, оставляя визитные карточки.
Президент подвинулся ко мне.
— Вы хорошо выступали, мой юный друг, — начал он. — Наша программа почти выполнена. Теперь мы должны составить дальнейшую программу вашего визита. Сколько вы ещё собираетесь пробыть у нас?
— Сам не знаю, — засмеялся я, вытаскивая пачку визитных карточек, которые мне надавали. — Чтобы ответить на все приглашения, мне три месяца понадобится. И Луи Дюваль с Антуаном меня не отпускают.
— У меня ты ещё не гостил, — напомнил Иван Шульга. — Моя Тереза имеет на тебя обиду.
— Ко мне поступили просьбы от ветеранов, чтобы вы выступили в Эвае и Спа, — продолжал Поль Батист, беря в руки блокнот. — Кроме того, мы с вами можем поехать в архив генерала Пирра.
— Да, конечно, — подхватил я, — ведь там и был найден указ о награждении отца. Интересно, кто его обнаружил?
— Этот указ нашёл в прошлом году секретарь нашей секции мсье Рамель. И он напомнил о нём накануне вашего приезда. Итак, мы запишем: завтра, в понедельник: архив генерала Пирра. Вторник вы проводите у мсье Шульги, затем мы выступаем в организациях ветеранов в Эвае и Спа. На будущей неделе в Спа начнётся театральный фестиваль, мы с вами можем посетить спектакли. У вас есть возражения?
Не хочет отпускать меня от себя мой великолепный президент. Я покорился. Снова я оказался с программой: театральные, музейные и прочие удовольствия. Президент улыбнулся, вручив её мне. Я улыбнулся президенту. И он отпустил меня.
Многие уже переместились к бару, потому что за столом подавали только сухое вино, а ветеранам требовалось покрепче. Мне хотелось общаться, быть добрым и щедрым. Я прихватил Ивана, мы двинулись «в вояж» с ответными визитами.
Нас тут же окликнули.
— Эти люди хотят познакомиться с тобой, — начал Иван. — Они очень большие герои ещё с первой войны. Их зовут мадам и мсье Барло.
Передо мной стоял тучный старикан в форме капрала, рядом жена, такая же круглая и тоже в форме, но без погон. И орденов у них на кителях было видимо-невидимо, у капрала они доходили аж до самого живота, на маршале столько орденов не увидишь.
Капрал смотрел на меня с любовью, и улыбка его была как сама доброта.
— Он хочет рассказать тебе свою жизнь, — объявил Иван. — Он говорит, что воевал пятьдесят пять лет, потому что ихние генералы сделали из него мясо для орудий.
— Пушечное мясо, — поправил я.
— Да, мясо для пушек, — согласился Иван. — Сначала он был мальчиком-барабанщиком, потом стал ефрейтором, как Гитлер, и сорок лет был капралом. Он воевал везде, где ему приказывали. Он очень старался воевать, он даже в Конго был направлен. Но яростнее всех он вёл войну против бошей. Он хочет доложить тебе, что он сделал на войне. Он сжёг шесть танков, уничтожил восемь ихних пушек, сбил три самолёта, захватил в плен десять языков, взорвал четыре моста и два поезда, он убил сто сорок человек. Он всегда жалел этих несчастных, которых убивал, но так ему приказывали, и за это он получал свои награды. И мадам его воевала рядом с ним, она выносила раненых с военного поля, и ей тоже давали ордена. А когда боев не было, мадам стирала солдатские гимнастёрки, потому что солдаты должны умирать чистыми. Он доволен своей жизнью, ему дали хорошую пенсию за то, что он был мясом для пушек, но сейчас он стал старым, и он жалеет, что убил так много людей. Он не знает, зачем он их убивал, потому что в мире ничего не изменилось. Он хочет теперь, чтобы все люди жили без войны и перестали убивать друг друга. Он предлагает нам выпить за это.
— Ну и старикан, — отозвался я. — Сколько же у него орденов? Он знает?
— Их у него двадцать восемь из разных стран, ему стало тяжело их носить. А мадам имеет двадцать два ордена. У них есть такая медаль, которую тебе сегодня дали.
— А у меня, кроме этой медали, ничего нет.
— Он говорит, что ты молодой и сильный, и ты ещё заработаешь свои ордена. Но будет лучше, если тебе их не придётся зарабатывать.
Татьяна Ивановна подошла к стойке, ведя за собой высокую женщину, на лице которой блуждала рассеянная улыбка.
— Вы так прекрасно выступили, Виктор Борисович, — напевно сказала она, — и медаль вам так к лицу. Простите, что отвлекаю вас, но эта женщина сказала мне, что знала вашего отца, и я подумала, что вам будет интересно познакомиться с нею.
— Само собой, — я соскочил с табурета. — Прошу вас.
— Как похож, как похож, ну прямо вылитый отец, — женщина стояла передо мной, молитвенно сложив руки, и качала головой. Мне сделалось неловко.
— Мадам говорит, что ей уже восемьдесят два года, — переводила Татьяна Ивановна, — но она все помнит так, словно это было вчера. Она прятала у себя на чердаке четырех лётчиков, и один из них был вашим отцом, тогда он был такой же молодой и красивый, как вы, — голова у мадам всё время качалась и была не в силах остановиться.
— Так похож, так похож, — твердила мадам со слезами на глазах.
— Мадам счастлива, что увидела вас сегодня. Но она будет ещё счастливее, если вы приедете к ней в гости. Мадам специально купит продукты и сама приготовит хороший обед. Она расскажет вам об отце. — Татьяна Ивановна сделала большие глаза, но всё же кончила перевод. — Мадам говорит, что и ваш отец не забывает её, каждый год он присылает ей поздравительные открытки.
Я тоже глаза раскрыл. Много мне от отце рассказывали, но такого я ещё не слыхал.
— Мадам знает, что мы сейчас поедем на могилу моего отца? Узнайте у неё.
— Ах вот оно что, — с облегчением вырвалось у Татьяны Ивановны. — Оказывается, этого лётчика зовут Бобом, он американец. Очевидно, она перепутала. Я скажу ей, что вашего звали Борисом и он был русским лётчиком.
— А какой смысл? — ответил я. — Она только расстроится да и не поверит.
— Да, да, Боб, молодой красивый Боб, — качала головой мадам-82, благоговейно прижимая руки к груди. — У меня сегодня настоящий праздник, что я познакомилась с вами.
— Вот видите, — ответил я. — Пусть она останется в своём прекрасном заблуждении. Мерси, мадам, мы непременно нанесём вам визит.
Она ушла счастливая, с высоко поднятой головой, которая всё время качалась и никак не могла остановиться.
Конечно, твердил я, убеждая себя, конечно, его не было. И быть не могло. Никакого предателя там не было. Хотел бы я знать, как бы отец допустил, чтобы его предали. Не было предателя — и все тут. Вокруг меня друзья: Антуан машет — зовёт к столу, Луи подошёл, слушает и улыбается, Иван — мой верный друг и помощник. И этот Анджей — замечательный парень…
«Что такого я сделал?» — сказал я Татьяне Ивановне. А вот что сделал: нехорошо о ближнем подумал. Когда на собрании начали обсуждать, кто сколько денег даст на венок, я поднялся и объявил: «Тысячу франков». Мне захлопали. Президент сказал, что Армия Зет выделяет на венки пятьсот франков и будет платить за автобус. Кто давал сто, кто пятьдесят франков, но тут выскочил на сцену этот парень и крикнул, что он поляк и живёт сейчас в Намюре, но партизанил он здесь, в Арденнах, и поэтому даёт на венок восемьсот франков, однако с одним условием, чтобы в газетах не называлось его имя. Такого я вынести не мог, а поляка тут же засёк. Почему он имя своё не скажет, или совесть у него не чиста, и он грехи замолить хочет своими франками?
А поляк подошёл ко мне и протянул карточку. Он скрывает своё имя лишь потому, что его жена может прочесть и скажет, что он выбросил на ветер восемьсот франков, и тогда ему попадёт по первое число. Все засмеялись, и поляку захлопали.
— Замнём, Иван, — сказал я, — скажи Анджею, что он мировой парень. Вы тут все мировые ребята.
— Ты тоже ему сильно нравишься, — сказал Иван. — Он очень жалеет, что не знал твоего отца, который был настоящим героем.
Я почувствовал на себе чей-то настойчивый взгляд. Женщина в чёрном стояла у стеклянной двери и пытливо глядела на меня. Она уже порядочно там стояла и искала глазами по залу. И вся была в чёрном: костюм, шляпка, чулки. А в руках у неё газета вчерашняя и сложена таким образом, что моя фотография выглядывает на сгибе.
Женщина скосила глаза на газету, потом снова на меня и решительно двинулась к столу.
— Пардон, мсье, — произнесла она, подходя, — вы Виктор Маслов?
— Совершенно верно, мадам. Бонжур, мадам.
— Я хотела бы познакомиться с вами, — она казалась сильно взволнованной и пыталась говорить нарочито официально, чтобы сдержать себя. — Если у вас есть свободная минута…
— Она хочет быть знакомой с тобой, — перевёл Иван.
— Силь ву пле, мадам, я к вашим услугам. Сейчас я попрошу Татьяну Ивановну, и она переведёт все, что вы захотите сказать, мне очень приятно, мадам. Может, мы присядем за этот столик?
Женщина в чёрном заметила, что я бросил взгляд на газету, которую она продолжала держать в руках, поспешно сунула газету в сумку. Сумка у неё тоже была чёрная.
Она положила сумку на стол и уставилась на меня таким же настойчиво-пронзительным взглядом, каким смотрела от дверей. Глаза её были глубоки и тоскливы. Сухое длинное лицо оставалось неподвижным. Когда-то она была красивой, но, видно, заботы, заботы, слишком много забот оставили след на этом лице.
— Иван, буть другом, принеси для мадам оранжад, вы не возражаете? — покончив с делами, я повернулся к ней. Татьяна Ивановна присела между нами. — Итак, я слушаю, мадам, простите, не знаю, как вас зовут.
— Моё имя вам ничего не скажет, — отвечала она, судорожно теребя сумку, — но ваше мне известно давно. Вы очень молоды и хорошо выглядите. У вас сегодня радостный день. — Она указала глазами на медаль.
— Я не отказываюсь, мадам, нынче действительно приятный для меня день. Мне присвоили звание почётного партизана, если вы слышали…
— Я не была на ваших церемониях, — продолжала женщина, и в глазах её сверкнул огонёк, — но слышала, что они проходят очень торжественно: знамёна, цветы, речи.
— Можете поехать с нами, — предложил я, не переставая наблюдать за ней. Что-то неуловимое в её взгляде невольно настораживало меня, и важно было найти правильную линию, чтобы не сбить её. — Мы скоро поедем на могилу моего отца, он погиб в Бельгии.
Иван принёс бутылку оранжада и сел за столик четвёртым.
— Я не поеду с вами, — она явно старалась сдерживать себя, и у неё неплохо получалось. — Скажите, мсье, сколько вам лет? Наверное, вы так же молоды, как ваш отец, когда он находился здесь?
— Увы, мадам, я уже на два года старше его.
— Нет, я не поеду с вами на могилу, — упрямо повторила она. — Мой муж был таким же молодым, он мог бы ещё долго жить, но вчера я была на его могиле, там не устраивают шумных церемоний…
— Она в трауре, — изрёк Иван, потягивая мартини.
— Простите, мадам, — сказал я, продолжая выжидательную линию. — Я мог бы сразу догадаться, приношу вам своё соболезнование, мадам. Что случилось с вашим мужем, если не секрет?
Надломленная улыбка перекосила её лицо, но она всё же сумела взять себя в руки.
— Его убил ваш отец, Борис Маслов, — решительно произнесла она, не сводя с меня глаз.
У Ивана тут же челюсть отвисла, и я сначала увидел эту отвисшую челюсть и испуг в глазах Татьяны Ивановны, а уж потом смысл перевода дошёл до моего сознания. Так вот что её мучило, спокойно, не будем горячку пороть, не так все это просто, как кажется. И она не случайно сюда заявилась.
— Я дальше не стану переводить, — сказала Татьяна Ивановна, вытирая платком взмокшее лицо.
— Отчего же? — возразил я с усмешкой. — Пусть мадам скажет все, что хочет сказать. Ведь мы находимся в свободной стране, не так ли?
— Я заставлю её замолчать, — опомнился Иван.
— Молчи, Иван, приказываю тебе. Сам сумею ответить, — я уже полностью овладел собой, пытаясь сообразить, что может значить этот визит. — Так что же она сказала? Что-нибудь об отце? Говорите, не стесняйтесь.
Женщина повысила голос, пальцы, сжимающие сумку, побелели. Наконец-то в её глазах сверкнула давно сдерживаемая ненависть. Как же глубоко эта ненависть сидела, если так долго прорывалась наружу.
— Она говорит, что ваш отец убийца, — выдавила из себя Татьяна Ивановна. — Больше я не могу вам сказать.
— Спокойно, Татьяна Ивановна, сейчас разберёмся, кто тут прав, а кто виноват. Не думаю, чтобы отец просто так вошёл в дом и убил человека. Это, наверное, ваш муж первым напал на него? Что же вы молчите, я жду. Тогда ведь война была, Татьяна Ивановна, что же вы робеете? — Но Татьяна Ивановна уже вышла из строя, и я повернулся к женщине в упор к её ненавидящим глазам. — Война, пиф-пиф. Или ваш муж — моего отца, или отец — вашего мужа. Я, между прочим, тоже сирота, а мать моя — вдова, да скажите же ей, Татьяна Ивановна. Теперь понятно, почему она своё имя не захотела назвать.
— Как это ужасно, — тупо повторила Татьяна Ивановна, заламывая руки и прижимая ладони к щекам. — Она говорит то же самое.
Женщина встала, расстегнула сумку. Я тоже поднялся, следя за её руками. Так мы стояли лицом друг к другу.
— Убийцы, вы убийцы! — в бессильной злобе твердила она, — вот вам, вот… — она выхватила газету, скомкала её.
Луи уже подходил к столу. За ним спешили Антуан и президент. Я бросился навстречу.
— Иван, быстро спроси у Луи, знает ли он её? — Я тут же повернулся, услышав шорох, но женщины у стола уже не было. Чёрный костюм мелькнул в крутящейся двери, на столе валялась разорванная газета. — Иван, живо!
Иван грузно кинулся к двери, Антуан юркнул следом.
Мы подошли с Луи к столу. Татьяна Ивановна сидела в прежней позе, прижав руки к щекам. Я разгладил ладонью газету, фотография была разорвана. В зале, кажется, никто не заметил, что случилось в нашем закутке.
— Татьяна Ивановна, полноте, — я оторвал от лица её руку, — ничего же не случилось, успокойтесь, прошу вас.
— Простите меня, это уже прошло, — она подняла голову, виновато улыбнулась. — Меня потрясло то, что она говорила то же самое.
— Что такое? Что тут произошло? — вопрошал подоспевший президент.
— Небольшая демонстрация протеста. Как говорится, свобода собраний.
Татьяна Ивановна, сбиваясь, объяснила президенту. Луи было кинулся к дверям, но снова вернулся к нам. Лицо Поля Батиста оставалось непроницаемым. Потом он подошёл ко мне.
— Господин президент приносит вам свои извинения за случившийся инцидент, но они могли арендовать только половину зала, и хозяин оставил двери открытыми, иначе сюда не проникли бы посторонние люди. Господин президент весьма сожалеет, сейчас он обратится к хозяину.
— Нашли, о чём сожалеть, — я даже рукой махнул. — Это только к лучшему. Кое-что начинает проясняться. Спросите у Луи, Татьяна Ивановна, он успел разглядеть эту женщину в чёрном костюме?
— Нет, он никогда не видел её, он уверен в этом, — ответила Татьяна Ивановна.
— Тогда, выходит, это работа «кабанов», — заключил я. — Кажется, на сей раз демонстрация закончилась моим поражением. Лозунги нам больше не понадобятся. Долго придётся искать эту мадам.
Подоспевший Иван подтвердил мои предположения: женщина села в машину и уехала в сторону Льежа.
— Надо было за ней пуститься, — подсказал я с опозданием.
— Я хотел, — оправдывался Иван. — Я шёл за ней, а моя машина стояла в другом конце, я бы все равно не успел. Она уже уехала.
Антуан положил передо мной листок, на котором было написано: 9325Х.
— Браво, Антуан! Мне бы самому ни за что не догадаться. Теперь-то мы её найдём.
— Она живёт далеко. Этот номер из Западной Фландрии, — пояснил тот, — у них такие буквы в индексе.
— Хорошо, что не из Западной Германии, — засмеялся я, — вот тогда ты задал бы мне загадку.
— В машине сидел мужчина, — продолжал Антуан. — Он ждал её и курил сигару. Машина была синяя, марка «Феррари».
— Тоже неплохо. Сигара приобщается к делу в качестве главного вещественного доказательства. Но ты не сказал мне сорт сигары. Без этого я не смогу работать.
Антуан засмеялся.
— Я тоже видел, как он курил сигару, — подтвердил Иван. — И вообще, у него был вид капиталиста.
— Спасибо, Иван. Если он ещё и капиталист, то мы его быстро найдём. — Я повернулся к Татьяне Ивановне. — Так что же всё-таки она говорила? Что такое то же самое?
— Она говорила, что её ребёнок рос сиротой без отцовской ласки, и она осталась вдовой на всю жизнь.
— Это же лирика, Татьяна Ивановна. Бедная вдовушка укатила на шикарном лимузине к своей бедной сиротке — какая трогательная картина. А тогда, между прочим, война была. А на войне, между прочим, пули летают.
Я решительно направился к стойке, за которой президент вёл переговоры с хозяином. От стойки отделился коренастый мужчина со смуглым лицом. Он протянул мне руку.
— Он все слышал, — перевёл Иван, — как ты с ихней мадам разговаривал, и после этого он имеет честь пожать твою партизанскую руку.
— Разрешите представиться, — сказал смуглолицый, голос его был сухим и решительным. — Матье Ру.
— Боже мой, — вздохнула за моей спиной Татьяна Ивановна, — неужели эта ужасная война никогда не кончится?
ГЛАВА 14
Нет, не таким представлял я его. И встреча наша рисовалась по-иному, думалось: сам его найду, сам начну наш мужской разговор. Я и первую фразу придумал. «Здравствуйте, Матье Ру, — сказал бы я. — Вот мы и встретились, мсье, похоже, вы меня не ждали?»
И снова все перевернулось. Он и рта не раскрыл, а я уже знал, что он скажет: на мосту не был. Ничего нового он мне не скажет.
Он смотрел и улыбался, весёлые морщинки собрались в уголках глаз.
Я изобразил ответную улыбку.
Он продолжал улыбаться, взбираясь на табурет. Я расположился рядом. Коль он сам явился, пусть сам и доложит, с чем пришёл.
Президент Поль Батист завершил переговоры с хозяином и присоединился к нам.
— Мсье де Ла Гранж, — произнёс я, — весьма сожалею, но сегодня вечером мы не поедем к Матье Ру.
Поль Батист удивился.
— Матье Ру перед вами, — торжественно заключил я.
Президент удивился ещё более, они быстро заговорили.
— Президент говорит, что он ему кажется знакомым, — по ходу переводил Иван, — они могли встречаться в убежище Виля, но тот мсье не узнает нашего президента. Он не знал, что мы его искали. Он прочитал эту газету и сам решил, что ты будешь иметь интерес узнать про Альфреда Меланже, командира группы «Кабан». Поэтому он приехал на нашу церемонию. Он может рассказать тебе и про отца, один раз он видел его в лесной хижине.
— Понятно, — ответил я, хотя понятно было не очень. — Выходит, сам он в группе не состоял?
— Об этом он ещё не рассказал, — ответил Иван.
— Так спроси же у него.
— Ты мешаешь мне слушать, — ненадолго обиделся Иван. — А то у меня выходит в оба уха. Он говорит, что ему приятно с тобой познакомиться. Ты правильно поступил с этой женщиной. Он сообщает, что мы все можем рассчитывать на его правду.
Не скоро, видно, доберёмся до дела с такой общительностью. Я решил набраться терпения. У меня больше нет бесполезных вопросов.
Матье Ру поставил рюмку и сказал своё слово. Лица у всех вытянулись. Я смотрел в этот момент на Антуана и увидел, как у того глаза сузились, и желваки задвигались. Сюзанна вскрикнула и принялась растерянно поправлять волосы. Луи негодующе перебил Матье Ру, быстро и как-то растерянно заговорил Поль Батист, потом Антуан. А у Ивана снова челюсть отвалилась.
— Не томи душу, Иван. Про «кабанов», да?
— Он сказал, что «кабанов» предали, — молвил Иван упавшим голосом.
— Что я тебе говорил! — воскликнул я и осёкся. А почему, собственно, должен я знать обо всём этом? Зачем, собственно, стремился к этому знанию? На что мне оно? Но задумал — вот и дождался. Но что же я хотел услышать? Что должен был услышать? У меня аж под ложечкой засосало, когда я на секунду представил себе, что было бы, не будь сказаны эти слова. Но слово сказано. Не стало амбразуры, закрываемой жарким телом, не стало штурвала, выворачивающего на последний таран, не стало знамени, подхваченного отчаянной рукой, — все убил один предатель, только он один и убил всех, только он и остался единственной реальностью в этом неверном мире. Не будет мне теперь покоя. Не нужен мне покой теперь.
Вот почему я должен был услышать это слово и рвался к нему сквозь немоту могильной плиты. Я и сам сейчас другой, давно готов к такому слову, с той самой минуты, как мадам Люба молвила.
Теперь они говорили все разом, не до меня им стало, они свои заботы выясняли, они ещё надеялись, что слово сказано не до конца и неточно. Но я-то знал, что надежды нет. Ру терпеливо отвечал на вопросы, то и дело поглядывая на меня. А я другим сделался, холодным и пустым.
Я обернулся и увидел Татьяну Ивановну, которая подошла к нам, привлечённая громкими голосами.
— Вы слышали, Татьяна Ивановна? — обратился я к ней как к последней своей опоре. — Всё-таки он был там, этот Иуда. Недаром говорят: если бы Иуды не было, его следовало бы выдумать. Не прожить нам без Иуды на этом свете. Имени его он, конечно, не знает? О чём они там шумят?
— По-моему, он в самом деле не знает того человека, — ответила она, поглаживая мою руку и глядя на меня влажными глазами. — Он объясняет вашим друзьям, каким образом он узнал об этом.
— Конечно, друзья у меня ещё есть, — я усмехнулся.
Антуан подошёл ко мне, больно сжал плечо.
— Мы его найдём, Виктор, — сказал он. Я увидел его тоскливые глаза и подумал, что и у меня, верно, такая же тоска в глазах. Не хотел бы я видеть тоску в глазах друга.
— Найдём, Антуан, — как эхо отозвался я. Как быстро мы можем установить по номеру машины имя владельца?
— Это несложно, но сначала мы поедем к Альфреду Меланже. Ру знает его адрес.
— Не слишком ли много он знает, Антуан? — спросил я. — Что-то затянулся его монолог.
— Ты должен мне верить, Виктор.
Мы отошли с Антуаном от стойки и сели за тот же столик, где только что сидела женщина в чёрном. Татьяна Ивановна была нашей «связной».
Ру подошёл к нам. Я пригласил его сесть.
— Когда я ехал сюда, то ещё не знал, что скажу вам об этом, — начал он. — Но я увидел вас и понял, что должен сказать все. Теперь вы знаете это.
— Увы, мсье Ру, я ещё ничего не знаю.
— Я расскажу все, что мне известно об этой печальной истории.
Иван и Луи присоединились к нам. Поль Батист отошёл, сославшись на дела. Луи сердито отослал женщин, с грохотом подвинул стул. Он никак не мог успокоиться и то и дело наскакивал на Ру с вопросами и возражениями. Иван тоже встревал в разговор. Татьяна Ивановна деловито и терпеливо переводила все, что они говорили, выкрикивали, в чём сомневались. В конце концов из путаных вопросов, воспоминаний, перебивов такая стала проясняться картина.
Матье Ру в тридцать восьмом году окончил медицинский факультет и работал хирургом в Льеже. Он уже тогда отдалённо был знаком с Альфредом Меланже, который учился на том же факультете, но был на два курса старше. Когда началась война, они потеряли друг друга. Ру пошёл в армию, в битве на Лисе был тяжело ранен в бедро, несколько месяцев провалялся в госпитале, после чего вернулся в Льеж и вступил в ряды Сопротивления. Ру воевал как врач. По первому зову он мчался на партизанские стоянки, оказывал помощь, прятал раненых партизан на своей льежской квартире. Гестапо установило за ним наблюдение. Тогда он оставил Льеж и стал партизанским врачом в убежище Виля. В марте сорок четвёртого года его впервые отвели в хижину «кабанов». Альфред Меланже был ранен в ногу во время дерзкого налёта на немецкую нефтебазу, о котором мы уже слышали от Жермен. Борис Маслов спас тогда Альфреда и тащил его на себе до самой хижины. Ру сделал операцию, извлёк осколок. Он жалеет, что слишком мало поговорил в тот раз с партизанами. Через полторы недели он снова побывал в хижине, чтобы проверить рану Альфреда, но почти все партизаны были на задании, и опять им не удалось поговорить как следует. После этого Ру не видел Альфреда до самого конца войны и даже считал, как и все в штабе, что Альфред погиб со своей группой. И вот уже в сорок пятом году в начале апреля к его дому подъехала машина. Это было вечером. Ру кончил приём больных и поднялся к себе наверх. Человек, который был за рулём, давал сигналы. Выглянув в окно, Ру услышал, что его зовут. Он поспешно спустился вниз и узнал раненого Альфреда. Пуля пробила руку у самого плеча, кабина была залита кровью. Альфред увидел Ру и тут же потерял сознание. С помощью дежурной сиделки и жены Ру перенёс Альфреда в перевязочную и извлёк пулю. Меланже потерял много крови и долго не приходил в сознание.
Что же случилось? Об этом рассказал сам Альфред на другой день, когда пришёл в себя. Но рассказывал он странно, отрывочно и явно не желал говорить всего. Он утверждал, что проехал семьдесят километров после того, как его ранили, и это само по себе было удивительно: как он мог вести машину с такой серьёзной раной.
Кто его ранил? На этот вопрос последовал столь же удивительный ответ. Альфред знает, кто стрелял в него, но не может назвать имени этого человека. Это был предатель, который предал их во время войны, из-за него погибли девять человек, и Альфред дал слово, что расправится с ним сам. Он тоже стрелял в предателя и тоже ранил, может, даже убил, Альфред просил Матье посмотреть в газетах, нет ли сообщений о разбитой машине под Намюром. Больше он ничего не сказал.
Альфред провёл в доме Ру четыре дня, а на пятый заявил, что уезжает, хотя был ещё слаб. Как ни уговаривал его Ру, Альфред стоял на своём: он должен быть дома, за ним будет ухаживать сестра. Ру повёз его в Марш. По дороге он пытался последний раз повлиять на Альфреда: если предатель известен, надо объявить его имя властям и отдать под суд. Однако Альфред был непреклонен: он должен сам отомстить за гибель друзей. Предатель слишком хитро сделал дело, против него почти нет улик, власти в лучшем случае посадят его в тюрьму, а этого мало, его нужно убить, и только Альфред может совершить справедливый суд. В этом он видит свой долг перед друзьями.
— Сколько я ни убеждал его, что нужно действовать законным путём, — закончил рассказ Матье, — Альфред не согласился со мной. И вообще, он произвёл на меня тогда странное впечатление. Всё время, пока мы ехали в Марш, он не выпускал из рук пистолета, будто в любую минуту ждал нападения. И твердил, как заведённый: «Я его убью, я его убью. Поэтому никто не должен знать его имени. Это наша история, и других она не касается, я убью его сам».
Я отвёз его домой, и мы расстались. Альфред взял с меня слово, что я никому не расскажу ни о нашей встрече, ни о наших разговорах. Больше я его не видел. Через год я уехал по выгодному контракту в Конго, провёл там шесть лет и постепенно забыл эту историю, пока не прочитал вчерашнюю газету. Больше двадцати лет я держал своё слово, данное Альфреду, вы первые, кому я говорю об этом.
Рассказ Матье был обстоятельным, и не было причин сомневаться в его достоверности, тем более, что некоторые детали совпадали с рассказом Жермен: странное поведение Альфреда, человек, который стрелял в него из-за угла. Все же оставались кое-какие вопросы.
— У вас есть адрес Альфреда?
— К сожалению, я оставил карточку дома. Завтра смогу передать.
— Кто водил вас в хижину?
— Это был один из близких людей полковника Виля, Феликс Бертье.
— Вы знаете, где он живёт сейчас?
— Бертье скрылся вместе с Вилем после налёта на льежский банк, вы, вероятно, не знаете об этом.
— Как же, об этом вся Бельгия знает, мне уже сто раз об этом говорили. Все упирается в этого Виля. Интересно, сколько же их было и куда они скрылись?
— Об этом мне тоже кое-что известно, — улыбнулся Матье. — Их было четверо, они приехали к банку на немецкой трофейной машине, которая находилась в нашем убежище. На них были немецкие мундиры, и они быстро управились с этим делом, не сделав ни одного выстрела. Судя по всему, они очень хорошо подготовились к этой операции. Впрочем, немцам в эти часы было не до них.
— Итак, Виль и Бертье. Кто третий и четвёртый?
— Четвёртого я не знаю, он появился откуда-то со стороны, но, видимо, был близок Вилю. А третьим был начальник разведки Фернан Шевалье. Исчезли только трое, и потому о них стало известно. Интерпол ищет только трех человек. Но их было четверо.
— Я знал их, — заметил Луи. — Они дураки и бандиты.
— И четвёртого знал?
— Я вообще их знать не желаю, — вскипел Луи, — и нечего говорить о них.
— Все же попробуем, дорогой Луи, последний вопрос. Авось пригодится. Куда же они скрылись?
— Когда я был в Конго, — отвечал Матье, — мне говорили, что кто-то встречал Виля там. Но сам я его не видел. В те годы в Конго легко было укрыться на фермах. Но если Виль и был в Конго, сейчас его там нет, обстановка переменилась. Возможно, что сейчас он в Австралии или в Южной Америке — кто знает? С миллионами везде можно устроиться.
— В таком случае вернёмся в Бельгию. Что рассказывал Альфред о самом предательстве? Это была их последняя операция на мосту?
— Да, он говорил, что немцы устроили там засаду, и они оказались в мышеловке. Об этом он рассказывал очень подробно. Как-то вечером, когда я сидел у его постели, он так увлёкся разговором, что даже набросал схему на листке бумаги.
— Она у вас сохранилась? Может быть, там есть какие-то имена.
— Я посмотрю бумаги, Альфред говорил, что их окружили и бежать было некуда. Они прыгали с моста в ручей.
— Жермен не обмолвилась, — сказал Антуан, озабоченно морща лоб. — Хорошо бы найти эту схему и снова съездить на мост.
— Я к вашим услугам, — ответил Ру. — Завтра я свободен с утра, во вторник — вечером. Как вам будет удобнее.
— Ещё один вопрос, мсье Ру, — продолжал я. — Альфред не говорил: был ли предатель в отряде или вне его?
— Этого я не помню.
— Мужчина или женщина?
— Я думаю, мужчина, ведь предатель стрелял в Альфреда, вряд ли на это способна женщина.
— О мотивах предательства ничего не проскользнуло в ваших разговорах?
— Нет. Как только я переводил разговор на эту тему, Альфред тут же замыкался в себе.
Поль Батист подсел к столику и объявил: он звонил в Льеж и вызвал корреспондента, чтобы рассказать ему о предательстве в группе «Кабан». Это серьёзное сообщение, организация, которую возглавляет он, Поль Батист де Ла Гранж, не может пройти мимо такого печального факта. В связи с этим особенное значение приобретает нож с монограммой, найденный в лесной хижине. Обо всём этом надо рассказать для печати. Корреспондент обещал приехать в Ромушан.
— И второй нож, обнаруженный Виктором в «Остелле», также имеет большое значение, — заметил Антуан.
— Мсье президент, — объявил я, — наша завтрашняя поездка в архив переносится. Завтра мы поедем к живому свидетелю, Альфреду Меланже. Это для нас важнее.
— Не смею настаивать, — отозвался Поль Батист. — В таком случае я продолжу свой ваканс в горах. Однако сейчас мы должны действовать по программе, завершить банкет и продолжить церемонию.
— Да, — я решительно поднялся из-за стола. — Будем действовать по программе и немножко сверх того. Я хочу сказать речь, мсье президент.
Я, конечно, видел — появление Матье Ру не прошло незамеченным в зале, и известие, сообщённое им, уже пошло гулять среди собравшихся. К нам то и дело подходили люди, я ловил заинтересованные взгляды. Теперь все ждали, как отнесусь я к этой вести.
И я сказал им своё слово.
— Дорогие друзья, приходится мне снова выступать перед вами, хотя не собирался делать этого, — так начал я, когда президент навёл порядок за столом и объявил моё выступление. — Помню, учился я в школе, и учитель географии рассказывал нам, что Бельгия занимает первое место в мире по густоте железных дорог на квадратный километр территории. Я в вашей стране недавно и железных дорог видел пока не так уж много. Но я узнал другое, хотя мои наблюдения вряд ли будут поддержаны статистиками, потому что в статистических данных нет такой графы учёта, я увидел и узнал, что ваша страна занимает одно из первых мест по плотности добрых сердец на квадратный километр территории, и я думаю, что человеческое сердце — это важнее, чем железные дороги. Но, как говорится в нашей русской пословице, не знаю, можно ли перевести её на французский, Иван, постарайся — «и на старуху бывает проруха». А если это трудно перевести, то «в семье не без урода», на выбор тебе, Иван. Я так говорю потому, что только сейчас узнал: отец и его товарищи из отряда «Кабан» были преданы. Нашёлся человек без сердца, который предал их, и они погибли. Я знаю, что у вас добрые сердца, но я знаю также, вы не осудите меня, когда я скажу вам — кровь моего отца взывает к отмщению. И я торжественно клянусь перед вами, что не успокоюсь до тех пор, пока не найду этого гнусного предателя.
Тут и президент сказал речь мне в поддержку и одновременно в пику. Политику он начал наводить, мой разлюбезный президент: не к мести он призывал, но к возмездию, не к самосуду, но к торжеству справедливости. И прононс у него при этом был что надо. А я своё слово сказал. Но теперь-то я знал: трудновато мне придётся.
Поль Батист уже заканчивал речь. Люди стали подниматься из-за стола.
— Он сказал, — перевёл Иван, — что нам пора ехать по могилам.
— Ну как ты переводишь, Иван?
— Разве не так? — терпеливо удивился Иван. — У нас же ещё две могилы, поэтому я и сказал: «по могилам».
— Не «по», а «на», — я едва не кричал от отчаяния, так пусто на душе сделалось. — Не «по», не «в», не «за», а «на», «на», «на»…
ГЛАВА 15
Дорога вывела меня к роднику. Я разогнался на уклоне и не сразу мог остановиться, но тут тропа вильнула в сторону и пошла ровным полукольцом вокруг родника и озерца, из родника возникшего. Я упал плашмя, подставив ладони, и начал делать жимы. Десять хороших жимов, два жима на выдох, один на вдох, выжать себя до предела на прямые руки, отдалившись от земли, и снова приблизиться к ней, мягко опустившись на полусогнутых, коснуться её подбородком, грудью, а ладони вжимаются в податливую шероховатость почвы, кажется, я сам прорастаю из этой трепетной земли.
Ещё коснулся земли подбородком, оттолкнулся носками и вскинулся вверх, на стойку. Озерцо зеркально и ломко колебалось под головой, деревья разноголосо шелестели над ногами — и я один в центре этого странно перевернувшегося мира.
Припал к роднику, раз за разом погружая лицо в прозрачную льдистость воды и опьяненно чувствуя, как сердце входит в привычный ритм после бега и жимов. Солнце проскальзывало сквозь листву, падая разорванными пятнами на круг воды. Листья отрешённо шелестели, капли хрупко падали в воду с мокрого подбородка.
На дне озерца зыбко переламывались плоские светлые камни, вперемежку вспыхивающие под солнцем. Я вгляделся: о чём-то напомнил мне их ускользающий рисунок. Три неровных треугольника, сходящиеся в удлинённый квадрат. А в швах не зелень проступала, а прозрачная блеклость песка. Это же могильная плита в Ромушане! Я погрузил в воду руку, и самый большой треугольник, лежавший в основании плиты, рассыпался, едва я дотронулся до него. Камни потекли в глубину, увлекая за собой другие. Песчаная дымка взвилась над камнями, замутив прозрачность воды. Потом дымка осела, снова проступили из глуби светлые камни, но рисунок их стал иным, словно могильная плита на глазах распалась на множество осколков.
Что расскажут немые камни? Я сам нарушил их чёткость. Камни распались, их не собрать в изначальный рисунок. Похоже, мало я ещё пробежал. Невысказанный вопрос навязчиво томил меня. Он засел во мне. Сколько уже безответных вопросов впилось в меня, но даже не ответа искал я сейчас в прозрачной ломкости родника, а той невысказанности, что меня томила.
Я сел, поджал колени к подбородку и попробовал приняться за логическую схему. Не эмоции нужны мне, а холодная прозрачность мысли. Из бесконечного сплетения вопросов надо выбрать узловые и наводящие. Нет ли контакта между мадам Любой и черным монахом? Имеет ли отношение Жермен к пансионату «Остелла»? А мсье президент де Ла Гранж? Не нарочно ли он подослал ко мне Матье Ру? Не связано ли предательство «кабанов» с именем Виля? Я нарочно выискивал самые нелепые связи, чтобы утвердить подлинные. Я делал прикидку в поисках закономерности. Но вот посерьёзней пошли вопросики. Кто вырезал инициалы на сосне? И когда? Почему не приехала Жермен на могилу отца? Не пожелала дать адрес Альфреда или в самом деле его потеряла? А чёрный монах почему не прибыл, как обещал, на бензине решил сэкономить? Что означают его слова: вы узнаете то, что нельзя знать. Как искать женщину в чёрном? Откуда она взялась, по чьему велению? Нет ли связи между ней и монахом? Оба чёрные. Почему всё-таки, почему не сказал Альфред имя предателя ни Матье Ру, ни Жермен? Что значит «странный» Альфред? Жермен первая произнесла это слово, а переводчики были разные, значит, Иван точно перевёл. Эта Жермен всё время карты путает, надо уходить от неё, уходить, она же никуда меня не выведет. Долгая и тёмная история оказалась поистине тёмной, как в воду глядел всепамятливый А.Скворцов. Так где же всё-таки искать предателя, в отряде или вовне? К полковнику Вилю тоже немало нитей протягивается, но разве их распутаешь? Матье Ру передал вчера слова Альфреда, командира «кабанов»: предатель виноват в смерти девяти человек. Кто же этот второй, оставшийся в живых? Он и предал? Каков же мотив? Так где же всё-таки был предатель: в отряде или вне его? А монограмма на ноже? Даже такой простой вещи я до сих пор не разгадал. Какая связь между этим ножом и «Остеллой?» От кого чёрный монах узнал о моём приезде? Чёрная женщина, чёрный монах, чёрная сажа в печке из хижины — черным-черно. Вопросов было хоть отбавляй, но они даже в логическую цепь не складывались. Они разобщённо рождались на белом могильном камне. Каждый новый ответ лишь пробуждал очередную серию безответных вопросов. А к главному вопросу — кто предал? — ещё не нашлись подводящие. Найдём ли мы нынче Альфреда? Он ведь так и не назвал предателя. Черным-черно. Но мы все равно поедем к Альфреду.
Я поднялся и побежал. Каменистая тропа поднималась сквозь кусты по склону, превратилась в дорогу, ровно пошла через овсяное поле. Поле закрылось живой изгородью, а слева кусты ежевики с тяжёлыми маслянистыми ягодами. Я хватал на бегу их терпкую сладость. Навстречу катился розовый трактор на толстых резиновых шинах. На одноногом сиденье сидел мужчина в берете. Он поднял руку, приветствуя меня. Вот кто может ответить на безответные мои вопросы — старый Гастон.
Весёлое тарахтенье мотора затихло. Уже и купы деревьев перед домом Антуана выплыли из-за поворота. И тут я встал от удивления. Ведь это же совсем просто. До того просто, что даже представить невозможно. Нашёлся-таки мой невысказанный вопрос, который томил меня и таился со вчерашнего дня, как только стеклянная дверь провернулась.
Откуда женщина в чёрном могла знать, что её мужа убил Борис Маслов? С заковыкой вопросец. Недаром он так долго таился. Откуда же? Ведь когда схлёстываются в бою, визитной карточки не спрашивают. Или — когда приходят в дом предателя, чтобы привести в исполнение приговор, — тут тоже не до светского ритуала. Даже Луи рассказывал, что они всегда надевали маски, а «кабаны» — тем более. Да и не видела она, чёрная женщина, не видела она отца. Не станет же отец убивать мужа на глазах у жены, пусть тот десять раз предатель. Ей потом сказали, кто привёл в исполнение приговор и убил её мужа. А сказать мог лишь человек, обладающий двойной связью — и с «кабанами», и с женщиной в чёрном. Вот как.
И сразу встаёт новая цепочка вопросов. Кто этот человек? В отряде или вне отряда? Каждый раз повторяется этот вопрос: состоял ли предатель в отряде или предал со стороны. И каким был мотив предательства? Вот она, искомая закономерность в цепи вопросов, без этих двух ответов мне не выйти на след. Ломчатые камни на дне родника распались на осколки, но что-то начинает складываться из них. Чутьё меня никогда не обманывало: наводящий вопрос ухвачен крепко, а ведь ещё не вечер, до вечера многое прояснится.
Я припустился к дому, чтобы не опоздать к ответу. Иван уже посиживал у огонька.
— Салют юному эксплуатированному деду. Как поживает наш инфант? — С Иваном у меня ничего не получалось: едва завидев его, я тут же впадал в иронию.
— Я нынче ругался с Терезой, — поведал Иван. — Она взяла самую дорогую больницу, мне уже написали счёт на пять тысяч франков, и они говорят, что Мари должна там быть ещё три дня.
— А как малыш? Сколько тянет?
— Он тянет три с половиной килограмма, — расцвёл Иван.
Сюзанна со смехом поставила передо мной глазунью.
— Она говорит, — продолжал цвести Иван, — что ты должен получить в её бельгийском доме свой русский завтрак.
— Неужто вы утром, кроме кофе и бутербродов, ничего не потребляете? — беспечно удивлялся я, уплетая глазунью и стараясь всем своим видом показать Сюзанне, какая это замечательная глазунья и как прекрасно уплетать её именно утром, после хорошей пробежки, когда на свежую голову являются хорошие вопросы. — Когда Антуан уехал? Я даже не слышал.
— Он встал в четыре часа, чтобы раньше сделать работу, — отвечал Иван, справившись у Сюзанны. — Она думает, что он вернётся к часу, и вы поедете с ним до Альфреда Меланже, а я — в больницу.
Сюзанна хлопотала у плиты. Голубой нейлоновый передник, белая наколка на волосах, быстрые руки — прекрасная хранительница домашнего очага. И очаг её не менее прекрасен. Он обладал лаконичными формами, питался керосином и горел день и ночь. Антуан его заправлял из канистры. Он щедр, он добр и пылок, этот очаг. Синие языки пламени, как вечный огонь на могиле, мерцают, качаются, вздрагивают за круглым стеклом. Он трудится бесшумно, плита всегда раскалена и готова к действию, он будто всегда горел, с той самой минуты, как зажёгся древний огонь в сырой и тёмной пещере. Он вечен, как пещерный огонь, и модернов, как реактивный лайнер. До чего хорошо сидеть у такого очага, потягивать кофеёк и смотреть, как женщина священнодействует у мирного огня! Но мне не дано сидеть, я должен мчаться, искать, не до шуточек мне теперь. Не видать мне покоя, пока не найду.
Сюзанна принесла поджаристые тосты, произведённые очагом, присела визави. Вид у неё был задумчивый.
— Она спрашивает у тебя, откуда ты знаешь про ихнего Клааса, про которого ты вчера в Ромушане говорил? Кто такой этот Клаас, так она его называет, я его тоже не знаю, — равнодушно полюбопытствовал Иван, прикуривая от газовой зажигалки. — Я тут всеми эксплуатированный и книг ихних не читаю. Она говорит, что ты сказал очень симпатически, они были тронуты.
Что было, то было. Сказал я им про Клааса. И даже попросил, чтобы Татьяна Ивановна переводила. Мы приехали в Ромушан уже в седьмом часу. Народу было меньше, чем на главной церемонии, но все, кого я хотел бы видеть, были там.
Мадам Констант тоже подоспела к тому времени, мы ввели её в курс и занялись делом. Вместе с Луи поднесли венок к могиле. Пела труба, и знаменосцы стояли. Я расправил на венке ленты, которые дала мать, и мне захотелось сказать о том, что я испытывал в эту минуту, и так сказать, чтобы они поняли, что я испытываю. Тогда я вспомнил Клааса, которого они не могли не знать, и кончил свою небольшую речь бессмертными словами Тиля: «Пепел Клааса стучит в моё сердце».
И они поняли. Лица их стали печальны и строги, а женщины взялись за платки. Вот и в душу Сюзанны запали мои слова, коль она задалась таким вопросом.
Я похлопал Шульгу по спине:
— Минуту, Иван, не раздваивайся. Сначала Сюзанне отвечу, а потом и тебе. У нас в Советском Союзе Тиля Уленшпигеля знает стар и млад. Книга о нём десятки раз выходила огромными тиражами. И кинофильм у нас шёл, сам Жерар Филипп в нём играл, она, верно, видела, спроси у неё. Но фильм, по-моему, так себе, приключениями они чересчур увлеклись.
— Такой фильм и я видел по телевизору, — обрадовался Иван. — Значит, это по книге сделано? А Клаас, выходит, отец ихнего Тиля, да?
— О чём же я тебе толкую?
Сюзанна принесла из спальни толстую книгу, парижское издание Тиля с иллюстрациями Мазереля. Мы увлечённо принялись рассматривать картинки, радостно узнавая героев и наперебой называя их.
— Значит, свой же человек предал Клааса? — продолжал допытываться Иван. — И что же с предателем стало?
— От него все люди отвернулись, а Тиль в конце концов нашёл его, схватил в охапку и бросил в канал.
— Тиль — наш герой! — сказала Сюзанна. — Он расправился с предателем в городе Брюгге, там сейчас есть музей…
— Может, и нам придётся в Брюгге побывать, — предположил я. — Тогда посмотрим на тот канал, куда предателя бросили…
— Я тебе сейчас расскажу свою тайну, — объяснил тут Иван. — Почему я начал спорить тогда с этой Любкой, как ты думаешь?
— Ага, — засмеялся я, — сам решил признаться, пока я до тебя не добрался. Открой свою чёрную тайну, Иван Шульга.
— Любка сказала, что их предал русский. — Иван виновато смотрел на меня.
— Извини-подвинься, Ванечка, опять ты мои карты путаешь. Не понимаю только, какая разница, кто их предал?
— Мне было обидно за своего человека, — пояснил Иван, глядя на меня преданными глазами. — Я не хотел, чтобы русские были тут предателями. Ведь мы в маленькой стране живём. А наши Арденны совсем маленькие. Люди делали слухи после войны, что «кабанов» предал русский человек. Я даже у президента брал совет, и он сказал, если это был русский, то лучше не говорите нашему другу, тебе то есть.
— Значит, и президент в вашем заговоре участвовал? Чёрный монах тоже русский. Но разве можно про него сказать, что он русский человек?
— Он капиталист, — убеждённо выговорил Иван. — Его надо потрясти, если он их предал.
— До этого ещё не дошло. Есть ещё провалы в моей схеме, Иван. И к Матье Ру у меня ещё есть вопросы, а он почему-то не едет. Что-то привезёт он нам: схему боя, адрес Альфреда?..
Но Матье выложил нечто более ценное: групповую фотографию «кабанов». Я сразу узнал отца и Альфреда, они стояли рядом, и отец заразительно смеялся. Я мигом сложил: одиннадцать! Все в сборе! Вот когда Мишель мне на глаза попался, это не менее важно, чем адрес Альфреда, тем более, что и визитная карточка Меланже лежала тут же: Марш-эн-Фомен, рю де Шан, пятнадцать.
Интересные вещи рассказал Матье. Он совсем забыл про эту фотографию, которую Альфред подарил ему, когда Матье отвозил его в Марш. Альфред сказал тогда, что их снимал сам полковник Виль, частенько приходивший в хижину. И имена «кабанов» назвал Матье. Трое русских, Василий, Семён, отец, и два бельгийца, не считая Альфреда: Мишель и Морис. Четвёртого бельгийца он помнит только по кличке: Король. К сожалению, Ру не может точно указать на фотографии, кто где стоит, слишком много лет прошло, а он был в хижине всего два раза. И фамилий не знает.
Итак, Мишель и Морис — снова два имени подходят под инициалы, вырезанные на ноже. Тени погибших обступают меня. Нет, тут без архива не разберёшься, надо устанавливать поимённый список всех «кабанов».
«Кабаны» стояли в ряд, и дело было солнечным днём, одеты все налегке, некоторые только в рубашках. У всех в руках оружие, а у отца на поясе ещё и две гранаты. Где-то здесь и Милан Петрович, его покажет Антуан. Возможно, методом исключения мы всё-таки доберёмся и до остальных?
— Альфред назвал ещё одно имя, — объявил Ру.
— Где же оно?
— На схеме.
Я осторожно развернул пожелтевший листок, который Матье извлёк из записной книжки. Схема оказалась выразительной. Мост и три стрелы, устремлённые к нему. Три стрелы, вонзающиеся в кружок. Перед мостом набросан неровный квадрат, который мог обозначать машину. А над квадратом одно-единственное слово: Дамере.
— Что ты скажешь, Иван?
— Он говорит, — ответил Иван, — это у них прозвание такое: Дамере. А откуда оно взялось, он не помнит. Он думает, что это прозвание относится к машине. А стрелки рассказывают, откуда боши стреляли по мосту.
Да, пожалуй, так оно и было. Мост, машина, кружок и три стрелы, разрывающие его. И неведомое имя, которое никому ни о чём не говорит. Кто такой Дамере — предатель или преданный? Что хотел сказать Альфред Меланже, рисуя схему: рваные стрелы, кружок, имя? А где тут поворот дороги? Надо ехать на мост, ориентировать схему на местности и ещё раз продумать, что было там.
Мы уже выезжали со двора, когда Сюзанна выбежала из дома и остановила нас криком: «Телефон!»
Кто бы это? Иван взял трубку и удивился.
— Это Жермен телефонирует. Она хочет знать, здесь ли ты?
— Где же я, Иван? Передай мадам, что я рядом с тобой.
— Она хочет сообщить тебе адрес Альфреда. Она два дня искала и утром нашла. — Иван отодвинул трубку. — Я скажу, что у нас уже есть адрес.
— Ни в коем случае, Иван, делай вид, что записываешь, так, так, повтори, рю де Шан, пятнадцать. Вот так, мой миленький. А теперь произнеси, что мы благодарим её изо всех наших сил. А ну дай, сам скажу. — Я завладел трубкой и заговорил елейным голосом, на какой только был способен: — Бонжур, мадам Жермен. Виктор Маслов передаёт сердечное мерси пур мадам. У меня нет слов, чтобы выразить вам свой манифик. Гран мерси, мадам.
ГЛАВА 16
И опять мы неслись сломя голову — с каждым километром все упорнее становилась неудержимая наша гонка. Я сидел рядом с Антуаном, вжавшись в сиденье, и вёл нескончаемый диалог со спидометром. Диалог не отличался разнообразием, но больше вопросов не было. «Сколько?» — спрашивал я, кося глазом на выпуклый значок спидометра и в то же время будучи не в силах оторваться от дороги. «А теперь сколько?», «А теперь?».
И последний оставался вопрос: когда же? Больше я не в силах был вопрошать, мне требовались ответы.
Спидометр отвечал мне бесстрастным покачиванием стрелки, дорога — неудержимым мельканием плит, домов, столбов, рекламных щитов, живых изгородей. Стрелка ползла безмолвно, пружинисто, казалось, она тоже преодолевает сопротивление бетона и воздуха, которые стремглав неслись навстречу. Тонкий кончик стрелы едва заметным касанием скользил по цифрам: сто, сто десять и ещё чуть правее, ещё ожесточённее и стремительнее. Антуан выжимал из машины все, что мог, а мог он многое, сегодня я как никогда убедился в этом.
Из-за бугра налетел косой перекрёсток, левая дорога по касательной вонзалась в ближний лесок. У придорожного ресторана красуется яркий туристский автобус, слева встречный голубой знак: «Бастонь — 12 километров», а ведь только что были в Бастони, проскочили сквозь неё пулей, я даже американского мемориала не разглядел; указатель отброшен в прошлое, вместе с автобусом пропал за домом, за рощей — опять безудержно мелькают, бросаются под колеса бетонные плиты, которыми начинена земля. Дорога стремится прямо и под уклон, Антуану есть где разгуляться. Стрелка упруго переползла ещё на одно деление, зацепилась за него — идём на пределе. Все напряжение нынешнего дня вылилось в эту бешеную гонку.
Уже километров сто, как я перестал понимать, что происходит, куда мы мчимся, где находимся. Но надежда всё-таки оставалась у меня. Надежда и Антуан Форетье.
Дорога вильнула вправо, на ровной плоскости плато раскрылся провал. Машина устремилась по склону. Провал раздвинулся, разросся в котловину — на дне возник зовущий краснокрыший городок. Антуан сбавил скорость, мы уже въезжали в улочку. Тут же и указатель подвернулся — Уфализ. Сонные узкие улочки, сдавленные дома, пустые магазины, приспущенные жалюзи. Не для нас этот покой. Антуан крутил по улочкам, не задумываясь, мы почти не сбавляли скорости. Выскочили на центральную площадь: ратуша, церковь, отель, магазины. Я увидел лоток мороженщика.
— Остановимся, Антуан. Пауза, антракт.
— Нет! — отрубил он, не отрываясь от руля. — Тут туристы. Антуан и Виктор — не туристы. Альфред ждёт Антуан и Виктор, — он недобро засмеялся и прибавил газ.
Мелькнул последний дом городка, дорога пошла серпантином. Котловина превратилась в провал, провал сошёлся, затянулся равниной, снова по сторонам плоское плато. Сверкнул зовущий Уфализ и так же призрачно растаял за спиной.
Я облизал пересохшие губы. Что-то тут не так. Слишком долго мы мчимся, слишком долго нет Альфреда. Иван, наверное, заждался нас и тоже ломает голову, а мы все мчимся. Пятый час продолжается эта неистовая гонка, пол-Бельгии проехали, а конца не видать. Куда несёмся? Что ждёт нас в конце пути? Когда же он будет, этот конец? Опять накатываются бесполезные вопросы, и я не продерусь сквозь их алогичность.
А как чисто и доступно начался день. Я нашёл связующий вопрос. Сидели, пересмеивались с Сюзанной, приехал Матье, Жермен голос подала. Ничего у неё голосок, ласкательный. Мягко хотела постелить, да промазала. Я сразу понял, почему она подала голос, и в Марше уже не удивился.
И на мосту всё было ясно и просто, но только горше стало оттого. Вот где кончилась утренняя свежесть родника — ещё на мосту. Конечно, «кабаны» ни о чём не подозревали, вышли всей группой на мост, чтобы договориться о последних деталях, — и сразу с трех сторон ударили автоматы: три стрелы, нацеленные на мост. Партизаны прыгали с моста прямо в ночь и погибель. А ведь там высоко было. Я при солнце попробовал кинуться на откос и то еле удержался. Нет, отец не был ранен первой пулей в ногу, как предполагал Антуан. Он сломал её или вывихнул, когда прыгал с моста. И потому решил остаться, чтобы прикрыть остальных: он понял, что не сможет уйти, так пусть хоть уйдут другие. А немцы бросали ракеты и продолжали бить из автоматов сверху. Только Альфреду удалось вырваться из этого пекла. Альфреду и тому, второму. Тот-то знал, что ждёт их на мосту, и он в последнюю минуту отстал от группы, юркнул в кусты и был таков. Он видел ракеты, слышал крики, треск автоматов, а может, и сам стрелял. А может, он и есть Дамере?..
На том и покончили мы с мостом. Матье оставил свои «позывные», сказав, что в любую минуту готов нам помочь, и отправился на дежурство в больницу. Иван подбросил меня до дома и тоже навострил лыжи на Льеж, чтобы предаться дедовским обязанностям. Вернулся Антуан, я показал ему схему, но он лишь руками развёл: имя, начертанное Альфредом, и ему ничего не говорило. Но до Альфреда каких-нибудь сорок километров, и мы не торопились. Договорились с Иваном, неспешно попили кофейку и тронулись. Вот как безмятежно мы рассчитали обернёмся за полтора часа. Я даже карты дорожной не взял, лишь медаль нацепил — для Альфреда.
Найти рю де Шан не составило труда. Островерхие красные домики шли по одной стороне, по другой раскинулся парк, там бегали дети. Молодая женщина катила розовую коляску. Девочки прыгали через верёвочку. Войны давно не было, и они даже не знали, что это такое. Но сейчас выйдет из дома Альфред, и война вернётся.
Из дома вышла крашеная блондинка в кокетливом переднике поверх платья. Антуан подошёл к ней. Я вылавливал из их быстрой речи слова: Альфред, визит, война, ресторан, адрес, отец, франки. Из них складывалось одно: Альфред здесь больше не живёт. Но это и не было неожиданным, за двадцать лет не раз можно сняться с насиженного места. Я задумался и не заметил, что Антуан сидит рядом, а блондинка ушла в дом. Из раскрытого окна на нас сосредоточенно глядел седовласый старик.
— Где теперь Альфред? Узнал адрес?
— Намюр, — ответил Антуан.
— Сколько километров?
Антуан нарисовал пальцем на ветровом стекле — 50.
— Едем?
Он положил руку мне на плечо.
— Жермен Марке делала визит к Альфреду.
— Вот как. Когда же она делала свой визит?
— Вчера.
Ну, разумеется, такой визит был для неё куда важнее, чем церемония в Ромушан. Я даже не удивился: надо ей стало — она и поехала! Мало ли зачем ей приспичило ехать к Альфреду, мне уже надоели эти бессмысленные вопросы, тем более, что и гадать тут нечего.
— Хорошо, Антуан, едем в Намюр, — сказал я по словарю.
Об одном она всё-таки не подумала прежде, чем позвонила ко мне. О новом адресе Альфреда она не подумала. А мы его знаем.
Раскручивалась по обе стороны мягко всхолмлённая равнина, набегали и таяли за спиной деревеньки, будто сошедшие со старинных гравюр, маячили шпили отдалённых церквей, прохладно отсвечивали рощицы — мир и благодать царили на древней равнине. То и дело проносились разноязычные автобусы, мне бы там сидеть, любоваться быстротекущими окрестностями да слушать проникновенные речи равнодушного гида: «А теперь посмотрите налево. В деревне Пино мы видим церковь, построенную ещё в семнадцатом веке. Архитектура её напоминает нам…» А я, вместо того чтобы слушать столь полезные сведения или бродить по музеям и скупать сувениры, ношусь по чужой земле в призрачных поисках следов войны, сыплю соль на старые раны. Война была, и она кончилась. Наши отцы победили. «Виктуар!» — сказал Луи, выходя на дорогу. Умолкли пушки на задымлённых равнинах Европы, взобрались и застыли на пьедесталах обугленные танки. Старые пулемётные ленты ржавеют в земле, одна досталась мне на память. Окопы осыпались, перепаханы свежей нивой. Ящик с патронами в партизанской хижине никому не нужен. Все это быльём поросло. И никому нет дела до того, что на мосту оказался предатель. Так стоит ли бередить старые раны? Не лучше поставить крест на прошлом и плыть по течению жизни, отдаваясь её мгновенным радостям и столь же быстротечным печалям? Может, ещё полгода назад такие мысли не показались бы мне ни странными, не расслабляющими. Чего греха таить: я — сам дитя войны — нимало не задумывался о ней.
Все переменил захлёбывающийся вскрик матери, пробежавший по бесстрастному проводу. Я понял, что должен знать. Имею право знать: четверть века безвестности дают мне это право. Внешне я продолжал жить прежней жизнью, не в том дело. Один собирает марки, другой боксирует, третий увлекается магнитофонными записями — на здоровье. Дело в нас самих. Мы склонны полагать: памятники и монументы поставлены, горят вечные огни на солдатских могилах, поёт тоскливая труба, приспущены знамёна над заломленным крестом. Живые исполнили свой долг — так что же ещё? Но дело в том, что вечный огонь горит в каждом живом сердце, и мы не вправе останавливать себя, пока не узнаем всей правды о том, как это случилось, как боролись они и как падали, как переставали биться двадцатилетние сердца, которые тоже хотели бы жить и отдаваться жизни.
Поэтому сказал мне Командир: «Не будь туристом». Поэтому похолодел я, узнав о предателе. Но я обязан был узнать. А те, кто знает, обязаны передать другим своё знание. И тогда мой нерожденный сын узнает о моём безвестном отце и передаст памятный свиток дальше — связь времён не прервётся. И далёкий предательский выстрел в арденнском предгорье, оборвавший молодую жизнь, откликнется на Рязанском проспекте, он не смолкнет, нет, не смолкнет, он будет звучать в грядущем. И какой-то другой раскат, прогремевший в тумане над Бугом, отзовётся за тридевять земель в джунглях Меконга — в каждом живом сердце горит и клубиться вечный огонь. Их сердца потухли, но живой огонь не угас, и потому пепел Клааса стучит в моё сердце.
Это я только прикидываюсь, будто пересмеиваюсь с Сюзанной, ах крошка Сюзи, будто похлопываю Ивана по плечу, эх Ваня, будто уплетаю глазунью, любуюсь окрестным пейзажем, но тут шуточками не отделаешься, пепел стучит, стучит и холодно внутри.
Намюр раскрылся внизу, в речной долине: тесные улочки, приземистые мосты над Маасом, взбегающие шпили колоколен. Из приёмника доносился беспечный шлягер, и мы продолжали мчаться. Я думал, спустимся в город, но машина, слушаясь руля Антуана, круто вильнула влево. Намюр остался в стороне от нашего курса. Миновали стадион, старую станцию, несколько улочек и скрипнули тормозами у придорожного ресторана с яркой вывеской. Напротив был крикливый магазин «Сто франков». «У нас любая вещь за сто франков».
— Пардон, мсье, но то, что мы ищем, не имеет цены.
В просторном зале сумрачно и тихо, лишь парочка миловалась в углу, сдвинув свои стулья к одной стороне стола. У входа призывно высился джоу-бокс со стеклянным колпаком. Я сунул в щель монету, наудачу нажал кнопку. Пластинка пришла в движение, скользнула на круг, закружилась — возник накалённый голос Эдит Пиаф.
Он застонал и упал ничком С маленькой дыркой над виском… Браунинг, браунинг… Игрушка мала и мила на вид, Но он на полу бездыханный лежит. Браунинг, браунинг…[5]За стойкой стояла пожилая женщина со спокойным и мудрым лицом. Потом Иван рассказал, о чём они говорили, Антуан поздоровался:
— Мы приехали к Альфреду Меланже. Нам очень нужен Меланже.
— Меланже здесь давно не живёт, — отвечала женщина, продолжая неторопливыми округлыми движениями вытирать бокалы.
— Но это был его ресторан, мы не ошиблись?
— Мы купили этот ресторан у Меланже вскоре после войны. Место не самое бойкое, но посетителей хватает. Нынче, правда, не очень густо. — Конечно, она уходила от ответа.
— Где сейчас живёт Альфред Меланже? — Антуан подвинулся ближе, поставил локти на стойку.
— Будет лучше, если вы поговорите об этом с мужем, он скоро вернётся из города, — она явно не доверяла нам.
— Это Виктор Маслов, русский лётчик, — пояснил Антуан, кивая в мою сторону. — Он прилетел из Москвы, чтобы повидать Альфреда Меланже. Его отец воевал с Альфредом и погиб здесь, в Арденнах. Я тоже был партизаном. Мы не хотим Альфреду ничего плохого, но нам необходимо встретиться с ним, он может рассказать нам кое-что о войне. Без Альфреда мы этого не узнаем.
— Бонжур, мадам, — сказал я, подходя к стойке. — Я прилетел из Москвы. Мой отец Борис Маслов был другом Альфреда, а я Виктор Маслов, сын Бориса. — Я уже знал, что эти слова как бы стали моим паролем, едва я произносил их по-русски, и передо мной раскрывались сердца и двери.
— Как жаль, что муж уехал в город, он бы с радостью познакомился с вами. Сейчас я поднимусь наверх и посмотрю сама, — она налила два бокала и оставила нас. Антуан облегчённо подмигнул мне.
Эдит Пиаф пела пружинисто и скорбно:
Из маленькой дырки в конце ствола Появляется смерть, мала и мила. Браунинг, браунинг…Парочка продолжала целоваться в углу, оба в джинсах, оба длинноволосые и плоские, не поймёшь, кто из них он и кто она. Нас они не замечали. Они были одни во всём мире, только они и знали, кто из них кто. Они неплохо в этом разбирались.
Антуан указал глазами в угол:
— Англе.
— Как ты узнал?
— Машина имеет лондонский номер. Разве ты не заметил?
— Один-ноль в твою пользу, Антуан.
— Один-один, — великодушно поправил он, — ты помог с адресом.
Женщина вернулась и положила на стойку конверт. Антуан прочёл адрес и присвистнул.
— Если увидите Альфреда, передайте привет от нас. Я написала записку на всякий случай. Он жалел, что ему пришлось продать этот ресторан. Ещё лимонад?
— Спасибо. Мы должны ехать. Дорога действительно дальняя.
И мы понеслись. Антуан снова нарисовал пальцем — 90 километров, чуть не к Бастони. Я досадовал, что не захватил карту, и мог ориентироваться лишь по солнцу. Зато Антуану карта ни к чему, сколько лет колесит он на своей цистерне: фирма «Прейон», грузоподъёмность десять тонн, мотор двести двадцать лошадок, скорость тоже подходящая, и маршруты какие хочешь. Всю-то он вселенную, то бишь Бельгию, проехал. Двадцать лет стажа, десять тысяч франков в зубы и сорок часов в неделю за баранкой: запомнишь эти дорожки.
Автострада шла на юг долиной Мааса: заброшенные каменоломни, древние гроты, на вершинах отвесных скал тут и там проступают средневековые башни, стены крепостей.
— Обратите внимание, уважаемые господа туристы. Под защитой своей цитадели, основание которой восходит ещё к одиннадцатому веку, лежит город Динан. Изделия из меди, обязанные своим рождением этому прекрасному городу, являются подлинными шедеврами искусства и известны во всём мире под названием «динандры», благодаря чему и прославлен сам город в мире искусств.
Как хорошо, что я не турист. И как мне горько, что я не турист. Где-то сейчас беспечально курсирует Ирма со своим Петером. Поставили «марлин» на полянке, раскинули палатку, завели «грюндиг» с русскими песнями. И мимо них проносятся автобусы. Туристам не показывают рядовых могил: к чему омрачать их быстротечный вояж, за который они заплатили звонкой монетой? Да, для меня эта страна не стала скоплением музейных редкостей, перед которыми можно замирать и охать, для меня она просто место жизни отца, где он сражался и упал сражённый. Для меня это страна Антуана, которого я полюбил как старшего брата, страна Луи, перед которым благоговею как перед отцом. Я не был в музеях и, верно, не успею, но я узнал людей, которые живут в этой стране, и это мне куда дороже.
А Антуан? Что знает он о динандрах? О музее Курциуса, обо всех этих шато, соборах? Он просто живёт среди них, дышит воздухом своей родины, и я хочу воспринимать эту страну глазами и сердцем Антуана.
Динандры проблеснули в роскошных витринах, Антуан даже не сбросил скорости. Пересекли Маас, повернули на запад. Снова пошли предгорья. Поля с наливающейся пшеницей перемежались рощами и холмами.
Местность менялась. Дорога круто взбегала по склонам, петляла серпантином. Холмы превращались в обрывающиеся скалы, весёлые перелески — в глухие леса. Я уже начинал понимать Арденны: древнее мягко всхолмлённое плато, рассечённое долинами рек и речушек. Реки не так уж мощны, но трудились они долго и верно. Добротными получались скалы, округлыми вершины гор: наивысшая точка — Батранж — 692 метра . Арденны меньше, чем можно предположить, не зная их, но всё же они впечатляют, когда попадёшь в их глубину.
Партизанское пошло приволье. Мне бы тут побродить с автоматом, да чтобы отец шагал рядом, поучая меня.
Нет, не повезло моему поколению. Выросли на гребне победы, а сами пороха даже не нюхали. Шагали славной дорогой отцов по заросшим тропам, и дзоты, встающие перед нами, были уже порушены, нечего заслонять своей грудью. Но зато мой сверстник первым взвился в космос, он был чуть постарше, и тут я припоздал, но закаляли нас иные пороги, и мы ещё не сказали последнего слова.
Антуан свернул с автострады. Вскочили в деревеньку, рассыпавшуюся по зелёному склону.
— Скоро, Антуан?
— Сейчас.
Удивительно, каким чутьём находил он дорогу, нужный поворот, дом. Проехали мимо часовни, высокого каменного сарая, мимо полуразваленной стены и стали у ворот.
Всё ясно — приехали: ставни наглухо забиты, на двери железная полоса с крюком.
Ясно без слов — нить оборвалась, и я не получу от Альфреда те два недостающие звена, которые нужны мне для того, чтобы сошлись могильные камни. Но покуда на земле стоит хоть один уцелевший дом, не надо терять надежды. Я раскрыл словарь и услышал смешок Антуана.
— Шульга нас ждёт, — Антуан постучал пальцем по циферблату, — а мы тут сидим. Шульга нервничает, а мы катаемся, — я не видел в этом ничего смешного, а он продолжал: — Одна минута, всё будет в порядке, — тренированно выскочил из машины, словно и не провёл двухсот километров за рулём, и рысцой припустился к дому.
Тут и я разглядел на замкнутой двери малый клочок бумаги: дом-то продаётся. Да, трудновато пришлось бы мне без Антуана, вон он уже заглянул в соседний дом, бежит обратно с новым адресом.
Теперь мы мчались на север. Все стороны света нынче перепробовали, дали дугу через все Арденны. Проскочили Бастонь. Вот и Уфализ позади. Стрелка спидометра снова подобралась к цифре «110», ползёт дальше. Сколько теперь? Сто пятнадцать. А теперь?..
— Сколько километров? Скажи, Антуан.
— Скоро, — отвечал он сердито и тут же сжалился. — Труа километр.
Солнце клонилось к земле над дальним лесом. Сюзанна тоже дома тоскует, Иван, верно, уже обиделся и уехал. Я покорно вдавился в сиденье. Даже в Намюре я не волновался: подумаешь, продал дом, с кем не бывает. Заколоченный дом меня несколько обеспокоил, и теперь я и вовсе терялся в догадках. Постой, постой, сколько он сказал: трант, тридцать? Нет, Антуан сказал: труа — три километра. Так мы же у цели! Один километр уже отмахали, а то и все полтора. Вон за тем поворотом…
Мотор внезапно бросил свою упругую работу, мы словно о воздух споткнулись.
— Ля пе, ля пе! — неистово кричал Антуан, хлопая в ладоши и показывая на поле.
А я глазами хлопал. Мы уж почти стали, катясь лишь по инерции.
— Смотри, смотри, — кричал Антуан, — ля пе!
И тут я увидел. Метрах в ста от нас по стерне что было мочи улепётывал «ля пе», он же кролик.
— Ты даёшь, Антуан, — сказал я, сгорая от зависти. — Реакция у тебя что надо.
— Реаксьон, — со смехом поправил Антуан и дал газ. Заяц уже добежал до опушки и пропал в лесу.
За поворотом раскрылась деревня Шервиль. Теперь каждый дом мог быть нашим. Промелькнули первые строения, за ними церковная ограда. Антуан сбросил скорость и поехал медленнее, пригнувшись к рулю и терпеливо вглядываясь по сторонам.
Вот он! Серый двухэтажный дом с мансардой. Окна закрыты, но занавески сквозь них белеют. И собака греется на солнышке у крыльца.
Антуан выключил мотор и виновато посмотрел на меня. Из дома вышла женщина в чёрном платье, похожая на монашенку. Она вышла так быстро, словно давно стояла и поджидала нас за дверью. Мы поздоровались. Женщина ответила нам бессловесным и строгим поклоном головы. Лицо её ничего не выражало. Ни возраста, ни чувства, ни желания — ничего нельзя определить на этом потухшем лице.
— Мы друзья Альфреда Меланже, — сказал Антуан, лицо его было по-прежнему виноватым. — Мы приехали к нему.
— Я провожу вас к Альфреду, — голос её был таким же потухшим и стылым. — Идите за мной. Альфред давно ждёт вас, — добавила она, не трогаясь с места и глядя сквозь нас. Глаза её были неподвижны и, казалось, ничего не видели. Но она определённо ждала нас. И Альфред нас ждёт? Как могли они знать, что мы приедем?
Ей стоило труда тронуться с места, и она пошла мелкой семенящей походкой, не оглядываясь. И не в дом пошла. Мы молча двинулись за нею. Женщина обогнула дом, открыла дверь каменной пристройки неясного назначения и стала спускаться по лестнице. Антуан сделал знак, чтобы я шёл за женщиной, а сам пошёл последним.
«Наверное, там винный погреб, и Альфред у бочек», — подумал я с отчаяньем, ибо знал уже, что надеяться не на что.
Подвал обдал меня сумраком и гнётом. Под потолком скудно светилась лампочка, углы терялись в темноте. Я подошёл к стене и остановился перед чёрной плитой, на которой мерцала лампадка.
«Альфред Меланже», — было высечено на камне поблекшими бронзовыми буквами, строкой ниже шли даты: 10.IX.1914 — 13.III.1947. На плите лежал пыльный бумажный венок.
Я скосил глаза на женщину. Она смотрела в стену, глаза её по-прежнему ничего не выражали: ни скорби, ни верности, ни надежды. Антуан подошёл к плите и молча сжал мою руку. Ещё одной могилой стало больше на земле.
Мы постояли у могилы, сколько того требовало приличие, и вышли на свежий воздух. Женщина осталась внизу. Кто она? Жена, сестра, мать? Антуан лишь плечами пожал в ответ.
Женщина вышла из склепа и, не глядя на нас, засеменила в глубь сада. Мы тоже пошли. За нами бежала молчаливая собака. Все здесь было наполнено горестным молчанием.
В саду показался низкий сарай. Женщина дала знак Антуану. Тот подбежал, с усилием отодвинул створки дубовых ворот.
В сарае было ещё темнее, чем в склепе. Заваленная хламом старомодная машина стояла у задней стены. Краска облупилась и свисала клочьями. Ветровое стекло во всю ширину было прошито строчкой пуль — били из автомата и вблизи. Я заглянул в пыльную затхлость кабины. Сиденье было залито рыжими пятнами, Альфред Меланже погиб как боец.
Не говоря ни слова, женщина повернулась. Мы тоже вышли — тоже молча. Всякие слова были тут бесполезны.
Антуан задвинул ворота. Женщина скрылась в доме. Мы постояли у двери, но она не показывалась.
— Надо же спросить у неё, кто стрелял в Альфреда? — сказал я с бессильным отчаяньем.
Антуан снова пожал плечами и направился к машине. Там мы ещё постояли, покуривая, но женщины не было. Мне показалось, будто она следит за нами сквозь занавески — но зачем?
Из-за церковной ограды выехал длинный темно-синий «феррари» и повернул к автостраде. Антуан внимательно проводил его глазами, но ничего не сказал.
— Поедем?
— Поедем, — ответил он без всякого энтузиазма, но делать нам тут было больше нечего. Я не спеша обогнул нашу машину, безотчётно стремясь растянуть и без того томительные минуты.
Антуан открыл дверцу со своей стороны и присвистнул. Заднее колесо было спущено. Он подошёл, качнул головой и полез в багажник. Мы достали инструмент и запаску. Я принялся качать домкрат, а когда осевшее колесо отделилось от земли, поднял голову. Женщина стояла в дверях и смотрела в бесконечность. Антуан тоже увидел её, подбежал к ней и тут же вернулся, протянув мне широкую синюю тетрадь:
— Возьми. Это тебе, так она сказала. Она тебя узнала.
— Но ты объяснил, что я Виктор?
— Зачем? Она все равно не понимает.
Женщины уже не было, дверь плотно прикрыта. Теперь и дом казался нежилым, даже собака исчезла.
Я положил тетрадь на сиденье. Мы продолжали работу. Я любовался, как красиво и свободно управляется Антуан с колесом.
Потом мы тронулись. На повороте я обернулся. Женщина опять стояла у дверей, не видя нас. Меня прижало к Антуану, и дом скрылся за деревьями.
Я раскрыл тетрадь. Она была почти до половины исписана торопливым почерком по-французски. Я полистал страницы, почерк был один и тот же, иногда стояли даты. Из середины тетради выскользнул старый распечатанный конверт. Я машинально заглянул в него, вытащил визитную карточку, точно такую же, какую дал мне утром Ру. Все так же машинально я перевернул карточку и увидел то, что искал и чего всё время страшился. На обороте корявыми русскими буквами написано столбиком. С левой стороны начальные буквы начисто стёрты, но записка читалась без труда: «…ермен …арке …реда …ница».
ГЛАВА 17
«25.II.45. И всё же мы встретились, это случилось вчера. Он переменил внешность: отпустил усы, отрастил и перекрасил волосы, но я сразу узнал его, едва он вошёл в магазин. Я выждал, когда он заговорит с продавцом, и быстро юркнул на улицу. Сердце бешено колотилось от волнения, но он меня не заметил. Ах, какой я дурак, что не захватил в этот раз пистолет, слишком долго я искал этого человека, и надежды мои слабели с каждым месяцем. Но теперь он передо мной — один выстрел — и разом покончено со всеми страданиями. Он стоял за стеклом, выбирая ботинки, скошенный затылок чернел в прорези прицела — а пистолета не было. Какой я глупец! Один только выстрел сквозь витрину — и цель жизни моей исполнена. Прошло семь месяцев прежде, чем я нашёл его, полтора мучительных месяца в кровати в чужом доме и ещё сто шестьдесят дней поиска. И даже в сутолоке отступления, даже когда я приходил в полное отчаяние, что не найду его, что его уже нет в стране и что мне вообще померещилось, как он подходил ко мне, а потом шмыгнул в кусты, — даже тогда пистолет всегда был при мне. А сегодня я вышел на минуту — и не взял пистолета. Но теперь-то он не уйдёт от меня! Он неспешно примеривал ботинки и выбрал две пары, видно, ещё долго собирается ходить по земле. Он спокоен, у него преуспевающий вид, но он не знает, что я стою в пяти метрах от него за углом. Он вообще думает, что я мёртв, но я живу, я существую для того, чтобы перестал существовать он: так велели мне те, которых не стало. А он спокоен, ибо не знает, что такое веление мёртвых — тем неожиданнее будет мой выстрел. Он забрал коробки, вышел и тут же сел в машину, которую я сначала не заметил за „джипом“. Я быстро пошёл вперёд и успел запомнить номер прежде, чем он отъехал. Номер был местным, значит, он живёт сейчас в Намюре — и он от меня не уйдёт. Это даже хорошо, что я не взял сегодня пистолета, улица кишела американцами, меня тут же схватили бы. Но теперь я буду готов. Я вернулся в магазин, подошёл к продавцу: „Кажется, у вас только что был мой приятель Мишель, машина отошла от магазина, я не успел его окликнуть“. — „Мишель? — удивился продавец. — У нас был мсье…“ — и он назвал его. Итак, М.Р. превратился в П.Д., но я всё-таки нашёл тебя, Щёголь. Завтра я буду знать о тебе ещё больше. Сколько раз мне казалось, что я на верном следу, и столько же раз я приходил в отчаяние от того, что утеряна последняя нить. В одну из таких безнадёжных минут я даже отправился в Эвай к Ж.М., не зная, кого найду в ней, союзницу или врага, ведь я не имел права показываться там. Но Ж.М. готовилась стать матерью, наш разговор не состоялся. Ж.М. сказала, где она похоронила Бориса. Я сразу поехал в Ромушан и, став на колени, дал клятву, что отомщу за эту смерть. Где только я не был! Тебе надо было уйти, Щёголь, подобно Вилю, но ты был уверен, что погибли мы все, а ты остался. Но имя ты на всякий случай все же переменил, я предполагал и это. И я нашёл тебя».
«6.III.45. Несколько дней подбирал машину. Задача оказалась не из простых: чтобы машина не бросалась в глаза, она должна быть серийной, но и мотор мне нужен сильный. Лучше всего подошёл бы, конечно, „джип“, но его не достать. Наконец, я выбрал „рено“ тридцать девятого года, мотор, кажется, в порядке, и лошадиных сил в нём хватит, чтобы догнать тебя, М.Р. — П.Д.
Теперь наша игра пойдёт на равных. Я уже знаю все его маршруты, знаю его отель в Намюре и тот, который он приторговывает в горах. Но почему он выбрал именно этот дом у Лошадиной скалы, где я промахнулся? Ведь он даже не знал, где мы тогда были. Случайность ли это? — Решил нажиться на несчастье бедной вдовы или тут кроется что-то другое? Откуда у него столько денег? Сколько сребреников получил ты, Иуда? Но жди, скоро ты услышишь, как прокричит петух».
«12.III.45. Сегодня я чуть не раскрыл себя, хотя всё было задумано правильно. Я снял квартиру на четвёртом этаже в доме на набережной рядом с отелем. Из окна прекрасно виден двор и гараж, где стоит его машина. В „Святой Марии“ расположился какой-то штаб, он уже вовсю якшается с американцами, но так мне даже лучше следить за ним.
После завтрака он вывел машину из гаража и начал заправлять бак. Я быстро спустился вниз — у меня всё было готово. Мы выехали из города по люксембургской дороге, очевидно, он направлялся в горы. Я придерживался достаточного интервала, рассчитывая нагнать его за Маршем, когда начнутся леса. Но вдруг он затормозил и начал разворачиваться. Съезда не было, у дороги стоял дом, там играли дети, а навстречу шла колонна «студебеккеров», набитых солдатами. Стрелять в таких условиях было равносильно самоубийству. Мне не оставалось ничего другого, как ехать прямо. А он уже развернулся и медленно двигался навстречу, пропуская колонну. Я выжал из мотора все, что мог, и вихрем промчался мимо. Он пристально следил за мной, но вряд ли что можно было рассмотреть на такой бешеной скорости, к тому же на мне были чёрные очки. Почему же всё-таки он остановился и стал разворачиваться, ведь мы отъехали не больше десяти километров? Могут быть два варианта: он забыл что-то дома или обнаружил, что я слежу за ним. В любом случае придётся оставить квартиру в Намюре и действовать по новому плану. Буду ждать его на 34-й дороге, там есть хорошие места, рано или поздно он проедет по ней к Лошадиной скале. Тем не менее задача сильно усложнилась, хотя я продолжал уповать на бога, что это был лишь случайный эпизод. Денег после покупки машины осталось совсем немного».
«26.III.45. Он скрылся. Сомнений нет: он узнал меня, когда я промчался мимо, или выследил мою квартиру каким-либо другим образом, и тот разворот не был случайным. Отель в Намюре продаётся через посредника, и он там больше не показывался. Несколько дней я просидел в укрытии на дороге, но он ни разу не проехал. Погода была ужасная, я заработал простуду. Теперь придётся отлёживаться дома. Агнесса будет ухаживать за мной, пичкать горячим молоком. Меня бросает в дрожь, едва я подумаю об этом. Она уже стучится…»
«29.III.45. Зачем я пишу все это? Какая польза от моих слёзных записей, что дадут они мне? Я один — один в целом мире. Агнесса слишком мала, чтобы ей можно было довериться, отец стар и немощен, к тому же он всегда был против моего участия в Сопротивлении, он сумел неплохо прожить и при немцах. Друзья лежат в земле, нет Бориса, Василя, Семена, нет Марека, и Милана, и Роберта, и Мориса — никого. Виль скрылся в Конго и только раз прислал новогодний привет. Он вправе был обидеться на меня после того, как я отказался участвовать в реквизиции банка. Тогда я только оправился от раны, полученной в ту кошмарную ночь, и больше не мог оставаться в чужом доме. Союзники были уже близко, и хозяева опасались, что немцы начнут чистку прифронтовой полосы. Я послал за Вилем, и он тотчас явился. Виль тоже спешил, чтобы закончить все до прихода союзников. Мы говорили слишком откровенно, и оба осудили друг друга. Возможно, он был прав со своей точки зрения, ведь я давал ему своё согласие, и вся четвёрка была укомплектована. А за неделю до предприятия я отказался. Я пытался объяснить ему свои мотивы: нас предали, я должен отомстить, но он лишь расхохотался в ответ на это. Предательство кончается вместе с войной. Начинается новая эра, и каждый вправе позаботиться о себе. В нас нуждались лишь во время войны, чтобы мы погибали, преданными или не преданными — один черт! Ведь и те, что погибли в открытом бою — разве их не предали? Предали и мёртвых и живых, нажились на нашей смерти, и после войны мы станем никому не нужны. Так говорил Виль, споря со мной, я, как сейчас, вижу его разгорячённое гневное лицо! Я отвечал, что буду мстить, таково моё окончательное решение. Он просил и умолял, куда девалась его гордость? Но я оставался непреклонным, и он ушёл, хлопнув дверью, но оставив, однако, адрес, где я мог бы укрыться. А через пять дней он сделал все, что было задумано, но — без меня. Я даже не знал, кто был у него четвёртым. Реквизиция была совершена блестяще. Виль умел работать чисто. Но разве он сам не предал всех нас этой своей акцией? Об этом я и сказал ему, когда он неожиданно появился у меня перед тем, как навсегда исчезнуть. Он рассмеялся, заявив, что я всегда был идеалистом, и предложил мне деньги. „Чью же долю ты мне предлагаешь?“ — спросил я. „Ты можешь рассчитывать лишь на мою, — язвительно ответил он. — Мы поделились честно“. — „Кто же тот „счастливчик“, который заменил меня?“ — „Об этом ты никогда не узнаешь. У меня не было особой веры в него, но он справился не хуже тебя и честно заработал свою долю. А тебе я скажу на прощанье: ты дурак. Я знаю, кто отговорил тебя. Это сделал тот русский, ты всегда слушал его. Но русским нет дела до нас“. — „Борис погиб на нашей земле, — напомнил я. — Ты прав, он был против того, что ты задумал, но теперь его нет, и я отомщу за его смерть“. — „Конечно, ты дурак, у тебя было самое надёжное в мире алиби — могильная плита, ведь все считают тебя погибшим. Но ты сам прозевал свой последний шанс. Однако я помню, чем обязан тебе, и, если ты в конце концов сам убедишься, что проиграл, обратись ко мне, я помогу тебе“. Я сказал, что не нуждаюсь в помощи человека, который изменил нашему идеалу. Он был уязвлён и надменно бросил мне карточку своего брата: „Когда тебе станет совсем плохо, несчастный идеалист, ищи меня по этому адресу. Может, я и сам переберусь туда, теперь я могу выбирать любой материк и любой город. А чтобы я лучше понял тебя и поверил, ты начнёшь свою телеграмму такими словами: „мне очень плохо“. Это будет нашим паролем“.
Так я оказался один, и в целом мире у меня не стало никого и ничего, кроме этой тетради, она одна мой друг, собеседник, советчик. Ей одной могу поверить я свои мысли, и она отвечает мне верностью и сочувствием. Виль не дождётся от меня просительной телеграммы на Веллингтон-стрит на имя Чарли».
«31.III.45. За дни болезни я многое продумал и пришёл к выводу, что действовал до сих пор неправильно. Я должен бить наверняка, больше я не имею права на ошибку, довольно их было в моей жизни! Мой расчёт оказался неверным, я выбрал не то укрытие у Лошадиной скалы. Щёголь сознательно направил меня по ложному следу. Но рано или поздно он должен будет появиться в Намюре, чтобы покончить дела с отелем. Поэтому решено — буду ждать его там».
«28.V.45. Прошло почти два месяца прежде, чем я оказался в состоянии снова вернуться к заветной тетради. Сколько событий случилось за это время! Он выследил меня, кончилась война, умер отец, я получил наследство. Агнесса подвела меня, невинная Агнесса. Едва я уехал из дома, как он явился к ней и, представившись моим довоенным другом, узнал все, что только хотел узнать. Ни о чём не подозревая, я ехал домой из Намюра. Мы сошлись на перекрёстке, не доезжая Маню. Я увидел и узнал его машину издалека, но он всё-таки выпустил очередь первым. Было ещё слишком далеко, и пули не повредили машину — только в плечо ударило. Это не помешало мне всадить ответную очередь, его автомобиль уткнулся в кювет, а я помчался к Матье, потому что ранение было серьёзным, и кровь хлестала вовсю. Не помню как я добрался до Льежа, но Матье оказался верным другом, он спас меня и даже отвёз через несколько дней домой. Нет, я не сказал ему о том, в кого стрелял и кто стрелял в меня. Об этом знают только те, кого уже нет. Газеты оставили нашу встречу на пустынной дороге без внимания, значит, он тоже выбрался. Опять я промахнулся, второй раз в жизни.
Другое событие я перенёс куда легче. Отец умер сразу, упал за ужином со стула и не поднялся. Агнесса похоронила его без меня. Ресторан в Намюре и дом в Шервиле остались нам в наследство. Агнесса очень повзрослела за эти недели, ей исполнилось пятнадцать лет, и я решился рассказать ей обо всём. Она поклялась мне, что ни словом не обмолвилась об отце, Щёголь об этом не спрашивал её. Значит, мы можем чувствовать себя в Намюре спокойно, и я буду ближе к нему. Рано или поздно он проедет мимо, проедет в последний раз.
8 мая завершилась эта величайшая война, а за неделю до этого Гитлер покончил с собой, приняв яд и приказав сжечь себя в огне на манер древних викингов. Бесславный финал! Мир пришёл в обессиленную Европу, но моя война ещё не закончилась. По ночам я слышу голоса мёртвых друзей, они взывают к отмщению. И я верю, они слышат мою клятву: «Да, друзья, я отомщу за вас. Он оказался ещё более подлым и хитрым, чем я предполагал, но он всё равно не уйдёт от меня, клянусь вам в этом!..»
Антуан второпях полистал тетрадь, сказал «О ля-ля!» и умчался за Иваном. А я остался один на один с синей тетрадью. Тетрадь в моих руках, я вглядываюсь в страницы, но они молчат. Записи следуют одна за другой то с небольшими перерывами, то перескакивают через месяцы. Тетрадь должна дать мне ответ, соединить распавшиеся камни, ломчато сверкающие в глуби родника, но пока я не могу постичь ответа. Снова я должен ждать.
Продолжаю листать тетрадь. Строки становятся более торопливыми и рваными, цепляются одна за другую, но мне удаётся разобрать лишь отдельные слова, имена и даты.
Перелистываю несколько страниц. Только даты!
«11.Х.46. Опять он удрал от меня. Два месяца я ждал, когда он появится в Монсе, он появился и удрал. Я гнался за ним сорок километров. На этот раз я застал его врасплох, он был без оружия.
Мы выскочили из Монса на полном газу, он был впереди метров на триста, я настигал его и уже приготовил автомат, но тут дорогу на перекрёстке преградил грузовик, и я потерял драгоценное время. Мы неслись до самого Шарлеруа, дорога там прямая, и ему было некуда деться. Я был уже близко, но его выручил город, он ускользнул по улицам, которых я почти не знал. Из Шарлеруа выходят пять дорог, я мог караулить только одну. Тогда я начал методично прочёсывать город и снова накрыл его на выезде к Монсу. Мы понеслись по той же самой дороге. Я был уверен, что дело сделано. Оставалось меньше ста метров, как вдруг начал глохнуть мотор. Я совсем забыл, что бензин у меня на исходе, я слишком долго колесил по Шарлеруа, надо было заправиться там. Я выскочил, схватил канистру, а он тем временем повернул на север в сторону Брюсселя. Я долго видел его машину, пока она не скрылась за лесом. Гнаться было бессмысленно; он ушёл. Он нарочно не стал возвращаться в Монс, чтобы запутать следы, но и в Монсе он теперь не останется. Теперь он перейдёт в Гент, я почти уверен в этом. В Генте тоже продаётся отель…
Необходимо перекрасить машину».
«25.I.47. По ночам они приходят ко мне, садятся в изголовье, терзают своими вопросами. „Ты отомстил за нас?“ — спрашивает Василь. „Нет, — отвечает Борис, — он ещё не успел отомстить за нас, но он сделает это, мы должны набраться терпенья“. — „Но ты узнал, почему он предал нас?“ — продолжает Василь терзать меня. „Я говорил тебе, не надо было отпускать его из хижины в то утро, — подхватывает Милан. — Он лишь притворился, что пойдёт за фазаном, а сам пошёл к бошам“. — „Но ведь он всё-таки принёс двух фазанов. Он действительно ходил на охоту“, — это Робер пытается защитить меня. „Ты прав, Робер, — отвечаю я ему. — Буханка не виновен, не он предал нас. Нас предал другой, которого зовут П.Д.“ Но они не слышат меня. Тогда и я умолкаю. Я молчу и слушаю шорохи за стеной. С той ночи, как он внезапно появился в старом отцовском доме, я жду его, но он больше не приходит: в тот раз у него ничего не вышло, и он не хочет больше рисковать. Но я все равно жду его, слушаю каждый шорох, и голоса друзей лишь мешают мне. „Разве имеет значение, почему он предал? — раздаётся глухой голос в углу, там Марек сидит на корточках и щиплет лучину. — Если предательство имеет конкретную причину, разве оно перестаёт быть предательством?“ — „Я отомщу за вас, друзья, отомщу, — отвечаю я в темноту. — Ещё и двух лет не прошло, как я его встретил, и у меня ещё есть время“. — „Борис прав, — это снова Робер, он всегда был самым великодушным среди нас. — Вы же знаете, что командир уже три раза почти настигал его, а наш командир никогда не промахивается. В четвёртый раз он не уйдёт от него, и тогда мы успокоимся навеки“. — „Ха-xa, — смеётся Василь. — А кто тогда промахнулся, в том доме, у Лошадиной скалы? Борису пришлось выручать его. Вот кто никогда не мазал — Борис. Если бы Борис был нашим командиром, мы не погибли бы“. — „Тише, друзья, умоляю вас, вы мешаете мне слушать. Если вы будете мне мешать, вы погубите меня…“ Под утро голоса становятся невнятными, а когда встаёт солнце, они уходят совсем, и я засыпаю. После таких разговоров я несколько дней хожу разбитым и обессиленным, хорошо ещё, что они приходят не каждую ночь, и я могу отдохнуть от их осуждающих голосов».
«3.II.47. Сегодня Агнесса видела, как он дважды проехал мимо нашего дома. Я в это время был в префектуре, и он, конечно, знал, что меня нет, иначе он не поехал бы так нагло и открыто. Не прошло и недели, как мы сюда перебрались, а он уже пронюхал про нас. Он наблюдает за мной откуда-то. Хитрая бестия, мёртвые не тревожат его, он спит спокойно, утром выезжает на охоту за мной и следит за каждым моим шагом. Я забрался на чердак и тщательным образом исследовал окрестности. На ближнем холме стоит одинокий сарай — он может прятаться там. Дорога выходит из леса, делает крутой поворот и скрывается за церковью — он может караулить меня за оградой. Из мансарды видны два соседних дома — он и там может сидеть. Я ещё не успел познакомиться с соседями. А что, если он подкупил их? Я спустился в спальню, чтобы проверить автомат, и вдруг увидел его машину. Он выехал из-за церковной ограды — так я и знал. Я выскочил, погнался за ним, но его и след простыл. Я проехал километров двадцать, исколесил все дороги, но всё было напрасно. Неужто мне померещилось? Я же точно видел его машину, я могу узнать её из тысячи других, она всё время стоит перед моими глазами».
«12.III.47. Они не дают мне покоя. Больше всех злобствует Василь. „Почему ты валяешься в постели? — кричит он. — Или ты ждёшь, когда он сам придёт к тебе под твою пулю? Поезжай в горы, он сейчас там. Немедленно поезжай! Мы не уйдём до тех пор, пока ты не поедешь“. Борис успокаивает его, он всегда был добрым, хотя до самой смерти не знал об этом и любил казаться безжалостным. „Потерпи, Василь, — говорит Борис. — Теперь уже недолго ждать, а мы можем ждать вечно, потому что с нами уже ничего не сделается“. — „Ты, верно, заодно с ним, Лесник! — кричит Семён, кажется, он впервые заговорил с тех пор, как они начали приходить ко мне. — Ты тоже виноват перед нами, что отпустил на охоту Буханку“. — „Не перед вами я виноват, — отвечает Лесник, — я виноват лишь перед Жермен. Но она простила меня. Она зажгла факел в моей руке. Поэтому я говорю вам: мы можем ждать вечно“. — „Все же он мог бы поторопиться, — вступает Марек, он уже кончил щепать лучину и разводит огонь в углу, — мы уже порядочно ждём и никак не дождёмся“. — „Разве вы не видите, что он болен? — Кто это говорит? Огня ещё нет, и я не вижу его лица, а голоса не узнаю, наверное, это великодушный Робер. — Ему надо отдохнуть, он устал, гоняясь за ним по дорогам. Он устал и заболел. Мы лишь мешаем ему своими разговорами“. — „Спасибо, Робер“, — отвечаю я. „Ха-ха, болен? — теперь и Марек смеётся. — Да он просто струсил, вот в чём причина. Почему он с утра до вечера валяется в постели? Он просто боится его, ха-ха! А мы считали его своим командиром. Мы доверяли ему“.
Солнце встаёт, но они не уходят, они издеваются надо мной, терзают и клевещут, а я не в силах им ответить потому, что они не слышат меня. Они говорят что хотят, а сами не желают слушать моих доводов. Я бросаюсь на них с кулаками. Они лишь смеются в ответ и тут же ускользают. Кулаки мои бьются в кровь о стены, я падаю обессиленный. «Борис, Борис, — кричу я в отчаянье, — приди, Борис, ты один можешь помочь мне. Буханка не виноват, скажи им об этом. Ты же знаешь, Борис». Агнесса появляется в комнате, пытаясь успокоить меня, голоса утихают, и я прогоняю Агнессу из комнаты. О, если бы я мог заснуть и выспаться! Но Василь прав: я должен освободиться от этого, иначе они никогда не оставят меня.
Итак, решено. Завтра еду в «Остеллу».
ГЛАВА 18
«Жермен Марке предательница» — я отложил бесполезную пока тетрадь, слепо глядел на карточку и ничего не понимал. Снова рассыпались белые камни, которые я вот-вот готов был собрать. Я не верил, что Жермен предала «кабанов», но не верить в написанное было нелегко. А может, и в тетради названо имя Жермен? Тогда все сойдётся.
Машинально взглянул на часы. Прошло десять минут, как Антуан уехал, и пройдёт ещё полчаса, прежде чем он вернётся с Иваном. За это время я мог бы принять решение: взять мотоцикл, что стоит в сарае, дорога известна, десять минут — и я перед Жермен. Нет, я не имею права торопиться. Сейчас самое время побыть одному и попытаться собрать распавшиеся камни.
В доме тишина. Сюзанна хлопочет у очага, негромкое пение доносится до моей комнаты.
Как же это могло случиться? Зачем ей нужно было предавать «кабанов»? Она же любила отца. Матъе, конечно, прав, она не могла стрелять в Альфреда, но что ей стоило нанять убийцу? Мы доберёмся и до него. Но мотив, мотив? Неужто из-за денег? За франки, обещанные немцами? Вопросы снова опутывали меня, только зачем они мне теперь, когда в записке ясно сказано — предала Жермен. Антуан лишь головой покачал, когда я втолковал ему, что написано на карточке. Антуан сказал: «Подожди».
Ну что ж, подождём. «Са ва тре бьен, мадам де ля маркизе», — беззаботно напевала Сюзанна у своего очага. Действительно, «все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут, и жизнь легка, ни одного печального сюрприза, за исключеньем пустяка». Какой пустяк — не хватает лишь мотива. А зачем мне мотив? Мотив выводит Сюзи, ей и карты в руки. А я одно знаю — отец был предан. И он сам назвал предателя. Конечно же, записку мог написать он. Он мог писать в темноте, впопыхах, вкривь и вкось. А как попала карточка к Альфреду? Я поискал в тетради, но конверта не нашёл. Впрочем, Альфред и сам мог взять записку, когда уходил от раненого отца, а отец прикрыл отход. Помнится, Антуан говорил: когда он наутро нашёл отца, то удивился, почему у того все карманы были вывернуты и очищены. Да, Антуан точно говорил это. А я в тоске и ярости катался по земле и пропустил такую деталь! В самом деле, это странно. А если обдумать ещё раз то, что было на мосту? Они отходят, отец прикрывает. Но ведь и Альфред мог задержаться, он тоже мог быть ранен. Альфред наткнулся в темноте на убитого отца, вывернул у него карманы, чтобы забрать все бумаги. Альфред и взял карточку — чего тут гадать? Это не самое существенное. А главное то, что записку писал отец, писал в последнюю минуту жизни. И он написал слова, которые считал главными — только это и существенно. Отец не знал, к кому попадёт записка, но верил, что она не затеряется. С этой верой он и писал. И записка попала к сыну — может ли быть вернее? Это его завещание мне. Вот почему Жермен пыталась скрыть от нас адрес Альфреда, вот почему она ездила в Марш. Она успокоилась, узнав, что Альфред там больше не живёт, и тут же позвонила мне. Да, мы не нашли Альфреда, но синяя тетрадь в моих руках. Синяя тетрадь и записка. Ты крепко промахнулась, Жермен. «Шерше ля фам», — сказал чёрный монах. И я нашёл её. С женщины началась эта история, женщиной она и закончится.
На кухне послышались голоса, нет, это не Антуан, ему ещё рано. Сюзанна кому-то ответила, дверь распахнулась, и в комнату порывисто вошла молодая девушка. Она была в голубом свитере и короткой белой юбке, открывающей загорелые стройные ноги. Лицо без всяких следов косметики, но она и без того была чертовски хороша! На вид ей двадцать с малым хвостиком, и что-то знакомое чудится во всём её облике. Может, я видел её на церемонии? Нет, могу поручиться, что мы никогда не встречались: такую бы я запомнил.
Она вошла в комнату и смотрела на меня с настойчивым интересом и каким-то непонятным мне волнением. Сюзи стояла в дверях, улыбаясь, и даже лукаво подмигнула мне из-за спины девушки, как бы говоря: «Ага, попался, голубчик!» Но я-то меньше всего на свете боялся женщин, даже самых распрекрасных.
Я поднялся навстречу незнакомке.
— Здравствуйте, — выжидательно проговорила та, оглядываясь на Сюзанну. — Вы Виктор Маслов? — Похоже, она и Сюзанну видит впервые, нет, не проходят сегодня мои варианты. Кто же это может быть?
— Так точно, я Виктор, — я вспомнил женщину в чёрном и не торопился протягивать руку.
— Я Николь, Николь Масло, — быстро говорила она, не сводя с меня напряжённого взгляда. Чем я так её взволновал? Не Тереза ли её прислала? — Ты понимаешь?..
— Маслов? — переспросил я. — Чего ж тут понимать? Присядь-ка лучше, коль ты Маслов…
— Николь, Николь Масло, — на лицо её набежала облегчённая улыбка, а взгляд был трепетным и зовущим. Непостижимым образом её волнение передалось мне, и сердце заколотилось, потому что это все меняло.
— Не торопись, Николь, сейчас мы во всём разберёмся. Присядь же…
Сюзанна подскочила ко мне и затараторила:
— Николь э ля соёр де Виктор. Виктор э фрер де Николь. Са ва тре бьен. Компри? Харашо-о, — и счастливо засмеялась от избытка чувств, переполнивших её.
— Ля соёр, ля соёр, что сие значит? — оторопело спрашивал я, потому что уже знал, что это такое. — Подожди-ка, сейчас проверим по словарю.
Сюзанна подкинула книжицу. Николь продолжала ликующий стрекот:
— Диксионер, диксионер, Николь ля соёр, ля соёр…
Я лихорадочно перешвыривал страницы, ещё не веря. Но так и есть: ля соёр — сестра.
— Взгляни, — сказал я, протягивая ей словарь. — Так?
— Уи, уи, — она наскочила на меня и звонко чмокнула в щеку, это было убедительней всех «уи». — Я сестра. Николь Масло — сестра, — продолжала она, подлетела к Сюзанне и тоже на радостях поцеловала её. — Николь — сестра Виктора.
— Вот и познакомились, — перебил я, пытаясь поймать её руку. — Теперь отвечай, откуда ты взялась?
— Да, да, — она прильнула ко мне и снова чмокнула, на сей раз в ухо. — Виктор и Николь, брат и сестра, да, да.
— Это я уже усвоил. Но откуда ты взялась? Кто твоя мать? — я снова потянулся к словарю, но она уже прочла мои мысли.
— Жермен Марке, — радушно объявила она. — А я Николь Масло.
Так что ж, пока все правильно, примерно так я и предполагал. Жермен предала отца, и моя сестра — дочь предательницы. «Са ва тре бьен, мадам де ля маркизе. За исключеньем, правда, пустяка».
— Виктор, Виктор! — не успел я ни опомниться, ни подумать, как очутился перед зеркалом. Ни о чём не подозревая, Николь теребила меня, заставляя то повернуться, то наклониться, то приблизиться лицом к её лицу, то, наоборот, встать затылком к затылку, чтобы помериться ростом, — и все это с неистовыми восклицаниями, задорными подмигиваниями, смешными гримасами, которые весьма шли ей, и она знала это. Я покорно поворачивался, пытаясь прикинуть между паузами хоть что-нибудь подходящее. Снова рассыпались мои камни.
— Похожа, ну правда, похожа, Сюзи?! — вскрикивала она.
Сюзанна поспешила к зеркалу, вставленному в шкаф. Я увидел возбуждённо-дурашливое лицо Николь, открыто радостную Сюзанну и свою сосредоточенно-притворную физиономию. Слишком многое переменилось с появлением Николь в этой комнате, и я ещё не мог предвидеть все последствия этого неожиданного явления.
Сюзанна смотрела на нас, ободряюще переводя взгляд с Николь на меня, потом опять на Николь, — да, да, похожи, ну конечно, похожи, глаза немного разные, но нос — вылитый и губы — вылитые. Потом ойкнула и умчалась из комнаты. На кухне загремели кастрюли, оттуда сладко потянуло пригорелым тестом.
Мы остались одни, и я попробовал улыбнуться. Эх, была не была, пока суд да дело, а сестру я теперь заимел, этого у меня уже не отнимешь. Такая длинноногая сестрёнка и всё же младшая, недаром она так светозарно радуется вновь найденному старшему братцу. Похоже, неглупа. Но как все осложнилось с её появлением…
— Я хочу быть тебе хорошей сестрой, — щебетала Николь, не давая мне сосредоточиться. — Но я не знаю твоего языка. А мне так много хочется сказать тебе.
— Ещё наговоримся, не спеши. Скажи-ка лучше, когда ты родилась? — я протянул ей разговорник с этим вопросом.
Николь тут же схватила карандаш.
— 5 марта 1945 года, — написала она цифрами.
Хорошенькое дело, я покачал головой, выходит, отец был ещё жив, когда Жермен могла знать, что ждёт ребёнка. И, зная об этом, она… Нет, такое даже в голове не укладывалось.
А Николь не давала мне передышки. Ей тоже хотелось знать. Ну что ж, Николь, пора переходить на волапюк, попробуем сообща разобраться. Мы вооружились словарями, уселись рядышком на диван. Как мы коверкали слова и всячески ухищрялись, помогая руками, предметами, мимикой, чертя карандашом, строя самые нелепые фразы, чтобы лучше понять друг друга. Впрочем, я постараюсь передать наш разговор обычной речью. А говорили мы о том же.
— Когда ты узнала, что Маслов твой отец?
— Позавчера. На другой день после того, как вы приезжали к нам. Я удивилась: зачем русские пришли в наш дом? Я даже видела тебя на террасе, но мать меня прогнала. А когда вы уехали, мама плакала, и папа Ив ругал её.
— Кто же тебе сказал про твоего отца? Мать? — Наивный вопрос, но всё же надо задать его для очистки совести.
— Что ты? — Николь покраснела. — Она даже не знает, что я поехала к тебе. Мама всегда говорила, что мой отец Ив. Я так и думала до пятнадцати лет, пока не начала соображать. А потом узнала, что я родилась через месяц после того, как Ив вернулся из немецкого лагеря. Но я сделала вид, будто ничего не знаю, и продолжала называть его отцом. Он ко мне прекрасно относился. Но я верила: когда-нибудь я узнаю, кто мой отец. И позавчера Жорж сказал об этом.
— Жорж? Кто такой Жорж?
— Он работает в нашем магазине. Он говорил, что видел тебя внизу.
— А Жорж откуда знает?
— Он всё время живёт в Эвае. Он был в партизанах и знал твоего отца, то есть нашего. И когда он увидел тебя, он сказал, что мы с тобой очень похожи. Жорж сказал, что наш отец и моя мать любили друг друга. Расскажи же мне про отца. Все, что ты знаешь!
— Расскажу, Николь. Я тебе расскажу, — но, бог мой, как трудно иногда сказать самые простые вещи. Любила и предала — каким коварством надо обладать, чтобы поступить так. Предала отца, предала неродившуюся дочь… А может, именно из-за Николь она и решилась на это. Да, именно так. Вот он, мотив, которого не хватало. Чтобы люди не узнали, что у неё будет ребёнок от русского партизана, и решилась она на этот отчаянный шаг! Но разве это смягчает её вину? Отнюдь! Бедная сестрёнка Николетт! Что станет с ней, когда она узнает о матери. Нет, этого нельзя допустить, надо как-то предупредить Антуана. А моя мать? Каково-то будет ей узнать об этом предательстве?.. Как я ей расскажу?.. Вот как все сделалось сложно.
— Ты знаешь, как погиб отец? — продолжала вопрошать Николь себе на беду.
— Нет, Николь, — твёрдо ответил я, глядя в её заискивающие глаза. — Я многого ещё не знаю. Давай подождём Антуана.
— Я прилечу к тебе в Москву, — заявила Николь, беспечно перескакивая на новую тему. — Я ведь сестра, а сестра может поехать к брату, правда? — Она увидела визитную карточку, лежавшую на столе рядом с тетрадью, и потянулась к ней. Я хотел было перехватить, но рукой махнул, пусть читает, все равно не поймёт.
— Альфред Меланже, — прочитала она. — Кто это?
— Он умер, — опустошённо ответил я. — Он был в одном отряде с отцом.
— Он был «кабаном», да?
— Откуда ты знаешь про «кабанов»? — куда бы ни уходил наш разговор, он любым путём возвращался к могильному камню.
— Мне Жорж сказал. Он говорил, что у отца была кличка. Его звали Лесником, это верно? — Она взяла меня за руку и робко спросила: — Почему ты меня не поцелуешь? Разве я не сестра тебе? Или я тебе не нравлюсь? Может быть, у вас не принято целовать сестёр?
— Ты очень красивая, Николь, — я притянул её, она приклеилась ко мне щекой, и сладкий холодок нежности пробежал по мне: вот когда я понял, что она мне сестра.
— И ты красивый, — она обжигающе взглянула на меня. — Я так рада, что у меня такой красивый брат!
На дворе послышался шум мотора. Я осторожно отодвинулся от Николь. Но в окне показался «ситроен» с бежевым верхом. За рулём сидела женщина. Я не сразу узнал её, а когда узнал, кулаки у меня сами собой зачесались. Но, видит бог, я не хотел этого.
— Я приеду к тебе в Москву, — тараторила Николь. — Интересно, как встретит меня твоя мать?
— Держись, сестрёнка, — проговорил я, вставая. — Сейчас что-то будет.
С неустрашимым видом Жермен вошла, нет, ворвалась в комнату. На меня она даже не глянула. Шаг, другой — и смачный шлепок пощёчины звоном отдался в моих ушах.
— Нет, нет! — закричала Николь, хватаясь за лицо. — Я все знаю. Я все сказала Виктору. Зачем ты бьёшь меня?
— Как вы смеете, мадам? — начал я по-русски, угрожающе надвигаясь на Жермен. — Вы, кажется, забыли, что находитесь не у себя за прилавком, — но она цепко ухватила Николь и потащила её к двери, продолжая гневно ругаться. Николь все же вырвалась, отбежала за стол, загородившись от матери стулом.
— Виктор мой брат, — кричала она в отчаянье. — Я Николь Масло!
Жермен продолжала кричать. «Ты Николь Марке! Жорж ничего не знает», — выхватывал я из её быстрой речи.
Жермен отрекается от отца. Опять она готова предать его. Тем хуже для неё. Тогда и я молчать не стану. Мотив я ухватил. Нечего в благородство играть, Николь — взрослый человек и вправе сама сделать выбор, поэтому она должна знать правду.
— Сейчас же едем домой, — кричала Жермен, стоя против Николь по другую сторону стола. — Тебе здесь нечего делать! У тебя здесь никого нет!
— Здесь Виктор. Он мой брат, — твердила Николь, не трогаясь с места. — Я хочу знать об отце.
— Я расскажу, — мрачно пообещал я Жермен. — Николь узнает правду. И сейчас же.
Но Жермен было не до того, чтобы вникать в смысл моих слов, даже если она и поняла их. Жермен подступила к дочери, но Николь снова увернулась и повисла на моей руке.
— Ах так! — Жермен скривилась в бессильной ярости. — Я вижу, вы уже сговорились. Можешь оставаться здесь. Но помни, тогда мой дом будет закрыт для тебя, — она повернулась к двери. Я оставил Николь, подскочил к двери первым. Надо задержать её до прихода Антуана. Так просто ты не уйдёшь, Жермен! Сейчас ты узнаешь такое!..
Жермен остановилась, с недоумением смотря на меня.
— Одну минуту, мадам, — неудержимо начал я, доставая бумажник. — Вот! Взгляните на это. — Я поднёс карточку к её лицу. — Жермен Марке делала визит в Марш-ан-Фамен. Вы надеялись, мадам, что мы не найдём Альфреда. Но мы его нашли.
Жермен продолжала смотреть на меня с гордым недоумением, но, видно, то, что было написано на моём лице, говорило ей больше, чем мои слова. Она поняла! Лицо её сделалось жалким и старым.
— Не понимаю, о чём вы говорите, — пробормотала она, стараясь сохранить остатки своей надменности.
— Ты ездила в Марш? Зачем? — удивилась Николь.
— Сейчас вы поймёте, мадам. И ты, Николь, узнаешь то, что хотела узнать. Здесь всё написано. Сезам, откройся! — Я поднял карточку над головой и клятвенно произнёс: — Отец писал это перед смертью. Понимаете? Борис писал про Жермен. Небольшой «презент» пур мадам, для вас, Жермен. Но он стоит многого. Больше двадцати лет об этом никто не знал, теперь мёртвый Альфред передал мне карточку, и завтра об этом узнает вся Бельгия. Здесь написано все!
Николь бросилась ко мне:
— Там написано про меня, да?
— Сейчас я все скажу, — торопился я. — Сначала я хотел проверить и уточнить, но раз она отрекается, я скажу сам. Вот что отец написал: «Жермен Марке предательница», — я с наслаждением бросал слова в её испуганно окаменевшее лицо. — А, вы не понимаете? Но я могу сказать и так, что вы поймёте… Сейчас вы узнаете, сейчас. Диксионер, сестрёнка? — Николь с готовностью схватила словарь, наши руки неловко столкнулись, и словарь выпал, завалившись под стол. Я нырнул за ним, судорожно листал страницы, стоя на коленях, потому что у меня уже не оставалось времени. Боже, сколько слов придумали люди, чтобы оградить себя от правды. А мне необходимо одно-единственное слово, только оно и существует на свете: предчувствие, не то, предсказание, предикат, предбанник, не то, не то, кто же мог знать, что мне придётся учить такие слова, вот оно — предать!
Но в словаре уже не стало нужды. Дверь распахнулась, в комнату вошёл Антуан, из-за его спины выглядывало любопытствующее лицо Ивана. Я так увлёкся, что даже не слышал, как подъехала машина. Тем лучше — сейчас при них скажу.
Антуан с удивлением поздоровался с Жермен. Та несколько смутилась, но всё же попыталась ответить с достоинством. Николь сделала реверанс.
Иван уставился на меня:
— Что ты делаешь под столом?
— Ищу справедливость, Иван, — отвечал я сконфуженно. — Но её не оказалось и там. Это Николь, познакомьтесь.
Николь улыбнулась и снова сделала кокетливый реверанс перед Иваном.
— Привёз к себе свою бельгийскую невесту? — неуклюже пошутил Иван.
— На большее твоя фантазия не способна? Сейчас все узнаешь. Читай! — я протянул ему карточку.
Но Иван и бровью не повёл.
— Слышал от Антуана, — бросил он, — это надо ещё проверять.
Антуан уже безмятежно разговаривал с женщинами, изредка бросая на меня пытливые взгляды.
— Внимание. Атансьон, — выкликнул я устало. — Кончайте разводить китайские церемонии, мы не на королевском приёме. У нас есть дела поважнее. Иван, сейчас же скажи Николь, что её мать предала нашего отца и виновна в его смерти.
— Почему ты говоришь «нашего отца»? — удивился Иван. — Я не могу так переводить.
— Да разве в этом дело? — я лишь рукой потерянно махнул. — Неужто ты не понимаешь: предала, предала. Вот она перед тобой сидит.
— Ты говоришь серьёзные слова, — настаивал Иван. — Я хочу переводить точно. Так я только помешаю своей родине.
Николь смотрела на меня с тревогой и надеждой, пытаясь понять наш разговор. Я нагнулся, поднял словарь, который так и остался лежать раскрытым, и захлопнул его.
— Ну разумеется, Иван, — только и сказал я. — Не бойся! Моя родина выдержит, когда узнает, что Николь мне сестра. Ля соёр. Или тебе по-китайски сказать, чтобы ты понял?
— Николь ля соёр, — подтвердила Николь.
— Сейчас я проверю, — Иван невозмутимо отвернулся от меня и перешёл на французский.
Разговором правил Антуан: удерживал порывающегося Ивана, терпеливо втолковывал, обращаясь к Жермен, мягко улыбался Николь. Мне он сделал выразительный жест, призывая к терпению. Жермен, конечно, темнила. Антуан внимательно слушал. Николь не верила матери и порывалась вмешаться. Даже Сюзанна, расставив посуду, молвила слово, пытаясь убедить Жермен. Иван сокрушённо качал головой.
А Жермен все отрицала.
— Кончай, Иван, — перебил я, не выдержав. — Брат, сестра — сейчас это дело десятое. Ты лучше записку прочти: пусть она узнает, кто она есть. Только ты Николь это скажи, а я на них посмотрю, на обеих.
— Я не могу так для тебя переводить, — настаивал Иван.
— Ты на кого работаешь? — я изумился. — На них или на свою родину ты работаешь? Здесь же чёрным по белому написано…
Жермен замолчала и слушала наш разговор.
— Ты не знаешь ихних законов, — ответил Иван. — Если ты скажешь, и это будет неправда, Жермен будет писать на тебя в суд. Она сделает тебе сатисфаксьон и спрячет тебя в тюрьму.
Я невесело усмехнулся:
— Хорошие перспективочки ты мне сулишь, о Иван, закованный в капиталистические цепи. То сватаешь меня хозяином бистро, то в тюрьму запрятать грозишь. Давай, Иван, трудись. А то, что отец здесь написал, тебе плевать, это же не твой отец.
— А как попала визитная карта к Альфреду, ты знаешь?
— Спроси что-нибудь полегче. Альфред сам и взял её у отца, когда тот был убит.
— Напрасно ты так рассуждаешь, — желчно произнёс Иван. — А где та карта лежала?
— Один-ноль в твою пользу, Иван, — льстиво признался я. — Гордись, Шульга. Нашёл конверт на полу кабины? Ты крупный следопыт. — Николь подошла ко мне и стала за спиной. Я облегчённо взял её руку. — Не тревожься за меня, сестрёнка, кажется, мы обойдёмся без сатисфакции.
— Пожалуйста, мы от тебя ничего не скрываем, — с торжеством продолжал Иван. — Конверт нашёл Антуан. Он не будет его прятать от тебя.
— Остаётся взглянуть на штемпель. Значит, ты считаешь…
— Я с вами не ездил, — уязвленно перебил Иван. — Это Антуан так считает. А я с ним лишь говорил, когда мы сюда ехали.
Антуан достал из пиджака конверт. Штемпель в самом деле поблек от времени, но разобрать его все же можно было. Я вгляделся: 15 марта 1947 года. В какой же шкатулке почти два года беспросветно таилась отцовская записка? И как стремительно она выскочила на свет — через два дня после смерти Альфреда.
Подходящую загадку задал мне Антуан.
— Что это за конверт? — спросила Николь, насторожённо отступая от меня. — Ты что-то скрываешь от меня? Я должна знать.
— Сейчас Антуан тебе все объяснит. Слушай его, Николетт.
Жермен уже не хорохорилась и сидела притихнув. Она поняла: происходит нечто серьёзное, и она имеет к этому прямое отношение.
Антуан начал. Иван великодушно переводил на своём языке:
— Эту карту писал Борис, но попала она в чужой адрес. Помнишь, Антуан говорил на мосту, что у Бориса все карманы были вывернуты. Значит, кто-то обшарил Бориса, когда тот был уже мёртвый. Антуан не думает, что это был Альфред, карточка два года лежала в чужих руках. Но вот Альфреда не стало, и через два дня послали карточку на его убитое имя. Конверт был послан из Ла-Роша, тут и штемпель отеля есть. Кто же послал этот конверт? Тот, кто шарил отца, владел карточкой и убил Альфреда. Это был один и тот же человек. Он думал, что власти или друзья Альфреда начнут искать автора этой пули, и потому хотел сделать так, чтобы не быть на следу у искателей.
— Замести следы он должен был, это верно, — машинально поправил я. — О вывернутых карманах я и сам думал.
— Кроме того, Антуан говорит, что в синей тетради написано, кто стрелял в Альфреда первый раз, когда он ездил к Матье Ру.
— Ещё бы. Синяя тетрадь молчать не будет, — я воодушевился. — Кто же это? Я же не мог без вас прочитать тетради…
— Надо мне самому почитать, — объявил Иван. — Пока Антуан видел там только буквы, как это сказать?
— Инициалы.
— Да, те самые твои инициалы, которые ты нашёл на ноже и на дереве: «М» и «R». А потом тот человек их переменил. Но Антуан думает, может, Альфред написал хотя бы его имя.
— Значит, тетрадь зашифрована? Интересный винегрет, — насмешливо начал я. — Какие вы все великие конспираторы: пароли, клички, шифр. Как я могу работать в таких условиях? Вот они, ваши распрекрасные законы! Отряд был предан, а предателя нет. Но ведь только три человека знали, что «кабаны» пойдут на мост: Альфред, отец и Жермен. Опять мы вернулись к нашим баранам. Выходит, если Жермен тут ни при чём, они сами себя предали. Сами пошли к немцам и сказали: в среду мы нападём на мост через Амбле, встречайте нас. Рандеву назначаем вам на двенадцать ноль-ноль. Так, что ли, было на мосту? Снова ты, Иван, путаешь все мои карты. Никакого сладу с тобой нет.
— Антуан говорит, — терпеливо ответил Иван, дав мне излиться, — что мог быть и четвёртый человек, который знал об этом.
— Ну разумеется, Жермен ему сказала.
— Да, он говорит, что надо спросить у Жермен.
— Опять она начнёт увиливать. Не верю я ей. Неужто ты не видишь, Иван? И в первый раз она увиливала. Теперь от отца отрекается. Тоже красиво.
— Антуан говорит наоборот, — возразил Иван. — Он сказал ей, что понимает её мотивы.
— Знаю я эти мотивы! Не хочет она правды — вот её мотив.
— Антуан все равно решил ей сказать, он ведь тоже упрямый, вроде тебя.
— А я о чём вам два часа толкую? И до тебя дошло, наконец?
Все это время Жермен напряжённо слушала наш разговор. Николь тревожно переводила глаза с меня на Ивана, потом опять на меня, она буквально в рот нам глядела. Все ждали. Но вот Антуан взял со стола карточку и обратился к Жермен. Он сказал ей несколько слов. Жермен тут же обмякла и залилась слезами. Я увидел в глазах Николь испуг и осуждение. Она подбежала к матери, прильнула к ней.
— Нет, нет! — вскричала Жермен.
— Какой приятный пассаж! — я рукой махнул. — Двадцать лет спустя, или Запоздалое раскаянье, третья серия. Что Антуан сказал ей?
— Он только прочитал, что там было написано.
Антуан подошёл к Жермен, говоря ей что-то болеутоляющее. Жермен всхлипывала. Николь смотрела на меня с укоризной.
Нет, я не жалел Жермен, она лишь своё получила. Но всё-таки я был старшим братом, у меня появились обязанности. Я подошёл к Николь, взял похолодевшую её руку.
— Не горюй, сестрёнка. Перед тобой-то я не виноват. Твоя мать ради тебя старалась. И я ради тебя. Я сам виноват, что конверт обронил. А Иван нашёл, смотри, какой счастливый сидит. Пожилой следопыт называется.
— Этого я не буду переводить, — обиделся было Иван.
— А мы с Николь и без тебя отлично общаемся. Правда, сестрёнка?
Николь доверчиво пожала мою руку. Жермен продолжала всхлипывать, но уже с передышками. Сюзанна вошла в комнату и тоже слушала, что говорит Жермен.
— О чём она? Признает меня за пасынка и утверждает в наследстве? Получишь первую курицу, Иван.
— Зачем ты смеёшься? — вступился Иван. — Она сейчас очень страдает. Ей тяжело думать, что Борис считал её предательницей и умер с этой мыслью, так она говорит. Поэтому она плачет. Он ведь не знал про Николь, она ему не сказала, потому что была тогда не совсем уверена. Она надеялась, что скажет ему в другой раз, но он больше никогда не пришёл к ней. Если бы она сказала Борису, он бы так не писал.
— Надо с первого раза говорить правду, мадам. Ладно, Иван, не переводи ей. Скажи Николь, что отец про меня тоже не знал. Двое нас у него — и ни о ком он не знал. Сиротинки мы с тобой, Николетт, — я петушился из последних сил, а на душе кошки скребли. Если даже тетрадь зашифрована, не скоро мы доберёмся до правды. Ах, как я был раздосадован. Отец обманулся, а я поддался ложным подозрениям, потому что не мог не поверить отцовскому зову. — А Жермен передай, что я виноват перед ней. Я же не учёл конверт.
Иван перевёл. Жермен улыбнулась сквозь слёзы, а Николь повернулась и чмокнула меня в третий раз.
— Жермен говорит, что ты хороший сын и не мог поступить иначе. Но она просит и твоего понимания. Разве могла она предать? Невозможно сказать, как страдала она от этой пули, которая убила Бориса, это было все равно, что пуля в неё. Она любила Бориса и не могла предать его по закону любви. Как хорошо, что у неё есть дочь от любимого. Она жалеет лишь об одном, что не сказала тогда Борису. В этом её большая вина.
— А я виноват, что было заподозрил её. Я же не мог знать про Николь, — так мы изо всех сил великодушно винились друг перед другом. — Передай ей, что я постараюсь быть хорошим братом для Николетт.
— Мерси, Виктор, — ответила Жермен.
— Она произносит тебе мерси, — трудолюбиво перевёл Иван.
— О ля-ля! — воодушевился Антуан. — Теперь мы можем поздравить сестру и брата. К тому же мы проголодались.
— Сначала все же спросим Жермен, знает ли она о четвёртом человеке.
— Это был Мишель, которого окликали Щёголем, — ответил Иван. — Он знал, что «кабаны» пойдут на мост.
— Каким же образом он узнал?
— Он был телохранителем Альфреда и Бориса и всегда ходил с ними. В тот день, когда они виделись последний раз, Борис пришёл вместе с Мишелем. Партизаны не имели такого права, чтобы ходить одинокими. Жермен и Борис вели свой разговор на кухне, а Мишель сидел в саду. Если бы он захотел, он мог бы все услышать через окно. И он все слышал.
— Почему Жермен так уверенно говорит об этом?
— Потому что потом Борис пошёл к американскому лётчику, который прятался в Эвае. Борис мечтал пробраться в Англию, чтобы бить бошей. Он ушёл договариваться, а Мишель появился на кухне и спросил у Жермен: «Ты пойдёшь с нами на мост в среду?» И Жермен ответила: «Я в леса не хожу, я женщина». Она тогда подумала, что это Борис сам сказал Мишелю про мост, но теперь она уверена, что тот все пронюхал через окно. После того как «кабаны» погибли, она имела подозрение на предательство, на это даже Альфред намекал, вот почему она подумала о нём, что он такой странный. Но что может сделать женщина? Она даже не знала, кому должна мстить…
— Женщина может сказать правду с первого раза, — в сердцах перебил я.
— Можно тебя переводить? — со светской улыбкой спросил Иван.
— Не стесняйся, Ванечка, переводи.
— Она тебе отвечает, — продолжал Иван, — что ты не знаешь ихнюю женскую психологию. Она бы не смогла жить с таким камнем на шее, зная, что «кабанов» предали. И постепенно она убедила себя в том, что предателя не было, так ей было спокойнее жить. В этом она готова раскрыться теперь. Она долго плакала после нашей встречи, а потом стала думать и придумала, что ты ей не поверил. И ещё она придумала, что ты имеешь право знать про предателя, ведь ты можешь отомстить и за неё. Но она не хотела, чтобы ты узнал про Николь, поэтому она так долго терзалась и думала. В последний раз Альфред видел её в положении, он был посвящён в ихний амур с Борисом. Если вы узнаете об этом, Николь будет несчастлива, так она думала.
— Я знал про Николь, — с улыбкой заметил Антуан, — это хорошо, что Жермен теперь сама говорит об этом.
Смущённая Жермен снова взялась за платочек и принялась осушать глаза.
— Она просит у тебя пардона, — добросовестно переводил Иван, — она имеет надежду, что ты поймёшь её, почему она села за руль и сама поехала в Марш, чтобы предупредить Альфреда не говорить про Николь, и пусть он расскажет всё остальное. Ах, почему она не сказала тогда Борису про своего инфанта? Это она так говорит, — заключил Иван, — а я только перевожу.
— Хорошо переводишь, Ваня, чистосердечно. Эх, Антуан, ведь мы уже в субботу могли синюю тетрадь заиметь, два дня, целых два дня…
— Это мне переводить? — полюбопытствовал Иван на русском языке.
— Сам потом Антуану скажу. Но коль Жермен сказала нам всю правду, пусть назовёт теперь предателя.
— Она не знает, — обескураженно ответил Иван.
— Как не знает? Разве Альфред ей не сказал?
— Он сделал тонкий намёк, он сказал, что убьёт этого предателя, если узнает про него. Это было все. А дальше он смотрел на её живот и молчал.
— А где хоть был предатель: в отряде или со стороны? Скажи, Иван, что это очень важный вопрос — вопрос всех вопросов.
— Она всё-таки думает на Мишеля: люди видели его после войны в горах. Неужели ты снова не веришь ей? Она тебе удивляется.
— Верю, верю, Иван, но я же правду должен знать! Не до нюансов мне теперь. На Мариенвальда, чёрного монаха, она не имеет подозрений?
— Он богатый и порядочный человек. Он честно сотрудничал с англичанами. После войны он ещё больше разбогател. Теперь у него много миллионов. Но он не мог знать про «кабанов».
— А полковник Виль? Он не посвящал Жермен в свои планы относительно банка.
— Что ты? Это не женское дело. Об этом не знал никто.
Я вздохнул:
— Ну что же, все сходится. Только предателя все не видать. Давайте хоть поглядим на него.
— Как же мы его увидим? — подивился Иван.
— Счёт сравнялся, о отважный следопыт: один-один, — я горько засмеялся и достал фотографию, которую привёз Матье Ру. — Тут все «кабаны» налицо. Сейчас я сам определю Мишеля. Как там его окликали — Щёголь? Тогда вот этот франт с пёстрым шарфом, — я указал на жгучего брюнета, стоящего вторым слева.
Жермен покачала головой.
— Ты показал на Милана Петровича, — отозвался Антуан.
— Попробуем ещё раз. Значит, кличка дана по контрасту. Вот он, этот крючковатый рохля с узким лицом, рядом с отцом стоит. С таким носом он никуда от нас не денется.
— Да, это Мишель, — подтвердила Жермен.
Отец продолжал улыбаться, и предатель стоял рядом, положив руку на его плечо. Оглянись, отец, погаси улыбку. Иуда рядом с тобой, неужто ты не чувствуешь дрожи его руки, не видишь затаённое предательство в его глазах? Но отец застыл недвижно, и улыбка не сходит с лица. Таким он навсегда останется.
— Я буду искать предателя вместе с вами, — отважно заявила Николь. — Ведь Борис — мой отец. Пепел Клааса стучит в моё сердце.
Я с тоской сжал её руку.
ГЛАВА 19
— Тут опять эти закорючки, — лепетал Иван, — я забыл, как их переводить.
— Кавычки, знак прямой речи, — пытаюсь втолковать ему, но он глядит на меня вопрошающими глазами. — Значит, отсюда начинается прямая речь. Кто там говорит: Альфред или Виль?
Антуан заглядывает в тетрадь.
— Это Виль говорит. Они тогда поспорили и разошлись.
— Ладно, Иван. Пусть Антуан забирает тетрадь и сам читает, а потом расскажет своими словами.
Закуриваю. Второй час ночи. Иван почти на каждой фразе спотыкается, но упрямо стоит на своём. Наконец на закорючках он сдаётся, уступает тетрадь Антуану.
— Перекур с дремотой, — объявляю я. — Поговорим за жизнь. Ты не должен переутомляться, Иван: родина ждёт от тебя новых свершений.
— Моя Тереза тоже плохо знает грамоту, — вздыхает Иван, — в войну она училась мало. Но для Мари мы сделали хорошее образование. Мари обучалась в свободной системе, за такую школу приходилось платить много денег.
— Зять-то чем занимается?
— Он учится фотографическому делу. Но он ещё молод. Я говорил им: не надо делать детей. Мари познакомилась с ним на ярмарке. Клод проживает в Льеже и часто оставался ночевать у нас в доме. Мы с Терезой ложились спать в средней спальне, чтобы они не могли бегать друг к другу.
— Проспал ты, Иван, — посмеиваюсь я.
— Да, я проспал своего внука, пришлось вести их к кюре.
Я отправился на кухню, чтобы сварить кофе покрепче. Выпили кофейку, опять пообщались с Иваном.
Наконец Антуан захлопнул тетрадь и дал резюме. Не очень-то весёлым оказалось оно. Альфред Меланже не выдержал напряжения поединка, растянувшегося больше чем на два года: заболел и попал в лапы к Мишелю. Тот чисто сработал. Ещё до убийства Альфреда переменил имя и сделался П.Д. Даже болезнью Альфреда сумел он воспользоваться: маячил перед ним и уходил. А потом простучала та очередь, прошившая ветровое стекло. Отныне Щёголь был уверен в своей безнаказанности: не осталось ни одного живого свидетеля его преступления.
Зато мы получили уравнение с двумя неизвестными: Мишель R. = П.Дамере, кличка Щёголь. Это и есть единственная наша ниточка, такая тонкая, что её даже потянуть боязно, того гляди оборвётся. То он в Монсе, этот вездесущий Щёголь, то в Намюре, то в Генте, ищи-свищи по всей Бельгии. Ни имени, ни адреса, ни знака. Альфред Меланже боялся довериться до конца даже бумаге, и тайна ушла вместе с ним. Правда, можно поехать в Намюр или Монс, чтобы попробовать там раскопать, какой такой П.Д. покупал и продавал отели вскоре после войны: в нотариальных конторах могут сохраниться записи, но это тоже дело затяжное.
Последняя остаётся зацепка: «Остелла» — предсмертный клич Альфреда Меланже. Случайно ли это вырвалось в полубредовом беспамятстве, или то был пророческий вскрик отчаявшегося сердца?
Утро вечера мудрёнее. Иван поехал домой, мы с Антуаном разошлись по спальням. Тот поспал всего три часа и помчался к своей цистерне. Я встал с неясной головой, побежал к роднику. Распавшиеся камни тайно поблёскивали в воде, ничто не могло потревожить их ломчатого покоя.
Я побежал обратно, хватая с кустов ежевику. Факты нужны мне, достоверные факты, а их как раз и не было. Зато загадок сколько хочешь надавала синяя тетрадь: Лошадиная скала, дом в горах, ещё один «кабан» по кличке Буханка — откуда он взялся? И снова путается под ногами полковник Виль — на кой черт он мне сдался вместе с его Веллингтон-стритом? Тени обступают меня, сплошные тени, и с каждым разом их становится все больше.
Как же всё было? Мишель сделал вид, будто ушёл на охоту, и передал план операции немцам. Но мотив, каков мотив предательства? Только он может сцепить добытые факты, соединить распавшиеся камни.
Бегу по открытой дороге, и дальние холмы влекут меня. Он где-то там бродит. Он предал, убил, но совесть его не терзает, он крепко спит, исполнив свой предательский мотив, и голоса им убиенных не тревожат его по ночам. Живой и невредимый, преуспевающий, жуирующий, самодовольный, лгущий, обжирающийся, произносящий речи, попивающий «клико» — так и останется, если я не найду его и не совершу свой суд. А я сам на бобах сижу.
Сюзанна домовито распоряжалась у очага, бросая на меня соболезнующие взгляды. Я подмигнул ей: ничего, Сюзи, как-нибудь выкрутимся. Начнём с «Остеллы» и выкрутимся.
Для начала подведём все же предварительные итоги. След на Жермен оказался ложным, зато он привёл меня к Николетт. Но кто же указывал мне на этот след? Отец и чёрный монах. Отец обманулся, чёрный монах — навряд ли. Значит, мы имеем и кое-какие положительные выводы даже из ложного следа. Синяя тетрадь также отметает подозрения на Жермен. Но по-прежнему главным остаётся вопрос: находился ли предатель среди «кабанов» или надо искать его дальше? Тетрадь отвечает на этот вопрос довольно туманно, но всё же след прощупать можно. И ошибка отца, если он сам писал записку, имеет свои основания.
Жермен, Матье Ру, Мариенвальд — все имена, начертанные было на белом камне, отпали. Впрочем, не совсем: чёрного монаха мы пока подержим в резерве. И новое возникло имя: Мишель R. = П.Д., пока оно ещё не расшифровано. Но монах-то явно связан с этим человеком, пусть не сейчас, так в прошлом, иначе зачем было ему наговаривать на Жермен? Куда-то выведет новый след? На «Остеллу»?.. Или он опять окажется пустым? Но нет пока иной нити.
Сюзанна взяла плетёную корзину, спустилась в погреб. Резко прозвучал телефонный звонок, перебив мои разбегающиеся мысли. Я даже вздрогнул от его внезапной тревожности — что сулит этот ранний звонок?
Телефон залился снова. Я один на один с телефоном. Третий звонок. Сейчас на том конце провода положат трубку, и я никогда не узнаю, что хотел сказать неуслышанный голос.
— Это дом Форетье? — спросила по-французски женщина, я тотчас узнал её.
— Бонжур, Любовь Петровна, — отвечал я бодро, она-то никогда не узнает о моей печали.
— Как поживаете, Виктор? — голос её не обещал ничего доброго.
— Гран мерси, Любовь Петровна. У нас, как говорится, полный манифик, Антуан на работе, мы только что позавтракали с Сюзанной. Жду Ивана и Луи. Президент обещал позвонить. — Все ей доложил, пусть возрадуется.
— А сегодняшнюю газету вы читали? — с наслаждением спросила она.
Так вот оно что — ещё и газета! Вариант не из худших, но и радости от него ждать не приходится.
— Ах, Любовь Петровна. Я так тоскую здесь без газет. Где моя родная «Комсомолка»? Слышали про такую? Иван обещал привезти из Льежа, говорят, там есть магазин, где продаются московские газеты. А что же пишут в ваших газетах? — поддел я её.
— Я и сама-то ещё не читала, — продолжала она злорадной скороговоркой. — Муж позвонил с работы и сообщил: очень интересная заметка про вас. Вот я и решила телефонировать.
— Мерси, Любовь Петровна, мы непременно вам сообщим, что там написано. Может, вы с Сюзанной хотите поговорить, она на минутку отлучилась, но я могу позвать.
— Я к вам, пожалуй, загляну. Буду сегодня в ваших краях.
Я тут же подхватил:
— Непременно приезжайте, Любовь Петровна. Мне крайне необходим ваш совет. Я имею в виду барона Мариенвальда? Как вы думаете, ему можно довериться?
— Он вполне солидный человек. Я связана с ним контрактом.
— Да, да, он говорил мне. Ведь вы же и сказали ему о моём приезде?! Он произвёл на меня самое благоприятное впечатление.
— Этот скряга угощал вас! — теперь она была удивлена бесконечно. Но я-то уже не удивлялся. — Мне показалось, что он был весьма озабочен, когда я ему сказала, что вы приезжаете к нам.
— Ну зачем же так, Любовь Петровна? Вы же сами сказали, что он лоялен. Он был искренне рад встретиться с соотечественником. Сообщил мне массу интересных вещей. Шерше ля фам, — поведал он мне. Кстати, ведь это вы рассказали московскому корреспонденту про Жермен? Там, в Ромушане, ещё весной. Наверное, он, этот фон-барон, и доложил вам про тёмную историю?..
— А про то, как он дерёт с меня три шкуры, он вам не докладывал? — она уже завелась, я только посмеивался.
— Об этом речь как-то не заходила. Приезжайте к нам, с удовольствием вас послушаю. Вы ведь все тут знаете, Любовь Петровна, все тёмные истории. Кто такой Щёголь — не слышали?
— Что ещё за Щёголь? Я могу показать вам свои материалы…
Но я уже не слушал и скоро положил трубку. Не знает она про Щёголя, слухи только собирает. Вот и про газету сообщила. Итак, газета. Нетрудно представить, что они там изобразили. Я прошёл в гостиную и увидел газету на телевизоре, куда Сюзанна положила её, на развёртывая.
Газета как газета — ихняя, как говорит Иван, газета. На первой полосе целуется парочка: фрак, фата, обручальные кольца — гвоздь номера. В углу перевернувшаяся машина — тоже не про меня. На второй полосе девица, похожая на Терезу, демонстрирует купальник, не она ли это? Мало ли их, похожих? Дети купаются в бассейне, парочка в купальниках отплясывает твист…
А вот моя персона… Стою на фоне церкви в Ромушане, клятвенно подняв руку, и рот раскрыт в той же клятве. Рядом Луи, чуть дальше президент. Слушают.
И заголовок про меня: «Ле рюс шерш ле третр». Тут и за словарём ходить нечего, до гроба не забуду этого слова — предатель. Ах, мадам Констант, вечно они вперёд лезут. Русский ищет предателя да ещё двести строк текста в придачу. Ищет русский, ищет — но только где его искать? И кто он есть, чёрт возьми?
И опять зазвонил телефон. Сюзанна уже стояла там, оставив корзину с бутылками и банками на погребной лестнице. Я подхватил корзину, вернулся на кухню.
Звонила мадам Жюли, мать Антуана, «Журналь, журналь», — твердила Сюзанна, шаря глазами по комнате. Я поставил корзину, протянул ей газету. Сюзанна закончила разговор, глаза её жадно забегали по строчкам. Что они там на меня настрочили? Просим предателя «кабанов» явиться с повинной, что будет учтено при вынесении приговора как смягчающее обстоятельство. Приём предателей во Дворце Правосудия ежедневно с трех до шести. Вход свободный. Вот и мне на собственной шкуре пришлось испытать нравы этой печати.
— Сенсация! — заключила Сюзанна, посмотрев виновато. И правильно заключила. Нужна мне эта сенсация, коль я на бобах сижу!
Сюзанна снова схватилась за трубку, я плечами пожал и принялся за кофе. Теперь он уже не смолкал, этот чёрный трезвонящий аппарат. Позвонил Ру, чтобы узнать результаты вчерашней поездки к Альфреду, и ответил, что вечером сам приедет. Николь доложила, что тоже прочла газету и спешит ко мне. Поздравительный звонок от президента: это прекрасно, что газеты оповестили всех о вашей клятве… Мерси, мсье президент. Оскар, брат Антуана, в чём-то упрекал Сюзанну, а та возражала, я уже не вникал. Я устал от звонков, хотел было пойти на ежевичную тропу, чтобы на покое обдумать ситуацию, как Сюзанна протянула трубку мне.
— Мой друг, поздравляю вас с высочайшей королевской милостью, — распинался фон-барон Птеродактиль. — Отныне для вас в Бельгии открыты все дороги. Даже в нашем ордене не все бельгийцы удостоены такой награды. Я так жалел, что не мог позавчера присутствовать на церемонии, чтобы лично пожать вашу руку. Но я ещё не теряю надежды сделать это, разговор с вами произвёл на меня самое глубокое впечатление, трагическая судьба вашего отца взволновала меня. Я долго думал над вашими словами, и мне кажется, я вспомнил имя той женщины из Эвая. Её зовут Жермен, она…
— Вы имеете в виду племянницу мадам Женевьевы? — перебил я, чтобы не дать ему опомниться, но не таков был фон-барон, реакция у него вполне подходящая.
— Совершенно верно, именно благодаря незабвенной Женни, да упокоит бог её душу, я и вспомнил, как звали племянницу. Ведь она была тогда ещё дитя, такая голенастая девчонка, она безумно любила сладости.
«Эх ты, поп толоконный лоб, — я уже забавлялся, слушая его, — фиговая у тебя реакция, куда тебе против Виктора Маслова: с животиком уже была твоя голенастая Жермен, когда ты вёз её в Эвай, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
— Так вы её видели? — не выдержал он. — Она, разумеется, наговорила вам немало любопытного? Не я ли предупреждал вас…
— Ах, Роберт Эрастович, — я тяжко вздохнул, чтобы он услышал. — Вы лучше меня знаете женщин. Они нас любят, и они же первыми забывают. Се ля ви, как говорят в Париже. Мадам Жермен даже на церемонию не соизволила приехать в этот день, видно, курицы бойко шли…
— Но вы не пробовали, мой друг, поинтересоваться у неё подробностями, которые привели к столь трагическому концу? — наставлял меня чёрный монах, фон-барон недобитый. — Я читал сегодняшнюю газету. Вы сказали прекрасные, благородные слова…
— Нет, мсье Мариенвальд, — остановил я его излияния. — Это была не Жермен. То, что вы имеете в виду, сделал человек по кличке Щёголь! — Так я ему выложил, пусть он остолбенеет, услышав это слово. — Вот если бы вы мне про Щёголя рассказали, ах, как я был бы вам признателен…
Увы, всё-таки неплохая у него реакция!
— Щёголь, Щёголь, — зашептал он, вспоминая. Я отчётливо представил его глаза, молитвенно закатившиеся к потолку. — Щёголь… Знакомая кличка. При каких же обстоятельствах я слышал её? Дайте вспомнить. Ах да, это стоило мне голодной весны. Я накупил продуктов на три месяца вперёд, и чей-то отряд нагрянул ко мне, чтобы произвести реквизицию. Все они, разумеется, были в масках. И кто-то окликнул: «Щёголь!» Да, да, я совершенно точно вспоминаю. Это был их командир. И он крикнул: «Щёголь, принеси пустые мешки».
— А Буханки там не было? Вы не помните? — Я послал воздушный поцелуй Сюзанне, которая заинтересованно слушала наш разлюбезный разговор.
— Буханка? — удивился он упавшим голосом. — Какая буханка? Это хлеб или кличка? Но, кажется, я не помню…
— Огромное спасибо, Роберт Эрастович, — отвечал я с подтекстом. — Я ни минуты не сомневался, что вы скажете мне всю правду. Я тоже, как и вы, считаю, что предатель был в отряде. Как только мы найдём этого Щёголя, тут же приведу его к вам для опознания, ведь, кроме вас, его никто не знает.
Я бросил трубку, не дав ему ответить, и прошёлся колесом по кухне. Сюзанна с недоумением наблюдала за мной. Я приземлился перед ней и чмокнул в щеку. Сюзи потупила глазки.
— Продолжаю вызывать огонь на себя, — известил я её. — Звоночек-то был от П.Д. Виват, Виктор Маслов! Виват, мадам Констант! Виват, Сюзанна! Ещё одно последнее сказанье — и сойдутся белые камни.
На дворе заурчала машина. Прибыл Луи Дюваль, и в руках у него, естественно, газета.
Луи был озабочен и потрясал газетой:
— Год фердом? Как они смели? Они же его предупредили, этого бандита. Теперь он скроется, он улетит на самолёте.
Я развёл руками.
— Сенсация, Луи, — теперь уже я его утешал. — Им нужна сенсация. Бум-бум! А на истину им наплевать. Однако и нам следует поторопиться. Мы должны ехать в «Остеллу».
— По Терезе соскучился? — Луи усмехнулся, принимая от Сюзанны чашку кофе.
Я молча раскрыл перед ним синюю тетрадь.
— Слушай внимательно, Луи. Альфред Меланже был убит, но его тетрадь нам кое-что рассказала. И последнее слово в этой тетради «Остелла». Тебе это о чем-нибудь говорит?
Луи забыл про кофе, схватил тетрадь. Я показал ему наиболее важные места, которые Антуан отметил карандашом.
— Интересно, интересно, — приговаривал Луи, листая тетрадь. — Значит, этот предатель и убил Альфреда. «П» и «Д», его зовут Пьер или Поль — это точно. А что означает «Д»? Таких фамилий очень много: Делакруа, Даладье, Дюма, Делон, Даррье, Демонжо… Тут придётся поломать голову. — Луи решительно отхлебнул кофе и поднялся. — Об этом мы подумаем по дороге. Мы должны ехать к президенту Полю Батисту. Мы пойдём к властям и передадим официальное заявление об убийстве.
— И они положат его под сукно, как положили после войны твоё заявление про Шарлотту? — Я невесело усмехнулся. — Да они сто лет искать его будут.
— Нет, нет, это дело серьёзнее, чем ты думаешь, — убеждённо сказал Луи, опускаясь на лавку. — Тут речь идёт о героях Сопротивления, которых предали и убили. И убийство Альфреда совершено в мирное время… — Он уставился в окно и сосредоточенно зашептал: — Дебюсси, Дега, Дантес, Древе, Дамбрей, Дьемен, Далу…
— Луи Дюваль и де Голль, — подсказал я.
— Дасье, Дидье, Дамремон… — шептал он не спеша.
Я засмеялся:
— Ты становишься настоящим Джеймсом Бондом, Луи. — Я услышал шум мотора и глянул в окно. Меньше всего я ждал этого человека, но больше всех мне был нужен он.
Пряча лицо, старик вылез из машины, огляделся, не закрывая дверцы и словно бы ещё раздумывая, сюда ли он приехал и стоит ли вылезать?
— Кто это? — спросил Луи у Сюзанны, та отрицательно и удивлённо замотала головой.
— Самый нужный человек! — крикнул я, бросаясь к двери. — Старый Гастон из лесной хижины. Но он же молчит! — Последние слова я выкрикнул уже на дворе, спеша к машине, и обращены они были только к самому себе.
— Бонжур, мсье Гастон, — ликующе крикнул я, подбегая.
Старик смотрел на меня как на пустое место и молчал. Он стоял передо мной в парадном чёрном пиджаке, при белой рубахе и галстуке, такой же кряжистый, с тем же страшным рубцом через всё лицо — и не желал замечать меня. Дверцу машины он всё же легонько прихлопнул и посмотрел при этом на дом.
Ладно, я тоже молчать умею. Посмотрим, кто кого перемолчит. Я молча достал сигареты, молча протянул ему пачку. Он буркнул что-то невнятное, то ли сказал, то ли крякнул, обогнул меня и зашагал к дому. Сюзанна и Луи стояли на пороге, поджидая его. Старик снова крякнул нечто похожее на звук «нжу»… и проследовал сквозь них в прихожую.
Я молча шагал за ним, показав рукой в гостиную. На этот раз он, похоже, заметил если не меня, то мою руку, потому что пошёл куда надо. Я молча отодвинул перед ним стул. Он с грохотом сел. Луи вошёл в комнату, быстро заговорил о «кабанах». Старик молчал.
Сюзанна поставила перед ним чашку с дымящимся кофе. Старик молча придвинул чашку и громко отхлебнул, пытливо глядя то на меня, то на Луи. Шрам стягивал кожу над правым глазом, открывая красное безресничное веко, и оттого взгляд старика делался жутко пронзительным.
— Я Виктор, сын Бориса, — произнёс я свой пароль, будучи не в силах отвести взгляда от его застывших всевидящих глаз.
Гастон едва заметным кивком дал понять, что слышал.
— Виктор прилетел из Москвы для того, чтобы… — начал по-французски Луи мне в поддержку, но старик и бровью не повёл.
Так дальше не пойдёт, это бесполезно, все равно он будет молчать как рыба. Надо его расшевелить. Я схватил заветную папку, вспорол замок, достал фотографию «кабанов» и положил перед Гастоном.
— Вот он! — сказал я, показывая пальцем.
— Борис, — скорее выдохнул, чем выговорил он, и рассечённые губы его с усилием растянулись в улыбку, напоминающую гримасу боли, — Борис Маслов, — проговорил он более уверенно, — он был настоящий парень. А это Альфред Меланже, он тоже настоящий парень. Он мёртв. И Борис мёртв! — Но до чего же странно он говорил, я даже имена разбирал с трудом.
— Он по-валлонски говорит, — сказал Луи.
По-валлонски, по-баварски, по-китайски — какая теперь разница, коль старый Гастон заговорил!
Старик достал из пиджака сложенную газету, не поспешая, развернул её, аккуратно разгладил ладонями, ткнул пальцем в меня, стоящего на фоне церкви.
— Чего тебе надобно, старче? — спросил я с улыбкой. — Это я, Виктор, сын Бориса, собственной персоной перед тобой. Не томи душу, выкладывай!
— Дай ордун, — потребовал Гастон. Я не понял, но Луи обратился к Сюзанне, и та поспешно взяла зелёную коробочку, лежавшую на буфете.
— Вот мой орден, старик, — я достал серебряного Леопольда из коробки и положил его на газету — орден Бориса.
Гастон взял орден, почтительно взвесил его на ладони.
— Леопольд наш король, — сказал он.
— Все верно, старик. Вот мои остальные верительные грамоты, — я выложил перед ним все своё богатство: указ на орден, грамоту на партизанскую медаль, удостоверение личности с фотографией. — Это Аэрофлот. Штурман второго класса Виктор Маслов. Пепел Клааса стучит в моё сердце. А теперь и ты выкладывай, старче. Где предатель? Ты же видишь, я поклялся его найти. Где он?
— Борис Маслов, — Гастон снова вернулся к тому, с чего начал. Потом положил орден в коробочку и приказал: — Пусть они уйдут. А ты сюда! — он ткнул пальцем в мою сторону и указал на стул. — Я буду говорить только с русским.
— Год фердом, — выругался по-валлонски Луи, подступая к старику, но тот не реагировал. — Он будет разговаривать только с русским! А мы кто — не люди? Я отсюда не уйду. Я партизан Армии Зет. Я коммунист, понимаешь ты, валлонская твоя башка.
Но старый Гастон оказался железным.
— Тогда я все сказал. Адьё! — И принялся неторопливо, но деловито складывать газету.
Луи пошёл на попятный:
— Хорошо, я уйду, но ты ещё пожалеешь об этом, старый валлонский баран. Ты перевёрнутый горшок, вот ты кто.
— Закрой за ними дверь! — приказал мне старик.
Я подошёл к Луи:
— Его ведь тоже можно понять, дорогой Луи. Он отвык верить своим соотечественникам.
— Мальчишка! — кричал на меня Луи, скрываясь в дверях, а я едва от смеха удерживался.
Мы остались вдвоём.
Я тут же как бы невзначай пододвинул фотографию. Гастон увидел её и ткнул пальцем в Мишеля.
— Кто это? — сказал он.
— Спроси что-нибудь полегче, старик. Мишель, разумеется, он же Щёголь.
Гастон посмотрел на меня с уважением.
— Мишель Ронсо, — продолжал он, доставая чёрный потёртый бумажник. Извлёк старую фотографию, обломившуюся с края. Двое мужчин стояли у какого-то дома. Одного я сразу узнал: носастого. Старик подтвердил: — Мишель Ронсо и Густав Ронсо, два брата, — он показал на пальцах и перевернул фотографию. — Видишь надпись: «Дорогому брату Мише… от Густава Ронсо. 15.08.38-го…» — Я внимательно разглядывал надпись, всё было так, как Гастон говорил. Краешек старой фотографии отломился, и оттого не хватало нескольких букв в окончаниях слов, надпись и без того была понятна. Гастон снова перевернул фотографию, теперь я и дом узнал, тот самый, с весёленькими занавесочками. — Густав Ронсо — хозяин «Остеллы», — продолжал старик. — Густав рексист, понимаешь? Альфред и Борис пиф-паф Густава Ронсо, они его убили. Мишель Ронсо отомстил за брата, он предал «кабанов» и получил за них денежки.
Вот и все. Очевидность тайны даже разочаровывала. До чего же все просто, только этой детали я и не мог ухватить: они были братья. В ней и мотив, и дальнейшая нить. Вот и ответ на вопрос, который томил меня вчера утром у родника, когда я вглядывался в его хрустальную глубь. Вот кто сказал женщине в чёрном, кто убил её мужа, — Мишель. Сошлись мои камни, главное имя начертано на могильной плите.
Я вытащил из папки столовый нож, положил его перед стариком. Гастон коротко кивнул.
— Ещё не все, доблестный старче. — Прямо на газете я написал: М.Р. = П.Д. = X. — А такую задачу с двумя неизвестными ты можешь решить? Как бы лучше сказать: кроссворд, ребус, сфинкс — понимаешь?
Гастон пошарил в бумажнике и положил рядом с ножом пожелтевшую визитную карточку. «Мсье Пьер Дамере, — прочитал я, — отель „Святая Мария“…» Намюр, улица, номер дома, телефон — всё было как полагается, удобная вещь эти карточки, ничего не скажешь.
— Я «кабан», — с гордостью сказал Гастон. — Двенадцатый «кабан». А этот был свинья, он даже и тогда струсил, он переменил имя и стал Пьером.
— Старый адрес сорок шестого года, — заметил я, указывая на карточку, и опять старик поглядел на меня с уважением. — После этого Мишель-Пьер жил и в Монсе, и в Генте. Имя он тоже мог переменить в третий раз. Где же он сейчас?
Гастон сконфуженно головой помотал.
— Ты можешь не уважать старого Гастона, но этого я не знаю.
— Я тебя уважаю, старик, — я разлил остатки водки по чашкам. — Спасибо и на том, что ты открыл нам. «Святая Мария», неплохо придумано, ха-ха.
— «Остелла» принадлежит Пьеру, — заключил старик.
— Едем в «Остеллу»! — воскликнул я второй раз за нынешнее утро.
— Пьер там не живёт, — уточнил Гастон. — Но больше я ничего не знаю.
— Постой, старче, постой, — я задумался, пытаясь соединить свои данные с версией Гастона. Ещё не все сошлось у старого Гастона. Как же мог Мишель быть в «кабанах» под фамилией Ронсо? Ведь тогда бы Альфред узнал, что Густав и Мишель — братья. — Что-то у тебя не сходится, доблестный «кабан». Отвечай, старче.
Но старый Гастон снова впал в молчание и, видимо, надолго — на сей раз по мотивам выдающегося храпа.
ГЛАВА 20
Николь приехала на мотороллере. Я выбежал к ней. Машины Луи на дворе уже не было. Сюзанна сказала, что тот уехал в Льеж к президенту.
— Салют от Пьера Дамере.
— Кто это такой? — спросила Николь, слезая с мотороллера. Она была в сногсшибательных голубых брючках, жёлто-красном полосатом свитере — хороша моя сестрёнка. На плече висела дорожная сумка.
— Скоро его имя узнает вся Бельгия, — сказал я грозно.
— Он звезда экрана? — Николь покрутилась передо мной, красуясь.
— Пьер Дамере — предатель. Он предал нашего отца.
Николь сразу перестала крутиться.
— Ты уже нашёл его? — спросила она, и озабоченные складки набежали на её лоб. — Почему же этого нет в газете?
— Разве ты не знаешь, что газеты всегда опаздывают. Следуй за мной. Перед тобой главный арденнский следопыт, — мы уже вошли в дом. — Тс-с, кажется, он немножко спит.
Николь с интересом смотрела на громогласно храпящего Гастона, которого мы с Сюзанной уложили на диван, и ничего не понимала. Мы прошли на кухню, и я, как умел, рассказал ей все, что узнал от старика.
— Надо ехать в «Остеллу»! — пылко воскликнула она. — Едем на моём мотороллере.
— Не торопись, Николетт, не торопись, «Остелла» никуда от нас не денется. Прежде чем туда ехать, надо решить небольшую задачу: с чем мы туда поедем и зачем? Ты понимаешь, Николетт? — Она умела слушать, с ней хорошо думалось вслух. — Понимаешь: имя мы имеем, а что дальше? От имени до живого человека ещё далеко, а я должен его своими руками пощупать. А может, он и это имя переменил — что тогда? Нет, за «Остеллу» надо крепко зацепиться. И Тереза там сидит…
— Какая Тереза? — с невольной подозрительностью спросила Николь.
— Этуаль д'экран, — засмеялась Сюзанна, указывая на меня. — Виктор влюбился в эту звезду.
— Тише, девочки, не отвлекайтесь. Продолжаю мысль. При чём тут влюбился? Просто мы не имеем права рисковать. Там же матёрый волк сидит. Если на этот раз ниточка оборвётся, то уж надолго, надо по-умному её тянуть. Вот видишь, наш отец ошибочно написал про Жермен. А почему, спрашивается? Почему отец не указал на Мишеля? Теперь ответ более устойчив. Да потому, что предатель был не в отряде. И синяя тетрадь это подтверждает. Но тут можно и другое предположить: этот Мишель так ловко замаскировался, что на него не могли подумать самые близкие люди. Значит, и мы должны быть сверхосторожными. А он замаскировался и сидит в своей «Остелле»…
— Хочешь, я туда поеду? — спросила Николь, морща лоб и стараясь вникнуть в смысл того, что я говорил. — Это далеко? И что я должна там делать? Ты хочешь передать записочку своей Терезе? — И губы надула. — Когда ты должен уезжать?
— Какова сестрёнка! Ты задала решающий вопрос. У меня совсем из головы выскочило. Сегодня у нас вторник, седьмой день в Бельгии. Значит, через два дня я должен тю-тю. Вот это номер. Вылет в десять двадцать, но надо приехать раньше. Что же в итоге? Четверг отпадает, у меня меньше двух дней. Негусто.
— Разве ты не можешь продлить визу? — удивилась Николь. — Я не хочу, чтобы ты так быстро уезжал от меня, — и снова губы надула, она вся была переполнена своими новыми ощущениями.
— Визу продлить — нехитрое дело. Но я же на десять дней оформился на работе за свой счёт. Кто думал, что тут такая каша заварится? Приехал на могилу отца, чтобы дальше было жить спокойнее, а оно вон как обернулось. В экипаж я должен вовремя явиться, меня ребята ждут.
— Что такое экипаж? — переспросила Николь.
— То же, что у вас. Экипаж — это моя семья. Это уже по-нашему.
— Ты знаешь, — продолжала Николь, у неё были свои проблемы, — сегодня утром я назвала его, как всегда, папа. И я почувствовала, что мне стало трудно. Отчего это? Ведь Ив с самого начала знал, что я не его дочь. Но я ни разу не почувствовала этого. Как он расцвёл утром, когда я сказала: «Папа». А я сказала и покраснела потому, что почувствовала в своих словах ложь. Как трудно мне вдруг стало! Ты должен всё-таки рассказать мне об отце. Как бы я хотела увидеть его живого!
— И все это сделал один человек, Николь, — ответил я, теперь мы были с ней едины. — Пьер Дамере, или как его там? Нет преступления худшего, чем предательство.
— Что ты с ним сделаешь? — Николь всплеснула руками. — Неужели ты убьёшь его? У нас очень строгие законы.
— А разрешать предателям разгуливать на свободе — какие на это у вас законы? Я поступлю с ним по закону своего сердца.
— Я слышала по телевизору, — сказала Сюзанна, подсаживаясь к нам, — что наш парламент скоро будет обсуждать какой-то закон о военных преступниках, я не помню точно, как это называется.
— Я не слышала, — отозвалась Николь, — а я люблю телевизор.
— Срок давности об ответственности за военные преступления. Сейчас переведу со словарём.
— О, можешь не переводить, все равно я этого не пойму. Я же не интересуюсь политикой.
— Чем же ты интересуешься, позволь спросить? — я посмотрел на неё, будто впервые увидел. — Как ты вообще живёшь?
— Через год я кончу институт, выйду замуж, и мы с мужем поедем по контракту в Африку или на Восток. Там мы будем хорошо зарабатывать.
— Всё-таки есть программа? Но это, так сказать, для себя. А для человечества ты что собираешься сделать?
— Я буду лечить больных. Что я могу ещё делать?
— И при этом хорошо зарабатывать. Да ты, я вижу, насквозь пропитана духом наживы.
— Что такое дух наживы? Разве это плохо, когда человек хорошо зарабатывает, имеет дом, машину или даже две — я тебя не понимаю.
— Естественно. Так всегда и бывает. Когда приходит пора признавать своё поражение, люди перестают понимать друг друга. Впрочем, я от тебя слишком многого требую, ты же выросла в среде буржуа. Мамочкин магазин…
— Я не люблю наш магазин, — живо перебила Николь. — Никогда не буду в нём работать.
— Отцовская кровь в тебе бушует, — я засмеялся, погладил её руку, — всё-таки ты ещё не совсем «загнила», сестрёнка.
Николь беспечально улыбалась в ответ, зная, что я говорю о ней что-то хорошее. Иван эксплуатированный возник в дверях.
— Они неправильно написали в ихних газетах, — безмятежно сообщил он с порога.
— Что же они написали неправильно? — невинно полюбопытствовал я.
— Они не имели права давать тебе такой картбланш в заголовке, — отозвался суровый Иван.
— Теперь уж ничего не поделаешь, — продолжал я в том же тоне. — Прошу тебя, загляни в гостиную, там, кажется, есть небольшой сюрприз для тебя.
Иван не поверил, но всё-таки заглянул. Сидя за столом, я видел его удивлённое лицо перед раскрытой дверью.
— Там кто-то есть, — доложил он.
— Разве ты не узнаешь этого человека?
Николь и Сюзанна прыскали со смеху, глядя на Ивана.
— Это же старый Гастон, — наконец-то он поразился окончательно. — Что он тут делает?
— В самом деле, Иван, — откликнулся я, — что делает там старый Гастон?
— Он спит, — обрадованно догадался Иван. — И он говорил?
— Ты ещё сомневаешься? Иди сюда, не мешай ему отдыхать. Сейчас ты услышишь такое, что у тебя вмиг отвалится челюсть.
Сюзанна уже накрывала на стол второй завтрак: через пять минут, показала она на часах, приедет Антуан. Я рассказывал Ивану про Гастона. Николь задумчиво листала синюю тетрадь. Иван слушал и охал. Прошло семь минут — Антуана не было. Десять минут — Сюзанна начала нервничать, вышла во двор, чтобы загодя услышать гудок машины.
Антуан опоздал на десять минут.
— Чем ты оправдаешься перед членом месткома за своё безыдейное опоздание? — встретил я его. — У нас неплохие новости, Антуан.
— У меня тоже есть новости, — невозмутимо отвечал он. — Я заезжал к монаху. Но чья это машина? — Антуан оглянулся, изучающе посмотрел на гастоновский «фольксваген».
— Этого ты никогда не узнаешь, — с торжеством продолжал я. — Ставлю сто против одного. Пари, Антуан?
— Пожалуй, я могу рискнуть одним франком, как ты думаешь, Сюзи? — Антуан подошёл к машине, и походка его вмиг стала кошачьей. Мы с интересом наблюдали за ним. Антуан обошёл вокруг «фольксвагена», постучал носком по скатам, присел, осматривая их, привстал, провёл пальцем по чистому верху, посмотрел на палец, заглянул в кабину. При этом он как бы рассуждал сам с собой, зная о том, что мы его слушаем. — Машина старого выпуска, — говорил он, — и владелец очень редко ездит на ней. Резина совсем свежая, а дата изготовления говорит о том, что ей уже пять лет. К тому же я уверен, что никогда не видел этой машины на дорогах, а номер у неё местный. Это подтверждает, что она больше стоит в сарае, чем ездит. Очевидно, владелец её — старый человек, он не очень любовно ухаживает за ней. Кто же он? Кто мог принести в наш дом столько радости? Утром мы были убиты горем, а сейчас в доме радость. Мне думается, при этом «фольксвагене» есть ещё и трактор? — Антуан с усмешкой глянул на меня. Я полез в бумажник за расплатой. — Итак, это старый Гастон?
— Получай свои сто франков, — ответил я, протягивая деньги, — и отвечай, зачем ты заезжал к чёрному монаху?
— Я хотел показать ему синюю тетрадь: там есть кое-какие неясности, я хотел их уточнить у чёрного монаха.
— Как же ты опростоволосился, Антуан, — мстительно высказался я. — Нашёл кому показывать тетрадь.
— Да, я понял свою ошибку, — ответил он. — Но я её не совершил. Монаха не было. Он уехал.
— Куда же?
— Может, теперь ты попробуешь угадать? — улыбнулся Антуан. — Пари? Сто против одного.
— Принято. Чёрный монах помчался в «Остеллу». Как это тебе нравится, мон шер Антуан?
Антуан безропотно вернул сто франков.
— Как ты узнал? — несколько удивился он при этом.
— Монах и сейчас там? — спросил я.
— Очевидно, — Антуан пожал плечами.
— Скорей в «Остеллу»! — воскликнул я в третий раз за нынешний день. — Значит, и Пьер Дамере сейчас там.
— Пьер Дамере? — удивился он снова.
— Ну если ты угадаешь и это… Тысячу против одного!
— Побереги свои денежки, — лениво бросил Антуан, направляясь к дому. — Это Мишель! Тут и думать нечего.
Сюзанна захлопала в ладоши. Николь состроила гримасу. А Иван, Иван-то доконал меня окончательно.
— В синей тетради написано: «П» и «Д», — молвил он. — Это и есть Пьер Дамере.
— Слушай, Виктор, — сказал Антуан, доставая из моей папки схему боя у моста, начертанную Альфредом. — Тут написано одно слово, о котором я много думал. Вчера не успел тебе сказать, а сегодня даже с товарищами советовался.
— О чём голову ломать? — беспечно отвечал я. — Уравнение решено. П.Д. это и есть Пьер Дамере.
Антуан покачал головой.
— Он говорит, что такое слово имеет разное значение, — с готовностью перевёл Иван. — Оно может быть не только фамилией, но и прозванием.
— Каким таким прозванием?
— Дамере это значит дамере, так он говорит. Я не знаю, как это переводить по-нашему. Он говорит, что такое слово редко кто знает.
— Волнующе и непонятно, — засмеялся я, уплетая салат. — «Загадка Дамере», четвёртая серия, сегодня и ежедневно. Как же ты решишь сию загадочку, Иван?
— Дамере это дамере, — бессмысленно твердил Шульга. — Антуан говорит, что в его диксионере нет такого слова.
— Дамере означает франт, — вставила Николь, пытаясь помочь нам разобраться в новой загадке.
— Франт? — обрадовался Иван. — Это я знаю. Такое слово я уже переводил.
— Все же это не совсем франт, а дамере, — настаивал Антуан.
— Опять ты мои карты поломал, Иван. Дай-ка папку, — я достал свой словарь, изданный в Москве, и тут все запуталось ещё больше. — Дамере — это щёголь. Слышал про таких, закованный Иван?
— Щёголь — это наше слово, — охотно подтвердил тот. — В моей деревне такое прозвание делали ребятам, которые носили клёш.
— Как же ты Жермен переводил? — продолжал недоумевать я. — Ведь это же она первой сказала, что у Мишеля была кличка Щёголь?
— Она сказала мне «франт», а я перевёл тебе «щёголь». Разве это плохо звучит? — удивился Иван на русском языке.
— Сам ты франт несчастный, — огрызнулся я. — Это же синонимы. Или ты не понимаешь, что это все меняет.
— Не ругай его, Жермен сказала «франт», — подтвердил Антуан. — Иначе я сразу бы обратил внимание на это слово, написанное Альфредом.
— А как говорится в синей тетради?
— В тетради написано «дамере», — уверенно заявил Антуан, но всё-таки для страховки раскрыл тетрадь.
— Значит, совпадает? Это уже легче. В таком случае мы совершенно случайно угодили в десятку, — я рассказал об утреннем разговоре с черным монахом, когда тот пытался заморочить мне голову с кличкой Щёголь.
— Ешьте салат, — сердилась Сюзанна, — вы совсем не едите.
— Можно сказать вместо «дамере» и денди, — снова возвестила Николь. — У этого слова много значений.
— Денди тоже наше слово, — возрадовался Иван.
— Не путай нас, сестрёнка, сами запутаемся. Про денди я тоже кое-что слышал. Так прозывали, как говорит наш эксплуатированный друг и соратник Иван, покойного кузена нашего президента.
— Жермен могла забыть кличку Мишеля, — задумчиво продолжал Антуан. — Мы должны верить только тому, что писал Альфред Меланже.
— Визитная карточка — тоже неоспоримый документ, — сказал я. — Пьер Дамере, отель «Святая Мария», Намюр. Не можем же мы исходить из предположения, что Мишель, он же Щёголь, подсунул Гастону фальшивую карточку? Это чересчур сложно, правда, Антуан? Итак, схема боя, синяя тетрадь, визитная карточка — во всех трех случаях Дамере.
— Надо доказать, — ответил Антуан, — что во всех этих случаях речь идёт об одном и том же человеке.
— И докажем. Но что же тогда получается, Антуан? Черт те что получается. Выходит, Щёголь всегда был Дамере? И своего имени он не менял? А когда же он был в таком случае Ронсо? И как он мог быть Ронсо в отряде? О старый Гастон, рассуди нас скорее.
Антуан посмотрел на меня, как бы говоря: увы, от Гастона нынче не будет проку. Придётся самим выкручиваться. Антуан достал с полки толстенную книгу, в которую поместились номера телефонов всей Бельгии. Телефонистка быстро соединила его с «Остеллой». Антуан попросил к телефону Мариенвальда.
— Разве его нет у вас? — удивился он, выслушав ответ. — Вы уверены в этом, мадемуазель? Я только что заезжал к мсье Мариенвальду домой, и мне сказали, что он направился к вам… Ах так, он всё-таки был у вас. Если он появится снова, передайте ему, что звонил Антуан Форетье… Мерси, мадемуазель.
— Смотались субчики, — протянул я. — Ничего, далеко не уйдут. А что за мадемуазель? Она не назвалась?
— У неё весьма пикантный голосок, — заметил Антуан с улыбкой.
— Тереза шарман, — подхватила Сюзанна.
— Ты её полюбил, Виктор? — ревниво спросила Николь. — Я должна на неё посмотреть.
— Ох, Николь, до чего же все запуталось, — проговорил я с тревогой. — Может, мне самому позвонить, поговорить с ней по-немецки, как думаешь, Антуан?
— Но зачем? — ответил тот задумчиво. — Может, они вообще не думали там сходиться и встретились в другом месте, а нас нарочно наталкивают на «Остеллу», чтобы запутать следы.
— Поедим и распутаем, — пообещал Антуан, принимая свою порцию оранжада.
Но снова зазвонил телефон. Мадам Констант хотела говорить со мной. Иван неохотно оторвался от Гастона.
— Она спрашивает, нет ли у нас новостей для её газеты. Ихний редактор просит у неё материал на большую полосу, так она говорит.
— Поблагодари её, Иван, и скажи, пока ещё нет, но, возможно, будет.
— Она имеет интерес узнать, нашли ли мы Альфреда?
— Альфред убит двадцать лет назад. И хватит, Иван. Комплот! Она и так всё время вперёд лезет. У меня есть её телефон, я сам позвоню, может быть, даже сегодня вечером.
— Тогда она имеет сообщить тебе новость про архив генерала Пирра, — продолжал Иван. — Она туда звонила и сама ездила, это было вчера.
— Обнаружилось что-нибудь интересное? Архивные материалы нам бы не помешали.
— Она симпатически сообщает тебе, что папка «кабанов» пропала из архива. Всё время она лежала на полке, и вот уже целый год, как её никто не замечает. Папка «кабанов» исчезла.
— Это в самом деле становится интересно. Дай-ка трубочку, Иван, сам отвечу… Бонжур, мадам Констант, мерси вам за вашу помощь. Но дайте мне срок, завтра я сообщу вам, кто купил или выкрал эту папку. Переведи, Иван.
— Ты это серьёзно говоришь? — подивился Иван.
Я настоял. Он перевёл и тут же ответил злорадно:
— Она тебе заявляет, что ты некрасиво шутишь над ней. Завтра будет ихний праздник, и она поедет купаться на море. Папка «кабанов» — это слишком серьёзно, чтобы шутить над ней, такой демарш она тебе заявляет.
— Я не шучу, мадам Констант, — сказал я в трубку. — Слово Виктора, сына Бориса. А пока передай ей, чтобы поинтересовалась, если это возможно, прошлым барона Мариенвальда. Роберт Мариенвальд, семьдесят восемь лет, выходец из Прибалтики, владелец многих отелей, доходных домов и так далее. В годы войны сотрудничал с Интеллидженс сервис.
— Она это попробует за твоё мерси. И она готова оставить тебе свой морской телефон.
— Трудись, Иван.
— Слушай старого Гастона, — теребил старик Антуана, — Пьер — это такой негодяй, каких свет не видел. Он бандит и убийца.
— Пора, Антуан, — сказал я. — Закругляемся и едем в «Остеллу».
— Я вас не пущу туда, — решительно сказала Николь. — Они же могут убить вас, раз они такие мерзавцы. Я не пущу тебя, Виктор.
Я схватил её руку.
— Взгляни в окно, сестрёнка. Разве этот мсье похож на человека, который может убить кого-либо. Сколько интеллекта на его добром лице. Даже на бензин раскошелился. Как благочинно вышагивает! И какой наряд! Новую сутану надел для такого торжественного визита.
— Это поп вылезает из машины, — определил Шульга.
— Алярм, Антуан! Гастона убрать, остальным оставаться на местах. Готовность номер один. Торжественную встречу беру на себя. — Я выскочил на улицу и картинно расшаркался перед черным монахом, который уже вылез из своего «ситроена» и плёлся мне навстречу, взвивая пыль сутаной и насторожённо озираясь по сторонам.
— Какой нежданный и радостный визит, Роберт Эрастович! — воскликнул я. — А мы как раз все в сборе и за столом. Только что звонили вам в «Остеллу», Антуан хотел спросить вас кое о чём.
— Приходится время от времени объезжать свои владения, — живо отозвался чёрный монах, останавливаясь передо мной. — Я подозреваю, что мой управляющий обкрадывает меня, иногда я внезапно проверяю его. Но вы упомянули об «Остелле». Прелестное местечко. Если у вас имеется время, могу составить протекцию, чудесно отдохнёте, побродите по горам.
Когда мы вошли в комнату, Антуана и Гастона там уже не было. Сюзанна показала глазами на дверь, ведущую в мою спальню, и радостно заулыбалась чёрному монаху. Николь сделала реверанс. Фон-барон узнал её, тут же прикинул, что это для него не опасно, и отечески потрепал её по щеке. Иван добродушно посасывал сигару.
— Какая красавица стала, — произнёс чёрный монах, отступая от Николь и оглядывая её. — И как она похожа на вас, Виктор. А где же Антуан?
Антуан вышел из спальни в несколько помятом виде, но там всё было тихо.
— Маман уснула, — сказал Антуан. — Есть подозрение, что она основательно простудилась, когда ехала ко мне, возможно, придётся позвать доктора.
— Антуан, — изрёк я, — Роберт Эрастович любезно приглашает нас в «Остеллу» отдохнуть, побродить по горам. А что? Возьмём ружьишко да поохотимся на зайцев.
— Я запрещаю тебе, Виктор, — брякнула Николь, но тут же поправилась: — Ты поедешь ко мне. Мама звала тебя.
Я развёл руками:
— Видите, что получается, Роберт Эрастович, буквально рвут на части.
Он сидел уже за столом. Сюзанна наложила шампиньонов, и фон-барон облизнулся.
— Большое спасибо за приглашение, мсье Мариенвальд, но мы с утра до ночи носимся по Арденнам. Вчера были в Намюре, Динане, Шервиле, искали командира «кабанов» Альфреда Меланже, но нашли лишь его могилу.
— Ещё одну ложечку, Сюзанна, — улыбнулся чёрный монах, на Альфреда он даже не клюнул. — Жаль, что вы отказываетесь от «Остеллы», Виктор Борисович. Встреча с вами произвела на меня самое неожиданное впечатление, — продолжал он. — Я уж не говорю о том, что проникся к вам поистине отеческими чувствами, я вдруг затосковал по родине. Не странно ли, дожив чуть ли не до восьмидесяти лет, я внезапно понял, что всю жизнь был лишён родины. Если там живут такие замечательные люди, как вы, Виктор, то какой же стала ныне она, моя Россия, моя бывшая родина, мною же самим отвергнутая. Хочу признаться, Виктор, после нашей встречи я заболел ностальгией. Я потерял покой и сон.
Куда он клонит?
Но зачем гадать, дадим ему высказаться, регламент — без ограничений. А может, как раз в регламенте-то и все дело? Пока он тут соловьём заливается, там… Нет, это было бы слишком просто. Антуан вопросительно поглядывал на меня.
— Прекрасно понимаю ваши чувства, Роберт Эрастович, — вставил я с улыбкой. — Но мне как-то неловко. Антуан слушает и не понимает нас. И Николь заинтригована, поглядите на неё. Может, введём их в курс?
— О, разумеется, простите мою бестактность, дело не так-то просто, каким может показаться на первый взгляд…
— Я переведу попа, — бухнул Иван, но тайного агента Интеллидженс сервис не так-то просто было пробить.
— Мерси, мсье Шульга, — отозвался монах, переходя на французский. — Я попробую сам объясниться с моими друзьями, — он все петлял, прежде чем подбросить наживу. — Человеческое существование на земле, увы, имеет свои пределы, — по-русски продолжал он. — Именно поэтому я решил обратиться к вам с некоторым деловым предложением, если хотите, даже с нижайшей просьбой, можно трактовать и так, ведь просьбы должны сообразовываться с предложениями, недаром в старину говорили: дай добро и жди добра.
— С удовольствием исполню любую вашу просьбу, Роберт Эрастович, но что я могу для вас сделать, ума не приложу, я ведь, можно сказать, уже на колёсах, через два дня уезжаю.
— Вот как? — откровенно удивился он, не выдержав принятого тона. — Не успели приехать, а уже собираетесь нас покинуть. Через два дня? — переспросил он.
— Одним словом, в четверг, — ответил я, забавляясь: значит, два дня всё-таки имеется в моём распоряжении. — Что делать, заканчивается мой ваканс.
— Какой прекрасный паштет, — восторженно обратился он к Сюзанне. — Разрешите ещё кусочек. — Моё заявление испортило его игру, и теперь он обдумывал, как действовать дальше. — Каковы же ваши впечатления от Бельгии? — любезно поинтересовался он. — Вам не хотелось бы снова приехать сюда?
— Прекрасная страна! А люди!.. Вот Антуан, он же за старшего брата мне стал. Правда, Антуан? Одна сестрёнка чего стоит! — И я ринулся на него с открытым забралом. — Теперь, пока я на этом маршруте, два раза в неделю буду прилетать в Брюссель. Чуть что, сразу махну к Антуану или Николь, ведь мы тут целые сутки торчим в порту, такая скука. И к вам могу нагрянуть, Роберт Эрастович, ведь вы так любезны…
— Предчувствие не обмануло меня, что я могу обратиться к вам со своей просьбой, — он наконец-то решился, сейчас выложит, с чем пожаловал, а два денька я между тем заработал.
Но меньше всего ожидал я того, что он выдал.
— Я хочу просить вас, мой дорогой друг, — продолжал он сладко, — только поймите меня правильно, это поистине отеческая и от сердца идущая просьба — отвезите мой прах после моей смерти на родину и захороните мою урну на кладбище в Либаве.
— Боже мой, — непроизвольно вырвалось у меня, — да вы ещё сто лет проживёте, Роберт Эрастович!
— Нет, нет, умоляю вас, Виктор, не торопитесь с отказом, — он дотронулся до моей руки, ладонь была холодная и влажная, как лягушка, я едва удержался, однако придётся потерпеть, это ведь только присказка, а сказочка впереди — и весьма занятная. — Когда вы будете в моём возрасте, то поймёте, что человеку свойственно заботиться о своём будущем существовании в том неведомом нам мире. Вот почему я хочу хотя бы после своей земной жизни вернуться на родину своих предков.
— Право, не знаю, — замялся я. — Никогда в жизни не приходилось сталкиваться с такими деликатными делами.
— Предвижу, что могут возникнуть определённые препятствия, потребуются хлопоты с вашей стороны, — голос его сделался ещё более елейным, он словно в душу вползал. — Но именно ваша настоящая деятельность в Бельгии, ваша сыновняя чуткость и убедили меня, что лучшего порученца мне не найти. Я понимаю, что далёк от того мира, в котором живёте вы, но всё же мы соотечественники. Именно это обстоятельство и заставило меня предостеречь вас… Впрочем, я вижу, вы не горюете о том, что узнали, — он кивнул в сторону Николь.
— Что вы, Роберт Эрастович, я ж не ханжа. Я просто счастлив, что заимел такую сестрёнку!
— Да, мне трудно понять вас, — горестно отозвался он. — Вы человек из другого мира. У меня была мысль: за ваши хлопоты объявить вас своим наследником. Но вы же не возьмёте денег, я понимаю, вам это не нужно.
— Не возьму, — чистосердечно признался я, вот, оказывается, куда он клонит.
Но и монах был не так-то прост.
— Мне это тоже уже не нужно, — с живостью парировал он. — Я познал суету мирскую и уже устал от неё. Но у вас теперь есть вновь обретённая сестра, у вас появились обязанности. Я объявлю её своей наследницей. Моё имущество в Бельгии оценивается в пятьдесят миллионов франков.
Вот она, наживка на крючок — и какая! Они там времени не теряли. Я облегчённо вздохнул.
— У вас же есть наследница или невеста, — напомнил я прежде, чем заглотить золотой крючок.
— Она получит свою долю, Николь — свою, — с готовностью отозвался он, все у него уже продумано. — Я оставлю Николь два дома: «Остеллу» и тот, который вы так любезно посетили, эта доля составит не больше десяти миллионов, так что невеста будет не в обиде.
Я не выдержал, захохотал, так он меня уморил:
— Да я-то тут при чём, дорогой Роберт Эрастович? Расскажите лучше сестрёнке об этом: как она в миллионерши выйдет…
Он рассказал. Николь подскочила к фон-барону, лизнула его в череп: что она — дура или только прикидывается? Иван, как полагается, сидел совершенно ошарашенный, Антуан и бровью не повёл — разыграно как по нотам.
— Итак, все согласны, как видите. Но что же я должен делать, Роберт Эрастович?
— Почти ничего. Только поехать со мной в посольство, чтобы дать своё поручительство.
— И когда же? — невинно полюбопытствовал я.
— Да хоть сейчас. И уж, конечно, сегодня, ибо завтра праздник, и всё будет закрыто. Мы можем поехать прямо на моей машине. Два часа, и мы в посольстве.
— И?..
Наконец-то он всё-таки добрался до истинной цели, вот когда он себя с головой выдал. Тут и гадать нечего: благородный мотив, разве можно отказать старику в такой просьбе? А цель-то, цель у него одна — вывести меня из игры. В посольстве он наговорит с три короба, соловьём разольётся… А у меня и без того времени кот наплакал, уже третий час, день-то почти прошёл.
— Простите, Роберт Эрастович, — твёрдо отвечал я, — ваша просьба для меня — святое дело, но нынче никак не могу, у нас уже намечены маршруты. Дело в том, что мы нашли в доме убитого Альфреда тетрадь, которая нам кое-что рассказала о предателе. Давайте отложим вашу просьбу до следующего моего прилёта, я с превеликим удовольствием…
Но потусторонние дела уже не интересовали его, как я и предполагал. Чёрный монах встрепенулся:
— Что же рассказала вам тетрадь? Если это не секрет, разумеется.
— Она и рассказала нам о Щёголе, — вот моя ответная наживка, пусть теперь он заглатывает.
— Ах, суета, — сдержанно отозвался он, — я в этих играх не участвую. Я же знаю, что вам, русским, всюду мерещатся заговоры, предатели, козни империализма… Очень жаль, что вы не можете сегодня, в таком случае я должен вас покинуть…
Николь снова лизнула его в череп. Монах заторопился, чтобы скорее приняться за земные свои делишки, но тут из моей спальни донёсся нечленораздельный зов, грохнул обрушившийся предмет. Сюзанна мгновенно подхватила поднос с закусками, поспешила в спальню, прикрыв за собой дверь. Чёрный монах с любопытством проводил её взглядом и, откинув сутану, приземлился на стуле. Грохот повторился, правда, в несколько приглушённом виде, зато Сюзанна тут же вылетела обратно с пылающим лицом.
— Мадам, кажется, проснулась? — проговорил фон-барон не без некоторого ехидства. — Как её самочувствие?
— Мерси, — растерянно отвечала Сюзанна, глядя на Антуана. Я посмотрел на Ивана.
С безмятежным видом Иван поднялся и с достоинством направился к спальне.
— Мадам надо сделать компресс, — бросил он на ходу. — Так я своей Терезе делаю.
О дверь что-то грохнуло.
— Иду, иду, мадам, — невозмутимо отозвался Иван, открывая дверь и отшвыривая ботинок с дороги.
— В последнее время матушка стала весьма раздражительной, — заметил вскользь Антуан. — Даже в церковь перестала ходить!
Чёрный монах глядел на нас с явным недоверием. Однако тайный агент Интеллидженс сервис вовремя пробудился в нём, он соболезнующе улыбнулся:
— Как давно не видел я вашей матушки, мсье Антуан. Если вы не возражаете, я хотел бы засвидетельствовать ей своё почтение.
— О, это ей будет весьма приятно, — с такой же учтивостью отозвался Антуан. — Сейчас я спрошу у матушки, мсье Мариенвальд, — и тоже направился в спальню.
Сквозь раскрывшуюся дверь до нас донеслось отчётливое булькание и хриплый вскрик, долженствующий означать радость. Я увидел испуганные глаза Николь.
— Кстати, Роберт Эрастович, — живо обратился я к чёрному монаху. — Чуть было не забыл, хорошо, что вы задержались. Я тоже хотел бы просить вас о небольшом одолжении. Взгляните, какую интересную вещицу мы нашли вместе с тетрадью в доме Альфреда Меланже, — в спальне, кажется, все утихомирилось, я продолжал более размеренно, доставая из папки злополучный конверт, который так подвёл меня вчера. — Смотрите, Роберт Эрастович. Убийца Альфреда послал эту карточку из Ла-Роша через два дня после убийства. Он хотел замести следы, но и сам оставил след. Письмо заказное, и конверт с бланком. Как вы думаете, дорогой Роберт Эрастович, можно узнать по конверту, кто послал его? А что, если в Ла-Роше на почте ещё работают люди, которые вспомнят отправителя. Или по почерку… — я замолчал, потому что сказанного было более чем достаточно. Передо мной сидел пыльный старец, и я видел, пока говорил, как неумолимо и точно менялось его лицо: подозрение — интерес — удивление — полная растерянность — страх — вот как оно менялось.
— Откуда вы взяли этот конверт? — спросил он, почти не владея собой, рука его безвольно потянулась ко мне.
Я сам не ожидал такого эффекта. Что же это такое получается? Переборщил я — вот что получается. Ну припру я его сейчас с этим конвертом, заставлю признаться, что он и есть тот отправитель — а дальше что? А дальше ничего не получится, тем более, что он довольно-таки успешно уже приходил в себя: мгновенный страх — сомнение — спокойствие — уверенность — и вернулся на исходную точку — подозрение, с той, однако, разницей, что теперь оно, это подозрение, было обращено на меня: все ли я сказал, что знаю…
Антуан на цыпочках вышел из спальни, заботливо прикрыл дверь и произнёс взволнованным полушёпотом:
— Матушка весьма сожалеет, что не может принять вас, мсье, у неё сильная мигрень и кашель.
Антуан явно переигрывал, но барону стало не до матушки. Я поспешил навстречу, чтобы исправить свою же промашку.
— Я же говорю вам, Роберт Эрастович, сестра Альфреда нам конверт дала, Агнесса, тогда она совсем маленькая была, про убийство брата ничего не знает, а сейчас она вроде как психическая. Так вы мне поможете? Видишь, Антуан, Роберт Эрастович крайне заинтересовался нашим конвертом. Столько лет прошло. Это же почти неисполнимая задача: найти отправителя по такой бумажке. Но Роберт Эрастович обещает помочь.
— Там же штамп отеля есть, — с готовностью вмешался Антуан. — Это всё-таки даёт надежду.
— Что и говорить, — голос чёрного монаха обрёл прежнее спокойствие, — вы сильно меня удивили. Дело в том, что отель, штамп которого стоит на конверте, принадлежит мне. Значит, конверт был послан из моего отеля, кто-то из моих постояльцев… — Он задумался глубоко и сосредоточенно. — Когда это было, вы говорите? Март сорок седьмого? Это несколько осложняет дело, потому что я стал владельцем отеля только год спустя, но попробовать все же можно, — он требовательно протянул руку за конвертом.
Я сделал вид, что не заметил этого жеста, аккуратно спрятал конверт в заветную папочку. Вчера он подвёл меня, нынче выручил и в будущем ещё послужит.
— Да мы же вместе с вами и поедем, Роберт Эрастович, — бодро сказал я. — Хоть сейчас. И разберёмся на месте.
— Как вам будет угодно, — сухо бросил он, — но в данную минуту…
Из спальни донёсся вопрошающий глас.
— Ты меня уважаешь, матушка? — Это Шульга изо всех своих бедных сил трудился на французском языке для родины.
Мариенвальд удивлённо оглянулся на дверь. В копеечку обойдётся мне Иванова помощь! Я вытащил из папки конверт.
— Впрочем, берите, Роберт Эрастович. Не обязательно нам двоим туда ехать, вы сами сделаете лучше и быстрее, если это вообще возможно. Я целиком доверяюсь вам, — и протянул ему конверт с таким видом, словно это был чек на миллион франков.
Однако и конверт кое-что стоил! Чёрный монах с благодарным кивком принял мой дар. Конверт тут же исчез в сутане, и барон сам назначил ему цену.
— Склероз, склероз, — молвил он. — Я же совсем забыл, что вы филателист, спасибо этому конверту, он напомнил мне. Как филателисту я завещаю вам свою коллекцию марок, она стоит не меньше миллиона.
— Гран мерси, мсье Мариенвальд. От марок не откажусь.
— Вот именно, мне бы сразу сообразить, — заметил с улыбкой барон, радостно похлопывая ладонью по сутане: обвёл-де нас вокруг пальца, завладел конвертом. — Однако не хороните меня раньше времени, я ещё собираюсь поскрипеть и на этом свете, — улыбка его сделалась игривой, и он подмигнул Николь. — Завтра даю объявление о своей помолвке. Как жаль, что мне надо спешить… Такое чудесное общество… Желаю успеха на вашем поприще, дорогой Виктор, теперь всё будет зависеть от вас! — вот как он пригвоздил меня с разлюбезной улыбкой.
Я улыбнулся ответно:
— Ах, Роберт Эрастович, вряд ли теперь от меня что-либо зависит после того, что вы объявили мне, — и пригвоздил его к тому же кресту. — Теперь от вас будет зависеть, от ваших только действий.
— Теперь у нас с вами общие действия, — он и вовсе повеселел. — Так сказать, объединённый союз.
— Но под вашим командованием, под вашим, Роберт Эрастович, — подпевал я.
Мы уже дошли до порога — и новая задержка: машина Луи катилась по дороге.
— Это мсье Дюваль, — любезно пояснил я, — старый партизан, друг отца, он ездил в Льеж к президенту де Ла Гранжу, мы собираемся подавать официальное заявление по поводу…
— Вы, разумеется, покажете его мне, — бесцеремонно перебил барон, он уже чувствовал себя полным хозяином положения, так глубоко заглотал он мою наживку. Но, видно, что-то сверкнуло в моих глазах, плохой я всё-таки актёр, чёрт возьми! Он тут же смягчил тон. — Я найму для вас самых лучших адвокатов, да и сам помогу советом. Вы, наверно, знаете, вопрос о сроке давности ещё не решён парламентом.
— Но речь идёт ещё и о прямом убийстве в мирное время, — любезно напомнил я на всякий случай.
Луи уже подъехал, рядом с ним сидела Татьяна Ивановна. Чёрный монах заторопился к «ситроену». Луи вышел из машины. Они церемонно раскланялись, и барон укатил.
Татьяна Ивановна подошла ко мне.
— Как Луи нашёл вас? — обрадовался я. — Он же за президентом поехал? Где вы так долго пропадали? Вы должны почитать нашу тетрадь, Татьяна Ивановна, а то у нас полная свистопляска с переводом.
— Мсье Луи немного заблудился в Льеже, — напевным говорком отвечала Татьяна Ивановна. — Мы случайно встретились на улице, и я отвезла его к дому президента. Мсье Поль Батист продолжает в горах свой ваканс, он явится по программе.
— Какое странное название, Татьяна Ивановна, «Отель де Виль» — вы не находите?
— У нас так называется городская ратуша, а иногда и главный отель в городе.
— Только и всего? — Я был обескуражен. — Впрочем, это побочный вариант, бог с ним, — я повернулся к Дювалю. — Что так долго, Луи? Мы вас заждались, идёмте завтракать.
— Тебе звонили, — объявил Антуан, когда мы вошли в комнату.
— Тереза?
— Она сказала, что она Тереза, — с готовностью перевёл Иван.
— И что же она молвила?
— Что ты ей очень нужен.
— А вы?
— Антуан ответил, что ты уехал с важным визитом.
— Ну что ты теперь скажешь, Антуан? Придётся-таки прокатиться нам в «Остеллу». Тереза сама зовёт меня, Антуан.
ГЛАВА 21
«Остелла» — два километра», — мелькнул голубой указатель, чуть дальше — призывный щит: «Вкусная валлонская еда, уютные недорогие комнаты с прекрасным видом, горные теренкуры. Загляните в нашу „Остеллу“!» Каков стилек, вы узнаете его?
Идём на «Остеллу» тремя «эшелонами». Луи и Шарлотта — впереди в своём «Москвиче», потом мы с Антуаном, с Николь и Татьяной Ивановной на заднем сиденье. Иван и Гастон прикрывают эту мощную, хотя и несколько разнокалиберную колонну. Грядём в «Остеллу» всей дружной семьёй на пикник по некоему поводу. Из большой моей семьи лишь Сюзанна осталась дома — нести боевую вахту, ах, бедная Сюзи!
Итак, мы нагрянули в «Остеллу». На мне нейтральный штатский костюм с белым платочком в нагрудном кармашке пиджака. Я тайно вступаю в переговоры с Терезой, а если это окажется недостаточным, если наши шуры-муры ни к чему не приведут, то дальше все проще простого: какая-либо из наших машин внезапно поломается, и кто-то остаётся на ночь в волчьем логове, чтобы продолжить поиск. У Шарлотты и Луи больше всего возможностей и шансов для такой поломки, поэтому они и следуют в первом эшелоне.
«Остелла» — 1 км». Зовут, зовут нас стрелки.
— Приотстань чуток, — говорю Антуану, — дадим Луи одну-две минуты, пусть они осмотрятся. А тут и мы.
Впрочем, Антуан и сам знает дело, он уже сбросил газ. Машина Луи ушла за поворот.
Вот и мостик, возле которого Иван замерзал. «Остелла» раскрылась за срезом скалы, загадочная «Остелла», сочно и красиво освещённая предзакатным солнцем. Начинаю комментарии:
— Вот она перед вами. Прошу приготовить кинокамеры. Кадр первый: торжественная встреча Луи Дюваля. Туш и выбор меню!
— Ой, как я волнуюсь! — восклицает Николь за спиной.
«Москвич» стоит у дома, а сам Луи уже ведёт переговоры с хозяйкой, которая вышла из дверей. Шарлотта тут же.
— Старый партизан Луи в своём репертуаре. Вышел на исходную позицию, — это я комментирую.
Приближаемся ещё на пятьдесят метров. За столиками под тентом сидят посетители. Тереза сладостной волной плывёт с подносом — и сердце моё вмиг упало, потому что я увидел и узнал другую: продолжая разговаривать с Луи, женщина у дверей машинально обернулась на шум мотора — и я увидел её лицо. На ней было другое платье, летнее и светлое, но лицо-то не изменилось.
— Вперёд, Антуан. Алярм! — крикнул я. — «Остелла» отпадает…
— Он вас умоляет: алярм, — в растерянности сказала по-русски Татьяна Ивановна.
Но и Антуан уже узнал женщину у дверей. Дал газ, мы пулей проскочили мимо «Остеллы», лишь угол крыши да скалу, нависшую над дорогой, увидел я. Голова лошади выглядывала там с вершины, вздыбившаяся голова взнузданной лошади, с нашлёпкой толстых губ, подслеповатым тёмным глазом, надломленным ухом. Скала поразительно смотрелась как лошадиная голова, но, видимо, не из всех точек, а лишь отсюда, с юго-восточной стороны…
— Женщина в чёрном, — сказал Антуан, выжимая газ. — Нуар!
— Женщина в чёрном, — взволнованно повторила Татьяна Ивановна по-русски. — Это она, я тоже узнала её.
— А я видела Терезу, — воскликнула Николь, — она шарман. Но почему мы не остановились, кого вы узнали?
— В этом игровом эпизоде, как говорится, комментарии излишни, — я посмотрел сквозь заднее стекло. — Тем не менее мы продолжаем наш репортаж о несостоявшемся пикнике. Только что слева по курсу промелькнула прекрасная и загадочная «Остелла», перед нами возникла уже не загадочная женщина в чёрном, но не только она возникла перед нами, мои дорогие слушатели, мы узрели нечто более значительное. Мы увидели Лошадиную скалу.
«Остелла» скрылась за поворотом, за елями, но Лошадиная скала была видна ещё лучше, отсюда даже шея вырисовывалась и грива. Резкие тени перечёркивали скалу, то бишь голову, рисунок был полон экспрессии и силы.
Антуан даже присвистнул, обернувшись, но он мог видеть Лошадиную скалу и в смотровое зеркальце, так чётко она вырисовывалась. Иван неумолимо следовал за нами с тем же интервалом и махал свободной рукой, призывая остановиться.
Ушла от нас «Остелла». Отдалилась, растаяла за холмом Лошадиная скала, но камни, похоже, приостановили своё движение, они уже не скатываются в глубь родника, и оседает песчаная дымка.
— Как думаешь, Антуан, видела она меня или нет, эта бедная вдовушка, мадам Ронсо?
— Мадам Ронсо? — он на мгновенье вскинул брови. — Ага, понимаю. В этом доме промахнулся Альфред Меланже, и Борис убил Густава Ронсо. Все сходится. Нет, я не думаю, что она тебя видела. Как раз в этот момент она отвернулась и стояла спиной. По-моему, она о чём-то спорила с Луи.
— Отец кого-то здесь убил, да? — допытывалась Николь. — Поэтому мы и не могли остановиться? Это нельзя?..
— Потерпи немножко, сестрёнка. Торжественный пикник в горах временно переносится на весьма непродолжительный срок. Наши дела не так уж плохи, но тебе, Николь, кажется, придётся туговато.
— Я тебя не понимаю, дорогой братец, — отпарировала она. — Ты любишь говорить загадками.
— На перекрёстке есть неплохая таверна, — заметил Антуан. — Мы можем там остановиться и посидеть.
— И перестанем, наконец, мучить Николетт своими загадками. Но держись, дорогая сестрица!
Дорога шла под уклон густым лесом. Меж стволов проступали слоистые скалы с прилипшими к ним валунами. Опять мелькнула вдали Лошадиная скала: отсюда и шагали к ней «кабаны», она служила им ориентиром. Но ведь и промах Альфреда Меланже имел своё значение…
Иван отчаянно сигналил, призывая нас к остановке. Но вот и перекрёсток с белокаменной церквушкой. Антуан подъехал к таверне. Иван резко притормозил рядом, высунулся из кабины, старый Гастон, обронив голову на грудь, сочно похрапывал.
— Что это значит? — вскричал Иван, подбегая. — Почему мы уехали с нашего пикника?
— Это значит, Иван, — в полном смущении отвечал я, — что человек по имени Пьер Дамере находился в двадцати метрах от нас.
— Где он был? — невнятно удивился Иван. — Ты увидел его в «Остелле»?
— Позавчера, в воскресенье, в четырнадцать ноль-ноль по среднеевропейскому времени. Он находился всего в двадцати метрах от нас…
— И курил сигару, сидя в машине, — подхватил Антуан.
— Номер его машины? — продолжал я, озлобляясь все больше. — А ну, живо!
Иван непонятливо пялил глаза.
— Девяносто три, двадцать пять, икс, провинция Западная Фландрия, — бесстрастно закончил Антуан.
— Ты понимаешь это? — в полном отчаянии кричал я, обращаясь к Ивану. — В двадцати метрах?!
— Ну вас к богу, — обиделся Иван. — Зачем ты меня всё время дурализируешь?
— Антуан, объясни ему популярно, — я уже остыл и высматривал столик поукромнее. — А я с Николь пока поболтаю. Чует моё сердце, Луи там долго не засидится. Иван, наблюдай за дорогой.
— Я его не пропущу, — обещал Шульга.
Я продолжал собирать свои камни. Пьер Дамере читает не только газеты, но знаком и с моей частной перепиской: чёрный монах доложил ему о первом письме, которое я написал Антуану три месяца назад. Пьер тоже готовился к моему визиту, он вырезал инициалы на сосне, он выкрал или выкупил папку «кабанов» из архива генерала Пирра. А когда я начал раскапывать, что было на мосту, Пьер подослал свою бывшую невестку на банкет в надежде запугать или запутать меня. Женщина в чёрном неплохо исполнила роль, и, если бы не старый нож с монограммой и не случайный поворот дороги, заведший нас с Луи под крышу «Остеллы», не собрать бы нам распавшиеся камни. Ещё и сейчас не все проступило в холодной прозрачности родника.
— Кстати, дорогой Гастон, вы так и не ответили на мой вопрос. Не может того быть, чтобы Мишель состоял в отряде под фамилией Ронсо. Внимание, друзья, предлагаю дать слово старому Гастону.
Но Гастона и просить не надо было. Он выспался и жаждал говорить, чтобы взять реванш за долгие годы молчания.
— Минуту, старче. Вернёмся к нашим баранам. Хотя бы такой вопрос: как Мишель, он же Щёголь, попал в отряд «кабанов»?
— Зачем ты хочешь возвращаться к ихним баранам? — равнодушно удивился Иван.
— Помолчи минутку, русский Жан. Слово для перевода имеет Татьяна Ивановна.
Но Гастон болтал без умолку и как хотел, не было наших сил остановить или вразумить его. Он увидел меня, поднял кружку.
— Я сразу узнал этого парня, — изливался он, — уж очень он на Бориса похож. И форма у него красивая. Он получил королевский орден. Он русский лётчик, летает по всему миру, так написали в газете. И я подумал, пусть он узнает про Бориса. А этот парень мне тогда не понравился. Он был у «кабанов» в последний день и остался в моём доме. И я задумался, почему он не пошёл с «кабанами» на мост и не погиб вместе с ними? Но потом я увидел Мишеля и понял, что Антуан не виноват, он был слишком молод, чтобы умирать. А теперь я вижу, что Антуан — настоящий парень.
— А я тебя подозревал, Гастон, — ответил Антуан с улыбкой. — Я думал, ты забрал из хижины их вещи. Но я тебя уважаю. Я всегда тебя уважал: ты один выступаешь против всех.
— Люди уважают старого Гастона, — подтвердил старик. — Но когда я увидел Мишеля, я понял, что было на мосту. Мишель все тонко обделал, все концы спрятал в воду, это он умеет. Осенью сорок четвёртого года он явился в хижину «кабанов», он хотел забрать свои вещи. Но и старый Гастон не дурак, старый Гастон побывал там раньше Мишеля. Я сразу понял, что тут случилось. Одиннадцать настоящих парней, отчаянных «кабанов» разве их так просто убить! Ясное дело — боши их выследили. И я пошёл в хижину, чтобы узнать, кто их выдал. Я перекопал все вещи. И я нашёл. В мешке Мишеля я нашёл старую библию, а в ней была спрятана в корешке та самая фотография, которую я показал Виктору. Я всё понял: Мишель решил отомстить за Густава, он был хороший стрелок, Альфред часто отпускал его на охоту, чтобы он принёс им зайца или фазана. Но он вместо охоты ходил к бошам и спелся с ними. Я спрятал библию и фотографию, но больше я ничего не взял, а разворошил все вещи, будто в хижине побывали боши или воры.
— Под какой же всё-таки фамилией был Мишель в отряде? — спросил я, воспользовавшись паузой, пока Гастон наполнял свою чашу. — Спросите у него, Татьяна Ивановна.
— Почему ты не даёшь говорить старому Гастону? — грозно откликнулся старик. — Или ты считаешь себя умнее старого Гастона? Конечно, Мишель придумал себе другое имя, никто в отряде не знал, что он Ронсо, я сам об этом догадался лишь тогда, когда увидел фотографию. И он пришёл в хижину за этой фотографией, но не нашёл её. Тогда он спустился в мой дом. Я притворился, будто ничего не знаю. Он рассказал, что «кабаны» погибли, только он чудом спасся, хотя все думают, что он тоже мёртв. Я сделал вид, будто верю ему. И тогда он спросил про библию, это, сказал он, подарок его матери, и он им очень дорожит. Но я тоже не дурак, я спросил его: «Скажи мне прежде, почему ты скрывал от „кабанов“, что ты Мишель Ронсо?» Он засмеялся и дал мне карточку, чтобы я поверил ему. «Мишель — это моя кличка, — ответил он, — так придумали русские парни. А если ты хочешь узнать моё имя, которое я носил всю жизнь, прочти его на этой карточке. Я живу в Намюре и никого не боюсь». Я прочитал и удивился: «Откуда у тебя свой отель?» И он опять соврал мне, он сказал: «Это не мой отель, я просто живу там, пока у меня нет своего дома. Ты думаешь, что я заработал деньги в лесу? Ты заблуждаешься: в лесу я заработал только раны и болезни». Он думал, что ему удастся обмануть старого Гастона, как бы не так! И библия осталась у меня, я верил, что она мне пригодится. А потом кончилась война, и предатели остались на свободе. И я сказал сам себе: «Пусть люди оставят старого Гастона в покое. Ты потерял дочь и жену, Гастон. Забудь живых и помни мёртвых. Не желаю я вас знать», — вот как я сказал всем. Я уже думал, что библия мне никогда не понадобится, но тут прилетел из Москвы этот парень. Виктор — настоящий парень, я уважаю Виктора, пусть он приходит ко мне в дом.
— Как же всё-таки Мишель узнал, что «кабаны» убили его брата? — дотошничал я, потому что все это были звенья одной цепи. — Ведь Мишель не ходил в ту ночь к Лошадиной скале, об этом написано в синей тетради.
— Ты думаешь, у тебя найдётся такой вопрос, на который у Гастона не будет ответа? Ты плохо знаешь старого Гастона.
— Альфред промахнулся, и «кабаны» над ним подтрунивали за это, — предположил Антуан.
— Сам Борис больше всех смеялся над Альфредом в хижине, и Мишель слышал этот смех, это было при мне, — подтвердил Гастон, а сердце моё сжалось от боли, но сейчас не время и не место для моих переживаний, потому что пришло время собирать камни.
— За обедом Гастон говорил, что Пьер, он же Мишель, — негодяй. Есть конкретные факты?
— Однажды мы встретились в лесу, и этот негодяй Мишель отнял у меня двух фазанов, он сказал, что это нужно для «кабанов». Ему некогда было самому стрелять фазанов, потому что он бегал к бошам.
— Хорошо, пойдём дальше. Допустим, что Мишель ходил в «кабанах» под чужой фамилией. Но зачем ему было становиться Дамере, если он всегда им был?
За Гастона снова ответил Антуан:
— Он знал, что все «кабаны» погибли, и поэтому решил взять фамилию по старой кличке. Так ему было легче получить документы после войны.
— Но Альфред Меланже не погиб. И Альфред знал, что он Щёголь, то есть и Дамере. Как ты увяжешь это, Антуан?
— Щёголь мог думать, что Альфред тоже погиб. А потом они встретились, и начался их поединок. А уж после смерти Альфреда он мог быть спокойным. Никаких следов не осталось.
— Почему Гастон решил, что «Остелла» принадлежит Пьеру?
— Ты задаёшь глупые вопросы, русский лётчик, — отвечал старик с насмешкой. — Старый Гастон знает все, что делается в его округе. Люди уважают за это старого Гастона. Через год после войны я ехал по дороге и видел своими глазами, как Мишель красил там двери и делал новые окна. И я понял, что это его дом.
Неохотно собираются камни, не складывается их рисунок — все это лишь предположения, натяжки, они не заменят фактов, а нам нужна истина. В том, что сообщил Гастон, сомневаться не приходится, но всё же это только версия, которую мы должны сначала подтвердить, а уж после принимать решение. Предатель где-то рядом, я всё время ощущаю его присутствие, а ухватить не могу даже намёком. Он ловко действует и тут же заметает следы. Именно он и наводит нас на «Остеллу», Антуан уже высказывал такое предположение, теперь я не сомневался в его истинности… Есть у меня одна идея, но ею ещё рано делиться, ещё с Терезой кое-что неясно.
— Надо ехать в «Остеллу», — объявил Шульга, глядя в сторону дороги, по которой мы приехали.
Занятно получается, подумал я: все нити ведут в «Остеллу», а нам там нечего делать.
— Нам надо искать предателя по номеру машины, Антуан.
— Я займусь этим, но вряд ли успею сегодня.
— Вариант объявляется запасным. Будем искать другие нити. Монах намекнул: в нашем распоряжении два дня.
— Луи выезжает на перекрёсток, — торжественно доложил Иван.
Николь выбежала на дорогу, делая знаки Луи.
«Безнадёга», — заключил я, увидев его лицо, и протянул Луи свой стакан. Тот залпом осушил его.
— Эта чёртова кукла не пустила нас в отель. Я, видите ли, не взял с собой паспорта, и она не может пустить меня с незнакомой женщиной в номер. А там сидят за столом расфуфыренные кокотки, им можно! В какой стране я живу: меня не пускают в номер с собственной женой. Я напишу письмо в газету.
Антуан рассмеялся:
— Она же узнала тебя, Луи. Она не захотела пускать в отель старого партизана, вот в чём дело!
— Я тоже сразу узнал эту ведьму, — ответил польщённый Луи, — но я-то не подал виду.
— Она тебе тоже не показала своего вида, — заявил Иван на русском языке, но тут же поправился и сам себя перевёл: — Это была женщина в чёрном, Виктор её испугался.
— Она меня не пустила в отель, — самодовольно продолжал Луи, — но кое-что я всё-таки увидел.
— Терезу? — быстро спросил я.
— Да, Тереза делала мне знаки. Она хотела со мной поговорить и боялась этой ведьмы.
Подоспевшая Шарлотта принялась подтрунивать над мужем: так её взволновала мысль о несостоявшемся приключении, в котором она должна была играть роль женщины для развлечений. Я слушал Шарлотту, а размышлял о Терезе: от неё ли самой исходил звонок, или звонила она по указке Пьера? Как вообще она ко мне относится? Но разве можно решить этот вопрос без самой Терезы?
— Зачем мы здесь сидим? — заявил Иван, не трогаясь с места. — Давайте нападём на эту «Остеллу», захватим ведьму и заставим её раскрыть адрес ихнего военного преступника. Если она сидела в его машине, то она знает и его адрес.
— Ты молоток, Иван, — я усмехнулся, — до чего же ты логично рассуждаешь, тебе пора в парламент, будешь представлять крестьянскую партию.
— Нас же арестуют, — испугалась Николь, делая большие глаза.
— А мы удерём, — сообщил Иван, оказывается, у него уже все продумано.
— Куда ты удерёшь, Иван, в лесную хижину? — Антуан горько усмехнулся. — Во время войны я делал то, что хотел и что велела мне моя совесть, но некоторые нас называли за это бандитами. А сейчас я уважаемый человек, но не могу поступить по велению своей совести.
— Если не хотите брать её в плен, устроим засаду, — пылко фантазировал Иван. — Подкараулим этого предателя на дороге и возьмём в плен не её, а его самого.
— Чтобы что? — поинтересовался я на всякий случай. — Что ты будешь с ним делать?
— Я дам ему в морду, — убеждённо отвечал Шульга.
— Мне морды мало, Иван. Я должен так его пригвоздить, чтобы он уже не поднялся. И чтобы при этом мои манжеты остались чистыми.
— Я тебя уважаю, русский Жан, — молвил Гастон, — но я с тобой не согласен. Ты не должен действовать как боши.
— Хорошо, Гастон, — согласился Иван. — Я возьму плакат, и мы вместе с тобой будем делать демонстрацию.
— Нет, русский Жан, — отвечал Гастон, — власти тебе тоже не помогут. Я им сказал: найдите того боша, который проколол штыком мою дочь. А они вежливо улыбались и ничего не сделали.
— Что же нам делать? — спросил Иван.
— Пусть решает этот молодой русский. Сейчас он тут главный.
— Ничего у нас не получается, Виктор. — Антуан развёл руками и поглядел на Николь.
— Да, сестрёнка, — ответил я, перехватив взгляд Антуана. — Ничего другого у нас не осталось. Но сначала я должен задать вопрос старому Гастону.
— Старый Гастон ответит на твой вопрос.
— Кто такой Буханка? Он был «кабаном», да?
— Никакого Буханки у «кабанов» не было, — отрезал Гастон. — Ты что-то путаешь, русский «кабан».
— Прекрасно. А как попал Мишель-Пьер в отряд?
— Его прислал сам полковник Виль. Вот кто был настоящий парень!
— Как ты смеешь, старик, отзываться так о бандите? — мгновенно рассвирепел Луи.
— Помолчи, не тебе судить об этом. Что было делать Вилю, если он был молод и хотел жить? Он себя не щадил в бою, его четыре раза ранили боши, он воевал не ради денег и наград. Но он понял, что после войны останется в дураках, и тогда он забрал деньги из банка. Виль — наш герой. Если бы он вернулся сейчас в Бельгию, я бы первый крикнул ему: «Виват!»
— Вы только послушайте, что говорит этот свихнувшийся старик, — гневно торжествовал Луи. — Он хочет кричать «виват» бандиту.
— А разве наши министры, которым все кричат «Виват», разве они не бандиты? Они грабят народ, и люди кричат им «виват». Так говорит старый Гастон.
— Я не кричу «виват» твоим министрам, — парировал Луи с ехидством. — Я коммунист, и я хочу, чтобы наше богатство принадлежало народу.
— Полковник Виль — герой, — твердил Гастон.
— Что-то я не слышал о том, чтобы героев разыскивал нтерпол, — язвительно отвечал Луи. — Настоящие герои сидят дома и смотрят телевизор. Наш герой — генерал Пирр.
Антуан пытался их примирить:
— Не будем спорить о политике. Лучше поговорим о наших делах.
Хозяин подошёл к нашему столику.
— Вы, кажется, говорили о полковнике Виле, — сказал он. — Если вы хотите знать моё мнение, я вам скажу: Виль — молодец. Он получил по своему счёту лишь то, что ему причиталось. Он мог взять и больше, но он взял ровно столько, сколько заработали на нём эти деляги, которые отсиживались в Лондоне. Я тоже был в Сопротивлении.
— Вот видишь! — старый Гастон с готовностью поднял кружку.
Луи поднялся:
— Хватит! Мне надоели ваши дурацкие разговоры! Мы должны действовать. Я еду в Льеж, — заявил он. — Там я пойду в комитет Коммунистической партии. Наш секретарь — старый шахтёр, я его знаю, и он поймёт меня. Он тут же позвонит в Брюссель, мы вместе поедем в Брюссель…
— Мы тоже будем действовать, — ответил Антуан и снова посмотрел на Николь. — И незамедлительно.
— Придётся тебе, сестрёнка, — я подошёл к ней, обнял за плечи. — Паспорт-то у тебя с собой? Вся Европа на тебя смотрит.
— Какая Европа? — спросила Николь, она ещё на что-то надеялась.
— Восточная и Западная, поговорка у нас такая. Пора, Николь.
— Ты хочешь, чтоб я поехала в «Остеллу», — она подняла на меня глаза, и я увидел в них отчаянную решимость. — Хорошо, Виктор, я поеду, у меня есть паспорт и деньги.
— Пусть она едет, — великодушно согласился Луи. — Эта красотка делала мне знаки, она там. А я поеду в Льеж.
— Поддерживай контакт с Терезой, — сказал Антуан.
— Зачем вы её учите? — отозвался старый Гастон. — Она дочь Бориса и лучше вас знает, что ей там делать.
Я засмеялся:
— Огляди внимательнее, сестрёнка, свои будущие владения, которые ты никогда не получишь.
— Я понимаю, — отвечала Николь, — чёрный монах хотел обмануть тебя, он все придумал. Я правильно его поцеловала, да? Он такой противный…
— Действуй в том же духе, Николетт. Скажи Терезе, что ты моя сестра и что я сам тебя прислал. Запомни, я буду у Ивана.
— Мне нужно рассказать, что ты в неё влюбился? — не без кокетства спросила Николь.
— Смотри по обстановке. Главное, постарайся извлечь её оттуда…
— Этого нельзя говорить, — возмутился Луи. — Я не допущу, чтобы русский влюбился в дочь предателя.
— Но, может, Тереза и не дочь его? — сказал Антуан.
— Сколько у вас денег? — спросила Шарлотта.
— Франков триста…
— Этого мало, — сказал Антуан.
Я сунул Николь пятьсот франков.
— Возьми на представительство. Есть ещё вопросы?
— Мне всё ясно, — покорно отвечала Николь. — Я буду действовать через Терезу. Я понимаю, что она нужна тебе…
Мы вышли на перекрёсток. Вскоре в сторону «Остеллы» свернул роскошный «мустанг». Николь подняла руку и побежала к водителю. За рулём сидел мужчина в чёрном костюме, полный респектабельности. Николь стояла, наклонившись к кабине, и поза её выражала решимость и безнадёжность. Я чуть было не окликнул её, чтобы она вернулась. Но Николь уже открыла дверцу.
— Бон шанс, Николь! — крикнул я по-французски. — Ни пуха тебе ни пера.
— Мерси, Виктор, — она помахала рукой.
ГЛАВА 22
Часы с кукушкой, висящие в кухне, бьют семь часов. Лихо кукует кукушка, уже семь! Всего два дня осталось в моём распоряжении, один почти прошёл, а я сижу и жду у моря погоды. Рядом со мной бездельничает Иван: мы одни в его большом доме. Тереза и зять после обеда уехали в родильный дом к Мари и ещё не возвращались. Мастерская по случаю рождения наследника закрыта.
— Засекаю время, — говорю Ивану. — Ждём ещё тридцать минут, если Николь не позвонит или сама не появится, начинаем действовать. Где твоё «ландо», Иван?
— Надо ехать не в «Остеллу», а к попу, — в который раз предлагает Шульга.
— Считаю данную тему закрытой, — я уже сержусь. — Ты что, под монастырь подвести меня хочешь?
За окном раздался шум мотора. Я прислушался. Увы, машина проехала. Сколько их проехало мимо дома — ни одна не задержалась.
— Он же сам к тебе недавно звонил, — тупо настаивает Иван. — Он звал тебя в гости. Поедем к нему и прижмём его.
Я молчу и с надеждой смотрю на телефон: не зазвонит ли он снова? Спорить с Иваном бессмысленно, он уже достаточно высказался. Я жду звонка и прислушиваюсь к машинам: ведь и Антуану пора прибыть с известиями.
Кое-что мы всё-таки за эти полтора-два часа узнали, и надежда есть. Звоночки были с разных сторон.
Позвонил президент Поль Батист. «Завтра у нас по программе поездка к ветеранам в Спа, не забыли ли вы об этом?» — «Нет, — отвечаю, — не забыл, мсье президент. Я и сегодня выполняю программу, сижу у Шульги». — «Очень приятно, — это ему приятно, что все идёт по программе, — ваш визит положительно встречен общественностью и прессой. Даже брюссельская газета дала краткую информацию о нашей воскресной церемонии. Но какое горе! Известие о том, что Альфред Меланже погиб, огорчило всех ветеранов. Организация, которую я возглавляю, непременно займётся расследованием обстоятельств гибели Альфреда Меланже». — «Очень приятно, мсье президент, — это я ему отвечаю. — Перед отъездом я передам вам все документы по этому делу».
Тут Иван говорит по-русски:
— Надо сообщить ему, что мы уже знаем имя предателя и ещё про ихнюю «Остеллу».
— За ради чего, Иван? — отвечаю ему на том же языке. — Чтобы он толкнул очередную речь о любви и дружбе? Зачем нарушать его ваканс? У него в горах манифик.
— Но ведь Луи тоже говорил о президенте.
— Абсолюман! — говорю. — Вот когда я сам ничего не смогу, тогда и передам ему бумаги, пусть действует. Но это же все косвенные улики. Что можно доказать синей тетрадью или даже фотографией двух братьев Ронсо? Суди сам. Если мы даже с помощью фотографии «кабанов» и Жермен можем доказать, что Пьер, он же Мишель по кличке Щёголь, был в диверсионном отряде, это ещё ничего не значит. Ну был и остался жив. Все погибли, а он случайно уцелел.
— А синяя тетрадь?
— Её всегда можно истолковать как беспочвенные предположения психически больного Альфреда. Ведь тот и сам в тетради задаёт вопрос: почему «кабанов» предали? Начнутся экспертизы почерка, всякие медицинские заключения. Долгая волынка, Иван, и ещё неизвестно, чем она кончится.
— Тогда Иван придвинулся ко мне и жарко зашептал:
— Поедем к попу домой, у меня на чердаке лежит пистолет, даже Тереза о нём не знает. Я войду первый и скажу ему: «Хенде хох!» — так мы бошей на дорогах пугали. А ты к нему с пистолетом: «Где Пьер спрятался? Говори, несчастный поп-капиталист».
Я посмеялся вволю.
— Развоевался ты нынче, Иван. Я же его наследник. Да мне такое дело пришьют!
— Какое дело?
— Что я хотел его скорейшей смерти, чтобы получить обещанное наследство в виде коллекции марок, это же миллион франков…
— Ты ему веришь? Он ведь жадный.
— В том-то и дело, что Пьер на него нажал. О голове идёт речь, тут уж не до миллионов. На сестрёнке хотели меня купить…
— Мало я их убивал, рексистов этих, — тоскливо признался Иван. — Молодой я был и глупый, в неизвестную страну попал, кто в ихнем народе хороший, а кто плохой — откуда я знаю? Сейчас я на тридцать километров кругом знаю, кого надо бить. Если война начнётся, я автомат возьму и стану их убивать первой очередью.
Только мы фон-барона помянули, он тут как тут, заливается весёлым звоночком. «Где же вы, дорогой Виктор, я разыскиваю вас по всем телефонам. Где вы были, не в горах ли?» — «Я здесь, разлюбезный Роберт Эрастович, не мог не навестить соотечественника, сидим и смотрим телевизор». — «Что же вы решили? — спрашивает в лоб. — Я готов сегодня же вручить вам коллекцию». — «Я тоже готов, — отвечаю, — но мне с посольством надо посоветоваться». — «Вы действуете весьма предусмотрительно, дорогой Виктор, — это он мне опять заливает. — Заручиться поддержкой посольства нам с вами весьма важно. Благословляю вас на такое дело».
Ласково поговорили, а толку что? Отвлекаем внимание, а сами сидим у моря и ждём погоды. Чёрный монах знает все: мотив, имя предателя. Он ложно наводил меня на Жермен, потом на «Остеллу». Но одного не знает монах: Тереза ждёт меня, в этом он просчитался. Монах ко мне подбирается, я к нему, тут сложная игра…
Звонок из Льежа: Антуан. Его сообщение лаконично, как телеграмма. Синий «феррари» взят в аренду в конторе проката, адрес владельца, по всей видимости, изменён, тот живёт в Кнокке, на побережье. Имя: Питер ван Сервас. Продолжаю действовать, лечу в «Остеллу» за Николь, представлюсь её женихом, как-нибудь выкручусь… Человек с сигарой получил имя: ван Сервас. Но он ли предал? Теперь я и в этом сомневался.
А время меж тем идёт. Иван готовит хлебосольную передачу для дочери: соки, фрукты, сладости. Провожаем Терезу и зятя в Льеж и остаёмся одни. Кукушка на стене кукует. Звонит мадам Констант: прошлое барона Р.Э.Мариенвальда безупречно: участник Сопротивления, кавалер двух английских орденов и одного бельгийского, состоит в аристократическом ордене, почётный член филателистического клуба, поддерживает переписку с весьма влиятельными и титулованными лицами как в Америке, так и во Франции. Близок к Ватикану. Имеет тесные связи с ЮПТ…
— Что за ЮПТ такое? С чем его кушают?
— Так она мне говорит, сейчас я спрошу, это означает юнион… То есть по-нашему союз народного труда, так она ответила.
— НТС? Народно-трудовой союз? Так он всё-таки в открытую занимается антикоммунизмом? Спроси-ка об этом поточнее. Где центр этого вашего ЮПТ — Франкфурт-на-Майне? Трудись во благо родины, Иван.
— Она тебе сообщает, — передаёт Иван, — что в этом нет ничего опасного, у них можно этим заниматься.
— Ну разумеется, у них все можно, и все не опасно. Скажи ей, что я узнал кое-что о пропавшей папке.
— Как ты узнал? — спрашивает Иван.
— Передай так: папка с архивом «кабанов» пропала не в прошлом году, а буквально на этих днях, может, даже вчера, я точно ручаюсь за это. Может, эта деталь окажется ей полезной и наведёт на след?
— Она говорит мерси и удивляется, откуда ты это знаешь? Я тоже тебе удивляюсь, — добавляет он.
— Не занимайся отсебятиной. Я ещё кое-что знаю, но об этом пока рано говорить. Спроси: не связан ли кто-нибудь из работников архива с вашим неопасным ЮПТ?
— Так ты продолжаешь иметь упорное подозрение на этого барона? — пытает меня Иван. — Так она спрашивает.
— Да, я подозреваю именно его. Если не он сам, то его сообщники. Откуда они, этого я ещё не знаю: хоть из Ватикана.
— Ватикан не занимается такими делами, — оскорблённо заявляет Иван от имени мадам Констант.
— Вот поэтому я вам обоим и толкую про НТС. Они-то как раз такими делами занимаются.
— В этом она с тобой согласная. Она тебя благодарит и будет искать для тебя дальше.
А кукушка продолжает куковать. Иван, пытаясь развлечь меня, то принимается жаловаться на капиталистическую жизнь, на дороговизну больницы, в которой лежит дочь, на отсутствие заказов, то перескакивает на попа, видя, как я томлюсь. А я смотрю на телефон и слушаю звуки улицы. Проходит ещё два часа — и ни одного звонка, словно все вымерло.
— Пойдём, я покажу тебе мастерскую, — предлагает Иван, — и немного поработаю. Если ты у нас поживёшь ещё месяц, я могу окончательно прийти к разорению. Но для нашей родины я готов трудиться и на это.
— Так что же ты трудишься вдали от неё? — раздражали меня эти Ивановы присказки, прямо сил не было, но до сих пор я терпел, а тут не выдержал. Кто он такой, чтобы так распинаться? Как ни крути, одно выходит: натуральный эмигрант, от этого не отвертишься. «Наша родина», «моя страна»… — что-то я не слышал о том, чтобы Командир или Виктор-старший трубили об этом на каждом перекрёстке, а уж они-то трудились не за страх, а за совесть: у Командира звёздочка золотая, у Виктора-старшего орденов полна грудь. Да у нас вообще не принято… А этот только и делает, что говорит, столько наговорил, что дальше некуда. — Кто ты такой, Иван? — продолжал я, накаляясь. — Рихард Зорге? Или полковник Абель?
— Кто они? — необидчиво заинтересовался Иван. — Это ваши люди?
— Кто такой Лоуренс? Небось слышал?
— Это ихний шпион, — тут же ответил Иван.
— Ихних шпионов знаешь, а про наших разведчиков не слыхал? Да, Иван, в самом деле далеко ты от родины оторвался.
— Ты на мой язык намекаешь? — обиделся Иван.
— Да, и на язык тоже.
— А сам как говоришь? — Иван злорадно улыбался. — Ты говоришь: «мадам Жермен», «мадам Констант». У нас так можно называть только таких женщин, которые гуляют на панели. А про порядочную мадам нельзя так сказать. Или ты всё время говоришь: гран мерси. Это неверно…
Я тоже улыбнулся:
— Спасибо, Иван. Преподаёшь мне урок хорошего тона?.. Что поделаешь, когда языком плохо владеешь.
— Я тоже плохо знаю ихние порядки, — согласился Иван. — Я бедный русский в этой стране.
— Вот об этом и речь: о твоём социальном положении. Оглянись на свою мастерскую, — мы уже прошли из дома через боковую дверь по коридору и оказались в низком просторном помещении, заставленном станками всякого назначения. — Да у тебя тут целый цех, Иван, во главе с подпольной электропилой. Я распознал твою душу, Иван: ты есть типичный мелкий собственник. А может, и не мелкий, это мы ещё проверим. У нас, знаешь, какие мебельные комбинаты!
— Я знаю, — с грустью отозвался Иван. — В нашей стране не разрешают собственников, даже мелких. Но я же сам работаю от зари до зари, я никого не эксплуатирую, а меня — все. Я работаю под нажимом.
— Звонок-то мы услышим? — спросил я, заглядывая в раскрытые двери мастерской, откуда видна улица.
— У меня тут стоит второй аппарат, — Иван кивнул на столик в углу, напоминающий конторку. — Вдруг позвонит заказчик?
— Кто же тебя эксплуатирует, Иван? Заказчики? — Интересно всё-таки, что он ответит.
— Я всеми эксплуатированный, — не задумываясь, отвечал Шульга. — Налог у меня кто отнимает? Эксплуататор. Цены кто повышает? Они, тоже эксплуататоры. А три месяца назад в Льеже открылась большая фирма, и все мои заказчики побежали туда. Скоро я совсем останусь без заказов и разорюсь.
— Четыре с плюсом тебе, Иван. Ты получил наглядный урок политэкономии на собственной шкуре. «Крупная буржуазия разоряет мелкую», — вот как должен ты был мне ответить. Тогда я поставил бы тебе пятёрку.
— Тут все друг друга разоряют, — с готовностью подтвердил Иван. — Каждый эксплуататор думает о самом себе, а не о других эксплуататорах. Никакой классовой солидарности. Они снизили цены на двери и рамы для окон, которые я делал.
— Можешь не объяснять, Иван. Крупное производство рентабельнее, чем мелкое полукустарное, вроде твоего. Усвоил?
— Они эксплуататоры, но я тебе скажу, что они дураки, — с усмешкой отозвался Иван. — Зачем они рассылают всем проспекты на двери и окна? Ведь это очень дорого стоит, красивые цветные проспекты, а они шлют их бесплатно, они только деньги теряют на этом.
— Пять с минусом, Иван, — я засмеялся. — Может, им как раз выгодно рассылать эти проспекты, иначе они бы их не рассылали. Не такие уж они дураки, Иван.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что с помощью этих бесплатных проспектов они и переманивают твою клиентуру. Они на тебе заработали, Иван, на эти проспекты.
— Вот я и говорю, что они меня эксплуатируют, — уныло согласился Шульга. — Тебе хорошо, ты понимаешь нашу экономическую политику, а я всегда работал по устному разговору, мне трудно, я малограмотный Иван. В России я рос в нашей деревне, и сейчас тоже живу — в ихней деревне. Мы тёмные деревенские жители и закованы в цепи капиталистических стран. Приедет человек из города и тут же обманет меня, тут есть такие коммерческие вояжёры, которые всех обманывают. Они любили нас во время войны, когда мы освобождали их от бошей, а теперь они нас только эксплуатируют.
— Зачем же ты тут остался, о эксплуатированный Иван, закованный в цепи?
— Потому что я был дурак и поверил в ихний капиталистический рай. Все уехали, а я остался. И, кроме того, я полюбил Терезу. Она вела среди меня ихнюю пропаганду и не хотела ехать в Россию. А я полюбил её в сильном виде.
— Расскажи же, Иван, как ты полюбил свою Терезу и как ты вообще тут оказался? В кадрах служил?
— Я был угнанный в Германию в ихнем эшелоне, — с готовностью начал Иван. — Мне было семнадцать лет, когда Германия стала наступать на нас, я работал в колхозе конюхом, и мне было хорошо в нашей деревне. Потом я два года работал на немецкой ферме, и меня там только мучили. Это было недалеко от Аахена, у меня был друг Николай, мы с ним прослышали, что Германию уже разбивают и в Арденнских лесах имеются партизаны. И мы убежали туда с Николаем. Нам дали оружие, научили стрелять бошей, и я стал «лесным человеком». Тогда я был ещё русским, а сейчас стал маленько бельгийцем. Я сюда прибежал, как и был, даже пижамы не имел. Тереза не знала, богатый я или бедный, она боролась против своих родителей, но она любила меня. Когда я гулял с ней, то имел дисциплину нашей страны. И тогда я узнал о том, что её отец сопротивляется против русского. Он ударил Терезу с помощью сабо. Я пришёл в этот дом и сказал: «Почему вы сопротивляетесь против русского народа?» Он был хозяином, имел двадцать пять акров земли и дом. Он тоже много страдал во время войны, но он был приспособленный человек, он имел свои таланты до земли. Он говорит: «Я не сопротивляюсь русскому народу, но моя дочь — молодая девушка, а я её отец». — «Мы с вами вместе страдали во время войны, — сказал я ему, — я тоже русский крестьянин и буду пахать вашу бельгийскую землю, а сына у вас нет». Он стал со мной согласный и сказал: «А мне про русских говорили по-другому, мне говорили, что они отнимают землю». — «Вы хороший отец, я вас благодарю», — и мы пожали наши руки. Я ушёл, и Тереза любила меня ещё больше. Но я знал, что нахожусь в капиталистических странах, где нам не верят. Тогда я позвал друзей-партизан и сказал им: «Вы пойдите в тот дом и купите там яичек. Но заплатите ему денег, чтобы он думал, что русские из хорошего народа». Мои друзья-партизаны пошли туда, куда я им показал, и купили яички. После этого времени я имел значение в этом доме, её отец полюбил меня как сына, потом он дал мне знать, что я могу жениться на его дочке, хотя она имела только семнадцать лет. Мне нужно было иметь много разнообразных документов, чтобы сделать то, что я хотел. Прокурор отбросил мои бумаги, потому что в этих капиталистических странах русские были странные люди. Тогда я пошёл к товарищу Степанову, который возвращал наших людей на родину, он был наш советский кавалерист и лейтенант, мы пили с ним вино. Товарищ Степанов хотел мне помочь как друг и брат, и он сказал: «На российской территории тоже есть девушки». — «Это правильно, товарищ Степанов, — ответил я, — но мы тут скитались в лесах, и у нас образовались новые девушки. У нас с Терезой большой л'амур». — «Тогда я помогу тебе, Иван, потому что понимаю твоё сердце», — так сказал мне лейтенант Степанов, и он поехал со мной к судье ихнего правительства в иностранный город Уи. Судья просто отказал нам в плохом виде, он не хотел отдать бельгийскую девушку для русского партизана, но война ещё продолжалась в Германии, и русские здесь были крепкие и имели значение, все сволочи нас боялись. «Тогда мы пойдём к твоему судье», — сказал мой товарищ Степанов. Мы продолжали наше Сопротивление. Я обратился до ихнего суда, и мне оказали доверие, что русский может иметь бельгийскую молодую девушку. Так мы сражались за нашу любовь.
Рассказывая, Иван не оставлял ни на минуту работу: положил толстую дубовую плиту на верстак, подтянул блок, на котором в гибком шланге был подвешен шлифовальный круг в белой оправе. Круг заработал с гудом и дрожью, но Иван мощно жал его, ведя по плите, и гладкая полированная полоса выползала из-под круга, обнажая узор древесного среза. Рисунок дерева становился все более красивым и замысловатым. Иван пояснил:
— Это такой дуб. Он не в лесу вырос, а в поле стоял, ветры его продували, дерево крутилось во все стороны на ветру, и рисунок перекрутился вместе с дубом. Такое дерево дороже ценится, потому что в нём есть порода.
— Ты же мастер, Иван, — не удержался я, наблюдая за сдержанными и сильными движениями его рук и корпуса. — Ты завоевал свою Терезу и стал мастером. Эх, Иван, тебе бы на нашем комбинате работать! Ходил бы в передовиках, висел бы на Доске почёта, слава тебе и уважение. Иван Шульга — ударник комтруда. Звучит! Вот тогда бы с полным правом мог говорить: моя родина. Ликвидируй свою мелкобуржуазную лавочку, станешь человеком.
— Я имел совет с Терезой, — глубокомысленно отозвался Иван. — Она не знает нашей страны. И я решил, что мы поедем в гости к моей младшей сестре в советский город Ленинград. Тереза должна посмотреть, как вы живёте.
— Ты что, мне не веришь? — удивился я. — Кто твоя сестра?
— Она стала нашим кандидатом в науку, мне интересно узнать, как она живёт.
— Вот видишь: она уже тебя обставила, пока ты тут позволяешь себя эксплуатировать. Жила в деревне, а стала кандидатом…
Зазвонил телефон. Я бросился вперёд. Иван степенно подошёл к конторке.
Антуан звонил. Я почти машинально засёк: за сорок пять минут обернулся верный друг и уже звонит из таверны на перекрёстке.
С обескураженным видом Иван повернулся ко мне:
— Николь в «Остелле» нет. Хозяйка ругалась и даже не захотела с ним разговаривать.
— Так я и думал, — бодро ответил я Ивану, хлопая его по плечу. — Неясно только, почему хозяйка ругается. Или Николь за бифштекс не заплатила?
Иван посовещался с Антуаном и ответил:
— Она заплатила. Но хозяйка все равно ругалась. Так честные девушки не поступают, это она на него кричала как на жениха. Больше он ничего не знает.
— Давно уехала Николь?
— Он думает, что недавно, потому что мадам кричала: «Я их догоню».
— Бедный жених, невеста от него сбежала, ускользнула прямо из-под носа, — я сделал стойку на верстаке, глядя на оторопелого перевёрнутого Ивана. — Оп, я вновь перед тобой, Иван. Передай Антуану мои «соболезнования» и скажи: пусть мчится к нам: его ждёт вино чести и заслуженный обед.
Шульга положил трубку, он ещё ничего не понимал.
— Это он её увёз, — заявил Иван, сокрушённо качая головой.
— Пьер Дамере? Не смеши меня, Иванушка.
— Да, это он увёз её, — упрямо твердил Иван, — теперь он спрячет её в скрытом виде по всей Бельгии.
— И потребует с меня выкуп? А не хочешь ли ты знать, что Николь сегодня заслужила партизанскую медаль Армии Зет, я уверен в этом. В меня уродилась сестрёнка, в меня!
— Я тебя не понимаю, о чём ты объясняешь? Зачем ты встаёшь вверх ногами на верстак, ты можешь свалиться.
— Терпение, Иван, терпение; пойдём в комнату, выпьем пивка, — мы прошли по коридорчику, и я наконец-то услышал шум подъехавшей машины. Щёлкнул замок дверцы, но дверца не захлопнулась. — Ейн момент, Иван, — продолжал я, проносясь по комнате и делая волнующие пассы перед дверью. — Начинается заключительный и решающий этап операции под кодовым названием «Кабан» — ейн, цвей, дрей. Сезам, откройся!
Дверь и не подумала открыться. Но там же стоял человек, я не только слышал, я почти видел его.
— Кто-то приехал, — сообщил мне Иван.
— Бонжур, Николь! — крикнул я через дверь и с силой дёрнул ручку на себя.
Передо мною возник президент Поль Батист.
ГЛАВА 23
— Вы, кажется, звали Николь? — с улыбкой молвил де Ла Гранж, переступая порог. — Это ваша дочь, мсье Шульга?
Иван засуетился: «Прошу в дом, мсье президент, какая честь, что вы прибыли к нам с визитом, это же гран шарман…»
— Николь — моя сестра, — ответил я по-французски за Ивана.
— Дочь мадам Икс? — понимающе улыбнулся Поль Батист. — Вы делаете успехи во французском языке, мой молодой друг. — На нём был дорожный плащ, в руке портфель.
— С прононсом у меня ещё туговато, — сконфуженно признался я, нет, не его я ждал, не его.
И он прочёл это на моём лице.
— Я привёз вам кое-какие новости, мой друг, — улыбка не сходила с его лица, теперь она сделалась загадочной. — Известие о том, что Альфред Меланже был убит, потрясло всех нас. Вы совершили большую ошибку, что поехали в «Остеллу» без меня. Нет, нет, мой друг, — великодушно продолжил он, увидев моё смущение, — я вовсе не обвиняю вас, ведь это было сверх программы, а я отвечаю лишь за неё. Вы вольны поступить, как хотите, и ехать, куда вам заблагорассудится. Но если бы вы ещё вчера сказали мне, что собираетесь в «Остеллу», я сам с удовольствием поехал бы с вами и рассказал бы по дороге кое-что интересное. А мадам в чёрном преподнесла вам сюрприз, и пришлось посылать в «Остеллу», в это, как вы сами выразились, «волчье логово» бедняжку Николь.
— Она уже вернулась домой, — растерянно соврал я. Иван перевёл, глазом не моргнув, а может, и не заметил за суетой.
— О, разумеется, разумеется, — снисходительно отозвался Поль Батист. — Не думайте, что я читаю вам нотации. Мы живём в цивилизованной стране, и с Николь ничего не могло случиться в «Остелле», но можно представить себе, сколько она натерпелась там страху. Фрау Шуман так живо изобразила все это в лицах, рассказывая о вашем неудавшемся пикнике, что я не знал, что и делать: смеяться или грустить. Но особенно смешно она рассказывала нам про старого Гастона, мы с мадам де Ла Гранж буквально помирали со смеху, слушая его фламандские выражения, переиначенные по-валлонски. Не знаю, как у вас в России, но мы, бельгийцы, любим юмор и умеем шутить даже в печальные минуты.
— Зато мы узнали имя предателя, мсье Поль Батист, — перебил я его.
— В таком случае ваши новости важнее моих, — он буквально не давал мне передохнуть. — Я сам узнал лишь имя женщины в чёрном. Как только фрау Шуман рассказала нам про неё, я тут же позвонил в «Остеллу» и справился об имени хозяйки. Её зовут Мадлен Ронсо. Правда, кое-что сообщил ещё секретарь нашей секции мсье Рамель. Он вспомнил, что брат убитого Густава был в отряде «кабанов». По-видимому, это и есть искомый нами Мишель Ронсо, чей нож вы нашли в хижине.
— Мишель Ронсо превратился в Пьера Дамере, — тут же парировал я, теперь инициатива перешла ко мне. — Так сказал старый Гастон, и так написано в синей тетради. Теперь этот П.Д. предлагает мне взятку через барона Мариенвальда, который хочет сделать нас с Николь своими наследниками.
— Почему вы полагаете, что это связано с Пьером, как вы его назвали? Дамере? Возможно, что барон Мариенвальд действует из самых чистых побуждений. Он, правда, не состоит в секции ветеранов и не посещает наших мероприятий, но я никогда не слышал о нём ничего дурного.
— Это бы неплохо проверить, — я сбавил на всякий случай тон. — Если он действительно искренен, я выполню его просьбу. Подобная просьба достойна всяческого уважения, но его миллионы нам все равно не нужны — ни мне, ни Николь.
— Вы проявили себя замечательным следопытом, — с присущей ему обходительностью отозвался Поль Батист. — Пьер Дамере… Надо запомнить это имя. Мы сегодня же начнём поиски. Да, да, это замечательно! Мы счастливы считать вас почётным партизаном Армии Зет, вы заслужили свою медаль. Однако я тоже имею некоторые основания считать себя старым разведчиком и следопытом. Поэтому я хотел бы взглянуть на тетрадь, найденную вами в доме погибшего Альфреда Меланже. Вдруг мне удастся обнаружить там такие детали, которые ускользнули от вашего внимания.
Я с готовностью протянул ему тетрадь. Поль Батист углубился в чтение. Я закурил и посматривал на де Ла Гранжа, Иван суетливо полез за бутылками, чтобы угостить высокого гостя, но тот отказался, не желая отрываться от тетради. Он читал её, как и мы, — сначала пробовал день за днём, потом стал перелистывать страницы в поисках сути. Отметки Антуана помогали ему, на этих местах он задерживался с наибольшим вниманием.
— Вы читали все это? — взволнованно спросил Поль Батист, закрывая тетрадь.
— Антуан читал, Луи читал, Иван переводил. Татьяна Ивановна тоже читала и переводила.
— Да, да, Татьяна Ивановна рассказала мне, — голова Поля Батиста печально поникла. — Трагедия была двойной. Разумеется, тетрадь свидетельствует о психической неполноценности её автора. Он не доверялся даже бумаге. Но как тонко вы раскрыли это уравнение: «М.Р.» и «П.Д.» Я восхищён вами, мой юный друг! Мне придётся тянуться за вами. Но я объявляю вам вызов: берусь расшифровать все остальные имена и клички. Я немедленно передам тетрадь в архив, там есть специалисты, которые помогут нам в этой задаче. Если вы, разумеется, не возражаете, мой друг, против такого плана? Всё-таки вы хозяин этой тетради…
— Вы забираете у меня главное вещественное доказательство, мсье Поль Батист, — вежливо засмеялся я. — Что мне делать, если я сам найду предателя?
— У вас остаётся нож, — ответил он. — «М» и «Р» — эта улика не менее важна, чем тетрадь.
— В таком случае берите, — я развёл руками. — У меня ведь ещё кое-что имеется. Смотрите.
Он с интересом наблюдал, что же я извлеку из папки.
— В тетради упоминается отель «Святая Мария», — я достал визитную карточку. — Это карточка также свидетельствует о том, что Дамере жил в отеле. Завтра мы поедем в Намюр и установим, кто владел этим отелем в сорок шестом году, ведь не исключено, что предатель снова переменил имя. Антуан уже сделал предварительный запрос через частного детектива. Но это ещё не все, мсье президент. Сохранилась схема боя на мосту, начертанная Альфредом, её передал нам Матье Ру.
— Бумага явно свежая, — заметил Поль Батист, забирая у меня схему и с интересом разглядывая её.
— Это копия, мсье. Оригинал остался у Антуана. Листок настолько ветхий, что его страшно в руки взять, вот я и сделал копию. Но тут все точно. Три стрелы означают, откуда немцы вели огонь. Квадратик — это, очевидно, машина с узниками. Одна стрела как бы касается машины, из этого можно вывести заключение, что из машины тоже вели огонь.
— И в оригинале так? — взволнованно переспросил Поль Батист де Ла Гранж. — Это кажется невероятным!
— Сам старался, мсье президент, делал копию путём наложения. Впрочем, вы правы, версия относительно огня из машины весьма гипотетична. Зато это слово не оставляет никаких сомнений, хотя по нему также возможны два варианта.
— Дамере, Дамере, — зашептал он, не отрывая глаз от листка. — Это и есть Пьер?! — полуспросил он.
— То-то и оно-то, — засмеялся я, — что тут можно понимать двояко. Как мы намучились с этим словом! Тут ведь сколько хочешь синонимов: франт, пижон, модник, стиляга, ферт, щёголь, форсун, петиметр.
— Я не знаю, как все это переводить, — с отчаяньем взмолился Иван, не желавший терять престижа перед своим президентом.
— Скажи: петиметр, ведь это французское слово, — я рукой махнул. — А ещё лучше: денди, президент поймёт, это вообще интернационально.
— Виктор говорит, что Дамере — это денди, — сказал Иван на французском языке.
— Денди? — задумчиво переспросил Поль Батист. — Помнится, я говорил вам, что у моего покойного кузена была такая же кличка, но это английское слово, во французском языке его нет.
— Разумеется, мсье де Ла Гранж, я помню об этом. Так что вопрос пока остаётся открытым: кличка это или фамилия? Как видите, кое-что мы всё-таки успели. Может, вы возьмёте с собой для поисков и эту схему?
— Не могу оставлять вас без вещественных доказательств, — улыбнулся Поль Батист, пряча синюю тетрадь в тёмную глубь портфеля. — Вы проделали колоссальную работу, пусть главные доказательства остаются у вас. Нет, нет, спасибо, мсье Шульга, — это уже Ивану. — Ни единого глоточка, я ведь за рулём. И к тому же спешу. Но мы ещё встретимся, я вам буду звонить. Завтра мы поедем к ветеранам в Спа и устроим вам торжественные проводы.
Мы прошли до машины. Зашуршал мотор, и президент Поль Батист растворился, взметнув за собой пыльную дымку. Визит продолжался не более двадцати пяти минут, он был стремителен, как налёт. Даже на тетрадь Поль Батист затратил меньше десяти минут, но все узрел и, кажется, мы успели обсудить все вопросы. Я вспомнил, что так и не показал фотографию двух братьев Ронсо, а ему тоже было невдомёк спросить об этом.
Где же Николь? Мы вернулись в комнату, я решительно снял трубку.
— Звони к Сюзанне!
Перед домом затормозила машина.
— Это Антуан, — сообщил Шульга, заслышав знакомый гудок.
Дверь отворилась, Тереза первой появилась в комнате.
— Виктор, спасите меня, — почти выкрикнула она по-немецки, протягивая ко мне руки. — Возьмите меня в Прагу…
— Здравствуй, Тереза, — ответил я по-русски, все равно я был в лётной форме и при медали, устал я от этих комедий, сам себя обвожу вокруг пальца и так далее и тому подобное.
— Разве вы не из Праги? — недоумевала Тереза, и в глазах её вспыхнул испуг, как тогда, когда она увидела нож с монограммой. — Николь сказала мне, что вы её брат и послезавтра едете домой. Я не требую от вас никаких обязательств, только увезите меня…
— По-какому она говорит? — удивился по-русски Иван. — Я не умею это перевести.
Тереза встревожилась ещё больше, услышав Ивана, и посмотрела на дверь.
— Ах, Тереза, — ответил я по-немецки, — разве не все равно, кто я, если ты просишь спасти тебя?
— Виктор — мой брат, я не обманула тебя, — Николь вбежала в комнату и звонко поцеловала Терезу.
— Как же так, Николь? — упрекнул я её. — Разве ты не сказала Терезе, что я Виктор Маслов, советский лётчик? Вот возьми и почитай, — я достал из папки газету и протянул Терезе.
— О мсье, — продолжала она с мольбой, а глаза у неё такие, что в них смотреть невозможно. — Спасите меня, умоляю вас!
— Виктор, я обещала ей, ты должен, — Николь подбежала ко мне.
Я встал.
— Ени бени рес, квинтер минтер жес, — сурово произнёс я, подняв ладонь над головой Терезы. — Ты спасена, Тереза!
— Он сказал что-то такое, что я не знаю перевода… Но ты уже спасена, — с готовностью сообщил Иван.
— В этом доме тебе ничто не угрожает, — сказал я по-немецки. — Садись, сейчас мы все тебе объясним. Где Антуан?
— Я здесь, — ответил Антуан. — Ставил машину на дворе.
— Вот видишь, я же говорила, что так и будет, — Николь бросилась ко мне. — Я слышала, как мадам Ронсо говорила с кем-то по телефону, кто-то хочет улететь за границу. Тереза шарман, я её полюбила, — жарко шептала она в моё ухо.
— Подожди, Николетт, начнём по порядку. Тащи вина, Иван.
— Откуда ты взялся? — удивился Шульга, схватив Антуана за рукав.
— Я увидел их на дороге, — засмеялся Антуан.
— Мы весь вечер жарили бифштексы и фри, — восторженно тараторила Николь. — К нам нагрянул автобус с голландскими туристами.
— И за это время ты только и успела сказать, что я твой брат?
— Я слушала то, что рассказывала мне Тереза, — Николь нахмурилась. — И я плакала вместе с ней.
— Вы русский? — спросила Тереза, она одна не принимала участия в нашей говорливой весёлости, присела на краешек дивана, изучающе водила глазами по комнате, я то и дело ловил на себе её затаённый взгляд. Я заранее пожалел её, потому что трудно ей сейчас придётся, а изменить уже ничего невозможно.
— Да, Тереза, я русский, — ответил я, твёрдо глядя в её тоскливые глаза, — я прилетел из Москвы.
— Будь осторожен, Виктор, — шепнул Антуан, — мне кажется, она не знает о Мишеле.
— Что же ты молчишь, Тереза? — сказал я. — Присаживайся к столу.
— О чём вы говорите на своём языке? — обиделся Шульга, ставя бутылки на стол.
— Хорошо, Иван, мы будем говорить на твоём языке. Нам нечего скрывать. Иди сюда, Тереза.
Она послушно встала и прошла к столу, надламываясь при каждом шаге и накатываясь, как волна. Я подвинул стул, она села, пытаясь натянуть на колени мини-жюп. Николь беззаботно хлопотала у стола, помогая Ивану. Антуан сел против нас, сцепил кисти рук, подставил их под подбородок.
— Значит, вы не сможете взять меня с собой? — с болью спросила Тереза. Она поникла и прятала глаза: первый непроизвольный порыв её прошёл, а чуда спасения не было. К тому же мы ещё ничего не объяснили ей. И она замкнулась, почувствовав за нашим шумным возбуждением невысказанную тревогу.
— Ты находишься среди друзей, Тереза, — начал я, чтобы успокоить её, и даже попытался под скатертью завладеть её рукой, но она тревожно отстранилась, и я благоразумно отступил на исходную позицию. — Это Антуан Форетье, бывший партизан, друг моего отца и мой друг.
— Мы уже познакомились, — весело откликнулся Антуан. — Мадемуазель сказала, что ни разу в жизни не видела живого партизана. Она их боится.
Тереза промолчала.
— Я тоже партизан, мадемуазель, — подскочил по-хозяйски Иван и сделал ножкой. — Очень приятно познакомиться, мсье Жан Шульга. Мне приходилось бывать в вашем доме.
— Не мельтеши, мсье Жан, — одёрнул я его. — Лучше сядь и переводи. Кто я такой, ты теперь тоже знаешь? Но зачем ты днём звонила ко мне? Кто тебе велел позвонить?
— Мама сказала, что я должна передать… Но я и сама хотела…
— Ах, всё-таки мама, — перебил я, и на сердце сделалось пусто. — Значит, ты рассказала ей о нашем визите?
— Я всегда и обо всём рассказываю маме. Разве это плохо?
— Твою маму зовут Мадлен Ронсо? — хотел бы я отложить такой вопрос, чтобы хоть немного пожить иллюзией, да не получилось, но зато ответ полностью развязывал мне руки.
— Да, — сказала она, и я понял, что давно знал этот ответ, с той самой минуты, как мы промчались мимо «Остеллы». На что же я мог надеяться?..
— И мама хотела узнать про нож? Да?
— Мама сказала, что я должна встретиться с вами и передать одну карточку.
И такой ответ уже не был неожиданным. Я потянулся за папкой.
— Тогда слушай, Тереза. Я виноват перед тобой, но всё же попробую оправдаться, — достал из папки нож со злополучной монограммой и положил его перед ней. — Серьёзная причина была у меня, но, похоже, я ошибся. Можешь забрать этот нож и вернуть своей мамочке.
Антуан смотрел на меня с недоумением. Тереза испуганно отодвинула нож.
— Я не хочу возвращаться домой, — просительно ответила она.
— Почему? — я удивился.
Николь подбежала сзади, взъерошила мои волосы.
— Не приставай к Терезе с глупыми вопросами. Сначала выслушай её сам. Ей сейчас очень плохо, ты должен спасти Терезу, я ей обещала, ты ведь все можешь.
— Пожалуйста, Тереза. Ты хочешь что-то рассказать?
— Я слушаю вас, Виктор, — покорно отвечала она, и глаза её погасли. — Я буду отвечать вам, а потом сама приму решение.
— Вот видишь, Николь, — продолжал я. — Тереза сама хочет, чтобы я ей кое-что рассказал.
— Почему ты так решил про нож? — спросил Антуан, сосредоточенно подёргивая себя за ухо.
— Подумай сам, Антуан.
— Итак, я продолжаю. Скажи, Тереза, твоего отца Густавом звали?
— Да, — ответила она с удивлением.
— Я видел его в гробу, — объявил Иван на русском языке. — Я его знал.
— Не вздумай переводить себя, о мудрый Жан, — остановил я его и снова обратился к Терезе. — Ты знаешь, отчего умер твой отец?
— Меня тогда ещё на свете не было. Мама рассказывала: это было зимой, отец пошёл на охоту в лес, простудился там, заболел воспалением лёгких и умер. Его могила находится в Ла-Роше.
Мне сделалось не по себе, хотя иного ответа нечего было и ожидать.
— Слышал, Иван? — усмехнулся я. — Кумекать надо. А теперь для тебя, Тереза. Я тоже не знал своего отца. Скажи ей, что я понимаю, как трудно расти без отца. Но, может, у Терезы были близкие родственники, которые помогали её воспитанию.
— Вы знали моего дядю? — удивлённо спросила она; боже мой, она и в самом деле ничего не ведала. Но я уже не смел отступать: спасение будет жестоким.
— Я слышал о нём и очень хотел бы с ним познакомиться, — продолжал я вполне искренне, посмотрев на Антуана, тот коротко кивнул в ответ. — Его зовут Пьер Дамере, не так ли? И твоя мать просила, чтобы ты передала мне его карточку? Вот эту, да? — Я вытащил из папки визитную карточку Щёголя.
— Нет, другую, — отвечала Тереза без притворства, похоже, она вообще не умела лгать и прикидываться. — Такой карточки я никогда не видела. Но это тоже дядина карточка.
— И мамочка просила это сделать как-нибудь незаметно, да? Не удивляйся, Антуан, сейчас все поймёшь. Так как тебя учила мама?
— Она просила, чтобы я рассказала про дядю…
— А про нож она ничего не говорила?
— Нет, о ноже речи не было.
— А он в самом деле Пьер Дамере? — спросил Антуан, кажется, и он уже начал кое-что понимать.
— Его звали так.
— Вот видишь, — обрадовался Иван. — Она говорит: звали. Значит, Пьер снова переменил свои буквы.
— Мой дядя умер, — ответила Тереза с печалью.
— Почему ты уверена, что он умер? — быстро спросил я. — Кто же тогда сидел в машине?
— Дядя Пьер умер во Франции четыре года назад, — пояснила Тереза. — Он похоронен в Лилле.
— Спрятался под крестом, — изрёк Иван по-русски.
— «Загадочная смерть в Лилле», серия пятая. Конечно, передать нам визитную карточку покойника было для них крайне необходимо. Не волнуйся, Иван. Чем скорее мы отбросим ложные варианты, тем скорее выйдем на правильный путь. Так учит комиссар Мегрэ.
— Ты была на его похоронах? — продолжал допытываться Антуан у Терезы, он тоже не мог поверить в эту смерть.
— Тогда я училась в колледже и не могла поехать. Но в прошлом году я ездила в Лилль к бабушке, мы вместе ходили на могилу. Неужели вы думаете, что он не умер? — испугалась Тереза. — Это невозможно!
— Сейчас проверим, — я положил перед Терезой фо-фотографию братьев Ронсо, взятую у старого Гастона. — Это он?
— Папа! — воскликнула она. — И дядя Пьер. Какие они тут молодые! А это наш дом. Как попала к вам эта фотография? — В глазах её мелькнуло невысказанное подозрение.
— Прочти на обороте, — сказал я.
— Так вы подумали, что он Мишель Ронсо? — взволнованно ответила Тереза. — Но дядя Пьер никогда не был Ронсо. Он был всегда Дамере. Они же были не совсем родные братья, у них только мать была одна, а отцы разные. Как это называется?
— Единоутробные, — подсказал я.
— Да, бабушка Аннет была матерью моего дяди. Отец был старше дяди Пьера, и бабушка жила не с нами.
— Как фамилия твоей бабушки? — спросил Антуан.
— Она стала Дамере после второго замужества, это было очень давно. Ведь бабушке сейчас семьдесят семь лет. Муж её тоже умер, — добавила Тереза.
— Давно она живёт в Лилле? — это Иван включился в перекрёстный допрос.
— Они переехали туда вскоре после войны, когда получили наследство. Кроме того, дядя почему-то не хотел жить в Бельгии. Он очень хорошо относился ко мне, хотел даже удочерить, но мама не согласилась, хотя после смерти отца мы остались совсем без средств, мама была вынуждена продать «Остеллу».
— Значит, всё-таки не дядя купил ваш дом? — спросил я.
— Нет, он только приезжал к нам. Недавно я смотрела старые книги, кажется, с сорок седьмого года. «Остелла» всегда принадлежала барону Мариенвальду, и тот лишь платил жалование маме за обслуживание постояльцев. Но дядя Пьер охотно помогал нам. Он отдал меня в католический колледж в Монсе, где я училась десять лет. Я не очень любила свою школу, мы жили за глухими стенами. Но зато дядя был рядом, он часто навещал меня, он был для меня как отец.
— А какие отношения были между ними? Между твоим отцом и дядей?
— Этого я не знаю. Неужели вы в чём-то подозреваете его? — Она вскинула на меня свои жаждущие глаза, и в них была мольба о пощаде.
Я взял её руку, она не отстранилась.
— Мужайся, Тереза. Я не имею права безответно пользоваться твоей доверчивостью и обязан рассказать все, что знаю.
— Тогда была война, — вмешался Антуан, чтобы хоть как-то подготовить её. — Ты, конечно, не помнишь этого, ты родилась после освобождения. Но война тем не менее была. Мы устали от наших страданий и взяли в руки оружие. Мы боролись не только против бошей, но и против рексистов, которые предавали свой народ. И мы, партизаны…
— Мой дядя никогда не был партизаном, — перебила Тереза, пытаясь опередить события. Иван сверкнул на неё глазами. — Во всяком случае, он никогда не говорил мне об этом.
Я был на распутье. Никак не желала проясняться хрустальная глубь родника, взбаламученная моей же рукой. Я сам потревожил камни, нарушил их зыбкий покой. Где тут истина, а где ложные наслоения? Неохотно подтверждается версия старого Гастона. А если честно, то вовсе она не подтверждается, особенно после того, что узнали мы от Терезы. На белом камне одно осталось имя: Мишель, он же Пьер Дамере. Но тут-то и начинается раздвоение. Визитная карточка Пьера Дамере — это одно, а слово «Дамере», начертанное рукой Альфреда на схеме боя, — это другое, во всяком случае, может быть другим. Надо доказать или опровергнуть это тождество. Иначе не прояснится глубь родника. Но я должен пойти до конца и потому не имею права щепетильничать и щадить Терезу.
— У нас есть основания полагать, что Пьер Дамере был предателем, — решительно продолжал Антуан. — Видишь, он скрыл от тебя, что был в партизанах. А ведь он состоял в отряде. И он предал своих товарищей, предал особую диверсионную группу «Кабан». По его вине погибло девять человек. Так сообщил нам старый Гастон. А после войны Дамере убил командира «кабанов» Альфреда Меланже. И почему он предал и убил, как ты думаешь, Тереза?
— За моего отца?! — выкрикнула она с отчаянием.
— Да, Тереза, — продолжил я вместо Антуана. — Не знаю, как братья были связаны, но твой отец был рексистом. Он составлял списки бельгийских патриотов и передавал их в гестапо. Твой отец был убит по приговору Армии Зет. И убил его мой отец, Борис Маслов.
— Его убили партизаны, — поправил Антуан.
— Его убил Борис Маслов, — безжалостно повторил я. — Альфред Меланже промахнулся, и мой отец стрелял вторым.
— Боже мой, — она закрыла лицо руками. — Этого не может быть… Отец, мой отец… Это ужасно… Меня обманули… Но как это могло случиться?.. Так, значит, и сейчас они продолжают обманывать меня… Какая ложь! А вы?.. Наверное, вы тоже теперь ненавидите меня?
Я дотронулся до её плеча, ощутив под ладонью трепещущее тело.
— Что ты, Тереза? Да! Я могу ненавидеть человека, предавшего отца. Но ты? При чём здесь ты, Тереза?
— Она же влюблена в тебя, — выпалила Николь. — Не плачь, Тереза, я тоже плакала по своему отцу, я сама лишь позавчера узнала. Но мы должны знать, потом станет легче.
Тереза приоткрыла ладони и глянула на меня сквозь пальцы из бездонной своей глубины. Рука моя ещё лежала на её вздрагивающем плече.
— Я люблю тебя, Тереза, — сказал я, чтобы как-то её утешить, и ничего не ощутил при этом, даже сам поразился, до чего я был холодным и пустым. Но я ничего не мог с собой поделать. И она почувствовала это. Глаза её погасли, плечо под рукой обмякло. Я сжал плечо в надежде оживить его. — Да, да, Тереза, я же твой защитник. Только не знаю точно, от кого тебя защищать. От барона Мариенвальда, что ли?
— Наша с ним помолвка назначена на послезавтра, — отвечала она, всхлипывая.
Я вскочил.
— Никогда! Клянусь тебе перед своими друзьями и сестрой! — И столько жара было в моём голосе, что она поверила и воскресла, надежда зажглась в её переменчивых глазах. А я был вполне искренен: чтобы этот пыльный старик женился на Терезе? Да я горы сверну… Чёртов барон, опять он встаёт на моём пути! — Но можешь быть спокойна, он забудет дорогу в твой дом.
— Ты ошибаешься, Виктор, — вмешался Антуан. — Этот дом — его собственность. Он может их выбросить на улицу, и закон будет на его стороне.
— Куда смотрят ваши профсоюзы? — взорвался я. — И вы миритесь с такими законами? Тогда я разоблачу его перед всей Бельгией. Он ещё узнает у меня, где раки зимуют…
— Где живут раки зимой? — переспросил Иван. — Как это перевести?
— Ах, Иван, переводи, как хочешь! Тереза поймёт. В обиду я её не дам.
— Спасибо тебе, Виктор, — она порывисто схватила мою руку, уронила голову на стол и освобожденно заплакала.
— Не надо, Тереза, зачем ты, не надо, — теребила её Николь, сама готовая разреветься.
— Не мешай ей, сестрёнка, так нужно.
— Ты обидел её, ты! Оставь её. — Николь вцепилась в мой локоть, пытаясь разъединить нас. — Тереза мне не верила, что ты ей поможешь, но я поклялась, и тогда она поехала. А ты безжалостный человек! Зачем ты сказал ей про отца? Ты и маму обидел, потому что ты безжалостный!
— Не надо, Николь, — Тереза достала платок. — Я ему верю. — Глаза её были сухими и решительными. — Что я должна сказать тебе ещё? — тревожно спросила она.
— Кто же всё-таки был в машине? — спросил Антуан.
— В какой машине? — не поняла Тереза.
— Темно-синий «феррари», номер девяносто три двадцать пять икс, — пояснил я.
— Я не знаю такого номера, — ответила Тереза.
— А с кем приехала твоя мать домой в воскресенье? — спросил я. — Ведь она приехала на «феррари»?
— Возможно, я плохо разбираюсь в машинах. Её привёз домой мсье ван Сервас. Мама была крайне взволнована и сразу ушла к себе. По-моему, она даже плакала… Но разве ты встречался с мамой в воскресенье?
— Ван Сервас? — удивился Антуан. — Это он арендовал машину. А кто он?
— «Человек в маске», шестая серия, — невесело усмехнулся я. — Икс плюс игрек равняется ван Сервас.
— Питер ван Сервас — управляющий барона Мариенвальда, — ответила Тереза Антуану. — Он живёт в Брюгге и бывает у нас каждый месяц. Он тоже настаивал на моём браке с бароном. Но ты не ответил на мой вопрос: ты встречался с мамой в воскресенье? — Она снова с ожиданием глянула на меня.
— Ты не должен говорить ей про её мать, я сам её обману, — Иван произнёс несколько французских фраз и внезапно ударил себя по лбу. — Кто же сказал женщине в чёрном про твоего Бориса? — удивился он с опозданием на два дня.
— Ты попал в точку, отважный следопыт. А что ты скажешь относительно ван Серваса?
— Пьер Дамере спрятал своё прошлое под могильной плитой и стал Питером ван Сервасом, — отвечал Иван, не задумываясь. — Ведь Питер будет по-ихнему Пьер, одну букву мы угадали. Он и сказал ей про Бориса…
— Увы, Иван, на одной букве далеко не уедешь. А после воскресенья ван Сервас приезжал к вам? — спросил я у Терезы.
— Он был вчера утром. Они с мамой проверяли все книги. Питер говорил, что это очень срочно. Они оба уговаривали меня позвонить к тебе, встретиться и передать карточку покойного дяди. Значит, они обманывали меня? Как это ужасно…
— О чём рассказал телефонный звонок, — проговорил я в задумчивости. — Кто его знает, может, этот Питер как раз и собирается удирать за границу. Как думаешь, Антуан? Николь же слышала разговор.
— Надо позвонить в Лилль к Терезиной бабушке, — предложил Антуан. — Кто ещё бывал у вас последние дни?
— Только барон, — ответила Тереза. — Он привозил мне подарок и о чём-то совещался с ван Сервасом. О, как я его ненавижу! Не нужны мне ни его подарки, ни его титул…
Времени оставалось все меньше. Пора подводить итоги. А загадок становилось все больше.
— От кого Пьер Дамере получил наследство? — спросил я.
— Умер его отец, он был единственным сыном. И тогда дядя переехал во Францию, но он сохранил бельгийское подданство, поэтому мы могли часто встречаться.
— Не было ли у твоего дяди Пьера какой-либо клички до войны? — спросил Антуан.
— Кличка? — Тереза задумалась. — Что-то он говорил один раз. Что-то такое смешное. Он был в детстве толстый, и его как-то дразнили. Но я не могу вспомнить.
— Постарайся, Тереза, постарайся, — настаивал Антуан. — Может, я тебе подскажу: его дразнили Буханка. Ну как, вспомнила?
— Нет, я не могу точно ответить. Это был давний разговор, а я была маленькая…
— Кому же принадлежала «Святая Мария»? — сказал я.
— Сейчас этот отель называется по-другому, — заметила Тереза. — Я была там в прошлом году и узнала это. Он называется «Над Маасом» и принадлежит барону Мариенвальду.
— Увы, Тереза, не бывать тебе баронессой! — живо воскликнул я. — Займёмся-ка его недвижимостью. Какими отелями он владеет ещё?
— В Брюгге он имеет отель «Храбрый Тиль», в Кнокке ему принадлежит «Палас». У него есть дома в Монсе и Генте.
— Идём по следам Щёголя, — заметил Антуан, сосредоточенно пощипывая ухо. — Адрес синего «феррари» тоже указывает на Кнокке.
— Где находится вилла нашего барона на побережье? — спросил я.
— Вендюне, сто сорок. Месяц назад он подарил мне список всех своих владений.
— А ван Сервас, говоришь, живёт в Брюгге?
— Каренмаркт, шесть, это рядом с гостиницей «Храбрый Тиль».
— Кто поверенный Мариенвальда? — спросил Антуан.
— Метр Фернан Ассо.
— У вас слишком много вопросов, — капризно воскликнула Николь.
— Вопросов больше нет, — ответил я.
— Но по-прежнему ничего и не ясно, — с улыбкой подхватил Антуан. — Наибольшее число совпадений приходится на отель «Святая Мария»: карточка Пьера Дамере, принадлежность её Мариенвальду, упоминание о ней в синей тетради. Это не может быть случайным. Дай-ка мне тетрадь, я ещё раз посмотрю, что пишет Альфред.
— Увы, Антуан, у нас уже нет синей тетради! Президент Поль Батист забрал её, чтобы показать в архиве и расшифровать клички.
— Ну что ж, — Антуан с выражением посмотрел на меня и пожал плечами. — Нет тетради, но есть «Святая Мария». Кажется, она ещё стоит на месте.
— Одно осталось нам, Антуан, уповать на «Святую Марию».
— Она уже перестала быть «Святой Марией», — мрачно изрёк Шульга.
— Святая Мария поможет нам в скрытом виде, о русский Жан, — я засмеялся. — Так что же мы решаем, Антуан?
— Нам пора, — ответил тот, поднимаясь. — Начнём с Шервиля, с Агнессы Меланже…
— В Ромушан тоже надо заехать, — сказал я.
— И к президенту в горы, — сказал Антуан.
— А потом прямым ходом в Кнокке, — сказал я.
— Зачем в Кнокке? — спросил Иван. — Это будет конец вашей дороги?
— Это будет началом, Иван.
— Итак, я звоню в Кнокке, — сказал Антуан, берясь за телефон.
— Но ты же не можешь заказать номер от своего имени, — сказал я.
— Ты забыл о моём кузене Оскаре, — бросил Антуан, не оборачиваясь.
— Виктор, ты вернёшься? Ты обещаешь мне? — спросила Тереза.
Кукушка на стене прокуковала десять раз.
ГЛАВА 24
Я сразу увидел его, едва мы вошли в холл, он стоял за стойкой и считал деньги. Антуан куда-то пропал, наверное, машину ставит. Мы были одни. Я плохо различал его лицо в сумраке настольной лампы, но все равно тотчас узнал: это был не носастый, а кто-то другой, которого я знал ещё лучше. Он продолжал считать свои сокровища и так увлёкся, что не заметил меня. Пальцы его двигались удивительно быстро, как лопасти вентилятора, — денежки так и сыпались. Тут же на конторке лежала кучка алмазов, острые лучики, исходившие от них, кололи глаза. «При чём тут лопасти вентилятора? — с досадой подумал я. — Надо же действовать, ведь он удирать собирается», — и тут же забыл про эти лопасти и алмазы, решительно подошёл к нему, саркастически улыбнулся: «Вот мы и встретились, Щёголь, похоже, ты не ждал меня». Эта фраза у меня давно заготовлена, наконец-то я выложил её. Он вскинул голову, раздирая слипшиеся веки, и вмиг узнал меня. «Борис?» — закричал он не своим голосом, и подбородок его задрожал мелкой дрожью. Я подскочил к нему, выхватил нож из папки и занёс руку. «Я не Борис, но сейчас я буду Борисом. Узнаешь этот нож, Иуда?» Он грохнулся на колени, и нож мой бессильно пронзил пустоту. «Не надо, не надо, — умолял он, протягивая ко мне свои нежные женские руки, — я отдам тебе все, возьми мои алмазы, тебе будет легко провезти их через таможню, но только не трогай меня, силь ву пле». Я посмотрел на алмазы, вспомнив о них, и острые лучики опять стали колоть глаза.
Подбородок дёрнулся, я открыл глаза и ослеп от встречных фар, ещё одна ночная пташечка проскочила навстречу. Я посмотрел на спидометр, включил транзистор.
— Десять километров проспал, — засмеялся я. — Приснится же такая чепуха! Да ещё по-французски…
Сильные огни фар прокалывали плотную темноту ночи. Столб света узким конусом ложился на дорогу, упирался в густую темь и растворялся где-то на границе мрака. Мы неслись в этом световом столбе, вонзаясь в него, как в тоннель, а он всё время ускользал он нас, предел его оставался по-прежнему недосягаем.
Дорога стлалась широко и прямо. Время от времени столб света цеплялся за попутные предметы: деревья, рекламные щиты, стены домов, наклонные плоскости скал, цеплялся и не мог зацепиться, а равнодушно проскальзывал, тут же возвращая их во власть ночи. Луны не было, и звезды указывали мне направление. Мы мчались на юго-восток по пятнадцатой дороге.
Огни щитка сумрачно освещали сосредоточенное лицо Антуана. Он ничего не ответил на мою реплику, даже глаз не оторвал. Но карта лежала у меня на коленях, и я легко мог подсчитать по спидометру, где мы.
Вот и поворот, один раз мы уже сворачивали в эту сторону. Столб света упёрся в церковную ограду, из-за которой однажды выезжал темно-синий «феррари» — тот или не тот, кто знает? Я устал вопрошать…
Дом Меланже мрачно вздымался в темноте. Антуан долго стучал в дверь. Лениво залаяла собака. На втором этаже засветилось окно. Агнесса откинула занавеску и смотрела на нас сверху. Она была в ночной сорочке.
— Я Виктор, сын Бориса! — выкрикнул я свой пароль, освещая себя фонариком. — Вы должны нам сказать, кто стрелял в Альфреда?
— Мишель Реклю, — отрешённо ответила она, ничуть не удивившись.
— Мишель Ронсо? — переспросил я, не расслышав.
— Мишель Реклю! — повторила она чуть громче. — Убейте его.
— Но ведь Мишель Реклю мёртв? — крикнул Антуан на всякий случай.
Она не ответила. Свет в окне погас, занавеска задёрнулась.
Антуан посмотрел на меня. Я посмотрел на Антуана. Словом, мы недоуменно и в то же время с пониманием переглянулись.
— Выходит, он не такой мёртвый, каким хочет казаться, — сказал мне Антуан.
— Мишель Реклю погиб в день освобождения Льежа, — заметил я с улыбкой.
— А спустя два года он ненадолго воскрес, чтобы убить Альфреда Меланже, — подхватил Антуан.
— Как говорит в таких случаях один мой хороший друг, это называется — о ля-ля!
— Скорей! — сказал Антуан. — Мы должны спешить, чтобы застать его в живых.
— А то он снова умрёт на время…
Мы понеслись. Антуан пересёк автостраду, свернул на горную дорогу, и мы пошли петлять по холмам. Указатели редко проскальзывали в зыбком свете, но я следил за направлением и спидометром: держим курс на «Остеллу». Приёмник наигрывал что-то пружинистое, звук немного плавал, то уходил в ничто, то снова возвращался, далеко до него было. «Уойс оф Америка», — сказал хорошо поставленный бас, и надтреснуто-хриплый голос потянулся за печальной трубой, напомнив мне о воскресной церемонии и том имени, которое назвала Агнесса.
Ещё один заломленный крест возник на пути. Под которым из них скрылся Дамере, то бишь Щёголь? А может, и Денди?.. Но нынешняя ночная дорога дальняя, есть время продумать все ещё раз.
Машина с натугой полезла вверх по каменистой дороге. Справа стоял лес, слева угадывалась чёрная пустота склона. В лучах вспыхнула и угасла стена сарая, дорога стала ровнее. Фары освещали широкую поляну, в конце её возникло цветное пятно, обозначилось прямоугольником, на прямоугольнике прочертились вертикальные полосы со старинными замками и башнями — мы стали перед ширмой.
За широко расставленной ширмой раскрылся белый одноосный «караван» с овальным багажником. Рядом стояла красная палатка с поднятым тентом, под ним столик на косых ножках. Фары били в ширму, а ширма рассеивала свет, и весь бивак освещался, как в поздние сумерки.
— Мсье Поль Батист, — позвал Антуан.
Трейлер безмолвствовал. Теперь я увидел, что передняя крышка «каравана» опущена ниже дверцы, и боковое окошко перекрыто. Занавески были задёрнуты.
Антуан поднял полог палатки. Я поводил фонариком. Два надувных матраца, нейлоновые одеяла, подушки, тумбочки, посуда, газовая плитка, аптечка с лекарствами — все на месте, все аккуратно прибрано, даже покрывало разровнено тщанием рук мадам де Ла Гранж. Лишь чёрный транзистор валялся в изголовье, несколько нарушая чёткую стройность бивачного убранства.
— Их нет, как сказал бы наш русский друг Жан, — молвил я с улыбкой. — Мадам и мсье отбыли в вояж. А как же наша встреча с ветеранами в Спа?
Антуан засмеялся. Я вышел из-под тента и сделал несколько наклонов, доставая ладонями до росистой травы, чтобы размяться и больше не спать в дороге. Воздух был удивительно свеж и влажен. Звезды рассыпались по всему небу.
— Ночи становятся холодными, — заметил Антуан.
Я кончил наклоны.
— Заедем к Полю в Льеж?
— Зачем? — ответил Антуан. — Позвоним от Луи.
Через несколько минут мы спустились на тридцать четвёртую дорогу, проскочили на полном ходу мимо «Остеллы» — окна темны, лишь над угловой дверью горит лампа, освещая щит с рекламой мартини. Нет нынче в «Остелле» Терезы. Удрала Тереза, и загадочная «Остелла» перестала быть загадочной. Её побег с Николь из дома был первым шагом к освобождению. Нелегко, верно, было решиться ей, но, решившись, она заявила вечером, что не желает возвращаться к матери, которая понуждает её к браку с отвратительным стариком. Со свойственной ей пылкостью Николь тут же предложила: Тереза будет жить у неё, пока мы не расправимся с её мучителями. И стоят передо мной странные и удивительные глаза Терезы, когда она, сидя на мотороллере и обхватив рукой Николь, последний раз обернулась ко мне. Ах, Тереза, Тереза… Конечно, о её побеге уже знают те, кому должно знать, но сейчас им не до того, чтобы искать беглянку: самим впору сматывать удочки, такого страху мы на них нагнали. Чёрный монах следил за каждым моим шагом и тут же все передавал Щёголю. А я лишь в первые дни шёл по ложному следу, на который и навёл меня чёрный монах, сказав: «Шерше ля фам». Я и сейчас ещё не вышел до конца на верный след, все ещё путаются под ногами обломки ложных вариантов, но где-то они перехлестнулись с тем верным следом — оттого и заволновался Щёголь. Женщина в чёрном дала осечку, на миллионы фон-барона я тоже не клюнул. Сейчас Щёголь на всех порах бежит прочь от меня, понимая, что не сегодня-завтра я его настигну и припру к стене. Не до Терезы ему сейчас. Но и мне ещё не хватает двух звеньев, чтобы до конца прояснилась хрустальная гладь родника. Телефонный звонок в Лилль ничего не дал: Терезиной бабушки не оказалось дома. Про «Святую Марию» мы кое-что успели выяснить, правда, тоже со знаком минус. Иван помчался в Намюр, чтобы разведать: не осталось ли в «Святой Марии» старых служителей, которые могли бы вспомнить, кто покупал и продавал отель сразу после войны. Иван вернулся ни с чем: «Святую Марию» покупал тот же Мариенвальд. Ну что ж, у нас есть ещё время. Срок, данный черным монахом, не истёк.
— Узнаешь? — спросил Антуан и удивлённо воскликнул: — Смотри-ка!
Знакомый поворот на взгорок к дому Луи Дюваля. А в доме свет горит — в самом деле странно.
Антуан посигналил у крылечка. Из дома вышла озабоченная Шарлотта: едва они вернулись с неудачного пикника, как у Луи разыгрался острый приступ радикулита, старая шахтёрская болезнь.
Мы прошли в спальню. Шарлотта готовила мешочки с раскалённым песком, расстирала поясницу Луи змеиным ядом. Тот корчился от боли, но терпел. Так он и улыбнулся нам, со стиснутыми зубами.
— Виктор, — оповестил он, — я решил подать заявление в общество автотуристов, мы поедем в Москву на нашем «Москвиче» вместе с Шарлоттой, мне уже обещали. Я всю жизнь мечтал побывать в Москве, а теперь у меня есть московский друг Виктор Маслов, который покажет нам свой город.
Мы помечтали о будущей встрече в Москве. Боль немного отпустила старого партизана, Антуан договорился с Луи, что тот с утра разыщет президента, чтобы тот извинился перед ветеранами в Спа, мы попрощались и двинулись дальше.
Ромушан. Безмолвствуют могильные плиты, накрытые мраком ночи. Луч фонарика выхватывает из темноты узкую полоску пространства: кресты, надписи, медальоны, впаянные в камень. Венки на могиле ещё лежат. Цветы поблекли и завяли, лента обесцветилась под дождём, и надписи уже не разобрать. Я поправил венок. Под факелом, зажатым в руке, раскрылись два слова: «с любовью и верностью». Так писала Жермен. Я провёл ладонью по плите, очищая её от опавших лепестков и еловых игл. Камни были прохладны, рисунок их прост и ясен. Главное имя ещё не начертано на могильном камне, но я клянусь тебе, отец. Пепел Клааса стучит в моё сердце. Ты будешь отомщён, отец, и скоро. Кто он? Щёголь? Денди? Впрочем, теперь это не имеет особого значения, коль на рассвете я увижу его и узнаю.
И снова упруго рокочет мотор. Ночной рейд по Арденнам окончен. Завершены дела, отданы прощальные визиты. Из Ромушана одна у нас дорога — в Кнокке. Оттуда мы будем брать Щёголя. Нам не нужна внезапная или случайная встреча. Ведь Щёголь тоже может знать, что мы явимся к нему в Вендюне, на виллу чёрного монаха, или в Брюгге, в дом ван Серваса. Поэтому начнём с Кнокке. В первый же день по приезде я услышал об этом Кнокке: Ирма из Голландии говорила. И вот теперь, в последний день, я мчусь в Кнокке, чтобы встретиться со Щёголем. Встреча должна произойти по нашему желанию и в тот момент, когда мы будем к ней готовы, точно зная, что перед нами именно он, а не кто-то другой, чтобы действовать сразу и наверняка. На этот раз осечки быть не должно. Вела, вела меня ниточка, рассыпались камни, но все сойдётся в Кнокке или Брюгге, потому что недвижно лежат могильные плиты, и ничто не смеет тревожить их покой.
Что было на мосту? Машина проскочила через мостик над ручьём, но это не тот мост. Сколько мостов обрушилось, сколько связей распалось! Торчат из воды разорванные быки, упали пролёты. Мосты тоже бывали преданными — как люди. Их разбивали и снова ставили, чтобы соединить разделённые берега. Но связь времён не распалась, потому что мосты пролегают и во времени, пролёты их ведут от поколения к поколению, сквозь даль веков. И этот мост времени нерушим. Мы с отцом на одном пролёте, хоть и на разных его концах, и вахта наша одна.
Бежит по мосту ночной скорый Антверпен — Люксембург. Просверкнули поверху вагоны, затих перестук. Стрелка указывает на Льеж, однако Антуан делает разворот на широком пустынном перекрёстке, и мы выходим на правый берег Мааса. До Уи больше тридцати километров, я предлагаю Антуану отдохнуть: мы намотали уже почти двести километров.
Меняемся местами. Антуан откидывает голову на спинку кресла и закрывает глаза. Хочу выключить приёмник, он бормочет: не надо, под музыку лучше дремлется.
Машина покорно слушается руля, мотор приятно чуток, автострада бросается под колеса, льежские огни остались за спиной, встречных машин почти нет — и снова несёмся в световом луче, убегающем от нас. Я чуть приглушил звук, покрутил ручку. Шорохи и вздохи планеты заполнили кабину. Что возникнет из шороха? «Как прекрасно пахнут ананасы, и как хорошо их есть вместе с тобой, потому что ты пахнешь ещё прекрасней, чем эти ананасы»… К чёрту эту банальную мелодию, не хочу, чтобы она рождалась из шороха! И ананасы поглотились надрывным голосом, тоскующим под гитару. Голос был совсем близким: работал маяк «Европа-1», и парень старался вовсю: полупридыхая, доверительно нашёптывал на весь свет о том как он одинок. «Идёт дождь, и я сегодня один, в камине трещат дрова, в комнате тепло, но я одинок, потому что идёт дождь, и ты не пришла, никогда не придёшь, огонь в камине погаснет, и сердце моё остынет, я буду всегда одинок, и, если ты не придёшь, дождь никогда не кончится, потому что это дождь моих слез». Так он тосковал, красиво и надрывно, а после него за ту же работу принялись четверо: рояль, гитара, контрабас, ударник. Они выливали свою беду отрешённо и упруго, тренированно сливаясь друг с другом, ударник отбивал палочками синкопы, чтобы они не распадались в своей тоске. Четверо парней сидят в тёплой комнате, и над ними не каплет, стены затянуты гофрированным шёлком, они тоскуют о том, как хорошо им тосковать вчетвером, когда для тоски созданы настоящие условия, им уютно и бездумно, как в купе ночного скорого, где их слушает молодая супружеская пара, пустившаяся в свадебный вояж; парни оттоскуют своё, спустятся вниз на лифте, пройдут сквозь вертящуюся дверь и зашагают по залитой огнями авеню, де Шанз-Элизе, переговариваясь меж собой, куда бы заглянуть и выпить, потому что они отработали честно.
Вот они забрались на высокие табуретки и думают теперь, что бы такое им сообразить на четверых, а ко мне приходит тревожная мелодия, её выводит могучий оркестр и всякая там электроника с искусственным эхом: звонкая тревога протяжно несётся над землёй, планета переливается разноязычными голосами, тягучим или пружинистым благовестом инструментов, чтобы не было тоскливо ночью всем затерянным и оставленным, которые бессонно лежат сейчас в постелях или горюют в хижинах, стоят на вахте у штурвала, летят над ватой облаков, несутся сквозь ночь в машине, как мы. Тоска и боль течёт над планетой, а те, что лежат под могильной плитой, — им даже не дано услышать этой тоски и боли, мольбы и призыва. Убитые, преданные, они не слышат и не знают, что эта песня есть на свете. И, верно, потому так печальна она. Но что расскажет эта песня живым, как утешит их она, облегчит ли одинокую тоску, пробудит ли веру в настающий день? Эфир наполнен средними волнами, средней музыкой, средними голосами, которые зазывают на все лады: гневно и бесстрастно, азартно и сладко — вся земля окутана невидимой вуалью из звуков, сквозь которые трудно пробиться к истине, а можно только отвлечься или забыться на мгновенье.
На том берегу засветились огни, они повторились в воде, стал виден силуэт моста. Я сбросил газ. Антуан тотчас поднял голову.
Замелькали фасады домов, сцепляясь в сплошную стену. Антуан командовал, куда поворачивать. Проехали по мосту. Редкие огни дрожали в воде.
На перекрёстке торчал указатель «Музеум». Антуан показал на боковую улочку. Я притормозил у двухэтажного дома с широкой витриной по первому этажу, в которой стояли манекены. Антуан долго колотил кулаками, удары гулко отдавались меж домов. Наконец засветилось окно. Кузен Антуана Оскар открыл дверь, включил свет, и мы вошли в магазин.
— Что вас принесло в такую рань? — беззлобно спросил он. — Я думал, вы приедете позже. И что вам понадобилось в этом Кнокке?
— Долго рассказывать, — ответил Антуан. — Ты заказал номер?
— Я целый час висел на этом чёртовом телефоне. Почему тебе понадобился именно «Палас»? Мог бы выбрать отель попроще. — Оскар мало-помалу просыпался, и вместе с тем в нём пробуждалось недовольство.
Черно-белая полосатая пижама Оскара назойливо лезла в глаза, как недоброе воспоминание о прошлом. Мы долго шли мимо манекенов, полок, рядов с вешалками, пока не оказались в просторной комнате, где топилась плита.
Оскар продолжал раздражённо:
— Ты знаешь, сколько стоит номер в «Паласе»? А мне пришлось заказать люкс, потому что ничего другого не было.
— Все равно, — терпеливо сказал Антуан. — Дай нам паспорта и можешь идти спать.
— Так вам нужны ещё и паспорта? Что такое вы задумали?
— Ты должен помочь нам.
— Кому вам?
— Мне и Виктору.
— С какой стати я должен помогать этому русскому фанатику, который растрезвонил о себе в газетах по всей Бельгии?
Я присел к столу, закурил и безмятежно слушал их разговор, делая вид, что ни слова не понимаю.
— Ты должен помочь, — твёрдо повторил Антуан. — Или ты забыл, как во время войны сидел в немецком лагере. Ведь мы и сейчас как на войне.
— Я никому ничего не должен, — вскипел Оскар, размахивая руками. — Война давным-давно кончилась, а мне все твердят: ты должен, ты должен! А я хочу жить для себя. Я был тогда молод и не понимал, за что и против кого сражаюсь. А теперь я кое-что понимаю, и я не хочу. Больше двадцати лет прошло, у меня выросли сыновья, которые не знают, что такое война, и не желают знать об этом. И пожалуйста, не приставай ко мне, я ничего не желаю знать, я ничего не помню, я не имел дела с русскими и не желаю иметь. Хороши бы мы были, если бы эти фанатики победили и установили здесь свою власть!
— Уймись, — спокойно сказал Антуан. — Уймись и свари нам кофе. Где лежат паспорта?
— Я не дам тебе паспорта, — продолжал кипятиться Оскар, заливая воду в кофейник.
— Ладно, ладно, — продолжал Антуан. — Ты не дашь. Прекрасно! Ты мне их не давал и ничего не знаешь. Где они лежат?
— В шкатулке, которая стоит на полке рядом с магнитофоном, — как ни в чём не бывало ответил Оскар. — Только не разбуди маму.
Антуан засмеялся и пошёл наверх. Я попросил у Оскара сварить для себя кофе покрепче. Оскар удивлённо вскинул брови.
— Вы понимаете по-французски?
— Разве за десять дней научишься? Но я понял, о чём вы говорили с Антуаном.
— Тем лучше, — с вызовом ответил он. — Меня это не касается, и я объявил об этом. А вы? Зачем вы впутались в эту историю? У вас ничего не выйдет.
— Вы правы, мсье Оскар, — ответил я ему. — Я совершенно напрасно впутался в эту историю. Я больше не буду, мсье Оскар.
Он улыбнулся:
— Ведите себя осторожней. Тото горяч и может наделать глупостей.
— Не волнуйся, Оскар, — молвил Антуан, спускаясь по лестнице, — я взял у тебя три тысячи, так что всё будет в порядке.
— Прекрасное начало, — скривился Оскар. — Сейчас же отдай деньги. И паспорта тоже. Я передумал.
С угрожающим видом он придвинулся к Антуану, пытаясь подобраться к бумажнику. Антуан со смехом отпрянул, цепко ухватил Оскара за рукав пижамы.
— Откуда у тебя такая прекрасная пижама, дорогой кузен? А ну-ка подари её мне.
— Как откуда? — удивился Оскар, безуспешно пытаясь отцепиться от Антуана. — Это моя пижама.
— А я думал, что ты выменял её у капо на пайку хлеба, — продолжал забавляться Антуан. — Давненько я не видал таких прекрасных пижам! А какой материал…
Конечно, пижама-то лагерная, то-то она в глаза бросалась. Не подлинная, разумеется, поновее, хорошего кроя, современной работы: силон, нейлон, перлон. Когда-то Оскар носил такую модель в немецком концлагере, а ныне он почётный член секции бывших узников, вот он придумал и заказал партию в триста лагерных пижам для бывших товарищей по несчастью, разве в этом есть что-нибудь плохое? Пижамы идут нарасхват, Оскар сам не ожидал такого успеха и уже заказал новую партию, это же манифик!
Антуан и Оскар бурно продолжали выяснять отношения. Я подошёл к полке с книгами. Роскошные фолианты в сафьяновых переплётах, корешки помечены номерами. Я вытащил том наугад, он весь был посвящён салатам. Я заинтересовался: шикарные картинки, то бишь натюрморты, справочный аппарат обширен и удобен — по алфавиту, по предметам и ещё в каких-то неведомых мне сочетаниях. Следующий том с той же солидностью повествовал о соусах и маринадах, затем следовали тома: вина, супы, жаркое и так далее, вплоть до кексов, полная энциклопедия живота. «Питайтесь нашими кексами в пижамах фирмы „Оскар Латор и сыновья“, и у вас всегда будет прекрасное настроение, пижамы последней модели „Бухенвальд“, для женщин имеется модель „Равенсбрюк“, всегда в продаже, „Оскар Латор и сыновья“ приглашают вас: бывшим узникам лагерей скидка в размере 15 процентов».
Так он предаёт и продаёт собственную память о прошлом и, похоже, неплохо зарабатывает на том. Не желаю принимать от него подачки!
Я с грохотом задвинул том с дичью на полку:
— Точка, Антуан. Мы едем! Отдай паспорта и деньги своему дорогому кузену, обойдёмся! А вам, мсье Оскар, я советую заказать партию ридикюлей из синтетической кожи под человечью, модель «Эльза Кох». Пойдут бойко, предсказываю.
Он понял меня, лицо его сделалось пунцовым. Антуан с готовностью вытащил паспорта из пиджака.
— Возьми, Оскар, так в самом деле будет лучше.
Багровый Оскар замахал руками.
— Зачем ты обижаешь меня, Тото. Оставь их, если они тебе нужны.
— Но ты же ничего не видел и не знаешь, — посмеивался Антуан.
— Как хочешь, Тото, — униженно просил Оскар. — Если что-либо случится, я не откажусь.
— Время дорого, Антуан. О'ревуар, мсье, — я решительно вышел из комнаты.
— А кофе? — кричал вослед «Оскар Латор и сыновья».
Мы остались без кофе, но с паспортами.
И снова мы мчимся сквозь призрачный тоннель, сотканный из зыбкого света, безуспешно стремясь домчаться до противоположного конца, где ждёт нас встреча с прошлым.
Маас повернул влево, проплыли во мраке последние скалы. Прощайте, Арденны, — и начали натягиваться нити, которые протянулись меж нами, от каждого мгновенья, каждой встречи: печально-встревоженная улыбка Николь и ненавидящий взгляд вдовы Ронсо, пожатье Луи и маслянистые слова Мариенвальда, пронзительная труба, поющая над крестом, и отрешённый голос Агнессы Меланже, лесные тропы и потерянные глаза Ивана, шершавые парапеты моста и хриплый голос старого Гастона, прощальный взмах Терезы и одинокая фигура женщины, затерявшаяся среди белых крестов. Нити меж нами не расторгнутся отныне, но натяжение их с каждым километром делалось все пронзительнее и острей. Ах, Тереза, Тереза, верно, ей будет горше всего, но она пройдёт через это и выйдет освобождённой. Эх, Иван, он сидел как пришибленный, когда мы с Антуаном обменивались мнениями перед дорогой, и я назвал то главное имя, которое теперь уже одно оставалось на белом камне. Иван, взмахнув руками, тупо повторял: «Этого не может быть! — А потом вскочил и мстительно закричал: — Будьте прокляты, эти проклятые капиталистические страны, если в них одни эксплуататоры и предатели», — и глаза у него сделались беспомощными. «Можешь отдать Антуану сто франков, — сказал я. — Ты проиграл. Инициалы на сосне были вырезаны Щёголем весной, когда я прислал первое письмо Антуану…»
Натягиваются нити, но память не отступает. «Желаю успеха», — сказал по телефону Матье Ру. Спасибо, Матье, ты явился по доброй воле и рассказал все. «О'ревуар, Виктор, до свидания», — молвила Сюзанна, прижавшись ко мне щекой, и тоненькая её фигурка, застывшая в проёме двери, так и стоит перед глазами. Нерасторжимы эти нити, а дорога стремится вдаль, мотор укачивает, и голова сама собой опускается на грудь. В транзисторе — шансонье, мне снится французская речь, стремительная, порывистая, открытая. Яркогласные звуки её как-то по-особому протекают сквозь гортань и вылетают в мир торжествующе и ясно. И рождается речь. Все в ней расчленено, и все слитно как песня. А это и есть песня, которую поют сто миллионов певцов.
Машину тряхнуло на переезде, но Антуан почти не сбросил газ, и мы проскочили по стыкам так, что я подпрыгнул.
— Куда спешишь, о Антуан? — со смехом произнёс я. — Скажи мне что-нибудь хорошее.
— Же т'эм, Виктор, — сказал Антуан. — А ты скажи мне это по-русски.
— Я люблю тебя, Антуан. Но зачем мы так несёмся? Только начало пятого.
— Ты не знаешь наших бельгийцев. Они уже варят кофе.
Впереди маячили два красных огонька. Антуан азартно прибавил газ, красные огоньки притянулись к нам, отпечатался в свете фар голубоватый кузов, мелькнуло заспанное лицо над рулём, а впереди тут же зажглись два новых красных огонька, и мы припустили за ними.
Небо за спиной постепенно голубело и прояснялось, звезды гасли над горизонтом, а вместо них зажигались огни на земле: окна домов, фары машин. Сложенная гармошкой карта лежала на моих коленях, и по ближайшему указателю я определил: до Брюсселя 25 километров . А Брюссель это уже полдороги, за ним — Гент и Кнокке.
Проскочили тесный городок, сумеречно проступающий из тьмы, и вот уж под нами брюссельская автострада. Дорога была ещё бессолнечной, но уже ясно проглядывалась до горизонта, и редкие рощицы неспешно отползали назад.
Настаёт новый день. Что же мы узнаем в нём? Я углубился в свои мысли и не заметил, как Антуан выскочил на виадук, пошёл по виражу на разворот — раскрылось солнце, зацепившееся нижним краем за дальний лесок. Со всех сторон сбегались к кольцевой дороге ранние пташки, с каждым километром их становилось все больше, но пока они не слились в сплошной поток и двигались каждая по своей воле.
А вот и развязка на Гент и Остенде. Проскакиваем её понизу, ложимся в правый вираж. Боже, что там творится, машины уже не идут, а ползут, за многими катятся трейлеры, отчего машина сразу становится неповоротливой и медлительной. Пришлось притормозить на выезде и торчать перед этим потоком, пока добрый водитель не сделал приглашающего жеста, уступая дорогу. Мы влились в это стадо, и поплелись в нём. На путепроводе стоял взмокший полицейский в чёрной шинели. Но что он мог — один на один с этим стадом.
— О ля-ля! — сказал Антуан, прижимаясь к обочине, и сразу же за путепроводом выскочил из стада.
— Хочешь ещё кофейку? — удивился я.
Антуан не ответил. Мы скатились вниз на кольцевую автостраду, промчались под путепроводом — и снова на правый вираж, к тому полицейскому, который стоял на верхней дороге. Перед нами была чистая полоса и вела она в Брюссель. А стадо плелось навстречу.
— Через час встречную дорогу перекроют, — сказал Антуан, — хорошо, что мы проскочили.
Мы снова спустились на кольцевую и, вернувшись по восьмёрке к исходной точке, благополучно миновали развязку на Гент и Остенде.
— Поедем на Дендермон, — пояснил Антуан.
Я посмотрел на карту: дорога на Дендермон не имела отчётливого направления к морю и пролегала примерно в середине между Гентом и Антверпеном. Но, увы, хитрость Антуана не удалась: и эта дорога оказалась забитой машинами, хоть и не столь плотно.
Но не таков Антуан, чтобы терпеть эту стадность. На первом же съезде он выбросил машину из потока, и мы пошли крутить по просёлкам. Мы бросались то вправо, то влево, поворачивали под прямым углом и даже назад, как яхта на встречном галсе. Просёлки были пусты в этот ранний час, и все машины, которые попадались нам по пути, спешили навстречу — к стаду. Антуан жал изо всех сил, я уже не мог уследить за всеми причудливыми его бросками, потому что не все дороги были отмечены на карте, но Антуан ни разу не сбился, не дал ни одного предупреждающего сигнала, ни разу не попал на такую дорогу, которая не имела бы продолжения. Мы обогнули Дендермон с севера, а Гент, наоборот, с юга. Три раза проносились по путепроводам под теми самыми автострадами, по которым полз, тащился, влачился, а то и просто стоял поток машин и тогда Антуан весело издевался над земляками.
Брюгге остался западнее. Мы шли вдоль голландской границы, и тут я поймал указатель. Голубая стрелка указывала: «Кнокке — 12 километров». И перед нами стлалась чистая полоса.
— Салют, Антуан! — торжествующе засмеялся я. — Сегодня утром ты перехитрил миллион бельгийцев. Будь в моей власти, я бы присвоил тебе звание штурмана высшего класса.
Антуан не ответил, прижался к обочине, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Я глянул на спидометр. От Ромушана до Кнокке по указателю карты двести сорок один километр, а спидометр накрутил триста девяносто пять.
Обратная стрелка указывала на Гент и Антверпен. Я давно уж заметил, что эти дороги проложены для дураков: стрелки ведут их по кратчайшим расстояниям, подсказывают, разжёвывают, наставляют. На всех перекрёстках щиты со схемами и стрелки, стрелки. Следуйте по стрелкам — и вы приедете. Антуан пошёл против стрелок — и мы обогнали всех. На часах было десять минут восьмого.
Я вышел из машины, постучал по скатам, припустился вперёд по дороге. Одинокий «фольксваген», весело гуднув, обогнал меня: там тоже сидел не дурак, на плече у него дремала подружка.
Я вернулся к машине. Транзистор, который я забыл выключить, меланхолично выбалтывал синкопы. Я потянулся к кнопке, но Антуан приподнял руку: не надо. Над дорогой поплыл голос Пиаф:
Завтра настанет день!.. Кажется, рухнуло все, но все начинается снова. Завтра настанет день!Голос рождался из глуби, то ниспадал, то взмывал ввысь. Он растекался над утренней землёй, наполняя её своей страстью.
— Завтра настало, — сказал Антуан, не открывая глаз и дремотно улыбаясь. — Достань-ка фотографию братьев Ронсо.
Я извлёк из папки фотографию.
— Переверни её, — продолжал он с той же улыбкой, — что там написано? Мише… и буквы «л» не хватает. Но это не так. Пьер Дамере был прав, он не соврал старому Гастону. И Тереза сказала нам правду. Она не вспомнила клички дяди, зато теперь я могу сказать её. Мишель никогда не был Мишелем. Он всегда был миш.
— Ещё один ребус? — я засмеялся и полез за словарём.
— Миш — это миш, — сказал Антуан. Наконец-то он открыл глаза, лукавство светилось в них.
Но и я уже разобрался со словарём: миш — это Буханка, и кличка у Пьера, верно, появилась ещё в детстве или со школы, коль Густав Ронсо упомянул её ещё до войны. Буханка пришёл в особый отряд со своей кличкой, он говорил русским: «я — Миш», зовите меня «Миш», но те переиначили кличку на русский лад. Так появился Мишель: это и стало его новой кличкой. Значит, Мишель никогда не был и Щёголем: он всегда оставался Пьером Дамере по кличке «Мишель». Братья не были родными, они жили отдельно, а во время войны дороги их и вовсе разошлись: один стал «кабаном», другой сделался рексистом, и не было у Мишеля мотива мстить за убитого предателя. Вот и Альфред написал в синей тетради: «Буханка не виноват». Но только сейчас я узнал, как возникла эта кличка, — и распалось задуманное тождество. Старый Гастон выстроил стройную цепь, но он добросовестно заблуждался. Фазаны подвели старика Гастона, всего два фазана. Буханка забрал у Гастона двух фазанов, чтобы накормить товарищей. На этих фазанах и попался в ловушку Гастон, извечная крестьянская психология…
А Пиаф продолжала в ликующей надежде:
Кажется, рухнуло все, но все начинается снова, Завтра настанет день!.. И звон колокольный в небо взлетит голубое Завтра, И месяц новый, месяц медовый взойдёт над тобою Завтра, От сегодняшней грусти не останется даже следа, Ты будешь смеяться, любить и страдать — всегда, всегда. Завтра настанет день! Завтра!— Ну что ж, Антуан, — сказал я. — Вот тебе и ответ на твой вопрос о ноже. Луи был прав, ругая меня за то, что я взял чужой нож. Я предполагал, что этот нож вовсе не обязательно должен принадлежать кому-то из «кабанов». Просто кто-то захватил его с собой, когда «кабаны» были в «Остелле», ведь нож необходим в лесу. Так что придётся вернуть его хозяйке.
— Я передам его через Терезу. Вместе с записочкой, а? — Антуан снова хитро прищурил глаза.
— Но кто же в таком случае ждёт нас в Кнокке? Как ты думаешь?
— Не все ли равно, — беспечно откликнулся Антуан, включая скорость.
ГЛАВА 25
7.25. Удалось поставить машину прямо против «Паласа» так, что можно сразу выехать на дорогу в сторону Вендюне и Брюгге. Справа столб, прямо белая черта, так что нам трудно перекрыть выезд.
«Палас» расположен в долгом ряду других отелей, выстроившихся шеренгой вдоль берега, на вид ничем от них не отличается и выглядит вполне респектабельно. По другую сторону улицы ряды ларьков и купален — здесь променад. Ещё дальше — полоса пляжа, утыканного цветными зонтами. Час ранний, народу почти не видать. День обещает быть тёплым и чистым.
Начинают подъезжать машины.
7.40. Все идёт по графику: устроились. У подъезда нас встретил швейцар в ливрее: «Мест нет». — «У нас есть», — небрежно бросил Антуан, и сквозь вертящуюся дверь мы проникли в холл. Администратор встретил нас радушно: «Мсье Оскар Латор с сыном? Да, да, мы ждём вас. Как прошла дорога? Сегодня ожидается что-то невероятное! По радио передавали, что к морю двинулись три миллиона человек».
Я стоял в сторонке и помалкивал, старательно изучая расписание пароходов из Остенде. Потом переключился на брюссельское расписание самолётов. Каракас, Манила, Тегусигальпа, Порт-о-Пренс, Карачи, Парамабиро, Мельбурн, Монреаль. Какой бы городок мне выбрать? А вот и наш рейс 041, вылет из Брюсселя в 10. 25 — все у нас по-прежнему.
Краем глаза наблюдаю за Антуаном. Тот заполнил бланки, выложил паспорта и две тысячи франков, по тысяче за сутки, подумать только! Двести франков Антуан подал отдельно, заложив под паспорт: «Силь ву пле, мсье». Администратор мигом все оформил, даже не раскрыв паспортов: приехали отец с сыном, экая невидаль! Слизнул ассигнации и вернул оба паспорта Антуану.
Поднялись на лифте на третий этаж, нас проводили в номер. Горничная в наколке поиграла глазками в нашу сторону. «Прикажете завтрак, мсье?» — «Пожалуйста, не беспокойте нас, мы будем отдыхать с дороги», — и ещё сто франков, полетели наши денежки!
Антуан запер дверь, задёрнул портьеры.
— Спать, Виктор. Я буду спать целый час. Шестьдесят минут.
— Валяй, Антуан. Остаюсь на вахте.
Антуан разоблачился и юркнул в постель.
Номер что надо: огромная комната с балконом и альковом, в котором высятся две роскошные кровати. Современная мебель, телевизор, холодильник, столик для телефона с белым аппаратом — вот что нам всего нужнее: и выходить не придётся из номера, Щёголь сам заявится как миленький, едва услышит кое-что по телефону.
Заглянул в коридорчик. Там была ещё одна дверь, за ней оказалась ванная — и вполне приличная: с розовой плиткой, никелированными кранами, широким зеркалом и всем остальным, что полагается в таких местах. Даже две зубные щёточки, завёрнутые в целлофан, — «Покупайте предметы гигиены только у Гиббса…»
7.50. Погулял по номеру, заглянул в холодильник: набит бутылками — дело у чёрного монаха поставлено на широкую ногу. Ни разу мне не приходилось останавливаться в таких шикарных апартаментах. Все для Виктора Маслова, сына Бориса! Ведь они не только миллионы, они, если на них поднажать, и Терезу мне отдадут. Будут у меня апартаменты почище этих, «ягуар» и «кадиллак» — непременно две машины, как мечтает Николь. И Тереза будет. И поплывём мы на белом пароходе на остров Кюрасао, нет, лучше в Австралию, на Веллингтон-стрит. Газеты будут давать отчёты в светскую хронику: «Вчера молодая чета нанесла первый визит мистеру Чарли». Или ещё трогательнее: «Их отцы были врагами, но они полюбили друг друга», а мы тут как тут с крошкой Зизи на фоне нашей яхты. Научусь болтать по-французски. «Же т'эм, май дарлинг» — «И я тебя же т'эм». Но не до шуточек мне теперь…
Вышел на балкон. На пляже было нелюдно. Волны плоско накатывались на берег, шум их был приглушённым и спокойным. Приморская улица уходила к северу до самого мыса. Машины шли вереницей.
7.55. Пустился в разведку. Наш номер рядом с лифтом и лестницей, это неплохо. В лифте малый в ливрее спросил меня: «Куда, мсье?» — «Восьмой этаж», — ответил я по-немецки, посмотрев на кнопки. Он глянул на меня с бесстрастием, и мы поехали наверх. Такой же длинный коридор с дверьми по обе стороны. Лестницы на чердак не нашёл.
В холле тоже есть балкон. Оттуда виден кусок дороги, ведущей в Вендюне, там машин меньше: почти все сворачивают в нашу сторону и останавливаются перед отелями.
С лестницы удалось выглянуть во двор, но темно-синего «феррари» не видать. Прошёл по седьмому этажу в другой конец коридора, спустился на первый этаж. Администратор улыбнулся мне, я улыбнулся ему. Ресторан пуст, парикмахерская открыта. Табличка оповещает, что кабинет управляющего находится на втором этаже.
Вышел из отеля, прошёл по улице. С обеих сторон к «Паласу» примыкают два соседних отеля так, что выезда со двора нет, очевидно, ворота выходят с тыльной стороны.
Двинулся дальше. За мной никто не следил. В витринах пёстрая мелочь, сувениры, гуси-лебеди. Купил на углу несколько цветных открыток и каталог с планом Брюгге.
Рекогносцировка проделана. Возвращаюсь обратно.
8.15. Сижу на балконе. Антуан спит как младенец. Смотрю на море, оно точно такое, как на открытках, только более блеклое. Когда на море смотришь с большой высоты, оно однообразно и похоже на застывшее стекло. А вблизи оно живое, переменчивое. Купающихся мало.
Где сейчас Щёголь? Что-то поделывает в эту минуту? Продрал глаза, чешет грудь и обдумывает ситуацию. Впрочем, поднялся он нынче чуть свет. Знает ли он про Терезу? Её побег насторожит его ещё больше. Ведь он понимает, что Тереза расскажет нам и про дядю, и про ван Серваса. А может, всё-таки Щёголь и есть тот самый ван Сервас? Чего гадать, скоро мы узнаем и это.
Что чувствует предатель, погубивший девять жизней и пустивший пулю в десятого? Конечно, много времени прошло… Но страх-то всё-таки должен таиться. Страх разоблачения, кары. Как бы ни был он уверен, что замёл все следы, какое бы ни выстроил алиби, но этот страх сидит в самых тайных извивах души — никуда от него не денешься. То-то он так зашевелился: страх его гонит, и он готов умчаться хоть на край света, чтобы заглушить свой страх. А может, он уже летит в самолёте. Я запомнил расписание: утренний самолёт из Остенде уже ушёл. А дневной — в два часа. Летит мой Щёголь, стюардесса ему улыбается, а он сидит себе посмеивается и в ус не дует. Тогда и я улечу завтра ни с чем.
На улице зазвучал оглушительный глас:
— Зачем предал ты, Иуда окаянный, господа нашего Иезуса Христа, сына божия, на муки и смерть? Ведь не в радость тебе стали гнусные сребреники твои. Сам, окаянный, невдолге удавился, не порадовавшись гнусной плате своей. Покайтесь, верные. Вспомните Иуду-предателя и жалкую его судьбу…
Огромный автофургон с белыми крестами медленно катился вдоль домов, изливая на страждущих гневные слова проповеди. Впереди фургона, припрыгивая, бежал мальчишка, верно, только мы вдвоём и слушали проповедь. Сначала поп изливался по-фламандски, потом перешёл на немецкий, а под конец — на французский. Но слова были те же.
Зачем ты предал, Щёголь? Из корысти? страха? ненависти? тщеславия? Принесли ли тебе радость сребреники твои? Меня тоже предавали два раза. В первый раз мне было 13 лет, я пришёл на день рождения к Димке, с которым мы учились в 7 «Б». Я принёс ему марку: австралийский кенгуру, оливковый, трехпенсовый — довольно редкий. Тогда мы все были филателистами, и мой подарок произвёл фурор. Я преподнёс «кенгуру» в прозрачном пакетике, и Димка никому не разрешал доставать её оттуда: наслаждайтесь не трогая. Марка ходила по рукам, именинник был забыт. Наконец, Димка недовольно упрятал её в альбом, сели за стол, но ребята все равно приставали: покажи «кенгуру». Димка не давал и сердился. А я плёл всякие истории о редкостных марках, об этом я мог распространяться часами. После чая кто-то попросил ещё раз показать марку. Димка с готовностью кинулся к папке и раскрыл альбом. Марки, конечно, не было. Димка закатывался в истерике и тыкал в меня пальцем: это он, он! Сам подарил и сам выкрал. Вор! Вор! Все сидели пристыженные. Вмешалась мать. Я недоуменно пожимал плечами. «Ага, ты не хочешь, чтобы тебя обыскали». — «Пожалуйста, — ответил я ему, — только это глупо». Димка полез в мою куртку и вытащил из кармана «кенгуру». До сих пор не знаю, как он это сделал, однако он сумел. До чего же подл он был в своём торжестве. Я влепил ему пощёчину и убежал. Весь год мы не разговаривали, а потом он перевёлся в другую школу и исчез с горизонта. Но вот что всё-таки удивительно: половина ребят была уверена, что я в самом деле украл свою же марку — и с этим ничего нельзя было поделать.
Страшно быть преданным, но и предавать, верно, нелегко. А мстителем быть просто, чёрт возьми! Не хотел я быть мстителем, не для того пришёл в эту прекрасную страну к её красивым людям. А все же пришлось, потому что пепел Клааса стучит в моё сердце, и до Брюгге, где Тиль расправился с рыбником, всего 19 километров .
Резкий гудок вывел меня из задумчивости. Автопоп с магнитофонной проповедью уехал уже далеко, и голос его был едва слышен. У нашего подъезда остановились две машины. Из первой вылез тучный человек с толстым портфелем, из второй служители таскали чемоданы и коробки. Одна из машин — «феррари», но масть не та.
8.35. — Сладко же я вздремнул, — Антуан стоял передо мной в дверях балкона. — Красивое у нас побережье, правда?
Я вскочил:
— Пойдём? Вперёд, Антуан!
— Конечно, пойдём. Пойдём на море и будем купаться, — он пребывал в самом благодушном настроении.
— А Щёголь? — не удержался я.
— Попробуем найти его среди волн и утопим, — Антуан похохотал. — За что же я заплатил денежки? Я заплатил их за море и за солнце. Я должен кое-что получить за эти денежки. А потом мы потребуем проценты на вложенный капитал.
— Хорошо, Антуан, пойдём на море, — покорно согласился я.
Мы переоделись, прихватили полотенца и двинулись. В холле всё было по-прежнему, машины уже отъехали от подъезда.
Антуан подошёл к администратору.
— Простите, пожалуйста, мсье Пьер Дамере не приезжал? — спросил он.
— Дамере? — удивился администратор. — Первый раз слышу это имя.
Пришлось Антуану давать задний ход.
— Разве я не просил вас передать мне, если приедет Пьер Дамере, это мой кузен.
— Я уверен, мсье, что не слышал такой просьбы.
— О, пардон, мсье, если он всё же спросит меня, передайте, что я на пляже.
Они поулыбались друг другу, инцидент был исчерпан.
На пляже Антуан отыскал кабинку, которая прилагалась к нашим шикарным апартаментам, и открыл её ключом.
— Надо пококетничать с горничной, — сказал я. — Она может знать, где сейчас Мариенвальд. Щёголь сейчас с ним, я уверен.
— Тс-с, — Антуан показал глазами на стены. — У этих фанерных стен бывают уши. Вперёд! — задорно крикнул он и первым припустился по песочку. Мы долго шлёпали по мелководью, вскидывая ноги, потом поплыли. Вода была колючей и въедливой, но я пошёл баттерфляем и быстро согрелся. Покатые волны катились навстречу, я прошёл метров пятьдесят и сбавил темп, выбрасываясь на буруны и озираясь: процентов на вложенный капитал среди волн не наблюдалось, пора возвращаться на сушу.
8.58. Антуан на берегу растирается полотенцем и разговаривает с крепким загорелым мальчишкой лет десяти. Я неспешно шагаю по мелководью, крутя руками мельницу, чтобы согреться.
— Хелло, Майкл, — крикнул мне Антуан, — этот парень не верит, что ты прилетел из Америки.
Мальчишка с интересом смотрел, как я подхожу. На пляже было пустынно.
— Хау ду ю ду, май дарлинг, — подхватил я, подыгрывая Антуану. — Ол райт, янки дудл, уойс оф Америка. Уаш пудель лайт энд кусайт, йес? Боинг корпорейшен, ай лав гёрлс, твейс мишен супер долларс, тен миллионс, ду ю спик инглиш?
— Он очень извиняется, Майкл, что не знает твоего языка, — продолжал Антуан. — Вообще-то он фламандец и живёт в Брюгге, но по-французски он умеет говорить. Ты понимаешь меня, Майкл? Но главное не это. Хендрик увидел, как ты здорово плаваешь баттерфляем и сразу догадался, что ты чемпион Америки.
— Вери матч, беби. Майкл чемпион оф Тексас энд Калифорния. Ай плау Миссисипи энд Велики океанз. Гран при, голд долларс, Майкл купишен ранчо ин Тексас.
— Мистер Майкл счастлив познакомиться с тобой, Хендрик, — перевёл меня Антуан. — Он приглашает тебя к себе на Миссисипи, у него там великолепное ранчо. А ты знаешь, Майкл, кто этот малыш? Его зовут Хендрик ван Сервас, он сын хозяина «Паласа», в котором мы остановились, и приехал сюда из Брюгге на каникулы.
— Вери гуд, Хендрик, — гнусавил я. — Удай уапу. Бувайшн здоровс.
— Мой папа не хозяин, а только старший управляющий, — ответил Хендрик, глядя на меня с восхищением. — Наш хозяин мессир Мариенвальд. Я видел его утром в Брюгге.
— Много ты знаешь, Хендрик, — Антуан усмехнулся. — Мессир Мариенвальд живёт в Вендюне, и мы сейчас поедем к нему. Мистер Майкл хочет купить отель у мессира Мариенвальда.
— Нет, я видел его в Брюгге, мсье Оскар, — упрямо повторил Хендрик, покраснев от незаслуженной обиды. — Он давно не приезжал к нам, но я хорошо его помню, не думайте, что я такой маленький.
— Мессир Мариенвальд сейчас в Брюгге, а Хендрик ван Сервас сейчас в Кнокке. Как же ты мог его видеть?
— Я ночевал сегодня дома и рано утром приехал сюда со старшим администратором. А мессир Мариенвальд приехал к нам ещё раньше на Каренмаркт.
— Твой папа живёт на Каренмаркт? — взволнованно воскликнул Антуан. — И его зовут Питер? Значит, я знаю твоего папу, по-моему, он был партизаном в Армии Зет. Да?
— Что вы говорите, мсье Оскар, — засмеялся Хендрик. — Мой папа не мог быть на войне, ему всего тридцать три года.
Лицо у Антуана вытянулось, он глянул на меня. Я прошёлся колесом по плотному песку и вернулся обратно.
— Значит, я ошибаюсь, Хендрик, жаль, — Антуан покачал головой. — Хотелось бы встретиться со старым партизанским другом. Но если ему всего тридцать три года, тогда это не он.
— Ол, райт, Хендрик. Ол райт, мистер Тото. Хендрик сегойшен мотайт фром Брюгге, ун вери гуд беби.
— Так, значит, они были в Брюгге? — переспросил Антуан. — Тогда и мы поедем туда, какая разница? Хочешь поехать с нами, Хендрик?
— Увайс, Хендрик, гуд путешейзен тудей энд назай. Майкл покупайт «Палас» энд конструирс кондишен. Твойс папа стэйтс дженераль директор Майкл компани. Ду ю хотейш?
— Мистер Майкл говорит, — снова перевёл Антуан, — что он купит «Палас» и сделает тут все по-американски. А твой отец станет президентом новой американской компании. Ты будешь присутствовать на наших переговорах. С мессиром Мариенвальдом приезжал кто-то ещё?
— Они приехали вдвоём, — ответил Хендрик, — но того господина я не знаю.
Я сделал два задних сальто и снова стал перед Хендриком. Тот по-прежнему смотрел на меня с восхищением.
— Наверное, это адвокат мессира Мариенвальда, — предположил Антуан. — Так ты поедешь с нами, Хендрик?
— А какая у вас машина?
— Мистер Майкл прилетел на своём самолёте, все его «ягуары» остались за океаном. Сейчас мы путешествуем на моём «рено».
— Вы дадите мне повести вашу машину? — загорелся Хендрик. — Я умею водить папин «феррари», но он мне не разрешает.
— В таком случае можно считать, что мы договорились, — заключил Антуан. — Ждём тебя через час, мы живём в триста третьем номере.
— Гуд бай, Хендрик, до свидейшен. — Я взял низкий старт и пустился к купальне, потому что на ветру было холодновато.
9.12. У подъезда остановились две машины. Из первой извлекают чемоданы, тут же застыла холёная мадам с надменным лицом, демонстрируя прохожим драгоценности и бархатную болонку, уютно разместившуюся на её груди.
Вторая машина пуста. Это темно-синий «феррари». Я посмотрел на номер, так и есть: 9325Х. На заднем сиденье брошена развёрнутая карта Бельгии. Дверцы закрыты.
Из вертящейся двери выходят люди, в холле тоже порядочно народу, администратор занят и на нас ноль внимания.
Внимательно оглядываем холл, но тех, кого мы ждём, здесь нет.
9.14. Вошли в номер. Антуан кидается к бутылкам с лимонадом, жадно пьёт. Портьера в алькове задёрнута и подозрительно колышется. Пройдя на цыпочках, резко отдёргиваю её, там никого нет, зато постель аккуратно прибрана. Антуан смеётся над моей оплошностью.
— Порядок, Антуан, — отвечаю. — Итак, небольшое резюме. Пьер Дамере отпадает, можно даже не звонить в Лилль. Терезиной бабушке. Ван Сервас тоже вышел из игры. Остаётся последнее имя.
— Не хотел бы я называть его, — сосредоточенно говорит Антуан и подходит к телефону.
Звоним в «Храбрый Тиль». Начинается традиционный обмен любезностями: бонжур, пардон, силь ву пле. Нельзя ли попросить к телефону мсье Мариенвальда? На какой предмет? Это «Храбрый Тиль» так осторожничает. — Кто со мной говорит? — У телефона Фернан Ассо. — Пардон, не расслышал, кто? — Метр Ассо из Намюра, поверенный барона и все такое прочее. — По какому делу? «Храбрый Тиль» явно настороже. — Чёрт возьми, — раздражается Антуан, — мсье Мариенвальд сам просил позвонить меня по этому телефону и дал ваш номер. Я поверенный барона. Какое вам дело до наших дел с мсье Робертом? Или вы хотите, чтобы я рассказал ему о нашем разговоре? Тогда вам не поздоровится.
Но не так просто прошибить «Храброго Тиля», тот невозмутимо отвечает: час назад метр Ассо, его супруга и мессир Мариенвальд отбыли в машине. Так что давай не прикидывайся, а то тебе не поздоровится.
Антуан в сердцах бросает трубку: мы разоблачены.
9.17. Осторожный стук в дверь. На пороге Хендрик.
— Мой папа приехал, — радостно сообщает он, — и с ним мессир Мариенвальд и третий господин.
— Ты их видел? — спросил Антуан.
Я подошёл к Хендрику и потрепал его по щеке.
— Ещё нет. Я увидел у подъезда папину машину и побежал на второй этаж. Но секретарь не пустил меня к папе: у него важное совещание с этими господами. Тогда я попросил передать папе или мессиру Мариенвальду, что из Америки прилетел мистер Майкл, который хочет купить отель, и сразу помчался к вам. Секретарь очень обрадовался и сказал, что немедленно доложит про мистера Майкла.
Всегда так выходит: Хендрик сделался разведчиком-двойником, сам того не ведая. Я легонько дёрнул его за ухо.
— Уак поживайте, беби? Дуай мотайт отсюлейшен энд скорейшен, — и вытащил из кармана сто франков.
— Мистер Майкл благодарит тебя, — перевёл Антуан, — и говорит, что мы ещё покатаемся вместе на машине. А пока купи себе мороженое, мистер Майкл даёт эти деньги тебе.
Хендрик схватил бумажку и был таков.
Вот так-то, Антуан. Сколько ещё времени в нашем распоряжении? Во всяком случае, считанные минуты, а то и секунды. Секретарь пройдёт в кабинет и бесстрастно доложит. Это значит, что мы не только разоблачены, но и оказались в западне в роскошном нашем триста третьем номере.
Надо опередить их.
— Внимание, Виктор, — говорит Антуан, — сейчас я позову его. Готовься.
— Я готов, Тото, — я и в самом деле был готов, давно готов: всю жизнь готовился к этой минуте, не зная, что она всё-таки придёт ко мне.
9.19. Антуан снял трубку:
— Алло! Могу я поговорить с мсье Мариенвальдом?
— Разумеется, мсье. Переключаю вас на кабинет мсье Мариенвальда, он у себя. — Трубка коротко щёлкнула и почти сразу раздался глухой надтреснутый голос: — Алло, я слушаю.
— Бонжур, Роберт, — сказал Антуан со значением.
— Фернан? Как ты устроился? — вопрошал фон-барон.
— Это Антуан Форетье, мы приехали с Виктором в Кнокке потому, что не могли найти вас дома. Нам надо поговорить, мсье.
В трубке послышался старческий смешок:
— Так, значит, вы и есть мистер Майкл? Или это Виктор? Мне только что доложили о ваших метаморфозах, я словно помолодел на четверть века, вспомнив партизанскую молодость. Так кто же из вас собирается покупать мой «Палас»?
— Зайдите к нам, барон, и мы обо всём договоримся. Возможно, мы возьмём и «Палас», во всяком случае, нам нужны тридцать семь с половиной миллионов. В обмен на них вы получите кое-какие документы. Захватите с собой чековую книжку, и мы будем квиты. Вы понимаете меня?
— Прекрасно понял вас, мсье Форетье. — Чёрный монах уже не смеялся. — Лишь одно мне ещё неясно, почему именно тридцать семь с половиной, а, скажем, не сорок или тридцать?
— Я могу быть более точным, барон: тридцать семь миллионов и двести пятьдесят тысяч франков, то есть ровно одна четверть от ста сорока девяти…
— Не понимаю вашей странной арифметики…
— Тогда спросите об этом у Щёголя, он же Мишель. Кстати, пригласите с собой и его.
— Какого Мишеля вы имеете в виду, дорогой Антуан? Я не совсем понял вас.
— Нет, нет, не Буханку (Антуан сказал «миш»), а именно Мишеля. Того самого, который сидит сейчас рядом с вами. Поскольку наши документы касаются главным образом его, мы хотели бы передать их лично в его руки. Свой конверт вы уже получили. Но у нас осталась фотокопия, она тоже кое-чего стоит!
— Ну что ж, кажется, вы меня уговорили, мсье Форетье, он же мсье Латор и мистер Майкл. Придётся подняться к вам в номер.
— И не медлите, даём вам две минуты, — Антуан положил трубку и посмотрел на меня.
9.23. — Браво, — сказал я. — Ты сыграл, как Жан Габен.
И тотчас раздался стук в дверь. Я юркнул на балкон и осторожно задёрнул портьеру. В номер вошёл молодой рослый мужчина в чёрном костюме.
— Разрешите представиться, мсье Латор, — сказал он. — Ван Сервас, старший управляющий. Я хотел бы посмотреть ваши паспорта.
— Они у сына, — ответил Антуан.
— Где же он? — несколько удивился ван Сервас.
— Он пошёл к машине, — сказал Антуан, подходя к мужчине.
— В таком случае придётся подождать его, я не спешу, — ван Сервас уселся в низкое кресло и застучал пальцами по подлокотнику.
9.24. Я посмотрел вниз с балкона: нельзя ли спуститься по трубе или пройти по карнизу в соседний номер. Стена была гладкой, а до тротуара метров восемь.
И тут я увидел его. Он быстро шагал по улице, держа правую руку в кармане, в левой руке был портфель. Я сразу узнал его. И мгновенно прояснилась хрустальность родника, сошлись мои камни. Для самой малой малости определилось своё место, ничто не оказалось лишним, даже американский мемориал, и выщербленная стена цитадели, и запрокинутый крест под приспущенным флагом, и женщина в чёрном — сцепилось все без остатка. Уже часов шестнадцать я знал о нём и особенно после выкрика Агнессы, но надо было воочию увидеть его, взглянуть на его вкрадчивую походку, вспомнить его сладкий голос, чтобы в тот же миг все сошлось и сцепилось.
А он шагал и ещё не заметил меня. Удивительно было лишь то, что он шёл не от подъезда, а к подъезду, да к тому же наискосок через проезжую часть улицы, но он явно направлялся к машине, хотя и не видел меня, и у него ещё могла оставаться надежда, что дымка, им самим поднятая в минуту последнего нашего расставления, стоит пеленой перед моими глазами, а сам я, словно слепой котёнок, продолжаю тыкаться в темноте и незнании. Но вот он поднял голову и столь же мгновенно узнал меня. На лицо его набежала грустная тень, но он даже не прибавил шагу. Я улыбнулся ему и сделал ручкой, призывая к себе. Он с сожалением покачал головой и даже развёл руками.
Он уже подошёл к машине. И тогда я ринулся сквозь портьеру. Ван Сервас быстро поднялся навстречу, но не успел изготовиться. Я легонько отодвинул его, но задел не совсем удачно, и ван Сервас без звука прилёг на ковёр.
— Поль Делагранж, — выкрикнул я одним духом. — Он там, у «феррари».
9.25. Ему надо было ещё разворачиваться, если он поедет в Вендюне, и это должно было отнять у него некоторое время.
Так и вышло. Я юркнул в дверь (как медленно и тяжело она вертелась!), а он уже закончил первый разворот и переключил на задний ход. Ему бы сразу сдать назад и после того крутить в нужную сторону, но он не сообразил и тронулся с поворотом вперёд, а после сдал дугой назад, к фасаду, и ему пришлось сделать лишних полдуги, чтобы выбраться на проезжую часть.
А дверь ещё не раскрутилась, передо мной неспешно топтался толстяк со скошенным затылком, я нырнул под его рукой и кинулся вправо к «феррари».
Навстречу шла голубая «шкода». Поль должен был переждать её, но он рванулся напролом. Встречный шофёр с визгом затормозил, едва не стукнув его, — и «шкода» оказалась на моём пути. Я бросился влево, огибая «шкоду» с хвоста и все ещё надеясь, что окажусь первым. Но «феррари» — приёмистая машина, Поль тут же взял вторую скорость, я даже под колеса броситься не успел, рука моя зацепила стоп-фару за багажником и схватила пустоту.
— Дамере, — крикнул я с опозданием.
Толстяк со скошенным затылком испуганно смотрел на меня. Ещё двое или трое обернулись на эту сцену, но мне было не до них. Антуан выбежал из двери, и даже чемодан у него в руках.
9.26. Антуан рванулся вперёд, чтобы сразу взять скорость, и тут же сбросил газ.
— О ля-ля! — только и молвил он, открывая дверцу.
На этот раз было проколото переднее колесо.
— Теперь ты вспомнил этот «феррари»! — в отчаянье крикнул я. — Шервиль, церковная ограда…
— Все равно я не догоню его на своём «рено», — бесстрастно отозвался Антуан, глядя вдоль дороги.
Поль отъехал метров на двести, две машины уже закрывали его. Я оглянулся, но кругом не видно ничего подходящего: все машины, сбившиеся в плотное стадо, пусты и закрыты.
Антуан бросился на проезжую часть в надежде проголосовать и остановить машину, но их тоже не было. Я услышал звук открываемой дверцы и снова обернулся. Через две машины от нашей стоял широкий серый «мерлин», а задняя дверца его была раскрыта. Белобрысый парень в шортах возился там на сиденье, вытаскивая что-то длинное. Я нащупал в кармане сложенный перочинный нож и окликнул Антуана.
Пятясь задом, белобрысый паренёк вылез из машины и полуобернулся. Антуан подошёл ко мне.
— А «мерлин» догонит «феррари»? — спросил я и окликнул парня: — Якоб! Где Виллем? Где Ирма?
Якоб узнал нас и радостно взмахнул рукой.
9.27. Ирма сказала:
— Если он убил, пусть этим делом занимается криминалистическая полиция, — и снова отвернулась к прилавку, деловито смотрела в зеркальце и примеривала связку бус, которые она перекинула за шею.
— Ирма, он же скроется, удерёт за границу, мы искали его по всей Бельгии… — Я беспомощно теребил её за рукав кофты, а она раздражённо увёртывалась, не отрываясь от зеркала. — Помните, в первый вечер ваша подруга Люба сказала: был предатель. И мы его нашли. Он не только предал, он опасный государственный преступник, — взывал я, а сердце отсчитывало ускользающие секунды.
— И вообще вы тут иностранец, это не ваше дело, — она повернулась, я увидел её сытые глаза и враз умолк. С кем я говорю? Это же Ирма с наколкой на руке, она слушает на «грюндиге» русские песни из эмигрантских кабаков — вся её тоска по родине на этом исчерпывается.
Где же Виллем? И Антуана с Якобом не видно.
Из-за угла соседнего ларька выбежал Антуан, за ним показалась огромная фигура Виллема. Увидев мужа, Ирма кинулась к нему и принялась лопотать по-голландски. Виллем над её головой глянул на меня.
— Что случилось, Виктор?
Ирма продолжала отчаянно тараторить, пытаясь встать между нами.
Я поднял два пальца, раздвинув их буквой «V».
— Феер ен фрайхайт! — негромко сказал я. — По дороге я вам всё объясню, Виллем, нельзя терять ни минуты. Мы едем в Вендюне!
Услышав знакомый пароль, Виллем грозно отстранил Ирму, и мы припустились к машине.
— Куда же вы? — исступлённо вскричала Ирма. — Я тоже с вами, возьмите меня!
ГЛАВА 26
У ворот прилеплен жестяной лист: «Частное владение, вход воспрещён. Опасность». А ниже эмалевая табличка — 140. Ворота наполовину раскрыты.
— Дальше нельзя, — сказал Антуан, трогая меня за плечо. — Во всяком случае — на машине.
Виллем притормозил у ворот. Я посмотрел на часы: без восемнадцати десять. Мы не мешкали.
— Это его дом? — спросил Виллем, внимательно разглядывая решётчатую ограду. Мы уже рассказали ему о многом по дороге, но ещё не все.
— Другого, — ответил я. — Тут живёт тот самый фон-барон. Они действуют сообща. Сдадим чуть назад, оценим ситуацию.
— Другого выезда нет, — заключил Антуан.
— Вы же видите, туда нельзя, — причитала по-русски Ирма за моей спиной. — У нас в стране тоже везде такие надписи. Вы должны поехать в полицию и все рассказать комиссару.
Виллем сквозь зубы цыкнул на неё, и она ненадолго примолкла. С Виллемом мы объяснялись по-немецки. Антуан мог общаться с ним через Якоба, который знал французский. Только с Ирмой мы никак не могли договориться на родном языке, мы просто не понимали друг друга.
Виллем сдал назад и остановился, не выключая мотора. Дорога в этом месте отдалилась от полосы дюн и перешла в тихую улицу, обсаженную деревьями, среди которых стояли пёстрые виллы. По левой стороне они были близко и к дороге и одна к другой, а справа, где висела табличка, остановившая нас, тянулся густой парк, дома там не просматривались, и узорчатая ограда отделяла парк от улицы. По всей видимости, с этой стороны участки выходили к самому морю.
Если Поль и опережал нас, то не больше чем на две-три минуты, потому что, несмотря на дорожную толчею, мы ехали хорошо и наверстали время, упущенное в бесплодных разговорах с Ирмой.
Но тут ли он?
— Пойдём к нему, — буднично предложил Антуан, словно мы остановились, скажем, у дома Луи, где нас ждали к обеду.
— Я буду наблюдать за воротами, — сказал Виллем.
Мы вышли из машины. По улице катился яркий фургончик мороженщика, издавая мелодичные сигналы. Я шагал вдоль ограды, высматривая место погуще. Фургончик проехал.
— Давай, — Антуан подсадил меня, я ухватился за верхнюю перекладину, подтянулся, перебросил ногу через ограду, подал руку Антуану. Вот так и Щёголь с чьей-то помощью перелезал через стену цитадели, но сейчас некогда размышлять об этом.
Я прыгнул первым. Штанина зацепилась за острую завитушку, послышался треск разрываемой ткани, я едва не плюхнулся носом, но сумел удержаться.
Притаились за кустами вереска. Антуан заметил незатоптанную тропинку и, махнув рукой, побежал вперёд. Сбоку пролаяла собака.
Петляя среди кустов и деревьев, мы пробежали метров семьдесят. Антуан упал на землю. Перед нами была лужайка с дорожками и клумбами, а за ней протянулся на взгорке плоский двухэтажный дом с широкими окнами. Темно-синий «феррари» стоял тут же. Снова пролаяла собака, но теперь стало ясно, что она на соседнем участке.
Окна нижнего этажа задёрнуты шторами, а на втором одно окно поднято — и ни звука, ни малейшего движения. Конечно, дом имел выход к морю. Но «феррари»-то здесь.
И тогда зазвонил телефон. Звонок его был резок и беспокоен. Я тронул Антуана за локоть. Он посмотрел на меня и кивнул. Телефон продолжал трезвонить. На втором звонке Антуан вскочил и припустился к клумбе. Я обогнал его и лёг на дорожку у самого «феррари». Антуан подождал третьего звонка и перебежал ко мне. Теперь машина прикрывала нас. Антуан подполз к заднему колесу и достал нож.
— Пожалуй, не стоит, — сказал я, поднимаясь в рост, потому что из-за дальнего угла вынырнула машина, та самая, в которой и я сиживал: янтарный «пежо».
Поль сразу увидел нас и прибавил ходу. Между нами была только клумба. Антуан метнул развёрнутый нож в заднее колесо. Нож летел, кувыркаясь, стукнулся о бампер и упал на гравий. Я тоже не успел обогнуть клумбу, и Поль проскочил первым. Я отчётливо видел его окаменевший профиль, он даже не оглянулся.
За поворотом аллеи показались ворота, он уже успел проскочить их и повернул направо, значит, и Виллем его не задержит.
Я свистнул и тут же увидел нашу машину в проёме ворот. Виллем раскрыл дверцы, а мы уже подбегали. Янтарный «пежо» был в конце пустынной улицы. Но и мы уже тронулись.
— Он повернул на Брюгге, — бесстрастно заметил Антуан.
— А куда же ему ещё поворачивать? — засмеялся я. — В Остенде-то ещё рано. Самолёт уходит только в четырнадцать часов.
— Через три минуты я догоню его, — пообещал Виллем.
Притихшая Ирма забилась в угол кабины, видно, Виллем неплохо обработал её, пока мы бесполезно бегали по частной собственности. Якоб метался на сиденье, повизгивая от восторга.
На перекрёстке Виллем лихо развернулся, проскочив под носом пронырливого «фольксвагена», и мы опять увидели Поля. Встречные машины негусто шли к морю, но всё же шли, а на нашей полосе были только мы.
Вендюне кончилось. Кругом стлалась плоская равнина, изрезанная шрамами каналов, и дорога просматривалась до самого горизонта. До Брюгге километров двенадцать, и деваться ему было некуда. Он шёл метров на триста впереди, но Виллем без видимых усилий настигал его. Стрелка спидометра показывала сто миль. Встречные машины проносились мимо расплывчатыми видениями. Я развернул на коленях карту, приготовившись наблюдать за финалом.
До Поля оставалось не больше ста метров. Семьдесят, пятьдесят. Я уже видел его затылок и спину, подавшуюся к рулю. Эх, Поль, это тебе не прогулка в Льеж в замшевых перчатках за рулём.
Сейчас мы встретимся, Поль, и поговорим по душам. Ты забрал у меня синюю тетрадь, но тем и выдал себя. Впрочем, вру, я ещё раньше смекнул, что тут дело не чисто. Вот когда я первый раз на него подумал: когда он принялся расписывать во всех деталях побег своего кузена через стену цитадели. Но это было ещё мимолётно и вроде бы не о нём. Но когда он нежданно ворвался в дом Шульги и спросил про Николь — не дочь ли она Иванова? — тут уж прямо на него пришлись мои мысли. Он тут же обмолвился, что знает о том, куда поехала Николь, и снова приоткрылся для удара. Конечно, великолепным президентам вовсе не обязательно помнить имена всех чужих дочерей, но что дочь Ивана находится в родильном доме, об этом-то он прекрасно знал: столько разговоров было на эту тему.
Татьяна Ивановна была у него дома и весь вечер рассказывала о нашем провалившемся пикнике. Что же такое выдающееся могло случиться, чтобы мой великолепный президент, независимый демократ Поль Батист пригласил в свой дом безродную эмигрантку? Это же манифик! Но он думал лишь о том, как завладеть синей тетрадью, и совершал одну ошибку за другой, потому что другого выхода уже не оставалось. Даже про фотографию братьев забыл он спросить: не до того ему было в ту минуту, чтобы следы заметать.
Так что недаром я вызывал огонь на себя, ответные ходы следовали незамедлительно. Человек, который их делал, знал о каждом моем шаге — я всё время чувствовал это. Он был где-то рядом со мной, но я никак не мог его ухватить. Я хватал пустоту, идя по ложным следам, на которые он меня наводил. Но я не стал рабом своей схемы — и по ложным следам шёл не зря. Я шёл и анализировал каждый шаг. Из многоликой цепи безмолвных вопросов выделились два ведущих: где был предатель — в отряде или вне его? И каким был мотив? Ответ выводился путём аналитических построений. Едва услышав о Щёголе, чёрный монах принялся наводить меня на отряд… Послушай монаха и сделай наоборот. Когда же раскрылась ошибочность отцовской записки насчёт Жермен, я уяснил и другое: как же далеко от «кабанов» был предатель, коль даже отец не ведал о нём ничего. Отец не только ошибся, но и помог мне своей ошибкой. Так вывелся первый ответ: предатель был пришлым. Ложные следы отпадали один за другим, а истинный уводил все дальше от «кабанов», но вывод оказывался несомненным — предатель приближён к штабу, возможно, это офицер связи, который всё время перемещается и знает других. Оставалось отмести последний след — на человека с сигарой, сидевшего в «феррари». Версия Гастона также оказалась ложной, но не напрасной. Если вслед за отцом и старый Гастон, двенадцатый «кабан», как он себя называл, не знал истинного предателя и его мотива, то искать следует совсем в другом месте. Дальше от отряда, как можно дальше, в штабе полковника Виля, у генерала Пирра. И мотив преступления уже не может быть личным: брат за брата, обманутая любовь… После всего этого дорожка вывела меня прямо на экс-президента. Я не только восторгался его великолепной биографией, я её на ус наматывал. Но и ему можно воздать должное. Все, что он делал, было продумано самым тщательным образом. Он составил шикарную программу, чтобы ни на час не упускать меня из виду, и я сам же докладывал ему обо всём, что сделано или найдено. Он таскал меня по американским кладбищам, вёл под стены цитадели — смотри, сколько смертей вокруг. Он опубликовал в журнале фотографию «кабанов», на которой не хватало одного человека, и подложил её мне — ищи. И он знал, кого там не хватает. Он подсунул балладу о предательстве — видишь, предатель получил заслуженную кару. Он знал все про «кабанов», поэтому он с такой готовностью ухватился за нож, найденный в хижине, и стал наводить меня на Матье Ру — иди по следу. Он рассказал свою биографию — удивись!
Он продемонстрировал свои великолепные монограммы — восхитись! Не правда ли, адорабль? Даже вручение ордена и медали было своеобразным отвлекающим манёвром, который входил в его шикарную программу. Он выкликнул собственное имя у могильного камня, и голос его не дрогнул. Он узнал, что мы поедем искать Альфреда — и его человек караулил нас в Шервиле, чтобы сделать отметку на колесе. Он услышал, что мадам Констант предложила мне поехать с ней в архив генерала Пирра — и тут же выкрал папку с делом «кабанов». Ему нужно было это, чтобы проверить ещё раз имена, клички «кабанов» и навести меня на умершего Пьера Дамере. Он всё время отвлекал внимание, баламутил воду, но с Матье Ру и особенно с женщиной в чёрном он всё-таки промахнулся. Женщина в чёрном явно переиграла, хоть и не старалась играть. Она была слишком искренней, да и невозможно сыграть такую роль. Но всё-таки прошло свыше двадцати лет. Не могло столько ненависти храниться в её душе: вдова давно свыклась со своей трагедией. Но в том-то и дело, что она до сих пор не знала, кто убил её мужа. Она узнала об этом лишь накануне. И рассказал ей об этом Поль, сам или через подставное лицо, как он действовал всю жизнь. Недаром мой невысказанный вопрос так мучительно томил меня у родника, и ответ старого Гастона казался не очень-то убедительным. Не Мишель Ронсо, а Мишель Реклю рассказал женщине в чёрном о её муже. И не двадцать четыре года тому назад, а накануне. Вот почему зажглись ненавистью её глаза и заглохшая с годами боль вспыхнула с новой силой. Вот почему женщина в чёрном вела себя столь ослепленно: она сыграла не по задуманному сценарию. И ещё кое-что не предвидел Поль: что мы докопаемся до темно-синего «феррари» и засечём номер машины. На «феррари» ложные следы в первый раз пересеклись с истинными. И с Матье у него получилась осечка: Поль не мог знать, что Альфред Меланже встречался с Матье после войны и рассказал ему о предательстве. Во второй раз пересеклись следы. Я дал клятву на могиле отца, и Поль понял, что я не остановлюсь и пойду до конца. Мы нашли могилу Альфреда, Поль не выдержал и подослал чёрного монаха, а потом и сам явился за синей тетрадью. Но я был уже начеку. Я вызвал огонь на себя и ждал: кто же ко мне явится? Это было неизбежно. Чёрный монах провалился со своей миссией; но зато он узнал о синей тетради. И Щёголь должен был явиться за нею, он оказался тут как тут. Я был готов и к его появлению в облике великолепного президента. Его роскошная фамилия меня уже не волновала, потому что я давно вспомнил о милом друге, который из Дюруа превратился в дю Руа, чтобы стать познатнее. Я тут же раскрыл перед ним свои карты, чтобы побудить к более активным действиям. Он продолжал свою тактику: попробовал навести на несуществующего Мишеля, то бишь Буханку. Я выложил ему ещё больше, рассчитывая, что он не выдержит и кинется на меня с поднятым забралом — тогда бы мы схлестнулись в открытой схватке. Но он завладел синей тетрадью и стал удирать. Я безмятежно проводил его до машины, зная о том, что наши пути ещё пересекутся.
И вот мы несёмся следом, до «пежо» — двадцать метров. Как я распалился, когда ложно решил, что предатель был в двадцати метрах от меня. Не в двадцати метрах он был, а под боком — и ежечасно. Я жал его руку, чокался с ним, иудин поцелуй отпечатался на моей щеке. Он действовал уверенно и думал, что наверняка. Так оно и случилось бы, если б не мои друзья. Без них ничего не удалось бы раскрыть. Каждый внёс свою толику.
Но до поры до времени Поль мог не бояться и моих друзей. Прекрасную легенду составил он себе: ведь он мог выбирать из обеих биографий. Вот когда он стал предателем: в цитадели. Он попал туда за дело, но купил жизнь ценой предательства, и немцы устроили ему ложный побег через стену. Ещё там, у стены, когда я подумал о нём, мысль моя сама собой продолжилась: «А ведь таким путём немцы вполне могли заслать провокатора к партизанам». Но тогда я и помыслить не смел, что предатель стоит рядом.
Но мотив, мотив? Похоже, что и он проклёвывается. Знакомый такой, заигранный мотивчик: как прекрасно пахнут ананасы и как хорошо есть их вместе с тобой… Сколько таких затрёпанных мотивов болтается по свету…
Виллем сердито ругнулся. Впереди показался высокий фургон с белыми крестами. Поль обогнал автопопа и закрылся им как щитом. Но и поп теперь не убережёт. Виллем подошёл вплотную к фургону, попробовал выскочить на левую сторону и тут же вильнул обратно за спину попа: встречные машины вдруг пошли одна за другой, а для троих на этой дороге не было места. Стрелка спидометра лениво сползала к нулю.
Виллем засигналил, чтобы поп прижался к обочине, но тот и пальцем не пошевельнул.
— Год фердом! — в сердцах произнёс Антуан.
Я засмеялся:
— Грешно гневаться на бога, Антуан, ты же добрый христианин.
— Ты ошибаешься, — ответил Антуан, — я уже много лет не хожу в церковь. Попы всегда вставали мне поперёк дороги.
Наконец, на третьей попытке Виллем высмотрел просвет и, газанув как следует, обошёл фургон перед самым носом отчаянно засигналившей встречной машины. Поп в белой сутане собственной персоной посиживал за баранкой. Микрофон безмолвствовал. Зачем ты предал? Как прекрасно пахнут ананасы…
Снова перед нами свободная полоса, но Поль тем временем ушёл по меньшей мере на полкилометра.
Вот когда Виллем показал, на что способен его заморский «мерлин», приобретённый по дешёвке. Янтарный «пежо» притягивался к нам, словно на тросе. Мелькнула развилка, мост через канал. Справа показалась деревушка. Я автоматически отметил на карте: Меткерк. До Брюгге оставалось шесть километров, островерхие шпили его соборов и ратуш уже проклюнулись над дорогой.
— Хочешь, прижму его и сброшу в кювет, — невозмутимо предложил Виллем. — Я видел, как это делается.
— Надо взять его живьём, — возразил я. — У меня к нему есть ещё вопросы.
— Хорошая у вас машина, — вздохнул Антуан.
— Вот он! Он обернулся! — восторженно вскрикивал Якоб.
— Вы сошли с ума, — безгласно причитала Ирма.
Наверно, вот так же двадцать лет назад настигал его Альфред Меланже под Шарлеруа, но тогда Поль ушёл. Я вспомнил об этом и посмотрел на стрелку бензиномера: горючего у нас хватало.
Видя, что по прямой ему не уйти, Поль решил попытать последний шанс и неожиданно свернул направо к деревушке. Его машина оказалась на развороте более резвой, он выиграл на этом десять метров.
— Он хочет спрятаться в префектуру, — с коротким смешком предположил Антуан.
— Увы, теперь его не спасёт и сам король, — отозвался я.
Показался канал и мост. Что было на мосту? Об этом будет свидетельствовать Виктор Маслов. За каналом вразброс стояли дома под красными крышами, высокие белые сараи, исчерченные чёрными квадратами деревянных стропил. Из-за ближнего сарая вынырнула девочка на велосипеде, она ехала довольно резво — и прямо к шоссе.
Поль уже проскочил через мост. Дорога за мостом некруто поворачивала. Мы были метрах в тридцати. От деревни к мосту катился трактор на резиновом ходу. А девочка ещё не замечала за поворотом светлой машины и косо выехала на дорогу. Он должен был затормозить, даже Виллем изготовился и сбросил газ, чтобы не натолкнуться на него.
А он пошёл прямо, даже не вильнул. Девочка слишком поздно заметила накатывающуюся на неё машину, но у неё была хорошая реакция, она чудом вывернулась от радиатора и нажала на педаль, но все равно было поздно. Он задел крылом по заднему колесу. Я машинально дёрнулся к рулю.
Но Виллем и без того нажал на все педали.
Велосипед занесло и выбросило с дороги. Хорошо ещё, что там не было кювета, только каменистая кромка. Девочка отлетела на несколько метров, пытаясь сохранить равновесие, но перекошенное заднее колесо вихляло и цеплялось. Она не удержалась и рухнула.
Виллем затормозил. От дальнего дома выбежал на дорогу мужчина в зелёной рубахе. Он кричал и махал руками в надежде остановить «пежо», но Поль лишь дал деру. Крестьянин спрыгнул с трактора на землю.
Я подбежал к девочке первым. Она была жива и даже пыталась приподняться на локтях, потому что велосипед лежал на ней, причиняя боль. Я отбросил велосипед в сторону. Нога у девочки была перебита, белая кость разорвала кожу чуть выше ступни, трава потемнела от крови.
— Не медли. Я останусь здесь, чтобы помочь ей.
— Нет, Антуан, не могу, — твёрдо сказал я. — Мы останемся.
Крестьянин склонился над девочкой, говоря ей что-то ласковое. Подоспел и тот мужчина в зелёной нейлоновой рубахе, который первым бросился на дорогу. Они быстро говорили. Девочка глухо стонала, в лице — ни кровинки. Я встал на колени, развернул чистый платок и подсунул под ногу, стараясь не задеть её. Девочка пыталась помочь мне и вскрикнула. Мужчина в зелёной рубахе с жаром убеждал в чём-то Антуана.
— Виктор, вперёд! — Антуан с силой тряхнул меня. — Они ей помогут, тут есть доктор. А этот человек поедет с нами, чтобы догнать Поля. Вперёд!
Виллем тоже не выдержал и дал сигнал. Я поднялся и пошёл к машине, оглядываясь на девочку. Пересиливая боль, она улыбнулась мне вслед.
Я подошёл к багажнику, вытащил чемодан и лишь тогда двинулся к Виллему. Мужчина в зелёной рубахе уже сидел на заднем сиденье и с нетерпением торопил. Виллем схватил меня за руку, с силой втянул в кабину.
Мы тронулись. Поля не было видно за домами, но далеко удрать он не мог: прошло не больше минуты, как мы остановились. И сворачивать ему было некуда, разве что обратно в Вендюне, а это не имело видимого смысла.
Мы проскочили деревню и увидели его впереди. Я положил чемодан на колени, расстегнул замки.
— Зачем тебе понадобился чемодан? — удивился Антуан.
— Не могу же я явиться в мэрию в рваных штанах, — ответил я. — К тому же моё инкогнито давно кончилось, — и начал переодеваться, стараясь не мешать Виллему.
— Ту сто четыре! — воскликнул Якоб, увидев мой китель с нашивками.
Я застегнул пуговицы, поправил медаль.
— Откуда у вас эта медаль? — спросил Виллем, скосив глаза.
— Летайте Аэрофлотом, — ответил я, — и вы получите всё, что пожелаете.
Виллем наддал газу. Перед нами была свободная дорога, и стрелка спидометра показывала сто двадцать.
— Хорошо, что мы не дали ему сесть на «феррари», — заметил Антуан.
— «Феррари» — сильная машина, — согласился Виллем. — Но и тогда бы он не ушёл от нас.
Мы нагнали его у самого въезда в Брюгге, но всё-таки он шёл ещё метров на пятьдесят впереди, и я подумал, что он начнёт крутить, чтобы запутать нас, и заранее попытался разобраться в плане города. Но он продолжал мчаться по автостраде, вонзавшейся в скопление старинных улочек. Проехали над каналом, под древними воротами, через второй канал. Дома все теснее сдавливали дорогу, пока она не сжалась до ширины средневековой улицы, но асфальт ещё оставался на ней.
Мы шли уже впритык за ним. Виллем пытался объехать его и встать поперёк, но на узкой средневековой тропе никак не удавалось это. И тут он начал вилять.
Я уже разглядел по плану: улица Каренмаркт была на противоположной стороне города. Значит, он не туда спешит. Он боится выехать на площадь, где мы можем обойти его и стать поперёк.
Он крутился по улочкам, но Виллем шёл за ним как привязанный, хотя длинному «мерлину» непросто было изворачиваться. То и дело навстречу попадались старомодные, об одну лошадь, пролётки с туристами. Виллем гудками прижимал их к стенам, ни на шаг не отпуская «пежо». Мелькнул канал с плывущим катером. Старухи сидели у домов, в двориках сушилось бельё. Ветерок принёс тягучий запах замоченной в чанах кожи — Брюгге представлялся нам не музеями и соборами, а бытовой изнанкой.
Но рано или поздно Поль должен остановиться. Я протянул Якобу визитную карточку мадам Констант, на обороте которой был написан её «морской» телефон.
— Как только станем, позвонишь по этому телефону, расскажешь, где нас искать…
— Похоже, что он стремится к «Храброму Тилю», — предположил Антуан, переговорив с нашим новым попутчиком.
И впрямь. Он резко затормозил у серого с замшелым фасадом здания с двумя висячими фонарями над подъездом. Мне было ближе к тротуару, я выпрыгнул, но он успел обежать радиатор и нырнул в дверь на секунду раньше меня.
Я юркнул следом. Холл прорублен по-современному, но все равно в нём было тесновато и не густо светом.
— Меня преследуют! — закричал он кому-то, бросаясь в сторону от двери. — У них фальшивые паспорта.
Дорогу мне преградил полицейский в чёрной шинели. Рядом с ним я разглядел и второго, похоже, повыше чином. Антуан уже дышал за моей спиной.
— Ваши документы! — потребовал младший чин, властно потянувшись ко мне рукой. — Кто вы такой?
— Гражданин Советского Союза, — и вручил ему свой паспорт.
— Это мой гость в Бельгии, советский лётчик Виктор Маслов, — быстро проговорил Антуан.
— Почему вы проникли в отель «Палас» по чужим паспортам? — резко спросил второй, они и об этом знали уже.
А я не сводил глаз с Щёголя, выискивая мгновенье для прыжка. Вцепившись руками в портфель, тот стоял у стены, почти в углу: с одной стороны от него — барьер конторки, с другой его прижимала мощная фигура Тиля, отлитая в рост из чугуна. Щёголь тоже неотрывно смотрел на меня: губы нервно подёргивались, в глазах таилась усмешка: что? напоролся? сейчас я погляжу, как тебя поволокут в кутузку. И лишь в глубине под этой усмешкой можно было разгадать страх, да ещё какой! С этого страха и начиналось его раздвоение: вроде бы это ещё и прежний Поль Батист — осанка, свежий костюм, платочек из кармашка, перстни на тонких пальцах. И вместе с тем это уже и не он. Что-то размякшее и тёмное выползало из него — передо мной стоял уже разоблачённый Поль Делагранж, бывший независимый демократ, экс-президент и все такое.
— Доброе утро, Щёголь, — сказал я с полупоклоном. — Кажется, мы так и не поздоровались нынче. Это не манифик.
— Задержите этих людей, господин инспектор, — ответил он, принимая жалкую позу экс-президента. — У них фальшивые документы, они напали на меня в Вендюне…
— Итак, я хотел бы услышать от вас, — снова спросил инспектор, обращаясь на сей раз к Антуану, — с какой целью вы проникли в «Палас» по чужим документам?
— Пусть этот франт сначала ответит, почему он задавил девочку, господин инспектор! — выкрикнул мужчина в зелёной рубахе, непредусмотренно вламываясь в разработанный сценарий.
— Какую девочку? — удивлённо спросил инспектор и повернулся к кричавшему. Первый полицейский, который стоял на моём пути и подозрительно перелистывал паспорт, тоже глянул в ту сторону.
— Задавил ребёнка и удрал, перевёрнутый горшок…
Я мягко пригнулся и поднырнул под руки полицейскому. Ещё полпрыжка — и я перед Щёголем. Он притиснулся к стене, уронил портфель и закрыл лицо руками, заслоняясь от удара. Инспектор с предостерегающим жестом кинулся за мной, но это было без пользы. Я уже придавил Щёголя коленом и с треском вывернул наружу его карманы. На каменный пол со звоном просыпалась мелочь, ключи, перочинный нож. Упал и раскрылся от удара плоский голубой футлярчик, длинное ожерелье змеисто выползло на пол. Портфель валялся у ног железного Тиля.
Инспектор схватил меня за руку, но я уже распрямился. Антуан подскочил и застыл рядом, готовый рвануться на помощь.
— Это все, господин инспектор, — сказал я. — Так он поступил когда-то с моим отцом. Теперь мы квиты.
Инспектор с недоумением отпустил меня. Я чиркнул зажигалкой и пустил струю дыма в размякшее лицо Щёголя. Вот когда в его глазах возник ничем не прикрытый страх: лишь он да Антуан могли уяснить значение этой сцены. И понял Щёголь — если я знаю то, о чём никто не ведает, то знаю и всё остальное. Он даже нагнуться не смел, чтобы подобрать свои сокровища.
— Что вы имеете к мсье де Ла Гранжу? — спросил инспектор, оглядывая мой китель и медаль, по-моему, он только сейчас разглядел её.
— К Мишелю Реклю, хотите вы сказать, господин инспектор, — уточнил я. — Это человек не тот, за кого выдаёт себя.
— Это гнусная клевета, господин инспектор. Они самозванцы… — Щёголь суетно отделился от стены и сделал шаг, предусмотрительно укрывшись за инспектора. Он уже несколько овладел собой, во всяком случае понял, что бить его больше не будут, и надо изворачиваться.
— Паспорт настоящий, — сказал полицейский, захлопывая мой паспорт и передавая его шефу. — Виза действительна по двадцатое августа.
ГЛАВА 27
— Что здесь происходит? — раздался голос от дверей.
В холле столпился разнообазный люд, я не вмиг разглядел, кто там вошёл, хотя нетрудно было догадаться по голосу. Мужчина в зелёной рубахе стоял на первом плане, за ним, скрестив на груди руки и посасывая сигару, сурово возвышался Виллем, рядом — притихшая Ирма. Они обернулись на голос. Администратор за конторкой приподнялся, инспектор тоже посмотрел в сторону дверей, не выпуская, однако, и меня из поля зрения. Все присутствующие так или иначе принимали участие в нашей сцене, лишь Храбрый Тиль безучастно «наблюдал» из угла за происходящим.
Уверенно раздвигая толпу, к нам пробирался ван Сервас. Он попробовал было сдвинуть с места Виллема, но тот тихонько рыкнул, и ван Сервас пустился под крылышко к комиссару.
А вот и фон-барон показался, я не сразу узрел его. Сутану-то сбросил чёрный монах, в светское нарядился. Чёрный костюм с иголочки, белая рубашечка, замшевые перчатки — хоть сейчас под венец.
— Кого я вижу? — радостно воскликнул я по-русски. — Вы не опоздали, сударь, сейчас мы завершим наши дела. Привет от Терезы.
Он скользнул по мне взглядом, который должен был изображать презрение, и с ходу перешёл в наступление.
— Это самозванцы, господин инспектор, вы должны немедленно задержать их, я предъявляю им обвинение в использовании чужих документов, в похищении мадемуазель Терезы Ронсо и в нападении на мою виллу в Вендюне, куда они проникли с целью грабежа.
— С целью установить справедливость, — спокойно поправил Антуан, смотря на меня и показывая глазами на паспорт в руках инспектора.
— Но-но, — пробасил Виллем, легонько тронув фон-барона, когда тот проходил мимо. — Полегче на поворотах, вонючая тряпка!
Фон-барон испуганно шарахнулся в сторону, не успев завершить обличительную тираду. Комиссар обернулся к Виллему.
— Кто вы такой? — спросил он по-немецки.
— Участник голландского Сопротивления, который пришёл за справедливостью, — отвечал Виллем. — Но я не думал, что встречу здесь мальчишку.
— Прошу соблюдать порядок, — призвал инспектор в надежде, что не все тут поняли Виллема.
— Они нанесли мне телесные повреждения, господин полицейский! — выкрикнул ван Сервас.
— Кто-то из них, господин инспектор, час назад звонил сюда из «Паласа» и назвался именем метра Ассо, — администратор, кипя благородным негодованием, поднялся из-за конторки. — Это могут подтвердить на телефонной станции, господин инспектор.
— Они обманули доверие Армии Зет, — включился фон-барон недобитый. — Антуан Форетье — известный браконьер, а этот русский самозванец завтра улетает в Москву, но перед этим он решил поживиться на моей вилле…
— Боже, как я обманулся, — всхлипнул за спиной инспектора воспрянувший Щёголь, прикладывая к лицу платочек. — Мы аплодировали ему, поднимали тосты в честь этого самозванца! Что скажут наши ветераны, когда узнают обо всём этом? Но я не жажду крови, господин инспектор…
— Успокойтесь, мой друг, — прервал его чёрный монах. — Принципы элементарной справедливости… Разрешите я присяду, господин инспектор, в моём возрасте… Я никогда не откажусь от своих обвинений…
Так они напевали заранее отрепетированным квартетом: рояль, гитара, контрабас, ударник. И тон задавал фон-барон, прославленный филателист. В этом квартете он был ударником, сильным мира сего, но и он уже выдыхался. Ван Сервас с готовностью подвинул ему кресло.
Инспектор бдительно наблюдал за нами. Антуан сделал шаг вперёд.
— А теперь буду говорить я, — дерзостно начал он. — Мы не нуждаемся в прощении. Я официально заявляю вам, господин инспектор. Перед вами опасный преступник, свыше двадцати лет скрывавшийся под чужим именем. Мишель Реклю в сорок четвёртом году предал девять человек и в сорок седьмом убил Альфреда Меланже.
— Побойтесь бога, Форетье! Что вы говорите? — Чёрный монах красиво воздел руки.
— Я обвиняю этого человека в лжесвидетельстве, господин инспектор. — Щёголь с негодующим лицом отступил в сторону и оказался за черным монахом, прямо меж его воздетых рук. — Это беспардонная клевета. Всем известно, что Мишель Реклю погиб при освобождении Льежа, он похоронен как герой, его имя выбито на мемориальной доске у церкви Святого Мартина…
— Мишель Реклю никогда не погибал геройской смертью, — без колебаний парировал Антуан. — В бою за освобождение Льежа погиб Поль Делагранж. Ты был на собственных похоронах, Мишель. Тебе надо было замести следы преступления, и ты присвоил себе имя погибшего кузена. А за партизанскую могилу возле Святого Мартина можешь не волноваться, Щёголь. Мы уберём с плиты твоё имя, а заодно изберём нового президента. Армия Зет от этого не пострадает.
— Что я слышу? — вздрагивающим голосом продолжал чёрный монах, теперь он и очи устремил вослед рукам. — И земля держит этого клеветника! Будьте добры, господин инспектор, освободите меня от общества этих людей. Или я нахожусь не в своём доме?
Инспектор повернулся к Антуану:
— Весьма сожалею, но криминальная полиция не занимается такими делами, ничем не могу помочь вам, мсье, и прошу вас обоих проследовать за мной для составления протокола. — Инспектор был молод, едва за тридцать, и уж, конечно, не Мегрэ. Он тоже, как и я, не попал на войну и пороха не нюхал, но я-то хоть теперь узнал о прошлом, а он и вовсе знать не желал. У него ясные глаза с внимательным умным прищуром, он недавно назначен на этот пост, ему ещё ползти и ползти по-пластунски вверх по лестнице, но он уже знает, как это делается — и он высоко выползет. А я карманы вывернул…
Инспектор поманил меня. Я не двинулся с места.
— Но прежде, чем мы уйдём, — продолжал он, глядя на меня доброжелательно и пытливо, — я хотел бы, чтобы вы объяснили мессиру Мариенвальду: с какой целью вы проникли под чужим паспортом в его отель и совершили нападение на его виллу? Похоже, вы не знаете наших законов…
Так вот о чём хотел сказать мне Антуан, показывая глазами на мой паспорт. Наверное, обвинение в самом деле было нешуточным, и меня теперь можно упрятать в кутузку. Покато там разъяснится…
Я сделал большие глаза.
— Какой паспорт, господин комиссар? — удивился я на немецком языке. — Первый раз об этом слышу. Я вообще не знал, что в ваших гостиницах необходимы паспорта. И мой советский паспорт всё время был при мне. В «Паласе» у меня никто паспорта не спрашивал.
— Я подал сразу два паспорта, — тут же подхватил Антуан. — Виктор Маслов — мой гость в Бельгии, он даже не подходил к администратору, я сам заполнил обе анкеты, подал оба паспорта. За все отвечаю я сам. И мои паспорта не фальшивые… Мне всё равно, господин инспектор, — продолжал Антуан, — что и как вы напишете в протоколе. Мы искали преступника, и у меня не было другого выхода. Я сделал вам своё заявление. Мишель Реклю — опасный преступник и собирается бежать. Могу добавить лишь, что Роберт Мариенвальд — его соучастник.
— Прошу занести это в протокол, господин инспектор. Я обвиняю Антуана Форетье в клевете, — без всякого энтузиазма заявил фон-барон. — Вам дорого обойдутся эти слова, Форетье!
— В тридцать семь миллионов двести пятьдесят тысяч, — любезно напомнил я по-русски.
— Я сказал свои слова при свидетелях, — твёрдо продолжал Антуан, — и они всегда подтвердят это. Помните об этом, господин инспектор.
— Вы, кажется, собираетесь учить меня… — Инспектор начал сердиться.
— Год фердом! — снова закричал мужчина в зелёной рубахе, до этого внимательно слушавший нашу перепалку. — Есть ли справедливость в этой стране? Пусть сначала этот предатель ответит за то, что задавил ребёнка и даже не остановился.
Фон-барон недоуменно вскинул глаза на своего дружка. Тот развёл руками. Инспектор недовольно поморщился.
— Это правда, мсье де Ла Гранж? — спросил он.
— Мишель Реклю, господин инспектор, — во второй раз любезно поправил я, но он и бровью не повёл.
— Это было не совсем так, господин инспектор. Девочка ехала на велосипеде… — с последними остатками своего достоинства пытался ответить эксвеликолепный экс-президент, однако не выдержал и тут же сорвался: — Она сама виновата, сама на меня наскочила, я могу подтвердить это под присягой. Но тем не менее я готов оплатить её лечение…
— Что с девочкой? — спросил инспектор у мужчины в рубахе.
— Бедняжка, — ответил тот, сложив руки на груди. — Возможно, ей нужен уже не врач, а священник.
— Где это случилось?
— В Меткерке, господин инспектор. Все произошло на наших глазах, пять человек из нашей деревни видели это. Он мчался на огромной скорости и даже не дал сигнала.
— Я задел её задним крылом, значит, она сама виновата, — продолжал Щёголь.
— Как бы не так, — отозвался мужчина в рубахе. — На переднем крыле тоже осталась отметка. Вы можете сами убедиться в этом, господин инспектор, вот она, его машина, у подъезда стоит.
Ван Сервас послушливо кинулся к дверям, но инспектор раздражённо остановил его и что-то сказал полицейскому. Тот вышел.
Инспектор задумался, пытливо поглядывая на меня.
— Мне очень жаль, мсье, но я должен составить протокол об этом происшествии.
— Мы не располагаем временем, — бросил фон-барон, тяжело поднимаясь со стула. — Через час мы должны быть в Остенде.
— Ваш самолёт отходит в четырнадцать часов, вы не опоздаете, мессир Мариенвальд, — учтиво, но твёрдо ответил инспектор. — Впрочем, вас я не задерживаю. Для составления протокола и выяснения обстоятельств мне понадобится лишь мсье де Ла Гранж.
— Мишель Реклю, — поправил я в третий раз.
На этот раз он, кажется, услышал и поглядел на меня.
— Где ваша грамота на медаль? — спросил он.
— Силь ву пле, — ответил я, доставая из папки обе грамоты. — Это моя. А вот указ на орден, подписан сорок четвёртым годом.
— Можете взглянуть и на это, — Антуан вытащил из пиджака газету и подал её инспектору.
— Мы аннулируем эти грамоты, — объявил чёрный монах, опять опускаясь в кресло. — Я немедленно звоню в Брюссель к господину депутату Лепле, чтобы там сегодня же приняли решение об отмене указа и объявили протест советскому посольству о преступном поведении этого русского фанатика.
— К счастью, вы ещё не наш король, мессир, — весело отозвался Антуан. — Пока не в вашей власти отменять королевские указы!
Инспектор отдал мне грамоты и развернул газету.
— Перед вами тот самый русский, господин инспектор, который уже нашёл своего предателя, — галантно представился я, указывая на заголовок.
Он читал и, казалось, пропустил мои слова мимо ушей. Но я-то видел насквозь весь его незатейливый ход мыслей: он уже прикидывал, не стоит ли ему сыграть на наших картах. Этот перелом начался в нём после того, как Антуан объявил мессира соучастником и напомнил о свидетелях. Инспектор прикрикнул на Антуана, а сам задумался. И теперь продолжал он взвешивать. Что выгоднее ему: задержать советского туриста с вздорными обвинениями в неких, требующих ещё доказательства незаконных действиях и попытаться поднять вокруг этого газетную шумиху или же самому подключиться к разоблачению военного преступника? А вдруг мессир выйдет сухим из воды? Тогда и инспектору несдобровать: по головке не погладят, в глухую дыру сошлют. Что и говорить, сложная умственная деятельность была у инспектора!
— Как, вы сказали, настоящее имя этого мсье? Мишель Реклю? — спрашивал он, все ещё колеблясь и прикидывая. — Почему этого имени нет в газете?
— Материал-то не я давал, — ответил я по-немецки. — Мои доказательства здесь, готов представить их в соответствующем месте, — я похлопал ладонью по заветной папке, но что там у меня осталось? Все это время я не выпускал из поля зрения портфель — там мои доказательства. Сначала портфель лежал у ног Храброго Тиля, но после ван Сервас поднял его и передал Щёголю. При этом они переглянулись, и старший управляющий указал глазами в потолок. Однако Щёголь помотал головой и портфеля не отдал. Эх, не ухватил я его сразу, в карманы, дурачок, полез. А теперь они начеку, и нет у меня в тесном холле оперативного простора. И ещё кое-что высматривал я: белобрысого Якоба. Но того тоже не было видно.
— Вы, разумеется, будете отрицать это? — спросил инспектор у Щёголя.
Чёрный монах гневно и решительно поднялся со стула:
— Господин инспектор, считаю своим долгом предупредить вас, что вы превышаете свои полномочия, задавая подобные вопросы. Я немедленно связываюсь со своим поверенным и вызываю адвоката мсье де Ла Гранжа.
— Кстати, я вас ни о чём не спрашивал, мессир, — ответил инспектор не без некоторого ехидства. — А мсье прошу проследовать с нами…
— У меня нет времени, я должен ехать по делам, — объявил Щёголь, становясь в позу. Лицо его постепенно менялось, делаясь то рассеянным и трусливым, то наглым.
— Вы задавили ребёнка, мсье, придётся пройти в участок, — твёрдо сказал инспектор. — Прошу за мной. Лишним разойтись, — он сделал знак полицейскому, который снова появился в холле, и первым двинулся сквозь толпу.
— Не волнуйтесь, мой друг, — по-светски проникновенно сказал фон-барон. — Я сейчас же вызову адвоката. Метр Ассо будет здесь через четверть часа…
Щёголь хотел сказать ему что-то, но понуро промолчал и тронулся за полицейским инспектором.
— Адью, фон-барон, — сказал я по-нашему. — Могу передать прощальную записку Терезе. Но передач она вам носить не будет.
И пошёл прочь. Мы с Антуаном, не сговариваясь, стали по обе стороны от Щёголя. Люди расступились, пропуская нас к выходу. Проходя мимо Виллема, я успел шепнуть:
— Где Якоб? Надо найти его.
— Я буду в машине, — ответил Виллем. — До моей границы двенадцать километров…
Я в последний раз бросил взгляд на Храброго Тиля, высившегося в углу. Тиль стоял в той же непоколебимой позе, лицо его навек окаменело, но мне показалось, будто он горько усмехнулся мне вслед.
На улице Щёголь поглядел на свою машину, возле неё уже стоял третий полицейский.
— Ну-ну, шагай вперёд, немецкая подмётка, — шепнул Антуан с выражением.
Мы двинулись по улице. Первый полицейский протиснулся между мной и Щёголем. Я отстал и пошёл рядом с мужчиной в рубахе. Третий полицейский останавливал толпу, которая пыталась вылиться за нами из холла гостиницы.
— Где Виллем? — испуганно спросила Ирма, поравнявшись с нами.
Я оглянулся: «мерлина» у подъезда не было. Старинный фонарь болтался над входом, и Якоб бежал по улице.
— Теперь ты довольна, Ирма? — спросил я. — По-твоему вышло: попали в полицию.
— Но мы же свидетели, — бесстрашно сказала Ирма. — Я сама дам показания, как он наехал на бедную девочку.
Улочка кончилась, выведя нас к каналу, и мы свернули на набережную. Запыхавшийся Якоб догнал нашу группу. Он был неглупый мальчик и не кричал.
— Я дозвонился ей, — шепнул он. — Она уже выехала…
— Спасибо, Якоб, — ответил я и посмотрел на горбатый мост, открывшийся впереди.
Что было на мосту? Свидетельствует Виктор Маслов, сын Бориса. 12 часов ночи июля месяца 20 дня 1944 года. Мост через Амбле. «Кабаны» выходят на мост, чтобы последний раз обговорить детали и занять назначенные места. Над мостом тишина. И тогда взлетела ракета, ослепив партизан. Забили автоматы. Из-за поворота тут же выскочили мотоциклисты с пулемётами, за ними грузовой фургон. Но политических заключённых не было в том фургоне. Там сидели немецкие солдаты, а с ними и Дамере, он же Щёголь. Они стали стрелять прямо из машины. И Дамере стрелял. «Кабаны» отвечали разрозненно, успели бросить несколько гранат, но ракеты продолжали освещать их, и деваться им было некуда. «Прыгать и уходить!» — приказал Альфред Меланже. Немногим удалось спрыгнуть и спрятаться в спасительную темноту кустарника. У отца был ручной пулемёт, поэтому он прыгнул неудачно и сломал ногу. Он залёг в кустах и открыл огонь. Но силы были слишком неравны. Скоро сопротивление кончилось. Щёголь спустился вниз, чтобы опознать трупы. Тут и увидел его Альфред Меланже, укрывшийся в кустах. А немцы продолжали шарить по берегу, чтобы убедиться в том, что они убили всех. Щёголь нашёл отца и вывернул ему карманы. До моста было далеко, он не осмелился тащить мёртвого и оставил его в лесу. Ему хватило той записки, что он нашёл в отцовском кармане. Немцы собрали раненых, и Щёголь уехал с ними в той же машине.
Так было на мосту, и невесело мне сделалось оттого, что я узнал об этом. Как и кому доказать то, что было на мосту? Каков мотив? Ещё не всё было ясно с мотивом — мне бы только в портфель заглянуть. Куда у него билет? А теперь буду я рассказывать свою историю и тыкать пальцем в предателя. Ну, составят на него протокол, заплатит он пятьсот или сколько там франков за разбитый велосипед, отвалит несколько тысяч на лечение — и будет восстановлена справедливость, как её понимает уважаемый господин инспектор, который не Мегрэ. И даже если он хоть на полпроцента поверит в мою историю, все равно пойдёт волокита. Если и задержат Щёголя, он тут же выйдет под залог и смотается, у него миллионы, и есть куда сматываться. Он снова переменит имя, перекрасится, перелицуется — ещё на двадцать лет, — а там и срок давности выйдет, и станет он снова почётным пенсионером, попечителем, президентом какого-либо нового общества и, чего доброго, за мемуары примется.
Дудки! Не затем я так мучительно шёл по следу и собирал ускользающие камни.
Зашумел мотор. По каналу неспешно проплыл катер, лохматя застойную воду. Островерхие дома с черепичными крышами тесно жались один к другому. Бабуся из Фастова сидела в нижнем окошке, греясь на утреннем солнышке. Бабусе было хорошо, она нашла все, что искала. Она скользнула взглядом по нашей группе и не узнала меня. Что я бабусе?
За горбатым мостом поднимались кроны деревьев, игольчатый шпиль колокольни.
Прошли мимо лестницы. Стёршиеся ступени уходили под воду, тень от низкого парапета ложилась на поверхность канала. Парапет за лестницей стал ещё ниже. Я шагал, и глаза мои притягивались к воде.
Виллем медленно выехал из улочки, подходящей к мосту, и остановился возле углового дома. Он опустил стекло и сделал знак рукой, указав на заднее сиденье. А что? До голландской границы в самом деле двенадцать километров. Виллем сумеет там проскочить, коль обещал. Раз-два, и мы в Амстердаме с Мишелем Реклю в багажнике. Завтра в это же время в Амстердаме приземлится мой самолёт. Три-четыре-пять, и мы в Москве с Мишелем. Громкий показательный процесс над военным преступником, бельгийская нота протеста, шум-гам-тарарам.
Я усмехнулся, тоже мне деятель из Шин-бета, подумал я невесело про самого себя, да и Щёголь опять же не Эйхман. Подумаешь, мелкий предатель, перелезший через стену и выдавший всего-навсего девять хороших ребят! Да Бельгия и ухом не поведёт из-за такой пустяковины. Самому придётся…
Антуан перехватил моё переглядыванье с Виллемом и незаметно покачал головой: отставить, Виктор, наша игра не того стоит.
А мы почти дошли до моста. Что же всё-таки стоит? Ради чего стоит рисковать головой? Ведь отец сложил голову, не колеблясь, когда на его пути встретился его мост. А где мой мост? Пройду я мирно по мосту и сверну восвояси в участок.
Щёголь шагал, то и дело оглядываясь на меня и крепко прижимая портфель к себе. Он тоже увидел серый «мерлин» — надолго он его запомнит, — догнал инспектора и что-то сказал ему. Полицейский инспектор сделал успокаивающий жест. Щёголь отстал. Я тихонько присвистнул и перебежал вперёд. Теперь Щёголь был между мной и Антуаном, полицейский вышагивал сбоку.
С той стороны моста показалась извозчичья пролётка с высоко поднятым черным верхом. Там сидели две парочки, глазея на умиротворённый, особо оберегаемый государством средневековый пейзаж. Вороной мерин натужно тянул туристов на взгорок перед мостом. Извозчик в чёрном цилиндре изваянно сидел на облучке. Из-под моста, взбивая струю, выплывал катер.
Часы на дальней колокольне мелодично начали отбивать удары. Завтра в это время я буду над облаками, а суд мой ещё не исполнился.
Набережная пошла на подъем, смыкаясь с мостом. Пролётка добралась до вершины горба и покатилась вниз. Инспектор повернул на мост. Послышался шум мотора. Из-за угла, где стоял Виллем, медленно выполз фургон с белыми крестами. Завидев туристов и наше шествие, автопоп тут же включил свою технику.
— Зачем предал ты, Иуда окаянный, господа нашего… — во всю гулкую мощь разнеслось над омертвевшим каналом. Мерин на горбине моста взвился на дыбы, Виллем поддал его длинным сигналом и распахнул дверцу. Полицейский с недоумением смотрел то на автопопа, то на вздыбившуюся лошадь. Женщины в пролётке завизжали. Инспектор кинулся к ним на помощь.
Антуан обернулся. Я присел на колени, прихватил Щёголя за левую ляжку и несильно перекинул его через парапет. Он болезненно вскрикнул и, выронив портфель, полетел в канал.
Напуганный автопоп выключил магнитофон, и проповедь оборвалась на полуслове. Инспектор схватил лошадь под уздцы. Часы на далёком соборе продолжали отбивать удары. Колокольный звон ликующе плыл над каналом.
— Держи его! — заорал Антуан, срывая с себя пиджак.
Полицейский добежал до парапета. А там только тихий всплеск раздался. Он болтался в канале и пускал пузыри, цепляясь за осклизлые камни. Я сделал ему ручкой: аривидерчи — и расстегнул портфель. Синяя тетрадь перекочевала в мою папку, остальное я оставил на месте, мигом все разглядев.
Катер, вынырнувший из-под моста, развернулся к парапету. Моторист с озабоченным лицом крутил штурвал. Инспектор на мосту никак не мог управиться с лошадью.
— Ловите его, господин инспектор! — кричал Антуан, продолжая усиленно срывать пиджак. — Он хотел скрыться и прыгнул в канал!
— Что случилось? — набежала на меня Ирма.
Часы на колокольне ударили в последний, одиннадцатый раз.
— Кто его знает? — ответил я, доставая сигарету. — Я в этот исторический момент проповедь слушал. Не ныряй за ним, Антуан, сам выплывет. Эти современные предатели хорошо плавают.
— Конечно, он сам прыгнул, — заявил подошедший Виллем. — Он хотел удрать. Я видел это собственными глазами и готов подтвердить под присягой.
Я тронул полицейского за плечо и всучил ему портфель:
— Тут важные документы, я их спас.
Инспектор оставил лошадь и свесился через парапет моста. Все так же внезапно улеглось, как и случилось. Лишь Щёголь продолжал барахтаться и вскрикивать. Катер подошёл к нему почти вплотную. Мужчина в белой шляпе протянул Щёголю руку, но тот, похоже, перестал соображать и ничего не видел.
Я посмотрел на инспектора. Тот глянул на меня. Я ему улыбнулся. Он поднял палец и погрозил.
— Мсье, — сказал он, — вы напрасно стараетесь играть в Тиля Уленшпигеля.
— Мерси, мсье, — ответил я. — Но ведь и вы не Мегрэ.
— Ты меня уморишь, Виктор. — Это засмеялся Антуан, — но всё-таки я верю в бельгийских полицейских. Может, когда-нибудь из нашего господина инспектора всё-таки получится хотя бы пол-Мегрэ.
— Я отправлю вас в кутузку, — пригрозил инспектор вовсе не грозно.
А мужчина в белой шляпе продолжал тянуться с катера и никак не мог ухватить скользкого Щёголя. Наконец он поймал его за шиворот, но выловил лишь пиджак, который сполз с экс-президента, как шкура со змеи. Мужчина с досадой отшвырнул пиджак в канал и продолжал шарить по воде. На помощь ему подоспел моторист. Вдвоём они таки умудрились схватить Щёголя и втащили его. Он немного нахлебался, глаза вытаращены, но ничего не видят.
Пиджак некоторое время плыл по воде, потом ушёл на глубину.
Я услышал нетерпеливые гудки за спиной и оторвался от парапета. За фургоном с белыми крестами, пытаясь объехать его, стоял вишнёвый «фольксваген», и за рулём сидела женщина.
Я галантно распахнул дверцу:
— Мадам Констант, вас-то мне и надо. Ищу вас по всем морским телефонам. Но вы не опоздали, мадам. Где ваш фотоаппарат? Тут найдётся интересная натура…
— Неужели вы всё-таки нашли его? — обрадовалась она. — Покажите же его скорее!
— Силь ву пле, сударыня!
А инспектор и полицейский уже тянули Щёголя через парапет. Когда Констант увидела Щёголя, она тихо ахнула:
— Это же президент Поль Батист!
— Экс-президент, — уточнил я. — И не Поль, а Мишель…
— А ведь он был в понедельник в архиве генерала Пирра, вы оказались правы. Кто бы мог предположить! Но хорош, хорош.
Таким она и сфотографировала его: и как его тащили под выкрики полицейских, и как наконец поставили на набережной.
С него текло, и под ногами тотчас набежала лужица. Подтяжки вздулись на животе. Он был смешон и жалок.
Констант восторженно крутилась, снимая его со всех сторон, пока не кончилась плёнка.
Он понемногу пришёл в себя и начал закрываться, прятать лицо и отмахиваться. Обхватил руками плечи — и тут до него дошло!
— Мой пиджак! — вскрикнул он. — Мои ключи!
Ключи — это неплохо.
— Мой паспорт, мой билет! Он стоил сорок две тысячи!
Паспорт и билет — это замечательно, это как раз то, что надо! Хороший был у тебя билет — на сорок две тысячи, это же восемьсот долларов, дальний билет — и весьма. Я постарался припомнить расписание рейсов, которые видел в «Паласе», там стояли и цены. Нет, сегодня ты уже не улетишь, Щёголь!
— Мой адрес! — продолжал он взвизгивать все громче.
Я что-то не понял, как тут реагировать — радоваться или дивиться. Вот когда все сцепилось до последнего камушка. Вопли над затхлым каналом сошлись со знаком Альфреда. Я подошёл к Антуану.
— У него был билет на рейс КЛМ — 843 Амстердам — Сидней. Спроси-ка у него, Тото, про этот адрес. Но… с подходцем.
Антуан всегда понимал меня с полуслова. Он сунул руки в карманы, вразвалочку подошёл к Щёголю.
Потом нагнулся над ним и ласково шепнул:
— Если ты забыл адрес, Щёголь, я тебе помогу, но только — молчок! Запомни раз и навсегда: Веллингтон-стрит, двенадцать.
— Тридцать четыре, — машинально отозвался Щёголь.
— Привет от Чарли! — Антуан щёлкнул его по кончику носа. — А телеграмму ты уже дал? Не забыл ли ты пароль, Щёголь? Могу напомнить. Каково-то тебе сейчас, «дружочек»?
— Мне очень плохо! — И только тогда до него дошло, что он сболтнул. Он закрыл лицо руками и, наверное, попробовал проглотить свой язык, но у него и это не вышло. Колени его подогнулись, и он присел в натёкшую с него лужу.
Я подошёл, чтобы рассмотреть его поближе. Я глядел на него даже с нежностью. Слабоват ты стал, Щёголь. В тираж пора. А то что же получается: Луи на пенсии, Антуан ишачит на тебя, как вол, бедного Ивана ты прижимаешь. А сам позваниваешь колокольчиком и шатаешься по всему свету вплоть до иностранного города Сиднея? Да здравствует неравенство! Да? Так больше не пойдёт, мой миленький!
Констант ничего не поняла из разговора Антуана со Щёголем.
— Привет от Виля, господин инспектор.
— Кто это такой? — спросил он.
— Мне, право, неудобно, господин инспектор. Я же иностранец… Спросите у своих соотечественников, об этом Виле вся Бельгия знает.
Констант захлопала в ладоши. Я подошёл к Щёголю и приподнял его за подтяжки.
— Примите, господин инспектор, этот ценный груз. Перед вами четвёртый участник ограбления льежского банка, совершенного в сентябре сорок четвёртого года полковником Вилем. Не так ли, мсье экс-президент?
Тот помалкивал.
— Се ля ви, — сказал Антуан.
— Папку «кабанов», похищенную из архива генерала Пирра, вы можете взять в портфеле, господин инспектор. У кого есть вопросы?
— Но мотив, мотив? — с улыбкой подивилась Констант.
Я просвистел ей песенку «Как прекрасно пахнут ананасы». За меня ответил Антуан.
— Он очень хотел разбогатеть. Сорок лет, а он всё ещё рядовой учитель. И война уже кончается. На войне он тоже не стал героем. И тут он узнает, что полковник Виль собирается совершить налёт на банк, но вся четвёрка уже укомплектована. Двое рядом с Вилем, они ближайшие его помощники, их не тронешь. А четвёртый, Альфред Меланже, в лесу. И он предаёт «кабанов» вместе с их командиром, чтобы занять вакансию. Заодно он получает самое надёжное в мире алиби — могильную плиту, потому что тут ему ещё раз повезло: в день освобождения Льежа погибает его кузен Поль Делагранж, и Мишель берет себе его имя, надёжно и казалось бы навеки прикрыв своё преступление могильной плитой. О том, как он переменил имя, я уже рассказывал, для большей безопасности он разделил чужую фамилию на три части. И полковник Виль безбоязненно оставляет его в Бельгии, потому что ему надо иметь тут своего человека. Мишель заработал свою долю: тридцать семь миллионов двести пятьдесят тысяч. Капитал требует вложений, и тогда он вступает в сговор с бароном Мариенвальдом… Остальное, как говорится, дело техники. Я надеюсь, что наш инспектор достойно справится с этой задачей.
— Ну что, ж друзья, — я обнял Антуана и Виллема, — дело о «кабанах» можно считать завершённым.
— Дело об особом диверсионном отряде «Кабан» и полковнике Виле только начинается, — возразила Констант, деловито защёлкивая футляр аппарата. — Это будет лучший заголовок года, но я вам его не скажу.
— Мерси, сударыня, — я поклонился.
— А теперь мы пойдём в кабачок, — предложил Антуан. — Я знаю тут одно местечко, куда, бывало, хаживали Тиль и Ламме Гудзак. Там и поговорим. Кажется, мы сегодня ещё не завтракали.
— Сначала вы пройдёте в полицию, — сурово заявил инспектор, — и я составлю протокол.
— Кончай тянуть резину, инспектор, — сказал я ему. — Мы приглашаем.
— Всё-таки вы хулиганы, — сказала Ирма по-русски, но её никто не понял.
ГЛАВА 28
— Салют, Серж! С бонжуром, ребята…
— Чао, Витторио. С благополучным.
— А-а, привет! Выражаю тебе своё полное. Как съездишенз?
— Банзай гезунд, Витю-сан. Кахен твейн делахт?
— Комси комса, или, по-нашему, абсолюман. А каки васи делаете?
— Токанава тояма, что означает в переводе: на том же уровне плюс пять процентози.
— Значит, у тебя все о'кэй?
— Ах, ребята. Если бы вы только видели! Этого ни в сказке сказать, ни пером написать, вы никогда не поверите, вы никогда не узнаете. Это надо видеть, это надо чувствовать, это надо обонять; какие шампиньоны я ел в сметане, это же умереть!
— Смотрите на него — он уцелел!
— Как же ты выжил, бедненький? Аж осунулся. Просто глядеть на него невозможно, до чего он осунулся.
— А нам оставил?
— Нам он выдаст сухим пайком.
— Честно говорю, ребята. Какие шампиньоны! Такие и в сладком сне не приснятся. Сюзанна, жена Антуана, готовила.
— Я всегда знал: в нём погиб великий чревоугодник.
— Значит, он ещё и насюзанился? Вот это парень!
— А что? Осанка у него вполне. Сразу заметно: человек ел шампиньоны.
— Клокочете мелкой завистью? Насчёт Сюзанны ты мимо дал, Сержик. Я же вам от души рассказываю. Этот Антуан, знаете, какой парень! Антуан — это человек.
— Партизан?
— Что за вопрос!
— А как по-ихнему партизан?
— Так и будет — партизан. Это же французское слово.
— А я-то думал, что партизаны только у нас были. Выходит, мы их у французов позаимствовали?
— Что же сие означает?
— Партизан — это буквально соратник.
— Значит, мы твои партизаны?
— Нет, ребята, это я ваш партизан.
— Смотрите, как скромничает! Я его буквально не узнаю.
— Перед нами новый человек!
— А что? Нашампиньонился и сделался скромным — закономерная деградация.
— Скромность украшает даже штурманов.
— Наш Коля, к примеру, третьего дня не то что шампиньоны. — Комара съел. И ничего — помалкивает.
— Коля съел Комара? И вы молчите?!
— Наш Коля теперь в финале. Об этом знает весь мир и ближайшие планеты.
— Так он же в деревню ездил?
— Виват, Николя! Как же это произошло? Чистая или по очкам?
— По чистой положил его наш Коля. В третьем раунде. Комар и пикнуть не успел.
— Вот это номер! Коля в финале, а я про шампиньоны вам заливаю.
— Скромность, скромность…
— Комар для меня не проблема. А вот теперь в финале с Эдиком придётся, это уже кое-что.
— Эдик — это штучка. Он гармоничен.
— Неужто в финале с Эдиком? А кто его сейчас тренирует? Когда финал?
— У Эдика правосторонняя стойка. И реакция у него на уровне. Берегись его левой.
— И вообще Эдик гармоничен.
— Зато с Эдиком интереснее. Будет на что поглядеть.
— Что вы, ребята? Коля самого Комара уложил. Да после этого Эдик сразу лапки поднимет. Он сдаст психологически.
— Эдик психологически не сдаст. Эдик гармоничен.
— Заладил. А Коля наш что — не гармоничен?
— У Коли коронка — встречный прямой. Садись на него в ближний бой, Коля, и всё будет в ажуре.
— А чего же ты про Веру не спросишь? Скромность заела?
— Спрашивается, где Вера?
— Очнулся. Верочка отгул взяла по уходу за отцом.
— Волнующе и непонятно…
— Отцу операцию делали. «Излишки» какие-то вырезали. Так она теперь у него днюет и ночует.
— Сплошные чудеса. Что же толкнуло её на этот героический шаг?
— Ты и толкнул, дольче Вита. Уж больно она задумчивая стала, когда ты её в щёчку чмокнул.
— О чём нашёптывал ей у трапа? Признавайся открыто.
— Ребята, вы меня знаете. Я вас тоже. И я со всей ответственностью заявляю: я славы не ищу. Я рядовой советский труженик. Зачем я буду присваивать себе то, чего не совершал?
— Вот к чему приводят поцелуи в запрещённом месте.
— Здравствуй, Тиль.
В дверях стоял Командир, и в руках у него брюссельская газета. Я вскочил.
— Разрешите доложить, Командир. Штурман Виктор Маслов явился из краткосрочного отпуска. Готов приступить к своим обязанностям.
— Вы только поглядите, товарищи, что пишут тут про нашего штурмана. — Командир развернул газету. — Узнаете?
Там я стоял в рост и сурово указывал пальцем. Фотография занимала два столбца. А по соседству в таком же формате был выставлен обмокший Щёголь. Он стоял на полусогнутых, изо всех сил закрываясь от меня руками, смешно у него получалось. Даже на застывшем снимке видно было, как у него поджилки трясутся.
— Так это же наш Витторио. Напартизанился он у них, как я погляжу.
— Насюзанился, напартизанился, наобонялся…
— «Русский Тиль мстит за отца», — с выражением сказал Командир, указывая на заголовок, набранный аршинными буквами.
— Смотрите, и медаль на кителе какая-то.
— Что вы, ребята, это не он. Он в это время питался шампиньонами.
— Первый раз вижу, ребята, честно говорю. Я тут совершенно ни при чём. Это все Антуан.
— Предварительный диагноз отменяется. Это не скромность, это корень кубический из скромности. Это святой наив.
— Я же говорил: перед нами другой человек. Перед нами — Тиль Уленшпигель.
— И мы ему верили…
— Ну зачем вы, ребята… — взмолился я. — Да ещё при Командире.
— Приедем — разберёмся в твоём поведении, — отрезал Командир. — Доложишь в экипаже, что ты там творил…
— Я больше не буду, Командир, — ответил я. — Ведь и повода больше нет, отец-то у меня был один…
— Борт ноль сорок один слушает, — сказал Николай. — Командир, порт запрашивает вылет.
— По местам, — приказал Командир.
— Правый готов, — сказал Виктор-старший.
— Левый готов, — сказал Командир.
— Приступить к проверке системы, — сказал Сергей.
— Вас понял, — продолжал Николай. — Видимость пять километров, ветер северо-северо-западный, до трех баллов.
— Скорректировать маршрут, — сказал командир.
— Ветер северо-северо-западный, до трех баллов, маршрут принимаю, — ответил я.
— Выходим на ВПП, — сказал Командир.
Ведомая тягачом машина беззвучно качнулась и тронулась с места, заносясь правым крылом. Мы разворачивались, и я увидел здание вокзала с галереей. Антуан стоял в стороне от прочих, у меня сердце защемило, когда я увидел его одинокую фигуру на верхней галерее, вот так и мать стояла на краю поля, провожая меня.
Антуан заметил, как мы тронулись, и поднял руку.
Машина продолжала разворачиваться, вокзал проплыл и начал уходить за срез иллюминатора. А мы пойдём с полосы прямо на север, и я не увижу Антуана сверху, там только вата облаков и общие планы.
Я на секунду оторвался от карты, чтобы последний раз глянуть в окошко:
— Оревуар, Антуан!
1968-1971
Примечания
1
Имена действующих лиц, равно как и названия деревень, отелей и проч. в повести выдуманы, и автор не несёт ответственности за то или иное совпадение.
(обратно)2
В бельгийском движении Сопротивления в годы войны действовали несколько организаций, среди которых следует отметить возглавляемый коммунистической партией Фронт Освобождения (Независимости), Секретную армию (Армее Секре), Белую бригаду (Витте бригаде) и др. Эти организации различались не только своими политическими платформами, но и степенью активности в борьбе с фашизмом. И в настоящее время между организациями ветеранов существуют довольно сложные отношения. Вот почему автор решил произвести на свет неведомую Армию Зет: пусть она и встречает нашего героя. (Прим. автора.)
(обратно)3
Этот эпизод с предательством является реальным фактом.
(обратно)4
РАФ — Королевские воздушные силы.
(обратно)5
Перевод М.Ваксмахера.
(обратно)
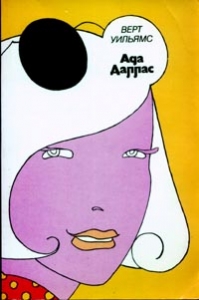

![Вздымающийся ад [Вздымающийся ад. Вам решать, комиссар!]](https://www.4italka.su/images/articles/504240/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Бонжур, Антуан!», Анатолий Павлович Злобин
Всего 0 комментариев