Грэм Грин Тихий американец
Graham Greene
THE QUIET AMERICAN
Перевод с английского А. Кабалкина
Серийное оформление и компьютерный дизайн Е. Ферез
Печатается при содействии литературных агентств David Higham Associates и The Van Lear Agency LLC.
Серия «Эксклюзивная классика»
© Graham Greene, 1955, 1973
© Перевод. А. Кабалкин, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Дорогие Ренэ и Фуонг!
Я попросил разрешения посвятить эту книгу вам не только в память о счастливых вечерах, которые проводил с вами в Сайгоне последние пять лет, но и потому, что бессовестно позаимствовал адрес вашей квартиры, чтобы поселить там одного из моих героев, а еще ваше имя, Фуонг, ради удобства читателей, – ведь оно простое, красивое и легко произносится в отличие от многих имен ваших соотечественниц. Как вы оба увидите, этим заимствования почти исчерпываются, к ним никак не относятся персонажи, действующие во Вьетнаме. За образами Пайла, Грэнджера, Фаулера, Виго, Джо не скрывались реальные люди в Сайгоне или Ханое, а генерал Тхе мертв: говорят, его убили выстрелом в спину. Даже исторические события как минимум один раз поменялись местами. Например, большой взрыв у «Континенталя» произошел до взрывов велосипедных бомб, а не наоборот. Такие мелкие изменения меня не смущают. Это не исторический труд, а повесть о вымышленных людях, и, надеюсь, она поможет вам обоим скоротать жаркий сайгонский вечер.
Любящий вас Грэм Грин «Я не люблю тревог: тогда проснется воля, А действовать опаснее всего; я трепещу при мысли Стать фальшивым, сердечную обиду нанести иль беззаконье совершить — Все наши представления о долге так ужасны и нас толкают на поступки эти»[1]. Артур Клаф «К спасенью душ и умерщвленью плоти, Благую цель преследуя притом, В наш век – вы сотни способов найдете». БайронЧасть первая
1
После ужина я ждал Пайла у себя на улице Катина. Он сказал: «Я буду у вас не позднее десяти». Когда наступила полночь, я не усидел и спустился на улицу. На лестничной площадке собрались старухи в черных штанах; был февраль, и им, наверное, надоело ворочаться в постелях в жару. В сторону реки медленно ехал велорикша; там, где разгружали новые американские самолеты, горели прожекторы. Пайла на всей длинной улице не оказалось.
Конечно, сказал я себе, что-то могло задержать его в американском представительстве, но в таком случае он обязательно позвонил бы в ресторан – Пайл был очень щепетилен по части соблюдения приличий. Я уже хотел вернуться, когда увидел у соседней двери девушку. Лица не различил, только белые шелковые шаровары и длинное цветастое платье, но все равно узнал ее. Она часто ждала моего возвращения именно в этом месте, в этот час.
– Фуонг, – произнес я. Это значит Феникс, но в наше время со сказками покончено, ничто уже не восстает из праха. Она еще ничего не успела сказать, но я догадался, что Фуонг тоже ждет Пайла. – Его нет.
– Je sais. Je t’ai vu seul a la fenetre[2].
– Если хочешь, можешь подняться, – предложил я. – Он скоро придет.
– Я подожду здесь.
– Лучше не надо. Тебя может забрать полиция.
Она пошла за мной наверх. Я перебирал в голове разные остроты и грубости, но Фуонг недостаточно знала английский и французский, чтобы понять иронию, да и мне, как ни странно, не хотелось делать больно ей и даже себе. Мы поднялись на лестничную площадку, и все старухи повернули к нам головы, а когда мы мимо них прошли, их голоса стали звучать громче, будто они хором затянули песню.
– О чем они говорят?
– Они думают, что я вернулась домой.
Деревце, которое я поставил у себя в комнате несколько недель назад в честь китайского Нового года, уже сбросило пожелтевшие листья, застрявшие теперь между клавишами пишущей машинки. Я стал вынимать их.
– Tu es troublé?[3] – спросила Фуонг.
– Это на него не похоже. Он такой пунктуальный.
Я снял галстук, разулся и растянулся на кровати. Фуонг зажгла газовую горелку и стала кипятить воду для чая. Прошедших шести месяцев как не бывало.
– Он говорит, ты скоро уедешь, – сказала она.
– Возможно.
– Он очень любит тебя.
– Спасибо ему – вот только за что? – пробурчал я.
Я видел, что Фуонг изменила прическу – теперь прямые черные волосы свободно падали на плечи. Я вспомнил, как однажды Пайл раскритиковал ее прежнюю прическу, которую, по ее мнению, полагалось носить дочери мандарина. Я зажмурился, и Фуонг снова стала прежней: шипением пара, звоном фарфора, заветным временем в ночи и обещанием покоя.
– Он скоро придет, – произнесла она, словно мне в его отсутствие требовалось утешение.
Я прикинул, о чем они могли разговаривать. Пайл был сама откровенность, он донимал меня своими лекциями о Дальнем Востоке, с которым был знаком столько же месяцев, сколько я – лет. Другой его темой являлась демократия: у него были четкие и раздражающие представления о том, что делают Соединенные Штаты ради остального мира. Зато Фуонг была восхитительно невежественна; если бы в разговоре упомянули Гитлера, она бы спросила, кто это. Объяснить ей это было бы тем более трудно, что Фуонг никогда не встречала ни немцев, ни поляков и имела самое смутное представление о европейской географии, хотя о принцессе Маргарет знала, понятное дело, больше, чем я. Я услышал, как она ставит поднос на край кровати.
– Он все еще тебя любит, Фуонг?
Вьетнамка у вас в постели сродни пташке: так же щебечет и заливается на вашей подушке. В свое время я думал, что ни одно пернатое не сравнится голосом с Фуонг. Я вытянул руку и дотронулся до ее локтя. Косточки у нее тоже были хрупкие, как у птички.
– Любит, Фуонг?
Она рассмеялась, я услышал, как она чиркает спичкой.
– Любит?
Возможно, это было одно из непонятных для нее слов.
– Сделать тебе трубку? – предложила она.
Когда я открыл глаза, Фуонг зажгла лампу. В свете лампы ее кожа напоминала цветом темный янтарь; она наклонилась над пламенем и сосредоточенно морщила лоб, грея опиумную пасту и вращая иглу.
– Пайл по-прежнему не курит? – спросил я.
– Нет.
– Ты бы его заставила, а то он не вернется.
У них было суеверие, что любовник, курящий опиум, обязательно вернется, даже из Франции. Пусть опиум влияет на мужскую силу, они всегда предпочтут верного любовника могучему. Сейчас Фуонг разминала шарик горячей пасты на отогнутой кромке чаши, и я вдыхал запах опиума. Другого такого запаха нет. Часы-будильник у моей кровати показывали 0.20, но я уже расслабился. Лампа осветила лицо Фуонг, когда она протянула мне длинную трубку, наклонившись над ней с серьезной сосредоточенностью, как над ребенком. Я был привязан к своей трубке: более двух футов прямого бамбука, с обоих концов слоновая кость. В двух третях длины трубки от меня находилась чаша, этакий повернутый кверху цветок вьюнка с отполированной и потемневшей от частого разминания опиума отогнутой кромкой. Легким движением она погрузила иглу в крохотное отверстие, извлекла опиум и расположила чашу над огнем, поддерживая для меня трубку. Бусина опиума тихонько пузырилась, а я вдыхал.
Опытный курильщик выкуривает целую трубку в один присест, мне же всегда требовалось несколько затяжек. Потом я откинулся затылком на кожаную подушечку, а она стала готовить вторую трубку.
– Пойми, это же ясно, как день, – произнес я. – Пайл знает, что перед сном я выкуриваю несколько трубок, и не хочет меня беспокоить. Утром он будет здесь.
Игла опять вошла внутрь, и я закурил вторую трубку. Отложив ее, я продолжил:
– Тревожиться не о чем. Совершенно не о чем. – Я отхлебнул чаю и задержал руку у Фуонг под мышкой. – Когда ты ушла, у меня осталось по крайней мере это. На улице д’Ормэ есть хорошая курильня. Сколько хлопот устраиваем мы, европейцы, на пустом месте. Напрасно ты живешь с мужчиной, который не курит.
– Но он собирается жениться на мне, – возразила она. – Уже скоро.
– Тогда, конечно, другое дело.
– Сделать тебе еще одну трубку?
– Да.
Я гадал, согласится ли Фуонг спать со мной этой ночью, если Пайл так и не придет, хотя знал, что после четырех трубок сам ее не захочу. Приятно было бы, спору нет, чувствовать рядом в постели бедро Фуонг – она всегда спала на спине – и, проснувшись утром, начать день с трубки, а не в одиночестве.
– Пайл уже не придет, – сказал я. – Останься, Фуонг.
Она протянула мне готовую трубку и покачала головой. Когда я выкурю и эту, меня перестанет волновать, осталась Фуонг или ушла.
– Почему Пайл не пришел? – спросила она.
– Откуда мне знать?
– Он ездил к генералу Тхе?
– Понятия не имею.
– Пайл сказал мне, что если не сможет поужинать с тобой, то не придет.
– Не переживай. Он придет. Сделай мне еще трубочку. – Когда она склонилась над пламенем, я вспомнил стихотворение Бодлера:
«Голубка моя… Умчимся в края, Где все, как и ты, совершенство… Взгляни на канал, Где флот задремал…»Я подумал, что если понюхать ее кожу, то у нее будет легкий аромат опиума, а цветом она будет как вот тот огонек… Я любовался, как распускаются цветы с платья, она была бесхитростна, как травинка, и мне очень не хотелось домой, в Англию.
– Жаль, что я не Пайл, – сказал я, но боль была ограниченной и терпимой – хвала опиуму. В дверь постучали.
– Это Пайл! – воскликнула Фуонг.
– Нет, он стучит не так.
Стук повторился, теперь нетерпеливо. Она вскочила, толкнув желтое деревце, и оно опять осыпало мою пишущую машинку своими лепестками. Дверь открылась.
– Мсье Фаулер! – раздался властный голос.
– Я Фаулер, – отозвался я, не собираясь вставать ради полицейского. Шорты цвета хаки мне были видны, даже если не поднимать головы.
Он объяснил на еле понятном вьетнамском французском, что мне надлежит немедленно – сразу, быстро! – явиться в Сюрте[4].
– Какая Сюрте – французская, вьетнамская?
– Французская. – У него прозвучало «франсунг».
– Зачем?
Этого он не знал: приказ был меня доставить.
– Toi aussi[5].
– Обращайтесь к даме на «вы», – сказал я. – Как вы узнали, что она здесь?
Он повторил, что у него приказ.
– Я приду утром.
– Нет, сейчас.
Спорить с этим мелким упрямцем было бесполезно. Я встал, надел галстук и обулся. За полицией здесь оставалось последнее слово: она могла лишить меня пропуска, перестать пускать на пресс-конференции, даже отказать мне при желании в праве выезда. И это еще меры в рамках закона, хотя в воюющей стране законность была не на высоте. Я знал человека, внезапно, необъяснимым образом лишившегося своего повара. Он добрался по его следам до вьетнамской Сюрте, но там его заверили, что повара допросили и отпустили. Родные больше его не видели. То ли он сбежал к коммунистам, то ли вступил в одну из частных армий, кишевших вокруг Сайгона, – хоа-хао, Каодай, генерала Тхе, то ли угодил во французскую тюрьму. Возможно, преспокойно зарабатывал на девочках в Чолоне – китайском пригороде. Или сердце не выдержало на допросе.
– Пешком не пойду, – предупредил я. – Оплатите мне рикшу. – Надо же как-то поддерживать свое достоинство.
По той же причине я отказался от сигареты, предложенной французским офицером в Сюрте. После трех трубок у меня в голове было кристально ясно, мозг мог легко принимать решения, не упуская из виду главный вопрос – чего им от меня надо? Мне случалось несколько раз встречать Виго в гостях – я обратил на него внимание, потому что он выглядел нелепо влюбленным в собственную жену – игнорировавшую его, вульгарную ненатуральную блондинку. Сейчас, в два часа ночи, Виго сидел, усталый и унылый, в сигаретном дыму, в гнетущей жаре, в зеленых очках на носу и с открытым томиком Паскаля на столе, позволявшим скоротать время. Когда я запретил допрашивать Фуонг без меня, он сразу сдал назад со вздохом, в котором слышалась усталость не то от Сайгона, не то от жары, не то от всего человечества.
– Простите, что пришлось попросить вас прийти, – сказал он по-английски.
– Это была не просьба, а приказ.
– Ох уж эти местные полицейские – они не понимают… – Виго не отрывал взгляда от «Мыслей», словно был пленен этой невеселой логикой. – Я хотел задать вам пару вопросов – о Пайле.
– Спросили бы его самого.
Он повернулся к Фуонг и резко спросил ее по-французски:
– Давно вы живете с мсье Пайлом?
– Месяц…
– Сколько он вам платит?
– У вас нет права спрашивать ее об этом, – заявил я. – Она не продается.
– Раньше она жила с вами, да? – спросил он так же резко. – Два года?
– Я – корреспондент, мне положено писать о вашей войне, когда вы позволяете. Не хватало снабжать материалами вашу бульварную газетенку!
– Что вам известно о Пайле? Пожалуйста, отвечайте на мои вопросы, мсье Фаулер. Я не хочу допрашивать вас, но все серьезно. Поверьте, очень серьезно.
– Я не осведомитель. Все, что я могу сказать вам о Пайле, вы и так знаете. Возраст – тридцать два года, сотрудник миссии экономической помощи, гражданство – американец.
– Послушать вас, вы его друг, – произнес Виго, глядя мимо меня, на Фуонг.
Вошел местный полицейский с тремя чашками черного кофе.
– Или вам чаю? – спросил Виго.
– Да, мы с ним друзья, – подтвердил я. – Почему нет? Ведь я рано или поздно уеду домой. Взять ее с собой не могу. С ним ей будет хорошо. Это разумное решение. Он обещает жениться на ней. Может, знаете ли. По-своему Пайл славный малый. Серьезный. Не то что эти крикливые болваны в «Континентале». Тихий американец. – Точное определение, не поспоришь, все равно что «синяя ящерица» или «белый слон».
– Да, – кивнул Виго. Казалось, он ищет перед собой на столе подсказку, как передать желаемый смысл так же четко, как сделал я. – Очень тихий американец.
Сидя в своем жарком кабинетике, Виго ждал, пока кто-нибудь из нас заговорит. Раздался атакующий писк комара. Я покосился на Фуонг. От опиума начинаешь быстрее соображать – наверное, он успокаивает нервы и подавляет эмоции. Ничто уже не кажется важным, даже смерть. Я подумал, что Фуонг не уловила в его тоне меланхолической окончательности, да и английский у нее был неважный. Сидя на твердом полицейском табурете, она продолжала терпеливо ждать Пайла. Я в тот момент ждать перестал и увидел, что то и другое не прошло мимо внимания Виго.
– Как вы с ним познакомились? – обратился он ко мне.
Зачем мне объяснять ему, что это Пайл познакомился со мной? Это было в прошлом сентябре, он направлялся через площадь к бару «Континенталя»; безошибочно юное, неопытное лицо летело в нас, как дротик. С этими его длинными худыми ногами, стрижкой «ежиком» и приветливым, вынесенным из университетского кампуса взглядом, Пайл казался безобиднейшим существом. Почти все столики на улице были заняты.
– Не возражаете? – обратился он ко мне вежливо и серьезно. – Меня зовут Пайл. Я здесь новенький. – Пайл сел на табурет и заказал пиво. Потом резко вскинул голову и уставился в безоблачное полуденное небо. – Это что – граната? – спросил он возбужденно и с надеждой.
– Скорее выхлопная труба, – ответил я и тут же раскаялся, что разочаровал его.
Мы быстро забываем собственную молодость: в свое время я тоже проявлял интерес к тому, что за неимением лучшего термина именуют новостями. Но на мне тема гранат выдохлась; теперь ей отводилось место лишь на последней странице местной газеты: столько-то взорвалось прошлой ночью в Сайгоне, столько-то в Чолоне; в европейскую прессу взрывы гранат никогда не попадали. По улице скользили милые плоские фигурки: белые шелковые шаровары, длинные узкие блузы в розовых и лиловых тонах с высоким разрезом на бедре. Я провожал их взглядом с той ностальгией, которую непременно буду испытывать, когда навсегда покину эти края.
– Они – прелесть, правда? – произнес я, отхлебывая пиво.
Пайл мельком взглянул на спины, удалявшиеся по улице Катина.
– Правда, конечно, – ответил он безразлично – серьезный малый! – Посланник очень озабочен этими гранатами. Боится, как бы не случилось несчастья – с кем-нибудь из нас.
– С кем-нибудь из вас? Да, полагаю, это было бы серьезно. Конгрессу такое не понравилось бы.
Зачем нас тянет дразнить простодушных? Наверное, еще дней десять назад Виго пересекал в Бостоне университетскую лужайку с большой стопкой книг – полезного чтения о Дальнем Востоке и проблемах Китая. Он меня даже не слышал, настолько глубоко погрузился в дилемму демократии и ответственности Запада. Был полон решимости – скоро я в этом убедился – нести добро, и не кому-то в отдельности, а стране, континенту, всему миру. Теперь он угодил в свою стихию, к его услугам была вся вселенная – улучшай сколько влезет.
– Он в морге? – спросил я.
– Как вы узнали, что он мертв? – Это был глупый вопрос для полицейского, недостойный читателя Паскаля, а также мужчины, любившего, как ни странно, свою жену. Нельзя любить, не имея интуиции.
– Я не виноват, – сказал я.
Я убеждал себя, что это правда. Разве Пайл не всегда поступал по-своему? Я искал в себе какое-нибудь чувство, хотя бы возмущение полицейским подозрением, но ничего не находил. Ответственность нес один Пайл, больше никто. «Не лучше ли всем нам умереть?» – рассуждал внутри у меня опиум. Сам я осторожно покосился на Фуонг: для нее это могло стать ударом. Наверное, она его по-своему любила: разве Фуонг не была привязана ко мне – и разве не ушла от меня к Пайлу? Привязалась к молодости, надежде, серьезности, а теперь все это подвело ее еще больше, чем возраст и отчаяние. Она смотрела на нас обоих и, по-моему, пока ничего не понимала. Вероятно, было бы лучше, если бы я смог ее увести, прежде чем она что-либо сообразит. Я был готов ответить на любые вопросы, лишь бы добиться скорого и неопределенного завершения беседы, чтобы позднее объяснить ей все с глазу на глаз, подальше от взора полицейского, от жестких табуретов и от голой лампочки, вокруг которой вились мошки, все ей выложить.
– Какой отрезок времени вас интересует? – спросил я Виго.
– Между шестью и десятью часами.
– В шесть я зашел промочить горло в «Континенталь». Официанты меня вспомнят. В шесть сорок пять я отправился на набережную смотреть, как разгружают американские самолеты. В дверях «Мажестик» я видел Уилкинса из «Ассошиэйтед ньюс». Потом я находился в кино поблизости. Там тоже должны помнить – в кассе искали для меня сдачу. Оттуда я поехал на рикше в «Старую мельницу», был там примерно в восемь тридцать и поужинал в одиночестве. Там был Грэнджер – можете спросить у него. Примерно без четверти десять я вернулся на рикше домой. Рикшу вы тоже сможете отыскать. К десяти я ждал Пайла, однако он не приехал.
– Почему вы его ждали?
– Он позвонил. Сказал, что у него ко мне важное дело.
– Вам известно, что это за дело?
– Нет. Для Пайла все дела были важными.
– А эта его девушка – вы знаете, где находилась она?
– В полночь ждала его перед домом. Она была встревожена. Она ничего не знает. Сами, что ли, не видите, что она по-прежнему его ждет?
– Вижу, – кивнул он.
– Не можете же вы считать, что это я убил Пайла из ревности или она – чего ради? Он собирался жениться на ней.
– Да.
– Где вы его нашли?
– В воде, под мостом Да-Као.
Ресторан «Старая мельница» располагался рядом с этим мостом через канал. Мост охраняла вооруженная полиция, ресторан защищала от гранат железная решетка. Ночью пользоваться мостом было опасно, потому что весь противоположный берег реки после наступления темноты переходил в руки Вьетминя. Похоже, я ужинал не далее полусотни ярдов от трупа Пайла.
– Парню не повезло, – произнес я. – Его с кем-то спутали.
– Если откровенно, – сказал Виго, – то я по нему не скорблю. От него было много вреда.
– Упаси нас, Боже, от невинных и от праведников.
– От праведников?
– Да. Пайл был своего рода праведником. Вы – католик, вам его не понять. Он же был для вас проклятым янки.
– Вы не против опознать его? Прошу меня простить. Таков порядок, пусть не слишком приятный.
Я не стал интересоваться, почему Виго не хочет подождать кого-нибудь из американского представительства, потому что знал причину. По сравнению с нашими холодными стандартами методы французов немного старомодны: они верят в совесть, в чувство вины, преступника полагается ткнуть носом в преступление – вдруг сломается и выдаст себя? Я еще раз напомнил себе, что невиновен, спускаясь следом за Виго по каменным ступенькам в подвал, где гудела холодильная установка.
Его выдвинули, как поддон с кубиками льда, и я бросил на него взгляд. Замерзшие раны выглядели безмятежно.
– Как видите, они не вскрываются в моем присутствии.
– Comment?[6]
– Разве не в этом ваша цель? Разве я не на суде инквизиции? Правда, вы слишком сильно заморозили его. В Средние века не применяли глубокой заморозки.
– Вы его узнаете?
– О да.
Он выглядел неуместнее, чем когда-либо: ему следовало бы сидеть дома. Легко было представить Пайла в семейном фотоальбоме, в седле на ранчо для отдыхающих, в волнах на Лонг-Айленде, фотографирующимся с коллегами в квартире на 23-м этаже. Его место было в небоскребе, в скоростном лифте, с мороженым и с сухим мартини, на худой конец с куриным сэндвичем в пригородном поезде.
– Смерть наступила не из-за этого, – сообщил Виго, указывая на рану в груди. – Его утопили в иле. Мы нашли ил у него в легких.
– Быстро вы работаете.
– В этом климате иначе нельзя.
Поддон задвинули обратно, дверца с резиновой прокладкой захлопнулась.
– Вам совершенно нечем нам помочь? – спросил Виго.
– Нет.
Возвращаясь к себе домой вместе с Фуонг, я больше не заботился о своем достоинстве. Смерть отменяет любую суету – даже суету рогоносца, который не должен показывать свою боль. Фуонг все еще не знала, что произошло, а я не представлял, как донести до нее правду медленно и аккуратно. Я был корреспондентом и мыслил заголовками: «В Сайгоне убит сотрудник американского представительства!» Работа в газете не учит проявлять щепетильность при сообщении плохих новостей; даже сейчас я был вынужден думать о своей газете, поэтому попросил у Фуонг разрешения заглянуть на телеграф. Оставив ее на улице, я отправил телеграмму и вернулся. Это была формальность: я не сомневался, что французские корреспонденты уже в курсе дела. Если Виго играл по правилам (существовала и такая возможность), то цензоры задержали бы мою телеграмму, пока французы не отошлют свои. Моя газета пометит новость как поступившую из Парижа. Но Пайл не являлся важной птицей. Не стану же я передавать такую, к примеру, подробность его подлинной карьеры, что, прежде чем умереть, он сам послужил причиной не менее полусотни смертей. Это навредило бы англо-американским отношениям и сильно огорчило бы американского посланника. Тот очень уважал Пайла – Пайл отлично защитил диплом на одну из популярных у американцев дипломных тем: может, по связям с общественностью, или по театроведению, или даже по дальневосточным исследованиям (он прочитал множество книг).
– Где Пайл? – спросила Фуонг. – Чего они хотели?
– Идем домой, – сказал я.
– Пайл придет?
– Да – либо туда, либо куда-нибудь еще.
Старухи по-прежнему сплетничали на лестничной площадке, в относительном холодке. Отперев дверь, я определил, что комнату обыскали: все выглядело аккуратнее, чем раньше.
– Еще трубку? – предложила Фуонг.
– Да.
Я снял галстук и разулся; интерлюдия закончилась; ночь осталась почти что той же. Фуонг, сгорбившись около кровати, зажгла лампу. «Мое дитя, моя сестра…» Кожа цвета янтаря. Ее певучий родной язык.
– Фуонг! – позвал я. Она разминала опиум на кромке чаши. – Il est mort[7].
Она замерла с иглой в руке, глядя на меня и хмурясь, как ребенок, пытающийся сосредоточиться.
– Tu dis?[8]
– Pyle est mort. Assassiné[9].
Фуонг положила иглу и, стоя на коленях, уставилась на меня. Сцены не произошло, слезы не пролились, была только ее мысль – долгая сокровенная мысль человека, вынужденного полностью пересмотреть свою жизнь.
– Этой ночью тебе лучше остаться здесь, – произнес я.
Фуонг кивнула, опять взяла иглу и стала греть опиум. Этой ночью, очнувшись после короткого, но глубокого опиумного сна – десяти минут, после которых чувствуешь себя свежим, словно проспал целую ночь, я застал свою руку там, где она всегда раньше ночевала, – у нее между ног. Фуонг спала, я едва различал ее дыхание. Снова, через много месяцев, я был не один, и все же вдруг подумал со злостью, вспоминая полицейский участок и Виго в зеленых очках, тихие пустые коридоры представительства и чувствуя гладкую безволосую кожу под своей ладонью: «Неужели Пайл был небезразличен мне одному?»
2
I
Тем утром, когда на площади перед «Континенталем» появился Пайл, я вдоволь навидался своих коллег – американских журналистов, здоровенных, шумных, молокососов и умудренных опытом, полных едкой критики в адрес французов, которые в конечном счете вели эту войну. Когда очередная вспышка боевых действий аккуратно иссякала и пострадавших в ней убирали с глаз долой, их вызывали в Ханой, где после четырех часов перелета к ним обращался командующий. Потом они ночевали в лагере прессы, где якобы священнодействовал лучший в Индокитае бармен, облетали поле боя на высоте 3000 футов (предел дальнобойности тяжелого пулемета) и благополучно, как шумные школьники-экскурсанты, возвращались восвояси, в сайгонский отель «Континенталь».
Пайл был, наоборот, тихим, скромным. В тот первый день мне даже приходилось наклоняться к нему, чтобы понять, о чем он говорит. Несколько раз Пайл вбирал голову в плечи, слыша, как шумят американские журналисты на верхней террасе – туда, как считалось, было труднее забросить ручную гранату. Но он никого не критиковал.
– Вы читали Йорка Хардинга? – спросил Пайл.
– Нет, не припомню. О чем он пишет?
Глядя на молочный бар через улицу, Пайл мечтательно произнес:
– Похоже на прилавок с газировкой…
Я гадал, какая глубина тоски по дому скрывается за этим странным выбором объекта для наблюдения в столь чуждой обстановке. Но не я ли сам, впервые гуляя по улице Катина, заметил парфюмерную лавку с духами «Герлен» и утешился мыслью, что до Европы отсюда всего-то тридцать часов лету? Он нехотя отвернулся от молочного бара и сказал:
– Йорк написал книгу «Наступление Красного Китая». Очень глубокая книга.
– Не читал. Вы с ним знакомы?
Пайл важно кивнул и замолчал. Правда, совсем скоро снова заговорил, чтобы исправить произведенное впечатление:
– Я не очень хорошо его знаю. Так, раза два встречались.
Вот это мне в нем понравилось – нежелание хвастаться знакомством с – как бишь его? – Йорком Хардингом. Позднее выяснилось, что он бесконечно уважает писателей, которых называет серьезными. К ним не относились романисты, поэты и драматурги, если они не писали на современные темы, но даже и тогда лучше было читать обо всем у Йорка.
– Знаете, когда долго живешь в каком-то месте, то перестаешь о нем читать, – заметил я.
– Мне всегда интересно узнать, что думает человек, присутствующий на месте событий, – сдержанно ответил Пайл.
– Потом вы сверяете впечатления с Йорком?
– Да. – Видимо, он уловил иронию, потому что добавил со своей обычной вежливостью: – Я был бы польщен, если бы вы нашли время просветить меня по главным вопросам. Йорк побывал здесь более двух лет назад.
Мне понравилась его лояльность Хардингу – кем бы тот ни был. Это было как свежий ветерок по сравнению со злословием газетчиков, с их скороспелым цинизмом. Я сказал:
– Закажите еще бутылочку пива, и я попробую растолковать вам, что к чему.
Пайл уставился на меня, как примерный ученик, а я начал с объяснения ситуации на Севере, в Тонкине, где французы в те дни удерживали дельту Красной реки вместе с Ханоем и Хайфоном, единственным северным портом. Там выращивался прочти весь рис, и каждый год, стоило ему созреть, разгоралась битва за урожай.
– Таков Север, – говорил я. – Французы могут устоять, бедняги, если на помощь Вьетминю не придут китайцы. Война идет в джунглях, в горах и в болотах, на рисовых чеках, где воды по шею и где противник попросту исчезает, зарывает оружие, переодевается в крестьянскую одежду. Зато в Ханое можно с комфортом напиваться и загнивать. Там не кидают бомбы; бог знает почему. Можно назвать это конвенциальной войной.
– А здесь, на Юге?
– Французы удерживают главные дороги до семи часов вечера. После этого у них остаются наблюдательные вышки и города – частично. Это не значит, что вы в безопасности и перед ресторанами не будет железных решеток.
Сколько мне уже приходилось все это объяснять! Я превратился в пластинку, которую всегда заводили новичкам: заезжему члену парламента, новому британскому посланнику. Мне случалось просыпаться среди ночи и бормотать: «Или возьмите каодаистов…» Мне снились хоа-хао, Бинь Суен и прочие частные армии, продававшие свои услуги за деньги или за право мстить. Чужаки считали их живописными, хотя ни в измене, ни в подозрении нет ничего живописного.
– Дальше – генерал Тхе, – продолжил я. – Он был в Каодай начальником штаба, а теперь ушел в горы и воюет со всеми – и с французами, и с коммунистами…
– Йорк, – заметил Пайл, – пишет, что Востоку нужна «третья сила».
Мне бы сразу заметить этот фанатический огонек, готовность быстро откликаться на фразу, на магию цифр: пятая колонна, третья сила, седьмой день… Я бы избавил от множества бед всех нас, даже самого Пайла, если бы еще тогда смекнул, куда направлен его неутомимый ум. Но я предоставил ему блуждать в одиночестве, а сам предпринял свою ежедневную прогулку вдоль улицы Катина. Пусть самостоятельно наматывает премудрость на ус, впитывая суть, как привычный запах: рисовые поля, золотящиеся под плоским клонящимся к закату солнцем; хрупкие силуэты рыбацких лодок, парящие над полями, как комары; чашечки чая на помосте старика монаха, его постель, календарики, ведерки, битую посуду, мусор, прибитый к его креслу волнами жизни; шляпы-ракушки на головах девушек, чинящих дорогу после взрыва мины; золото, свежую зелень, яркие краски южных нарядов, темно-бурые и черные одеяния Севера, круг враждебных гор, гудение самолетов. Попав сюда, я сначала считал дни до отъезда. Думал, что привязан к остаткам площади в Блумсбери, к автобусу № 73, проезжающему мимо галереи вокзала Юстон-сквер, к пабу на Торрингтон-плейс по весне. Но цветы в парке на площади завяли, а мне было безразлично. Теперь день для меня был отмечен короткими звуками – то ли выхлопами, то ли взрывами гранат, мне не хотелось терять из виду фигурки в шелковых шароварах, грациозно скользившие через влажный полдень, мне была нужна Фуонг, и мой дом переехал на восемь тысяч миль.
Я свернул у резиденции Верховного комиссара, охраняемой караулом Иностранного легиона в белых кепи и с алыми эполетами, перешел улицу перед кафедральным собором и зашагал назад вдоль устрашающей стены вьетнамской Сюрте, провонявшей мочой и произволом. Но и это было для меня частью дома – вроде темных коридоров на верхних этажах, куда не суешься в детстве. В книжных лавчонках у набережной продавались новые непристойные журнальчики «Tabu» и «Illusion», на тротуаре потягивали пиво моряки – лакомая мишень для бомбиста-любителя. Я думал о Фуонг, выторговывавшей скидку на рыбу в третьем проулке слева, прежде чем пойти перекусить в молочный бар (в те дни я знал каждый ее шаг), и Пайл легко и непринужденно покинул мои мысли. Я даже не упомянул о нем Фуонг, когда мы с ней сели обедать в нашей комнате на улице Катина. На ней было ее лучшее цветастое платье, потому что исполнялось ровно два года нашему с ней знакомству в «Гран-Монд» в Чолоне.
II
Ни она, ни я не обмолвились о нем, проснувшись утром после его смерти. Фуонг встала раньше меня и уже приготовила чай. К мертвецам не ревнуют, и в то утро мне показалось, что можно с легкостью вернуться к нашей прежней жизни вместе.
– Ты останешься сегодня? – спросил я у Фуонг за круассанами как бы мимоходом.
– Мне придется сходить за коробкой.
– Там может быть полиция, – предупредил я. – Лучше я пойду с тобой. – Это стало у нас наибольшим приближением к Пайлу в тот день.
У Пайла была квартира в новой вилле близ улицы Дюрантон, одной из главных артерий, которые французы непрерывно кроили в честь своих полководцев, так что улица Де Голля после третьего перекрестка превращалась в улицу Леклерка, отрезку которой рано или поздно суждено было стать улицей Делатра. Похоже, ожидался прилет из Европы какого-то важного лица, потому что вдоль дороги, ведущей к резиденции Верховного комиссара, через каждые двадцать ярдов были расставлены лицом к тротуару полицейские.
На гравийной дорожке перед домом Пайла стояло несколько мотоциклов, вьетнамский полицейский проверил мое журналистское удостоверение. Он отказался впускать в дом Фуонг, и я пошел искать офицера-француза. В ванной Пайла Виго мыл руки мылом Пайла, потом он вытер руки его полотенцем. На рукаве тропического костюма темнело масляное пятно – не иначе, от масла Пайла.
– Что-нибудь новенькое? – осведомился я.
– Мы нашли в гараже его машину. Бензобак пустой. Наверное, вчера он уехал на рикше или на чужой машине. Или бензин выкачали.
– Вдруг он ушел пешком? Вы же знаете этих американцев.
– Вашу машину сожгли? – задумчиво продолжил он. – Вы еще не приобрели новую?
– Нет.
– Это не очень важно.
– Вот именно.
– У вас есть догадки?
– Есть, и много, – кивнул я.
– Поделитесь?
– Ну, его мог убить Вьетминь. Они постоянно кого-нибудь убивают в Сайгоне. Его тело нашли в канале у моста Да-Као, а там ночью, после ухода вашей полиции, территория Вьетминя. Еще его могла убить вьетнамская Сюрте – такое тоже случается. Им могли не понравиться его друзья. Или Каодай, за его знакомство с генералом Тхе.
– А он был с ним знаком?
– Говорят, был. Генерал Тхе тоже мог его убрать – за знакомство с каодаистами. Может, его убили хоа-хао за заигрывание с сожительницами генерала. Или просто кто-то, позарившийся на его деньги.
– Еще вероятна банальная ревность, – произнес Виго.
– А то и французская Сюрте, – продолжил я, – потому что им не нравились его связи. Вы действительно ищете убийц?
– Нет, – ответил Виго, – я составляю рапорт, только и всего. Это ведь произошло на войне, а на войне каждый год гибнут тысячи людей.
– Меня вы можете исключить, – сказал я. – Я ни при чем. Ни при чем, – повторил я.
Это был мой символ веры. Раз уж таково состояние человечества, то пусть воюют, пусть любят, убивают – мое дело сторона. Мои собратья журналисты называли себя корреспондентами, а я предпочитал называться репортером. Я описывал то, что видел. Я не действовал – даже мнение сродни действию.
– Что вы здесь делаете?
– Я пришел за вещами Фуонг. Ваша полиция не впускает ее.
– Что ж, пойдемте найдем их.
– Мило с вашей стороны, Виго.
У Пайла было две комнаты, кухня и ванная. Мы прошли в спальню. Я знал, где искать коробку Фуонг – под кроватью. Мы вытащили ее вдвоем, там лежали книжки с картинками. Я забрал из гардероба скудную сменную одежду, два хороших платья, вторые шаровары. Было ощущение, что все это провисело здесь считаные часы и осталось для этого места чужим, как залетевшая в комнату бабочка. Я достал из комода ее маленькие треугольные culottes[10] и набор шарфов. Для большой коробки набиралось совсем немного вещей, словно Фуонг была здесь гостьей, заглянувшей на выходные.
В гостиной осталась их совместная фотография с Пайлом. Они сфотографировались в ботаническом саду, рядом с большим каменным драконом. Фуонг держала на поводке собаку Пайла, черную чау-чау с черным языком. Слишком черная собака. Я положил фотографию в коробку.
– Что с собакой? – спросил я.
– Ее тут нет. Наверное, он забрал ее с собой.
– Вдруг она вернется, и вы сумеете исследовать землю у нее на лапах?
– Я не Лекок, даже не Мегрэ, и сейчас война.
Я подошел к книжному шкафу и рассмотрел два ряда книг – библиотеку Пайла. «Наступление Красного Китая», «Вызов демократии», «Роль Запада» – наверное, полное собрание Йорка Хардинга. Тут было много «Докладов конгресса», вьетнамский разговорник, история войны на Филиппинах, собрание Шекспира. Что он читал для отдыха? На другой полке стояло его легкое чтиво: карманный Томас Вулф, загадочная антология «Триумф жизни» и сборник американской поэзии. Еще здесь была книжка шахматных задач. Немного для конца рабочего дня, но, с другой стороны, у него была Фуонг. За антологию была засунута «Психология брака» в бумажном переплете. Вероятно, секс Пайл изучал так же, как Восток, – на бумаге. Ключевым являлось слово «брак». Пайл был поборником вовлеченности.
Его письменный стол был совершенно пуст.
– Чисто же вы убрались, – заметил я.
– Мне пришлось заняться этим по просьбе американского представительства. Сами знаете, как быстро распространяются слухи. Мы постарались, чтобы ничего не пропало. Я приказал опечатать все его бумаги. – Он сказал это серьезно, без тени улыбки.
– Там было что-то вредное?
– Мы не можем допустить, чтобы нашлось что-либо вредное для нашего союзника, – произнес Виго.
– Не возражаете, если я возьму одну из этих книжек – на память?
– Я отвернусь.
Я выбрал «Роль Запада» Йорка Хардинга и положил ее в коробку, к вещам Фуонг.
– Вам нечего мне сказать с глазу на глаз, по-дружески? – спросил Виго. – Мой рапорт готов. Его убили коммунисты. Возможно, это начало кампании против американской помощи. Но если строго между нами… Послушайте, всухую такое не пойдет, как насчет вермута с ликером?
– Рановато.
– Он ничем с вами не делился в вашу последнюю встречу?
– Нет.
– Когда это было?
– Вчера утром. После взрыва.
Виго помедлил, чтобы мой ответ усвоился – у меня в голове, не у него: он спрашивал без задней мысли.
– Вчера вечером, когда он к вам заходил, вас не было дома?
– Вчера вечером? Я не думал…
– Вдруг вы запросите выездную визу? Сами знаете, мы можем бесконечно тянуть с ее выдачей.
– Вы считаете, что я хочу домой? – спросил я.
Виго посмотрел в окно на яркое безоблачное небо и грустно промолвил:
– Большинство хочет.
– Мне нравится здесь. Дома… там проблемы.
– Merde[11], – сказал Виго. – Пожаловал американский экономический атташе. – Виго повторил с сарказмом: – Экономический атташе!
– Тогда я сматываюсь. Если и он в меня вцепится…
– Желаю успеха, – устало напутствовал он. – Сейчас он меня заговорит.
Когда я вышел, экономический атташе стоял рядом со своим «Паккардом» и что-то втолковывал водителю. Это был полный господин средних лет с тяжелым задом и с лицом, никогда, видимо, не нуждавшимся в бритве.
– Фаулер! – окликнул он. – Может, хоть вы объясните этому проклятому водителю…
Я объяснил.
– Так и я внушал ему то же самое! Вечно он притворяется, будто не понимает по-французски.
– Наверное, дело в вашем акценте.
– Я три года жил в Париже. Будут еще эти чертовы вьетнамцы фыркать на мой акцент!
– Голос демократии, – заметил я.
– Это еще что?
– Кажется, книга Йорка Хардинга.
– Не пойму я вас. – Он с подозрением покосился на коробку у меня в руках. – Что у вас там?
– Две пары белых шелковых штанов, два шелковых платьица, женское бельишко – пары три. Все местного производства, никакой американской помощи.
– Вы были наверху?
– Да.
– Слышали новость?
– Да.
– Ужас. Просто ужас.
– Полагаю, посланник очень огорчен.
– Сейчас он у Верховного комиссара, потом его вызывает президент. – Он взял меня за рукав и отвел от машины. – Вы были хорошо знакомы с молодым Пайлом, да? Прямо не верится, что с ним такое случилось. Я знал его отца. Гарольд С. Пайл – слышали?
– Нет.
– Мировой авторитет по подводной эрозии. Видели обложку журнала «Тайм» в прошлом месяце?
– Что-то припоминаю… Разваливающаяся скала, на ее фоне очки в золотой оправе.
– Он самый! Мне пришлось отправлять телеграмму домой. Ужас! Я любил этого мальчика, как своего сына.
– Это превращает вас в близкого родственника его отца.
Он уставился на меня влажными карими глазами:
– Что это с вами? Разве такое говорят, когда прекрасный молодой человек…
– Извините, – произнес я. – Смерть действует по-разному. – Может, он и вправду любил Пайла. – Что вы написали в телеграмме?
Он процитировал с серьезным видом:
– «Со скорбью сообщаем, что ваш сын погиб смертью солдата во имя демократии». Подпись посланника.
– «Смертью солдата»… – повторил я. – Это не сбивает с толку? Я про его родных дома. Миссия экономической помощи и армия – разные вещи.
Он ответил тихо, напрягаясь от двусмысленности:
– У него были особые полномочия.
– О, мы догадывались.
– Он не проболтался?
– Нет-нет. – Я припомнил слова Виго. – Пайл был очень тихим американцем.
– У вас есть догадки, почему его убили? И кто?
Я вдруг рассердился: устал от всей этой публики с их частными складами «Кока-Колы», с передвижными госпиталями, широченными автомобилями и автоматическим оружием не самой последней марки.
– Да, – кивнул я. – Его убили потому, что он был слишком невинен, чтобы жить. Он был молод, невежественен и глуп, и он вмешался. Он не больше всех вас представлял, что творится, а вы дали ему денег и книги Йорка Хардинга про Восток и сказали: «Ступай. Добудь победу демократии на Востоке». Пайл не видел ничего сверх того, о чем слышал на лекциях, писатели и лекторы обвели его вокруг пальца. При виде трупа он не замечал ран. Красная угроза, солдат демократии.
– Я думал, вы были его другом.
– Я был его другом. Я бы с радостью увидел его читающим дома воскресные приложения и болеющим за бейсбол. Рад был бы, если бы Пайл благополучно встретил стандартную американскую девушку, подписчицу «Книжного клуба».
Он смущенно откашлялся:
– Ах да, – совсем запамятовал. Неприятная история… Я был на вашей стороне, Фаулер. Он поступил очень плохо. Если хотите знать, я долго беседовал с ним об этой девушке. Понимаете, я имел честь знать профессора и миссис Пайл.
Я сказал: «Виго ждет» – и ушел. Он только сейчас заметил Фуонг, и когда я оглянулся, он смотрел мне вслед с болезненным недоумением: вечный непонимающий брат.
3
I
Пайл познакомился с Фуонг в том же самом «Континентале» месяца через два после приезда. Был ранний вечер, та внезапная прохлада, что настает сразу после захода солнца, в лавочках, теснящихся в переулках, уже зажгли свечи. На столиках стучали кости – французы играли в «421», девушки в белых шелковых шароварах накручивали педали велосипедов, уезжая домой по улице Катина. Фуонг пила апельсиновый сок, я – пиво, мы сидели молча, радуясь тому, что мы вместе. Потом робко приблизился Пайл, и я представил его Фуонг. У него была манера вытаращить на девушку глаза, будто он прежде никогда не видел девушек, а потом залиться краской.
– Я тут подумал, – произнес Пайл, – не пересесть ли вам с вашей дамой ко мне за столик. Один из наших атташе…
Экономический, конечно, – он улыбался нам с верхней террасы теплой гостеприимной улыбкой, полной уверенности в себе, как у человека, удерживающего друзей правильным подбором дезодоранта. Я несколько раз слышал, как он откликался на «Джо», но фамилию выучить не удосужился. Он стал шумно выдвигать для нас стулья и звать официанта, хотя вся эта суета имела в «Континентале» ограниченный эффект: несколько сортов пива, бренди с содовой, вермут с черносмородиновым ликером.
– Не ожидал увидеть здесь вас, Фаулер, – сказал он. – Мы ждем наших ребят из Ханоя. Там, похоже, развернулось настоящее сражение. Вас с ними не было?
– Устал я летать по четыре часа на пресс-конференцию, – сознался я.
Он посмотрел на меня с неодобрением:
– Эти ребята молодцы. Они могли бы без всякого риска заколачивать вдвое больше в бизнесе или на радио.
– Так это работать надо, – возразил я.
– Они издалека чуют заваруху, – продолжил экономический атташе, не обращая внимания на неприятные речи. – Взять Билла Грэнджера: он всегда там, где пахнет жареным.
– Как вы правы! Видал я его однажды в баре отеля «Спортинг»…
– Вы же знаете, что я не об этом.
Два велорикши, устроившие соревнование на мостовой улицы Катина, дружно финишировали перед «Континенталем». На одном прибыл Грэнджер, второй доставил хрупкого седенького безмолвного незнакомца. Грэнджер поволок его по тротуару, приговаривая: «Не упирайся, Мик». Потом он заспорил с рикшей об оплате, крикнул: «Не хочешь – не бери!» и швырнул себе под ноги впятеро больше положенного, заставив рикшу ползать на коленях и подбирать деньги.
– Похоже, ребятам пора расслабиться, – нервно заметил экономический атташе.
Грэнджер свалил свою ношу на стул и увидел Фуонг.
– Ах ты, старый безобразник, Джо! Где ты ее взял? Не знал, что ты такой озорник. Виноват, должен отлить. Приглядите тут за Миком.
– Солдафонские манеры, – прокомментировал я.
Честный Пайл опять покраснел:
– Я бы вас не позвал, если бы знал…
Седой незнакомец завозился на стуле, голова упала на стол, словно не была прикреплена к плечам, издала долгий свистящий стон, полный бесконечной тоски, и застыла.
– Вы его знаете? – спросил я Пайла.
– Нет. Разве он не из журналистов?
– Я слышал, Билл называл его Миком, – подсказал экономический атташе.
– Кажется, Юнайтед Пресс прислало нового корреспондента…
– Это не он, того я знаю. Может, кто-то из вашей экономической миссии? Всех не упомнить, их же сотни…
– Вряд ли он из наших, – возразил экономический атташе. – Не припоминаю.
– Поищем его удостоверение? – предложил Пайл.
– Ради бога, не тормошите его, он и так еле жив. Подождем Грэнджера.
Но от того было мало проку. Он вернулся из туалета мрачнее тучи и угрюмо спросил:
– Кто наша дама?
– Мисс Фуонг – знакомая Фаулера, – церемонно сообщил Пайл. – Мы хотели бы знать, кто…
– Где он ее взял? В этом городе держи ухо востро. – И он мрачно добавил: – Хвала создателю за пенициллин.
– Билл, – подал голос экономический атташе, – мы хотим знать, кто такой Мик.
– Я тоже.
– Это ты его привез.
– Лягушатники валятся от скотча. Вот и этот вырубился.
– Он француз? Ты, кажется, звал его Миком.
– Надо же было как-то его называть, – объяснил Грэнджер и наклонился к Фуонг: – Эй, ты, еще апельсинового сока? Ты сегодня занята?
– Сегодня и ежедневно, – произнес я.
– Как там война, Билл? – поспешно вмешался экономический атташе.
– Великая победа к северо-западу от Ханоя. Французы отбили две деревни, об уходе из которых раньше не сообщали. У Вьетминя тяжелые потери. Своих потерь они еще не сосчитали, доложат через неделю-другую.
– Прошел слух, – сказал экономический атташе, – будто Вьетминь прорвался в Фат-Дьем, сжег собор и прогнал епископа.
– О таком в Ханое не расскажут. Это не победа.
– Одна из наших медицинских бригад не прошла дальше Намдиня, – проговорил Пайл.
– Ты так далеко не забирался, Билл? – спросил экономический атташе.
– За кого ты меня принимаешь? Я корреспондент, у меня командировочное предписание, там указано, куда мне можно, куда нет. Я лечу в аэропорт Ханоя. Нам дают машину, она везет нас в лагерь прессы. Нам устраивают пролет над двумя отбитыми городишками и демонстрируют полощущийся триколор. С такой высоты не разглядеть, что там за флаг. Дальше – пресс-конференция: полковник втолковывает, что именно мы видели. Мы отбиваем телеграммы при участии цензора. Дальше – пьянка. Нас поит лучший в Индокитае бармен. Ну, и самолет обратно.
Пайл хмуро уставился в свою пивную кружку.
– Ты себя недооцениваешь, – заметил экономический атташе. – Взять тот очерк о дороге номер 66 – как ты его озаглавил? «Шоссе в ад»? Это готовая Пулитцеровская премия! Ты знаешь, о чем я: один человек стоит в канаве на коленях, с оторванной головой, другой бредет, как во сне…
– Думаешь, я выползал на ту вонючую дорогу? Стивен Крейн[12] был мастер описывать войну, не побывав на ней, чем я хуже? Чертова колониальная война, что с нее возьмешь? Дайте мне еще выпить! А потом поищем девочек. Ты нашел себе подружку, я тоже хочу.
– Думаете, в слухах про Фат-Дьем что-то есть? – обратился я к Пайлу.
– Не знаю. Это важно? Если да, я бы не прочь взглянуть.
– Важно для экономической миссии?
– Ну, зачем так категорично? Медицина – тоже род оружия, верно? Эти католики могли бы задать жару коммунистам, не так ли?
– Они торгуют с коммунистами. Епископ получает от коммунистов коров и бамбук для стройки. Я бы не назвал их «третьей силой» в духе Йорка Хардинга, – поддел я его.
– Хорош! – крикнул Грэнджер. – Чего торчать здесь весь вечер? Я еду в «Дом четырехсот девушек».
– Приглашаю вас и мисс Фуонг поужинать со мной… – начал Пайл.
– Можете поесть в «Шале», – перебил его Грэнджер, – пока я буду оприходовать девок за стенкой. Поехали, Джо, ты хотя бы мужчина.
Думаю, в тот момент, размышляя, что такое мужчина, я впервые испытал симпатию к Пайлу. Он сидел боком в Грэнджеру и крутил пивную кружку с выражением отстраненности на лице.
– Наверное, вы устали от всего этого базара? – обратился он к Фуонг. – От болтовни о вашей стране?
– Comment?
– Как ты поступишь с Миком? – спросил Грэнджера экономический атташе.
– Оставлю его тут.
– Так нельзя. Ты даже не знаешь его имени.
– Ну, так возьмем его с собой. Девочки о нем позаботятся.
Экономический атташе громко хохотнул, призывая в свидетели остальных. Он был похож на лицо в телевизоре.
– Вы, молодежь, поступайте, как хотите, а я для этих игр староват. Заберу-ка я его с собой домой. Говоришь, он француз?
– Лепетал по-французски.
– Загрузите его в мою машину.
Когда он уехал, Пайл нанял рикшу на пару с Грэнджером, мы с Фуонг сделали то же самое и покатили следом за ними в Чолон. Грэнджер хотел подсесть к Фуонг, но Пайл его отвадил. По пути в китайский пригород, на длинной дороге, нам встретился конвой французских бронемашин, с крыши каждой торчал в небо пулемет, охраняемый безмолвным офицером, неподвижной фигурой под опрокинутой чашей черного звездного неба. Опять неприятности с одной из частных армий – Бинь Суен, хозяевами «Гран-Монд» и игорных залов Чолона. Это был край баронов-бунтарей, вроде Европы в Средние века. Как сюда затесались американцы? Их страну еще не открыл Колумб.
– Нравится мне этот Пайл, – сказал я Фуонг.
– Он тихий, – откликнулась она, и это определение, которое она первой к нему применила, прилипло, как школьное прозвище. В конце концов его употребил Виго, когда рассказывал мне о смерти Пайла.
Я остановил рикшу перед «Шале» и сказал Фуонг:
– Пойди найди столик, а я поищу Пайла. – Мне хотелось защитить его. Было невдомек, что гораздо важнее подумать о собственной безопасности. Невинность всегда молча взывает о защите, хотя, как подсказывает опыт, впору защищаться от нее самой: невинность смахивает на тупицу прокаженного, потерявшего колокольчик и без намерения навредить болтающегося по миру.
Когда я достиг «Дома четырехсот девушек», Пайл и Грэнджер уже скрылись внутри.
– Deux americains?[13] – обратился я к военному полицейскому, караулившему вход. Это был молодой капрал Иностранного легиона. Перестав чистить револьвер, он ткнул большим пальцем себе за плечо и непонятно пошутил по-немецки.
В огромном дворе под открытым небом был час отдыха. Сотни девушек валялись на траве или сидели на корточках, болтая друг с другом. В клетушках вокруг площади были раздвинуты занавески, в одной лежала на кровати навзничь, закинув ногу на ногу, усталая девица. В Чолоне было неспокойно, войска сидели по казармам, работа стояла: праздное воскресенье тела. Клубок дерущегося, царапающегося, вопящего женского пола указывал на местонахождение редкой клиентуры. Я вспомнил старую сайгонскую байку про знатного гостя этого заведения, лишившегося брюк во время рискованного побега в сторону полицейского поста, сулившего спасение. Здесь гражданское лицо не имело защиты. Забредший в военную зону должен был сам о себе позаботиться и спасаться самостоятельно.
У меня был свой метод: разделяй и властвуй. Выбрав одну девицу в собравшейся вокруг меня толпе, я медленно повлек ее туда, где вели отчаянный бой Пайл и Грэнджер.
– Je suis un vieux, trop fatigué[14], – произнес я. – Она хихикнула и потянула меня за руку. – Mon ami. Il est très riche, très vigoureux[15].
– Tu es sale[16], – сказала она.
Я видел, как торжествует раскрасневшийся Грэнджер: наверное, он считал происходящее доказательством своей мужественности. Одна девушка взяла Пайла под руку и потащила из круга. Я толкнул к ним свою девушку и позвал его:
– Пайл, сюда!
Глядя на меня поверх голов, он простонал:
– Это ужасно, ужасно!
Возможно, виноват был обманчивый свет фонаря, но Пайл показался мне измученным, и я подумал, что он девственник.
– Идите сюда, Пайл. Отдайте им Грэнджера. – Я видел, как его рука ползет к брючному карману. Не иначе, он вздумал швырять в толпу пиастры и «зеленые». – Не дурите, Пайл! – крикнул я. – Они устроят драку. – «Моя» девушка повернулась ко мне спиной, так мне ловчее было втолкнуть ее в круг соперничающих за Грэнджера. – Non, non, je suis Anglais, pauvre, très pauvre[17].
Вцепившись Пайлу в рукав, я вытащил его из гущи тел. Девушка повисла на его руке, как рыба на крючке. Две-три другие попытались – правда, без особого рвения – перехватить нас, прежде чем мы проскользнем мимо капрала на посту.
– Что мне с ней делать? – спросил Пайл.
– Она неопасна.
В следующую секунду девушка выпустила его руку и присоединилась к подругам, дерущимся за Грэнджера.
– Он не пострадает?
– Он получил, что хотел: вон сколько подружек сразу!
Снаружи было спокойно, проехавшая мимо с ревом очередная бронеколонна была не в счет.
– Кошмар! – воскликнул Пайл. – Никогда бы не подумал… – И он добавил со смесью ужаса и грусти: – Такие хорошенькие…
Пайл не завидовал Грэнджеру, он сетовал, что добро – а миловидность и изящество проходили у него, бесспорно, по этой категории – замарано и посрамлено. Когда боль настырно лезла ему в глаза, Пайл умел ее замечать (я ничуть не злобствую: в конце концов, многие среди нас и на это не способны).
– Идемте в «Шале», – позвал я. – Фуонг ждет.
– Простите, я совсем забыл! Напрасно вы оставили ее одну.
– Ей ничего не угрожает.
– Я просто хотел проводить Грэнджера… – Пайл опять погрузился в свои мысли, но при входе в «Шале» произнес с непонятной грустью: – Я как-то запамятовал, сколько на свете мужчин, охочих до…
II
Фуонг заняла столик на краю танцевальной площадки, оркестр играл мелодию, популярную в Париже пятью годами раньше. Танцевали две вьетнамские пары – маленькие, аккуратные, надменные, настолько цивилизованные, что нам оставалось только завидовать им. Одну пару я узнал: бухгалтер из «Индокитайского банка» с женой. Видно было, что они никогда не допускают небрежности в одежде, неверного слова, нечистой страсти. Если война выглядела Средневековьем, то они были скорее будущим из восемнадцатого века. Мсье Фам Ван Ту вполне мог бы сочинять в свободное время классические тексты; и правда, он изучал Вордсворта и сам писал стихи о природе. Отпуск проводил в Далате – наиболее доступное ему приближение к атмосфере английских озер. Выполняя поворот, он слегка кланялся. Я пытался представить, как там, в пятидесяти ярдах отсюда, справляется Грэнджер.
Пайл на плохом французском попросил у Фуонг прощения за то, что заставил ее ждать.
– C’est impardonable[18], – заявил он.
– Где вы были? – поинтересовалась она.
– Провожал Грэнджера домой, – соврал Пайл.
– Домой? – хмыкнул я, и он посмотрел на меня так, словно я был вторым Грэнджером.
Я вдруг увидел себя его глазами: немолодой мужчина с покрасневшими глазами, начинающий толстеть, неизящный в любви, может, не такой шумный, как Грэнджер, но циничнее его, не такой непосредственный. Фуонг я на мгновение увидел такой, какой она была в день нашего знакомства: тогда она проносилась в танце мимо моего столика в «Гран-Монд» в белом бальном платьице, восемнадцатилетняя, под надзором старшей сестры, вознамерившейся выдать ее замуж за приличного европейца. Какой-то американец приобрел билет и пригласил ее на танец. Он был немного пьян – неопасно, по-моему. Новичок в стране, он принимал всех платных партнерш в «Гран-Монд» за шлюх. На первом круге слишком крепко прижал Фуонг к себе, и она вернулась и села рядом с сестрой, а он остался стоять один среди танцующих и растерянно крутил головой, не понимая, что случилось и почему. Девушка, чьего имени я не знал, сидела смирно и пила апельсиновый сок.
– Peut-on avoir l’honneur?[19] – обратился к ней Пайл с чудовищным акцентом, и вот я уже наблюдал, как они танцуют на другом конце зала. Пайл держал ее на таком почтительном расстоянии, что мог вот-вот упустить. Он танцевал отвратительно, зато Фуонг была хороша, лучше остальных платных танцевальных партнерш в «Гран-Монд» в те дни.
Ухаживание было длительным и разочаровывающим. Если бы я мог предложить ей брак и содержание, то все было бы просто, старшая сестра тактично и безмолвно исчезала бы, оставляя нас вдвоем. А так прошло три месяца, прежде чем я сумел застать Фуонг одну на балконе в «Мажестик», но и тогда сестра не уставала спрашивать через дверь, когда мы изволим появиться. На реке Сайгон разгружался при свете газовых факелов французский торговый корабль, колокольчики рикш звенели, как телефоны, я лепетал, как юный неопытный болван. Лежа без всякой надежды в своей постели на улице Катина, я и мечтать не мог, что через четыре месяца Фуонг будет находиться рядом со мной и смеяться, немного задыхаясь, как бы удивляясь тому, что все получилось не так, как она ожидала.
– Мсье Фаулер!
Я наблюдал, как они танцуют, и не заметил сигналы ее старшей сестры, сидевшей за другим столиком. Сестре пришлось подойти, а мне – неохотно предложить ей сесть. Мы с ней были в натянутых отношениях с того вечера в «Гран-Монд», когда ей стало плохо и я сам проводил Фуонг домой.
– Я не видела вас уже год, – сказала она.
– Я часто отлучаюсь в Ханой.
– Кто ваш друг?
– Его фамилия Пайл.
– Чем он занимается?
– Работает в американской экономической миссии. Снабжает голодающих швей электрическими швейными машинками.
– Они голодают?
– Не знаю.
– Им ни к чему швейные машинки. Там, где они живут, нет электричества. – Она все понимала буквально.
– Спросите об этом у Пайла, – предложил я.
– Он женат?
Я посмотрел на танцующих.
– Полагаю, ближе, чем сейчас, он с женщиной еще не бывал.
– Он плохо танцует.
– Да.
– Но выглядит приятным и надежным.
– Согласен.
– Можно мне немного посидеть с вами? Мои друзья скучные.
Музыка стихла, Пайл отвесил Фуонг неуклюжий поклон, проводил ее к столику, выдвинул для нее стул. Я видел, что Фуонг нравится его церемонность, и догадывался, что в отношениях со мной ей многого недостает.
– Познакомьтесь, – сказал я Пайлу. – Сестра Фуонг, мисс Хей.
– Чрезвычайно рад знакомству. – Он покраснел.
– Вы из Нью-Йорка? – спросила она.
– Нет, из Бостона.
– Это тоже в США?
– Да.
– Ваш отец бизнесмен?
– Он профессор.
– Учитель? – уточнила она с ноткой легкого разочарования.
– Он пользуется авторитетом. С ним консультируются.
– О здоровье? Он доктор?
– В некотором смысле. Доктор инженерных наук. Эксперт по подводной эрозии. Знаете, что это такое?
– Нет.
Пайл предпринял попытку пошутить:
– В таком случае пусть отец сам вам это объясняет.
– Он тут?
– Нет, здесь его нет.
– Но он приедет?
– Нет. Это была шутка, – виновато объяснил Пайл.
– У вас есть еще одна сестра? – обратился я к мисс Хей.
– Нет, а что?
– Похоже, вы изучаете мистера Пайла на пригодность к браку.
– У меня только одна сестра. – Мисс Хей тяжело опустила руку Пайлу на колено, как председательствующий, отбивающий ударом молоточка очередной пункт повестки.
– И какая очаровательная сестра! – воскликнул Пайл.
– Она – самая красивая девушка в Сайгоне, – заявила мисс Хей.
– Охотно верю.
– Пора заказать ужин, – вмешался я. – Даже самой красивой девушке в Сайгоне надо питаться.
– Я не голодна, – возразила Фуонг.
– Она хрупкая, – сурово, даже с угрозой в голосе продолжила мисс Хей. – Ей нужна забота. Она заслуживает ее. Она очень, очень преданная.
– Мой друг – счастливчик, – важно промолвил Пайл.
– Фуонг любит детей, – добавила мисс Хей.
Я засмеялся и поймал взгляд Пайла. Он смотрел на меня с удивлением и даже с упреком, и до меня вдруг дошло, что его искренне занимают речи мисс Хей. Пока я делал заказ (пусть Фуонг и утверждала, будто не голодна, я-то знал, что она может одолеть хороший стейк-тартар с двумя крутыми яйцами и гарниром), они стали серьезно обсуждать вопрос детей.
– Я всегда хотел много детей, – говорил Пайл. – Большая семья – это чудесно! Залог прочного брака. И для самих детей это хорошо. Сам я – единственный ребенок в семье. Быть единственным ребенком – большой недостаток. – Я еще ни разу не слышал от него таких пространных речей.
– Сколько лет вашему отцу? – хищно спросила мисс Хей.
– Шестьдесят девять.
– Старики любят внуков. Грустно, что у моей сестры нет родителей, некому будет порадоваться ее детям. Когда наступит время, – добавила она, бросив недобрый взгляд на меня.
– Так вы тоже сирота! – ляпнул Пайл.
– Наш отец был из хорошей семьи. Он был мандарином в Хюэ.
– Я всем вам заказал ужин, – сообщил я.
– Мне не надо, – произнесла мисс Хей. – Мне пора назад к друзьям. Хотелось бы снова встретиться с мистером Пайлом. Вы сможете это устроить?
– Когда вернусь с Севера, – ответил я.
– Вы уезжаете на Север?
– Пора, наверное, взглянуть, как там война.
– Все журналисты уже вернулись оттуда, – напомнил Пайл.
– Самое время для меня. Не придется сталкиваться с Грэнджером.
– Когда мсье Фаулер уедет, приходите к нам с сестрой ужинать. – И мисс Хей добавила с угрюмой учтивостью: – Повеселите ее.
После ее ухода Пайл заметил:
– Милая и культурная особа! Такой хороший английский!
– Скажите ему, что раньше у моей сестры был бизнес в Сингапуре, – гордо заявила Фуонг.
– Какой бизнес?
Я перевел ей вопрос, и она ответила:
– Импорт, экспорт. Еще она владеет стенографией.
– Хорошо бы иметь таких, как она, в нашей экономической миссии.
– Я с ней поговорю, – пообещала Фуонг. – Она бы с радостью работала с американцами.
После ужина они опять танцевали. Я – плохой танцор и не обладаю беззастенчивостью Пайла или все же был таким же, как он, когда влюбился в Фуонг? До того памятного вечера, когда мисс Хей стало плохо, я много раз танцевал с Фуонг в «Гран-Монд» только ради того, чтобы с ней поболтать. Сейчас, танцуя с ней, Пайл не пользовался этой возможностью. Он немного расслабился, не более, держал Фуонг уже не на расстоянии вытянутой руки, но оба молчали. Глядя на ее ножки – такие легкие, уверенные, даже его заставлявшие меньше шаркать, – я опять влюбился. Мне трудно было поверить, что через час-другой Фуонг снова будет у меня, в запущенной комнате, за стеной которой, на лестничной площадке, рядом с общим туалетом, галдят старухи.
Лучше бы до меня не дошел тогда слух о Фат-Дьеме или в том слухе было бы упомянуто любое другое место, а не единственный на Севере город, где служил французский флотский офицер, благодаря дружбе с которым я мог попасть туда без ведома цензоров и без всякого контроля. Газетная сенсация? Не в те дни, когда мир хотел читать только о Корее. Шанс погибнуть? Но зачем мне погибать, когда каждую ночь рядом со мной спит Фуонг? Но я знал ответ на этот вопрос. С самого детства я не верил в постоянство, хотя мне его всегда недоставало. И боялся утратить счастье. В этом месяце, в следующем году Фуонг уйдет от меня. Ну, не в следующем году, так через три года. В моем мире единственной абсолютной ценностью являлась смерть. Расстаться с жизнью значит больше никогда ничего не терять. Я завидовал верующим в Бога и не доверял им. Подозревал, что сказка о неизменности и постоянстве придает им бодрости. Смерть очевиднее Бога, она отменяет возможность ежедневной смерти любви. Вместе с ней исчезает кошмар будущего, где властвуют скука и безразличие. Я бы никогда не стал пацифистом. Убить человека – оказать ему неоценимую помощь. О, да, люди всегда и везде любят своих врагов. Боль и пустота припасены у них для друзей.
– Простите, что увел у вас мисс Фуонг, – раздался голос Пайла.
– Я не танцую, но люблю смотреть, как танцует она. – О ней всегда говорили в третьем лице, словно ее не было рядом. Порой она казалась невидимкой, совсем как мир и покой.
Началось первое выступление вечера: певец, жонглер, комик – ужасный сквернослов; но, судя по реакции Пайла, арго был ему недоступен. Фуонг улыбалась – и он улыбался; я смеялся – он тоже хмыкал, но через силу.
– Где-то сейчас Грэнджер… – сказал я, и Пайл упрекнул меня взглядом.
Наступила кульминация вечера – труппа трансвеститов. Многих из них можно было встретить днем на улице Катина: они прогуливались взад-вперед в старых штанах и свитерах, с синими подбородками и вихляющимися бедрами. Сейчас, в вечерних платьях с низким вырезом, в фальшивых драгоценностях, с накладными грудями и хриплыми голосами, они выглядели почти такими же желанными, как большинство европеек в Сайгоне. Молодые военные летчики встретили их свистом, они ответили очаровательными улыбками. Меня поразил резкий протест Пайла.
– Уходим, Фаулер! – воскликнул он. – С нас довольно. Она не должна этого видеть.
4
I
С колокольни собора война выглядела живописной и неподвижной, как панорама Бурской войны в старом номере «Иллюстрейтед Лондон ньюс». Самолет сбрасывал на парашютах припасы на изолированный пост в известковых горах – причудливых выветренных образованиях на границе с Аманом, похожих издалека на кучки жмыха, а поскольку он каждый раз возвращался для планирования в одну и ту же точку, то казался неподвижным, и парашют будто висел все там же, на полпути к земле. На равнине появлялись одинаковые минометные разрывы, дым стоял каменной стеной, пожар на рынке бледнел на солнце. Вдоль каналов ползли цепочками крохотные фигурки парашютистов, но с этой высоты движения не было заметно. Даже сидевший в углу священник застыл, читая свой молитвенник. На этом расстоянии война имела очень аккуратный, чистенький вид.
Я приплыл на рассвете из Намдиня на десантном судне. Мы не смогли высадиться на военно-морской базе, отрезанной неприятелем: он полностью окружил город, подойдя на расстояние в шестьсот ярдов, поэтому судну пришлось пристать у горящего рынка. Пламя превращало нас в удобную мишень, но в нас почему-то не стреляли. Все было спокойно, не считая треска и хлопанья горящих лавчонок. Я слышал, как по берегу реки выхаживает часовой-сенегалец.
Я хорошо знал Фат-Дьем до нападения неприятеля: одна длинная улица из деревянных лавок, перерезаемая через каждые сто ярдов каналом; церковь, мост. Ночью его освещали свечи и масляные фонарики (электричество в Фат-Дьеме имелось только в жилище французских офицеров), в любое время суток на улицах было людно и шумно. Прежде, прячась, совсем как в Средневековье, в тени и под защитой правящего епископа, это был самый оживленный городок в стране, но теперь, дойдя до офицерских казарм, я убедился, что он стал мертвее всех остальных. Обломки, битое стекло, запах горелой краски и штукатурки напомнили мне лондонскую улицу ранним утром, после отбоя воздушной тревоги. Не хватало только предупредительной надписи «неразорвавшаяся бомба».
Фасад офицерской казармы рухнул, дома напротив превратились в руины. Плывя по реке из Намдиня, я узнал от лейтенанта Перо, что здесь произошло. Для него, серьезного молодого человека и франкмасона, это стало карой за суеверия. Однажды епископ Фат-Дьема побывал в Европе и там уверовал в Богородицу из Фатимы, явившуюся, как верят католики, группе детей в Португалии. Вернувшись, он построил в пределах храма грот в честь Богородицы и стал ежегодно отмечать годовщину ее явления религиозной процессией. После того как власти распустили частную армию епископа, его отношения с полковником, командовавшим французскими и вьетнамскими войсками, стали натянутыми. В этом году полковник, симпатизировавший епископу – для них обоих родина была важнее католицизма, – сделал дружеский жест: возглавил вместе со своими старшими офицерами процессию. Никогда еще в Фат-Дьеме не собиралась такая толпа чествующих Богородицу из Фатимы. Пропускать это развлечение не стали даже многие буддисты – а их в городе насчитывалось около половины населения. Не верующие ни в Бога, ни в Будду и те решили, что флаги, ладанки и золотые дарохранительницы отведут от их хибар угрозу войны. Впереди процессии шествовали остатки армии епископа – его духовой оркестр. За ним тянулись, как недоросли-певчие, французские офицеры, послушные приказу полковника. Они прошли через ворота на территорию собора, миновали сначала белую статую Святого Сердца Христова, водруженную на островке посреди пруда перед собором, потом колокольню с восточным украшением – простертыми крыльями – и вступили в резной деревянный собор с колоннами из стволов деревьев-гигантов и с алым лакированным алтарем, скорее буддистским, чем христианским. Сбежалось видимо-невидимо народу изо всех деревень между каналами, местных «Нидерландов» с зелеными рисовыми чеками и золотящимися полями вместо плантаций тюльпанов и ветряных мельниц.
Затесавшихся в процессию агентов Вьетминя никто не заметил, и в ту же ночь, когда главный коммунистический батальон, обманув бдительность французских аванпостов выше на склонах, просочился по ущельям в известковых горах в Тонкинскую долину, передовые лазутчики нанесли удар по Фат-Дьему изнутри.
Теперь, через четыре дня, неприятель был отброшен при помощи парашютистов на расстояние мили от города. Это было поражение, журналистов не подпускали на пушечный выстрел, телеграммы были под запретом: газетам разрешалось рапортовать только о победах. Узнай власти о моих намерениях, меня не пустили бы дальше Ханоя. Но чем дальше от начальства, тем слабее контроль, пока не доберешься до передовой – а там ты уже желанный гость. То, что представлялось угрозой для штаба в Ханое и вызывало головную боль у полковника в Намдине, для лейтенанта на передовой превращалось в шутку, в развлечение, в признак любопытства со стороны внешнего мира, в возможность целых четыре благословенных часа драматизировать ситуацию, выставлять себя героем и подавать в ложном героическом свете даже своих раненых и убитых.
Священник захлопнул молитвенник.
– Конец, – сказал он. Он был европейцем, но не французом – епископ не потерпел бы в своей епархии французского священника. – Видите ли, – виновато объяснил он, – мне приходится подниматься на колокольню, а то эти бедняги так шумят!
Минометная стрельба звучала ближе – вероятно, противник открыл ответный огонь. Противника было нелегко отыскать: количество узких фронтов достигало дюжины, а кроме того, между каналами, фермами и рисовыми полями было множество удобных мест для засад.
Прямо под нами стояло, сидело и лежало все население Фат-Дьема. Католики, буддисты, язычники собрались здесь, навьюченные самым ценным своим имуществом – плитами для стряпни, лампами, зеркалами, халатами, циновками, иконами, – и расположились вокруг собора. Тут, на севере, с наступлением темноты воцарялся жуткий холод, и сам собор был уже полон, места внутри не осталось. Люди заняли лестницу колокольни, а толпа ломилась и ломилась в ворота, поднимая над головами младенцев и домашнюю утварь. Все, независимо от религии, верили, что здесь они будут в безопасности. У нас на глазах паренек во вьетнамской форме с винтовкой в руках был остановлен священником, отобравшим у него оружие.
– Мы нейтралы, – объяснил мне сосед по колокольне, святой отец. – Это территория Бога.
«Ну и подданные в этом Божьем царстве! – подумал я. – Перепуганная, продрогшая, голодная беднота».
– Не знаю, чем мы будем их кормить, – продолжил священник. – Тут пригодился бы великий мудрый царь.
«Всюду одно и то же, – мысленно возразил я. – Могущественные владики не самые счастливые подданные».
Внизу уже заработали лавочки.
– Похоже на огромную ярмарку, правда? – сказал я. – Но ни одного улыбающегося лица.
– Прошлой ночью они замерзли, – произнес священник. – Мы вынуждены запирать монастырские ворота, иначе люди наводнят весь монастырь.
– Здесь у вас тепло? – спросил я.
– Не очень. Места не хватило бы и для десятой части этой толпы. Знаю, что вы думаете, – добавил он. – Но хоть кому-то из нас должно быть удобно, это важно. У нас тут единственная в Фат-Дьеме больница, монахини – медсестры, других нет.
– А врач кто?
– Я делаю, что могу. – Только сейчас я заметил, что его сутана забрызгана кровью. – Вы поднялись ко мне? – спросил он.
– Нет, мне нужно было сориентироваться сверху.
– Я почему спросил? Вчера сюда поднялся один мужчина. Ему понадобилось исповедаться. Он такого навидался у канала, что был сильно напуган. Трудно осуждать его.
– Там совсем худо?
– Они угодили под перекрестный огонь парашютистов. Бедняги! Я подумал, что и вы из числа пострадавших.
– Я не католик. Меня и христианином-то вряд ли можно назвать.
– Чего только ни делает с человеком страх.
– Со мной никакому страху не сладить. Даже если бы я верил в какого-нибудь Бога, все равно ненавидел бы идею исповеди. Стоять на коленях в вашей исповедальне? Выворачивать себя наизнанку перед другим человеком? Вы уж меня простите, святой отец, но это что-то нездоровое, даже бесчеловечное.
– О, – небрежно откликнулся он, – вы, полагаю, хороший человек. Вряд ли вам есть чего стыдиться.
Я посмотрел на церкви, аккуратно распределенные среди каналов и тянущиеся к морю. На второй по счету колокольне что-то вспыхнуло.
– Не все ваши церкви соблюдают нейтралитет, – произнес я.
– Это невозможно. Французы пообещали не заходить на территорию собора. На большее мы не рассчитываем. Там, куда вы смотрите, огневая позиция Иностранного легиона.
– Ну, я пошел. Прощайте, святой отец.
– Удачи вам. Берегитесь снайперов.
Мне пришлось проталкиваться сквозь толпу. Миновав пруд и статую с раскинутыми сахарными руками, я очутился на длинной улице. Вид открывался на три четверти мили в каждую сторону, и на всем этом пространстве я заметил только два живых существа – двух солдат с камуфляжными сетками на касках, медленно удалявшихся по обочине со взятыми на изготовку автоматами. Неживое было представлено трупом: ноги в дверном проеме, голова на дороге. Слышны были жужжание слетающихся на смерть мух и затихающий в отдалении скрип солдатских сапог. Я поспешно миновал труп, отвернувшись в другую сторону. Через несколько минут, оглянувшись, я сообразил, что остался совсем один, не считая собственной тени, звуки тоже ограничивались моими шагами. Я почувствовал себя мишенью на стрелковом полигоне. Если бы со мной что-то случилось на этой улице, то подобрали бы меня не скоро, через много часов, мухи успели бы слететься на меня со всей округи.
Я перешел через один канал, через другой, свернул к какой-то церкви. Дюжина людей в камуфляже парашютистов сидели на земле, два офицера изучали карту. Я присоединился к ним, на меня не обратили внимания. Солдат с рацией, из которой торчала длинная антенна, сказал: «Все, можно идти», и все встали.
Я попросил на своем плохом французском разрешения присоединиться к ним. Эту войну приятно отличало то, что на поле боя европейское лицо служило пропуском: в европейце невозможно было заподозрить вражеского лазутчика.
– Вы кто? – спросил лейтенант.
– Я пишу о войне, – ответил я.
– Американец?
– Нет, англичанин.
– Тут у нас совсем мелкая заварушка, но если хотите пройти с нами… – Он стал стягивать с головы стальной шлем.
– Нет-нет, это для бойцов!
Мы прошли гуськом позади церкви, следуя за лейтенантом, и ненадолго задержались на берегу канала, чтобы солдат с рацией связался с патрулями на противоположном берегу. Разрывов свистевших над нами мин не было видно. За церковью к нам присоединились еще солдаты, и отряд разросся до трех десятков человек. Лейтенант, тыча в карту пальцем, объяснил мне:
– Доносят о трех сотнях человек вот в этой деревне. Пока мы ничего не знаем, их пока не нашли.
– Это далеко?
– В трехстах ярдах.
По рации что-то передали, и мы молча зашагали вправо от прямого канала, потом влево, в низкий кустарник. Дальше были поля и снова кустарник.
– Все чисто, – с облегчением прошептал лейтенант и махнул рукой.
Через сорок ярдов мы наткнулись на очередной канал с остатками мостика – единственной доской без перил. Лейтенант подал сигнал рассредоточиться, и мы присели, вглядываясь в неведомую территорию впереди, ярдах в тридцати за утлой доской. Солдаты, посмотрев на воду, дружно, как по команде, отвели взгляд. Сначала я не понял, в чем дело, но приглядевшись, почему-то вспомнил «Шале», шоу трансвеститов, свистящих молодых солдат и слова Пайла: «Это никуда не годится».
Канал был забит трупами. Напрашивалось сравнение с густым ирландским рагу. Тела наползали одно на другое; из воды торчала, как буй, синюшная, выбритая, как у уголовника, голова. Крови не было – наверное, ее давно унесло течением. Понятия не имею, сколько там было людей. Все они, накрытые перекрестным огнем, бросились назад, и теперь солдаты, глядя на результат этой бойни, думали: «Еще посмотрим, чья возьмет». Я тоже отвел взгляд; никто не желает напоминаний о том, как мало мы сто́им, какой стремительной, простой и безликой бывает смерть. Пусть рассудком я и стремился к смерти, подсознание шарахалось от нее, как девственница от дефлорации. Я бы предпочел смерть с предуведомлением, позволяющим подготовиться. Я не знал, к чему и как готовиться, зато мог, озираясь, сообразить, что прощаться мне пришлось бы совсем с немногим.
Лейтенант присел рядом с радистом и уставился на землю между своих колен. Рация затрещала, сыпля командами, и он, будто разбуженный от сна, медленно встал. Каждое их движение отличалось странным слитным товариществом, словно все они были равны и уже далеко не в первый раз совершали что-то дружно и бездумно. Никто не ждал приказов. Трое подошли к мостику-доске и попробовали пройти по нему, но, как они ни растопыривали руки, удержать равновесия не удалось, поэтому им пришлось плюхнуться и перемещаться короткими прыжками на пятой точке. Кто-то нашел в кустах и приволок лейтенанту лодку-плоскодонку. Мы залезли в нее вшестером, и лейтенант попробовал грести к другому берегу, однако мы завязли в трупах. Он тыкал и тыкал шестом в этот человеческий ил, пока одно тело не всплыло у нашего борта, как купальщик, загорающий на солнышке. Лодка снова пришла в движение, мы добрались до противоположного берега и вылезли, не оглядываясь. Кто-то у меня за спиной на полном серьезе произнес: «Gott sei dank»[20]. Почти все в отряде, кроме лейтенанта, были немцами.
Нам попались сельские домишки. Лейтенант первым двинулся вперед, прижимаясь к стенам, за ним последовали гуськом, с интервалами в 6 футов, остальные. Солдаты, опять-таки без приказа, рассыпались по ферме. Она была совершенно безжизненной, не осталось даже жалкой курицы, только на стене бывшей гостиной висели две жуткие репродукции – на одной Спаситель, на другой Мадонна с Младенцем. Благодаря этому хибары казались европейским жильем. Ты понимал, во что верили эти люди, пусть и не разделял их веры. Они превращались из серых обескровленных трупов в живых людей.
Чаще всего война – это тоскливое безделье, когда постоянно кого-то ждешь. Нет гарантии, сколько тебе осталось времени, поэтому начинать что-либо, даже просто размышлять, не имеет смысла. Действуя по давно заведенной привычке, выдвинулись вперед солдаты охранения. Любое шевеление теперь могло обозначать только врага. Лейтенант сделал пометку на карте и доложил по рации о нашем местоположении. Наступило полуденное затишье: минометы и те заткнулись, небо очистилось от самолетов. Кто-то чертил непонятно что прутиком в пыли посреди фермерского двора. Еще немного – и стало казаться, будто война забыла о нас. Я думал о том, что Фуонг должна была отправить в чистку мои костюмы. Холодный ветер шевелил солому во дворе, какой-то скромник зашел за сарай, чтобы справить нужду. Я напряженно вспоминал, заплатил ли британскому консулу в Ханое за одолженную бутылку виски.
Впереди грохнуло два выстрела, и я подумал: «Вот оно, начинается!» Никаких других оповещений мне не требовалось. Я в радостном возбуждении ждал боя.
Однако ничего не произошло. В который раз я переборщил с готовностью. Через несколько нескончаемых минут один из часовых явился к лейтенанту с донесением: «Deux civils»[21].
– Пошли посмотрим, – позвал меня лейтенант, и мы побрели за часовым по грязной заросшей тропе между двумя полями.
В двадцати ярдах за фермой, в узкой канаве, мы набрели на женщину и маленького мальчика. Они были, без сомнения, мертвы: на лбу у женщины запеклась кровь, ребенок казался спящим. Ему было лет шесть, и он лежал в позе эмбриона в материнской утробе, подтянув под живот костлявые колени. «Mal chance»[22], – сказал лейтенант, нагнулся и перевернул ребенка. На шее у него был амулет, и я подумал: «Не сработало». Под трупиком лежал надкусанный кусок хлеба. «Ненавижу войну», – вздохнул я.
– Ну, нагляделись? – свирепо спросил лейтенант, словно вина за эти смерти лежала на мне.
Возможно, штатский для солдата – тот, кто нанимает убивать его, подкладывает в конверт с жалованьем вину за убийство и избегает ответственности. Мы вернулись на ферму и снова молча уселись в солому, прячась от ветра, знавшего, как животное, о скором наступлении темноты. Солдат, чертивший в пыли, теперь облегчался за сараем, а тот, что раньше облегчался, принялся чертить. Я подумал, что как раз в такое затишье, когда часовые заступили на свои посты, те двое решили, что могут без страха вылезти из своей канавы. Гадал, долго ли они там пролежали – хлеб успел сильно испачкаться. Эта ферма была, похоже, их домом.
Рация опять затрещала.
– Деревню будут бомбить, – устало сообщил лейтенант. – Патрули отзываются на ночь.
Мы встали и проделали обратный путь: лавировали в массе мертвых тел, потом тянулись гуськом за церковью. Ушли недалеко, но все же казалось, будто проделан далекий путь, хотя единственным результатом нашего выдвижения стало убийство матери и сына. В воздух поднялись самолеты, позади нас началось бомбометание.
Пока я добрался до офицерских казарм, где ночевал, стемнело. Температура упала до всего одного градуса выше нуля, тепло сосредоточилось в одном месте – на догорающем рынке. Одна стена казармы была снесена из базуки, и ни задраенные двери, ни шторы из брезента не могли справиться со сквозняками. Электрогенератор не работал, и нам пришлось возвести баррикады из ящиков и книг, чтобы не гасли свечи. Я играл в «421» на коммунистические деньги с капитаном по фамилии Сорель. Играть на выпивку было нельзя, я все же являлся гостем в их клубе-столовой. Удача была в этот вечер переменчивой, и, чтобы согреться, я откупорил бутылку виски. Вокруг нас собралась толпа.
– Впервые пью виски после отъезда из Парижа, – сообщил полковник.
Лейтенант вернулся после обхода постов.
– Возможно, нас ждет спокойная ночь, – сказал он.
– До четырех они не нападут, – согласился полковник. – У вас есть оружие? – обратился он ко мне.
– Нет.
– Я вам подберу. Будете держать под подушкой. – И он вежливо продолжил: – Боюсь, матрас покажется вам жестковатым. В половине четвертого начнется минометная пальба. Мы пытаемся не дать им сосредоточиваться.
– Как долго это, по-вашему, продлится?
– Кто знает? Мы больше не можем снимать войска из Намдиня. Это просто отвлекающие действия. Если продержимся без подкрепления, только с теми силами, которые получили два дня назад, это можно будет назвать победой.
Снаружи бесновался ветер, силясь прорвать нашу баррикаду. Брезентовый занавес захлопал (мне вспомнился Полоний, проткнутый шпагой за занавеской), огонек свечи затрепетал. По казарме заметались театральные тени. Мы смахивали на труппу посредственных лицедеев.
– Ваши позиции устояли?
– По-моему, да, – ответил он утомленно. – Понимаете, это все пустое, мелочь в сравнении с тем, что происходит в сотне километров отсюда, в Хоабине. Вот где сражение!
– Еще рюмочку, полковник?
– Нет, благодарю. Чудесная штука этот ваш английский виски, но лучше оставить немного на ночь, мало ли что? Прошу меня извинить, я пойду спать. Под минометную пальбу уже не поспишь. Капитан Сорель, проследите, чтобы у мсье Фаулера было все необходимое: свеча, спички, револьвер. – И он удалился в свою комнату.
Это стало сигналом для всех нас. Мне положили матрас на полу маленького склада, где я оказался в окружении деревянных ящиков. Сон пришел быстро – твердый пол почему-то способствовал расслаблению. Я успел подумать – странно, без капли ревности, – дома ли Фуонг. Той ночью мне было не до обладания женским телом – я навидался за день тел, не принадлежавших никому, даже самим себе. Все мы оказались одноразовыми предметами. Я уснул, и мне приснился Пайл. Он в одиночестве танцевал на сцене, неуклюже двигаясь и протягивая руки партнерше-невидимке. Я наблюдал за ним с какого-то вращающегося табурета и держал наготове револьвер на случай, если его танцу кто-нибудь помешает. В программке у сцены, совсем как в английском мюзик-холле, значилось: «“Любовный танец”, категория А». Сзади началось какое-то хождение, и я крепче сжал оружие. Вскоре я проснулся.
Под рукой у меня лежал одолженный мне револьвер, в двери стоял человек со свечой. Тень от каски скрывала его глаза, и только когда он заговорил, я узнал по голосу Пайла.
– Мне так стыдно вас будить, – робко проговорил он. – Мне сказали, что я могу здесь переночевать.
Я еще не до конца опомнился.
– Откуда у вас каска? – спросил я.
– Дали, – последовал туманный ответ.
Пайл втащил в коморку военный рюкзак и стал разматывать спальный мешок с шерстяной подкладкой.
– Как хорошо вы экипированы, – промычал я, силясь вспомнить, каким образом мы с ним тут очутились.
– Это стандартный дорожный комплект наших бригад медицинской помощи, – объяснил Пайл. – Я получил его в Ханое.
Он достал термос, спиртовку, щетку для волос, бритвенный набор и коробку с сухим пайком. Я посмотрел на часы. Было около трех часов ночи.
II
Пайл все обустраивался. Он сделал подставку из коробок и разместил на ней зеркальце и принадлежности для бритья.
– Сомневаюсь, что вы раздобудете воду, – предупредил я.
– У меня хватит на утро воды в термосе. – Пайл плюхнулся на свой спальный мешок и стал стягивать башмаки.
– Как вы сюда просочились?
– Меня подбросили до Намдиня, к нашей бригаде по борьбе с трахомой, а дальше я нанял лодку.
– Лодку?!
– Что-то типа плоскодонки – не знаю, как она называется. Вообще-то мне пришлось ее купить. Недорого.
– Вы что же, сами плыли вниз по реке?
– Это было нетрудно. Мне помогло течение.
– Вы с ума сошли!
– Почему? Опасность была одна – сесть на мель.
– Еще вас мог прошить очередью морской патруль или французский самолет. Вам мог перерезать глотку Вьетминь.
Пайл застенчиво улыбнулся:
– Так или иначе я добрался.
– Зачем?
– Причин две. Но так вы из-за меня не выспитесь.
– Я больше не хочу спать. Все равно скоро начнется пальба.
– Не возражаете, если я передвину свечу? Она светит прямо в глаза. – Он нервничал.
– Какова первая причина?
– На днях вы рассказывали об этом месте, и мне стало интересно. Помните, с нами были Грэнджер… и Фуонг.
– И что?
– Я решил, что должен сам взглянуть. По правде говоря, я немного стыдился Грэнджера.
– Понятно. Все так просто!
– Ну, особенных трудностей ведь не возникло? – Пайл стал возиться со своими шнурками. Мы долго молчали. – Я сказал не всю правду, – наконец признался он.
– Не всю?
– На самом деле я приплыл к вам.
– Ко мне?
– Да.
– Зачем?
Пайл поднял голову:
– Я должен был вас предупредить… Я влюбился в Фуонг.
Я не сдержался – захохотал. Это прозвучало так неожиданно и серьезно!
– Неужели нельзя было дождаться моего возвращения? На следующей неделе я уже буду в Сайгоне.
– Вас могут убить. Получилось бы нехорошо. И потом, вряд ли я мог бы провести столько времени без Фуонг.
– Неужели? Вы по ней тоскуете?
– Конечно. Не думаете же вы, что я бы признался ей без вашего ведома?
– Некоторые не постеснялись бы, – усмехнулся я. – Когда это произошло?
– Кажется, в тот вечер в «Шале», когда мы с ней танцевали.
– Вы как будто были от нее далеко.
Он посмотрел на меня с недоумением. Его поведение казалось мне безумным, мое было для него необъяснимым.
– Знаете, – продолжил Пайл, – на меня подействовали все эти девушки в том месте. Красавицы как на подбор! Она ведь могла бы быть одной из них. Мне захотелось защитить ее.
– По-моему, Фуонг не нуждается в защите. Мисс Хей вызывала вас на разговор?
– Да, но я не пошел. Спрятался. Это ужас! Чувствую себя мерзавцем. Надеюсь, вы мне верите. Если бы вы поженились, то… Я ни за что не вклинился бы между мужем и женой.
– Похоже, вы уверены, что можете вклиниться, – заметил я. Впервые он меня разозлил.
– Фаулер… Не знаю, как вас зовут…
– Томас, а что?
– Можно мне называть вас Томом? У меня чувство, что это нас свело. Любовь к одной женщине.
– Как вы поступите дальше?
Пайл бодро откинулся на стену из ящиков.
– Теперь, когда вы узнали, все выглядит иначе, – произнес он. – Я предложу ей выйти за меня замуж, Том.
– Лучше называйте меня Томасом.
– Пусть выбирает между нами, Томас. Это будет справедливо.
Справедливо ли? Впервые я почувствовал предостерегающий холодок одиночества. Все это было невероятно, однако… Возможно, он был неважным любовником, но я был в сравнении с ним нищим. Пайл обладал несметным богатством – респектабельностью.
Он стал раздеваться, и я подумал: «А еще он молод». Как это печально – завидовать Пайлу!
– Я не могу на ней жениться, – сказал я. – Дома у меня жена. Она никогда не даст мне развода. Она принадлежит к Высокой церкви[23]. Знаете, что это такое?
– Мне очень жаль, Томас. Между прочим, меня зовут Олден, так что…
– Лучше я буду и дальше называть вас Пайлом. Я думаю о вас как о Пайле.
Он залез в спальный мешок и потянулся к свече.
– Я рад, что это позади, Томас. Я места себе не находил. – Было очевидно, что поиск места остался в прошлом.
Свеча погасла, и мне стал виден в проникающем снаружи свете контур его «ежика».
– Спокойной ночи, Томас. Приятного сна!
Стоило ему это сказать, как, словно в плохой комедии, ожили минометы: засвистели мины, загрохотали разрывы.
– Боже правый! – ахнул Пайл. – Атака, что ли?
– Попытка помешать атаке.
– Значит, о сне можно не мечтать?
– Какой уж тут сон!
– Томас, я хочу, чтобы вы знали, как я отношусь к той выдержке, с которой вы все это приняли. Я в восхищении, другого слова не подобрать.
– Спасибо.
– Вы несравненно больше повидали, чем я. Знаете, Бостон – это в определенном смысле тиски. Даже если не принадлежишь к лучшим семьям, Лоуэллам или там Кэботам… Мне бы хотелось вашего совета, Томас.
– О чем?
– О Фуонг.
– На вашем месте я бы такому совету не доверял. Я пристрастен. Хочу удержать ее.
– Но я знаю, что вы совершенно искренни. Мы оба печемся о ее интересах.
Мне вдруг сделалось невыносимо его ребячество.
– Мне интересы Фуонг не так уж важны. Пусть забирает их себе. Мне подавай только ее тело. Я хочу Фуонг в своей постели. Я бы лучше ее обесчестил и просто спал с ней, чем… чем печься о ее чертовых интересах.
– О! – донесся до меня в темноте его слабый голос.
– Если вам дороги только ее интересы, – не унимался я, – то, ради бога, оставьте Фуонг в покое! Как любая другая женщина, она предпочтет просто хороший… – Особенно сильный разрыв мин уберег его бостонские уши от забористого словца.
Но Пайл был неумолим. Он решил, что я хорошо себя веду, – значит, я должен был вести себя хорошо.
– Я знаю, как вы переживаете, Томас.
– Я не переживаю.
– Переживаете! Знаю, что было бы со мной, если бы мне пришлось расстаться с Фуонг.
– Я с ней не расстался.
– Я тоже понимаю, что такое потребности тела, Томас, но я бы оставил надежды на это ради счастья Фуонг.
– Она счастлива.
– Не может она быть счастлива – в таком положении. Ей нужны дети.
– Если вы верите в чушь, которую ее сестра…
– Сестре иногда виднее.
– Она пыталась продать вам эту мысль, Пайл, потому что думает, что у вас больше денег. И она ее успешно продала.
– У меня нет ничего, кроме зарплаты.
– Вам благоприятствует обменный курс.
– Не язвите, Томас. Подобное случается. Я бы много дал, чтобы это произошло не с вами, а с кем-либо другим. Это стреляют наши минометы?
– «Наши», «наши». Вы говорите так, словно она от меня уходит, Пайл.
– Конечно, – неуверенно сказал он, – Фуонг может решить остаться с вами.
– Как бы вы тогда поступили?
– Попросил бы меня перевести.
– Почему бы вам просто не отойти в сторону, Пайл? Зачем устраивать скандал?
– Это нечестно по отношению к ней, Томас, – серьезно ответил он. Не знал никого другого, кто лучше объяснял создаваемый им самим переполох. – По-моему, вы не вполне понимаете Фуонг.
Проснувшись в то утро, через несколько месяцев, рядом с Фуонг, я думал: «А ты ее понимал? Мог предвидеть эту ситуацию? Фуонг спит рядом со мной счастливая, а ты мертв». Время порой мстит, но месть часто получается угрюмой. Не лучше ли нам всем просто принять факт, что люди не понимают друг друга: жена мужа, любовник любовницу, родитель ребенка? Наверное, для этого люди и изобрели Бога – существо, способное на понимание. Возможно, если бы я хотел понимать или быть понятым, то обманом внушил бы себе веру, но я репортер. Бог существует только для авторов передовиц.
– Вы уверены, что здесь есть что понимать? – спросил я Пайла. – Господи, лучше выпьем виски. При таком шуме не поспоришь.
– Рановато как-то, – возразил он.
– Наоборот, поздновато.
Я наполнил две рюмки, Пайл поднял свою и стал разглядывать виски в свете свечи. При каждом разрыве мины у него немного вздрагивала рука. Тем не менее он предпринял это бессмысленное путешествие из Намдиня.
– Чудно, – произнес Пайл, – мы не можем пожелать друг другу удачи.
Пришлось выпить молча.
5
I
Я собирался отлучиться из Сайгона всего на неделю, но вышло так, что вернулся только через три. Покинуть район Фат-Дьема оказалось труднее, чем туда попасть. Дорога между Намдинем и Ханоем была перерезана, а за одним репортером, которому к тому же не полагалось там находиться, никто не прислал бы самолет. Когда я наконец добрался до Ханоя, в самолете, увозившем журналистов после брифинга, посвященного последней победе, для меня не нашлось места. Пайл уехал из Фат-Дьема уже утром, проведя там всего одну ночь и достигнув своей цели – поговорил со мной о Фуонг; других дел у него там не было. В половине шестого, когда унялись минометы, я оставил Пайла спящим, но, вернувшись из столовой, где позавтракал кофе с печеньем, уже не застал его. Я решил, что он вышел прогуляться – после плавания на плоскодонке от самого Намдиня редкие снайперы не должны были его беспокоить. Пайл не мог представить боль и опасность для себя самого, как не мог предвидеть, что причинит боль другим. Однажды, через несколько месяцев, я так разозлился, что заставил его ступить в чужую боль, и он, помнится, отвернулся, посмотрел на испачканный мысок ботинка и озадаченно произнес: «Перед посещением посланника надо будет почистить обувь». Я знал, что фразы Пайл теперь составляет в стиле Йорка Хардинга. Однако он был по-своему искренен: то, что за жертвы приходилось расплачиваться другим, объяснялось совпадением; закончилось все это ночью, под мостом Да-Као.
Только вернувшись в Сайгон, я узнал, что, пока я попивал кофе, Пайл уговорил одного молодого флотского офицера взять его на десантное судно, которое, завершив обычный патрульный рейс, тайно высадило его в Намдине. Ему повезло, и он вместе со своими борцами с трахомой успел в Ханой за сутки до официального объявления дороги перерезанной. Когда я добрался до Ханоя, Пайл уже подался на юг, оставив мне у бармена в лагере прессы записку.
«Дорогой Томас, – писал он, – мне трудно выразить, как достойно вы повели себя прошлой ночью. Честно говоря, у меня душа ушла в пятки, когда я увидел в комнате вас. (А где она была во время плавания вниз по реке?) Мало кто отнесся бы к этому так спокойно, как вы. Вы молодец, и мне после нашего разговора сильно полегчало. (Неужели только он один что-то значит? Но при всей своей злости я понимал, что Пайл говорил не только о себе. С его точки зрения, как только ему полегчает, все устроится: я буду счастливее, Фуонг будет счастливее, весь мир будет счастливее, даже экономический атташе и сам посланник. В Индокитае наступила весна – ведь Пайлу полегчало!) Я целые сутки ждал вас здесь, но если не уехать сегодня, то я не попаду в Сайгон еще неделю, а моя работа на юге. Я сказал парням, занимающимся бригадами окулистов, позаботиться о вас, они вам понравятся. Они отличные ребята и делают важное дело. Не беспокойтесь из-за того, что я окажусь в Сайгоне раньше вас. Обещаю не видеться с Фуонг до вашего возвращения. Не хочу потом чувствовать, что поступил с вами нечестно. Сердечно ваш, Олден».
Снова эта спокойная уверенность, что «потом» Фуонг потеряю я! Неужели основа уверенности – обменный курс? Раньше говорили о «качестве, как у фунта стерлингов», а теперь побеждает «долларовая любовь»? Долларовая любовь включала бы, конечно, брак, Олдена-младшего, День матери, хотя потом могла прийти очередь Рино в Неваде или Виргинских островов – куда сейчас ездят разводиться? У долларовой любви благие намерения и чистая совесть, а остальные могут идти ко всем чертям. Что до моей любви, у нее намерений не было: ей было ведомо будущее. Человеку доступно одно: попытаться облегчить будущее, как-то смягчить его приход. Даже опиум играл в этом кое-какую роль. Мог ли я предвидеть, что первым будущим, о котором я оповещу Фуонг, станет смерть Пайла?
Я отправился на пресс-конференцию – это было лучшее, чем я мог заняться. Там, конечно, сидел Грэнджер. Вел конференцию молодой французский полковник, красавчик. Его французскую речь переводил младший офицер. Французские корреспонденты сидели вместе, как соперничающая футбольная команда. Я никак не мог сосредоточиться на словах полковника: мысли постоянно возвращались к Фуонг, к единственному вопросу: вдруг Пайл прав и я ее теряю? Что будет дальше?
Переводчик говорил:
– Полковник рассказывает, что неприятель терпит сокрушительное поражение и несет тяжелые потери численностью в целый батальон. Сейчас последние его отряды переправляются на плотах из подручных средств на другой берег Красной реки. Их непрерывно обстреливают наши ВВС.
Полковник убрал пятерней желтую прядь со лба и, фехтуя указкой, затанцевал вдоль длинных карт на стене.
– Каковы французские потери? – спросил один из американских корреспондентов.
Полковник понимал, что означает данный вопрос, всегда звучавший именно на этой стадии пресс-конференции, но сделал паузу, тыча указкой в потолок и улыбаясь доброй улыбкой популярного учителя, дожидаясь перевода. Его ответ был отмечен терпеливой неопределенностью.
– Полковник говорит, что наши потери невелики. Точная цифра пока неизвестна.
Это обычно служило сигналом для обострения. Казалось бы, полковник должен был в конце концов нащупать формулу общения с этим непокорным классом; в крайнем случае директору школы следовало бы назначить вместо него другого подчиненного, умеющего восстанавливать порядок.
– Неужели полковник всерьез утверждает, что успел подсчитать потери неприятеля, но не свои? – спросил Грэнджер.
Полковник продолжил терпеливо плести свою паутину увиливаний, отлично зная, что ее порвет следующий же вопрос. Французские корреспонденты угрюмо молчали. Если американские корреспонденты принудят полковника к откровенности, они не преминут зафиксировать ее, но заклевывать соотечественника не станут.
– Полковник говорит, что неприятельские силы обращены в бегство. Можно сосчитать количество убитых, оставшихся за огневым рубежом, но пока бой продолжается, вы не можете ожидать цифр от наступающих французских сил.
– Дело не в наших ожиданиях, – не унимался Грэнджер, – а в осведомленности штаба. Вы серьезно утверждаете, что взводы не докладывают по рациям о своих потерях?
Полковник начал терять терпение. Почему бы ему, думал я, с самого начала не предупредить нас, что цифры им известны, но они их не огласят? В конце концов, это их война, а не наша. У нас не было спущенного свыше права на информацию. Нам не приходилось сражаться с левыми и правыми депутатами в Париже, а также с войсками Хо Ши Мина между Красной и Черной рекой. Гибли они, а не мы.
Полковник вдруг выпалил, что французские потери составляют один к трем, и, отвернувшись от нас, в гневе уставился на карту. Гибли его люди, друзья-офицеры, выпускники одного с ним курса в академии Сен-Сир, остававшиеся для Грэнджера бездушными цифрами.
– Это уже что-то, – произнес Грэнджер и с глупым торжеством оглянулся на коллег. Французы, дружно склонив головы, заносили в блокноты невеселые цифры.
– В Корее и того не скажут, – проговорил я, намеренно изобразив тупость, но этим навел Грэнджера на новую мысль.
– Спросите полковника, какими будут дальнейшие действия французов. Он говорит, что неприятель бежит, переправляясь через Черную реку…
– Красную, – поправил переводчик.
– Мне нет дела до цвета реки. Мы хотим знать, что станут делать французы теперь.
– Неприятель поспешно отходит.
– Что будет, когда они выйдут на другой берег? Как вы тогда поступите? Будете сидеть на своем берегу и ждать, когда все закончится? – Французские офицеры с мрачным терпением слушали глумливый голос Грэнджера. От солдата нынче требуется смирение. – Вы намерены сбрасывать им рождественские открытки?
Капитан тщательно переводил, не пропустив даже cartes de Noel[24]. Полковник неприветливо улыбнулся.
– Открыток не предусмотрено.
Видимо, Грэнджера бесили молодость и красота полковника. На его взгляд, полковник не был настоящим мужчиной.
– Ничего другого вы не сбрасываете, – буркнул он.
Полковник вдруг заговорил по-английски, причем неплохо:
– Если бы поступили обещанные американцами боеприпасы, у нас было бы что сбрасывать.
Несмотря на свое изящество, он был простым парнем. Верил, что корреспондент газеты больше заботится о чести своей страны, чем о новостях. Грэнджер (он хорошо знал свое дело и всегда помнил цифры) сразу вцепился в него:
– Вы хотите сказать, что боеприпасы, обещанные к началу сентября, так и не поступили?
– Нет.
Грэнджер вырвал из него новость и застрочил в блокноте.
– Прошу прощения, – спохватился полковник, – это не для печати, а для общей информации.
– Но, полковник, это же новость! – возмутился Грэнджер. – Мы могли бы вам помочь.
– Нет, это дело дипломатов.
– Какой вред мы можем причинить?
Французские корреспонденты растерялись: они почти не владели английским. Полковник поступал вопреки правилам. Они сердито заворчали.
– Не мне судить, – произнес полковник. – Вероятно, американские газеты скажут: «Эти французы вечно ноют, вечно что-то клянчат…» А в Париже коммунисты станут вас клеймить: «Французы проливают кровь за Америку, а Америка даже подержанного вертолета не пришлет». От всего этого не будет пользы. Мы не получим вертолетов, а противник останется на прежних позициях, в пятидесяти милях от Ханоя.
– Могу я, по крайней мере, опубликовать вот это – что вам позарез нужны вертолеты?
– Напишите, что полгола назад у нас было три вертолета, а теперь остался один. Один! – повторил полковник со смесью изумления и горечи. – Можете добавить, что раненный в этих боях – не тяжело, просто раненный – скорее всего, обречен. От двенадцати часов до суток на носилках до «Скорой помощи», потом непроезжие дороги, поломка, а то и засада – вот вам и гангрена. Лучше быть сразу убитым. – Французские корреспонденты подались вперед, стараясь уловить смысл полковничьей тирады. – Так и напишите! – Красота придавала его речи еще больше яду. – Interpreter![25] – приказал он и удалился, заставив капитана решать непривычную задачку – переводить с английского на французский.
– Все-таки я его довел! – довольно бросил Грэнджер и удалился за угол рядом с баром составлять телеграмму.
Моя телеграмма получилась короткой: ничего из того, что я мог сообщить из Фат-Дьема, не пропустили бы цензоры. С выдающейся информацией можно было бы слетать в Гонконг и отправить ее оттуда, но разве найдется информация, ради которой стоило бы рисковать выдворением? Сомнительно. Выдворение означало бы конец целой жизни, победу Пайла. Собственно, в ящичке для ключей от номера отеля меня ждало подтверждение его победы, конец романа – телеграмма, поздравлявшая меня с повышением. Сам Данте не придумал бы такого поворота для своих обреченных любовников. Паоло не повышали до Чистилища.
Я поднялся в пустой номер с капающей из крана холодной водой (горячей воды в Ханое не было) и сел на край кровати, под свернутой над головой москитной сеткой, похожей на пухлое облако. Мне предстояло в качестве нового редактора зарубежных новостей каждый день приезжать на станцию Блэкфрайерс, входить в мрачное викторианское здание с табличкой в честь лорда Солсбери у двери и ехать в лифте наверх. Это счастливое известие прислали из Сайгона, и я гадал, достигло ли оно уже ушей Фуонг. Мне полагалось перестать служить репортером и впредь иметь свое суждение, а в обмен на эту пустую привилегию лишиться последней надежды в соперничестве с Пайлом. Мой опыт мог бы побить его девственность, в сексуальной игре возраст порой оказывается картой не хуже молодости, но теперь я не мог предложить даже короткого будущего длиной в 12 месяцев, а будущее было козырной картой. Теперь я завидовал даже соскучившемуся по дому офицеру, обреченному на игру со смертью. Я бы всплакнул, но мои слезные протоки были сухи, как трубы для горячей воды в отеле. Пусть все разлетаются по домам – а мне подавай лишь мою комнатушку на улице Катина.
После наступления темноты в Ханое холодало, огни были тусклее, чем в Сайгоне, как темнее были одеяния женщин – война как-никак. Я прошел по улице Гамбетта к бару «Пакс» – не хотелось пить в «Метрополе» со старшими французскими офицерами, их женами и подружками. По пути в бар я слышал пальбу со стороны Хоабиня. Днем эти звуки тонули в шуме уличного движения, но теперь было тихо, если не считать треньканья велосипедных звонков там, где скопились платные рикши. Пьетри сидел на обычном месте. У него был странный вытянутый череп, сидевший на плечах, как груша на блюдце; этот офицер Сюрте был женат на очаровательной уроженке Тонкина, владелице бара «Пакс». У него тоже не было сильного желания возвращаться на родину. Он был корсиканцем, однако предпочитал Марсель, а Марселю – свое место на тротуаре на улице Гамбетта. Я не исключал, что ему уже известно содержание полученной мной телеграммы.
– «Четыреста двадцать одно»? – предложил он.
– Почему бы нет?
Мы сели играть. Я не мог представить для себя другой жизни, вдали от улиц Гамбетта и Катина, без вкуса вермута с черносмородиновым ликером, без уютного перестука костей, без орудийной пальбы, путешествующей, как часовая стрелка, по горизонту.
– Я возвращаюсь, – сказал я.
– Домой? – спросил Пьетри, бросая четыре-к-одному.
– Нет, в Англию.
Часть вторая
1
Пайл напросился в гости, «на рюмочку», хотя я отлично знал, что он не пьет. Прошло несколько недель, и наша фантастическая встреча в Фат-Дьеме стала казаться нереальной, стерлись даже подробности разговора. Они стали похожи на недостающие буквы на римской гробнице, и я подобно археологу пытался в меру своих познаний заполнить пустые места. Мне даже пришло в голову, что Пайл разыграл меня и тот разговор был шуточным, но одновременно продуманным отвлечением внимания от его истинной цели, потому что в Сайгоне уже ходили слухи о его связи со службами, неуместно именуемыми «секретными». Возможно, он был связан с поставками американского оружия «третьей силе», епископскому духовому оркестру – остаткам юных перепуганных неоплачиваемых рекрутов. В кармане у меня лежала телеграмма, полученная в Ханое. Сообщать о ней Фуонг не имело смысла: это отравило бы слезами и ссорами несколько оставшихся месяцев. Я даже откладывал до последнего обращение за разрешением на выезд – вдруг у нее есть знакомые в иммиграционной службе?
– В шесть придет Пайл, – сообщил я.
– Я схожу к сестре, – сказала Фуонг.
– Полагаю, он захочет тебя увидеть.
– Ему не нравлюсь ни я, ни моя семья. Когда тебя не было, Пайл ни разу не пришел к моей сестре, а она его приглашала. Сестра обиделась.
– Тебе необязательно уходить.
– Если бы Пайл хотел меня увидеть, то пригласил бы нас в «Мажестик». Он хочет говорить только с тобой – о деле.
– Что у него за дело?
– Говорят, он много чего завозит.
– Что именно?
– Лекарства, медицинские принадлежности…
– Это для медиков, выявляющих трахому на Севере.
– Наверное. Таможня не должна вскрывать этот груз. Он дипломатический. Однажды произошла ошибка, и того, кто ошибся, уволили. Первый секретарь пригрозил, что остановит весь импорт.
– Что находилось в контейнере?
– Пластик.
– Неужели взрывчатка?
– Нет, просто пластик.
После ухода Фуонг я написал домой. Через несколько дней улетал в Гонконг сотрудник «Рейтер», он мог отправить письмо оттуда. Я знал, что моя мольба безнадежна, но не хотел потом упрекать себя, что не предпринял всех возможных шагов. Я писал главному редактору, что сейчас неудачный момент для замены корреспондента. Генерал Делатр лежит в Париже при смерти, французы вот-вот уйдут из Хоабиня, никогда еще Север не подвергался такой опасности. Я писал, что не гожусь в редакторы зарубежных новостей: я репортер, ни о чем не имеющий собственного мнения. На последней странице даже написал о личных причинах, хотя не надеялся на простое человеческое сочувствие под слепящим светом, в мире зеленых очков и стереотипных фраз: «благо газеты», «ситуация диктует…».
Я написал: «По своим, личным причинам я буду чрезвычайно огорчен необходимостью покинуть Вьетнам. Вряд ли я смогу наилучшим образом проявить себя в Англии по причине как финансовых, так и семейных затруднений. Собственно, если бы я мог себе это позволить, то лучше уволился бы, чем вернулся в Великобританию. Я упоминаю об этом только с целью подчеркнуть серьезность своих возражений. Не думаю, что не устраиваю вас как корреспондент, и это первая моя просьба к вам…»
Затем я проглядел свою статью о сражении в Фат-Дьеме, которую собирался отправить из Гонконга. От французов серьезных возражений уже не ожидалось: осада была снята, поражение можно было представить победой. Подумав, я порвал последнюю страницу своего письма к главному редактору. Она не помогла бы: «личные причины» вызвали бы насмешки, ничего больше. Считалось, что у каждого корреспондента есть местная девушка. Главный редактор поделился бы своим весельем с ночным редактором, а тот вернулся бы, мучимый завистью, в свой полуотдельный дом в Стритхэме и притащил бы ее в постель, к верной жене, привезенной невесть когда из Глазго. Я ясно видел этот безжалостный дом: трехколесный велосипед в коридоре, сломанная любимая трубка хозяина, детская рубашонка в гостиной, к которой давно надо пришить пуговицу. «Личные причины»… Не хватало слушать потом в пресс-клубе их шуточки, напоминающие о Фуонг!
В дверь постучали. Я открыл дверь и впустил Пайла, впереди которого бежала его черная собака. Заглянув мне через плечо, Пайл убедился, что комната пуста.
– Я один, – сказал я, – Фуонг ушла к сестре.
Он покраснел. Я заметил, что на нем яркая гавайская рубаха, хотя он был довольно скромен по части красок и фасонов. Это было удивительно: неужели его обвинили в антиамериканской деятельности?
– Надеюсь, я ничему не помешал… – произнес Пайл.
– Нет, конечно. Что будете пить?
– С удовольствием выпью пива.
– Извините. У нас нет холодильника, нам приносят лед. Может, виски?
– Совсем капельку, если не возражаете. Я не большой любитель крепкого спиртного.
– Со льдом?
– Побольше содовой – если она у вас есть.
– Я не видел вас после Фат-Дьема.
– Вы получили мою записку, Томас?
Когда Пайл называл меня по имени, это свидетельствовало о том, что он настроен серьезно, не увиливает; он пришел, чтобы заполучить Фуонг. Я обратил внимание, что Пайл недавно подровнял свою челку. Неужели цветастая гавайская рубаха тоже играет роль боевого оперения самца?
– Я получил записку, – подтвердил я. – Полагаю, теперь я должен ударом в челюсть свалить вас с ног.
– Конечно, – кивнул он, – у вас есть на это полное право, Томас. Но в колледже я занимался боксом, к тому же я гораздо моложе вас.
– Значит, это было бы неверным ходом?
– Знаете, Томас (уверен, вы относитесь к этому точно так же), мне не нравится обсуждать Фуонг у нее за спиной. Я думал, что она будет здесь.
– Что нам еще обсуждать – пластик?
– Вам об этом известно?
– От Фуонг.
– Откуда она…
– Не сомневайтесь, об этом судачит весь город. Почему это так важно? Вы заинтересовались игрушечным бизнесом?
– Мы стараемся держать подробности нашей помощи при себе. Вы же знаете, что такое конгресс, не говоря о визитах сенаторов. У нас полно проблем с нашей бригадой борьбы с трахомой, применяющей не то лекарство.
– Пластик мне все равно не нравится.
Черный пес уселся на пол, заняв слишком много места, и запыхтел, вывалив язык, похожий на сгоревший блин.
– Понимаете, – стал невнятно объяснять Пайл, – мы пытаемся способствовать развитию местной промышленности, но приходится остерегаться французов. Они хотят, чтобы все закупалось по Франции.
– Я их не осуждаю. На войну нужны деньги.
– Вы любите собак?
– Нет.
– Я полагал, британцы обожают собак.
– Мы думаем, что американцы обожают доллары, но наверняка бывают исключения.
– Не знаю, как бы я жил без Дюка. Порой мне бывает так одиноко…
– В конторе у вас полно компаньонов.
– Моего первого пса звали Принц. Я назвал его в честь Черного Принца. Это тот, кто…
– … Поубивал всех женщин и детей в Лиможе.
– Такого я не помню.
– В учебниках истории об этом не пишут.
Я часто наблюдал, как глаза и рот Пайла искажала гримаса боли и разочарования, когда реальность не совпадала с его романтическими представлениями или когда кто-то, кого он любил и ценил, оказывался ниже установленных им недосягаемых стандартов. Однажды, помнится, я поймал Йорка Хардинга на крупной фактической ошибке, и мне пришлось утешать Пайла: «Людям свойственно ошибаться…» Он ответил с нервным смешком: «Вы, наверное, представляете меня дураком, но я действительно считал его почти непогрешимым. Мой отец, – добавил Пайл, – проникся к нему большим уважением в их единственную встречу, а отцу было нелегко понравиться!»
Здоровенный черный пес Дюк, пыхтевший так долго, что уже создал, должно быть, в помещении устраивавшую его атмосферу, принялся активно обследовать комнату.
– Вы не прикажете вашей собаке успокоиться?
– Ой, простите! Дюк! Дюк, сидеть!
Пес сел и стал шумно вылизывать себе гениталии. Я налил две рюмки и в процессе помешал туалету Дюка. Но тишина продлилась недолго: теперь пес вздумал чесаться.
– Дюк ужасно умный, – сообщил Пайл.
– А что стало с Принцем?
– Его сбила машина на ферме в Коннектикуте.
– Вы переживали?
– Разумеется. Он был мне очень дорог, но я понимал, что Принца не вернуть.
– Если вы потеряете Фуонг, то тоже утешитесь доводами разума?
– Да, надеюсь. А вы?
– Сомневаюсь. Я могу начать все крушить. Вы подумали об этом, Пайл?
– Мне бы хотелось, чтобы вы называли меня Олденом, Томас.
– А мне нет. «Пайл»[26] навевает… ассоциации. Об этом вы не думали?
– Нет, конечно. А вы прямой человек, я таких еще не встречал. Как вспомню ваше поведение, когда я к вам приплыл…
– А я тогда, прежде чем уснуть, подумал, как удобно было бы, если бы вы погибли от взрыва снаряда. Пали геройской смертью. За демократию.
– Не смейтесь надо мной, Томас. – Пайл неуклюже повозил по полу длинными ногами. – Наверное, я кажусь вам тупицей, но я знаю, когда вы шутите.
– Я не шучу.
– По большому счету, вы бы хотели, чтобы ей было лучше.
И тут я услышал шаги Фуонг. Еще минуту назад я не терял надежды, что Пайл уберется до ее возвращения. Он тоже услышал шаги и узнал их.
– Вот и она, – сказал Пайл, хотя имел на изучение ее походки один-единственный вечер. Даже пес встал и замер у двери, которую я оставил открытой для прохлады. Не иначе, он уже принимал Фуонг за члена семьи Пайла. Незваным гостем почувствовал себя я.
– Сестры не оказалось дома, – объяснила она и осторожно покосилась на Пайла.
Может, так оно и было, или сестра велела ей поторопиться обратно.
– Помнишь мсье Пайла? – спросил я.
– Enchantée[27], – произнесла она. Фуонг умела вести себя образцово.
– Я так рад видеть вас снова, – пролепетал он, краснея.
– Comment?
– Английский у нее слабоват, – заметил я.
– Боюсь, мой французский и вовсе ужасен. Но я беру уроки. Понимать я понимаю – если Фуонг будет говорить медленно.
– Я переведу, – предложил я. – Местный акцент требует привычки. Садись, Фуонг. Мсье Пайл пришел специально ради тебя. Вы уверены, – обратился я к нему, – что не хотите, чтобы я оставил вас наедине?
– Я хочу, чтобы вы слышали все, что я скажу. Иначе было бы несправедливо.
– Тогда выкладывайте.
Торжественно Пайл заявил, что чрезвычайно любит и уважает Фуонг. Это чувство не оставляет его с того вечера, когда он с ней танцевал. Он немного смахивал на дворецкого, водящего экскурсантов по «дому с богатой историей». «Домом» было его сердце, и в комнаты, где обитала семья, нам разрешалось заглянуть лишь мельком, тайком. Я переводил его слова тщательно – так звучало еще хуже. Фуонг сидела неподвижно, сложив руки на коленях, как в кино.
– Она поняла меня? – спросил Пайл.
– По-моему, да. Хотите, я добавлю вашей речи огонька?
– Нет, просто переводите. Не нужно ее волновать.
– Ясно.
– Скажите ей, что я хочу жениться на ней.
Я выполнил его просьбу.
– Что она говорит?
– Спрашивает, серьезно ли это. Я объяснил, что вы серьезный человек.
– Странная все-таки ситуация, – пробормотал Пайл. – Я прошу вас переводить…
– Да уж, странновато.
– И при этом все так естественно! Как-никак вы – мой лучший друг.
– Вы очень добры.
– В беде вы были бы первым, к кому я бы побежал.
– Надо полагать, влюбленность в мою девушку – это беда?
– Конечно. Жаль, что это вы, Томас, а не кто-то еще.
– Ну, что дальше ей говорить? Что без нее вам не жить?
– Нет, это слишком эмоционально. И не вполне правдиво. Мне пришлось бы уйти. Человек все превозмогает.
– Пока вы раздумываете, что еще сказать, можно мне вставить словечко от себя?
– Да, Томас, это будет честно.
– Что ж, Фуонг, – произнес я, – ты готова уйти от меня к нему? Он на тебе женится. Я не могу, ты знаешь почему.
– Ты от меня уйдешь? – спросила она, и я вспомнил про письмо главного редактора у меня в кармане.
– Нет.
– Никогда?
– Как можно обещать? Он тоже не может. Браки распадаются. Порой это происходит даже быстрее, чем с такими романами, как у нас.
– Я не хочу уходить, – вымолвила Фуонг, и я насторожился, расслышав не прозвучавшее «но».
– Думаю, нужно выложить на стол все мои карты, – сказал Пайл. – Я не богат, но после смерти отца у меня будет тысяч пятьдесят долларов. Здоровье крепкое: у меня справка о результатах медицинского обследования двухмесячной давности. Могу сообщить ей мою группу крови.
– Не знаю, как такое перевести. Зачем это?
– Ну, чтобы убедиться, что мы с ней сможем иметь детей.
– Вот, значит, что такое любовь по-американски: уведомление о финансовом положении и о группе крови?
– У меня это впервые. Вероятно, у меня на родине моя мать побеседовала бы с ее матерью.
– О вашей группе крови?
– Не смейтесь, Томас. Наверное, я старомоден. Знаете, эта ситуация меня немного смущает.
– Меня тоже. Может, махнем рукой на церемонии и просто бросим кости?
– Напрасно вы притворяетесь бездушным, Томас. Знаю, по-своему вы любите ее не меньше, чем я.
– Ладно, валяйте дальше, Пайл.
– Скажите ей, что я не жду от нее немедленной ответной любви. Всему свое время. Но объясните ей, что я предлагаю надежность и уважение. Звучит не очень вдохновляющее, однако это лучше страсти.
– Страсть всегда будет под рукой, хотя бы в объятиях вашего шофера, пока вы будете пропадать в офисе.
Пайл покраснел, неуклюже встал и проговорил:
– А вот это уже грязь. Я не позволю оскорблять ее. Какое вы имеете право…
– Она пока не ваша жена.
– Что можете предложить ей вы? – гневно воскликнул он. – Пару сотен долларов, когда отчалите в Англию? Или упакуете ее вместе с мебелью?
– Мебель не моя.
– Она тоже. Фуонг, вы выйдете за меня замуж?
– А как же группа крови? – усмехнулся я. – Справка о здоровье? Вам же понадобится ее справка? Может, и моя пригодится? Еще гороскоп – хотя нет, это индийская традиция.
– Вы выйдете за меня замуж?
– Спросите ее сами по-французски, – буркнул я. – Будь я проклят, если стану переводить вам дальше.
Я вскочил, и собака зарычала. Это меня возмутило.
– Велите вашему чертову Дюку заткнуться! Это мой дом, а не его.
– Вы выйдете за меня замуж? – повторил Пайл.
Я шагнул к Фуонг, и собака опять оскалила клыки.
– Скажи ему, чтобы убирался вместе со своей собакой, – обратился я к Фуонг.
– Пойдемте со мной, – сказал ей Пайл. – Avec moi[28].
– Нет, – ответила Фуонг. – Нет!
Мы с ним мгновенно забыли про гнев. Проблема была проще некуда, решением послужило короткое словечко. Я испытал огромное облегчение, Пайл стоял с приоткрытым ртом, с выражением изумления на физиономии.
– Она сказала «нет».
– На это ее английского хватило, – заметил я. Теперь меня душил смех: мы оба вели себя по-дурацки. – Сядьте, Пайл, выпьем виски.
– Пожалуй, я пойду.
– Еще рюмочку на дорожку!
– Так я вылакаю весь ваш виски, – пробормотал он.
– Я добуду его через посольство столько, сколько захочу.
Я направился к столу, и собака опять с рычанием обнажила клыки.
– Дюк, фу! – зло крикнул Пайл. – Что за поведение? – Он вытер потный лоб. – Простите меня, Томас, если я сказал что-то не то. Сам не знаю, что на меня нашло. – Пайл взял рюмку и с тоской произнес: – Победа остается за лучшим. Только прошу, не бросайте ее, Томас.
– Конечно, не брошу, – отозвался я.
– Может, он захочет выкурить трубку? – спросила меня Фуонг.
– Как насчет трубочки?
– Нет, благодарю. Я не прикасаюсь к опиуму, к тому же у нашей службы на сей счет строгие правила. Допью – и до свидания. Мне стыдно за Дюка, обычно он ведет себя хорошо.
– Оставайтесь ужинать.
– Я бы предпочел побыть один, если не возражаете. – Он усмехнулся. – Для стороннего наблюдателя мы оба вели себя нелепо. Как бы я хотел, чтобы вы на ней женились, Томас!
– Серьезно?
– Да. Побывав в том месте – вы помните, рядом с «Шале», – я очень за нее боюсь.
Пайл быстро допил непривычный виски и, прощаясь, не дотронулся до руки Фуонг, а только неловко сделал головой бодающее движение, изобразив кивок. Я смотрел, как она провожает его взглядом до двери. Проходя мимо зеркала, увидел себя: расстегнутая верхняя пуговица брюк, намечающееся брюшко… Уже из-за порога Пайл произнес:
– Обещаю не видеться с ней, Томас. Вы ведь не допустите, чтобы это встало между нами? Когда истечет срок, я попрошу меня перевести.
– Когда?
– Года через два.
Я возвращался в комнату с мыслью: «Какой во всем этом толк? Взять бы и сказать им обоим, что уезжаю…» Пайл проносил бы свое сочащееся кровью сердце всего неделю-другую, как награду… Моя ложь облегчила бы ему совесть.
– Сделать тебе трубку? – спросила Фуонг.
– Да, через минуту, только напишу письмо.
Это было второе письмо за день, хотя я мало надеялся на ответ. «Дорогая Хелен, – написал я, – в апреле я вернусь в Англию и займу должность редактора иностранных новостей. Как ты догадываешься, меня это не очень радует. Англия стала свидетельницей моей неудачи. Я надеялся, что наш брак будет прочным, но помешали твои христианские убеждения. До сих пор не пойму, что пошло не так (помню, мы оба очень старались), однако грешу на свой характер. Знаю, какой он у меня дурной и злобный. Думаю, теперь он немного смягчился – спасибо Востоку; по крайней мере, я стал спокойнее. Наверное, дело в том, что я стал на пять лет старше – ближе к концу жизни пять лет превращаются в немалую долю того, что остается. Ты поступаешь со мной великодушно и ни разу не упрекнула меня за то, что мы расстались. Не проявишь ли еще больше великодушия? До свадьбы ты предупреждала, что развода не будет. Я пошел на риск, и мне не на что жаловаться. Тем не менее теперь я прошу развода…»
Фуонг позвала меня из постели: поднос был готов.
– Сейчас! – отозвался я.
«Можно было бы, – продолжил я, – притихнуть, изобразить благородство, сделать вид, будто это мне нужно для кого-то другого. Но это не так, мы привыкли говорить друг другу правду. Дело во мне, во мне одном. Я очень люблю одного человека, мы живем вместе уже более двух лет, она мне преданна, но я знаю, что она без меня обошлась бы. Если я оставлю ее, она, наверное, немного побудет несчастной, однако трагедии не произойдет. Она выйдет за кого-нибудь замуж, и у нее появится семья. Глупо с моей стороны говорить тебе это, я сам подсказываю ответ. Но пока что я не врал, поэтому ты, может, поверишь мне, когда я скажу, что лишиться ее было бы для меня все равно что начать умирать. Я не прошу у тебя „благоразумия“ (разум полностью на твоей стороне) или милосердия. Это слишком громкое слово для моей ситуации, и вообще, я ее не заслуживаю. Скорее это просьба к тебе поступить иррационально, вопреки твоей натуре. Хочу, чтобы ты вспомнила о (я долго подбирал слово, но выбор оказался неважный) привязанности и сначала совершила поступок, а уж потом подумала. Это проще сделать по телефону, чем за восемь тысяч миль. Вот бы ты телеграфировала мне всего-навсего „Я согласна!“».
Дописав, я почувствовал себя как бегун после долгого забега и стал разминать не привыкшие к такому напряжению мышцы. Потом я растянулся на кровати, и Фуонг стала готовить мне трубку.
– Он молод, – сказал я.
– Кто?
– Пайл.
– Это неважно.
– Я бы на тебе женился, если бы мог, Фуонг.
– Я тоже так думаю, но моя сестра в это не верит.
– Я сейчас написал жене. Прошу ее развестись со мной. Раньше я не пытался. Всегда есть надежда.
– Большая надежда?
– Нет, маленькая, но есть.
– Не волнуйся. Покури.
Я затянулся, и она стала готовить мне вторую трубку.
– Твоей сестры правда не было дома, Фуонг? – спросил я.
– Я же сказала, она ушла. – Абсурдно было требовать от нее страстной тяги к правде: это западная страсть, вроде пристрастия к алкоголю. Из-за выпитого на пару с Пайлом виски действие опиума ослабло.
– Я тебе солгал, Фуонг, – сознался я. – Меня отзывают на родину.
Она отложила трубку.
– Но ты не поедешь?
– На что нам жить, если я откажусь?
– Я могла бы поехать с тобой. Мне бы хотелось увидеть Лондон.
– Тебе будет там неуютно, если мы не поженимся.
– Может, твоя жена согласится на развод.
– Не исключено.
– Я все равно поеду с тобой. – Фуонг не шутила, но я видел по ее глазам, как одна мысль у нее в голове цепляет другую, когда она, взяв трубку, стала разогревать опиумный шарик. – В Лондоне есть небоскребы?
Ее нельзя было не любить за такие наивные вопросы. Фуонг могла солгать из вежливости, от страха, даже ради выгоды, но ей была чужда хитрость, и она не умела скрывать свою ложь.
– Нет, – ответил я, – за небоскребами тебе пришлось бы ехать в Америку.
Фуонг бросила на меня взгляд поверх иглы, учтя свою ошибку. Мешая опиум, она болтала невесть что: во что станет одеваться в Лондоне, где мы будем жить, про поезда подземки – она читала о них в одном романе, про двухэтажные автобусы; полетим мы туда или поплывем?
– А статуя Свободы? – спросила Фуонг.
– Нет, это тоже в Америке.
2
I
Не реже раза в год каодаисты устраивали в своем священном городе Тэйнине, в восьмидесяти километрах северо-западнее Сайгона, карнавальное шествие в честь годовщины освобождения, или завоевания, или в ознаменование какой-нибудь буддистской, конфуцианской либо христианской традиции. Каодаизм являлся любимым сюжетом моих рассказов о Вьетнаме заезжим гостям. Это изобретение кохинхинского чиновника было синтезом трех религий. Его священный центр располагался в Тэйнине. Там чтили собственного патриарха, среди кардиналов были женщины, высшее существо вступало в контакт с верующими на спиритических сеансах, среди святых числился Виктор Гюго. Христос и Будда взирали с крыши собора на восточную фантазию в стиле Уолта Диснея – разноцветных драконов и змей. Новичков неизменно очаровывало это описание. Если бы я назвал всю эту картину тусклой, они бы удивились, не зная о частной армии в количестве 25 тысяч человек, вооруженной выхлопными трубами от старых машин, переделанными в минометы, – союзнице французов, в момент опасности провозглашавшей нейтралитет. На празднества, придуманные, чтобы утихомирить крестьян, патриарх приглашал членов правительства (прибывавших, если каодаисты находились на тот момент у власти), дипломатический корпус (представленный вторыми секретарями с женами или подругами) и французского командующего, который доверял представлять его двухзвездному штабному генералу.
В сторону Тэйниня бежал стремительный поток штабных и дипломатических автомобилей, на опасных участках дороги были выставлены посты Иностранного легиона, наблюдавшие за окрестными рисовыми полями. Это был тревожный день для французского командования, но для самих каодаистов это был день надежды: проезд по территории горстки важных гостей безболезненно, зато наглядно демонстрировал их лояльность.
Через каждый километр над плоским полем торчала, как восклицательный знак, заляпанная грязью сторожевая башенка, через каждые десять километров был устроен крупный форт со взводом легионеров, марокканцев или сенегальцев. Машины ехали с одинаковой скоростью, как по дороге в Нью-Йорк, и, совсем как там, водители нетерпеливо глядели на автомобиль впереди и в зеркальце заднего вида на машину сзади. Все торопились в Тэйнинь, чтобы полюбоваться шествием и как можно быстрее вернуться: с семи часов вечера действовал комендантский час.
За рисовыми полями под контролем французов располагались рисовые поля под контролем хоа-хао, дальше простирались поля под контролем Каодай, обычно находившегося в состоянии войны с хоа-хао; менялись только флаги на сторожевых вышках. По затопленным полям брели по брюхо в воде буйволы, на их спинах восседали голые мальчишки. Там, где созрел золотой урожай, крестьяне в шляпах-блюдцах веяли рис рядом с кривобокими сараями из плетеного бамбука. Машины из другого мира проносились мимо, не замедляя хода.
В каждой деревне в глаза новичку бросалась церковь каодаистов: голубая и розовая штукатурка и «Божье Око» над дверью. Все чаще развевались флаги: вдоль дороги шествовали крестьянские войска. Мы приближались к священному городу. Издали священная гора смахивала на торчащий над Тэйнинем зеленый котелок; на ней засел генерал Тхе – взбунтовавшийся начальник штаба, недавно заявивший о своем намерении воевать и с французами, и с Вьетминем. Каодаисты не предпринимали попыток арестовать его, хотя он похитил кардинала. По слухам, он сделал это с молчаливого согласия патриарха.
В Тэйнине всегда было жарче, чем в других местах Южной дельты, то ли от отсутствия воды, то ли из-за нескончаемых церемоний, вгоняющих всех в искупительный пот: и войска, застывавшие по стойке «смирно» под речи на непонятном им языке, и патриарха в тяжелых одеждах, смахивающих на китайские. Только кардиналы женского пола в белых шелковых шароварах, болтавшие со священниками в шляпах от солнца, создавали, несмотря на палящее солнце, ощущение прохлады. Невозможно было поверить, что когда стрелка покажет семь, ты снова будешь сидеть с коктейлем на крыше «Мажестик» и наслаждаться ветерком с реки Сайгон.
После парада я брал интервью у заместителя патриарха. Я не ждал, что смогу хоть что-то вытянуть из него, и не ошибся. Беседа была условностью для нас обоих. Я спросил про генерала Тхе.
– Неосторожный человек, – сказал он и поменял тему: стал произносить заготовленную речь, запамятовав, что я уже слышал ее два года назад.
Она напомнила мне собственные граммофонные пластинки для визитеров-новичков. Каодаизм – религиозный синтез… лучшая из всех религий… миссионеры отправлены в Лос-Анджелес… тайны Великой пирамиды… На нем была белая длинная сутана, и он беспрерывно курил. От него разило хитростью и продажностью: слишком часто звучало слово «любовь». Я не сомневался, что он понимает: все мы собрались, чтобы посмеяться над его движением. Наши уважительные мины были таким же лицемерием, как его выдуманная иерархия, просто мы меньше хитрили. Мы ничего не добивались в обмен на неискренность, даже надежного союзника, а они меняли свою на оружие, боеприпасы, даже наличность.
– Благодарю, ваше преосвященство.
Я встал, чтобы уйти. Он пошел со мной к двери, роняя пепел.
– Да благословит Господь ваши труды, – елейно проговорил он. – Помните, Бог любит правду.
– Которую из них?
– Согласно вере Каодай, происходит примирение всех истин, и правда есть любовь.
У него на пальце красовалось большое кольцо, и он протягивал мне руку, наверное, для поцелуя, но я не дипломат.
Под безжалостным солнцем я увидел Пайла, тщетно пытавшегося завести свой «Бьюик». Последние пару недель я почему-то постоянно на него наталкивался: то в баре «Континенталя», то в единственной приличной книжной лавке на улице Катина. Теперь он еще настойчивее подчеркивал дружбу, которую навязал мне. Грустные глаза страстно спрашивали про Фуонг, а губы с еще большей страстью выражали силу его привязанности и восхищения – подумать только! – моей персоной.
Рядом с машиной что-то частил каодаистский майор. При моем приближении он замолчал. Я узнал его – он был в числе помощников Тхе, прежде чем тот ушел в горы.
– Здравствуйте, майор! – произнес я. – Как поживает генерал?
– Какой генерал? – с робкой улыбкой спросил он.
– Согласно вере Каодай, все генералы – друзья, – напомнил я.
– Никак не приведу эту машину в чувство, Томас, – пожаловался Пайл.
– Схожу за механиком, – сказал майор и ушел.
– Я вам помешал.
– Что вы, ничего подобного! – воскликнул Пайл. – Ему было любопытно, сколько стоит «Бьюик». Эти люди чрезвычайно дружелюбны, когда правильно с ними обращаешься. Французы не понимают, как иметь с ними дело.
– Французы им не доверяют.
– Человек начинает заслуживать доверия, когда вы сами ему доверяете, – важно промолвил Пайл. Это смахивало на сентенцию Каодай. У меня появилось чувство, что я задыхаюсь: в воздухе Тэйниня скопилось многовато этики.
– Может, освежимся? – предложил Пайл.
– Это сейчас самое лучшее.
– У меня с собой термос с лаймовым соком. – Он нагнулся и стал шарить в корзине в багажнике.
– Джина не найдется?
– Нет, к сожалению. Знаете, – продолжил Пайл, – лаймовый сок полезен в этом климате. Он содержит… не помню, какие витамины. – Он протянул мне чашку, и я сделал глоток.
– Хоть какая-то влага, – простонал я.
– Хотите сандвич? Невероятная вкуснятина! Новый спред для сандвичей, называется «Витхэлф». Мать прислала мне из Штатов.
– Нет, благодарю, я не голоден.
– По вкусу похоже на русский салат, только суше.
– Пожалуй, я воздержусь.
– Не возражаете, если я пожую?
– Что вы, конечно нет.
Пайл откусил здоровенный кусок и с хрустом заработал челюстями. В удалении бело-розовый каменный Будда покидал родовой дом, и слуга – другая статуя – спешил за ним вдогонку. Женщины-кардиналы возвращались в свое жилище, со стены собора на нас взирало «Божье Око».
– Между прочим, здесь будут кормить обедом, – напомнил я.
– Я бы не рискнул. Мясо при такой жаре – опасный продукт.
– Вы в полной безопасности. Они вегетарианцы.
– Вы правы, просто я предпочитаю знать, что ем. – Пайл еще раз укусил свой «Витхэлф». – Как вы думаете, у них есть надежные механики?
– Во всяком случае, они ловко переделывают выхлопные трубы в минометы. Полагаю, из выхлопных труб «Бьюиков» получаются наилучшие минометы.
Вернувшийся майор отдал нам честь и сообщил, что послал в казармы за механиком. Пайл предложил ему сандвич с «Витхэлф», но он вежливо отказался.
– У нас слишком много правил относительно пищи, – сказал майор со светской интонацией на прекрасном английском. – Глупо, конечно, но что поделаешь, религиозная столица. Полагаю, в Риме все то же самое, как и в Кентербери. – Он адресовал мне изящный поклон и замолчал.
У меня возникло ощущение, что мое присутствие нежелательно. Но соблазн подразнить Пайла был слишком велик: это ведь оружие слабости, а я был слаб. Молодость, серьезность, чистота, будущее – всего этого я в отличие от него был лишен.
– Пожалуй, я все-таки отведаю сандвич, – произнес я.
– О, конечно, конечно! – воскликнул Пайл, но замялся, прежде чем открыть багажник.
– Нет-нет, я пошутил! – замахал я руками. – Вам надо побыть одним.
– Ничего подобного, – возразил он. Таких неумелых врунов, как Пайл, я еще не видывал: в этом искусстве он определенно не практиковался. – Томас – мой лучший друг, – объяснил он майору.
– Я знаю мистера Фаулера, – ответил тот.
– Еще увидимся перед отъездом, Пайл, – сказал я и зашагал к собору, манившему прохладой.
Святой Виктор Гюго в мантии французского академика, с нимбом над треуголкой, указывал на какое-то благородное изречение, записываемое на табличке Сунь Ятсеном. Я прошел в неф. Сесть там было негде, кроме патриаршего трона, обвитого гипсовой коброй. Мраморный пол блестел, как вода, в окнах не было стекол. Я подумал: мы делаем в клетке дырки, чтобы поступал воздух, и так же человек оборудует свою религиозную клетку, оставляя место для сомнений и для воздействия стихии. Интерпретациям веры нет числа. Моя жена нашла себе дырявую клетку, и иногда я ей завидовал. Либо солнце, либо воздух для дыхания; я слишком злоупотребил солнцем.
Я прошелся по длинному пустому нефу; это был не тот Индокитай, который я любил. На кафедру карабкались драконы с львиными головами, Христос обнажал на крыше свое кровоточащее сердце. Будда сидел, как ему и полагается. Борода у Конфуция была жидкая, она смахивала на водопад в сухой сезон. Все это было сплошным притворством: огромный глобус над алтарем воплощал тщеславие; корзина со съемной крышкой, в которой патриарх варганил свои пророчества, была апофеозом надувательства. Просуществуй этот собор пять веков вместо двух десятилетий, приобрел бы он убедительность благодаря истоптанности и ветровой эрозии? Мог ли внушаемый человек, вроде моей жены, обрести здесь веру, которой не находил в окружающих людях? И нашел бы я веру, вдруг возжелав ее, в норманнской церкви? Хотя я не стремился к вере. Дело репортера – обнажать и фиксировать. Никогда за свою карьеру я не натыкался на необъяснимое. Патриарх выпекал пророчества при помощи карандаша и подвижной крышки, и ему верили. Если человека преследуют видения, то ему впору обратиться к «говорящей доске». Но я был чужд видений, моя память не сохранила ни одного чуда.
Я стал наугад «перелистывать» свою память, как страницы с фотографиями в альбоме: крадущаяся вдоль птичника лиса, пойманная лучом вражеского прожектора, ударившего с неба над Орпингтоном; тело заколотого штыком малайца, привезенное патрулем гуркхов в кузове грузовика в шахтерский лагерь в Паханге, и подушка под мертвой головой, подложенная другим малайцем под нервное хихиканье столпившихся вокруг китайских кули; голубь на каминной полке в отеле, готовящийся взлететь; лицо жены в окне, когда я пришел с ней проститься. Мои мысли начинались и заканчивались ею. Она должна была получить мое письмо неделю назад, но телеграммы, которой я ждал, все не было. Говорят, когда присяжные засиживаются дольше обычного, это означает, что у подсудимого есть надежда. Если письма не будет еще неделю, будет ли это значить, что для меня тоже забрезжила надежда?
Вокруг всхрапывали моторы машин военных и дипломатов: представление завершилось, следующего придется ждать целый год. Начинался массовый исход в Сайгон, подгоняемый близящимся комендантским часом. Я пошел искать Пайла.
Он стоял в узкой тени вместе с майором, его автомобилем никто не занимался. Разговор, похоже, иссяк, и теперь они стояли молча, удерживаемые взаимной вежливостью. Я приблизился к ним.
– Что ж, – произнес я, – пожалуй, я поеду. Вы тоже поезжайте, если хотите успеть до комендантского часа.
– Механик так и не пришел.
– Скоро явится, – сказал майор. – Он был на параде.
– Можете остаться здесь на ночь, – добавил я. – Будет отслужена особая месса – она произведет на вас впечатление. Месса продлится три часа.
– Мне нужно возвращаться.
– Вы не успеете, если не выедете прямо сейчас, – неохотно предупредил я. – Если хотите, возьму вас с собой. Майор отправит вашу машину в Сайгон завтра.
– На территории Каодай можно не беспокоиться о комендантском часе, – самодовольно заявил майор. – Но за ее пределами… Разумеется, завтра я пришлю вам автомобиль.
– Только не трогайте систему выхлопа, – сказал я.
Он улыбнулся – ясно, аккуратно, понятно.
II
Кавалькада машин уже уехала далеко вперед. Я поднажал, чтобы догнать ее, но при переезде из зоны Каодай в зону хоа-хао впереди не оставалось даже облачка пыли. Вечерний мир был плоским и безмолвным. В том месте не следовало опасаться засад, хотя на затопленных рисовых чеках ничего не стоило затаиться по шею в воде в нескольких ярдах от дороги. Пайл откашлялся – сигнал готовящейся откровенности.
– Полагаю, Фуонг здорова, – начал он.
– Не припомню, чтобы она болела.
Позади нас исчезла сторожевая вышка, впереди появилась следующая. Хотелось сравнить их с гирьками на весах.
– Вчера я встретился в лавке с ее сестрой.
– Уверен, она пригласила вас в гости, – произнес я.
– Действительно пригласила.
– Она не расстается с надеждой.
– С надеждой?
– Поженить вас с Фуонг.
– Она сообщила, что вы уезжаете.
– Ходят такие слухи.
– Вы будете играть со мной по-честному, Томас?
– По-честному?
– Я запросил перевода, – сказал Пайл. – Не хотелось бы, чтобы Фуонг осталась без нас обоих, совсем одна.
– Я думал, вы отмотаете здесь весь срок.
– Оказалось, мне это не под силу.
– Когда вы уезжаете?
– Не знаю. Они говорят, что срок можно будет сократить до полугода.
– Полгода вы выдержите?
– Мне некуда деваться.
– Какую причину вы озвучили?
– Я более-менее ознакомил экономического атташе – вы встречались, его зовут Джо – с фактами.
– Наверное, он считает меня мерзавцем, ведь я не отпускаю к вам свою девушку.
– Нет, он скорее на вашей стороне.
Машина расчихалась, распыхтелась, но я заметил это только сейчас, потому что обдумывал невинный вопрос Пайла, буду ли я играть с ним по-честному. Вопрос принадлежал к тому психологическому миру, где все было просто, где рассуждали о Демократии и о Чести с большой буквы, как писали эти слова на старых могильных камнях, имея в виду то, что подразумевали под этим наши отцы.
– Бак пуст, – сказал я.
– Нет бензина?
– Его было много, перед отъездом я залил бак под завязку. Эти мерзавцы в Тэйнине слили его! Как я не заметил? Это в их духе – оставить ровно столько, чтобы мы выкатились из их зоны.
– Что же делать?
– Может, дотянем до следующей сторожевой вышки. Будем надеяться, что там найдется хоть немного горючего.
Но нам не повезло: мотор заглох ярдах в тридцати от вышки. Мы дошли до нее пешком, и я крикнул часовым по-французски, что мы друзья и сейчас поднимемся наверх. У меня не было ни малейшего желания быть застреленным вьетнамским часовым. Ответа не получил, на мой крик никто не отозвался.
– У вас есть револьвер? – обратился я к Пайлу.
– Я не ношу оружия.
– Я тоже.
По краю плоского мира стекали вниз зеленые и золотые, как сам рис, краски заката. На фоне серого неба сторожевая вышка выглядела как рисунок черной тушью. Уже подошло время наступления комендантского часа. Я еще раз крикнул, но мне опять никто не ответил.
– Знаете, сколько вышек мы проехали после последнего форта?
– Как-то не обратил внимания.
– Я тоже.
До следующего форта оставалось, наверное, не менее шести километров, целый час пешком. Я крикнул в третий раз, и снова ответом мне было глухое молчание.
– Как будто никого, – заключил я. – Пожалуй, я слазаю наверх и взгляну. – Желтый флаг с красными полосами, выгоревшими до оранжевого цвета, показывал, что мы миновали территорию хоа-хао и находимся на территории вьетнамской армии.
– Может, подождем попутной машины? – предложил Пайл.
– А если первыми приедут они?
– Мне вернуться и зажечь фары? Как сигнал?
– Ради бога, не надо! Пусть остается как есть.
Уже так стемнело, что, ища лестницу, я несколько раз спотыкался. У меня под подошвой что-то хрустнуло, и я представил, как хруст проносится над рисовым чеком. Чьего слуха он мог там достигнуть? Пайл почти растворился в темноте, превратившись в мутный мазок на обочине дороги. Тьма здесь не наступала, а падала, как камень.
– Стойте там, пока я не позову, – велел я и прикинул, где часовому было бы удобно втаскивать наверх лестницу.
Лестница осталась стоять: по ней мог бы вскарабкаться враг, она же служила единственным путем бегства. Я начал подниматься.
Я часто читал о мыслях, посещающих людей в минуты страха: они думают о Боге, о семье, о женщине. Восторгаюсь их самообладанием! Лично я в те секунды вообще перестал существовать: превратился в одушевленный страх. Наверху я ударился головой, ведь страх не умеет считать и слышать шаги. Потом моя голова поднялась выше земляного пола, никто в меня не выстрелил, и страх отступил.
III
На полу горела маленькая масляная лампа. Двое мужчин прижались к стене, тараща на меня глаза. У одного был автомат, у другого винтовка, однако оба были напуганы не меньше моего. Они смахивали на школьников, но у вьетнамцев возраст наступает внезапно, сродни вечернему падению солнца: еще вчера они были мальчишками, а сегодня уже старики. Я радовался, что цвет моей кожи и разрез глаз успешно заменяют паспорт: теперь мужчины не выстрелят даже со страху.
Я вылез из люка и заговорил, чтобы их успокоить: сказал, что моя машина стоит снаружи и у меня закончился бензин. Вдруг у них найдется хотя бы немного, я бы заплатил. Озираясь, я убеждался, что надеяться на это не приходится. В круглой комнатушке не было ничего, кроме ящика патронов для автомата, маленькой деревянной койки и двух сумок. Два котелка с остатками риса и деревянные палочки свидетельствовали, что я прервал насыщение мужчин.
– Хотя бы доехать до следующего форта! – взмолился я.
Тот, у которого было ружье, покачал головой.
– Раз так, нам придется заночевать тут.
– C’est défendu[29].
– Кем?
– Вы гражданский.
– Никто не заставит меня сидеть на дороге, где мне перережут горло.
– Вы француз?
Говорил только один, другой сидел, отвернувшись и глядя в бойницу в стене. Там он не мог увидеть ничего, кроме подобия почтовой открытки с изображением ночного неба. Он прислушивался, я тоже напряг слух. Тишина наполнилась звуками: треск, шорох, шуршание, покашливание, шепот… Я услышал голос Пайла: он приблизился к лестнице.
– Вы в порядке, Томас?
– Лезьте сюда! – позвал я.
Пайл полез наверх, и молчаливый солдат взял на изготовку свой автомат. Вряд ли он разобрал наши слова, его движение было неловким, порывистым. Я сообразил, что перед этим он сидел, парализованный страхом.
– Положи пушку! – крикнул я, как сержант на плацу, и добавил французское похабное ругательство, на которое он должен был отреагировать.
Он подчинился. К нам присоединился Пайл.
– Нас пригласили посидеть в безопасности до утра, – сказал я ему.
– Отлично, – отозвался Пайл. – Разве один из этих олухов не должен нести караул?
– Они предпочитают не нарываться на пулю. Жаль, что вы не прихватили что-нибудь покрепче лаймового сока.
– В следующий раз обязательно прихвачу, – пообещал он.
– Впереди долгая ночь. – Теперь, когда со мной был Пайл, я перестал слышать звуки. Даже оба солдата вроде немного расслабились.
– Что происходит при нападении Вьетминя? – спросил Пайл.
– Выстрелят разок – и деру. Каждое утро мы читаем в «Extreme Orient»: «Пост к юго-западу от Сайгона был прошлой ночью временно занят Вьетминем».
– Невеселая перспектива.
– Между нами и Сайгоном сорок таких вышек. Всегда есть шанс, что пострадает кто-то другой.
– Вот бы сейчас съесть сандвич… – простонал Пайл. – По-моему, один из них должен вести наблюдение.
– Он боится схлопотать за этим занятием пулю. – Теперь, когда мы оба устроились на полу, вьетнамцы еще больше расслабились. Я им сочувствовал: двоим почти необученным людям трудно сидеть ночь за ночью и трястись, что вьетминовцы прокрадутся через рисовые чеки на дорогу. – Думаете, они знают, что сражаются за демократию? Йорка Хардинга бы сюда, он бы им все растолковал.
– Вечно вы насмехаетесь над ним! – вздохнул Пайл.
– Я насмехаюсь над любым, кто пишет о несуществующих вещах, о всяких измышлениях.
– Для него они существуют. Вам все это полностью чуждо? Бог, например?
– У меня нет причин верить в Бога, а у вас?
– У меня есть. Я унитарий.
– Сколько насчитывается богов, в которых верят люди? Сотни миллионов? Даже у католика разные Боги, когда он напуган, счастлив или голоден.
– Если Бог есть, то он так огромен, что для каждого выглядит по-своему.
– Как Большой Будда в Бангкоке, – усмехнулся я. – Его нельзя увидеть целиком. Но он, по крайней мере, сидит смирно.
– По-моему, вы просто изображаете черствость, – заметил Пайл. – Должны же вы хоть во что-то верить. Никто не может жить, совершенно ни во что не веря.
– О, я не берклианец. Я верю, что подпираю сейчас спиной стену и на меня наставлен автомат.
– Я имел в виду иное.
– Я верю, что пишу репортажи – это больше, чем делают ваши корреспонденты.
– Сигарету?
– Я не курю – опиум не в счет. Угостите часового. Нам лучше с ними подружиться.
Пайл встал, дал им сигареты и снова сел.
– Жаль, что у сигарет в отличие от соли нет символического смысла, – сказал я.
– Вы им не доверяете?
– Ни один французский офицер не согласился бы переночевать в одной из этих вышек с двумя трясущимися от страха часовыми. Известно о целом взводе, выдавшем своего офицера. Иногда вьетминовцам лучше служит мегафон, чем базука. Я их не осуждаю, они тоже ни во что не верят. Вы и вам подобные пытаетесь воевать руками людей, которым это просто не интересно.
– Они не хотят коммунизма.
– Они хотят вдоволь риса, только и всего, – произнес я. – И не хотят, чтобы по ним стреляли. Они хотят, чтобы один день был похож на другой. И они не хотят, чтобы мы, белые, рассказывали им, чего они хотят.
– Если Индокитай уйдет…
– Знаю я эту песню. Сиам уйдет. Малайя уйдет. Индонезия уйдет. Что значит «уйдет»? Если бы я верил в вашего Бога и в загробную жизнь, то поставил бы свою будущую арфу против вашей золотой короны, что через пятьсот лет не будет ни Нью-Йорка, ни Лондона, а они все так же будут выращивать на этих полях рис и шествовать в своих остроконечных шляпах на рынок, неся тюки с урожаем на длинных шестах. Мальчишки все так же будут сидеть на спинах буйволов. Мне нравятся буйволы, им не нравится наш запах, запах европейцев. Не забывайте, кстати, что, с точки зрения буйвола, вы тоже европеец.
– Их заставят верить в то, что им скажут, им не позволят думать самостоятельно.
– Мысль – роскошь. Вы считаете, что крестьянин сидит и размышляет о Боге и о демократии, когда заползает на ночь в свою глиняную хижину?
– Вы говорите так, будто вся страна состоит из одних крестьян. Как насчет образованных людей? Разве они будут счастливы?
– Эти – нет, – согласился я. – Мы воспитали их в соответствии с нашими взглядами. Научили опасным играм, поэтому и торчим тут, надеясь, что нам не перережут горло. Мы заслуживаем, чтобы нас прикончили. Жаль, что здесь нет вашего друга Йорка. Вот бы он порадовался!
– Йорк Хардинг – очень смелый человек. Например, в Корее…
– Полагаю, он не проходил там срочную службу? У него был обратный билет. С обратным билетом в кармане смелость становится интеллектуальным упражнением, вроде монашеского самоистязания. Сколько ударов я выдержу? Эти бедняги не могут сесть в самолет и улететь домой. Эй! – позвал я их. – Как вас зовут? – Я подумал, что, обращаясь к ним по именам, смогу вовлечь их в наш разговор. Но они не ответили, только угрюмо смотрели на нас, пыхтя догорающими сигаретами. – Они принимают нас за французов.
– То-то и оно, – сказал Пайл. – Зря вы нападаете на Йорка. Надо быть против французов, против их колониализма.
– «Измы», всякие «кратии»… Мне подавай факты. Владелец каучуковой плантации бьет работника – я против него. Он не получал инструкции так поступать от министра колоний. Во Франции он, полагаю, колотил бы свою жену. Я видел священника, бедного настолько, что у него не было сменной пары штанов, так он работал по пятнадцать часов в день, ходил от хижины к хижине во время эпидемии холеры, питался одним рисом и соленой рыбой и служил мессу с деревянным блюдом вместо потира. Я не верю в Бога, но я за этого священника. Почему бы вам не назвать это колониализмом?
– Это и есть колониализм. Йорк пишет, что поменять дурную систему часто оказывается трудно как раз из-за хороших администраторов.
– Так или иначе французы гибнут каждый день – это вам не измышление. Они не пытаются увлечь этих людей полуложью в отличие от ваших – и наших – политиков. Я бывал в Индии, Пайл, и знаю, какой вред приносят либералы. У нас больше нет либеральной партии, но другие партии заражены либерализмом. Все мы – либо либеральные консерваторы, либо либеральные социалисты, и каждый – сама добросовестность. Я бы предпочел быть эксплуататором, сражающимся за то, что он эксплуатирует, и гибнущим за это. Взгляните на историю Бирмы. Мы вступаем в страну и завоевываем ее; местные племена нас поддерживают; мы – победители; но, подобно вам, американцам, мы в те дни не были колонизаторами. О нет, мы установили мир с королем, вернули ему его вотчину и позволили распять и распилить на части наших союзников. Они не были виноваты, они думали, что мы останемся. Но мы являлись либералами и боялись угрызений совести.
– Это было давно.
– То же самое мы сделаем здесь. Сначала поощрим их, а затем бросим почти с пустыми руками, с игрушечной промышленностью.
– Игрушечная промышленность?
– Ваш пластик.
– А-а, понимаю…
– Сам не знаю, зачем болтаю о политике. Меня это не интересует, я – репортер. Я ни при чем.
– Неужели?
– Вспомнил в качестве довода, просто чтобы скоротать эту проклятую ночь, вот и все. Кто бы ни выиграл, я останусь репортером.
– Если выиграют они, вам придется передавать ложь.
– Всегда есть обходные пути, и потом, в наших газетах я тоже не замечаю особенного стремления к правде.
Наша болтовня немного успокоила солдат: они, похоже, решили, что звуки наших белых голосов – у голоса тоже есть цвет, желтые голоса поют, черные булькают, наши просто говорят – создадут впечатление большой численности и отпугнут вьетминовцев. Они схватили котелки и снова принялись есть, постукивая своими палочками и поглядывая поверх котелков на нас с Пайлом.
– Думаете, мы проиграли?
– Дело не в этом, – сказал я. – У меня нет особого желания наблюдать вашу победу. Я бы предпочел, чтобы этим двум беднягам было хорошо, вот и все. Чтобы им не приходилось сидеть ночью в темноте и дрожать от страха.
– За свободу нужно сражаться.
– Что-то я не видел здесь сражающихся американцев. А что до свободы, то я не знаю, что это значит. Спросите их.
– Я крикнул солдатам по-французски:
– La liberté – qu’est-ce que c’est la liberté?[30]
Они знай себе втягивали рис, смотрели на нас и помалкивали.
– Хотите, чтобы все были слеплены по одному шаблону? – спросил Пайл. – Вы спорите ради самого спора. Вы интеллектуал. Для вас индивидуум так же важен, как для меня – и для Йорка.
– Почему мы только сейчас это обнаружили? Сорок лет назад об этом никто не заикался.
– Тогда этому ничто не угрожало, – объяснил Пайл.
– Да, наша индивидуальность не была под угрозой, но кому было дело до индивидуальности человека на рисовом поле? А сейчас она кому-нибудь интересна? Единственный, кто относится к нему по-человечески, – политический комиссар. Этот будет сидеть в его хижине, спрашивать, как его зовут, слушать жалобы. Он посвятит час в день его обучению – неважно, чему, главное, в нем увидят человека, какую-то ценность. Лучше не порхать по Востоку с попугайным клекотом об угрозе отдельной душе. Непременно окажешься не на той стороне: это они отстаивают индивидуальность, а мы – рядового номер 23987, единицу в глобальной стратегии.
– Даже половину всего этого вы не говорите всерьез, – заметил Пайл.
– Примерно три четверти. Я тут давно. То, что я ни при чем, – это удача, потому что иногда возникает побуждение… Здесь, на Востоке… В общем, мне не нравится Айк[31]. Эти двое – вот кто мне по сердцу. Это их страна. Который час? Мои часы остановились.
– Половина девятого.
– Еще десять часов – и можно двигаться.
– Будет холодно, – сказал Пайл, поеживаясь. – Вот не ожидал!
– Вокруг вода. У меня в машине есть одеяло. Как-нибудь протянем.
– Это безопасно?
– Для вьетминовцев еще рановато.
– Лучше я схожу.
– Я привычнее к темноте.
Когда я встал, оба солдата перестали есть.
– Je reviens tout de suite[32].
В люке я нащупал лестницу и спустился вниз. Удивительно, до чего успокаивает разговор, особенно на абстрактные темы: он превращает в нормальную даже самую чуждую обстановку. Я забыл про страх: возникло ощущение, будто я покинул комнату, но скоро туда вернусь и продолжу спор. Наблюдательная вышка была как улица Катина, бар в «Мажестик» или даже комната рядом с Гордон-сквер.
Я с минуту постоял под вышкой, привыкая к темноте. Звезды были, но ночь выпала безлунная. Подлунный мир всегда напоминает мне мертвецкую, сама луна – лампочку без абажура над мраморным столом; то ли дело свет звезд – живой, подвижный. Можно подумать, что кто-то в неохватной вселенной пытается передать сообщение доброй воли, даже названия звезд звучат дружелюбно. Венера – наша возлюбленная, Медведицы – мишки из детства, а Южный Крест для верующих, вроде моей жены, – все равно что любимый церковный гимн или молитва на сон грядущий. Разок я поежился, копируя Пайла. Ночь была теплая, только мелкая вода по обеим сторонам дороги напоминала искрящийся лед. Я заторопился к машине, но, выйдя на дорогу, не сразу увидел ее и испугался, что она пропала. У меня душа ушла в пятки, прежде чем я сообразил, что до автомобиля надо пройти ярдов тридцать. Я шел, вобрав голову в плечи, чувствуя себя в такой позе менее заметным.
Чтобы достать одеяло, пришлось отпереть багажник. Щелчок замка и скрип нарушили тишину и напугали меня. Мне не понравилось, что в ночи, полной, возможно, людей, я оказался единственным источником шума. Перекинув одеяло через плечо, я опустил крышку багажника гораздо осторожнее, чем поднял. Стоило сработать защелке, как небо в стороне Сайгона озарилось вспышкой и по дороге прокатился звук взрыва. Застрекотали очереди, потом, еще до того как пальба прекратилась, вдруг наступила тишина. «Кто-то схлопотал», – подумал я, а вскоре откуда-то издалека донеслись голоса, крики не то боли, не то страха, не то торжества. Почему-то я опасался нападения сзади, с той стороны, откуда мы приехали, и теперь счел несправедливостью, что вьетминовцы оказались впереди, между нами и Сайгоном. Получалось, что мы бессознательно двигались в сторону опасности, а не уезжали от нее. Теперь, возвращаясь к убогой вышке, я опять направлялся в опасную сторону. Я шел – бег получился бы более шумным, но моему телу очень хотелось помчаться.
Из-под лестницы я окликнул Пайла:
– Это я, Фаулер! (Даже теперь я не смог назвать ему себя по имени.)
Внутри обстановка изменилась. Котелки с рисом опять стояли на полу. Один солдат, сидя у стены, держал у бедра направленную на Пайла винтовку и не сводил с него глаз, а Пайл стоял на коленях на некотором расстоянии от противоположенной стены, глядя на автомат, лежавший между ним и вторым караульным. Похоже, он пополз к нему, но был вынужден остановиться. Рука второго караульного тянулась к автомату; драки явно не произошло, никто никому не угрожал, это смахивало на детскую игру: если противник засечет твое движение, то тебе придется вернуться на стартовую позицию.
– Что происходит? – спросил я.
Солдаты повернули ко мне головы, Пайл улучил момент и отпихнул автомат в угол.
– Решили порезвиться? – продолжил я.
– Они вооружены. При нападении противника я бы им не доверял, – объяснил Пайл.
– Вам доводилось стрелять из автомата?
– Нет.
– Вот и хорошо. Мне тоже. Рад, что он заряжен: нам самим его не зарядить.
Караульные спокойно приняли утрату автомата. Тот, что с винтовкой, опустил ее, его напарник привалился к стене и закрыл глаза, будто по-детски верил, что в темноте становится невидимкой. А может, радовался наступившей безответственности. Где-то вдалеке опять устроили пальбу: три очереди, после которых вернулась тишина. Второй караульный плотнее зажмурился.
– Они не знают, что мы не сумеем им воспользоваться, – произнес Пайл.
– Предполагается, что они на нашей стороне.
– Я полагал, вы вне сторон.
– Один-ноль в вашу пользу, – усмехнулся я. – Жаль, Вьетминь не в курсе.
– Что там происходит?
Я опять процитировал завтрашний «Extreme Orient»: «Пост в пятидесяти километрах от Сайгона подвергся нападению и был временно захвачен силами незаконного Вьетминя».
– Думаете, в поле было бы безопаснее?
– Слишком мокро.
– Вы, как я погляжу, совершенно не волнуетесь, – заметил Пайл.
– У меня страха полные штаны, но все могло бы обернуться гораздо хуже. Обычно они не атакуют больше трех постов за ночь. Наши шансы выросли.
– А это что?
По дороге в сторону Сайгона ехала тяжелая машина. Я приблизился к ружейной бойнице и разглядел танк.
– Патруль, – сказал я.
Башня с пушкой поворачивалась то вправо, то влево. Мне хотелось окликнуть их, но что проку? В танке не нашлось бы места для двух бесполезных штатских. Земляной пол завибрировал, потом дрожь унялась – танк уехал. На моих часах было 8.51. Я замер в ожидании. Это было сродни отсчету секунд между молнией и ударом грома. Пушка выстрелила через четыре минуты. Мне показалось, что ей ответила базука, а вскоре снова наступила тишина.
– Когда они поедут обратно, можно будет им просигналить, чтобы подбросили нас до лагеря, – произнес Пайл.
От нового взрыва пол заходил ходуном.
– Если поедут… – уточнил я. – Похоже на мину.
Я опять стал смотреть на часы. Было уже четверть десятого, а танк все не возвращался. Пальба стихла. Я сел рядом с Пайлом, вытянув перед собой ноги.
– Лучше попробовать уснуть. Это все, что нам остается.
– Не нравятся мне эти часовые, – буркнул он.
– Они не опасны, пока нет Вьетминя. Подсуньте автомат себе под бедро, так будет надежнее.
Я закрыл глаза и попытался представить себя совершенно в другом месте – например, в купе четвертого класса германской железной дороги до прихода к власти Гитлера. Тогда я был молод и мог просидеть всю ночь, ни разу не взгрустнув, задремать и очнуться с мечтами, исполненными надежды, а не страха. Это был тот час, когда Фуонг начинала готовить мне вечерние трубки. Я гадал, ждет ли меня письмо: надеялся, что нет, поскольку знал, что́ будет в письме, и пока оно не приходило, мог грезить о невозможном.
– Вы спите? – спросил Пайл.
– Нет.
– Может, втянуть лестницу?
– Кажется, я понимаю, почему они этого не делают. Это единственный путь бегства.
– Вот бы танк поехал обратно!
– Уже не поедет.
Я старался реже смотреть на часы, но промежутки оказывались короче, чем мне представлялось. 9.40, 10.05, 10.12, 10.32, 10.41…
– Бодрствуете? – вскоре произнес я.
– Да.
– О чем думаете?
Он помялся:
– О Фуонг.
– Что именно?
– Представлял, чем она занимается.
– Спросили бы меня. Видимо, она решила, что я остался ночевать в Тэйнине – так уже бывало. Лежит в постели, рядом горит китайская палочка, отгоняющая комаров. Рассматривает фотографии в старом «Пари матч». Она заражена французской страстью к королевскому семейству.
– Чудесно, наверное, знать все это в точности, – проговорил Пайл с тоской, и я представил в темноте его по-собачьи преданные глаза. Его следовало бы назвать Фидо, а не Олденом.
– В точности не знаю, но догадываюсь. Лучше не ревновать, когда вы все равно бессильны. «Нет для утробы баррикад»[33].
– Иногда я ненавижу вашу манеру, Томас. Знаете, какой я представляю Фуонг? Свежей, как цветок!
– Бедный цветочек! – усмехнулся я. – Вокруг столько сорняков!
– Где вы с ней познакомились?
– Она танцевала в «Гран-Монд».
– Танцевала, – простонал он, будто его ужасала сама эта мысль.
– Вполне уважаемая профессия. Можете не беспокоиться.
– У вас такой огромный опыт, Томас, просто жуть берет!
– Я прожил много лет. Вот доберетесь до моего возраста…
– У меня никогда не было девушки, – сознался Пайл. – Толком – никогда. Ничего, что можно было бы назвать настоящим опытом.
– У ваших соотечественников энергия уходит в свисток.
– Я никому об этом не говорил.
– Вы молоды. Здесь нечего стыдиться.
– У вас было много женщин, Фаулер?
– Что значит «много»? Не более четырех женщин были мне важны – или я им. Остальные, примерно сорок… Сам удивляешься, зачем это? То ли для гигиены, то ли по общественной необходимости. То и другое – заблуждение.
– Неужели?
– Хотел бы я вернуть те ночи! Я все еще влюблен, Пайл, хотя я – истощаемый актив. Еще играла роль гордость. Проходит много времени, прежде чем мы перестаем гордиться тем, что нас хотят. Хотя Бог знает, чем тут гордиться, достаточно оглянуться и увидеть, кто вызывает вожделение…
– Вы не считаете, будто со мной что-то не так, Томас?
– Нет, Пайл.
– Не говорю, что мне этого не нужно, Томас. Нет, я как все, я нормальный.
– Никому из нас это не нужно позарез, вопреки всему, что болтают. Здесь царствует самогипноз. Я сделал вывод, что мне никто не нужен – кроме Фуонг. Но к этому пониманию приходишь со временем. Я бы мог целый год обходиться без бессонных ночей, если бы рядом не было ее.
– Но она рядом, – еле слышно сказал он.
– Сначала ведешь беспорядочную жизнь, а потом становишься, как твой дедушка: верен одной-единственной женщине.
– По-моему, начинать так наивно…
– Ничего подобного.
– Альфред Кинси об этом умалчивает[34].
– Потому это и не наивно.
– Знаете, Томас, мне очень хорошо здесь, с вами. От таких разговоров пропадает чувство опасности.
– Так бывало при «блице», когда звучал отбой воздушной тревоги. Но немецкие самолеты всегда возвращались.
– Если бы вас спросили о самом глубоком вашем сексуальном опыте, что бы вы ответили?
– Лежать ранним утром в постели и наблюдать за причесывающейся женщиной в красном халате.
– Джо говорит, что лучше всего запомнил секс втроем, с китаянкой и негритянкой.
– У меня подобные фантазии возникали в двадцать лет.
– Джо уже стукнуло пятьдесят.
– Интересно, какой психологический возраст ему присвоили на войне.
– Девушка в красном халате – это Фуонг?
Лучше бы он не спрашивал!
– Нет, это было раньше, когда я ушел от жены.
– Что было потом?
– Я и от нее ушел.
– Почему?
И правда, почему?
– От любви мы глупеем, – произнес я. – Я был в ужасе оттого, что могу потерять ее. Мне казалось, что она переменилась – не знаю, так ли это было, но я не вынес неизвестности и рванул к финишу. Трус бежит в направлении врага и удостаивается медали. Я хотел разминуться со смертью.
– Со смертью?
– Это смахивало на смерть. А вскоре я подался на Восток.
– И нашли Фуонг?
– Да.
– С Фуонг у вас не получилось того же?
– Того же – нет. Понимаете, та женщина любила меня. Я боялся потерять любовь. Теперь я всего лишь боюсь потерять Фуонг.
Зачем, спрашивается, я это ляпнул? Пайл не нуждался в моем поощрении.
– Она ведь вас любит?
– Не совсем. Это не в их натуре. Вас еще ждет данное открытие. Называть их детьми – клише, но одна детская черта у них есть. Они любят вас в ответ на доброту, на безопасность, на подарки, которые вы им дарите – и ненавидят за побои или за несправедливость. Им невдомек, что это такое – взять и влюбиться в незнакомца. Для стареющего мужчины, Пайл, это очень надежно: она не сбежит из дому, пока дом счастливый.
Я не хотел причинить ему боль, но понял, что ненароком сделал это, когда он сказал со сдерживаемой злостью:
– Она может предпочесть больше безопасности или больше доброты.
– Вероятно.
– Вы этого не боитесь?
– Не больше, чем боялся раньше другого.
– Вы вообще-то ее любите?
– Да, Пайл, да. Та, другая, любовь была у меня лишь однажды.
– Сорок с чем-то женщин не в счет, – поддел он меня.
– Уверен, это ниже среднего показателя Кинси. Знаете, Пайл, женщинам не нужны девственники. Не уверен, что и мужчинам нужны девственницы, разве что патологическим типам.
– Я не называл себя девственником, – заметил он.
Все мои беседы с Пайлом почему-то превращались в гротеск. Не из-за его ли искренности они съезжали с привычной колеи? Ему не сиделось в углу, хотелось на середину ринга.
– Можно переспать с сотней женщин и остаться девственником, Пайл. Большинство ваших солдат, повешенных за изнасилования на войне, были девственниками. У нас в Европе их меньше, чему я рад: от них много вреда.
– Я вас не понимаю, Томас.
– Лучше не объяснять. К тому же эта тема мне наскучила. Я достиг возраста, в котором проблема не столько в сексе, сколько в старости и в смерти. Я просыпаюсь с мыслями об этом, а не о женском теле. Не хочу прожить последний десяток лет в одиночестве, и только. О чем думать весь долгий день? Лучше пусть в одной комнате со мной будет женщина, даже нелюбимая. Но если Фуонг от меня уйдет, хватит ли у меня энергии найти другую?
– Если это все, что она для вас значит…
– Все, Пайл? Подождем, пока вы доживете до страха просуществовать десять лет в одиночестве, а потом угодить в дом престарелых. Вы тоже побежите куда глаза глядят, даже от женщины в красном халате, лишь бы отыскать кого-нибудь, кого угодно, кто протянет столько же, сколько вы сами.
– Почему бы вам не вернуться к жене?
– Нелегко жить с той, кого ранил.
Раздалась длинная автоматная очередь – недалеко, в миле, а то и ближе. Вероятно, нервный часовой открыл огонь по теням, а может, где-то началась новая атака. Я надеялся на второе – это повышало наши шансы.
– Вам страшно, Томас?
– Еще бы! Инстинкты заставляют бояться. А разум подсказывает: умереть лучше вот так. Для этого я и подался на Восток. Здесь смерть бродит рядом.
На моих часах был уже двенадцатый час. Восьмичасовая ночь – и мы спасены.
– Мы с вами уже все обсудили, кроме Бога, – сказал я. – Предлагаю припасти его на предрассветные часы.
– Вы ведь в него не верите?
– Нет.
– Без него все наши дела лишились бы смысла.
– По мне, они и с ним бессмысленны.
– Я прочитал одну книгу…
Я так и не узнал, что за книгу прочитал Пайл. Предположительно не Йорка Хардинга, не Шекспира, не антологию современной поэзии и не «Физиологию брака» – скорее «Триумф жизни». Из темноты, как будто из-под самого люка, загремел по-вьетнамски в мегафон голос.
– К нам гости, – сказал я.
Наши часовые слушали с разинутыми ртами, глядя в бойницу.
– Что он говорит? – спросил Пайл.
Я пошел к амбразуре, как сквозь мегафонный голос. Быстро выглянув, убедился, что смотреть не на что, различить дорогу и то не получилось, зато когда обернулся, на меня уже была наставлена винтовка – впрочем, возможно, она была нацелена не на меня, а в сторону бойницы. Я двинулся вдоль стены, и мушка винтовки последовала за мной. Голос внизу упорно твердил свое неведомое послание. Я сел, и ствол винтовки тоже опустился.
– Что он говорит? – повторил Пайл.
– Понятии не имею. Скорее всего, они наткнулись на автомобиль и требуют от этих парней, чтобы они нас выдали, не то… Лучше завладеть автоматом, прежде чем они решатся.
– Он выстрелит.
– Пока что он колеблется. Когда перестанет, тогда выстрелит.
Пайл повозил по полу ногами и оказался под прицелом.
– Я двинусь вдоль стены, – произнес я. – Когда он переведет взгляд на меня, возьмите его на мушку.
Стоило мне привстать, как голос снаружи умолк. Я даже вздрогнул от неожиданности.
– Брось винтовку! – приказал Пайл часовому.
Не успел я прикинуть, заряжен ли автомат – проверить это мы не удосужились, как часовой бросил винтовку. Я сделал несколько шагов и подобрал ее. Голос внизу опять зазвучал – мне показалось, что послание не изменилось. Меня интересовало, когда истечет срок ультиматума.
– Что будет потом? – осведомился Пайл, как школьник, наблюдающий лабораторный эксперимент: вроде происходящее не имеет к нему отношения.
– Может, шарахнут из базуки или к нам пожалует вьетминовец.
Пайл осмотрел подобранный автомат.
– Не вижу ничего загадочного, – произнес он. – Дать очередь?
– Нет, пусть еще потянут. Они хотели бы занять пост без пальбы, значит, у нас есть время. Лучше нам побыстрее смотаться.
– Вдруг они караулят внизу?
– Не исключено.
Караульные – правильнее было бы назвать их мальчишками, на двоих им вряд ли набиралось сорок лет – наблюдали за нами.
– А они? – спросил Пайл и добавил с шокирующей прямотой: – Мне их пристрелить? – Видимо, его тянуло испробовать автомат.
– Они нам ничего не сделали.
– Они собирались нас выдать.
– Почему бы нет? – сказал я. – Что мы здесь забыли? Это их страна.
Я разрядил винтовку и положил ее на пол.
– Вы же ее тут не оставите? – удивился Пайл.
– Староват я, чтобы бегать с винтовкой. И потом, это не моя война. Поторопимся!
Война была не моя, но я бы дорого заплатил, чтобы об этом знали люди в темноте. Я задул масляную лампу, спустил ноги в люк и нащупал лестницу. Слышал, как часовые шепчутся, словно заговорщики, на своем певучем языке.
– Сразу вперед, – скомандовал я Пайлу, – в рис! Только помните, там вода, не знаю, насколько глубокая. Готовы?
– Да.
– Спасибо за компанию.
– Всегда пожалуйста!
Я услышал у нас за спинами возню часовых; вдруг у них ножи? Голос в мегафоне стал категоричным, будто предлагал последний шанс на спасение. В темноте под нами раздался шорох. Крыса? Я заколебался.
– Жаль, выпить нечего, – прошептал я.
По лестнице что-то поднималось: я ничего не слышал, но ступеньки у меня под ногами содрогались.
– Зачем вы медлите? – спросил Пайл.
Не знаю, почему подумал о безмолвно поднимавшейся массе как неодушевленном предмете. По лестнице мог лезть только человек, тем не менее я не мог представить человека, подобного мне, – скорее уж животное, крадущееся с целью убийства, тихо и уверенно, с безжалостностью и чуждой мне кровожадностью. Лестница вибрировала, я уже воображал нацелившийся на меня хищный взгляд. Самообладание окончательно покинуло меня, и я спрыгнул вниз. Там ничего не оказалось, кроме рыхлой земли, схватившей меня за лодыжку и вывернувшей ее, как могла бы сделать только живая рука. Я слышал, как спускается по лестнице Пайл; до меня дошло, что я повел себя как испуганный дурень, не распознавший своей собственной дрожи. А я-то мнил себя суровым типом, прирожденным наблюдателем, настоящим репортером, для которого истина дороже всего! Я выпрямился – и чуть не упал от боли. Пришлось тащиться к полю, волоча ногу; было слышно, как меня нагоняет Пайл. Вскоре наверху, на вышке, разорвался снаряд базуки, и я опять рухнул лицом вниз.
IV
– Вы ранены? – спросил Пайл.
– Что-то с ногой. Ничего серьезного.
– Побежали! – позвал он.
Я видел Пайла, потому что его облепила мелкая белая пыль. Потом он погас, как изображение на экране, когда ломается проектор; осталась лишь звуковая дорожка. Я осторожно привстал на здоровое правое колено, стараясь не напирать на подвернутую левую лодыжку, – и шлепнулся: от боли перехватило дыхание. Дело было уже не в лодыжке, что-то случилось с левым бедром. Тревоги не было – все затмила боль. Я неподвижно лежал на земле, надеясь, что не будет нового приступа боли. Даже задержал дыхание, как делают при зубной боли. Я не думал о вьетминовцах, которые скоро начнут шарить вокруг вышки; наверху снова взорвалось – они заботились о своей безопасности. До чего же дорого обходится, подумал я, когда боль немного отпустила, убийство нескольких людей; гораздо дешевле убивать лошадей. У меня, наверное, помутилось сознание: мне чудилось, будто я забрел на живодерню – в детстве, в родном городке, меня преследовал этот страх. Мы, дети, фантазировали, что слышим предсмертное конское ржание и выстрелы.
Боль вернулась. Я лежал неподвижно, задерживая дыхание – это тоже казалось мне очень важным. Меня посетила здравая мысль, что следует, наверное, отползти в поле, поскольку у вьетминовцев вряд ли будет время на тщательные поиски. Вот-вот должен был появиться первый патруль, выполняющий приказ установить связь с экипажем первого танка. Но страх боли пересиливал страх перед партизанами, поэтому я продолжал лежать. Звуков, указывающих на то, что Пайл где-то неподалеку, не было слышно. Наверное, он добрался до поля. Вскоре раздались всхлипы. Они доносились со стороны вышки, то есть того, что от нее осталось. Это напоминало тихий плач ребенка, напуганного темнотой, но боящегося громко подать голос. Я предположил, что это один из парнишек-часовых – не иначе, его напарник погиб. Оставалось надеяться, что вьетминовцы не перережут ему горло. С детьми воевать нельзя. Я вспомнил скрюченное тельце в канаве и крепко зажмурился. Это помогло немного унять боль; я приготовился ждать. Чей-то голос крикнул непонятное. Я был не прочь уснуть в темноте и в одиночестве, наслаждаясь отсутствием боли.
Но тут до меня донесся шепот Пайла:
– Томас, Томас! – Он быстро освоил искусство красться бесшумно: я не слышал, как он вернулся.
– Убирайтесь! – прошипел я.
Он дотронулся до меня и плюхнулся рядом.
– Почему вы отстали? Ранены?
– Нога. Кажется, она сломана.
– Пуля?
– Нет, не то деревяшка, не то камень. Что-то с вышки. Кровь не течет.
– Вы должны постараться.
– Уходите. Пайл. Я не хочу, слишком больно.
– Которая нога?
– Левая.
Он подполз мне под бок и закинул мою руку себе на плечо. Я чуть не заверещал, как паренек с вышки, потом рассердился. Выразить злость шепотом оказалось трудно.
– Идите к черту, Пайл! Оставьте меня в покое. Я буду лежать тут.
– Нельзя.
Он уже почти взвалил меня себе на плечо. Меня пронзила нестерпимая боль.
– Бросьте геройствовать! Я не хочу идти.
– Помогите мне, а то нас обоих сцапают.
– Вы…
– Тихо, вас услышат!
Мне оставалось лишь плакать от досады. Я повис на нем, волоча левую ногу. Мы напоминали неуклюжих участников «бега на трех ногах» и наверняка попались бы, если бы не короткие автоматные очереди на дороге, со стороны следующей вышки. Видимо, к нам прорывался патруль; не исключалось также, что партизаны замахнулись на третью по счету вышку за одну ночь. Очереди заглушили шум нашего медленного хромого бегства.
Не уверен, что все время оставался в сознании; скорее всего, последние ярдов двадцать Пайл просто тащил меня на себе.
– Вот здесь осторожнее, – предупредил он. – Входим в воду.
Вокруг нас зашуршал рис, грязь захлюпала и облепила нам колени. Когда вода была уже нам по пояс, Пайл остановился. Он задыхался и почти квакал, как лягушка-бык.
– Вы уж простите… – пробормотал я.
– Я не мог вас бросить, – сказал Пайл.
Первым чувством было облегчение: вода и грязь держали мою ногу ласково, но твердо, как бинты; но уже скоро мы залязгали зубами от холода. Я прикинул, миновала ли полночь. Если вьетминовцы нас не найдут, то придется простоять в воде шесть часов.
– Можете дать мне минутку передохнуть? – спросил Пайл.
Сразу вернулось мое необъяснимое раздражение – если меня что-то извиняло, то только боль. Я не просил меня спасать, оттягивать мою гибель, да еще так болезненно. С тоской вспомнил свое недавнее ложе – твердую сухую землю. Я по-журавлиному балансировал на одной ноге, предоставляя Пайлу отдых. Стоило пошевелиться – и начинался шорох и хруст рисовых стеблей.
– Вы спасли мне жизнь, – произнес я. Пайл откашлялся для приличествующего ситуации ответа, но я продолжил: – Теперь я смогу умереть здесь. Честно говоря, предпочел бы воде сушу.
– Лучше помалкивайте, – шикнул на меня Пайл, как на инвалида.
– Кто, черт возьми, вас просил меня спасать? Я приехал на Восток, чтобы меня убили. А вы с вашим проклятым нахальством… – Я поскользнулся в грязи, и Пайл поправил мою руку у себя на плече.
– Расслабьтесь, – посоветовал он.
– Вы насмотрелись фильмов про войну. Мы с вами не морские пехотинцы, медали вам не видать.
– Тсс…
С края поля донеслись шаги. Пальба дальше по дороге прекратилась, и теперь тишину нарушали только эти шаги да легкое шуршание риса от нашего дыхания. Наконец шаги стихли; казалось, до идущего рукой подать. Пайл надавил мне на плечо ладонью, принуждая присесть. Мы вдвоем медленно, чтобы не шуршать стеблями, опустились в жидкую грязь. Я стоял на одном колене, запрокинув голову, чтобы не нахлебаться воды. Ногу опять пронзила боль, и я подумал: «Потеряю здесь сознание – захлебнусь…» Я всегда боялся утонуть, сама эта мысль была мне ненавистна. Почему нельзя выбрать себе смерть? Стало совсем тихо. Наверное, кто-то, стоя ярдах в двадцати от нас, ждал шороха, кашля, чиха… «Господи, – подумал я, – сейчас я чихну». Если бы Пайл оставил меня в покое, то я отвечал бы только за свою жизнь, а так на мне лежала ответственность и за него, мечтавшего выжить. Я зажал себе пальцами верхнюю губу – способ, запомнившийся с детских игр в прятки, но чихать не расхотелось, взрыв назревал, и чужие, замерев в темноте, ждали этого. Он назревал, назревал – и назрел.
Но в то самое мгновение, когда я чихнул, вьетминовцы открыли автоматный огонь в гущу риса. Казалось, неумолимая машина пробивает дырки в стальном листе, где уж тут расслышать какой-то чих. Я сделал глубокий вдох и погрузился в воду с головой, инстинктивно отбросив свое кокетство со смертью. Так женщина, требующая от возлюбленного грубости в постели, в последний момент вспоминает, что жаждет нежности. Пули посекли рис над нашими головами, и гроза миновала. Когда мы с Пайлом синхронно вынырнули, судорожно ловя ртами воздух, шаги удалялись в сторону вышки.
– Мы выиграли! – прошептал он.
Невзирая на боль, я прикинул свой выигрыш: старость, редакторское кресло, одиночество. Что касается Пайла, то теперь я знаю, что он радовался преждевременно. Мы ждали, дрожа от холода. На дороге, уходящей в Тэйнинь, занялся веселый, праздничный пожар.
– Это мой автомобиль, – пробормотал я.
– Какая жалость! – вздохнул Пайл. – Не выношу бессмысленного ущерба.
– Там оставалось бензина как раз, чтобы устроить пожар. Вы тоже замерзли, Пайл?
– Еще бы!
– Может, выберемся отсюда и ляжем на дороге?
– Дадим им еще полчасика.
– Я тяну вас ко дну.
– Выдержу, я молодой.
Он хотел пошутить, но меня обожгло холодом, похуже тяжелого ледяного ила внизу. Только что я намеревался извиниться за то, что уступил своей боли, но тут она снова возникла.
– Верно, вы молоды. Вы можете себе позволить ждать.
– Что-то я вас не пойму, Томас.
Мне казалось, будто мы провели вместе не одну ночь, а вдесятеро больше, но Пайл по-прежнему понимал меня не лучше, чем французский язык.
– Лучше бы вы оставили меня в покое, – пробурчал я.
– Тогда я бы не смог смотреть в глаза Фуонг, – ответил он, и это имя прозвучало как наглый вызов. Я проглотил наживку.
– Значит, это ради нее. – Моя ревность была еще абсурднее и унизительнее оттого, что приходилось о ней шептать; в шепоте нет интонации, а ревности идет театральность. – Вы решили повлиять на нее своим героизмом. Как же вы ошибаетесь! Моя смерть – вот что сделало бы ее вашей.
– Я о другом, – возразил Пайл. – Когда любишь, стремишься играть по правилам.
Так-то оно так, но он в своей невинности все же был не совсем прав. Любить значит смотреть на себя чужими глазами, то есть испытывать любовь к собственному перевранному, возвышенному образу. Любя, мы чужды понятию чести: геройство превращается в лицедейство для аудитории из двух человек. Возможно, я больше не был влюблен, но помнил эти правила.
– Я бы вас бросил, – сказал я.
– Нет, не бросили бы, Томас. – И он добавил с невыносимым самодовольством: – Я знаю вас лучше, чем вы сами.
От злости я попытался отодвинуться от него и принять собственный вес на себя, но боль опять накатила, как с ревом мчащийся в тоннеле поезд, и я налег на Пайла с удвоенной силой, прежде чем сползти в воду. Он обхватил меня обеими руками и поддержал в вертикальном положении, а потом принялся дюйм за дюймом подтаскивать к краю поля, к дорожной насыпи. Там Пайл опустил меня на спину в неглубокую грязь. Боль отступила, я открыл глаза и перестал сдерживать дыхание. Моему взору предстала лишь причудливая тайнопись созвездий, чужие, нечитаемые в отличие от родных звезд письмена. Потом надо мной нависло лицо Пайла, загородив звезды.
– Я пройдусь по дороге, Томас, поищу патруль.
– Не дурите! Вас пристрелят, не разбираясь, кто вы такой. Это если вас не скрутит Вьетминь.
– Это единственная возможность. Нельзя лежать в воде шесть часов.
– Ну так положите меня на дорогу.
– Оставлять вам автомат нет смысла? – с сомнением спросил он.
– Ни малейшего. Если вы решили играть в героя, то медленно идите через рис.
– Тогда патруль проедет мимо, прежде чем я успею ему просигналить.
– Вы не говорите по-французски.
– Я крикну: «Je suis Frongcais!»[35] Не волнуйтесь, Томас, я буду очень осторожен.
Я еще не ответил, а он уже отошел на расстояние, на котором не был слышен шепот. Пайл старался не шуметь и часто останавливался. Его освещала горящая машина, но выстрелов не последовало; вскоре он миновал костер, и тишина поглотила его шаги. О да, Пайл был осторожен, как раньше, когда плыл по реке в Фат-Дьем. Это была осторожность героя из приключенческих книжек для мальчишек, гордившегося своей осторожностью, как скаутским значком, и не сознававшего абсурдности и неправдоподобия приключения.
Я лежал и ждал выстрелов Вьетминя или патруля Легиона, но никто не стрелял. Чтобы добрести до следующей вышки, ему пришлось бы потратить не менее часа. Я вывернул шею и увидел, что осталось от нашей вышки. Теперь это была груда бамбука, соломы и глины, опускавшаяся по мере того, как становился ниже огонь, пожиравший машину. Когда отпускала боль, я испытывал блаженство: нервы наслаждались передышкой, и мне хотелось петь. Странно, думал я, что люди моей профессии ограничились бы для описания этой ночи всего двумя строчками: ночь была заурядная, единственным ее отличием от других ночей был я сам. Вскоре от остатков вышки до меня долетел тихий плач – наверное, один из караульных был еще жив. «Бедняга, – подумал я, – если бы мы не вломились в его хижину на курьих ножках, он бы сдался, как сдаются почти всегда они все, или дал бы деру при первом окрике в мегафон. Во всем виноваты мы, двое белых, отнявших у них автомат, это из-за нас они не посмели шелохнуться. А после нашего бегства было уже поздно». Этот плачущий в темноте голос был на моей совести: я гордился своей отстраненностью, неучастием в этой войне и все же стал причиной смертельных ран, словно пустил в ход автомат, как предлагал Пайл…
Я сделал попытку перекатиться на дорогу. Мне хотелось до него добраться. Только это и было мне доступно: разделить его боль. Но моя собственная боль одернула меня, как рывок вожжей. Больше я его не слышал. Я лежал неподвижно, слушая тишину и свою боль, колотившуюся, как огромное сердце, задерживая дыхание и умоляя Бога, в которого не верил: «Позволь мне умереть или потерять сознание!» Вскоре я, наверное, все же лишился чувств и ничего не осознавал, пока мне не приснилось, что у меня смерзлись веки и кто-то пытается разжать их при помощи стамески. Я хотел предостеречь доброхотов, что они могут повредить мне глазные яблоки, но язык не слушался, стамеска сделала свое дело, и в лицо мне ударил луч фонаря.
– Снова победа, Томас! – раздался голос Пайла.
Это я помню, а вот то, что Пайл потом рассказывал другим, нет: что я якобы ткнул пальцем в сторону со словами, что у вышки есть кто-то живой и его надо найти. Не мог я позволить себе сентиментальности в духе Пайла! Я себя знаю, мне известна глубина своего эгоизма. Просто мне не по себе (а мир с самим собой – главное мое желание), когда кому-то больно и я это вижу, слышу или осязаю. Порой бесхитростные люди принимают это за бескорыстие, хотя на самом деле я лишь жертвую совсем малым – в данном случае немного оттягиваю лечение своей раны – ради большего блага, мира в душе, позволяющего думать только о себе.
Они вернулись и сообщили, что паренек мертв. Я был счастлив, когда мне в ногу вкололи морфий и я перестал чувствовать боль.
3
I
Поднимаясь по лестнице в квартиру на улице Катина, я был вынужден сделать остановку на первой лестничной площадке. Там, как водится, болтали устроившиеся на корточках вокруг писсуара старухи с изрезанными линиями судьбы лицами. При моем появлении они замолчали, и я прикинул, что бы они мне рассказали, если бы я владел их языком, о событиях, происходивших тут, пока я лежал в госпитале Легиона на Тэйниньской дороге. Где-то, то ли на вышке, то ли на рисовом чеке, я потерял свои ключи и послал Фуонг записку, которую она должна была получить, если оставалась здесь. Это «если» являлось мерой моей неуверенности. В больнице я не получал от нее вестей, ведь Фуонг с трудом писала по-французски, а я не умел читать по-вьетнамски. Я постучал в дверь, она сразу открылась, и все показалось мне прежним. Я внимательно смотрел на Фуонг, пока она справлялась о моем самочувствии, трогала мою ногу в гипсе, подставляла плечо для опоры, словно такое юное растеньице могло послужить надежной опорой.
– Я рад вернуться домой, – произнес я.
Фуонг сказала, что соскучилась, – именно это я, понятно, мечтал услышать. Она всегда говорила то, чего мне хотелось, как азиатский чернорабочий, прилежно отвечающий на вопросы. Помешать этому могла только случайность. Сейчас я поджидал такой случайности.
– Как развлекалась? – спросил я.
– Часто виделась с сестрой. Она нашла работу у американцев.
– Неужели? Пайл помог?
– Не Пайл, Джо.
– Кто такой Джо?
– Ты его знаешь. Экономический атташе.
– Ну конечно, Джо.
Он был из тех, кого сразу забываешь. До сих пор не могу его описать, помню лишь полноту, чисто выбритые и напудренные щеки, громкий смех. Личность как таковая полностью ускользает, кроме имени – Джо. Некоторых людей всегда называют укороченными именами.
Фуонг помогла мне растянуться на кровати.
– Какие фильмы смотрела? – поинтересовался я.
– Один, в «Катина», был такой забавный! – И она принялась подробно пересказывать сюжет.
Я тем временем разглядывал комнату – искал белый конверт, похожий на телеграмму. Пока я медлил с вопросом, оставалась надежда, что Фуонг забыла про телеграмму, которая могла лежать на столе, рядом с пишущей машинкой, на шкафу или, для большей сохранности, в ящике буфета, вместе с ее шарфами.
– Почтмейстер – думаю, это был почтмейстер, а может, мэр – следил за ними до дома, потом взял у пекаря лестницу и залез в окно Карин, но она, видишь ли, ушла с Франсуа в другую комнату, а тут неслышно для него пришла мадам Бомпьер, увидела его на лестнице и подумала…
– Кто такая мадам Бомпьер? – спросил я, глядя на раковину – там, среди лосьонов, она тоже могла что-то положить.
– Я же говорила: мать Карин, она вдова и ищет мужа… – Фуонг села на кровать и засунула ладонь мне под рубашку. – Ужасно смешно!
– Поцелуй меня, Фуонг.
В ней не было кокетства. Она выполнила просьбу и продолжила рассказ о сюжете фильма. Точно так же отреагировала бы на мою просьбу заняться любовью: немедленно, без вопросов, сняла бы шаровары, чтобы потом вернуться к рассказу о злоключениях мадам Бомпьер и почтмейстера.
– Мне не приходила телеграмма?
– Приходила.
– Почему не показываешь?
– Тебе рано работать. Надо лежать и отдыхать.
– Может, это не по работе.
Фуонг дала мне конверт, и я увидел, что он вскрыт. В телеграмме говорилось: «Четыреста слов нужна подоплека отъезда Делатра и ее влияние на военную и политическую ситуацию».
– Да, – кивнул я, – это работа. Как ты узнала? Почему открыла?
– Я думала, это от твоей жены. Надеялась на хорошую новость.
– Кто тебе перевел?
– Отнесла сестре.
– Если бы новость была плохой, ты бы от меня ушла, Фуонг?
Она погладила мне грудь, чтобы успокоить, не понимая, что на сей раз мне нужны слова, пусть лживые.
– Хочешь трубку? Еще для тебя есть письмо. Наверное, от нее.
– Его ты тоже открыла?
– Я не открываю твоих писем. Телеграммы – другое дело, их читают чиновники.
Конверт хранился среди шарфов. Осторожно достав, она положила его на кровать. Я узнал почерк.
– Если новость плохая, что ты…
Я отлично знал, что новость будет плохая. Телеграмма могла означать внезапный всплеск великодушия, а в письме – только объяснения, оправдания… Я прервал свой вопрос, потому что нечестно требовать обещания, которого нельзя сдержать.
– Чего ты боишься? – спросила Фуонг, и я подумал: «Боюсь одиночества, пресс-клуба и тамошней жилой комнаты, а еще Пайла».
– Сделай мне бренди с содовой, – попросил я.
Начиналось письмо со слов «Дорогой Томас», а заканчивалось: «С любовью, Хелен».
– Это от нее?
– Да. – Прежде чем читать письмо, я соображал, что потом сказать Фуонг – правду или ложь.
«Дорогой Томас!
Меня не удивило твое письмо и то, что ты не один. Ты ведь не из тех мужчин, что могут долго оставаться в одиночестве. Собираешь женщин, как пальто собирает пыль. Наверное, я смогла бы посочувствовать тебе, если бы не догадывалась, что по возвращении в Лондон ты очень быстро найдешь утешение. Вряд ли ты поверишь, но мысль о бедной девушке не позволяет мне немедленно ответить тебе простым “нет”. Мы больше способны на сопереживание, чем вы».
Я глотнул бренди. Раньше не понимал, что сексуальные раны не заживают годами. Я по оплошности – недостаточно аккуратно выбрав слова – снова заставил ее раны кровоточить. Кто станет осуждать ее за попытку разбередить в отместку мои шрамы? Когда мы несчастливы, мы причиняем ближним боль.
– Дела плохи? – спросила Фуонг.
– Плоховаты, – вздохнул я. – Но у нее есть право… – Я стал читать дальше.
«Я всегда думала, что ты любишь Энн больше, чем всех нас, пока ты не собрался и не уехал. Теперь ты, похоже, намерен оставить очередную женщину, потому что, как я понимаю из твоего письма, не очень-то ждешь “благоприятного” ответа. “Я сделал все, что мог” – разве не так ты думаешь? Что бы ты сделал, если бы я ответила “да”? Действительно женился бы на ней? (Вынуждена писать о ней “она”, поскольку ты не называешь ее имени.) А что, может, и женился бы. Полагаю, как и все мы, ты стареешь и тебе не нравится одинокая жизнь. Я сама порой чувствую себя одинокой. Насколько я понимаю, Энн нашла себе другого партнера. Но ты вовремя ее оставил».
Она успешно нащупала местечко побольнее. Я выпил еще. На ум почему-то пришло слово «кровопускание».
– Позволь, я сделаю тебе трубку, – произнесла Фуонг.
– Как хочешь, – сказал я. – Как хочешь…
«Лишь одна причина побудила бы меня ответить “нет”. (О религиозной причине говорить не нужно, этого ты никогда не понимал, потому что не верил.) Брак не мешает тебе бросить женщину, верно? Он только откладывает на время неизбежное, и это было бы еще более несправедливо для этой женщины, если бы ты прожил с ней так же долго, как со мной. Ты бы привез ее в Англию, где она была бы совершенно чужой и чувствовала бы себя заброшенной после того, как ты ее оставишь. Она даже не пользуется ножом и вилкой? Я так резка, потому что больше забочусь о ее благе, чем о твоем. Хотя, дорогой Томас, о твоем благе я тоже думаю».
Меня затошнило. Я давно не получал писем от жены. Заставил Хелен написать это и теперь чувствовал ее боль в каждой строчке. Ей было больно, и от этого становилось больно мне: мы брались за старое, причиняли друг другу боль. Если бы только можно было любить, не причиняя страданий – одной верности недостаточно: я был верен Энн, но все равно ранил ее. Страдание заложено в самом акте обладания: мы слишком малы телесно и душевно, чтобы обладать человеком без гордыни или принадлежать другому, не чувствуя унижения. В каком-то смысле я был рад, что жена опять нанесла мне удар: я давно забыл про ее боль, и она могла со мной поквитаться только таким способом. Увы, в любом столкновении достается и невиновным. Всегда, везде из-под вышки доносится чей-то плач.
Фуонг зажгла опиумную лампу.
– Она позволит тебе на мне жениться?
– Пока не знаю.
– Она не говорит?
– Если и говорит, то неторопливо.
«Ты так гордишься своей невовлеченностью, тем, что ты репортер, а не автор передовиц, – думал я, – но за кулисами у тебя горы трупов! Та, настоящая, война безобиднее этой. Минометчик причиняет меньше вреда».
«Если я изменю своим глубочайшим убеждениям и скажу “да”, будет ли от этого хорошо тебе самому? Говоришь, тебя отзывают в Англию, и я понимаю, насколько это тебе поперек горла: ты бы все сделал для облегчения ситуации. Могу представить, как ты женишься, выпив лишнего. Когда-то мы действительно попытались построить семью, но нас постигла неудача. Во второй раз уже не так стараешься. Ты говоришь, что потерять эту девушку – все равно что перестать жить. Однажды ты написал ту же самую фразу мне – могу показать письмо, я его сохранила; уверена, ты и Энн так писал. По твоим словам, мы всегда старались говорить друг другу правду, но твоя правда, Томас, всегда кратковременная! Зачем спорить с тобой, пытаться воздействовать на тебя доводами рассудка? Проще поступить так, как диктует мне моя вера – ты же мыслишь неразумно, – и просто написать: я не верю в развод; моя религия запрещает его, так что, Томас, ответ будет: нет-нет».
Там было еще полстраницы, завершавшиеся словами «С любовью, Хелен», но этого я уже не стал читать. Думаю, там было про погоду и про мою любимую тетушку.
Жаловаться мне было не на что, я ждал подобного ответа. В нем содержалось много правды. Я бы только предпочел, чтобы она не так подробно размышляла вслух, ведь эти мысли ранили не только меня, но и ее саму.
– Она говорит «нет»?
Я без колебания ответил:
– Она пока не решила. Надежда есть.
Фуонг рассмеялась:
– Ты сказал «надежда», а сам так огорчен!
Она улеглась у моих ног, как собака на могиле крестоносца, и стала готовить опиум, а я размышлял, что скажу Пайлу. Четыре трубки лучше подготовили меня к будущему, и я добавил, что надежда обоснованная: моя жена обратилась к адвокату, и теперь я со дня на день жду телеграмму об избавлении.
– Это не так уж важно. Вы могли бы подписать соглашение, – произнесла она, и мне показалось, будто я слышу голос ее сестры.
– У меня нет сбережений. Пайла мне не перещеголять.
– Не волнуйся, мало ли что может произойти. Всегда есть какие-то способы. Моя сестра говорит, что ты мог бы застраховать свою жизнь.
Я подумал, что она реалистка, не умаляет значения денег и избегает громких заявлений о любви. Как бы отнесся к этому суровому реализму по прошествии лет романтик Пайл? Не беда, в его случае все решил бы хороший брачный контракт, и суровость смягчилась бы, как неиспользуемая и ненужная мышца. Богатые умеют обделывать подобные дела.
В тот вечер, еще до того как на улице Катина закрылись лавки, Фуонг купила себе три новых шелковых шарфа. Сидя на кровати, она хвасталась ими передо мной, громко восторгаясь яркой расцветкой и заполняя своим певучим голосом пустоту. Потом она аккуратно сложила обновки и добавила их к прежней дюжине в своем ящике; казалось, она закладывает фундамент скромного имущественного соглашения. Я тоже заложил свой безумный фундамент, тем же вечером написав письмо Пайлу, поощряемый ненадежной опиумной ясностью ума и дальновидностью. Вот что я написал – то письмо нашлось между страниц «Роли Запада» Йорка Хардинга. Наверное, он читал эту книгу, когда пришло письмо, использовал его как закладку, а позднее уже не вернулся к чтению.
«Дорогой Пайл» (единственный раз у меня возникло побуждение назвать его Олденом, ведь это было благодарственное и важное письмо, отличавшееся от других благодарственных писем фальшью)…
«Дорогой Пайл, я хотел написать из больницы и поблагодарить за сделанное той ночью. Вы, без сомнения, спасли меня от неудобной кончины. Я снова передвигаюсь с помощью палки – перелом произошел, видимо, в правильном месте, и возраст еще не добрался до костей и не сделал их хрупкими. Надо будет как-нибудь собраться и отпраздновать это. (Тут мое перо споткнулось и, как муравей, встретивший преграду, двинулось в обход.) У меня есть и другая причина для праздника. Знаю, вы обрадуетесь, вы же всегда говорили, что для нас обоих на первом месте стоят интересы Фуонг. Меня ждало письмо от жены, она более-менее согласна со мной развестись. Так что вам больше не нужно беспокоиться за Фуонг». (Это была жестокая фраза, и я понял это, перечитывая письмо, но тогда уже поздно было что-либо менять. Если бы я вычеркнул эту фразу, то лучше было бы порвать все письмо.)
– Какой шарф тебе больше нравится? – спросила Фуонг. – Мне – желтый.
– Да, желтый. Ступай в отель, отправь это письмо.
Она посмотрела на адрес:
– Я могу отнести его прямо в представительство, сэкономили бы на марке.
– Лучше почтой.
Я растянулся в опиумном блаженстве, размышляя: «По крайней мере, теперь она не оставит меня, пока я не уеду. Может быть, завтра, после нескольких трубок, я придумаю, как остаться».
II
Обыкновенная жизнь никогда не прекращается – это многим вправляет мозги. При авианалетах невозможно постоянно бояться, точно так же, когда тебя бомбардируют рутинные обязанности, случайные встречи, тревоги, ты на долгие часы расстаешься со своим главным страхом. Мысли об отъезде из Индокитая в апреле, о неясном будущем без Фуонг были потеснены ежедневными телеграммами, бюллетенями вьетнамской прессы и болезнью моего помощника, индийца Домингеса (его семья приехала из Гоа через Бомбей), раньше присутствовавшего вместо меня на второстепенных пресс-конференциях, прилежно собиравшего сплетни и слухи и носившего мои послания на телеграф и на цензуру. При помощи индийских торговцев, особенно на Севере – в Хайфоне, Намдине и Ханое, он добывал для меня ценные разведданные и, по-моему, лучше французского командования знал, где в Тонкинской дельте дислоцированы батальоны Вьетминя.
И поскольку мы никогда не использовали нашу информацию, если она не становилась новостью, и ничем не делились с французской разведкой, Домингес пользовался доверием нескольких агентов Вьетминя, скрывавшихся в Сайгоне-Чолоне. Ему, без сомнения, помогало азиатское происхождение и не мешало имя.
Домингес мне нравился. В отличие от тех, кто выставляет гордость напоказ, как кожную болезнь, и дергается от любого прикосновения, он прятал свою как можно глубже, сокращая ее до мельчайшего размера, возможного для человеческого существа. При каждодневном общении с ним вы видели только обходительность, смирение и безусловную любовь к правде. Чтобы докопаться до его гордыни, пришлось бы, пожалуй, вступить с ним в брак. Наверное, правда и смирение ходят парой; из нашей гордыни проистекает слишком много лжи. В моей профессии репортерская гордыня – стремление превзойти коллегу качеством репортажа, и Домингес помогал мне этого избегать, игнорируя телеграммы из Англии с вопросами, почему я не отразил тот или иной сюжет, не сделал репортажа в отличие от другого репортера и наврал.
Теперь, когда он заболел, до меня дошло, что я его должник: Домингес даже следил за бензобаком моего автомобиля и никогда ни словом, ни даже взглядом не покушался на мою частную жизнь. Наверное, он исповедовал католицизм, но у меня не было свидетельств этого, кроме его имени и названия родного города. Если судить по разговору Домингеса, то он мог бы с равным успехом поклоняться Кришне или ежегодно, прикрепив рыболовными крючками на голое тело дары божеству, совершать паломничества в пещеры Бату[36]. Его болезнь стала для меня благословением: теперь я сам должен был, забыв о собственных тревогах, посещать утомительные пресс-конференции, а потом тащиться, хромая, к своему столику в «Континентале», чтобы посплетничать с коллегами; я уступал Домингесу способностью отличать правду от лжи, поэтому завел привычку навещать его вечерами и обсуждать услышанное. Порой я заставал Домингеса в хибаре на запущенном бульваре Гальени, где он делил комнатушку с индийскими друзьями, расположившимися рядом с его узкой железной койкой. Сам он сидел прямо, подобрав под себя ноги, можно было подумать, что это не посещение больного, а визит к радже или к жрецу. Когда у него бывал жар, лицо покрывалось потом, но Домингес не утрачивал ясности мысли. Казалось, болезнь мучает не его, а чье-то чужое тело. Хозяйка ставила рядом с ним кувшин со свежим соком лайма, но я никогда не видел, чтобы он его пил: наверное, потому, что это значило бы признать жажду, собственные телесные муки.
Из всех визитов к нему мне особенно запомнился один. Я перестал спрашивать Домингеса о самочувствии, боясь, что вопрос прозвучит как упрек, и он сам с неизменной тревогой справлялся о моем здоровье и переживал, что мне приходится ползать по лестнице. В тот раз он сказал:
– Хочу, чтобы вы познакомились с одним моим другом. Вам следовало бы послушать его рассказ. Я записал для вас его имя, зная, что вам трудно запоминать китайские имена. Мы, конечно, никому не должны называть его. У него склад металлолома на Квай-Мито.
– Что-нибудь важное?
– Не исключено.
– Можете хотя бы намекнуть?
– Лучше сами его выслушайте. Там нечто странное, я не совсем понял… – По лицу Домингеса лился пот, но он не утирал его, словно капли были живыми святынями; в нем было много от индуиста, он никогда не обидел бы даже мухи. – Вы много знаете о своем друге Пайле? – спросил он.
– Не очень. Наши пути пересеклись, вот и все. Я не видел его после Тэйниня.
– Чем он занимается?
– Трудится в экономической миссии, под этим может скрываться множество грехов. По-моему, Пайла интересует местная промышленность – наверное, с американским деловым участием. Мне не нравится, как они поощряют французов драться, но при этом мешают их бизнесу.
– Не так давно я слышал его выступление на приеме в представительстве в честь заезжих конгрессменов. Ему поручили ввести их в курс дела.
– Боже, помоги конгрессменам! Пайл в стране менее полугода.
– Он говорил о старых колониальных державах – Англии и Франции и о том, что им обеим нечего надеяться на доверие азиатов. И тут появляется Америка с чистыми руками.
– Гавайи, Пуэрто-Рико, – сказал я. – Нью-Мексико.
– На главный вопрос – есть ли у здешнего правительства возможность одолеть Вьетминь – он ответил, что это могла бы сделать «третья сила». Мол, всегда существует «третья сила», свободная и от коммунизма, и от позора колониализма, – он назвал это национальной демократией; остается только найти лидера и защитить его от старых колониальных держав.
– Все по Йорку Хардингу, – усмехнулся я. – Пайл начитался этой чуши перед приездом сюда. Болтал об этом в свою первую неделю и с тех пор ничему не научился.
– Он мог найти своего лидера, – произнес Домингес.
– Это важно?
– Я не знаю, чем он занимается. Ступайте к моему другу на Квай-Мито и поговорите с ним.
Я вернулся домой, на улицу Катина, оставил записку Фуонг и на закате покатил мимо порта. Под боком у пароходов и у серых военных судов рассыпались по набережной столики и кресла, пылали и булькали переносные кухоньки. На бульваре Соммы под деревьями парикмахеры щелкали своими ножницами, под стенами сидели на корточках предсказатели и гадалки с грязными колодами карт. Чолон казался совсем другим городом, там с заходом солнца работа не замирала, а, наоборот, оживала. Возникало ощущение пантомимы: длинные вертикальные надписи на китайском, яркие огни, развалы товаров в бесконечных проулках, тянувшихся куда-то вбок, в темноту и безмолвие. По одному такому проулку я снова вышел на набережную, под которой сгрудились несчетные сампаны, зияли в потемках пасти складов и не было ни души.
Я нашел нужное место с трудом и почти случайно. Ворота склада были распахнуты, виднелись причудливые, в стиле Пикассо, очертания груды железного старья, освещенного старой лампой: какие-то остовы кроватей, ванны, мусорные урны, автомобильные капоты; там, куда бил свет, возникали цветные пятна и полосы. Я шел по узкому каньону среди нависающего железного барахла и звал мсье Чу, но никто не отзывался. В глубине склада обнаружилась лесенка, ведшая, как я предположил, в жилище мсье Чу; меня навели на задний вход – похоже, у Домингеса имелись на это свои причины. Даже лестница была увешана старьем, завалена металлоломом – в этом сорочьем гнезде могло сгодиться и не такое. Само жилище представляло собой одну комнату, где сидело и лежало все семейство. Это походило на лагерь, который можно было в любой момент свернуть. Всюду расставлены чайные чашки, в несчетные картонные коробки свалены непонятные предметы, здесь же стояли наготове перетянутые ремнями матерчатые саквояжи. На большой кровати сидела старуха, тут же были два мальчишки и две девчонки, по полу ползал младенец под надзором трех женщин средних лет в старых крестьянских штанах и куртках бурого цвета. Два старика в синих китайских халатах из шелка играли в углу в маджонг. На мое появление никто не обратил внимания. Старики играли быстро, опознавая фишки на ощупь, издаваемые ими звуки напоминали шум гальки, переворачиваемой на пляже откатывающейся волной. Я никого не заинтересовал, только кошка прыгнула на коробку, а тощая собака, обнюхав меня, отошла в сторону.
– Мсье Чу! – позвал я.
Две женщины, не глядя на меня, покачали головами; еще одна сполоснула чашку и налила туда чаю из чайника, который держала для сохранения тепла в устланной шелком коробке. Я сел на кровать рядом со старухой, и девочка подала мне чашку. Видимо, я стал членом их сообщества наряду с кошкой и собакой – те тоже, наверное, затесались в него случайно. Младенец, ползавший по полу, дернул меня за шнурок ботинка, и никто не остановил его: на Востоке детей не укоряют. На стенах висело целых три рекламных календаря, на каждом красовалась румянощекая девушка в цветастом китайском наряде. На большом зеркале было почему-то написано «Café de Paris» – наверное, его по ошибке снесли в утиль; я сам почувствовал себя причисленным к утилю.
Я медленно пил горький зеленый чай, часто перекладывая чашку без ручки из одной ладони в другую, чтобы не обжечься, и гадал, сколько времени мне придется так просидеть. Один раз я обратился к семейству по-французски, осведомившись, когда ожидается возвращение мсье Чу, но ответа не получил – меня не поняли. Мою опустевшую чашку снова наполнили. Присутствующие не прерывали прежних занятий: одна женщина гладила, одна девушка шила, мальчишки делали уроки, старуха смотрела на свои ноги – маленькие и кривые, как положено старой китаянке, собака наблюдала за кошкой, не слезавшей с коробки.
Я начинал понимать, как тяжело зарабатывал Домингес на свое скудное прожитие.
В комнату вошел истощенный китаец. Казалось, он вообще на занимает места: он смахивал на лист пергаментной бумаги, которым проложено печенье в банке. Можно было подумать, что его полосатая фланелевая пижама движется сама по себе.
– Мсье Чу? – спросил я.
Он посмотрел на меня безразличным взглядом курильщика опиума. Впалые щеки, младенческие запястья, ладошки маленькой девочки – много же лет и много трубок понадобилось, чтобы низвести его до такого состояния.
– Мой друг мсье Домингес говорил, что вы можете мне что-то показать, – сказал я. – Вы ведь мсье Чу?
Он согласился, что он и есть мсье Чу, и вежливым жестом разрешил мне сидеть. Я видел, что причина моего появления теряется в задымленных закоулках внутри его черепа. Не желаю ли я чашечку чаю? Мой визит для него большая честь. Еще одна сполоснутая чашка – вода была выплеснута на пол – перекочевала, как раскаленный уголек, мне в ладони. Я открыл для себя новую пытку – чаем.
После моего комплимента насчет многочисленности его семейства он огляделся с удивлением, словно никогда прежде не рассматривал ситуацию под этим углом.
– Моя мать, – сказал он, – моя жена, моя сестра, мой дядя, мой брат, мои дети, тетка моих детей.
Младенец откатился от моих башмаков и теперь лежал на спине, дрыгая ножками и хныча. Чей он? Окружающие были либо слишком стары, либо слишком юны, чтобы произвести его на свет.
– Мсье Домингес говорил мне, что это важно, – произнес я.
– А, мсье Домингес. Надеюсь, мсье Домингес здоров?
– У него лихорадка.
– Сейчас нездоровый сезон.
Я не был уверен, что мсье Чу помнит, кто такой Домингес. Он закашлялся, и натянутая кожа под пижамной курткой без двух пуговиц напряглась, как на туземном барабане.
– Вам самому надо к врачу, – заметил я.
К нам присоединился молодой человек, чьего прихода я не расслышал. Одет он был аккуратно, по-европейски.
– У мистера Чу одно легкое, – сказал он по-английски.
– Жаль…
– Он выкуривает по сто пятьдесят трубок в день.
– Звучит внушительно.
– Врач говорит, что это вредно, но мистер Чу гораздо счастливее, когда курит.
Я кивнул.
– Разрешите представиться: я управляющий у мистера Чу.
– Моя фамилия Фаулер. Меня прислал Домингес. По его словам, мистер Чу хочет что-то мне сказать.
– У мистера Чу ослабела память. Чашечку чая?
– Благодарю, я уже выпил три чашки. – Это напоминало вопросы и ответы из разговорника.
Управляющий мсье Чу забрал у меня чашку и передал ее одной из девочек, которая, выплеснув чаинки на пол, снова ее наполнила.
– Недостаточно крепкий, – определил управляющий, взял чашку, сам попробовал, аккуратно сполоснул чашку и наполнил ее из второго чайника.
– Так лучше? – спросил он.
– Гораздо лучше.
Мсье Чу откашлялся, но только для того, чтобы обильно харкнуть в жестяную плевательницу, разукрашенную розовыми лепестками. Младенец катался среди чаинок, кошка скакала с коробки на саквояж и обратно.
– Лучше вам поговорить со мной, – промолвил молодой человек. – Меня зовут Хенг.
– Может, вы объясните…
– Спустимся в склад, – предложил Хенг, – там спокойнее.
Я подал мсье Чу руку, он с изумленным видом подержал ее в своих ладонях, а потом обвел взглядом комнату, будто соображал, какое я имею отношение ко всему окружающему. Мы стали спускаться по лесенке, и шум переворачиваемой гальки постепенно стих.
– Осторожно, – предупредил меня Хенг, – здесь нет нижней ступеньки. – На всякий случай он включил фонарик.
Мы оказались среди ржавых коек и ванн, и Хенг повел меня по боковому проходу. Вскоре он остановился и направил луч фонарика на металлический предмет – не то цилиндр, не то банку.
– Видите?
– Что это такое?
Хенг перевернул непонятный предмет и указал на ярлык: «Diolaction».
– Для меня это пустой звук.
– У меня таких две. Их привезли с другим ломом из гаража Фан Ван Муя. Знаете такого?
– Нет.
– Его жена – родственница генерала Тхе.
– Все равно не пойму, какое…
– А вот это узнаете? – Хенг нагнулся и приподнял нечто продолговатое, вроде корня сельдерея с впадиной, отливавшее хромом в свете его фонарика.
– Принадлежность ванной комнаты?
– Это литейная форма, – объяснил Хенг. Похоже, он получал удовольствие, объясняя очевидные ему самому вещи. Он выдержал паузу, чтобы еще раз подчеркнуть мое невежество. – Понимаете, что это значит?
– Да, однако не…
– Эта форма – американское изделие. «Diolaction» – американская торговая марка. Так понятнее?
– Откровенно говоря, нет.
– Эта форма бракованная, поэтому ее выбросили. Но она не должна была попасть в мусор, как и эта банка. Они допустили оплошность. Сюда явился сам мсье Муй. Форму я не нашел, но отдал ему другую банку и сказал, что больше у меня ничего нет. Он объяснил, что хранит в этом химикаты. Про литейную форму он, конечно, не говорил, чтобы не выдать слишком много, но хорошенько здесь порылся. Потом Муй отправился в американское представительство, к мистеру Пайлу.
– У вас хорошо поставлена разведка, – заметил я, по-прежнему не догадываясь, куда он клонит.
– Я попросил мсье Чу связаться с мистером Домингесом.
– Хотите сказать, что проследили связь между Пайлом и генералом? – спросил я. – Она есть, но слабая. Это не новость. Здесь все под колпаком у разведки.
Хенг ударил каблуком по черной железной банке, и ржавые койки отозвались дребезжащим эхом.
– Мистер Фаулер, вы англичанин, нейтрал. Вы справедливо относитесь ко всем нам. Если кто-то из нас занимает определенную сторону, вы способны проявить понимание.
– Если вы намекаете, что принадлежите к коммунистам или к Вьетминю, то можете не беспокоиться, меня это не шокирует. Я вне политики.
– Если в Сайгоне произойдет какая-нибудь неприятность, вину возложат на нас. Мой комитет хотел бы, чтобы вы разобрались по справедливости. Поэтому я и показал вам эти предметы.
– Что такое «диолакшн»? Звучит, как порошковое молоко.
– На первый взгляд молоко и есть. – Хенг посветил фонариком внутрь цилиндрической банки. На ее дне остался слой чего-то белого – не то порошка, не то просто пыли. – Американский пластик.
– До меня доходили слухи, что Пайл завозит пластик для игрушек.
Я взял форму и стал размышлять, на что она похожа. Отлитый предмет должен был выглядеть совсем не так, у меня в руках было как бы его перевернутое зеркальное изображение.
– Не для игрушек, – подсказал Хенг.
– Детали какого-то рычага? – предположил я.
– Только непривычной формы.
– Все равно не пойму, для чего это.
Хенг шагнул в сторону.
– Просто запомните, что видели, – сказал он, отходя в тень от груды металлолома. – Возможно, наступит день, когда у вас появится причина написать об этом. Только не говорите, где видели банку.
– А литейную форму?
– Тем более.
III
Непростое это дело – первая встреча с человеком, который, что называется, спас тебе жизнь. Я не видел Пайла, пока лежал в госпитале Иностранного легиона, и его отсутствие и молчание, легко объяснимые (он страшился неловких ситуаций даже больше, чем я), вызывали у меня непонятную тревогу. Прежде чем забыться под действием снотворного, я представлял, как Пайл поднимается по лестнице, стучит в мою дверь, спит в моей постели… Я был к нему несправедлив, и это добавляло к естественной признательности чувство вины. Наверное, я ощущал себя виноватым еще и из-за своего письма. У каких далеких предков я унаследовал эту глупую совестливость? Уверен, их не мучил стыд, когда они в своем палеолите занимались изнасилованиями и убийствами.
Я ломал голову, что лучше, пригласить своего спасителя на ужин или предложить выпить в «Континентале»? Передо мной стояла нестандартная проблема общения, вытекавшая из того, насколько высоко положено ценить собственную жизнь. Ужин и бутылка вина? Или только двойной виски? Это не давало мне покоя несколько дней, пока проблему не решил сам Пайл: он явился и разбудил меня криком через закрытую дверь. Я уснул, сморенный послеполуденной жарой и попытками разрабатывать ногу, которым посвятил утро, поэтому не услышал стука.
– Томас! Томас! – Этот зов вплелся в мой сон: я брел по длинной пустой дороге, ища поворота, а его все не было. Дорога разматывалась, как телетайпная лента, я уже смирился с тем, что в ней ничего не меняется, но в это унылое однообразие ворвался голос – сначала стонущий, полный боли, из-под вышки, а потом позвавший меня: «Томас, Томас!»
– Убирайтесь, Пайл, – пробормотал я. – Не подходите ко мне. Не хочу, чтобы меня спасали.
– Томас!
Он барабанил в мою дверь, но я притворялся мертвым, будто снова оказался на рисовом поле, а он был врагом. Внезапно я понял, что стук прекратился, кто-то за дверью тихо говорил, ему так же тихо отвечали. Шепот опасен, когда не понимаешь, кто шепчется. Я осторожно сполз с кровати и при помощи палки добрался до двери. Возможно, я поторопился и проявил неуклюжесть, но меня услышали, и шепот прекратился. Тишина, как растение, выпустила усики, они пролезли под дверь и распустились в комнате ядовитой листвой. Возненавидев эту тишину, я убил ее, рывком распахнув дверь. Передо мной стояли Фуонг и Пайл, он держал ее за плечи. Поза была такая, словно они только что целовались.
– Входите, входите, – произнес я.
– До вас не достучишься и не докричишься, – сказал Пайл.
– Я спал, и мне не хотелось, чтобы меня беспокоили. Но раз уж побеспокоили, входите. – Потом я спросил у Фуонг по-французски: – Где ты его нашла?
– Здесь, в коридоре, – ответила она. – Я услышала, как он стучит, и побежала наверх.
– Садитесь, – предложил я Пайлу. – Хотите кофе?
– Нет, и садиться не хочу, Томас.
– А мне придется, нога заставляет. Вы получили мое письмо?
– Да. Напрасно вы его написали.
– Почему?
– Оно лживое. Я вам доверял, Томас.
– Когда замешана женщина, о доверии лучше забыть.
– Вы тоже больше мне не доверяйте. Когда вы уйдете, я проникну сюда и стану печатать письма на вашей пишущей машинке. Наверное, я взрослею, Томас. – В его голосе слышались слезы, он выглядел еще моложе прежнего. – Почему вам обязательно надо наврать, чтобы выиграть?
– Проклятое европейское двоедушие, Пайл. Нужно же нам как-то восполнять нехватку амуниции. Хотя я мог проявить излишнюю неуклюжесть. Как вы обнаружили неправду?
– Благодаря сестре Фуонг. Теперь она работает у Джо. Я только что с ней виделся. Она знает, что вас отзывают на родину.
– Вот оно что! – с облечением проговорил я. – Про это и Фуонг знает.
– А письмо вашей жены? О нем Фуонг известно? Ее сестра видела и его.
– Каким образом?
– Вчера в ваше отсутствие она зашла к Фуонг, и та показала ей письмо. Она читает по-английски.
– Понятно. – Злиться на кого-либо было бессмысленно – очевидно, что виноват был я сам, а Фуонг хотела лишь похвастаться письмом перед сестрой. В этом не было признака недоверия.
– Ты знала все это вчера вечером? – спросил я.
– Да, – кивнула Фуонг.
– Я обратил внимание на твое спокойствие. – Я дотронулся до ее руки. – Ты могла бы разбушеваться, но ведь ты – Фуонг, бушевать не в твоем стиле.
– Мне нужно было подумать, – сказала она.
Я вспомнил, как, проснувшись ночью, понял по неровности дыхания, что она не спит. Я протянул к ней руку и спросил: «Cauchemar?» Переехав ко мне на улицу Катина, она сначала мучилась от ночных кошмаров, но вчера ночью покачала головой. Фуонг лежала ко мне спиной, и я прижал свою ногу к ее ноге – первый шаг в нашей формуле близости. Но даже тогда я не заметил ничего необычного.
– Объясните мне, Томас, зачем…
– Это же очевидно: я хотел удержать ее.
– Любой ценой, даже ей в ущерб?
– Конечно.
– Это не любовь.
– Вероятно, вы любите по-другому, Пайл.
– Я хочу ее защитить.
– А я нет. Ей не нужна защита. Я хочу, чтобы она находилась рядом, в моей постели.
– Против ее воли?
– Фуонг не останется, если не пожелает, Пайл.
– После этого она не сможет вас любить. – Вот как просто он рассуждал.
Я повернулся к Фуонг. Она прошла в спальню и поправила смятое мной стеганое покрывало, потом взяла с полки один из своих альбомов и села на кровать, будто наш разговор ее совершенно не касался. Я разглядел книгу: иллюстрированное жизнеописание королевы. Я увидел едущую в Вестминстерский дворец карету, только кверху колесами.
– Любовь – западное слово, – сказал я. – Мы применяем его из сентиментальности или для маскировки своей одержимости одной женщиной. Здешним людям одержимость чужда. Осторожнее, Пайл, не причините ей боли.
– Если бы не ваша нога, я бы вас поколотил.
– Вы должны быть благодарны мне и сестре Фуонг. Теперь можете забыть про угрызения совести – вы же бываете очень совестливым, когда речь не идет о пластике.
– Пластик?
– Надеюсь, вы сознаете, что делаете. Знаю, у вас самые лучшие мотивы, так всегда бывает. – Он смотрел на меня озадаченно и с подозрением. – Хотелось бы мне, чтобы у вас хоть иногда бывали дурные мотивы, тогда бы вы чуть лучше разобрались в людях. Это относится и к вашей стране, Пайл.
– Я хочу обеспечить ей достойную жизнь. Здесь у вас… вонища.
– Мы боремся с запахами при помощи ароматических палочек. Полагаю, вы предложите Фуонг морозильник, собственный автомобиль, новейший телевизор и…
– Детей, – подсказал он.
– Блестящих юных американских граждан, готовых к показаниям в суде.
– А что дадите ей вы? Вы не собирались увезти ее к себе домой.
– Нет, я не настолько жесток. Вот если бы я мог оплатить Фуонг обратный билет…
– Вы бы просто держали ее при себе для постели, пока не уедете.
– Она человек, Пайл. Пусть сама решает.
– Исходя из вашей фальши. Будучи ребенком.
– Никакой она не ребенок. Она закаленнее, чем вы – теперешний или будущий. Знаете, бывает полировка, которую не поцарапаешь? Такова Фуонг. Она может пережить десяток таких, как мы. Состарится, и только. Будет страдать от родов, голода, холода и ревматизма, но никогда, в отличие от нас, от мыслей и навязчивых идей. Царапин не появится, будет просто угасание.
Произнося свою речь, я следил, как Фуонг переворачивает страницу – теперь она любовалась семейной фотографией с принцессой Анной, – и знал, что, подобно Пайлу, изобретаю несуществующий персонаж. Человек никогда не знает другого человека; насколько я мог судить, ей, как и нам, был ведом испуг, просто она была лишена дара выразить его. Я помнил первый мучительный год, когда я изо всех сил старался понять Фуонг, умолял сказать, что она думает, и пугал своим безрассудным гневом, натыкаясь на ее молчание. Даже мое желание служило оружием: казалось, погружаясь в лоно Фуонг, я хочу заставить ее потерять самоконтроль и заговорить.
– Вы сказали достаточно, – произнес я. – Вы знаете все, что можно было узнать. Пожалуйста, уходите.
– Фуонг! – позвал он.
– Мсье Пайл? – Она оторвалась от любования Виндзорским замком, и ее официальная манера была в тот момент комичной и ободряющей.
– Он вас обманывает.
– Je ne comprend pas[37].
– Да уйдите вы! – не выдержал я. – Ступайте к вашей «третьей силе», к Йорку Хардингу и к «Роли демократии». Идите играть в пластик.
Позднее я убедился, что Пайл буквально последовал моему напутствию.
Часть третья
1
I
Прошло почти две недели после гибели Пайла, прежде чем я снова увидел Виго. Я шел по бульвару Шарне, когда он окликнул меня из «Клуба». В те времена это был излюбленный ресторан сотрудников Сюрте, которые, бросая вызов своим ненавистникам, обедали и выпивали на первом этаже, а остальную публику отправляли наверх, подальше от партизан с ручными гранатами. Я подошел, и Виго заказал для меня вермут с черносмородиновым ликером.
– Сыграем на вашу порцию?
– Пожалуй.
Я полез за своим комплектом костей для ритуальной партии в «421». Сами эти цифры и вид игральных костей сразу вызывают у меня воспоминания о годах войны в Индокитае. Увидев в любом уголке мира двоих, бросающих кости, я неизменно возвращаюсь на улицы Сайгона или Ханоя или на развалины Фат-Дьема, вижу патрулирующих каналы парашютистов – обмундирование и нашивки делали их похожими на тропических гусениц, слышу стреляющие неподалеку минометы и, возможно, вижу мертвого ребенка.
– Без вазелина, – сказал Виго, бросая 421 и позволяя мне тоже бросить напоследок кости. Вся местная Сюрте пользовалось в игре этим похабным жаргоном. Вероятно, это было изобретение самого Виго, подхваченное его подчиненными, пренебрегавшими Паскалем. – Младший лейтенант. – Каждый проигрыш в игре повышал вас в звании; игра продолжалась до тех пор, пока один или другой не получит капитана или майора. Он выиграл во второй раз и, считая спички, сообщил: – Мы нашли собаку Пайла.
– Неужели?
– Наверное, она не хотела уходить от тела. В общем, ей перерезали горло. Она лежала в иле в полусотне ярдов от хозяина. Видимо, сумела отползти.
– Вас все еще интересует это дело?
– Американский посланник не дает нам покоя. Слава богу, когда гибнет француз, так возиться не приходится. Впрочем, подобные случаи перестали быть редкостью.
Мы поиграли на разделение спичек, а потом началась настоящая игра. Виго неестественно быстро бросил 421. Он оставил себе всего три спички, после чего я бросил плохо, на самый низкий счет.
– «Нанетт», – произнес Виго, передвинув мне две спички. Избавившись от последней спички, он сказал: «Капитан», и я подозвал официанта, чтобы заказать еще выпивки.
– Хоть кто-нибудь у вас выигрывает? – спросил я.
– Нечасто. Хотите отыграться?
– В другой раз. Из вас получился бы отличный картежник, Виго! Вы играете в какие-нибудь другие азартные игры?
Он жалко улыбнулся, и я почему-то вспомнил его блондинку-жену, якобы изменявшую ему с молодыми офицерами.
– Знаете, – промолвил Виго, – всегда остается самая крупная игра.
– Самая крупная?
– «Взвесим выигрыш и проигрыш, – стал цитировать он, – ставя на существование Бога, оценим обе эти возможности. Если вы выигрываете, то выигрываете все. Если проигрываете, то ничего не проигрываете».
Я тоже ответил ему цитатой из Паскаля – единственной, которую помнил:
– «Оба, кто выбирает орла и кто выбирает решку, ошибаются. Оба они не правы. Истинный путь – вообще не заключать пари».
– «Да, – подхватил он, – но ставки необходимы, выбора нет. Вы вступили в игру». Вы изменяете собственным принципам, Фаулер. Вы engagé[38], как все мы.
– Религиозно – нет.
– Я не о религии. Собственно, я думал о собаке Пайла.
– О!
– Помните, что вы мне говорили: насчет того, что грязь на ее лапах может оказать ключом?
– Вы тогда ответили, что вы не Мегре и не Лекок.
– В конце концов у меня получилось неплохо, – похвалился Виго. – Обычно Пайл брал собаку с собой, когда выходил из дому?
– Полагаю, да.
– Слишком ценный был пес, чтобы позволять ему гулять самому?
– Это было бы небезопасно. Ведь в этой стране едят чау-чау. – Он стал убирать кости в карман. – Это мои кости, Виго.
– Ах, простите. Я подумал…
– Почему вы сказали, что я engagé?
– Когда вы последний раз видели собаку Пайла?
– Бог знает! Я не веду собачьей книги встреч.
– Когда вы вернетесь домой?
– Точно не знаю. – Не люблю снабжать информацией полицейских. Так я освобождаю их от лишних забот.
– Я хотел бы заглянуть к вам сегодня вечером. В десять? Если вы будете один.
– Я отправлю Фуонг в кино.
– У вас опять все хорошо – с ней?
– Да.
– Странно. У меня сложилось впечатление, что вы… несчастны.
– Для этого может быть столько причин, Виго! Вам ли не знать!
– Мне?
– Вы сами не очень счастливый человек.
– О, мне не на что жаловаться. «Разрушенный дом не горюет».
– Это еще что такое?
– Опять Паскаль. Довод, почему можно гордиться своим несчастьем. «Дерево не горюет».
– Что заставило вас стать полицейским, Виго?
– Необходимость зарабатывать на жизнь, любопытство к людям и – да, даже это – любовь к Эмилю Габорио[39].
– Вам бы в священники!
– В те времена я не читал правильных авторов, чтобы так поступить.
– Вы ведь по-прежнему подозреваете, что в этом замешан я?
Виго встал и допил свой вермут с ликером.
– Хочу с вами поговорить, только и всего.
Когда он ушел, я подумал, что Виго смотрел на меня с сочувствием, как на отбывающего пожизненный приговор, чьей поимке он поспособствовал.
II
Я понес наказание. Можно было подумать, что Пайл, уйдя из моей квартиры, приговорил меня к нескольким неделям неопределенности. Всякий раз я возвращался домой, ожидая катастрофу. Иногда не заставал Фуонг дома и был не способен чем-либо заниматься до ее возвращения, потому что не переставал гадать, вернется ли она вообще. Потом я спрашивал, где она была (стараясь, чтобы в моем голосе не звучали тревога и подозрение), и она отвечала, что ходила на рынок или в лавку и предъявляла доказательства (даже эта ее готовность подтверждать свою версию казалась тогда неестественной), что была в кино – доказательством служил корешок билета – или у сестры, где, как я считал, она встречалась с Пайлом. В те дни я занимался с ней любовью почти свирепо, словно ненавидел ее, хотя в действительности ненавидел свое будущее. В постели со мной лежало одиночество, одиночество я сжимал в объятиях по ночам. Фуонг не менялась: готовила мне еду, делала трубки, с лаской и с охотой предоставляла для наслаждения свое тело (удовольствия я больше не испытывал), а я, совсем как в прежние, ранние дни, мечтал залезть к ней в голову, прочитать ее мысли, но она думала на непонятном мне языке. Мне не хотелось допрашивать Фуонг, заставлять ее лгать (раз ложь не произносилась, я мог притворяться, будто у нас с ней все остается так, как всегда), но порой моя тревога прорывалась наружу, и я спрашивал: «Когда ты последний раз видела Пайла?»
Фуонг колебалась – а может, и вправду припоминала – и отвечала: «Когда мы с ним пришли сюда».
Я стал – почти не сознавая этого – возмущаться всем, что относилось к Америке. Твердил о бедности американской литературы, скандалах в американской политике, свинстве американских детей. Как будто нация у меня отнимала Фуонг, а не отдельный человек! Все американское стало неправильным. Я занудствовал на тему Америки даже с друзьями-французами, готовыми разделить мою антипатию. Казалось, я стал жертвой предательства, хотя какой предатель из врага?
Как раз тогда произошел инцидент с велосипедными бомбами. Вернувшись из бара «Империал» в пустую квартиру (где она была на этот раз, в кино или у сестры?), я нашел подсунутую под дверь записку Домингеса. Он просил прощения за то, что все еще болен, и просил прийти к универмагу на углу бульвара Шарне завтра в половине одиннадцатого утра. Приглашение исходило от мсье Чу, но я подозревал, что мое присутствие понадобилось скорее Хенгу.
История, как оказалось, укладывалась в один абзац, притом юмористический. Она не имела отношения к тяжелым боям на Севере, к каналам Фат-Дьема, забитым несвежими трупами, к минометной пальбе, к белому пламени напалма. Я прождал с четверть часа у цветочного киоска, а потом со стороны штаба Сюрте на улице Катина появился с визгом тормозов и шипением резины полный грузовик полицейских. Они высыпали на улицу и бросились к магазину, будто преследовали толпу, но никакой толпы не было, только велосипедные стоянки, полные велосипедов. Такими в Сайгоне опоясано любое крупное здание – даже в западных университетских городах не набирается таких туч велосипедистов. Я еще не успел навести свой фотоаппарат, а комическая и необъяснимая акция уже завершилась. Полицейские унесли со стоянки три велосипеда, подняв их над головами, и бросили в декоративный фонтан. Прежде чем я смог хоть кому-нибудь из них задать вопрос, они залезли в свой грузовик, и он с ревом укатил по бульвару Бонар.
– Операция «Велосипед», – раздался чей-то голос. Это был Хенг.
– В чем дело? – спросил я. – Учения? Непонятно, зачем…
– Подождите немного, – сказал Хенг.
Несколько прохожих приблизились к фонтану, из которого торчало одно колесо, как предупредительный буй, указывающий на притаившуюся под водой опасность. Через дорогу, крича и размахивая руками, бежал полицейский.
– Давайте посмотрим, – предложил я.
– Лучше не надо, – заметил Хенг, глядя на часы, показывавшие четыре минуты двенадцатого.
– Ваши часы торопятся.
– Полезное качество.
В следующую секунду в фонтане громыхнуло, вода выплеснулась на тротуар. Кусок отлетевшей штукатурки угодил в чье-то окно, вниз посыпались осколки. Раненых не было. Нам пришлось отряхивать свою одежду от воды и от стекла. Вылетевшее на дорогу изогнутое велосипедное колесо припадочно забилось на асфальте.
– Сейчас должно быть ровно одиннадцать, – сказал Хенг.
– С какой стати?..
– Я подумал, что вам будет интересно. Надеюсь, я не ошибся.
– Пойдемте выпьем?
– Нет, прошу меня извинить. Мне надо возвращаться к мсье Чу. Но сначала позвольте кое-что вам показать. – Хенг подвел меня к велосипедной стоянке и отстегнул от стойки собственный велосипед. – Смотрите внимательно.
– «Рейли», – прочитал я.
– Нет, взгляните на насос. Ничего не напоминает? – Он покровительственно улыбнулся, видя мою озадаченность, и уехал. Прежде чем свернуть в сторону Чолона, где его ждал склад металлолома, Хенг обернулся и помахал мне.
В Сюрте, куда я наведался за информацией, до меня дошло, что имел в виду Хенг. Литейная форма, которую я разглядывал у него на складе, имела форму половинки велосипедного насоса. В тот день во всем Сайгоне невинные насосы, оказавшиеся бомбами, дружно взорвались ровно в одиннадцать часов, кроме того места, куда по сигналу, исходившему, как я подозревал, от самого Хенга, поспела полиция. Все было тривиально: десять взрывов, шесть легко раненных, неизвестно сколько загубленных велосипедов. Мои коллеги – за исключением корреспондента «Extreme Orient», назвавшего это «возмутительным происшествием», – знали, что материал об этом напечатают, только если он будет смешным. Неплохо выглядел заголовок «Велосипедные бомбы». Все как один обвиняли коммунистов. Я был единственным, кто написал, что бомбы – показательная акция генерала Тхе; редакция изменила мой текст. Ничего, что относилось к генералу, не могло служить новостью, на него жаль было тратить газетную площадь.
Я отправил Хенгу через Домингеса записку с сожалением: я сделал все, что мог. Хенг прислал вежливую устную благодарность. Мне казалось, что он – или его вьетминовский комитет – проявляет излишнюю мнительность: обвинения в адрес коммунистов были несерьезны. Если кто-то и возлагал на них ответственность, то одновременно приписывал им чувство юмора. «Что они теперь придумают?» – спрашивали люди. Для меня символом этой абсурдной истории стало крутившееся на асфальте посреди бульвара велосипедное колесо. Я даже не намекнул Пайлу, что знаю о его связи с генералом. Пусть возится с пластмассовыми формочками, это безвредно и заодно отвлечет его от Фуонг. Но очутившись однажды вечером неподалеку от гаража Муя, я заглянул туда.
Тесное помещение на бульваре Соммы было похоже запущенностью на склад металлолома мсье Чу. Посередине стоял автомобиль с открытым капотом, напоминавший чучело доисторического зверя с разинутой пастью в провинциальном музее, куда никто не захаживает. По-моему, про этот автомобиль все забыли. Пол был завален какими-то железками и старыми коробками; вьетнамцы не любят что-либо выбрасывать, они как тот китайский повар, у которого после разделки утки на семь частей остается лишней одна-единственная перепончатая лапа. Я удивился, откуда взялся расточитель, избавившийся от пустых банок и бракованной литейной формы; либо их стянул здешний работник, чтобы заработать пару пиастров, либо унес некто, подкупленный изобретательным Хенгом.
Никого не увидев, я вошел. Вероятно, предположил я, все попрятались, опасаясь полицейского рейда. У Хенга могли быть связи в Сюрте, но полиция вряд ли предприняла бы что-либо. С ее точки зрения, было полезнее, чтобы люди приписали взрывы коммунистам.
Кроме машины и мусора на цементном полу, смотреть там было не на что. Трудно было представить, чтобы в гараже Муя мастерили бомбы. Я не понимал, как из белой пыли на дне банки делают пластиковую взрывчатку, но процесс наверняка был слишком трудоемким, чтобы заниматься этим здесь. Даже две бензиновые колонки на улице перед воротами гаража выглядели заброшенными. Под деревьями посредине бульвара трудились парикмахеры, в висевшем на стволе дерева куске зеркала отражалось солнце. Мимо меня просеменила девушка в шляпе-раковине с двумя корзинами на шесте. Гадалка, сидевшая на корточках у стены пищевой фабрики «Simon Frères», нашла клиента – старика с бороденкой, как у Хо Ши Мина, бесстрастно наблюдавшего, как она тасует ветхие карты. Неужели старик был готов отдать за свое будущее целый пиастр? На бульваре Соммы жизнь происходила на виду; про Муя знали все, но у полиции не было ключика, чтобы вызвать здешних жителей на откровенность. На этом уровне жизни было известно все и всем, однако оказаться на этом уровне было не так легко, как на самом бульваре. Я вспомнил старух, болтающих на нашей лестничной площадке у общего туалета: они тоже все слышали, но мне было невдомек, что им известно.
Я вернулся в гараж и зашел в расположенный сзади кабинетик. Там висел, как водится, китайский рекламный календарь, письменный стол был завален прейскурантами, здесь же стоял пузырек с клеем, калькулятор, валялись скрепки, ютился чайник и три чашки, не счесть было незаточенных карандашей, откуда-то взялась пустая почтовая открытка с Эйфелевой башней. Сколько бы Йорк Хардинг ни сочинял абстракций про «третью силу», сколько бы ни сопровождал их графиками, все сводилось вот к этому хаосу. Дверь в задней стене была заперта, но среди карандашей на столе валялся ключ. Я отпер дверь.
За ней располагался сарай одного размера с гаражом. Там помещался одинокий станок, смахивавший на клетку с несчетными жердочками и насестами для неведомых бескрылых пернатых. Устройство было обвешано какими-то ветхими тряпицами – наверное, для приведения всего этого в порядок, когда Мую и его помощникам приходилось отлучаться. Я нашел название фирмы-изготовителя, расположенной в Лионе, и даже номер патента. Патента на что? Когда я включил ток, старый станок ожил; у жердочек было назначение: механизм был похож на старика, собравшего последние силы, чтобы снова и снова бить кулаком… Передо мной был работающий пресс, пусть и древний, как кинопроектор в одном из первых кинотеатров, хотя в этой стране, где находилось применение любой рухляди и где любое старинное устройство продолжало служить, очищенное от ржавчины (помню, как смотрел в каком-то закоулке в Намдине дырявую дергавшуюся копию древнего фильма «Великое ограбление поезда»), такое совершенно не удивляло.
Я внимательно оглядел пресс и обнаружил следы белого порошка. «Diolaction», подумал я, напоминает сухое молоко. Правда, ни цилиндрических банок, ни литейной формы я не нашел. Я вернулся в кабинет, оттуда в гараж. Хотелось дружески похлопать старую колымагу по крылу: ей предстояло длительное ожидание, но в конце концов, чем черт не шутит… Мсье Муй с помощниками сейчас, наверное, торопился по рисовым полям на священную гору, где засел генерал Тхе. Только теперь я обрел голос и позвал Муя. Мне представлялось, что я перенесся из гаража, с бульвара с его парикмахерами, туда, в поле у дороги, где пришлось прятаться после отъезда из Тэйниня. «Мсье Муй!» – крикнул я еще раз, и мне показалось, будто человек, раздвигающий на ходу рисовые стебли, обернулся на мой зов.
Я вернулся домой. На лестничной площадке привычно щебетали старухи, чей язык был для меня непостижим, как птичье пение. Фуонг дома не оказалось, только записка о том, что она у сестры. Я лег на кровать – я все еще быстро уставал – и уснул. Проснувшись, увидел, что светящиеся стрелки будильника показывают второй час ночи, и повернул голову, уверенный, что Фуонг спит рядом со мной. Но подушка не была даже примята. Видимо, днем она поменяла белье – оно еще хранило свежесть стирки. Я встал и открыл ящик, где Фуонг держала свои шарфы: он был пуст. Я подошел к книжной полке – иллюстрированная «Жизнь королевской семьи» тоже пропала. Фуонг забрала все свое приданое.
В момент шока боли почти не испытываешь; она накатила часа в три ночи, когда я принялся планировать свою дальнейшую жизнь и проводить инвентаризацию воспоминаний, подлежавших стиранию. Хуже всего счастливые воспоминания; я налег на несчастливые. Опыт у меня был, через это я уже проходил и теперь знал, что способен сделать все необходимое. Только стал гораздо старше и чувствовал, что энергии на восстановление осталось меньше.
III
Я пришел в американское представительство и спросил Пайла. При входе заполнил бланк и отдал его военному полицейскому.
– Вы не указали цели посещения, – сказал он.
– Он поймет, – ответил я.
– Вам назначено?
– Можете считать и так.
– Вам это может казаться глупым, но нам приходится соблюдать осторожность. Мало ли кто здесь шатается.
– Да, я наслышан.
Он перебросил жвачку во рту справа налево и вошел в лифт. Я остался ждать. Я понятия не имел, что скажу Пайлу. Таких сцен мне еще не приходилось разыгрывать. Полицейский вернулся и ворчливо произнес:
– Можете подниматься. Комната 12 А, второй этаж.
Пайла в комнате не оказалось. За столом сидел Джо, экономический атташе; никак не вспомню его фамилию. Из-за столика машинистки на меня глазела сестра Фуонг. Уж не торжество ли читалось в ее жадных карих глазах?
– Входите, входите, Том! – воскликнул Джо. – Рад вас видеть. Как нога? Вы редкий гость у нас. Вот стул, садитесь. Как, по-вашему мнению, развивается новое наступление? Вчера вечером я встретил в «Континентале» Грэнджера. Он опять собрался на Север. До чего же цепкий! Где новости, там Грэнджер. Сигарету? Угощайтесь. Вы знакомы с мисс Хей? У меня плохая память на все эти имена, сложная материя в мои годы. Я обращаюсь к ней: «Эй, вы!» – она довольна. Долой ханжеский колониализм! Ну, о чем болтают в городе, Том? Ваш брат всегда держит ухо востро. Какая жалость, что вы повредили ногу! Олден мне рассказывал…
– Где Пайл?
– О, этим утром Олдена нет на работе. Наверное, он дома. Много работает на дому.
– Знаю я, чем он занимается там.
– Тоже цепкий паренек… Не понял, что вы сказали?
– Что я отчасти знаю, чем он дома занимается.
– Я что-то не улавливаю, Том. Медлительный Джо – это про меня. Всегда таким был и останусь.
– Он спит с моей девушкой, сестрой вашей машинистки.
– О чем вы?
– Спросите ее. Это она устроила. Пайл увел у меня девушку.
– Послушайте, Фаулер, я думал, вы явились по делу. Только сцен нам здесь не хватало!
– Я пришел к Пайлу. Думаю, он прячется.
– Вы последний, кому стоило бы так говорить после того, что Олден для вас сделал.
– Да, конечно, он же меня спас! Только я его об этом не просил.
– Спас, подвергая опасности себя. Этот парень настоящий смельчак.
– Плевать я хотел на его смелость! Тут речь идет кое о чем другом, что он себе отрастил.
– Нет уж, Фаулер, от подобных намеков вам лучше воздержаться, в комнате леди.
– Мы с этой леди отлично знакомы. У нее не получилось нажиться на мне, так она взялась за Пайла. Я знаю, что веду себя непозволительно, но не собираюсь молчать. Это ситуация, в которой приходится вести себя именно так.
– У нас много работы. Мы готовим отчет по производству каучука…
– Не волнуйтесь, я ухожу. Если Пайл позвонит, скажите ему, что я заходил. Он может из вежливости явиться с ответным визитом. – Я повернулся к сестре Фуонг: – Надеюсь, соглашение засвидетельствовано государственным нотариусом, американским консулом и церковью «Христианская наука».
Я вышел в коридор. На двери напротив была надпись: «Для мужчин». Я зашел, запер дверь, сел, уперся лбом в холодный кафель и заплакал. Никогда прежде я не плакал. У них даже в туалете был кондиционер, и его прохлада высушила мне слезы, как сушит слюну у вас во рту и семя в ваших чреслах.
IV
Передав текущие дела Домингесу, я удрал на Север. У меня были друзья в Хайфоне, в эскадрилье «Гасконь», и я часами сидел в баре аэропорта или играл в шары на гравийной дорожке. Официально я находился на фронте. Цепкостью я мог бы потягаться с Грэнджером, хотя пользы своей газете приносил не больше, чем экскурсией в Фат-Дьем. Но когда пишешь о войне, порой приходится рисковать, чтобы не лишиться уважения к себе.
На сей раз рисковать почти не было возможности. В Ханое распорядились брать меня только в полеты по горизонтали, которые на этой войне были не опаснее автобусных поездок, потому что мы не снижались на высоту досягаемости тяжелых пулеметов; нам ничего не угрожало, кроме ошибки летчика или неполадок в двигателе. Мы вылетали по расписанию и так же по расписанию возвращались. Бомбы падали по диагональной траектории вниз, над пересечением дорог или над мостом поднималась спираль дыма, и мы возвращались обратно, успевая на аперитив, чтобы потом до одури катать по гравию железные шары.
Однажды утром – я сидел в клубе-столовой в городе и пил бренди с содовой с молодым офицером, признавшимся в страстном желании побывать на длинном пирсе в Саутенде, – поступил приказ на вылет. «Вы с нами?» – спросил он. Я ответил утвердительно. Даже горизонтальный рейд являлся способом убить время и мысли. По дороге на аэродром лейтенант уточнил:
– Это будет пикирующее бомбометание.
– Я думал, мне запрещено…
– Главное, ничего не пишите. Я покажу вам местность возле китайской границы, этого вы еще не видели. Рядом с Лайтяу.
– Я полагал, там спокойно, там французы…
– Были. Два дня назад нас оттуда выбили. Мы хотим, чтобы Вьетминь не высовывал голов из своих дыр, пока не вернем себе эти позиции. А это означает опасное снижение и пулеметный обстрел. Мы можем выделить два самолета – один на задании. Летали когда-нибудь на пикирующем бомбардировщике?
– Нет.
– Немного неудобно с непривычки.
У эскадрильи «Гасконь» были только маленькие бомбардировщики «В-26», прозванные французами «проститутками» за небольшой размах крыльев, создававший впечатление неспособности держаться в воздухе. Меня усадили в креслице размером с велосипедное сиденье, и я уперся коленями в спину штурману. Забираясь все выше, мы полетели на север вдоль Красной реки, и впрямь красной в это время суток. Казалось, мы вернулись в прошлое и видим реку глазами географа, нарекшего ее этим именем; клонящееся к закату солнце заставило ее пламенеть. На высоте 9 тысяч футов мы повернули к Черной реке, и она была по-настоящему черной, накрытой сумрачными тенями. Прямо под нами величественно громоздились скалы, зияли ущелья, зеленели джунгли. Туда, в царство темной зелени, можно было сбросить сколько угодно солдат – и от них не осталось бы следа, как от горсти монет в поле, где созрел урожай. Впереди виднелся самолетик, похожий на комара. Мы стали снижаться.
Мы дважды облетели наблюдательную вышку и деревню в кольце изумрудных полей, потом круто взмыли в слепящую высь. Летчик по фамилии Труэн оглянулся и подмигнул мне. У него на штурвале были рычаги управления пулеметом и бомбовым люком. Перед пикированием у меня все упало внутри – ощущение, сопровождающее волнующе-непривычное: первый танец, первый званый обед, первую любовь. Это можно было сравнить с ощущением гонщика, выходящего на поворот в Уэмбли: у него тоже нет выбора, он в ловушке происходящего. Я увидел на высотомере цифру 3000 м – и мы нырнули вниз. Я превратился в комок страха, перестав что-либо видеть. Меня прижало к спине штурмана, на грудь навалилась невыносимая тяжесть. Момент бомбометания я пропустил. Вскоре застрочил пулемет, и кабина наполнилась пороховой вонью. Мы взмыли вверх, давление на грудь прекратилось, зато ухнул вниз мой желудок вместе со всеми кишками, самоубийственно метнувшись к земле, от которой мы удалялись, и потянув за собой хозяина – меня. Целых сорок секунд Пайла не существовало, одиночества тоже. Мы набирали высоту по широкой дуге, в боковое окошко тянуло дымом. Перед вторым пикированием я почувствовал иной страх – страх опозориться, заблевать спину штурмана, страх, что лопнут от давления мои немолодые легкие. После десятого пикирования я чувствовал лишь раздражение – полет слишком затянулся, пора возвращаться. В очередной раз мы взмыли вверх, выше досягаемости пулеметных очередей. Деревню со всех сторон окружали горы, и мы приближались к ней с одной и той же стороны, из одного и того же ущелья. Разнообразить атаки не было возможности. При четырнадцатом пикировании, забыв про свой страх опозориться, я подумал: «Им только и надо, что правильно направить пулемет». Мы снова задрали нос в безопасную вышину – вероятно, у них там, внизу, не было даже пулемета. Эти сорок минут показались бесконечными, зато меня покинули все мысли о самом себе. Когда мы повернули домой, солнце уже садилось; старый географ был забыт, Черная река перестала быть черной, Красная – красной, сделавшись золотой.
Внезапно мы опять устремились вниз, мимо лесного гребня, к реке, вившейся среди заброшенных рисовых полей, – как пуля, выпущенная в одинокий сампан на желтой воде. Наш пулемет выпустил короткую трассирующую очередь – и сампан взорвался снопом искр. Не проверив, есть ли выжившие и как они спасаются, мы снова взмыли вверх и легли на обратный курс. Как и в Фат-Дьеме при виде мертвого ребенка, я подумал: «Ненавижу войну!» Я был потрясен неожиданностью нашего нападения на случайную жертву: мы просто пролетали мимо и дали одну очередь, на наш огонь никто не ответил. Мы добавили в этом мире новых мертвецов и полетели дальше.
Я надел наушники: ко мне обращался капитан Труэн.
– Сделаем маленький крюк, – сказал он. – В известковых горах незабываемый закат. Вы не должны это пропустить.
Капитан Труэн вел себя как гостеприимный хозяин, демонстрирующий красоты своих владений. На протяжении сотни миль мы гнались за закатом над бухтой Халонг. Марсианин в шлеме восторженно рассматривал с высоты золотые рощи среди пористых скал и арок, и я, присоединившись к нему, забыл об убийствах и о своих кровоточащих ранах.
V
В тот вечер капитан Труэн настойчиво приглашал меня в опиумную курильню, хотя сам не курил, и я согласился. Он объяснял, что любит тамошний запах, ощущение покоя в конце дня, но при его профессии расслабление не может простираться дальше этого. Некоторые офицеры курили опиум, но это были армейцы, а ему нужно было высыпаться. Мы прилегли в отсеке, одном из многих в ряду, напоминающем общую спальню, и хозяин-китаец приготовил мне трубки. После ухода Фуонг я ни разу не курил. Через проход от нас метиска с роскошными длинными ногами свернулась у себя в отсеке, читая глянцевый женский журнал, в отсеке по соседству с ней двое китайцев средних лет вели деловой разговор, отложив трубки и попивая чай.
– Сегодня вечером тот сампан представлял опасность? – спросил я.
– Кто его знает? – пожал плечами Труэн. – У нас приказ стрелять в этой части речного русла по всему, что увидим.
Я курил первую за вечер трубку, стараясь не думать о трубках, выкуренных дома.
– Сегодняшний вылет, – продолжил он, – это для меня еще не самое худшее. Над той деревней нас запросто могли сбить. Мы рисковали не меньше их. Бомбардировка напалмом – вот что я ненавижу! С трех тысяч футов, когда нет опасности… – Труэн сделал беспомощный жест. – У вас на глазах вспыхивает лес. Бог знает какие картины открываются внизу, на земле. Эти бедняги сгорают заживо, пламя льется на них, как вода, и прожигает насквозь. – Гневаясь на непонятливый мир, он добавил: – Я не веду колониальной войны. Думаете, стал бы я это делать ради плантаторов Красных земель? Ни за что, лучше под трибунал! Мы воюем вместо вас, и мы еще виноваты…
– Сампан, – напомнил я.
– И сампан тоже. – Труэн смотрел, как я тянусь за второй трубкой. – Я завидую вашим путям бегства.
– Вы не знаете, от чего я бегу. Нет, не от войны. Она меня не касается. Я ни при чем.
– Рано или поздно вас это тоже коснется.
– Только не меня.
– Вы все еще хромаете.
– Они были вправе застрелить меня, но не сделали этого. Они взорвали вышку. Команд подрывников надо сторониться всюду, даже на Пиккадилли.
– Однажды события заставят вас занять чью-то сторону.
– Нет, я возвращаюсь обратно в Англию.
– Вы как-то показали мне фотографию…
– Я порвал ее. Она от меня ушла.
– Мне очень жаль.
– Бывает. Сначала ты, потом тебя. Я почти начал верить в справедливость.
– Я уже в нее не верю. Впервые сбрасывая напалм, я думал: «Это моя родная деревня. Здесь живет старый друг моего отца мсье Дюбуа. Пекарь – в детстве я души не чаял в пекаре – бежит по улице, объятый пламенем». Вишисты и те не бомбили собственную страну. Я чувствовал, что я хуже их.
– Тем не менее вы продолжаете.
– Все из-за напалма. В остальное время я говорю себе, что защищаю Европу. Между прочим, те, другие, тоже совершают чудовищные поступки. Когда им пришлось уйти из Ханоя в 1946 году, они такое после себя оставили… Вы бы видели, как они обошлись со своими, заподозренными в помощи нам! Помню одну девушку в морге: они не просто отрезали ей груди, а оскопили ее возлюбленного и засунули…
– Поэтому я и не хочу никакой вовлеченности.
– Дело не в доводах разума и справедливости. Мы все вовлекаемся в это от сильных чувств, и дальше это нас уже не покидает. Войну и любовь никогда не перестанут сравнивать. – Труэн грустно посмотрел через проход на безмятежно раскинувшуюся метиску. – Другого выбора я не желаю. Видите девушку? Она вовлечена во все это своими родителями. Каким будет ее будущее после падения этого бастиона? Франция – ее дом лишь наполовину…
– А бастион падет?
– Вы – журналист, лучше меня знаете, что нам не выиграть. Вам известно, что дорогу на Ханой каждую ночь перерезают и минируют. Мы каждый год теряем целый выпуск Сен-Сира. В пятидесятом мы чуть не потерпели поражение. Делатр подарил нам двухлетнюю отсрочку, не более. Но мы профессионалы, наш долг драться, пока политики не велят нам прекратить. Вероятно, они соберутся и заключат мир, который можно было бы установить с самого начала, и превратят все эти годы в ничто. – Его некрасивое лицо, с подмигиванием приглашавшее меня в пике, выражало сейчас профессиональную свирепость, как бумажная рождественская маска с дырками, в которые смотрят детские глаза. – Но вы этого «ничто» не поймете, Фаулер, вы не наш.
– В жизни происходит многое другое, превращающее годы в ничто.
Труэн положил руку мне на колено, словно был старше и хотел защитить меня.
– Отведите ее к себе, – посоветовал он. – Это лучше трубки.
– Откуда вы знаете, что она согласится?
– Я с ней спал, лейтенант Перен тоже. За пятьсот пиастров.
– Дороговато.
– Полагаю, она бы согласилась и на триста, но при сложившихся обстоятельствах не грех поторговаться.
Зря я последовал его совету. Мужское тело способно на строго ограниченное число соитий, а мое к тому же было сковано памятью. То, чего касалась той ночью моя рука, было, возможно, прекраснее всего, что у меня было, но нас пленяет не только красота. Она душилась теми же духами, и в самый ответственный момент призрак утраченного оказался сильнее послушно простертого подо мной тела. Я отодвинулся и лег на спину, не чувствуя ни малейшего желания.
– Прости, – сказал я и солгал: – Не знаю, что со мной.
Она ответила ласково, ничего не понимая:
– Не волнуйся, так часто бывает. Это все опиум.
– Он самый, опиум, – поддакнул я. Мне очень хотелось, чтобы это было правдой.
2
I
Странно было впервые возвращаться в Сайгон, когда меня никто не ждал. В аэропорту я пожалел, что нет другого адреса, кроме квартиры на улице Катина, который я мог бы назвать таксисту. Размышлял, не утихает ли боль в отъезде, и попытался убедить себя, что происходит именно так. Поднявшись на лестничную площадку, я увидел, что дверь открыта, и перестал дышать от безрассудной надежды. Пока я медленно двигался к двери, моя надежда жила. Раздался скрип кресла, в открытую дверь я увидел пару ботинок – вовсе не женских туфелек. Я быстро вошел, и из любимого кресла Фуонг мне навстречу неуклюже поднялся Пайл.
– Здравствуйте, Томас, – сказал он.
– Здравствуйте, Пайл. Как вы здесь очутились?
– Встретил Домингеса, он нес вам почту. Я попросил, чтобы он позволил мне остаться.
– Фуонг что-то забыла?
– Нет-нет, просто Джо сказал мне, что вы приходили в представительство. Я решил, что будет проще побеседовать здесь.
– О чем?
Он сделал неуверенный жест, как мальчик, не умеющий подыскать взрослые слова, когда нужно выступить на школьном собрании.
– Вы были в отъезде?
– Да. Вы тоже?
– Пришлось поездить…
– По-прежнему забавляетесь с пластиком?
Пайл невесело усмехнулся:
– Ваша почта вон там.
Я сразу увидел, что важных писем нет: из моей лондонской редакции, несколько счетов, одно письмо из банка.
– Как Фуонг? – спросил я.
Его лицо вспыхнуло, как у электрической куклы, откликающейся на определенный звук.
– Отлично, – ответил он и поджал губы, будто наговорил лишнего.
– Да сядьте вы, Пайл! Простите, я прочитаю вот это письмо, оно из моей редакции.
Я открыл конверт. Как некстати происходят порой неожиданности! Главный редактор писал, что обдумал мое последнее письмо, и ввиду неопределенности в Индокитае вследствие кончины генерала Делатра и отступления из Хоабиня принимает мое предложение. Он уже назначил временного редактора иностранных новостей и предлагает мне провести в Индокитае по меньшей мере еще год. «Кресло останется за вами», – заверял редактор, демонстрируя полное непонимание. Он воображал, будто мне есть дело до работы и до газеты.
Я уселся напротив Пайла и перечитал письмо, пришедшее слишком поздно. Момент восторга, как сразу после пробуждения, когда ничего не помнишь, уже миновал.
– Плохие новости? – поинтересовался Пайл.
– Нет. – Я сказал себе, что теперь это уже ничего не изменит: годовая передышка – ничто по сравнению с брачным контрактом. – Вы уже поженились?
– Нет. – Он покраснел. – Собственно, я жду разрешения на целевой отпуск. Тогда мы смогли бы пожениться пристойно, дома.
– Дома оно пристойнее?
– Ну, я подумал – трудно говорить такие вещи вам, Томас, вы ведь прожженный циник, – что это проявление уважения. Там будут мои родители, Фуонг как бы войдет в семью. Это важно, учитывая прошлое…
– Прошлое?
– Вы понимаете, о чем я. Мне бы не хотелось оставлять ее там с клеймом…
– Собираетесь уехать потом один?
– Да. Моя мать – чудесная женщина, она будет ей заниматься, знакомить с людьми, поможет освоиться и подготовить дом к моему возвращению.
Я не знал, жалеть ли мне Фуонг: она ведь предвкушала, как увидит небоскребы и статую Свободы; а с другой стороны, понятия не имела, что ее ждет: профессор и миссис Пайл, женский клуб… Станут ли они учить ее играть в канасту? Я вспомнил, какой она была в тот, первый, вечер в «Гран-Монд»: беленькое платьице, легчайшая поступь восемнадцатилетних ножек; и какой стала через месяц, когда уже торговалась с мясниками в лавках на бульваре Соммы. Понравятся ли ей сверкающие чистотой бакалейные лавки Новой Англии, где даже сельдерей завернут в целлофан? Может, и понравятся. Удивляясь сам себе, я сказал Пайлу то, что мог сказать мне месяц назад он сам:
– Вы с ней поаккуратнее, Пайл, не гоните лошадей. Ее тоже можно ранить, как вас или меня.
– Конечно, конечно, Томас.
– С виду она маленькая, хрупкая, совсем не похожая на наших женщин, но не относитесь к ней как к декорации.
– Удивительно, Томас, до чего неожиданно все обернулось. Я боялся этого разговора, считал, что с вами не договориться.
– На Севере у меня было время подумать. Там была одна женщина… Может, я увидел то же самое, что увидели в том борделе вы. Хорошо, что Фуонг ушла к вам. Вдруг я рано или поздно оставил бы ее, и она угодила бы в лапы к какому-нибудь Грэнджеру? Сделалась бы его «подружкой», как он сам выражается…
– Мы с вами можем остаться друзьями, Томас?
– Разумеется. Только мне лучше не видеть Фуонг. Тут и так все о ней напоминает. Надо найти другую квартиру – когда появится время.
Пайл встал и произнес:
– Я так рад, Томас! Не могу выразить, как я рад! Я уже это говорил, но это правда: лучше бы это были не вы.
– А я рад, что это именно вы, Пайл.
Беседа складывалась не так, как я предполагал: под прикрытием внешнего негодования где-то в глубине созрел истинный план действий. Как ни возмущала меня наивность Пайла, мой внутренний судья выступал в его поддержку, сопоставляя идеализм, полусырые взгляды, опирающиеся на труды Йорка Хардинга, с моим собственным цинизмом. Допустим, я верно оценивал факты, но разве у него не было права на молодость и на заблуждение? Разве Пайл не предпочтительнее как спутник жизни для молодой девушки?
Мы без рвения пожали друг другу руки. Какой-то безотчетный страх погнал меня следом за ним на лестницу, заставил его окликнуть. Не иначе, в тех глубинах, где вызревают наши окончательные решения, наряду с судьей обретается и пророк.
– Не слишком полагайтесь на Йорка Хардинга, Пайл!
– На Йорка? – Он уже сбежал вниз и поднял голову.
– Мы, старые колониальные народы, знакомы с действительностью и научились не играть с огнем. Эта «третья сила» – книжное изобретение, не более. Генерал Тхе – бандит с несколькими тысячами головорезов. Национальная демократия здесь совершено ни при чем.
Казалось, он смотрит на меня в щель для писем в двери; дав упасть клапану, он отгородился от самозваного советчика. Я больше не видел его глаз.
– Не знаю, о чем вы, Томас.
– Те велосипедные бомбы – хорошая шутка, хотя один человек лишился ноги. Но учтите, Пайл, таким, как Тхе, нельзя доверять. Они не собираются спасать Восток от коммунизма. Нам знакома эта порода.
– Вам?
– Старым колонизаторам.
– Я думал, вы в стороне.
– Так и есть, Пайл, но если кто-то в вашей конторе должен натворить дел, оставьте это Джо. Езжайте с Фуонг к себе на родину. Забудьте о «третьей силе».
– Я всегда ценю ваши советы, Томас, – отозвался он официально. – Что ж, еще увидимся.
– Надеюсь.
II
Шли недели, а я все почему-то не находил себе новой квартиры, хотя время у меня было. Ежегодный всплеск военных действий остался позади. На Севере начался душный сезон моросящих дождей, прозванный французами crachin; французы ушли из Хоабиня, в Тонкине убрали рис, в Лаосе – опиумный мак. Домингес без труда собирал все достойные внимания сведения о событиях на Юге. В конце концов я заставил себя посмотреть квартиру в так называемом современном здании (кажется, копии экспоната Парижской выставки 1934 года) на другом конце улицы Катина, за отелем «Континенталь». То было сайгонское пристанище каучукового плантатора, собравшегося восвояси. Он вознамерился продать, как говорится, этот «мушкет» вместе с фитилем и зарядом. Что там за «фитиль», мне было неведомо, «заряд» же представлял собой гравюры Парижского салона 1880–1900 гг. Их отличительной чертой было присутствие большегрудой особы с невероятной прической в прозрачном одеянии, оголявшем монументальные ягодицы, но скрывавшем главное поле битвы. В ванной плантатор, еще больше осмелев, развесил репродукции Ропса Фелисьена[40].
– Любите живопись? – спросил я хозяина, подмигивавшего мне, как бы приглашая в сообщники. Это был лысеющий толстяк с черными усиками.
– Мои лучшие картины в Париже, – похвастался он.
В гостиной была выставлена невидаль – высоченная пепельница в виде обнаженной женщины со спрятанной в волосах емкостью для стряхивания пепла, здесь же стояли статуэтки обнимающихся с тиграми голых китаянок и одна совсем странная – голая по пояс девушка на мотоцикле. В спальне, напротив огромной кровати, висела застекленная картина маслом – две девушки в одной постели. Я спросил, сколько стоит квартира за вычетом цены его коллекции, но хозяин отказался отделять одно от другого.
– Вы не коллекционер? – спросил он.
– Увы, нет.
– Еще у меня есть книги. Могу их оставить, хоть и собирался увести с собой во Францию.
Хозяин отпер стеклянную дверцу книжного шкафа и показал мне свое собрание: дорогие иллюстрированные издания «Афродита» и «Нана», «Холостячка»[41] и даже несколько книг Поля де Кока, чьи сюжеты считались в XIX веке символом фривольности. Меня так и подмывало спросить, не продаст ли хозяин вместе с коллекцией самого себя: уж слишком он ей соответствовал, устарев вместе с ней.
– Когда живешь один в тропиках, коллекция служит компанией.
Я подумал о Фуонг – по причине ее отсутствия. Так всегда бывает: когда бежишь в пустыню, невыносимо слушать, как в ушах звенит тишина.
– Вряд ли моя газета позволит мне приобрети коллекцию искусства.
– Разумеется, она не фигурировала бы в договоре, – сказал он.
Я был рад, что хозяина не видел Пайл: этот человек добавил бы красок к его воображаемому портрету «старого колонизатора», и без того отталкивающему. Выйдя в половине двенадцатого, я отправился в «Павильон» и заказал стакан ледяного пива. В «Павильоне» пили кофе европейки и американки, и я был уверен, что не столкнусь там с Фуонг. Я точно знал, где она находится в это время дня – Фуонг была девушкой с твердыми привычками, поэтому, покинув плантаторские апартаменты, поспешил на другую сторону, чтобы не идти мимо молочного бара, где она, скорее всего, пила шоколадный напиток. За соседним столиком две молодые американки, образчики аккуратности, лакомились мороженым, невзирая на жару. У обеих на левом плече висела сумочка; сумочки были одинаковые, с одинаковыми медными застежками в виде орла. Ноги у них тоже были одинаковые, длинные и стройные, как и их носики слегка набок, и мороженое они поедали с одинаковой сосредоточенностью, будто проводили опыт в лаборатории колледжа. Я заподозрил в них коллег Пайла: американки были так милы, что мне захотелось срочно отправить их домой, как и его. Они доели мороженое, и одна посмотрела на часы.
– Идем, – сказала она, – а то мало ли что…
Я лениво прикинул, что за встреча у них впереди.
– Уоррен предупреждал, что мы должны уйти не позднее одиннадцати двадцати пяти.
– Сейчас уже больше.
– Любопытно было бы остаться и посмотреть. Понятия не имею, о чем речь, а ты?
– Я тоже, но Уоррен советовал не задерживаться.
– Думаешь, будет демонстрация? – спросила одна.
– Навидалась я демонстраций, – ответила вторая со скукой, как туристка, утомленная церквями.
Встав, она положила на столик деньги. Перед уходом огляделась, и зеркала отразили во всех возможных ракурсах ее веснушчатый профиль. В кафе остались только я и безвкусно одетая француженка средних лет, тщательно занимавшаяся бесполезным макияжем. Тем двум американкам вряд ли требовалась косметика, достаточно было мазка губной помады и секундного прикосновения щетки к волосам. Взгляд одной американки упал на меня – она смотрела по-мужски, соображая, как следует поступить. Быстро повернувшись к своей спутнице, сказала: «Уходим!» Я от нечего делать провожал их взглядом, пока они удалялись по залитой солнцем улице. Невозможно было представить их в пылу нечистой страсти, на мятых простынях, в вожделении и в поту. Берут ли они с собой в постель дезодорант? Я на секунду позавидовал их стерилизованному миру, такому непохожему на мой собственный – который вдруг необъяснимым образом разлетелся на куски.
Два зеркала отделились от стены и полетели в мою сторону, но на полпути упали. Безвкусная француженка оказалась на полу, среди разломанных стульев и столов. Ее открытая, но ничуть не пострадавшая пудреница очутилась у меня на коленях, а сам я каким-то чудом остался сидеть, притом что остатки моего столика присоединились к деревянному лому вокруг француженки. Кафе наполнилось странным звуком, словно перенеслось в сад: решив, что рядом забил фонтан, я посмотрел на бар и увидел шеренгу разбитых бутылок, изливавших на пол разноцветное содержимое: красный портвейн, оранжевый куантро, зеленый шартрез, дымчато-желтый пастис. Француженка спокойно огляделась – искала свою пудреницу. Я отдал ее ей, и она, сидя на полу, произнесла слова формальной благодарности. Я понял, что плохо ее слышу. Взрыв прогремел совсем близко, и мои барабанные перепонки еще не отошли от взрывной волны.
«Опять забавы с пластиком, – с раздражением подумал я. – Какого репортажа ждет от меня Хенг теперь?» Но выйдя на площадь Гарнье, понял по густым клубам дыма, что это уже не шутки. Дым поднимался от горящих автомобилей на стоянке перед Национальным театром, по всей площади валялись обломки машин, на краю декоративного садика лежал мужчина с оторванными ногами. Люди толпами сбегались с улицы Катина и с бульвара Бонар. Мои поврежденные барабанные перепонки разом впустили в череп какофонию пронзительных звуков: сирены полицейских и пожарных машин, карет «Скорой помощи». Я не сразу вспомнил, что в молочном баре на другой стороне площади должна была находиться Фуонг. Площадь заволокло дымом, ничего нельзя было разглядеть.
Полицейский не пустил меня туда. Полиция выстроилась цепочкой по периметру площади, чтобы не возникло столпотворения. Появились носилки.
– Пустите! – взмолился я, обращаясь к полицейскому. – Там моя знакомая…
– Отойдите! – крикнул он. – У всех есть знакомые.
Полицейский посторонился, пропуская священника, я попробовал увязаться следом, но меня остановили.
– Пресса! – крикнул я и стал искать бумажник, где держал журналистское удостоверение, но его не было: неужели я ушел из дому без него? – Скажите хотя бы, что там, в молочном баре?
Дым рассеивался, я пытался что-то разглядеть, но мешала толпа. Полицейский что-то ответил, но я не расслышал.
– Простите?
– Не знаю! – повторил он. – Отойдите, вы не даете пронести носилки.
Может, я обронил бумажник в «Павильоне»? Я хотел бежать туда, обернулся и увидел Пайла.
– Томас! – воскликнул он.
– Пайл! Ради бога, вы сотрудник представительства, где ваше удостоверение? Нам надо пройти. Фуонг в молочном баре.
– Нет, нет!
– Пайл, она там. Фуонг всегда туда ходит в половине двенадцатого. Нужно ее найти.
– Ее там нет, Томас.
– Откуда вы знаете? Где ваш документ?
– Я предупредил ее не ходить.
Я уже повернулся к полицейскому с намерением оттолкнуть его и броситься через площадь. Он мог выстрелить, но мне было безразлично. И тут до моего сознания дошло слово «предупредил». Я схватил Пайла за руку:
– Предупредили? В каком смысле?
– Я сказал ей находиться сегодня утром подальше отсюда.
Теперь я сообразил, что к чему.
– А Уоррен? – спросил я. – Кто такой Уоррен? Он тоже предупреждал тех девушек…
– Не понимаю.
– Наверное, американские потери невелики?
По улице Катина в сторону площади пыталась проехать «Скорая помощь», и не дававший мне пройти полицейский сделал шаг назад, пропуская ее. Полицейский, стоявший с ним рядом, с кем-то спорил. Я вытолкнул Пайла вперед, на площадь, и бросился за ним, прежде чем нас успеют остановить.
Мы очутились в толпе почерневших от горя людей. Полиция могла не пускать на площадь других, но ей было не под силу очистить пространство от выживших и от тех, кто поспел сюда первым. Врачи склонились над умершими; те были предоставлены их владельцам – умершим можно завладеть, как стулом. На земле сидела женщина, держа на коленях то, что осталось от ее младенца, и стыдливо прикрывая его своей крестьянской соломенной шляпой. Она не шевелилась и не издавала ни звука; больше всего меня поразила на площади именно тишина. Это походило на церковь, где я однажды побывал во время службы: тишину нарушали только служители и немногие европейцы, рыдавшие, умолявшие, а потом умолкавшие, словно пристыженные робостью, терпением и сдержанностью Востока. Безногое туловище на краю сада все еще вздрагивало, как обезглавленная курица. Судя по рубашке, бедняга работал велорикшей.
– Какой ужас, – простонал Пайл. Его взгляд упал на мокрое пятно у него на ботинке. – Что это? – тихо спросил он.
– Кровь, – ответил я. – Впервые видите?
– Надо привести в порядок обувь перед докладом посланнику.
Похоже, он не отдавал себе отчета, что несет. Пайл впервые увидел подлинную войну: он плыл вниз по реке в Фат-Дьем на плоскодонке за школьной мечтой, и вообще, солдаты для него были не в счет.
Держа Пайла за плечо, я заставил его оглядеться.
– Это время хождения по магазинам, – произнес я. – В этот час на площади всегда полно женщин и детей. Зачем было делать это именно сейчас?
– Намечался парад… – пролепетал Пайл.
– Вы надеялись зацепить пучок полковников? Парад еще вчера отменили.
– Я не знал.
– Не знали?! – Я толкнул его в лужу крови, оставшуюся от носилок. – У вас проблемы с информацией?
– Я уезжал, – пробормотал он, глядя на свои ботинки. – Они должны были дать отбой.
– А как же удовольствие? Думаете, генерал Тхе отказался бы продемонстрировать силу? Это лучше парада. Женщины и дети – это настоящая новость, а солдаты на войне – нет. Это попадет в мировую прессу. Вы успешно привлекли внимание к генералу Тхе, Пайл. Теперь «третья сила» и национальная демократия красуются на вашем правом башмаке. Возвращайтесь домой, к Фуонг, расскажите ей о своем героическом свершении: ее соотечественников стало на несколько десятков меньше. Меньше людей – меньше тревог.
Мимо нас просеменил маленький толстый священник, неся что-то под фартуком. Пайл надолго умолк, мне тоже нечего было добавить. Я и так уже слишком много наговорил. Он стоял бледный, разбитый, близкий к обмороку. «Что толку? – подумал я. – С него как с гуся вода, наивность бесполезно клеймить, она всегда невиновна. Ее можно либо держать в узде, либо уничтожить. Наивность – род безумия».
– Это не Тхе, – произнес Пайл. – Уверен, это не он. Его обманули. Коммунисты…
На нем были непроницаемые доспехи – благие намерения и невежество. Оставив его стоять на площади, я направился в сторону улицы Катина, к громоздившемуся впереди ужасному розовому собору. Туда уже стекались люди: видимо, для них было утешением молиться мертвому за мертвых.
В отличие от них у меня был повод для благодарности: разве Фуонг не осталась жива? Разве ее не «предупредили»? Но из головы у меня не выходил человеческий обрубок на площади, младенец на коленях у матери. Их не предупредили, не сочтя достаточно важными. Если бы парад не отменили, они все равно толпились бы здесь из любопытства, пришли бы поглазеть на солдат, послушать речи, бросить к ногам марширующих цветы. Двухсотфунтовая бомба убивает без разбору. Сколько мертвых полковников оправдывают смерть младенца или велорикши, когда вы сколачиваете национально-демократический фронт? Я остановил моторикшу и велел везти меня на набережную Мито.
Часть четвертая
1
Я дал Фуонг денег, чтобы она пошла с сестрой в кино – так для нее было безопаснее. Сам я поужинал с Домингесом и к приходу Виго ровно в десять часов уже успел вернуться домой. Он извинился и сказал, что пить не станет: слишком устал и от спиртного может уснуть. Позади остался долгий день.
– Убийства, внезапные кончины?
– Нет, мелкие кражи и несколько самоубийств. Этот народ обожает азартные игры. Проиграются вконец – и накладывают на себя руки. Наверное, я не стал бы полицейским, если бы знал, как много времени буду проводить в моргах. Не люблю запах аммиака. Знаете, наверное, я все-таки выпью пива.
– К сожалению, у меня нет холодильника.
– То ли дело морг! Тогда, может, капельку английского виски?
Я вспомнил, как ходил с Виго в морг и тело Пайла выкатили из ячейки, как поддон с ледяными кубиками.
– Так вы не возвращаетесь на родину? – спросил он.
– Вы узнавали?
– Да.
Я протянул ему виски недрогнувшей рукой, чтобы он видел, какие крепкие у меня нервы.
– Виго, мне бы хотелось услышать, почему вы считаете, что я замешан в смерти Пайла? У меня был мотив? Я хотел вернуть Фуонг? Или мстил за то, что потерял ее?
– Нет, я не настолько глуп. Книгу врага не забирают в качестве сувенира. У вас на полке стоит его книга, «Роль Запада». Кто такой Йорк Хардинг?
– Тот, кого вы ищете, Виго. Это он убил Пайла – с большого расстояния.
– Я не понимаю.
– Это журналист высшего сорта – таких называют дипломатическими корреспондентами. Ему в голову втемяшивается идея, и он подстраивает под нее любую ситуацию. Пайл приехал сюда, обуреваемый идеей Йорка Хардинга. Тот провел тут неделю по пути из Бангкока в Токио. Пайл совершил ошибку: стал претворять его идею в реальность. Хардинг писал о «третьей силе». Пайл ее сколотил – пара тысяч разбойников во главе с дешевым фигляром и парочка ручных тигров. Он полез не в свое дело.
– Зато вы никогда никуда не лезете, так?
– Стараюсь.
– Но у вас не получилось, Фаулер.
Почему-то я вспомнил капитана Труэна, ночь в хайфонской опиумной курильне – казалось, с тех пор минуло много лет. Что он тогда сказал? Всем нам рано или поздно от избытка волнения становится не безразлично.
– Из вас получился бы хороший священник, Виго, – заметил я. – Что-то такое в вас есть, вам легко каяться – если, конечно, есть в чем.
– Никогда ни от кого не жду покаяния!
– А вам каются?
– Время от времени.
– Может, потому, что ремесло у вас, как у священника: испытывать не шок, а сочувствие? «Мсье флик, сейчас я объясню вам, как на духу, почему раскроил старушке череп». – «Давай, Густав, расскажи мне, почему так вышло, только не торопись».
– Ну и воображение у вас! Вы что, не пьете, Фаулер?
– Разве преступник не поступит опрометчиво, если станет выпивать с офицером полиции?
– Я никогда не называл вас преступником.
– Вдруг от спиртного даже меня потянет на исповедь? В вашей профессии не соблюдается тайна исповеди.
– Соблюдение тайны редко представляет важность для исповедующегося, даже перед священником. У него другие мотивы.
– Очистить совесть?
– Порой он желает лишь увидеть себя в истинном свете. Устает врать. Вы не преступник, Фаулер, но я хочу понять, зачем вы мне соврали. Вы видели Пайла в вечер его смерти.
– С чего вы взяли?
– Я ни секунды не считаю вас его убийцей. Вряд ли вы воспользовались бы ржавым штыком.
– Ржавым?
– Такие подробности выясняются при вскрытии. Но я вам говорил, что причина смерти была другая – ил в канале Да-Као. – Виго протянул рюмку, чтобы я подлил ему виски. – Значит, так. Вы опрокинули рюмочку в «Континентале» в шесть десять?
– Да.
– В шесть сорок пять разговаривали с другим журналистом в дверях «Мажестик»?
– С Уилкинсом. Я все это вам уже рассказывал, Виго, той же ночью.
– Да. С тех пор я кое-что уточнил. Удивительно, что вы запоминаете такие подробности.
– Я репортер, Виго.
– Время, может, и не совсем правильное, но кто же вас осудит за лишние четверть часа там или десять минут в другом месте? У вас не было причин заботиться о хронометраже. Наоборот, излишняя точность была бы подозрительной.
– Разве я не был точен?
– Не вполне. С Уилкинсом вы говорили без пяти семь.
– Погрешность в десять минут.
– А в «Континентале» вы появились чуть ли не ровно в шесть.
– Мои часы всегда немного спешат. Сколько на ваших сейчас?
– Десять часов восемь минут.
– А на моих десять восемнадцать. Вот, взгляните.
Виго не стал смотреть.
– Значит, со временем разговора с Уилкинсом вы ошиблись на целых двадцать пять минут – по вашим же часам. Ничего себе ошибочка, вы не считаете?
– Вероятно, я мысленно подвел стрелки. Или в тот день подвел часы, иногда я это делаю.
– Что любопытно, – продолжил Виго, – вы на меня совершенно не злитесь. А ведь это неприятно – допрос, которому я вас подвергаю.
– Мне интересно, это как детектив. В конце концов, вам известно, что я недолюбливал Пайла – сами так сказали.
– Я знаю, что вы не присутствовали при убийстве, – сообщил Виго.
– Не пойму, что вы пытаетесь доказать, высчитывая, что меня не было лишних десять минут в одном месте и пять – в другом.
– Набирается запасное время, – объяснил он. – Такой провал во времени.
– Для чего мне этот запас?
– В неучтенное время у вас была встреча с Пайлом.
– Почему вам так важно это доказать?
– Из-за собаки, – ответил Виго.
– Из-за грязи на ее лапах?
– Это была не грязь, а цемент. Тем вечером, следуя за Пайлом, собака в какой-то момент ступила в жидкий цемент. Я вспомнил, что на первом этаже вашего дома работают строители – они до сих пор там. Я прошел мимо них и сейчас. В этой стране очень длинный рабочий день.
– Можно только догадываться, в скольких местных домах работают строители и в скольких можно вляпаться в жидкий цемент. Кто-то из них вспомнил собаку?
– Разумеется, я их расспросил. Но они мне все равно не сказали бы, даже если бы вспомнили. Я полицейский. – Виго замолчал и откинулся в кресле, глядя на свою рюмку.
Мне показалось, что ему на ум пришла какая-то аналогия и он мысленно унесся далеко-далеко. По тыльной стороне его ладони ползала муха, и Виго не удосуживался прогнать ее, совсем как Домингес. Мне почудилась угроза, неподвижная угрюмая сила. Я бы не удивился, если бы он молился.
Я встал и ушел за занавеску, в ванную. Мне там ничего не было нужно, просто захотелось удалиться от этого вросшего в кресло молчания. Альбомы Фуонг вернулись на полку. Среди ее косметики белела телеграмма для меня, какое-то сообщение из лондонской редакции. У меня не было настроения с ним знакомиться. Все вернулось к состоянию, предшествовавшему приезду Пайла. Комнаты не меняются, украшения остаются на своем месте, только сердце увядает.
Я вернулся в гостиную, где Виго подносил к губам рюмку.
– Мне нечего вам рассказать, – произнес я.
– Тогда я пойду, – сказал он. – Вряд ли я вас снова потревожу.
В дверях Виго повернулся, словно не хотел расставаться с надеждой – своей или моей.
– Странную картину вам пришлось наблюдать той ночью. Не подумал бы, что вы – любитель костюмированной драмы! Что это было? «Робин Гуд»?
– Скорее «Скарамуш». Мне надо было убить время. И немного развлечься.
– Развлечься?
– У всех нас свои тревоги, Виго, – осторожно сформулировал я.
После его ухода мне предстояло еще час ждать Фуонг, живого общества. Визит Виго меня взбудоражил. Это выглядело так, будто поэт принес на мой суд свое сочинение, а я его по оплошности порвал или сжег. Я был человеком без призвания – нельзя всерьез считать призванием журналистику, но вполне мог распознать призвание в других. Теперь, когда Виго ушел, чтобы закрыть это незавершенное дело, я жалел, что мне не хватило смелости окликнуть его и сказать: «Вы правы. Я действительно видел Пайла в вечер его смерти».
2
I
Пока я шел на набережную Мито, мимо меня в сторону площади Гарнье промчалось несколько карет «Скорой помощи». О скорости распространения слухов можно было судить по выражению лиц прохожих на улице. Сначала на тех, кто двигался, как я, со стороны площади, смотрели пытливо и выжидательно. Дойдя до Чолона, я обогнал новость: там жизнь текла по-прежнему деловито, все было нормально, никто еще ничего не знал.
Я нашел склад мсье Чу и поднялся в его берлогу. С моего прошлого визита здесь ничего не изменилось. Кошка и собака прыгали с пола в коробку, а оттуда на саквояж, как шахматные кони, которым не удается их штатный ход. Младенец ползал по полу, два старика упорно резались в маджонг. Отсутствовала только молодежь. Стоило мне появиться в двери, одна из женщин стала разливать чай. Старуха, сидя на кровати, не отрывала взгляда от своих ног.
– Мсье Хенг, – сказал я и покрутил головой, отказываясь от чая: я был не в том настроении, чтобы начать долгую церемонию пития этой горькой жижи. – Il faut absolument que je voie Monsieur Heng[42].
Объяснить им срочность моего дела было немыслимо, однако их встревожил мой резкий отказ от чая. А может, у меня на ботинках, как у Пайла, была кровь. Во всяком случае, одна из женщин, немного помедлив, повела меня вниз, прошла со мной по двум пестревшим рекламой улочкам и оставила перед заведением, которое на родине Пайла называлось бы «Бюро похоронных услуг», полным каменных урн с костями воскресших китайских мертвецов. «Мсье Хенг», – сказал я старому китайцу в дверях. Вполне уместно было задержаться здесь, начав день с эротической коллекции плантатора и продолжив его зрелищем трупов на площади. Изнутри меня окликнули, и китаец посторонился, пропуская меня.
Гостеприимный Хенг пригласил меня в комнатушку с неудобными черными креслами – отпугивающей обстановкой любой китайской приемной. В данном случае кресла еще хранили человеческое тепло, из пяти чайных чашечек на столе две были полными.
– Я прервал совещание? – спросил я.
– Деловая беседа, – уклончиво ответил Хенг. – Ничего особенного. Всегда рад вас видеть, мистер Фаулер.
– Я пришел с площади Гарнье.
– Я так и понял.
– Вы слышали…
– Мне позвонили. Было решено, чтобы я какое-то время не встречался с мсье Чу. Сегодня ожидаются полицейские облавы.
– А вы сами ни при чем.
– Задача полиции – найти виновного.
– Опять Пайл, – произнес я.
– Да.
– Это ужасно.
– За генералом Тхе не уследишь.
– Мальчикам из Бостона вредно позволять играть с бомбами. Кому Пайл подчиняется, Хенг?
– У меня впечатление, что он действует самостоятельно.
– Откуда он? Управление стратегических служб, УСС?
– Начальные буквы не имеют значения. По-моему, теперь это называется по-другому.
– Что я могу сделать, Хенг? Его нужно остановить.
– Вы можете написать правду. Или нет?
– Моей газете генерал Тхе безразличен. Ее интересуют только ваши люди, Хенг.
– Вы действительно хотите остановить мистера Пайла, мистер Фаулер?
– Вы бы его видели, Хенг! Стоя там, он говорил, что все это – печальная ошибка, что ожидался парад. И перед посещением посланника ему необходимо почистить свою обувь.
– Конечно, вы можете сообщить все, что знаете, полиции.
– Им тоже не до Тхе. Думаете, они бы посмели тронуть американца? У него дипломатический иммунитет. Он выпускник Гарварда. Посланник неровно дышит к Пайлу. Хенг, там была женщина, ее ребенка… Она закрывала его своей соломенной шляпой. Они не идут у меня из головы. И еще одна, в Фат-Дьеме…
– Пожалуйста, попытайтесь успокоиться, мистер Фаулер.
– Что он дальше натворит, Хенг?
– Вы готовы нам помочь, мистер Фаулер?
– Пайл орудует как слон в посудной лавке, из-за его ошибок гибнут мирные жители. Жаль, что ваши люди не утопили его в реке, когда он плыл из Намдиня. Это спасло бы много жизней.
– Согласен с вами, мистер Фаулер. Ему надо помешать. У меня есть предложение. – За дверью кто-то деликатно кашлянул, потом шумно отхаркался. – Попробуйте пригласить его сегодня поужинать в «Старую мельницу». Между половиной девятого и половиной десятого.
– Что толку…
– По пути туда мы бы с ним побеседовали.
– Вдруг он окажется занят?
– Хорошо бы попросить его зайти за вами – в половине седьмого. К этому времени Пайл освободится и непременно явится. Если согласится поужинать, подойдите к окну с книгой, будто вам нужно больше света.
– Почему «Старая мельница»?
– Рядом мост Да-Као. Там мы найдем местечко для разговора с глазу на глаз.
– Что вы с ним сделаете?
– Лучше вам этого не знать, мистер Фаулер. Обещаю одно: мы поступим так аккуратно, как позволит ситуация.
Невидимые друзья Хенга возились за стеной, словно крысы.
– Вы сделаете это для нас, мистер Фаулер?
– Не знаю, – проговорил я. – Не знаю…
– Рано или поздно, – сказал Хенг, напомнив мне капитана Труэна в опиумной курильне, – человеку приходится определяться. Чтобы остаться человеком.
II
Я передал в представительство записку для Пайла с просьбой зайти и отправился в «Континенталь» промочить горло. Следы взрыва убрали, пожарные окатили площадь водой из шлангов. Тогда я не имел представления о важности времени и места и подумывал даже, не пропустить ли встречу и не просидеть ли весь вечер в баре. Но потом мне пришло в голову, что так я напугаю Пайла и предупрежу об опасности – какой бы опасность ни была; поэтому я допил пиво и поплелся домой. Придя туда, стал надеяться, что Пайл не явится. Я пробовал читать, однако на полках не нашлось ничего, что смогло бы меня увлечь. Я бы покурил, но приготовить мне трубку было некому. Я неохотно прислушивался к звуку шагов, и в конце концов они раздались. Кто-то постучал, я открыл дверь: это был Домингес.
– Вам чего? – спросил я.
Домингес удивленно посмотрел на меня.
– Как чего? – Он сверился с часами. – Я всегда прихожу в это время. У вас есть телеграммы?
– Простите, запамятовал. Нет.
– А как же взрыв? Ничего не надо передать?
– Займитесь этим вместо меня, Домингес. Я сам не свой, все-таки побывал там и все еще в шоке… Не получается это описать в телеграфном стиле. – Я хлопнул себя по уху, промахнувшись мимо разжужжавшегося комара. Домингес инстинктивно зажмурился, испугавшись за его участь. – Успокойтесь, Домингес, он жив-здоров.
Он печально усмехнулся. Домингес не мог найти оправдания своему неприятию смертоубийства: он был христианином, одним из тех, кто научился у Нерона превращать в свечи человеческие тела.
– Я могу вам помочь? – спросил он.
Домингес не пил, не ел мяса, не убивал – я завидовал его душевной доброте.
– Нет, просто дайте мне сегодня побыть одному.
Я смотрел из окна, как он переходит улицу Катина. У тротуара напротив моего окна стоял велорикша. Домингес хотел им воспользоваться, но рикша покачал головой. Он как будто ждал седока, отлучившегося в лавку, – просто так стоять там рикшам было нельзя. Посмотрев на часы, я удивился: оказалось, я прождал более десяти минут. Я не услышал шагов Пайла и вздрогнул от его стука в дверь.
– Входите.
Первым, как обычно, вошел его пес.
– Рад был получить вашу записку, Томас. Сегодня утром я подумал, что вы на меня злы.
– Возможно, я был на вас зол. Не очень симпатичное было зрелище.
– Теперь вам известно так много, что не вредно будет поведать вам еще. Днем я встречался с Тхе.
– Он в Сайгоне? Приехал посмотреть, как сработала его бомбочка?
– Это строго между нами, Томас. Я его отчитал. – Пайл говорил, как капитан школьной команды, отчитывающий подопечного за нерадивость на тренировке.
Тем не менее я спросил, цепляясь за последнюю надежду:
– Вы прекратили с ним отношения?
– Я сказал ему, что если он еще раз позволит себе самоуправство, то мы перестанем иметь с ним дело.
– Вы еще с ним не порвали, Пайл? – Я нетерпеливо отпихнул собаку, шумно нюхавшую мои ноги.
– Не могу. Сидеть, Дюк! В конечном счете Тхе – наша единственная надежда. Если бы он пришел с нашей помощью к власти, мы могли бы на него положиться…
– Скольким еще людям придется погибнуть, прежде чем вы поймете…
Но нет, я сознавал, что этот довод не сработает.
– Что надо понять, Томас?
– Что в политике не существует благодарности.
– По крайней мере, нас они не будут ненавидеть так, как ненавидят французов.
– Уверены? Иногда мы испытываем странную любовь к своим врагам, а друзей ненавидим.
– Вы рассуждаете как европеец, Томас. Здешний люд проще.
– Это то, что вы усвоили за несколько месяцев? Потом вы станете сравнивать их с детьми.
– Не исключено.
– Найдите мне простого ребенка, Пайл. В молодости каждый из нас – это джунгли сложностей. С возрастом мы становимся проще.
Но что толку было с ним говорить? И его, и мои доводы были оторваны от реальности. Я раньше времени превращался в автора газетных колонок. Оставалось только встать и подойти к книжной полке.
– Что вы ищете, Томас?
– Один отрывок, раньше он мне нравился… Как насчет совместное ужина, Пайл?
– С радостью, Томас. Хорошо, что вы больше на меня не злитесь! Знаю, вы со мной не согласны, но ведь разногласия не мешают дружбе?
– Трудно сказать.
– В конце концов, Фуонг была гораздо важнее всего этого.
– Вы действительно так считаете, Пайл?
– Она важнее всего остального. Для меня. И для вас, Томас.
– Для меня уже нет.
– Сегодняшнее событие стало ужасным шоком, Томас, но вы увидите, через неделю мы все забудем. Мы уже позаботились о родственниках.
– Мы?
– Да, связались с Вашингтоном и получили разрешение использовать часть наших средств…
Я перебил его:
– В «Старой мельнице»? Между девятью и девятью тридцатью?
– Где скажете, Томас.
Я подошел к окну. Солнце спряталось за крыши. Велорикша по-прежнему ожидал своего седока. Я посмотрел на него, он поднял голову и увидел меня.
– Вы кого-нибудь ждете, Томас?
– Нет. Вот, нашел место, которое искал. – И я для своего оправдания прочитал, подставив страницу под затухающий свет:
«Зевак задевая, по городу мчу, На все и на вся наплевать я хочу. Могу, например, задавив наглеца, Ущерб наглеца оплатить до конца. Как славно, что деньги в карманах звенят, Чудесно, что деньги в карманах звенят»[43]. Артур Клаф– Забавные стишки, – произнес Пайл с ноткой осуждения.
– Он был взрослым поэтом, живя в девятнадцатом веке. Таких тогда было немного.
Я снова выглянул на улицу. Велорикша уехал.
– У вас закончилась выпивка? – спросил Пайл.
– Нет, но вы, кажется, не…
– Начинаю расслабляться, – сознался Пайл. – Под вашим влиянием. Вы хорошо на меня влияете, Томас.
Я достал бутылку и рюмки – сначала только одну рюмку, пришлось возвращаться за второй, а потом еще идти за водой. Все, что я делал в тот вечер, тянулось слишком долго.
– Знаете, – сказал он, – у меня чудесная семья, только, может быть, излишне строгая. У нас старинный дом на Честнат-стрит, по правую сторону, если подниматься на холм. Моя мать коллекционирует стекло, а отец в свободное от эрозии холмов время собирает рукописи Дарвина и любые связанные с ним материалы. Они живут в прошлом. Наверное, потому Йорк и произвел на меня такое впечатление. Мне показалось, что он открыт для всего современного. А мой отец – изоляционист.
– Наверное, ваш отец мне понравился бы, – заметил я. – Я тоже изоляционист.
Обычно тихий Пайл в тот вечер был разговорчив. Я слушал его невнимательно, мои мысли были далеко. Я убеждал себя, что в распоряжении Хенга есть другие способы, кроме очевидного, самого жестокого. Но я знал, что на такой войне нет времени для колебаний: используются подручные средства, у французов это напалмовые бомбы, у Хенга – пуля или нож. Слишком поздно я сказал себе, что в судьи не гожусь, что дам Пайлу выговориться, а потом предупрежу его и оставлю ночевать у себя. Сюда они вряд ли пожалуют. Кажется, он рассказывал про свою старую няньку («Она значила для меня больше, чем мама. Какие она пекла пироги с голубикой!»), когда я его перебил:
– Теперь, после того вечера, вы носите револьвер?
– Нет, у нас в представительстве строгое правило…
– Но у вас же особое задание?
– Толку все равно ноль: захотят до меня добраться – доберутся. К тому же я слеп, как крот. В колледже меня прозвали «летучей мышью» – в темноте-то я видел не хуже, чем они. Однажды мы дурачились… – Его снова потянуло на воспоминания. Я повернулся к окну.
Снаружи ждал велорикша. Я подумал, что это не тот, прежний, хотя все они на одно лицо. Возможно, он ждал клиента. Безопаснее всего для Пайла, решил я, будет спрятаться в представительстве. После моего сигнала злоумышленники должны были составить план на вечер, приготовить нападение у моста Да-Као. Мне было невдомек, почему именно там и как это сработало бы: Пайл не так глуп, чтобы выехать на мост после заката, а нашу сторону канала всегда охраняла военная полиция.
– Я все болтаю и болтаю! – воскликнул он. – Сам не знаю, почему этот вечер такой…
– Продолжайте, – кивнул я, – просто я сегодня молчалив. Может, нам отменить ужин?
– Нет, не надо! Мне очень вас недоставало с тех пор, как… в общем…
– С тех пор, как вы спасли мне жизнь, – подсказал я, не сумев скрыть горечь от своего самострела.
– Нет, я имел в виду другое – наши разговоры той ночью. Словно она должна была стать последней. Я много о вас узнал, Томас. Учтите, я с вами не согласен, но для вас, может, это правильно – неучастие… Вы хорошо держались, сохранили нейтралитет даже после того, как вам раздробило ногу.
– Всегда наступает переломный момент, – возразил я. – Под влиянием чувств…
– Вы его пока не достигли. И сомневаюсь, что когда-нибудь достигнете. Я тоже вряд ли изменюсь – разве что когда умру, – оживленно добавил Пайл.
– А сегодняшнее утро? Разве такие события не меняют взгляды?
– Это были просто военные потери. Жаль, конечно, но порой бывает, что промахиваешься по цели. Во всяком случае, они погибли ради правого дела.
– Сказали бы вы то же самое, если бы в их число попала ваша старая няня с ее голубичным пирогом?
Пайл проигнорировал подсказку.
– Можно даже сказать, что они умерли за демократию.
– Не знаю, как перевести это на вьетнамский.
Я вдруг почувствовал сильную усталость. Мне захотелось, чтобы он скорее ушел – и умер. После этого я бы начал жизнь заново – с точки, предшествовавшей его появлению.
– Вы никогда не начнете принимать меня всерьез, да, Томас? – пожаловался Пайл с той веселостью школьника, которую, казалось, припас именно на этот вечер. – Знаете, что? Фуонг пошла в кино. Как насчет того, чтобы провести вместе вечер? Все равно мне сейчас нечем заняться. – Казалось, что-то извне заставляло его выбирать такие слова, чтобы лишить меня любых оправданий. – Поехали в «Шале»? – не унимался он. – Я там не был с того вечера. Кормят не хуже, чем в «Старой мельнице», зато играет музыка.
– Мне не хочется вспоминать тот вечер, – пробурчал я.
– Простите, Томас, порой я становлюсь дурак дураком. Тогда китайский ужин в Чолоне?
– Его надо заказывать заранее. Вы боитесь «Старой мельницы», Пайл? Там надежная решетка, на мосту всегда стоит полиция. Вы же не поедете сдуру по мосту?
– Дело не в этом. Просто я подумал, что было бы хорошо удлинить наш совместный вечер.
Пайл случайно опрокинул свою рюмку, она упала на пол и разбилась.
– На счастье, – пробормотал он. – Извините, Томас.
Я стал собирать осколки и складывать их в пепельницу.
– Что скажете, Томас? – Битое стекло напомнило мне про бутылки в «Павильоне», изливавшие на пол свое содержимое. – Я предупредил Фуонг, что могу задержаться с вами.
Это слово – «предупредил» – он выбрал неудачно. Я подобрал последний осколок.
– У меня встреча в «Мажестик», – произнес я. – До девяти я занят.
– Что ж, придется вернуться на работу. Всегда боюсь, что меня там перехватят и задержат.
Невредно было предоставить ему последний шанс.
– Не бойтесь опоздать, – сказал я. – Если вас задержат, загляните потом сюда. Если не приедете ужинать, я вернусь домой к десяти и дождусь вас.
– Я дам вам знать…
– Не надо. Просто поезжайте в «Старую мельницу», нет – встретимся здесь. – Я передоверял решение Тому, в Кого не верил: вмешается, если пожелает. Телеграмма у Пайла на столе, вызов к посланнику… Если Он существует, то способен изменять будущее. – Все, ступайте, Пайл. У меня еще дела.
Со странным изнеможением я слышал, как уходит он и как стучит когтями по полу его собака.
III
Когда я вышел из дому, велорикш не было нигде рядом, только на улице Орме, а это далековато. Я добрался пешком до отеля «Мажестик» и немного постоял, наблюдая за разгрузкой американских бомбардировщиков. Солнце село, и работа велась при свете мощных прожекторов. Я понятия не имел, как заручиться алиби, просто сказал Пайлу, что пойду в «Мажестик». Я чувствовал необъяснимое отвращение к нагромождению лжи сверх необходимости.
– Добрый вечер, Фаулер. – Это был Уилкинс.
– Вечер добрый.
– Как нога?
– Уже лучше.
– Отправили бойкий репортаж?
– Предоставил это Домингесу.
– О, мне говорили, что вы там были.
– Да. Но сейчас на страницах газеты тесно. Им подавай скупую выжимку.
– Блюдо становится безвкусным? – подхватил Уилкинс. – Нам бы жить во времена Рассела и старой «Таймс»! Отправлять сообщения на воздушном шаре! Вот когда было время, чтобы расписаться. Из этого взрыва сделали бы целую колонку. Роскошная гостиница, бомбисты, вечерние сумерки… Какие сумерки, когда каждое слово тянет на кучу пиастров! – Откуда-то, чуть ли не с неба, донесся смех: кто-то разбил рюмку, совсем как Пайл. Звон посыпался на нас, как осколки льда. – «В лучах света предстают красавицы и смельчаки!» – сердито процитировал Уилкинс. – Какие планы на вечер, Фаулер? Как насчет ужина?
– Я ужинаю в «Старой мельнице».
– Желаю повеселиться. Там будет Грэнджер. Пора рекламировать специальную вечернюю программу с его участием. Для любителей шума за кулисами.
Я попрощался с ним и пошел в кинотеатр по соседству. На экране Эррол Флинн (а может, Тайрон Пауэр, попробуй, различи их в трико) висел на веревках, прыгал с балконов и скакал с голым торсом в сторону полыхающего заката. Он спасал девушку, убивал врага и чудом избегал опасностей. Такие фильмы называют «кино для мальчиков», хотя зрелище Эдипа, с кровоточащими глазницами покидающего свой дворец в Фивах, готовило бы к современной жизни с гораздо большей пользой. Жизни без опасностей не бывает. Удача сопутствовала Пайлу в Фат-Дьеме и по пути из Тэйниня. Однако удача недолговечна, и на то, чтобы убедиться, что никто не должен считать себя заговоренным, оставалось два часа. Сидевший рядом со мной французский солдат держал свою девушку за коленку, и я позавидовал простоте его счастья – или горя, в темноте не разберешь. Я ушел до окончания фильма, кликнул рикшу и поехал в «Старую мельницу».
Ресторан у самого моста, обтянутый сеткой против гранат, стерегли двое вооруженных полицейских. Хозяин, растолстевший от собственной бургундской кухни, лично провел меня сквозь сетку. Я окунулся в аромат каплунов и тающего масла, в тяжелую вечернюю жару.
– Вы присоединитесь к гостям мсье Гранже? – спросил хозяин.
– Нет.
– Столик для одного?
Только тогда я впервые задумался о будущем и о вопросах, на которые мне придется отвечать.
– Для одного, – ответил я, и это было почти равносильно тому, чтобы громко объявить о смерти Пайла.
Ресторан состоял из одного помещения, и компания Грэнджера занимала длинный стол в его глубине; меня хозяин усадил за маленький столик у сетки. Остекления в окнах не было, чтобы никто не поранился осколками. Я узнал кое-кого из тех, кого угощал Грэнджер, и, садясь, кивнул им. Сам Грэнджер отвернулся. Я не виделся с ним несколько месяцев, с того вечера, когда Пайл влюбился, не считая одного раза. Похоже, какое-то нелицеприятное замечание, отпущенное мной в тот вечер, все же преодолело алкогольный туман, и теперь Грэнджер хмурился, сидя во главе стола, хотя и не мешал мадам Депре, супруге офицера по связям с общественностью, и капитану Дюпарку из службы связи с прессой кивать мне и подзывать жестами. Крупный мужчина за столом был, по-моему, владельцем отеля в Пномпене, молодую француженку я видел впервые, еще два-три лица видел мельком в барах. Компания вела себя, как ни странно, довольно спокойно.
Я заказал пастис, потому что хотел оставить Пайлу время, чтобы прийти: планы, случается, расстраиваются, и то, что я не приступал к ужину, должно было показать, что я не оставляю надежды. При этом я спрашивал себя, на что, собственно, надеюсь. Желаю ли я удачи УСС или как там теперь называется эта шайка? Приветствую ли пластиковую взрывчатку и генерала Тхе? Или вопреки очевидности уповаю на чудо, что Хенг изберет иной метод спора, помимо вульгарного убийства? Насколько проще было бы, если бы мы оба погибли на дороге из Тэйниня в Сайгон! Я просидел с пастисом минут двадцать, после чего заказал ужин. Стрелки часов приближались к половине десятого, надежды, что Пайл придет, больше не было.
Я невольно прислушивался. Чего я ждал? Крика? Выстрела? Каких-то действий стоявших снаружи полицейских? Я в любом случае ничего бы не расслышал, потому что компания Грэнджера разгулялась. Отельер, обладавший приятным, но нетренированным голосом, запел. Когда в потолок ударила очередная пробка шампанского, к нему присоединились остальные, но не Грэнджер. Я не исключал, что назревает драка; тягаться с Грэнджером я не мог.
Компания пела что-то сентиментальное, а я сидел, без всякого аппетита ковыряя своего каплуна «Герцог Шарль», и думал о Фуонг впервые с тех пор, как узнал, что она в безопасности. Вспомнил, как Пайл, сидя на полу в ожидании вьетминовцев, сравнил ее со свежим цветком, а я легкомысленно ответил: «Бедный цветочек!» Ей уже не увидеть Новой Англии и не проникнуть в тайны канасты. О стабильности Фуонг тоже останется лишь мечтать: как я посмел присвоить себе право ценить ее дешевле трупов на площади? Страдание не увеличивается от умножения: кто-то один может вмещать все муки мира. Я рассудил по-журналистски, количественно, изменив собственным принципам; стал таким же вовлеченным, как Пайл, и потерял надежду на простые решения. Я посмотрел на часы: было уже почти без четверти десять. Вдруг Пайла все-таки задержали? Может, Кто-то, в Кого он верил, вступился за него, и он сидит сейчас в своем кабинете в представительстве, корпя над расшифровкой телеграммы, а совсем скоро взбежит по лестнице на улице Катина и постучит в мою дверь? «Если так произойдет, я все ему расскажу», – решил я.
Грэнджер резко поднялся и подошел ко мне. Не заметив стула у себя на пути, он споткнулся и схватился за край моего столика.
– Выйдем, Фаулер, – сказал он.
Оставив на столе несколько купюр, я двинулся следом за ним. Драться мне не хотелось, но в тот момент я бы не возражал, если бы он исколошматил меня до полусмерти. В нашем распоряжении совсем мало способов утолить чувство вины.
Грэнджер налег на парапет моста. Двое полицейских следили за ним с почтительного расстояния.
– Мне надо с тобой поговорить, Фаулер, – пробубнил он.
Я подошел на расстояние удара и стал ждать. Грэнджер замер. Он был как статуя, символизирующая все, что мне ненавистно в Америке, – нелепая, как статуя Свободы, и такая же бессмысленная. Он сказал, по-прежнему не двигаясь:
– Думаешь, я вдрызг пьян? Ошибаешься.
– Чего тебе, Грэнджер?
– Мне надо поговорить с тобой, Фаулер. Не желаю сидеть там с этими лягушатниками. Ты мне не нравишься, Фаулер, но ты хотя бы говоришь по-английски. По-своему, конечно, но хоть так… – Он высился передо мной, громоздкий и бесформенный в тусклом свете, неведомый континент.
– Чего ты хочешь, Грэнджер?
– Не люблю англичанишек, – продолжил он. – Не пойму, на кой ты сдался Пайлу. Это, наверное, потому, что он из Бостона. Я из Питсбурга и горжусь этим.
– Почему бы нет?
– Опять ты за свое! – Он неумело передразнил мой акцент. – Педики вы все, что ли? Чего пыжитесь? Считаете себя всезнайками?
– Спокойной ночи, Грэнджер. У меня встреча.
– Не уходи, Фаулер. У тебя что, нет сердца? Не могу я болтать с этими лягушатниками.
– Ты пьян.
– Всего-то пара бокалов шампанского! А ты на моем месте не был бы пьяным? Я лечу на Север.
– Ну и что?
– А-а, я, значит, тебе не говорил? Я почему-то думал, что все в курсе. Сегодня утром я получил телеграмму от жены.
– И что?
– У моего сына полиомиелит. Он совсем плох.
– Сочувствую.
– Это не обязательно. Это не твой ребенок.
– Ты не можешь полететь домой?
– Нет. Им понадобилась статья об операции по очистке территории под Ханоем, а Конноли болен. – Конноли был его помощником.
– Мне очень жаль, Грэнджер. Я с радостью помог бы.
– Сегодня день его рождения. В половине одиннадцатого по нашему времени ему исполняется восемь лет. Вот я и затеял веселье с шампанским. Еще до того, как узнал. Я должен был кому-то рассказать, Фаулер. Не этим же лягушатникам!
– В наше время полиомиелит уже не так опасен.
– Пусть останется калекой, я не возражаю, Фаулер. Только пусть выживет! Если бы калекой стал я, от меня было бы мало толку, но у парня есть мозги. Знаешь, чем я занимался, пока тот ублюдок пел? Молился. Я подумал: если Бог хочет забрать чью-то жизнь, пусть забирает мою.
– Ты веришь в Бога?
– Хотелось бы верить, – ответил Грэнджер и закрыл ладонью лицо, словно от головной боли. На самом деле он не хотел показать, что утирает слезы.
– Я бы на твоем месте напился, – произнес я.
– Нет, мне нужно быть трезвым. Не хочу потом думать, что нализался в ночь смерти сына. Моя жена тоже ведь не может напиться.
– Ты не можешь сказать в своей газете?..
– На самом деле Конноли здоров. Он потащился в Сингапур за бабой. Я его прикрываю. Если об этом узнают, Конноли уволят. – Грэнджер попробовал встряхнуться, придать своему рыхлому телу подобие формы. – Прости, что задержал, Фаулер. Мне необходимо было с кем-то поделиться. Пора идти произносить тосты. Забавно, что я наткнулся на тебя, ты же меня на дух не переносишь.
– Давай я напишу статью. Прикинусь Конноли.
– У тебя не получится изобразить акцент.
– У меня нет к тебе неприязни, Грэнджер. Раньше я столько всего не замечал, был как слепой…
– Мы с тобой как кошка с собакой. Но все равно, спасибо, что посочувствовал.
«Так ли уж я отличаюсь от Пайла? – думал я. – Может, мне тоже нужно ступить в самую грязь жизни, чтобы увидеть боль?» Грэнджер вернулся в ресторан, и до меня донеслись приветственные голоса. Я нашел рикшу и приказал везти меня домой. Там никого не было, и до полуночи я просидел в ожидании. А потом, потеряв всякую надежду, спустился на улицу и нашел там Фуонг.
3
– К тебе приходил мсье Виго? – спросила она.
– Да. Он ушел пятнадцать минут назад. Как тебе фильм?
Фуонг уже приготовила в спальне поднос и теперь зажигала лампу.
– Очень грустный, – ответила она. – Но краски красивые. Что было нужно мсье Виго?
– Хотел задать мне несколько вопросов.
– О чем?
– О разном. Теперь он вряд ли меня побеспокоит.
– Я больше всего люблю фильмы со счастливым концом, – произнесла Фуонг. – Ты готов курить?
– Да.
Я растянулся на кровати, и она принялась орудовать иглой.
– Девушке отрубили голову, – сообщила она.
– Неужели?
– Это было во времена Французской революции.
– А-а, историческое кино. Понятно.
– Все равно грустное.
– Я не могу сильно переживать за исторических персонажей.
– Ее возлюбленный вернулся к себе на чердак и от тоски написал песню. Понимаешь, он был поэт, и скоро люди, которые отрубили голову девушке, запели его песню. Это была «Марсельеза».
– Звучит не очень исторически, – заметил я.
– Они пели, а поэт стоял в толпе, грустный-прегрустный. Когда он улыбался, мы понимали, что ему еще хуже, потому что он думает о ней. Я сильно плакала, моя сестра тоже.
– Твоя сестра? Поверить не могу!
– Она очень чувствительная. Там находился этот ужасный человек, Грэнджер. Он был пьяный и постоянно смеялся. Но это было совсем не весело, а грустно.
– Я его не осуждаю. У него праздник. Жизнь его сына теперь вне опасности. Я слышал сегодня об этом в «Континентале». Мне тоже нравятся счастливые концы.
После двух трубок я оперся затылком о кожаную подушечку и положил руку на колени Фуонг:
– Ты счастлива?
– Конечно, – беззаботно ответила она.
Более обдуманного ответа я не заслуживал.
– Все как раньше, – соврал я. – Как год назад.
– Да.
– Ты давно не покупала шарфа. Почему бы тебе завтра не сходить за покупками?
– Завтра выходной.
– Ах да, совсем забыл.
– Ты не открывал телеграмму, – напомнила Фуонг.
– И про это забыл! Сегодня вечером не хочется думать о работе. Сейчас уже поздно садиться за репортаж. Лучше расскажи еще про фильм.
– Ну, возлюбленный пытался выкрасть девушку из тюрьмы. Он проник туда в мальчишеской одежде и в шапке, как у тюремщика, но когда выводил ее в ворота, у нее распустились волосы, и все закричали: «Аристократка, аристократка!» Думаю, здесь в истории ошибка, надо было дать ей сбежать. Потом они оба хорошо заработали бы на его песне и уехали за границу, в Америку или в Англию, – добавила Фуонг, считая, что удачно схитрила.
– Лучше прочитаю телеграмму, – произнес я. – Надеюсь, меня не ушлют завтра на Север. Хочу спокойно побыть с тобой.
Она вытащила из-под баночек с кремом конверт и отдала мне. Я вскрыл его и прочитал: «Снова обдумала твое письмо тчк Действую иррационально как ты надеялся тчк Велела своему адвокату начать бракоразводный процесс на основании оставления семьи тчк Благослови тебя Господь с любовью Хелен».
– Тебе нужно уехать?
– Нет, – ответил я. – Сейчас я тебе прочитаю. Вот он, твой счастливый конец.
Фуонг спрыгнула с кровати:
– Как чудесно! Надо бежать к сестре и все ей рассказать. Она будет так рада! Я скажу ей: «Знаешь, кто я? Я вторая миссис Фаулер!»
Напротив меня стояла на полке, как портрет молодого человека со стрижкой «ежиком» и с черной собакой у ног, «Роль Запада». Он больше не мог навредить мне.
– Ты сильно по нему скучаешь?
– По кому?
– По Пайлу.
Странно, но даже теперь, с ней, у меня не получалось называть его по имени.
– Можно мне пойти? Пожалуйста! Сестра будет в восторге!
– Однажды ты произнесла во сне его имя.
– Я никогда не помню своих снов.
– Вы так много могли бы сделать вместе. Он был молодой.
– Ты тоже не старый.
– Небоскребы. Эмпайр-стейт-билдинг.
Немного поколебавшись, Фуонг сказала:
– Хочу увидеть ущелье Чеддер.
– Это не Большой каньон. – Я привлек ее к себе. – Мне очень жаль. Прости меня, Фуонг.
– За что ты просишь прощения? Это чудесная телеграмма. Моя сестра…
– Да, иди, сообщи сестре. Но сначала поцелуй меня.
Фуонг взволнованно скользнула губами по моему лицу и убежала.
Я вспомнил первый день, Пайла, сидевшего рядом со мной в «Континентале» и смотревшего на киоск с газированной водой на противоположной стороне площади. После его смерти все сложилось неплохо, но мне очень хотелось хоть кому-то сказать, что я о многом сожалею.
Март 1952 – июнь 1955Примечания
1
Пер. Е. М. Голышевой.
(обратно)2
Знаю. Я видела тебя в окне одного (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)3
Ты волнуешься? (фр.)
(обратно)4
Полиция безопасности (фр.).
(обратно)5
Ты тоже (фр.).
(обратно)6
Что? (фр.)
(обратно)7
Он мертв (фр.).
(обратно)8
Что ты сказал? (фр.).
(обратно)9
Пайл мертв. Убит (фр.).
(обратно)10
Трусики (фр.).
(обратно)11
Дерьмо (фр.).
(обратно)12
Американский поэт, прозаик и журналист.
(обратно)13
Два американца? (фр.)
(обратно)14
Я старый, слишком устал (фр.).
(обратно)15
Мой друг. Очень богатый (фр.).
(обратно)16
Ты грязный (фр.).
(обратно)17
Нет-нет, я англичанин, бедный, очень бедный (фр.).
(обратно)18
Это непростительно (фр.).
(обратно)19
Не окажете ли мне честь? (фр.).
(обратно)20
Слава Богу (нем.).
(обратно)21
Двое штатских (фр.).
(обратно)22
Не повезло (фр.).
(обратно)23
Направление в англиканской церкви.
(обратно)24
Рождественские открытки (фр.).
(обратно)25
Переведите! (фр.)
(обратно)26
Фамилия Pyle звучит как pile, что по-английски значит «куча».
(обратно)27
Очень приятно (фр.).
(обратно)28
Со мной (фр.).
(обратно)29
Это запрещено (фр.).
(обратно)30
Свобода – что такое свобода? (фр.)
(обратно)31
Президент Дуайт Эйзенхауэр.
(обратно)32
Я сейчас вернусь (фр.).
(обратно)33
У. Шекспир. «Зимняя сказка».
(обратно)34
Американский сексолог.
(обратно)35
Я француз! (искаж. фр.)
(обратно)36
Индуистская святыня близ Куала-Лумпура – столицы Малайзии.
(обратно)37
Не понимаю (фр.).
(обратно)38
В игре (фр.).
(обратно)39
Французский писатель, один из основателей детективного жанра.
(обратно)40
Бельгийский художник-символист XIX в.
(обратно)41
Роман французского писателя Виктора Маргерита, признанный порнографическим.
(обратно)42
Мне совершенно необходимо увидеть мсье Хенга (фр.).
(обратно)43
Пер. Е. М. Голышевой.
(обратно)


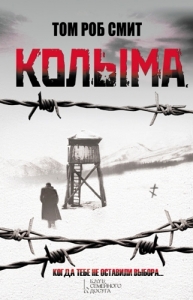
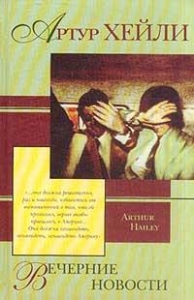


Комментарии к книге «Тихий американец», Грэм Грин
Всего 0 комментариев