Гюнтер Карау. Двойная игра. Роман
От немецкого издательства
Уважаемый читатель, как со всякой более или менее дельной книгой, у вас могут возникнуть определенные трудности и с этим романом, ведь в действительности в нем три книги — на любой вкус.
Вы, любознательный читатель, конечно, постараетесь сконцентрировать свое внимание на приложении. И правильно сделаете! Не потратив особенно много времени, вы обогатитесь еще одним умением — научитесь играть в го, старейшую настольную игру мира.
Вы, опытный читатель, вероятно, очень быстро уясните конструкцию романа в целом и приметесь последовательно читать сначала нечетные, а затем четные главы. И безусловно останетесь в выигрыше! Вместо одной истории в двух томах вы прочтете две истории в одном томе — старую и новую. Старая история окажется столь же нова, как любая новая история, а новая — столь же стара, как любая старая. Вы можете подумать, что это история о шпионаже и контрразведке, но на самом деле все сводится к рассказам о человеческих добродетелях — жажде нового и привязанности к старому. А так ли уж существенны различия между ними?
А вы, серьезный читатель, как подлинный ценитель приключенческой литературы, наверняка начнете с заголовка и закончите последней страницей, и не иначе! Благодаря этому вы получите возможность, недорого заплатив за то, что не имеет цены, познать, что на любом пути, в том числе и на жизненном, приходится в принципе трижды преодолевать себя: когда решаешься отправиться в путь, когда проявляешь волю, чтобы не остановиться и не повернуть назад, и когда испытываешь счастье в конце пройденного пути.
1
Телеграмма 113/1 (срочно).
Отправлена 28.1 в 2.35 по указанию начальника отделения угрозыска районного отдела народной полиции.
Вручить дежурному офицеру немедленно.
Копию — начальнику угрозыска окружного управления.
Содержание: обнаружение трупа в лесничестве Грамцов.
Согласно запротоколированной телефонограмме участкового уполномоченного участка Центр — Юг лейтенанта народной полиции Шмидта 27.1 около 23.00 в лесничестве Грамцов на границе участков 32 и 33 гражданином Кроном Вильгельмом, пенсионером, проживающим на хуторе Цирцов, обнаружен труп неизвестного лица (предположительно мужского пола). В результате первичного осмотра, произведенного участковым уполномоченным к 1.05 28.1, на трупе обнаружены следы сильных ожогов, позволяющие заключить, что, по всей вероятности, имело место насилие.
Районный прокурор проинформирован.
Охрана места обнаружения трупа организована.
ВРИО начальника:
лейтенант уголовной полиции Кёлер.
Похожая на голубятню комнатушка технолога висит под самым потолком громадного цеха. Слабый вечерний свет пробивается сюда сквозь закопченные стекла. Половину дня после обеда он проторчал на участке опытного производства — искал ошибку в программном управлении. Поэтому сейчас, поднявшись к себе по вертикальной железной лестнице, он чувствует, что немного запыхался. Включив свет, он видит на столе записку: «Йохен, твоя жена звонила три раза. Приятного вечера». Из кармана рабочего халата он вынимает раздвижной калибр, авторучку, рабочий журнал, логарифмическую линейку и тысячекратно отрепетированными движениями педантично раскладывает их но местам в нравом ящике письменного стола. Еще раз заглядывает в рабочий журнал: 28 января, середина недели, Солнце взошло и зашло, Луна в последней четверти. Под записями, сделанными в течение смены, он привычно подводит черту и лишь после этого берет телефонную трубку:
— Рената, ну что там у тебя?
В ее голосе слышится нерешительность:
— Ты скоро?
— Да нет еще, — осторожно отвечает он. — Что-нибудь случилось?
— Письмо.
— Какое письмо?
И вновь она медлит:
— Лучше приходи поскорее.
Внизу, на заводском дворе, он поднимает воротник пальто и поглубже натягивает шляпу: с наступлением сумерек поднялась метель. Он слышит звонок.«бычка» — маленького приземистого локомотива, обслуживающего внутризаводские пути вдоль Верхней Шпрее. Скрежещут сцепления, лязгают буфера тяжелогруженых вагонов. Решительным, хорошо тренированным прыжком он вскакивает на подножку последней платформы. У выезда с заводской территории укоризненно качает головой вахтер: «Опять этот сумасброд Неблинг, инженер из четвертого цеха». И все же он приветственно прикладывает руку к козырьку фуражки.
За стрелкой на подножку вскакивает сцепщик, совсем молодой парень, и улыбается во все свое измазанное мазутом лицо:
— Что, уважаемый коллега, опять экономим на трамвайных билетах? Но потесниться вам все-таки придется.
Под бодрый перестук колес «бычка» они едут мимо застывших на каждом перекрестке трамваев, легковых машин, грузовиков, пешеходов. Платформы их поезда загружены слоноподобными трансформаторами, ящиками с масляными выключателями и выпрямителями, тяжелыми, в тонну весом, катушками с кабелем, контейнерами. Чуть ли не со скоростью пешехода пробирается грохочущий состав по ущелью между домами, но быстрее в этот час инженеру Неблингу до дома все равно не добраться.
Около магистрали, переходящей в автостраду, подальше от света и бдительного ока полицейского регулировщика, он спрыгивает с поезда в засохшие кусты полыни. Молодой сцепщик машет ему вслед красным фонарем:
— До скорой встречи, дорогой коллега!
Теперь до дома рукой подать. Неблинг идет по тропинке, обрамленной дубовыми побегами, выросшими на невыкорчеванных пнях, и строительным мусором, оставшимся здесь после укладки труб. На старом пешеходном мосту через железную дорогу ветер залепляет ему лицо мокрым снегом. Как сквозь пелену, видит он на третьем этаже дома-новостройки свою жену, стоящую в светлом прямоугольнике знакомого окна с кактусами. Поднявшись наверх, он по привычке хочет отпереть дверь ключом, по не успевает даже вынуть его из кармана, как дверь открывается. Письмо лежит в прихожей на виду — на полочке перед зеркалом.
Сидя на диване за низким столиком, Неблинг берет чайную ложку и начинает сосредоточенно мешать чай. Лимон искусно разрезан на восемь частей. Рядом с сахарницей поблескивают щипчики для сахара. Бутылка коньяка косо лежит на плетеной подставке. Все приготовлено с особой тщательностью.
Этот ритуал знаком ему вот уже в течение двадцати трех лет. Всякий раз, когда жена готовится к приятному или нелицеприятному разговору, на столе появляется чай. Несомненно, у него умная жена. Стакан чая сглаживает остроту спора. Когда держишь его в руке, то ударять кулаком по столу как-то неудобно. Со стаканом чая не вскочишь и из-за стола не выбежишь.
Не успевает он сесть, как жена приносит письмо. Он поворачивает его туда-сюда под настольной лампой. Размашистая надпись фломастером, незнакомый почерк.
— Виола Неблинг, — поясняет жена.
Он лишь беспомощно пожимает плечами.
— Из Марбурга. — Она наливает чай в стаканы. — Из Марбурга на реке Лан. Тебе с сахаром?
— Не волнуйся, — говорит он. — Ты же знаешь, я не пью сладкий.
— Марбург-на-Лане, до востребования, — упорствует она. — Виола Неблинг — ты должен знать, кто это.
Щипчиками для сахара он вскрывает конверт. На листе белоснежной твердой бумаги фразы написаны прямым крупным почерком. Удивительно, как вдруг само собой возвращается к нему былое умение одним-единственным взглядом схватить содержание такого вот послания. И мгновенно приходит решение выиграть время, сделав вид, что вчитываешься в текст. Притворяться друг перед другом им давно не нужно. Секретов, которые обычно помогают супругам нести в течение долгих лет тяжкое бремя брака, для них не существует. Но на этот раз срабатывает инстинкт, точнее, даже не инстинкт, а воспоминание об инстинкте, который он когда-то сам у себя развил.
— Так вот оно что! — стучит он себя ладонью по лбу.— Это моя маленькая кузина, внебрачный ребенок тети, позор нашей семьи. И как это я мог забыть!
— А я и не знала, что у тебя есть кузина… — От плохо сдерживаемого волнения у нее даже голос садится.
Он удивленно смотрит на нее:
— Но, Рената, я тебя не понимаю… Можно подумать, что я скрыл от тебя своего внебрачного ребенка. Неужто из-за этого ты три раза звонила мне на работу? На тебя это совсем не похоже!
— Конечно, не похоже, — перебивает его она. — Но пойми, вдруг откуда ни возьмись появляется какая-то родственница, а от твоей родни, кроме неприятностей, ждать нечего.
Он протягивает ей письмо, но затем опускает руку и кладет его перед собой:
— Кузина пишет, что она дипломница, что приехала, чтобы ознакомиться в нашей государственной библиотеке с несколькими рукописями. Это ей необходимо для будущей диссертации. Пользуясь случаем, хочет встретиться со своим кузеном. Все очень просто.
— А как это ты удостоился чести обзавестись такой кузиной?
— О, это скучная семейная история. — Он с деланным равнодушием сворачивает письмо и под ее недоверчивым взглядом убирает его во внутреннее отделение своего портмоне. — Ты же знаешь, что тетя Каролина… — говорит он как можно безразличнее.
— Кэролайн?! — шумно выдыхает она. — Я так и знала! Я сразу почувствовала, что тут замешана Кэролайн[1]!
— Прошу тебя, будь объективной. Ведь на самом деле все очень просто.
— Йохен, — говорит она тихо, — у тебя всегда все очень просто. Но еще раз я этого не вынесу. Та старая история — разве она не началась с этой жуткой Кэролайн?
— Ты хочешь сказать «тети Каролины», — сухо поправляет он и продолжает после небольшой паузы: — Письмо не имеет ничего общего с Кэролайн. Вероятно, сегодня она так же мало знает свою дочь Виолу, как и я. Во всяком случае, в письме от нее нет даже привета. Поверь, Рената, нет никаких оснований волноваться.
Он сам удивляется, зачем так стремится успокоить ее. Разве ему неизвестно, что именно такие заверения как раз и вызывают беспокойство? Причиной того, что тетя Каролина перебралась в Западный Берлин, была настоящая любовная история. Кто сегодня вправе судить ее? Это был солдат оккупационных войск, американский негр. Потом появился ребенок и он бросил ее. Когда она открыла в Шёнеберге[2] пивную со всякими штучками и девочками, которые разносили пиво по столам и по задним комнатам, то не захотела, а может, и не смогла оставить у себя маленькую чернокожую девчушку. Ее содержание и обучение в интернате, должно быть, влетело тете Каролине в копеечку. Однако об этом Йохен ничего не знал. Она, собственно, об этом никогда не упоминала. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон. Во всяком случае, у тети свою экзотическую двоюродную сестричку он ни разу не видел.
Рената Неблинг собирает чайную посуду на поднос. Они гак и не попили чаю, скорее, подержали чашки в руках. Бутылку коньяка она со стола не убирает, а ставит рядом с ней две коньячные рюмки.
— Может, когда она придет, нас просто не окажется дома? — неожиданно спрашивает она — видимо, пытаясь этим вопросом успокоить себя.
— Что ж, пожалуй, это лучший выход. — Он удивляется, почему она не задает ему вопрос, который сам собой напрашивается в данной ситуации: «От кого же Виола могла узнать твой адрес, если не от тети Каролины?»
В этот вечер они — что случается теперь очень редко — совершают длительную прогулку в Пионирпарк. О предстоящем визите кузины они больше не говорят. Кажется, ее письмо забыто. Они обмениваются фразами о том, что вот опять настали тревожные времена, что над миром нависли тучи. Каждый из них думает при этом о старшем сыне, который вот уже два с половиной года служит в ракетной части на побережье Балтийского моря, но никто не говорит об этом вслух, словно опасаясь накликать беду. Два раза они слышат свистки «бычка» — наверное, он возвращается на завод. «Жизнь, разве ты не есть постоянное отдаление друг от друга и постоянное приближение друг к другу?» — думает Йохен.
К коньяку они больше не притрагиваются. Потом она засыпает на его руке, а он испытывает такой прилив нежности, что не смеет пошевелиться, хотя рука у него деревенеет. Когда же она наконец привычно переворачивается на «свой» бок, освобождая руку, он еще некоторое время прислушивается к ее ровному дыханию, а затем гасит почти до конца обгоревшую свечу, нащупывает ногами тапочки, осторожно снимает со спинки стула брюки, в кармане которых лежит портмоне с письмом, и крадучись идет в свою маленькую комнатку.
Сначала он рассматривает письмо как рукописный текст — хочет еще раз убедиться, что почерк ему не знаком. Строчки бодро бегут слева направо. В манере письма угадывается натура решительная. Таким почерком вполне может обладать выпускница университета в возрасте его кузины Виолы. И вновь, как при беглом знакомстве с письмом, он останавливается на том месте, где как бы мимоходом говорится о цели столь неожиданного визита: «Тема моей диссертации на первый взгляд довольно нелепа, но исключительно интересна, в плане понимания очень далекой от нас культуры: «Искусство настольных игр Восточной Азии и его отражение в древнеяпонской и древнекитайской поэзии». Особенно интересует меня работа ученика Конфуция Тайханя «Борьба красного дракона с ветром». Говорят, кое-что полезное можно найти в государственной библиотеке и берлинских музеях. Я думаю воспользоваться этой возможностью…»
Он вкладывает письмо между страницами учебника по слаботочной технике. Затем берет телефонную трубку и после короткого раздумья опускает ее. Гудок в трубке действует на него как сигнал, подкрепляющий выжидательный рефлекс. Некоторое время он стоит прислушиваясь у двери спальни, а затем кое-как одевается и поспешно выходит на улицу. У ближайшего телефона-автомата испорчен диск. Следующая будка около старого вокзала городской железной дороги. На долгом пути к ней он ни о чем не думает. Как во сне, от которого никак не удается пробудиться, он, чтобы избежать встречи с приближающимся силуэтом, заходит в парадное какого-то дома и пережидает там до тех пор, пока звуки шагов не замирают за углом, в темноте переулка. В неосвещенной, воняющей мочой телефонной будке в его памяти сразу же всплывает старый телефонный номер. Ни разу не промахнувшись мимо отверстий диска, цифру за цифрой набирает он его в темноте.
После восьмого гудка какой-то механический, тщательно выговаривающий слова женский голос произносит:
— Телефонная служба услуг слушает вас. Абонент ждет вашего сообщения. Пожалуйста, говорите.
Ему кажется, что он слышит шорох магнитной ленты. А над шорохом в телефонной трубке тихо-тихо плывут сиг- палы «свободно», мучительно повторяющиеся восемь раз. Он словно замирает. И снова раздается женский голос. Его охватывает озноб. Кажется, живет лишь один кусочек его тела — левое ухо, прижатое к телефонной трубке.
— Ничего особенно важного, — говорит он нерешительно. — Тетя Каролина передает привет.
2
Вспоминая сумасшедший вечер в «Кэролайнс бир бар», Йохен Неблинг понимает, что некоторые вызовы, бросаемые судьбой, человек способен принять только в юности. Старый город на Шпрее разделен на две части, на это не та река, которая может разделить людей…
«Что ищет этот Карл, что ищет в кринолине? И что находит Карл? Находит Каролину!» Невероятно, какая только всячина не припоминается после стольких лет! Вместе со словами всплывает в памяти и мелодия, а вместе с мелодией события того сумасшедшего вечера у тети Каролины, когда (если, конечно, Рената права, а она таки права) все и началось.
Празднество достигло апогея, когда громадный, страдающий плоскостопием буфетчик Эгон, бывший профессиональный кетчист[3] выполнявший в заведении помимо всего прочего и обязанности вышибалы, принес в душный, прокуренный зал шарманку и под громкие стенания расстроенных шарманочных труб проревел допотопную польку о Карле и Каролине. Все, кто был еще в состоянии, стали подпевать ему.
Тетя Каролина сидела на своем обычном месте — между стойкой и дверью туалета. Для нее эта пирушка была торжественным приемом. Да она и не любила, когда ее заведение называли пивной. Консоли за ее спиной были закрыты пестрыми рекламными плакатами с изображенными на них полуголыми девицами, тянущими кока-колу я виски через соломинку. На капитальный ремонт не хватило денег. Почерневшие стены, обитые линолеумом, были обклеены красными и синими декоративными пластмассовыми полосками. На стойке все еще красовалась допотопная горка, на которой вместо котлет и яиц теперь стояли холодные сосиски и воздушная кукуруза. Наиболее уважаемые посетители располагались за низкими столиками со столешницами в форме боба в приглушенном красном или голубом свете неоновых ламп. Снаружи над невысокой входной дверью красным и синим светилась надпись: «Кэролайнс бир бар».
Эгон передвинул рычаги шарманки и еще раз прокрутил польку. Это была серенада, адресованная хозяйке в честь дня ее рождения. Тетя Каролина улыбалась. Было видно, что она и польщена и раздосадована. Полька, пожалуй, казалась ей несколько грубоватой, во всяком случае, была явно недостаточно современной. Кэролайн больше всего любила джазовые песни. В те времена, насколько можно было понять из разговоров, она вела героическую борьбу против конкурентов, финансовой инспекции, полиции нравов и случавшихся порой бешеных перепадов денежного курса[4]. Заканчивались сумасшедшие пятидесятые годы, и долларовые инъекции только-только начали по-настоящему влиять на дряблый организм Западного Берлина. Будучи хозяйкой заведения, тетя была вынуждена идти в ногу со временем, и ее пристрастие к джазу объяснялось, вероятно, всего-навсего деловой сметкой: жесткий ритм ударника нес слушателям жалкие крохи романтики. Однако оставим эту тему. Тетя Каролина была такой, как того требовало время. А вообще-то я вовсе не хочу, чтобы создалось впечатление, будто ту пирушку в честь ее дня рождения я пытаюсь как-то приукрасить. Напротив, сегодня я многое вижу гораздо яснее.
Иногда я спрашиваю себя: отважился бы я на такое сейчас? Некоторые вещи делают лишь в юности или же вовсе не делают. Только молодежь способна со слепой дерзостью бросить вызов судьбе. А как иначе узнаешь, какова она — твоя судьба? Это называют бурей и натиском, но в действительности это, пожалуй, неумное упрямое ребячество. Мне было запрещено посещать Западный Берлин, притом в самой категорической форме. Я уже сдал все наиболее серьезные экзамены и проходил практику. На старом заводе, где я работал, многое изменилось. Специалисты только и говорили о транзисторах, о том, как много нужно наверстать в области полупроводниковой техники. Мне было поручено решение проблем управления в модуляторе пространственной системы, и надо было быть абсолютным болваном, чтобы не понимать, для чего нужны предельные частоты в диапазоне 10000 мегагерц: Национальная народная армия стала нашим главным заказчиком и требовала от нас практических результатов. Я не имел права поступать столь легкомысленно. Но вот, однако же, сидел в «Кэролайнс бир бар», Шёнеберг, американский сектор Берлина, Мартин-Лютерштрассе.
Мне отвели почетное место рядом с тетей. Она положила руку на мое плечо, и было очевидно, что в данный момент ей наплевать на всю шатию-братию, что ей нужен лишь я, ее племянник, последний осколок семьи, оставшийся по ту сторону границы. А я сидел как на иголках.
— Тетя Каролина, — шепнул я ей на ухо, — мне пора идти.
Но она не слушала меня.
— Однако… однако… господин Вагнер… — перебила она одного из гостей.
Господин Вагнер, принадлежавший к числу ее новых знакомых и постоянных посетителей, «двойной» коммивояжер, торговавший мужскими галстуками и женским бельем, в этот момент рассказывал гостям сальный анекдот из своей профессиональной практики: о том, как мужской галстук и женские трусики обмениваются впечатлениями. Люси, единственная из служивших у тети Каролины девушек допущенная в компанию, хохотала. В этот вечер заведение тети Каролины было закрыто для посетителей, и Люси, будучи, так сказать, уже не на работе и изрядно выпив, пришла в возбужденное состояние. Тете Каролине она, вероятно, в какой-то степени заменяла дочь. Американец Билли, вольнонаемный, служивший по финансовой части при штабе американского гарнизона в Целендорфе[5] и оставлявший здесь подозрительно много денег, которого тетя Каролина, пребывая в хорошем настроении, именовала господином начфином, спал, положив голову на стол. В неосвещенной половине зала уборщица тети Каролины, прижав к себе, словно наемного танцора, швабру, танцевала с ней под звуки шарманки. Стирая со столов и убирая рюмки, она, по обыкновению, допивала остатки спиртного и таким образом поднимала себе настроение. Мне она представлялась три раза, делая каждый раз легкий книксен:
— Леман-Мюк, частная воспитательница, Панков[6], Кавалирштрассе.
Частная воспитательница! Скорее всего, бывшая. Или, может, под частным воспитанием она подразумевала воспитание практицизма? За двести восемьдесят западных марок в месяц она каждый вечер убирала и чистила теткино заведение — для Каролины дешевле не придумаешь! Однако, даже не обладая особой фантазией, можно было легко представить, что, обменяв эти марки на восточные по курсу «черного рынка», Леман-Мюк на своей Кавалирштрассе могла выступать в качестве бывшей знатной дамы.
— Тетя Каролина, — повторил я уже несколько громче, — мне пора.
Она скроила обиженную мину:
— Йохен, не смей называть меня тетей. Говори просто: Кэролайн.
Я улыбнулся, по так как мне нужно было от нее еще кое-что, то решил доставить ей удовольствие:
— И все равно мне пора… Кэролайн!
Она шлепнула меня по затылку:
— Прямо сейчас? Сегодня? В день моего рождения? Конечно, здорово, что ты не забыл…
На самом деле на ее день рождения я попал нежданно-негаданно, но разрушать ее иллюзии не стал. Она удерживала меня, положив мне ладонь на затылок, и казалось, действительно больше всего на свете боялась, что я уйду.
— Ты так и не попробовал моего нового виски, — сказала она. — Настоящее кукурузное виски из Кентукки. Оно сейчас пользуется большим спросом. — Произнося это, она, казалось, погрузилась в свои дела, но вдруг крикнула раздраженно: — Фриц, а ну-ка принеси бутылку нового виски!
Фрид работал у тетки метрдотелем. В описываемый момент он был занят починкой одного из четырех игральных автоматов.
Любая мысль о деловых операциях приводила тетю Каролину в волнение. Вот и сейчас она протянула руку к стойке — там, рядом с кассовым аппаратом, лежал крохотный сверточек, ради которого я и пришел сюда, а теперь сидел как на иголках. Вернулся Фриц с бутылкой виски и бутылочками кока-колы и расставил на столе новые ребристые стопки. Тетя Каролина незаметно сунула мне пакетик в боковой карман пиджака.
— Протезная мазь, — сказала она, не глядя на меня. В ее голосе слышались обида и неодобрение. — Как дела у отца?
— Плохо, — ответил я, не желая распространяться на эту тему. — Скорее всего, предстоит очередная ампутация.
Одним движением, сделавшим бы, вероятно, честь любому кукурузоводу из Кентукки, она опрокинула в себя стопку неразбавленного виски.
— Все сидит в своей дыре в зоне[7] мой разлюбезный братец? — Заранее зная ответ, она только возмущенно махнула рукой: — Вот и все, что он, преобразователь. мира, заслужил. Руки постоянно в грязи, ботинки рваные, ни гроша в кармане и пустой желудок. Боже мой, кому это нужно? А концлагерь! Зачем ему все это было нужно? С чем он остался? С одной ногой, да и ту ему отрезают по кусочку. Ужасно! — Она говорила так, будто обвиняла действительного виновника всего этого. — Разве я требую слишком многого, Йохен? — печально посмотрела она на меня. — С тех пор как я здесь, от него ни слова, ни строчки. Хоть бы открытку с готовым текстом поздравления ко дню рождения прислал.
Что я мог сказать? Я ответил так, как отвечают в подобных ситуациях:
— Понимаешь, у него свои принципы.
Она снова пренебрежительно отмахнулась:
— Да-да, принципы. В них мой братец был всегда особенно силен. А что он может купить себе взамен?
Официант, вошедший через черный ход, доложил, что доставлена новая партия сливочного масла.
— Крестьянское масло марки «Тройенбрицен», — уточнил он[8].
Сначала тетя Каролина засмущалась, будто она отнимала что-то у меня лично, но затем решительным жестом заказала себе 20 килограммов.
— Один к пяти, — добавила она, — и ни пфеннига больше![9]
Я мысленно прикинул, что вряд ли тетушке требуется столько масла для ее заведения. Скорее всего, она потихонечку занималась еще и спекуляцией. Такое тогда не было редкостью. Запад — Восток, Восток — Запад. Время было сумасшедшее, и многие «маленькие люди», ни за что не желавшие расстаться с мечтой выбиться наверх, посчитали бы себя безумными, если бы не воспользовались предоставлявшимися возможностями.
А я? Многим ли, откровенно говоря, я отличался от них? Я ощупывал пакетик в своем кармане: «Протезная мазь. Изготовитель фирма «Шеринг АГ», Берлин, Веддинг[10]. Запатентовано». Отцу эта мазь была необходима, чтобы жить, но он убил бы меня, если бы узнал, откуда она. Прежде чем передать мазь ему, я каждый раз выдавливал ее из фирменного тюбика в баночку и наклеивал на нее самодельную этикетку с неразборчивой надписью, которая должна была выглядеть как наклейка, сделанная в аптеке.
На дне рождения тети Каролины я впервые в жизни выпил виски. Водка была мне знакома. Если за дружеским столом с закуской выпьешь водки на русский манер в несколько больших глотков, она придает тебе бодрости, веселья, задиристости. А если повезет, то настанет момент, когда увидишь, кто есть кто и кто чего хочет. К сожалению, потом это опять забывается.
Виски — это совсем другое. В больших, не наполненных даже до половины посудинах зелье стоит перед каждым. И все отпивают его крохотными глоточками, ни о чем при этом не думая, до тех пор, пока не придет невероятная расслабленность. И ничего тебе уже не нужно, и ничего не хочется, и ты доволен тем, что являешься частицей этого несовершенного мира…
Тетя Каролина усердно подливала мне в рюмку, а я все пил и пил — больше, чем обычно. Конечно, всего, что случилось со мной потом, только этим не объяснишь. Но я уже не глядел на часы. Мазь для отца лежала у меня в кармане, и теперь мне вроде бы некуда было торопиться.
Эгон что-то передвинул в шарманке. У него, оказывается, было припасено для тети Каролины кое-что еще. Используя свою нерастраченную силу старого кетчиста, уходившую теперь в основном лишь на укрощение пивного крана, он вдохновенно крутил ручку шарманки, из которой доносилось: «Приди, приди, о Каролинчик! Поедем в Панков мы вдвоем. Отлично время проведем». Все смеялись.
— Почему обязательно в Панков? — завизжала в темной половине зала фрау Леман-Мюк, с грохотом уронив стакан.
Тетя Каролина презрительно усмехнулась.
— Ах, Йохен! — сказала она и опять подлила мне виски. — Зачем мне давать зарабатывать чужим людям? Если бы вы с Ренатой немного помогали мне, деньги остались бы в семье. А так с деловой точки зрения получается просто глупо.
— Вы абсолютно правы, моя милая Каролина, — вновь встрял в разговор вышеупомянутый господин Вагнер.
Рядом с моей рюмкой он положил три плитки шоколада, на что я, должно быть, отреагировал недоуменным взглядом.
— Нет-нет, это не для вас, — успокоил он меня. — Не для вас, а для вашей дочурки, для маленькой фрейлейн.
Тетя Каролина, сидевшая прижавшись ко мне, сразу же почувствовала, как я напрягся.
— Йохен, — сказала она, — мы все здесь как одна семья. Каждый о каждом знает все. Вот и господин Вагнер знает, что ты молодой отец. Только он спутал: забыл, что у тебя мальчик, а не девочка.
А потом все пошло наперекосяк. Меня вдруг стала преследовать Люси. Эта стервоза укусила меня за ухо и шепнула:
— Эй, красавчик, а мы с тобой еще даже не попробовали.
Тетя Каролина отогнала ее от меня:
— Не лезь к нему, Люси, и застегни блузку!
На некоторое время мне пришлось покинуть общество. Когда я возвращался, возле стойки меня перехватил Вагнер:
— Ваша тетушка права, милый Йохен. Вы действительно должны больше думать о приятных сторонах жизни.— Сделав Фрицу знак пальцами, он заказал два неразбавленных виски. — Я понимаю, что вам не по душе предложение вашей тети. Родственные связи мешают деловым отношениям. Но ведь и я мог бы вам помочь. — Он прислонился спиной к стойке и равнодушно смотрел на Люси, начавшую демонстрировать стриптиз. — Входите ко мне в дело!
Я не сдержал усмешки:
— Как вы себе это представляете? Вы что же, хотите, чтобы я у нас, в ГДР, торговал вашим эротическим дамским бельем? По курсу один к пяти? Видите ли, любезный, я студент и изучаю электронику.
Вагнер отстранил Люси, которая, проходя в танце мимо нас, протянула мне свою юбку.
— Так-так, — произнес он, — мы начинаем лучше узнавать друг друга. А скажите, имеет ли, с вашей точки зрения, электроника какие-нибудь перспективы для экономики зоны?
— Не будем спешить, — ответил я. — Поговорим об этом через пару лет.
В ту же секунду я понял, что мне следовало прикусить язык. По мне почему-то не хотелось этого делать. Неужели всему виной дрянь, которую я пил? В моей голове мягко, плавно кружилось огненное колесо. Лицо Вагнера придвинулось вплотную ко мне — лицо доброго дядюшки. Он все говорил и говорил, а я слушал как завороженный, уставясь на его рот, но не понимая толком, о чем он рассуждает.
Речь шла о бритвенных лезвиях (достаточно ли их в советском секторе Берлина), о поставках говядины в мясные лавки и рестораны, о том, справляются ли дорожно-строительные организации с ремонтом дорог, необходимым после каждой зимы, о том, как в потребительской кооперации обстоит дело с распределением сливочного масла, о том, на какое время приходятся школьные каникулы. Об электронике не было сказано ни словечка. Вопросы были настолько элементарными, что я действительно не понимал, что этому типу от меня нужно. Только очень хотелось, чтобы он наконец закрыл рот. Моими ответами, судя по его виду, он остался доволен.
Почему я рассказываю об этом столь подробно? Потому что я стоял тогда в исходной точке такой карьеры, которая не могла мне присниться даже во сне. Сегодня все это мне представляется чем-то вроде одной из шуток маленького Морица[11]. Но смеяться над этим я не могу. Боже, за какого болвана они меня принимали! Позже в руки мне попала схема специальной подготовки, разработанная сотрудниками их Центра. Она представляла собой программу из семи пунктов: 1) нахождение объекта; 2) его изучение; 3) вербовка; 4) проверка; 5) обучение; 6) работа; 7) вывод из игры. Все так просто, что до этого действительно мог додуматься даже маленький Мориц, и в то же время все настолько изощренно, что трудно поверить, будто подобное возможно.
Почему они выбрали именно меня? К каким выводам пришли, изучив меня? Этого я, скорее всего, так никогда и не узнаю. Во всяком случае, они приступили к третьему пункту — вербовке.
Свой учебник для сотрудников ЦРУ корифей шпионской науки Фараго написал в 1954 году. А что было бы, если… Теперь бесполезно рассуждать о том, если бы да кабы! Что мне в тот майский вечер 1960 года, когда мы отмечали день рождения тети Каролины, было известно об учреждении, именуемом Центральным разведывательным управлением, не говоря уже о мастере шпионажа Фараго?
Пункт 3 подразделялся на подпункты, в соответствии с которыми рычагами для вербовки могли служить: а) фанатическая увлеченность своей профессией; б) жадность; в) патологическая тяга к женщинам; г) наказуемые преступные деяния. Когда позже дошла очередь до пункта 5 — обучения и я согласно учебной программе получил в фотокопиях выдержки из учебника Фараго, я смог прочесть то, что, возможно, для меня и не предназначалось: особо благоприятным Фараго считал совпадение нескольких из указанных предпосылок. Так, например, легче легкого поймать в свои сети завзятого бабника, который приобрел столь необходимый ему для его похождений автомобиль, подделав банковский чек. Хорошим объектом является глубоко убежденный в своем высоком призвании литератор, которого осыпают деньгами за производимую им макулатуру независимо от того, стоит она того или нет. Почти идеальным объектом считается ученый, только и думающий о том, как бы превратить свое открытие в деньги, чтобы с их помощью приручить красотку после того, как он с помощью яда убрал с дороги соперника.
И я спрашиваю себя сегодня: что из всего этого они откопали во мне? Я не воровал. Никогда не питал особой склонности ни к женщинам, ни к деньгам. А что касается моей специальности — электроники, то я хоть и зарекомендовал себя ее энтузиастом, однако с той сдержанностью, которая диктовалась нашими более чем скромными в ту пору возможностями. Так где же они, те муки, за которые они меня полюбили?
Господин Вагнер вряд ли смог бы ответить на этот вопрос. Мелкий подручный своих хозяев, он методично кружил вокруг меня, отрабатывал аванс, выданный ему на расходы.
— Итак, дорогой Йохен, — сказал он покровительственно, — вы видите, как все просто. Это называется информацией, а она стоит денег. — Он достал купюру в двадцать западных марок и сунул ее мне в карман куртки.
Я был настолько ошарашен, что у меня вырвалось:
— Да вы что, спятили? Целый фунт за какую-то чепуху!
Тетушка — эта ничего не подозревавшая клуша — стояла рядом с нами.
— Йохен, — вмешалась она, — как только у тебя язык поворачивается говорить такое? Господин Вагнер вовсе не спятил. Ты можешь спокойно взять деньги. У господина Вагнера они не последние.
Во мне росло смутное предчувствие. Я но мог только понять, откуда оно появилось. Однако тут дал о себе знать наш фамильный порок — я начал распаляться:
— И все-таки это чистый идиотизм! Какое отношение имеет господин Вагнер к бритвенным лезвиям, о которых мы говорили?
Вагнер остался на высоте положения:
— Придет время, и вы поймете, Йохен. Это статистика. Это кругозор. Это мировая экономика. Здесь так заведено.— Он черкнул что-то в своей записной книжке. — Я работаю на статистическое земельное управление. По совместительству, так сказать. Там они этим интересуются. — Он вырвал страничку из своей записной книжки: — Вот адрес маленького кафе. Там играют в го[12] или как там еще называется эта игра. Пусть это, однако, вас не смущает. Меня вы можете застать там во вторник Вечером. Я познакомлю вас с одним господином из статистического управления.
Я вытащил из кармана новенькую, хрустящую двадцатку и внимательно рассмотрел ее.
Шарманка гудела на всю пивную: «То в Шёнеберге было. Май, сирень цвела, И девушка прелестная была там».
— О, Шёнеберг! О, девушка! — подтягивала фрау Леман-Мюк.
— Эх вы, недоделанные! — выкрикнула Люси, увидев, что мы продолжаем разговаривать, и стала одеваться.
Тетя Каролина уже не обращала на нее внимания. Она взяла двадцатку и сунула мне ее обратно в карман:
— Почему бы и нет, если все так просто, мой мальчик? — И она чмокнула меня в щеку. — Мы ведь должны помогать друг другу.
Кто-то настроил приемник. Позывные из эфира перекрыли звуки шарманки:
— «Говорит радиостанция РИАС Берлин[13] — свободный голос свободного мира. Время — ноль часов».
Нежные голоса скрипок заиграли мелодию старого германского гимна: «Германия, Германия превыше всего…»
3
Телеграмма 115/1 (молния).
Отправлена 28.1 в 3.10
по распоряжению районного прокурора.
Вручить дежурному офицеру немедленно.
В дополнение к телеграмме 113/1 об обнаружении трупа в лесничестве Грамцов.
Содержание: о подъездных путях к месту обнаружения, трупа.
В дополнение к отправленной нами телеграмме 11311 указывается, что из-за продолжительных дождей подъездные пути к месту обнаружения трупа непроходимы для обычных служебных автомашин. Для проезда оперативной группы настоятельно рекомендуется использовать рабочую дорогу лесничества, начинающуюся на автостоянке у 72-го километра автострады.
Проводник ожидает на указанной стоянке.
ВРИО начальника: лейтенант уголовной полиции Кёлер.
Назавтра инженер Неблинг целый день торчит у себя, в комнатушке технолога. Как только звонит телефон, он первым хватает трубку. Наступает обеденный перерыв. Обычно Неблинг довольствуется парой бутербродов и пакетом молока. Но сегодня он вместе со своими коллегами идет обедать в столовую.
Молодой мастер по фамилии Виттих, которого за его способность говорить на любую тему зовут Профессором, как всегда, разворачивает над тарелкой утреннюю газету и назидательным тоном комментирует прочитанное. Восемьдесят тысяч лет назад в реке Верра жили гиппопотамы. Кто бы мог подумать! А в Швейцарии открыли сонное вещество — как раз то, что нам надо, учитывая наши дела с выполнением плана. Комментируя нефтяной кризис, Виттих говорит: «Хорошо бы, если бы вообще не стало нефти. Тогда бы они не смогли начать войну. Никто не смог бы!» Его не слушают. Все заняты тем, что дают полезные советы сотруднику по фамилии Фарендхольц, сын которого попался в универсаме на краже жевательной резинки. Сначала ругают современные универсамы, которые делают из детей воров, потом — жевательную резинку и все такое прочее, из-за чего дети сходят с ума. Мальчишку Фарендхольца не ругают.
Некоторое время Неблинг слушает молча, потом толкает в бок Виттиха:
— Эй, Профессор, что ты знаешь о Тайхане?
— Тайхань? — Вилка с котлетой, которую держит Виттих, застывает в воздухе. — Один момент! Остров называется Тайвань.
— А о Конфуции?
— Старикан-китаец. Но он сидел не на Тайване, а на горе, как Моисей.
— Может быть, он играл в го?
— О-го-го, парень! Ну и вопросики! Го? Никогда не слышал. Но думаю, что старик играл бы и на органе, если бы он у него был. Дай мне спокойно доесть котлету.
Неблинг уходит обиженный. Перед концом работы он звонит жене:
— Я немного задержусь: зайду по делам в Палату техники. Ненадолго-
Затем он идет в старое здание заводоуправления, где сейчас располагается заводская библиотека.
Библиотекарша удивлена:
— Восточная поэзия? Это что-то новое, коллега Неблинг. — Держась необычайно прямо, старая женщина подходит к каталожным ящикам. — Мне даже не требуется заглядывать в каталог. Посмотрите-ка сюда: старый регистрационный номер Б45/121. — С каталожной карточкой в руках она возвращается к столу выдачи. — К сожалению, читатели таких вещей почти не спрашивают. Мы это отложили подальше, потому что у нас не хватает места. Техническая литература постепенно вытесняет другие книги. Мы ведь теперь все такие современные. — Было заметно, что это ей не по душе. — Вам срочно? — спрашивает она. — Тогда придется сходить в запасник.
Неблинг ждет. Библиотекарша возвращается, радуясь тому, что разыскала книгу:
— Как хорошо, что мы ее никуда не передали. Ведь это сокровище! — Она перелистывает страницы толстого сборника. — Посмотрите на эти прекрасные старинные рисунки тушью. Советую вам почаще обращаться к таким вещам. Может, вам сразу продлить срок пользования книгой?
Неблинг просит ее пока что ничего не записывать: ему нужно найти одно место в тексте.
Она протягивает ему книгу явно разочарованная. Он садится в уголок читального зала. В некоторых местах он зачитывается, находя достойными внимания эротические сцены с их безудержным стремлением продлить любовное наслаждение — не столько поэзия, сколько руководство по искусству любви. Рисунки тушью, сопровождающие любовные сцены, он вынужден переворачивать вверх ногами, чтобы разобраться в анатомии переплетенных тел. О настольной игре в книге не говорится ни слова. В одном месте речь идет о цветах и о том, что это значит, если их пожирает лошадь самурая. Оказывается, цветы — это околдованные женщины. Неизвестный поэт из эпохи забытой династии Хань сравнивает рис по калорийности с мудростью, которая питает силу, и заключает: «Горе тому, кто пройдет мимо и оставит лежать на дороге хотя бы одно зерно!» Но автора но имени Тайхань в антологии нет. Вкрапленные же то там, то тут притчи Конфуция еще больше все запутывают.
4
Йохен Неблинг задает себе вопрос: сколько же стоит протезная мазь, если в придачу к ней дают еще двадцать западных марок? Поезд городской железной дороги пересекает невидимую границу. Однако есть только одна луна, которая холодно взирает с высоты на хорошее и плохое, справедливое и несправедливое. И тог, кто в этом сумасшедшем городе хочет совершить прыжок, не должен забывать, что может упасть, особенно если он под завязку накачался виски.
Двадцать западных марок — в то время это были немалые деньги, во всяком случае, для такого, как я, и я мог бы найти им отличное применение. Как, впрочем, и любой другой. Когда мне наконец-то удалось вырваться из объятий горько рыдавшей тетушки Каролины и я, протрезвевший и озябший, очутился в последней электричке, следовавшей по кольцевой дороге, то уже не мог думать ни о чем, кроме как об этих проклятых деньгах. Время от времени я ощупывал нагрудный карман и ощущал твердую, в несколько раз свернутую купюру. Поезд с воем летел сквозь ночь. Вглядываясь через оконное стекло в темноту, где в глубоком сне лежали крохотные домики садоводов и огородников, я видел свое призрачное и безглазое отражение. Кто это смотрел на меня оттуда?
Я сидел один в отсеке вагона. Открыл окно и подставил голову под струю встречного ветра. Был момент, когда мне захотелось выкинуть денежную купюру, чтобы она, порхая по ветру, унеслась в ночь. Но разве таким путем удалось бы избавиться от нее? Из-за трусости и глупости, которые часто идут рука об руку, я вляпался в эту историю. Двадцать марок или тридцать сребреников — какая разница? Неужто меня так дешево можно купить и заставить пойти на грязное предательство? И разве что-либо изменится, если я тайно избавлюсь от этой двадцатки? Все равно мне не удастся смыть с себя клеймо предательства. От некоторых вещей можно уйти потихонечку, бочком, от себя же самого не уйдешь. Неужели за предательством последует трусость, точно так же, как поначалу она предшествовала ему? Я был выбит из колеи непривычной для меня пьянкой, и в моей гудящей голове тяжело, словно мельничные жернова, ворочались мысли. Что такое предательство, как не недостаток мужества и решимости несмотря ни на что остаться верным самому себе и людям, с которыми ты связал себя добровольными узами? «Мужество — это и есть жизнь», — сказал однажды мой отец. И действительно, разве не теряет власть над самим собой человек, у которого угасло мужество и нет уже сил идти своим путем?
Иногда этот путь очень извилист. Я был провинциальным парнем, которому предстояло сориентироваться в полной абсурда и хитросплетений жизни, где сталкивались великие державы, где одна часть города уже считалась столицей нового государства — Германской Демократической Республики, а другая все еще рядилась в мантию столицы старого рейха, где за двадцать пфеннигов можно было проехать из одного мира в другой и где кое-кто подвергался опасности быть раздавленным жизнью этого разорванного на части города. Но я бы рассмеялся в глаза тому, кто сказал бы, что именно мне грозит эта опасность.
Я был слишком глубоко погружен в элементарную повседневность. Небольшая задолженность по учебе, предстоящая производственная практика, жена и ребенок, борьба за квартиру в жилищно-строительном кооперативе, шумная компания друзей по гандбольному клубу, изготовление различных самоделок, чтобы немного поправить бюджет семьи, — столько всего, что для путешествий из одного мира в другой практически не оставалось времени. Туда-сюда мотались тогда в основном бездельники. Два или три раза я сбегал с кем-то из приятелей в захудалые киношки на Потсдамерплац или Брунненшграссе[14] и после этого мог поддержать разговор о том, живы еще или уже мертвы классические вестерны. Не без зависти и не без вожделения останавливался я в первое время перед кричавшими об изобилии витринами магазинов. А каких только сказочных электронных новинок не предлагал радиомагазин у старого Дворца спорта! Именно сказочных. Но поскольку для тех, кто не был готов заложить ради их покупки последние штаны, все эти вещи были практически недоступны, они вскоре превратились для меня в атрибуты из мира волшебных сказок. У меня просто-напросто пропал к ним интерес. Сегодня, когда нас порой даже раздражает «потребительский разгул в условиях социализма», или как там еще называют это новые левые, можно острить по поводу того, что то была мораль бедных. Согласен, но не надо забывать, что это была и мораль сильных духом.
Когда мне на моем бывшем предприятии, пославшем меня на учебу в вуз, перед началом производственной практики предложили подписать обязательство не посещать западные сектора Берлина, я сделал это без особого душевного трепета. Мне не хотелось обижать седовласых мужей, которые видели во всем этом нечто вроде некоего действа на арене классовой борьбы. А что, собственно, я терял? Я настолько был уверен в себе, что не сомневался в том, что выйду чистым из любой преисподней. Тайные экспедиции к тетушке Каролине за мазью для отца, которую я получал в обмен на лицемерные проявления родственных чувств, я рассматривал как безобидный грех. И что же? Вот в моем кармане лежит, так сказать, плата за этот грех. Я никогда не придавал особого значения тому, что думают обо мне другие, но мое собственное мнение о себе, как оказалось, ранило меня больше, чем самого чувствительного принца. И это побудило меня в ту ночь на не существующей ныне железной дороге (теперь на этом месте проходит пограничная стена), где-то между станциями Кёльнише Хайде и Трептовер Парк выкрикнуть в открытое окно: «Раздолбай!»—и, поскольку это прозвучало просто здорово, повторить еще раз: «Раздолбай!»
Поезд приближался к границе. Я забился в угол у окна, подпер голову рукой и притворился спящим. Заработали тормоза. Завибрировали оконные стекла, массируя мой прислоненный к ним череп, стойко переносивший эту вибрацию. На ветру раскачивался фонарь. Его призрачный свет скользил по безлюдному перрону, словно свет маяка на отрезанном от жизни острове. Громогласно прокричал динамик:
— «Трептовер Парк! Трептовер Парк — первая станция демократического сектора. Просьба приготовить документы для проверки!»
От головы поезда двигался парный патруль. Таможенник остановился у моего окна и сделал знак пограничнику, но тот только отмахнулся, и они пошли дальше размеренным шагом, отсчитывая секунды этой глухой ночи. Я наблюдал за ними, скосив глаза. Под вокзальными часами они остановились и еще раз повернулись в мою сторону. Было ровно два часа четыре минуты.
— «Поезд следует в направлении Осткройц — Гезундбруннен. Закрыть двери, прекратить посадку!» — проревел динамик.
С шумом захлопнулись двери. Когда под моим сиденьем взвыл электромотор и поезд тронулся, я вскочил. Не соображая, что делаю, я с силой раздвинул плечом двери и неожиданно ощутил пустоту под ногами. И лишь в полете — наполовину прыжке, наполовину падений из набиравшего скорость поезда — я наконец понял, что попадаю в водоворот, который, начав вращение, крутится все быстрее и быстрее и тянет меня в свой центр. За что можно было уцепиться? Мои руки хватали пустоту.
Таможенник наклонился ко мне:
— Так и знал: пьян в стельку.
Я тщетно пытался подняться:
— Мне надо поговорить с офицером.
Пограничник рассмеялся:
— Может, лучше сразу с генералом? — Он подхватил меня под мышки.
Таможенник и пограничник держали меня с двух сторон.
5
Служебное.
Доставить курьером 30.1.
Копию — районному прокурору.
Приложение к предварительному донесению о ходе расследования, раздел «Доказательства», лист 17.
Содержание: относительно обнаружения трупа в лесничестве Грамцов.
К пункту 1. Повторный допрос свидетеля Крона Вильгельма подтверждает данные, изложенные в предварительном донесении. На допросе свидетель Крон Вильгельм, по поручению сельскохозяйственного кооператива «Рассвет» на общественных началах наблюдающий за кострами из древесных отходов, показал, что огонь, возможно причинивший ожоги, обнаруженные на трупе, был замечен им случайно, когда перед сном он решил выйти из дома, чтобы взглянуть на крольчиху, которая вот-вот должна была принести потомство.
К пункту 2. Точное время, когда свидетель Крон Вильгельм сделал свои наблюдения, устанавливается по времени окончания одной из телепередач, к концу которой дремавший до того свидетель проснулся.
К пункту 3. Допрошенный в качестве свидетеля Аль Эгон, председатель сельскохозяйственного кооператива «Рассвет», подтвердил, что свидетелю Крону Вильгельму действительно поручен на общественных началах надзор за сожжением древесных отходов после валки и раскорчевки леса. Далее допрошенный Аль Эгон подтвердил, что свидетель Крон Вильгельм известен как кроликовод и руководитель секции по выращиванию кроликов породы «голубой великан».
К пункту 4. Промедление на начальном этапе следствия, подвергнутое критике районным прокурором, объясняется отнюдь не поведением свидетеля Крона Вильгельма, который сразу же после сделанных им наблюдений предоставил себя в качестве свидетеля а распоряжение местного участкового уполномоченного, а исключительно необычными погодными условиями, в результате которых подъезд к месту обнаружения трупа стал невозможен (см. сообщения метеорологической службы и раздел «Доказательства», лист 12). Соответствующее сообщение было получено оперативной группой уголовной полиции в то время, когда она уже находилась в пути на непроезжей к тому времени дороге, за хутором Цирцов.
Подпись неразборчива.
Инженер Неблинг уже выходит на улицу, когда вахтер кричит ему вслед:
— Телефон! Стойте! Коллега Неблинг, вас к телефону!
Его первая мысль: «Это Рената — держись!»
— Слушаю, — с опаской говори! он в трубку.
— Наконец-то я тебя отловил, бродяга! Почему ты еще не дома? — гремит в трубке густой бас.
Йохен сразу же узнает этот голос:
— Ты звонил Ренате?
— Разумеется. Посланный тобой ночью сигнал бедствия дошел до меня по нашей старой схеме. Так что все в порядке. Вот только раньше позвонить тебе я не смог.
— Значит, все функционирует. Рад снова тебя слышать, Вернер.
— Все работает, как в прежние времена, парень. А почему, собственно, должно быть иначе? — Его смех раздается как из тысячелитровой бочки. — Так в чем дело?
— Ты говорил с Ренатой?
— Она сказала, что ты в Палате техники.
— Не знаю, право…
— Что?
— Насчет Палаты техники… не совсем соответствует истине.
— Это твое дело.
Они молчат. Йохен Неблинг озирается. Вахтер стоит на улице под навесом и занимается тем, что наблюдает за стихающим к вечеру движением транспорта. Кроме него, вблизи никого нет. Йохен Неблинг вновь поворачивается к телефону и тихо произносит:
— А может быть, и твое… Тетя Каролина дала о себе знать.
— Правда? Она передает привет? Я не ослышался?
Неблинг наслаждается произведенным им ошеломляющим эффектом. Взаимные розыгрыши и подтрунивания всегда были у них в ходу — даже тогда, когда дела шли плохо.
— Но я согласен, — продолжает Неблинг, — пусть это будет моим делом.
— Кэролайн? На самом деле Кэролайн? — Бас в трубке приобретает более мажорную окраску.
— Разве я говорю по-японски?
— При чем тут японский?
— Ну тогда, наверное, на суахили…
— Ты можешь говорить серьезно?
— Я всегда говорю серьезно.
— Ведь старушка Каролина вместе со всем своим борделем переселилась, помнится, на Майорку.
— Не смей так неуважительно говорить о моей тетке.
— Хорошо, слово «бордель» я беру назад.
— Это уже твое дело.
— Ну, доложу я тебе, умеешь ты поиграть на нервах.
— Теперь я вижу, что ты заинтересовался. Так слушай: не непосредственно от Каролины, а из-за угла. Я скажу тебе только одно слово: «го».
Молчание.
— Не могли бы мы встретиться?
— Не забывай, в отличие от тебя я не пенсионер.
— Еще одно слово, и я выдам тебя жене с твоей Палатой техники.
Оба смеются. Оба думают друг о друге не без некоторого умиления: «Состарился, но остался ребенком».
— Ай, Йохен, — гудит в трубку Вернер, — как давно все это было! Нам нужно почаще видеться, а не только когда есть дело.
— Да, конечно, — соглашается Йохен.
— Итак, где и когда?
— Это всегда определял ты.
— Может, у тебя дома?
— Но это всегда было против правил.
— Было… да сплыло… Теперь мы старые, беззубые волки. Я с удовольствием повидался бы с Ренатой.
— Право, не знаю, — колеблется Неблинг. — Она всегда так реагирует на Кэролайн. Как бы это сказать… Она трепещет последними нервами, которые у нее еще остались после всего того… — В Йохене вновь оживает пережитое: страх, боязнь выдать себя неосторожным словом, взглядом, а порой ощущение, чю ты стянут незримыми путами, от которых уже не освободиться ни тебе, ни твоим близким.— Хорошо, — говорит он, — у меня так у меня. Я буду через полчаса. В конце концов, должны же и мы с тобой сыграть партию.
Он кладет трубку, хочет снова набрать номер, но в этот момент телефон начинает звонить. Вахтер довольно грубо отделывается от просителя и потом ругается по поводу того, что лезут тут всякие со своими делами, которые его абсолютно не касаются.
— К вам это не относится, — милостиво говорит он Неблингу. — С вами все ясно.
«Ах, если бы тебе действительно было все ясно», — думает Неблинг. Он звонит жене:
— У нас будет гость. Ничего особенного не нужно. Так что не хлопочи.
— Ой… — только и успевает сказать она.
А он продолжает:
— Посмотри заодно, где лежит доска для игры в го и коробочка с фишками, та, что из-под сигар. Да ты сама знаешь,
— Знаю, — говорит она.
6
«…Никому ни слова, пусть это будет хоть сам папа римский». Но способен ли такой человек, как Йохен Неблинг, жить постоянно притворяясь и чувствуя, что ему не доверяют? Он приходит к выводу, что и умению молчать тоже нужно учиться.
С последней электричкой я выехал со станции Шёнеберг, с первой электричкой прибыл на станцию Франкфуртераллее. Я глубоко вдыхал утренний воздух. Он был прохладен и свеж. Незнакомый мне аромат цветов из садов позади домиков, расположенных вдоль железной дороги, смешивался со слабым запахом пригоревших угольных щеток, который оставил после себя уходящий поезд. Его хвостовые сигнальные фонари исчезали вдали, а над ними уже занималась утренняя заря цвета фламинго.
Два часа между последней и первой электричкой вернули мне кусочек свободы. Я ощущал в себе прилив сил, ту раскрепощенность всех чувств и нервов, которую испытываешь лишь в молодости после утомительной бессонной ночи. Сойти нормально с перрона я в тот момент не мог — так хотелось сократить путь. Я добежал до конца платформы, спрыгнул на щебенку железнодорожной насыпи, а затем спустился вниз по откосу. Между полотном дороги и полуразвалившимися заборчиками тянулась тропинка. Светло-зеленая трава пробивалась под засохшими кустами. На сортировочной станции, по ту сторону насыпи, удовлетворенно посвистывал маневровый локомотив. Неожиданно крыши старых доходных домов осветились лучами солнца. Женщина с обнаженной грудью развешивала на подоконнике одеяла. Около площадки, где лежал уголь, я выбил из ограды планку, перемахнул через завал всевозможного старья, полуразвалившуюся телегу и штабель леса и очутился в запущенном садике позади домика, стоявшего между железной дорогой и моим домом. Громадными скачками взлетел я вверх по узкой лестнице. Когда я добрался до верхней площадки, под самую крышу, и остановился перед дверями нашей квартиры, мне вдруг стало ясно, что, вернув один кусочек свободы, я утерял другой. В нерешительности вертел я в руках ключ от квартиры.
Итак, что сказал на прощание допрашивавший меня человек, к которому меня доставил патруль пограничной станции? «Такие вещи я один не решаю. Подождите немного. Мы дадим вам знать о себе. А пока никому ни слова, пусть это будет хоть сам папа римский. Обещаете? Тогда подпишите протокол. Вот здесь…»
Конечно, я пообещал хранить молчание, чувствуя облегчение не только от того, что не придется кому бы то ни было признаваться в том постыдном проступке, каким была для меня незаконная поездка в Шёнеберг, но и от того, что мне прямо-таки категорически запретили упоминать хотя бы единым словом о том, чем она закончилась. Папы римского я не боялся. Но что сказать Ренате? Ее любовь ко мне всегда была беззаветна и очень ранима, особенно беззаветна и ранима после того, как появился на свет наш первенец. Я попытался представить себе, как она ждала меня, непрерывно размышляя о том, что со мной могло случиться, и будучи не в состоянии уснуть от страха за меня. А я не имел права рассказать ей правду. Что мне было делать? Я не из тех, кто словно создан для лжи. Эту способность мне впоследствии пришлось вырабатывать у себя, как говорится, через «не могу». В молодости же я, помнится, никак не мог уяснить, что имеется в виду, когда в старинных пословицах или книгах говорится о том, что девушка потеряла невинность. Между прочим, и сегодня я считаю все это чепухой. Но тогда, стоя в смущении и робости на лестничной площадке и боясь наступить на скрипучую половицу, я вдруг отчетливо представил себе, как может потерять невинность молодой мужчина, да к тому же ставший отцом.
Я отпер дверь. Прихожей, не говоря о холле, у нас не было. Входящий в квартиру сразу попадал в просторную кухню, из которой мы сделали жилую комнату и маленькую комнатку для меня. За ней находилась маленькая комната, где мы все втроем спали. Квартира считалась малоблагоустроенной. Охотников снимать ее не было. При дожде с потолка капало, и мне все время приходилось заделывать дыры в крыше. А когда зимой сквозь щели в окнах дули резкие восточные ветры, мы вынуждены были надевать толстые свитера и носки. Но мы были счастливы, когда после года супружества нашли собственное пристанище и покинули общежитие. Мы оставили на прежнем месте поговорку, аккуратно вышитую предыдущей (покойной) квартиросъемщицей на полотне, покрывавшем вешалку для полотенец: «Собственный очаг превыше всех благ». Оставили мы также и часть ее мебели — не потому, конечно, что она казалась нам красивей, чем новая, а потому, что досталась даром. Жизненные запросы всегда определяются имеющимися возможностями. О таких вещах, как кредиты молодоженам, тогда и не мечтали, а на мою мизерную стипендию и на те деньги, которые Ренате иногда удавалось заработать надомным трудом, мы не могли разгуляться. Но на еду нам хватало, а солнце, которое светило здесь, наверху, с рассвета до полудня, как нам казалось, окупало все расходы на квартплату.
Занавески на обоих узеньких окошках были задернуты. Я на ощупь прошел к плите, где стоял большой жестяной чайник с чаем, и стал с жадностью пить прямо из носика. Крышка с грохотом упала на газовую плиту. В тот же момент в дверях возникла Рената.
Стягивая с себя куртку и рубаху, я посмотрел на часы:
— Черт побери, уже совсем поздно.
Ничего более глупого я сказать не мог. Рената раздвинула занавески — комнату залил солнечный свет. Я знал, что цвет лица у меня не менее серый, чем стены нашей запущенной квартиры.
— Почему ты не спишь? — спросил я.
Она не ответила. Она стояла перед окном против солнца. Словно силуэт, вырезанный из черной бумаги, сквозь легкую пижаму просвечивало своими выразительными линиями ее тело, которое было знакомо мне лучше, чем мое собственное отражение в зеркале. Волна нежности захлестнула меня. Захотелось близости с ней, и именно сейчас. Большими глазами, в которых не было ни капельки сна, она смотрела на меня. Избегая ее взгляда, я отошел к крану и подставил спину и плечи под холодную струю воды.
— Не смотри на меня так, ты же ничего не знаешь. Все вышло совсем иначе. Как в сказке. Ты не поверишь, но я не был у тети Каролины.
Нужные слова были сказаны. Я удивился, как просто все получилось.
Когда я вытерся, она тихо прислонилась к моей спине. Неизъяснимая грусть охватила мою душу. Где ты, тот долгий осенний вечер под старой ольхой на берегу Гуммельсбургского озера, когда мы заключили любовный союз и скрепили его взаимным обещанием всегда оставаться честными и откровенными друг перед другом? Что теперь от него останется? Догадывались ли мы, что отныне нам придется жить притворяясь, мучаясь от недоверия и подозрений? Я лгал, и она чувствовала это. Я знал, что она это чувствует, а она понимала, что я это знаю. И тем не менее я шел напролом:
— Знаешь, как бывает, когда черт перепутает все карты? Еду я в поезде и думаю: «У тетушки засиживаться не буду, заберу мазь и — будь здорова, Каролина». И вдруг на остановке Весткройц садятся несколько моих приятелей. Из университета… Представляешь?
Она взяла полотенце и стала вытирать мне мокрые волосы на затылке. Пусть бы она хоть что-нибудь сказала. Самые грубые ругательства были бы мне милее этого коварного молчания.
— Не смотри на меня так. — Я чувствовал ее взгляд спиной. — Ты смотришь точно так же, как они, когда мы встретились у радиобашни. Ну, они, конечно, спрашивают: куда, мол, и зачем? Что я мог им ответить? Еду, мол, к тетке? Они бы подумали, что я принимаю их за идиотов. Пришлось показать билет на гандбол. И представь себе: у них тоже оказались билеты и они тоже ехали на гандбол. Так что все вышло не так уж плохо. По крайней мере, все мы оказались как бы в одной упряжке. Понимаешь?
А впрочем, что ей надо было понимать? Гандбольные игры не продолжаются до трех часов ночи. В моей дилетантской лжи только одно было правдой — то, что когда вечером я отправлялся в путь, в моем кармане действительно лежал билет во Дворец спорта в Шёнеберге. Тогда как раз началась первая серия отборочных игр, по результатам которых составлялась общегерманская сборная команда для Олимпийских игр в Риме. Когда Рената накануне пыталась отговорить меня от визита к тете Каролине и с тревогой пересказывала слухи об усилившемся контроле на секторальной границе, что при моем статусе могло обернуться для меня большой неприятностью, я показал ей билет на гандбол и успокоил, что в случае чего он послужит мне прикрытием: я смогу сойти за безобидного болельщика, патриота своей команды. Строго говоря, это было страшно глупо, но она приняла все за чистую монету. А сейчас меня пугало то печальное спокойствие, с которым она, казалось, все воспринимала. Порывистым движением я привлек ее к себе, ощутил тепло ее тела и почувствовал страстное желание. Она отвернулась.
Однако, чем упорнее молчала она, тем разговорчивее становился я. То и дело сбиваясь, кружа вокруг да около, я вел какой-то странный диалог с самим собой, будто не жене, а себе самому разъясняя, что же в действительности в соответствии с моей версией произошло этой ночью и что отныне и навсегда будет считаться правдой.
Я выдумал товарища по учебе, которому досталось наследство сказочных размеров в западных марках, расписал наш поход по кабакам, дикую и в то же время целомудренную пьянку, прикидывался беззаботным и одновременно огорченным, старался, чтобы она поверила моей брехне, но тайно желал, чтобы она все разгадала. Я не отпускал ее, и казалось, что отныне мне постоянно придется удерживать ее.
— Пойдем поспим еще немного, — шепнул я ей в копну волос.
Но чем сильнее я ее удерживал, тем, казалось, настойчивее она ускользала от меня.
— Иди спи, — сказала она. — Мне надо приготовить завтрак малышу. — Это были первые слова, произнесенные ею в то утро.
Я притворно зевнул и как можно равнодушнее произнес:
— Хорошо, пойду завалюсь. Сегодня будет трудный день.
Малыш услышал, как я вошел, и что-то забормотал в полусне. Я наклонился над его кроваткой с решеточками, от которой исходил такой неповторимый запах — новый человек заявлял о своем праве на место в этом мире. Как-то все сложится? Я лег, и глаза у меня закрылись сами собой. Едва приняв горизонтальное положение, я почувствовал, что нервы мои расслабились, что, несмотря на все пережитые волнения, я способен уснуть сразу же. Выходит, я был бесчувственным чурбаном? Я еще и представить себе не мог, как пригодится мне впоследствии умение быстро снимать напряжение и переходить от бодрствования к глубокому сну. Я положил себе на голову подушку Ренаты. Она шумно орудовала на кухне. Я слышал, как она ставила в шкафчик мои ботинки, как убирала мое барахло. И вдруг меня словно кипятком ошпарило — я вспомнил, что мазь для отца, которую дала тетя Каролина, лежит в кармане куртки, а у билета на гандбол, который я сунул туда же, не оторван контроль. Но теперь, пожалуй, это было уже не важно.
7
Протокольная запись от 30.1
(сделана по памяти)
Во время состоявшегося сегодня совещания с участниками расследования по делу об обнаружении трупа в лесничестве Грамцов мне был задан вопрос о целесообразности привлечения общественности к установлению личности погибшего и розыску преступников. В ответ на это я разъяснил, что следы, оставленные автомашиной при неблагоприятных погодных условиях, не дают возможности прийти к однозначному выводу: они принадлежат иностранной автомашине — и опубликовать соответствующее сообщение. Отпечатки, оставленные колесами автомашины во время стоянки, позволяют заключить лишь, что речь идет о большом и тяжелом легковом автомобиле. Таким образом, учитывая близость транзитной автострады[15] нельзя исключить, что для совершения преступления была использована иностранная автомашина. Однако с точки зрения трассологических данных эта версия не является достаточно надежной, поскольку тяжелые легковые автомобили (в основном старых марок) имеются и у наших автолюбителей, причем на таких автомашинах нередко перемонтируются колеса (включая установку современных ободов) и используются соответствующие покрышки.
Эксперт-трассолог капитан
уголовной полиции К.
Вернер немного погрузнел, а его седые волосы пожелтели, как будто он опять собирался стать блондином. Но его аппетит свидетельствует о том, что он полностью сохранил здоровье и силу. Он выскребает с тарелки последние кусочки салата с селедкой, все до последней крошки, ест вдумчиво, не торопясь, ни на что не отвлекаясь и не замечая, что хозяева с улыбкой наблюдают за ним.
— Почему бы тебе не приходить к нам почаще пожрать на даровщинку? — спрашивает Йохен Неблинг. — Как пенсионер ты вполне мог бы себе это позволить.
— Как ты можешь, Йохен! — восклицает его жена.
Вернер не спеша вытаскивает и раскладывает свои курительные принадлежности, выбирает трубку побольше и начинает обстоятельно прочищать ее.
— Все еще изображаешь из себя комиссара Мегрэ? — продолжает задирать его Йохен. — Ну что же, тот тоже успел за это время стать пенсионером.
— А ты сам? Ты еще не дедушка? — смеется Вернер, и смех его напоминает кашель разъяренного медведя гризли.
— Конечно же дедушка — его наверняка успели осчастливить, — смеется Рената вместе со всеми. — Только он никак не хочет признать этого.
Вернер набивает трубку. Причем у хозяев складывается впечатление, что на это у него уходит четверть фунта табаку. А табачок у него все тот же — «Виргиния» с добавкой мяты. Чтобы поддерживать его свежим, Вернер кладет в табак размоченную черносливину.
— Рената, — говорит Йохен, — сними занавески, чтобы не прокоптились.
— Запомни, новоиспеченный старикашка, — произносит Вернер, — только тот, кто не думает о своем возрасте, остается молодым.
— Прекратите же, наконец! Как двое маленьких детей! — перебивает их Рената, убирая со стола посуду.
Вернер откидывается на спинку кресла и окутывает себя дымом:
— Что значит «пенсионер» применительно ко мне? В архиве знаешь как приходится вертеться? О-го-го!
— Предания старины, — вновь язвит Йохен. — Зачем их ворошить? Может, только затем, чтобы тебе было чем заняться?
Вернер выпускает кольца дыма к лучам света, падающим от торшера:
— На этих преданиях учатся молодые чекисты, мой милый. В том числе и на твоей истории. — В его низком голосе вдруг звучат резкие нотки — с их помощью он всегда давал понять, что все имеет границы.
— Будь по-твоему, — соглашается Йохен. — Раз уж они выпали на нашу долю, эти предания старины…
Рената молча кладет на стол доску для игры в го и коробочку из-под сигар, в которой лежат фишки, и собирается уйти.
— Минутку! — задерживает ее Вернер. — Йохен, покажи-ка это одиозное письмо!
Йохен достает письмо. Вернер спрашивает, обращаясь не к нему, а к Ренате:
— Итак, что ты думаешь обо всем этом?
Та в нерешительности смотрит на мужа:
— Да я его, собственно, и не читала.
Она садится, медленно разворачивает письмо, поднося его к торшеру. Вернер обнаруживает, что в ее светлых волосах все еще нет ни одной белой нити. И читает она без очков. Ее лицо, всегда такое оживленное, сейчас неподвижно.
— Действительно, все кажется вполне безобидным, — говорит она. — Может, Йохен и прав.
Вернер качает головой:
— Он не считает его таким уж безобидным. Зачем бы иначе он позвал меня?
— А может, это было средство заманить тебя, чтобы поиграть с тобой в го, — говорит Йохен Неблинг. — Прочти-ка сначала сам.
Вернер читает письмо. На лице его при этом ничего не отражается. Он явно не торопится, а Йохен не выдерживает:
— Довольно странно, не правда ли? Что бы это все могло означать?
Вернер ухмыляется:
— Для начала нужно бы почитать о том, как красный дракон борется с ветром.
Рената задумывается:
— Может, навести справки в государственной библиотеке — выяснить, действительно ли эта Виола обращалась туда или это только выдумки?
— Конечно же нет, девочка моя! Подождем немного. — Вернер пододвигает к себе доску для игры в го. Кажется, письмо его больше не интересует. Он снимает крышку с коробки, берет пару фишек и в радостном предвкушении игры со стуком перебрасывает их из ладони в ладонь: — Итак, малыш, загадаем: черные или белые?
— Ты должен был сказать: «широ или киро»! — смеется Йохен. — Уже все позабыл? Тогда тебе долго придется ждать «шо-дан». Сколько «коми» мне дать тебе? Но от моего «хазами» тебе все равно не уйти.
— О-ох, — стонет Вернер. — Прекрати, ради бога. Я никогда не мог запомнить этих терминов. Давай играть в го, но только не по-японски.
— В конце концов, я выучил все это по твоему приказу, — развлекаясь, продолжал Йохен. — «Шо-дан» — значит «первый класс мастерства», «коми» — фишки, даваемые в фору, а «хазами» — мой знаменитый захват в клещи. Что бы ты хотел еще узнать?
— Бери же наконец свои фишки! — Вернер чувствует, что его окончательно доконали. — У тебя память как у древнего японского божка. Помнишь все, что я когда-то тебе вдалбливал. Я же забыл все начисто.
— Я ведь тогда тренировался. Янки был просто помешан на этой игре. — Йохен ставит на доску первую фишку. — Хотел бы я знать, что с ним стало.
Вернер механически зажигает потухшую трубку:
— Доктор… доктор Дэвид Баум… Этого мы, пожалуй, никогда не узнаем. События шестьдесят первого[16] были для них подобны взрыву. И все они сразу словно растворились, в том числе и доктор Баум.
— Не забывай, что как раз с ним мы еще некоторое время поддерживали контакт.
— Через старого Вацека… Да, припоминаю: букинистический магазин Вацека, эстакада городской железной дороги у площади Савиньи. Был ли Баум просто одним из покупателей или же он был членом обменного читательского фонда, организованного Вацеком? Черт побери, как давно все это было! Стоит ли копаться в старых документах?
— Баум был членом этого фонда и платил взносы. Фонд имел статус самодеятельной организации.
— Да, мы тогда застигли их врасплох. Что оставалось им делать после краха, который они потерпели 13 августа, как только произвести генеральную уборку на корабле. Вашингтон потребовал решительных действий. И тогда они провели в резидентуре чистку: повыгоняли всех — от начальника до уборщицы. Устроили этакое проветривание по линии кадров. Подвергли экзекуции виновных. Возможно, мы возлагали на Баума слишком большие надежды, а может, ему в последний момент не хватило мужества.
— Ты ведь не знал его.
— Лично нет, это верно. Но объективное представление о нем я составил — по твоим докладам!
Рената оставляет их одних. На столе лежит странное письмо, из-за которого они и встретились. Йохен протягивает его Вернеру:
— На, возьми.
— Зачем?
— Вернер, не обманывай ни меня, ни себя! Ты ведь и сам надеешься, что за этим письмом скрывается нечто большее, чем сентиментальное желание встретиться с родственником. Это твое дело — подумать и решить, что делать дальше. Сидеть просто так, сложа руки, невыносимо. Существуют старые мосты, и иногда не грех попробовать, можно ли еще по ним ходить.
— Знаешь, старика Вацека уже нет в живых. А мы смогли лишь послать букет цветов на его могилу.
Йохен задумчиво смотрит на игральную доску и пересыпает фишки из одной ладони в другую. Наконец и Вернер ставит первую фишку. Постепенно, потихоньку старинная игра захватывает их. Маленькие, напоминающие по форме чечевицу фишки выстраиваются на доске в цепочки, образуют, подчиняясь законам борьбы, своеобразные геометрически упорядоченные орнаменты. Вернер хоть и забыл японские термины, но искусно разыгрывает дебют и, как в былые времена, энергично ведет борьбу во всех четырех углах доски. Йохен пытается провести «озару тоби» (большой обезьяний прыжок), но Вернеру, который хоть и не знает, как называется этот маневр, удается «такефу» (бамбуковое сплетение, предоставляющее «свободы» и территорию).
В разгар ожесточенной борьбы Йохен говорит, не отрывая взгляда от доски:
— Разумеется, я попытался раздобыть книгу о борьбе дракона.
Вернер не отвечает. Он пробует осуществить «ухикоми» — пожертвовав двумя фишками, вторгнуться на территорию противника. Однако «иосе» (конец игры) не выявляет явного преимущества ни одной из сторон.
— Йи го? — спрашивает Йохен. — Мне лень считать.
Вернер пародийно низко кланяется:
— Согласен на ничью.
В задумчивой сосредоточенности убирают они фишки с доски.
— Ну и что тебе удалось раскопать об этом Тайхане?— спрашивает Вернер.
— Ничего! Но государственную библиотеку я пока что оставил в покое. Не хотел вспугнуть дичь.
— Мы потихонечку расспросим. Хотя я продолжаю сомневаться, есть ли во всем этом смысл.
Йохен разливает по рюмкам коньяк. Свою рюмку он выпивает одним глотком.
— Однако подумай! Баум был страстным игроком в го, можно сказать, маньяком. Вспомни книгу, которую он мне дал для кодирования.
Вернер ворчит:
— Помню, очень хорошо помню. Довольно-таки свинская книжонка.
— Рассказ о нравах эпохи династии Мин. Кодовое слово находилось в главе, где рассказывалось, как мудрый бонза сидит в ванной со своими наложницами и между делом играет в го с педерастом генералом. И вот к нам приходит письмо, в котором речь идет о настольных играх Восточной Азии. Письмо из Западной Германии. Отправитель — дочь тети Каролины, той самой Кэролайн, через которую Баум вышел на меня. Извини, но столько дурацких случайностей за раз не бывает.
Вернер улыбается:
— Случайности всегда бывают дурацкие. И только если они повторяются часто, то дают эффект.
— Согласен, но, даже играя в спортлото, ты рискуешь ставкой. Как обстояло дело с нашим последним сигналом Бауму? Вспомни-ка, через обменный фонд Вацека мы подкинули ему сборник гравюр на тему о благотворном влиянии игры го на мир в доме. Мы рассчитывали на случайность. Кто-то теперь в свою очередь рассчитывает на нее.
В возбуждении Йохен тянет к себе рюмку Вернера, который смотрит на него с удивлением.
— Однако это еще не причина злоупотреблять алкоголем, — говорит он, отбирая рюмку у Йохена и выпивая ее одним махом.
Оба хохочут. Неторопливо и обстоятельно Вернер собирает со стола свои курительные принадлежности и рассовывает их по оттопыренным карманам пиджака:
— Что нам остается кроме того, как выжидать? Серьезно, Йохен. И никаких импульсивных, необдуманных действий. Твоя Рената — женщина мыслящая и рассуждает верно: необходимо выждать и посмотреть, что произойдет в государственной библиотеке.
Некоторое время они сидят не издавая ни звука, словно играют в молчанку. Это у них всегда хорошо получалось, и оба они находили это великолепным. У мужчин, которые понимают друг друга, истинное искусство вести беседу иногда состоит в том, чтобы посидеть молча, сосредоточившись на янтарной окраске коньяка, поблескивающего перед тобой в рюмке, и больше ни на чем.
8
Вернер копается в старых протоколах, где речь идет о молодом человеке, который вначале казался во всем обычным, посредственным. Но этот молодой человек искал правду, не боялся идти навстречу опасности и понимал, почему иной раз полезно войти именно в те двери, куда вход запрещен.
Папка с делом была тонюсенькая и, казалось, многого дать не могла. Но я почему-то предчувствовал, что встреча с молодым человеком по фамилии Неблинг, добровольно заявившим на пограничной станции Трептовер Парк о своем желании сделать признание, не закончится привычным, шаблонным допросом. Я почувствовал шанс, не догадываясь пока что о возможностях его реализации.
Я просмотрел материалы анализа современной обстановки. В них содержались верные признаки того, что противник ищет новые направления для своих атак. Если так можно выразиться, от стрельбы наугад по неразведанной местности он переходил к массированным огневым ударам по местам вероятного прорыва. Прежде всего об этом говорили более утонченные и избирательные методы вербовки. До сих пор его агенты хватали все, что попадало в их широко растопыренные пальцы. Целый легион наводчиков, зазывал и ловцов без разбору набрасывались на так называемых граждан Восточной Германии, из числа тех, которые никак не могли найти точку опоры в стремительном потоке событий пятидесятых годов и во время своих рейдов в Западный Берлин цеплялись за любую соломинку.
С этими людьми, каждый третий из которых был либо алкоголик, растерявший во время войны все свои корни и превратившийся в перекати-поле, либо опустившийся тунеядец, либо уголовный элемент и уже по этой причине находился у нас под надзором, нам, контрразведчикам, было не так уж трудно справиться. Наш тщеславный противник раскинул широкую сеть, но она трещала и рвалась то тут, то там. Его агенты проваливались один за другим сразу же, как только им удавалось более или менее устроиться у нас. С определенного момента у противника стало иссякать пополнение. Мы начали замечать, что он уже не стремится к количеству, а самым решительным образом — к качеству. Если до сих пор противник производил массовый отлов всякой мелочи, подонков в надежде, что среди этой мелюзги окажется и рыбка покрупнее, то теперь он, несомненно, переходил к целенаправленной охоте за крупной рыбкой. Нужно было быть начеку. Стало очевидно, что и мы в своей работе, если подтвердятся результаты первых анализов, должны будем перенастроиться на качественно новые условия.
Изменение стратегии противника объяснялось сменой руководства берлинской резидентуры ЦРУ. О новом руководителе мы вначале мало что знали. Его личность была нами еще не установлена. В скупых информациях, поступавших к нам, он именовался шефом. Шеф долгое время подвизался в Индокитае, облегчая французам возвращение на родину и одновременно захватывая позиции для американцев. К разработке и обеспечению кровавого путча в Гватемале, осуществленного «Юнайтед фрут компани», также приложил свои не совсем чистые руки некий шеф. Был ли этот видавший виды тигр из джунглей и нынешний западноберлинский резидент одним и тем же лицом? Не находились ли сегодняшние интеллектуальные и дифференцированные методы противника в противоречии с образом мышления специалиста по так называемым «тайным акциям», где успех обеспечивался только с помощью открытого насилия? Но, как бы там ни было, мы должны были перестроиться и противопоставить им продуманные, всесторонне взвешенные альтернативы.
В те времена в Западном Берлине насчитывалось около сотни логовищ шпионажа и диверсий, направленных против ГДР. Сюда относились и так называемые восточные бюро действовавших в Западном Берлине западногерманских политических партий, и землячества силезских и померанских немцев, и землячество Бранденбурга. Сюда относились и такие одиозные организации, как Группа борьбы за права человека и Объединение свободных юристов. Подручные секретных служб сидели в редакциях газет и на радиостанциях, они крутились среди спекулянтов и контрабандистов, они обосновались в Доме германского Востока и Доме радиостанции РИАС, в парламентах, существовавших на деньги налогоплательщиков, и в советах уполномоченных по управлению экспроприированными предприятиями, финансировавшимися крупными концернами. Это дополнялось бесчисленными встречами в пограничных пивных и кафе, в кинотеатрах и игорных залах, в пунктах по обмену валюты, на базарах и в борделях. Это была почти необозримая, причудливо переплетающаяся сеть. Однако даже самые тонюсенькие ее ниточки сходились в конце концов в одном месте — в резидентуре Центрального разведывательного управления США.
Точно так же, как в родном Вашингтоне, ЦРУ и в Западном Берлине загнало в угол всех своих конкурентов. Развитие иерархической структуры крупнейшей империалистической державы мира дошло до той критической стадии, когда секретная служба перестала служить политической власти и сама начала управлять политикой. Все последующие события подтвердили этот вывод. Мы приготовились к борьбе с могущественным противником, финансовые источники которого были неисчерпаемы и который использовал теперь более тонкий инструментарий, стремясь за наш счет расширить для себя оперативный простор.
Именно в этом плане следовало рассматривать лежавшее передо мной на столе дело с надписью: «Неблинг Йохен». Все обстоятельства дела указывали на то, что в данном случае речь шла о . целенаправленной вербовке. В автобиографии паренька не было ни пятнышка: пролетарское происхождение, прочное социальное положение, участие в общественной жизни, успешная учеба в вузе. Одним словом, подрастал и набирался сил специалист, имевший ценность не только для рабоче-крестьянской власти. Конечно, он пока еще не был крупной рыбкой, но при хорошей подкормке вполне мог ею стать. Знали ли они, что предприятие, которое послало его на учебу в институт после окончания производственного обучения на электрика и на которое он возвратился для прохождения производственной практики, теперь участвует в техническом оснащении Национальной народной армии?
Из скупых протокольных записей пограничников можно было вычитать, что первый осторожный контакт в пивном баре его тетки не был случайным, а осуществлялся по тщательно разработанному сценарию. Было потрачено немало времени, чтобы перехватить его и втянуть в разговор там, где он появлялся пусть не часто, но все же регулярно. О самом парне в протоколе говорилось немногое. По всей видимости, в ту ночь он находился под сильным воздействием алкоголя. Однако ответы его отличались логичностью, ясностью и прямотой и, можно сказать, носили следы поспешности, как будто он хотел сбросить с себя некий груз. Я приготовился к встрече с молодым человеком честолюбивым, импульсивным, способным на импровизацию, который знал, чего он хочет и с кем он. А фамилия! Неужто его отец…
Я посмотрел на часы — пора! — и попросил пригласить его в комнату. Выглядел он как-то неприметно, да и возраст его казался неопределенным. Ему можно было дать и двадцать, и тридцать.
— Добрый день, — произнес он с вежливой сдержанностью.
Его голос был обычной громкости и обычного тембра. Это очень подходило к его среднему росту и русым волосам. Он выглядел серьезным, но казалось, готов был улыбнуться в любую минуту. В самый подходящий момент, чтобы не показаться ни фамильярным, ни заискивающим, он сел на стул, поставленный для него перед моим столом. При этом он еще раз обернулся и убедился, что дверь закрыта и за его спиной никого нет. Меня он оглядел быстро и незаметно. При взгляде на коллекцию трубок на моем столе вокруг его рта появилась едва уловимая ироническая усмешка, но глаза остались холодными. Когда я спросил, не будет ли он возражать, если нашу беседу запишут на магнитофон, он кивнул так, будто хотел сказать, что, во-первых, не питает иллюзий в отношении того, что его ждет, а во-вторых, не хочет давать повода, чтобы я строил иллюзии в отношении того, чего следует ждать от него.
Наш разговор можно достаточно точно воспроизвести с помощью доступных мне архивных документов.
Вопрос: Я еще раз вернусь к тому вечеру. Вы помните… станция электрички Трептовер Парк.
Ответ: Кивок.
Вопрос (глядя в протокол первого допроса): Вы передали сотруднику нашего учреждения двадцать западных марок одним новым денежным знаком, три плитки шоколада с орехами «Саротти», мазь производства западноберлинской фирмы «Шеринг АГ», неиспользованный входной билет на гандбол во Дворец спорта в Шёнеберге и листок бумаги, на котором от руки записан адрес западноберлинского кафе. Так ли это?
Ответ: Так.
Вопрос: Билет и мазь вам вернули?
Ответ: Да, и одну плитку шоколада «Саротти».
Вопрос: Мазь используется для ношения протеза?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы знали, что провоз в ГДР медикаментов, продаваемых по рецептам, запрещен?
Ответ: Это для моего отца. Я не хотел бы об этом говорить.
Вопрос: Как здоровье вашего отца?
Я не был уверен в том, насколько уместно отклоняться от нашей темы. Здесь я, скорее, больше следовал движению собственной души, нежели использовал точно рассчитанный психологический прием. Мое участие ни в коей мере не было наигранным, и он, должно быть, заметил это.
Ответ: В последнее время я не получал от него вестей.
Вопрос: Он приблизительно моего возраста?
Ответ: Пожалуй, да.
Вопрос: Сейчас я задам вам несколько вопросов, на которые попрошу отвечать лаконично и точно. Отвечайте только по существу дела. Можете считать, что это допрос. Итак, начнем?
Ответ: Кивок.
Вопрос: Вы говорили с кем-нибудь о том, что сделали нам признание?
Ответ: Нет.
Вопрос: У вас не появилось желание оправдаться в связи с совершенным вами переходом границы, что для вас запрещено?
Ответ: От этого желания меня отговорили.
Вопрос: Вы член СЕПГ[17]?
Ответ: Ну уж, извините…
Вопрос: Почему?
Ответ: Нет, это уж вы позвольте спросить вас — почему?
Вопрос: Я хочу узнать, почему вы стали членом нашей партии?
Ответ: Что это значит? У вас принято требовать заверений в высокой идейности?
Вопрос: Мы договорились, что вопросы здесь задаю я. Разве вы как член партии не обязаны быть честным и откровенным по отношению к ней?
Ответ: Вы что, хотите проэкзаменовать меня по уставу партии? Откровенность… Вам-то я все рассказал. А вы разве не представляете партию?
Вопрос: Так же, как и вы. Так вот, я спрашиваю: вы говорили с секретарем вашей парторганизации?
Ответ: О чем?
Вопрос: О вашем контакте.
Ответ: Контакте?
Вопрос: С господином Вагнером…
Ответ: Нет, не говорил.
Вопрос: А с женой?
Ответ: Тоже нет.
Вопрос: Как же вы объяснили ваше позднее возвращение домой?
Ответ: Я сказал, что был на гандболе, а потом загулял с приятелями.
Вопрос: Она вам поверила?
Ответ: Нельзя ли оставить в покое мою жену?
Вопрос: Прошу вас ответить на мой вопрос. Это важно.
Ответ: Не знаю, что и сказать. Все это так сложно… Моя жена любят меня. Я в этом уверен. Поэтому обмануть ее нелегко. Кроме того, в таких делах у меня нет опыта.
Сейчас, читая протокол, я вспоминаю, что в этом месте я не смог сдержать улыбку, но так и не понял, заметил он это или нет.
Вопрос: Были вы после этого в баре вашей тетушки?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы запомнили адрес кафе, записанный на листке?
Ответ: Нет, я его даже не прочел.
Вопрос: Почему?
Ответ: Нельзя ли устроить перекур?
Вопрос: Прошу вас ответить, почему вы не прочли адрес.
Ответ: Я же все объяснил! Этот сумасшедший вечер у тетки! Все вдруг стало казаться подозрительным. Мне просто не хотелось иметь с этим ничего общего. Ничего!
Вопрос: А вы не предполагали, что, несмотря на это, пойдете в кафе?
Ответ: В это кафе?! К этому господину Вагнеру?! Я?
Вопрос: Да, вы! В это кафе! Можете представить себе такое?
Это была критическая минута нашей беседы. До этого момента все предположения, из которых я исходил, подтверждались. Мальчишка твердо сидел в седле. Он оказался именно таким, каким я его представлял. Он еще не понял, куда я клоню, но сразу заметил, что разговор изменил направление.
Ответ: Но это же не логично. Ведь я сказал, что не запомнил адреса. Как же я могу пойти туда?
Вопрос: Будем исходить из того, что вы узнали адрес. Что тогда?
В этот момент он впервые улыбнулся. Это была провоцирующая улыбка.
Ответ: Тогда этот адрес мне кто-то должен сообщить.
Вопрос: Правильно. Вот он. (В протоколе помечено, что допрашиваемому предъявляется записка.) Разбираете почерк?
Он не ответил. Глаза его сверкали. Я выключил магнитофон. Последней была записана моя реплика: «То, что вы считали допросом, закопчено».
Я был доволен, как может быть доволен человек, проделавший тяжелую работу. Каким-то образом мы настроились на одинаковую волну. У меня было ощущение, что я его давно знаю. Он также преодолел свою первоначальную раздраженность и скованность. Сейчас он разговаривал со мной с непринужденной почтительностью, что в равной степени устраивало и его, и меня.
Нам обоим было ясно, что мы можем поладить. Когда я сказал, что ему, наверное, все кажется необычным и даже несколько странным, что мне на его месте все виделось бы точно таким же, он ответил, что в данном случае мы стоим на разных точках зрения. Я заварил чай по старинному грузинскому рецепту. Он сделал вид, что тоже в этом разбирается. Было заметно, что он почувствовал некоторое облегчение. Та напряженность, которую он испытывал, постепенно исчезала, но бдительности он не терял. Он все понимал с полуслова.
В какой-то момент вне всякой связи с нашей темой он заговорил о правде, о том, что она значит для него. Я заметил, что правда не одна, что правды бывают разные.
— Нет, — возразил он, — я имею в виду правду о себе самом, а уж в данном случае она одна-единственная.
При этом он посмотрел на меня с вызовом, и я тотчас понял, что в этом пункте он не пойдет на компромиссы. Я заявил, что он счастливчик, что хотя он сидит в дерьме, но дерьмо это можно превратить в золото, если знаешь, как взяться за дело. Он рассмеялся в ответ и сказал, что ему это могло бы пригодиться. Мы говорили и говорили, все больше подогревая друг в друге активность. Нажать на тормоза должен был я. И я заметил, что никто не требует, чтобы он без раздумий поддался на уговоры, тем более никто не собирается его принуждать. Я предостерег его, упомянув о непредвиденных опасностях, которые его ожидают. Я не скрыл, что ему потребуются крепкие нервы и мужество, но одновременно заверил, что буду делать все, чтобы поддержать и укрепить его дух. Услышав от меня, что там, на той стороне, ему придется часто быть одному и что даже здесь, у нас, он нередко будет чувствовать себя одиноким, он тут же настроился соответствующим образом — неподражаемым жестом поднял воротник своей спортивной куртки, как будто ему предстояло идти в непогоду против ветра.
9
Телеграмма.
Отправлена 31.1 в 9.30.
В отдел уголовной полиции.
Содержание: относительно подготовки сообщения в прессе.
В соответствии с решениями служебного совещания предлагается подготовить для публикации в местных газетах сообщение о следующем: 27.1 в районе автострады Берлин — Пренцлау, на лесном участке между съездами, на Пфингстберг и Грамцов, обнаружен труп неизвестного мужчины. Рост 180 сантиметров, фигура стройная, предположительно 45—55 лет. Наиболее важны следующие вопросы: кто в период 26.1—27.1 видел легковой автомобиль вблизи автостоянки в указанном районе? кому известно что-либо о костре, горевшем в этом районе в указанный отрезок времени?
Разрешение на публикацию: не ранее 22.00 1.2.
Отдел по связи с общественностью.
Полковник в отставке Ганс Вернер Куперт поворачивается спиной к архивным полкам, на которых длинными рядами стоят папки с делами. Сквозь новую, лишь недавно вмурованную решетку окна он устремляет неподвижный взгляд в зимний пасмурный день, который никак не может выбраться из тумана и снежной каши. Но куда больше, чем безрадостная картина за окном, его занимают собственные мысли. Из головы никак не выходит вечер, проведенный у старых друзей и воскресивший в душе так много пережитого. О, это письмо из Марбурга-на-Лане! Неужто за ним скрывается больше, чем банальная семейная история Неблингов? Существует ли вообще эта кузина Виола? Видел ли ее кто-нибудь когда-нибудь? Действительно ли за упоминанием об одиозном эпосе о борьбе дракона с ветром скрывается закодированное послание? Что тогда означает «красный дракон»? И откуда дует ветер?
Вернер — человек опытный. Долгие годы борьбы, фронт, который, все время меняя свои очертания, постоянно сдвигался в сферу все новых политических подоплек и новых коварных методов противника, привили ему убеждение, что ошибка является отцом мысли, но ее матерью во всех случаях является фантазия. Как часто, чтобы поставить правильный вопрос, ему сначала был необходим неверный ответ. Представление о том, что могло бы быть, нередко оказывается продуктивнее, чем знание того, что есть на самом деле. Лишь тот, кто признает случайность, может доверять закономерностям. Иногда именно сами факты противоречат тому заключению, которое делается на их основании, а доказательство иной раз становится тем убедительнее, чем тщательнее его скрывают от тех, против кого оно направлено.
И все же что считать фактами в этой загадочной истории? За что здесь можно ухватиться? Остается ли что-нибудь иное, как только дать событиям развиваться естественным или противоестественным путем? Вернер полон нетерпения и беспокойства. Еще больше, чем попытки Йохена найти зацепку для умозаключений, его заставляет задуматься та инстинктивная самозащита Ренаты, которая сквозила в ее поведении. Что можно сделать теперь? Тому, кто бежит следом за событиями, не суждено встретиться с ними.
Пара воробьев, завязавших драку прямо перед окном, находящимся почти на уровне земли, наконец отвлекает его от этих мыслей. На столе лежит срочное задание. Оп берет верхний том. Это материалы следствия, законченного много лет назад прокуратурой, и состоявшегося затем судебного процесса по широко известному делу берлинских банд, вызвавшему в начале пятидесятых годов интерес за рубежом. Сегодня это дело забыто. Папка пожелтела, посерела и как будто мумифицировалась. Надписи по старой канцелярской традиции сделаны стальным пером и чернилами, почерк каллиграфический: «Уголовное дело Хузианака и других». Это дело, как представляется ему, может послужить хорошим наглядным пособием в новом учебном году.
Вооруженная семью килограммами самодельной взрывчатки и взрывным устройством, собранным из деталей, раздобытых на старых военных складах Западного Берлина, «троица», как называли бандитов, на подходе к железнодорожному мосту через Шпрее, перед садово-огородным поселком, тянувшимся вдоль железной дороги, попала в поле зрения наблюдателей. Вернер придумывает заголовок: «Охрана объектов в ситуациях политического кризиса, обеспечение подступов к объекту и основные методы наблюдения за ними, использование сил и средств для охраны стратегически важных железнодорожных мостов: 1) Наблюдение за подозрительными личностями во время проведения ими рекогносцировки и подготовки запланированной диверсии…» Он пишет эти строчки и улыбается. «Вот он, горький хлеб моей старости», — думает он. Круг замкнулся. Вспоминаются первые дни занятий, когда он готовился к оперативной работе. И ему пришлось начинать с охраны объектов. Это был старый, полуразрушенный сахарный завод, с которого банда воров по ночам похищала все, что удавалось изготовить днем. «2) Помощь доверенных лиц из числа местного населения…» — придумывает on заголовок следующего раздела.
В этот момент оживает селектор: охранник докладывает, что Вернера просят выйти в комнату для приема посетителей. Там навстречу ему поднимается невысокий молодой человек, по быстрым гибким движениям которого видно, что он провел в тренировках на татами немало часов. Молодой человек победоносно размахивает бумагой:
— Буквально пара вопросов, товарищ полковник, в связи с порученным мне расследованием. Разрешение в письменном виде на получение информации от вас имеется. Вот, пожалуйста. Моя фамилия Холле.
Вернеру с трудом удается удержать не в меру экспансивного посетителя по ту сторону стола, перегораживающего комнату.
— Да не машите вы вашей дурацкой бумажкой! — раздраженно бросает он. — Вас, молодых, нужно обучать не столько тактике, сколько такту, чтобы вы умели вести себя не только на татами. — Вернер полагает, что перед ним один из выпускников, измученный страхом перед экзаменом и желающий узнать, не поступил ли новый справочный материал, который мог бы ему пригодиться. — Выкладывайте, что там у вас, если у вас действительно есть дело. Чего вам не хватило для подготовки?
Молодой человек лезет во внутренний карман пиджака и достает почтовый конверт. На какое-то мгновение приоткрывается узенький ремешок кобуры пистолета.
— Секундочку… — удивляется Вернер. — Вы — оперативный работник?
У молодого коллеги между бровями появляется складка обиды, напоминающая складку на морде таксы.
— А вы что думали?
— Извините, но я привык иметь дело главным образом с теми, кто проходит обучение. Дайте-ка я все-таки взгляну на вашу бумажку. — Прочитав ее, Вернер улыбается: — Разве недостаточно было бы телефонного звонка? Дело «Мертвый глаз», которое вам нужно, давно закончено и сегодня совершенно не актуально! Все данные по нему есть в компьютере, и я мог бы просто транслировать вам то, что вас интересует. К чему лишние хлопоты?
— Это мне известно. И конечно же, я слушал записи, имеющиеся в центральном хранилище. — Лицо молодого человека, как и его жилистое тело, все время находится в движении, ноздри подрагивают от нетерпения. — Я знал, что получу информацию. Возможно, даже такую, которая мне и не понадобится. Но мне хотелось видеть ваше лицо в тот момент, когда я покажу вам актуальный материал.
— И что же это такое?
Холле открывает конверт и вопросительно смотрит на старшего коллегу. С тихим клацаньем из конверта на стол падает маленький, круглый, черный, линзообразный кружочек.
— Откуда это у вас? — вырывается у Вернера,
— Вы знакомы с последним делом?
— Мой юный друг, скоро я достигну возраста Моисея, но это еще не означает, что я и есть Моисей.
— Разумеется. Весьма вероятно, что предмет имеет отношение к преступлению, совершенному на транзитной автостраде Берлин — Пренцлау. Мой первый вопрос к вам; что это за предмет? Как вы полагаете?
Вернер медлит с ответом. Молниеносно выстраивается цепочка удивительных мыслей. Вернера охватывает волнение, подобное тому, которое испытывает охотник, укладывая патроны в патронташ. Ему стоит усилий взять себя в руки, не заразиться лихорадочным состоянием молодого человека.
— Это фишка го, — отвечает он, — а точнее, фишка, используемая для этой игры.
— Я так и знал! — сияет Холле. — От вас мне нужно было только подтверждение.
Вернер осторожно берет фишку в руку:
— А что это за пузыри и царапины на лаке?
— По всей вероятности, следы огня, — отвечает Холле. — На предполагаемом месте преступления горел костер. Очевидно, между костром и преступлением — убийством, которое мы подозреваем, существует взаимосвязь. Сначала этому предмету не придали значения, поскольку ничто не указывает на то, что он принадлежал жертве, преступнику пли свидетелю преступления. Его посчитали предметом, случайно оказавшимся на месте преступления. Но так как нельзя исключать, что он имеет отношение к событиям, произошедшим на месте преступления, технические эксперты уголовной полиции приобщили его к делу.
Удивительно, как быстро этот нервный молодой человек переходит на бесстрастно-сдержанный служебный тон.
— В документах она так и значится, как фишка для го? — спрашивает Вернер.
— Нет, она никак не классифицирована. Просто указаны форма, цвет и материал. Мне это обстоятельство не давало покоя с тех пор, как дело оказалось на моем столе. Не правда ли, сначала нужно было ответить на вопрос, что же это такое, а потом уж задавать остальные — например, как и почему этот предмет оказался вблизи места предполагаемого преступления.
— И как же вам удалось найти правильный ответ? — Вернер чувствует, как растет его симпатия к невысокому молодому человеку, он даже испытывает нечто вроде уважения к нему.
— Вы еще спрашиваете, товарищ Вернер! Ваша операция, естественно в обезличенной форме и с измененными деталями, входила в число обязательных учебных материалов. Было там и описание фишек для игры в го, причем почти в тех же формулировках, что и в нынешнем протоколе осмотра места происшествия. Поэтому я и пришел сюда. Мой второй вопрос к вам: не считаете ли вы на основании своего опыта, что ваша тогдашняя операция и нынешнее дело как-то взаимосвязаны?
— Все возможно, — невозмутимо отвечает Вернер, — но ничего нельзя сказать с уверенностью. Не забывайте, что с тех пор прошло много времени. Если вам, кроме этой фишки, не удалось обнаружить ничего, что указывало бы на ту давнюю историю, то все ваши предположения остаются лишь игрой воображения.
Он говорит, а в его голове вновь проносится рой мыслей. «Действительно, в этом есть что-то идиотское, — думает он. — Не позднее чем вчера меня приглашал на партию го не кто иной, как человек, бывший когда-то Мертвым Глазом, а уже сегодня этот незнакомый парень выкладывает на стол фишку для го и привязывается ко мне со своими вопросами только потому, что ему пришла на память история, приключившаяся с Мертвым Глазом. Кто же это пытается меня дурачить? Не хотят ли меня на старости лет выставить на посмешище?»
— Товарищ Вернер, — говорит Холле, наклоняясь к нему совсем близко, — место происшествия, которым нам придется заняться, находится недалеко от редко используемой автостоянки. Вокруг лес да болото.
— Болото?
— Заповедник. Откуда же, позвольте спросить вас, могла взяться там фишка для игры в го? Я запрашивал шахматный клуб нашего окружного центра. Даже там о го почти ничего не знают. В ГДР в эту игру играет не более сотни человек. Вы правы, утверждая, что все возможно. Следовательно, вполне возможно, что двое людей договорились встретиться в глухом болотистом уголке, чтобы сыграть партию в го…
Вернер вновь не может сдержать улыбки:
— Хорошо, будем исходить из того, что фишку для го на место происшествия принес кто-то имеющий отношение к предполагаемому преступлению. Ну и что из этого? Вам нужно найти игрока в го. И вы идете к человеку, который в эту игру играл давным-давно?
— Автостоянка находится на транзитной автостраде, связывающей Западный Берлин с паромной переправой в Швецию.
— Го игра японская, а не шведская.
— Да, конечно, об этом я тоже узнал. Но, во-первых, не исключено, что и японцы пользуются паромной переправой в Швецию, а во-вторых, я сделал ударение на словах «Западный Берлин». Поймите же! Ведь и та операция разворачивалась в Западном Берлине. Вашему сотруднику пришлось выучиться играть в го, потому что в Западном Берлине ему надо было играть в эту игру. Я еще раз заглянул в учебный материал. Его кличка Мертвый Глаз заимствована из терминологии го. Мой третий вопрос к вам: что означает термин «мертвый глаз»?
«Нет, он от меня не отцепится, прямо клещ какой-то», — думает Вернер, в то же время мысленно сознаваясь, что ему вовсе не хочется, чтобы от него отцепились. По правде говоря, он отбивается от настойчивых вопросов молодого коллеги лишь для того, чтобы самому узнать побольше о его деле.
— «Мертвый глаз» — это совсем просто, — объясняет он. — Просто в той части, что касается игры в го. Позиция на доске может стать неуязвимой, если есть настоящие, я бы сказал, «зрячие глаза».
— А в каком случае говорят о «мертвых глазах»?
— «Глаза» — это защищенные незанятые точки в глубине позиции. Если их защита не обеспечена, то говорят о «фальшивых глазах», которые можно закрыть. А если «глаз» закрыт, то есть мертв, то и позиция уязвима. Понятно?
— Нет. Эта игра для меня тайна за семью печатями. Но даже если бы я в ней разбирался, все равно хотелось бы узнать, почему дело именуется «Мертвый глаз». Ведь должен же за этим скрываться какой-то смысл.
Вернер улыбается:
— Если вы, как утверждаете, внимательно изучили эту операцию, то должны помнить: первым местом, куда был приглашен для встречи наш человек, было кафе, где играли в го. С этого времени прямо-таки с какой-то идиотской последовательностью через всю операцию проходит го — вплоть до того момента, когда янки дал нашему человеку кличку Глаз. Смысл этого мне понятен: имеется в виду «глаз», который был бы у нас соглядатаем. Пока «глаз» был жив, позиция противника на нашей территории была защищена. Я тоже решил поиграть в эти детские игры и несколько видоизменил псевдоним нашего человека. «Янки верит в свой Глаз и пусть его верит, — думал я, — но для меня этот «глаз» был и навсегда останется «мертвым глазом».
Теперь уже начинает улыбаться Холле:
— Не было ли в этом определенной доли мазохизма, если учесть, что речь шла о нашем человеке?
— Да как сказать… О своей кличке он узнал уже после того, как все осталось позади. Но мне еще не ясно, какое отношение имеет все это к вашему теперешнему делу.
Холле достает записную книжку, бессистемно листает ее, не находя того, что ищет. Но это ему и не нужно.
— Трассологи сняли отпечатки со следов покрышек, — говорит он. — Точно установлено, что это покрышки заграничного производства. Иными словами, недалеко от места, где была найдена фишка, стояла или проезжала автомашина заграничной марки. Там же лежал обгоревший труп жертвы преступления.
Со строгим выражением лица Вернер посматривает на часы:
— Вы кто — гадалка или криминалист?
— Я вас не понимаю.
— Тем хуже для вас. В ваших рассуждениях как минимум две натяжки. Во-первых: почему вы считаете, что если покрышки заграничные, то и машина заграничная?
Холле упирается взглядом в стол и молчит, а затем смиренно произносит:
— Вы правы, да и эксперт-трассолог из уголовной полиции предупреждал меня об этом.
— А во-вторых, даже если это была иностранная машина, что в этом необычного? Теперь на них повсеместно разъезжают почтенные граждане ГДР. Хорошо было бы получить убедительное доказательство иностранной принадлежности машины. Оно у вас имеется?
— Нет.
Вернер опять смотрит на часы:
— Если у вас есть еще вопросы, задавайте их прямо сейчас. В моем возрасте человек не может разбрасываться временем.
Впервые за все то время, что они сидят друг против друга за столом, глядя на маленький неприметный кружочек посередине, Холле расслабляется и откидывается на спинку стула:
— Мой четвертый вопрос к вам: что бы вы предприняли на моем месте?
Теперь уже Вернер наклоняется близко к собеседнику и своим вибрирующим басом тихо произносит:
— Я бы задал себе вопрос: а где вторая фишка?
— Не понимаю.
— Если вы хотите, чтобы хоть что-то из ваших фантастических гипотез подтвердилось, то вам нужна вторая фишка, а именно белая.
— Но у меня есть только эта.
— Тогда, дружище, не рассиживайтесь здесь, а ищите другую. Без нее ничего не выйдет.
Они договариваются встретиться на следующий день .— в субботу.
10
Йохен Неблинг хочет быть пойманным и поэтому заставляет охотиться на себя. В его руке две фишки для игры в го. Черная или белая? Жизнь или смерть? Ему внушают, что сесть в лодку всегда легче, чем вылезти из нее. Самолет упал — будет ли он когда-нибудь летать? Пирожки с рыбой и пряная рисовая водка.
Маленький листок из записной книжки, который мне сунул на вечере у тети Каролины господин Вагнер, я взял с собой. Заблудиться было невозможно. Указанное в записке кафе находилось на тихой, затененной вязами улице, казалось бы, вдали от городской суеты. Но вот я ступил ногой на вентиляционную решетку метро и почувствовал, как подо мной с грохотом несся подземный поезд. С оштукатуренных фасадов отовсюду на меня смотрели сказочные животные с человеческими лицами. Хромой мужчина прогуливал от дерева к дереву свою собаку так называемой афганской породы. Спиной я почувствовал, как оба они остановились и долго смотрели мне вслед — и человек, и собака. Перед кафе располагался садик со столиками, ни один из которых в эти предвечерние часы еще не был занят.
Вагнер сидел в нише рядом с буфетом и листал газету. Он заказал для меня рюмку коньяку и кусок пирога по-английски — с изюмом. Оп вел себя так, будто мы старые друзья и вот уже много лет имеем обыкновение встречаться здесь. Оп молча протянул мне газету с аршинным заголовком над одной из статей — сообщением о самолете U-2, сбитом над Свердловском. Я уже слышал его по радио. В связи с гибелью американского самолета-шпиона газета пускалась в рассуждения о том, поставит ли этот провал американской шпионской акции под угрозу предстоящую встречу на высшем уровне в Париже, призванную хотя бы немного успокоить наш взбудораженный мир. Я отложил газету в сторону и молчал так же, как и Вагнер. Пирог я с аппетитом съел, а к коньяку даже не притронулся.
Когда официантка зашла за буфет, Вагнер шепнул мне:
— Как я обещал, вас ждут. Останетесь довольны. — При этом оп указал на дверь, которая, по всей вероятности, вела в задние комнаты.
Я вытащил из кармана двадцать марок — ту самую двадцатку, которую в тот вечер у тети Каролины всучил мне Вагнер вместе с адресом кафе, — и сделал знак официантке, что хочу расплатиться. Это привело господина Вагнера в сильное волнение.
— Что вы, что вы! — воскликнул он. — Оставьте, это уж моя забота. Идите, идите, вас ждут!
Он сунул мне под мышку газету. Это была последняя услуга, которую оказал мне этот человек. Больше я его никогда не видел.
За дверью был узкий коридор. Под стенным светильником, напоминавшим по форме факел, висело объявление: «Уважаемых гостей клуба убедительно просим снять обувь. Мир и покой этого дома да будут им наградой». Более десятка людей последовали этому призыву: на полке у стены была составлена их обувь — сплошь ухоженные мужские туфли из модной толстой кожи. Я был в некотором затруднении: не следует ли понимать под обувью и носки? Нарушать мир этого дома мне не хотелось. Я заглянул внутрь одной пары ботинок и, не обнаружив там носков, решил также не снимать их. К счастью, они были без дыр.
Небольшой человечек, у которого я ничего, кроме согнутой в глубоком поклоне спины, разглядеть не мог, отодвинул для меня занавес из мелких бамбуковых палочек, густо нанизанных на шнурки, свисавшие до самого пола. Палочки зазвенели, как крохотные колокольчики, возвещая о моем появлении. Помещение было без окон. Призрачно-желтый свет излучали многочисленные маленькие фонарики. Господа, которые, как и я, оставили свою обувь в прихожей, сидели с поджатыми под себя ногами на циновках по парам, друг против друга, и молча предавались неизвестному тогда еще мне занятию — некоему умственному упражнению, которое, совершенно очевидно, было связано с квадратными досками, помещенными между ними наподобие низких столиков. Время от времени они клали черную или белую кнопку на доску, где лежали уже другие кнопки. Иногда они отхлебывали что-то из крохотных фарфоровых чашечек, и на их лицах появлялась блаженная улыбка. Вероятно, именно от этого напитка исходил аромат сирени, наполнявший помещение. Куда я попал? Все казалось мне таким чужим, странным и сказочно таинственным.
В глубине комнаты кто-то поднялся и неторопливо направился ко мне. Две вещи бросились мне в глаза в этом человеке — походка и взгляд. Его ступни в черных блестящих носках казались неестественно большими. Это придавало походке какую-то решительность, словно он собирался, ставя одну ступню перед другой, заново измерить землю. У него были очень светлые глаза. Приблизившись, он в упор посмотрел на меня так, будто сквозь меня видел даль, настраивающую его на меланхолический лад. Он вытащил у меня из-под мышки газету.
— Хорошо, что вы принесли последние новости, — сказал он.
— Последние новости — это те, которых вы пока еще не знаете, — возразил я.
Он улыбнулся:
— О, я вижу вы умеете начать с шутки, которая помогает людям сойтись. Это вселяет надежду. Так позвольте же и мне отплатить вам тем же. Моя фамилия Баум, точнее — доктор Баум. Наверное, вы и не предполагали встретиться здесь с кем-то из земельного статистического управления. Как американца германская статистика интересует меня только в некотором отношении. Позвольте пригласить вас.
Мы подошли к сооружению, напоминавшему бар, на котором небольшой человечек с черной спиной расставлял блюда и напитки в крохотной фарфоровой посуде. Он исчез так же незаметно, как и появился.
— Пирожки с рыбой и пряная рисовая водка, — сказал доктор Баум. — Стиль этого клуба — все подлинно японское. И играют здесь в японскую игру го. — И после бесконечно долгой паузы: — А в какую игру предпочитаете играть вы?
Мое сердце подскочило к самому горлу. Я никак не ожидал, что этот человек так быстро сбросит маску и перейдет к делу. За его безобидными вопросами чувствовалась властная сила большого интеллекта. Нужно было держать ухо востро: отвечать следовало так, чтобы разговор не принял нежелательного направления.
— В скат[18] — как можно равнодушнее ответил я. — Но если желаете, то могу доставить вам удовольствие и составить компанию в покер.
Он умел улыбаться одними глазами.
— Вы на самом деле хотите доставить мне удовольствие?
Избранный им тон располагал к нему, и я почувствовал себя увереннее. Но я ни в кош случае не должен был казаться умнее, чем он предполагал. И вот, чтобы, как говорится, сменить пластинку, я начал оглядывать таинственное заведение.
Он проследил за моим взглядом:
— Не беспокойтесь, здесь мы ограждены от нескромности и любопытства. Я — член клуба, а вы — мой гость. Я здесь дома и пригласил вас к себе домой.
Нечто подобное я и предполагал. Когда он смотрел на доски с фишками, в его глазах появлялось прямо-таки вожделение. Чувствовалось, что он страстно любит эту игру. Я должен был быть готовым к тому, что, общаясь с доктором Баумом, мне придется испытать на себе эту его маниакальную страсть.
А он вдруг прямо так и сказал:
— Жаль, что вы не играете в го. Это сделало бы ваше пребывание в клубе более закономерным.
— Человек многому может научиться, — смело ответил я — Теория игр — производная от теории вероятностей: третий семестр, учебная программа по основам математики. Но мне кажется, вы мыслите скорее категориями невероятного.
Я откусил кусочек пирожка и с удовлетворением отметил, что рука, в которой я держал чашку, совсем не дрожала. Чем яснее становилась ситуация, тем лучше я себя чувствовал и легче нащупывал очередной тактический ход. Было ясно, что он хочет заполучить меня, и пусть так оно и будет. Но не вызовет ли у него настороженности и подозрительности мое быстрое согласие? Если он хочет поймать меня, то пусть погоняется за мной до тех пор, пока мы оба, как дичь и охотник, не выдохнемся полностью. Я буду упрямо уклоняться и дерзко показывать зубы: нельзя уж слишком-то облегчать ему задачу, надо, чтобы все выглядело правдоподобно.
— Что же невероятного в моих рассуждениях? — Он осторожно пригубил рисовую водку. — Я исхожу из фактов. Ваше досье достаточно подробно… У вас это, кажется, называется личным делом.
— Вы считаете меня более интересным человеком, чем это есть на самом деле.
— Вполне вероятно. Хотите послушать? — И он снова посмотрел сквозь меня, будто собирался прочесть нечто, находившееся за моей спиной. — Неблинг Йохен, двадцать три года, женат, один ребенок мужского пола, член коммунистической партии, неимущий, студент, изучает электротехнику, специализация — электроника.
— Ну и что в этом интересного?
Его голос был по-прежнему монотонен.
— Был нарушен запрет… запрет на посещение Западного Берлина.
— Послушайте-ка, для этого у меня были чисто личные мотивы.
— А сюда вы пришли тоже по личным мотивам?
— Я любопытен по природе.
— Похвальное, качество. Мы найдем ему применение. Итак, перейдем к делу. Вы станете моим «глазом»,
И снова сердце мое забилось где-то в горле. Заметил л а он это?
— Дайте мне время подумать.
В глубине комнаты один из посетителей поднял голову от доски и посмотрел в нашу сторону. Баум приложил палец к губам:
— Чего обдумывать? Сесть в лодку всегда легче, чем вылезти из нее.
— Может быть, но я еще не сел.
Не говоря ни слова, он поставил на низкий столик маленький магнитофон новейшего образца, присоединил наушник и надел мне его на ухо. Я услышал свой собственный пьяный голос и несколько глуповатые вопросы Вагнера. Потом Баум пододвинул ко мне несколько фотографий. На одной из них Вагнер положил мне руку на плечо. Оба мы держали в руках бокалы с виски. На заднем плане сидела тетя Каролина — сама доброта — а понимающе улыбалась нам. Это была чистая работа. Магнитофон и микрофон наверняка были спрятаны у Вагнера под одеждой. Но каким образом они сделали снимки? Я еще раз внимательно просмотрел фотографии. Все они были сняты с одной в той же точки, и я понял, с какой именно. Фотокамера находилась в игральном автомате. Значит, Фриц занимался не ремонтом, а фотографированием. Бог мой, и я никогда не смогу рассказать тете Каролине о той погани, которая завелась в ее хозяйстве.
— Так вот, ваше время на размышления давно истекло. — Баум протянул мне руку с закрытой ладонью и затем раскрыл ее — в его ладони лежали две кнопки для этой игры, две фишки для го — белая в черная. Он улыбался и на его лице было написано превосходство. — Да, жизнь — это игра, причем очень серьезная. В девяносто девяти случаях из ста шансы распределяются пятьдесят к пятидесяти. Орел или решка, белое или черное. У каждого есть свобод» выбора. У вас, конечно же, тоже. Человек говорит «да» ил! «нет», идет направо или налево, делает нечто или не дела ет. Но большие звери всегда будут пожирать малых. Бело» или черное, жизнь или смерть, сожрать или самому быть съеденным. — При этих словах фишки в его ладони клацнули.
Я ответил наглой улыбкой:
— Однажды я видел, как крохотные муравьи сожрали большую птицу. Целиком.
— Да, но птица была мертва, а муравьев было много, и они были полны жизни. Думайте обо мне что хотите, однако не советую вам недооценивать господ из вашей службы госбезопасности. Никогда, в том числе и в будущем! Вы полагаете, что им потребуется много времени, чтобы установить роль господина Вагнера в заведении вашей тетушки? Такие вещи долго тайной не остаются. И простите меня, но тогда уж вы станете мертвой птицей. Ну как, пошли?
Я кивнул. Расплачиваясь, он пододвинул мне мою нетронутую рюмку. Я отрицательно покачал головой. Кажется, ему это очень понравилось.
Его машина стояла за углом. Это был неприметный «фольксваген», С притушенными фарами мы медленно двигались во все более и более плотном вечернем потоке машин. При этом он четко и последовательно разъяснял мне мое первое задание. Я мысленно спрашивал себя, что же им нужно еще узнать, если они уже так много знают. Речь шла о районе севернее Берлина, хорошо знакомом мне по велосипедным прогулкам, по которому были, казалось бы, беспорядочно разбросаны военные объекты: казармы, склады, танкодромы, радиолокационные установки противовоздушной обороны. Мне следовало подмечать все, что попадалось на глаза: знаки различия и знаки родов войск, дельтовидные крылья и крылья с изменяемой стреловидностью, ведущие и направляющие колеса гусеничных машин, башни танков, напоминающие зонтик, и башни танков, похожие по форме на панцирь черепахи. Но важнее всего было подслушивание телефонных разговоров. Рация, работать на которой он меня тут же быстренько научил, была проста в обращении, словно детская игрушка.
11
Доставить с курьером срочно.
Отправлено 31.1 в 12.30.
В отдел по связи с общественностью.
Содержание: относительно телеграммы о подготовке сообщения в прессе, отправленной отделом по связи с общественностью 31.1.
В соответствии с решениями служебного совещания и распоряжением относительно дополнений к служебной инструкции о публикациях в прессе для опубликования к печати подготовлен следующий текст: «27.1 недалеко от автострады Берлин — Пренцлау, на участке между съездами на Пфингстберг и Грамцов, обнаружен труп мужчины. Не исключено, что имело место преступление. Органы народной полиции принимают от населения информацию, которая может оказаться полезной для следствия. По желанию граждан их сообщения в полицию будут рассмотрены конфиденциально».
Разрешение на публикацию не ранее 22.00 1.2.
Отдел уголовной полиции.
При необходимости ознакомить первый отдел окружного управления и окружное управление лесного хозяйства.
Утро. Безветренно, холодно к дождливо. В одной из боковых улочек северного Берлина, недалеко от Вайсензейской горы, они пересаживаются в автомашину, в которой их ожидает Холле. Вернер знакомит его с Йохеном. Во время быстрой езды HO пустым улицам они почти не разговаривают. За поворотом на Бернау Холле вынужден сбросить скорость — автострада обледенела.
— Черт подери, Вандлиц еще спит! — ругается Холле. Он протягивает сидящим сзади топографическую карту и карманный фонарик: — Я отметил на карте стоянку. Она находится в ложбине. Вокруг дубняк и ольховник. Ближайшая деревня в трех километрах.
Голова к голове Вернер и Йохен склоняются над кружком света на карте.
— А что это за дом или хутор вот тут, рядом со стоянкой? — спрашивает Йохен.
— Старый дом лесника, перестроенный каким-то берлинцем под дачу. Его можно будет осмотреть, но он не имеет к делу никакого отношения.
— Не перейти ли нам на «ты»? — предлагает Йохен, толкая локтем Вернера.
Тот откашливается в своем уголке и сует прямо под нос Холле пакетик с мятными леденцами:
— Как тебя звал твой папа?
Холле смеется:
— Об этом я лучше умолчу. Это семейная тайна. А зовут меня Эрхард.
— Хорошо, Эрхард. Судя по всему, ты уже проверил людей из дома лесника.
— Разумеется. Согласно показаниям в последний раз они появлялись там в канун Нового года и заколотили дом на зиму. Какая бы то ни было взаимосвязь с преступлением исключена.
— Стало быть, никто из местных жителей к нему не причастен.
— За исключением двоих: журналиста и бывшего рабочего лесничества. У журналиста на его рабочем столе побывало обращение к населению с просьбой помочь в расследовании, которое хотели опубликовать, но передумали после того, как выяснились некоторые новые обстоятельства. Ему сказали, чтобы он об этом ни гугу. Рабочий лесничества, по нашим данным, во время совершения преступления находился неподалеку и мог заметить что-либо существенное. Я вызвал его на сегодня.
— Почему расследование поначалу велось уголовной полицией? Ведь такого рода происшествия на транзитной автостраде сразу попадают к нам.
— Вначале не все было ясно. Место обнаружения трупа находится в стороне от автострады, в лесу. Случайно как раз перед этим там сжигали древесные отходы. В этом направлении и повели расследование. Лишь затем на одной из лесных дорог, ведущих к стоянке, были обнаружены следы колес.
— Тем меньше было оснований столь поспешно раззванивать направо и налево об этом деле.
— Вы правы. — Получив нахлобучку, Холле вновь переходит на официальный тон: — На первом этапе следствия мы дали согласие на подготовку публикации с целью привлечь к нему внимание населения. Это моя ошибка. Где-то нарушилось взаимодействие. Лишь после того, как я наткнулся на фишку для го и другие таинственные обстоятельства, до меня стало кое-что доходить.
— Вы проверили через народную полицию все заявления о пропавших лицах? Ведь не исключено, скажем, что это всего-навсего банальная драма на почве ревности.
— Разумеется, но из пропавших никто по своим физическим данным не подходит. Каждый след в эхом направлении проверен.
Холле переводит рычаг коробки скоростей в нейтральное положение и ориентируется по километровому столбу. Дубы еще не сбросили листву. В негостеприимном предрассветном полумраке они кажутся сторожами-великанами, мрачно стерегущими какую-то тайну. Прибывшие выходят из машины. По щиколотку в снегу к ним бредет коренастый человек, толкающий рядом с собой старый погнутый мопед.
— Бог в помощь! Как говорится, с утра пораньше?
Мужчина одет в стеганую куртку на вате и фетровые сапоги. На голове у него изогнутая и надетая на манер зюйдвестки шляпа, на полях которой собирается и тает снег. Он без перчаток. В уголке рта — погасший окурок.
Холле пожимает ему руку и неопределенным жестом указывает на своих попутчиков. Старик обороняется:
— Нет-нет, все, что знал, я уже выложил.
И все-таки Холле удается заставить его повторить все сначала.
Итак, старик на пенсии, но иногда помогает сельскохозяйственному кооперативу в лесных работах. В последнюю неделю января они закончили расчистку леса от кустарника и молодняка на торфянике и сжигали мелкие сучья, чтобы освободить от них раскорчеванный участок для весенних посадок. В тот вечер в деревне были танцы. Все пошли туда, а старика оставили наблюдать за огнем. За это, как рассказывал старик, полагается либо круг колбасы, либо мешок корма для кур, либо что-нибудь в этом роде. Кучи хвороста догорели до пепла, ветра почти не было, и он со спокойной совестью поехал домой. Вечером, по окончании телевизионной передачи, когда он чуть было не уснул, старик вышел из дому посмотреть на крольчиху, ожидавшую приплод. Стоя во дворе перед крольчатником, он вдруг заметил в стороне автострады, там, где они расчищали лес, яркое пламя. Он, конечно же, страшно перепугался, потому что именно он отвечал за костры, но не понимал, что могло случиться.
Он тотчас сел на мопед и поехал посмотреть, в чем дело. Пепел на кострищах был совсем холодный. Предосторожности ради он набросал на него песку. Странно, что огня больше не было видно. В голову ему пришла мысль о привидении, потому что именно в их местности во времена, далекие от века автомобилей и автострад, одно привидение водилось. Во всяком случае, о нем рассказывал ему дед: графский лесничий застрелился на болоте из-за какой-то молодой горожанки и после этого долго еще бродил по округе. Над карьером часто видели два огонька — скорее всего, глаза привидения. Поговаривали, что это несчастная душа лесничего бродит и ищет ту женщину.
Вернер и Йохен переглядываются, а затем, сдерживая улыбку, смотрят на Холле. Тот подмаргивает им: подождите, мол, то ли еще будет. А старик тихонечко, как бы про себя смеется:
— Сейчас об этом брешут только разве что такие вот старые псы, как я, — и продолжает рассказывать.
Он поехал к бывшему дому лесника, чтобы поглядеть на привидение. Возможно, оно появилось здесь вместе с этими сумасшедшими берлинцами, которые порой закатывают по ночам такие шумные празднества, что в деревне начинают скулить собаки. Но там было пустынно и тихо. В сыром воздухе все еще продолжал ощущаться запах горелого. Он пошел на этот запах и — обнаружил мертвеца. Стыдно признаться, однако он почувствовал облегчение, потому что за это-то он не отвечает. Вернувшись, он сразу поднял с кровати участкового. Это было за полночь.
Вернер смотрит на старика, и по взгляду его видно, что он еще не решил, пригодятся ли ему его свидетельские показания. Он осторожно спрашивает:
— Там, где вы нашли мертвеца… там был один костер или несколько?
Старик непонимающе смотрит на него и говорит, не вынимая изо рта окурка:
— Я никого не сжигал. — Оскорбленный недоверием и подозрением, он с местного говора вдруг переходит на правильное литературное произношение.
— Да не о том речь. Мне нужно только знать, лежал ли мертвец на одном из кострищ, на котором сжигали хворост.
— Мне известно лишь то, что я знаю. А я знаю, что наши костры погасли.
В разговор вмешивается Холле:
— Кучи пепла от кострищ — общим числом шесть — находились несколько в стороне. Мертвец лежал на седьмом потухшем костре. — И он негромко добавляет: — Там горел бензин.
Вернер пытается еще хоть что-то вытащить из старика:
— А вы не заметили машину?
— Нет.
Старик прикуривает свой чинарик от большой «всепогодной» зажигалки. Они стоят в мокром снегу, и ноги у них начинают мерзнуть. Трубка у Вернера давно погасла и остыла. О чем еще можно спросить? Все существенное Холле, конечно, уже зафиксировал в протоколе. Иногда вдали, шелестя покрышками, проносятся машины, и снова воцаряется тишина. А снег падает и падает. Дважды где-то совсем близко раздается до омерзительности неприятный крик птицы.
— Так я пойду потихонечку, — говорит старик, вновь переходя на местный говор.
Их это вполне устраивает: он им больше не нужен. С треском заводится мотор мопеда. Холле делает Йохену и Вернеру знак рукой, и они следуют за ним по дороге, идущей от стоянки в лес.
— Эта дорога практически используется только летом новыми арендаторами дома лесника. Так сказать, нелегальный съезд с автострады, которым, конечно, пользуются и другие, — объясняет Холле.
В зарослях орешника, на голых ветвях которого уже появились первые подвески соцветий, дорога сужается. Холле останавливается и вынимает из снега палку:
— Здесь, несмотря на дождь, остались отпечатки покрышек. Они отпечатались дважды: вероятно, на переднем и заднем ходу.
Местность просматривается все хуже. Извилистая дорога идет под уклон. Почва под снегом приобретает болотистый характер. Попадаются бочажки, некоторые из них закрыты хворостом или засыпаны галькой. Кусты, заросли ольхи и молодая поросль крушины сдвигаются все плотнее. Из чащи вновь раздается резкий крик птицы.
Пройдя около трехсот метров, Холле останавливается и вытаскивает из снега еще одну палку:
— Кострище, на котором лежал труп.
Никакого кострища не видно. Свежий снежок распростер над ним свое идеально белое покрывало. Йохен обводит взглядом эту картину:
— Местечко — лучше не придумаешь. Если у меня когда-нибудь появится желание кого-нибудь прикончить, я сделаю это здесь. Однако напрашивается вопрос, как старику вообще удалось заметить огонь с такого расстояния.
— И у нас этот вопрос возникал. Но посмотри-ка сюда, — указывает Холле на обуглившиеся ветви с зарубцевавшимися ранами. — У них что-то стряслось. Может, произошел взрыв, когда они подожгли бензин. Так что полыхало здесь, по-видимому, вовсю.
— Вы исключаете вероятность самосожжения? — спрашивает Вернер. — Ведь в определенных кругах это сейчас модно.
— В данном случае самосожжение мало вероятно по двум соображениям. Во-первых, по соображениям психологического характера. Те, кто прибегают к самосожжению, стараются сделать это публично. Они хотят, чтобы их смерть стала призывом к действию. У тех же, кто устал жить, иные мотивы, и они предпочитают иные способы самоубийства. Во-вторых, но соображениям технического порядка. На месте происшествия не обнаружено сосуда из-под горючего. Стало быть, если это и был самоубийца, то у него имелся помощник. Все это весьма проблематично.
— Другие гипотезы есть?
— Да, но все гипотезы опираются на предположение об убийстве. Можно допустить, что мертвый или убитый человек был доставлен сюда и сожжен. Вопрос: зачем? Может быть, труп хотели уничтожить полностью, но что-то помешало сделать это? Например, преступники услышали шум приближающегося мопеда нашего знакомого старика. А может быть, они хотели сделать труп неопознаваемым? Это им в значительной степени удалось. Лицо и папиллярные линии уничтожены. Можно предположить также, что убийство произошло здесь непосредственно путем сожжения. На это указывает наличие в крови убитого быстродействующих наркотических средств.
— Так как же все-таки были истолкованы следы иностранных покрышек?
— Ты опять затрагиваешь нашу самую уязвимую точку. Достоверно только то, что преступники пользовались машиной. Иностранной или отечественной марки — на этот вопрос, увы, мы ответить не можем. Первое предположение: беспомощная жертва уже находилась в машине, след которой мы обнаружили. Она была одурманена или усыплена. А может, это было сделано здесь, на месте преступления. Человека вытащили из машины в специально подысканном для этого глухом месте, облили бензином — и дело сделано. Преступники уехали тем же путем, что и приехали. Второе предположение: жертва пыталась скрыться на одной машине, ее преследовали на другой. Признаю, что все это напоминает приключенческую книжку, но с такими вещами нам уже приходилось встречаться. Между организациями, нелегально переправляющими людей через границу, существует достаточно сильная конкуренция. Ставка высока, соответственно и методы борьбы самые жестокие. Может, нужно было вывести из игры конкурента, а может, это был акт мести по отношению к человеку, решившему порвать с бандой.
В разговор вступает Йохен:
— Сейчас я уже далек от всех ваших дел, поэтому прошу разрешения задать наивный вопрос: почему ты допускаешь лишь «несчастный случай на производстве» в одной из организаций, занимающихся нелегальным провозом людей? Разве взаимосвязь с секретными службами в данном случае не возможна?
— Разумеется, возможна. В пользу такого предположения свидетельствуют два момента. Первый момент — это совершенно однозначный обработанный и обобщенный эмпирический материал целого ряда последних дел. Исходя из этого проникновение тайных служб противника в организации, занимающиеся нелегальным провозом людей через границу, с целью использовать эти организации в своих интересах можно считать фактом. Иными словами, и в нашем случае мы не должны исключать вероятность того, что преступники выполняли задание по нелегальной заброске к нам или, наоборот, по нелегальному вывозу от нас одного из агентов секретных служб.
— Может, имела место подмена? — спрашивает Йохен.— Убитого заменили живым.
— Подмена или просто ликвидация по приказу из Центра. Все это и теоретически, и практически вероятно. Но я не люблю теоретизировать, если практическая ситуация не дает для этого конкретных отправных точек.
— Теоретизируй дальше, это тренирует ум, — говорит Вернер.
— Хорошо. Второй момент — это, конечно, найденная у трупа фишка для го и ее загадочная связь с прошлым. Только поэтому я и обратился к вам за консультацией. Случайность или закономерность? Имеет ли старое дело отношение к новому? Ваш старый знакомый по тому делу, доктор Баум, руководивший Йохеном как агентом ЦРУ, играл в го. Участвует ли он в нашем деле? Если да, то какова его роль?
— Он был все что угодно, только не авантюрист, — говорит Вернер.
— Я могу поставить вопрос по-другому: кто он — тот, кого ликвидировали, или тот, кто ликвидировал? Он ли подкинул нам труп или же его самого подкинули нам в виде трупа?
Падает мелкая снежная крупа. Некоторое время они слушают, как она шуршит по прошлогодней дубовой листве. Йохен поднимает воротник пальто.
— Баум никогда не был похож на убийцу, — произносит он. — Так что один вариант можешь отбросить, а о другом мне не хочется думать.
— Хорошо, однако вернемся к событиям, разыгравшимся здесь. Итак, каким образом они могли развиваться дальше?
Носком ботинка Эрхард Холле чертит на снегу какие-то значки:
— Я могу порадовать вас опять же только гипотезой. Например, преследуемый находится в безвыходной ситуации и предпринимает последнюю отчаянную попытку спастись. Резким поворотом он уходит на стоянку, выпрыгивает из машины в кусты. Ему безразлично, что будет дальше. Он думает лишь о том, как спастись от убийц. Преследователи не отстают, в свете фар они находят дорогу и хватают беглеца. Все.
Вновь вмешивается Йохен:
— Тогда здесь должна была остаться вторая машина.
— Нет. Надо исходить из того, что преследователей было как минимум двое. Один из них мог сесть за руль второй машины.
Вернер качает головой:
— Не могу себе представить, что они в этом случае делали бы дальше. Вряд ли бы им удалось переправить машину назад через границу. Они попались бы при первой проверке документов.
— А если бы один из них предъявил документы убитого? Если между тем и другим существовало внешнее сходство?
— Слишком рискованно для тех, кто планирует такую операцию. Они подстраховываются совсем другими способами.
В разговор вновь вступает Йохен:
— Значит, машина должна быть где-то здесь, по эту сторону границы. Может, ее просто поставили где-то недалеко от автострады.
Его дополняет Вернер:
— Во всяком случае машина не могла раствориться в воздухе.
А Йохен заключает:
— Точно так же, как и вторая фишка для го.
«До чего же любят фантазировать эти два стреляных воробья», — с удивлением думает Эрхард Холле. Он никак не может понять, при чем здесь вторая фишка и почему они так упорно стремятся ее найти. Уважение к старшим несколько смягчает иронию, звучащую в его голосе:
— Однако не обнаружено ни второй автомашины, пи второй фишки для го. И ничто не указывает на то, что их когда-нибудь удастся обнаружить.
Йохен вздыхает:
— Да, по крайней мере, не сейчас. Может, приехать сюда весной, когда растает снег?
— Что касается меня, то я не располагаю временем…— Голос Холле звучит несколько раздраженно. — Однако позвольте спросить: почему вы оба так уцепились за эту вторую фишку?
— Потому, дружище, что, как я тебе уже говорил, без этой фишки ты не продвинешься ни на шаг. — Вернер хватает первый попавшийся прутик, торчащий из снега, и со свистом рубит им воздух.
— Стоп! — Холле выхватывает у него прутик и вновь втыкает его в снег. — Это маркировка. Здесь лежала фишка для го, найденная во время осмотра места происшествия.
— Ах нот оно что! Тогда продолжай искать дальше. Да побыстрее!
— Позвольте только спросить: а зачем? — От обиды голос у Эрхарда Холле становится совсем тихим. — Несколько ночей я провел перед монитором, знакомясь с делом «Мертвый глаз», записанным на компьютере. Меня, вероятно, можно упрекнуть в тупости — ради бога! — но не в том, что что-то от меня ускользнуло. И я не понимаю, почему вопрос о том, зачем нужна вторая фишка, именно вторая, запретен.
— Вернер, а может, он действительно пропустил какой-то кусок пленки? — спрашивает Йохен.
Вернер уже заметил знакомую складку обиды на лбу Холле, напоминающую складку на морде таксы, и не в силах сдержать ухмылку:
— Да конечно же! Учебный материал обезличен и кое в чем не полон. Доктор Баум был важным лицом. И многое говорило за то, что, после того как он исчез с нашего горизонта, он таковым и остался. Извини, Эрхард, ты, конечно, не можешь всего знать. В своем описании доктора Баума я опустил некоторые детали. Йохен, объясни ему!
— Баум всегда носил с собой две фишки — белую и черную — и постоянно перебирал их пальцами, демонстрируя что-то вроде фокуса. Если он каким-либо образом связан с твоим новым делом, то по логике вещей в мозаике вещественных доказательств недостает еще одного камешка — второй фишки. Одна фишка — это только половина доктора Баума.
Шик-шак-шик-шак-шик-шак-шак!
Они вздрагивают и оборачиваются. Совсем рядом, за их спинами, опять кричит птица.
— Сорока! — восклицает Йохен. — Знаете сказку о сороке-воровке? Может, она и утащила вторую фишку?
Вернер басит:
— Фишка для го — это вам не серебряная ложка. Хотя здесь кое-что и напоминает сказочное царство, мы не имеем права вести себя как сказочные герои. — Он смотрит на Холле: — Либо ты вызовешь поисковую группу, либо мы сами проделаем эту работу.
— Вот это да! Уж лучше добраться до сорочьего гнезда. — Йохен смеется, и в его смехе сквозит раздражение.— Когда здесь работали специалисты-трассологи, снега еще не было, и все-таки они нашли черную фишку на темной почве. Почему же, спрашивается, они не обнаружили белую, которая была бы куда заметней, если бы вообще существовала в природе?
— А теперь мы должны найти в снегу белую фишку! — досадует Эрхард Холле. — Мне ясно одно: трассологи но знали того, что знаем мы. Найдя одну фишку, незнакомый и более чем случайный предмет, они и не предполагали, что должен быть второй предмет, образующий пару. Почему, собственно, они должны были искать второй предмет? Зато нам не остается ничего иного, как искать. Время не ждет. Итак, за дело!
Снег неглубокий, но сырой и вязкий. Сантиметр за сантиметром расчищают они почву, исследуя ее при этом руками. Йохен Неблинг ругается себе под нос.
— Спокойней, спокойней, — басит Вернер. — Это занятие требует терпения. А ну-ка покажем, чему нас учили.
У него самого внутри все дрожит от нетерпения. Вторая фишка! След, оставленный доктором Баумом! Можно представить, что их ожидает в таком случае!
Чтобы не затоптать снег, они медленно и сосредоточенно продвигаются от края к центру — прутику, обозначающему место находки. Дойдя до него, они делают перерыв, чтобы отогреть закоченевшие руки в карманах пальто. Прошло уже не менее часа, а на белоснежной целине расчищен лишь небольшой участок величиной не более поверхности стола. Они решают дальше снег не расчищать, а внимательно исследовать уже расчищенное пространство, потому что именно здесь лежала черная фишка. Это критическая точка. И снова, согнувшись, движутся они от края к центру, поднимая каждую травинку, каждую веточку. Работают молча. И с каждой минутой тает надежда обнаружить находку. Сойдясь в центре, они не смотрят друг на друга. Никто из них не хочет видеть разочарование, написанное на лице другого.
— Может, хватит? — спрашивает Йохен.
Холле колеблется.
Вернер пытается его утешить:
— Наверное, мы плохо искали. У тебя еще есть возможность вызвать поисковую группу. Специалисты видят лучше.
— То, что не удастся найти нам, никто не найдет. — Маленький Холле опять садится на корточки, берет горсть земли и пропускает ее сквозь пальцы. — Мы обыскали только поверхность. А почва здесь состоит из глины с песком, она неплотная и мокрая. Предмет, который мы ищем, маленький, плоский и гладкий. Его легко втоптать в землю. Это могли сделать и мы, и трассологи.
— Это могли сделать и сами преступники, — добавляет Вернер.
Они опять принимаются за работу, исследуя почву сантиметр за сантиметром. Они скребут ее щепками и голыми руками. Иногда им попадается мелкий светлый камешек, и в этот момент они ощущают что-то вроде удара током. Обманувшись, они разочарованно продолжают копаться дальше, медленно продвигаясь вперед. Перед Йохеном небольшой кусок моха. Он медленно приподнимает его, а затем не спеша поднимается сам.
— Не найдется ли у вас ножичка? — В его голосе звучит скрытый триумф, от этого он даже осип немного.
Оба его товарища замирают и неподвижно глядят на него — лицо Йохена сияет.
— Ну, конечно, опять тебе повезло! — восклицает Вернер. Он достает из кармана брюк большой складной нож с костяной ручкой и раскрывает его. Какое-то мгновение колеблется, но затем торжественно протягивает нож, держа его за лезвие, Эрхарду Холле: — Твоя компетенция!
Холле переводит глаза туда, куда смотрит Йохен. Осторожно погружает лезвие в мох. Затем в его руке оказывается что-то, что он сначала обдувает, протирает и уж затем показывает товарищам. На его ладони лежит, сверкая своей первозданной белизной, вторая фишка для игры в го.
12
Чего, собственно, хочет янки? Почему волнуется Сергей Антонович? Что нужно другому человеку, подключившемуся к проводу? Все это — вопросы, которые возникают перед Вернером в душном и жарком бункере, где расположен центр управления связи. А Йохен Неблинг узнает лишь, как могут пригодиться грибы, если собираешься залезть на телеграфный столб.
Можно было только удивляться, что они собирались использовать Йохена Неблинга не там, где у него были наиболее сильные позиции, не на его предприятии. Наши первые выводы по этому поводу шли в двух направлениях. Во-первых, следовало предположить, что в нашем новом секторе военной электроники один «глаз» они уже успели внедрить. Мы начали шаг за шагом, если можно так выразиться, простукивать стены в поисках пустого места — разумеется, крайне осторожно, чтобы невзначай не затронуть систему их сигнализации и не вызвать тревоги. Это навлекло бы подозрения на их нового агента. Во-вторых, следовало предположить, что Неблингу предстоял длительный путь по инстанциям фирмы. Почему они хотят использовать его в качестве оперативного военного шпиона? Порученное ему рискованное дело не соответствовало ни структуре его личности, ни его квалификации. Это задание нисколько не хуже мог выполнить любой более или менее мобильный радиолюбитель. Но они, вероятно, строили планы не только в расчете на сегодняшний день. А может быть, они еще не приняли окончательного решения? Или приступили к созданию стратегического резерва? Но тогда для какой надобности? Мы решили отложить все эти вопросы до тех пор, пока не будем знать больше.
Когда Йохен, вернувшись с первой встречи с Баумом из того странного кафе для любителей го, делал свой первый доклад, я обратил внимание на его способность подмечать детали. Мы немного посмеялись над его страхами по поводу гипотетических дырок в носках. Он хорошо помнил, что ботинки, снятые посетителями перед входом, все без исключения были консервативного — и довольно дорогого — «будапештского» покроя. Интерьер задних комнат он описывал так подробно, что восточноазиатский стиль «модерн» прямо-таки вставал перед глазами. И о человеке, с беззастенчивой откровенностью представившемся ему как доктор Баум, я также смог составить точное представление. Я будто видел, как он жонглирует двумя фишками го, перебрасывая их с ладони на ладонь, слышал, как вызывающе они клацают друг о друга.
Это была не просто небольшая придурь, не просто двигательная расторможенность. Я истолковал это как снобистский жест убежденного скептика, испытывающего радость от игры в рулетку судьбы. Этот тип гибкого, легко перестраивающегося интеллектуала в аппарате секретных служб противника был сравнительно нов. В известной мере тем самым подтверждались наши выводы относительно более утонченных методов работы, к которым перешла, западноберлинская резидентура ЦРУ. Мы должны были настроить себя на отнюдь не безобидную для пас смену персонала в стане противника. В своих собственных кругах эти молодью парни, которым была присуща изрядная доля самоуверенной надменности и снисходительно-покровительственного отношения к другим, получили прозвище «яйцеголовых». Так их презрительно именовали старые практики. Однако нетрудно было представить .себе, что «яйцеголовые» могут измыслить совсем другие вещи, чем старые рубаки, которые в основном только и умели, что подложить гранату-лимонку под нужный стул. В общем, судя по впечатлениям Йохена Неблинга, было не похоже, чтобы этот человек мог испугать и отпугнуть его. Это было одновременно и хорошо и плохо. Они оба явно присматривались друг к другу.
С ухмылкой, скорее всего для того, чтобы немного попровоцировать меня, рассказал Йохен о пожеланиях успеха и счастья, которыми его снабдил Баум на дорожку перед предстоящим визитом к «старшему брату». Я же лишь отметил про себя, что он обладал не только глазами, умевшими четко видеть, но и ушами, способными хорошо слышать.
Однако вначале дело со «старшим братом» пришлось иметь мне, поскольку было очевидно, что без основанного на полном доверии взаимодействия с советскими военными властями и органами безопасности у нас ничего не выйдет. Действовать надо было незамедлительно. Сроки, поставленные доктором Баумом, оказались очень жесткие. Между прочим, это свидетельствовало с том, что речь идет о намерении по-настоящему проверить Йохена Неблинга. Все это требовало крайней осторожности и тщательной подстраховки.
Прибегая к такой проверке, они, вероятно, исходили из следующих соображений. Если новый человек не подставной, то у него возникнут лишь трудности личного порядка, обусловленные спецификой полученного задания. Если же он подставной и действует по заданию противника, то последний должен провести столько координированных и подготовительных мероприятий, что непременно попадет в цейтнот. Выполнение задания в срок явится, таким образом, ответом сразу на два вопроса: годен ли человек для порученного дела и не является ли он «двойником»?
С моим советским партнером я познакомился непосредственно на месте предстоящего действия. Он был коренаст и грузен и на первый взгляд производил впечатление человека угрюмого, лишенного чувства юмора. Впрочем, может, он просто плохо выспался. Знакомясь со мной, он ухитрился произнести слов меньше самого необходимого минимума. А заглянув в его холодные серые глаза, я решил, что этот человек в довершение ко всему еще и вспыльчив. Он был старше меня по званию, но ничем это не подчеркивал — вел себя как хозяин, принимающий гостя. Мне он представился Сергеем Антоновичем.
В бункере было чересчур жарко натоплено для этого времени года и потому невыносимо душно. Однако, поскольку радист, молодой блондин с коротко остриженной шарообразной головой, и выделенный в наше распоряжение переводчик, старший лейтенант с восточными чертами лица, даже не подумали расстегнуть воротники своих гимнастерок, я тоже постеснялся расстегнуть свой гражданский пиджак. Атмосфера в этих бетонных стенах была строгой и напряженной.
На карте с обозначениями линий и объектов связи я еще раз показал местонахождение нашего человека на границе между лесными участками 243 и 244. Нам нужно было быть уверенными, что там в течение ближайших двух часов патруль не появится. Сергей Антонович заверил меня, что этого не случится. Я указал также на отмеченную голубым воздушную телефонную линию, проходившую по лесистой местности от полигона к расположению штаба, чтобы еще раз убедиться, что товарищи подготовили именно ту, а не другую линию. Сергей Антонович отвечал обстоятельно и неторопливо, даже пожалуй, как-то тяжеловесно, будто в этой бетонной парилке ему вообще было трудно говорить.
— Мы будем вести передачи только в течение двух часов из штаба в подразделение, которое согласно приказу уже четыре дня располагается вот здесь, — ткнул он иголкой циркуля в карту. — Мы передадим долгосрочный прогноз погоды, который, как обычно, не оправдается. — На его лице при этих словах не появилось ни тени улыбки. — Потом последует информация о текущих делах: назначение на должности, перемещения, поощрения. Далее последуют сообщения, касающиеся снабжения и сроков ремонта техники. Все это им абсолютно ничего не даст. Передача пойдет в обычной форме — частично открытым и частично зашифрованным текстом. — И он указал взглядом на столик телефониста, где висели кодовые таблицы на сегодняшний день.
У нас еще было достаточно времени. Я нервничал и как раз подумывал о том, не набить ли мне про запас табаком успокоения ради парочку трубок, когда телефонист у коммутатора предупреждающе поднял руку. Сергей Антонович надел лежавшие наготове наушники, но тотчас же сорвал их с головы, сказав:
— Он подключился.
Я посмотрел на часы и убедился, что это невозможно. Было слишком рано. Я еще раз попросил сверить часы. Наши часы показывали одно и то же время.
Сергей Антонович протянул мне вторую пару наушников, сказав по-русски:
— Уверяю вас, он подключился. Я знаю, что говорю.
Старший лейтенант вежливо перевел:
— Товарищ полковник подчеркивает: он подключился.
Прислушиваясь, я размышлял вслух:
— Это не может быть наш человек. Это кто-то другой. Подключился кто-то, кто, вероятно, контролирует нашего человека.
Переводчик перевел быстро, почти синхронно:
— Что вы предлагаете? Товарищ полковник заявляет, что он не будет делить с вами свою ответственность, но и перекладывать на свои плечи вашу ответственность не собирается.
Я понял, что мой партнер умеет погасить в себе вспыльчивость, которую я с самого начала в нем предположил. Что-то должно было произойти. Командовал здесь, так сказать, он, но инициатива была за мной. Сорвав наконец с себя пиджак, я потребовал начать операцию досрочно.
Сергей Антонович колебался. Наличие «контролера» в сети ошеломило пас. Я не мог даже представить себе, что на такой вот открытой местности противник решится посадить на пятки своему новому агенту второго человека. В какой-то мере это обстоятельство меня радовало, поскольку оно свидетельствовало о том, какое значение противная сторона придавала операции. Однако в данный момент все это не облегчало нам поиски выхода. Согласовывая наши мероприятия, мы не предусмотрели такой вариант. В случае чего нам пришлось бы отвечать за все головой.
Сергей Антонович предложил подумать о последствиях на тот случай, если наш человек так и не включится в операцию.
Я решил продемонстрировать уверенность, каковой у меня на деле не было.
— Наш человек подключится, как договорено, — сказал я, — точно в назначенное время.
Сергей Антонович сердито посмотрел на меня:
— Ваш человек! — Сказал он это по-немецки.
Затем он сел к столу телефониста и отдал команду о начале операции. Надевая вновь наушники, я чувствовал, как стук сердца отдается у меня в ушах. В новой ситуации все шло по старому плану. Вначале шифром передавался длинный прогноз погоды. Сергей Антонович все время поглядывал на часы. Критический момент приближался. Когда солдат у коммутатора поднял руку, я не смог совладать с собой и торжествующе воскликнул:
— Наш человек!
Теперь уже и Сергей Антонович снял китель. Несколько мгновений мы еще прислушивались к монотонному голосу, гнавшему по проводу винегрет из цифр. Затем солдат у коммутатора поднял руку в третий раз. Я сразу даже не сообразил почему. Сергей Антонович с досадой выдохнул из себя несколько слов, значения которых я не понял. Переводчик, чеканя фразы, громко перевел:
— Один из двоих отключился. Отключился слишком рано. Должно быть, что-то произошло.
— Можно установить, кто отключился: первый или второй?
— Нет.
Несколько минут спустя отключился и второй человек. Мне не хватало фантазии, чтобы представить, что же могло случиться там, в лесу. Я забеспокоился, мне нужно было время, чтобы обдумать происшедшее. Сергей Антонович стоял против меня в стойке боксера, собирающегося войти в клинч. Осторожненько я предложил свою версию:
— Первым отключился наш человек. По крайней мере, так должно быть по логике вещей.
Да, мне пришлось отключиться раньше оговоренного срока.
До станции (то ли Майхов, то ли Мельхов) я доехал поездом. Мой велосипед путешествовал в багажном вагоне. На полянке рядом с полотном железной дороги я набрал белых польских грибов и сыроежек, которые положил в большую корзину поверх лежавшей там рации, стальных кошек и соединительных кабелей. Весь этот технический скарб я извлек сегодня утром из тайника, который они устроили на свалке, в старой погнутой бензиновой бочке. После часа езды на велосипеде я добрался до места проведения операции. Был полетный день, и реактивные истребители с ревом проносились, почти касаясь верхушек деревьев. Каждый раз я непроизвольно втягивал голову в плечи.
По карте место проведения операции представлялось мне другим, а именно, более укромным. Воздушная линия связи проходила вдоль разъезженной гусеничной техникой лесной просеки. Это совпадало с тем, что было на карте. Но лес, старый сосновый лес, был прореженный и светлый. Молодой березняк, в котором я спрятал свой велосипед, прикрывал меня с одной стороны. Я принялся было уже пристегивать кошки, как вдруг услышал за своей спиной металлический звук. Я осторожно пошел на шум и метров через двести обнаружил очередной сюрприз. О вырубке, к которой я вышел, при подготовке к операции не было и речи. И на старых картах она не значилась. Прямо посередине поляны стоял груженный большими термосами советский военный вездеход. Ребята, видно, решили немного отдохнуть. Конечно же, они это заслужили. Но ведь мы об этом не договаривались! Раздевшись до пояса, они радовались солнцу, словно резвые щенята. Их было двое — шофер и его помощник. Они заехали в лес, чтобы немного посачковать. Обутые в тяжелые солдатские сапоги, они бегали тяжело и выглядели довольно неуклюже. Наконец один настиг другого и они затеяли какую-то монгольскую борьбу, сопровождая ее оханьем и выкриками. Я взглянул на часы — время подпирало. Если они сию минуту не уберутся отсюда, все полетит к черту.
Что мне оставалось делать? Я забрался в кусты малины, втянул голову в плечи и засунул в рот оба средних пальца. Свист прозвучал пронзительно, как военный сигнал. Они отпустили друг друга и оторопело уставились в мою сторону, а затем вскочили в машину и умчались так, что это походило на бегство. Наконец-то мне никто не мешал. Мне никогда не приходилось заниматься тем, что я делал сейчас. И было просто удивительно, как легко все получалось. С кошками на ногах, словно майский жук, я взобрался по столбу, присоединил кабель, забросил на дерево антенну и дал усиление. И в тот же миг вся эта тарабарщина, передававшаяся на русском языке по проводам, вероятно, была принята и записана на пленку американцами в Целендорфе. Я сделал то, что от меня требовалось. Классная работа! Оставалось только надеяться, что в диапазоне коротких волн не будет помех и мои новые начальники будут мной довольны.
По проводам передавали какие-то ряды цифр, когда сквозь листву берез я заметил приближавшуюся по просеке группу велосипедистов. Я рванул вниз кабель и антенну, зашвырнул их концы так далеко, как только смог, быстренько уложил кошки и рацию в корзину и насыпал сверху грибов. И велосипедисты, подъехав ближе, обнаружили грибника, сортировавшего свою добычу. Впереди ехали двое детей. Мальчик, спрыгнув с велосипеда, крикнул тормозившему сзади отцу:
— Посмотри-ка, какие у него грибочки! А у нас ничего! Почему мы до сих пор ничего не нашли?
Папаша уставился на меня с завистью и недоверием.
— Чудесные грибы, — сказал он.
— Да, — подтвердил я, — к тому же совсем не тронутые червем. В этом году они появились раньше обычного. — И я продолжал хладнокровно чистить грибы, одновременно разглагольствуя по поводу методов их сбора.
А девочке прямо-таки не стоялось на месте от нетерпения.
— Где, где вы их нашли? Вы не хотите нам показать?
Я сделал довольно неопределенный жест:
— Там. Езжайте туда. Здесь ничего нет: слишком сухо. А вон там, недалеко, дорога спускается вниз.
Дети мигом вскочили на велосипеды. Мальчик уже тронулся с места, а девочка, устремившаяся было за ним, зацепилась педалью за провод, который я спустил вниз по столбу.
— Дурацкая проволока! — крикнула она.
Отец кивнул мне на прощание:
— Большое спасибо.
Затем он стал помогать девочке выпутаться из провода. Он дергал и яростно рвал его до тех пор, пока до него не дошло, что это за провод. Он поднял глаза к верхушке столба, однако так и не смог оторвать второй конец. Изрыгнув проклятие, он швырнул спутанный провод в траву:
— Типично русская манера. Все время что-то чинят и все вокруг расшвыривают. В немецком-то лесу!
Это был один из тех типов, которые всегда все знают и видят на три метра под землей. Когда смолкло попискивание его велосипеда, я посчитал, что операция закончена. По крайней мере, для меня. День прошел, и слава богу. Что бы там ни было, но в моей корзине лежали прекрасные грибы, которые я в качестве алиби мог предъявить Ренате.
Сидя в бункере, мы, конечно же, не могли знать, что произошло. Сергей Антонович еще какое-то время продолжал операцию, а .затем дал отбой. Когда мы поднялись наверх и остановились возле машины, которая должна была отвезти нас, он, перед тем как сесть в нее, посмотрел на меня долгим взглядом. Казалось, льдинки в его серых глазах похолодели еще на несколько градусов. Он сказал очень сдержанно, а старший лейтенант быстро перевел:
— Вы ведете чертовски опасную игру.
Я выдержал его взгляд и намеренно тихо проговорил:
— Это не игра, товарищ полковник.
В машине он курил «Беломор», делая глубокие затяжки, и что-то беспрестанно говорил переводчику, сидевшему рядом с водителем. У меня уже не было желания вслушиваться. Что прошло, того теперь не вернешь. Можно только либо поумнеть, либо поглупеть. Однако Сергей Антонович вдруг протянул мне пачку папирос, а старший лейтенант, повернувшись ко мне, с особым выражением перевел:
— Товарищ полковник убежден: вы знаете, что делаете. Он просит извинить его за резкость. Был очень напряженный день. Сейчас он приглашает вас на подведение итогов. Он говорит, что считает операцию совместной, что убежден: наш человек там, в лесу, сделал все, что мог.
13
Телеграмма (молния).
Отправлена 1.2 в 16.30.
Секретно.
Вручить дежурному офицеру.
Копии — начальнику отдела по связи с общественностью и начальнику уголовной полиции.
Содержание: по поводу телеграммы в адрес отдела уголовной полиции и письма, отправленного с курьером в адрес отдела по связи с общественностью. Оба документа от 31.1 относительно сообщения в прессе.
Представленное по служебной линии сообщение для публикации в прессе (о происшествии под условным наименованием «Шаденфойер») считать недействительным. Там, где сообщение передано по инстанциям, следует срочно задержать его, в случае необходимости минуя промежуточные инстанции.
Ознакомить окружной совет, первый отдел окружного управления и окружное управление лесного хозяйства.
ВРИО начальника: дежурный офицер
(подпись неразборчива).
Найденная вторая фишка для го — та песчинка на чаше весов, которая способна повлиять на решение. Эрхард Холле рад, что просьба товарища Вернера допустить его к расследованию в качестве консультанта удовлетворена. Из архива учебных материалов он получает старое дело под названием «Мертвый глаз», чтобы сопоставить его с новым делом «Шаденфойер». При повторном просмотре материала он не в силах скрыть своего разочарования. В те времена, но всей вероятности, протоколы велись чересчур лаконично. Либо правила ведения делопроизводства были менее строги, либо из-за особой важности событий меньше доверяли бумаге. Однако на одной из пленок, которую Вернер дает ему в дополнение к учебному материалу и которую он по все еще действующему старому ключу корректирует, обе фишки для го упоминаются два раза. В одном месте даже слышно, как Йохен демонстрирует манеру доктора Баума клацать фишками, перебрасывая их, подобно фокуснику, с ладони на ладонь. Тогда о новом человеке в западноберлинской резидентуре ЦРУ еще не было никаких материалов: ни фотографии, ни образца почерка, ни сведений о служебной карьере. И наряду с его описанием, которое Йохен Неблинг несколько раз пополнял деталями, привычка перекидывать фишки для го в течение некоторого времени оставалась важнейшим сведением в заведенном на него досье.
Эрхард Холле вовсе не собирается утверждать наличие прямой связи между двумя фишками для го, найденными вблизи места обнаружения трупа около автострады на Пренцлау, и человеком, постоянно носившим их с собой, как некоторые носят визитную карточку. Но он первый признает вероятность такой взаимосвязи. И все-таки это для него не истина в последней инстанции. У каждой профессии своя этика, базирующаяся на разнообразных понятиях и символах. У Эрхарда Холле в этом вопросе все редуцируется к одному-единственному пункту. Этот пункт — доказательства.
— Удалось ли нам хоть что-нибудь доказать? — спрашивает он однажды Вернера, после того как они перебирают все мыслимые варианты. — Если бы мы поискали еще, то могли обнаружить и третью фишку. Что тогда?
— Так давай ищи! — бурчит в ответ Вернер. — Можно подумать, что не ты за мной, а я за тобой бегал!
Что-что, а уж одно-то Эрхард Холле хорошо усвоил: самые тяжелые случаи — это те, где все нелогично. Удалось установить мотив преступления, но некого подозревать в нем. Нет субъекта, чьи качества и чей образ жизни соответствовали бы характеру преступления. Пропадает вещь, и никто не знает, была ли она вообще. Девственница умирает от аборта. Внезапно начинает говорить свидетель, всю жизнь считавшийся глухонемым. И совершеннейший абсурд — это когда труп появляется там, где ему совсем не место. Иногда в учебных материалах все упрощается: скажи мне, кто жертва, и я скажу тебе, кто преступник. Если в нашем случае продолжать тянуть нить за найденный конец и продолжать распутывать клубок, то постановка проблемы будет иной, более сложной: кто человек с фишками для го — жертва или преступник?
Холле еще раз сравнивает данные судебно-медицинского заключения о трупе, обнаруженном у автострады, с описанием доктора Баума. С одной стороны, характерные признаки, которые позволили бы идентифицировать труп, отсутствуют, но с другой — пол, рост, вес, телосложение и возраст не исключают идентичности.
Между тем аппарат, помогающий Холле вести расследование, работает все активнее. В государственной библиотеке так ничего и не происходит. Правда, перестраховки ради наводят справки о молодой мулатке Виоле Родригес, записавшейся в библиотеку. Но, во-первых, оказывается, она интересуется не старояпонской поэзией, а немецким фольклором, а во-вторых, тут же выясняется, что это студентка, приехавшая по обмену с Кубы.
Проверка транзитного автомобильного сообщения тоже мало что дает. В период, когда могло быть совершено преступление, пограничным контролем не отмечено никаких происшествий и нарушений, за исключением того случая, когда шведская туристка, возвращавшаяся из Гданьска, так сильно набралась, что в Пенкуне не могла вспомнить свое имя и фамилию, и случая с путешественником без гражданства, у которого таможенники изъяли антикварную вещь — готического ангела с одним крылом. Ни в том, ни в другом случае дополнительная проверка разницы между временем въезда и временем выезда не выявила ничего подозрительного. Кто въехал, тот и выехал. Одним словом, как при игре в «любит — не любит», когда все время выходит «не любит». Но тут Холле, уже уставший от рутинных проверок и сравнений, вдруг наталкивается на одно обстоятельство, которое на первый взгляд не бог весть что, тем не менее заставляет задуматься.
Вечером 27 января, то есть в ту самую субботу, около 21 часа, через берлинский пограничный контрольно-пропускной пункт на Генрих-Гейне-штрассе на большом, уже вышедшем из моды «фиате» в ГДР въехали из Западного Берлина три господина, назвавшиеся коммивояжерами, совершающими деловую поездку по маршруту Пренцлау — Засниц — Треллеборг. Все трое, однако, покинули ГДР через тот же контрольно-пропускной пункт вскоре после полуночи 28 января. В самом этом факте ничего подозрительного нет. Офицер, дежуривший на контрольно-пропускном пункте, когда коммивояжеры возвращались из ГДР, приводит множество подобных случаев: например, историю о западноберлинской супружеской паре, которая отправилась в путешествие по Италии, но вскоре вновь появилась на контрольно-пропускном пункте Древиц, потому что забыла взять с собой собачку и сына. В случае с тремя коммивояжерами все выглядит куда менее драматично. По их словам, сразу за поворотом на Пфингстберг они обнаружили неполадку в двигателе, устранить ее не смогли, а потому не рискнули продолжить путь в Швецию. Они, естественно, пытались дозвониться из автомата до автосервиса, но это им не удалось. На обратном пути у поворота на Финовфурт при заправке они обратились за помощью, однако никто не взялся устранить неполадку. Пограничник вспоминает, что двигатель машины и в самом деле как-то странно трещал — так бывает, когда пробита прокладка, это он знает по своему «трабанту». По времени эти трое могли совершить преступление. Само собой разумеется, что Холле сразу хватается за эту тонюсенькую ниточку. Вместе с Вернером он вновь перебирает подробности путешествия трех коммивояжеров — Кобленца, Вагенфюрера и Хайзингера, пока еще не попадавших в поло нашего зрения.
Итак, использованная коммивояжерами машина в принципе оснащена покрышками иной структуры, чем те, отпечатки которых остались возле места обнаружения трупа, однако, если учитывать, что модель автомашины здорово устарела, замена автопокрышек представляется вполне вероятной.
Сотрудник автосервиса в Грамцове подтверждает, что в ту ночь кто-то действительно звонил с автострады, но из-за повреждений на линии, вызванных ливнями, было так плохо слышно, что он ничего не понял.
Работник автозаправочной колонки в Финовфурте припоминает, что заправлял какую-то старую, но быстроходную «тачку». Сидевшие в ней пожаловались на поломку в машине, поэтому он был крайне удивлен, когда водитель, развернувшись в сторону Берлина, газанул так, что машина помчалась со скоростью молнии.
Вызванный еще на один допрос старик-пенсионер подтверждает, что в тот самый вечер заснул перед телевизором во время передачи, которая закончилась около 22.30, после чего проснулся, пошел посмотреть на крольчиху, ожидавшую потомства, и заметил полыхавший огонь.
Благодаря быстроходному автомобилю, в котором на самом деле никакой поломки не было, троица вполне могла уложиться в зарегистрированные временные рамки: 21.00 — контрольно-пропускной пункт на Генрих-Гейне-штрассе, 22.30 — стоянка у автострады, 0.30 — вновь контрольно-пропускной пункт на Генрих-Гейне-штрассе. Экспериментальная поездка, предпринятая нами, подтверждает, что за вычетом времени, потраченного на езду, его вполне достаточно не только для того, чтобы выкурить сигарету на известной нам автостоянке.
— Маловато, но уже кое-что, — констатирует Вернер.
— А много ли нам, «маленьким людям», надо! — откликается Эрхард Холле.
Несмотря на серьезность ситуации, они не прочь поиграть словами. За несколько дней совместной работы между ними установилось странное, какое-то напряженное взаимопонимание. Само собой разумеется, Вернер оставляет руководство за молодым Эрхардом Холле, но, сам того не желая, здорово давит на него своим авторитетом. Ему даже не нужно что-либо говорить, достаточно, что он здесь, окутанный густыми облаками табачного дыма. И тот, и другой по природе оптимисты, но обоим требуется продолжительный сон. А спать некогда. И вот вводится в действие система взаимных подмен, причем функционирует она так четко, будто они отрабатывали ее годами. Как только отключается один, другой заботится о поддержании необходимого давления в котлах. Если Вернера одолевают юношеские фантазии, его отрезвляет Холле, которому присуще железное чувство реальности. В этом ему могли бы позавидовать даже индейские вожди. Чуть только покажется Вернеру, что Холле копается в мелочах, он тут же выдвигает обобщающую идею. Многое напоминает ему о тех временах, когда он посылал в поиск Йохена Неблинга. Удалось ли им взять правильный след на этот раз?
— Трое здоровых людей отправились в путь, и трое же целыми и невредимыми вернулись назад, — рассуждает он. — Для мертвеца мы пока еще так и не нашли места.
— А этот старый «фиат», — подхватывает Холле, — должно быть, довольно вместителен.
Его слова звучат как сигнал к действию. Они запрашивают хранилище данных ЭВМ относительно методов и техники переоборудования легковых автомобилей для нелегального провоза людей через границу. Для наглядности берут конкретный случай, произошедший с конкретным лицом, приговоренным к лишению свободы за аналогичные преступления. Речь идет о юнце с хорошо подвешенным языком, который надеялся чистосердечными признаниями смягчить меру наказания за свои преступные деяния.
Год назад, прервав учебу на юридическом факультете, он нелегально покинул республику, поселился в Гамбурге и попытался на свой страх и риск заняться контрабандной перевозкой людей. Схватили его во время второй операции по анонимному доносу, исходившему, по всей вероятности, от конкурентов. Терять этому мелкому негодяю было нечего, и он с фамильярной навязчивостью, которая внушала Холле, слушавшему магнитную запись, почти физическое отвращение, принялся выбалтывать свои тайны следователям.
«— Товарищ офицер… Я могу к вам так обращаться, не правда ли? Не думайте, пожалуйста, что проблема транспортировки слишком проста. Способ транспортировки порой решает все. Самый лучший клиент ничего не стоит, если не знаешь, как его доставить.
— Говорите конкретнее, общие положения нам не, нужны.
— Понял вас, товарищ офицер, — засмеялся парень блеющим смешком. — Это вы хорошо сказали: «общие положения». Понял, понял! Вас интересует, как можно перевезти человека из одного места в другое, не так ли? Самое главное — найти место в «тачке». Я всегда говорил: нужны солидные «тачки», с которыми ничего не случится из-за лишней нары швов или пары килограммов. С «остином», «фиатом», «пежо» вы не ошибетесь, причем, чем старее машина, тем лучше: раньше автомобилестроители не экономили. Вы спрашиваете: куда спрятать клиента, если при контроле придется раскрывать багажник? Да, вы правы, этого постоянно приходится опасаться. Считайте, что это мой комплимент вам. Так куда же? Хоп — крышка багажника открыта, а клиент уже лежит под задним сиденьем. Хоп — крышка закрыта, а клиент опять в багажнике. Вы следите за моей мыслью, товарищ офицер? Так вы замолвите за меня словечко? Понимаю. Нет, я не пытаюсь вас подкупить. Я рассказываю вам обо всем, что вас интересует, потому что искренне раскаиваюсь. Вы поняли трюк с крышкой? Она убирается внутрь. Для этого достаточно небольшого моторчика. Ну хотя бы такого, который приводит в движение дворники. Ничего не видно и не слышно. Поднимают заднее сиденье — ради бога! — клиент уже в багажнике. Чего только не придумаешь для дела! Но места должно быть достаточно. Лучшие клиенты, как правило, толстяки, поэтому нужно иметь вместительную «тачку». Теперь вы поняли? Вот и весь секрет. Однако с этим покончено раз и навсегда. Обещаю вам, товарищ офицер!»
Эрхард Холле выключает магнитофон:
— Ну, что скажешь?
Вернер в задумчивости выскребает что-то обгоревшей спичкой из головки трубки:
— Я не специалист по таким делам. Но одно вроде бы ясно: «фиат» старой модели как нельзя лучше подходит для подобных целей. Исходя из этого можно предположить, что четвертым пассажиром в багажнике ехал человек, который потом, мертвый и обожженный, валялся рядом с автострадой. Но кто этот человек?
Их мысли снова возвращаются к доктору Бауму. Искал ли он по каким-то пока еще совершенно непонятным причинам контакта со своим старым партнером? Или возобновил в Западном Берлине старые связи, которые помогли ему войти в контакт с представителями преступного мира, занимавшимися контрабандой людей? А может, он пытался использовать убитого в качестве связника и дал ему с собой фишки для го? Или же он пошел напролом сам н при этом погиб?
Между делом они подбадривают и утешают по телефону Йохена Неблинга, который в ожидании гостьи из Марбурга-на-Лане чувствует себя как на иголках.
И вот однажды, в то время когда вечер опускается на серый город и сердце щемит тоска, поступает сообщение: ненадолго до закрытия читальных залов в библиотеку явилась некто Виола Неблинг, представившаяся студенткой-дипломницей философского факультета и предъявившая паспорт гражданки ФРГ. Она, правда, не записалась в библиотеку, по, сославшись на специфику своей работы, попросила разрешения переговорить с дирекцией.
Вернер сигнализирует Йохену, чтобы он был наготове. Однако последующие часы протекают в бесплодном ожидании. Дальнейшее наблюдение устанавливает, что упомянутая Виола Неблинг, девушка с темной кожей, выйдя из библиотеки, садится в автомобиль, стоявший на Унтер-ден-Линден, и, никуда не сворачивая и нигде не задерживаясь, направляется к контрольно-пропускному пункту на границе с Западным Берлином. Машина у нее — «рено» одного из последних выпусков. Для проверки номер автомобиля вводят в компьютер, который на это никак не реагирует. Держа руку на телефоне, Холле спрашивает взглядом: задержать?
Вернер большим пальцем уминает горящий табак в трубке и отрицательно качает головой.
14
Йохен Неблинг сравнивает берлинскую городскую железную дорогу с машиной времени, на которой всего за двадцать восточных пфеннигов можно проехать сквозь эпохи и к тому же получить за это двадцать западных марок. Мир полон соблазнов. Черными и белыми бывают не только фишки для го. Черное и белое можно отыскать и в постели.
Тогда можно было проехать от станции Осткройц в Восточном Берлине до станции Весткройц в Западном и от станции Гезундбруннен через станцию Фридрихштрассе до платформы Шёнеберг. Большая кольцевая дорога проходила вокруг всего Берлина. Поезда шли слева направо и справа налево, и в них еще существовали отсеки для курящих. Берлинская городская железная дорога была настоящей машиной времени — только более удобной и безопасной, более демократичной и дешевой, чем рисовали ее в своем воображении великие писатели-фантасты. За двадцать восточных пфеннигов она предоставляла вам возможность переехать из одной эпохи в другую. Сел в поезд при социализме — вышел при капитализме. Разумеется, можно было проследовать и в обратном направлении: сесть в вагон при капитализме и поехать в социализм. Эти поездки, конечно же, не делали из капиталиста социалиста или из социалиста капиталиста. Более того, многие люди находили это обстоятельство просто забавным. Переезжая из эпохи и эпоху, можно было развлечься и даже сделать небольшой бизнес, оставаясь при этом тем же, чем ты был.
Но мне кажется, что это все же неверно. При подобпых поездках не удавалось остаться тем, чем ты был. Во мне, во всяком случае, каждый раз, когда я посещал ту сторону, происходили незримые перемены. Приехав в другой мир, ты начинал смотреть на все иными глазами. Наталкиваясь на жесткость — сам становился жестче, встречая холодность — сам становился холоднее, чувствуя чужой локоть под ребрами — старался пустить в ход собственные. Позднее я не раз пытался объяснить детям свои ощущения при переездах из одного мира в другой. По-настоящему они, пожалуй, не поняли этого до сегодняшнего дня. Представления о жизни рождаются самой жизнью. Тем, кто, подобно моим детям, вырос в обществе, ориентирующемся на принцип солидарности, трудно понять, что есть другое общество, которое зиждется на чистейшем своекорыстии. В этом им уже никто не поможет. И как же это здорово!
С некоторых пор я вынужден был отказаться от машины времени, именуемой городской железной дорогой. Доктор Баум строжайше запретил мне ею пользоваться. И, как это пи курьезно, Вернер полностью признал его правоту. С какой стороны ни посмотри, моя миссия была слишком деликатна, чтобы я мог довериться общественному транспорту. Таможенники и пограничники все время проводили там выборочные проверки. Так как я подписал обязательство не посещать западные сектора города, мне приходилось добираться туда менее удобным путем. Я трясся на трамвае до Пренцлауераллее, огибал Александерплац, над развалинами которой до сих пор еще стояла пыль, вдыхал на мосту через Шпрее дым и выхлопы буксиров и попадал в обгоревшие руины Кельнского форштадта. Последняя остановка трамвая перед секторальной границей находилась на Анненштрассе. В отличие от городской железной дороги и метро, автобусы и трамваи не пересекали ее. Юго-восточное кольцо, по которому курсировала «семерка», и внешнее кольцо, по которому ходила «пятерка», уже не были кольцами в полном смысле этого слова. Ты приезжал из восточной части города на трамвае восточноберлинского акционерного общества городского транспорта, выходил на остановке, переходил с одного тротуара на другой — и вот ты по ту сторону границы. Здесь ты садился на трамвай уже западноберлинского акционерного общества городского транспорта и ехал дальше — кое-где даже с тем же самым билетом. Раскол трех с половиной миллионного города стал фактом, но те, кто его совершил, по-прежнему публично ратовали за его единство от речки Панке до речки Крумме Ланке[19] хотя это было такой же фикцией, как великий рейх от Мааса до Мемеля[20].
Среди развалин сохранилось несколько нижних этажей задней части одного из домов. От передней части остался только кусок лестницы, ступеньки которой вели в пустоту. Иногда на верхней площадке этой лестницы собирались посидеть ребятишки — наверное, им хотелось быть поближе к солнышку.
Я прошел мимо этой лестницы и вошел во двор, где какой-то огородник с двумя старушками изготовляли уксус с эстрагоном и мариновали огурцы с огородов Шпреевальда. Еще несколько шагов — и я оказался в задней части дома. По дощатому настилу прошел над провалами в подвалах. Совершив прыжок из черного обгорелого окна бывшей квартиры в бельэтаже, я приземлился в Западном Берлине.
На другой стороне улицы среди развалин функционировал кинотеатр. Над его фасадом красовалась ярко намалеванная реклама: смеющийся голубоглазый блондин летел в небо верхом на ракете. «Вернер фон Браун: я достаю до звезд», — кричала надпись.
В тот вечер у кинотеатра выстроился пикет противников ядерного вооружения. В большинстве своем это были молодые люди. Они стояли с серьезными, можно сказать, даже мрачными лицами, растянув полотнище транспаранта: «Нацистские ракеты угрожают нашей жизни!» У ракеты, нарисованной на транспаранте, в том месте, где находилось топливо, был изображен череп — эсэсовская эмблема. Мужчина с монтерской сумкой под мышкой остановился, а затем принялся топтать ногами листовку, которую ему вручили пикетчики.
— Свиньи, и вы еще называете себя немцами?! — выкрикивал он, плюя им под ноги. — Шли бы лучше работать, предатели! Отличная работа — вот чем всегда славились немцы!
Полицейский, который, будто случайно, оказался в этот момент поблизости, взялся рукой за пояс, на котором висели дубинка и кольт. Большинство прохожих с подчеркнутым равнодушием проходили мимо. Они не хотели знать пи того, что было, ни того, что будет. При виде этого спокойного мужества, с которым девушки и юноши, словно скалы, стояли среди моря враждебности, у меня сжалось сердце. Но я был всего лишь прохожий. И так же равнодушно, как все остальные, я прошел мимо тех, кто по духу были моими товарищами.
Я был в пути. Однако был ли это путь к самому себе? Чего я хотел? И чего я смогу добиться? Никогда не забуду мгновения, когда мои глаза встретились с глазами молодой женщины. Она протянула было мне листовку, но вдруг задержала и опустила руку. В ее взгляде сквозили печаль и упорство: «Иди, брат, иди дальше, пребывая в слепоте и дреме, а я останусь здесь, чтобы исполнить наш долг — и за себя, и за тебя… А ты хотя бы подумай о том, что я могла бы сказать тебе…»
И я. пошагал дальше, не сбиваясь с ритма. Лишь сердце дало короткий перебой: разве так ищут правду? Но, едва начав играть, я оказался в плену своей роли. Молодые люди, стоявшие в пикете, боролись за жизнь, а я проходил мимо, как один из тех, кто этого не понимал. Они таким образом защищали нас от смерти, а я в их глазах был одним из тех, кто помечен ею.
Я проехал еще пару остановок на метро. Доктор Баум ждал меня в открытом кафе у зоосада. Он заказал два стакана сока. Он молчал, и только иногда в его руке клацали фишки для го. Он вытянул свои длинные ноги с огромными ступнями, и казалось, будто ему ничего иного и не хотелось, как только подышать воздухом в моем обществе. Однако, когда вокруг нас начали загораться и прыгать неоновые рекламы, он заметно приободрился и предложил мне устроить «блицтурне» по увеселительным заведениям, причем новое слово обрадовало его самого.
В одном из отделанных кафелем гаштеттов мы прямо руками полакомились прекрасной селедкой, запивая ее дорогим джипом. Потом где-то за Курфюрстендам[21] в крохотном театрике на два десятка мест посмотрели экзистенциалистскую одноактную пьесу, в которой целый рой молодых дам в античных одеяниях то ли приносили жертву ангелу смерти, то ли их самих приносили ему в жертву. Затем мы отправились в казино, где сделали пару ставок, причем доктор Баум неуловимым жестом пододвинул мне весь наш выигрыш, и подцепили каких-то дурочек, которые рвались перейти к делу тут же, в тесном «фольксвагене». Сбагрили мы их двум совершенно незнакомым парням в ресторане отеля «Кемпински», а сами задержались там, чтобы при свете свечей выпить шампанского и насладиться тихой фортепьянной музыкой. Все это казалось крайне приятным и интересным и очень походило на этакую милую импровизацию, и все же меня не оставляло чувство, что действует он точно по заранее намеченному плану. Так хотел ли в действительности этот не похожий на своих соотечественников янки показать мне жизнь такой, какой она должна быть, чтобы ею можно было наслаждаться? Или просто проверял, как я переношу алкоголь? А может, решил посмотреть, как я плаваю в незнакомых водах? Или ему надо было кому-то показать меня?
Я придерживался своей прежней тактики и вел себя сдержанно! по большей части оставлял рюмки недопитыми, а к некоторым вообще лишь притрагивался. Доктор Баум выпивал все до дна, по не принуждал меня следовать его примеру. Алкоголь, казалось, не действовал на него. Он оставался бледен и холоден, словно мумия. Уверенно вел «фольксваген» через интенсивное вечернее движение, почти не глядя пи направо, ни налево, будто ехал по пустому хайвею где-нибудь в штате Юта. Иногда он, правда, делал неожиданные вещи. Так, в ресторане отеля «Кемпински» он втянул метрдотеля в разговор о пристрастии немцев к национальной кухне и поинтересовался, что обычно едят на ужин немецкие подметальщики улиц. Метрдотель, которого сбил с толку прекрасный, без акцента, немецкий этого профессионального германиста, со смущенной ухмылочкой предположил, что, наверное, бутерброды со смальцем и гарцским сыром. Баум тут же пожелал отведать бутербродов со смальцем и гарцским сыром. Метрдотель побледнел: столь простое блюдо в ресторане не готовили. Но Баум продолжал упорствовать до тех пор, пока к нему не вызвали управляющего, который покосился на наклейку стоявшего на столе шампанского — одного из самых дорогих сортов, имевшихся в ресторане, — и выслал мальчика-посыльного в ночь. Через каких-нибудь полчаса перед нами лежали гарцские бутерброды, украшенные ломтиками апельсина и сдобренные редькой и горчицей.
Посетители с соседних столиков, над которыми поднимался парок от скорлупы омаров и витал запах дорогого пива, обратили на пас внимание. Баум попробовал кислого черного хлеба и пахучего постного сыра и, не сдержавшись, скорчил гримасу отвращения. Позже он дал царские чаевые. Просто удивительно, как это люди, подобные ему, умеют извлечь пользу из всего в этом исковерканном мире.
Когда мы снова сели в машину, он протянул мне две зажатые в кулаки фишки для го и предложил наугад выбрать одну. Я выбрал черную, и он загадочно улыбнулся. Странная увертюра, смысла которой я так и не понял, похоже, подходила к концу. И вот мы прибыли в темный дом неподалеку от Курфюрстендамерплац. По тому, как Баум искал на темной лестничной клетке выключатель, я понял, что живет он не здесь. Свет не зажегся.
— Подождите немного, — попросил меня доктор Баум.
Стараясь ступать неслышно, он поднялся наверх по толстой ковровой дорожке, изредка задевая своими огромными ступнями за медные прутья, которыми дорожка была прикреплена к лестнице. Наверху он на повышенных тонах объяснился с кем-то. Я решил было воспользоваться предоставившейся мне возможностью и удрать, но, взявшись за ручку двери, понял, что доктор Баум запер ее. Сверху пробивался луч света — стройная, тоненькая женщина спускалась ко мне, неся в руке тяжелый серебряный канделябр с пятью длинными свечами. Когда она остановилась передо мной, я сообразил, что кожа ее темна не от падающей на нее тени. Просто в темноте она больше блестела, отливая оливковым цветом. За ухом у нее торчал какой-то экзотический цветок. Искусно положенная помада несколько скрадывала очертания ее большого рта. Подойдя, она потупила взор, ласково взяла меня за руку и, ни разу не улыбнувшись, повела наверх.
Мы очутились в квартире, стены которой от пола до потолка были обиты панелями из черного дерева. Мы направились туда, откуда доносилась музыка. В помещении, которое своим высоким потолком, мягкой гнутой мебелью, толстыми портьерами и плоскими цветочными горшками напоминало декорации к кинофильму по одному из произведений Мопассана, уже сидел доктор Баум, удобно устроившись в кресле. Его огромные ботинки стояли рядом с ним на подстилке из овчины. Он ослабил узел галстука, а еще одна женщина, которая в отличие от первой, темной и хрупкой, оказалась светлой и довольно упитанной, заворачивала ему наверх манжеты его белоснежной нейлоновой сорочки. Затем она лениво развалилась на кушетке и, захватив длинными пальцами голой ноги складку его брюк, стала ее разглаживать.
— Располагайтесь поудобнее, — предложил он мне, — и перейдем к деловой части.
Я присел напротив него на край кресла с откинутой далеко назад спинкой. Рядом со мной хлопнула пробкой бутылка шампанского. Красотка с Карибского архипелага, доставившая меня сюда, держала в руке роняющую пену бутылку. Издав жалобный стон, она умоляюще взглянула на меня и с грацией газели протянула руку, по которой, струясь, бежало дорогое питье. Она, должно быть, ожидала, что я слижу шампанское языком, а заодно покрою поцелуями ее руку. Я же ограничился тем, что вытер ей руку не совсем свежим носовым платком.
Баум улыбнулся и коротким взглядом приказал наполнить бокалы. Подняв бокал, он обратился ко мне:
— За ваше первое задание! Вы справились с ним великолепно. До дна, мой дорогой!
Мы выпили. Темнокожая девушка пристроилась на подлокотнике моего кресла. На ней была желтая туника, которая не столько прикрывала, сколько открывала ее прелести, и у меня появилось ощущение, будто я яблочный пирог, а надо мной вьется оса. Доктор Баум посмотрел на нас оценивающим взглядом любителя порнозрелищ, чьи расчеты не оправдываются.
— Может, поменяемся? — спросил он. — Правда, вы угадали черное…
Он шлепнул блондинку по ляжке, и та, надув губы, послушно отлепилась от него и заняла место возле меня. Откуда-то издалека с нескончаемой пленки лилась музыка, тянувшая за кишки. Это было, как мы выяснили путем сопоставлений по настоянию Вернера позже, болеро Равеля. Усадив к себе на колени, словно декоративную кошку, экзотическую красотку, Баум безучастно наблюдал, как я управляюсь с другой.
— Мы в Штатах уже два столетия живем бок о бок с черными соблазнительницами, — сказал он и снова поднял бокал: — Пейте! Это же возвращение в рай после грехопадения.
— Я не верю в первородный грех. Да и что такое грех? И почему это называется падением? Вся жизнь — сплошные падения и подъемы. Что общего между падением и грехом?
— В вас заговорил диалектик.
Блондинка, ровным счетом ничего не понимавшая, поднесла мне бокал к губам:
— Пейте, mon ami[22]! Это eau d'amour[23]. — Французские слова она произносила с таким акцептом, по которому сразу становилось ясно, что ее язык более привычен к берлинскому диалекту, а французский она усвоила не иначе как в Нойкёльне[24] и скорее всего для того, чтобы играть хоть какую-нибудь роль в этом огромном, неуютном мире.
Выглядел я, вероятно, довольно жалко, потому что Баум сказал с улыбкой:
— Да не робейте вы! И расслабьтесь! Отныне и навсегда я с вами! — А затем, подчеркивая каждое слово, произнес: — И на вашем первом задании я был рядом с вами.
Взгляд его я выдержал:
— Я предполагал это и соответствующим образом настроился.
— Можете гордиться, что и я с самого начала вас правильно оценил. Я предупредил аналитиков в нашем Центре, но они все равно в восторге от вас, «А-1»!
— «А-1»? — переспросил я.
— Да, «А-1», — подтвердил он и ободряюще улыбнулся: — Это значит, что ваш материал оценен как абсолютно достоверный и ценный. «F-6» расшифровывается как совершенно бесполезный — это противоположный конец шкалы. Тогда бы мы, разумеется, не сидели здесь вместе.
Довольно! Я решился идти ва-банк. Пора было кончать с инсценировкой, в рамки которой не вписывались ни я, ни доктор Баум, и сказать ему пару слов. Я поднялся, стряхнув со своего кресла дебелую блондинку, и нарочито громко сказал:
— Уже поздно. С меня достаточно. Я выхожу из игры.
Девицы перепугались. Взгляд Баума приобрел еще большую меланхоличность.
— Милые мои, — обратился он тихо к дамам, — у нас разыгрался аппетит. Приготовьте нам чего-нибудь. Из французской кухни, если можно.
Они моментально ретировались. Баум поднялся, вставил ноги в ботинки, затянул узел галстука и резким ударом по клавише магнитофона выключил музыку. В наступившей тишине он очень внятно спросил:
— Вы что-то сказали?
Я взял в руки свою старую куртку.
— Вы правильно меня поняли. Я чувствую себя маленьким Морицем, которому хотят показать, что такое бордель. Мне это ни к чему, и я выхожу из игры.
— У вас явные нелады с логикой, мой милый. — Баум принялся хозяйничать у бара. — Совсем недавно вы заявляли, что не хотите вступать в игру, а теперь собираетесь выходить из нее.
Он протянул мне бокал, но я не взял его.
— Везде одно и то же — что у вас, что у пас. Я знаю, на что способен и где особенно силен — в электронике. Я уже наводил справки. «Сименс», «ЦТТ», «Браун» — все эти фирмы обеими руками ухватятся за такого специалиста, как я.
— Возможно. Только не забывайте, что мы то самое туловище, к которому прикреплены эти руки.
— Вы пытаетесь запугать меня?
— Нет, хочу разъяснить вам ситуацию. Вы мечтаете стать крупным специалистом в области электроники. Почему бы и нет? Но только позже, мой дорогой, после того, как поработаете на нас. Как там говорится в пословице? Каждому овощу свое время.
Пришлось принять от него бокал, наполненный темной жидкостью.
— Эта работа не по мне. Она не для моих не слишком-то крепких нервов.
— Вот уж не скажите! У вас просто талант. Аналитики вами очень довольны. Они горды, что отыскали наконец настоящего пруссака — трезвого и расторопного. Используйте ваш талант! Мы со своей стороны сделаем все, чтобы отшлифовать его. — Он чокнулся своим бокалом о мой: — Мы сделаем из вас первоклассного специалиста. Мы умеем ценить талант и знания и хорошо платим. Вот тогда-то, мой дорогой, мир действительно будет лежать у ваших ног — наш свободный мир. За заслуги вы даже можете получить американское гражданство. Так неужели вы хотите большего, чем царство небесное?
— А моя семья?
— Ах да, конечно! Я совсем забыл, что вы немец. Забыл о вашей привязанности к семье. — Он отпил из бокала. — Когда вы успешно выполните свою миссию — а она имеет смысл только в том случае, если завершится успехом, — эти вопросы решатся сами собой. Но тогда мы будем жить в одном мире — неразделенном. Вы меня поняли? И вы сможете сегодня гулять по Пятой авеню в Нью-Йорке, завтра — по Александерплац, или, как вы, берлинцы, привыкли говорить, по Алексу, а послезавтра — по Красной площади в Москве. — Он улыбался, но в его глазах было мало дружелюбия: — Давайте еще раз присядем.
В качестве главного блюда дамы приготовили нам говяжью ляжку внушительных размеров. Мой аппетит оказался ей под стать — я был в хорошей форме. Пришлось мне но вкусу и красное вино, и я с удовольствием поглощал его. Между прочим, дамы переоделись и за столом сидели в простеньких костюмах, а когда доктор Баум втянул их в шутливый разговор о кулинарном искусстве, они наконец начали реагировать как обыкновенные девушки, и притом веселые. Потом была подана бомба из мороженого с горячим шоколадом. Когда я, предвкушая удовольствие, укладывал на коленях салфетку величиной с детскую пеленку, доктор Баум пододвинул ко мне через стол конверт, в котором лежало несколько банкнотов и записка с цифровыми и буквенными комбинациями.
— Немного денег на дорожные расходы, — пояснил он. — Ровно столько, чтобы это не повредило вашей и нашей безопасности. А вообще-то, с вашего позволения, я открыл на ваше имя счет в долларах. Не забывайте, что он может вырасти. Запомните номер счета. Он равнозначен тому волшебному «Сезам, откройся!», которое позволит вам попасть в тот мир, о котором вы мечтаете.
Блондинка зевала. От долгого стояния возле плиты лицо у нее горело. Баум, откинувшись на спинку стула, наблюдал, какое впечатление произвели на меня его слова, словно хотел проверить, действительно ли я мечтаю о том мире, который он здесь представлял. Фишки для го клацали в его закрытой ладони. Затем он сделал усталое движение:
— Хорошо. Мы довольны. Теперь прощальный поцелуй, и все.
Обе девицы послушно поднялись, но он придержал их:
— Я, кажется, забыл представить наших хозяек? Пардон! Правда, иногда лучше не знать, с кем имеешь дело. Моника и Сюзанна, господин Глаз сохранит о вас самые благодарные воспоминания.
Когда мы остались одни, доктор Баум спросил:
— Как вам нравится ваше новое имя? Под этим псевдонимом вы будете трижды в неделю давать мне знать о себе. Впереди у нас много работы.
Мы принялись изучать напряженный, рассчитанный по минутам план моей специальной подготовки. И все-таки тогда я даже представить себе не мог, что меня ожидало. Я только один раз украдкой посмотрел на часы, потому что знал: Рената не сомкнет глаз, пока я здесь разыгрываю из себя господина Глаза. Близилась полночь.
Баум заметил мое беспокойство и подлил мне красного вина.
— Время, которое мы тратим сейчас на то, чтобы обговорить все в деталях, приносит тройную пользу, — сказал он. — У меня относительно вас большие планы. Вот, почитайте-ка!
Он бросил мне через стол западноберлинскую бульварную газету. Речь в ней шла опять-таки об американском самолете, сбитом над Свердловском. В Москве над пилотом американского самолета, неким Пауэрсом, выпрыгнувшим с парашютом, был устроен судебный процесс. Пауэрс предпочел не раскусывать капсулу с ядом, которую его хозяева из ЦРУ вложили в металлический доллар и дали ему перед стартом. А теперь, сидя на скамье подсудимых, он беззаботно выбалтывал все, что ему было известно об агрессивной системе американских высотных разведывательных полетов. В аршинном заголовке высказывалось предположение, что русские в качестве ответной меры могут ввести войска в Западный Берлин.
— Газеты всегда печатают чушь, — сказал Баум. — Но у инцидента есть и другая, весьма неприятная сторона. Сбита летающая фотокамера, а это уже не только политическая катастрофа. В технологическом отношении это отбросило назад весь наш аппарат. И вы должны это понимать лучше, чем я, потому что вы — электронщик. Если наши самолеты, летающие в стратосфере, стали достижимы для русских ракет, значит, мы не можем полагаться только на электронные телекамеры и радиоразведку. Возможно, когда начнет осуществляться новая программа создания и использования спутников, опять пробьет час электронных щупалец. Но сейчас мы переживаем период ренессанса классической разведки. Наш час настал.
Несмотря на выпитое, он был бодр, свеж и собран, как стальная пружина. Но когда он достал доску для игры в го и с вызовом поставил ее на то место, где раньше покоилось блюдо с жареным мясом, я отрицательно покачал головой.
— Я вас неправильно понял? — разочарованно спросил он. — Значит, вы не играете в го?
— Нет-нет, играю, — успокоил я его и постучал по часам: — Однако не забывайте, что у меня есть и другая жизнь. Вы не должны отнимать у меня времени больше, чем необходимо. Это может повредить и моей и вашей безопасности.
Оп сразу все понял и умерил свой пыл. Накинул на плечи пиджак и погасил свет. В темноте упал на пол бокал. В прихожей доктор Баум поманил меня пальцем к приоткрытой двери. Нашим взорам представилась потрясающая картина. В матовом свете ночника на громадной кровати, подобной которой я никогда не видел, спали обе наши красотки. Нежась во сне, они были поистине прекрасны. Черная и белая спали обнявшись, словно сестры.
— Вот оно, блаженство, от которого мы отказались, — прошептал Баум.
На его лице было написано презрение, но я не мог поступить иначе. Я расправил сбившееся у них в ногах одеяло и накрыл их. Черная что-то пробормотала во сне.
Баум довез меня до ближайшей станции. Сидя в машине времени городской железной дороги, мчавшей меня к пограничной станции, я окончательно осознал, что мне просто необходимо научиться играть в го.
15
Редакция окружной газеты.
Главному редактору (лично).
Срочно.
Служебная записка
Содержание: относительно задержки при подготовке полосы с информацией о жизни округа для выпуска газеты от 1.2.
31.1 в 14.00 курьерской почтой народной полиции в редакцию было доставлено для опубликования обращение к населению с просьбой помочь в расследовании преступления на транзитной автостраде. Был указан также срок разрешения на его опубликование. В соответствии с этим я обратился в секретариат редакции (к выпускающему редактору) за разрешением внести изменения в размещение материалов на странице о жизни округа в номере от 1.2. Поздно вечером 31.1 меня на моей квартире посетил знакомый сотрудник окружного аппарата МГБ и проинформировал о том, что в редакцию поступило распоряжение снять указанный материал в интересах расследования по данному делу. Руководствуясь интересами дела, я дал указание заменить вышеназванный материал после того, как выпуск был уже подписан в печать, мотивируя это тем, что ранее допустил ошибку. Выпускающий редактор по телефону в грубой форме пообещал мне устроить разнос, что противоречит указанию не разглашать все, что касается данного дела. Настоятельно прошу не допустить этого, поскольку я лично ни в чем не виноват, а кроме того, я поручился за осуществление упомянутого дела.
Коммерческий директор Хемпель.
1.2.
В одной из оснащенных телефоном боковых комнат каталожного зала государственной библиотеки дежурит Холле. Гостья должна пожаловать в одиннадцать. Но уже в девять маленький «рено» пересекает мост Зандкрутбрюкке — там, где старый канал образует границу между портами Гумбольдхафен и Нордхафен. На контрольно-пропускном пункте, что на Инвалиденштрассе, владелица «рено» предъявляет удостоверение на имя Виолы Неблинг, проживающей в Марбурге-на-Лане, и разрешение на въезд и пребывание в ГДР в течение дня.
Холле, к которому поступает данная информация, испытывает и облегчение и беспокойство одновременно. Вернер прав: птичка прилетела тем же путем. Но что она собирается делать в течение двух часов, оставшихся до посещения библиотеки? Вести за ней наблюдение вроде бы не составляет труда. Но пока не выявлено ничего подозрительного. «Рено» мотается по центру от одного книжного магазина к другому, от одной антикварной лавки к другой. Владелица автомашины, существо, похожее на гнома, так высоко взбившая свои жесткие кудряшки, что ее голова напоминает подстриженное буковое дерево, привлекает к себе внимание. Расплачиваясь везде западной валютой, она покупает вазу в стиле бидермейер и очень дорогую папку с набором гравюр работы какого-то английского художника. Все это копии с японских оригиналов, выполненных тушью. Подобное, как уже известно Холле, более чем детально изучившему дело «Мертвый глаз», играло определенную роль в отношениях между Неблингом и доктором Баумом. Что это — намек? Но на что?
Нежданно-негаданно около 10.30 звонит сам Йохен Неблинг. Оказывается, кузина разыскала его по телефону на заводе и договорилась пообедать с ним в ресторане. Холле ругается про себя: хороши наблюдатели, если не заметили, как Виола звонила по телефону. Но откуда ей известно, где работает кузен? Совершенно очевидно, что У нее имеются связи не только с библиотечными архивами. И Вернер, которому Холле докладывает по телефону, высказывает озабоченность по этому же поводу. Он не исключает, что кое-кто пытается, правда, с опозданием, отомстить Йохену Неблингу, и настаивает на усилении мер безопасности.
Посещение Виолой библиотеки не дает ничего нового. Как и было написано в ее письме, она желает посмотреть несколько очень цепных, недавно обнаруженных японских рукописей, которые в конце прошлого века были привезены в Европу каким-то авантюристом, морским офицером. Ей разрешают ознакомиться с рукописями в присутствии сотрудника библиотеки. Она заказывает несколько фотокопий, которые намеревается забрать вечером. Ее дальнейшие намерения или какие-либо контакты остаются невыясненными.
Досадная оплошность происходит на улице. Покинув государственную библиотеку, Виола направляется к своей машине, которую она, обманув бдительное око полицейских, поставила за каштановой рощицей, в небольшом переулочке, поскольку улица Унтер-ден-Линден временно закрыта для движения. В этот момент к зданию Старой Караульни, построенному архитектором Шинкелем, приближается президент одной из африканских стран, находящийся с официальным визитом в Берлине и пожелавший официально же возложить венок к Вечному огню. По Унтер-ден-Линден к месту возложения венка с флажками и пестрыми платками устремляются темнокожие молодые люди — соотечественники президента, в большинстве своем студенты, обучающиеся в ГДР, чтобы поприветствовать главу своего государства. Вид у Виолы настолько экзотичен, что они принимают ее за соотечественницу и тащат ее, изумленную и сопротивляющуюся, за собой. Возникает толчея, и нельзя понять, случайная ли это встреча или искусно срежиссированный спектакль.
Виола Неблинг безнадежно зажата в толпе. Наблюдатели, высланные Холле, и люди, охраняющие президента, устраивают неразбериху. Когда по завершении церемонии президент обращается к своим землякам с дружеским приветствием и, продвигаясь вдоль оцепления, пожимает протянутые к нему руки, он, естественно, пожимает руку и Виоле.
Холле узнает обо всем этом по радио уже по пути на место и успевает предотвратить самую большую неприятность. Когда Виола Неблинг, наконец-то выбравшись из толпы, направляется к своему все еще находящемуся в кругу оцепления автомобилю, ее там поджидают два молодых человека. В последний момент им подают сигнал потихоньку удалиться.
В то время как Йохен Неблинг приближается к ресторанному столику, за которым сидит его кузина, та еще не пришла в себя от неожиданного приключения. Похожая на черного гнома, энергично жестикулируя, она громко рассказывает о том, как попала в руки целой своры восторженных мавров. Она до сих пор не понимает, что же, собственно, произошло. Ничего не может понять из ее путаного рассказа и Йохен Неблинг. Лишь после того как он заказывает ей двойную порцию коньяка, она немного успокаивается. Они пьют за свидание и тут же поправляют себя: «За знакомство!» По лихой манере опрокидывать рюмку с коньяком Йохен узнает в кузине дочь тети Каролины. Она же испускает глубокий вздох и смотрит на него широко раскрытыми глазами:
— Вот, значит, как выглядит Каролинин любимчик! А знаешь, я ведь всегда ревновала ее к тебе. Только я представляла тебя почему-то более молодым, а ты похож скорее на моего дядю.
— Очень любезно с твоей стороны.
— Пойми меня правильно — на дядю, с которым не стыдно появиться где угодно. Ну а теперь скажи: чем ты собираешься меня потчевать?
Он заказывает судака с картофелем в укропном соусе. Ее аппетит не уступает ее словоохотливости. Они еще не успевают съесть суп, а ему уже становятся известны все драматические повороты ее судьбы: Каролина… ее пивная… пансионат… побеги… любовь… путешествия… автомобильные катастрофы… учеба в университете… И неизменный интерес к японским поэтам, японским соблазнам… И Йохен мысленно спрашивает себя, каким образом этот непоседливый дух попал на трону науки и что из этого получится…
О недавно обнаруженных рукописях она говорит, закатывая от восторга глаза. Они станут основным материалом для переработанной докторской диссертации[25]. Нужно только проверить, что собой представляет этот богато иллюстрированный текст: неизвестную ранее прозаическую версию некоторых драм середины эпохи Хэйан[26] или своеобразные указания для режиссера? Но в любом случае они в совершенно новом свете покажут Японию тех времен, когда она еще не испытывала на себе влияния европейской культуры. При дальнейшем аналитическом исследовании может выясниться, что основные положения дальневосточных философских школ, нашедшие выражение в древнеяпонской поэзии, имеют гораздо больше, чем это предполагалось до сих пор, параллелей с мифологией стран Запада. Бои драконов с ветрами, подобно древнегреческим легендам о битвах титанов и древнегерманским сказаниям о гибели богов, разукрашенные описаниями преображений и жестокостей, должны получить совершенно новую интерпретацию. Собственно говоря, речь идет о трех драконах: красном, зеленом и белом, то есть о загадке человеческого существования, столь же загадочно выразившейся в понятии триединства, которое нашло свое идеалистическое воплощение во всех великих религиях, основывающихся на легенде о воскрешении, в то время как четыре ветра: северный, восточный, южный и западный — напротив, символизируют нерушимую гармонию универсума. И это вполне диалектическое противоборство между человеческим разумом и силами природы вплоть до нашего времени находит подтверждение в многочисленных символах и свидетельствах, прежде всего в стремлении признающих детерминизм высокоразвитых азиатских народов бросать вызов судьбе и случаю. Например, в китайской игре маджонг три дракона играют ключевую роль, а в японской игре го борьба в четырех углах доски символизирует противоборство таинственных сил, правящих миром.
Йохен Неблинг принуждает себя внимательно слушать, хотя никак не может уследить за сумасшедшими гипотезами кузины. он пытается уловить нюансы или какой-то тайный смысл в ее словах, что было связано с содержанием полученного им письма. Однажды он даже перебивает кузину: принимается рассказывать ей о дебютной фазе го, в ходе которой, задолго до того, как начинается собственно борьба, возникают, казалось бы, безобидные контакты и происходят соприкосновения черных и белых фишек — своеобразная встреча без столкновения, а под конец спрашивает, не считает ли она, что в этом и заключается смысл существования человечества, которое стремится к сотрудничеству. Выразиться яснее он не хочет и не может.
Кузина энергично отмахивается: сама она в го не играет и считает это пустой тратой времени. Го лично для нее — все равно что опошление мысли, неумение оторваться от конкретики, к тому же эта игра непонятна до конца даже знатокам. Ну а сама Виола, будучи профаном, вообще ничего не понимает в ней. Но тут она вдруг вскидывает веер ресниц и, одарив его лучезарной улыбкой, восклицает:
— Постой-ка, кузен! Что я слышу: ты играешь в го? Замечательно!
Во всех этих речах трудно обнаружить скрытый смысл. Ни от одного из ее слов тайной не пахнет, и постепенно Йохену становится ясно, что молодая женщина, сидящая рядом с ним, лакомящаяся судаком и пльзенским пивом и занимающаяся умственными выкрутасами, никакая не связная. Она проговаривает фразу за фразой, будто нанизывает звенья цепи, и сама увлекается все больше и больше. Типичная соискательница ученой степени, стремящаяся выжать все из себя и из своей темы. Иных намерений у нее наверняка нет.
Непривычно обильная пища действует на Йохена Неблинга усыпляюще. Им овладевает этакая ленивая расслабленность. Когда подают счет, он уже убежден, что потратил казенные деньги на банальную родственную встречу, хотя родственница оказалась особой весьма занятной. И к расслабленности примешивается разочарование. Значит, все, что он подозревал, лишь плод его воображения?
Они выходят на улицу. Морозный воздух бодрит. От их дыхания вверх поднимаются облачка пара. Миновав мост через Шпрее, они останавливаются и, прислонившись к парапету, наблюдают за рыболовами, которых не смущает ни холодная погода, ни расположенные за их спинами классически строгие ряды недавно отремонтированных бюргерских домов. Они прогуливаются по набережной вдоль медленно текущей реки. Башенки большой церкви отражаются в воде, по которой плывут льдины. Кровлю церкви уже покрыли новыми медными пластинами. Над ней плавно двинется стрела подъемного крана, и вдруг, будто откликаясь на зов предводителя небесного воинства, вверх величественно взмывает ангел, которому приделали поврежденные во время бомбежки крылья. Когда он зависает на нескольких тросах, кажется, что он благословляет обитателей бренной земли, остающихся там, внизу.
— Он летит, он летит! — ликует кузина. — Наконец-то я увидела летящего ангела! — И она прыгает от радости.
Затем они неторопливо бредут куда глаза глядят. Виола молчит. Будучи человеком, привыкшим постоянно встречать что-то новое, она с заинтересованным вниманием слушает рассказ Йохена, когда тот берет на себя функции гида и ведет ее к зданию Государственного совета и Государственной оперы, выстроенной Кнобельсдорфом. Во внутреннем дворе музея истории она не без волнения рассматривает старинные маски умирающих воинов. Она хватает Йохена за лацкан пальто и шепчет:
— Как это современно, как это современно — постоянно страдать и мучиться!
Заметно темнеет. Виола вспоминает, что ей нужно забрать из библиотеки фотокопии. По дороге туда она вдруг восклицает:
— Ах, что будет, когда их увидит Дэвид! У него руки затрясутся от радости. — Сделав пару шагов, она вспоминает: — Между прочим, я должна передать тебе привет от профессора Дэвида Штамма… — а еще через пару шагов добавляет: — Если вообще можно передать привет от одного незнакомого человека другому.
Йохена Неблинга словно током ударяет. Он с трудом сохраняет хладнокровие и как можно небрежнее спрашивает:
— Профессор Штамм? Вот уже действительно не имел чести…
— Это мой партнер по путешествию, — радостно сообщает Виола. — Удивительнейший человек, немного старше тебя. Американец, но как говорит по-немецки! Одним словом, такой замечательный человек, что можно влюбиться! Если бы я как синолог и японовед добилась таких же… тогда бы докторский диплом Гарвардского университета был мне обеспечен уже сегодня.
— Профессор Штамм твой научный руководитель?
— Нет, что ты! Он всего-навсего любитель. Но наши интересы настолько совпадают, что кажется, будто мы созданы друг для друга. Вот ты человек с опытом, скажи: ты веришь, что такое бывает? Я познакомилась с ним в новом винном погребке Каролины на острове Тенерифе. Знаешь, когда немецкие туристы толпами потянулись за моря, она не смогла усидеть в Шёнеберге. К нашему удивлению, она сумела сколотить состояние и теперь живет себе забот не знает. Верхнюю террасу она оставила для себя: пока внизу гости несут для нее золотые яйца, она сидит наверху и через верхушки пальм смотрит на голубое море, вспоминая о старых временах. Только избранные имеют право подниматься к ней. И представь себе, что там, наверху, в лучах восходящего солнца мне попадается этот парень. Просто фантастика! Мы моментально нашли общий язык. Тот, кто сумеет понять японских самураев, поймет людей. Ты веришь в существование аристократов духа? Когда он предложил мне вместе с ним поехать на зимние каникулы в Берлин, я ничуть не удивилась. Во Франкфурте я села в его автомобиль, а сейчас в шикарнейшем отеле в Западном Берлине мы живем через стенку. Прошу понять меня правильно: через стенку, а не в одном номере. Я полагаю, что давить на него не стоит. В его сдержанности есть нечто сверхчеловеческое. Какой джентльмен — потрясающе! Ты думаешь, он поехал бы со мной сюда? Он сказал: «Поезжай одна, это твое личное дело. Передавай привет своему кузену». Вообще-то он о тебе многое знает: ему рассказывала Каролина. Ее мучает ностальгия, и по тебе она очень тоскует. Так что, передать ему привет от тебя?
— Разумеется, — отвечает Йохен. — Этого требует долг вежливости.
— Только долг вежливости? Ты что-то имеешь против него? Говорят, двоюродные братья в своем эгоизме еще похлеще родных и требуют целомудрия от женщин своего клана. Никак, ты ревнуешь? Потрясающе! У меня появился ревнивый двоюродный братец! Как жаль, что вы не можете познакомиться!
— Это от меня не зависит.
— Тебе нельзя на Запад?
— Это не так просто.
— Значит, ты приглашаешь его к себе?
— Во всяком случае, буду рад его видеть.
— Можно ему это передать?
— Я прошу тебя об этом.
— Потрясающе! Я его уговорю. Между прочим, он бесподобно играет в го. Что ты на это скажешь, а? Знаешь, на Берлин мы оставили много времени. Он сейчас занят очень серьезной работой. Иногда по целым дням сидит над своими книгами и отрывается от них лишь для того, чтобы поиграть в го. Но я вытащу этого затворника. Сказано — сделано. Не веришь, что мне это удастся? На го он просто помешан. Это единственное, что мне в нем не нравится. Я никогда не выучусь этой игре. Но тайны рождаются только тогда, когда чего-то не понимаешь. Посмотри-ка, что он дал мне с собой в качестве талисмана. — Она открывает сумочку, начинает рыться в ней и наконец, радостно сияя, протягивает ему на ладони две фишки для го: белую и черную. — Не правда ли, просто удивительно, как он обо мне заботится? «Возьми их в качестве талисмана, — сказал он мне. — Черная фишка — это ты, мой черный бриллиант, а белая — твой кузен. Возьми их на счастье — для того, чтобы вы хорошо понимали друг друга».
Как зачарованный, Йохен Неблинг берет фишки. «Теперь или никогда!» — мысленно восклицает он и клацает одной фишкой о другую.
Виола таращит на него глаза:
— Неужели у всех игроков в го эта дурацкая привычка? Неужели нельзя обойтись без этих идиотских штучек? Прошу тебя, кузен, не делать этого. С меня достаточно, что я постоянно слышу, как нервно клацает фишками Дэвид. Кстати, у него это получается лучше, чем у тебя.
Йохен возвращает ей черную фишку. Белую он оставляет у себя, пропускает ее между пальцев и опускает в карман пальто.
— Знаешь что, кузина? Скажи своему профессору, что талисман всегда может пригодиться. Пусть фишка останется у меня: я сохраню ее как залог до встречи с ним. А сыграть партию я всегда готов.
— Ах, братишка, ты просто прелесть!
Они подходят к огромному порталу государственной библиотеки. Виола притягивает Йохена к себе и покрывает горячими поцелуями его замерзший нос. Из двора библиотеки она еще раз машет ему рукой:
— Пока! До скорого!
Кто она — продувная бестия или по-детски наивный человек?
Йохен Неблинг бредет к вокзалу. Фишка го, зажатая в его руке, становится теплой.
16
Рената Неблинг прислушивается к грохоту электричек, проносящихся мимо одиночества. Почему ожидание — это страдание? Кого пожирают вороны? Отчужденность — последний знак искренности.
«Боже милосердный, пусть поскорее настанет вечер», — говорила моя бабушка, когда дед уже с обеда усаживался за стол деревенского трактира. Ожидание, ожидание, ожидание. Кого мне попросить, чтобы поскорее настало утро? Смогу ли я когда-нибудь вычеркнуть из памяти мучительные часы полуночного ожидания, когда я начинала прислушиваться к грохоту последних электричек, проносившихся мимо дома, пока наконец не наступала тишина, мертвая тишина, а я лежала и слушала, не захнычет ли малыш?
Где бывал Йохен, откуда возвращался? Иногда в кошмарных снах я видела его окровавленную голову, которую я, полная сострадания, клала себе на колени. Потом я сама, уже смертельно ненавидя, яростно преследовала его. И когда я в ужасе вскакивала, подушка подо мной была вся искусана. В теплой постели мне казалось, что на меня накатывают волны холода, а когда я стояла за занавеской на сквозняке, меня обдавало жаром. Мне виделось, как он лежит с размалеванными бабами или как вместе с бандой уголовников что-то замышляет. Иногда мне хотелось верить, что его что-то мучает, что он ужасно страдает, однако скрывает это, чтобы не огорчать меня, и тогда я старалась убедить себя, что надо терпеть. Но вот мой взгляд падал на холодную несмятую постель, залитую лунным светом, и я слышала его смех, вернее, слышала, как он с кем-то смеется надо мной, и мне хотелось его убить. Казалось, все, что у меня было когда-то, безвозвратно потеряно. Ожидание — это мучение. Мучаясь, я ждала, когда он придет, скажет хоть слово. Но он приходил и молчал. И я была не в состоянии разомкнуть губы.
А началось это в тот роковой день, когда Йохен, беззаботно отбросив все мои предостережения, отправился к этой Каролине, своей тетке, чтобы забрать у нее протезную мазь для отца. Тогда еще нас постоянно тянуло друг к другу и мы полностью друг другу доверяли. Чувства наши были настолько сильны, что мы любили даже слабости друг друга. Жизнь паша была не сахар, однако даже маленькие обиды, которые мы ненароком причиняли друг другу, превращались для нас в источник наслаждения, ибо на этом мы учились утолять боль друг друга. Иной раз нам не хватало того единственного слова, без которого невозможно ни общение, ни взаимопонимание, и тогда мы заменяли его взглядом, который был красноречивее слов, жестом или нежной лаской. Где есть все, можно и требовать всего. Каждый жил жизнью другого, тем самым вдвойне продлевая свою собственную. Хорошо помню, что мы никогда не обсуждали, сколько у нас будет детей, сколько комнат в квартире. Откровенно говоря, мы были бедны, потому что жили в трудное время, но это было наше время, и мы считали себя богачами. Шилось туго, но впереди, как нам казалось, открывалась перспектива с доселе невиданными, небывалыми возможностями. И куда бы я ни пошла, со мной пойдет он, Йохен, и где бы пи был он, везде я буду с ним.
И вот все рухнуло. Я хорошо помнила, как он стоял на кухне в холодном сумраке утра и жадно пил чай из жестяного чайника, а затем выдал неимоверную глупость:
— Почему ты не спишь?
Конечно, он знал, почему я не сплю. В его взгляде сквозили беспомощность и плохо скрываемая радость. Что-то случилось. Может, что-то непоправимое, о чем он решил умолчать? Но прежде чем он заговорил, я уже знала, что никогда не спрошу его об этом и что с этого момента нас будут разделять неискренность и недоверие.
Нельзя сказать, что до этого мы жили как два голубка. Я привыкла подолгу быть одна. Свою стипендию Йохен зарабатывал серьезным, упорным трудом. Он помногу занимался в библиотеках, гонялся за неуловимыми профессорами, а во время годичной практики, когда началась модернизация производства, он постоянно находился при конструкторах, участвовал во всех авралах. В конце недели ему еще приходилось отрабатывать на стройке за квартиру, которую мы должны были получить в жилищно-строительном кооперативе. Много времени проводил он со своей гандбольной командой, не чураясь при этом таких варварских развлечений, как коллективные попойки. Везде и всюду он был своим, а мне удавалось быть с ним лишь изредка. Я раздобыла себе надомную работу: с помощью маленького пресса штамповала детали реле для управления напряжением в новом электровозе. Работа приносила мне удовлетворение, поскольку хорошо оплачивалась, а мы соответственно получали прибавку к нашему бюджету. Солнце светило в высокое и узкое окно. Играло радио. Малыш восседал на детском стульчике и, лопоча, с улыбкой смотрел на меня. В холодное время года в печке, которую я топила углем, гудело пламя. В такие часы я не ломала себе голову над тем, где сейчас Йохен. Где бы он ни был, я чувствовала, что он рядом.
Но затем все зашаталось. Раньше мы часами самозабвенно беседовали об общих идеалах. Иногда в своем воображении мы рисовали мир будущего, в котором будут жить наши дети, некое подобие рая, и говорили, что нам надо быть сильными, чтобы он стал реальностью. Это было для нас чем-то вроде евангельской заповеди. Теперь же мы редко разговаривали, а беседы на подобные темы вовсе не вели. Однажды он сказал, что старые альтернативы уже не действительны. Свобода или смерть — этот вопрос был разрешен после взрыва атомной бомбы. Что может сделать отдельный индивидуум, если весь человеческий род оказался бессилен? Его разъедали сомнения. Иногда смысла его слов я не понимала: до сих пор приспособиться означало выжить, сегодня же… Было совершенно бессмысленно толковать с ним об этом.
Несколько раз в неделю, чаще всего ранним вечером, он украдкой уходил из дома и подолгу не возвращался. Сон, на который ему было необходимо времени столько же, сколько детям, приходилось сокращать. Он сваливал все на учебу и практику, но его оправдания становились все более вымученными и беспомощными.
Йохен по природе был человеком уравновешенным и довольно хорошо знал, что будет делать в следующий момент, а что в следующий месяц. Однако теперь им часто овладевало беспокойство, что сделало его замкнутым и резким. Я видела, что он на последнем издыхании, однако ничем не могла помочь. Иногда он нерешительно клал мне руку на плечо, говорил: «Рената!» — но его лицо с продольной складкой между густыми бровями оставалось непроницаемым, и он не знал, что еще сказать. Тогда он искал спасения в общении с малышом, подолгу играл с ним, пел ему печальную песенку о всаднике, который с криком падает из седла и его пожирают вороны.
Он любил спорт и восхищался даже пустяковыми рекордами. Но вот на римской Олимпиаде Инга Кремер, прыгая с вышки, закрутила лихую спираль, однако это оставило его совершенно равнодушным. А когда ошарашенный мир только и говорил что о гусарской доблести Тэве Шура на чемпионате мира по велоспорту, проходившем на Заксенринге, казалось, что его это не касается. Собственно, он и телевизор смастерил для того, чтобы смотреть спортивные передачи. Однако сегодня, сидя перед экраном, глядел на него отсутствующим взглядом, а потом и вовсе заснул, покрывшись испариной. Когда начали передавать последние известия, он вдруг проснулся. Была годовщина Хиросимы. На экране беззвучно рос и ширился ослепительный гриб, а вспотевшее лицо Йохена покрылось смертельной бледностью. Когда он посмотрел в мою сторону, я поняла, что он не понимает, где находится. Я стала прятать от него таблетки, которые он купил себе, и тогда он стал прятать их от меня.
Другие тоже заметили, что Йохен очень изменился. Наши друзья Хельмихи, пристроившие нас в жилищно-строительный кооператив, куда-то пропали. Наш дом перестал быть гостеприимным. Прекратились поездки на озеро Калькзее. Правда, Люси Хельмих еще пару раз забегала поболтать. Она дала мне понять, что я могу выплакаться на ее груди, но я промолчала, и она перестала заходить к нам. Из гандбольной секции приходили письма с приглашениями, которые иногда по нескольку дней лежали нераспечатанными. Последнее письмо было заказным. Йохен молча бросил его в печь.
Однажды пришел Кунке. Он притащился к нам на четвертый этаж, несмотря на свою деревянную ногу, якобы для того, чтобы переговорить с Йохеном по какому-то неотложному делу, но я, конечно же, поняла, что он пришел прощупать меня. Кунке был одним из тех, кто рекомендовал Йохена в партию. По-видимому, и на заводе тревожились за него. Кунке осторожно намекнул, что пришло время настоящих испытаний, что у Йохена сейчас дел по горло и относиться к нему следует с особым вниманием. Он сообщил, что в ближайшее время освободится место помощника главного конструктора, поэтому надо не упустить шанса. И потом, премиальная надбавка к стипендии нам весьма кстати. Наверное, на заводе думали, что в наших отношениях возникли какие-то нелады, причина которых была во мне, и хотели дать мне это понять. Кунке курил и кашлял и накашлял мне полную комнату сигаретного дыма. Он все время называл меня «моя разумная девочка» и ободряюще кивал. Но что я могла сказать ему? Недовольный собой, он поковылял домой.
Йохену о гостях я ничего не рассказывала, однако чувствовала, что, по мере того как мы отдалялись друг от друга, на меня ложилась тяжесть, которую я не в состоянии долго выдержать. Говорят, любви не нужны слова. Это не правда. Нам, во всяком случае, они были нужны. Молчание парализовало нас. Я чувствовала, что Йохен избегает близости со мной, что он внутренне сжимается, случайно прикасаясь ко мне или раздеваясь перед сном. Я страшно страдала от этого, но воспринимала его отчужденность как последний знак искренности. И я стала учиться терпению — этой высшей добродетели.
17
В шифровальное отделение.
Совершенно секретно.
По служебной линии связи Вашингтон — Франкфурт-на-Майне — Западный Берлин
Заместитель директора по планированию (начальник оперативного управления) — резиденту Западного Берлина
Вас настоятельно просят не придавать значения публикуемым в настоящее время в прессе сообщениям из таких источников, как конгресс, командование военно-воздушных сил и руководство промышленностью. Эти публикации затрагивают актуальные процессы только потому, что на нынешнем этапе подготовки к утверждению проекта военных ассигнований на следующие 10 лет общей суммой в 50 млрд. долларов необходимо в рамках, допустимых конституцией, удовлетворить общественное мнение. Мы же ожидаем от вас, что в интересах государственной безопасности вы удвоите ваше рвение и направите все силы подчиненного вам учреждения и сотрудничающих с вами инстанций на порученный вам розыск Баума. Вы должны принять все меры, чтобы при любых обстоятельствах, даже при максимальной степени риска, завершить операцию в вашей оперативной зоне.
П. С. Т.
В отеле «Шилтон-Ройял» заседает международный союз нумизматов, специализирующихся на коллекционировании золотых монет, а одновременно проходит конгресс официально признанного северогерманского объединения специалистов по уходу за ногами. В карманы владельцев отеля потихоньку текут денежки, а в самом отеле царит по-провинциальному шумный дух предпринимательства.
В этот час приемов и банкетов Виола два раза объезжает вокруг отеля, расположенного между Виттенбергерплац и Ландвер-каналом, чтобы найти свободное место для машины.
Портье приветливо улыбается ей и, прежде чем она успевает что-либо спросить, бросив взгляд на доску с ключами, говорит:
— Господин профессор, как всегда, у себя в номере, милостивая фрейлейн.
Виола отвечает шуткой про старых барсуков, прячущихся по своим норам, и, вертя на пальце ключ с тяжелой грушей, идет в лифт и поднимается наверх.
Убедившись в наличии запасов в баре-холодильнике, она принимает душ, достает косметику и на всякий случай — а вдруг старый барсук еще способен на что-то? — приводит себя в порядок. Затем три раза с короткими паузами стучит по водопроводной трубе. Это условный знак, что Дэвиду можно прийти. Но ответного сигнала — четырех ударов с продолжительными паузами — нет. Она повторяет свой сигнал, однако результата никакого. И по телефону он не отвечает. Тогда она звонит портье.
— Нет-нет, милостивая фрейлейн, совершенно точно.
Господин профессор должен быть у себя. Ключ от 717-го номера выдан.
Виола в одиночестве готовит себе коктейль — классический «Манхэттен» времен иммиграции, который в настоящее время делают довольно редко, — половина джина и половина старого итальянского вермута без льда, соды и других штучек-дрючек. После первого глотка она останавливается возле окна и задумчиво рассматривает небо над городом, в котором родилась. В низких снеговых облаках отражаются кровавым заревом огни рекламы. Виола чувствует себя чужестранкой. Где-то там, в восточной части города, за освещенным прожекторами старопрусским монументом победы, который, подобно указующему персту некоего духа истории, грозит скрытому во мраке настоящему, ее кузен, облаченный в старомодное, спортивного покроя пальто с подстежкой из овчины, торопливо шагает к домашнему очагу. Думает ли он о ней, как она сейчас думает о нем? Ей хотелось бы заполучить для себя этого человека как своего рода предмет из фамильного наследства, как нечто такое, что поможет сохранить ей воспоминания о неизвестном прошлом. Но странно, при всей сердечности их встречи между ними осталась определенная дистанция, что, с одной стороны, очень мило, а с другой — просто невыносимо. Она вспоминает, как на фоне падающего снега светились зеленью его глаза, когда он не торопясь, почти торжественно взял талисман Дэвида как залог будущей встречи.
Что скажет на это Дэвид? И где он пропадает? Она допивает коктейль и решает, что пора действовать. Она надевает домашние туфли, жилет и, повинуясь интуиции, уверенно направляется к лифту. Поднимается на верхний этаж. Для своей заключительной пирушки мастера педикюра сняли ресторан на крыше, и звуки оркестра вместе с облаками табачного дыма выплескиваются сквозь открытую дверь зала в вестибюль. Там ее встречает маленький толстячок с накладкой из завитых волос, из-под которой струятся крупные капли пота. Впечатление такое, будто он ждал ее. При виде ее глаза у него начинают блестеть, а красные губы произносят восхищенное «О-о-о!». И он тихонько спрашивает:
— Вас заказали для членов правления? Включая обслуживание в номерах?
Виола равнодушно смотрит сквозь него, а проходя мимо, негромко, но весьма разборчиво произносит:
— Старая белая свинья!
В конце ч вестибюля она обнаруживает железную дверь.
Она закрыта. Но ручка второй двери, на которой написано «Только для персонала! Посторонним вход запрещен!», подается, дверь открывается, и Виола находит ту дверь, которую искала. Здесь пахнет цементом и кухонным чадом. Сильный сквозняк ударяет ей в лицо. Поднявшись по лестнице и распахнув следующую дверь, она выбирается наружу. Подобно мрачному замку, на фоне красноватого неба возвышается надстройка над шахтой лифта. Где-то рядом гудит вытяжной вентилятор, выбрасывая в морозный воздух испарения кухни.
Виола не знает, куда идти дальше. Знает лишь, что у нелюдимого Дэвида есть обыкновение бежать от искусственного климата и тесноты гостиничного номера сюда, в сад на крыше. Но где он, этот сад? Вероятно, она пошла не тем путем. Постепенно ее глаза привыкают к отраженному от низких облаков свету улиц. Некоторое время она выжидает в этом лабиринте бетонных строений, потом делает шаг и ударяется головой о трубу. Холодно, и она прислоняется спиной к теплому жерлу вентилятора. Грохот выбрасываемого воздуха больно бьет в уши. Между двумя бетонными выступами открывается иллюминированная панорама ночного города. В нервном мерцании огней Виола видит электричку, тянущуюся по эстакаде. Она уже собирается шагнуть назад, когда вентилятор вдруг начинает хрипеть, затем свистеть, потом все стихает, и в наступившей тишине звучат два мужских голоса. Кажется, что говорящие стоят совсем рядом, тем не менее слов разобрать нельзя. Кто это разговаривает? Где? Гулкое, как из бочки, эхо искажает голоса. Чувствуется, что оба говорят тихо, и все же она слышит их как через усилитель. И тут до нее доходит, что голоса доносятся из темного жерла вентилятора. Любопытство побеждает страх. Осторожно движется она вдоль шершавой бетонной стены до тех пор, пока не оказывается прямо перед отверстием. Она различает отдельные слова, а затем обрывки фраз:
— Не будем говорить… Где они…
— Спасибо… Обратный рейс…
— Аппаратура с вами?
Сначала Виола думает, что подслушивает разговор, доносящийся откуда-то из чрева отеля — из кухни или из хозяйственных помещений. Но что-то, возможно, то, как вибрируют голоса в темной металлической трубе, подсказывает ей, что обладатели голосов находятся где-то здесь, в хозяйственном отсеке чердака, только перед другим отверстием трубы, которая действует как переговорное устройство. Ее предположение подтверждается, когда кто-то из двоих говорит:
— Нам не следует долго задерживаться здесь, наверху…
Постепенно ее ухо привыкает к звуковым колебаниям, и она начинает лучше разбирать слова. Внезапно она замирает словно от удара током: она слышит, как один из собеседников говорит:
— Это все, что я смог сделать для вас, Дэвид…
Да-да, конечно, — теперь ее ухо это отчетливо улавливает — один из голосов принадлежит Дэвиду Штамму. Но чем занимается он здесь, наверху? С кем это у него встреча?
— Да, Хопкинс, вы сделали все, что смогли.
— Немедленное возвращение самолетом — наш единственный шанс.
— Что касается вас, конечно…
— Я серьезно, Дэвид. Даже в вопросе, касающемся жизни и смерти, вы не можете больше на меня рассчитывать.
— Не волнуйтесь, — слышится мягкий смех Дэвида, — я уже мертв. Я могу теперь быть спокоен, если вы все сделали так, как я просил, Хопкинс…
Что за чепуха? Виола Неблинг не знает, верить ли своим ушам. Неужели это Дэвид говорит о своей смерти? Кто сошел с ума — она или те, другие? У второго человека, которого Дэвид называет Хопкинсом, очень низкий голос, который полость вентиляционной трубы превращает в хрипение умирающего, и Виола уже ничего не разбирает из того, что он говорит. Она лишь с ужасом понимает, что про смерть они упоминают не в шутку. Больше всего ей сейчас хочется крикнуть: «Кончайте ваш глупый треп! Позаботьтесь наконец обо мне!» — но любопытство побеждает, она жаждет узнать обо всем, поэтому осторожно отодвигается от «рупора». Да, так лучше: на расстоянии голоса меньше искажаются.
Человек по фамилии Хопкинс говорит по-немецки, но в отличие от Дэвида Штамма у него чувствуется американский акцент. По всей видимости, он отчитывается в чем-то перед Дэвидом, а тот прерывает его короткими вопросами. Виола напряженно слушает, но не может понять, что к чему. Речь идет о третьем человеке, по фамилии Шмельцер, и еще об одном, по фамилии Мампе, который работает на Шмельцера. Или уже не работает? Правильно ли она поняла, что эта работа завершилась кровавым концом? Какое отношение имеет Дэвид к подобным делам (речь идет о нелегальном провозе людей через границу)? Для чего Дэвиду понадобился паспорт этого Шмельцера? И что имел против этого Мампе? Мампе, насколько понимает Виола, руководитель транспортной фирмы, но в разговоре упоминается и другая фирма, которую именуют просто фирмой, без всяких уточнений. Она-то, как докладывает Хопкинс, и схватила Шмельцера.
— Вы будете смеяться, Дэвид: старое кафе для любителей го, в котором вы часто сиживали, все еще существует. Его немного модернизировали и сделали при нем сауну. Туда-то я и направил Шмельцера под предлогом, что вы ожидаете его на предмет вручения паспорта. И пока он потел в сауне, я занялся его одеждой. Вот его паспорт.
— Спасибо.
— Ему я оставил копию, которую он принес для вас, а кроме того, сунул в карман его пиджака пару фишек для го. Наши люди из фирмы, конечно, засекли посещение Шмельцером старого кафе. Когда они в свою очередь занялись его барахлом и обнаружили фальшивый паспорт и фишки, им все стало ясно. Наконец-то они настигли доктора Баума! Теперь им нужен был лишь материал, записанный на пленку. Но он все время находился у меня. Вот он! Осторожнее, аппаратура снабжена, как вам известно, блокирующим устройством!
— Не знаю, как благодарить вас, Хопкинс.
— Все это ради вас, Дэвид. Что касается благодарности соотечественников, то с этим, по всей видимости, придется подождать.
Виола слышит, как оба тихо смеются. И ей чуточку смешно из-за той нелепой ситуации, в которой она оказалась, а также из-за того, что Дэвид занимается какими-то непонятными, странными вещами и тщательно от нее это скрывает. Она думает, что пора как-то обнаружить себя, но в это время слышит, как Хопкинс говорит:
— Все остальное пошло как по маслу. Конечно, для Мампе Шмельцер по-прежнему оставался Шмельцером. И когда фирма дала понять людям Мампе, что со Шмельцером, он же доктор Баум, пора разделаться, они рассчитались с ним. Они не хотели терпеть кого бы то ни было, кто самостоятельно проворачивает дела. Это не только помеха, но и фактор риска, как всем известно. Удобная возможность вскоре появилась. Задание, фирмы соответствовало старой формуле: живым или мертвым! Мампе решил сыграть наверняка и навсегда избавиться от Шмельцера. Трое его людей переправили Шмельцера через границу. В целом чистая работа.
— Будем надеяться, — говорит Дэвид.
Несколько мгновений царит молчание. Виола обдумывает, не лучше ли потихоньку ретироваться, как вновь раздается голос Дэвида:
— Когда отправляется ваш самолет?
— Через три часа. Прямой рейс. Если все будет нормально, то завтра утром в положенное время я буду сидеть за своим рабочим столом.
— Привет от меня Вашингтону, Хопкинс! И дому сумасшедших в Лэнгли[27]. Там-то вздохнут с облегчением: наконец-то мое имя можно будет стереть в программе компьютера.
Для Виолы история все больше и больше запутывается. Дом сумасшедших в Лэнгли? Компьютер? Может быть, Дэвид пьян? И где же он в конце концов? Она пытается сориентироваться в темноте, делает несколько неуверенных шагов по бетонному откосу и оказывается на решетке водостока, С этого места, где со всех сторон открывается более светлое небо, она может оглядеться. Над высокой балюстрадой темнеют две головы, на одной из них — шляпа.
— Дэвид? — осторожно зовет она.
Голова в шляпе тотчас исчезает за стеной. Слышится металлическое щелканье. Голова без шляпы, с продолговатым затылком, по которому она в профиль узнает Дэвида, поворачивается к ней. Шаги приближаются. Она с облегчением чувствует, как знакомые руки ложатся на плечи и слегка их сжимают. В нагрудном кармане у Дэвида она замечает прямоугольный предмет. И вот уже Дэвид прикасается к ее щекам своими теплыми губами.
— Детка, — говорит он, — ты, чего доброго, разыщешь меня и в аду.
Она притягивает его голову и шепчет ему на ухо:
— Дэвид, кто этот человек?
— Какой человек?
— Там, — указывает она кивком в темноту. — Он еще там, я чувствую это.
Дэвид тянет ее к двери. По темной лестнице он идет впереди нее.
— Из обслуживающего персонала. Рабочий-ремонтник, — не задумываясь объясняет он. — Что ты так волнуешься? Иногда я беседую с ним, когда выхожу подышать воздухом.
«Почему ремонтники в берлинских отелях носят по ночам такие же шляпы, как американцы на конных скачках?» — размышляет Виола. В лифте она задумчиво рассматривает покрасневшее на морозе лицо Дэвида, отчего еще контрастнее белизна его висков.
— Рад тебя снова видеть, — говорит он как ни в чем не бывало, будто они встретились в вестибюле, а не на крыше отеля. — Наметился ли прогресс в твоих поисках?
Забыв о загадочных обстоятельствах их встречи, она начинает темпераментно излагать впечатления прожитого дня. Из своей комнаты она приносит фотокопии рукописей государственной библиотеки. Потрясающе, неповторимо, незабываемо! Она бросается Дэвиду на шею и благодарит за путешествие, позволившее ей сделать это открытие. Он, улыбаясь, отстраняется. Наконец ему удается снять пальто. Из нагрудного кармана он осторожно вынимает маленький магнитофон и запирает его в сейф, спрятанный в стене за сдвигающимся в сторону зеркалом.
Виола подкрадывается к нему со спины и закрывает ему руками глаза.
— Тебе привет от господина Будды, — говорит она и вкладывает ему в руку купленную в восточноберлинском антикварном магазине папку с гравюрами.
Он переворачивает титульный лист, и ему с первого взгляда становится ясно, какое это оригинальное и редкое издание.
— Поистине удачная покупка.
Он с интересом рассматривает гравюры, и все же в его реакции заметно некоторое разочарование.
Она подходит к бару-холодильнику, вмонтированному в шкафчик из красного дерева, отделанный под старину, н звенит бутылками и хрусталем. Доверху налитые бокалы, которые она осторожно ставит на стол, сразу запотевают.
— Водка, — поясняет она. — Выпьем за мой удачный визит на ту сторону.
— На здоровье, — говорит Дэвид по-русски. — За твой успех!
Он осторожно цедит водку через сложенные трубочкой губы — так, как обычно пьют горячий чай. Некоторое время они сидят молча.
Затем Виола тихо произносит:
— На крыше все-таки был человек, и вовсе не рабочий-ремонтник. И ты знаешь это.
— А что знаешь ты?
— Я слышала ваш разговор. С каких это пор ремонтников доставляют в берлинские отели на самолете из Вашингтона?
— Кто тебе такое сказал?
— Ты!
Он задумчиво смотрит на нее: Что тебе еще известно?
— Его фамилия Хопкинс.
— Тихо! Забудь это имя навсегда!
— Попытаюсь. Но зачем ты меня пугаешь? Вы говорили о твоей смерти. Что все это значит?
Он вытягивает длинные ноги и с отсутствующим видом рассматривает носки своих ботинок. Она восхищается его хладнокровием, но вдруг слышит это нервное клацанье фишек в его руке.
— Кто такой Шмельцер? — продолжает она упорно расспрашивать. — Какое отношение имеет его смерть к тебе?
— Все это неинтересно, — тихо говорит он. — Интересно другое: если ты слышала меня, значит, могли подслушать и другие.
— Я была одна. Звуки доносились через трубу. Так что не беспокойся.
Он берет ее за руку и сажает рядом с собой в кресло:
— Я боюсь за тебя. Мне не следовало брать тебя с собой в эту поездку, я не должен был тебя впутывать. Но иначе ничего не получалось. — он улыбается ей: — А ты, оказывается, взбалмошная девчонка. И будет очень правильно, если я отошлю тебя подальше отсюда, назад к Каролине, в ее тихий, обособленный рай.
— Я что-нибудь натворила? Я не должна была подслушивать? Клянусь тебе, я уже все забыла. — Она вскакивает и глядит на него с вызовом: — Впрочем, я не позволю играть со мной в кошки-мышки и отослать меня. Почему ты не доверяешь мне? Во что ты не хочешь меня впутывать?— Она подходит к креслу и прижимает его голову к себе: — Умоляю тебя, Дэвид: кто покушается на твою жизнь и почему? Тебе грозит опасность? Так неужели я оставлю тебя одного?
Он слышит, как бьется ее сердце — часто и гулко.
— Успокойся, с тех пор как тот человек, о котором мы говорили, мертв, меня тоже считают мертвым.
— Я ничего не понимаю. Ты что, убил этого человека? Почему тебя преследуют? — Она все еще прижимает его голову к себе.
Он осторожно высвобождается из ее объятий, берет бокал и ставит на стол;
— Ты пьешь слишком много крепких напитков.
— Я пью для того, чтобы у меня полегчало на душе. Каким счастливым мог быть сегодняшний день! Но ты, Давид, так и не ответил на мои вопросы. Странно, что и кузен сказал мне не все.
— Что ты имеешь в виду?
— Не знаю, как тебе объяснить. Обаятельный человек, ориентирующийся в жизни, хотя, похоже, никогда не покидал пределов своего мирка. он просто чудо в нашем разнесчастном роду! Для меня это приобретение, которое поможет мне понять самое себя. Развлекал он меня по-королевски. И все же у меня было такое чувство, что он о чем-то умалчивает. Дэвид, почему не отвечают на мои вопросы? И почему меня ни о чем не спрашивают?
Профессор Штамм неподвижно сидит в своем кресле, неловко подогнув длинные ноги.
— Говори, говори, — произносит он, глядя куда-то мимо нее. — Когда говоришь, рождаются вопросы, а иногда и ответы.
— Он пригласил нас обоих. Ты поедешь со мной? Он-то сюда приехать не может. Он — та последняя, тонкая как волосок нить, которая связывает меня с Берлином.
Внезапно он вскакивает с кресла, хватает ее и неловко пару раз вращается с ней по комнате:
— Все будет хорошо. А теперь иди. День сегодня у тебя был долгий и утомительный.
Уже лежа в своем номере в постели, она снимает телефонную трубку:
— Дэвид?
— Да?
— Ты уже спишь?
— Нет, я говорю по телефону с молодой дамой.
— Ты договариваешься с ней о свидании?
— Да, но потом.
— Дэвид?
— Да?
— Можно мне хотя бы думать о тебе?
— Я тоже думаю о тебе.
— Спокойной ночи, Дэвид.
— Спокойной ночи.
Она тотчас засыпает, а просыпается в страхе от сна, которого в момент пробуждения уже не помнит, но от которого продолжает трястись. Часы на расположенной вблизи Церкви бьют один раз. Город, который никогда полностью не спит, гудит под окном. Ей необходимо с кем-нибудь поговорить, чтобы страх развеялся, и она хватается за телефон. В трубке слышится лишь частое попискивание. Тогда она звонит портье.
— Нет, милостивая фрейлейн. И я не могу дозвониться. Если позволите, я посмотрю, на месте ли ключ… Алло? — Так как между ними установились доверительные отношения, портье говорит ей заговорщицким тоном: — Это кажется удивительным, милостивая фрейлейн, но профессор ушел.
— Сколько сейчас времени?
— Точно один час семнадцать минут.
— Спасибо.
— Милостивая фрейлейн…
— Слушаю.
— Я забыл про письмо, извините ради бога. Профессор Штамм оставил для вас письмо. Прошу прощения, мне надо было сразу известить вас.
Она сбрасывает с себя одеяло:
— Письмо лежит давно?
— Да нет, милостивая фрейлейн, успокойтесь! Я должен был обслужить одного постояльца, а затем…
Ей требуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Что означает внезапное исчезновение Дэвида? Она еще в плену кошмарного сна. Может, та сцена на крыше отеля, когда Дэвид говорил о своей смерти как о спасении, тоже была всего лишь сном? В телефонной трубке она слышит покашливание портье.
— Хорошо, я иду.
Она поспешно одевается, а в голову ей приходит пугающая мысль: не означали ли фишки для го, которые сунули в карман настоящему Шмельцеру, что он приговорен к смерти? Что же тогда означает фишка для го, которую вложил ей в руку кузен?
18
Мистер Баум считает, что теперь у него есть свой человек. Но чей он в действительности? Берлин — не банановая республика. Мистер Баум счастлив, что его человек сдал экзамен на детекторе лжи, и забывает о том, что тот отказался нанести удар кинжалом.
Теперь он был наш.
Трижды в неделю потайными тропками пробирался он по каменным джунглям этого самого ветреного из всех городов через границу ко мне. Я занялся им, подобно тому, как футбольный тренер за особый гонорар занимается со своим центральным защитником, чтобы превратить его в яростного тигра, не боящегося тяжеловеса-противника, мчащегося прямо на него. В области техники он был на высоте — прямо второй Эдисон. При кодировании и ведении радиопередач он, если можно так выразиться, достиг сверхзвуковой скорости, и сержант Куки, наш специалист в Целендорфе, использовал весь запас накопленных на войне в Корее ругательств, когда, принимая радиосигналы из леса Шпандау[28], не успевал писать вручную и вынужден был прибегнуть к записи на пленку.
На банковском счету Мастера Глаза накапливались дополнительные выплаты за беспрекословное и успешное выполнение служебных заданий. Радиостанцию он собирал и разбирал в темноте так быстро, что шеф, прочитав об этом в докладах, удовлетворенно хрюкнул. Между делом он смастерил и приспособил к модулятору усилитель для перехода с волны на волну в коротком диапазоне при облачной погоде, до чего не додумался ни один из наших высокооплачиваемых техников.
Итак, он был наш, и у шефа появились основания быть довольным мной. Он был пятым, кого мы отобрали по новой системе. Шеф передал мне его досье, над которым наверняка поработал целый легион разведчиков, уже в день моего вступления в должность, сопроводив его приказом, напоминавшим приказы Аль Капоне[29], которые тот отдавал, когда хотел купить одного из членов чикагской мэрии или полицейского инспектора.
— Пятый — я хочу его иметь, мистер Баум!
Шеф был здесь новым человеком, впрочем, как и весь состав штаба нашей расположенной на самом переднем крае резидентуры. Я не знал его. Снабженец, которого шеф привез с собой, хвастался в столовой совместными приключениями, которые выпали на их с шефом долю в горячей зоне за Меконгом — в районе Клюв Попугая. Господа из штаба быстренько раскусили нового начальника, его непомерное честолюбие и стали именовать шефом, будто это был какой-то особый титул, а тот самодовольно принимал это как должное. У него было пристрастие к галстукам в красный цветочек, что для другого человека могло бы стать роковым. Но ему они шли.
Мне запомнилось первое служебное совещание под его руководством, которое стало событием. Он произнес громоподобный монолог перед статистами. Господа лишь молча поигрывали ручками над белыми листами бумаги. С ноткой отвращения он высказал уверенность, что его все равно по поймут, и потребовал действий и еще раз действий. Одним из его тезисов был следующий: «Стрелять, не попадая в цель, может любой идиот. Я же требую попадать в цель даже гам, где не стреляют». И еще: «Наши доллары не валюта, а взрывчатка». Хрестоматийной стала и другая его сентенция: «Тот, кто наложил полные штаны, вправе рассчитывать, что кто-то туда вляпается». Во время совещания он жестикулировал громадной как бревно сигарой. Орел с федерального герба[30] мог бы спокойно свить на ней гнездо. Лишь когда шеф не то чтобы отпустил, а скорее выгнал вон присутствующих, он, сделав несколько энергичных сосательных движений, со смаком закурил ее. Это была свежая кубинская сигара, распространявшая ядовитую вонь, и я отметил про себя, что даже в период нашей подготовки к нападению на остров Свободы у него имелся контрабандный канал через Карибское море.
Меня он попросил остаться. Произнеся по-английски привычное «Слушаюсь, сэр», я подошел к его столу и сразу же получил от него нагоняй:
— Уважаемый доктор Баум, ваша немецкая фамилия не просто украшение к вашему ученому титулу. Она должна напоминать вам, черт побери, что здесь говорят только по-немецки. Мы в Берлине, доктор Баум, а не в Канзас-Сити.
Когда я возразил, что Канзас-Сити не мой родной город, и напомнил, что получил три докторские степени в Гарвардском и Йельском университетах: по синологии, философии я праву — и ориентируюсь в Лэнгли, как в родном доме, он презрительно спросил, не отношусь ли я к разряду «яйцеголовых» — задавак из бывших студентов привилегированных университетов, которые вот-вот погубят мир. Лишь после упоминания о том, что я был прикомандирован к пресс-атташе при посольстве США в Манагуа, он немного смягчился:
— Ладно-ладно, там вы хорошо поработали. Но здесь не банановая республика. Мы находимся в центре Восточной империи. Эта штука покрепче.
А затем начался экзамен. С неожиданным для его длинной и костлявой фигуры проворством он вышел из-за стола, слегка приволакивая йогу, и, нажав на кнопку, раздвинул занавес перед картой Берлина, занимавшей всю стену рядом с гудящим телетайпом. Когда он оказался под лучами ламп, освещавших карту, и глаза его под кустистыми бровями приняли мрачное выражение, он напомнил мне одного из суровых отцов-пилигримов с корабля «Мейфлауэр»[31]. Этот тип первозданного янки с его склонностью к коварству и насилию все больше и больше забавлял меня и поэтому не мог мне импонировать, но я готов был примириться с ним, как приходится мириться со злой сторожевой собакой. Пока он не будет мешать моей карьере, я готов способствовать его успеху. Я знал, что смогу преодолеть больше трудностей, чем он сумеет мне создать. он потребовал, чтобы я выдал о Берлине сведения общего порядка, которые уже давно лежали наготове в моей голове, и я отбарабанил:
— Берлин — с конца средних веков резиденция династии Гогенцоллернов, резиденция бранденбургских курфюрстов, прусских королей и германских императоров. Большой Берлин возник после городской реформы 1920 года и включения в него семи городов, пятидесяти деревень и двадцати семи поместий. Площадь 883 квадратных километра. На сегодняшний день — 3,3 миллиона жителей. После 1945 года — резиденция союзнической контрольной комиссии по Германии. После политического раскола города[32] русские вышли из состава берлинской комендатуры. В трех западных секторах действуют соответственно три военных коменданта. Общая протяженность границы между западными и восточным секторами 64 километра, из них 38 километров составляет водная граница.
Впервые шеф обнаружил нечто вроде расположения ко мне:
— По крайней мере, цифровые данные вы не забыли.
Я назвал ему число действующих транспортных линий, ведущих через границу, все дороги, водные и рельсовые пути, описал состояние приграничных туннелей с телефонными и электрическими кабелями и штолен подземной канализации, по которым может пройти человек. Когда же он иронически заметил, что я, чего доброго, смогу назвать длину шеи Нефертити, я предложил измерить ее ему самому, поскольку она находится неподалеку отсюда, в музее, расположенном в Далеме[33]. Это обстоятельство, по-видимому, оказалось для него полной неожиданностью, а так как он, вероятно, считал, что обязан знать больше других, то ворчливо предупредил меня, что всезнайство может мне повредить. А я в заключение сказал:
— Эта граница условна. Она контролируется противником, но не полностью. Она подобна мембране в осмотической системе[34]. Она разделяет и связывает, разъединяет и обеспечивает обмен.
Казалось, он остался доволен, но ему непременно надо было подать мое высказывание под своим соусом:
— Правильно! Только не забывайте, что обмен должен осуществляться так, как нам выгодно. Большевики с удовольствием вытурили бы нас отсюда. А наша задача — проникнуть к ним. В этом вся соль!
Внезапно колени у него подломились, он схватился обеими руками за живот и, стеная, попросил подать ему лекарство. Оно стояло замаскированное под виски на его письменном столе. Я протянул ему бутылку, и он жадно сделал глоток. Боль утихла, и это настроило его на более мягкий топ:
— Похоже, у меня осталось мало времени. Я не требую помощи, но прошу лояльности. Я направлю в Центр подтверждение, что вы немедленно приступаете к действиям.
Затем он вытащил из сейфа досье под номером пять. Ребята, занимавшиеся его разработкой, потрудились отлично: подобрали фотографии, магнитофонные записи, фотокопии документов. Это было уже кое-что. Мне оставалось лишь захлопнуть ловушку.
А шефа обуял новый приступ словоохотливости, но сейчас — и это мне понравилось — он говорил только по делу:
— Забудьте теории и статистические выкладки! За вами человек, доктор Баум. Я хочу иметь его.
Мой человек? Его человек? Так чей же он? Иногда в ходе подготовки, когда я гонял его до изнеможения и он, отразив пять раз кряду нападение своры овчарок, лежал на траве, будто мертвый, я замечал, как он борется за то, чтобы у него осталось хоть что-то, принадлежащее только ему.
Его поведение нельзя было предсказать полностью, особенно когда началась трудоемкая подготовка по подводному плаванию. В тире он казался предельно собранным, даже равнодушным. Причем тактико-технические данные оружия интересовали его больше, чем сама стрельба.
Психологический барьер ему пришлось преодолевать при обучении рукопашному бою. Инструктор, расторопный и требовательный парень, переведенный к нам из морской пехоты, расставил на обширном участке одной из вилл, среди цветущих кустов бирючины, два набитых опилками чучела. Одно из них изображало перетянутого ремнем в тонкой, почти осиной талии русского летчика, другое — солдата армии восточной зоны в каске, с противогазом и полной походной выкладкой. На маленькой вагонетке по рельсам чучела перемещались среди кустов. Задача Глаза состояла в том, чтобы выскочить из кустов, прыгнуть на чучело сзади, согнутой в локте левой рукой перехватить ему дыхательное горло и с размаху ударом снизу загнать под ребра обоюдоострый кинжал, а затем бесшумно убрать убитого «противника».
При первой попытке Глаз издал крик, тем самым предупредив «противника» о нападении. При второй попытке он, будто в изнеможении, повис на чучеле и, положив голову на его плечо, уставился в голубое небо с выражением, которое трудно передать. Лишь в третий раз, после резких окриков морского пехотинца, он ударил как положено, а затем принялся наносить удары со все возрастающей яростью. Возникло опасение, что он изрежет на чучеле военную форму, которая была настоящей и которую было нелегко достать. Инструктору пришлось его успокаивать.
Я стоял в стороне и не мог решить, как мне реагировать на это подозрительное проявление его «я». В этот момент из дома выскочил капрал из охраны и, подбежав ко мне, передал секретное сообщение. А потом события стали опережать одно другое, и так случилось, что принятие решения от меня уже не зависело.
Из Вюрцбурга прибыл Палач со своей «Лилли» — так сведущие люди именовали капитана из отдела безопасности, который отвечал за «просвечивание» наших людей на детекторе лжи, напоминавшем чем-то электрический стул старой конструкции в тюрьме Синг-Синг. Проверка эта была внеплановой, поскольку очередь нашей резидентуры еще не подошла. Я тотчас прекратил тренировку и отослал инструктора в помещение. Заглянув в комнату, где Глаз складывал свою одежду, я успел в нескольких словах сказать ему главное:
— Если вас начнут о чем-либо расспрашивать, отвечайте быстро и однозначно.
Глаз в это время проверял, острое ли лезвие у его кинжала.
— Кто собирается меня расспрашивать?
— Больше я ничего не могу вам сказать, но при любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие. Помните о том, что вам нечего скрывать. Не забывайте, что по курсу подготовки вы получили прекрасные оценки. Уверенность и раскованность! Ни пуха ни пера!
— Что все это значит?! — воскликнул он, вероятно, догадываясь о том, что ему предстоит пережить.
— Итак, все о'кэй? Если не хотите думать о конкретных вещах, думайте обо мне. Думайте о том, что я всегда рядом с вами. О'кэй? Тогда вперед!
В этот момент появились два высоких парня, по манерам которых было заметно, что они окончили школу военной полиции. Тот, что шел первым, рявкнул:
— Мистер Баум, приказ шефа: Пятый — на тестирование!
— Заткнись! — оборвал его второй. — Приказ гласит: Пятый — к шефу!
Я нащупал в кармане брюк фишки, символизировавшие судьбу, и загадал, какая из них белая, а какая черная. Выигрыш или проигрыш, победа или поражение — к этому сейчас сводилось все.
— Значит, Пятый… — сказал я.
Мы обменялись быстрыми взглядами. Он все понял и подмигнул мне: мол, не волнуйтесь. Он хотел было снять тренировочный костюм, по парни довольно грубо развернули его и, зажав между собой, повели к дороге, где посадили в автомобиль. Сзади в качестве прикрытия ехал большой лимузин. Было совершенно ясно, что в соответствии с хитроумной процедурой, разработанной «исследователями душ», это внезапное нападение означало одно — проверку с целью установить предельную степень риска.
Итак, моя работа с Пятым принесла свои первые плоды, по в течение нескольких ближайших часов плоды эти могли оказаться гнилыми и осыпаться с дерева. Я сам неоднократно имел счастье встречаться с «Лилли» и знал, что она обладает непостижимым свойством сбивать с толку. Я был твердо убежден, что она не способна уличить во лжи хладнокровного человека, но человека неуверенного в себе могла толкнуть на путь лжи. Выдержит ли Пятый?
Я хотел было сразу устремиться вслед за ним в штаб-квартиру, но, когда пришел в караульное помещение, чтобы доложить об отъезде, дежурный позвал меня к телефону. Звонили из приемной шефа и задавали такие надуманные вопросы, что было ясно: меня хотели задержать, чтобы я не смог присутствовать при тестировании. Вилли, слывший кем-то вроде адъютанта при шефе, получал, вероятно, удовольствие, гоняя меня по идиотскому лабиринту бюрократии. Номера счетов на текущие расходы, рапорты о предоставлении отпусков, сведения о спецнадбавках, данные о контроле переписки, заявки снабженцам — перелистывая свою записную книжку, я выплевывал ему в телефонную трубку все эти данные, а сам думал только о Пятом.
Они, должно быть, уже прибыли в Центр, и «Лилли» заключила его в свои железные объятия. Причем речь шла не только о нем, но и обо мне. Карьера для меня никогда много не значила. Но не правда ли, есть некоторая разница, на каком отрезке жизненной параболы ты застрянешь — в положительной или отрицательной области системы координат. Самое ужасное — это нулевая точка, в которой борьба добра со злом как бы затухает. С тех пор как я встал на ноги, я все время считал, что творю добро. Но чтобы творить добро, необходима свобода, точнее, свобода действий, или то, что в повседневной жизни обычно называют влиянием. Глаз был моим человеком. Таким образом, обмениваясь с ним мыслями, коварная «Лилли» прощупывала и меня. После этого я должен был или подняться вверх или опуститься вниз, стояния на месте не бывало.
Вилли, очевидно, изображал из себя Боба Хоупа, выступающего во фронтовом театре[35], потому что в заключение спросил, какого размера ботинки я ношу, и заявил:
— Дэвид, вам приказано явиться без оружия!
Наши механические мастерские они переоборудовали в лабораторию. По узкому коридору первым навстречу мне вышел шеф. И он, похоже, был сегодня в юмористическом настрое. Сверкнув на меня глазами, он сказал:
— Лучше мы сразу же перейдем к вам, доктор Баум. «Лилли» еще тепленькая и с удовольствием примет вас в объятия.
Шеф почему-то надел свою старую полковничью форму времен войны в джунглях на островах Тихого океана[36]. Наград на его груди не было. Но, как всегда в подобных случаях, он вытащил карманные часы, к которым вместо брелока была прикреплена медаль «За храбрость». Не спеша, не спуская с меня глаз, он завел часы.
— О'кэй! — сказал он с ухмылкой. — Он остается вашим человеком, доктор Баум. Забирайте его!
Сотрудник службы безопасности, в белом халате и в громадных очках с прямоугольной роговой оправой, напоминал скорее модного психиатра из Голливуда. Он вытащил листок с графиками из-под самописцев и протянул его мне:
— Посмотрите, фантастический медиум.
Я ничего не понял. Тогда он указал авторучкой на острый пик графика:
— Смотрите сюда: отклонение во время теста с игральными картами однозначно. Он перепутал червонную семерку с бубновой, а когда заметил ошибку, то испугался, что будет уличен во лжи. Этим объясняется его волнение. Этот человек предрасположен ко лжи, как чертова бабушка, но в то же время — и к раскаянию, как святой Августин. Если бы что-то было не так, мы бы его поймали. — И он вложил листок в металлическую папку.
Затем из стеклянной двери появился Глаз. Его лицо было сосредоточенно и дружелюбно. С комической гримасой он помассировал себе голову, на которой недавно был надет шлем с анодами. Я почувствовал облегчение, словно школьник, которого после сдачи последнего экзамена ожидают летние каникулы. Надо было как-то отвлечься. Я схватил Глаза за руку и потащил вслед за собой вниз по лестнице, в подвал, где находился тир. Я спросил его, что произошло с бубновой семеркой. Он засмеялся и сказал, что специально разыграл ошибку.
— Затем я на некоторое время задержал дыхание: ведь известно, что при этом учащается сердцебиение. Я хотел проверить это чудовище на глупость.
Его откровенность была убийственной, но смеялся он очень заразительно. И я не посчитал нужным аннулировать результаты теста. Внизу я вынул из шкафа с учебным оружием четыре больших кольта, и мы начали стрелять по качающимся, будто они были пьяными, мишеням — устроили на радостях пальбу похлеще, чем в День независимости. Мы расстреляли целый ящик патронов — вот, наверное, Вилли удивился!
По каким-то до сегодняшнего дня непонятным мне причинам я прогнал воспоминание о том, как Мастер Глаз глядел в небо, когда с кинжалом в одной руке и другой на горле чучела отказывался нанести удар.
19
Прекрати! Я же объяснил, что задержка матриц для полосы о жизни округа не должна здесь обсуждаться. Это произошло по независящим от нас причинам. Тебе наконец ясно?! Тов. X. хорошо справляется со своими обязанностями коммерческого директора. Об этом и нужно сказать!
(Из записки, которую исполняющий обязанности главного редактора незаметно передал сидящему рядом с ним ответственному секретарю редакции во время критического обзора последних выпусков.)
Иногда случается, что они часами сидят вместе. На маленьком столике, который Эрхард Холле поставил в своем кабинете специально для Вернера, лежат три фишки для го: черная — найденная трассологами на месте преступления, белая — найденная ими самими в снегу и, наконец, еще одна — белая, выточенная из слоновой кости, целенькая, без следов огня, та, которую кузина Йохена Виола доставила из Западного Берлина. Является ли эта третья фишка искомым философским камнем?
Эрхард Холле одними пальцами осторожно берет открытый конверт, в котором лежат фишки, и кладет его перед собой.
— Если ты будешь продолжать в том же духе, то скоро соберешь полный комплект для игры, — констатирует Йохен Неблинг.
Он стоит спиной к свету, падающему из окна, скрестив руки на груди и слегка наклонив набок голову, и делает вид, что разговор его нисколько не касается.
Вернер раскладывает записки с пометками по какой-то только одному ему известной системе. Раздраженным движением он убирает конверт:
— В комплект для игры в го входит еще и доска. От фишек нет проку, если не знаешь, куда их ставить. Расставить все по своим местам — вот это да!
Эрхард Холле хватает кофейную чашку, но она оказывается пустой.
— По-видимому, придется выучиться играть в го, чтобы раскрыть убийство, — бурчит он и ставит чашку на место, громко звякнув ею о блюдце.
— Итак, давайте конкретнее! — Вернер кладет поверх записок еще одну маленькую записочку. — Был ли доктор Баум, он же профессор Штамм, на месте преступления? Сам ли он принес туда фишки или это сделал по его просьбе кто-то другой? А может, они доставлены в ГДР без его ведома, а то и против его воли?
Вопрос вполне логичен. Незаконное превращение доктора Баума в профессора Штамма уже не подлежит сомнению. Таким образом, теперь можно исключить первоначальную гипотезу, что жертвой преступления является этот (бывший?) сотрудник ЦРУ. Неясным, однако, остается вопрос: не появился ли этот профессор Штамм с заданием секретной службы, ведь в свое время доктор Баум, будучи сотрудником этой службы в Западном Берлине, неожиданно исчез с горизонта, и не замешан ли доктор Баум, он же профессор Штамм, а если замешан, то каким образом, в деле об убийстве под наименованием «Шаденфойер»? Фишки для го остаются единственной уликой.
Эрхард Холле выдвигает ящик и достает пачку сигарет, которая лежит там в неприкосновенности с тех пор, как он полгода назад бросил курить. Он выковыривает оттуда сигарету и, чувствуя на себе удивленные взгляды, вновь вкладывает ее в пачку. Чем яснее становится предыстория дела, тем более загадочным кажется само дело. Холле вычисляет различные комбинации, разгадкой к которым могли бы явиться фишки для го. Однако что здесь цель, а что средство ее достижения? Странные обстоятельства переплетаются самым странным образом. Тени, падающие из прошлого в настоящее, очень длинные. Нужно ли идти по следу доктора Баума, чтобы выйти на след профессора Штамма? Идентичны ли эти следы или различны? И ведут ли они, несмотря ни на что, к той же цели? Охваченный беспокойством, Холле встает. Непрозрачные линзообразные фишки магически притягивают его. Он вынимает их из конверта и нервно, неловко стучит ими друг об друга.
— Так? — вопросительно глядит он на Йохена Неблинга.
— Он брал всегда лишь две фишки — черную и белую. — Йохен пытается воспроизвести действия доктора Баума. — Он, точно фокусник, манипулировал ими. Они то исчезали между его пальцами, то вновь появлялись. И делал он это так ловко, что мне порой казалось, будто я слышу звуки кастаньет.
— Кончайте с фокусами! — все больше раздражается Вернер. Он чувствует, что от них, словно песок между пальцами, ускользает драгоценное время. Продолжая перебирать свои записочки, он пытается объяснить им: — Этот пунктик доктора Баума в свое время очень нам пригодился, но не более того. Он приобретает для нас интерес лишь в том случае, если этот фокус покажет нам профессор Штамм.
— Но он его уже показал! — возражает Йохен.
— Да?
— Во всяком случае, я явно действовал на нервы кузине, когда пытался воспроизводить его. А она не знает никакого доктора Баума и знакома только с профессором Штаммом.
Вернер берет из руки Йохена фишку из слоновой кости и поднимает ее вверх:
— Итак, что скрывается за всем этим? Серьезная акция? Кто-то хочет продолжить старую игру, но по-другому — чтобы на этот раз мы остались в дураках? Как мы отнесемся ко всему этому? Позволяет ли нам время ждать?
— Нет! — резко прерывает его Холле. — Если вопрос ставится так, то нет! На мне висит убийство, дело, которое существенным образом затрагивает безопасность государства. Это произошло сегодня и рядом с нами! Вот за что я отвечаю в первую очередь. И меня прежде всего интересуют факты. Может, взбалмошная Виола просто покрутилась, повертелась у нас перед глазами, отвлекая внимание, а мы, как загипнотизированные, смотрим и смотрим ей вслед.
— Что верно, то верно — она взбалмошная, но безобидная. А то, что она рассказала, не причуда и не выдумка, — говорит Йохен. — Я считаю, что Виолу, как наивного ребенка, послали в качестве связной. — Теперь уже он берет у Вернера фишку и таким же театральным жестом поднимает ее над головой: — По-вашему, все это случайность. Моя же гипотеза такова: ее использовали в качестве связной, использовали обманным путем, втемную.
— Ну и… — спрашивает Холле.
Вернер вскакивает, резко отбрасывает стул, делает несколько стремительных шагов по тесному кабинету, превращенному ими в штаб-квартиру, и останавливается перед Холле:
— Что «ну и»? Чего тебе еще нужно? Может, поводыря? — Он опять хватает фишку и вертит ее перед глазами у Эрхарда: — Тебе этого не достаточно? Ты толкуешь о важности дела и вопишь, требуя фактов…
— Я не воплю.
— Очень хорошо. Тогда послушай меня: эта маленькая штучка — факт, свежий и чертовски важный факт. — Вернер бросает фишку в конверт, где лежат остальные фишки. — Вот! Соедини все три вместе, расставь по точкам, и ты почувствуешь в твоей истории с убийством нечто более существенное, чем смрад пожара.
Он сует руку в оттопыренный карман своего пиджака, достает трубку и кисет и опять садится за свой письменный стол.
После того как Йохен Неблинг доложил о встрече с кузиной и принес третью фишку, их споры незаметно для них самих возвращаются к главному вопросу: чему отдать предпочтение? В их руках сейчас несколько нитей. С какой стороны начать их распутывать? Если игра, затеянная Штаммом, не отвлекающий маневр, то не следует ли прежде заняться ею и проявить крайнюю осторожность в деле с обнаруженным трупом? Такова приблизительно точка зрения Вернера. Однако нельзя исключать и другую точку зрения — что все это лишь маневр, предпринятый для того, чтобы запутать следствие. Так думает Эрхард Холле. Не лучше ли энергично взяться за расследование убийства, чтобы заодно выяснить, не преследует ли доктор Баум, скрывающийся под именем профессора Штамма, цель, которую теперь нельзя даже предположить?
Наконец однажды Эрхард Холле кладет на стол новый лист протокола:
— На безрыбье и рак рыба. Вспомните, Кобленц, Вагенфюрер и Хайзингер — три коммивояжера, которые в памятную нам ночь въехали на территорию ГДР на «фиате» старого образца и вскоре проследовали обратно, в Западный Берлин. Имеются первые результаты. Кобленц и Хайзингер — вероятнее всего, фамилии вымышленные, а документы на эти фамилии — безупречная подделка, совершенная при помощи официальных властей. Больше о них мы ничего не знаем.
Вагенфюрер — тоже фамилия не настоящая. Это мы знаем наверняка, потому что этого человека удалось идентифицировать. В действительности его зовут Гейдрих. Неплохое имечко[37], а? В свое время он заведовал бюро у одного члена коллегии адвокатов в нашей столице. Два года назад адвокат и заведующий его бюро бежали из республики, прихватив важные документы, и сразу же, использовав вместо пая список известных им в ГДР лиц, вступили в организацию Мампе. Некоторые из их бывших клиентов в ГДР состоят теперь там в разряде потенциальных клиентов. Четыре раза они нелегально провозили людей через границу. И во всех четырех случаях по автостраде на Треллеборг. Предположительно, Гейдрих, он же Вагенфюрер, вооружен… — И после короткой паузы Холле саркастически добавляет: — К сожалению, неизвестно, играет ли он в го.
Вернер не реагирует на подначку.
— Черт возьми! — восклицает он в ответ на вопрошающий взгляд Холле. — Такой материал в архиве не получишь и в служебном кабинете не найдешь. Видно, твои коллеги постарались ради тебя и достали сведения из первоисточника. Смотри, парень, не зазнайся! Не иначе как кто-то в Западном Берлине из занимающих высокой пост пооткровенничал.
Эрхард Холле воспринимает слова Вернера как бестактность, но все же чувствует себя польщенным.
— Так оно и есть, — подтверждает он. — Выяснилось и еще кое-что. В той же транспортной фирме, куда устроился Вагенфюрер, он же Гейдрих, работает некий Шмельцер. Связан ли он с Вагенфюрером — неизвестно, но одно обстоятельство должно нас заинтересовать. Этот Шмельцер — постоянный посетитель кабака под названием «У Лотты», который находится в Шарлоттенбурге[38], где-то у Штутгартерплац. Там встречаются боксеры и кетчисты. Говорят, что, перед тем как перейти к Мампе, Шмельцер был менеджером нескольких кетчистов.
— Не понимаю, — говорит Вернер. — В случае с убийством на автостраде использовались наркотики, а не удары ребром ладони и удушающие захваты.
Эрхард Холле торжествующе ухмыляется:
— Дорогой мой, ты успел забыть некоторые детали старого дела «Мертвый глаз». Йохен сразу поймет, что я имею в виду. Как звали того старика, который работал за стойкой в баре твоей тетки?
— Эгон. Понимаю, куда ты клонишь. Перед тем он зарабатывал на хлеб в ярмарочных балаганах. А на первых послевоенных турнирах кетчистов в Западном Берлине ему дали прозвище «душитель из Нойкёльна» или что-то в этом духе.
— Верно! А теперь я задаю вопрос: не мог ли доктор Баум использовать эту связь? В этом случае через Эгона он вышел бы на Шмельцера.
— Не исключено, — признает Вернер. — Но с какой целью? Подобная комбинация вполне вероятна, но я не вижу в ней никакого смысла.
Прежде чем ответить, Эрхард Холле с наслаждением выдерживает паузу:
— Возможно, смысл появится, если учесть то обстоятельство, что вот уже в течение некоторого времени Шмельцер числится без вести пропавшим.
— Минуточку, — пытается скрыть свое изумление Вернер, — об этом и речи не было. Информация об исчезновении должна была в соответствии с заведенным порядком оказаться на столе в органах дознания нашей прокуратуры. Однако о розысках пропавшего западноберлинца ты пока что не проронил ни слова. Тут что-то не так!
— Верно! Абсолютно верно! Здесь действительно что-то не так, поскольку вопреки установившейся традиции ходатайство о розыске к нам не поступало. Почему — спрашиваю я. Кто проявляет непонятную сдержанность?
— Да, — кивает Вернер, — у нас появился новый материал для размышления.
По нему видно, что он готов немедленно заняться этим.
— Я думаю над тем, — говорит Йохен Неблинг, — насколько предположение, что человек из фирмы Мампе по фамилии Шмельцер и мертвец у автострады одно и то же лицо, поможет нам выяснить, как там оказались найденные нами две фишки для го. Если же предположить, что между Баумом и Шмельцером существовала связь, это в какой-то мере приближает нас к разгадке.
Вернер откашливается и вновь начинает размахивать своей трубкой:
— Есть еще одно обстоятельство, которое говорит в пользу предположения, что мы обнаружили труп пропавшего: западноберлинская сторона ведет себя так же, как и мы. Мы обнаруживаем труп у транзитной автострады и умалчиваем об этом факте, потому что предполагаем, что за этим скрывается нечто большее, чем кража сберегательной книжки. У них пропал человек, который мог бы оказаться тем, кого мы нашли, но они будто воды в рот набрали. Иначе говоря, они придают этому случаю не меньшее значение, чем мы.
Эрхард Холле нетерпеливо вскакивает:
— Но как это согласуется с другими фактами? Какой мне, к примеру, толк от того, что под мышкой у Вагенфюрера или просто в его автомобиле было оружие? На месте обнаружения трупа не найдено пуль. А что найдено? О, я уже не могу говорить об этом — найдены две фишки для го! Мы вертимся в заколдованном круге.
Вернер обеспокоенно смотрит, как Холле, горя желанием что-то предпринять, надевает и застегивает свое короткое, спортивного покроя пальто.
— Не горячись, — останавливает он его. — Иногда лучше ничего не сделать, чем сделать что-то не то.
Эрхард Холле делает прощальный жест, прикасаясь копчиками пальцев к полям своей маленькой шляпы.
— Это не по мне, — говорит он. В дверях он еще раз оборачивается к Вернеру и Йохену: — Вторая машина — где она? И была ли она вообще? Не будет никакого вреда, если я еще раз все прочешу. А сидеть просто так, сложа руки… Я начну с самого начала. Мне необходимо знать, кто выехал от нас в ту ночь через Треллеборг.
Вернер ухмыляется:
— Классическая схема… Классические вопросы… Не забудь, что их всего семь[39].
20
Осень обещает быть прекрасной. Желтеют края листьев старого вяза перед очном мастерской художника, где Вернер встречается с Йохеном. Вернер вспоминает, как страшно глядеть в темное дуло пистолета.
Напряженный и очень прямой Йохен сидел в углу дивана и спал. Иногда его веки приподнимались, и я видел белые с красными прожилками белки его закатившихся глаз. Света я не зажигал. Неестественно красный отсвет вечернего заката вливался через окно мастерской, расположенной под самой крышей. Я не шевелился, чтобы не разбудить его, и чувствовал, какие усилия ему нужны, чтобы даже во сне сохранять осанку и оставаться начеку.
Внизу, во дворе, захлопнулись тяжелые ворота и заработал мотор. Йохен тотчас открыл глаза, подпер рукой голову и сделал вид, будто все время задумчиво слушал, но, вспомнив, где находится, глуповато улыбнулся и сказал ни к селу ни к городу:
— Что касается меня, то хоть сейчас. — Потом он откинулся назад и положил ноги на стол.
Пусть его. Может, этим он хотел позлить меня? Однако что-что, а уж это никак меня не задевало. Я знал немало фильмов, которые вдалбливали зрителю, что ноги на столе — это символ американского уюта. Так пусть же Йохен почувствует себя в уюте, даже если это уют по-американски! Ему нужно было расслабиться хотя бы на пару часов, и это было главное, а как — не имело значения.
Я встал и по узкой винтообразной лесенке спустился вниз, чтобы заварить на кухне чай. Йохен Неблинг стал другим, и отношения между нами были уже не те, что раньше. Шумела вода в чайнике, а я размышлял над тем, как мне приноровиться к этим изменениям.
Собственно, было логично ожидать, что если изменились обстоятельства, то он станет спокойнее. Я решил проследить за этим и соответствующим образом подготовился, но, когда заметил, как он нервничает, испугался. Он выжимал из себя последние соки, расходуя при этом все свои резервы, и держался лишь благодаря молодости. Однако, учитывая, как тяжело ему давалось умение абстрагироваться от чуждого влияния и не поддаваться угрозе извне, я спрашивал себя, что же будет, когда они иссякнут. Он обладал изумительной способностью быть наивным. И хотя вынужден был прибегать к притворству, перед самим собой он не притворялся, оберегая таким способом свою психику. По моим наблюдениям, наивность — нормальная и самая простая форма восприятия реальности. Но за эту свою способность ему приходилось дорого расплачиваться. Его лицо заметно осунулось, и у меня сжималось сердце, когда я замечал неестественный блеск его утомленных глаз. Иногда, чтобы выдержать один день, ему приходилось расходовать запас жизненной энергии, отпущенный на добрый десяток дней.
А каких усилий стоило ему после непродолжительного сна мгновенно возвращать ясность мыслей, чтобы ощущать себя сразу в двух мирах! При этом речь шла не только о двух разделенных пропастью политических мирах, в которых ему приходилось появляться во все новых и новых обличьях. Было еще нечто, что делало свое разрушительное дело. Я имею в виду несоответствие между тем, что происходило вокруг него, и тем, что происходило у него внутри. Законы, которые неминуемо навязывались ему новыми условиями, уже не соответствовали тем простым представлениям, которые он усвоил. Мир, в котором он жил, все больше отличался от того мира, который жил в нем. Это порождало неразрешимые противоречия, а иногда делало его собственным врагом. И я все глубже задумывался, как долго имею право заставлять его жить двойной жизнью, раздиравшей его на части.
Чаще всего наши короткие, в пожарном порядке назначавшиеся встречи с Йохеном Неблингом проходили в городе, где можно было незаметно раствориться среди большого скопления народа: на футбольных матчах, на станциях и остановках в часы пик, на митингах и собраниях. Обычно нам достаточно было нескольких слов или маленьких записочек, которыми мы обменивались. На большее у него вряд ли хватило бы времени. Обычный день его жизни, жизни женатого студента-практиканта, связанного тысячью обязательств и различными отношениями с людьми, был и без того заполнен до предела, ведь ни от одной из своих привычек или обязанностей он, собственно говоря, не имел права отказываться.
Теперь ко всему этому прибавились ночные и дневные похождения некоего господина Глаза, которого по ту сторону границы мучили изматывающими тренировками, стремясь сделать из него суперагента. Тот, кому известна история доктора Джекиля и мистера Хайда, поймет, что я имею в виду[40]. Он должен был научиться быть злым, чтобы бороться за то, что считал добром, и должен был оставаться добрым, чтобы уравновесить в себе зло. Он вертелся до одури с утра до ночи, как непрестанно раскручиваемый детский волчок.
Однако иногда мы не могли обойтись без продолжительного, обстоятельного разговора. В этих случаях мы встречались в расположенной под самой крышей мастерской моего хорошего знакомого, члена партии, малоизвестного публике художника из группы пролетарских деятелей искусств. С недавних пор он частенько отправлялся на юг, к Черному морю, оставляя на это время квартиру мне для моих отнюдь не художественных целей. Анализ изменений положения в мире, появление новых методов конспиративной работы противника требовали с нашей стороны их всестороннего осмысления, а этого нельзя было сделать в спешке. Кроме того, я хотел, чтобы Йохен научился играть в го. После его рассказов я пришел к выводу, что эта путаная игра поможет ему подобрать ключ к новому хозяину с его тонким душевным устройством.
Когда я вернулся с чаем, Йохен сидел в своем углу, выпрямившись как благовоспитанный школьник. Он молча наблюдал за тем, как я управляюсь с чайником и чашками. Когда я подвинул ему сахар, он, зябко ежась, набросил себе на плечи пиджак.
— Всегда одно и то же, — сказал он презрительно, — у тебя грузинский чай, у него «Бурбон» из Кентукки[41]. Знаешь, меня от этого уже тошнит.
Я кивнул в знак согласия, и он несколько смягчился.
— Что со мной, Вернер? Я сижу не двигаясь и чувствую, что задыхаюсь. Вокруг тепло, а меня знобит. Я сплю и бодрствую во сне. Я бодрствую, но двигаюсь, как во сне. У меня такое чувство, будто меня вывернули наизнанку. Что же со мной будет?
Я тоже не знал этого и посоветовал ему выпить горячего чая. Я бросил ему плед и сказал, чтобы он лег и накрылся им, добавив, что времени у нас много. Но он швырнул плед назад и закричал:
— У меня совсем нет времени! У меня есть жена, которая сидит дома и думает, что я опять пошел налево.
Он находился в таком состоянии, которого я больше всего опасался, и было совершенно бессмысленно пытаться приводить ему какие-либо доводы. Я согласился с ним, что он должен воспринимать все как бессмыслицу. Я не жалел слов, но подбирал их с большим трудом. Чем я мог ему помочь? Оставалось лишь то и дело заверять его, что я все понимаю, что он имеет право высказать мне все, что у него накопилось на душе. Он поблагодарил за трогательную заботу и холодно заявил, что в заботливости я ничуть не уступаю американцу. Это сравнение разозлило меня, и я столь же холодно сказал, что в таком случае ему следовало бы прислушаться и к мнению американца, который советовал ему жену ни во что не вмешивать.
Именно эта ситуация многое решила.
— И ты тоже? — закричал оп. — Почему, черт побери? Почему и ты требуешь от меня этого?
В ответ я выпалил:
— А потому, черт побери, что «коллеги с другого факультета» требуют от тебя абсолютного молчания. Если ты расскажешь жене, то потом разболтаешь всем, например таким, как я. Вот их логика. И поскольку они правы, мы обязаны подчиниться. Одно лишнее слово твоей жены, один ее неверный шаг — и тебе конец. Нет, так дело не пойдет: слишком велик риск.
Мы облегчили свои души. Он тихо сказал:
— Да слышал я все это. Но мой брак под угрозой. Понимаешь?
Еще бы не понимать! Но что я мог сказать ему, если слова ничего не меняли? Я стал говорить о любви: мол, там, где есть любовь, должно быть и доверие.
Он смотрел на меня отсутствующим взглядом.
Во время нашей перепалки беспрестанно звонил телефон. И сейчас он снова зазвонил. Видно, на другом конце провода знали, что я здесь, а это знали немногие, и звонили они мне только, если было что-то неотложное. Я снял трубку и сразу бросил ее на рычаг. Йохен не спускал с меня глаз.
— Доверие — вещь хорошая, очень хорошая, — натянуто произнес он. — Но кому и чему я должен верить? — При этом он медленно расстегивал свою похожую на блузу рубаху, и я не сразу понял, что это означает. Правую руку он сунул под рубаху, а затем быстрым, хорошо отработанным движением выхватил пистолет и, направив его прямо на меня, с косой ухмылкой сказал: — Ну, продолжай! Во что я должен верить? Может, вот в эту штуку?
Одна из самых неприятных вещей на свете — смотреть в такое вот темное дуло пистолета. Никогда нет уверенности, что это не в последний раз. Откуда у него оружие? Что он, совсем спятил? В данный момент я не мог сделать ничего иного, как поднять на уровень между этим дулом и моей головой чашку с чаем. Пистолет дрожал в его руке, и было видно, как подрагивали его веки поверх прицельной прорези. Пару секунд, показавшихся мне вечностью, мы неотрывно смотрели друг на друга. А затем он бросил пистолет на стол.
— Дерьмовая игра! — воскликнул он, как бы подводя черту под этой фантасмагорией.
Несколько мгновений мы сидели за столом друг против друга, делая вид, что ничего не произошло. Я пил чай маленькими глотками. Потом взял в руки его оружие и принялся рассматривать. Это был крупнокалиберный пистолет, однако он легко помещался на ладони и приятно холодил кожу. Вынув патрон из патронника, я окончательно успокоился и объяснил ему, что это на редкость красивая вещь, но играть ею не следует. Один за другим я вынул из обоймы все патроны и выстроил их в шеренгу, как оловянных солдатиков. Йохен при этом с наигранным равнодушием смотрел в потолок. Будучи не в силах больше сдерживаться, я схватил его за рубаху и притянул к себе:
— Ты понимаешь, что это значит? Они вручили тебе оружие! Это же диплом на звание мастера, парень! Ты добился своего. Теперь ты действительно их человек. Ты вошел к ним в доверие. Мы добились-таки своего!
Впервые за весь вечер он непринужденно улыбнулся:
— Могу я получить свой чай?
Я налил ему чая. Вопреки своей привычке он положил в чай сахару и стал пить. Душа моя ликовала, будто сегодня было рождество и Первое мая одновременно. Да, мы добились своего. Наши страхи и опасения, муки одиночества, беспрерывная беготня, ложь и притворство — все это не пропало даром. Теперь все будет хорошо. Когда я сказал ему об этом, он тихо спросил:
— Так что же будет дальше?
Мы перешли к деловой части нашей встречи. За широким окном вновь запламенело вечернее зарево. Листья могучего вяза, царившего над всем задним двориком и достававшего верхушкой до крыши, загорелись всеми красками осени, и казалось, будто они сделаны из старого бархата. Быстро опускались сумерки. Я зажег свет. У меня было как-то празднично на душе. Некоторое время я даже подумывал, не откупорить ли нам бутылку вина, но затем отбросил эту затею — у нас было много дел.
Йохен слышал по радио дебаты в бундестаге[42] о чрезвычайных законах[43], знал об открытом письме Вальтера Ульбрихта к западногерманским социал-демократам. В штаб-квартире НАТО в должность командующего сухопутными войсками вступил генерал Шпейдель, генштабист с военным опытом, служивший в гитлеровском вермахте. Он первым делом подтвердил свою приверженность наступательной стратегии. Еще мы располагали достоверной информацией о содержании секретного меморандума главного штаба бундесвера, который был разослан командирам частей и соединений, а также политическим лоббистам, числившимся военными экспертами. Старые нацистские генералы стремились к своей главной цели — вооружению бундесвера ядерным оружием. Мне не пришлось тратить много слов. Йохен сразу понял, насколько важными могут быть последствия изменившейся ситуации. Мы должны были приготовиться к любым неожиданностям, в том числе в нашей работе.
Я перевел разговор на доктора Баума. Йохен характеризовал его весьма осторожно:
— Трудно сказать. Необычайно деловит, необычайно сдержан. Зверски гонял меня во время подготовки, однако у меня появилось странное чувство, как будто он пытался облегчить мое положение. Удивительно, но, когда он вручал мне пистолет, я на какой-то миг задумался: а смог бы я забыть о том, что он мой смертельный враг? Иногда я размышляю: разве в состоянии человек постоянно держать себя в руках? Ведь эта привычка клацать фишками для го, в конце концов, всего лишь способ самодисциплины.
В его характеристике чувствовалась симпатия. Когда я напрямик спросил его об этом, он сказал:
— Мне с ним неплохо, не странно ли? Когда пришло время идти на детектор лжи, он мне, конечно, об этом не сказал, но дал понять, что предстоит какая-то неприятная процедура. Он явно добивался, чтобы я это понял. За что он больше боялся: за свою или за мою безопасность — этого я не знаю.
Трудно было определить, что внушало мне беспокойство. Они провели с Йохеном ровно 223 часа специальной подготовки. Все уроки я подробно анализировал, и каждый из них точно соответствовал программе подготовки самостоятельно действующего военного шпиона. Но зачем велась вся эта подготовка, если сейчас они притихли? Никаких заданий, никаких донесений — одним словом, никакой активности. Они ждали. Но чего? А вдруг они отвергли его. кандидатуру? Но почему? Они берегли его для будущих операций. Но для каких именно?
Йохен тоже не знал ничего такого, что помогло бы найти ответы на эти вопросы. Нужно было подождать следующей встречи с Баумом. В этот вечер я начал учиться играть в го с Йохеном.
21
В шифровальное отделение.
Совершенно секретно.
По служебной линии Западный Берлин — Франкфурт-на-Майне — Вашингтон
Резидент Западного Берлина — заместителю директора по планированию (начальнику оперативного управления)
Сэр, резидентура действует согласно Вашему указанию с учетом высшей степени риска. Выражаю уверенность, что централизованные розыски Баума в ближайшее время будут завершены в нашей оперативной зоне. По этому поводу прошу подтвердить, что в нашу задачу, кроме того, входят разведка и разложение войск и населения противника. Данный запрос сделан в связи с неучитывавшимся до сего времени уходом через границу. По нашему мнению, если принять во внимание интересы противника, то не следует опасаться международно-правовых или дипломатических осложнений.
П. И. Т.
Виола Неблинг страшится одного — собственного «я», этой хрупкой оболочки, в которую нельзя заползти и спрятаться. Почему она дрожит? От ночного холода, затаившегося там, за бархатными портьерами? Или, может, она просто слишком много выпила вечером? Или же на нее нагнала страх маленькая металлическая вещь, выпавшая из конверта, та, которую она судорожно сжимает в вспотевшей ладони? Что она должна сделать с ключом от сейфа? Чего от нее хотят? Когда она наконец еще раз, теперь уже принуждая себя быть спокойной и обстоятельной, читает письмо Дэвида, оставленное для нее у портье, то не может отделаться от впечатления, что видения, вызвавшие у нее во сне необъяснимый ужас и заставившие ее проснуться, все еще продолжаются. У нее появляется чувство, что некто, кому она стала поперек дороги, преследует ее и пытается схватить. Но не зубов преследующего ее существа боится она, а крика, который застревает у нее в горле. Медленно опускает она в конверт ключ и вкладывает туда же письмо. Затем осторожно осматривается в слабо освещенном вестибюле. Портье дремлет, уткнувшись в газету. За стойкой бара, вперившись взглядом в свой бокал, сидит последний посетитель, одетый в пальто и шляпу. На мгновение она задумывается: не напоминает ли его шляпа ту, силуэт которой она видела на крыше? При этом она сильнее вжимается в кожаное кресло, в которое села, чтобы прочесть письмо. Иногда по улице с шумом проносится автомобиль, и, если машина останавливается поблизости и хлопает дверца, она думает: «Неужели за мой?»
А вообще-то кругом тишина. Бармен занят тем, что протирает полотенцем посуду. При этом его движения настолько торжественны и в этот ночной час так неестественны, что кажется, будто он вызывает духов. Каждый раз, проверяя на глаз в свете маленькой лампы с зеркальным отражателем чистоту бокала, он незаметно бросает взгляд и на нее. Пора принимать решение, и побыстрее, как велел Дэвид, хотя она не понимает смысла всего этого.
Она встает. В этот момент со своей высокой табуретки слезает мужчина, сидевший за стойкой бара, и поворачивается к ней. Под полями низко надвинутой шляпы лица не видно. Она чувствует, что ее сердце вот-вот разорвется, как стеклянный сосуд. Но прежде чем она успевает что-либо подумать, мужчина не сгибаясь, медленно валится вперед, как спиленное дерево.
Бармен выходит из-за стойки и переворачивает мужчину на спину.
— Извините, — говорит он, подмаргивая Виоле, — несчастный случай на производстве. Вам неприятно будет смотреть. А ведь у меня он ничего не пил.
В тот же миг шляпа посетителя из старого фетра подкатывается к креслу Виолы. Она поддает ее ногой, и та катится назад. Затем маленькими твердыми шажками Виола направляется к лифту, зная, что самые большие страхи, которые выпали на ее долю этой ночью, позади и теперь она будет действовать как безошибочно запрограммированный автомат.
Письмо Дэвида! Его содержание у нее в голове. Ключ от его сейфа! Он у нее в руке. Враги Дэвида и его друзья! Неважно, кто они. Либо первые найдут ее, либо она успеет найти последних. Сейчас все надо делать быстро.
Лифт поднимает ее наверх. Комната Дэвида не заперта. Прежде всего согласно указаниям Дэвида она сжигает над унитазом его письмо и спускает пепел. Затем делает то, что обычно делает человек, когда что-нибудь ищет: развинчивает бритву Дэвида, разрывает пачку с лезвиями, выбрасывает мыло из мыльницы, раскручивает ролик туалетной бумаги, разбрасывает полотенца, поднимает крышку туалетного бачка, выдавливает зубную пасту из тюбика, высыпает содержимое несессера на кафельный пол. При этом Виола изумляется той строгой элегантности, с которой устроил свой быт этот мужчина, и радуется тому хаосу, который она творит.
«Обыск» в комнате продолжается. С кровати слетает матрас, с торшера — абажур, разлетаются по полу сиденья кресел и бутылки из бара. Из одной бутылки выливается жидкость. Водка — как жаль! Виола входит в раж. Скатывает ковер, приподнимает картину — футуристическое изображение полового акта, при этом картина выскакивает из рамы. Она распахивает дверцы шкафа, раскрывает чемоданы и ящики, а содержимое вываливает на пол. Она почти испытывает удовольствие от того, что приводит в беспорядок Дэвидов мир порядка по его же собственному распоряжению. Наконец она с удовлетворением оглядывается но сторонам и в этот момент улавливает, что в ее комнате звонит телефон. Где она должна находиться? Конечно же, в своей комнате! И она несется к себе.
— Да-а-а?
— Милостивая фрейлейн, вы заказывали такси? — раздается в трубке дружелюбный и удивленный голос портье.
Она быстро находится:
— Ах да, такси! Я заказала его из города еще вчера.
— Понимаю, милостивая фрейлейн, но я с удовольствием сделал бы это за вас.
— Я знаю, спасибо.
— Шофер ждет. Вы не изволите поторопиться?
Мгновение она колеблется. В какой степени стоит удовлетворять любопытство портье?
— Да-да, я потороплюсь. Профессор Штамм задержался на вечеринке у друзей и просит заехать за ним на такси.
Уже в тот же самый миг она готова укусить себя за язык. Надо было сморозить такую глупость! Кто же заказывает такси накануне вечером, если лишь рано утром узнает, что придется заехать за кем-то?
Виола кладет трубку и бегом возвращается в комнату Дэвида. Она отпирает сейф и сразу обнаруживает магнитофон, с которым Дэвид вернулся с крыши. Она не может совладать со своим любопытством и, хотя об этом ничего не говорится в письме, пытается запустить его. Однако ничего не выходит — либо в приборе дефект, либо он заблокирован специальным приспособлением. Дэвид, ах ты негодяй! Не доверяешь даже мне?
Надо поторапливаться. Под стопкой папок с бумагами лежит «дипломат», который якобы очень важен. Она выбрасывает на пол бумаги из сейфа и достает «дипломат». О боже, как он тяжел! Она стучит по крышке и по звуку определяет, что под кожаной обшивкой скрыт стальной корпус. Как ей все это вынести из гостиницы? Ведь никто не ходит на вечеринку с «дипломатом» и магнитофоном. Она наденет пончо и под ним незаметно пронесет все это. Затем Виола осматривается и вспоминает, не забыла ли чего. Хаос, который она учинила, имитируя обыск, выглядит вполне натурально. Свет в ванной пусть горит. Она закрывает дверь на задвижку. Пусть будет так! А в открытой дверце сейфа торчит ключ. Она довольна собой.
На цыпочках, будто и вправду воровка, скрывающаяся с добычей, Виола через полуоткрытую дверь выскальзывает на балкон. Небо над городом кажется насупленным. Одна за другой гаснут светящиеся рекламы — в этом вывернутом наизнанку мире о наступлении утра возвещают лишь гаснущие огни. Виола осторожно перегибается через балюстраду. Внизу тарахтит невыключенным мотором черный лимузин — наверное, это такси. Над его выхлопной трубой вьется тонкая струя отработанных паров. От высоты у нее кружится голова. Дэвид, вероятно, сошел с ума, раз потребовал от нее такого. Но что ей остается, как только слушаться его? Балкон, на котором она стоит, отделен от соседнего — балкона в ее номере — тонкой бетонной перегородкой. Медленно, очень медленно перекладывает она на ту сторону сначала «дипломат», а затем магнитофон. Она благодарит свою расу за длинные руки и ноги: они пригодятся ей для того акробатического трюка, который она сейчас вынуждена будет совершить. Она заставляет себя не думать о мрачной бездне, которую чувствует под собой. Потом взбирается на скамеечку, из которой торчит сложенный зонт. Она понимает, что все нужно сделать быстро, не останавливаясь. А еще лучше перенести себя на ту сторону одним рывком.
Уже оказавшись по ту сторону перегородки, она ощущает горечь во рту. Дрожа от отвращения и страха, она сплевывает. В свою маленькую сумку она вкладывает только самое важное — фотокопии рукописей из государственной библиотеки. Магнитофон она засовывает за пояс брюк, а «дипломат» зажимает под мышкой. Сверху надевает пончо. Последний взгляд в зеркало. Косметику можно было бы нанести и получше. Она показывает себе язык. Все о'кэй!
Внизу навстречу ей идет портье. Свалившийся пьяница убран со сцены. Бармен из бара в вестибюле тоже исчез. На прилавках разложены свежие утренние газеты. Две уборщицы, не поздоровавшись, проходят мимо шаркающей походкой.
Портье берет у Виолы ключ от номера.
— Желаю хорошо развлечься, — говорит он.
— Ах, с этими развлечениями помрешь раньше времени, — отвечает она.
— Позволю себе заметить, милостивая фрейлейн, молодость и красота не знают границ.
Виола спрашивает себя, действительно ли она правится старику или же он притворяется. Судорожно поджимая живот, потому что давит магнитофон, она с трудом удерживает «дипломат». И при этом ей еще нужно изобразить соблазнительную улыбку!
— Вы — льстец, — говорит она, — знаете, как отрабатывать чаевые. Запишите их на счет профессора Штамма.
— С вашего разрешения я сделаю это, милостивая фрейлейн.
Шофер такси ожидает ее между гигантскими стеклянными дверями, управляемыми фотоэлементами. Как холоп, которому в старые времена было не положено входить в господские хоромы. Сначала ей кажется, что он горбат. Но затем она видит, что перед ней гора мышц с маленькой лысой головой.
— Вы на такси, фрейлейн? — тихо спрашивает он, грустно глядя на нее, и руками, напоминающими подъемные краны, делает приглашающий жест.
Виола не знает, смеяться ей или бояться.
— Ладно, едем, — говорит она.
И вот они в пути. Миновав мост через Ландвер-канал, развалины старого вокзала Кайзерхоф, они уже едут вдоль чисто вымытого холодным дождем променада проституток у арки Бюлова, когда Виола Неблинг наконец решается вытащить из-за пояса брюк магнитофон, а из-под мышки «дипломат» и положить то и другое рядом с собой на сиденье. Человек, сидящий впереди нее за рулем, со спины походит на дрессированного орангутанга. Впечатление это пропадает, лишь когда он делает поворот или переключает скорость и его тело совершает почти незаметные движения. И все же он наблюдает за ней — скорее всего, через хитро установленное зеркало заднего обзора. Когда она поправляет пончо и откидывается на спинку сиденья, он, тихо засмеявшись, спрашивает:
— Что, опасный товарчик, фрейлейн?
Виола так ошарашена, что не знает, что ответить.
И снова слабая печальная улыбка.
— Не бойтесь, опасный товар меня никогда не интересовал.
Виола не знает, что он за человек, но догадывается, что не профессиональный таксист.
— Не болтайте вздора! — одергивает она его. — Включите-ка лучше счетчик.
— Я везу вас бесплатно.
— А почему вы не спрашиваете, куда меня везти?
— Разве это не было оговорено? Ведь поездка заказана.
— Что вы говорите? И кем же?
— Вы еще спрашиваете, фрейлейн! Теперь, кажется, вы говорите что-то не то. Не будет же доктор заботиться о том, кого он не знает.
— Вы имеете в виду профессора… профессора Штамма?
— Профессора… Гляди-ка, растут люди! А почему бы и нет? Тот, кто дает, хочет что-то получать взамен. А скорость вас устраивает? Может, поедем побыстрей?
Виола чувствует, что у нее появился шанс узнать наконец тайну вчерашнего вечера. Она наклоняется вперед, облокачиваясь на спинку сиденья рядом с водителем:
— Вы отлично ведете машину. По крайней мере, можно разговаривать. Рассказывайте дальше. Так вы знакомы?
— Да что рассказывать? Я думал, вам все известно. Но если вы не в курсе, то я, право, не знаю, понравится ли это ему. В таких вещах он всегда был немного странным.
— И по отношению к вам тоже?
— Ах, знаете ли, все это было так давно! Но я не забыл. Он избавил меня от ужасной неприятности. Такое старый Эгон не забывает. Кстати, можете называть меня Эгоном или, если хотите, дядей Эгоном. Это звучит более дружески, ведь нам некоторое время придется быть вместе.
— Договорились, дядя Эгон. Меня зовут Виолой.
— Фрейлейн Виола! Кстати, мы уже приехали.
— Куда?
— Как «куда»? Ко мне. Не забудьте ваш опасный товар.
Они стоят в конце улицы, теряющейся в кустах и деревьях. Перед самым последним домом горит газовый фонарь, который, наверное, забыли потушить. Виоле он кажется забытым человеком, стоящим на краю света. По узкой дорожке, мощенной булыжником, Эгон ведет ее за дом. Он отпирает дверь квартиры в бельэтаже, и Виола неожиданно попадает в атмосферу тепла и уюта.
«Можешь полностью доверять человеку, который приедет за тобой на такси, — написал в своем письме Дэвид. — Он добродушен, как тысячу раз битая собака, и позаботится о тебе в течение ближайших дней. Не злоупотребляй его добротой! Он сообщит тебе, когда мы сможем увидеться. Не бойся, он надежный защитник, несмотря на то, что иногда чересчур медленно думает. Отнесись с пониманием к нему и твоему Дэвиду».
Эгон показывает ей квартиру: кухню с до блеска вычищенной кухонной техникой и отреставрированной старой софой, превращенной в кровать, крохотный туалет с душем в углу, коридор длиной с кегельбан и дверью в конце, ведущей в единственную комнату, которую Эгон открывает перед ней с раболепным выражением на лице.
— Ваши апартаменты, фрейлейн, — говорит он. — Здесь вас сам господь бог не разыщет. А ваш товарчик мы лучше спрячем сюда. — Он отодвигает в сторону комод и поднимает пару половиц — взгляду открывается узкая лесенка, ведущая вниз. Он кладет «дипломат» и магнитофон на верхнюю ступеньку. Когда комод водворен на место, он говорит: — Надежней, чем в сейфе. Об этом знаем только мы трое: вы, фрейлейн Виола, ваш покорный слуга и доктор Баум.
На какое-то мгновение Виола замирает. Где она слышала это имя? Но затем, внутренне посмеиваясь, приходит к выводу, что, по всей вероятности, голова у этого человека работает еще медленнее, чем полагает Дэвид, и подавляет в себе готовое сорваться с языка возражение. Доктор или профессор, Баум или Штамм[44] — какая разница для этого человека с одной извилиной?
В комнате много хорошей мягкой мебели. Виола шлепается в одно из кресел, решает ничему больше не удивляться и в сладостном предвкушении, что сможет наконец отоспаться, на несколько секунд закрывает глаза. Один раз, однако, ей еще предстоит удивиться.
— Что мы будем есть на завтрак, фрейлейн? — спрашивает Эгон.
Виола отгоняет сон:
— Яйца. Побольше яиц, дядя Эгон.
И тут ее взгляд падает на противоположную стену, увешанную пожелтевшими фотографиями. Со всех фотографий на нее глядят грустные глаза Эгона. Этот грустный взгляд находится прямо-таки в гротескном противоречии с устрашающими позами, в которых он, облаченный в спортивное трико, позирует фотографу. Под одной фотографией написано: «Стальной», под другой: «Эгон, душитель из Нойкёльна».
— Вы были боксером? Я так и подумала, глядя на вашу фигуру.
Польщенный Эгон грустно вздыхает:
— Ах, это было так давно! Я был всего лишь борцом, а точнее, кетчистом, если вам это что-нибудь говорит.
Виоле это мало что говорит. Но вот еще одна фотография! На ней уже несколько постаревший кетчист, одетый в темный элегантный костюм, запечатлен среди веселой компании, разместившейся на громадной софе. На заднем плане виден высокий буфет.
Виола сразу настораживается.
— Когда это было? — спрашивает она.
Громадная фигура Эгона, согнувшаяся перед низко висящей фотокарточкой, сейчас производит еще более грустное впечатление.
— Это в баре моей хозяйки. Мы отпраздновали там мою последнюю победу. Хозяйка была прекрасная женщина. Да только уехала и забыла меня. Осталась лишь софа, которая стоит у меня в кухне. Прекрасная была женщина. Вот она! — И он указывает на тоненькую женщину, которая со строгим выражением лица сидит на софе в центре компании.
Взгляд Виолы встречается с глазами ее матери.
22
Йохен Неблинг рассказывает, почему муку, помолотую в Восточном порту, он доставляет в Вест-Энд в Западном Берлине. Он радуется, что у Вернера сердитые глаза, а доктор Баум принимает его за доской го в непривычно рассеянном состоянии.
Мне никогда не нравились люди, которые по любому поводу впадают в панику, поскольку в глубине души убеждены в собственной глупости. Но, признаюсь, в этот проклятый вечер я сам узнал, что такое страх, и по крайней мере дважды почувствовал себя глупцом.
Был четверг — самый невразумительный день недели. Я, как предусматривалось, привычно открутился от всех своих обязанностей, чтобы точно в срок доложить о своем прибытии на службу к доктору Бауму. При этом на прощание мне пришлось-таки проглотить горькую пилюлю.
Члены жилищно-строительного кооператива нашего предприятия на летний период были освобождены от вечерних смен, с тем чтобы выполнить срочные земляные работы. Требующиеся для этого рабочие часы распределили между членами кооператива. Но так как у меня постоянно не было времени, то ко дню, о котором я рассказываю, ужо накопилось 50 часов задолженности. И когда я в обеденный перерыв, стоя в очереди в столовой, взял Хайнера Хельмиха за рукав, собираясь вновь сказать, что не смогу прийти вечером на стройку, он молча снял мою ладонь со своей руки. А Макс Кунке, стоявший за нами, прокаркал на весь зал:
— Что ты собираешься объяснять нам? Не надо нам твоих объяснений. Побереги их для своей жены!
Это было ужасно, и все слышали его слова. Макс Кунке был одним из тех, кто рекомендовал меня в партию, и я, конечно, давно заметил, с каким вниманием следит он украдкой за моими регулярными отлучками и как это бдительное внимание, вошедшее в плоть и кровь некоторых старых членов партии, постепенно трансформируется в ожесточенное недоверие, поскольку считалось, что, обманывая жену, ты обманываешь партию. В чем-то Макс был, очевидно, прав. Я действительно всех обманывал. Но ужас заключался в том, что я не мог объяснить ему, в чем он не прав.
У Хайнера Хельмиха, по крайней мере, оказалось достаточно гордости, чтобы не опускаться до мелочных нападок. Но это было, наверное, даже хуже. Он просто перестал разговаривать со мной. И мне пришлось смириться с тем, что я потерял друга, поскольку о восстановлении прежних отношений не могло быть и речи.
К тому моменту, когда я бросил пистолет на стол перед Вернером, все мосты в нормальную жизнь были сожжены, и единственное, о чем я мог тогда думать, так это о том, как без серьезных осложнений переходить границу. Это было самое главное. От обычного маршрута через руины Кёльнского форштадта меня отговорил Вернер. В руинах все еще кипела жизнь, и кто-то, возможно старушонка, мариновавшая огурцы, уже сообщил нашим погранорганам о моих довольно частых прогулках. Личность человека, регулярно ходившего через границу, пока еще не была установлена. Вернер узнал об этом по служебным каналам, и мы нашли по карте другую лазейку. Речь шла о запущенных огородах возле Тельтов-канала. Через канал проходила разрушенная колея заводских железнодорожных путей. Переходя канал по деревянным мосткам, можно было укрыться между взорванными в последние дни войны, а затем кое-как поднятыми из воды ржавыми конструкциями моста. А дальше прямо к границе вела широкая, посыпанная щебенкой дорога.
Был душный вечер. В воздухе висел тяжелый запах гари. Какой-то мужчина мазал дегтем крышу летнего домика. Под моими ногами шуршала щебенка. Из садика, где работало дождевальное устройство, несло прохладой. Прислонившись к изгороди, я смотрел на закат. Над лучами заходящего солнца, словно шлем, висела над городом дымка. Четырехмоторный винтовой самолет с четко различимой белой звездой ВВС США тяжело поднялся с аэродрома Темпельхоф и начал взбираться по большому витку все выше и выше. Наконец он исчез за стеной облаков. Оставленная им полоса отработанных газов светилась в последних лучах солнца.
Наверное, странно, что много лет спустя я все еще помню такие подробности. Однако не так уж это и странно. Как-никак к тому времени я уже накопил достаточно опыта, чтобы знать: любая деталь, кажущаяся в данный момент абсолютно несущественной, может неожиданно приобрести исключительную важность. Передо мной лежал неразведанный путь. Каждый шаг на непросматриваемой приграничной местности таил опасность. Кроме того, надо было подумать и об обратном пути. И здесь любая деталь могла иметь значение. Например, узнает ли меня человек на крыше в ситуации, которую сейчас совершенно невозможно предусмотреть? Во время своих инструктажей Вернер любил повторять одну и ту же стандартную фразу:
— Тонкости, мой дорогой, не забывай тонкости.
Независимо от того, что убийство у автострады, каким-то образом связанное со старой историей, заставило меня вспомнить давно забытое, было во всем этом и нечто другое, запутанное с точки зрения психологии. Я не участвовал в последней войне, но прочел о ней ряд книг. Что меня больше всего поражало при чтении, так это описание последних секунд перед атакой, когда сердце солдата сжимается от страха, потому что он прощается с жизнью, которая, мирная и светлая, осталась далеко позади. Затем его охватывает боязливая нерешительность и пальцы впиваются в родную землю-спасительницу, и, наконец, следует отчаянный прыжок из окопа, когда можно мгновенно получить смертельную пулю. Я не хочу ничего драматизировать: когда я шел на ту сторону — образно говоря, покидал свой окоп, — вокруг меня не свистели пули, но каждый раз я испытывал нерешительность, с которой ничего не мог поделать, поскольку каждый раз я оставлял позади себя свою подлинную жизнь и шагал в неизвестность. И вот когда в те вечерние сумерки тяжелый самолет поднимался все выше и выше, а оставленный им след в последних лучах солнца светился невероятно нежным молочно-розовым светом, я вспомнил о Ренате и о малыше — о том, как однажды мы были в зоопарке и мальчуган почему-то пришел в неописуемый восторг при виде облака из перьев, витавшего над стаей фламинго, и никак не мог успокоиться. А теперь я стоял у сплошь увитой вьющимися растениями садовой изгороди и все смотрел и смотрел в небо, не в силах заставить себя оторваться от этого занятия.
Покашливание за моей спиной вернуло меня к действительности. В заросших кустах черной смородины старушка собирала позднюю ягоду. Она не заметила меня, и я потихоньку продолжил свой путь. Местность просматривалась все хуже. Последние садики терялись среди песчаных холмов, на которых росли коровник и полынь высотой в человеческий рост. Потом постройки по обе стороны щебеночной дороги снова стали попадаться чаще. За заборами из прогнивших планок стояли полуразвалившиеся мастерские. На деревянной палатке, в которой когда-то продавали пиво в бутылках, все еще висели жестяные щиты, рекламировавшие пиво «Киндл» и «Гротерьян». Резко усилилась какая-то мерзкая вонь. И вдруг дорога оборвалась. Это явилось для меня неожиданностью. На плане города, который мы внимательно изучили с Вернером, дорога была обозначена тонкой линией как непрерывающаяся боковая улица. В действительности же она заканчивалась массивными решетчатыми воротами из железа, створки которых были связаны проволокой. Проволока была снята с электрического столба, который, словно мертвое дерево, высился рядом с воротами. Электропроводка, провисая, шла над кирпичной стеной. Вонь, несомненно, доносилась с той стороны стены.
О том, чтобы вернуться назад, не могло быть и речи. Время торопило. Доктор Баум мог разгневаться. Кроме того, во мне стало разгораться любопытство. Преодолевая отвращение, я перелез через кирпичную стену и оказался во дворе полуразрушенного завода. Над котельной, как кривой короткий палец, возвышалась труба. Постройка с выбитыми стеклами рядом с ней, вероятно, была чем-то вроде механического цеха. Ворота в постройку были широко открыты. Тут же белела гора костей. Рядом были свалены уже начавшие загнивать шкуры животных, над которыми летал рой переливающихся на свету мух. Мне пришлось зажать нос платком, и постепенно до меня стало доходить, где я нахожусь, — на заброшенной живодерне.
Но тут я услышал звуки эстрадной музыки. Они доносились из котельной. В два прыжка я оказался рядом с ней. Мне хотелось узнать, что здесь происходит. Узкая железная лестница вела к двери в каменной стене. Я хотел открыть ее беззвучно, но успел лишь прикоснуться к ней, как заржавевшие петли издали пронзительный визг. И в тот же миг внутри раздался громкий крик:
— Полиция! Бежим!
Отступать было поздно. С огражденных перилами антресолей над котлами и топками я увидел трех убегающих мужчин. Один держал на плече мешок с мукой. Когда, удирая, он бросил его, тот лопнул и в воздух поднялось белое облако. Возле котельной, там, где обычно сгружали уголь, стояли две машины, нагруженные мешками с мукой. Очевидно, я вспугнул сбежавших людей в то время, когда они занимались перегрузкой. Четвертый не поддался панике, а спокойно вылез из кабины стоявшей впереди машины. Просунув через открытую дверцу руку в кабину, он выключил радио. Из кабины рука появилась с тяжелым гаечным ключом. Человек надвинул на глаза клетчатую кепку, внимательно оглядел помещение и заметил меня. Он ухмыльнулся, и я сразу понял, что ухмылка эта не предвещает мне ничего хорошего.
Он с вызовом посмотрел на меня и сказал:
— Молчок и ни с места! — хотя я не издал еще ни звука и даже пальцем не пошевелил.
Он подошел поближе, оценивающе взвешивая в руке гаечный ключ. Я не представлял, что будет дальше. И в этот момент за моей спиной раздался голос:
— Не хотите закурить?
Длинный, тощий как щепка парень в кедах, неслышно подкравшийся ко мне сзади, протягивал коробочку сигарет. Я взял одну.
Человек внизу сказал:
— Вот так-то! Спустишься ты наконец или мне подняться к тебе?
Мне не оставалось ничего другого, как спуститься. Путь к отступлению был отрезан. Я проклинал свое чертово любопытство. Внизу все окружили меня и закурили. Маленький паренек с разукрашенным прыщами лицом прервал молчание и спросил с пародийной изысканностью:
— Господин барон всегда изволит приходить без доклада?
Я ничего не ответил. Ситуация была щекотливой, и мне приходилось обдумывать каждое слово. Главарь все еще держал гаечный ключ, ни на мгновение не спуская с меня глаз. Можно себе представить, о чем он думал: не лучше ли дать мне по башке, а потом сделать так, чтобы я навсегда исчез под грудой костей?
Когда он, покончив с размышлениями, спросил меня:
— Ты что-нибудь ищешь здесь? — я совершенно инстинктивно ответил ему в тон:
— Что ищу? Медь.
Один из удиравших, с лицом, перепачканным мукой, напоминавший клоуна, недоверчиво переспросил:
— Медь?
Я указал на стоявшую за моей спиной котельную установку:
— Думал, может, там чего-нибудь найду.
Тут они заговорили все сразу, и казалось, что каждому не терпелось устроить мне допрос, а я при этом не успевал вставить ни слова. Но все-таки я понял, что они заняты тем, что перевозят из восточноберлинского Лихтенберга в западноберлинский Вест-Энд пекарню со всем ее оборудованием и товаром. Они называли это «хозяйственным товарооборотом». Владелец пекарни, на которого они работали за хорошие деньги, похоже, решил печь булочки из муки, которую он намеревался, как и раньше, дешево получать с мельниц Восточного порта и втридорога продавать своим новым западноберлинским клиентам. Восток — Запад, Запад— Восток. У многих предпринимателей, в том числе у мелких, прямо голова шла кругом когда им предоставлялась возможность обогатиться за счет благословенного обменного курса. Мне не оставалось ничего другого, как восхищаться их так называемой здоровой деловой сметкой, потому что в течение этого бесконечного трепа у меня перед глазами все время маячил гаечный ключ, а в мысли о том, что они могут причесать меня этим ключом, не было ничего привлекательного. Однако я твердо стоял па своем: мол, я всего-навсего охотник за цветными металлами, они были в цейтноте, и в конце концов мы договорились, что я помогу им носить мешки, а плата — «половина западными марками, половина восточными».
Я затоптал ногой окурок и поплевал на руки. После того как все мешки были перегружены с ветхих машин с восточноберлинскими номерами на разукрашенные рекламными лозунгами грузовые «мерседесы», дошла очередь до месильной машины. Впятером мы погрузили и ее. Когда над кузовом был закреплен брезент, главарь сказал длинному:
— Отваливайте, с остальным я управлюсь сам.
Я забрался в кабину к длинному. Первым делом он включил радио. Бербель Вакхольц распевала под аккомпанемент трубы Хайнца Игельса.
— Восточное дерьмо! — проговорил длинный. — И что хорошего находит в этом наш шеф?
Он отыскал другую радиостанцию. Булли Булан стенал о своей тоске по Курфюрстендам. Длинный дал газ и засмеялся:
— Тоже дерьмо! Я тоскую только по деньгам. Закуришь?
Мне пришлось выкурить еще одну сигарету. По другую
сторону живодерни дорога, посыпанная щебенкой, шла прямо — так, как было обозначено на карте. Мы проехали совсем немного, когда длинный с облегчением плюнул в окно:
— Вот и все. Мы на той стороне.
Ничто не указывало на то, что мы пересекли границу. Лишь застройка постепенно становилась гуще. Но когда появился рекламный щит с изображением женщины в переднике, развешивавшей постельное белье, с которого сошел серый налет, и при этом счастливо улыбавшейся, я поверил, что мы на той стороне. Муку мы отвезли в самый конец Курфюрстендам, в район, именуемый Вест-Эндом. Разгрузка во дворе вновь оборудованной пекарни прошла без задержки. Доставка товаров в частном секторе была организована просто великолепно. Восточно-западный пекарь тут же расплатился, как и договаривались, наполовину восточными, наполовину западными марками. Я взял такси и успел к доктору Бауму вовремя. Когда он встречал меня на пороге своей маленькой холостяцкой виллы, то показался каким-то непривычно рассеянным. Он сразу проводил меня в комнату с камином к доске для го, рядом с которой стояли наготове открытые коробки с фишками.
23
Огонь оставляет характерные следы. В зависимости от интенсивности и продолжительности его воздействия на теле человека остаются:
1) покраснение кожи, сопровождаемое легким отеком;
2) заполненные желтоватой жидкостью и легко лопающиеся пузыри;
3) плотные струпья с разрывами кожи и черно-коричневыми, а при обваривании белыми участками кожи;
4) обугливание.
Гертиг и Шедлих. Учебник криминалистики.
Семь классических вопросов. Эрхард Холле сначала испытывает досаду от того, что товарищ Вернер в иронической форме напомнил ему нечто элементарное, как таблица умножения. Но подобные импульсы извне обычно бывают ко времени. В криминалистике, как в математике, где без таблицы умножения не решишь уравнение с семью неизвестными, без ответа на семь классических вопросов не идентифицируешь обгоревший труп.
Эрхард Холле решает подобно кибернетической мыши Норберта Винера еще раз пробежать но всем ходам лабиринта, несмотря на грозящую ему опасность свихнуться. Он приходит к несколько парадоксальному для его методичного мышления выводу, что только тот, кто рискует заблудиться, может найти правильный путь. Не признаваясь в этом самому себе, он встраивает основанные на фантазии принципы мышления Вернера в свою тщательно проверенную систему. За неимением лучшего он готов исходить из совместно разработанных гипотез, нанизывая на эту тонкую нить факты. Время покажет, выдержит ля нить и образуется ли при этом логическая цепочка.
Эрхарда нелюдимым не назовешь, напротив, он общителен и любит поспорить. А что касается работы, он ценит хорошую дискуссию, в ходе которой из-под груды заблуждений и ошибок совместными усилиями извлекаются новые выводы. Но иногда ему необходимо побыть одному. Ему нравятся эти часы самоуглубленности, даже если они превращаются в часы самобичевания. В это время ему никто не нужен — только собственная голова и стол с чистым листом бумаги посередине. Сидя за этим столом, Эрхард ждет того момента, когда самокопание превратится в источник интеллектуального наслаждения. Тогда он начинает набрасывать схему.
Факт выстраивается за фактом, а рядом косыми прописными буквами записываются гипотезы. Стрелки, линии, прямоугольники и круги покрывают лист подобно сети, в которую должны попасть правильные выводы. Вскоре одного листа уже не хватает, подклеивается еще один и на него наносятся новые комбинации из условных сокращений. Проходят часы. Холле упивается работой и в заключение делает следующие выводы:
Междоусобица банд, занимающихся контрабандой людей (?) — Шмельцер (!)
Подмена одного лица другим или одно лицо спутано с другим?
Проверить еще раз транзитное сообщение!
Проконсультироваться с разведчиками!
Запросить результаты трассологической экспертизы!
Доктор Баум — профессор Штамм (подкрепленное фактами предположение) — исходная позиция для атаки!
Сравнить фишки для го!
В общем и целом это непрочная конструкция, и у Эрхарда Холле дух захватывает от некоторых дерзких мыслей, зафиксированных на бумаге. Но в любом случае намеченные им следственные меры не могут быть неправильными, пусть даже кое-где видны швы. Все еще продолжая воспринимать спор с Вернером и Йохеном Неблингом как вызов, он, заранее испытывая удовлетворение, убеждает себя в том, что в худшем варианте эти семь классических вопросов могут оказаться дешевой имитацией золота. Затем еще раз просматривает свой план. При этом его охватывает предчувствие, что в контексте семи классических вопросов криминалистики один вопрос станет решающим, а именно вопрос «почему?».
Повинуясь интуиции, Эрхард Холле подводит на бумаге черту. После вчерашней интеллектуальной разминки он рад возможности перейти собственно к занятиям. Установлено, что в ту дождливую январскую ночь, когда было совершено убийство на автостраде, по северной трассе проследовало сравнительно немного транзитных легковых автомобилей. Проверке подлежат лишь те, которые выезжали. Таким образом, оба запротоколированных случая: с перепившейся шведкой и с перекупщиком антикварных ценностей без подданства — заранее отпадают.
Через Пенкун выехали два одиночных путешественника, которые на первый взгляд могли бы представлять интерес: французский виолончелист, направляющийся на гастроли, а попутно в Гданьск к невесте, и польский коммерсант, занимающийся экспортом скумбрии и направляющийся домой после деловой командировки в Западный Берлин. В расследуемом случае, где с помощью огня устранены все опознавательные признаки убитого, такого рода маскировка представляется вполне допустимой. Но быстро, без бюрократической волокиты установив контакт с польскими органами госбезопасности, они получают достоверную информацию, что оба упомянутых лица прибыли к месту назначения целыми и невредимыми и однозначно идентифицированы знакомыми и близкими. Французский виолончелист, как между прочим узнает Холле, вернулся домой тем же маршрутом, причем в сопровождении польской дамы, ставшей с благословения церкви его законной женой. Больше в Пенкуне ничего нет. На контрольно-пропускных пунктах в Варнемюнде и в паромном порту Засниц в это глухое межсезонье тоже довольно тихо. Можно сразу же отбросить восемь нагруженных пассажирами и вещами машин «вольво», на которых несколько шведских семей возвращались домой после зимнего отпуска, проведенного в Итальянских Альпах. Через Варнемюнде проехали шесть молодых людей на автомашине, записанной не па их имя. Все они гонщики-спидвеисты из Финляндии и Швеции и возвращались с каких-то соревнований.
Эрхард Холле еще раз заставляет прощупать все места, в которых можно обнаружить лазейку. Но и перепроверка транзитных постояльцев отелей «Варнов» в Ростоке и «Нептун» в Варнемюнде, останавливавшихся там в ту ночь, не дает ничего нового.
А между тем на столе у Холле появляется краткий анализ политической обстановки, составленный разведчиками. Из него Эрхард узнает, что еще не успели высохнуть чернила на подписанном в Хельсинки под давлением мировой общественности Заключительном акте, а вокруг него уже вовсю развернулась мышиная возня. Масштабные операции, прежде всего в Центральной Америке и Южной Африке, свидетельствуют о том, что отклонившийся было в сторону руль взяли в руки люди, чувствующие за собой силу и использующие свое влияние для того, чтобы перекачивать гигантские средства в аппараты секретных служб. Все указывает на то, что многочисленные кадровые перемещения направлены на ужесточение централизации, а также на повышение эффективности секретною аппарата ЦРУ при проведении подрывных акций как внутри страны, так и за рубежом. В программу его деятельности входят путчи, диверсии, убийства. Неуверенная в себе политическая администрация из Вашингтона, похоже, испытывает прямо-таки облегчение, поскольку, имея в своем распоряжении такой аппарат, она может сколько угодно клясться в верности идеям международной разрядки.
Едва па дипломатическом уровне намечается равновесие сил, как тотчас открываются щели и на свободном пространстве начинают накапливаться доселе скрытые, а порой вообще трудно поддающиеся оценке силы, чтобы сорвать этот процесс. Ощущая определенное технологическое превосходство, обладая резервами, которые создаются в результате новых научных открытий и могут быть использованы для совершенствования военно-технического аппарата, влиятельные люди, стоящие во главе военно-промышленного комплекса, внешне по-спартански скромные, а в действительности являющиеся членами клуба миллиардеров, видят единственный шанс спасения капиталистической системы от неудержимо надвигающегося кризиса в разжигании конфликта между двумя мировыми системами. При этом двойная игра прикрывается небывало мощным пропагандистским наступлением, которое организуется и направляется явно из одного центра. В заключение анализа говорится, что необходимо проявлять исключительную внимательность и бдительность. Главное направление новых атак против пас, угадываемое по их ожесточенности, — подрыв и раскол социалистической системы. Наличие обусловленных договорами зон разрядки противник беззастенчиво использует в своих целях. Везде чувствуется направляющая рука Центрального разведывательного управления. Поэтому как в пределах ГДР, так и на ее границах следует в любое время ожидать операций секретных служб.
Знакомясь с этим анализом, Эрхард Холле находит в нем подтверждение своих соображений. Они укладываются в рамки его концепции. Приободренный, он связывается с экспертом-трассологом, руководившим осмотром места преступления по делу «Шаденфойер». Из телефонного разговора с ним и бесед с его подчиненными он узнает, что имеет дело с трассологом высочайшего класса. И Эрхард принимает решение во время беседы не высказывать собственного мнения, а ограничиться вопросами.
Перед ним появляется мужчина лет сорока пяти, с загорелым под зимним солнцем, худощавым лицом, на котором выделяется невероятно большой нос. Острый взгляд слегка прищуренных глаз свидетельствует о независимости мышления. Последующая беседа в своей деловой части суха, по не лишена юмористической окраски. Важнейшие положения Холле позднее протоколирует по магнитофонной записи.
— Вам было поручено осмотреть место преступления и собрать вещественные доказательства?
— Да, правда, после несколько запоздалой передачи дела вашей инстанции. Если вас интересует мое мнение, то на первом этапе сотрудничество было не совсем удачным. Прошу задавать конкретные вопросы.
— В протоколе записано, что вы с помощью снятых гипсовых отпечатков несколько раз зафиксировали след одной автомашины, но не исключаете, что в деле замешан и другой автомобиль.
— Вы наверняка читали в протоколе, что следы зафиксированы на грунтовой дороге, ведущей от стоянки на автостраде в лес. При этом речь идет о шинных следах разных типов.
— Различные типы шин — это значит несколько автомобилей?
— О нет! Я имею в виду не различные шины, а следы различного типа. Позвольте пояснить: мы отличаем следы едущего автомобиля, следы торможения, следы скольжения, следы спущенной шины, следы с заносом, следы пробуксовки, следы стоящей автомашины и, если хотите, следы полозьев и гусениц. Но сани и танки мы, пожалуй, исключим. Согласны?
— Согласен.
— На мокром песчано-глинистом грунте лесной дороги удалось обнаружить такие следы шин: два раза — следы едущего автомобиля, предположительно оставленные во время движения к месту преступления на малой скорости (об этом, в частности, говорят следы заносов без отпечатков протектора), следы заноса, оставленные, вероятно, когда машина шла задним ходом. Следы разворота на месте преступления не обнаружены. Однако там зафиксированы очень четкие отпечатки, оставленные стоящим автомобилем, которые позволили определить конфигурацию протекторов и тем самым — тип покрышек. Можно с высокой степенью вероятности утверждать, что все названные следы оставлены одной и той же автомашиной.
— Но почему в таком случае вы не исключаете, что были использованы и другие автомашины?
— Потому что нельзя исключить, что другие автомашины были оставлены на стоянке, а их пассажиры пришли к месту происшествия пешком. Стоянка заасфальтирована, а в сильный дождь любая попытка обнаружить следы обречена на неудачу.
— Но версия со второй машиной весьма неубедительна.
— Судить об этом не моя задача. Я — трассолог.
— Я знаю.
(В этот момент беседы, которая чрезмерным обилием специальных терминов и выражений доставляла явное удовольствие обоим, возникла неловкая пауза, прежде чем Холле продолжил свои расспросы.)
— Хорошо. Итак, что показали гипсовые отпечатки следа стоящей автомашины? В протоколе речь идет о специальных покрышках. Не могли бы вы дать пояснения?
— Речь идет о специальных шинах для легковых автомобилей «Юниснаудон ралли 300», которые используются, в сущности, только в зимних условиях, например на зимних ралли в Монте-Карло.
— Вы хорошо информированы.
— Для этого имеются соответствующие источники.
— А какие марки машин оснащаются этими шинами?
— Речь идет о новом типе, поэтому необходимо учитывать и всевозможные замены старых шин новыми.
— Это относится к «пежо», «остину» или, скажем, «фиату»?
— Разумеется, это относится ко всем автомашинам с соответствующим размером колесного обода.
— Вас не удивило, что в дождливую погоду па автомашине стояли зимние шины?
— Прошу прощения, разве я отвечаю за метеосводки? Конечно, учитывая погодные условия, мы вдвое уменьшили допуски точности при сравнении следов с образцами, однако все равно получается, что шины предназначены для зимних ралли.
— Извините, я не собирался ставить под сомнение вашу компетентность.
— Для этого у вас нет ни малейшего основания. Даже если бы вы нашли эту машину и если бы на ней за это времл проехали еще пятьдесят тысяч километров, я бы вам сказал, те или не те на ней шины.
— Но ведь это невозможно!
— Вот уж нет! В трассологии нет ничего невозможного. Я так сказать, проэкспериментировал на самом себе. Я наблюдал за своей автомашиной «Жигули» в течение пробега г. сорок пять тысяч километров, каждую неделю регистрируя степень износа. Дома у меня хранится соответствующая фототека. Осматривать, накапливать, сравнивать — вот и все. Но прежде чем вы зададите следующие вопросы, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что результаты исследования изложены в докладе. Во-первых, следует отметить высокую степень обгорания трупа. Таз и грудная клетка обуглены, все части лица до костей мумифицированы, а привлеченный к исследованию специалист по дактилоскопии, как ни старался, не смог установить папиллярных линий на пальцах и ладонях. Сожжение осуществлялось с помощью хитроумно составленной смеси на базе бензина с высоким октановым числом, благодаря чему, с одной стороны, можно было создать высокую температуру, а с другой — обеспечить медленное, в какой-то мере управляемое сожжение. Ничего не скажешь — специалисты! Во-вторых…
— Стоп! Вы говорили о медленном сожжении, однако наблюдался язык пламени.
— О том, что наблюдалось, я понятия не имею, но вероятность образования направленного пламени мы учли. На это указывают и обожженные места на дереве непосредственно над местом обнаружения трупа. Возможно, один из «специалистов» проявил небрежность. Нельзя исключить, что при этих обстоятельствах пострадал тот из преступников, который имел дело с горючей смесью…
(В этом месте Эрхард Холле со злостью кусает свою нижнюю губу. Он вынужден признаться, что такое истолкование результатов исследования ему и в голову не пришло.)
— …Во-вторых, обращает на себя внимание тщательная подготовка трупа к сожжению. С тела и из одежды были удалены все предметы, которые обычно служат зацепкой для следствия: часы, монеты, авторучка, металлические застежки, кольца и т. д.
— Может, именно поэтому единственный найденный вами на месте преступления предмет, который описан в отчете, как «имеющий легкие следы воздействия высокой температуры линзообразный керамический предмет, состоящий в основном из каолина, черного цвета, в диаметре восемнадцать и по высоте в центре восемь миллиметров», приобретает особое значение?
— Позвольте внести поправку. Упомянутый предмет находился не непосредственно на месте преступления, а на удалении четырех метров восьмидесяти сантиметров от него.
— Ваши предположения относительно этого?
— Это будет занесено в протокол?
— Нет, они будут использованы в качестве отправного пункта для размышлений.
— Тогда ладно. Итак, версия первая: предмет вообще не имеет ничего общего с происшедшими событиями, он еще раньше случайно оказался там. Версия вторая: предмет принадлежал одному из преступников, который потерял ею. Версия третья: предмет принадлежал жертве и был отобран у нее вместе с другими предметами, а потом потерян.
— Вы описали находку, но никак не определили ее.
— Я не мог этого сделать. Сначала я полагал, что это фишка для какой-то детской игры, по нигде не нашел подобных образцов. Мне приходило на ум, что это нечто вроде игрушечных денег. Но догадка не подтвердилась. Затем я предполагал, что это один из элементов, применяемых в агломерационных и фильтровальных установках. Эта мысль не давала мне покоя. Но справки, которые я впоследствии наводил, опровергли мое предположение. Физическая структура объекта недостаточно прочна для подобных целей. Так что у меня не было оснований дополнить этот пункт своего доклада.
— Если вас это интересует, то ваше предположение об игре было недалеко от истины. Речь идет о фишке для игры го. Можно еще кое о чем спросить вас?
— Постепенно я привыкаю к вашей манере задавать вопросы.
— Вы все время говорите, в частности и в докладе, о нескольких преступниках. Почему вы исключаете, что преступник мог быть один?
— Об этом свидетельствуют конкретные детали. Нам не удалось зафиксировать более или менее отчетливых следов, поскольку обувь преступников была тщательно обмотана шкурами, скорее всего овчиной, судя по следам ворса. Однозначно выявлено только два отпечатка ступни — каждый различной величины.
— Их могли оставить преступник и жертва. Преступник мог вести жертву к месту преступления впереди себя.
— Вы забываете о результатах медицинской экспертизы. В трупе жертвы обнаружен этилхлорид в такой концентрации, которая почти равняется смертельной. Даже в том случае, если бы его не сожгли, он бы все равно не выжил. Человека, до такой степени накачанного наркотиками, перед собой не поведешь.
— Последний вопрос по поводу судебно-медицинской экспертизы.
— Отвечу с удовольствием, поскольку он последний.
— Несмотря на высокую степень обугливания трупа, выводы относительно возраста, пола, величины и строения тела достоверны?
— Абсолютно.
(После столь мирного завершения беседы магнитофонная лента еще некоторое время крутилась. Служебный разговор окончился дружеским обменом мнениями по узкоспециальным вопросам. Однако, поскольку там не содержалось интересующих Холле сведений, он стер эту часть записи.)
Будучи человеком пунктуальным, Холле в своем рабочем плане отмечает галочкой пункт «Запрос у трассологов». В порядке самокритики он признается, что слишком поздно сделал то, что напрашивалось само собой — собрался проконсультироваться с экспертом криминальной полиции, который с удивительной точностью и объективностью составил доклад об осмотре места происшествия. Не исключено, что потеряно драгоценное время.
В качестве следующего шага Эрхард Холле запрашивает метеосводку за период 27—28 января. Уже в своей информации в середине дня потсдамский метеоцентр указывал на ряд областей низкого давления, формировавшихся над Ирландским морем, Великобританией и Северным морем, которые быстро перемещались в юго-восточном направлении. Ученики доктора Рунге исходили из того, что только наиболее южные, надвигавшиеся на Немецкую бухту и Ютландию зоны низкого давления окажут влияние на формирование погоды в ГДР. В северной части ГДР вечером предполагались ливневые дожди, частично переходящие в град.
С некоторым разочарованием Холле откладывает листок в сторону: прогноз полностью совпадает с фактическими погодными условиями. Затем, однако, следуя внезапной мысли, он просит побыстрее сообщить ему по телефону прогноз погоды западноберлинского Далемского университета. Уже в процессе стенографирования он не может подавить ликования. Далемские синоптики по-иному истолковали атмосферные процессы. Проявляя заботу о соотечественниках, проживающих восточнее Эльбы, они предупреждали их об ожидаемых снегопадах, местами вперемежку с дождем, что могло привести к гололеду. К такому выводу они пришли, принимая во внимание господствовавшее над Скандинавией скопление холодного воздуха, который, смешавшись со слоями воздуха из северной зоны низкого давления, должен был, по их мнению, определить погоду.
Эрхард Холле потирает руки. «Идиоты! — думает он.— Слушали не ту радиостанцию, из-за этого возня с шинами для зимних ралли оказалась напрасной. Но в принципе ничего не бывает напрасным. Теперь это в моем протоколе!»
Он еще раз связывается с младшим лейтенантом погранвойск, который дежурил в ночь на 28 января на контрольно-пропускном пункте на Генрих-Гейне-штрассе. Осуществляя проверку лиц, возвращавшихся в Западный Берлин, он обратил внимание на странный треск, доносившийся из мотора большого «фиата», и предположил, что, вероятно, пробита прокладка цилиндра. Вот и сейчас, вспоминая об этом происшествии, младший лейтенант вновь проводит сравнение со своим «трабантом», который тоже норой как-то странно стучит. Однако Холле хочется узнать, не бросилось ли ему в глаза что-нибудь во внешнем виде и поведении пассажиров.
— Нет, в общем, ничего. Серьезные господа. Коммерсанты, одним словом. Вели себя корректно, как положено деловым людям. Их возвращение в ту же ночь было достаточно мотивировано. В остальном — никаких претензий.
— Итак, ничего особенного.
— А что, собственно говоря, могло быть особенного? Господа из тех, кто регулярно совершает деловые поездки. Трое мужчин среднего возраста. Двое сидели впереди, один — сзади.
— Подумайте еще. Припомните поточнее. Ничего особенного?
— Стоп, минуточку! Припоминаю: двое, те, что сидели впереди, вышли из машины, чтобы показать мне дефект, а тот, что сидел сзади, остался в машине. Он был укрыт дорожным пледом, хотя в машине было довольно тепло. Двое других сняли с себя пальто и стояли передо мной в темных костюмах. Да, действительно, плед — это довольно странно. При проверке документов он сказал что-то про грипп, пожаловался, что его знобит.
— А что на нем было надето — пальто и костюм?
— Под пледом ничего этого не было видно — он был укрыт им до подбородка.
Когда по звонку к Эрхарду Холле приходят Вернер и Йохен, он встречает их ликующим возгласом:
— Представьте себе, один из бандитов пострадал — подпалил-таки шкуру! Если наша версия с «фиатом» верна, то против одного из троих господ у нас есть улики. Стоит теперь подключить прокуратуру?
Вернер отвечает:
— С точки зрения закона это никогда не может помешать. Но сейчас? С какой целью?
— Послать ходатайство о розыске в Западный Берлин.
— Да ты что? Я не советую. Нужно отдать должное твоей старательности, но улик и теперь недостаточно. Кроме того, в деле доктора Баума — профессора Штамма мы все еще бродим в потемках. Чего ты ждешь от ходатайства о розыске, если здесь действительно приложило руку ЦРУ? Мы только приподнимем им завесу над тем, чего они не знают. Пусть они делают это сами, если им нужно.
— И сколько мне еще ждать? Должен же я наконец представить результаты следствия?
— Все правильно. Только не забывай: один терпеливый человек лучше десяти торопливых. Через кузину Йохена Штамм предложил нам сыграть партию го. Что скрывается за этим? Это хороший шанс, и мы не имеем права отнимать его ни у него, ни у себя!
Пароль прозвучал. На аппаратуре одного из специалистов они еще раз прослушивают пленку, на которой записано то клацанье фишек, когда Йохен демонстрировал маниакальную привычку доктора Баума. И теперь Йохену приходится дважды повторить эту имитацию: один раз с керамическими фишками, найденными на месте преступления, а другой раз с костяными — вреде тех, что оставила ему кузина во время своего визита. Сравнив звуки, они приходят к выводу: в прежние времена использовались фишки из слоновой кости. Все, кажется, ясно. Но вдруг Холле берет оторопь и он недоверчиво спрашивает:
— Извините, до сих пор у нас была только одна фишка из слоновой кости — та, которую оставила Виола. А теперь Йохен держит в руке целых т{и таких фишки. Может, соизволите объяснить, откуда они взялись?
Вернер и Йохен, ухмыляясь, смотрят друг на друга. Вернер толкает Йохена в бок:
— Ну, объясни ему, что припасено у нас на последней руке[45].
— Эти фишки я стащил у Баума. Когда я играл с ним первую партию, у меня возникло неясное предчувствие, что эти штучки когда-нибудь могут пригодиться. И вот, едва он вышел из комнаты, я запустил руку в шкатулку…
— Так ведь он должен был заметить, что у него не хватает фишек!
Вернер смеется:
— Тебе, пожалуй, тоже стоило бы научиться играть в го. Тогда бы ты знал, что в партии никогда не используются все фишки. Их свыше трех сотен. В девяносто девяти партиях из ста остается еще но горсти черных и белых фишек.
— Что ж, спасибо, — говорит Эрхард Холле.
Йохен пододвигает ему фишки:
— Поскольку они у меня уже столько лет, то стали моей собственностью. И я великодушно дарю их тебе. Как вещественное доказательство и как символ твоей любви к порядку.
Теперь в конверте пять фишек — целая небольшая коллекция. Вернер опять задумывается:
— Почему, черт возьми, в сумке Виолы Неблинг фишки из слоновой кости, а у автострады — фарфоровые?
На это Эрхард Холле отвечает иронической усмешкой:
— Мне кажется, го развивает логическое мышление.
Он протягивает Вернеру свой рабочий блокнот, где записано: «Почему у трупа фарфоровые фишки? Слоновая кость горит!!!»
24
Мистер Баум хочет провести вечер с Мастером Глазом за доской го, но получается иначе. Надвигается сильная гроза, и, сидя в машине своего шефа, мистер Баум размышляет над тем, является ли война истиной в последней инстанции. Совершенно неожиданно для себя и вопреки всем правилам он называет Мастера Глаза его подлинным именем.
Подготовка Мастера Глаза была завершена, но — удивительное дело! — это ничуть не взволновало его. Во всем он был немцем до мозга костей, основательным и серьезным, иногда даже чересчур, однако старых немецких обычаев не признавал. Когда после успешно выдержанного на детекторе лжи экзамена и нашей пальбы на радостях в тире я, как при посвящении в рыцари, торжественно вручил ему пистолет, он совершенно равнодушно, ни в малейшей степени не ощутив символичности момента, запихнул его себе в карман, будто ключи от квартиры. И это была не последняя загадка, которую мне задал Мастер Глаз.
На вечер у нас ничего не планировалось. Мы оба были свободны. Тем не менее я волновался, как перед дебютом. До обеда я спихнул все наиболее срочные канцелярские дела и, как только ушел денщик, которого мне было положено иметь по штату, поставил доску для го на каминную плиту. Свободный вечер я хотел использовать для того, чтобы наконец как следует прощупать Мастера Глаза. После всех пройденных этапов я радовался предстоящей партии с ним. Когда я увидел перед собой доску, расчерченную на клетки девятнадцатью вертикальными и девятнадцатью горизонтальными линиями, меня вновь охватила эта глупая лихорадка, и я запустил руку в шкатулку. Как чудесно, словно живые, скользили в руке искусно выточенные фишки! И в этот момент зазвонил телефон.
Новость меня ошеломила: даже учитывая особый характер нашей резидентуры, она имела привкус сенсации — ОН, всем мастерам мастер, старых! Аллен, который в течение стольких лет стоял у дирижерского пульта в Лэнгли и дирижировал оркестром из 16 тысяч разбросанных по всему свету музыкантов, либо услышал у нас фальшивый звук, либо захотел разучить с нами что-то новое. Во всяком случае, ОН уже приближался на самолете к Западному Берлину.
Вскоре последовало официальное подтверждение. Сердитый голос шефа, который, казалось, исходил из его больного желудка, произнес:
— Господин Баум, я полагаю, у вас нет неотложных дел?
— Так точно, шеф.
— Тогда вы в моем распоряжении. Поразмыслите над тем, нет ли ничего тревожного в выпавшей на нашу долю высокой чести: ОН прибывает лично, ОН хочет поговорить со мной. На первый день, после обеда, назначен прием в комендатуре. Обычный идиотский маскарад. Вам приглашение доставит посыльный. Вечерний костюм на послеобеденное время — провинциальные идиоты! Прошу вас быть вовремя!
— Разумеется, шеф.
Шеф любил подавлять авторитетом, и я постоянно подыгрывал ему, услаждая его безмерное самолюбие: «Так точно, шеф!», «Как прикажете, шеф!», «Согласно вашему указанию, шеф!».
Интерьер парадных залов комендатуры производил несколько таинственное впечатление. Высокие окна завесили портьерами, но солнечный спет пробивался во все щели. Свет праздничных люстр и бра, прожектора фото- и кинорепортеров создавали невыносимую жару. Господа и дамы в темных костюмах и вечерних платьях потели, как батраки на хлопковых полях Южной Каролины. Мероприятие носило характер небольшого официального приема. Присутствовали главным образом представители американской западноберлинской колонии. Было лишь несколько английских и американских военных, несколько высокопоставленных лиц западноберлинского сената[46] и немецкий телерепортер, получавший свои гонорары у нас. Из нашей фирмы, кроме меня, не было никого. У стен стояли армейские гориллы[47] с виноватыми и злыми взглядами. У меня еще было время. Шеф находился с НИМ в гостиной на втором этаже.
Я взял себе коктейль с растаявшим льдом и медленно побрел по залу, прислушиваясь к тому, что говорят об этом событии.
Какая-то дама, из тех, кого вот уже в течение столетия воспитывают воскресные школы и женские организации Среднего Запада, никак не могла успокоиться:
— ОН приземлился около часа назад — и сразу же за дела. Весь аэродром Темпельхоф был перекрыт. Просто ужас! Ни проехать, ни пройти!
Вторая дама, в орнаментальных золотых очках, с серебряными завитыми волосами и губами, превращенными помадой в тонкую ниточку, похожая на первую, как одна курица из того же курятника на другую, говорила стоявшему рядом с несчастным видом молодому офицеру ВВС:
— Боже мой, Генри, как это волнительно! ОН уже здесь?
Офицер пожал плечами:
— Мы отвечаем только за общую организацию. Этот визит вне компетенции комендатуры. Мы ждем ЕГО.
«Вы можете долго прождать», — подумал я.
В той стороне, куда выходил узкий коридор, через который официанты носили напитки, стояли два толстосума. Их огромные животы соприкасались. Они тихо переговаривались и ворчали, словно только что познакомившиеся дворняги:
— ОН уже старый человек. Времена корейской войны миновали. Что ЕМУ здесь нужно?
— Скоро ОН станет старым человеком при честолюбивом молодом президенте. Это действует обнадеживающе.
— Вы имеете в виду президентские выборы? На кого вы ставите?
— Разве это важно? Выбирать предстоит между истеричным адвокатом из прерий и бабником, сыпком миллионера из аристократической Новой Англии. Оба поставили целью укротить руководителей Кремля.
— Не забывайте, что эти руководители хотят заключить с нами сделки.
— Именно поэтому их и следует укротить.
— Вы думаете, ОН готовится к этому?
— Зачем же тогда ОН здесь?
— Черт возьми! ОН не должен забывать о деньгах, которые мы всадили сюда.
За их спинами начала свою работу команда репортеров.
— Господин правящий бургомистр[48] это верно, что вам необходимо быть готовым к обострению обстановки?
— Я доверяю политике держав-гарантов[49].
— В ГДР умер президент Пик. Не считаете ли вы, что после смерти этого старого коммуниста, являвшегося некоей объединяющей и цементирующей силой, в зоне возникнет политический вакуум?
— Я полагаю, воля к сопротивлению наших соотечественников в восточной зоне не сломлена.
— В Бонне ваша партия присоединилась к сторонникам интеграции в рамках НАТО и ядерного вооружения. Совместимо ли это с традиционными социал-демократическими концепциями?
— Наши традиции никогда не были догмами.
— Не опасаетесь ли вы, что это побудит определенные круги, которые до сих пор вы считали необходимым сдерживать, попытаться изменить статус-кво?
— Что такого ужасного в восстановлении германского единства?
В этот момент юпитеры погасли — общественность отключили. На лестнице возникло движение. Один из горилл передал мне распоряжение ждать у автомашины номер три.
На улице быстро темнело, надвигалась гроза. Когда шеф сел ко мне на заднее сиденье, первые крупные капли дождя уже зашлепали по крыше автомашины.
Шеф был возбужден беседой, по болезнь, скрывавшаяся в его внутренностях, не давала ему покоя. Изнуренный борьбой с болью, он откинулся на спинку сиденья. Передо мной он не стеснялся, забывая, вероятно, о том, что однажды моя джентльменская привычка хранить чужие тайны может мне изменить. Я поспешил поднять перегородку из пуленепробиваемого стекла, чтобы изолироваться от водителя.
— Вы знаете лично старого Аллена, мистер Баум? ОН снова кусачий, словно голодная крыса. ОН буквально вырвал из жирных глоток вашингтонских пустомель самые широкие полномочия, и полномочия эти однозначны. Наконец-то кончится наше сидение сложа руки, которое лишь развивает в людях лень и похоть. Можете поздравить себя, мистер Баум, концепция тайных операций отныне распространяется и на нас. Шестой порог раздражения на шкале эскалации. Все подчиняется этому.
Я сдержанно поинтересовался, следует ли понимать под тайными операциями гватемальский вариант, и напомнил, что он сам просил меня не забывать о том, что здесь не банановая республика.
В резком тоне он потребовал, чтобы я вспомнил о полученных мной инструкциях, и добавил, что время разминки окончилось.
— Мистер Баум, до сих пор мы служили политике — теперь мы будем делать политику! До сих пор мы готовились к войне — теперь мы будем готовить войну!
Сначала мне показалось, что я ослышался, и только позже до меня дошел смысл его слов. Никогда раньше то жестокое дело, которым мы занимались, не ложилось на мою совесть таким тяжким грузом: никто не формулировал его суть столь резко и лаконично — без малейшей попытки прикрыть ее патриотическими фразами или подвести под нее какую-нибудь моральную основу. Я достаточно хорошо знал свою профессию, чтобы не понимать, что без насилия в нашем деле не обойтись. Без того насилия, которое служит интересам этого дела. Теперь же все оказалось вывернутым наизнанку: наше дело поступало на службу насилию. Я знал, что шеф был тайным поклонником Эдгара По, и многое прощал ему за эту слабость. Я закрывал глаза даже на его сомнительное прошлое, испортившее его характер, а бесцеремонное обращение с людьми воспринимал с иронической улыбкой как чудачество старого вояки. Теперь же я убедился, что у По шефа привлекала лишь мрачная атмосфера его жутких историй, а полная горечи человечность нашего великого соотечественника ни капельки его не трогала.
Я молчал.
Он сразу перешел к делу и спросил о боеготовности Пятого. Наш новый суперагент, главная задача которого заключалась в том, чтобы вести наблюдение, по моему предложению проходил по всем докладам и спискам под псевдонимом Глаз, но шеф продолжал именовать его Пятым — так, как он назвал его в своем первом досье. Он не хотел от этого отказываться. Пятый был, так сказать, единственным ребенком, в своем отцовстве по отношению к которому он был уверен. С ним он связывал даже надежды выиграть спор с болезнью, беспрестанно его глодавшей. Свою хворь он хотел компенсировать успехом, а складывающаяся ситуация делала этот успех более вероятным. И вот он, подобно карточному игроку, идущему ва-банк, в азарте ставил все на карты, которые сам же в колоду и подмешал. Одной из этих карт был Пятый.
Я напомнил шефу, что мы обучали Мастера Глаза собирать факты, а не создавать их. Положение агента крайне уязвимо, и мы рискуем его потерять. Но шеф перескочил через этот аргумент, как танк через окоп пехотинца.
— Факты пока что создаем мы, — заявил он. — И если перспектива создать на основе фактов нужную нам ситуацию оправдывает риск, — продолжал рассуждать он, — мы должны без сожаления пойти на него. Ликвидация агента в качестве последнего пункта предусмотрена программой. К несчастью, не всегда удается определить точно время ликвидации.
В этот момент гроза наконец разразилась в полную силу. Мы медленно ехали по сосновой аллее, и в свете фар было видно, как ветер гнал перед собой сорванные листья и обломанные ветки. Будто сам По, обладавший сценическим чутьем к столкновению демонических сил природы и тщетных усилий человека, собственноручно создал эту декорацию. Я чувствовал, что оборвалась какая-то нить, связывавшая меня с моей прежней жизнью.
Мы остановились у небольшого здания, в котором размещался специальный бункер связи. Отсюда велись переговоры на дальние расстояния. Возможно, шеф хотел установить прямую связь через океан и подстраховаться у какого-нибудь надежного и влиятельного лица, так как при всей своей демонстративной решимости испытывал неуверенность. Я осторожно спросил, не сложилось ли у него впечатление, что великий мастер прибыл прямо из Вашингтона, получив полномочия с благословения треугольника Белый дом — госдепартамент — Пентагон.
Он ответил утвердительно.
Во мне поднялась горечь.
— Вы спросили его, все ли по-старому в нашем родном доме в Лэнгли?
— Что вы имеете в виду, мистер Баум?
— Я имею в виду большую мраморную доску в вестибюле, которая постоянно благословляла наш приход и уход и на которой написаны слова из Евангелия по Иоанну: «Вы найдете истину, и истина сделает вас свободными».
Он снова положил руку па живот. Лицо его перекосилось от боли. Когда шофер открыл дверцу и раскрыл зонт, шеф взял себя в руки и вылез из машины. Вырвав зонт из рук шофера, он обернулся, засунул голову внутрь темной машины и, приблизив вплотную свое лицо к моему, проговорил:
— Мистер Баум, я всегда читал это высказывание по-другому: «Истина — это то, что делает нас свободными».
Глаз, как всегда, был пунктуален. Когда я встречал его на пороге моего холостяцкого жилища, то в его взгляде я, как обычно, заметил приятное сочетание сдержанной серьезности и бодрой готовности. Я обещал ему, что мы проведем вечер в непринужденной обстановке и сыграем нашу первую партию в го. Так имел ли я право хватить его теперь обухом по голове? Я помог ему снять мокрую, немного потрепанную куртку и приготовил по бокалу выпивки того сорт;!, что помогает расслабиться. Я принес ему полотенце. Он вытер им голову и тщательно причесался, но у него остался вихор, и это делало его похожим на ершистого юнца. Я не был сентиментален, однако эта деталь тронула меня. Мы сели за доску.
Современный дебют он разыграл безупречно — прямо как по учебнику. Когда же начались осложнения миттельшпиля, где необходимы самостоятельное мышление и опытный глаз, он попался в простенькую ловушку и мне удалось, защищая мой угол доски, взять у него двух пленных. Он удивился, но постарался скрыть свое удивление. А впрочем, он схватывал все на лету. И когда я во второй раз предпринял аналогичную попытку, он прибег к рискованному маневру, последствия которого для общей ситуации па доске были почти непредсказуемы. Я не захотел последовать его примеру и в результате оказался в худшем положении. К тому же я никак не мог сосредоточиться на игре. В голову лезли мысли о том, что нам предстояло: заряжена ли батарея для рации? все ли я учел при выборе книги для шифрования? как он воспримет свою изоляцию от нас? не была ли его подготовка слишком односторонней— не переусердствовали ли мы с технической стороной за счет всего остального? достаточно ли закален он морально, чтобы принять удар?
— Ваш ход, мистер Баум! —Тут он поймал меня на том, что я нервно перебираю его фишки, снятые мной с доски: — Что-нибудь случилось, мистер Баум? Когда-то у меня был двоюродный дедушка, один из братьев моего дедушки. Извините, но это очень комично. В самые напряженные моменты он начинал выбивать у себя на голове ритм какого-нибудь военного марша, и тогда вся семья знала, что он чем-то особенно доволен или раздосадован. Ваши дела на доске действительно не блестящи, однако это не повод для расстройства.
Что ж, следует признать, он весьма деликатно истолковал мою причуду. Приятели но университету реагировали на это несколько грубее. Как рае в то время на экранах демонстрировался фильм про военных моряков, в котором командир эсминца в критических ситуациях, будь то в открытом море или в постели женщины, принимался с одержимостью маньяка играть маленькими металлическими шариками. И конечно же, однокашники не упускали случая посмеяться надо мной и попугать начинающимся сумасшествием. Когда фирма взяла меня на довольно хорошую должность, в отделе кадров нашелся шутник, который в моем личном деле в графе «Особые приметы» написал: «Клацает фишками», — и мне пришлось долго добиваться, чтобы эту запись убрали. Что касается меня, то самому мне никогда бы не пришла мысль обратиться к психиатру. Я хорошо знал, что эта маленькая особенность стала моей второй натурой, однако не относил ее к разряду психических отклонений. Но, как я успел заметить, темпераментных женщин она смущала. И я взял за правило, готовясь к моим нечастым свиданиям, заранее вынимать фишки из всех карманов одежды. Все это меня не волновало. Даже наоборот, если вначале я боялся стать жертвой укореняющегося психического дефекта, то затем пришел к выводу, что, прибегая к этому нехитрому способу, подсознательно ликвидирую нарушения в своей душевной моторике.
Однако в тот вечер мне не понравилось, что партнер в критической фазе партии обращал на это внимание. С простодушием и наивностью он внес в наши дотоле преимущественно деловые отношения что-то личное, а это вряд ля могло пойти на пользу, учитывая, какие сведения служебного характера мне предстояло сообщить ему.
Я вернул ему его пленных в знак того, что сдаюсь, а затем спросил, где он собирается переходить границу. Он назвал место у старого капала и добавил, что у него появилась возможность перебраться через границу со всеми удобствами — со знакомым шофером на его грузовике.
Мы отправились в путь. Правда, Глаз очень удивился, что я решил довезти его па своей машине до предместья, где он встречался с шофером.
Мы остановились у опушки небольшого лесочка. Дождь перестал, но на крышу машины падали капли с деревьев. Я положил на колени Глаза рацию, завернутую в промасленную материю:
— Настают иные времена, господни Глаз. Пока мы не будем видеться, общаться придется только по радио. Судьба распорядилась так, что наша первая партия будет, по-видимому, и последней. Вы явитесь к нам лишь в том случае, если получите недвусмысленный приказ.
Внешне он никак на это не отреагировал. В слабом свете приборной доски я видел его неподвижный профиль, сдвинутые брови, подрагивающие большие ноздри и твердый, волевой рот.
Он тихо спросил:
— Война?
— Нет, подготовка к возможной войне. Вы ведь понимаете…
Я просил его быть осторожным и передал ему книгу для шифрования. Я выбрал «Руководство по стратегии игры го», тем самым как бы подчеркнув, что между нами существуют контакты и личного характера. Он наклонился к свету, открыл наугад страницу и процитировал с язвительной интонацией:
— «…Го по своей сути беспрестанная борьба. Имеется предварительная ступень столкновений и угрожающих выпадов, в конце концов завершающаяся борьбой не на жизнь, а на смерть, цель которой — гармония на доске».
Я положил руку ему на плечо и заверил, что понимаю, как тяжело сейчас у него на душе, ведь ему предстоит возвращаться назад, в холод. И в тот же миг с его губ сорвалась фраза, рассердившая меня:
— Переходите лучше к делу.
Он сказал это, убирая шифровальную книгу. У него порой появлялась такая манера говорить — предельно сухая, граничащая с наглостью.
Я сдержался и уже официальным тоном спросил его о системе шифрования.
Он отбарабанил:
— Деление тринадцатого простого числа на седьмое не только гарантирует удачу радисту, но и дает бесконечную дробь с длинным периодом. Первая цифра после запятой действительна для первого дня расписания радиосвязи, вторая — для второго, третья — для третьего и те де и те пе и те де и те пе. Эти цифры обозначают страницу книги, на которой с первого сложного существительного в соответствующий день радиосвязи начинается шифрование.
— А что означает нуль?
— Радиомолчание.
— Хорошо! И не забывайте: передачу вести из разных мест на повышенной скорости через трансмиттер, меняя частоты. В этом ваше единственное спасение от пеленгации. А мы вас всегда найдем.
— А если нет? Если за днем радиомолчания последует всемирное молчание?
— Вам известно, что в этом случае действует одна инструкция: притвориться мертвым, затаиться!
— Так-так, — сказал он, открывая дверцу со своей стороны, — на любом море когда-нибудь да наступает штиль. Прощай, Трафальгарская площадь! Прощай, Бродвей!
Даже в этот момент он хотел показать, что в состоянии с легкой душой принять самую тяжелую весть. Расставание, говорится в одной сентиментальной французской песенке, это всегда маленькая смерть, даже если расстаются мужчины, которые никогда не переставали быть ими. Действительно ли он чувствовал себя хозяином положения? Неужели не догадывался, что всего лишь незначительный винтик, сменная деталь в часовом механизме со слишком сильно растянутой пружиной, который уже начал тикать как часовой механизм взрывного устройства? Не я ли втянул его в эту дьявольскую игру, а сейчас бросал на произвол судьбы, которая даже при щедро отпущенных девяностодевятипроцентных шансах все равно настигнет его на сотый день радиосвязи?
Я вышел из машины с другой стороны. В слабом свете уличного фонаря на носу у Глаза поблескивали капли дождя. Он улыбался так, будто эта меня нужно было приободрить. И тут неожиданно для себя я спросил его о маленьком сынишке.
— У него все в порядке, — сказал он и посмотрел на меня немного насмешливо, немного недоверчиво. — Ему хорошо, — продолжал он, — потому что от него ничего не требуется, как только расти.
Работа с Мастером Глазом была моей первой крупной самостоятельной операцией. Из многочисленных инструкций мне было известно, что в момент засылки агента возникает своеобразная с точки зрения психологии опасность не только для самого агента, то есть того, кого засылают, по и для его руководителя, то есть того, кто засылает. Эта опасность заключается в том, что у обоих возникает ощущение предательства: у одного — ощущение, что его предают, у другого — ощущение, что он предает. Мне следовало также знать, что с точки зрения дела это ошибочное ощущение. Однако я ничего не мог с собой поделать. Это был не Пятый моего шефа, а мой Мастер Глаз. В первую очередь он был моим партнером. И вот на случай, если оборвется радиосвязь, неважно, с чьей стороны, я предложил ему воспользоваться тайником, не принадлежавшим к системе связи фирмы. Условным сигналом о том, что известие для него отправлено, было слово «Маврикий» — наименование знаменитой почтовой марки.
Как будто речь шла о приказе, он, чтобы лучше запомнить, повторил:
— Фалькенбергерштрассе… еврейское кладбище… в постаменте памятника… родился в Лемберге[50]… главная аллея… предпоследний участок слева… шестой ряд… одиннадцатая могила… — а потом заметил: — На кладбищах я ориентируюсь. Когда мы были детьми, то всегда играли там в охотников и индейцев. Наши велосипеды были лошадьми, а памятники — скалами.
Судя по всему, он не понял смысла моего предложения.
— Йохен, — сказал я, стараясь подчеркнуть важность своих слов, — это имеет значение для нас обоих! Это канал для личной связи. Не забудьте этого, Йохен.
Лишь после того как он обернулся и протянул мне руку, до меня дошло, что вопреки всем правилам я назвал его по имени.
— Спасибо, доктор, — поблагодарил он, — я не забуду.
К нам медленно приближался грузовик, разукрашенный рекламами какой-то пекарни. На нем-то Йохен и пересекал границу.
Он повернулся и пошел. На тренировках он всегда казался мне человеком крепкого сложения. Теперь же, когда он уходил в темноту, становясь все меньше и меньше, он показался мне скорее тщедушным. У меня перехватило дыхание, когда, прежде чем забраться в кабину, он передал водителю через окно сверток с рацией. Они разговаривали на жутком жаргоне, который так типичен для варварского города Берлина. Они говорили о новых щипцах и дробилках, о копытах и решетах, о металлоломе и — о девках. Мне стало не по себе. Я почти ничего не понимал. Когда он вскочил на подножку, я крикнул:
— Йохен, я не оставлю вас в беде, я выручу вас!
Но в этот момент шофер дал газ, и Глаз, вероятно, ничего не расслышал.
25
Господину полицей-президенту (лично).
В единственном экземпляре.
Служебная записка
Во время небольшого обеда, устроенного вчера сенатом в честь сотрудников американской городской комендатуры, один знакомый мне компетентный сотрудник доверительно сообщил, что настоятельно рекомендует отказаться в будущем от услуг фирмы Мампе, занимающейся перевозкой грузов и прокатом автомобилей. Рекомендация связана с событиями, последствия которых могут серьезно затронуть интересы американской стороны. По его словам, об этом уже проинформирована генеральная прокуратура.
Принятие мер я оставляю на ваше усмотрение.
4 марта
(Подпись неразборчива.)
Вскоре после восьми утра, едва успев принять дежурство от ночной смены, детектив при отеле «Шилтон-Ройял» уже ошеломлен необычным звонком. Обе горничные с восьмого этажа, попеременно вырывая друг у друга телефонную трубку, возбужденно кричат в нее:
— В номере 717 двое посторонних мужчин!
— Взломщики, гостиничные воры! Скорее приходите, господин Зайбольт!
— Они не живут у нас! Совсем незнакомые люди в пальто и шляпах.
— Но я сделала вид, что приняла их за наших постояльцев. К тому же в 717-м живет тот самый профессор, который никуда не выходит. Я им сказала: «Доброе утро!» — и предупредила, что еще приду убрать номер. Уверена, они ничего не заподозрили.
Детектив прерывает их:
— Ради бога, говорите тише. Где вы сейчас, девочки?
— В бельевой. Приходите поскорее, и вы успеете схватить их.
Детектив кладет телефонную трубку. В соответствии с инструкцией он вызывает уголовную полицию и информирует о случившемся дежурного администратора. Затем, действуя точно по инструкции, он достает из сейфа для хранения оружия пистолет, из другого — патроны, заряжает пистолет опять-таки в соответствии с инструкцией, держа его стволом вниз над ящиком с песком, в котором произрастают кактусы, делает запись в книге учета и хранения оружия, кивает дежурному администратору, который уже готов незаметно встретить людей из уголовной полиции, и, наконец, поднимается на лифте наверх.
В бельевой в окружении больших тюков с бельем сидят горничные, окутанные густыми клубами табачного дыма.
— Нам необходимо было покурить, чтобы прийти в себя, — объясняет старшая. — Ну и ну! Можно было просто помереть со страху.
— Спокойно, девочки! За дело берусь я.
— Будьте поосторожнее, господин Зайбольт. Они выглядят как костоломы. Просто ужас!
— У меня сердце ушло в пятки.
— Ну ладно-ладно, девочки. Теперь это уже неважно. Лучше скажите, вы уверены, что не вспугнули их?
— Они ничего не заподозрили, определенно ничего. Я самым любезным тоном сказала: «Доброе утро!» и «Не желаете ли чего?» — и ушла поскорее.
— Хорошо. Оставайтесь здесь, и отсюда никуда. Возможно, с вами захотят поговорить из уголовной полиции.
Держа пистолет под рукой, детектив Зайбольт подходит к двери номера 717 и прислушивается. Полнейшая тишина. Ах, если бы агенты уголовной полиции уже прибыли! Но он твердо знает инструкции: при задержании на месте преступления в целях пресечения попыток к бегству действовать осторожно, но решительно. Поэтому он решительно и вместе с тем осторожно открывает запертую на одну лишь защелку дверь. С чувством облегчения, но и сожаления он видит, что взломщиков и след простыл. Однако они успели натворить дел: в номере царит невообразимый хаос, который остается, когда кто-то второпях ищет что-то припрятанное. Они добрались даже до стенного сейфа. Странно только, что в дверце сейфа торчит ключ. Откуда он у них? А где был или находится сейчас постоялец, который не выходит из номера? Детектив Зайбольт прячет подальше пистолет и опять-таки решительно, но вместе с тем осторожно приступает к поиску следов, оставленных преступниками, чтобы предоставить их в распоряжение специалистов из уголовной полиции…
Тем временем прибывает бригада уголовной полиции во главе с небольшого роста, круглым как шар комиссаром. В кабине лифта дежурный администратор нашептывает ему:
— Должен вам сказать, что за предотвращение возможного ущерба и успешное расследование администрация отеля и страховое общество совместно назначили вознаграждение.
Низкорослый комиссар недовольно хрюкает. В коридоре перед номером 717 полицейские договариваются обо всем взглядами. Один из них рывком распахивает дверь, и комиссар пулей влетает в комнату.
— Руки вверх! — ревет он и озадаченно констатирует, что его работу за него проделали другие: двое мужчин, втиснув в кресло третьего, заняты тем, что связывают его по рукам и ногам. — Благодарю вас, господа, — говорит комиссар мужчинам в пальто и шляпах, — но в вашем искусстве обращаться с веревкой уже нет необходимости. Пойман на месте преступления? Браво!
— Это все мы! — сообщает из-за двери одна из горничных.
— А вы ждите, когда вас пригласят и спросят. А пока проваливайте. Шульце, наведите-ка порядок. Тут не бесплатное эстрадное представление. — Затем комиссар учтиво снимает шляпу и снова обращается к двум мужчинам, которые тем временем оставили свою жертву в покое и отошли к балконной двери: — Моя фамилия Риттер. Комиссар Риттер. Позвольте мне приступить к делу. Кто из господ местных детективов уведомил нас по телефону?
Оба молчат. Более того, они даже не думают в ответ на любезное обращение комиссара снять шляпы, равно как и прежде не собирались поднять руки вверх по его приказу. Вместо них сдавленным голосом отвечает третий, сидящий связанным в кресле:
— Я детектив при отеле. Разрешите представиться: Зайбольт. Это я известил вас по телефону.
Тогда комиссар надевает шляпу и обращается к стоящему в дверях представителю администрации:
— Позвольте спросить: что здесь, собственно, происходит?
— Я и сам не понимаю. Могу только подтвердить, человек в кресле — наш детектив, господин Зайбольт, и именно он четверть часа назад сообщил мне, что в номере 717 кража со взломом.
— Шульце, развяжите его! А вам, бедолага, придется мне кое-что объяснить. Должен вам сразу сказать, что если вы будете с нами шутки шутить, то познакомитесь со мной поближе.
Детектив Зайбольт потирает запястья:
— Мне не до шуток, уверяю вас. Я действовал по инструкции. Горничные сообщили мне о двух подозрительных типах. Я застал в номере все перевернутым вверх дном и стал искать для вас следы, которые, возможно, оставили грабители, а эти двое появились с балкона и потребовали, чтобы я убирался. Поймите же меня! Я, естественно, принял их за воров и решил действовать, но они выбили у меня из рук оружие и скрутили веревкой.
Стоящие возле окна с невозмутимым видом слушают всю эту болтовню. Один из них молча протягивает комиссару в согнутой ладони небольшую карточку — удостоверение. Лицо у комиссара мрачнеет.
— Вот оно что! — протяжно произносит он. — Спасибо. — А затем обращается к своим сотрудникам: — А ну-ка, марш отсюда! Все в порядке, — говорит он дежурному администратору.
Тот теряет самообладание:
— В порядке? Как прикажете вас понимать? Взгляните на этот разгром. Что я скажу постояльцу? Невероятно! Я требую объяснений!
— Это был обыск.
— Вот как! Без письменного ордера и без понятых? Послушайте-ка, если для вас это обыск, то для меня сущее бедствие.
— Нельзя было медлить. Эти господа из… из одного особого отдела. Я дам указание, чтобы вы получили соответствующее распоряжение судьи. А вообще-то я не намерен заработать себе здесь плоскостопие. Шульце, пошли! — Уже стоя в дверях, он обращается к детективу Зайбольту: — А вы, милейший, впредь не позволяйте отнимать у вас оружие, не то можете лишиться лицензии детектива. Кстати, где пуколка?
Тот, кто показывал комиссару удостоверение, неохотно вытаскивает из-за пояса пистолет и протягивает его Зайбольту.
— Благодарю вас, господин комиссар, — говорит детектив. — Что нам теперь делать? Следы… Можно навести здесь порядок?
— Спрашивайте об этом не у меня. Действуйте по закону и слушайтесь этих двух господ. Пока!
Господа из особого отдела не в пример комиссару Риттеру и его бригаде не спешат. В то время как один из них при усердном содействии Зайбольта наводит справки у служащих отеля, другой, тот, что предъявлял удостоверение, направляется в бар и присаживается рядом с человеком, который, сидя за столиком, стоящим несколько в стороне, пьет сельтерскую воду. Ни тот, ни другой не подозревают, что прошлой ночью за этим же столиком, в пустующем теперь кресле, сидела Виола Неблинг.
— Поздравляю, Фуллер, — говорит человек, пьющий сельтерскую. — Классно сработали. Тихо и незаметно, словно стадо носорогов. Отчего вы не прихватили с собой пожарную команду?
— Сэр, возникли трудности. Нам пришлось сперва отучить одного клоуна от его глупых шуток.
— В этом ваша слабость, Фуллер. Вы не понимаете шуток. По крайней мере нашли что-нибудь?
— Ничего. Нас, должно быть, опередили, сэр. Дверь номера 717 довольно крепкая, и не так-то просто было войти, но когда я и Флинч проникли туда, то нам оставалось только разве что прибраться. Сейф был открыт, а в дверце торчал ключ.
Не хотите ли вы сказать…
— Да, сэр, примерно так.
В отличие от Фуллера сэр сдал пальто и шляпу в гардероб. Корректный и сдержанный, в дорогом твидовом костюме, со стрелочками брюк, такими же прямыми, как пробор в его седых волосах, он сидит в кожаном кресле, слегка наклонившись вперед, а лицо его продолжает оставаться бесстрастным. Из кармана жилета свешиваются нанизанные, словно бусы, лосиные зубы — знак принадлежности к масонской ложе Восточного побережья[51].
— Кто ставит нам палки в колеса? — тихо спрашивает он.
— Позвольте высказать свое мнение? — беззвучно смеется Фуллер. — В сомнительных случаях всегда ищите русских. Русских или их немецких помощников.
Его визави смотрит на него с изумлением:
— У вас не только слабо развито чувство юмора, Фуллер, но вы видите шутку там, где ее нет и в помине. Наш противник использует совсем другие методы. Берлин для него — болевая точка, и он действует здесь крайне осторожно. Наши люди тоже должны наконец понять, что им как представителям одной из оккупационных держав не следует выходить за рамки своих полномочий. А еще мне хотелось бы добавить, что на оперативной работе мнение подчиненных никого не интересует, им надлежит точно выполнять задания. Как только вы это поймете, Фуллер, ваше мнение тоже будет представлять интерес.
— Могу я спросить, каково ваше мнение, сэр?
— Нам надо форсировать завершение дела. Задача прежняя: он нужен нам живым или мертвым. Вернее, он сам уже не имеет никакого значения. Важны его магнитофонные записи.
— Вы действительно уверены, что тот человек на автостраде — не он?
— А разве смог бы он прошлой ночью оставить ключ от номера у портье, будучи обгоревшим трупом?
— Извините, сэр. Я признаю, что ничего не смыслю в канцелярской работе, но я не могу примириться с тем, что мнение практика, набившего себе мозоли, бегая по улицам, не представляет для фирмы никакого интереса. Четырнадцать лет службы, сэр…
— Мистер Фуллер, никто не хотел вас обидеть. Я, разумеется, исхожу из того, что каждый выполняет свой долг. Но иногда этого мало. Ваш небольшой промах вырастает в серьезный просчет на моем уровне. Я ясно выражаюсь? Ваше мнение заслуживает внимания, только когда оно не выходит за рамки вашей компетенции.
— Именно это я и хотел сказать, сэр. Я считаю себя компетентным в своей области, то есть способным судить, правильно была произведена идентификация или нет. И я сомневаюсь, что этот человек вчера вечером оставил здесь свой ключ! Был ли это действительно он? Мы совершенно точно установили, что в тот период, когда он появился в Западном Берлине, он пытался замести следы, выступая под видом этого механика из фирмы Мампе. Вы знакомы с этой фирмой по ряду докладов: особые задания по транспортировке людей на дальние расстояния… Флинч установил это совершенно точно.
— Да, припоминаю. Как, бишь, звали того механика?
— Звали? — Фуллер наклоняется над столом — его лицо выражает и почтительность, и презрение одновременно.— Сэр, все мы уважаем ваши особые полномочия. Именно поэтому для меня очень важно, чтобы вы правильно меня поняли. Я убежден, что было бы ошибкой говорить об этом человеке как о мертвеце. И если вы спрашиваете, как его зовут, то я могу сказать, что его зовут Шмельцер. А мертв доктор Баум!
— Мистер Фуллер, да успокойтесь нее наконец! Нам еще пригодится ваш опыт. Я не упрекаю вас за совершенные ошибки, а только требую, чтобы они были исправлены.
— Ошибки, сэр?
— Мы едины во мнении, что имел место холодный вариант.
— Хотя на этот раз при довольно-таки горячих обстоятельствах. Наш человек из фирмы Мампе доложил, заметьте, лично доложил, о выполнении задания.
— Итак, мы расходимся только в частностях: кого постиг холодный вариант. Вы знаете, вначале я поддержал ваши действия и сам был убежден в том, что под именем
Шмельцер скрывается тот, кто нам нужен. Должен признать, нас классически ввели в заблуждение.
— Я своими собственными глазами видел, что данное лицо имело при себе две фишки для так называемой игры го. Мы осмотрели его одежду в сауне, и я сам подержал эти фишки в руках, прежде чем положить обратно.
— Я знаком с вашим докладом.
— Я помню наизусть приметы, которые сообщили мне и Флинчу. В качестве важнейшей приметы для опознания этого доктора Баума служили две маленькие фишки. Все другие трюки — фальшивые удостоверения личности, регистрацию в отеле под чужим именем и все прочее из области маскарада — мы посчитали неумными уловками. Но не фишки.
— А вам не пришла в голову мысль, что в сауне кто-то мог подложить ему в карман эти фишки с такой же легкостью, с какой вы их вытащили?
— Сэр. у пас не было другого выбора, как только исходить из того, что мы должны найти Шмельцера, если хотим заполучить доктора Баума. Помимо всего прочего Шмельцеру предстояло выполнить срочное задание в качестве связного. Выдавая себя за него, доктор Баум мог перейти через границу, да еще с секретными материалами, о которых главным образом и идет речь. Мы должны были действовать решительно, сэр, и предоставили людям Мампе полную свободу.
— Я ценю вашу энергию, — говорит сэр, позванивая кубиками льда в бокале с сельтерской.
Его слова Фуллер воспринимает как удар хлыстом. Он пытается скрыть это под улыбкой, но у него получается лишь болезненная гримаса. Он видит перед собой равнодушное лицо, на котором застыло самодовольное выражение, и понимает, какая дистанция разделяет их.
— Благодарю вас, сэр, — вымученно произносит он.
— Так вот я и спрашиваю: чего вы добились, потратив столько энергии? Получили вы обратно в целости и сохранности от нашего человека из фирмы Мампе магнитофонные пленки, о которых, как вы правильно заметили, главным образом и идет речь?
— Признаю, сэр, что нет.
— Да это было и невозможно, поскольку те материалы, как мы узнали сегодня, к тому времени еще не прибыли в Берлин. Знаете, Фуллер, что я особенно ценю в людях вашей профессии? Прямолинейность мышления. Вот почему я не упрекаю вас за то, что вы стали жертвой хитрой, чисто левантийской уловки.
— Мне доводилось бывать в Леванте, сэр! Дамаск, Хайфа, Бейрут… Четырнадцать лет службы…
— Ну ладно, Фуллер, — мягко успокаивает его сэр. — У вас были точные приметы, по вам подсунули подставное лицо. Мы были уверены, что доктор Баум отправился в Западный Берлин, и лишь сегодня узнали, что прибыл он сюда под именем профессора Штамма и в сопровождении какой-то красотки. А его-то до сих пор считали нелюдимым одиночкой. Здесь, мистер Фуллер, я не могу скрыть своего разочарования. Заказать вам чего-нибудь выпить?
— Спасибо, нет, сэр. Если я вас правильно понял, предстоит еще кое-что сделать.
В этот момент приходит Флинч, который успел закончить опрос служащих отеля. Не здороваясь, он плюхается в третье кресло.
— Они ушли ночью, — угрюмо роняет он. — Сначала профессор, потом его куколка. Говорят, она помчалась за ним вне себя от ревности. Должно быть, он хотел гульнуть, а она…
— Вздор, Флинч! Амурные похождения и ревность в то время, когда они уже знали, что мы идем за ними по пятам? Докладывайте без всяких домыслов, прошу вас.
Фуллер под столом незаметно наступает Флинчу на ногу.
— Разумеется, сэр, — говорит Флинч, выпрямляясь.— Он ушел еще до полуночи, примерно в двадцать три часа. До этого он вообще никуда не выходил. Мы не выявили также, чтобы он имел какие-либо контакты в отеле. Для него он оставил письмо, а у портье ключ от номера.
— Когда она поднималась наверх, у нее был только ключ от собственного номера, — рассуждает Фуллер, — однако когда Флинч хотел открыть дверь, то обнаружил, что она заперта на задвижку изнутри. Тут что-то не так!
— Вот именно. Потом она также оставила свой ключ у портье, но это было уже в третьем часу ночи. Мы осмотрели ее номер — в него можно попасть через балкон. Все тряпки на месте. Хозяин отеля, между прочим, спрашивает, кто оплатит счет. Целая куча денег, сэр.
Сэр думает о том, что человек, который не оплатил здесь свой счет, когда-то получал довольно высокий оклад и что, хотя речь идет не о последнем счете за приличествующие его положению похороны, закон фирмы, которой чужда мелочная мстительность, обязывает ее быть щедрой даже в подобных случаях…
— Распорядитесь потихоньку уладить это дело, мистер Фуллер, чтобы все наконец успокоились. А вы, мистер Флинч, отправляйтесь-ка в путь.
— Потом здесь внизу она читала письмо. Профессор, как лунатик, ушел пешком. Она же взяла такси, которое вдруг прибыло без заказа.
— Такси?
— Да, сэр. Если вас интересует эта чернокожая красотка, то, пожалуй, кое-что можно выяснить. Водитель такси прямо-таки монстр. Она уехала с этим Кинг-Конгом[52] в стареньком «БМВ», что совсем нетипично для такси, сэр.
— Детали — это ваша забота.
Сэр встает и расплачивается у стойки бара. В гардеробе Флинч и Фуллер помогают ему надеть пальто на бобровом меху. Они подходят к дверям и, как по команде, поднимают воротники. Идет мелкий холодный дождь. Некоторое время они стоят под навесом подъезда.
— И последнее, мистер Фуллер. Вы понимаете, чего я от вас жду? Магнитофонные пленки передвинут вас в шкале окладов на две ступеньки вверх. Возьмите с собой Виллинга. Тогда вас будет трое, а больше людей для этой операции и не нужно. Работу необходимо проделать быстро и без лишнего шума. В Восточном Берлине пока все спокойно. Никаких официальных обращений с просьбой о содействии и никаких контактов по неофициальным каналам. Они либо еще не нашли этого Шмельцера, либо не знают, что с ним делать. Я бы хотел, чтобы так все и оставалось. Вы понимаете меня?
— Разумеется, сэр.
— Тогда желаю удачи. Они не могли уехать из города, и я позабочусь о том, чтобы это им не удалось. Но операция не должна длиться долго. Надеюсь, с орангутангом на такси вам повезет больше. Со мной вы сможете связаться через Центр, и я был бы очень рад, если бы у вас уже вскоре появилось желание сделать это. Есть еще вопросы?
— Нет, сэр, — отвечает Фуллер, хотя у него их целая куча.
Он потуже затягивает пояс пальто и, чертыхнувшись про себя и зло прищурившись, смотрит вслед этой благоухающей дорогими духами вонючке из Центра, этому сэру, обязанному своим благородным происхождением высокому положению в секретной службе, которого за углом — Фуллер готов спорить на что угодно — ждет персональный автомобиль, чтобы принять его в свое нагретое нутро. «Как чувствуете себя вдали от Центра, сэр? — хочется спросить Фуллеру. — Не очень уютно, не правда ли? А не становится ли вам дурно при мысли о том, что тем временем происходит в штаб-квартире? Не боитесь, сэр, что там подпилят ножки вашего стула? Мне известны ваши дерьмовые заботы, которые гложут вас, когда вы, сидя в ваших увитых плющом загородных домах, дергаете за веревочки, на которых мы подвешены, словно марионетки. Вы, принадлежавшие к богатым студенческим спортивным клубам, что вы вообще знаете о жизни? Приходилось ли вам всю ночь напролет пить дрянную водку с какими-нибудь темными личностями? Посещали ли вы когда-нибудь мрачный бар, чтобы с помощью денег и умильных глаз найти подход к девице какого-нибудь политикана, при этом беспрестанно думая, что за все это с вами расплатятся пулей? И вообще, представляете ли вы, что это такое — в стране, где каждого американца узнают I за три мили и где нас не особенно жалуют, среди сотни бандитов разыскать нужного человека, на которого стоит потратить деньги? Вспоминаете ли вы об этом, когда на тенистых террасах устраиваете приемы исключительно для людей своего круга? Думаете ли вы хоть немножко о нас, тех, кому приходится выполнять грязную работу? Сэр, я желаю вам хоть разок влезть в черный комбинезон, чтобы затем, спускаясь на парашюте, вы не знали, не есть ли это полет в вечность…»
Флинч толкает Фуллера в бок и говорит, словно читая его мысли:
— А ну его! Пошли!
И они идут искать ближайшую стоянку такси. Ледяной дождь усиливается.
26
Вернер философствует о хрупком душевном равновесии людей. Катастрофа надвигается, как свирепая гроза, и как раз в это время становится труднее всего именно с лучшими друзьями. Ошибки — это просто свершившийся факт. Они множатся, как снежный ком.
Что помогает человеку держаться и что заставляет его пошатнуться? Перелистывая старые учебники психологии, я вновь пришел к выводу, что между любой, даже хорошей Теорией и практикой, с которой приходится сталкиваться, всегда существует разрыв, потому что теория, которая годна хоть на что-нибудь, носит общий характер, а практика, напротив, всегда конкретна. Короче говоря, я тревожился за Йохена. С ним происходили непонятные перемены. Когда он приходил на инструктаж или с докладом, его отличали четкость и дисциплинированность, как и подобало молодому члену партии. Но эта собранность была чисто внешней. Внутренне же он как-то расслабился. Вероятно, у каждого человека, как у часов, есть своя пружина, которая позволяет ему двигаться и жить. Но как эта пружина заводится?
Если посмотреть со стороны, то положение Йохена стало более простым. Проходя подготовку под руководством специалистов ЦРУ, он вынужден был совершать рискованные переходы через секторальную границу, и это держало его в постоянном напряжении, лишало покоя и сна. Теперь же в качестве законсервированного на случай войны радиста он сидел на месте. Ему запретили приезжать в Западный Берлин. Он получил возможность рациональнее распределять свое время и наконец-то нормализовать отношения с женой и коллегами. Но вот что странно! Если раньше он недосыпал, потому что ему не хватало времени на сон, то теперь он страдал от бессонницы, так как не мог восстановить душевного равновесия. Если раньше он производил впечатление :запыхавшегося человека, поскольку без устали мотался из одной части разделенного границей города в другую, то теперь ему не хватало дыхания, так как был нарушен внутренний ритм его жизни.
Особенно не давала покоя Йохену мысль о том, что противник извлечет из передаваемой им по радио информации больше полезного, чем нам хотелось бы. Тяжелый груз ответственности давил на него, и мне было не просто разубедить его, повторяя, что я разделяю ее вместе с ним. Обычные сеансы радиосвязи по расписанию были делом несложным. Они служили не столько для передачи малосодержательной информации, сколько для того, чтобы подтвердить, что радист находится в постоянной готовности и контакт с ним не потерян. Над чем нам действительно пришлось поломать голову — так это над полученным им заданием подключиться к подземной кабельной сети советских воинских частей, дислоцированных севернее и западнее Западного Берлина. Мы, конечно, приняли соответствующие меры, как и во время успешно выдержанной проверки. Но риск, однако, оставался, и Йохен сознавал это.
Учитывая его душевное состояние, я не отваживался сказать ему, к каким неприятным осложнениям привели его выходы в эфир. Соблюдая инструкции, он при проведении радиосеансов менял места работы, использовал технику для скоростной передачи радиограмм, прикрывался направленными помехами и быстро переходил с одной частоты на другую. Для работы в эфире в его распоряжении была самая современная радиостанция на полупроводниках, о которой мы еще только мечтали. Хотя дальность ее была не очень велика, она отличалась высокой устойчивостью и хорошей направленностью распространения радиоволн в сторону корреспондента — почти как в радиорелейной связи. Это значительно уменьшало опасность радиоперехвата и пеленгации. Тем не менее его, конечно, обнаружили.
Сначала к нам явился один зарегистрированный радиолюбитель, который имел обыкновение проводить отпуск на чердаке, прослушивая эфир на своей радиостанции. По незнакомому излучению он обнаружил в эфире «чужую птичку». Наткнувшись на радиостанцию Йохена во второй раз, он записал радиограмму на магнитофонную пленку, которую и передал нам. Группа дешифровщиков, которая упустила из виду, что я своевременно зарегистрировал данные нового радиопередатчика, с энтузиазмом ухватилась за эту пленку, и мне еле удалось охладить их пыл, прежде чем они обломали себе зубы на этой записи.
Помимо всего прочего в ноябре имел место метеорологический феномен. Через низины, которые проходили примерно по древним долинам, стали прорываться странные слои туманообразований. При этом мельчайшие частицы тумана на какое-то время превращались в лед, не выпадая в виде мелкого града или ледяного дождя. Между слоями тумана проходимость радиоволн улучшилась, и Йохена стали принимать на таком расстоянии, которое ранее считалось немыслимым. Два отдаленных подразделения связи ПВО отреагировали на это спешными донесениями.
Зато партнер с другой стороны радиомоста был чрезвычайно доволен. Уже через несколько месяцев Глазу сообщили, что суммы, вносимые на его счет в банке, повысились. Йохен действительно работал прямо-таки с пугающей самоотверженностью. Казалось, в работе на радиостанции заключена вся его жизнь, остальное же для него не существует. Он будто и впрямь забыл, что деньги на хлеб насущный ему приходится зарабатывать в другом месте. В общем, он так увлекся работой на радиоаппаратуре, что будничные дела перестали его интересовать.
Доказательств этому становилось все больше. Профсоюзное спортивное общество исключило его за пассивность из гандбольной секция. Он рассказал мне об этом со смехом, и я не придал значения этому событию. Правление жилищно-строительного кооператива прислало ему повестку. Он сказал, что они могут поцеловать его в одно место, и я опять не забеспокоился. Зато серьезные опасения внушала мне его дипломная работа, к которой он сам почти не прикасался. Лишь Рената, его жена, все еще возилась с логарифмической линейкой и таблицами. Делала она это не только потому, что, страдая от одиночества, убивала таким образом время, но и — о чем я догадался позднее — потому, что надеялась сохранить хотя бы эту ниточку, связывающую ее с мужем.
Творческий аспект дипломной работы заключался в анализе и оценке экспериментов, проводившихся в научно-исследовательском отделе. Поскольку дело с места не двигалось, начальник отдела, известный своей мягкостью и добротой, потребовал сократить должность ассистента, хотя в свое время он выбил ее специально для Йохена. Сам Йохен о своих трудностях мне ничего не рассказывал. Я узнал об этом от одного доверенного лица. Поскольку все эти сведения я некоторым образом получил за его спиной, то не мог заговорить с ним об этом первым. Поначалу отношения между нами были доверительные и мы не боялись говорить друг другу правду. Но теперь они стали заметно прохладнее. И я уже не решался устроить ему головомойку, которую он вполне заслуживал, поскольку боялся еще больше подорвать его доверие ко мне, без того становившееся все более и более относительным.
Должен признаться, что в его равнодушии к окружающему я усматривал вызов. Я знал его как человека, который не любил привлекать внимание к своей особе и, даже становясь разговорчивым, о себе говорил мало, зато охотно говорил о других, проявляя при этом искреннее участие. Но теперь он и в этом переменился. По мере того как его интерес к судьбам других угасал, возрастало внимание к собственной персоне. Случалось, во время делового разговора он внезапно переводил его на себя и начинал рассказывать, о чем он думает, что его волнует, что он делает сейчас и что ему еще предстоит сделать. Самосозерцание постепенно переходило у него в сострадание к самому себе. Все это меня крайне беспокоило и раздражало, ведь для нормального, здорового человека сострадание к самому себе означает самоотрицание.
Время шло, а его состояние все ухудшалось. На дворе стояла унылая зима с ее нескончаемыми туманами и дождями. Можно было подумать, что между зимой и весной каким-то непонятным образом вклинилось пятое время года — вечные сумерки. И политический барометр не предсказывал ничего хорошего. Усиление подрывной деятельности вражеских тайных служб на международной арене закономерно сочеталось с политикой «большой дубинки».
Бонн расторг с нами все торговые договоры. В дополнение к эмбарго началась новая кампания переманивания рабочей силы, вывоза патентов и жизненно важных товаров из ГДР в Западную Германию. Западный Берлин с его открытыми границами в черте города являлся тем шлюзом, через который происходила эта утечка. Ясно просматривалось направление главного удара: за экономическим и моральным истощением должно было последовать и политическое разоружение, с тем чтобы затем одним, по возможности кратковременным, военным ударом ликвидировать наконец то государственное образование, которое называлось Германской Демократической Республикой.
В этой тревожной обстановке я готовился посетить Лейпцигскую ярмарку. Я собирался встретиться там с одним старым знакомым из журналистской среды. В некотором смысле эта встреча имела отношение к работе Йохена Неблинга, но я не стану вдаваться здесь в подробности, чтобы не вносить путаницу во всю эту историю. Впрочем, как выяснилось позже, встреча эта никаких результатов не дала. Во всяком случае, не откладывая дела в долгий ящик, я решил взять с собой на сутки и Йохена (столько времени без него могли обойтись в Берлине). Я считал, что смена обстановки пойдет на пользу нам обоим.
В дни ярмарки благодаря притоку зарубежных гостей, предвкушающих выгодные сделки, в Лейпциге царит своеобразная атмосфера беззаботности, причем окунуться в нее стремятся многие жители города. «А что, если это удастся и нам? Ведь Лейпциг — именно то место, где можно немного расслабиться», — наивно думал я. Йохена, естественно, тянуло туда, где была выставлена радиотехника и техника связи. Потом мы отлично закусили в ресторане «Августинер», а переваривать обед отправились в «Капитол», где смотрели какой-то вестерн. Затем мы заглянули в созданный после прошлогодней лейпцигской шахматной Олимпиады Дом шахмат, чтобы выяснить, нет ли там литературы по игре го. Мы непринужденно веселились, как и было задумано. Правда, до серьезного разговора дело так и не дошло. и только вечером, когда мы оказались в том старом винном погребке, уютную обстановку которого, наверное, нет надобности описывать, поскольку она знакома всем, кто бывал в Лейпциге, мы наконец поговорили. Но не атмосфера погребка была виной тому, что из моего намерения приятно провести вечер ничего не вышло. Йохен пил с такой жадностью, будто стремился наверстать упущенное или напиться впрок. Под влиянием вина его первоначальное оживление перешло в апатию. Несколько парочек развязно танцевали на небольшом пятачке между столиками. Йохен этого не видел. Он сидел молча, уставившись в бокал с вином, в котором отражались огоньки свечей.
— Йохен, ты не должен поддаваться плохому настроению, — сказал я. — Тебе необходимо взять себя в руки.
Он поднял на меня взгляд, полный скепсиса:
— Что ты знаешь о моем настроении? Известно ли тебе, что я боюсь возвращаться домой? И вообще, что такое «дом»? По своей квартире я хожу, словно по незнакомому острову. Разве проживающая там женщина — моя жена? А разве ребенок — это мой сын? Я сажаю его на колени. Он скачет, а я приговариваю: «Поскакали, поскакали, поскакали — в яму бух…»
Я принялся заклинать его взять себя в руки, убеждал, что положение критическое, что, быть может, вскоре узел развяжется. А он, холодно глядя на меня, заявил, что я так же хорошо научился утолять боль души, как доктор Баум. И вообще, мы — доктор Баум и я — в чем-то схожи: оба наделены чувством собственного превосходства, уверены в себе, оба такие чуткие, человечные и — невозмутимые.
Что это — у него окончательно сдали нервы? Я сказал ему, что, слушая подобные речи, мне очень трудно оставаться чутким и невозмутимым, а сравнение с доктором Баумом меня совершенно не устраивает. Уж не забыл ли он, в рядах какой организации состоит и где его место? Он ответил вопросом на вопрос: уж не хочу ли я перейти к оскорблениям?
— Конечно, я помню, в какой организации состою, по чувствую себя парализованным, который не в силах шевельнуть ногой. Я знаю, где мое место. У радиостанции! Не беспокойся: свою работу я буду выполнять хорошо. Но что у меня остается, кроме нее?
Его слова несколько успокоили меня. В них я усмотрел осознание им своего долга. Я сказал ему об этом, а еще сказал, что если подойти к делу с умом, то это не помешает решить и личные проблемы.
Сегодня-то я сознаю, что тогда мы дошли до предела — совсем перестали понимать друг друга. Мы слушали только слова, не вдумываясь в их смысл.
— Правильно, — сказал он, осушая бокал с вином. — Сосредоточимся на нашем деле. А знаешь что? Наверное, мне лучше расстаться с женой. Тогда мы оба перестанем мучиться. Каждый будет жить по-своему. У нее останется ребенок, а у меня радиостанция. И ты бы выиграл от этого.
Как легкомысленно он заявил об этом! Можно ли вообще вести себя так беззаботно и беспечно, как какой-нибудь юнец? Я был растерян и раздражен, а потому слеп и глух. Я просто не понимал, что его развязность была напускной, что в действительности он не хотел поступиться тем, что составляло его жизнь, но чувствовал себя неспособным бороться за это. Он оказался в заколдованном круге, и я дал втянуть себя туда же. Пришлось посоветовать ему выкинуть блажь из головы.
— Идет, — согласился он и рассмеялся: — А теперь напоследок пойдем в какое-нибудь злачное место.
И мы пошли в злачное место. Но мудрее от этого я не стал. Для этого потребовались еще кое-какие события, однако произошли они несколько позднее.
Мне до сих пор не ясно, как вообще все это могло случиться. В один из весенних солнечных дней, когда Йохен должен был проводить радиосеанс, он, вероятно все еще надеясь спасти то, что уже казалось окончательно погибшим, вопреки всем правилам конспирации решил взять с собой жену. Он и Рената были заядлыми грибниками. Вот Йохен и предложил ей отправиться за первыми весенними грибами. Рената ухватилась за эту мысль, как за соломинку. Ведь раньше он уходил из дома тайком. Неужто этот кошмарный период их жизни заканчивается? Может, после этой совместной поездки их семейная жизнь снова наладится?
В лесу у Йохена были, разумеется, совсем другие интересы, нежели сбор грибов. Ему предстояло пробраться к кабелю, который был проложен в запретной военной зоне. Он оставил Ренату одну, и все вышло как нельзя хуже.
Сообщение о том, что Ренату Неблинг задержал советский военный патруль, дошло до меня окольными путями лишь поздно ночью. После первых допросов, на которых она, к счастью, ничего не сказала, кроме того, что, собирая грибы, потеряла мужа и заблудилась, ее передали народной полиции, откуда, составив обстоятельные протоколы, препроводили домой. Стали разыскивать ее мужа, но он как в воду канул. И только на рассвете, проведя ужасную ночь в поисках Ренаты, он позвонил мне. Вот магнитофонная запись, хранящаяся в архиве:
«Вернер, мне надо поговорить с тобой. — Нет, не сейчас! У меня кое-что сорвалось. Очень сожалею. — Что с моей женой? Так ты уже знаешь? — Быстро же работают твои ребята. — Да, молочник спрашивал обо мне. Боже мой… — Нет, я ускользнул. — Да, ты замнешь. — Понимаю. — Нет, я не сошел с ума. — Так дальше не пойдет. — Пожалуйста, не беспокойся о моих нервах. Я вовсе не болтаю вздор. — Нет! — Дело не в нервах, а в характере. — Не волнуйся. Все уже позади. Кончено! Поэтому нечего беспокоиться. — Нет, Вернер, я не издеваюсь. Ты прав, но, быть может, прав и я? Человек несет столько, сколько способен выдержать. — Я все хорошо обдумал. — Да, я знаю, что принцип… Но, быть может, у каждого человека есть и его собственный принцип. — Нет уж, дай мне высказаться! — Видишь ли… Рената уехала и взяла с собой сына. — Не знаю… Я нашел вскрытую телеграмму. Мой отец… Да, ему совсем плохо. — Оставь меня в покое! Мне необходимо уехать. Я беру отпуск. — Радиосеансы? Подождут! — Не знаю, что будет. Знаю только, что все будет по-другому. — Мне это безразлично. Пусть хоть весь эфир обыщут. У меня отпуск. — Да, конечно, все это жуткое дерьмо. И хорошо, когда наконец можно сказать: «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» — Нет, я совершенно спокоен. — Зачем я тогда позвонил? Хотел еще раз поблагодарить за тот вечер, который мы недавно провели в Лейпциге. Знаешь что? Пожалуй, я не мог иначе. И теперь не могу. Я привезу ее назад, а до остального мне нет дела. — Хорошо… Все… Спасибо…»
Я трижды прослушал запись. Прослушав ее в четвертый раз, я понял, что все копания в психологических тонкостях бессмысленны, если в душе человека накопилось столько страха. Этот человек не испытывал страха, когда речь шла о его личной безопасности. Что же произошло с ним сейчас? Что вообще делает человека великим или ничтожным? И я пришел к выводу, что прав старик Маркс, который указывал, что человек — это совокупность его взаимоотношений. Отними у него любовь, дружбу, братство, чувство коллективизма — и ты отнимешь его природу… Я собрал свою дорожную сумку…
Лишь незасыпанная могила отца вновь свела вместе Йохена и Ренату. Но и там разделяло их нечто — нечто в облике тети Каролины, или Кэролайн, как она себя называла. Она не могла упустить случая, спрятав лицо под траурной вуалью, насладиться церемонией погребения брата, давно потерянного, но только теперь умершего. Она, собственно, была центральной фигурой небольшой похоронной процессии. Йохен как-то выпадал из нее. В мешковатом пальто темного цвета, должно быть, одолженном в деревне у какого-нибудь старого приятеля, он казался на кладбище случайным человеком. Он не стоял, подобно другим, опустив глаза, а пристально всматривался в даль, которая с кладбищенского косогора простиралась над колышущимся массивом леса и терялась где-то в синеве. Затем за спиной у тетки он взял жену за руку и больше не отпускал ее от себя.
Панихида была непродолжительной, хотя и торжественной. Почетный караул из представителей рабочих боевых отрядов, согбенные спины стариков, яростно поднятые кулаки. Снежная белизна пионерских рубашек, лица детей, еще не способных предаваться скорби. Множество красных гвоздик, то тут, то там платки у глаз. Представитель районного комитета партии в своей речи говорил о человеке, который много давал, довольствуясь самым малым. Затем оркестр добровольной пожарной дружины исполнил мелодию песни о маленьком барабанщике.
Я стоял в стороне за живой изгородью из сросшихся тисов. Чтобы почтить память Куно Неблинга, я надел старый берет солдата интернациональной бригады и не снимал его даже во время панихиды. Правда, меня никто не видел.
Место вокруг свеженасыпанного могильного холмика постепенно пустело. Какой-то старичок с усами подошел к Йохену и подал ему руку. Я догадался, о чем он говорил.
— Ты не баловал отца вниманием. Наверное, у тебя дел невпроворот.
Йохен молча кивнул. Последними цветы на могилу возложили дети. У могилы остались только трое Неблингов.
Тетушка приподняла вуаль, и я услышал, как она сказала:
— У него ничего не было в жизни, только красивые похороны. — И она вздохнула: — Пойдем, Йохен. Нельзя заставлять людей ждать.
Йохен внезапно обернулся, будто хотел что-то сделать, и увидел меня за изгородью.
— Иди, Кэролайн, — сказал он, — и начинайте без нас. Мы с Ренатой подойдем попозже.
Она хотела было что-то возразить, но, видимо, решила не нарушать благочестия, к которому ее обязывало пребывание на кладбище, и, резким движением опустив вуаль, энергично зашагала прочь.
Подходя к ним, я уловил удивление в глазах Ренаты и пристальное внимание. Решение было принято. Все, что произойдет сейчас, будет на моей ответственности.
Йохен поспешно представил нас:
— Мой друг Вернер… Рената — моя жена…
Слова вдруг начали застревать у него в горле. Не зная, с чего начать, мы смущенно молчали, стоя на узких дощатых мостках, проложенных вокруг могилы.
Йохен спросил меня:
— Ты знал отца?
Я объяснил ему, что никогда не встречался с ним лично, но сразу узнал о его аресте в 1933 году, поскольку его имя было хорошо известно в партийных кругах.
— Странно, что за время нашего знакомства мы говорили о нем только один раз, — заметил Йохен. — Интересно, что он думал обо мне под конец жизни. Только протезная мазь свидетельствовала о том, что я не забыл о нем.
— Подобные мысли всегда приходят слишком поздно, — сказала Рената, поджав губы. Она посмотрела на меня, потом снова на него: — Ты говоришь, что вы друзья, а я никогда не слышала о вашей дружбе. Вы давно знаете друг друга?
Я совсем иначе представлял себе жену Йохена: хрупкой, нуждающейся в защите, которую надо ограждать от всякого рода тревог и невзгод. Может, подобное представление возникло под воздействием решения руководства в соответствии с существующими правилами конспирации оставить ее в полном неведении относительно секретной деятельности мужа. Теперь я увидел, что она совсем не хрупкая, а скорее крепкого сложения, хотя и стройная. Здоровый цвет лица, небольшой, твердо очерченный рот, оценивающий взгляд. В ее вопросе, заданном дружеским тоном, была обезоруживающая прямота, допускавшая только откровенный ответ. Я посмотрел на Йохена. Он покачал головой, давая тем самым понять, что даже в минуты отчаяния ни о чем не рассказывал жене. Она ничего не знала ни о моем существовании, ни о характере нашей дружбы, ни о второй, полной риска жизни Йохена, которую он вел наряду с повседневной. Еще можно было отказаться от задуманного, отступить, прикрывшись решением руководства, которое освобождало меня от ответственности и в то же время возлагало ее на меня. Я мог в последний раз соблюсти дисциплину. Но решение было принято. Я видел, как нуждался в утешении Йохен, и понимал, что только эта женщина может дать ему его.
Домой мы отправились все вместе в моем автомобиле. Мысли Йохена были обращены к отцу. Мы ехали ночной дорогой, а он тихо рассказывал о редких встречах с отцом за последние годы. Это приносило ему облегчение. Я умышленно сделал так, что Рената сидела рядом со мной. Говорила она мало — лишь время от времени вставляла нужные слова, чтобы помочь Йохену избавиться от чувства вины перед отцом. В пути мы сделали одну остановку, чтобы передохнуть и подбодрить себя горячим кофе. И мне наконец представилась возможность перейти к делу.
Когда я снова завел мотор, Рената Неблинг, будто это само собой разумелось, пересела на заднее сиденье к мужу. В пути мы в немногих лаконичных выражениях договорились, что с этой минуты она будет помогать мужу при проведении радиосеансов.
27
Господину полицей-президенту (лично).
Конфиденциально.
Вне служебной переписки.
Благодаря информации о некоторых особенностях доктора Баума, полученной от дружественных служб, обстоятельства исчезновения сотрудника известной фирмы Мампе, некоего Шмельцера, которым до сегодняшнего времени безуспешно занималась наша служба, можно считать выясненными.
Чтобы замести следы, доктор Баум, он же профессор Штамм, умело использовав свой опыт работы в разведке и внешнее сходство со Шмельцером, выдал себя за него, в результате чего все меры по его розыску в их критической стадии в действительности были сконцентрированы вокруг Шмельцера, который по независящим от нас причинам погиб в катастрофе за пределами территории земли Берлин. Было предложено продолжать поиск в тех кругах, которые доктор Баум во время служебной деятельности использовал для установления контактов и получения информации.
К таковым относятся известные в то время, враждебные политическому режиму бывшей советской зоны оккупации политические союзы (Группа борьбы за права человека, Объединение свободных юристов и т. п.), а также соответствующие службы сената, в том числе земельное статистическое управление и находящиеся в Западном Берлине федеральные учреждения.
Дружественные службы обратились…
Фуллер — опытный охотник. Он обожает травлю зверя. Он знает, что у загнанного зверя в какой-то момент сдают нервы и он перестает испытывать страх перед смертью, покоряясь неизбежности. Охотнику важно не упустить этот момент, даже если он сам на последнем издыхании.
Флинч не таков. Ему больше нравится действовать из засады. Он славится выдержкой и твердой рукой. Он считает, что беззащитным делает зверя внезапность: тот просто-напросто не успевает ощутить страх. По мнению Флинча, охотнику так проще.
Виллинг — специалист по выслеживанию зверя. На это у него прямо-таки особое чутье. Но, обнаружив логово, он теряет всякий интерес к охоте.
Виллинг выспрашивает водителей такси и быстро устанавливает, что разыскиваемый тип представителям этой профессии не знаком. Что еще предпринять? Будучи монстром, этот тип мог выступать в каком-нибудь бродячем цирке. Виллинг наносит визит в союз артистов цирка, расположенный в полуразрушенной вилле на берегу озера Тейгелер, где Старые артисты варьете рассказывают друг другу занимательные истории. Один чревовещатель, радуясь неожиданному визиту, заставляет разговориться сидящую у него на коленях куклу. От нее Виллинг узнает, что сразу после войны на лужайке в Трештовер парке была открыта ярмарка, на которой выступал борец в маске и шкуре гориллы, имевший к тому же нахальство работать без лицензии. Во время одного представления на него набросилась одичавшая собака и так отделала, что его карьере в ярмарочном балагане пришел конец. Виллинг кладет в шляпу-котелок чревовещателя еще одну купюру, и кукла, подпрыгивая на коленях у хозяина, продолжает свой рассказ. После разделения Берлина на сектора борец, как того и заслуживал, пропал в пивнушках Шёнеберга. Это, конечно, горячий след. Но пивной «Кэролайнс бир бар» уже не существует. В помещении бывшего бара теперь прачечная самообслуживания.
Узнав, что они практически в тупике, Фуллер отбрасывает всякую осторожность. Он жаждет довести дело до конца. Через одно влиятельное лицо из полицейского управления он наудачу организует облавы по всему городу: в пансионатах, на вокзалах, на стадионах, на ярмарках. Он хочет устроить переполох и тем самым вспугнуть зверя. Облавы вызывают в прессе негодующие комментарии по поводу озверевшей и несостоятельной полиции. Доверенное лицо из полицейского управления становится объектом нападок.
Фуллер остается в тени. Из спецфонда своей службы он подбрасывает полиции большую партию героина. Во время пресс-конференции героин выкладывается на стол и каждый может его сфотографировать. В газетах под кричащими заголовками появляются сообщения об удачной операции отдела по борьбе с наркотиками, и общественность удается успокоить.
А тем временем Виллинг втихомолку сводит знакомство с массажистом, который работает в ярмарочном балагане. Хотя старый Эгон здесь больше не появляется, некоторые из отслуживших свой срок гладиаторов хорошо помнят «душителя из Нойкёльна». У него, рассказывают они, несомненно, были задатки, чтобы стать абсолютным чемпионом, но он был слишком добродушен, чтобы вышибать из противников «последний дух». А тот, кто хочет поговорить с ним, пусть поищет его в пивной «У Лотты», где подают отличное пиво в литровых кружках.
Пивная «У Лотты» оказывается прибежищем профессиональных боксеров и борцов. Там имеется особый клуб, клуб «поднимающих буфетную стойку», основанный в конце 20-х годов неким Эгоном Франке по случаю трансляции по радио боксерского матча Демпси — Танни. В приливе восторга, поводом для которого явился нокаут, Эгон Франке поднял в воздух буфетную стойку вместе со стеклянной витриной и мойкой.
Виллингу потребовалось ровно 49 часов и 745 долларов на расходы, чтобы обнаружить зверя. Он представляет доклад и идет в обещанный ему внеочередной отпуск.
В пивной «У Лотты» Флинч устраивает засаду. Каждый охотник знает, что большая кружка пива только способствует твердости руки. Флинчу ничего больше, собственно, и не надо. В пивной «У Лотты» только один двухчасовой перерыв для уборки помещения: от шести до восьми утра. На третий день Флинчу уже разрешают остаться в пивной даже в эти часы. Его принимают за приезжего сутенера, который хочет задать взбучку шлюхам, сбежавшим от него из гамбургского борделя на Репербане.
На третий день, вечером, в пивной «У Лотты» появляется Эгон — «душитель из Нойкёльна». Флинч не без умиления наблюдает за тем, как огромного роста старик пытается казаться незаметным. Едва переступив порог, он молча принимается за литровую кружку пива. Время от времени он нежно поглаживает отполированную до блеска буфетную стойку. Он ждет. Но человек, с которым он условился встретиться, чтобы возвратить ему взятую напрокат автомашину, не приходит. Расплачиваясь, Эгон обменивается несколькими словами с хозяином пивной и оставляет ему на хранение ключи от машины. Флинч, у которого твердая рука сочетается с тугодумием, в первый момент пугается» а что, если это ключи от сейфа ив номера 717 на восьмом этаже отеля «Шилтон-Ройял»? Но потом он припоминает, что видел те ключи торчащими в дверце сейфа. Все остальное он проделывает очень быстро, так как висящий рядом с туалетом телефон не занят. Не успевает Эгон, миновав две улицы, дойти до метро, как Фуллер уже следует за ним по пятам.
Травля начинается. Наивысшее искусство состоит в том, чтобы жертва не видела охотников, но все время чувствовала их за спиной, все больше впадая в панику.
Беспокойство охватывает старого Эгона, когда он по лестнице спускается в метро. Он поворачивается и, близоруко щурясь, заглядывает в лица спешащих мимо людей, как бы прося о пощаде. Поезд еще не остановился, а он уже бежит рысцой рядом с ним на своих страдающих плоскостопием ногах, но, когда дверь распахивается, он топчется в нерешительности. Его толкают и ругают, а он смотрит вслед огням последнего вагона, исчезающим во мраке туннеля.
Он заходит за газетный киоск, словно прячась от кого-то. Потом снова появляется и спрашивает у дежурного по станции, где телефон. Фуллер подмигивает Флинчу, и, когда Эгон находит в конце платформы телефонную будку, она уже занята. Вид человека в пальто с высоко поднятым воротником, жующего жевательную резинку, отчего его челюсти беспрестанно двигаются, действует на него как удар. Ему приходится ждать, а у него такое чувство, что, ожидая, он совершает ошибку. Фуллер и Флинч тоже ждут, но они знают, что делают все, как надо. Эгон протискивается в кабину и закрывает за собой дверь. Здесь так тесно, что он едва может пошевелиться. Наконец он бросает монету в прорезь. Фуллер и Флинч сидят на скамейке спинами друг к другу и прикидываются спящими. Теперь он от них не уйдет. Когда Эгон Франке выходит из будки, на лбу у него видны крупные капли пота. Он напряженно вслушивается в передаваемые по громкоговорителю объявления. Вслед за ним в телефонную будку входит Флинч и забирает крошечный магнитофон, с помощью магнитного устройства прикрепленный им под полочкой, на которой лежит телефонный справочник.
Теперь они берут Эгона в клещи. Флинч едет в переднем вагоне и наблюдает за дверями, а Фуллер — в заднем и с помощью слухового устройства, каким обычно пользуются глухие, прослушивает магнитофонную запись. Эгон кого-то спрашивает, остается ли в силе их уговор. Фуллер, разумеется, догадывается, кто этот кто-то. И вопросы Эгона этот кто-то, по всей вероятности, понимает правильно. В словах Эгона сквозит страх: «Я никак не сбуду товар с рук. Что-то здесь не так — я это чувствую. А если что-то не так, я не могу прийти. Я же всегда говорил, что чувствую опасность желудком. Фрейлейн тоже что-то по мне заметила и вообще не хотела отпускать. — Нет, с фрейлейн все в порядке. Спасибо, но я туда не приду. Что-то вокруг меня не то, я это чувствую. — Хорошо. Где тогда? Сделаю. Где?» В этот момент в запись врывается грохот прибывающего поезда, и Фуллер слышит только, как дребезжат стенки телефонной будки. «Старый носорог не так-то глуп, хотя у него маленькая голова, — думает Фуллер. — Идет себе дальше и заметает следы».
На пересадочной станции они едут вслед за Эгоном по переполненному пассажирами эскалатору, все время держа его в клещах. Эгон трижды спускается и поднимается, но это ему не помогает. Флинч, который идет позади него, одной рукой навинчивает глушитель на ствол пистолета, лежащего в глубоком кармане пальто. Фуллер решает немного отпустить поводок. Один раз, когда Эгон спускается по эскалатору, он поднимается ему навстречу. Он хочет заглянуть в глаза старика. Внизу, в конце платформы, где воняющий сгоревшими электродами и отработанной тормозной жидкостью воздух приносит из туннеля немного тепла, городские бродяги и бездомные дети устроили ночлежку. К ним присоединяется пара одичавших собак, которые роются в поисках отбросов среди пустых бутылок, целлофановых пакетов и старых газет. Какой-то старик бормочет во сне. Двое кудрявых подростков с блестящими глазами — ну прямо как Иисус Христос со своим братом-близнецом — сидят рядышком в большом кейфе. Поджав под себя ноги, они беспрестанно раскачиваются.
К этому скоплению человеческих отбросов и направляется Эгон Франке, близоруко щурясь и осторожно ступая своими страдающими плоскостопием ногами, будто под ним борцовские маты.
Все происходит в считанные секунды. Из-за кучи мусора поднимается человек в сером в елочку костюме, который явно не из этого окружения, и в тот же миг Эгон кричит что есть мочи:
— Бегите, доктор! Они уже здесь.
Дежурный по станции через дребезжащий громкоговоритель отдает команду. Человек в сером перепрыгивает через обитателей ночлежки, добегает до двери головного вагона и повисает на ручках — они не поддаются. Поезд трогается. А Фуллер и Флинч тут как тут. Но прежде чем они успевают схватить человека в сером, между ними и вагоном протискивается массивная фигура борца. Фуллер и Флинч виснут у него на руках, однако ему удается сломать запирающееся устройство и открыть двери. Человек, из-за которого они борются, успевает прыгнуть внутрь вагона. А ноги Эгона ловят пустоту. Он скорее летит, чем бежит. Фуллеру и Флинчу не удается протиснуться мимо него в вагон. Фуллер сразу отстает, а Флинч пробегает еще несколько шагов рядом с Эгоном, уткнув пистолет с насаженным на его ствол глушителем прямо под ложечку старика. Все чувства Флинча сконцентрированы в пальце, лежащем на спусковом крючке. Он слышит тяжелое дыхание старика совсем рядом и улыбается ему, словно прося извинения. А Эгон в последнее мгновение почти с торжеством думает: «Желудок — я всегда знал, что у меня это самое чувствительное место!» Все так же, будто ничего не произошло, продолжают раскачиваться головы кудрявых подростков. Голос в громкоговорителе захлебывается. Тормоза визжат. И никто не слышит выстрела.
Вот и стена туннеля. Пространство между стеной и поездом слишком мало для огромного тела Эгона. Когда поезд наконец останавливается, Фуллер видит, что аварийной команде придется немало потрудиться.
28
Мистер Баум опасается за своего человека, который неожиданно исчез из эфира. Что означает радиомолчание, если оно не предусмотрено расписанием радиосеансов? Мистер Баум спрашивает себя, так ли уж далека бухта Свиней на Кубе от бухты Свиней на реке Хафель.
Шеф пригласил меня на ленч, за который он садился ровно в 12 но примеру колониальных английских офицеров-аристократов. С ними он познакомился во время войны с японцами в Малайзии. Сотрудники его штаба считали подобные приглашения поощрением. Для меня же они были скорее бременем. Больной желудок шефа часто восставал против его прожорливости, и тогда он становился совершенно невыносим.
Приехав заблаговременно, я оставил свой автомобиль охране и отправился к дежурному дешифровщику радиоцентра, так как считал: либо они прозевали последний сеанс радиосвязи с Мастером Глазом, либо мне самое время забеспокоиться.
За столом сидел протоколист — молодой человек с интеллигентным лицом. Подобные лица встречаются иногда в Вест-Пойнте в год хорошего выпуска. Во всяком случае, с людьми с такими лицами можно ужиться, несмотря на их военные привычки.
Он вопросительно посмотрел на меня, когда я попытался заглянуть ему через плечо, и мягко сказал:
— Это запрещено, сэр. Личное указание резидента.
Он не знал меня. Я назвал пароль, который после моего перехода на оперативную работу давал мне право в любое время просматривать радиограммы в пределах моей компетенции. Молодой человек сверил пароль по списку.
— Благодарю вас, сэр. Сами понимаете: инструкции!— Демонстрируя служебное рвение, он собрался было вручить мне ключ от сейфа, где хранились дела, но я остановил его!
— Только номер пять, и только самые последние данные.
Он порылся в полученных за последние дни бумагах, лежавших на столе для обработки, и с сожалением пожал плечами:
— Извините, в последнее время от Пятого ничего не поступало.
Я попросил просмотреть другие бумаги на тот случай, если вдруг что-то перепутано. Никакой путаницы не было. Запросили радистов, и те подтвердили, что от Глаза ничего не поступало. Безмолвствовал он в последний по расписанию день радиосвязи, не реагировал на позывные и по истечении контрольного срока. В служебном журнале узла связи об этом имелась соответствующая отметка. Возможность технических погрешностей или направленных помех контрольный офицер исключал. Ничего не оставалось, как считать, что молчание Глаза вызвано какими-то таинственными пертурбациями в эфире.
Как иначе можно было объяснить исчезновение Глаза? У всех, кто имел в нашей конторе отношение к радиосвязи, Пятый считался воплощением педантизма и пунктуальности, присущих «колбасникам». Эта оценка, конечно, свидетельствовала о незнании истории, поскольку презрительная кличка «колбасник» относится в основном к баварской разновидности немецкого характера, в то время как Пятый являл собой скорее образцового пруссака. Но по сути своей оценка была верна. Инструктор по радиоделу сержант Куки, который доводил Пятого до высшей кондиции, участник корейской войны, не знавший, что такое комплименты, предложил однажды сверять часы по первому сигналу выхода Глаза в эфир. Более высокой похвалы нельзя было придумать. У Мастера Глаза не было ни задержек, ни срывов в работе. Он выходил в эфир с точностью до секунды, подобно городской ласточке, просыпающейся с восходом солнца. Что же произошло? Что заставило его замолчать? 'Причин тому могло быть несколько, и не только пертурбации в эфире. При мысли об этом мне становилось не по себе.
У меня еще оставалось время до ленча, и я связался с людьми, отвечавшими за внутреннюю безопасность. Они слышали, что я думаю о них и об их детекторе лжи под названием «Лилли», который я окрестил «лилипуткой», поэтому рассчитывать на их добрые чувства не приходилось. Я решил держаться в рамках официальности, предполагая, что в таком случае им придется пошевелиться.
Я не знал, с какими индикаторами они работали. Результат, во всяком случае, оказался негативным. Короче говоря, дело заключалось в следующем: я передал Глазу радиостанцию самой последней конструкции для подобного рода работы. Ее компактность, достигнутая за счет использования транзисторов, позволяла проделывать с ней различные фокусы. Кроме того, она имела неизвестное ранее электронное защитное устройство. Это устройство ограждало от провала не столько самого радиста, сколько радиосвязь. Если бы радиостанция или радист вместе с радио» станцией попали в руки противника и тот попытался бы затеять с нами радиоигру, то радиостанция подала бы сигнал, ключ к которому был известен только сотрудникам резидентуры, отвечавшим за внутреннюю безопасность. Как все это действовало, мне было не совсем ясно. Насколько я усвоил, секрет состоял в хитроумном промежуточном соединении. Меня успокоил ответ «Лилли», что радиостанция Пятого никаких сигналов тревоги не подавала. И все же что-то вышло из-под контроля! Что могло случиться о Мастером Глазом? А что, если они выследили его вместе с радиостанцией и не долго думая подвели черту под этим делом?
Я возвратился в комнату, где сидел выпускник Вест-Пойнта.
— Послушайте, Джек, — сказал я.
— Саймон, сэр, — мягко поправил он.
— Хорошо, пусть будет Саймон. — Мне пришлось выдержать его недоверчивый взгляд. — С Пятым все закончено. Мы прекращаем с ним радиосвязь.
— У вас есть на это полномочия, сэр? — отреагировал он на удивление спокойно, хотя во взгляде оставался скептицизм. — Это многое упрощает. — Он взял радиоключ Мастера Глаза — серую перфокарту и убрал ее в сейф: — Меньше работы.
Затем мы обменялись обычными шутками по поводу ненадежности радио. Я угостил его кока-колой из автомата и удалился с чувством облегчения.
В приемной шефа после нелепого ритуала сдачи оружия дежурному мне пришлось прождать несколько минут. И все это время меня не покидала мысль о том, что электронное защитное устройство радиостанции срабатывает, разумеется, только в том случае, если радист, попав в руки противника, не соглашается работать на него. Я пытался представить себе Глаза в ситуации, когда ему пришлось бы спасать свою шкуру. Тщетно! Какая-то плоская, как медуза, рожа ухмылялась мне с двери. Лишь сама нелогичность мысли помогла мне освободиться от нее. Она просто-напросто не соответствовала ситуации, так как двойная игра предусматривала продолжение радиосвязи не позже установленного нами контрольного срока. Но чем в таком случае объяснить радиомолчание? Конечно, можно назвать целый ряд причин или каких-либо нелепых случайностей, которые срывают даже более тщательно продуманные планы. Пятый работал не вступая в контакт с прикрывавшими его людьми — на этом настоял шеф. Именно в этом заключалась наивысшая степень безопасности. Как теперь оказалось, это было сопряжено с большим риском. Причина молчания Глаза была пока необъяснима.
Мои раздумья прервал дежурный, пригласивший меня войти. В этот момент дверь распахнулась и из кабинета шефа вышел высокий стройный мужчина, который внимательно осмотрел меня. Потом он взял у дежурного оставленный на хранение «дипломат», раскрыл его и положил в него какие-то бумаги. Вышел он не прощаясь.
Шеф принялся за еду, не дожидаясь, пока ординарец закончит сервировку стола. Кроме сладкого подали запеченные клецки из форели. Я полагал, что за ленчем пользуются главным образом вилкой, но шеф предпочитал ложку. Ему, видимо, было трудно предаваться обжорству, орудуя одной вилкой. Он вооружился большой ложкой и черпал ею только что приготовленный соус. Клецки одна за другой исчезали у него в глотке. Аппетит у меня пропал, так и не успев появиться.
Во время еды разговоры исключались. Лишь закурив толстую сигару, шеф, казалось, вспомнил, что у него гость. Он пододвинул мне ящичек с сигарами:
— Угощайтесь, доктор Баум. Нечто совершенно восхитительное, прямо с Кубы!
Я не смог отказать себе в удовольствии и съязвил:
— Шеф, я не имею права лишать вас таких сигар. Из-за катастрофы в бухте Свиней эти сигары могут оказаться последними, которые вы получили с Кубы. Вы хоть успели сделать запас?
Его лицо перекосила злобная гримаса.
— Эти кретины из Вашингтона наложили полные штаны и уже не способны думать.
В таком же тоне он продолжал разглагольствовать еще некоторое время, очевидно полагая, что это улучшает пищеварение. Шеф представлял собой удивительный экземпляр. Меня каждый раз поражал его прямолинейный, что называется без затей, образ мышления. В данном случае он в определенном смысле был даже прав. Они заварили это грязное дело на Кубе, а потом вдруг испугались, что предстанут перед миром с руками, запачканными грязью. Шеф спросил меня, разглядел ли я вышедшего от него посетителя. Он затрясся от смеха:
— Германия всегда была гротескным зверинцем: волки, лисы, крысы, вороны…
— Да, — подтвердил я, — у Тора[53] обширное царство.
— Тот, кого вы встретили, — продолжал он, — старый висельник из зоологического отдела «Иностранные сухопутные войска, Восток»[54]. Одним словом, старый нацистский Коршун. Имеются и другие великолепные экземпляры.
Какое чувство говорило в нем сильнее — отвращение или восхищение? Чтобы выяснить это, я поинтересовался, не приходилось ли нашим парням переплывать через океан, чтобы изловить всех этих мелких хищников.
Он сказал, что у меня нет чувства юмора, но затем все же задумался:
— Может, вы и правы, доктор Баум. Эта публика становится заносчивой. Они забывают, что их буквально сняли с виселицы. Впрочем, сейчас трудно сказать, кто кому нужнее: мы им или они нам.
Подали кофе. Шеф взял свою чашку и подошел к карте Большого Берлина.
— Этот город напоминает джунгли, — сказал он. — А нам нужны хищники, которые здесь водятся. Наступил момент, когда такие люди, как я, начинают думать: а не являются ли детскими их представления о демократии? Не устарел ли наш идеал демократии, унаследованный от Джефферсона и Линкольна?
Шеф говорил о все возрастающей эрозии коммунистического строя в восточной зоне. Не ошибался ли он в данном случае? Борьба велась беспощадная. Я целиком отдавался этой борьбе и хорошо знал, что каждый день вынуждал нас прибегать к новым ее формам. Мы усиливали давление, а они мобилизовывали неизвестные нам резервы, чтобы дать отпор. Мы перекрывали им источники снабжения, а они находили новые. Мы воздвигали позорные столбы, чтобы пригвоздить их к этим столбам за теорию отрицания свободы личности, которую они будто бы насаждали, они же указывали на обагренные кровью руки тех, с кем мы теперь объединялись. Мы трубили во все трубы песнь о свободе. Когда-то эти трубы разрушили стены Иерихона и вытащили дядю Тома из его хижины. Но сейчас у меня от них звенело в ушах.
Я напомнил шефу, что однажды нам уже не удалось использовать в своей игре коричневых против красных. Он сразу понял, что я намекаю на постыдный флирт с нацистами в 1944 году в Швейцарии, и поправил меня: мол, то были черные, а не коричневые, мол, разве мне неизвестно, что человек, с которым старик Аллен встречался тогда в Берне, был одним из вышеупомянутого зверинца, генералом СС по фамилии Вольф, наделенным всеми полномочиями, чтобы в последний момент взорвать антигитлеровскую коалицию. Шеф язвительно отозвался об этой старой истории как об упущенных возможностях. Изливая за чашкой кофе всю накопившуюся у него желчь, он заявил, что если я сохранил хотя бы каплю здравого смысла, то должен понимать: сражайся мы вместе с сорока свежими немецкими дивизиями против сталинских орд, и мир выглядел бы сегодня иначе. А вместо этого малахольные мечтатели из администрации Рузвельта позволили этим дивизиям вцепиться нам самим в горло в Арденнах.
— Совершенно верно, — подтвердил я, — и сталинским ордам снова пришлось выручать нас.
Спрятанные под кустистыми бровями глаза шефа настороженно засверкали. По лицу его было видно, как трудно ему сдерживаться. И вдруг он выхватил из кармана свои старые часы в форме яйца, покрытые крапинками ржавчины. На цепочке в качестве брелока висела медаль «За храбрость», полученная им в первую мировую войну. Он сунул мне ее под нос:
— Приятное воспоминание, мистер Баум. Но можем ли мы жить только воспоминаниями? Поверьте, эти часы уже оттикали навсегда. — Его костлявая фигура выпрямилась. Он отставил чашку в сторону и снова подошел к карте: — Займемся обстановкой.
Я вспомнил, как когда-то, при вступлении в должность, мне пришлось вводить его в обстановку. На этот раз он сам командовал парадом:
— Пуллах[55] сообщил мне, что расторжение Бонном торговых договоров оказывает воздействие на восточную зону: они меняют свой курс, их корабль бросает из стороны в сторону. Экономический кризис в зоне советского господства обостряется. Это наверняка скажется и в Берлине. Люди из Пуллаха, кроме того, гарантируют, что усиливается воздействие на национальные чувства немцев. Они утверждают, что со дня на день можно ожидать агонии, и на этот раз полны решимости пустить в ход военную силу.
— На этот раз, шеф? К этому они, собственно, всегда были готовы.
Я все еще пытался сопротивляться его логике, но он не давал сбить себя с толку:
— Какая возможность, доктор Баум! Только подумайте! Уж этот шанс мы не имеем права упустить.
Я указал на карту и возразил, что в каждой возможности таится риск и что при чрезмерной активности мы можем поставить под удар наши собственные позиции в этом районе. Он только отмахнулся:
— Вовсе не обязательно. Мы со своей бомбой останемся в стороне. От нас лишь требуется нейтрализовать русских в военном отношении. Предоставим немецких братьев и сестер самим себе. Как вам известно, это полностью соответствует нашей концепции эскалации.
Уже невозможно было понять, в чем именно мы хотели убедить друг друга. Его слова меня ужасали и казались лишенными всякого смысла, а он, должно быть, воспринимал мои слова как до смехотворного нелепые. Тем не менее я продолжал говорить. О чем шла речь — о пустом принципе или обо мне самом? Я пытался переубедить шефа, указав на то, что русским первым удалось открыть эру пилотируемых космических полетов, а при таком положении вещей просто глупо кричать о слабости их потенциала.
Шеф согласился с моим доводом и откровенно признал, что элемент риска всегда остается. Но отдавал ли он себе отчет в том, что говорил? Ведь та эпоха, когда каменный топор был самым грозным оружием, давно миновала, однако мы, похоже, задались целью вернуть ее. Военное столкновение в центре Европы превратило бы все телефоны прямой связи, будь то в Кремле или в Белом доме, в не что иное, как в детские игрушки. Он говорил о риске, а я видел на стене те самые слова, которые были начертаны в царском дворце невидимой рукой и предрекали Вавилону гибель. Нацистский ад, канувший в прошлое, был страшен, но еще более страшным виделось будущее. Мы стояли в преддверии ада, однако сумели оттуда выбраться. Теперь же мы были обречены.
Я знал, что бесполезно высказывать шефу подобные мысли, и попробовал оперировать примерами из области нашей профессиональной практики: я спросил его, не «прославимся» ли мы в бухте Свиней на реке Хафель так же, как наши коллеги «прославились» в бухте Свиней на Кубе.
Он пришел в ярость, напомнив мне в тот момент одного из тех отцов-пилигримов с «Мейфлауэр», для которых библия была настольной книгой, и, сверкая глазами, стал осуждать меня за фарисейство:
— Чего вы добиваетесь, прибегая к столь изощренному бахвальству, доктор Баум? Вы однажды уже предлагали мне измерить шею Нефертити в Далемском музее. Какие глупости! Теперь пристаете с какой-то там бухтой Свиней на реке Хафель. Вы что, собираетесь пополнить путеводитель Кука новыми туристскими достопримечательностями пли, черт побери, выполнять офицерский долг? Обстановка в восточной зоне — вот что должно нас интересовать сейчас прежде всего, потому что от этого многое зависит. Берлин — болевая точка, узел всех противоречий, и мы обязаны распутать этот узел. Обеспечьте мне подробную обстановку, а уж об инициативе я позабочусь сам. Надеюсь, мы поняли друг друга, доктор Баум?
Прежде чем я успел ответить, лицо у него исказилось, его длинная тощая фигура согнулась, словно перочинный нож, и он упал в кресло — снова начался приступ.
— Лекарство, — простонал он, указав глазами на письменный стол.
Ящики стола оказались заперты.
Он сполз с кресла:
— Защитная блокировка… Телефонная трубка… Снимите трубку…
Я перепробовал почти все телефоны. Наконец, сняв какую-то трубку, я отпер ящики. Опиат в темном пузырьке стоял на самом видном месте. Шеф, должно быть, уже обезумел от боли. Не выпуская моей руки, он сделал глоток и с закрытыми глазами ждал, когда подействует лекарство.
— Я хочу уйти из жизни как мужчина, доктор Баум! Стоя!
Я помог ему встать на ноги.
— Но я не уйду, пока не добьюсь успеха. И в этом я рассчитываю на вас. Вы или победите, или падете вместе со мной, доктор Баум. У Пятого все в порядке?
Не узнал ли он о прекращении радиосвязи? Я сказал, что с Пятым все в порядке.
Он бережно поставил пузырек с лекарством на место, задвинул ящик и положил трубку на вилку телефона, приведя в действие магнитное запирающее устройство. Силы возвращались к нему.
— Заставьте-ка Пятого поплясать, пока он не падет. Наши аналитики из Центра считают его бесценным. — Он опустился в кресло перед письменным столом. Под тонкой кожей закрытых век перекатывались большие глазные яблоки. — Пятый… — шептал он засыпая. — Пятый… Это была моя идея…
29
…Эта проблема мне все же представляется несколько сложнее. Ты пишешь, что каждый отвечает прежде всего за себя. Совершенно верно. Но у каждого из нас есть свое дело, и главное в жизни не в том, что мы что-то делаем, а в том, что мы делаем именно это дело. Ты, например, можешь совершенно открыто писать, как проходит твой рабочий день, и мне представляется очень интересным новый эксперимент, в котором ты участвуешь.
Я же не могу написать тебе о том, как проходит мой рабочий день. Строжайшая тайна! Разве это не является убедительным доказательством того, что мера ответственности объективно для каждого различна? У меня нет никакого права судить о твоей жизни и жизни мамы. Она, может, и была нелегкой, но до ужаса обыкновенной. Строить, создавать — это все очень мило, тем не менее вы никогда не отклонялись от того круга привычных обязанностей, который ограничивался семьей и работой. И вот я спрашиваю себя: а смог бы я так жить? Когда, поднявшись по тревоге, я 36 часов кряду сижу в бункере перед экраном радиолокатора, то в голову лезут всякие мысли. Я думаю о том, что девушки и все такое — вещь хорошая, но сразу из-за этого вить гнездо? Мое место у экрана радиолокатора, и меня воодушевляет сознание того, что я выполняю эту работу лучше, чем кто-либо другой. Так что поверь, ответственность ответственности рознь… Не забудь передать от меня привет маме. Поцелуй ее в носик и скажи в деликатной форме, что я уже не знаю, куда девать теплые носки…
(Из письма, полученного Йохеном Неблингом от сына.)
Эрхард Холле чувствует, что вконец измотан борьбой, которую он, сидя за своим письменным столом, ведет с грудой протоколов, отчетов и заключений. Он терзается, вчитываясь в каждый документ, в каждую страницу, в каждую строку. Он изучил все зафиксированные уголовно наказуемые нарушения соглашения о транзите через территорию ГДР: как давние случаи таких нарушений, так и недавние, происходящие почти ежедневно, чтобы установить какую-либо связь между ними и делом, которым он занимается. Слово за словом приходится прослушивать магнитофонные записи. В самой мелкой детали, в имени, в указании времени, в каком-нибудь совершенно случайном обстоятельстве может быть скрыт ключ к разгадке.
Эрхард Холле уже не знает, что хуже: шелест сухой бумаги или пыль от сухой бумаги, которая вьется над ней. С педантизмом, граничащим с самоистязанием, он изучает дела в хронологической последовательности. На некоторых документах он задерживает свое внимание. Пусто…
В тот день, когда Вернер оставляет его одного, он нарушает им самим установленный порядок работы. Что им движет — отчаяние, бешенство или интуиция? Во всяком случае, он берет из стопки дел не то, что лежит в самом низу и которое следовало бы взять, соблюдая хронологию, а то, которое только что поступило и лежит сверху.
Но и это дело, как ему кажется при первом просмотре, не содержит ничего заслуживающего внимания. На транзитной дороге номер пять на Гамбург, в нескольких километрах от Нуэна, был обнаружен покинутый «фольксваген». Автомобиль стоял в удачно выбранном месте, скрытый от посторонних взоров штабелями строительных материалов. Лишь сорок минут спустя пришла владелица машины, предъявившая западноберлинское удостоверение личности на имя лаборантки Хайдерозе Дикхаупт. Она утверждала, что оставила машину из-за неполадки в зажигании и якобы пыталась сообщить о случившемся на станцию техобслуживания из ближайшей телефонной будки. После осмотра машины прямо на месте возникло подозрение, что история с поломкой выдумана. В ходе проведенного затем более тщательного осмотра машины под ящиком с инструментами был обнаружен хитроумно устроенный тайник, в котором находился портфель с подозрительными документами, в том числе финские и австрийские паспорта, вероятно фальшивые. Хайдерозе Дикхаупт была временно задержана в целях выяснения обстоятельств дела, так как возникло подозрение, что имела место попытка совершить преступление в нарушение соответствующих статей соглашения о транзите между ГДР и ФРГ.
При обыске владелицы машины у нее был обнаружен еще и паспорт. На первый взгляд он ничем не отличался от обычного заграничного паспорта ФРГ, с помощью которого жители Западного Берлина «приобретают» второе, как правило вымышленное, местожительство. Однако в результате проведенного с помощью рентгеновских лучей исследования было установлено, что паспорт фальшивый. Данные о личности владелицы в этом подделанном западногерманском паспорте кое в чем отличались от данных в удостоверении личности. Например, в графе «место жительства» был указан город Целле, а в графе «профессия» — специалист по экспорту. Когда от Хайдерозе Дикхаупт потребовали объяснений, она заявила, что бросила медицину около года назад, так как нашла хорошую работу в области экономики. Прочие данные о личности в обоих документах вроде бы совпадали. Принимая во внимание указанные обстоятельства и опасаясь, что подозреваемая, находясь на свободе, скроется от суда и следствия или будет препятствовать установлению истины, районный прокурор дал санкцию на арест. В тот момент, когда дело попало к Эрхарду Холле, ордер на арест еще не был выписан, а следователь еще не допрашивал задержанную.
Эрхард Холле захлопывает папку. Обычное дело, ничего интересного. На сегодня хватит. В этом городишке на Хафеле, насколько ему известно, делают хороший сыр. Что же, человеку нужно есть и пить, а не только глотать архивную пыль. Уже четверть десятого? Прощай приятный вечерок у телевизора! Но дома, под стеклянным колпаком, кажется, лежит кусок выдержанного сыра. Эрхард Холле докладывает дежурному офицеру, что уходит.
Сыр хорошо идет под пиво. Эрхард Холле в данный момент соломенный вдовец. Его жена, заведующая детской библиотекой, колесит по республике, обмениваясь опытом работы в соответствии с приказом министерства культуры. Что ж, и это неплохо, только хозяину дома придется вымыть посуду и проветрить квартиру. Кстати, сыр у нею марки «Любцер гольд» из города Любца. Любц, Любц? Там делают сочный сыр, а он даже не знает точно, где находится этот Любц. А разве девица, задержанная на дороге номер пять, родом не из Любца? Нет, постойте, городишко называется как-то иначе. Так есть дома пиво? Есть, но оно выставлено на балкон, а в полдень там вовсю палит солнце! Почему некоторым вещам женщины так и не могут научиться? Выставлять пиво на балкон! И вообще, могла бы, между прочим, и домой уже поторопиться. Или хотя бы позвонить. Когда она звонила — позавчера? Она звонила из Люббена, Забавно. Сыр из Любца, а звонок из Люббена. А эта Хайдетруде с «фольксвагеном» — разве она родом не из городка со сходным названием? Надо запоминать названия городков, которые славятся своими сырами. Да, правильно, она родилась в Люббеке. А пиво еще не прокисло? Люббеке, район Минден. Каких только совпадений не бывает! Любц, Люббен, Люббеке. Нет ли какой-нибудь связи между этими названиями? А еще есть Любек. Однако на сегодня хватит. Сейчас он проветрит квартиру и бай-бай, не то у него в голове все винтики перепутаются. Любц, Люббен, Люббеке…
Эрхард Холле никак не может заснуть. Неужели из-за того, что рядом с ним холодная постель? Жена звонила позавчера из Люббена, А где она сегодня? Сейчас он применит только одному ему известный способ аутогенной тренировки, чтобы побыстрее заснуть: «Мне тепло и уютно, постель рядом со мной тоже теплая и уютная, руки у меня совсем теплые — и вот уже летит первый мяч и я ловлю его теплыми руками…»
Чтобы заснуть, Эрхард Холле считает больше черно-белые мячи, которые он, непробиваемый вратарь, ловит в воздухе один за другим. Первый, второй, третий… Первый — из Любца, второй — из Люббена, третий — из Люббеке. Почему не приходит сон? Почему он не может отделаться от этого идиотского набора слов? И вдруг он вскакивает, поняв наконец причину бессонницы. Родилась в Люббеке, район Минден. Почему же тогда в ее поддельном паспорте название этого городка написано с одним «б»? Любеке! Именно эта небольшая ошибка засела в его подсознании и не давала ему покоя. Где-то он уже видел подобную ошибку…
Дежурный офицер не очень-то приветливо встречает Холле, когда тот возвращается около двенадцати ночи. А Эрхард, который совсем недавно сбежал от кучи ненавистных дел, теперь с увлечением роется в них. Люббеке — Любеке. Отсутствующее строчное «б» должно быть где-то среди сотен тысяч букв. Предстоит долгий путь через архивные джунгли. Эрхард Холле не торопится. Он включает настольную лампу и устанавливает ее так, чтобы световой конус падал прямо на ту страницу, которую он просматривает. Концерт рок-музыки, доносящийся из установленного на небольшую громкость транзисторного приемника, помогает ему отрешиться от окружающей действительности. Дымится кофе в чашке. Пиджак и галстук висят на спинке стула. Кофе так и остается нетронутым. Голова ясная. Лишь немеют от долгого сидения руки и ноги. От усталости помогают гимнастические упражнения перед открытым окном. Он делает три гимнастических перерыва. Часы показывают восемь минут пятого, когда Холле берет трубку и будит телефонным звонком Вернера:
— Ты просил доложить, если появится что-нибудь новое.
— Но не среди ночи, человече…
— Мне необходимо было поделиться с тобой. Слушай: у нас теперь есть доказательство, что этот Гейдрих путешествовал с фальшивым паспортом. Ты помнишь, кто это?
Один из тех троих на большом «фиате». В паспорте, выданном Генриху Вагенфюреру, в графе «место рождения» стоит Любеке. Обрати внимание: Любеке с одним «б». Хотя на самом деле Люббеке пишется с двумя «б».
Вернер, не успевший окончательно проснуться, сердито бурчит:
— Тоже мне сенсация! Подобные описки случаются и в настоящих паспортах.
— Правильно. Но теперь у нас есть еще один фальшивый паспорт с такой же ошибкой. И он из той же кухни: Мампе! Во всяком случае, все говорит за это. Хотя использовались два вида чернил — это видно простым глазом, — но ошибка позволяет сделать вывод, что подделкой занимался один и тот же человек.
— И как это нам поможет?
— В данный момент никак. Но это еще одна зацепка. Извини, я должен был сказать тебе об этом первому. Лицо с другим фальшивым паспортом — женщина, которая, несомненно, работает у Мампе в качестве связной.
Холле и Вернер договариваются встретиться во второй половине дня. Назначенный по требованию Эрхарда Холле предварительный допрос Хайдерозе Дикхаупт, задержанной на дороге номер пять и подозреваемой в подрывной деятельности, тянется долго. Даже самые неожиданные вопросы, кажется, нисколько не волнуют ее. Отвечая на них, она придерживается в высшей степени хитрой тактики: не скупится на информацию, а, напротив, обрушивает на следователя поток интересных фактов, привлекая, между прочим, его внимание к какой-нибудь детали, которая на поверку оказывается несущественной. Она умело скрывает самое важное, и допрос все время крутится вокруг да около, не затрагивая сути дела. А когда ей задают вопросы, касающиеся эпизода с остановкой на дороге номер пять, она с трудом находит ответы.
Намек на то, что под именем Дикхаупт выступает совсем другое лицо, застает ее врасплох. А вопрос, не управляла ли она недавно во время своей поездки по ГДР большим «фиатом», окончательно выводит из равновесия. Совершенно очевидно, что ей, неважно откуда, известно об убийстве на автостраде, ведущей на Пренцлау, и, охваченная страхом, что ее впутают в это дело, она теряет самообладание. Трижды отказывается она давать показания, но затем перестает сопротивляться. Она заявляет, что не имеет и не желает иметь никакого отношения к смерти Шмельцера. В ее фирме подобными делами занимаются другие.
И в данном случае она может это доказать. Некий Генрих Вагенфюрер во время этой акции получил ожоги и теперь лежит на излечении в частной клинике в Шмаргендорфе. Она признает, что исполняла обязанности связной, но по западногерманским законам этот род деятельности не подсуден. И она не может отвечать за то, что в Германии имеются два различных права, и если ее, гражданку ФРГ, незаконно привлекут к ответственности по законам ГДР, то она встретит это совершенно спокойно, сознавая, что наступит время, когда с ней поступят по справедливости. На последний вопрос, не состоит ли она в родстве или не знакома ли она с вышеупомянутым Вагенфюрером, поскольку они оба выходцы из одного маленького ганноверского городка, она реагирует так, будто ей совершенно непонятно, о чем идет речь. Ей, конечно, ничего не известно о самом уязвимом месте в ее легенде — об отсутствии одного строчного «б» в названии указанного в паспорте в качестве места рождения городка, что вывело расследование сначала на нее, а затем и на Генриха Вагенфюрера. Тот, кто подделал паспорт, либо позволил себе роковую шутку, либо неосознанно повторил свой промах во второй раз. Эрхард Холле довольно потирает руки.
После полудня он встречается с Вернером в новом закрытом плавательном бассейне. Старик, к его удивлению, неотступно держится за ним на протяжении пяти дорожек. На поворотах он выныривает из воды, фыркает и сопит, как морской слон. А потом кричит Эрхарду Холле:
— У меня для тебя тоже есть кое-какие новости!
Новость содержится в западноберлинских газетах, пачку которых Вернер разложил перед ним в кабинете. Красным подчеркнуты отчеты о заседании сената. В палате депутатов Западного Берлина сделан запрос по поводу полицейских облав, масштабы и сама необходимость которых ставятся под сомнение группой депутатов. Во время проведения этих облав имели место инциденты, повлекшие за собой международные осложнения. В одном случае молодую жену аккредитованного в ГДР дипломата некой африканской страны, которая возвращалась домой после посещения Западного Берлина, полицейские остановили на Зандкругбрюкке перед контрольно-пропускным пунктом на Инвалиденштрассе, вытащили из автомобиля, подвергли продолжительному допросу и отпустили только после официального протеста. В ответ на депутатский запрос по поводу этого случая сенатор по вопросам внутренних дел, как и в других подобных случаях, заявил, что полиция имела основания подозревать контрабанду наркотиками под прикрытием дипломатического статуса.
Начав читать, Холле впивается глазами в газету.
— Ведь Виола Неблинг тоже проезжала через контрольно-пропускной пункт на Инвалиденштрассе, не так ли?
Вернер, который в это время переговорил с Йохеном Неблингом, высказывает предложение:
— Решение, разумеется, за тобой. Главное звено — Вацек из коммандитного товарищества.
30
Для Ренаты Неблинг книга, которая служит для шифрования и дешифрования, остается тайной за семью печатями. Но самое главное поддается расшифровке: она снова понимает себя и окружающий мир. Именно в молчании слышится ей зов жизни, но радиомолчание — весьма своеобразная сторона жизни.
Все вдруг снова стало хорошо, и я опять обрела себя. Все было прежним и в то же время совсем другим. Я взяла на себя книгу для шифрования и шифровальные таблицы и, хотя ничего не смыслила в содержании самой книги, в дальнейшем научилась обращаться с ней лучше Йохена. Моя работа состояла в том, чтобы располагать буквы при шифровании, не зная, какой за этим скрывается смысл. Книгой служил учебник игры в го, подпольно выпущенный одним немецким издательством, причем сначала его перевели с японского на армянский, а потом уже с армянского на немецкий. Йохен иногда пользовался им, чтобы поупражняться в игре, мне же он служил для расшифровки.
В тот вечер состоялся мой дебют. Два сеанса радиосвязи были пропущены из-за смерти отца Йохена. Мы пытались восстановить связь из нашей квартиры. Должна признаться, в нашей тайной деятельности с самого начала и позднее, когда мы к ней привыкли, все время ощущалось что-то чуждое, причем особенно тогда, когда мы оставались одни в четырех стенах.
Я накормила малыша и уложила в постель. Пока я убаюкивала его под сказку о принце, который жил в колокольчике, Йохен в соседней комнате снимал картины, чтобы на освободившиеся гвозди натянуть антенну. Я собрала ужин, но мы так и не притронулись ни к хлебу, ни к колбасе, ни к сыру, потому что рядом лежала радиостанция. Мы должны были быть готовы к тому, что может нагрянуть нежданный гость, которого придется впустить в квартиру. Правда, во время сеансов радиосвязи мы отключали звонок в передней. Мы любили смотреть на пляску огней на товарной станции, тем не менее задергивали шторы. Я снова и снова твердила себе, что смысл нашей тайной деятельности состоит в том, чтобы раскрывать тайное. Однако напряжение не покидало меня, что объяснялось только противоречием между нашей повседневной жизнью и необычной деятельностью по вечерам.
Да я ли это, надомница и домашняя хозяйка, на которую вдруг возложили секретную миссию составлять пятизначные колонки из цифр? Да, трижды да! Именно необычность нашей деятельности позволила мне снова распознать прекрасное в обыденности жизни. Йохен сидел рядом со мной, и это было главным. Если он молчал, то это было красноречивое молчание. Если смотрел на меня, ему уже не надо было скрывать светившуюся в его глазах любовь. Если он прикасался ко мне, то это не было случайностью. Какой бы необычной ни казалась мне моя новая работа, она все же помогала нам избавиться от отчужденности. Недоверие и страх, безысходность и муки ожидания канули в прошлое. Теперь если мы ждали, то ждали вместе. И что с того, что ждали мы какого-то таинственного радиосигнала и что его посылало из непонятного, чужого нам мира существо, которое я никак не могла представить себе в виде человека, а только в виде бледной тени, неосязаемой и неуловимой? Для меня вначале важно было лишь одно — что я снова стала понимать, в чем смысл жизни.
Мы с Йохеном поженились очень молодыми. До сих пор помню, как мы веселились и дурачились по дороге в загс. Моя любовь казалась мне безграничной и совершенной, и я считала ужасной нелепостью, что какой-то работник загса должен удостоверять и скреплять ее печатями, произнося при этом напутственные слова. Вся процедура представлялась мне сплошным фарсом. Слово «да» слетело с моих губ легко, словно шутка. Для нас обоих это была первая любовь, и мы уже так много знали друг о друге, что были уверены: она останется для нас единственной. Так какое отношение к этому имели посторонние люди, перед которыми нам пришлось клясться в нашей любви?
Потом наступил момент, когда от меня во второй раз потребовали сказать «да», причем, казалось бы, в ситуации, которая к любви не имела никакого отношения, но я-то понимала, насколько это серьезно, понимала, что обязана сказать «да» ради нашей семьи.
Это случилось в тот день, когда мы хоронили отца Йохена и когда нам стало ясно, что мы дошли до предела. Никогда не забуду, как Йохен подвел меня к человеку, который неожиданно появился из-за могил и все смотрел и смотрел на меня. Он как будто спрашивал меня о чем-то, но это я узнала только тогда, когда мы возвращались домой в его машине. Вопрос заключался в том, готова ли я разделить с Йохеном те тяготы и опасности, которые ему выпали. Ответ мне дался легко. Однако легкость эта не имела ничего общего с легкомыслием. Если ты одинок, тебя пугает даже малейшее дуновение ветерка. Но если рядом с тобой любимый, тебе даже бури не страшны. Во всяком случае, я человек именно такого склада. Испытания всегда внушали мне страх. А вопрос, который задал мне Вернер, когда мы втроем возвращались домой, был немалым испытанием. Однако страх у меня вдруг куда-то пропал и я почувствовала, что становлюсь сильнее. Для меня вопрос сводился к тому, способна ли я разделить с Йохеном его тайну и помочь ему хранить ее. Разве я могла колебаться? Ведь положительный ответ избавлял меня от несчастья.
В книге для шифрования имелось любопытное место, которое настраивало меня на размышления, хотя я ничего не понимала в самой игре: «Фишка, которая полностью лишена свободы и снимается с доски, подобна задушенному петлей. Оживить погибшую фишку невозможно. Фишка же, которая окружена противником и лишена возможности спастись бегством, но временно сохраняет некоторую свободу и остается на доске, подобна пленнику. Даже если в настоящий момент у нее нет шансов на побег, в будущем при правильном ведении борьбы она может вырваться из окружения с помощью свободных друзей. Последний случай можно охарактеризовать как «техническую» смерть в отличие от «чистой» смерти».
Значит, меня постигла только «техническая» смерть, но я сохраняла некоторую свободу. А остававшиеся на свободе друзья помогли мне спастись. В этом абзаце ключевыми словами были «ведение борьбы».
Я очнулась от размышлений и приготовила шифровальные таблицы. Пора бы им выйти в эфир. Йохен думал о своем и, казалось, прислушивался даже глазами к писку в наушниках, сидя перед радиостанцией, хранившейся в небольшом чемоданчике с откинутой сейчас крышкой. Однако во взгляде его сквозило беспокойство. Он посмотрел на часы. Вокруг стояла тишина. Затем мы услышали, как кто-то начал постукивать по входной двери, постукивать осторожно, но настойчиво. Я сидела оцепенев. Йохен выключил даже небольшую лампу над моим рабочим местом. Воцарилась тишина и мрак.
Когда я вот так сидела рядом с Йохеном в тишине и темноте, затаив дыхание, чтобы не мешать ему вслушиваться в эфир, пока он не поймает позывные, меня все время не покидало чувство, что какой-то неизвестный зверь притаился в нашей квартире, какое-то чудовище, которое мы не видим, а только слышим. Теперь же ситуация была еще ужаснее. Зверь был здесь, я это знала, но его не было слышно.
— Почему он молчит? — прошептал Йохен.
«Разве он не знал, что ОН всегда рядом?» — подумала я, но не дала волю своей фантазии, а лишь тихо сказала:
— Эта тишина… такая зловещая…
Йохен повернулся ко мне, и даже в темноте я почувствовала, что он пристально смотрит на меня:
— Тишина… Да, конечно… Я идиот! Радиомолчание… После того как я не вышел на связь, он отдал распоряжение. — Он забарабанил по столу, подобно тому, как работают на ключе, передавая буквы из азбуки Морзе. — Разве он не так только что выстукивал по двери? Да, конечно, это «Маврикий».
Я была почти уверена, что по двери выстукивали не так, хотя и похоже, но ничего не сказала. Его нервы были напряжены до предела. Предполагал ли он, что неизвестный визитер был связным? И что означало слово «Маврикий»?
Йохен вел себя как наэлектризованный. Вскочил, включил свет и прямо-таки заорал на меня:
— Сложи все и убери! Нет никакого смысла ждать. «Маврикий»! Радиомолчание! Какой же я идиот!
Он не мог успокоиться, а я не понимала, что все это значит. Он начал что-то искать, какую-то записку, выдвигал рывком ящики столов, сваливал в кучу книги, рылся в своих учебниках и спрашивал меня, не трогала ли я его вещи н не перепутала ли что-нибудь.
Наконец он успокоился:
— Нет, я ничего не записывал. Это было слишком важно. Я хотел держать это в голове. Кладбище в Вайсензее… Покойник родом из Лемберга… Но где? Начисто забыл… — Он почти с отчаянием посмотрел на меня: — Забыл! Начисто забыл! Все пропало! Может, все это нам не под силу, Рената?
Я ничего не ответила. Существовал неписаный закон: я не должна была расспрашивать его о вещах, в которые он меня не посвящал, и это вошло у меня в привычку. Я занялась малышом, который, проснувшись от всей этой суматохи, стоял в дверях и хныкал. Когда я вернулась из спальни, Йохен потребовал, чтобы я посмотрела в календаре, когда будет полнолуние. Я раздвинула шторы. Над паровозным депо висела круглая луна, как закоптелый цветной фонарик над просвирником за нашим домом.
— Проклятие! — выругался он. — Воскресенье после полнолуния — это уже послезавтра.
Он накинул на себя пальто и ушел. А я осталась одна в полном неведении. Я сняла со стены антенну, убрала ее вместе с радиостанцией в бельевой шкаф и включила звонок в передней. Все было загадочно, и я ничего не понимала. Но в этом загадочном уже не таилось ничего коварного, а в его уходе ничего такого, что беспокоило бы меня. Засыпая, я притянула малыша поближе к себе.
31
Для информации
В ответ на ваш запрос направляем предварительный отчет о завершении операции «Шаденфойер». Уже высказанная устно гипотеза, в основных чертах подкрепленная поступающей из Берлина (Западного) информацией, подтверждается изложенным в докладе. Факты представляются убедительными: они говорят за то, что погибший является пропавшим в Берлине (Западном) подрядчиком фирмы «Мампе КГ». Поэтому дело можно считать закрытым. И если этот доклад квалифицируется как предварительный документ, то, по мнению руководящей группы, лишь потому, что имеется обоснованное предположение, что речь идет об убийстве одного лица вместо другого. По делу профессора Шт./Б. неотложно требуется… (конец страницы)
Руководитель операции «Шаденфойер».
Первые два дня Виола Неблинг упивается атмосферой покоя. В квартире тихо, и все здесь на своих местах. Каждая вещь: даже сверкающий хромированной сталью гриль в кухне или только что установленный, чтобы развлечь ее, цветной телевизор — кажется, имеет свое, отведенное ей с незапамятных времен место. А теперь к числу этих вещей принадлежит и она, Виола. Все волнения остались позади. Она чувствует себя как улитка в раковине, где можно передохнуть и набраться сил. Она много спит, но к еде, которую Эгон ставит перед пей на стол, едва притрагивается. Кстати, Дэвид прав: Эгон передвигается среди своих четырех стен ненавязчиво и незаметно, как старый пес, ожидающий приказаний хозяйки.
В первый вечер они дремлют перед экраном телевизора до окончания передачи. Время от времени Виола занимается собой и делает это с удовольствием, не смущаясь присутствием Эгона, считая его, вероятно, слепым. Оказывается, Эгон умеет делать педикюр. Лишь когда Виола кладет ногу ему на колени и его меланхоличный взор путешествует снизу доверху по ее длиной стройной ноге, до нее доходит, что этого старика можно отнести куда угодно, но только не в разряд деревянных табуреток из кухонного гарнитура. Однако, когда на следующий день они сидят в сумерках просто так, ничего не делая, тишина становится невыносимой. Не только в квартире, но и во всем доме ни звука. Ни днем ни ночью не слышно никаких посторонних шумов — ни шагов на лестнице, ни шагов в квартире над ними, ни проникающего через стены покашливания, ни звуков радио. Все словно вымерли. Лишь ветер колышет изредка криво висящие жалюзи. Когда она спрашивает об этом Эгона, тот, словно извиняясь, пожимает массивными плечами: они одни, дом предназначен на слом, он — последний оставшийся в нем квартиросъемщик.
Третий день начинается не так, как два прошедших. Виола просыпается рано, охваченная непривычным беспокойством. Эгон гремит в кухне и в коридоре. Ясно, что он ждет, когда она проснется, не желая ее будить. Оказывается, он хочет принарядиться, поэтому ему нужен платяной шкаф, который стоит рядом с ее кроватью. В то время как она идет под душ, он тщательно отбирает все, что ему необходимо для прогулки: кальсоны, длинные, до колен, шелковые носки, белоснежную рубашку с янтарными запонками, пепельного цвета галстук в фиолетовую полоску, свой лучший костюм — вышедший из моды просторный однобортный блейзер и, наконец, сверкающие лаком, как новенькие, высокие ботинки со шнурками, которые помогают ему от плоскостопия. В довершение он достает нарядное летнее темное пальто и нелюбимую твердую шляпу, которая, однако, является необходимой принадлежностью туалета.
Виола смеется, увидев его на кухне в таком наряде:
— Бог мой, дядя Эгон! Вы выглядите так торжественно. Идете на похороны?
Он молча выключает кофеварку и ставит перед ней дымящийся кофейник:
— Вот что, фрейлейн, я сейчас ухожу, а вы помните: ни шагу из дома!
— А вы, дядя Эгон, уходите без завтрака?
— Извините, что оставляю вас одну. Дела. А когда я занимаюсь делами, мне всегда давит на желудок.
— Мне будет не хватать вас.
— Очень приятно слышать. Ну а теперь мне пора. Ни о чем не беспокойтесь. Вы здесь в безопасности, если будете делать все, как велел доктор. Ни шагу из дома! И не подходите к окну! Обещаете?
Виола обещает. Он торжественно надевает шляпу и уходит. Через щель в жалюзи она видит, как он идет по пустынной улице, тяжело ступая своими страдающими плоскостопием ногами, и исчезает за углом.
«Бог мой, — спохватывается она, — я ведь уже нарушила первый запрет!» И она быстро отходит от окна.
Виола пьет много кофе, но ест мало. До полудня занимается гимнастикой перед телевизором и полирует ногти. Затем ею овладевает скука — впервые с тех пор, как она здесь поселилась. Она листает фотокопии рукописей, которые ей изготовили в государственной библиотеке в Восточном Берлине, и делает несколько беглых заметок о влиянии культа солнца на формы мышления народов в древности. Рисунок тушью, на котором изображена сцена суда, поражает ее воображение. Поза грешника в одежде самурая, стоящего перед судьей на коленях, странным образом напоминает ей Дэвида. Она начинает писать ему сумбурное письмо, однако, написав всего несколько строк, рвет его. Почему он оставил ее одну? Ее так и подмывает добраться до магнитофонных пленок и «дипломата», которые Эгон спрятал в погребе. Но, как в сказке, ее охватывает страх перед запретной дверью. Неужели правда, что некоторые тайны становятся страшными только после того, как они раскрыты? Куда запропастился Эгон? Он же обещал вернуться к вечеру. А вечер уже наступил. Она рассматривает старую фотографию на стене, на которой Эгон сидит вместе с ее матерью в пивной на софе, стоящей теперь в кухне. Как Дэвид напал на этого чудаковатого старика? Какое отношение имеет к этому ее мать?
Вероятно, на нервной почве Виола вдруг чувствует такой приступ голода, что все ее бесплодные мысли вылетают из головы. У нее прямо-таки волчий аппетит на что-нибудь необыкновенное, а именно на яичницу-болтунью с горой жареного лука, приготовленную на плите с дровяным отоплением. Она вспоминает о матери, как о фее, которая исчезла из ее детства, не спросив об ее желаниях. Но когда она была рядом с Виолой, то на ужин они всегда ели яичницу-болтунью с луком: сковорода стояла на плите, и все вокруг было наполнено приятным запахом горящих дров. От дров ей придется отказаться и удовлетвориться грилем. В холодильнике она находит яйца и грудинку. Но лука нигде нет. Лук становится для нее навязчивой идеей. Сейчас ей хочется одного — яичницу-болтунью и много-много жареного лука…
Прежде чем выйти из дома, она внимательно осматривается. Мимо громыхает мусорная машина и сворачивает в конце улицы, где по-прежнему горит одинокий газовый фонарь. А перед домом, среди дождевых луж, две маленькие девочки играют с обручем. Больше на улице никого не видно.
Виола долго плутает, много раз сворачивая куда-то, прежде чем находит лавчонку, в которой продается лук. Возвращаясь, она почему-то оказывается на незнакомой улице. И следующую улицу она не узнает. Тогда она ускоряет шаг, чтобы найти лавчонку и спросить дорогу, но тщетно. Она заговаривает с какой-то старушкой, однако вдруг вспоминает, что не знает, о чем спрашивать: она ведь не знает названия улицы, на которой живет Эгон. Ее охватывает паника. Куда деваться, если она не найдет обратной дороги? А стальной «дипломат» и магнитофон, спрятанные на лестнице в погребе? У нее пропадает аппетит, и она сует пакетик с луком старушке. Дальше она идет наугад, выходит к оживленному торговому кварталу, где уже загораются огни реклам, снова возвращается, идет по улицам, застроенным кирпичными особняками, скрытыми разросшимися, запущенными палисадниками, и, наконец, оказывается на бульваре, где в изнеможении падает на скамейку. Не представляя, что же теперь будет, Виола вытягивает ноги и закрывает глаза — ночевать ведь здесь ей нельзя.
Когда она открывает глаза, то вдруг видит, что по бульвару идут те маленькие девочки, которые играли на улице перед домом Эгона. Подталкивая обруч, они направляются прямо к ней. Оказывается, ей надо было пройти всего сотню шагов. Девочки смеются: взрослая тетя, а заблудилась! Виола тоже смеется, и к ней возвращается аппетит. Теперь она злится на себя за то, что отдала пакетик с луком старушке. Играя с обручем, они направляются к дому Эгона. Вот уже и старый фонарь виден…
Неожиданно в их поле зрения появляется большой, устаревший модели автомобиль с выпуклыми крыльями и блестящими хромированными деталями на фоне поблекшего темно-синего лака — несомненно, такси Эгона. И Виоле кажется, что это Эгон приехал за ней, чтобы отвезти к Дэвиду. Но, присмотревшись получше, она замечает в машине трех мужчин в широкополых шляпах. Жесткой шляпы Эгона там нет. Она останавливается и отдает обруч, который только что держала в руках, девочкам. Автомобиль сбавляет скорость и тормозит. Водитель остается сидеть за рулем, а двое других входят в дом, держа руки в карманах. Что все это значит? Как тогда, в последний вечер в отеле, ей кажется, что ее кто-то хочет схватить, и она спрашивает себя, уж не эти ли руки, которые мужчины прячут в карманах пальто. Она застывает на месте. Чтобы не выдать своего присутствия, старается не дышать. Ее страх передается детям, стоящим возле нее. Старшая девочка вдруг срывается с места и убегает, а младшая тянет Виолу в подворотню, где уже совсем темно.
— Эти мужчины пришли к вам? — шепотом спрашивает девочка.
Виола не отвечает.
— Вы можете остаться здесь со мной, — говорит девочка, не выпуская ее руки. У нее короткие светлые волосы, и, должно быть, поэтому ее глаза кажутся такими серьезными и смышлеными. — Возвращается только один, — шепчет она.
И Виола видит, что в медленно отъезжающем автомобиле сидят только двое.
— А теперь ступай! — говорит она девочке. — Уже темно, тебе нора домой, а то мама начнет беспокоиться.
Девочка не выпускает ее руки из своей:
— Вы боитесь, потому… потому что вы негритянка?
— Да нет же, нет! А теперь ступай! Все в порядке. — Виола гладит короткие светлые волосы девочки и легонько подталкивает ее из подворотни.
— Я не оставлю вас одну!
— Ну хорошо, тогда будем вместе ждать и наблюдать. Мы будем играть в такую игру, будто нас никто не должен видеть.
И они вдвоем наблюдают за домом напротив. За жалюзи, прикрывающими окна квартиры Эгона, никакого движения не заметно. Только однажды Виоле кажется, что в щелях жалюзи мелькает свет, будто кто-то включает карманный фонарик. Но, быть может, это только игра ее воображения? Улица по-прежнему пустынна. Большинство домов вокруг смотрятся нежилыми, словно и они предназначены на слом. Газовый фонарь в конце улицы шипит, как будто из него выходит газ, и когда порывы ветра раскачивают его, то лучи света облизывают фасад дома.
— Может, это взломщики? — говорит девочка. — Тогда надо позвать полицию.
— Глупости! — возражает Виола. — Просто это гость, которого я не знаю. Зачем же сразу бежать за полицией?
— Так вы там живете? А я вас ни разу не видела. Мне кажется, вы все-таки боитесь.
— Я ничего не боюсь, и тебе тоже нечего бояться. Я пойду к себе.
Виола высвобождает свою руку из руки девочки. Затем быстро бежит назад до угла, пересекает улицу и, используя непросматриваемое пространство, крадется к дому Эгона. Она действует чисто интуитивно. Прежде всего ей нужно заполучить «дипломат» Дэвида и магнитофонные пленки. Ей известно, где они находятся, а тем другим — нет, к тому же они не знают, что в квартире есть погреб. Медленно и бесшумно, как дикая кошка, скользит она по мощеной дорожке, ведущей мимо глухой боковой стены дома во двор. Там сплошная темень. Виола нащупывает дверную ручку — должно быть, в квартиру Эгона. Затем она находит вторую дверь, которая предположительно ведет в погреб. Но увы, на двери висит тяжелый замок. Виола неторопливо продвигается дальше, к карнизу следующего окна. Кухонное окно? Она пригибается. Под ногами что-то хрустит. Она ощупывает землю и чувствует под руками зернистую пачкающуюся массу — должно быть, угольную крошку. Виола сидит на корточках, ее сердце готово выскочить из груди от страха, так как за окном, прямо над ней, слышны шаги. Она чувствует запах плесени, который поднимается из отдушины погреба. В стене — четырехугольное отверстие, от которого вниз идет желоб. Ощупывая его, она задевает рукой застрявшие крошки угля, которые с шорохом скатываются вниз. Отдушина в погребе достаточно широкая, и она туда наверняка протиснется, но она боится наделать шума. Неужели все ее усилия и риск были напрасны? Вернуться к маленькой девочке, которая, вероятно, все еще ждет ее? А что потом?
В этот момент воздух буквально сотрясается от нарастающего рева и свиста: тяжелый реактивный самолет, снижаясь, на малых оборотах заходит на посадку на военный аэродром Темпельхоф. Теперь хоть стреляй — все равно никто не услышит. Не раздумывая, Виола бросается головой вперед во мрак погреба, скользит по угольной крошке и плавно приземляется. Угольная пыль лезет в нос, и она с трудом подавляет желание чихнуть. На четвереньках, чтобы равномерно распределить вес тела, она осторожно продвигается вперед, убирая со своего пути какую-то рухлядь. Она пытается по памяти восстановить план квартиры: кухня, длинный коридор, комната с погребом. Итак, вперед!
Вдруг тишину нарушает шорох, и при мысли, что по ее руке может пробежать крыса, Виола едва не падает в обморок. Она встает. Главное теперь — спокойствие! На ее пути возникает какое-то препятствие. Она ощупывает его и соображает, что это деревянные перила лестницы. В полном изнеможении Виола опускается на нижнюю ступеньку, чтобы успокоилось сердце, удары которого отдаются в ушах. Она решает не торопиться. Находясь так близко от цели, нельзя допустить ни одного неверного движения. В этой тишине надо быть предельно осторожной. Только пара досок отделяет ее от человека, который не знает о ней. Виола дышит медленно, глубоко и бесшумно, стараясь превратиться в ничто и исчезнуть, и ей кажется, будто она в шапке-невидимке. Сверху до нее доносятся покашливание и мужские голоса. Она снова начеку. В квартире Эгона разместилась целая банда? Потом она различает музыкальные мелодии, звуки гитары — человек наверху, видно, включил телевизор, чтобы убить время. Очень хорошо — скука притупляет внимание! Она может и подождать. Виола решает не двигаться с места, пока не двигается он. Ведь захочется ему пойти в туалет, поесть или просто выглянуть в окно. Вот такой момент она и должна подкараулить. Впрочем, здесь вполне сносно, если бы только не крысы. Она кладет голову на колени. Она знает, что там, наверху, кто-то есть, а он не знает, что она здесь, внизу. Все, оказывается, очень просто.
Над ней скрипят половицы. Может, удобный момент наступил? Но вот все опять затихает — должно быть, человек наверху перевернулся на кушетке на другой бок. Ничего, голубчик, даже самый хороший телефильм когда-нибудь кончается! Передают последние известия, телепередачи подходят к концу. Она еще раз подавляет в себе желание добраться до верхней ступеньки, где лежат «дипломат» и магнитофон, и впадает в своего рода полузабытье: ей наймется, что она летает по воздуху.
Затем звук внезапно обрывается — вероятно, человек выключил телевизор. И теперь она слышит его голос. С кем это он разговаривает? Потом Виола слышит удаляющийся шум мотора. Может, они связались с ним, когда проезжали мимо, и он ответил им по радиотелефону? Или они что-то заподозрили? Человек наверху не подает никаких признаков жизни. Заснул он, что ли, или, наоборот, притаился и ждет? Она опять слышит его голос. Затем он встает, и его шаги удаляются в сторону длинного коридора. Ощупывая ступеньку за ступенькой — а всего их восемь, — она добирается до самого верха лестницы. «Дипломат» и магнитофон на месте. Только сейчас до нее доходит, что ей предстоит проделать обратно тот же путь, которым она в темноте пробралась сюда. Но теперь уже легче. Глаза приспособились к темноте, в которой хорошо различимо светлое пятно — четырехугольная лазейка. А сверху доносится громкий топот. Может, они уже не надеются, что она попадет им в руки? Потеряли терпение? Но если они начнут обыскивать квартиру, то рано или поздно наткнутся на вход в погреб. Нельзя терять ни минуты.
Она карабкается по желобу и по грудь высовывается наружу. Идет дождь. Она чувствует на лице его освежающую прохладу. Встав на ноги, она видит, что непрошеные визитеры включили свет в кухне. Виола не выходит прямо на улицу, а пробирается темным двором мимо сарая и находит проход на соседний участок. Лает какая-то собака. Но что такое собака по сравнению с крысами! Еще несколько шагов, и Виола уже на перекрестке. Мелькает мысль о белокурой девочке, которая, возможно, все еще ждет ее. Потом она прячет под пончо «дипломат» и магнитофон и решительно отправляется в путь. Куда — этого она не знает.
32
При виде нескончаемых рядов могил Йохену Неблингу приходят на ум строки любимого поэта. Почему мертвым нет дела до тайников? Ими пользуются живые. И одного из них, которого здесь ждут, можно узнать по лейке в руке.
Пристрастие доктора Баума к пикантным подробностям было тем обстоятельством, которое делало работу с ним сколь увлекательной, столь и трудной. Сначала я ринулся на поиски тайника между нескончаемых рядов могил еврейского кладбища за Лихтенбергерштрассе. Изрядно поколесив по кладбищенскому лабиринту, я вернулся к аллеям, обрамленным горделиво возвышавшимися деревьями. Воздух здесь был наполнен жужжанием пчел. Я задержался в тени мраморного семейного склепа, пережидая, пока по усыпанной хрустящим гравием дорожке пройдет погребальное шествие, а затем возобновил поиски среди сплетений плюща и самшита. Могильным камням с выбитыми на них именами не было конца, и казалось, что все мои поиски приведут лишь к тому, что я сам затеряюсь среди этих камней. Мне вспомнились строки Тухольского, в которых говорилось о кладбище в Вайсензее. Но я пришел сюда не ради того, чтобы предаваться скорби, и мне было не до его ироничной меланхолии. Время моего погребения действительно еще не наступило. Я искал чужую могилу. Покидая кладбище, я дошел до ворот и еще раз оглянулся на главную аллею, в отчаянии спрашивая себя, почему мертвым нет дела до тайников.
Вернер ждал меня в стареньком «хорьхе», с которым он никак не мог расстаться. Он сидел, положив подбородок на баранку, и вопросительно смотрел на меня. Когда я отрицательно покачал головой, он завел мотор и, разъярившись из-за моей забывчивости, рванул так, что шины завизжали. Таким способом он, вероятно, хотел помочь товарищу преодолеть трудности. Ведь утешить меня ему было нечем.
В небольшой пивной, где неторопливо завтракали угольщики, я, предварительно заказав двойную порцию водки и маленький бокал пива, пытался разобраться в своей жизни. Я не строил никаких иллюзий относительно тех злых шуток, которые уготовила мне судьба, и, осушив рюмку водки, сказал себе, что не отношусь к числу законченных идиотов, не признающих, что бывают моменты, когда уже ничего нельзя сделать. Во мне что-то сломалось, а тот, с кем это случается, уже не может заниматься делом, в котором ошибки недопустимы. Поэтому я не стал заказывать себе еще водки, когда хозяйка унесла пустую рюмку.
Перед угольщиками она снова поставила миску с котлетами и огурцами. Пиво они пили из пол-литровых кружек. Их чумазые лица светились радостью. Они хвастались друг перед другом, что уже свалили в погреба кучу угля, то есть выполнили самую трудную работу, а с дневным грузом справятся одним мизинцем. Я испытывал жгучую зависть, слушая, как они, сознавая свою силу и нужность, говорили о выполненной работе, за которую получат двойную плату, поскольку сегодня выходной. Они заказали всем еще пива, в том числе и мне. Потом я угостил их. Мы перешли на «ты», и, потягивая пиво, я размышлял о том, какой простой может быть жизнь, если человек решится зарабатывать на хлеб трудом угольщика. Они ощупывали мои плечи и потешались над моей худобой. Потом показали мне свои новые кожаные фартуки, ругаясь, что те здорово натирают кожу, особенно когда вспотеешь. Это был своего рода сигнал, что им пора. Водитель автофургона, который все время просидел с недовольным видом за стаканом жиденького лимонада, энергично постучал по столу костяшками пальцев: им, мол, еще нужно на Фалькенбергерштрассе, а это чертов маршрут — к новым домам никак не подъедешь. Когда он произнес: «Фалькенбергерштрассе», я отреагировал на него как на пароль.
— Там, должно быть, все перекопали, — сказал шофер. — Пошли, мужики. Придется попотеть. Но мы заедем сзади и повалим забор.
— Но не забор же вокруг старого кладбища! — воскликнул один из угольщиков.
— Да нет, конечно нет, — успокоил его водитель. — Впрочем, кладбище такое древнее, что до забора никому нет дела.
Когда они расплачивались, моим первым порывом было вскочить и ехать вместе с ними на Фалькенбергерштрассе: ведь уроженец Лемберга покоился на кладбище на Фалькенбергерштрассе! Как-то сразу припомнилось и начало описания тайника… Мне следовало бы помнить о пристрастии доктора Баума к экзотике. Решение оказалось совсем простым: тайник был оборудован на кладбище еврейской общины, являвшемся мемориалом жертвам нацизма, куда, как в любые другие общественные места, можно было приходить, не вызывая ни у кого подозрений.
Я заказал еще одну рюмку водки, ибо теперь-то стоило выпить. Была суббота. До решающего воскресенья оставался целый день — вполне достаточно для того, чтобы разыскать тайник, прежде чем к нему придет связной. Я ликовал и чувствовал себя триумфатором, представляя лицо Вернера, когда он услышит об этом. У стойки я заплатил вперед за пиво для каждого угольщика: пусть выпьют за мое здоровье, когда снова придут сюда завтракать. Хозяйка с подозрением посмотрела на меня и спросила, всегда ли я так легкомысленно обращаюсь с деньгами. Я рассмеялся и ответил: всегда, когда до меня наконец что-то доходит.
Кладбище на Фалькенбергерштрассе, зажатое между двумя только что отстроенными кварталами и развалившимся шамотным заводом, можно было окинуть одним взглядом: оно представляло собой квадрат сто на сто шагов. Когда я перед вечером осматривал его, угольщиков уже не было. На песке лишь отпечатались следы их автофургона.
Изъеденная ржавчиной эмалированная табличка на развалившихся воротах главного входа гласила, что кладбище принадлежало ветхозаветной секте, которая некогда отделилась в Галиции от главной ветви братьев по иудейской вере. Повсюду на кладбище были видны следы запустения. Природа отвоевывала у людей могилы и дорожки. Буйно разрослись жимолость и дикий хмель. Стеной стояли молодые клены. Обелиски на могилах, на которых были выбиты таинственные древнееврейские письмена, обомшелые и полустертые под воздействием сырости, теснились в этой обители вечности, будто стремясь к последнему единению. Не стало ухоженных могил, которые некогда, должно быть, служили утешением маленькой общине. Не осталось никого, кто, чтя память предков, мог бы ухаживать за могилами. Варвары навсегда пресекли преемственность поколений этой маленькой религиозной общины.
Я продирался сквозь заросли от одной могилы к другой, читал звучные, исполненные глубокого смысла немецкие имена, которые некогда способствовали процветанию старого Берлина, и испытывал стыд от того, что рыскаю по их последнему прибежищу со столь деловой целью. «Родился в Тернополе», «родился в Ченстохове», «родился в Кошмине», «родился в Лиссе», «родился в Кишиневе», «родился в Кротошине» и, наконец, «родился в Лемберге». Я обследовал пазы цоколя могильной плиты — пусто. Потом на кладбище забрела группа детей из новых кварталов и завладела новым местом для игр. Я спрятался за изгородью из бузины. Вечером поднялся ветер и полил дождь. Я сдался. Весь в глине и в репьях, я отыскал телефонную будку и позвонил Вернеру. От моего ликования не осталось и следа. Вернер еще раз попросил меня теперь, когда я знаю ключевое слово «Фалькенбергерштрассе», вспомнить ряд и участок. Я признался в своем бессилии. Он пробурчал что-то о моем слабоумии и экспромтом разработал операцию, которая представлялась единственным выходом из создавшегося положения. Коль я не нашел тайник, так пусть нас приведет к нему связной.
Операция началась в воскресенье, рано утром. Отключили главный электрокабель. По первым же звонкам жильцов на кладбище прибыла ремонтная бригада. Рабочие места были рассредоточены вокруг кладбища и служили наблюдательными пунктами. Еще не рассвело, когда вскрыли кабельный колодец и приступили к поискам мнимого повреждения. Центр управления находился в ремонтном фургоне, где за радиотелефоном сидел Вернер, который заодно кипятил на чугунной печурке воду для чая. На рассвете я предпринял последнюю попытку и соскреб налет с надгробных камней могил всех уроженцев Лемберга. После дождя, который шел всю ночь, на кладбище пахло плесенью и гнилью. На обратной стороне одного камня было выбито библейское изречение, переведенное с древнееврейского на немецкий: «Бог грозный, бог единственный, покарай меня за грехи мои». Я не смыкал глаз вот уже сорок часов и сильно продрог. Сотрудник Вернера в одежде монтера, охранявший фургон, пустил меня внутрь. Я развесил промокшее тряпье у печки, в которой, потрескивая, горели дрова. Вернер шумно прихлебывал чай из блюдца и даже не удостоил меня взглядом. И только по прошествии некоторого времени пробурчал:
— Я задаю себе вопрос: для чего американец занимался с тобой тренировкой памяти? — И после более продолжительной паузы: — Ряд и номер могилы — два простых числа. Это все равно что забыть свой возраст и номер дома. Непостижимо!
Он был явно не в духе.
Я ответил:
— Может, вообще никто не придет. Может, Баум не имеет никакого отношения к прекращению радиосвязи, а просто-напросто они исключили меня из игры.
Он все же протянул мне чашку с горячим чаем:
— Думаешь, тебя раскрыли? Мало вероятно.
Мы снова замолчали. Только было слышно, как он прихлебывает чай, как потрескивают горящие поленья да поскрипывают изредка нагревшиеся деревянные стенки ремонтного фургона. Нам не оставалось ничего другого, как ждать, когда развернутся события. Вернер хотел дать мне понять, что после моего срыва не верит в успех операции. Он возился с чайником и подкладывал поленья в печурку — в общем, вел себя подчеркнуто равнодушно, хотя на самом деле, проведя бессонную, утомительную ночь, весь дрожал от внутреннего напряжения. Успех экспромтом задуманной операции был нашим единственным шансом в этой крайне неустойчивой ситуации, когда самым важным было не допустить, чтобы оборвалась связь с доктором Баумом.
Вернера снова охватил приступ ярости. Он пророкотал басом:
— Я бы разорвал тебя на куски! — а затем, сгорая от нетерпения, подошел к окну и поглядел в щелку между занавесками. Не оборачиваясь, он сказал скорее самому себе: — Чего хочет этот доктор Баум? Чего ему нужно от тебя? Для чего он придумал этот личный канал связи? Чтобы успокоить свою чувствительную совесть? Или это ловушка?
Я ответил не раздумывая:
— Ловушка? Доктор Баум и ловушка мне? Исключено!
— Почему ты так уверен?
— Он порядочный человек, а не свинья.
— Он твой враг, а особенно опасны те враги, которых не воспринимаешь как свиней.
— Свиньи, которые ходят в друзьях, не менее опасны.
Он рассмеялся, и мы снова вроде бы помирились. Свинья в качестве друга — в этом было что-то неестественное.
Время близилось к полудню. Вторая смена наблюдателей незаметно заняла свои места в районе кабельных траншей. И тут при полном параде к нам пожаловал вахмистр народной полиции и потребовал бригадира. Он заявил, что пришел с ночного дежурства и лег спать, а когда проснулся — на тебе, сиди без света. Ничего себе воскресный сюрприз! Вернер побледнел. Он заверил вахмистра, что авария будет ликвидирована с минуты на минуту, хотя дожди затрудняют ремонтные работы, и что был бы очень признателен, если бы ему не мешали выполнять свои обязанности. Вахмистр повысил голос: мол, он говорит от имени трудящихся, которые заслужили свой воскресный отдых. Перепалка принимала острый характер. Уже успевший располнеть вахмистр все больше входил в роль народного трибуна: интересы общественности требуют, чтобы он это так не оставил. Вернер возразил, что тот не уполномочен говорить от имени общественности, тем более что находится не при исполнении служебных обязанностей. Тем не менее он не склонен драматизировать события и готов принять вахмистра как гостя при условии, что тот замолчит. Движимый благими намерениями полицейский перешел на самые высокие ноты и заявил: все, что касается поддержания порядка в жизни граждан, следует рассматривать с политической точки зрения, после чего, громко выражая свой протест, он собрался было покинуть фургон. Вернер прошипел, что, мол, я во всем виноват, а затем, загородив своим коренастым телом узкую дверь, сказал:
— Садитесь, пожалуйста, и сидите здесь хоть все воскресенье, а я прошу тишины на командном пункте. — И он сунул вахмистру под нос свое служебное удостоверение.
В этот момент кто-то открыл дверь рывком снаружи и Вернер едва не свалился с деревянной лестницы. Внизу стоял один из наших «ремонтников».
— Он здесь! — взволнованно прокричал юноша.
Я вскочил. Вернер же, с трудом подавив волнение и понизив голос, сказал:
— Влезай, парень, сюда.
Тот прикрыл за собой дверь и вытянулся по стойке «смирно»:
— Согласно приказу наблюдение прекращено. Докладываю: он здесь, средний рост, средний возраст, неприметная внешность.
Вернер по радиотелефону отдал необходимые распоряжения. Вахмистр присел на стул возле печки, глаза у него стали совсем круглыми от изумления, и он беспрестанно потирал щетинистый подбородок, так как после ночного дежурства не успел побриться.
Вернер спросил молодого человека:
— По каким признакам вы его засекли?
— По граблям и лейке, которые он прихватил с собой для маскировки.
— И что же?
Юноша еще больше посерьезнел и тихо сказал:
— Здесь все могилы очень старые. Сюда никто не ходит и за могилами не ухаживает. Так что грабли и лейка здесь просто ни к чему. — И после паузы добавил: — Да из родственников, должно быть, уже никого нет в живых.
Один из наблюдателей доложил по радиотелефону:
— Все выяснили: от главной аллеи предпоследний участок слева, шестой ряд, одиннадцатая могила.
Я взволнованно вскрикнул:
— Покойник был родом из Лемберга?
Вернер повторил мой вопрос по радиотелефону.
— Да. Хаим Мысловицер из Лемберга. Родился в 1851 году.
Я не мог больше сдерживаться: г
— Тогда пошли.
Вернер схватил меня за руку:
— Ты хочешь его вспугнуть?
Затем он дал указания молодому сотруднику, который продолжал стоять по стойке «смирно»:
— Нам надо знать о нем как можно больше. Уточните маршрут его передвижения по городу, пункты остановок и возможные контакты. Но соблюдайте осторожность, особенно если его прикрывают. Ясно?
— Так точно!
Вернер повернулся к вахмистру из народной полиции:
— Извините, но бывают случаи, когда интересы службы оказываются важнее политической точки зрения. Ваш выходной, надеюсь, еще можно спасти. — Он предложил ему теплой воды из чайника, свой помазок и безопасную бритву. Потом улыбнулся: — Впрочем, вы уже можете воспользоваться электробритвой у себя дома. — И сказал в радиотелефон: — Сообщите на трансформаторную станцию. Дайте людям свет. Проверьте предохранители и включайте. Операция завершена.
Заросли бузины над покосившимся надгробным камнем. Предпоследний участок слева, одиннадцатая могила в шестом ряду. Надпись: «Хаим Мысловицер из Лемберга». Обломок камня легко отделился от цоколя надгробия. Я держал в руке маленькую жестяную коробочку с обычным набором предметов, необходимых каждому велосипедисту: пара запасных ниппелей, тюбики с клеем, рашпиль и резиновые заплаты. Я знал, что в одном из ниппелей спрятано послание доктора Баума.
33
Доставить со спецкурьером
в собственные руки.
Начальник оперативного управления — резиденту Западного Берлина
Сэр, чтобы показать Вам, что развитие событий не допускает ни малейшего промедления, поступило указание проинформировать Вас о них более обстоятельно. Наша страна при любой ситуации приступит к строительству самолетов «Фолкон», невидимых для РЛС противника. Как самолеты-разведчики U-2 до определенного момента были недосягаемы для русских, так и этот новый бомбардировщик призван обеспечить нам стратегическую инициативу, на этот раз — в качестве наступательного оружия. В последнем десятилетии этого века и на последующее время он обеспечит нам возможность вторгаться с помощью пилотируемых средств на территорию противника. «Невидимость» «Фолкона» создаст для русских и их союзников неразрешимые в настоящее время технические проблемы. В результате этого У нас снова появится возможность нанести ядерный удар первыми. Вам следует исходить из того, что разыскиваемый Баум располагает сведениями и записями о запланированном перевооружении и его политических аспектах. Если сведения о закулисной стороне этого плана станут достоянием общественности, то нас могут обвинить в желании возвести систему военного шантажа в ранг внешней политики и нарушить равновесие в мире. Под давлением общественности серийное производство нового вида оружия, как об этом свидетельствуют события прошлых лет, оказалось бы под вопросом.
Напоминаем Вам, что патриотический долг призывает Вас принять по этому делу решительные меры, соответствующие сложившимся обстоятельствам. Вам даны полномочия исходить из того, что разыскиваемое лицо является государственным преступником номер один.
П. С. Г.
Старое правило гласит: не двигайся, если не хочешь, чтобы тебя обнаружили. И вот он стоит под навесом-грибком возле уличного торговца и время от времени прихлебывает выдохшуюся кока-колу. У него горят подошвы в ставших тесными ботинках, но он стоит и не шевелится. Торговец сосисками дремлет под пение своего котла. На стальном противне застывает горелое масло. Уступая напору ветра, иногда шипит калильная сетка газовой лампы, висящей над заляпанным кетчупом прилавком. Большая стрелка уличных электрических часов у входа в вокзал делит время на мучительно долгие минуты. Близится полночь. На перроне снова квакает громкоговоритель, и поезд городской железной дороги, уже восьмой за то время, что он здесь торчит, грохочет над ним по направлению к центру. Кирпичные стены эстакады, ограждающие железнодорожное полотно, вибрируют, и в ущельях улиц гремит, словно в трубе, эхо. Когда прибывающий встречный поезд скрежещет тормозами, оно многократно усиливается.
В круглом окошке помещения под эстакадой горит свет. Дэвид Штамм стоит таким образом, чтобы можно было наблюдать за окном и небольшой дверью рядом с ним. «Все как прежде, — думает он, — как будто время в этих стенах из обожженного кирпича остановилось. Свет горит, потому что старый Вацек еще не спит и, словно гимнаст, балансирует на шаткой стремянке у книжных полок, просматривая новые поступления. Хорошо бы сейчас пойти к нему. К нему можно было приходить в любое время, даже ночью. Мы выпили бы с ним кофе по-турецки из старых, времен его студенческих лет, чашек, а потом я бы просмотрел новые поступления, которые он заботливо отобрал для меня. Но, к сожалению, время не стоит на месте. И старый Вацек отправился туда, куда мы все попадем рано или поздно, а за окном, в котором горит свет, заседает «Клуб якобинцев»…»
Штамм знаком с делом, которое западноберлинское управление по охране конституции завело на эту организацию. Одно обязанное ему доверенное лицо, занимавшееся чем-то между юстицией и политикой, дало ему посмотреть досье. И теперь Штамм знает, что в старой конторе Вацека собираются последние участники студенческих волнений 1968 года, ушедшие в себя и рассорившиеся друг с другом и с тем враждебным миром, о непостижимое могущество которого разбились все их идеалы. Люди, которые не могут разобраться в себе, а потому и в своих делах, снедаемые честолюбием и жалостью к ближним, зарвавшиеся и одержимые, опустошенные безрезультатной борьбой, но постоянно строящие новые планы и все время колеблющиеся между покорностью и жаждой мятежа. Состарившиеся юнцы, скрывающие свою бледность под густыми бородами, измученные бесконечными дебатами и образом жизни, публично отрицающие все общепринятые нормы, но дающие агентам тайной полиции основание характеризовать их в своих досье как политически сентиментальных и в принципе не опасных людей.
Дэвид Штамм все ждет. Кажется, само время горит у него под подошвами ног. С небольшого автофургона прямо перед входом в вокзал сбрасывают пачки утренних газет. Даже самая скудная информация представляет сейчас для него интерес, но он не может отлучиться со своего наблюдательного поста. Маленькая дверь в эстакаде открывается, и из нее выходит толстяк, упакованный в джинсовый костюм. Шагов десять ему приходится пройти по световому кругу, падающему на мостовую от мощных неоновых ламп над щелью ночного сейфа-автомата. «Да этого просто не может быть! — думает Дэвид Штамм. — Неужели фирма так никогда ничему не научится? Шпик, который уже тогда числился в платежных ведомостях фирмы и который поставил под удар двух непокорных членов производственного совета городского предприятия по вывозу мусора! В этом забытом богом клубе, над которым потешаются в управлении по охране конституции, они копошатся, как черви в дерьме. Как это на них похоже! Они всегда имели дело с мерзавцами и проходимцами и утверждали, что их представления о морали рассчитаны только на «посвященных», подобно тому как для посвященных существует высшая математика. Утверждали, что с мерзавцами жить можно, просто ими не должны руководить шарлатаны. Неспособные, некомпетентные, отталкивающие, аморальные! О, боже, я так часто сомневался в тебе, но сегодня благодарю тебя за то, что наши с ними пути разошлись. Мир велик, однако они мнят, что могут сделать его маленьким. И они разобьют его на мелкие кусочки, если их не остановить. Я не стремлюсь к величию, но со своего пути не сверну, даже если они нашлют на меня целую армию убийц. Я им не дамся…»
Вспыхивает свет и в других окнах под эстакадой — наверное, из задней комнатушки конторы Вацека они перешли в передние комнаты. Собрание закончилось. Сначала в дверях появляется один человек. Он смотрит направо и налево, видимо, проверяя, не следят ли за ним. Полиция давно зарегистрировала последнюю блоху в их одеждах, а они все играют в конспирацию. Затем на улицу выходят остальные, продолжая свои бурные дебаты. Три молодые женщины буквально смотрят в рот тощему человеку, который, размашисто, но плавно жестикулируя, объясняет им устройство мира. У него, как у чудовища, волосы на висках срослись с бородой, а на голове сверкает огромная лысина. По описанию примет из досье управления по охране конституции Штамм узнает одного из идеологов группы. Его фамилия Луцш, но его называют Луначарским. По многократно увеличенным фотографиям полиция опознала в нем того самого легендарного человека, который высоко держал знамя под струями воды во время массовых выступлений против бойни во Вьетнаме. «Храбрый человек, — думает Штамм, — по все еще живет легендой». Возможно, он как раз объясняет девушкам свою последнюю утопию: функции и методы работы детских магазинов при организации партизанской войны в городах. Внезапно гвалт прекращается. Они уезжают на двух старых автомобилях, в которых, непонятно каким образом, умещаются все. На пустынной улице остается лишь один тщедушный молодой человек. Он протирает стекла очков, потом делает несколько дыхательных упражнений. С точки зрения человеческой психологии сейчас самое удобное время подойти к нему.
Дэвид Штамм медленно направляется через улицу.
— Господин Вацек? — спрашивает он. — Я могу поговорить с господином Вацеком?
Молодой человек прекращает свои дыхательные упражнения.
— Я — Вацек.
— Извините, я хотел бы поговорить со старым Вацеком.
— Я — его племянник. А дядя умер.
— О, как печально это слышать! Но я опасался чего-то в этом роде. Перестал получать от него письма и почувствовал что-то неладное. Понимаете, я долгое время находился за границей по делам службы. Какая жалость! Вместе с милыми стариками уходит и их удивительный мир. Где теперь выпьешь кофе в такой уютной обстановке? Свой лучший кофе, черный и сладкий, господин Вацек варил в полночь.
— Уже очень поздно, господин…
— Цвейг, — подсказывает Штамм.
— Уже очень поздно, господин Цвейг. Извините, пожалуйста, но у меня были гости, мои знакомые. Я подчеркиваю, фирмы больше не существует, коммандитного товарищества Вацека уже нет.
— О боже мой! А старые заказы, значит, все пропали? Но это просто ужасно! Господин Вацек был моей последней надеждой. У него были связи во всем мире. Вы даже не представляете, как я потрясен. Я занимаюсь специальной исследовательской работой.
— Вы пили с моим дядей кофе?
— Кофе по-турецки на диване в задней комнатке.
Молодой человек снова протирает стекла очков в никелированной оправе и долго разглядывает Штамма:
— Послушайте, господин Цвейг, я вас не знаю. Но хотел бы попросить об одном. Если вы из полиции, то уходите! Это же бессмысленно. Полиция только что побывала здесь в лице кое-кого из гостей, и если вам интересно, то вы наверняка сможете завтра утром прочитать в протоколах ваших коллег, о чем здесь говорилось. Так что давайте не будем пудрить мозги друг другу. Хотя клуб не зарегистрирован как общество, его неписаные правила властям известны. И если я, как частное лицо…
Штамм прерывает его:
— Послушайте! О чем вы говорите? Я ничего не понимаю. Ведь клуб друзей книги существовал с давних пор. Так какое до него дело полиции? Что общего с полицией У меня или у господина Вацека, который организовывал обмен книгами? Я ученый-синолог, а вы твердите о какой-то полиции. Зачем вы меня пугаете?
Молодой Вацек улыбается:
— Вы не похожи на человека, которого можно напугать полицией. Ну хорошо, оставим это! В каком отделе обменного фонда у вас был абонемент? Старые карточки сохранились.
Дэвид Штамм поздравляет самого себя. Вообще-то он думает, что все получилось очень естественно потому, что ему не пришлось лгать. Он действительно пил кофе со старым Вацеком и действительно не из полиции.
— Вы меня радуете, — говорит он, — но, к сожалению, я не знаю, как зарегистрировал меня ваш дядя. Круг моих интересов, возможно, покажется вам несколько необычным. Народные настольные игры и их мифологическая подоплека. Но это не все. Еще я занимаюсь древними японскими легендами и героическим эпосом. В известном смысле точка их пересечения… Понимаете? Господин Вацек прекрасно знал, что мне нужно.
— Н-да, в некотором роде мой дядя был гением. Для меня непостижимо, как он все это осуществлял практически. Я бросил дело. Жаль, конечно, старых клиентов. Вот и вам я вряд ли смогу помочь. Но если вам хочется кофе, то вы можете сварить его себе. Пожалуйста, старые кофеварки на прежнем месте. — Он делает жест рукой, приглашая Дэвида войти.
Пока все идет по намеченному плану. Заднюю комнатку, в которой заседали «якобинцы», теперь, однако, не узнать. Старый Вацек не смог бы жить среди такого хаоса. Перевернутая полка, пустые и полупустые бутылки из-под вермута, стопы книг, на которых сидели, бумажные стаканчики с остатками вина, в углу целая куча защитных шлемов и противогазов, на секретере Вацека, между кипами бумаг, банки с маринованными огурцами и горшочки со смальцем, а над всем этим не поддающийся описанию смрад.
Молодой Вацек убирает со стула пепельницу, наполненную окурками.
— Папиросы, — смущенно говорит он. — Луначарский курит папиросы.
Кофеварку они находят в сейфе, только вот кофе куда-то запропастился.
— Как видите, я совершенно беспомощен, — извиняется молодой Вацек, — даже кофе не могу вам предложить.
— Не волнуйтесь, — успокаивает его Дэвид. — Честно говоря, для меня более важно выяснить интересующий меня вопрос.
— Безнадежное дело! Вы же сами видите.
— Разве к вам не приходят новые поступления? Ведь это вполне вероятно.
— Вероятно-то оно вероятно, но попробуйте эту вероятность отыскать. Некоторое время этим занималась моя жена. Пожалуйста, ни о чем меня не спрашивайте. Если бы мне удалось найти кого-нибудь, кто согласился бы приобрести это дело! Удивительно, что никто не приходит и не требует арендной платы. Так что я все пустил на самотек.
— Может, мы все-таки попытаемся найти что-нибудь в документации?
— Ройтесь себе на здоровье! Но должен вам сразу сказать, что ищейки из управления по охране конституции во время обыска все перевернули вверх дном.
— И когда это случилось?
— На прошлой неделе. Идиоты! И чего они только здесь ищут?
Дэвид Штамм чувствует нервный зуд в корнях волос. На прошлой неделе! На прошлой неделе они начали искать магнитофонные пленки, все ближе подбираясь к отелю «Шилтон-Ройял». Неужто они обнаружили здесь его старые следы? Может, он уже в ловушке?
Над ним грохочет поезд. С книжной полки сваливается ряд книг, и снова наступает тишина, Дэвид, затаив дыхание, прислушивается.
— Вы заперли дверь? — спрашивает он,
— Зачем? Что здесь можно украсть?
— Да, конечно, извините… Только… старый Вацек был в этом отношении очень педантичным.
Штамм подходит к шкафу с картотекой. Постепенно он успокаивается. Тайный агент не вписывается в картину розыска, объявленного на него. Они вряд ли стали бы привлекать управление по охране конституции. Такими делами занимаются специалисты. Они знают, что поставлено на карту. А на этот раз на карту поставлено все. И тут он находит в картотеке то, что искал. Его карточка на месте, хитроумно отложенная в отдел «Этнография». Он узнает четкий почерк Вацека: «Господин Ц. — вне очереди — узкая специализация». Последняя запись от 19 августа 1961 года: «Гравюры на дереве, очень редкие, имеющие отношение к игре в го. Партнер ждет предложений по обмену». Да, партнер, вы долго ждете моих предложений. Вы и сейчас готовы принять их, Мастер Глаз? Что лучше вашей собственной кузины я мог послать вам? Сообразили ли вы, чего стоит маленькая фишка для го, которую она вам передала? Согласны ли на новую партию? На этот раз мы оба моя?ем только выиграть. Выиграть эту партию, или ничего не получится, абсолютно ничего…
Молодой Вацек ополаскивает два бумажных стаканчика и наполняет их разбавленным вермутом:
— Выпейте глоток, господин Цвейг. Вместо кофе…
Быстрым движением Дэвид Штамм выдергивает свою карточку из картотеки и прячет ее в карман куртки. Там клацают друг о друга фишки го. Свободной рукой он берет бумажный стаканчик:
— Большое спасибо, дорогой господин Вацек. У кого из нас сегодня еще есть выбор? Кофе по-турецки или вермут по-итальянски — какая разница? Белое или черное, желтое или коричневое — это уже не имеет значения. Наша земля стала пестрой, и, только оставаясь пестрой, она способна выжить. Свобода или смерть? Помилуйте! Традиционные альтернативы уже не действительны. Общая смерть — это вечная неволя, выжить — вот единственный шанс обрести свободу. Разве я не прав, дорогой господин Вацек?
— Очень мило с вашей стороны, господин Цвейг, поверять мне свои мысли. Мой дядя, несомненно, оценил бы это. Но, извините, я просидел четыре часа с этими людьми, и теперь мне трудно выслушивать ваши фаталистические изречения.
— Я думал, в моих мыслях нет ничего фаталистического.
— Может быть, но все-таки достаточно.
Глотая омерзительный вермут, Дэвид не в силах сдержать гримасу отвращения:
— Спасибо за гостеприимство. Позвольте задать вам еще один деловой вопрос.
— Спрашивайте! Что касается дела, то я фаталист.
— Вы, как я вижу, больше не ведете картотеку абонентов. Новые поступления, которыми, как вы говорили, иногда занималась ваша жена, могли остаться неоприходованными. То есть никакого бухгалтерского учета не велось. Тем не менее поступления могли быть.
— Конечно. Вопрос только в том, где они. Вы хотите заняться этим? Пожалуйста! Вы ориентируетесь в складских помещениях? Вам понадобился бы целый месяц.
— Наверное, мне хватило бы и часа. Большим временем я все равно не располагаю. Вы подарите мне один час?
Молодой Вацек вздыхает:
— Доставьте себе это удовольствие. Пожалуйста! Ради памяти дяди и потому, что вы давний друг дома. А я тем временем приберу здесь.
Дэвид Штамм бродит по складским помещениям, как по хранилищу сокровищ. Невероятно, чего только не насобирал старый Вацек! Молодой недотепа мог бы нажить на этом целое состояние. Дэвиду все время приходится отрываться, потому что глаза помимо его воли впиваются в названия книг. Но у него только один час! Надо найти последние поступления, доставленные еще коммандитному товариществу старого Вацека.
Возле задней двери кладовой один на другом стоят два ящика. Для верности он взламывает один из них и находит в нем то, что и предполагал увидеть: набор книг, которые не имеют никакого отношения к обмену. Почтовые поступления! Где среди этого хаоса лежат книги, полученные по почте? Или доставленные посыльным? Он вспоминает, что старому Вацеку почту всегда доставляли с улицы через маленькую служебную дверь. Он возвращается. Проходя мимо комнаты, где некогда пил кофе с Вацеком, он видит, что молодой Вацек уютно устроился на диванчике и заснул.
Дэвид Штамм на ощупь пробирается по узенькому коридорчику вдоль длинного ряда книжных полок. И в складском помещении он не включает света. Он ведет поиски с маленьким электрическим фонариком. Но долго искать ему не приходится. Прямо у входа в бельевых корзинах, которые старый Вацек использовал для перевозки книг, без разбора свалены — по мере их поступления — открытки, бандероли, посылки и — о боже! — счета. «Банкротство будет грандиозным», — думает он. Он перебирает корзину за корзиной, роясь в почтовых отправлениях. Один час! Даже если молодой Вацек не проснется, у него больше нет времени. И вдруг то, что он искал, оказывается у него в руках: «Через посыльного! Срочно! Обмен по игре в го».
По типичному для инженеров письму печатными буквами он тотчас узнает почерк партнера. Мастер Глаз сделал то, что мог сделать в этой ситуации. Разорвав конверт, Дэвид держит в руках толстую тетрадь в линейку, того типа, что они когда-то использовали, тренируясь в работе с шифровальными таблицами. Тетрадь чистая, за исключением двух страниц, где записана партия в го, будто бы сыгранная двумя японскими мастерами высочайшего класса, как свидетельствует дата, 6 декабря 1941 года, то есть в день нападения на Пёрл-Харбор. Ах, Мастер Глаз, вы неисправимы в своем пристрастии к наивным нравоучительным шуткам! С первого взгляда видно, что это все что угодно, только не игра мастеров. Так могли бы играть только двое сумасшедших, предполагая, что играют в домино. Буквы и цифры должны составлять незамысловатый шифр. Партнер чувствует, что время торопит, и стремится избавить адресата от длительной дешифровки: простенький ключ к этому шифру Штамм держит в голове. Он был взят из учебника игры в го, который они в свое время использовали для шифрования.
«Так как белые, по-видимому, не могут вырваться из окружения в центр, то и игрок не может спастись, если только он не сохранит независимость в окружении черных». Что это — спасение? Штамм садится на ступеньку стремянки и приступает к дешифровке. Через несколько минут текст у него на бумаге: «У нас ваш труп. Нужна ли вам помощь? Ждем вас в конце площадки для мусорных контейнеров. Виола заслуживает нашего доверия. То, что я сделал тогда, я сделал и для вас. То, что мы делаем теперь, мы делаем для себя».
Профессор Дэвид Штамм, он же доктор Баум, он же господин Цвейг, ощущает лихорадочное беспокойство. Никогда прежде он не замечал, чтобы у него дрожали руки, но теперь, сжигая записку в маленьком синеватом пламени зажигалки, он видит, как они трясутся. Еще некоторое время он сидит в темноте, подавляя желание взять из кармана фишки для го. Сейчас главное — самообладание. По безлюдной улице изредка проносятся автомобили. Продавец сосисок закрыл свое заведение. Какой-то изрядно подвыпивший ночной гуляка, крепко держась за навес в виде зонта, произносит пьяный монолог. У входа в вокзал все еще лежат неразвязанные пачки утренних газет. Заголовки прямо-таки кричат с мостовой: «Поступок безумца в метро! Сумасшедший борец искал смерти! Наркомания распространяется на стариков!»
Виола! Как же найти ее таким образом, чтобы не нашли их обоих?
34
Перейдет ли Йохен Неблинг границу еще раз? А где, собственно, проходит граница в двойной игре? На слете бранденбургского землячества огромным успехом пользуются маринованные огурчики. «Германия, Германия превыше всего», а обменный курс подскакивает до 1:7. Сынишка Йохена Неблинга начинает ходить.
Frame-up![56] Попал впросак, распят, стерт в порошок. Считал себя хитрецом, а меня провели, как дурачка. Угодил в поставленную собственными руками ловушку.
С тех пор как мы проявили спрятанную в ниппеле микропленку и расшифровали записку доктора Баума, меня не покидала мысль о том, что мы угодили в ловко расставленную ловушку. Да и была ли эта записка от доктора Баума? Вернер втянул меня в продолжавшиеся часами, похожие на допрос дебаты о психологической подоплеке моей связи с человеком из американской секретной службы и снова прокручивал всю эту историю — вплоть до вербовки в кафе «Го». Я заметил, что для него все сводилось к главному вопросу: какими мотивами можно оправдать столь большой риск? Мне снова надо переходить границу?!
Frame-up! Приглашение на манифестацию в спортивный комплекс было замаскировано под воззвание бранденбургского землячества. («Земляки! Все на слет в честь неделимой родины! Кюстрин остается немецким».) Место встречи (за час до раздачи пропагандистских материалов у киоска на стадионе) также было ловко замаскировано. Баум ничем не выдал себя как автор послания, и на первый взгляд казалось, что он ни при чем. Но в конце концов записка была передана через его тайник, который он оборудовал независимо от служебных каналов для личной почты. Может, его выследили его боссы или конкуренты? Может, ловушка предназначалась ему, а не мне? А может, меня использовали только в качестве приманки, чтобы заманить его в западню?
Frame-up! Доктор Баум на занятиях пытался объяснить мне значение этого выражения, пущенного в обиход гангстерами Западного побережья США: «Никогда не забывайте, Мастер Глаз, что теперь вы занимаетесь бизнесом, где приходится продавать самого себя, и, разумеется, как можно дороже. Но остерегайтесь всякого рода ловушек и наветов. Тех людей, что стоят у вас за спиной, опасайтесь больше, чем тех, которые у вас перед глазами. Каждая уловка вызывает ответный прием. Все имеет свою цену, а ценная информация, даже если она получена жестоким способом, на вес золота». Предчувствовал ли уже тогда доктор Баум, что именно ему придется опасаться ловушек и наветов?
Вернер сказал:
— Его риск — это и твой риск. Я не разрешаю тебе идти.
Моего мнения никто не спрашивал. Решал он, а что касается меня, то я испытывал какое-то странное двойственное чувство и вряд ли помог бы ему объективно разобраться во всем, Я снова обрел почву под ногами, наладил отношения в семье, мог спокойно спать, работать и отдыхать — одним словом, моя жизнь приобрела упорядоченный характер. С лихорадочным мотанием через границу было покончено. Как бы идиотски это ни звучало, но, с тех пор как определилась моя роль в системе ЦРУ и я стал оперативным радистом на случай войны и предвоенной обстановки, моя жизнь снова вошла в привычную колею и у меня оставалось достаточно времени для учебы и семьи, а иногда даже для партии в го. А то чуждое, что привнесла в мою жизнь эта новая роль, вписалось в нее как одна из деталей в общую конструкцию. Все упорядочилось. Так неужели всему этому придет конец? Снова неизвестность, снова темная бездна под ногами, снова дорога через минное поле? Но неизвестность тоже имеет свою притягательную силу, а любую мину можно обезвредить. Эти соображения нельзя было рационально обосновать, и я не стал делиться ими с Вернером. Однако интуитивно я чувствовал, что доктор Баум ждет меня.
Вернер с возрастающим беспокойством следил за обострением международной обстановки. На венскую встречу в верхах в 1961 году возлагались большие надежды. Но новый тщеславный американский президент из клана миллионеров Кеннеди отклонил во дворце Хофбург все предложения по разоружению и решению международных проблем, которые выдвинули советские руководители. Едва успев возвратиться в Вашингтон, президент дал указание сделать заявление для прессы о готовности ядерной боевой группы — «пожарной команды» НАТО. У наших непосредственных соседей на Западе этот маневр вызвал воодушевление. С совещания руководящего состава Вернер возвращался со все большим количеством бумаг и все более озабоченным выражением лица. Особое место занимали публикации западногерманской прессы. Читая их в подборке, можно было легко обнаружить направляющую их руку и сравнительно быстро сделать вывод, причем документально подтвержденный, о стратегии эскалации, проводимой противником.
В конце июня в эту кампанию включились западногерманские военные круги. Представитель бундесвера на страницах «Мюнхнер Меркур» утверждал, что в восточной зоне вследствие непрерывной цепи кризисов в любое время можно ожидать взрыва и что создавшаяся обстановка требует от Запада подготовки соответствующих политических, экономических, пропагандистских и организационных мер и подрывных действий. Спустя всего несколько дней этот перечень был расширен за счет военных приготовлений. Генерал Хойзингер, который был начальником оперативного отдела штаба в ставке Гитлера «Вольфшанце», а теперь являлся председателем постоянного военного комитета НАТО в Вашингтоне, заверил, что западногерманские дивизии готовы выполнить любую задачу. В одной из швейцарских публикаций слово «любую» сопровождал восклицательный знак.
Затем мяч снова был отпасован американцам. Генерал Кларк, командующий американскими войсками в Европе, потребовал от своих солдат быть готовыми ко всему. И этот провокационный приказ по войскам был сознательно подхвачен прессой. Наконец, в самом начале июля было раскрыто главное направление всех этих публичных высказываний. В Бонне «исследовательский совет по вопросам воссоединения Германии» подготовил свой третий доклад. Документ предварительно изучался в тайных комитетах и лобби бундестага, в директорских кабинетах огромных концернов, в военных командных инстанциях, на фондовой бирже. Это был тщательно разработанный план установления новых торгово-экономических отношений в ГДР, основу которого составлял целый ряд договоров о концессиях, о замене акций, о праве преимущественной покупки, о наблюдательских мандатах и монополизации, в результате чего народные предприятия должны были поэтапно перейти во владение старых концернов. Не убив медведя, составители плана спешили поделить его шкуру. А через четыре дня после опубликования этого доклада в газете «Кёльнишер рундшау» можно было прочитать о том, что сейчас надлежит «использовать все средства «холодной» войны, войны нервов и горячей войны. Сюда относятся не только вооруженные силы с обычным вооружением, но и подрывные акции, разжигание сопротивления внутри страны, нелегальная работа, разложение сил порядка, саботаж, нарушение работы транспорта и предприятий, организация неповиновения и мятежей». Сообщалось, что в Западный Берлин с большим штатом сотрудников прибыл боннский министр по общегерманским вопросам.
С возрастающим изумлением читал я вырезки из газет, которые Вернер подвинул мне через стол. Меня поразила циничная откровенность, с какой излагались планы свержения рабоче-крестьянской власти в ГДР. Вернера тоже занимал вопрос, какие намерения преследовала эта демонстрация. Это была отнюдь не беседа за круглым столом политических деятелей и обозревателей. За кулисами всего этого стояло предложение доктора Баума или то, что мы принимали за его предложение.
Может, они проверяют нашу реакцию на эту газетную войну и радиовойну? Или они хотят вывести нас из равновесия и вызвать чересчур резкую с нашей стороны ответную реакцию? Или все это означает подрыв основ равновесия? Где финт, а где хорошо продуманный удар?
По тому, как Вернер задавал самому себе эти вопросы в своих нередких теперь монологах, я понял, что его решение не посылать меня в пекло не было окончательным. Чего хотел доктор Баум? Прояснит ли что-нибудь встреча с ним?
А затем одно событие стало опережать другое. Центральный комитет нашей партии направил в адрес Запада настоятельный призыв к оздоровлению обстановки. Одновременно он призвал граждан республики к защите своих завоеваний. Призыв прозвучал совершенно недвусмысленно. Назревало принятие важных решений. Вернер вертелся как белка в колесе. Времени на сон у него почти не оставалось, оставалось оно лишь на то, чтобы переменить рубашку.
Была суббота. Заканчивалась вторая смена. Мы истекали потом под крышей большой лаборатории, где должны были проводиться испытания нового управляемого устройства. Меня позвали к телефону. Звонил Вернер. Голос у него был такой, будто он запыхался. Но чувство юмора не изменило ему.
— Если уж тонуть, так вместе, — сказал он. — Пошли купаться.
Дикие пляжи в Берлине самые красивые. Мы расположились в ивовых зарослях на берегу Шпрее и наблюдали, как скрывалось за трубами Клингенберга солнце. Чайки неподвижно сидели на леерах полузатопленной баржи. По мосту громыхали поезда с отдыхающими. По другую сторону железнодорожной насыпи играли в футбол. Пахло аиром и ржавчиной. Лебединая пара демонстрировала нам своих малышей. Как только мы заплывали подальше, раздавался звук приближающейся моторной лодки, и нам приходилось срочно убираться с ее пути. Потом мимо нас в кильватерной колонне прошли прогулочные катера. На их палубах гремела музыка. Катера оставляли на воде широкий след, в котором отражалась луна. Песок на берегу еще не остыл, и я стал бросать себе на живот целые его пригоршни, наблюдая, как он струится.
Итак, завтра! Вернер дал четкие инструкции:
— Решающее значение имеет новый контакт у справочного киоска. Убедись, что тебя ждет действительно мистер Баум, а не кто-нибудь другой, желающий поиграть с нами в кошки-мышки. Лишь убедившись в этом, вступай в контакт. Но кому я это говорю? Ты ведь не новичок. Тебе знакомы их приемы, действуй в зависимости от обстановки.
Я лежал на прогретом солнцем песке и внимательно прислушивался к приглушенному голосу Вернера, который в такие моменты звучал угрожающе, будто он был заклинателем, изгоняющим злых духов. От него исходило нечто успокаивающее и воодушевляющее. В тот вечер на Шпрее я окончательно осознал, что значит иметь такого друга.
Воскресное утро началось с большой радости. На кухне, между мойкой и мусорным ведром, малыш сделал свои первые шаги. Когда я приготовился уйти из дома, не захватив с лестничной площадки детскую коляску для утренней прогулки с малышом, Рената сразу почуяла неладное, но ни о чем не спросила. А когда я уже стоял в дверях, она подняла воротник моей кожаной куртки и заботливо застегнула карман, в который я засунул пару западногерманских банкнотов.
Аллеи и дорожки вокруг «Лесной сцены» походили на ярмарку. Палатки с сосисками и пивом, духовые оркестры и детские аттракционы, ансамбли народного танца и воздушные шары… Продавались настоящие оладьи и крендели. Особым успехом пользовались маринованные огурчики. Мимо меня в живописных национальных одеждах прошел оркестр. Он играл песню о красном орле, который высоко парит над болотами и песками бранденбургской земли. Вокруг палаток и лотков шныряли менялы, предлагая землякам, приехавшим из зоны, западногерманские марки по курсу 1:6, а некоторые, воодушевленные первыми удачными сделками, взвинтили курс до 1:7. Молчаливые, с изумленными лицами женщины из «Внутренней миссии» собирали в кружки пожертвования на благотворительные цели. Иногда через толпу медленно пробивался правительственный лимузин, доставляя на слет очередного почетного гостя. Из сопровождающих его автомобилей раздавали флажки с гербами бывших бранденбургских, а ныне польских городов. Громкоговоритель верещал:
— Привет родины из Берлина! Привет Ландсбергу и Кюстрину!
Я стоял на автостоянке и наблюдал за местом встречи. Затем не спеша направился к справочному киоску. Заметив меня, доктор Баум бросил взгляд в сторону вокзальных часов и, улыбаясь, протянул руку:
— Мастер Глаз и такая непунктуальность! Спокойная жизнь испортила вас?
Я стал извиняться, объясняя свое опоздание тем, что пограничный контроль усилился. Он, казалось, вздохнул с облегчением от того, что я вообще пришел, и ни о чем больше не спрашивал. Подтянутый и сухощавый, каким я его знал, с меланхолично-высокомерным выражением на бледном лице, он стоял передо мной и улыбался. Мы влились в поток бранденбургских паломников от политики. По пути он сунул мне в руку клочок бумаги — мой банковский счет в долларах достиг поразительной суммы. Затем он спросил, заложили ли материал в тайник точно в указанное время. Я подтвердил, что его заложили в первое воскресенье после полнолуния, а старый Мысловицер шлет привет.
Мы затерялись в толпе на самом верхнем ярусе стадиона. Там, где в 1936 году германская гимнастическая команда завоевывала олимпийские медали для фюрера и фатерланда, теперь на фоне бранденбургских сосен и берез бесновалось реваншистское отребье, в высшей степени отвратительное, непостижимым образом сочетающее сентиментальность и злобную мстительность.
Вокруг нас сидели люди с продубленными ветрами крестьянскими лицами. Почти у всех из жилетного кармана свешивалась золотая цепочка. Герб над их головами свидетельствовал о том, что это «изгнанники» из района Калау. С бесстрастным выражением на лицах слушали они речь министра, который срывающимся, а иногда переходящим в рычание голосом, усиленным громкоговорителем, громоздил одно на другое рассуждения об ущемлении их прав и, казалось, соорудил уже целую словесную башню из несправедливостей. И даже когда он пообещал, что они возвратятся в родные места и удовлетворят все свои желания, никто из них из-за чопорности не удосужился похлопать ему в ладоши. Но глаза их, когда они обменивались многозначительными взглядами, светились восторгом. Глядя на них, я внутренне оцепенел.
Доктор Баум, с иронической улыбкой наблюдая за мной со стороны, шепнул:
— Почему вам здесь не нравится? Ведь это ваши соотечественники. И хотя платим вам мы, в конечном счете вы работаете и на них.
Не было смысла притворяться.
— Все это липа, — сказал я. — Сплошное надувательство. Слишком много режиссуры.
К моему удивлению, он поддержал меня:
— К тому же режиссуры плохой, неубедительной.
Я видел, как, засунув руки в карман своего элегантного пальто из шерстяной фланели, он перебирал фишки для игры в го, и мне стало ясно, что ему хочется как можно скорее перейти к делу. Когда продавец мороженого, балансируя лотком, прошел мимо нас, он воспользовался случаем и, купив мороженое, последовал за ним к выходу. Мы были не единственными беглецами, и никто не обратил на нас внимания.
Мы проехали пару остановок на автобусе, а потом пошли пешком по тихой дорожке парка, примыкающего к огромному спортивному комплексу. Баум задал несколько совершенно естественных вопросов по поводу моего исчезновения. Но когда я стал объяснять ему причины и рассказывать о смерти отца, он, казалось, был занят какими-то своими мыслями и едва слушал меня. Он, по-видимому, думал совсем о другом. И потом он ни разу не произнес слово «Маврикий», которое служило сигналом, что в тайник заложен материал.
Сквозь деревья мы увидели, как впереди блестит полоска воды.
— Вы любите плавать? — спросил доктор Баум.
У меня вдруг перехватило дыхание.
— Вы же знаете, что я боюсь воды, — ответил я. — Вам известно это с того времени, когда меня обучали боевому плаванию.
И снова его мысли унеслись куда-то в сторону. Ему было трудно сказать мне прямо, с какой целью он вызвал меня. Я же ни о чем его не спрашивал. Таково было условие. В загородном фешенебельном ресторане, расположенном между манежами для верховой езды и лужайками для игры в гольф, он заказал столик. Между первым и вторым блюдом: жаренной в сливочном масле макрелью и пудингом с изюмом — он наконец приступил к делу. Он сказал, что ему нелегко изложить его суть, так как, с одной стороны, он обязан соблюдать служебную дисциплину, а с другой стороны — не может не подчеркнуть, что наша встреча не вызвана служебной необходимостью.
— Помните, Йохен, — продолжал он, — эту встречу я организовал исключительно на собственный страх и риск. Мы действуем вне служебных рамок. Мы сейчас частные лица.
Я сказал, что рад снова видеть его, что он может довериться мне, что даже свыше двухсот часов учебных занятий не превратили ни инструктора, ни ученика в бездушную машину. А риск есть в любом деле, и я готов разделить его с ним, даже если мотивы наших действий не совпадают.
— А почему мои мотивы не могли бы стать и вашими? — задумчиво спросил он, глядя в бокал с хересом. — Я хочу предупредить вас, Йохен. Я не желаю, чтобы вы действовали как слепой червяк на открытой местности.
А потом он спросил меня, как я отношусь к тому, что наряду со служебными контактами между нами возникла еще и чисто человеческая связь. Я сказал, что всегда верил в его личную порядочность, несмотря на отдельные сомнительные моменты.
— Я хочу, чтобы у вас была полная ясность, — продолжал он. — Знаете, что в свое время убедило меня в том, что в вашем лице я нашел нужного человека, нужного мне, а не шефу? Упорство, с которым вы сопротивлялись, боясь испачкаться. Я не пошлю вас вслепую на гибель. Сфера вашей деятельности сейчас уже не та, что была пару недель назад. Политическая ситуация претерпела драматические изменения, а потому изменилось и поле деятельности спецслужб. Противник понимает, что ему брошен вызов, и теперь его действия трудно предугадать. Он усилит контрразведывательные меры. Вам надо знать это, Йохен!
Примечательным было то, что его оценка политической обстановки отличалась от оценки Вернера только терминологией, но не по существу.
— Обстановка теперь всюду неясная, — продолжал он. — Мы только что были свидетелями: под пеплом последней войны еще тлеет огонь. Эскалация политических страстей делает все непредсказуемым. Мир совершенно обезумел.
Я высказал мысль, что людям нашей профессии, пожалуй, лучше гнать от себя подальше подобные сомнения.
Он не согласился.
— Я верю в действенность секретных информационных служб. Очаги конфликтов можно нейтрализовать только в том случае, если они своевременно обнаружены. Но что меня озадачивает — так это злоупотребление разведывательной информацией для разжигания конфликтов. Я хочу собирать разведывательные данные, а не трупы.
Когда подали счет, он предъявил клубную членскую карточку и подписал чек. В нагрудный карман моей куртки он положил авторучку, искусно выточенную из какого-то тяжелого металла.
— Полезный сувенир, — объяснил он. — Когда вы известным вам способом проявите спрятанную в запасном стержне микропленку, то прочтете важные для вашей работы приложения к данному вам плану действий по тревоге и оперативному плану. Приложение «Б» — задачи ЦРУ. Приложение «В» — действия на случай ядерной войны. Приложение «Г» — система связи. Приложение «Д» — возвращение в ФРГ и переход на запасной вариант работы. Настройтесь на то, что война может начаться в любой момент! Когда начнется ваша боевая радиосвязь, вы должны знать, что от вас требуется и чем вы при этом рискуете.— И тихо добавил: — Речь идет о документах с грифом «Совершенно секретно», поэтому Центр дал указание резидентам воздержаться от передачи даже самых срочных инструкций по оперативной работе своим людям, работающим на той стороне. Я полагал, что не могу поступить столь цинично по отношению к вам. Вы понимаете?
Мне было более чем понятно. В голове мелькали самые противоречивые мысли. Вот это предложение! Прямо-таки отдал сам себя с головой! Кого он видит во мне? Кого должен я видеть в нем? Может, прав был Вернер, напоминая о необходимости соблюдать крайнюю осторожность? Может, ход рассуждений доктора Баума совсем не такой, как я себе представляю? Может, все это подстроено?! Может, убаюкивая меня сентиментальными гуманистическими рассуждениями, он стремится лишь понадежнее накинуть мне петлю на шею? Я сидел в очень удобном кресле, которое тем не менее напоминало мне кресло «Лилли». Я старался дышать размеренно и не делать резких движений. Прямо передо мной, на стене под хрустальным бра, висела картина, которую я избрал себе в качестве отвлекающего объекта. На ней была изображена молодая пышнотелая женщина, которая сидела у источника и старалась прикрыть свою наготу от похотливых взоров трех старцев. Надпись под картиной гласила: «Купающаяся Вирсавия».
Баум перехватил мой взгляд и повернулся к картине:
— Обманщик! А еще говорит, что боится воды! По вашему лицу видно, что вы с превеликим удовольствием составили бы ей компанию. — Он оживился. Его щеки окрасил нежный румянец, который я впервые видел на его лице. — Мастер Глаз, — сказал он официальным тоном, — ваша последняя информация о военной инфраструктуре была ценной, может быть, очень ценной. Специалисты по обработке информации убеждены в ее важности и подлинности, как и тогда, во время первого испытания. Однако они не знают, что с ней делать: русские разработали новую систему шифров, и едва ли можно расшифровать ее. Компьютеры работают на полную мощность, но неизвестно, когда они найдут ключи к этим кодам и найдут ли их вообще.
Я заметил, что при определенных условиях это могло бы предотвратить большое безумие. Он послал официанта за своим пальто и некоторое время задумчиво смотрел на меня:
— Я не знаю ваших конечных мотивов, Йохен. Почему вы сели в нашу лодку? Честолюбие, жажда славы, любовь к приключениям? Или то, что мы называем чувством ответственности? Я знаю, что человек живет в плену самых причудливых представлений о возможностях своей самореализации, и не буду спрашивать вас о ваших представлениях. Скажу вам только, что не могу жить без кредо. Я должен видеть перспективу. Я должен все знать. Борьба за власть — сложная и запутанная игра. Но когда эта игра перестает быть игрой и перерастает в смертельно опасную реальность?
Затем он поинтересовался, считаю ли я, что разделяю с ним ответственность за решение этого вопроса.
Я спросил холодно и кратко:
— Каково ваше задание?
— Нужно перехватить незашифрованный текст. Есть какая-нибудь возможность?
Ему принесли пальто. Когда мы вышли из ресторана, я сказал:
— Об этом надо подумать. Можно попробовать в низшем войсковом звене через проводную связь. Но чем меньше подразделение, тем скрупулезнее меры предосторожности при работе средств связи.
На лугу перед рестораном стоял его «фольксваген». Мы поехали в сторону центра навстречу потоку горожан, направлявшихся на прогулку в лесопарк Груневальда.
— Информация поступает и из других, как правило случайных, источников, но она не поддается перепроверке, — сказал он. — Как объяснить, например, участившиеся полеты вертолетов между командными пунктами советской и восточногерманской армий? Что означает повсеместное оживление радиосвязи? В Саксонии два предприятия удвоили выпуск колючей проволоки. Проводятся учебные тревоги. Замечены перемещения войск. Что это — только слухи или противник готовится к конфронтации?
Время от времени он сворачивал с главных улиц на боковые и, должно быть в силу привычки, то и дело петлял, поглядывая в зеркало заднего обзора. Время философских рассуждений кончилось.
Я спросил:
— Вы по-прежнему ждете моих донесений по радио?
— Да, — ответил он, — как всегда, в условленное время. И будем считать, что вы не прекращали радиосвязь.
Там, где дороги из Шарлоттенбурга и Моабита пересекались с улицей, ведущей из центра, у входа в метро, он остановился. В маленьком автомобиле мы сидели вплотную друг к другу. Наши плечи почти соприкасались.
Я протянул ему руку и сказал:
— Итак, я правильно вас понял: делать все, чтобы предотвратить большое безумие.
Когда я уже положил ладонь на ручку дверцы, он придержал меня и точно так же, как тогда, когда отправлял в путь с радиостанцией, совершенно неожиданно и не к месту спросил:
— Как там ваш малыш? Уже ходит?
— Вы угадали, доктор. Сегодня утром он сделал первый шаг.
Он улыбнулся, уловив в моих словах двойной смысл. Затем, скрестив руки на баранке, принялся рассеянно смотреть в ветровое стекло.
— Будьте осторожны, Йохен, — сказал он, — хотя я полагаю, у вас хорошие друзья.
Я тоже стал смотреть в ветровое стекло. Все подстроено! Что это — он раскусил меня? И я решился пойти ва-банк. Медленно, не глядя на него, я вытащил из кармана авторучку и протянул ему:
— Наверное, вам лучше взять ее назад. Она может попасть в чужие руки.
Он повернулся ко мне, и мы в течение нескольких секунд смотрели друг другу в глаза. Потом он взял ручку и так же медленно, как я ее достал, положил мне обратно в карман:
— Да будет вам. Я вас знаю: сведения попадут в нужные руки.
35
Дорогая Каролина, я в таком расстройстве чувств и настолько измучена, что даже не знаю, каким числом подписать письмо. Что же это за жизнь и что она с нами вытворяет? Ты была столь добра, что прислала мне обратный авиабилет, но я им не могу воспользоваться. В последнюю минуту пишу тебе об этом. Ты всегда хотела, чтобы твоя дочь была тебе и другом. Не обвиняй меня в неверности! Пока что нам не удастся увидеться. Знаешь ли ты, что на месте твоего бара теперь прачечная самообслуживания? И вообще, все очень изменилось. Я потрясена жестокостью мира. Когда мы увидимся снова? Кузен точно такой, как ты мне его описывала, только уже не юноша. Это правда, что он восхищался Мюнхгаузеном и его удивительными историями? Что невероятного в том, что мы сами вытаскиваем себя за волосы из болота? Я дам о себе знать, как только смогу. Кузен сказал, что в доме, где вы вместе с его отцом росли, всегда найдется свободная комната на случай, если, ты надумаешь приехать в гости. Представь себе, как мы собираемся все вместе и жарим яичницу на сале и много-много лука. Не думай, что я тронулась! Может, это и так, но я этого не заслужила. Я чувствую в себе столько любви, в том числе к тебе, дорогая Каролина, что прямо-таки не знаю, что с ней делать. Прости меня за всю эту нелепицу, которую я тебе пишу. Ах, Дэвид, Дэвид! Ты помнишь его, Каролина? Все вышло не так, как ты думала. Сейчас вопрос стоит не о том, как жить, а о том, как выжить.
Любящая тебя Виола.
Что с «дипломатом» и пленкой? Нужно найти Виолу.
Дэвида Штамма носит по городу как потерпевшего кораблекрушение, вконец измученного и потерявшего курс человека. С того момента, как они на его глазах загнали до смерти старого Эгона, он знает, что и ему на снисхождение рассчитывать не приходится. Он вытащил у них припрятанную в рукаве козырную карту, и теперь они устроили на него беспощадную охоту. Приговор давно вынесен, в путь тронулись палачи. И Виолу ожидает та же судьба. Неужели она уже и их руках? Коль скоро они выследили Эгона, то установили и его пристанище. А выяснив адрес, они наверняка вышли на след Виолы. В нем вновь поднимается недовольство собой. Имел ли он право втягивать ее в это скрытое от глаз обычных людей болото?
Бесцельно передвигает он ноги по бесконечной улице. Подошвы у него горят. Только двигаясь, он еще способен поддерживать свое тело в вертикальном положении. Но сейчас не время заниматься самоистязанием. Великие цели не становятся менее великими из-за мелочности средств. Она привязалась к нему, и он это терпел, потому что у жизни своя логика. Она искала себя, а он помог ей найти кузена. О, Мастер Глаз, готовы ли вы еще раз сверить наши часы? Ведь в мире опять царит большое безумие, которое готово его уничтожить.
Измотанный, грязный, невыспавшийся — в таком виде ему нельзя бродить по городу. В небольшой парикмахерской он просит помыть ему голову и побрить его. Он засыпает под бритвой парикмахера, и этот короткий сон освежает его. В каком-то буфете он выпивает крепкого черного кофе из автомата и запивает его крепкой вишневой настойкой. Когда он расплачивается, в его голове уже созрел план.
Из автомата он звонит дежурному отеля «Шилтон-Ройял». Он не называет своего имени и якобы выполняет поручение постояльца из номера 717.
— Счет будет оплачен, а чемоданы постоялец просит отослать в камеру хранения аэропорта Тегель, — говорит он.
Дежурный реагирует как-то сконфуженно и соединяет его с администрацией отеля.
В трубке много раз щелкает, а затем кто-то, выдавая себя за дежурного по этажу, говорит:
— Просьба дорогого гостя, разумеется, будет выполнена, но не мог бы дорогой гость все же подъехать сам?
— Нет, не может, поскольку занят не терпящими отлагательства делами.
— В таком случае, — отвечают в трубку, — следует распорядиться и относительно содержимого сейфа.
— Разумеется, распоряжения касаются и содержимого сейфа. Постоялец просил передать, что ключ лежит в правом ящике письменного стола.
Вешая трубку, Дэвид Штамм сдерживает довольную улыбку. Хотя маневр сам по себе примитивен, но для них сойдет. Виола, если предположить, что ей удалось ускользнуть, остается для них величиной неопределенной, и теперь они должны будут учитывать вариант, что она пошла против него и ограбила сейф. В этом случае он ничего не знает о событиях в «Шилтон-Ройяле», а им, чтобы действовать наверняка, придется усилить посты в Тегеле. Впрочем, если они даже примут его звонок в отель за уловку, это приведет их в бешенство: как же так, уже наполовину добит, а осмеливается на подобную наглость! А это бальзам для его самолюбия. После этого легче дышится.
Он избегает пользоваться метро и автобусом. Если они объявили большую тревогу, то там он подвергнется опасности наткнуться на разосланных повсюду агентов службы наружного наблюдения. Он не решается даже сесть в такси. Водители такси слушают радиотелефон полиции — некоторые в качестве постоянной обязанности. Но передвигаться на чем-то нужно.
С владельцем маленькой фирмы по прокату автомобилей, который попутно содержит небольшую пивную, он договаривается быстро, отсчитав ему наличными плату за месяц вперед и согласившись взять автомобиль, за который, если попытаться его продать, не дали бы и ломаного гроша. Машина гремит и пыхтит, как паровоз, но, как бы то ни было, она ездит.
Дэвид Штамм едет осторожно, как будто везет в багажнике нитроглицерин. Однако это все же случается на Софи-Шарлотте-плац. Машина марки «сирокко» вылетает на перекресток так, будто встречного движения вообще не существует. Своим тупым носом она ударяет старый автомобиль ниже бампера. От удара и скрежета Дэвид чувствует, что оглушен. Когда он приходит в себя, то видит, что водитель «сирокко» мечется как помешанный. Он пританцовывает, прыгает, орет и пинает ржавую жесть старого автомобиля. Затем рывком открывает дверцу и вытаскивает Дэвида из машины.
— Вы, проклятые турки, — орет он, — с вашими дерьмовыми телегами! Давно пора запретить вам ездить на ваших чертовых колымагах. И повыгонять вас всех к черту. Выезжает на своей тарахтелке на перекресток, как слепой дервиш! Ты что, совсем ослеп? Сидел бы в своей пустыне! И надо же было тебе попасться мне навстречу, чучело поганое!
Двумя отработанными приемами Дэвид освобождается от рук незнакомца и оглядывается. Картина довольно безрадостная: на новом «сирокко» лишь немного погнута жесть, а его машина стоит с поломанной осью. Ему остается одно: быстро и незаметно исчезнуть. Но прежде чем он успевает вступить в переговоры с этим помешанным, подъезжает полицейская патрульная машина. Старший патруля — этакий медлительный и хитроватый тип. Три раза, не сказав ни слова, он обходит вокруг места происшествия, а затем спрашивает:
— Может, у господ общее страховое общество? Тогда они могли бы договориться без формальностей.
Выясняется, что новенький «сирокко» по какой-то причине вообще не застрахован. Толстый полицейский недоволен: теперь придется возиться с бумагами. Когда он направляется к патрульной машине, владелец «сирокко» искоса смотрит на Дэвида снизу вверх.
— А ты действительно турок? — лицемерит он. — Что-то у тебя нос длинный.
Дэвиду уже почти все равно.
— Я — профессор Штамм, американец, — отвечает он.
— Я так и думал!— ухмыляется коротышка.— Ты прямо вылитый американец. А я — король Молуккских островов! Хочешь что-нибудь получить за свою колымагу или тоже не прочь смыться? Если так, то поехали.
Он вскакивает в свою машину, дает задний ход, высвобождая ее из-под бампера автомобиля Дэвида, и открывает ему дверцу с другой стороны:
— Садись, старик! Здесь нам ничего не светит, кроме неприятностей.
По дороге он рассказывает что-то о свояченице, нелегально купившей эту машину, о том, что в настоящий момент едет на садовый участок, и наконец спрашивает:
— Где вас ссадить?
— В Шёнеберге, — говорит Дэвид, — на Манштейнштрассе.
— Понятно! К шлюхам?
Поскольку Дэвид не отвечает, разговор глохнет. На Манштейнштрассе он некоторое время выжидает, чтобы убедиться. что этот тип не вернулся. Затем он медленно проходит вперед два квартала, сворачивает за угол, сворачивает еще раз, пытается припомнить местность и те времена, когда он здесь проезжал на своем «жуке»[57]. Афишной тумбы больше нет, но святой Георг с копьем по-прежнему на месте — на причудливой островерхой крыше углового лома, Еще несколько шагов — и должен появиться полотняный навес над входом в «Кэролайнс бир бар». Но никакого навеса нет и ничего похожего на ресторан поблизости не видно. Дэвид обращается к одному прохожему, к другому. Те непонимающе смотрят на него и отрицательно покачивают головами.
— Это было так давно! — припоминает наконец какой-то старичок. — Да. был здесь американский бордель.
Это был последний шанс. Что же теперь — капитулировать? Дэвид в нерешительности стоит на тротуаре и ловит себя иа том, что его пальцы в бешеном темпе перебирают в кармане фишки для го. Он не знает, что ему делать. С другой стороны улицы, оттуда, где Мастера Глаза однажды настигла судьба, через большую витрину смотрят на него две скучающие женщины. За их спинами пенится скрытый стеклянными панелями стиральных автоматов мыльный раствор. О, дьявол, эта проклятая прачечная самообслуживания функционирует на месте салуна Каролины! Но поскольку это действительно его последний шанс, он медленно переходит улицу, входит в прачечную и садится в кресло. С подчеркнутым безразличием оглядывается вокруг и неожиданно замечает, что мужчина в белом халате за кассой начинает проявлять беспокойство. Дэвид закрывает глаза. Неужели это возможно?
— Господин профессор? — Перед ним стоит человек в: белом халате и протягивает ему небольшую стопку белья.
— Я слушаю, — говорит Дэвид Штамм.
— Это оставила для вас ваша супруга. Она не захотела ждать.
— Прекрасно, что она догадалась сделать это. По-моему, пора… — И Дэвид трет пальцем воротничок своей рубашки.
Человек из прачечной понимающе улыбается, а Дэвид, спрашивает, нельзя ли в виде исключения поменять рубашку здесь.
— Конечно же можно, господин профессор.
В маленькой задней комнатке Дэвид разрывает пакет и осматривает белье. «О, Виола, ты не только прекрасное дитя, но и умница!» — благодарно думает он. В манжете одной из рубашек он находит крохотную записочку: «Я люблю тебя! Я сделала все, как ты сказал. У меня только ты и твои вещи! Я во «Внутренней миссии». В конце стоит адрес.
У нее «дипломат» и пленка! И она ждет его! Дэвид надевает свежую рубашку. Мысль о сестрах-монахинях из «Внутренней миссии» немного беспокоит его. Ненужное белье он бросает в мусорную корзину. В телефонной будке он сжигает записку на огне зажигалки. Затем набирает номер, который с помощью мнемонического приема извлекает из памяти. Он представляется работником статистического земельного управления и просит к телефону господина Вагнера. Ожидая, пока того позовут, пытается припомнить, как он выглядел. Время совершенно стерло из памяти его облик, а ведь тогда все началось с него. Именно Вагнер откопал его партнера в пивной Каролины. Не счастливый ли это знак, что тот же самый человек перекинет для него мостик к старому партнеру?
Господин Вагнер обрушивает на него поток слов. Он, мол, давно не работает на земельное управление. Ему пришлось уйти оттуда. Так что это ошибка. Совершенно очевидно, ошибка. Он работает в бильярдной. У него четырнадцать столов. У него работы по горло. Да, именно по горло. Да, его фамилия Вагнер. Хорошая фамилия, между прочим, но довольно распространенная. И следовало бы проверить, не произошла ли в данном случае ошибка. Или это не так?
— Господин Вагнер, сколько вам лет? — спрашивает Штамм.
— А это еще зачем? Что вы хотите этим сказать? Пятьдесят девять!
— Послушайте, господин Вагнер, никакой путаницы не произошло. Я лично желаю вам дожить до шестидесяти. Однако для этого необходимо вести разумный образ жизни.
— Спасибо! Теперь я живу разумно.
— Я в этом убежден и желаю вам всего наилучшего. Но есть люди, которые из принципа берут бильярдный кий за тонкий конец. Вы понимаете? Они могут не захотеть, чтобы вам исполнилось шестьдесят. Так сказать, из чисто статистических соображений, чтобы вы не испортили им средних возрастных показателей. Оставайтесь при средних показателях, господин Вагнер!
После продолжительного молчания из трубки раздается плаксивый голос:
— Чего я хочу? Обычной, спокойной жизни! Вы же знаете меня! Неужели этой старой истории не будет конца?
— Нужно самому поставить в ней точку. Вы готовы к этому? Кроме всего прочего, у меня для вас небольшой банковский счетик. С процентами набежало около пяти тысяч. Как, неплохо для человека, собирающегося дожить до шестидесяти?
— Пять тысяч? И вы заплатите?
— Сразу же по завершении дела.
Он назначает господину Вагнеру встречу в небольшом парке поблизости. Полчаса спустя он видит его сидящим на скамейке у бассейна с золотыми рыбками. Несколько раз на расстоянии обходит вокруг скамьи. Лишь убедившись в том, что Вагнер не привел за собой хвоста, садится рядом с ним:
— Вы все поняли, господин Вагнер?
— Все.
— Помните тот скандал на городском предприятии по вывозу мусора? Вам тогда удалось выгородить одного из членов производственного совета. Так что можно рассчитывать, что среди мусорщиков у вас есть друзья.
— Слава богу! У меня почти везде есть друзья.
— Прекрасно! Если старая дружба не сработает, то вы можете и надавить. Дайте понять, что все старые документы сохранились. Играть на такой струне — это ведь ваша специальность. И никаких сантиментов! Надо найти шофера контейнеровоза, который регулярно ездит на свалку в район Каллинхен.
— Каллинхен? Так ведь это…
— Правильно! И нет никаких оснований нервничать. Это обычные поездки, предусмотренные соглашениями. И некто из земельного управления в целях статистических исследований и без утомительных процедур с официальными разрешениями — поскольку дело не терпит и городу грозят мусорные завалы — хочет отправиться в такой рейс в кабине водителя контейнеровоза, скажем, завтра. Вы понимаете, дело спешное, и от вас требуется выполнить его, как всегда, точно и быстро.
Между тем настроение господина Вагнера повышается. Либо его окрыляет мысль о пяти тысячах марок, на которые он сможет отпраздновать свое шестидесятилетие, либо перспектива поймать на крючок глупого жирного карпа — старое любимое занятие. Он смеется:
— Спасибо за доверие. Вы и раньше были очень добры, а память о доброте сохраняется долго. Можно намекнуть шоферу, что его не обидят?
— Разумеется. И не скупитесь! Подсчитайте тарифы и надбавки за инфляцию. А теперь ступайте и драйте до блеска свои бильярдные шары. Я найду вас.
Невысокое красно-кирпичное здание «Внутренней миссии» находится всего в двух кварталах от парка. на фоне белоснежных занавесок хорошо смотрятся светло-красные цветы герани. «Кровь Христа и невинность Марии», — думает Дэвид. В стеклянной витрине висят два плаката, нарисованные, скорее всего, сестрами-монахинями, претендующими на художественный вкус, — о вреде алкоголя и спасительном влиянии духовной литературы. Благочестивое изречение начертано и над полукруглой аркой входа. Оно известно Дэвиду по кладбищам: «Любовь никогда не кончается». Ниже — металлическая табличка с надписью: «Позвоните и подождите — вам откроют!» Занавеска на окне колышется, потом открывается дверь, и на него смотрят приветливые старушечьи глаза.
— Стучитесь — и вам откроют! Добро пожаловать, преподобный! Добро пожаловать в дом открытых сердец!
Хотя Дэвид Штамм не может припомнить, с каких это пор он стал преподобным, и хотя он не стучал, а в соответствии с инструкцией позвонил, но, поскольку ему открыли, он переступает порог дома. Ему предлагают сесть в кресло с высокой спинкой.
Старая дама поправляет ленты на своем бело-голубом чепце и застывает перед ним с выжидательной миной на лице.
— Я — настоятельница Ханна, — говорит наконец она.— Еще раз добро пожаловать, преподобный! Вы делаете доброе дело. Но сейчас мы не будем тревожить вашу подопечную: она спит. Ничего удивительного — после стольких-то горестей и страданий!
Дэвид чувствует себя не в своей тарелке. Он осторожна пытается направить разговор в другое русло:
— Все верно, дорогая сестра, ибо, как сказал господь,, через ваши страдания я приду к вам.
После этого ему дают полакомиться сдобными сухариками с чаем из лекарственных трав. Настоятельница уверяет, что истово бережет приблудную овечку от злого ока. Мирские пороки, как громадное чудовище, скребутся в ворота, но миссия известна тем, что умеет защитить свою паству. Да благословит господь каждое доброе дело! И от наследства, которое по воле усопшего дяди перешло на службу богоугодного дела, она тоже сумела отвести алчные руки злодеев, рабов золотого тельца. Преподобный сможет получить все в целости и сохранности, когда милое дитя проснется.
Теперь все ясно: милое дитя выдало здесь потрясающую историю, произведя его при этом в преподобные. Кто же он — квакер или баптист? Или, быть может, мормон?
— Дорогая сестра, дочь наша заслужила свой сон, — говорит он. — Кто спит, тот не грешит. Но даже господь торопился, направляясь в Иерусалим. Мы все же разбудим ее.
Настоятельница Ханна посылает наверх одну из кухарок. Она садится напротив Дэвида и смотрит на него с лукавым смирением:
— Мы, лютеранские сестры, в делах наших не можем уповать на американские чудеса. — Она вздыхает: — Но мы богаты нашей любовью к отверженным мира сего…
Как бы в подтверждение ее слов, одна из монахинь проводит мимо них в ванную золотушного старичка — очевидно, одного из подобранных на улице бродяг. Одобрительно кивая, Дэвид смотрит вслед процессии. он хвалит сухарики и чай и в изысканных выражениях предлагает миссии в лице ее настоятельницы из наследства, завещанного церкви, небольшую сумму в качестве пожертвования. Лицо старой дамы покрывается легким румянцем. Ее глаза снова глядят весело. Она проворно поднимается и быстрыми шагами направляется наверх. Возвращаясь, она держит за руку Виолу.
Дэвид замечает в глазах Виолы незнакомое серьезное выражение. Сердце его вдруг наполняется нежностью, и ему стоит усилий подавить его чувство. На глазах у монахинь, сбежавшихся, чтобы с умилением посмотреть на эту встречу, он пытается найти приличествующий моменту вариант отеческой улыбки. Он кладет руку на голову Виолы в решимости доиграть до конца начатую ею комедию.
— Приветствую тебя, дочь моя! — говорит он приглушенным, слегка дрожащим голосом. — Неисповедимы пути, которыми приходится идти нам. Но, как я вижу, господь оберег тебя. Будь благословенна твердость, помогающая нам сохранить веру там, где незнание заставляет нас сомневаться.
— Вы слишком добры, преподобный.
Виола прекрасно понимает, чего ждет от нее здешняя публика, и припадает ему на грудь. Она подмаргивает ему, и он едва успевает помешать ей поцеловать ему руку. В глазах у некоторых монахинь он видит слезы. Момент самый подходящий.
— А теперь, мои дорогие соратницы, когда судьба вновь соединила нас, я хочу спросить вас: не найдется ли в этом гостеприимном доме подушка, на которую после столь длительного странствия я мог бы приклонить голову?
Одобрительный шум голосов свидетельствует, что он не ошибся, что его желание не воспринимается как нечто противоестественное. Он просит оставить его наедине с подопечной для серьезной нравоучительной беседы. В дверях комнаты, где как манящий мираж стоит свежезастеленная кровать, он оборачивается к настоятельнице и, назвав сумму, которую его церковь находит приемлемой для пожертвования миссии, еще раз просит сохранить в тайне пребывание в этом доме его самого и его подопечной.
Как подрубленный падает он на кровать.
— Ботинки… — стонет он. — Сними с меня ботинки… Ноги горят, будто я стою на углях.
Однако Виола и не думает выполнить его просьбу. Ее всегда пугали его невероятно большие ступни, более того, она даже боялась смотреть на них. Стоя в вызывающей позе возле кровати, она говорит:
— Не распускайся, Дэвид! Когда ты распускаешься, мне становится страшно. Ты не хочешь сначала взглянуть на «дипломат» и магнитофон? Из-за них я столько страхов натерпелась.
Он поднимается, сажает ее рядом с собой на кровать и гладит по жестким кудряшкам:
— Страхи были не напрасны. Но скоро всем страхам придет конец.
Потом она атакует его вопросами, и ему нелегко найти нужные ответы. У нее на глазах он открывает «дипломат» и вынимает оттуда сверкающую коробку. Это игра го, изготовленная из благородных пород дерева и инкрустированная драгоценными камнями, золотыми и серебряными пластинами с изображением аллегорических сцен из дальневосточной мифологии. И оба набора фишек из золота и серебра. Они сделаны под старинные монеты, на которых изображены символы счастья и забвения.
— Теперь ты знаешь, что за тяжесть тебе пришлось таскать. — Он улыбается, потому что ее глаза никак не могут вобрать в себя это чудесное творение. — Стоило ли это твоих волнений? Все это твое. Я дарю это тебе для твоих исследований. Это стоит столько, что ты сможешь прожить безбедно до конца своих дней.
А еще в «дипломате» лежит тетрадь в твердой черной обложке.
— Мои дневник, — объясняет он, — своего рода завещание. Предназначается для твоего кузена. Это касается только его и меня.
Она чего-то не может понять:
— Дэвид, ты говоришь так, будто мы опять должны расстаться.
— Да, должны, Виола.
— Ты не смеешь бросать меня!
— На этот раз мы сделаем по-другому: ты оставишь меня.
Она растерянно смотрит на него. Она ничего не понимает. Еда, которую им приносят на ужин, остается нетронутой. Он уговаривает ее тихим голосом заклинателя. За окнами темно, но они не зажигают света. Она обнимает его за плечи и держит так, словно хочет помешать разлуке. В его словах скрывается что-то темное и зловещее. Однажды он упоминает всадников Апокалипсиса[58] и говорит о том, что лошади уже оседланы, им почистили копыта и вплели пестрые ленты в гривы. Она готова впасть в отчаяние от этих зловещих пророчеств, но он убеждает ее, что отдельный человек не имеет нрава на слабость, когда на карту поставлено существование всего человечества.
— Они хотят не только уничтожить нас, но и погасить разум, Виола. Разум как форму и содержание бытия.
Она не хочет и не может понять его. Он напоминает ей о Майданеке, Освенциме, Треблинке, рассказывает о том, что там погибли раскиданные судьбой по свету его сородичи. Следующая бойня, убеждает он, станет последней, ибо она убьет все живое, не делая различий между людьми той или иной расы, национальности, вероисповедания, между человеком и животным, между деревом и травинкой. Затем он кладет ей на колени магнитофон и говорит:
— Это важнее, чем «дипломат». Береги его, как если бы это был твой ребенок. Иначе… — замолкает он, — иначе может так случиться, что на земле вообще больше не будет детей.
Ей представляется, что она попала в центр чудовищного, угрожающего всему человечеству заговора и что она может стать последним тормозом, способным сдержать заговорщиков. Кровать узка, но и они не слишком-то широки, так что и ей хватает места.
Поздно ночью настоятельница Ханна подкрадывается к двери, прислушивается, плотно сжав губы, и трясет головой. Она слышит мужской храп и находит довольно странным, что преподобный проводит ночь в одной комнате со своей подопечной, едва достигшей совершеннолетия, да к тому же чернокожей. Но вот она вспоминает о пожертвовании, ожидающем ее завтра утром, успокаивается и идет спать.
А к Виоле сон не идет. Свет луны падает в окно и отбрасывает на побеленную известкой стену длинную тень в виде креста. На столе стоит раскрытая игра го, и инкрустации сверкают, словно подают таинственные сигналы. Дэвид спит беспокойно. Будто его распяли на кресте, а потом сняли — и вот он лежит на узкой кровати, оттеснив ее к железному краю.
Не дает ей уснуть и любопытство. Рядом с игрой го лежит неприметная тетрадь — дневник, предназначенный кузену. Почему вдруг кузену? Что у них общего? Какая еще нить связывает их, кроме той, которая завязалась при ее посредничестве, когда им обоим захотелось сыграть друг с другом партию го?
Она зажигает настольную лампу. Дэвид даже не шелохнется. С большим трудом разбирает она его мелкий, почти бисерный почерк. Записи сделаны по-английски, разделены на главы, и у каждой главы имеется по-своему странный заголовок. «Есть только одна мораль», — переводит она. И дальше: «Мыслить — тоже значит действовать». Записям предпослано вступление. Некоторые места она не в состоянии перевести, и смысл их остается для нее непонятен. Однако она сознает, что рукопись в целом — это своего рода попытка оправдаться, пространное философское рассуждение о гуманности как основе партнерства. В одном месте она читает: «Вне всякого сомнения, я бы мог найти и более простые пути. Но путь всегда должен быть достойным цели. Партнер когда-то верил, что не ошибается во мне. Поэтому сегодня я не имею права отказать ему в доверии. Мы сыграли прекрасную партию, и, поскольку бог справедлив и ему не безразлично его творение шестого дня[59], мы доведем эту партию до достойного конца».
36
Вернер еще раз разбирается в подоплеке дела, а его генерал получает новости из Москвы. Кто хочет выиграть в футбол у противника, уже забившего гол, должен забить два гола. Вернеру приходится рассчитывать, каким должен быть провод, чтобы противник узнал по нему больше, чем хотел знать.
Мы обливались потом в наших темных костюмах. На карте прогнозов был помечен антициклон «Патроклус», накрывший Центральную Европу, как горячий блин. Каждый вечер за горизонтом слышался гром, полыхали зарницы, но с неба не упало ни капли. В выходные и предвыходные дни пляжи на Шпрее и Хафеле были переполнены. А мы даже на совещаниях в узком кругу сидели в пиджаках.
И политическая обстановка накалилась до предела. Мы еще не знали места и часа схватки, но уже чувствовали ее приближение, а в подобных ситуациях — это известно каждому бывшему солдату — на командных пунктах не ослабляют даже узлов галстуков. Как-то так получилось, что застегнутый на все пуговицы пиджак и пропотевшая рубашка стали олицетворением строжайшего соблюдения дисциплины. Обычно в общении у нас был принят довольно фамильярный тон. А в те дни мы даже друг с другом общались в официальной манере — серьезно и сдержанно. Это не позволяло проявиться излишней нервозности. О часе, когда, возможно, придется засучить рукава, нас бы известили, а в тот момент мы не притрагивались к нашим галстукам, поскольку, вероятно, хотели доказать самим себе, что даже в этом августовском пекле не утеряли способности действовать хладнокровно. Когда через маленькую дверь в комнату совещаний вошел генерал, мы встали, хотя вообще-то никогда этого не делали. Его двубортный темно-серый костюм тоже был застегнут на все пуговицы.
В Москве было принято решение. Мы внесли предложение, и союзники нас поддержали. Кроме того, из Москвы поступила неофициальная информация о воздушно-десантном учении в штате Северная Каролина, в котором участвовало четыре тысячи американских парашютистов. Во вводной к учению говорилось, что они «используются в находящейся под угрозой маленькой стране» в сфере американского влияния. Учение называлось «Быстрый удар». В нашем собственном аппарате имелись достоверные сведения о предстоящем внеплановом призыве резервистов бундесвера. Журнал «Шпигель» писал: «Запах крови и железа вновь витает над Европой. Похоже, война за Берлин возможна».
Война! Как раз эту альтернативу необходимо было исключить, и каждый в нашем кругу понимал, что война тем вероятнее, чем больше времени мы дадим противнику на подготовку к ней. Генерал приехал прямо с заседания Политбюро, которое состоялось в одном из охотничьих домиков. Было решено под руководством товарища Эриха Хонеккера, в то время секретаря Национального Совета обороны, создать специальный штаб, который разместится на втором этаже берлинского полицей-президиума. Главная задача заключалась в том, чтобы скоординировать наши операции с комплексом мер, которые разработает этот штаб. Каждый шаг необходимо было выверить с учетом политической обстановки.
Генерал использовал выражение, употребленное где-то в кулуарах московского Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, и выдвинул его в качестве актуального лозунга: «Западный Берлин не должен превратиться во второе Сараево». А кто-то из присутствующих добавил: «И во второй Глейвиц[60]».
Сравнение было метким. Точно в стиле нацистской пропаганды перед нападением на Польшу вражеский аппарат обработки общественного мнения пытался создать прямо-таки атмосферу истерии и страха. Как и в 1939 году, в 1961 году центральное место в газетах занимали кошмарные истории о судьбах беженцев. Мы сравнили методику. В 1939 году один из заголовков гласил: «Кровавое воскресенье в Шнейдемюле — потоки польских немцев устремились через границу рейха». А в 1961 году «Бильд-цайтунг» вопила: «Беженцы… беженцы… беженцы… Теперь весь мир видит: в зоне паника!»
Приходилось считаться с тем, что эти клеветнические выступления окажут определенное воздействие на наше население и вызовут у отдельных его представителей чувство, неуверенности. Число зарегистрированных лиц, проживавших в восточной части города, но работавших в Западном Берлине, подскочило до 63 тысяч. Предположительно еще 50 тысяч немцев из Восточного Берлина работали там нелегально. Эта ежедневная массовая миграция через границу не поддавалась даже частичному контролю. Наряду с контрабандой товаров, обходившейся республике в миллиарды марок, процветала контрабанда пропагандистской литературы. Во что она нам обходилась — подсчитать было невозможно. На заседании Политбюро обсуждался проект речи, с которой Вальтеру Ульбрихту предстояло выступить на одном из крупных берлинских предприятий. Речь эта должна была послужить сигналом к нашему контрнаступлению. В проекте выступления были такие фразы: «Осуществлявшемуся до настоящего времени разграблению ГДР будет положен конец» и «История не знает стояния на месте — никто не может миновать социализм».
Один из наших ветеранов, участвовавший в свое время в создании разведывательного аппарата «Рот-Фронта», действовавшего также в условиях подполья, сказал; «Одно дело — что никто не может миновать социализм, и совсем другое — что никто не может уничтожить социализм».
Нашей главной задачей было установить, каковы возможные границы наших действий, и самим участвовать в том, чтобы эти границы расширить. Через два дня после окончания московского Совещания маршал Конев, легендарный командующий фронтом времен Великой Отечественной войны, принял командование Группой советских войск в Германии. Он освобождал Бреслау и Дрезден, участвовал в освобождении Праги. Комментируя его назначение, западные военные эксперты подчеркивали, что маршал обладает немалым опытом ведения боев в условиях крупных городов. Вероятно, чтобы внести ясность в вопрос о границах допустимого для каждой стороны, он пригласил трех военных комендантов Западного Берлина в свою штаб-квартиру в Вюнсдорфе. Старшим среди них был французский дивизионный генерал Ляком, однако он уступил право задать основной вопрос американскому бригадному генералу Уотсону.
— Господин маршал, — спросил американец, — что означает усиленное передвижение военных транспортов в зоне вашего командования?
Говорят, старый солдат улыбнулся, по привычке почесал свою облысевшую голову и ответил, что пока еще не вник во все детали. А затем он произнес:
— Что бы ни случилось, ваши права в Западном Берлине останутся неприкосновенными.
Когда из исторических далей до нас доходят такие вот высказывания, мы нередко воспринимаем их как легенду, не зная точно, где кончается реальность и начинается вымысел. Та вюнсдорфская встреча, состоявшаяся в напряженные дни августа шестьдесят первого года, отделена от нас десятилетиями. Поэтому сегодня высказывание Конева воспринимается почти как легенда. Но это правда. Когда я прочел его на записке, переданной мне тогда на одном из совещаний, я подумал, не одним ли источником руководствовались американский генерал Уотсон, задававший вопрос советскому маршалу, и сотрудник ЦРУ доктор Баум, задавший аналогичный вопрос Йохену Неблингу во время их последней встречи.
При обсуждении общей обстановки я не осмелился доложить сведения, полученные Йохеном Неблингом во время его встречи с доктором Баумом. Мне не хотелось еще больше накалять и без того до предела накаленную обстановку. Кроме того, я знал, что наш генерал не очень-то доверяет таким «подаркам». И вот он сам передал мой доклад участникам совещания для ознакомления. Два экземпляра, каждый по шесть машинописных страниц, переходили от одного участника совещания к другому. Бывают ситуации, когда от каждого отдельного человека требуется максимум благоразумия и сдержанности, а от коллектива в целом — максимум смелости и решительности. Мне больше по душе обстоятельства, когда требуется обратное. Но, как говорится, обстановку необходимо чувствовать. Когда экземпляр, ходивший в конце стола, попал ко мне, я не стал передавать его сразу дальше, а еще раз перечитал главные положения. Опрашивая Йохена, я требовал от него наибольшей объективности, не оставляя без внимания и нюансы в поведении американца.
Генерал приказал принять решение без долгих дебатов. Каждому сидящему за столом совещания было ясно, что, чем уже будут временные рамки для наших оперативных действий, тем больше простора останется для их осуществления. Когда меня попросили высказаться, я был готов изложить проект решения в нескольких вариантах. После короткого обсуждения и оценки всех обстоятельств, потребовавших от Баума, организовавшего встречу, больших хлопот и риска, и после несколько более длительного обсуждения вопроса о том, на какую степень риска имеем право мы, в соответствии с моим предложением было принято решение. Мы классифицировали это дело как «скрытое предложение противника».
Это был труднейший вариант для меня и для Йохена. Сегодня, после того как доктор Баум стал профессором Штаммом, мы знаем о нем больше. Но и тогда я не мог отказать ему в уважении за несколько своеобразный профессионализм его стиля. Но на карту было поставлено слишком многое. Он оставался противником. Назвать его как-то иначе мне не позволяла совесть. А кроме того, я всегда считал — и до сегодняшнего дня не изменил своего мнения — людей, желания и побуждения которых совпадают с твоими, но которые из этих желаний и побуждений хотят извлечь что-то другое, самыми неподходящими для открытого партнерства.
После окончания совещания генерал затянул меня через маленькую дверь в «ризницу» — так мы называли его кабинет — и сказал:
— Он получит свой провод. И пусть слушает себе на здоровье, пока у него не зазвенит в ушах.
Таким образом, выбор был сделан. Я должен был выходить на доктора Баума, помня о том, что он может внезапно исчезнуть н так же внезапно появиться у меня за спиной. О том, что это означало для Йохена Неблинга, я не смел и думать. Генерал передал мне фотокопии планов всех важнейших подземных кабелей вблизи границы. На принятие решения он дал мне четырнадцать часов. Он посмотрел на часы и сказал будничным голосом:
— Через четырнадцать часов начало игры. Увидимся на стадионе.
Он отважился на прогноз, который, как всегда, был оптимистическим:
— Моппель снова в форме. Мы выиграем со счетом 2:1.
37
Стр. 5.
Продолжение допроса Вагнера Бодо
— Господин…
— Вагнер моя фамилия.
— Я мог бы назвать тебя вонючим дерьмом и не ошибся бы. Когда ты наконец поймешь, что сидишь не в земельном статистическом управлении, а в ведомстве по охране конституции. Да и сидишь-то, пока я тебе не врезал!
— Только не бейте!
— Кто сказал, что вас собираются бить? Говорите же, говорите. И поподробней, пожалуйста! Когда, где, каким образом?
— Он сказал, что найдет меня.
— Когда?
— Сегодня.
— Точнее!
— Я не знаю.
— Так знайте же, что вы должны немедленно сообщить нам, как только он появится или позвонит.
— А что с деньгами? Он обещал дать денег.
— Об этом мы поговорим потом. Дорогой господин Вагнер, все очень просто. Вы сообщите ему, что обо всем договорились с боссом мусорщиков: место встречи, время, номер контейнеровоза. Вам нечего бояться, вы же теперь с нами.
— Да-да, но деньги… Он всегда был так щедр!
— Да заткнись ты, чучело! Иначе я сделаю из тебя покойника.
(Протокол составлен по магнитофонной записи.)
Рано утром в субботу, в ту блаженную минуту, когда, наполовину пробудившись, Йохен Неблинг снова собирается уснуть, его поднимает жена:
— Вставай, тебя к телефону! Это диспетчер. И завтрак уже готов.
Чтобы прийти в себя, он выпивает глоток воды. «Черт побери! — вспоминает он. — Большой эксперимент в четвертом цехе… Кто же опять напортачил? Пропал выходной…»
— Послушай, — говорит диспетчер, — кто-то звонил и спрашивал номер твоего телефона. Но ведь ты знаешь указание — я не дал.
— Ну и правильно! — одобряет Йохен. — А кто меня спрашивал?
— Сестра Ханна.
— Сестра Ханна?
— Да, сестра Ханна! У тебя что — сестра в Западном Берлине?
— В Западном Берлине? Почему в Западном?
— Потому что она оставила для тебя западноберлинский номер. Просила позвонить. Срочно.
— Ну да, конечно… Все ясно… Извини, ты вытащил меня из постели, и я еще не совсем пришел в себя. Ну конечно, Ханна… Все ясно… Дай-ка мне номер…
К счастью, Эрхард Холле дежурит. За товарищем Вернером посылают машину. Его снимают с мостков лодочного причала в тот момент, когда он уже собирался отчалить на лодке на продолжительную рыбалку. Вынимая весла из уключин, он испытывает досаду по поводу испорченного выходного. Но срабатывают старые рефлексы: ведь боевая тревога прозвучала. Он не тратит времени на переодевание. Он лишь опорожняет банку с приманкой, вываливая червей на кучу листьев. Когда он в потрепанной куртке и чудной зеленой шапочке появляется в управлении перед Эрхардом Холле и Йохеном Неблингом, то напоминает ряженого. Его приветствие предельно кратко. Внешней сдержанностью он старается скрыть внутреннее волнение. Это заметно по тому, что он ничего не говорит, ни о чем не спрашивает, ничего не делает, а только отодвигает стул от письменного стола и ждет. Молодой Холле достаточно хорошо знает его — сейчас ему не до объяснений. Он кладет перед Вернером листок:
— По этому номеру Йохена просили позвонить.
Вернер смотрит на листок издалека.
— Номер западноберлинский.
Вернер поднимает одну бровь.
— С ним хочет поговорить некая сестра Ханна.
Вернер достает из кармана трубку.
— Она позвонила на завод. Ему передал диспетчер.
Вернер сосет холодную трубку.
— Помнишь, его кузина Виола установила первый телефонный контакт через завод.
Вернер вычищает головку трубки.
Йохен сдерживает ухмылку:
— Мы ничего не хотели предпринимать без тебя, Вернер. Неплохо было бы знать, что ты обо всем этом думаешь.
Вернер оглядывается вокруг себя, бурчит:
— Когда наконец здесь появится пепельница? — и вываливает нагар, который он выскреб из трубки, на стоящую на столе тарелку.
Йохен Неблинг смотрит на него несколько мгновений и спрашивает:
— Что ты думаешь по поводу этой сестры Ханны?
Вернер глядит на него из-под все еще поднятой брови:
— Чего ты хочешь от меня? Чтобы я разобрался в твоих запутанных родственных связях? Сначала появляется тетушка Кэролайн, затем кузина и, наконец, сестричка Ханночка! Интересно, когда заявит о себе твоя бабушка?
Эрхард Холле произносит совершенно бесстрастно:
— Мы проверили номер телефона. Он принадлежит «Внутренней миссии». Сестра Ханна, кажется, ее настоятельница.
— И что?
— Так мы пойдем на контакт или нет? Возможно, «Внутренней миссии» достаточно благословения господа, но мне хотелось бы получить твое благословение, уж извини! Я считаю тебя все еще компетентным в деле доктора Баума.
Вернер не отвечает. Он отвинчивает от головки трубки искусанный мундштук и вычищает из него проволочкой спекшийся табак. Потом снова привинчивает мундштук и шумно продувает трубку.
— Почту у Вацека забрали? — спрашивает он.
— Об этом ничего не известно.
Вернер придвигает стул к своему столу. Из левого кармана пиджака он достает кожаный кисет, из правого — непочатую пачку табака и начинает готовить свою фирменную смесь.
— Что значит «компетентный в деле доктора Баума»?— Недовольства в его голосе, кажется, поубавилось. — Баум, несомненно, выдающийся мастер превращений. Баум, Штамм, Цвейг — все это входит в арсенал его профессии. Но как он подложил фишки в пиджак этого человека из фирмы Мампе? Как его…
— Шмельцера, — подсказывает Холле.
— Как ему удалось пометить свой след фишками для го? Это поистине дьявольская уловка. И теперь мы знаем, что вопреки всем красивым словам этот человек способен шагать по трупам. По обгорелым трупам, если хотите. — Вернер принимается набивать трубку табаком. — Но предполагать, что на этот раз ему удалось влезть в одеяние монашки, — это, конечно, чепуха. Может, он просто спасает свою шкуру? Откуда нам знать!
— И все же мы знаем немало, — возражает Холле.
Наконец Вернер подносит огонь к трубке. Сначала он осторожно поджигает верхний слой табака, слегка придавливая его большим пальцем — только достаточно плотный табак дает чистое горение. После повторного зажигания поднимается дым и плотными клубами плывет к окну. Вернер с наслаждением откидывается назад:
— Итак, сестра Ханна? Этот сигнал имеет смысл только при условии, что почта не только дошла до Вацека, но и попала по назначению.
Эрхард Холле пододвигает Вернеру еще один листок:
— Старый телефон Вацека. Телефон под таким номером еще существует, но к нему никто не подходит.
— Когда пробовали дозвониться?
Холле смотрит на часы:
— Полчаса назад.
— Это еще ни о чем не говорит. — Вернер поднимается одним рывком, отталкивая от себя стул: — Тогда за дело! — Он прижимает горящий табак пальцем и кладет трубку в карман пиджака. — Даже если речь идет о спасении его шкуры — мы его пригласили и должны быть готовы к приему.
Холле остается в управлении. Вернер садится за руль и медленно везет Йохена по городу. Но дороге он рассказывает, почему погода в сочетании с теперешним положением Луны благоприятна для ловли налима в речке Гозен.
— В субботу, после полнолуния, — говорит Йохен.
Каждый раз, проезжая мимо почты, они останавливаются. Йохен набирает номер Вацека — безуспешно. Нередко им приходится ждать, потому что старушки, у которых уйма свободного времени, стоят перед ними в очереди и блокируют прямую телефонную связь с Западным Берлином. Но вдруг — между тем наступил полдень, и они уже не рассчитывают на успех — на маленьком почтовом отделении в Вайсензее им удается дозвониться.
— Вацек, бывшее коммандитное товарищество Вацека, — отвечает усталый голос на другом конце провода.
Для Йохена это настолько неожиданно, что он зажимает ладонью трубку и говорит застывшему рядом с ним в ожидании Вернеру:
— Вацек на проводе.
Вернер толкает его в бок:
— Валяй сам!
Йохен медленно убирает ладонь с микрофона.
— Моя фамилия Форбрингер, — говорит он. — Я звоню по поручению господина Цвейга.
— О, господи! — восклицает человек усталым голосом.— Это еще зачем?
— Простите, не понял.
— Я спрашиваю, зачем это нужно. Господин Цвейг, наверное, нашел то, что искал, иначе бы он не смылся. А если не нашел, то я искать не буду.
Йохен шепчет Вернеру:
— Все сработало, — а в телефон говорит: — Господин Цвейг благодарит вас. Он только хотел знать, можно ли рассчитывать на дальнейшие поставки.
Молодой Вацек вздыхает:
— Хотелось бы знать, на что, собственно, люди надеются, — и, не говоря больше ни слова, кладет трубку.
Они решают позвонить в миссию из квартиры Йохена. В том случае, если телефон милосердных сестер используется кем-то для небогоугодных целей, любая мера предосторожности с их стороны вызовет подозрение. Эта сестра Ханна звонила им по телефону, не прибегая ни к каким хитростям. Следовательно, и их реакция должна быть точно такой же.
К счастью, Ренате Неблинг не до мужчин. У нее на кухне дел по горло. Старший сын, тот самый, который был когда-то малышом, собирается приехать в отпуск. Она печет его любимый пирог с маком.
Сначала им отвечает высоким старушечьим голосом какая-то сестра Рут. Преисполненная дружелюбия и гордости, она докладывает им, что сегодня дежурит у телефона она. Затем им отвечает решительный голос:
— Сестра Ханна.
Йохен Неблинг тоже называет себя.
— Ах, господин Неблинг. — Теперь в голосе слышны нотки радости и озабоченности. — Но, к сожалению… к сожалению, вы позвонили слишком поздно. Наши дорогие гости, которых господь послал к нам в дом, уже отправились дальше в свой тяжкий путь.
Йохен не знает, как ему реагировать на это:
— А по какому поводу вы хотели поговорить со мной, сестра Ханна?
— Не я, а ваша сестра хотела поговорить с вами. Но, к сожалению… к сожалению…
— Да, очень жаль.
— И я безутешна.
— Может, она просила что-нибудь передать мне?
— Да, разумеется. Речь идет о наследстве, об этом добром знаке судьбы. Именно об этом я хотела с вами поговорить.
Похоже, после счастливых волнений последних дней старая дама несколько сбита с толку.
— Так говорите же, сестра Ханна!
— Вы ничего не знаете о наследстве, доставшемся вашей кузине? Я должна все точно передать вам. Его преподобие справедливо рассудил, что и вам, как единственному родственнику, полагается определенная часть. И еще что-то… Подождите-ка! Я должна вам сообщить, что речь идет об U-3. Я не ошибаюсь?
— Так-так, продолжайте.
— Да, точно, U-3! Мне не хотелось бы что-нибудь напутать. Мое сердце преисполнено благодарности, и от всего благодарного сердца я желаю вам получить вашу часть наследства.
— А каким образом?
— Ваша кузина просила передать, что все будет доставлено контейнером — контейнером, понимаете? — и что она прибудет сама.
Вернер все время стоит рядом, прижавшись ухом к трубке.
— Она сказала, U-3?
— Да, U-3.
— Что же это значит?
Йохен по памяти быстро записывает разговор. Он пишет и одновременно говорит:
— Тогда решающую роль играл самолет U-2, помнишь? U-2 — «невидимый глаз» американцев, который был сбит в небе над Свердловском. На основании тех событий Баум сделал далеко идущие выводы о методах и основных направлениях развития американского шпионажа. он говорил о ренессансе классической разведки. Может быть, сегодня речь идет о какой-нибудь аналогичной ситуации.
Вернер пробегает глазами записи и качает головой:
— U-3! Может, новый «невидимый глаз»? Или конец классической разведки? — Затем он указывает пальцем на последнюю строку в записях: — Ты не ослышался?
— С какой стати?
— Почему прибудет она, а не он?
В кухне они запасаются бутербродами и термосом с чаем. Рената рада, что так быстро отделалась от них. Еще один телефонный разговор с Эрхардом Холле. Они уславливаются о коде для переговоров на коротких волнах. Сверяют часы. Договариваются об обеспечении незаметной страховки пограничных контрольно-пропускных пунктов. Уже сидя в машине, Вернер с Йохеном еще раз воспроизводят ситуацию. Оправдаются ли их ожидания? Действительно ли скрытое предложение давнего противника трансформировалось в открытое предложение сегодняшнего союзника? На своей старой колымаге они вливаются в плотный поток машин, направляющихся на воскресный отдых. Йохен выбирает по карте кратчайший путь на Каллинхен. Они решают ехать по небольшому шоссе через Зельхов и Миттенвальде.
38
Подземный кабель может лежать в воде. Должен ли в таком случае водолаз разбираться в рыбной ловле? Трое мужчин и одна женщина вспоминают тот незабываемый день, когда был протянут «горячий» провод, который помог остудить атмосферу. Йохен, Вернер, доктор Баум, Рената смотрят на прошлое каждый со своей позиции. В чем совпадают их точки зрения? Код раскрыт, и мистер президент, успокоенный, отправляется на яхте на продолжительную морскую прогулку. Лучшее оружие — то, из которого не надо стрелять.
Вернер был в отчаянии.
— Йохен, — рычал он на меня, — ты держишь удочку так, будто собираешься дубасить рыбу. Она должна свободно лежать в ладони. Вот так… — Он взял у меня из рук удочку и показал, как ее надо держать. — Нет, ты никогда этому не научишься. А подсечку надо делать одним движением кисти — пружинисто и легко.
На нас были резиновые сапоги, и мы шлепали в них по мелкому болотцу через камыши. Этот маскарад с удочками я не воспринимал особенно серьезно. В конце концов, я пришел сюда не для того, чтобы постигать тайны рыбной ловли, а для того, чтобы ознакомиться с границей, проходящей по реке Хафель. Порой Вернер проявлял раздражающую педантичность и прямо-таки непостижимую любовь ко всяким мелочам. Он считал, что, если решение о проведении операции принято, следовательно, ее надо спланировать и осуществить с учетом всех нюансов. «Тонкости, — говорил по этому поводу Вернер, — не забывай тонкости». Уже тогда, во время рекогносцировки вдоль извилистого, с многочисленными заливами берега реки, на нем была эта куртка с оттопыренными карманами и чудная зеленая шапочка, придававшие ему вид бывалого рыбака, а мне он подобрал нечто вроде зюйдвестки. Иногда заросли камыша редели, и мы забрасывали в открытую воду сверкающую в лучах заходящего солнца блесну и использовали этот момент для того, чтобы ознакомиться с местностью. Идиллический пейзаж нарушали лишь стальные ребра железнодорожного моста.
Вернер провел удочкой невидимую линию по воде:
— В соответствии со старым делением Пруссии на провинции граница проходит вот здесь. В сорок пятом году она была использована при создании западных секторов.
Я не мог удержаться от замечания, что мы, пожалуй, никогда не разделаемся с Пруссией[61]. Но он не пожелал вдаваться в исторические экскурсы.
— Через четверть часа наш пограничный катер пройдет под мостом, — сказал он, вытаскивая из воды леску.— Он пройдет вдоль границы, как раз посередине озера. Поточнее запомни его маршрут! Не должно быть никаких неожиданностей. Ребятам о нас ничего не известно, и они вооружены. Водная зона перед мостом и за ним — наиболее тщательно охраняемый участок. Во время контрольных поездок они будут наблюдать также за заливом, а ночью вести и слуховой контроль. Кабель проходит параллельно нашему берегу. Здесь, в заливе, он пересекает озеро. Хорошо запомни расстояние и направление. Течение здесь кругообразное, но не сильное. Ты наденешь маленькие ласты: точность важнее, чем быстрота. К месту подсоединения на кабеле уже приделано гнездо. В полуметре над ним висит слабо светящийся поплавок. Не забывай, в темноте расстояния кажутся короче! Кабель, который ты должен протянуть на ту сторону, я велел намотать на катушку из бамбука — это создаст дополнительную плавучесть. Держись возле дна. Компас точно выверен, он выведет тебя к цели.
Вернер не забыл ни одной мелочи. С помощью плана он рассчитал расстояние до противоположного западноберлинского берега, где сосновый лес подходил к воде почти вплотную, и время, которое мне потребуется, чтобы добраться туда.
— Где он тебя будет ждать? Поточнее, пожалуйста!
Во второй половине дня мы в последний раз договорились обо всем по радио с доктором Баумом. Я показал Вернеру на старый большой причал, который, возвышаясь над камышом, вел к открытой воде. Там я должен был выйти на сушу. Приблизительно в ста метрах оттуда Баум поставит свою машину, из которой он в случае необходимости будет подавать мне световые сигналы. Он собирался приехать один, поэтому было неясно, действует ли он с одобрения и по заданию резидента или хочет дождаться результатов акции, чтобы потом разыграть свои козыри наверняка. И это была не единственная загадка, ответа на которую мы не знали.
Вернер пометил на своем плане точку моего выхода на сушу:
— Ты отдаешь себе отчет в том, что у тебя ни с той, ни с этой стороны не будет ни прикрытия, ни страховки? Он ничего не знает обо мне, а я должен сделать вид, будто ничего не знаю о нем. Ты один. Если что-нибудь случится — а случиться может все что угодно, — ты будешь плавать в ничейной зоне, как бакен.
Мы сложили рыболовные снасти и по крутому откосу вскарабкались на сушу. При каждом шаге в сапогах между пальцами мерзко хлюпала вода. Когда я выливал ее из сапог и она, впитываясь в песок, окрашивала его в цвет зеленых водорослей, я понял, что никогда в жизни не преодолею до конца водобоязни.
Мы встретились в перерыве футбольного матча в маленьком буфете под трибунами. К назначенному сроку я доложил генералу, что операция в общих чертах разработана. Идея подсоединиться к подводному кабелю сначала удивила его, а затем он согласился и предоставил мне свободу действий. Впрочем, он был крайне немногословен. Это, возможно, объяснялось тем, что наши проиграли первый тайм со счетом 0:1 и теперь, чтобы выиграть, надо было за оставшиеся 45 минут забить два гола. Он надеялся на Моппеля, который должен был выйти на поле во втором тайме. Лишь из вежливости он предложил мне выпить коньяку. День был слишком жарким, а положение слишком серьезным. Мы условились, что «Сараево» и «Глейвиц» останутся позывными. Затем начался второй тайм, и нас позвали на трибуны. Среди 12 тысяч зрителей — это легко можно было представить — были не только наши друзья. И как раз им-то генерал и хотел показаться на глаза, чтобы уже вечером те, кто занимается анализом информации на той стороне, поломали себе голову над тем, почему один из ведущих генералов госбезопасности даже в такой напряженной обстановке нашел время посмотреть футбол. Защитить, успокоить, усмирить — все это укладывалось в одну концепцию.
«Война — мать всему» — так учили меня в школе. Но я этому никогда не верил: слишком много испытаний и лишений выпадало во время войны на долю людей, чтобы они могли называть ее матерью. И все же разве не была именно война для некоторых поколений строгим и беспощадным учителем и воспитателем? Иначе почему же тогда один из наших выдающихся писателей говорит о годах войны как о воспитании под Верденом[62]? А какую моральную проблему ставит Симонов в своем романе с программным заголовком «Солдатами не рождаются»!
Войны всегда изменяли мир. Сопутствующие им голод, пожары и чума уничтожали население целых регионов, и приходившие туда колонисты и первопроходцы начинали все заново. Нередко грохот пушек сливался со звоном колоколов, зовущих к восстанию, и тогда рушились троны и короны катились по мостовым к ногам повстанцев, лопались биржи и народ становился еще беднее. Чтобы насаждать ужасы и чтобы защищаться от них, люди потратили немало сил и проявили удивительную изобретательность. Листая книги по истории, почти не встретишь страницы, где бы не шла речь о войне, о восстановлении разрушенного после войны или же о страхе перед войной. Мирные периоды фигурируют лишь как время размышлений о войне, время передышки и подготовки к новой бойне. Можем ли мы, современные люди, надеяться на иной ход событий? Есть ли у нас иная альтернатива? Более 50 миллионов жизней унесла вторая мировая война. Но даже под градом бомб, под огнем артиллерии был шанс выжить. А будущая война — какой шанс оставляет она людям, как только погибнуть? Эта война стала бы и последней.
У меня никогда не было времени на размышления. Когда я оглядываюсь назад, то создается впечатление, будто я всю жизнь шагал против ветра и постоянно боролся, чтобы меня не согнуло и не сломало. Не будь у меня этого опыта, я бы не посмел сегодня пускаться в размышления. Взирая только на пройденный путь, не научишься понимать жизнь. Но поскольку меня просят поделиться вот этими воспоминаниями, я воспользуюсь случаем и выскажу некоторые свои соображения. В связи с событиями, о которых я здесь рассказываю, мне пришла мысль, которая хоть сама по себе и не нова, но требует новых способов подачи, чтобы довести ее до общественного сознания.
В анналы истории всегда попадали такие даты, которые знаменовали собой начало или конец страшных катастроф. И казалось, ничего нельзя изменить в этом адском круговороте. Но пришло такое время — я имею в виду жизнь сегодняшних поколений, — когда то, что еще вчера было недостижимо, может стать реальностью. Опыт предшествующих поколений свидетельствует, что люди постоянно убивали друг друга, поэтому мечта о вечном мире высмеивалась как утопия. В нашу эпоху вошли и стали ее частью новые исторические силы, и если мы в нашей главной песне зовем на последний и решительный бой, то только потому, что чувствуем себя могущественной силой, способной не допустить последней великой бойни. Мы научились защищать мир. И в книгах теперь все чаще появляются даты, знаменующие собой не начало, а предотвращение катастроф.
Одной из таких дат является 13 августа 1961 года. Бойцам были розданы боевые патроны, но не прозвучало ни единого выстрела. Нам объявили войну, а мы объявили мир. Это была вооруженная акция, предпринятая ради того, чтобы не заговорили орудия. После этого мир стал выглядеть иначе. Наткнувшись на закрытую границу, противник — пусть с зубовным скрежетом — наконец осознал пределы своих возможностей. Порочный круг был разорван. Не война, а предотвращение войны привело к тому, что радикальные изменения, происшедшие в соотношении сил на мировой арене, стали очевидны даже для тех, кто страдает политической слепотой. Мир пришел в равновесие.
Когда я распрощался с генералом, все было ясно, осталось только доработать нюансы. Обманный маневр, на который нас подтолкнуло честолюбие доктора Баума, представлял собой лишь часть общего плана. Но он имел большое значение для обеспечения и усиления эффекта внезапности. В чем заключалась его суть — легко объяснить. Кабель, к которому предстояло подсоединиться Йохену, являлся важной линией связи в военной инфраструктуре приграничной зоны. Перспектива черпать оттуда сведения должна была привести противника чуть ли не в телячий восторг.
Лишь несколько офицеров связи были посвящены в задуманную операцию. Их задача состояла в том, чтобы после того, как господа из ЦРУ приложат ухо к другому концу кабеля, характер связи не изменился, то есть передавать сообщения шифром. Но затем в какой-то момент один из автоматических датчиков выходил из строя и передача велась открытым текстом. Очень важно было, чтобы противник не усомнился в естественности хода событий. Поэтому датчик после ошибки делал самокоррекцию и сразу же передавал тот же текст шифром. Это должно было выглядеть как самая что ни на есть нормальная техническая неисправность. Мы подсчитали, что аналитикам из целендорфского бункера потребуется около десяти часов, чтобы с помощью новой системы компьютеров раскрыть код. Вот тут-то господа и оказывались в приготовленной для них ловушке. Поскольку они наверняка вообразили бы, что сами себе создали такую возможность, мы могли им рассказать, что у нас на елках растут апельсины, и они поверили бы. Молодым офицерам связи доставляло удовольствие составлять соответствующие сообщения — в связи с предстоящим полковым праздником музыкантам отменили увольнения; несколько танковых батальонов отправлены в мастерские на профилактический ремонт; вертолетные подразделения перебазированы за Одер, чтобы принять участие в командно-штабном учении на территории Польши; командир корпуса отправился на лечение в Крым; призыв резервистов отменен, так как поступил доклад о том, что истек срок хранения продуктов на продовольственных складах; 2 тысячи новобранцев откомандированы в сельское хозяйство на уборку урожая. Противник должен был поверить, что мы пребываем в неведении и что у него еще есть время.
Странное это чувство — сознавать, что тебя обманывают, и> будучи обманутым, знать, что обман приносит пользу. Идея Мастера Глаза с подводным кабелем была блестящей. Шеф все еще грезил о тех временах, когда одному из его предшественников в районе Альтглинике удалось подключиться в подземном туннеле к кабелю, который вел прямо в вюнсдорфскую штаб-квартиру советских войск. Со своим новым подводным вариантом он войдет в анналы фирмы — старый служака, ушедший из жизни стоя. Хотя он нередко возбуждал во мне отвращение, я считал, что надо дать ему порадоваться. Но поначалу я не стал посвящать его в операцию. Положение было взрывоопасным. В то время я еще испытывал своеобразное чувство гордости за то, что принадлежу к избранным сотрудникам фирмы. Я рискнул провести операцию на свой страх и риск. Если бы она провалилась, я был готов к тому, что они согласно своему кодексу бросили бы меня на произвол судьбы, так как я действовал в одиночку. Но в случае успеха я бы оказался первым у источника информации. Мое недоверие росло, определенные силы в наших собственных рядах (сюда я относил и шефа) стремились довести всеобщее безумие до апогея. Мне нужно было разобраться во всем и сориентироваться. Политики, если у них оставалась хотя бы крупица разума, не имели права допустить, чтобы их оттерли на задний план те, кто был лишь их инструментом.
Операция проходила не без осложнений приключенческого характера. На нашей стороне Хафеля все было спокойно. Но тысячи лягушек в предвкушении брачного блаженства устроили в камышовых зарослях вдоль границы такой концерт, что он заглушал все другие звуки. Я не слышал приближения пограничного катера, который шел с притушенными бортовыми огнями. Мастер Глаз должен был давным-давно появиться. Трижды я сигналил фарами машины, и каждый раз в ответ над водой поднималась осветительная ракета, а по воде, будто перст привидения, начинал шарить мощный луч прожектора. Словно приземистая жаба, неподалеку от моста застыл на воде катер. Время ожидания в автомобиле тянулось ужасно медленно, но я знал, что для Мастера Глаза оно тянется еще медленнее. Если он более или менее выдерживал курс и укладывался по времени, то сейчас он лежал с катушкой кабеля на дне между мостом и катером и ему не оставалось ничего другого, как притаиться и ждать. Даже вдоль фарватера глубина не была особенно большой. Если командир катера решит предпринять поиск по кругу, то Мастера Глаза может затянуть под винт судна. Когда снова заработал мощный дизель, я уже не мог усидеть в машине и побежал вниз к воде. Взлетела еще одна осветительная ракета, и катер наконец-то пошел — к счастью, на небольшой скорости — к противоположному берегу и стал обшаривать его прожектором.
Для Мастера Глаза, если все у него складывалось благополучно, путь теперь был открыт. Я побежал к месту его выхода на сушу, ориентиром для которого служил старый причал. Там произошел еще один инцидент. Где-то в камышах раздался плеск. И в тот же миг в той стороне вскрикнула женщина. Затем я услышал обмен репликами между двумя мужчинами. Один из голосов принадлежал Мастеру Глазу. Он ошибся и вышел из воды на добрую сотню метров дальше запланированного места. Я снял на ходу пистолет с предохранителя и сжимал его в одной руке, а в другой держал наготове карманный фонарик.
Ситуация была не лишена комизма. Мастер Глаз, совершенно измучившись в результате длительного пребывания под водой и потеряв способность хорошо ориентироваться, выбрался на берег как раз в том месте, где предавалась любви какая-то парочка. По плеску ласт на мелководье можно было определить, что он пытался отступить назад, в глубину. Но невидимый мужчина крикнул ему с берега:
— Стой! Вернись назад! Пограничная зона!
Женщина ноющим голосом просила:
— Да оставь его, Эрвин!
И вновь мужской голос:
— Это мы еще посмотрим! Назад или я применю оружие!
Я подоспел как раз вовремя и включил фонарик. В руке у этого типа действительно был крупнокалиберный кольт. На свои голые плечи он накинул форменную тужурку западноберлинского полицейского. А на женщине была лишь маленькая косыночка, повязанная вокруг шеи. Когда на нее упал луч света, она отреагировала удивительно неженственно: не попыталась прикрыть свои прелести, а лишь загородила руками глаза от света. Это была опытная шлюха.
— Марш отсюда! — приказал я.
Полицейский, которому помешали, попытался было воспротивиться. Я направил луч света на свое оружие и с нарочитым американским акцентом произнес:
— Союзническое контрольное мероприятие. В последний раз говорю — убирайтесь! Вы мешаете проведению операции.
Это их убедило. Я подождал до тех пор, пока в лесу хлопнули дверцы автомашины, заработал мотор и шум его начал медленно удаляться. Тогда я тихонько позвал:
— Йохен?
Он лежал на мелководье рядом с катушкой кабеля. Я помог ему добраться туда, где намечалось сделать подсоединение. В ластах, которые ему на каждом шагу приходилось вытаскивать из воды, с кислородным баллоном на спине, походившим на горб, он напоминал морское чудовище, которое никак не могло решиться выбраться на сушу.
В его поведении я не заметил ничего особенного, кроме того, что он избегал близко подходить ко мне. Однажды я уже просмотрел нечто подобное. Это было, когда он остановился, вместо того чтобы ударить кинжалом чучело, одетое в форму советского летчика, и застыл в изнеможении, уставившись в небо. На этот раз он не решался выйти с концом кабеля на сушу. Я страшно желал только одного — заполучить этот кабель. Может, этим и объясняется то обстоятельство, что моя бдительность притупилась и я стал обманутым победителем. Когда он бросил катушку с кабелем на землю, я еще раз включил фонарик. Йохен дрожал от переохлаждения. На поясе его водолазного костюма висел большой нож, и я почувствовал, что с этим ножом что-то не в порядке, но когда я схватил кабель, то забыл обо всем на свете. Сегодня-то я знаю, что они допустили ошибку, не обратив внимания на одну мелочь. Я где-то видел такой нож, а именно на фотографии, которую один из наших людей снял с помощью сверхсильного телеобъектива у горы Хафельберг, скрытно наблюдая за учениями боевых пловцов Национальной народной армии.
Однако их ошибку я компенсировал своей ошибкой. Должен ли я сказать «к счастью»? Иначе все, вероятно, сложилось бы по-другому.
После того как связь была восстановлена и мне уже ничего не угрожало, я посвятил во все шефа. Когда он вызвал меня к себе, на столе стояли знаменитые хрустальные бокалы ручной работы, которые он с 1944 года возил с собой вместе с походным снаряжением и доставал лишь по особым поводам.
— Виски! — приказал он. — Старого виски!
Оп протянул мне папку, из которой свисали перфоленты ЭВМ. Щеки у шефа ввалились, а кожа походила скорее на пергамент. Но он был оживлен, словно прошел курс омоложения. Он снял крышку с телетайпа и повернулся ко мне, приглашая присутствовать при том, как он будет собственноручно передавать сообщение. Я смотрел через его плечо.
«Внимание! Вне очереди! Для шифрования. В зоне операций филиала у противника дефект компьютера. Раскрыт код. По результатам первого анализа, у противника все спокойно, что обеспечивает нам свободу действий. Более подробный доклад будет передан по служебной линии Франкфурт — Мюнхен — Вашингтон. Резидент. Текст сообщения уничтожить».
Бокалы, которые он наполнил, были довольно велики. Он подошел к сейфу и достал оттуда заключенное в металлическую папку дело, с которого все началось. «№ 5» — стояло на обложке. он открыл дело и торжественно вложил туда листок с телетайпным сообщением и пару символических перфолент.
— Мой Пятый, — сказал оп, и глаза его заблестели, — Разве это была не моя идея включить подводное плавание в программу его подготовки?
Хотя это была не его идея, я не стал возражать. Мы еще не знали, что паше ликование по поводу успеха будет недолгим, но когда осушали бокалы до дна, то оба еще надеялись не упустить шанс — каждый свой.
Однако последовавшее за этим похмелье было ужасным. Первые головные боли начались, когда в ночь на воскресенье меня поднял с постели звонок дежурного. Он не знал, что ему делать с сообщением, поступившим из центра обработки информации. Передачи по кабелю на дне Хафеля шли обильно и бесперебойно, но незадолго до полуночи восточные немцы перешли на новый код. Центр хотел знать, что это значит. Это было загадкой. Почему новый источник так быстро иссяк? Конечно, можно было предположить, что у нас произошла утечка информации и противнику стало известно, как мы нашли ключ к коду. Но смена кода требует много времени — во всяком случае, больше, чем было в распоряжении противника. Я приказал установить радиосвязь с Мастером Глазом. Он не отвечал. И впервые меня охватило предчувствие, что вообще-то не так уж плохо, если шеф и дальше будет утверждать, будто Мастер Глаз не столько мой агент, сколько его Пятый.
Около двух часов ночи поступили первые сообщения о том, что моторизованные части восточной зоны с тяжелой боевой техникой занимают позиции в непосредственной близости от границы. Запрос в полицей-президиуме в Темпельхофе подтвердил эти сведения. Чуть позже Дирекция государственных железных дорог[63] прервала прямое сообщение по городским железным дорогам между Восточным и Западным Берлином, и почти одновременно пришла роковая весть о том, что подводный кабель в Хафеле умолк. Кто его перерезал? Я направился к шефу, но он уже находился на пути в госпиталь. У него хватило сил лишь на то, чтобы объявить тревогу. По коридорам и комнатам метались люди, спрашивая друг друга, что же, собственно, случилось. Промелькнул старый Джордж, которого они посадили у нашего посланника в Берлине в качестве политического наушника. Он повозился с телексом, так как нашего сообщения ждали в «берлинской оперативной группе» госдепартамента. Но, очевидно, в Вашингтоне уже во всем разобрались. Я ушел в помещение охраны, где было включено радио. Примерно в четыре часа, после того как, словно в насмешку, сыграли шлягер «Бим-бам-бумеранг», диктор зачитал сообщение телеграфного агентства ЮПИ:
— «Крупные части коммунистической народной полиции в ночь с субботы на воскресенье перекрыли секторальную границу между Восточным и Западным Берлином. Бранденбургские ворота закрыты».
Мне стало ясно, что бумеранг ударил и по моей голове. Но два дня спустя, сидя в самолете, вылетающем в Вашингтон, куда меня вызвали для доклада, я оглядывался назад без гнева. Средства обратились против меня, однако своей цели я достиг. Я просматривал газеты. Конечно, они были полны насмешек над нашим неведением и беспомощностью. Но разве то, что произошло, не было наилучшим вариантом? Сообщалось, что в тот знаменательный день президент Франции даже не подумал прервать свой воскресный отдых в замке Коломбей-ле-де-Эглиз, не позволив, таким образом, испортить себе настроение в выходной день. Премьер-министра Англии безуспешно разыскивала в его резиденции на Даунинг-стрит, так как он охотился на вальдшнепов в шотландском высокогорье. А наш мистер президент, как стало известно позднее, принял к сведению — по-видимому, даже с определенным облегчением — установление равновесия сил в Центральной Европе, поскольку это снижало вероятность большой конфронтации, и приказал поднять паруса на своей яхте для продолжительной морской прогулки.
Разве я мог желать большего? Ведь я сам был свидетелем того, как наш телетайп выстукивал текст «секретной оценки обстановки», предназначенный для того, чтобы попасть в папки со срочными материалами для узкого круга политических деятелей: «В конце завершающейся недели никаких особых событий в Берлине не ожидается».
В системе политического кровообращения все успокоилось. Бухта Свиней в Груневальде не стала второй бухтой Свиней на Кубе. 13,2 градуса восточной долготы и 52,3 градуса северной широты — на этих координатах была воздвигнута преграда большому безумию. Из моей маленькой берлинской библиотеки я увез в ручном багаже две книги: старую семейную библию — издание, в которое входит Апокалипсис, и тоненькую книжечку о го, которую Мастер Глаз в последний момент переправил мне через Вацека.
Тишина после бури. Мы просто сидели и наслаждались ею. Ветер играл занавеской в открытом окне. Дул теплый ветер. Он приносил аромат цветущих деревьев, а порой и легкий запах дыма со стороны паровозных депо.
— Завари-ка чаю, Рената, — попросил Йохен.
Малыш спал. После обеда заходил Вернер и ознакомил нас с новой ситуацией, которую он назвал «всеобщей размаскировкой». Стоя у кухонной плиты, он, сохраняя официальность, зачитал приказ, в котором говорилось, что задача успешно выполнена, и отдавалось должное Йохену и мне. В этот момент Йохен как-то странно притих. Радиостанция, с которой была связана его вторая жизнь, должна была стать музейным экспонатом или наглядным пособием для учебных занятий. Речь зашла и об оружии, полученном им от американцев. Вернер, вероятно, заметил, как трудно Йохену вот так сразу расстаться с ним, и сказал несколько нерешительно, что время еще терпит. Потом они оба взяли себя в руки и порой даже смеялись, по, когда речь заходила о прошлом и вместе пережитом, на сердце у них становилось почему-то тяжело.
И мне все происходящее казалось знакомым и новым одновременно. Двойная жизнь разлучила и вновь соединила нас с Йохеном. Теперь нам предстояло жить нормальной жизнью простых людей. Лишь в это тяжелое, ставшее достоянием истории время я по-настоящему узнала Йохена. Я догадывалась, что и в будущем он будет задавать мне загадки. Чего стоит его способность замыкаться в себе! Сможет ли он когда-нибудь отказаться от нее? Он почувствовал вкус приключений, их сладость и горечь. А как-то ему понравятся наши будни? Освободившись от давившего на него груза, Йохен наслаждался супружеской жизнью, вкладывая во все свои слова и поступки столько нежности и буйства, что мне становилось страшно. Не может же быть, чтобы за этим ничего не скрывалось.
Мы пили чай и молчали. Следующие выходные мы договорились провести с Хельмихами на природе. С собой решили взять пиво, картофельный салат и яйца вкрутую. Мужчины хотели спуститься в пещеры у Рюдерсдорфа, а мы, женщины, собирались позагорать. Из жилищно-строительного кооператива пришло письмо о том, что вскоре мы можем рассчитывать на новую квартиру. Вакантное место на работе Йохену было обеспечено. В общем, планов было немало, но это были совсем не те планы, которые мы привыкли строить.
Йохен сидел за своим крохотным рабочим столиком и бездельничал. На стене перед ним висел портрет Эйнштейна, который, насмешничая, показывал язык. Рядом с недавних пор Йохен поместил портрет Гагарина. Мимо прогромыхала электричка. Стемнело. Во дворе пьяный дворник пел песню об императоре Вильгельме, которого он хотел бы вернуть назад. Йохен зажег свет, сунул руку куда-то в книги и достал коробку, в которой хранился пистолет. Не торопясь развернул тряпку, вынул магазин, выстроил перед собой патроны и пересчитал их. Пистолет блестел в свете лампы. Йохен посмотрел в дуло и, хотя на металле не было ни пылинки, принялся по привычке чистить оружие.
Он сидел на фоне освещенного окна. До чего же был дорог мне его знакомый профиль! И как же изменился Йохен с того холодного утра, когда впервые пришел с операции, которую должен был держать от меня в секрете! Черты его лица стали резче, по спокойнее. Я считаю, что любовь — это умение восхищаться любимым, какие бы изменения в нем ни происходили. Мне, например, всегда нравилось смотреть, как сидел Йохен за столом, просто сидел. Восхищала его мечтательность и мужественность. Я знала, что все это принадлежит мне, а он знал, что я всецело принадлежу ему. Без этой эгоистической преданности — в этом мы оба глубоко убеждены — не может быть любви. Мне не хотелось бы умничать задним числом, ведь сегодня, вспоминая о той старой истории с дистанции времени, я хорошо понимаю, что мне в ней принадлежит не главная роль. Каждый человек живет своими собственными воспоминаниями. У нас же всегда считалось, что, только обретая друг друга, мы находим путь к себе. Шить иначе мы бы не смогли.
Йохен кончил чистить оружие, вставил магазин, но не наполнил его патронами. А потом, не оборачиваясь, сказал, может быть, самому себе:
— Мне так и не пришлось стрелять из него. Это ли не высшая похвала оружию? Лучшее оружие — то, из которого не надо стрелять.
Это была всего лишь секунда, но секунда счастья, и потому в ней вместилась вся наша жизнь в старом доме, крышу которого наконец-то залатали, в нашей маленькой квартирке, в тиши которой уже не было слышно чудовища, и жизнь нашего большого измученного города, который мог теперь засыпать спокойным сном. Да, столь всеобъемлюща была эта счастливая секунда, что в ней вместилась и жизнь нашей страны, частицей которой была наша жизнь, и жизнь всех стран, чьи народы желали нам добра, в то время как мы желали добра им.
Малыш захныкал. У него резались зубки. Йохен знал, где стоит успокоительная настойка. Приговаривая ласковые слова, он прошел по темной комнате и наклонился над маленькой кроваткой.
39
Я передаю эти записи издателю, полностью отдавая себе отчет в том, какие последствия может иметь этот мой поступок для моей личной жизни и какое воздействие он может оказать на общественное мнение. Я сделал эти записи на своем родном языке, чтобы наглядно показать, что поступаю как американец, сознающий ответственность перед своей страной и народом. Я уполномочиваю моего старого партнера, который был когда-то моим человеком, так же как я в конце концов стал его человеком, сделать окончательную правку немецкого перевода и определить срок публикации. У меня для этого нет времени, да, пожалуй, и сил.
Проф. д-р Дэвид Штамм. (Из дневника, который велся во время последнего пребывания в Западном Берлине.)
К вечеру поднимается ветер. Он гонит перед собой струи дождя, и окна машины приходится закрыть. Шелестят и скрипят старые сосны, а иногда на крышу сыплются сосновые шишки. Просека, на которую они завели задним ходом свой «вартбург», под острым углом отходит от шоссе — так, что они издалека видят машины, идущие со стороны Берлина. Машины выныривают на холме, через который проходит шоссе. они дают знать о себе издалека отсветом фар на дождливом небосводе.
Час проходит за часом. Они по очереди выходят из машины под дождь и ветер, чтобы хоть немного размяться. А потом снова сидят вместе перед крохотной светящейся точкой, показывающей, что радиотелефон включен. Но сигнала все нет.
Взятые ими из кухни Ренаты бутерброды давно съедены. Йохен выливает остатки чая в чашку Вернера, и они по очереди пьют из нее в полнейшем молчании. Иногда, когда мимо с рычанием проносится грузовая машина, они поднимают головы в ожидании, но это опять какой-нибудь молоковоз или самосвал со щебнем. Да они и сами знают, что это не то, ибо та машина, которую они ждут, давно бы попала под наблюдение. А радиотелефон по-прежнему молчит.
Решено ограничить радиотелефонные разговоры самыми необходимыми сообщениями. Лишь глубоко за полночь звонит Эрхард Холле, который непосредственно у границы поддерживает контакт с контрольно-пропускным пунктом. Он изъясняется словами кода:
— Алло, дежурные!
— Дежурные слушают! Центр, говорите!
— Родильная палата закрылась. Сегодня ночью пациентов не будет. Старший врач говорит, что до восьми утра ничего не произойдет. Акушерка, вероятно, пошла спать, так как роды откладываются. Вы можете отозвать дежурную машину. «Скорая помощь» берет все на себя.
— Объявился ли отец ребенка? — спрашивает Вернер.
— Нет, но кровать по-прежнему зарезервирована.
По дороге домой, когда они проезжают мимо сверкающего аэронавигационными огнями аэродрома, Йохен Неблинг говорит:
— Я беспокоюсь. Моя кузина способна выдержать многое, но и у нее есть нервы. Путь по контейнерной трассе был предусмотрен для него, а не для нее. Нам не следовало соглашаться на это.
— Разве у нас был выбор? Что было делать — послать за ней воздушный шар или предложить пробраться к нам через трубы на полях орошения? А кроме того, повода для беспокойства пока нет, ведь о точном времени мы не договаривались.
— Но сколько времени у нее остается? С каждым часом ее шансы неумолимо уменьшаются. У меня все внутри переворачивается, как подумаю о старике Эгоне Франке. Старей Эгон с его шарманкой! Добродушный дикарь. А они безжалостно убрали его с пути. За этим стоит нечто взрывоопасное — иначе к чему тогда эти издержки? И поскольку все это связано с Баумом, который уже использовал Виолу как связную, она в серьезной опасности. Я схожу с ума от того, что не могу ей помочь.
— Выбрось из головы мрачные мысли, Йохен. Давай-ка чуточку вздремнем, а там видно будет.
По радио два джазовых пианиста состязаются в импровизации. Их вытесняет диктор, читающий известия. Известный итальянский прокурор на одном из курортов Южной Италии изрешечен автоматными очередями террористов. Интерпол ведет розыски от Салоников до Малаги. Бременский профсоюз строительных рабочих требует повышения тарифных ставок, которое союз предпринимателей в связи с застоем в строительстве считает неприемлемым. Конфликт должен разрешить государственный третейский суд. На соревнованиях в закрытых помещениях показан лучший в этом году в мире результат в прыжках в высоту. Министры иностранных дел стран НАТО зондируют почву перед новым туром консультаций. Лондонская биржа реагирует на это повышением курса ценных бумаг и увеличением вложений. В арктических водах курсом на север продвигается загадочное соединение кораблей: в течение двух дней три американских фрегата следуют рядом с советским крейсером, поддерживая радиолокационный контакт. Представитель правительства охарактеризовал молчание Москвы по этому поводу как опасное. Прогноз погоды содержит предупреждение, адресованное водителям автомобилей.
Они настраивают приемник на свою радиостанцию, где ночная программа передач завершается выступлением ансамбля охотничьих рожков. Вернер тихонько подпевает. Гипнотический ритм дворников нагоняет на Йохена беспокойный сон. Занимается рассвет, гаснут фары машин, а ему снится, что он в пивном баре Кэролайн, старый Эгон импровизирует на шарманке на ту тему, которая еще недавно звучала по радио в исполнении дуэта пианистов, а за стойкой стоит не тетушка, а Виола, которая пододвигает тайком к его бокалу с виски протезную мазь.
Когда Вернер высаживает Йохена из машины, тот проходит небольшой кусочек пути через лесок, расположенный позади его квартала, пешком. Моросящий дождь освежает лицо. Ничего нет лучше утра после бессонной ночи. Рената уже ушла на работу, и он в одиночестве наслаждается тишиной. Для начала выпивает большую бутылку пива, а затем разбивает три яйца на сковородку с салом. В ванной комнате он ставит рядом с ванной табуретку. Здесь он будет завтракать. Он как раз размышляет о том, не попросить ли руководство завода продлить ему отпуск, когда звонит телефон.
К Йохену обращается заводской вахтер, стоящий у главного входа:
— Коллега Неблинг, мне тут не дают покоя. И я должен вам сказать, что так не пойдет…
— Что не пойдет, коллега?
— У нас ведь своих дел хватает, а я вынужден узнавать ваш номер у диспетчера. Это стоило стольких нервов, сколько за целый день не истратишь.
— Что случилось, коллега? Да вы не волнуйтесь!
— Я — само спокойствие, но кое-кто хочет с вами поговорить. Вернее, одна посетительница. Она не дает мне покоя и не уходит. Хочет поговорить с вами по личному вопросу, как она уверяет. Но меня не проведешь.
— Кто собирается провести вас, коллега?
— Она! Вот она стоит передо мной и утверждает, что она ваша кузина.
— Что? Повторите! Кузина?
— Вот видите, и вы не поверили! Это же смешно, пусть не считает меня дураком! Послушайте, коллега Неблинг, вы тоже не давайте себя провести! Дама… дама… Извините, но женщина, утверждающая, что она ваша кузина, она… Одним словом, она — негритянка. И она не дает мне покоя. Я уж и не знаю…
Йохен втягивает в себя воздух и говорит:
— Дайте ей трубку!
Ему приходится подождать. Он чувствует запах подгоревшего сала, а в телефонной трубке слышится брань удаляющегося вахтера.
— Кузен?
Ее голос! Йохен Неблинг чувствует, что ему необходимо сесть, а поскольку стула рядом нет, он садится прямо на ковер.
— Кузен, ты что, забыл, что мы договорились встретиться? Ваш вахтер — сумасшедший старик. А у меня нет твоего телефона. Где мы встретимся — у тебя? С этим стариком невозможно разговаривать. Я тороплюсь, я…
— Виола, минуточку! Мы думали, ты совсем в другом месте. Подожди немного, я заеду за тобой.
— За мной не надо заезжать: меня подвезут. Скажи, как тебя найти, и мы сразу поедем к тебе.
— Что значит «мы»? С тобой кто-то еще? Он тоже…
— Сейчас это совершенно неважно.
Йохен описывает ей дорогу. Затем снимает в кухне с огня сковородку. Он пытается связаться по телефону с Холле или Вернером, но Холле еще в дороге, а Вернера нет дома. Он снова несется на кухню, раскрывает окно и собирается выгнать полотенцем наружу чад и дым. В этот момент к дому подъезжает легковая машина — «плимут» старого выпуска с оливковой маскировочной окраской — величиной с жестяной сборный барак. Номер на машине — американский. Йохен с удивлением наблюдает сцену, разыгрывающуюся внизу.
Сначала открывается дверца водителя. Из нее выходит мужчина в форме такого же оливкового, как и его машина, цвета. Это лейтенант армии США, маленький, толстый, довольный, с лицом настолько темным, что его можно назвать черным. Его зубы сверкают в улыбке, когда он передает в руки Виолы, вышедшей с другой стороны, несколько свертков. Затем появляются дети: один, два, три, четыре — все с такой же черной блестящей кожей, как у лейтенанта. Виола всех их берет по очереди на руки, а в машине сидит еще кто-то, вероятно мамаша детей. Она смеется и машет рукой. Наконец и Виола, которая держит на руках двух маленьких девочек, смотрит наверх. Заметив в окне кузена, она тоже машет ему. И уже все начинают махать ему, радуясь встрече. Йохен механически машет им в ответ и в растерянности думает о том, что все эти люди сейчас нагрянут к нему. Но семья исчезает так же быстро, как и появилась. Дети: один, два, три, четыре — забираются в чрево машины, лейтенант на прощание прикладывает руку к козырьку, ворчит мотор, и старая колымага медленно скрывается за углом. Внизу стоит одна Виола с неподвижным, серьезным лицом и держит в каждой руке по пакету, которые оттягивают ей плечи. Она еще раз оборачивается, будто чувствует кого-то за спиной, а затем большими шагами направляется к дому. Йохен встречает ее в прихожей. Она протягивает ему пакеты через порог:
— Возьми, возьми! — и падает ему на грудь. — Спать… — шепчет она. — Кузен, пожалуйста, дай мне поспать и все забыть.
К тому времени, когда во второй половине дня Йохен Неблинг делает в управлении подробный доклад, он еще не сомкнул глаз. Вот уже тридцать шесть часов он на ногах, а отдыха все не предвидится. С чашкой черного кофе в руке он ходит взад-вперед по комнате:
— Больше я ничего не могу сказать. Она была вконец измучена, и от нее ничего нельзя было добиться. Штамм назначил ей встречу недалеко от предприятия по вывозу мусора. Но, вероятно, что-то произошло или что-то вызвало у нее подозрения. Она несколько раз прошла мимо гаражей, и ей бросилось в глаза, что там никто не работает. Правда, было воскресенье. Потом она увидела контейнеровоз и что-то показалось ей неладным. Она говорит, что шофер несколько раз вылезал из кабины, и его беспокойство передалось ей.
— Паника, — констатирует Холле. — Типичная в подобных случаях реакция.
— А может, осмотрительность. Во всяком случае, ей не понравились трое мужчин, стоявшие там и державшие руки в карманах пальто. У нее возникло ощущение, что они имеют какое-то отношение к контейнеровозу. Она понаблюдала за ними через витрину цветочной лавки, а затем ушла оттуда через боковую дверь универмага, от которого торговала эта лавка.
— Тогда нам придется долго ждать акушерку, — подает голос Вернер.
— Как же ей удалось все остальное?
— Сыграли роль нарциссы, которые она купила в цветочной лавке. Она поняла, что теперь ей поможет разве что счастливый случай. Связь с Баумом оборвалась. Кстати, она действительно знала его только как профессора Штамма. Они расстались. Но у нее остался «дипломат», магнитофон и его поручение. Теперь она решилась все поставить на одну карту, и я бы не назвал это паникой. Сначала она хотела отправиться на экскурсию по городу[64] с группой японских туристов, но поняла, что на их фоне очень бросается в глаза, и вышла из автобуса. В этот момент прямо перед ее носом остановился «плимут».
— Какой «плимут»? — спрашивает Холле.
— Тот самый, на котором она приехала ко мне. Это был семейный тарантас, полный людей такого же цвета кожи, как и она. Одному ребенку приспичило, мама ходила с ним в вокзальный туалет, а Виола тем временем разговорилась с папашей — лейтенантом, если я правильно разглядел. Выяснилось, что у близнецов, сидевших в машине, день рождения и папа обещал свозить их в Восточный Берлин, в отдел игрушек универмага на Александерплац. Виола интуитивно почувствовала свой шанс и поздравила детей, подарив им нарциссы, которые она, к счастью, не выбросила. Когда мама вернулась из туалета, Виола уже сидела в машине. Наверное, дети уговорили папочку взять с собой большую сестричку. А машина у папочки была со служебным номером. И они беспрепятственно проехали через контрольно-пропускной пункт.
— Чего бы стоил мир без маленьких, приносящих радость чудес! — говорит Вернер.
И он, и Холле явно ощущают нервное перенапряжение.
— А Баум? — спрашивает Холле. — Что с Баумом?
— Она ничего не знает. Он обещал ей дать знать о себе, когда она будет в безопасности. Мне он просил передать: мол, надеется, что я буду доволен им так же, как он был доволен мной, что постарался дать материал «А-1».
В этот момент, как по заказу, звонит телефон.
— Это результаты анализа технической информации. Наконец-то! — кричит Холле и хватает трубку.
Разговор продолжается долю, Холле делает записи. Положив трубку, он с наморщенным лбом долго смотрит на исписанные листки.
— Это что-то потрясающее! — говорит он. — Но я начну с неофициального. В пакете находилась игра го. Стоимость игры аналитики оценить не могут. Если твоя кузина пожелает, они привлекут специалистов. Во всяком случае, сплошь благородные металлы и драгоценные камни, причем искусно обработанные. Что-то сказочное! В ящике от го обнаружено двойное дно, а там — дневник. Баум передал его в распоряжение Йохена, с тем чтобы он постарался его опубликовать.
— Он хочет обратиться к общественности? — спрашивает ошеломленный Йохен.
— Да, это своего рода завещание. Они сделали перевод нескольких страниц. В начале дневника доктор Баум привел нечто вроде эпиграфа — вероятно, в нем квинтэссенция того, что он хотел сказать. Это цитата из «Волшебной горы» Томаса Манна. Один из персонажей — Сеттембрини, кажется? — говорит: «…Оказавшись между Востоком и Западом, он вынужден будет сделать выбор, он вынужден будет окончательно и сознательно решить, за какую он из тех двух сфер, что спорят между собой за его существо». А в конце записей приводится знаменитое высказывание Брехта о трех войнах великого Карфагена.
Вернер негромко цитирует но памяти:
— «Он был еще могуществен после первой, еще обитаем после второй. Его нельзя было найти после третьей…» — И затем говорит в раздумье: — Сколь часто, может быть, мысленно пересекались наши пути.
— Но главная сенсация впереди, — сообщает Эрхард Холле. — Магнитофон, находившийся во втором пакете, как и опасались, был действительно поставлен на самоуничтожение и блокирован с помощью электронного устройства. Но ключ найден. Он совсем прост — сокращенный код, о котором договорились когда-то Баум с Йохеном. Теперь магнитофонная запись в нашем распоряжении.
— И что дал анализ?
— Весь объем информации пока еще трудно оценить. Сплошные математические формулы, переписанные с запоминающего устройства. Но в любом случае это потрясающе. Аналитики успели наскоро обработать лишь начало пленки. В результате наше предположение о том, что обозначение U-3 отражает содержание информации, подтвердилось. Речь идет о так называемом «Фолконе» — невидимом бомбардировщике, которому предназначено нарушить равновесие ядерных сил и сделать возможной третью мировую войну. Вероятно, бывшая фирма Баума взяла разработку этого самого самолета под свой контроль, благодаря чему он и получил доступ к материалам. Ведь он хорошо знал эту контору и ее запутанные ходы. Короче говоря, они исходят из того, что после начала большого безумия именно им удастся остаться могущественными, а мы просто исчезнем.
— Невидимый бомбардировщик? — переспрашивает Йохен Неблинг. — Не слишком ли это фантастично? Ведь это все равно что изобрести шапку-невидимку.
— Недавно в архиве я наткнулся на удивительную историю, — рассказывает Вернер. — На первый взгляд она тоже кажется фантазией, но потом приходишь к мысли, что над такими или схожими проектами уже давно ведется работа. Где-то в конце войны один американский эсминец якобы исчез после выхода из Филадельфии и снова объявился лишь при входе в гавань Норфолка, то есть триста километров южнее. Высказывались самые невероятные предположения — прыжок во времени, бермудская дыра, переход в четвертое измерение и так далее. Некоторые из них даже как-то связывались с НЛО. Примечательно, что военная разведка всегда пыталась проверить такие слухи, и если и есть в них хоть капля правды — это то, что эсминец считался пропавшим, потому что его не было видно на экране радиолокатора.
— Но отчего, по-твоему, это происходит? — прерывает его Йохен.
— Самолет U-2, совершая свои шпионские полеты, тоже оставался невидимым, но только потому, что летал на громадных высотах. На этом все а строилось, пока U-2 не был засечен более сильным радаром и сбит.
— Ясно! — говорит Холле. — Тогда проблема заключалась в дальности действия радаров. Сейчас она, по-видимому, заключается в качественно новом решении. Во-первых, речь идет не о разведывательном, а о боевом, наступательном самолете. Техническое превосходство может превратиться в военное и породит в некоторых головах мысль о возможности нанесения ядерного удара первыми. Во-вторых, следует отметить и само техническое решение. Все должно базироваться на комбинировании неметаллических, то есть не отражающих радарные лучи, материалов и совершенно новой формы самолета, снижающей радарное эхо до минимума. Электронные помехи создают своеобразную шапку-невидимку вокруг летящего объекта, в результате чего ракета по лучу наведения полетит в цель, видимую на экране радара, но не существующую в действительности. В бомбардировщик, превращенный таким образом в невидимку, ракета не попадет.
— Мы трое, пожалуй, никогда не узнаем подробностей, — заявляет Вернер подчеркнуто бодрым голосом. — Мы заполучили материалы, и на том наша роль закончилась.
— Не забудь, нас было не трое, а пятеро, — уточняет Йохен. — А может, был еще кое-кто.
— Ты прав: этого нельзя забывать.
Тут Эрхарда Холле вызывают к большому начальству. они быстренько договариваются о встрече, чтобы составить наконец доклад по делу «Шаденфойер». А еще Эрхард Холле хочет научиться играть в го.
Поднимаясь по лестнице домой, Йохен Неблинг чувствует, как гудят от усталости ноги. Рената встречает его в дверях и прикладывает палец к губам: Виола, очень долго мучившаяся от бессонницы, наконец уснула. Как в давние времена, Рената и Йохен присаживаются на полчаса в кухне, и Рената рассказывает о том, как прошел день. Завтра приезжает в отпуск их мальчик. Поскольку в его комнате спит гостья, надо подумать, как переставить кровати. Рената отложила в магазине безумно дорогую кружевную блузку и уговаривает Йохена не скупиться. В ванной течет кран. А еще звонили из отдела кадров, сообщили, что отпуск Йохену продлили, — теперь он сможет отоспаться.
Йохен отвечает односложно. Его мысли занимает тягостная весть, которую через кузину передал ему партнер. Невидимый самолет — как безобидно это звучит! Это вызывает представление о техническом чуде, о чем-то вроде вечного двигателя, о какой-то старой сказке. А что в действительности? Неужели разум на земле зародился для того, чтобы совершить в конце концов акт безрассудства и уничтожить не только все живое на земле, но и саму землю?
Потом on стоит под горячим душем, полусонный, пьет магенбиттер[65] и с наслаждением ощущает во всем теле приятную теплоту. Как раз в этот момент его снова зовут к телефону.
Звонит Холле.
— Йохен, — говорит он каким-то странно севшим голосом, — нам нужна твоя кузина.
— Исключено, ей только что наконец-то удалось уснуть.
— Мне самому страшно неудобно, по это необходимо.
— Что случилось?
— Только что получено сообщение: найден труп у автострады. Твоя кузина нужна нем для опознания.
— Стоп! — Теперь садится голос у Йохена. — Я понимаю, но кто сказал, что это… Это может быть совсем другой труп.
— Труп худощавого мужчины, рост метр восемьдесят — метр восемьдесят пять. Лицо сильно изуродовано ожогами. Я думаю, тебе знакомо это описание.
— А что, если это просто совпадение? — кричит Йохен в трубку.
— Труп лежал под мостом — там, где трасса для мусоровозов пересекает кольцевую автостраду. Положение тела и следы указывают на то, что труп, вероятно, был сброшен сверху.
— Да, понимаю… — сдается Йохен.
— Разбуди ее и вези. Я буду на месте раньше вас.
— Оставь ее в покое. Я приеду один. Я могу это сделать вместо нее.
Когда Йохен приезжает, следствие уже идет полным ходом. В одном направлении автострада закрыта. Горят прожектора. Оглушительно ревет дизель передвижной электростанции. Вверху, на мосту, тоже работают трассологи. Лучи прожекторов обшаривают парапет моста.
Эрхард Холле стоит чуть в стороне, в тени. Вместо приветствия он говорит Йохену Неблингу:
— Эти мстительные псы! Зачем им это понадобилось? Что им это дало? Какая подлость! — И он указывает в сторону небольшого откоса.
Йохен поворачивается туда и видит, кто там сидит и как сидит: почти небрежно, опираясь на локти, длинные ноги с невероятно большими ступнями слегка согнуты в коленях, а голова даже сейчас высокомерно склонена набок, как будто сидящий просто наблюдает за этой жуткой сценой, а не является ее главным действующим лицом. Лицо ужасно изуродовано сильным огнем, но даже под струпьями и пузырями узнаваемо характерное выражение — меланхоличное и насмешливое.
— Закрой ему глаза, — просит Йохен.
— Ты сначала погляди на них, — говорит Эрхард Холле. — Все ясно?
— Да, все ясно, — кивает Йохен.
В это время в глаза ему бросается, что левая рука трупа, сжатая в кулак, прижата к телу, будто только что вынута из кармана прожженного пиджака. Йохен наклоняется и медленно, осторожно разжимает судорожно сжатые пальцы. Когда он разгибает большой палец, на траву выкатываются два маленьких линзообразных кругляшка — черный и белый.
Игра ГО (краткое руководство)
Введение
Го представляет собой боевую комбинационную игру для двух человек и отличается простотой правил и утонченностью игрового маневра. Го считается старейшей настольной игрой мира. Она появилась приблизительно четыре с половиной тысячелетия назад в Китае, откуда примерно в седьмом столетии попала в Японию, где быстро распространилась и модифицировалась. В Германии го известна около ста лет, с тех пор как в Лейпциге вышла книга Шуриха «Го — национальная игра японцев». Но лишь после того, как доктор Эмануэль Ласкер, крупный немецкий шахматист и математик, чемпион мира по шахматам, в двадцатые годы нашего столетия проявил интерес к го, эта игра стала распространяться и у нас.
Существует мнение, что первоначально игра го была культовым действом, сопряженным с восточноазиатским искусством поклонения богам, а также использовалась для счета. Древнее китайское философское учение о двойных космических силах имеет нечто общее с диалектической философией Гераклита. Согласно этим воззрениям все происходящее может быть объяснено противоборством двух сил, взаимозависимых и взаимообусловленных: свет и тьма, небо и земля, мужчина и женщина, добро и зло. В этом смысле доска го представляла собой вселенную, а белые и черные фишки — положительные и отрицательные силы, действующие в ней.
Сегодня в го играют 12 миллионов человек. Около тысячи любителей го входят в Германский шахматный союз ГДР. Регулярно проводятся первенства и игры на кубок по го. Разряды игроков определяются по японской классификации.
Доска и фишки
На доске го имеются 19 горизонтальных и 19 вертикальных линий. 13 отличие от шахмат и шашек фишки ставятся не на поля или квадраты, а на точки пересечения линий. Всего имеется 361 точка пересечения и соответственно 361 фишка — 181 черная и 180 белых. Теоретически в ходе партии могут быть заняты все точки. Однако на практике этого никогда не случается, ибо исход партии решается раньше.
Свою первую партию автор этой книги сыграл на самодельной доске. На куске картона быстро начертили линии. На фишки же пошли пуговицы из бабушкиной шкатулки.
Для обозначения позиций фишек на доске имеются координаты. Горизонтальные линии обозначены числами от 1 до 19, а вертикальные линии — буквами от a до t, так что любая точка пересечения имеет свои координаты, например: b3, i8 или s18.
Новичкам рекомендуется начинать свои упражнения на доске с числом линий 13×13. В этом случае игру вести проще и партия заканчивается быстрее.
Цель игры
В шахматах цель игры — поставить мат королю противника. В шашках она заключается в том, чтобы бить и снимать с доски шашки противника. И в го фишки тоже берутся в плен и снимаются с доски, но пленение здесь не цель, а средство, поскольку го — это игра за захват пространства.
Каждый игрок стремится захватить как можно большую территорию. Первыми ходами в дебюте один из партнеров заявляет о своих притязаниях, которые противник уже в этой стадии игры отвергает. В миттельшпиле между противниками разгорается борьба не на жизнь, а на смерть, когда один-единственный ход или одна-единственная фишка решают вопрос о жизнеспособности позиций. Для конца игры характерны страховочные меры и действия по укреплению своих границ. Партия считается оконченной, когда выясняется соотношение захваченных партнерами территорий. Побеждает тот, кто захватит большее пространство.
Основные правила
Правила игры в го просты. Достаточно знать следующие из них:
1. В го играют два игрока: один — белыми фишками, другой — черными. Первыми ходят (ставят на доску фишки) черные. Игроки ставят фишки поочередно. За один ход можно поставить только одну фишку.
2. Фишки ставятся на пересечение линий. Выставленные фишки не двигаются (исключение: с доски снимаются фишки, взятые в плен).
3. Побеждает игрок, захвативший большее пространство.
4. Фишки, «свободы» которых полностью заняты противником, считаются пленными и снимаются с доски.
5. Особенности ко.
6. Партии с форой.
Правила 1 и 2 не требуют пояснений. Правила 3—6 вкратце поясняются ниже.
Кто выиграл? (правило 3)
Цель — захват территории. В конце партии определяются размеры территорий. Как уже было сказано, побеждает тот, у кого территория больше. Территория состоит из точек пересечения линий, которые окружены своими фишками и защищены от вторжения противника. Величина территории определяется не числом занятых, а числом окруженных точек.
Диаграмма 1
На диаграмме 1 изображено окончание партии на доске 13×13. Черные владеют всем правым краем доски, небольшой территорией левее центра и отдельной точкой e9. Белые владеют частями верхнего края доски и несколько более обширными частями нижней части доски.
Теоретически еще возможно, например, поставить белые фишки на территории черных у правого края доски. Но черные будут делать ответные ходы и белым не удастся создать жизнеспособную позицию внутри территории черных. Вторгшиеся белые фишки в этом случае будут взяты в плен и сняты с доски. Поскольку такая акция связана с потерями, игроки, как правило, отказываются от нее. Партия окончена. Начинается подсчет.
Прежде всего снимается с доски черная фишка c4. Она изолирована внутри позиций белых и не может удержаться на своей точке. Как и захваченная точка пересечения, плененная фишка дает одно очко. В данном случае плененной фишкой можно занять захваченную черными одиночную точку e9 и тем самым разменять очко за пленного на очко за захваченную точку.
В соответствии с вышеизложенным итоги партии будут выглядеть следующим образом.
Территория белых вверху доски — точки: a10, a11, a12, a13, b12, b13, c12, c13, d13, e13, f12, f13, g12, g13 — итого 14 точек (очков); территория белых внизу доски — точки: a1, a2, b1, b2, c1, c2, c3, c4, d1, d2, e1, e2, f1, f2, f3, g1, g2, g3, h1, h2, h3, i1, i2 — итого 23 точки (очка). Всего у белых 37 очков.
Территория черных справа — точки: k6, l4, l5, l6, l7, l8, l13, m1, m13, n1 — n13 — итого 33 точки (очка); территория черных в центре — точки: d6, d7, e6, e7, f6 — итого 5 точек (очков). Всего у черных 38 очков.
Черные выиграли партию с минимальным преимуществом в одно очко.
Свобода или смерть (правило 4)
Правило 4 гласит, что фишки, «свободы» которых полностью заняты противником, считаются пленными и снимаются с доски.
Что такое «свободы»? Рассмотрим на диаграмме 2 черную фишку b12. Она имеет четыре «свободы», а именно прилегающие точки a12, b11, b13 и c12. Черная фишка f13 стоит на краю и поэтому имеет только три «свободы», а именно e13, f12, g13. Фишка в углу n13 вообще имеет только две «свободы» — m13, n12.
Три другие позиции на диаграмме показывают, как фишки лишаются «свобод» фишками противника. Черные фишки d9, n9 и n1 полностью окружены. У них нет «свобод». Они считаются пленными и снимаются с доски, и белые, выигрывая фишку, выигрывают освободившееся пространство.
Позиция вокруг d3 демонстрирует критическую ситуацию. Если ход белых, то они могут поставить фишку d2 и тем самым лишить черную фишку d3 ее последней «свободы». Постановка фишки d2 и снятие черной фишки считаются одним ходом.
Диаграмма 2
На диаграмме 2 изображены ситуации, некоторые имеют важное значение для понимания игры. На правом краю доски четыре белые фишки окружают точку m5. Если черные поставят сюда фишку, что допускается правилами, эта фишка будет сразу же снята с доски, так как у нее нет «свобод». Это была бы бессмысленная жертва, потому что право ходить перешло бы к белым. Только в исключительных случаях, которые, однако, не имеют значения для начинающих, игрок может воспользоваться этим ходом.
Иная позиция вокруг a6. Если черные поставят сюда фишку, то они ее потеряют (если белые ответят a5), но не потеряют права ходить. В определенной ситуации это имеет смысл.
Несколько более сложная и принципиально иная позиция вокруг h8. Если черные поставят фишку сюда, то тем самым они лишат белую фишку h9 ее последней «свободы», и, поскольку постановка фишки и снятие плененной фишки с доски считаются одним ходом, черные создают для свой фишки h8 «свободу» h9. Возникает ситуация, аналогичная той, что мы видим вокруг h3. Но это уже затрагивает правило ко, которое разъясняется ниже.
Тайна ко (правило 5)
Ко — единственное относительно сложное правило (исключение в игре го). Как ужо объяснялось, фишки, лишенные последних «свобод», считаются битыми и немедленно снимаются с доски. Это относится как к отдельным фишкам, так и к взаимосвязанным фишкам одинакового цвета. Однако правило ко гласит: если отдельная фишка бьется, то бьющая фишка не может быть побита следующим ходом как отдельная фишка. Это положение звучит для начинающего несколько загадочно, но по мере накопления опыта становится понятным и ведет к ситуации, именуемой ко.
Диаграмма 3
На диаграмме 3 показана такая позиция ко. Черные могут поставить здесь фишку d11 и спять с доски как плененную белую фишку e11. Возникает позиция, аналогичная той, которую мы видим вокруг i9. Здесь белые могли бы пойти h9 и спять черную фишку i9. Вновь бы возникла позиция, аналогичная позиции вокруг e11. И так далее. Попеременное выигрывание фишек продолжалось бы бесконечно и мешало бы логическому развитию партии. В этом смысле правило ко является необходимым исключением. Оно не допускает непрерывных блокирующих ходов.
Практически борьба согласно правилу ко могла бы, к примеру, развертываться так. Черные ходят d11 и снимают с доски белую фишку e11. Возникает позиция, соответствующая той, что сложилась вокруг i9. Но белые не имеют права сразу же пойти h9, а должны сделать промежуточный ход — например, b7. Теперь черные, если сочтут нужным, могут поддержать фишку i9, пойдя h9 и связав воедино всю группу черных фишек. Однако при определенных обстоятельствах черные могут сделать промежуточный ход, например, из опасения, что белые своим ходом b7 получили слишком сильную позицию. Поэтому черные могут предпочесть ответный ход c7. Теперь опять ход белых. Они могут воспользоваться ходом h9 и взять в плен фишку i9. После этого снова возникнет исходная ситуация вокруг e11. Теперь уже черные должны сделать какой-нибудь промежуточный ход. В частности, они могут пойти b8 и создать угрозу белой фишке b7. Теперь белые, сделав ход d11, образуют связку своих фишек, и ко закончится. Черные между тем добиваются преимущества в другой части доски, о чем свидетельствует позиция вокруг b7.
Помощь более слабому игроку (правило 6)
Го — справедливая игра. Игроки различной квалификации могут играть приблизительно с равными шансами с помощью системы фор.
Диаграмма 4
Турнирная доска 19×19 помечена девятью звездочками. Они находятся в точках d4, d10, d16, k4, k10, k16, g4, g10, и g16. На эти точки в случае, если дается фора, заранее выставляются фишки. Количество фишек, выставляемых в качестве форы, зависит от степени различия в квалификации игроков. Девять фишек принято считать максимальной форой.
В партиях с форой заранее выставляются черные фишки. Поэтому первый ход делают белые.
Небольшое резюме
Все важнейшие правила го мы разъяснили. Два игрока могут теперь сесть за доску и начать партию. Конечно, теория го разработана намного глубже и детальнее, чем описано здесь. Существуют элементарная стратегия и тактика, нарушение которых ведет к тому, что игрок попадает в худшее положение. Японские мастера знают множество специальных терминов для обозначения определенных позиций, технических приемов и комбинаций. Существует обширная литература по игре го. Некоторые учебники по го состоят из нескольких томов. Однако мы в пределах нашего краткого руководства не имеем возможности заниматься этим подробно.
Некоторые технические приемы
На диаграмме 4 показаны некоторые независимые друг от друга позиции, которые необходимы для понимания игры.
Соединение фишек или образование цепочек
Фишка d16 находится под прямой угрозой, поскольку у нее всего лишь одна «свобода» d15. Если ход белых, то они могут взять ее в плен, пойдя d15. Но черные могут спасти эту фишку, если их ход. Они делают ход (аналогично находящейся правее позиции вокруг точки h16) h15. Черные фишки h16 и h15 теперь крепко связаны. Вместе они обладают тремя «свободами» — g15, h14 и h15. Опасность отражена.
Позиция вокруг точки m15 показывает, что под угрозой могут находиться две фишки (и больше). Две черные фишки m15 и m16 имеют только одну «свободу» m14. Если ход белых, то обе будут взяты в плен. Если ход черных и они выставят фишку m14, то три взаимосвязанные черные фишки снова получают три «свободы».
Диагональные соединения
Соединенными считаются только те фишки, которые смыкаются друг с другом горизонтально или вертикально. На позиции вокруг g16 мы видим две черные фишки, смыкающиеся по диагонали. Они не считаются соединенными. Если ход белых, они могут пойти g15 и взять в плен черную фишку g16. Чтобы не допустить этот угрожающий ход, черные должны сами выставить фишку g15. Все три фишки будут тогда соединены.
Пленение цепочек или групп
В позиции вокруг d10 черные выстроили на первый взгляд стабильную группу из семи фишек. Однако в белом окружении они нежизнеспособны, потому что все семь фишек имеют лишь одну «свободу» — d11. Белые в любой момент могут пойти сюда и снять с доски все семь черных фишек как пленных. Наряду с семью пленными белые получают семь освободившихся точек, то есть выигрывают в целом 14 очков.
Два «глаза»
Позиция вокруг d5 принципиально отличается от позиции, описанной выше, хотя и здесь белые образуют кольцо вокруг черной цепочки. Однако последняя жизнеспособна. У черных здесь две «свободы» которые не могут быть у них отобраны. Белые не могут одновременно пойти d4 и d6. Черные в любом случае сохранят одну из «свобод». Поэтому принято говорить, что позиция с двумя «глазами» (с двумя независимыми друг от друга «свободами») жизнеспособна и стойка. Один «глаз» (одна «свобода»), как, например, на позиции вокруг d10, недостаточен.
В позиции вокруг k1 может показаться, что у черных здесь два необходимых «глаза» — i1 и k1, поэтому позиция их жизнеспособна. Однако это лишь кажется. Хотя здесь и две свободные точки, но «глаз» лишь один. Белые первым же ходом могут поставить фишку i1 и тем самым создать угрозу k1, что приведет к потере одновременно шести черных фишек. Конечно, черные могут ответить на ход белых i1 тем, что сами поставят фишку k1 и снимут с доски белую фишку i1. Но это только затяжка времени, так как, защищаясь, черные лишают себя одной «свободы», а последняя оставшаяся «свобода» ликвидируется ходом белых i1. В этой позиции черные беззащитны, даже если их ход. Не помогают ни ход i1, ни ход k1, так как белые тотчас отвечают ходом на другую точку.
Еще раз о ко
В позиции вокруг k7 под угрозой находится белая фишка k8. Ходом k7 она, конечно, может соединиться с другими белыми фишками и спастись. Однако такой маневр при определенных условиях и с учетом общего положения на доске может оказаться неэффективным. Например, черные могут атаковать оказавшуюся теперь изолированной белую фишку i9. Поэтому белые захотят навязать черным борьбу ко и сделают ход l9. Теперь непосредственная угроза возникает для двух черных фишек — k9 и l8. Черные могут спасти одну из них. Если они пойдут k10, то белые ответят ходом m8 и фишка l8 будет снята с доски. Если они пойдут m8, то белые ответят ходом k10 и k9 попадет в плен. Поэтому черным, пожалуй, лучше принять ко и пойти k7. Белая фишка k8 будет пленена и возникнет позиция ко. Белые согласно правилу ко не могут сразу ответить ударом на удар, и после того, как они сделают ход где-то в другом месте, черные получат возможность пойти k8, соединить все свои фишки и закончить борьбу ко с преимуществом.
Укрепление позиций
В правом углу доски черные выстроили позицию, обещающую им выигрыш двух точек территории. Нельзя, однако, упускать из виду слабую точку s3. Если черные не обратят внимания на возможность вторжения здесь белых и сделают какой-нибудь другой ход, то белые прорвутся через s3, что приведет к большим потерям.
Дружеское окончание партии
В наших упражнениях мы усвоили множество различных понятий, связанных с войной и насилием: плен, захват, отнятие «свобод», создание угроз, охват, самоубийство, вклинение и т. д. Воинственный язык, применяемый игроками в го, возник, конечно, не случайно. Игра го в первую очередь борьба, в которой, разумеется в переносном смысле, речь идет о жизни и смерти — два равных по силам соперника могут истощить друг друга физически и морально.
Но подходить к игре в го только с этой точки зрения — значит не понимать ее смысла. Го часто называют искусством гармонии. Один известный японский мастер пишет: «Поскольку го — это борьба за победу между игроками, эгоистический образ мышления часто ведет к самоуничтожению. Мы не должны забывать, что наш противник так же, как и мы, всегда ищет оптимальный выход. Если оба игрока играют до конца партии удачно, то доска будет гармонично покрыта белыми и черными фишками. Такая игра сродни произведению искусства независимо от того, кто проиграл, а кто выиграл. Безусловно, только приобретя опыт, можно в какой-то мере понять природу го как искусства.
Тот, кто хочет вникнуть в го, обязан в каждой партии решительно бороться за победу При этом он не должен забывать, что в конечном счете борется и сам с собой, ведь го — это такая игра, в которой можно узнать, что такое смертельная опасность. Однако вряд ли удастся сыграть хорошую партию, если все свои помыслы сосредоточить на выигрыше. Если так подходить к игре, то либо проиграешь и ощутишь горечь поражения, либо выиграешь и замкнешься в самодовольной гордыне. В любом случае это заденет самолюбие противника, который в первую очередь является партнером. Велика опасность, что стремление к победе не позволит разглядеть наиболее удачный ход. Японские мастера го говорят, что умеренность — ключ к успеху. Только при наличии истинного духа товарищества можно получить удовольствие от самой игры и от общения с партнером. Одна из «десяти заповедей игрокам го» звучит как парадокс: ведя игру до победы, отбрось себялюбивое желание победить, потому что тот, кто стремится во что бы то ни стало победить, не учитывая своих возможностей, в конце концов потерпит достойное сожаления поражение.
В этом смысле го помогает познать самого себя и имеет большое воспитательное значение, так как развивает умение логически мыслить и умение взглянуть на себя со стороны.
Перед каждой партией го необходимо выполнить установленный ритуал, который призван засвидетельствовать обоюдную вежливость партнеров. Но самое главное — избегать всего, что может вызвать у противника негативные чувства. Поэтому каждому игроку рекомендуется:
— подавлять в себе любое побуждение взять назад ошибочный ход;
— играть весело и без напряжения — долгие раздумья утомляют партнера;
— при безнадежном положении сдаваться, как подобает спортсмену, потому что твердолобое упрямство некорректно по отношению к партнеру;
— не забывать перед началом и после окончания партии поклониться противнику — это знак дружеского расположения, он свидетельствует об уважении и желании делать общее дело.
Примечания
1
Имя Каролина, произнесенное на английский манер. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Район Западного Берлина.
(обратно)3
Профессиональная борьба, в которой разрешены любые жестокие приемы (от англ. catch as catch can — хватай как можешь).
(обратно)4
Здесь имеется в виду соотношение, в котором обменивались на «черном рынке» марки ГДР на марки ФРГ.
(обратно)5
Район Западного Берлина.
(обратно)6
Район Берлина — столицы ГДР.
(обратно)7
Имеется в виду территория бывшей советской зоны оккупации Германии. Когда была образована ГДР, реакционные элементы на Западе, не желавшие признавать молодую республику рабочих и крестьян, еще долго именовали ее «зоной».
(обратно)8
Речь идет о масле из ГДР. Играя на выгодном для них обменном курсе денег на «черном рынке», дельцы из Западного Берлина по дешевке скупали в ГДР продукты питания.
(обратно)9
Имеется в виду оплата из расчета одна марка ФРГ за пять марок ГДР.
(обратно)10
Район Западного Берлина.
(обратно)11
У немцев символ детского простодушия.
(обратно)12
Теперь важно, чтобы читателя не сбило с толку название этой экзотической игры, о которой Йохен Неблинг впервые услышал в пивной своей тетушки. Как сказано в предисловии, у читателя есть возможность научиться играть в го, с необходимостью чего Йохен Неблинг столкнулся позже. В последующем об этом речь пойдет еще не однажды. Игра в го сопровождает действие романа и влияет на действующих лиц. Поэтому, для того чтобы лучше понять происходящие в романе события, в конце книги дается приложение с кратким изложением правил игры. Читатель, не интересующийся такими играми или не желающий перелистывать книгу туда и обратно, может спокойно отказаться от чтения приложения. Для тех же, кто решится ознакомиться с правилами игры, откроется небезынтересная перспектива освоить го, загадочную и самую старую настольную игру мира, в той же последовательности, что и Йохен Неблинг, оказавшийся в трудной ситуации и ставший нашим человеком в Западном Берлине. Для него эта сама по себе безобидная игра явилась символом той большой игры, которая велась в то время по ту и по эту сторону невидимого франта.
(обратно)13
Западноберлинская радиостанция, систематически занимавшаяся откровенно подрывной пропагандой против ГДР.
(обратно)14
Площадь и улица Западного Берлина.
(обратно)15
Имеется в виду одна из проходящих по территории ГДР автострад, но которым осуществляется автомобильное сообщение между ФРГ и Западным Берлином.
(обратно)16
Имеется в виду акция, осуществленная 13 августа 1961 года правительством ГДР, в результате которой была закрыта граница между Западным Берлином и столицей ГДР.
(обратно)17
Социалистическая единая партия Германии.
(обратно)18
Распространенная немецкая карточная игра.
(обратно)19
Речки, протекающие по территории Берлина.
(обратно)20
Маас — река во Франции, Бельгии, Нидерландах; Мемель — немецкое название Клайпеды.
(обратно)21
Одна из главных улиц Западного Берлина.
(обратно)22
Мой друг (франц.).
(обратно)23
Напиток любви (франц.).
(обратно)24
Район Западного Берлина.
(обратно)25
Приблизительно соответствует нашей кандидатской диссертации.
(обратно)26
Эпоха расцвета японской средневековой культуры, конец VIII — конец XII века.
(обратно)27
В Лэнгли расположено Центральное разведывательное управление США.
(обратно)28
Лесопарк в Западном Берлине.
(обратно)29
Один из «королей» американских гангстеров.
(обратно)30
Имеется в виду орел на гербе ФРГ.
(обратно)31
Корабль, на котором в 1620 году группа англичан бежала из Англии от террора короля Якова I в Северную Америку и основала там колонию (город Плимут).
(обратно)32
После окончания войны в Берлине осуществлялось совместное управление четырех оккупационных держав. В 1948 году американский, британский и французский сектора были сепаратным актом объединены под единой администрацией западных держав, и таким образом Западный Берлин был оторван от восточной части города.
(обратно)33
Район Западного Берлина.
(обратно)34
Система, для которой характерно явление медленного просачивания растворителя в раствор через разъединяющую их полупроницаемую перегородку.
(обратно)35
Известный американский комический актер, «прославившийся» своей поддержкой войны, которую вели США во Вьетнаме, и неоднократно выступавший там в концертах перед американскими солдатами.
(обратно)36
Имеется в виду война между США и Японией, частично проходившая на островах Тихого океана.
(обратно)37
Фамилия совпадает с фамилией одного из нацистских главарей, руководителя имперской службы безопасности третьего рейха.
(обратно)38
Район Западного Берлина.
(обратно)39
Имеются в виду семь вопросов, на которые должен ответить следователь в ходе следствия: кто? что? где? когда? почему? чем? каковы последствия?
(обратно)40
Имеются в виду герои психологического романа Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история д-ра Джекиля и м-ра Хайда». Долго исследуя двойственность человеческой души, доктор Джекиль находит способ персонифицировать в отдельной личности все свои плохие качества. Принимая соответствующее снадобье, он время от времени превращается в некоего мистера Хайда, носителя худших свойств доктора Джекиля. Хайд — это Джекиль и не Джекиль одновременно. Гнусные поступки Хайда приводят доктора Джекиля в ужас.
(обратно)41
Марка виски.
(обратно)42
Нижняя палата парламента ФРГ.
(обратно)43
Законы ФРГ, позволяющие в случае войны и обострения обстановки резко ограничить буржуазную демократию и фактически установить в стране диктатуру.
(обратно)44
По-немецки Baum — «дерево», a Stamm — «ствол».
(обратно)45
Здесь Вернер использует терминологию карточной игры.
(обратно)46
Сенатом именуется правительство Западного Берлина.
(обратно)47
Телохранители.
(обратно)48
Глава правительства Западного Берлина.
(обратно)49
Имеются в виду западные державы, оккупировавшие Западный Берлин.
(обратно)50
Немецкое название Львова.
(обратно)51
Восточное побережье США считается наиболее аристократическим районом страны.
(обратно)52
Гигантская обезьяна из американских фильмов ужасов.
(обратно)53
В германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия.
(обратно)54
Отдел разведки вермахта, оперировавший против стран к востоку от Германии, в том числе против СССР.
(обратно)55
В Пуллахе находится разведывательная служба ФРГ.
(обратно)56
Frame-up (англ.) — подтасовка фактов, фальсификация, тайный сговор.
(обратно)57
Так в просторечии именовались первые модели машины «фольксваген», напоминавшие по форме жука.
(обратно)58
Всадники Апокалипсиса символизируют чуму, войну, голод и смерть.
(обратно)59
По библейской легенде на шестой день сотворения мира бог создал человека.
(обратно)60
Подобно тому как известный инцидент в Сараево послужил поводом для первой мировой войны, гнусная провокация, организованная нацистами в Глейвице, на границе с Польшей, послужила им предлогом для нападения на Польшу и развязывания второй мировой войны.
(обратно)61
В феврале 1947 года Союзный контрольный совет в Германии вынес решение о ликвидации прусского государства, являвшегося в прошлом оплотом реакции и милитаризма.
(обратно)62
Имеется в виду роман Арнольда Цвейга «Воспитание под Верденом».
(обратно)63
Городские железные дороги на территории Западного Берлина являются собственностью ГДР, управляет ими Дирекция государственных железных дорог.
(обратно)64
Имеется в виду экскурсия, включающая осмотр восточной части Берлина.
(обратно)65
Ликер, настоянный на травах, снимающий ощущение тяжести в желудке. Обычно его пьют после еды.
(обратно)

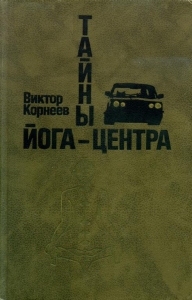
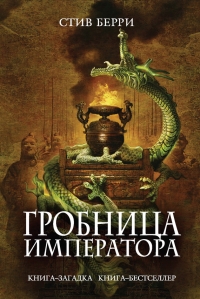
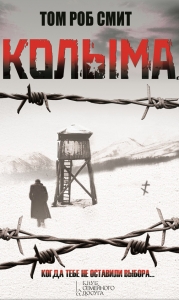

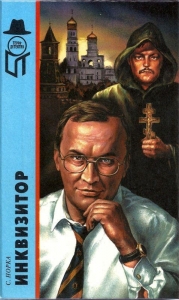
Комментарии к книге «Двойная игра», Гюнтер Карау
Всего 0 комментариев