Александр Кулешов Тупик
Глава I Alma Mater
Наконец-то у меня появилось время. Достаточно времени, чтобы все записать. Не торопясь, спокойно, на свежую голову (пока она еще есть у меня).
Впрочем, я могу как раз в голове-то все и записать. Это можно — что-нибудь записать в голове? Или так не бывает? Ну ладно, не будем придираться к словам. Скажем по-другому: перелистать страницы прошлого. Вот! Это то, что надо. Звучит красиво и с оттенком ностальгии. Перелистать в голове ненаписанные страницы прошлого! А еще лучше — минувшего. Выглядит торжественно. Нет, все же удачнее всего: страницы пережитого. Опять плохо. Плохо, потому что неточно. Ведь не только пережитого, но и сделанного (лучше — совершенного). Итак, если б я писал такой, как бы сказать, послесобытийный дневник, я бы назвал его «Дневник идейного борца Ара: что сделал, что пережил, о чем думал». Пережил немало, наделал и того больше, а вот думал… Думал, пожалуй, маловато. Если б чаще утруждал себя мыслительным процессом, быть может, не пришлось бы делать эти записи, да и столь удачно оказавшегося для этого свободного времени тоже не нашлось бы.
С чего начать? За последние годы я как-то утерял навык к интеллектуальному труду. Так что заранее прошу извинить по части литературного слога.
Так с чего начать? Вернее, с какого момента моей малопоучительной жизни? Или как раз поучительной? Ну ладно, сами разберетесь.
С детства не начну. Детство как детство. Со слюнями, с ревом, дурацкими играми, мелкими разочарованиями и ребячьими радостями, когда поход в зоопарк — вершина мечты, а оброненное мороженое — величайшая из бед.
Рождаемся-то мы все одинаковыми — чистыми, розовыми, гладкими, полными добрых намерений. Что-то я не слышал, чтоб, когда карапузу стукнуло день, неделя, месяц, даже год от роду, можно было с уверенностью сказать: этот будет убийцей, этот просто подонком, тот добряком, а тот шляпой. Это потом жизнь делает нас черненькими или беленькими.
Так что оставим розовое и безоблачное детство в покое, пусть хранится в семейных альбомах и в памяти отцов и матерей, у кого они еще есть. У меня, например, давно нет.
Начну с юности. Скажем так, с университета.
Да, извините, я забыл представиться. Меня зовут Арндт. Но так как вряд ли найдется человек, который мог бы произнести имя с четырьмя согласными подряд на конце, то меня все звали как-нибудь иначе, в зависимости от национальности человека или характера наших отношений, — Арни, Арно, Арну, даже Арнхен, но чаще всего просто Ар. И профессора в университете, и друзья, и чиновники, и следователи, и даже судьи, уж не говоря о любимых женщинах. Вернее, влюбленных. Сам-то я никого никогда не любил. Или все-таки любил? Когда-то давно. Так давно, что та моя жизнь кажется мне теперь нереальной…
Какой же она была, та жизнь? И была ли вообще? Да нет, была! Конечно, была. Иначе не было бы меня сегодняшнего, иначе жили бы все те, кого уже нет в живых. А вот давно ли я жил той, другой жизнью? Как ответить? Иногда мне кажется, что вчера, что она продолжается. Иногда — что прошли сотни, тысячи лет… Века минули с тех пор, как я пришел в университет. На юридический факультет.
Нет, об этом я должен рассказать подробно. После того как моего отца ухлопали на той никому не нужной войне, которую мы же и затеяли и на которой потеряли еще несметное число чьих-то отцов, я остался один. Мать пережила отца ненадолго.
Не знаю, право же, не знаю, кем стали и как жили сыновья других убитых. Одно могу сказать. Сладко им, наверное, не было. Теперь у многих появились небось уже свои сыновья. И когда я вижу этих идиотов, слышу их вопли: «Нужно отомстить за поруганную честь нации, отомстить за отцов!», мне становится жаль, что их в свое время не зажарили в кое-каких печах… Не тех сжигали.
Впрочем, это я сейчас так рассуждаю. А было время, они мне совсем не казались идиотами.
Словом, «воспитывали» меня какие-то тетки, бабки, дальняя родня. Я постарался как можно скорее избавиться от их любви и заботы.
Ну какое вам дело, на что я жил? Я ведь вас не спрашиваю, где вы воруете деньги.
Однажды я понял, что мне предстоит великая будущность. Все, ну прежде всего, конечно, девушки прямо соревновались, кто сделает мне лучший комплимент. И красивый я, и мужественный, и высокий, и смелый, и то и се. И грубый (это им особенно нравилось). А как пою под гитару, а как танцую, а какой спортсмен!
Все это, конечно, чушь. Лучшее доказательство тому — ничего мне из этих замечательных достоинств не пригодилось в жизни, разве что каратэ.
Это я им таким виделся. В действительности же парень как парень — широкоплечих блондинов с синими глазами в нашем городе чуть ли не каждый второй. А уж насчет смелости — в те времена только тот, у кого очки с двадцатью диоптриями, мог во мне ее углядеть. Никогда я не был смелым от природы. Потом — да. Так потом смелым стал от отчаяния. Ну ладно, до этого мы еще доберемся. Вы что, спешите? Нет? Ну так не торопите меня…
Я понимал, что при всем моем блестящем (так мне все говорили) музыкальном даровании все-таки вторым Адамо я не стану. А вот журналистом несомненно. Были бы идеи. А их-то у меня как раз избыток.
Но… Потребовался почти год, чтоб я сообразил: журналист из меня более бездарный, чем музыкант. И хорошо, что не упорствовал, иначе не открыл бы своего нового призвания — художника.
Я действительно и в школе и дома, а особенно в кругу товарищей любил рисовать карикатурки, разную забавную ерунду. И когда моя очередная подружка стала уговаривать меня пойти в школу живописи, я понял, что она права. Год, целый год, готовился, делал этюды, одна богатая женщина — художница, у которой я как раз жил в то время, — даже устроила в своей квартире мою «персональную» выставку. Не знаю, как мои картины, но коктейли удались на славу и заслужили много хвалебных слов.
Но… Без излишней деликатности разъяснили в школе живописи, что путь художника не для меня. В ответ я сказал профессору несколько невежливых слов и хлопнул дверью.
Вот тогда-то я и встретил Гудрун. Ну что мы могли иметь с ней общего? Как вообще я мог обратить на нее внимание? Я — баловень женщин, красавец, интеллектуал. На нее — длинную, худую, с лошадиной физиономией, да к тому же чуть не на десять лет старше меня? А вот поди ж ты…
Может, это любовь? Но какая тут любовь, когда даже в самый разгар нашего романа у меня еще было по меньшей мере две-три «параллельные» подружки? Может быть, Гудрун обладала такими замечательными душевными качествами, что уж бог с ним, с экстерьером? Что вы, большей стервы я не встречал в жизни. Когда я вам все расскажу, вы со мной согласитесь.
Так вот, единственное, что у этой Гудрун было стoящее, — так это глаза. Такие, что, если увидишь, не скоро забудешь. Не глаза — автоген! Прямо сжигают. Когда она устраивала на разных митингах и демонстрациях свои истерики, то просто всех гипнотизировала. И все начинали орать вслед за ней. Что угодно орали. Любой бред.
Кроме того, выяснилось, что если уж я интеллектуал, то она прямо-таки гигант мысли. Ух, до чего ж умна! Спорить с ней совершенно безнадежно. Она слушает с эдакой улыбочкой, и уже сразу понимаешь, что ты круглый болван и вся твоя аргументация — детский лепет. Когда ты все ей выложил, она сначала медленно, тихо, как-то даже ласково, словно ребенку, начинает объяснять тебе, какой ты дурак с твоими наивными и глупыми разговорами.
Потом говорит все громче и быстрей, а уж когда в голосе появляются визгливые пассажи — все! Ты уничтожен, убит, сожжен, похоронен! Она сделала из тебя как из оппонента форменную котлету. И возникает лишь одно желание — упасть на колени и громко возвещать, какая она гениальная, никогда ни в чем не ошибается, как во всем всегда права. Даже если будет утверждать, что дважды два — пять, что снег черный, а жители Эфиопии белые.
Вот так. И здесь ничего нельзя изменить. Это Гудрун.
Когда она сказала мне, что я прирожденный юрист (это, мол, и дураку ясно), что обществу необходимы такие люди, чтобы защищать правду, чтобы бороться с насилием, чтобы изменить мир, установить равноправие, ликвидировать собственность и т. д. и т. п., я поразился, как сам раньше не догадался о своем истинном призвании.
И поступил-таки на юридический.
Между прочим, любопытно, как я познакомился с Гудрун. Послушайте, не пожалеете.
Я уж говорил, что занимался каратэ.
Что такое каратэ? Это отличная костоломная система, которой увлекаются всякие юные балбесы, воображая, что, походив пару месяцев на занятия, ты уже неуязвим. Так каратэ преподносит реклама. Да еще добавляет разные романтические, мистические бредни, этакий дополнительный пикантный соус.
А в действительности все куда сложней. Чтобы стать хорошим каратистом, надо заниматься не месяцы, а годы. Надо тренироваться, как в любом спорте. В десять раз больше, чем в любом! И применять каратэ в деле, а не в мелких уличных потасовках, как те юные балбесы — выучат с грехом пополам полдюжины приемов и лезут в драку. В результате увечья, а то и хуже.
Но я-то занимался по-настоящему. Я хотел доказать Эстебану (о нем речь впереди), что каратэ лучше бокса.
Занимался в старом манеже у одного еще более старого японца по имени Кога. Обычно он сидел на пятках на приподнятой над полом эстраде, неподвижный, как мумия, и еле слышным голосом давал указания. Нас, учеников, было немного, но все энтузиасты. Так что освоили мы премудрости каратэ довольно прочно.
И вот однажды прихожу в зал и вижу: стоит девица уже в кимоно. Ноги длинные торчат из штанов, волосы завязаны узлом, смотрит на всех волком. Ну, пришла так пришла, у нас уже бывали на занятиях женщины. Но долго не задерживались. Началась тренировка. Сразу видно, девица уже занималась каратэ. За тридцать пять ей, а реакция, гибкость, быстрота будь здоров. Как ударит своей длинной ногой, что кнутом хлестнет, и кулаки прямо железные.
Ну, как обычно, здоровались, перебрасывались парой слов. Но как-то после вечерней тренировки вышли вместе, и она спрашивает:
— Вы куда?
— Не знаю еще, — говорю.
— Тогда пошли ко мне, у меня муж уехал.
Вот так начался наш роман. Не то дружба, не то постель, не то любовь, не то общность интересов. И явно — ее гипноз.
Моя тогдашняя покровительница-художница не протестовала, мы даже встречались у нее на квартире все вместе — я, Гудрун, Эстебан, наши друзья. Да и муж Гудрун, какой-то писателишка завалящий, приходил.
А вот Эстебан, мой лучший друг, вскоре приходить перестал. Тогда и начались наши с ним размолвки. Эх, если б знать все наперед…
Вообще моя дружба с Эстебаном еще более загадочна, чем с Гудрун. Потому что общего с ним у нас вроде бы тоже нет ничего. Эстебан работяга. И семья у него такая же. Отец рабочий, дед рабочий, прадед тоже, наверное, был рабочий — все металлисты, разные там профсоюзные деятели, далее коммунисты. Натерпелись, находились без работы, насиделись в тюрьмах.
И вдруг Эстебан вместо молота и наковальни выбирает мантию и шапочку — идет на юридический факультет. Когда я туда явился, он уже на втором курсе был. Познакомились-то мы с ним, как уже говорилось, на почве спорта.
— Каратэ дерьмо! — утверждает Эстебан. У него вообще язык небогат изящными выражениями. — Бокс — это дело! Пока ты будешь прыгать как козел и вопить истошным голосом, я тебе так апперкотом врежу — до потолка взлетишь без всякой тренировки.
— Этот твой бокс ни черта не стóит, — отвечаю вяло. — И зачем он тебе? Деньги зарабатывать?
— Мог бы и зарабатывать. По крайней мере, лучше, чем с богатыми старушками романы крутить, как некоторые. Но мне-то бокс нужен для самозащиты.
— От кого? — спрашиваю. — Что-то я на тебе бриллиантовых перстней и собольих шуб не видел.
— Тем, кто бриллианты носит, полиции бояться нечего. У нее на них времени нет, а вот таким, как мы, наши доблестные стражи порядка спуску не дают. Так что этим сволочам не грех и по морде дать иной раз.
— Это кто же такие «мы»?
— Это честные люди. Ты еще новичок в университете, приглядись. Сам поймешь.
Стал приглядываться. Очень интересная картина открылась, я бы даже сказал, поучительная. Я вам немного расскажу. Да не бойтесь, потом вернусь к главному. Но без этой картины вы многого не поймете.
Значит, так. Город у нас большой, более миллиона жителей. С шумными улицами, где летом дышать нечем, потоками машин, ресторанами, барами, кафе, магазинами, с ночными огнями реклам, смогом, с банками, а следовательно, грабежами, с богатыми и бедными, а значит, воровством, с пушерами, что торгуют наркотиками в подворотнях, а значит, убийствами, с безработными, а следовательно, демонстрациями и драками с полицией (о которых говорил Эстебан), и другими демонстрациями тех, кто, видите ли, не хочет воины, им, видите ли, жизнь дорога.
Словом, город как город в нашей благословенной богом стране. Кстати, о боге — в городе много церквей, в них много священников, и один из них отец Гудрун.
Город большой, и в нем университет, тоже один из крупнейших в стране. Собственно, это город в городе. Чтоб добраться с одного конца университетской территории до другого на велосипеде — полчаса как минимум. Восемнадцать факультетов, и у каждого свой дом в окружении столетних дубов и каштанов. Университету тоже, между прочим, за двести перевалило. Так вот, здания факультетов — красный кирпич, три этажа, черепичная крыша. Но тут и там торчат ни к селу ни к городу стеклянные коробки этажей по десять-пятнадцать — библиотека, обсерватория, анатомический театр, дискотека, актовый зал, спортивный центр, некоторые новые факультеты — электротехнический, вычислительный со своим центром и т. д. и т. п. Это все уже современной постройки. На окраине стадион, площадки для баскетбола, футбольные поля, бассейн… Между всеми этими бесчисленными сооружениями петляют асфальтовые дороги, песчаные или плиточные дорожки, тропинки.
По утрам садовники (прирабатывающие студенты) поливают из шлангов лужайки и цветники. Тогда здесь пахнет свежестью и зеленью, а не бензином, запах которого сопровождает вас в городе с утра до вечера.
Занятия начинаются в восемь утра и с перерывом на обед идут до четырех. В обед заполняется столовая самообслуживания и кафетерии. Сервис там обеспечивают тоже прирабатывающие студенты.
А что вы хотите — учиться в университете, между прочим, стоит денег. Это только Эстебан завирает, что есть страны, где в университетах ничего не платят. Сомневаюсь, чтоб были такие. У нас, во всяком случае, за то, что профессора несколько лет засоряют тебе мозги, надо платить. Но наш университет сравнительно недорогой, а есть такие, что ой-ой-ой! Зато и берут с дипломами тех университетов в первую очередь и на лучшие места.
У нас такой гарантии нет. Помню, как однажды утром пришли и ахнули: вся стена ректората — большое панно метров тридцать длины, вся жизнь студента рассказана перечнем зданий, в которых он побывал, — яркими красками нарисованы дома с надписями: «Poдильный дом», «Детский сад», «Школа», «Университет»… А на последней — «Биржа труда» и «Ночлежка». Действительно, многие, кто наш университет закончил, получают профессию безработного. Довольно распространенная, между прочим, в наше время профессия.
А мой друг Эстебан утром встретил меня и подмигивает:
— Ты видел, смутьяны какую роспись учинили. Нет для них ничего святого!
А сам руки за спину прячет, они у него все в краске…
На время лекций мы с Эстебаном расставались. Во-первых, мы на разных курсах, а во-вторых, я не баловал своим присутствием профессоров, Эстебан же ходил буквально на все лекции. Если б мог, он, наверное, сидел бы сразу в двух аудиториях. Я его понимаю: когда ночью грузишь вагоны, вечером собираешь банки на стадионе, а по утрам подметаешь университетские лужайки и все собранные деньги отдаешь за право ходить на лекции, в читальню, то право это начинаешь ценить на вес золота.
Впрочем, Эстебан успевал всюду: и на работу, и на занятия, и в спортзал, и на свои митинги, и даже в дискотеку.
Дискотека — жуткая штука, чтобы выдержать ее, надо обладать железным здоровьем, стальными мышцами и быть глухонемым, потому что слов твоих все равно не слышно, а чудовищный шум оглушает.
В дискотеке нет окон, потолок не виден, его закрывают клубы табачного дыма, глаза слепят полосующие зал лучи прожекторов, на площадке топчутся танцующие, каждый сам по себе, десятки ребят и девчат, кто в джинсах, кто в шортах, кто в нормальных платьях и брюках, а кто в тренировочном костюме.
Вокруг площадки наклонный пол приподнят и покрыт мягкой тканью черного цвета. Там лежа и сидя отдыхают замучившиеся, из горлышка пьют «пепси», пиво и кое-что покрепче, целуются, милуются, а иные и засыпают, даже храпят. Воздух такой тяжелый, что, кажется, на нем можно улечься. Пахнет пылью, потом, пивом, марихуаной…
На эстраде беснуется оркестр — полдюжины бородатых, здоровенных парней в джинсах и джинсовых жилетках, надетых на голое тело. Обвешанные цепочками, браслетами, амулетами. Они извиваются, падают на колени, запрокидывают голову, протягивают к потолку руки с гитарами, орут, воют, визжат, хрипят, плачут, хохочут — словом, все, что желаешь, — только не поют. Как они выдерживают все это, непонятно. Завидую! Из них футбольную команду создать, ручаюсь, всех бы задавили.
Выйдешь из этой дискотеки, и тренировка в зале каратэ кажется легкой гигиенической прогулкой. Ух!
В университете у нас разные люди. И разные увлечения. И политикой увлекаются, и религией, и модой, и знаменитостями, и всякими новыми идеями, и борьбой за что-то и против чего-то. И бездельников хватает, и дураков тоже.
Например, хиппи. Одеваются чуть не в шкуры доисторических людей — им только мамонта не хватает. Отпускают бороды, баки, усищи, волосы, что у ребят, что у девок, аж до середины спины — одинаково грязные и нечесаные. Воняют. Бегают босиком. Мастерят какие-то украшения, бусы, браслеты, торгуют ими у входа в большие магазины. Летом уматывают куда-нибудь за границу. Иной раз в Индию, Пакистан. И здорово колются. Здорово. Для них любой наркотик хорош. И в любой дозе. Но вообще-то сейчас хиппи действительно какие-то доисторические существа.
Есть у нас еще панки — эти ходячие монументы идиотизма с их серьгами в виде английской булавки, продетой в ухо, или канцелярской скрепкой в носу. Ну что о них сказать… Одеваются невероятным образом, таких и на маскараде не увидишь. Навешивают на себя какие-то немыслимые украшения. Девчонки бреют головы наголо. Во имя чего все это делается, никто из них толком объяснить не может. Единственное объяснение — протест против существующего общества.
Протестовать, конечно, надо. Только общество-то разное — вот в чем беда. Одно дело протестовать против войны, другое — против мира. Одно дело грабить миллионера, другое — работягу и т. д. А эти против всего. Но хиппи и панки еще сравнительно тихий народ. Есть куда шумней.
Однажды был у меня разговор с парнем, который тоже занимался каратэ в нашем зале.
После душа переодеваемся, смотрю, у него в чемоданчике сапоги лакированные лежат, коричневые галифе, красная повязка со свастикой.
Увидел, что я смотрю, объясняет:
— У нас сегодня собрание. Я дежурный, форму прихватил.
— Ты что, фашист? — спрашиваю.
— Фашисты слабаки — я национал-социалист.
— Так их же всех похоронили.
— Не всех, — усмехается, — остались. И вот, как видишь, новые народились. Нас не так-то просто похоронить. Раньше мы в одной Германии были, а теперь в десятках стран.
— Ну и что, зачем существуете, чего хотите?
Он долго на меня глядит, словно хочет насквозь просветить. Потом говорит:
— Слушай, Ар, ты в зеркало когда-нибудь смотрелся? А? Ты же типичный ариец. Лучшей выпечки. Тебя не воротит пожимать руку этому Эстебану твоему, коммунисту, для которого, что желтый, что черный — все равны? Ведь если ты пойдешь шофером в какое-нибудь африканское посольство, он будет считать это нормальным! Уверен.
— Да ты гитлеровец! — говорю.
— Да! — кричит. — Гитлеровец! И горжусь этим. Гитлер был великий человек. Теперь его чернят, всякое ему приписывают, напридумывали разных там лагерей, массовые убийства, то да се. А что он в своей стране сразу покончил с безработицей, что при нем Германия весь свет почти завоевала, что великой империей стала, это чья заслуга?
— Нашел тоже, — говорю, — война! Сколько у них на войне погибло?
— Были бы все у него такие, как мы, — разозлился парень, — не проиграл бы Гитлер войны.
— Кто это «мы»?
— Приходи к нам на собрание, Ар. Что ты теряешь? Послушаешь. Не понравится — уйдешь. Мы силком никого не держим.
— Ладно, — пообещал я, — будет время, приду.
Вот и такой народ у нас есть.
Однажды пошел на собрание, только не к гитлеровцу этому, а к Эстебану. Тут все наоборот.
Одеты они, конечно, не как манекены из модных журналов, но и булавок в ухе не носят. Нормальные ребята. Одни, конечно, кричат, другие говорят спокойно, есть у них народ поумней, есть поглупей. Но главное — они все знают, чего хотят. А хотят они вполне реальные вещи. Они, например, хотят, чтоб не было войны. И наверное, правы. Потому что, если будет война, все остальные желания теряют смысл. Они вспоминают разные войны и сколько там и нашего брата студентов полегло, вспоминают Вьетнам, войны в Африке, Южной Америке, требуют убрать ракеты из нашей страны, потому что толку от них никакого, тем более что они чужие, а в случае заварухи из-за этих ракет нам же по башке и стукнут. Логично? Логично.
Дальше они требуют, чтоб, когда закончат университет, была им работа. А чтоб, пока учатся, правительство тратило деньги на университет, а не на вооружение. Разумно? Разумно.
И вообще у них конкретные требования, и они предлагают реальные пути добиться их выполнения. Кроме того, они не хотят, чтобы только потому, что они коммунисты, перед ними закрывали двери государственных учреждений, как это делается, например, в Западной Германии.
И всего этого, по их мнению, можно достичь, объединяясь, выступая, пропагандируя свои взгляды, а не стреляя из-за угла.
Есть у нас анархисты. Тем только бы стрелять и взрывать. И чтоб никаких законов и правил. Кто сильней — тот и прав. Меня это, конечно, устраивало — с моими бицепсами и каратэ я тяну по их меркам на вожака.
Или вот еще эти сумасшедшие из секты «Сознание Кришны». Что парни, что девчата стригутся наголо, напяливают оранжевые и желтые балахоны, словно собираются участвовать в беге в мешках. Иной раз и не различишь, кто парень, кто девчонка. Собираются кучками, протягивают прохожим суму, как нищие, поют заунывные псалмы, молитвы. Раздают какие-то прокламации. Сами улыбаются во весь рот — изображают невиданное счастье. (Небось не терпится, чтоб дежурство кончилось — зайти в ближайший бар, пропустить стаканчик-другой.)
Я-то думал, что они так, дурака валяют от нечего делать. Оказывается, нет. Помню, нагрянула как-то в университет полиция и раз-раз этих желтопузиков похватала. Выяснилось, что у их главарей в роскошных виллах целые арсеналы нашли, что кое-кого эти святые на тот свет отправили. Вот так.
Ну есть, конечно, и нормальные верующие — католики, протестанты, иудеи, буддисты… Каких только нет!
И еще разные малоизвестные — адвентисты, баптисты и прочие.
Иногда ссорятся, спорят до одурения. Но в общем народ спокойный. Я просто не очень верю, что они верят. Во всяком случае, по части девчонок, наркотиков, спиртного ведут себя не очень-то по-христиански.
Есть черные, мулаты, желтые — у нас же в университете народ со всего света учится. А есть белые, которые, кроме белых, никого не признают, вроде того со свастикой, о котором я говорил.
И бывают драки, избивают цветных. Те, конечно, свои отряды самообороны создают. И тогда уже не драки, а целые побоища. Раненые есть, арестованные…
И каждый знает свою правду, видит свою цель, имеет свой метод, как ее добиться (а может, ничего не имеют и ни черта не понимают, а только воздух сотрясают).
Говоришь с одним, вроде он прав, потолкуешь с другим — прав и тот!
По любому поводу.
Вот, скажем, идем в кино с Гудрун. Смотрим какой-то никудышный фильм, обычное дело: бедная девушка влюбляется в бедного паренька, а в нее влюбляется миллионер. Что перетянет — любовь или корысть? Ну, как вы думаете? Правильно — любовь!
Возвращаемся домой, болтаем, вдруг Гудрун говорит, да нет, не говорит — шипит:
— Я б этого плейбойчика, миллионерчика, завезла куда-нибудь в лесок, к дереву привязала и…
— Это за что ж, — возражаю, — его и так любимая отвергла.
— Ты не понимаешь, ну ничего не понимаешь, — шипит, — их всех — всех богатых — надо убивать. Их общество преступно. Само существование такого общества — величайшее преступление. Пойми, собственность — это кража…
— То-то, — говорю, — ты «фиат» собираешься купить.
— Так это для дела, для общего дела, — мямлит.
— Какого дела?
Молчит.
А на следующий день после тренировки я зашел к Эстебану. Сидит веселый, словно его назначили президентом университетского совета или присвоили звание чемпиона мира.
— Чего радуешься? — спрашиваю.
— Тсс! — шепчет. — Идем. — И манит рукой во двор. Он жил в развалюхе, снимал с земляком комнату в пригороде. Ведет в сарай, там куры какие-то разлетаются с кудахтаньем, кролики красными глазами в темноте светят (хозяйка разводит).
И вот мой Эстебан распахивает дверь в пристройку, включает свет и застывает в величественной позе. Сначала ничего не понимаю, наконец прозреваю: стоит, сверкая краской, подержанный, но отутюженный до блеска мотоцикл «хонда».
— Ну? — спрашивает. Нет — вопрошает.
— Твой?
— Наш. Мы с земляком купили на двоих.
И тут я ляпаю:
— Значит, обзаводишься частной собственностью. А ведь собственность — это кража.
Уж лучше б молчал!
— Это какая же дура тебе такую чушь сказала? — кричит (заметьте, не «дурак» спросил, а «дура», значит, заранее знал ответ). — Какая собственность? Если ты вот сейчас сядешь на мою «хонду» и смотаешься, тогда да, кража. А если мы с земляком месяц вагоны разгружали, мяса не жрали, чтобы денег собрать, так у кого украли? Уж не у Гудрун ли твоей, лошади этой?
— Ну ты, потише, — говорю, — зачем хамить-то. Хорошая девчонка, друг надежный…
— Она-то надежный? Она? Подожди, она тебе еще докажет свою надежность. У нее башка полна глупостей, теперь в тебя их вдалбливает. А ты развесил уши и рад. Анархистка твоя Гудрун, если не хуже! «Собственность — кража». Можешь забрать ее себе, эту Гудрун, никто тебя в краже не обвинит, не беспокойся. В глупости — да…
И пошел, и пошел. У него язык не дай бог, лучше не попадайся. Вот и рассуди тут, кто прав. Так что у нас в университете двух одинаковых мнений не найдешь. Однако бывают минуты, когда объединяются все.
Например, когда урезают наши (я имею в виду молодых) права. Скажем, когда повысили плату за обучение в университете. Что тут началось! В тот вечер, когда было объявлено о повышении, студенты собрались на одной из площадей. Сначала все шло тихо, потом погромче, потом еще громче. А потом появилась полиция с дубинками и плексигласовыми щитами. И началась драка. Человек двадцать ранили, полицейских тоже.
Многих наших арестовали.
Во всей этой заварухе я тоже принял участие — кидал в полицейских камни, железки какие-то. По-моему, попал.
Между прочим, среди арестованных оказался Эстебан. Хотя он-то как раз ничего ни в кого не кидал. Но он залез на тумбу и начал произносить речь. А на полицейских такие ораторы действуют как красная тряпка на быка. Они к нему прорвались, хотели арестовать, но Эстебану удалось скрыться.
И Гудрун там была. Я даже не заметил, когда и откуда она появилась. Во всяком случае, вначале ее не было. Вдруг смотрю — волосы развеваются как флаг, глаза горят. Я ее такой еще не видел. Орет, в голосе визг, брызжет слюной. В одной руке какая-то железяка, в другой стеклянный пузырек. Мечется, кричит. Вдруг исчезла.
После всего нашел ее в нашем обычном ресторанчике «Свидание гладиаторов» (в тот вечер более подходящего названия и не придумаешь). Сидит одна, глаза стеклянные, пьет пиво. Подхожу. Спрашиваю:
— Ты куда делась?
— Убежала. Если б они меня прихватили, убили бы.
— Почему? Просидела б ночь в участке, и выпустили бы…
— Как же, — смеется (весело так смеется!), — кишки они б мне выпустили. Они, знаешь, как друг за друга… Не дай бог бедняжку полицейского обидеть. Убьют.
— А ты что, обидела?
— Обидела, обидела, — опять смеется, вдруг смех обрывает и так смотрит, что у меня мороз по коже. — Не пожалела кислоты, весь пузырек на него выплеснула. Ох и заорал он, чуть не оглушил.
— Ки-сло-ты? — заикаюсь. — Как кислоты?
— Да так, — отвечает. — Синильной. Не беспокойся, неразбавленной. Словом, сам понимаешь — после этого мне там оставаться было нельзя, противопоказано. Вот видишь, удалось смыться. Пью пиво — нервы успокаиваю. А то у меня в ушах до сих пор его крик стоит.
Может, свои нервы она и успокоила, но у меня после ее рассказа они явно зашалили. Ничего себе, кислотой! Полицейского! Брр!
Я вот вам рассказал, что за народ наши студенты, но есть среди них еще одна категория. Мы их зовем «счастливчиками». Ну, например, Габриель. Хороший парень, мы с ним вроде бы дружили даже. Что сказать про него? Отец его коллекционер — собирает шахты, домны, сталелитейные заводы, железными дорогами тоже не брезгует. Чтоб Габриелю позвонить, надо затратить два часа — неизвестно, в каком из своих бесчисленных домов, вилл, замков он находится.
Машины он меняет чаще, чем я женщин. Но со мной и некоторыми другими ребятами он на короткой ноге. Почему?
Я вспоминаю один разговор, который был у меня с Эстебаном по этому поводу.
— Видишь ли, — говорил он, — студенчество — это особый социальный слой. Проходящий, что ли. Ну, как бы тебе объяснить? Понимаешь, у студентов разное прошлое, разное будущее, но общее настоящее. Не целиком, конечно, но во многом. Вот ты был бездомным сиротой, я — сыном потомственного рабочего, твоя Гудрун, эта лошадь (ведь никогда не упустит случая пройтись на ее счет, свинья), — дочь священника, Габриель — сын миллионера. Это в прошлом. Теперь же мы все студенты. Конечно, у тебя велосипед, у меня мотоцикл, у Габриеля «мерседес». Но все же одни аудитории, стадион, библиотеки, одни профессора, лекции, мы постоянно общаемся. Никто не может сказать, что он главней. А что впереди? А впереди — Габриель сядет в кресло какого-нибудь президента — генерального директора, или советника юстиции, или главы адвокатской конторы, я (с дипломом) буду обивать пороги биржи труда, ты со своим каратэ (и дипломом) наймешься телохранителем к какому-нибудь Габриелю, твоя лошадь стать куртизанкой, конечно, не сможет с ее-то мордой, но официанткой (с дипломом) ее, пожалуй, возьмут в третьеразрядную студенческую столовую. Вот так и получается, что в нашем обществе уже с рождения и, как правило, всю жизнь каждый стоит на положенной ему ступеньке социальной лестницы, и только в период студенчества все толпятся на одной лестничной площадке.
— И как быть? — спрашиваю.
— А изменить все это к чертовой матери. Изменить социальный строй.
— Революция?
— Можно и революцию. Но необязательно. Есть другие пути. Народ сам разберется. Наше дело помочь разобраться.
— Да у нас в университете сколько студентов, столько советчиков — и все знают, как изменить жизнь. В футболе тоже так — сидят на трибуне сто тысяч человек, и все сто тысяч знают, как забить гол, только форвард, шляпа, не знает.
— Да нет, — морщится Эстебан, — мало знать, надо уметь, мало уметь, надо решиться.
— А вы, коммунисты, знаете?
— Мы знаем, — отвечает твердо. — Посмотри на карту. И не обращай внимания на всех этих кретинов — они ж ничего не понимают, только болтают все эти неонацисты, фашисты, расисты. Они только кричат, что нужны равноправие, свобода и тому подобное. Их устраивает все как есть. Так что не в лозунгах дело, а в деле. Ладно, еще поймешь когда-нибудь.
«Действительно, — подумал я тогда, — сейчас мы с Габриелем в одной аудитории сидим, в одном зале тренируемся, а кончим университет, что будет? Он-то себе место найдет, найду ли я? Вот в чем вопрос».
Интересно, что думает по этому поводу Гудрун. Последнее время мы виделись все чаще.
Как-то утром, когда я уходил от нее, она меня задержала.
— Знаешь, Ар, мне эта волынка с конспирацией надоела. Я мужу сказала, что ухожу к тебе. И квартиру сняла рядом с университетом. Теперь будем жить вместе. Возражения есть?
Какие могут быть возражения? Правда, со мной она не посоветовалась, и денег, чтоб семью содержать, у меня нет, но как-нибудь проживем.
Она, словно мои мысли читает, усмехается:
— Насчет денег не бойся. Я жена недорогая — много мне не требуется. И заработаю уж, во всяком случае, не меньше тебя.
Вот и весь сказ…
Посмотрела на меня и добавила:
— Можешь продолжать своих баб эксплуатировать, я не в претензии. Все эти старомодные штучки меня не волнуют. Хочешь, будем вчетвером жить, хочешь — вшестером. Групповые браки вещь разумная. Нет, дело не в сексе, для этого незачем гаремов устраивать. Прожить легче. Если не двое в семье, а четверо, больше шансов, что кто-нибудь работу достанет. Так что групповой брак в нашей стране — институт не биологический, а экономический. — И засмеялась.
Трудно с ней. У нее сомнений не бывает. Она все знает и всегда права.
В те времена, а теперь мне кажется, что было это все давно-давно, я любил возвращаться из университета пешком по набережной. Река в городе неширокая, но ужас до чего бурная. Набережные бетонные, их высоченные гладкие стены спускаются к воде, и я иной раз задумывался — не дай бог, кто свалится в реку, так не вылезет, ухватиться не за что.
Впрочем, лучше вообще никуда никогда не падать. Это всегда плохо кончается.
Я шел вдоль реки, мимо тихих переулков, старых невысоких домов, запущенных садиков. Мне навстречу попадались старички, прогуливающие длинных такс, и одинокие парочки — здесь всегда малолюдно, все располагает к раздумью. И я начал размышлять. Вот кончу свой юридический факультет и… Что будет? Не окажется ли это концом, прыжком в ту реку, что течет мимо гладких беспощадных стен. Рассчитывать на спасательный круг не приходится.
Мы живем в несовершенном обществе. Люди растят детей, чтоб потом потерять их на войне. Учат студентов, чтоб потом оставить без работы. Так на кой черт учить?.. А кто тебя просит учиться? — возражал я сам себе. — Тебя что, в университет с полицией водят? Наоборот, еще деньги дерут. Учение в университете не страховой полис — гарантий не дает.
Дает только надежду. В наше время это вещь не очень дорогая. Чего я здесь торчу? Ведь передо мной открыто столько блестящих дорог. Какие, например? Например, с моей внешностью — жениться на богатой женщине. Вы, наверное, уже поняли, что по этому пути я прошел немало километров, хотя до брака не дошел.
Могу работать тренером по каратэ. Или «гориллой» в частном сыскном агентстве, на худой конец вышибалой, телохранителем, охранником в каком-нибудь захудалом предприятьишке.
Могу записаться в иностранный легион, отправиться наемником в Африку. Вообще, залезть в армию.
Могу еще стать профессиональным убийцей, грабителем, словом, преступником — в нашей стране это легко и сулит отличные перспективы.
Вон сколько возможностей, только выбирай, рассуждал я.
Увы, все это мне не подходит. Я хочу быть юристом. Надеюсь, что хоть здесь что-нибудь получится, если уж не смог стать музыкантом, художником, журналистом. Я стану юристом, черт возьми! Но каким именно юристом? Адвокатом? Прокурором? Юрисконсультом?
Ладно, потом разберемся.
Вот так я размышлял тогда, идя неспешно вдоль набережной навстречу старичкам с таксами и счастливым влюбленным. Эх, идти бы так и идти, чтоб никогда не кончалась эта набережная…
Но набережная кончалась, я приходил домой, садился за книги, шел на тренировки, вечером заворачивал к своим «дамам». Потом, когда появилась Гудрун, необходимость в дамах отпала. Как ни странно, у Гудрун водились деньги. Да и становилась она мне с каждым днем все нужней и нужней. Об этом феномене я тоже иногда размышлял. Как всегда делают дураки в подобных случаях, я начинал взвешивать на весах ее недостатки и достоинства (первые явно перетягивали), сравнивал, анализировал, оценивал…
А разбирать-то незачем в таких делах. Тут все разбирается без тебя.
Потом, следуя той же идиотской традиции, я спрашивал: что она нашла во мне? Конечно, таких интересных мужчин встретишь не часто (нет, право же, я не хвастаюсь). Но всем своим нутром чувствовал: я интересовал ее не только как мужчина — мужчины как таковые вообще, по-моему, ее не интересовали, — а как человек, как личность. Да ведь личность-то я никакая. Видите, говорю это честно и откровенно. Сразу признаю, что по части личности я не того… Ну ладно, ладно, не буду врать. И все же интересовал я Гудрун прежде всего как человек, потом уж все остальное. Почему?
Вот такие мучили меня тогда сомнения. И немало прошло времени и случилось событий, пока получил ответ на все вопросы.
Интересно и другое. Раньше по всем своим делам, даже самым неприглядным (а их у меня хватало, скрывать не буду), я советовался с Эстебаном. Очень умный он парень. Быстрый у него ум, четкий, как ЭВМ, — вкладываешь вопрос и тут же получаешь точный ответ. И всегда правильный, хоть спорили мы с ним немало.
А вот когда появилась Гудрун, я перестал с ним советоваться. Уж не знаю почему. Может быть, потому, что они не любили друг друга (а точнее, терпеть не могли)? Может быть, когда возникло у меня к ней настоящее чувство, я застеснялся вдруг Эстебана?
Да нет. Нет, конечно. Теперь-то уж могу признаться — дело в том, что Эстебан по-прежнему был всегда прав, только теперь меня это не устраивало. Теперь я хотел, чтоб права была Гудрун. Я слушал ее и соглашался с ней, а мысль о том, что прав-то Эстебан, загонялась в самую глубину, куда-нибудь в пятку, наверное, и там подрагивала, как заячий хвостик.
Нехорошо, конечно, но что ж поделаешь, раз так?
И поверьте, дорого мне моя глупость обошлась, так дорого, что не расплатиться.
Удивительно все-таки люди устроены: все считают, прикидывают, что на свете самое дорогое. Могу поделиться своим открытием, и притом бесплатно: ничего нет дороже глупости. Во сколько она людям обходится, ни с чем не сравнить!
Верьте мне — уж кто-кто, а я знаю это совершенно точно.
В городе в те дни стояла ужасная погода, казалось бы, весна, почки распускаются, небеса должны голубеть, а вместо этого льет как из ведра, и не поймешь, то ли дождь, то ли снег, ветер промозглый дует вовсю. Слякоть на улицах, машины только и норовят грязью обдать (будто без этого мало мы друг друга грязью поливаем).
Ну как мне совместить их — Гудрун и Эстебана, самых мне близких людей? Придется раздвоиться. В конце концов, ни о какой ревности здесь не может быть и речи. Надо просто найти линии поведения — с Гудрун одна, с Эстебаном другая. И не путать. Ни в коем случае не путать.
Вот такая у меня была тогда забота.
Глава II Переменчивая погода
Над городом мотались тучи. Или облака. Не поймешь. Тучи ведь обычно темные, а облака светлые. А тут все вперемежку. Чистое голубое ранним утром небо к полудню превращалось в подобие пухлой плотной белой ваты. Потом сквозь нее просачивались какие-то темные, серые, черные клочья. И наконец, начинался дождь, но не обычный весенний дождь — быстрый, чистый, стремительный и короткий, а самый настоящий осенний — нудный, прочный, бесконечный.
Прохожие поднимали воротники плащей и курток, раскрывали зонты, хмуря брови, впивались взглядами в лужи, словно опытные лоцманы, намечая маршрут в этом разлившемся по улицам и площадям океане.
И все же весна есть весна. Пришло тепло, лужайки покрылись зеленью, зазеленели и деревья.
А главное, конечно, весна властно сказывалась на настроении.
У молодежи особенно. У студентов.
Хотелось взлететь на крыльях. И не сидеть в библиотеках. Хотелось любить и быть любимым. И не заниматься опытами в вонючей химической лаборатории. Хотелось быть сильным, знаменитым, властным — словом, самоутвердиться. А не мыть посуду в студенческой столовой, чтобы заработать кое-что для этого самоутверждения.
Кроме того, весна оказывает, как и каждая смена сезона, самое разное и часто неожиданное воздействие на человеческий организм, точнее, на психику.
Так, по крайней мере, утверждают врачи. Хотя и не единогласно. Одних весной тянет ко сну, другие, наоборот, готовы ночь напролет в состоянии великого возбуждения метаться по пустынным улицам и паркам, уподобляясь мартовским котам. Те вяло реагируют на любое лихо, эти сами готовы всех резать и жечь…
Словом, хлопот с этой весной не оберешься.
И все, кому положено, об этом знают. И если не дураки, соответственно готовятся.
Например, комиссар полиции VI округа, где расположен университет.
Уж кто-кто, а он-то знает, что такое весна, да еще для студентов. Ого-го, чего ему это стоит каждый год — двух-трех лет жизни! Вообще полицейским, имеющим дело со студентами, надо считать год службы за два и платить премию за вредность. А уж весной…
Удивительная эта молодежь. Ей все время что-то надо.
Вот в его, комиссара, юные годы студенты вели себя иначе. Ходили на лекции, в библиотеки, на стадионы. По воскресеньям — на вечеринки, на танцы.
Ну дрались, конечно. Из-за девчонок, под пьяную руку. Но чтоб выходить толпами на демонстрации или убивать, все время против чего-нибудь протестовать! Такого и в голову никому не приходило.
Комиссар с тоской смотрит в окно на чахлое, еще голое дерево во дворе комиссариата, на бетонную унылую, утыканную поверху бутылочным стеклом стену и вздыхает. Потом переводит взгляд на сводку: «17 марта убит бакалейщик на улице… похищен мальчик восьми лет, сын киноактера… убит в драке букмекер с улицы… Перестрелка на вокзале, жертв нет… Похищена девочка пяти лет, дочь генерального директора заводов… взорвана бомба у помещения либеральной партии… взорвана бомба возле стены прокуратуры… убиты известный рецидивист по кличке Малыш и его телохранитель…»
И все? Все. Маловато. Обычно бывает больше.
Комиссар переходит к конфиденциальной части.
«Бежал из тюрьмы террорист… В город прибыл из-за океана известный шулер по кличке… В университете готовится массовая демонстрация в связи с увольнением профессора Брокара…» Ага, вот это уже касается его.
Комиссар внимательно вчитывается в сводку.
Не глядя, нащупывает кнопку, нажимает, входит дежурный.
— Инспектор Лойд на месте?
— Так точно.
— Так позовите его, чего вы стоите!
К этой раздражающей всех привычке комиссара никто из его подчиненных никак не может привыкнуть. Вместо того чтобы просто гаркнуть в селектор: «Лойд, ко мне!» — комиссар обязательно зовет дежурного, и тот должен вызывать нужного сотрудника лично или по телефону. На это уходит лишнее время, иногда нужного человека нет на месте, и дежурный по нескольку раз заходит в кабинет, чтобы сообщить об этом… Словом, ерунда какая-то.
Входит инспектор Лойд (вообще-то он старший инспектор, но так его величают подчиненные, комиссару добавлять «старший» лень). Худой, подтянутый, с глубоко запавшими глазами, с огромными залысинами.
Он молча останавливается на пороге.
Комиссар протягивает ему сводку и укоризненно (словно виноват в этом Лойд) произносит:
— Опять ваши студенты собираются валять дурака. Займитесь. (Университет входит в орбиту деятельности старшего инспектора Лойда.)
Тот молча берет сводку, кивает и, повернувшись на каблуках, исчезает за дверью.
«Служака, — неодобрительно думает комиссар. — Служака и молчун».
Инспектор Лойд отправляется готовить «контр-операцию». Она хорошо разработана, не впервой студенты мутят воду, не впервой их приходится призывать к порядку. Так что в комиссариате есть вариант Y на этот случай, как есть варианты С, В, X и т. д. на всевозможные случаи беспорядков, похищений, ограблений, террористических актов…
Лойд запрашивает сведения на профессора Брокара. Благодарение богу, в Центральном управлении есть электронный мозг, в котором хранятся сведения не только на всех преступников, но и на смутьянов (а заодно и потенциальных смутьянов).
Лойд ненавидит этих людей. Он понимает воров и грабителей, не любит их, но понимает — они убивают, грабят, воруют, занимаются контрабандой, киднапингом, словом, плохими делами, но ради ясной и понятной ему цели. Каждый хочет заработать деньги, иметь виллу, машины, драгоценности. Даже насильников он понимает — кому неохота попользоваться красивой девчонкой. Свинство делать это насильно, но понять-то можно.
А эти болтуны, скандалисты, агитаторы — им что нужно, позвольте спросить? Они-то чего добиваются? Когда крадешь миллион и оказываешься за решеткой — все ясно: рисковал — не повезло. Так ведь было ради чего рисковать… А эти? Их тоже сажают, проламывают им головы дубинками, увечат пластиковыми пулями, и что же? Продолжают свое!
Лойд органически ненавидит все, чего не понимает.
Вот хоть этот профессор Брокар, — он смотрит выписку из досье, — не старый еще человек, был социалистом, теперь коммунист. Дважды арестовывался за участие в запрещенных митингах. Автор пропагандистской брошюрки «За мир». Женат, двое детей. Не курит. Наркотиков не употребляет. Вино — умеренно. В сексуальных извращениях не замечен. Круг знакомств — «левые» студенты и профессора. Уволен по указанию министерства образования, как не соответствующий должности профессора истории.
Кто протестует против его увольнения? Так. Коммунисты, социалисты, пацифисты, анархисты (а эти-то с чего?), иностранные студенты — африканцы, южноамериканцы, индийцы. На какое время назначена демонстрация? На двенадцать дня. Где? Университетская площадь. Все ясно. Оттуда пойдут к муниципальному управлению, будут драть глотки.
Лойд начинает отдавать распоряжения в соответствии с вариантом Y. Давно изученный и не раз примененный вариант.
И вот на следующий день в двенадцать часов на университетской площади начинают разворачиваться события.
Это большая площадь, вопреки своему названию расположенная довольно далеко от университетского городка. Дело в том, что больше двух веков тому назад, когда возник университет, он помещался на этой площади и два-три десятка лет там и оставался — до того, как переехал в свои нынешние помещения. Теперь же в узких по фасаду четырех-пятиэтажных домах под черепичными крышами просто жили люди, не очень богатые — особым комфортом дома не отличались, — но и не бедняки. Квартплата в этом районе все же была высокой.
Дома большим квадратом окаймляли мощеную старинным булыжником площадь с фонтаном посредине. Фонтан имел вид глобуса, вокруг которого размещались животные, символизировавшие разные континенты, — медведь, тигр, кенгуру, слон и волк. Фонтан давно не работал, а бедные животные были до такой степени изрезаны разными лозунгами, фамилиями и другими надписями, что, право же, хотелось поскорей занести их в Красную книгу.
На площадь выходили четыре улицы, и в сотне метров на одной из них возвышалось приземистое здание муниципального управления образования.
Студенты частенько проводили здесь свои митинги и демонстрации, которые частенько оканчивались отнюдь не мирно.
Уже к десяти часам утра улица, что вела к зданию управления, была перегорожена барьерами. Их поставили в два ряда, а между ними стояли полицейские в белых касках, с дубинками в одной руке и плексигласовыми щитами в другой. Они стояли молча, почти не двигаясь, с беспокойством поглядывая на площадь, где уже начали собираться студенты.
Еще бы! Это когда-то достаточно было свистнуть, шикнуть, и всех этих мальчишек и девчонок сдувало будто ветром. А сейчас поди попробуй. Нет, теперь разгон демонстрации — это настоящая война. Поэтому полицейские внимательно и настороженно наблюдают за площадью.
Другие отряды расположились на соседних улицах. Подогнаны могучие бронированные спецмашины, на которых установлены брандспойты, пеноразбрызгиватели. У тротуара застыла вереница тюремных фургонов (наверное, будут арестованные), штабных. Полицейские вооружены дубинками, ружьями, которые стреляют пластиковыми пулями, гранатами со слезоточивым газом, пистолетами.
Но в сторонке стоят и автоматчики.
Сам Лойд занял позицию на крыше одного из автомобилей, в руках у него микрофон — с помощью специальных машин, оснащенных мощными репродукторами, он может перекричать любой шум.
Обитатели окружающих площадь домов тоже принимают свои меры — одни, проклиная «эту современную молодежь», а другие, крестясь, закрывают ставни (благо, в их старинных домах ставни делались на совесть), запирают подъезды. Владельцы ресторанчиков и лавчонок опускают на витрины металлические жалюзи. Прохожие торопливо покидают площадь.
А она заполняется народом.
Молодые парни и девчонки стекаются по трем неперегороженным улицам к фонтану. Здесь уже возвышается самодельная трибуна, над ней нависает скульптура медведя, установлены громкоговорители. (На следующий день все правые газеты, конечно же, напишут про «лапы русского медведя».)
Студенты несут широкие полотнища, транспаранты с огромными надписями: «Долой запрет на профессию», «Вернуть Брокара в университет», «Сами выберем себе профессоров», «Деньги на образование, а не на оружие», «Одна ракета равна ста столовым» и другие.
У некоторых студентов красные повязки на рукаве, они незаметно, но споро занимают стратегические позиции, — это студенческая служба порядка.
Лойд облегченно вздыхает. Он уже знает — если присутствует эта служба — большей частью «левые», коммунисты, социалисты, значит, эксцессов быть не должно. Да и самодельного оружия не видно. Но анархисты? В конфиденциальной сводке ясно сказано — анархисты, а те порядка не любят. Но где они? Его многоопытный взгляд выхватывает из толпы нескольких подозрительных бородачей. Лойд знает, что с помощью мощных телеобъективов полицейские на крышах фотографируют скрытыми камерами демонстрантов. Эти фото пополнят секретные досье на вожаков.
Двенадцать часов.
К микрофону на трибуне подходит невысокий коренастый парень с черными усами. Лойд его знает — как же, это Эстебан, «красный», один из самых активных и авторитетных студенческих лидеров. На всю площадь разносится его резкий голос.
— Друзья! Мы собрались сегодня, чтобы выразить наше возмущение! Наш протест, наш гнев. До каких пор правительство будет диктовать нам, чему мы должны учиться, а главное, кто нас должен учить. Стоит любому преподавателю начать говорить правду о нашей сегодняшней жизни, правдиво излагать историю нашего государства, и его тут же увольняют. Мы не маленькие, нас уже не обманешь. Мы прекрасно знаем и довоенную, и военную, да и нынешнюю историю нашей родины, знаем, кто виноват в ее бедах. И обмануть нас не удастся. Почему профессор Брокар должен быть уволен только за то, что не желает выполнять наказы наших реакционных правителей? Почему ему затыкают рот? Мы не можем этого допустить! Я призываю принять резолюцию, в которой мы требуем оставить профессора Брокара в университете. Мы все подпишем ее и передадим в ректорат.
«Слава богу, кажется, на этот раз все обойдется», — подумал старший инспектор Лойд, вытирая платком вспотевшую шею. Но радость его оказалась преждевременной.
На трибуну вышел очередной оратор — мускулистый парень в джинсовой жилетке, надетой на голое тело. На шее у него висел на толстой цепочке деревянный двурогий шлем величиной с кулак. Нечесаные патлы закрывали плечи. Все лицо заросло густой бородой, бакенбардами, усами, и из этих черных зарослей торчал мясистый нос и чувственные красные губы. Глаза закрывали темные очки.
— Я согласен, — заорал волосатый парень, — не дадим в обиду Брокара. Но всю эту гнусную банду диктаторов и палачей, каким является наше правительство, резолюциями не проймешь. Подотрутся они нашими резолюциями. Я предлагаю подкрепить наши требования эффективными акциями. Предлагаю разгромить наконец это гнездо лизоблюдов — управление образования. Может быть, тогда они поймут нашу силу. Они нас давят! И на насилие надо отвечать насилием!
«Началось», — с тоской подумал Лойд. Он хорошо знал психологию толпы — еще одно-два таких выступления, и студенты перейдут к действиям. Настроение толпы надо немедленно переломить. Он уже взялся за микрофон, но в это время над площадью вновь разнесся голос Эстебана.
— Друзья! Я настаиваю на своем предложении. Если мы начнем разгром управления, это ничего не даст. Посмотрите кругом — здесь собралось полиции больше, чем студентов. Это хорошо, значит, нас боятся. Но что нам даст драка? Новые жертвы, новые аресты, обвинение в хулиганстве. А резолюцию мы опубликуем в газете. Представим официально. Мы не должны компрометировать профессора Брокара…
Раздались выкрики. Подавляющее большинство поддерживало Эстебана, но были и такие, кто жаждал крови. Парни с красными повязками на рукавах бдительно следили за студентами.
В какой-то момент Эстебану удалось перекричать толпу:
— Мы приготовили резолюцию! Пусть каждый подойдет и распишется под ней. Потом мы организованно пойдем к университету и вручим резолюцию и подписи ректору.
В толпе началось движение. Студенты становились в очереди, один за другим подходили к лежавшим на складных стульях листам и ставили свои подписи.
Казалось, все пройдет спокойно. Сейчас огромная толпа организованно и неторопливо двинется в направлении университета, дойдет до дверей ректората и вручит свою дурацкую бумажку какому-нибудь третьеразрядному университетскому клерку, который, даже не доложив начальству, выкинет ее в корзину. А Лойд наконец сможет вернуться к более серьезным делам. В общем-то правы газеты, признавался он сам себе, когда пишут, что не хватает полицейских для борьбы с преступниками, потому что они заняты разгоном таких вот демонстраций. Действительно, сотни подчиненных Лойда стояли здесь без толку, а сколько за это время совершается настоящих преступлений! Да, но если не давить этих крикунов, возражал сам себе старший инспектор, то к стенке поставят таких, как он (как это делали партизаны после войны), и украдут не сотню-две монет, а миллионы, вообще все богатства у тех, кому он, Лойд, служит верой и правдой, потому что от них зависит его личное благополучие. Так что уж извините, господа красные, черные, левые, правые… — словом, возмутители спокойствия и ниспровергатели порядка, лучше уж я с вами буду разделываться, чем с тихими приличными убийцами и насильниками, которые, конечно, покушаются то на одного, то на другого из сильных мира сего, но не на весь порядок целиком. Нюанс! Ладно, хорошо, что хоть на этот раз обошлось. Лойд неторопливо спустился со своего командного пункта и сел в штабную машину.
Вот тогда-то и началось…
С грохотом в ветровое стекло ударил камень, и оно покрылось тонкой паутиной трещин. Еще несколько булыжников попало в щиты полицейских. Раздались крики, свистки, слова команд.
Притаившиеся на крышах полицейские фотоснайперы немедленно зафиксировали на пленку зачинщиков. Потом, при просмотре, и это отнюдь не удивит старшего инспектора Лойда, окажется, что беспорядки начали те самые бородачи в кожаных куртках, которых он приметил с самого начала. На некоторых снимках даже четко видно, что им пытались помешать парни с красными повязками.
Но было уже поздно: заработал инстинкт разрушения.
Камни летели в закрытые ставни домов, в жалюзи ресторанов, кое-где вспыхнул разлившийся бензин. Полицейские, выставив вперед щиты, ринулись на площадь, ударяя дубинками направо и налево.
Заглушая крики, женский визг, трели полицейских свистков, взревели моторы машин-водометов. Это было столпотворение, особенно неуместное на этой старинной квадратной площади, окруженной средневековыми домами со слепыми сейчас окнами, под ярко-голубым солнечным небом. Тучи и облака, метавшиеся все это время над городом, словно нарочно выбрали этот момент, чтобы окончательно исчезнуть за горизонтом.
Побоище длилось недолго и закончилось как обычно — десятка два студентов отправили с ушибами в больницу, десятка три за решетку. Было ранено и несколько полицейских. К обеду в домах на площади вновь открыли окна, хозяева ресторанчиков подняли жалюзи, вынесли на тротуары столики, накрытые веселыми цветными скатертями.
Убрали мусор, береты, сумки, зонтики, порванные и затоптанные листки с подписями…
Мир и покой вновь снизошли на старинную квадратную площадь.
Ар и Гудрун в перерыве между лекциями сидели у открытого окна студенческой столовой за деревянным без скатерти столом и обедали.
Перед ними стояли подносы, которые они, пройдя длинную стойку самообслуживания, заполнили тарелками с едой.
Ар в который раз, скрывая удивление, наблюдал, как ест его подруга. Уж на что он здоровенный парень, спортсмен, но и половины не съедал того, что поглощала Гудрун. Эта худая, мускулистая молодая женщина со впалыми щеками была ненасытна. Однажды Ар неосторожно сказал ей об этом.
— Еще бы, — огрызнулась Гудрун, — мне ведь в отличие от тебя приходится питать не только тело, но и мозг…
Они ели быстро, молча, словно два хищника, у которых в любую минуту могут отнять добычу.
Наконец, когда тарелки опустели, Ар принялся лениво жевать яблоко, а Гудрун закурила.
До начала следующей лекции оставалось полчаса, и они продолжали начатый перед обедом разговор.
— Идиоты, — беззлобно, как нечто само собой разумеющееся, заметила Гудрун, — устроили это цирковое представление. А зачем?
Ар устал с ней вечно спорить. Грызя яблоко, он пробормотал, чтоб что-то ответить:
— Надо же было… Брокара… защитить.
— Чего его защищать, — фыркнула Гудрун. — Выгнали и правильно сделали. Он историю преподает так, что лучше бы вообще не брался за это дело.
— Ну уж…
— Вот тебе и ну уж! Ты слушал его лекции? Так вот. Мы не в те времена живем, чтоб заниматься терапией. Какой вид медицины сейчас наиболее надежный, наиболее эффективный? Ну? Хирургия. И это относится не только к медицине, ко всему обществу в целом. Если уж люди такие идиоты, что допустили, чтоб ими правила кучка капиталистов, эдакая паразитическая опухоль на теле человечества, так лучше всего отрезать ее. И все тут!
— Просто как-то у тебя получается, — вяло сказал Ар. Ему лень было спорить.
Через открытое окно вливался запах свежести, зеленой травы, недавнего дождя — запах весны. Слышались крики на стадионе, веселый смех, дальний звон церковных колоколов.
— А что здесь сложного? — пожала плечами Гудрун. — Мы сами свою жизнь осложняем. Возьми хоть купальные костюмы…
— При чем тут купальные костюмы? — удивился Ар.
— Как аналогия. Когда-то люди залезали в воду обнаженными. Потом начали облачаться в купальники — в начале века даже у мужчин были полосатые, до колен, с рукавами. Потом все уменьшались — плавки, бикини, а теперь на всем побережье женщины вообще с голой грудью ходят, только трусики, да и то с носовой платок. И кому это мешает? Или браки. Церковники разрешали раз в жизни жениться, а сегодня разрешили групповые браки во многих странах. И так все.
— Примеры какие-то у тебя неудачные, — возразил Ар. — Я тебе миллион случаев приведу обратного порядка. Скажем, раньше воевали как хотели, а теперь есть конвенции, регулирующие войны, ну, например, нельзя применять газы…
— Хорош пример, — усмехнулась Гудрун, обнажая ровные, белые, очень крупные зубы, — конвенции-то есть, только кто их соблюдает. Хоть та, о которой ты вспомнил, о запрете применения отравляющих веществ, американцы-то ее не подписали. И соглашение о запрещении испытаний атомного оружия не все страны подписали. Так что в случае войны они ничем не связаны.
— Ну и какой вывод, — Ара начинал раздражать этот отвлеченный спор, — значит, по-твоему, всем все дозволено: хочу — швыряю тебе на голову водородную бомбу, не хочу — не швыряю. А если изменить масштабы: не нравится мне твоя физиономия — бью и т. д.
— Ты все искажаешь, — махнула рукой Гудрун, — в обществе, где будет править разум, такого не произойдет.
— Где это общество?
— Вот о том и речь. Надо его построить.
Они посмотрели на часы, одновременно поднялись и направились к выходу. Приближалось время очередной лекции.
На дворе по-прежнему голубело небо. Дождь прошел. Лишь сверкающие капли держались на травинках, на ветках, на карнизах.
Они прошли мимо старых, увитых плющом университетских факультетов, мимо блестевшего стеклом и сталью многоэтажного вычислительного центра и вошли в здание, в большой аудитории которого уже собрались на лекцию по международному праву студенты юридического факультета. Когда Ар с Гудрун поднялись в зал, он был уже наполовину заполнен. Слышались громкие разговоры, смех, хлопанье откидных столов.
Все оживленно обсуждали недавние происшествия, столь же сенсационные, сколь и забавные, по мнению большинства.
В те весенние дни в жизни университета происходило много событий. Весна действовала на молодежь — так по крайней мере объясняли все это люди, сами когда-то бывшие молодыми. Но эти же люди не могли объяснить иные совершенно неожиданные поступки молодежи современной.
Однажды в университетском клубе давала концерт гастролирующая рок-группа. Ничего особенного в этом не было, такие гастролеры приезжали часто. Во всяком случае, Ар и Гудрун ушли с концерта разочарованные. Все те же дикие вопли, оглушающая какофония, мятущиеся лучи прожекторов и миганье цветных лампочек, от которых рябит в глазах, все то же кривлянье волосатых, вычурно одетых молодцов.
Конечно, зрители орали, целыми рядами, взявшись под руки, раскачивались на своих местах, конечно, кто-то из девиц упал в обморок, а кто-то из парней заехал соседу в ухо, полагая, что тот слушает исполнителей без достаточного восхищения.
— Надоело все это, — махнул рукой Ар, когда они шли вечерним парком к стоянке машин, где Гудрун оставила свой «фиат».
— Тоже мне борцы за раскрепощение духа! — усмехнулась Гудрун. — Они, видите ли, протестуют! Вылезают на эстраду, орут, как павианы, и этим протестуют против диктатуры общества. Против классики, против общепризнанных вкусов…
— …против здравого смысла, — подхватил Ар. — Издеваются над инструментами. А мы рты раскрыли.
— Сидим как бараны, — согласилась Гудрун.
Так шли они, обсуждая и осуждая прослушанный «концерт», обычный концерт обычной рок-группы.
И вдруг в одном из городских концертных залов был объявлен фестиваль «Рок-81». Тоже, казалось бы, ничего особенного. Сенсационным был лозунг, под которым проходил фестиваль: «Нет — нейтронной смерти!» Весь сбор от концертов предназначался в фонд помощи «Общенациональному маршу за право на труд».
Сославшись на то, что все эти «гром-группы», как их называла Гудрун, ей надоели, что она не желает глохнуть, Гудрун отказалась ходить на фестивальные концерты.
Зато, как и следовало ожидать, пошел Эстебан.
— Ты же не любишь рок, — поддразнивал друга Ар, — ты же считаешь, что это не музыка. Это вас, кстати говоря, объединяет с Гудрун.
— Спасибо за комплимент, — отмахнулся Эстебан. — Я иду не музыку слушать, а слова.
— Что значит слова? — удивился Ар. — Во-первых, когда играют рок-группы, ты их все равно не расслышишь. А во-вторых, какое они имеют значение в песне?
— А по-твоему, в песне только барабан имеет значение? — съязвил Эстебан.
Большой концертный зал был переполнен.
После двух песен, действительно неразличимых в грохоте инструментов, неожиданно последовала иная. Юная певица в белых лайковых сапогах выше колен, золотых трусиках и в шляпе с перьями, напоминавшей крону пальмы среднего размера, пропела тихим голосом песенку, начинавшуюся так:
Мы все умрем от бомбы от нейтронной, И соловьи, и люди, и цветы, Останутся лишь храмы да колонны, Лишь кладбища, да зданья, да мосты…Она пела совсем тихо, и аккомпанировал ей лишь тревожный приглушенный звук барабана, в который врывался порой тоскливый аккорд гавайской гитары. Нехитрая песенка заканчивалась еще более мрачно, чем начиналась:
Мы все умрем от бомбы от нейтронной, Сады и люди, мушки и киты, Останутся распятья и мадонны Да бесполезные, без адреса, мечты.Когда юная певица кончила петь и, неловко поправив большие дымчатые очки, поклонилась залу, некоторое время стояла тишина. Потом раздались аплодисменты. Какие-то растерянные, неуверенные. Сидевшая в зале молодежь не привыкла ни к такой манере исполнения, ни к таким текстам.
— Здорово, — задумчиво прошептал Ар, повернувшись к Эстебану.
— Ерунда! — неожиданно громко воскликнул Эстебан. — С такими настроениями далеко не уедешь. Какой же это протест! С нейтронной бомбой надо сражаться, а не бежать заранее на кладбище. Нет, Ар, хорошо, конечно, когда люди против войны. Но, повторяю, с войной надо воевать. А поднимать лапки кверху и покорно подставлять шею — это удел как раз тех мушек, о которых она пела. Человек не соловей, не кит и не цветок. У него есть голова, чтобы думать, и руки, чтобы бороться. А с такими настроениями…
Он докончил свою мысль. На сцену вновь вывалилась шумная рок-группа, и вскоре в зале уже стоял такой грохот, что впору было затыкать уши.
Но вот на сцену вышла очередная, не предвещавшая вроде бы никаких сюрпризов группа — пятеро крепких бородачей с волосами до плеч, в черных сомбреро и черных пелеринах. Сначала раздался нарастающий барабанный грохот, закончившийся громким отчаянным криком и звоном тарелок, что олицетворяло, видимо, атомный взрыв. Потом наступила мертвая тишина, в зале почти погас свет.
Откуда-то из глубины сцены возник сначала слабый, но все сильней разгорающийся розовый свет, по мере того как нарастала песня, разгорался и свет, пока не осветил он зал ярким алым заревом, постепенно окрасившимся золотом. И песня теперь звучала уже громко, требовательно, угрожающе. Песня требовала для молодежи работы, а не военной службы, она требовала мира, а не войны, она предупреждала, что наступит час, когда не только нейтронная бомба полетит ко всем чертям, но и ее создатели и хозяева, что час этот недалек. Припев был такой:
Нейтронной бомбе — смерть! Нейтронной бомбе — смерть! А людям — мир и счастье!Музыка была очень ритмичной, и под конец весь зал в унисон хлопал в ладоши.
Когда бородачи кончили петь и, воинственно глядя в зал, распахнули свои черные пелерины, все увидели, что они в белых трико с изображением черной бомбы, перечеркнутой яростным красным крестом.
Зал взорвался аплодисментами, криками, свистом.
— Вот, Ар, — в восторге кричал Эстебан, — вот что нужно! Это тебе не птички да цветочки. Этим парням на ногу не наступишь! Вот так надо бороться! Молодцы, ай, молодцы!
Потом с песнями протеста выступили и другие рок-группы. Их было не так уж много — меньшинство. Но запомнили-то именно их.
Когда Ар рассказал Гудрун о фестивале, она пренебрежительно махнула рукой, сморщила свой длинный нос:
— Это все несерьезно. Эти песни. Эти колыбельные, которые только убаюкивают нашу волю к борьбе. Мой слух, Ар, ласкают не гавайские гитары и подобные песенки, а выстрелы и взрывы. И если сотней взрывов сегодня можно предотвратить один взрыв нейтронной бомбы завтра, поверь, ради этого стоит жить.
Ар пребывал в некоторой растерянности. Черт ее знает, может, Гудрун права? А может, прав Эстебан? Почему в памяти отложились эти бородатые певцы, а не ежедневные газетные сообщения о взрывах, похищениях, убийствах — он перестал обращать на них внимание.
Еще одно событие в те дни заставило задуматься Ара.
Университет располагал летним спортивным лагерем километрах в сорока от города, на берегу озера, в густом лесу.
Ар любил это место и всегда старался попасть в лагерь, что ему, отличному спортсмену, было не так уж трудно.
Когда он оказывался на берегу синего озера, в неподвижных, словно тяжелых водах которого отражались с поразительной четкостью белые облака, и пролетавшие птицы, и застывший по берегам старый лес, у него становилось легко на душе. Эти синие воды, эта зелень, это громкое беззаботное птичье пение успокаивали его, вселяли непонятную уверенность в завтрашнем дне (уверенность, которую он ощущал далеко не всегда).
Спортсмены жили по двое в крохотных деревянных бунгало. В спортивном лагере был небольшой стадион и зал — обыкновенный огромный сарай с земляным полом. Было много площадок, баскетбольных и волейбольных, легкоатлетические секторы, гимнастические снаряды и помосты под навесом для тяжелой атлетики. В лесу петляли кроссовые маршруты, на озере была сооружена гребная база и примитивная вышка для прыжков.
По вечерам спортсмены собирались в клубе-столовой, играли на установленных там автоматах и механических бильярдах, пели под гитару, болтали, спорили, словом, «расслаблялись».
Днем тренировались до седьмого пота.
В гости к студентам — неофициально соревноваться, совместно потренироваться, просто встретиться — приезжали студенты из других университетов страны и даже из-за рубежа.
Вот так и получилось, что однажды в лагерь прибыла на несколько дней обменяться спортивным опытом группа студентов из Праги, в которую входили и студенты из Румынии, Польши, даже двое из России.
Тренировались все вместе, азартно разговаривая на том импровизированном универсальном «языке», который ведом людям, объединенным общей профессией или увлечением. А вечером собрались у костра. Было тепло почти по-летнему. Красно-оранжево-синие языки плясали над рубиново-черными головешками, белый дым уходил к темному небу, еще скупому на звезды, и таял, оставляя белесый отсвет. Из леса, застывшего черной стеной вокруг поляны, доносились птичьи ночные бормотанья, перемежавшиеся внезапными громкими свистами и щелканьем…
Озеро дремало, отражая огни костра, тусклые звезды, свет редких фонариков у входов в бунгало. Одуряюще пахло вечерней водой, тиной, хвоей, дымком… И царил над этим озером, над древним лесом, над поляной, освещенной веселым костром, извечный величавый покой отходившей ко сну земли.
Молодежь сидела группами на поленьях, на одеялах, просто на траве. Где-то пели под банджо, гитару, флейту, где-то, наверное, рассказывали очень смешные истории — оттуда доносились взрывы смеха. А где-то ожесточенно спорили. Как раз в той группе, к которой присоединился Ар.
Спор носил ярко выраженный политический характер. Одни утверждали, что мир между Востоком и Западом возможен лишь при наличии равного и притом значительного вооружения у обеих сторон. Равного, но как можно меньше — утверждала другая часть спорящих. К чешскому и русскому студентам присоединился и Эстебан. Против них выступали трое парней и одна девица с социологического факультета. Еще человек пять, в том числе Ар, были в роли третейских судей.
— …Странно вы рассуждаете, — продолжал развивать свою мысль чешский студент, — неужели не ясно, что чем больше на планете оружия, тем больше вероятность войны?
— Почему? — пожал плечами один из социологов. — Ведь если друг против друга стоят два человека, направив друг в друга пистолеты, то ни тот, ни другой не решится стрелять. Хоть один пистолет будет у каждого в руке, хоть два, да еще нож в зубах. Ведь так?
— Да не совсем, — русский, как и чех, свободно владел языком, и переводчик ему не требовался, — когда в руке один пистолет, шансов на случайный выстрел вдвое меньше, чем когда два. Пока только у Соединенных Штатов и Советского Союза было ядерное оружие — это одно. Теперь, когда оно имеется у Китая, Франции, других стран, дело обстоит иначе. Пока у каждой стороны имелось пять, десять, сто бомб — это одно, а когда их тысячи — положение опять-таки меняется.
— Я читала в статье одного американского специалиста, — вступила в разговор девушка, — что к концу следующего десятилетия ядерным оружием будут обладать уже тридцать четыре страны и несколько организаций.
— Вот именно, — подтвердил русский.
— Что вот именно! — запальчиво воскликнул социолог. — Хоть все страны, лишь бы оба блока имели одинаковое число бомб…
— Да нет, вы же читаете прессу. Сколько уже было в одной Америке всяких случайностей — то бомбу с самолета потеряли, то гаечный ключ в пусковую шахту уронили, то утечка горючего, то компьютеры приняли стаю гусей за советские ракеты… Чем больше ракет, тем больше вероятность ошибок, неисправностей, поломок. Да и во главе страны не всюду стоят люди ответственные…
— Например?
— Да хоть Израиль, ЮАР, Тайвань… Еще какие-нибудь подонки, — включился в спор Эстебан, не отличавшийся в пылу полемики приверженностью к парламентским выражениям.
— Так что ж, по-вашему, — заговорил высокий парень в очках, лучший прыгун университета, — пусть у Варшавского блока будет больше ракет, а Соединенные Штаты, значит, должны считать это нормальным и не размещать своих ракет в Европе?
— Ну, во-первых, — возразил чех, — во-первых, у Варшавского блока нет преимущества в ядерном оружии. А во-вторых, вы-то чего стараетесь? Ну ладно, американцы, значит, будут бросать атомные бомбы на Советский Союз, а Советский Союз на Америку, так вы считаете. А вам-то чего лезть? Ведь свои ракеты американцы разместят здесь и с вашей земли начнут их запускать. Вы что ж думаете, сюда будут в ответ тюльпаны кидать? Европа маленькая по сравнению с Америкой и Советским Союзом, все на пятачке. Американские стартовые площадки размещены и на вашей территории. Американцы начнут войну, а от вас ничего не останется. Этого вы хотите? Ведь ничего, — чех сделал широкий жест рукой, — ни всей этой красоты, ни вас самих больше не будет.
Некоторое время все молчали. Студенты-социологи знали то, чего не знали эти чехи и русские: в пятнадцати километрах от лагеря, в лесной глуши, находилась американская военная база, и порой над лагерем с глухим гулом пролетал тяжелый транспортный самолет или с пушечным грохотом пробивал звуковой барьер истребитель. И не потому молчали они, что боялись нарушить военную тайну, какая уж тут тайна, когда вся их страна, да и соседние страны были, как телятина чесноком, нашпигованы американскими военными базами, аэродромами, складами! Нет, они испытывали странное чувство неловкости, ущемленного самолюбия от этого наглого чужого присутствия, от этого грубого военного сапога, топтавшего их землю, и право на это присутствие они еще должны были оправдывать, отстаивать в споре.
— Вы, наверное, читали книгу английского генерала, бывшего командующего северным флангом НАТО «Третья мировая война»? — спросила студентка, обращаясь к русскому.
— Нет, — ответил он.
— Зато я читал, — сказал чех. — Наивная книга, такое впечатление, что ее писал не генерал, а школьник.
— Почему наивная? — спросил очкастый чемпион по прыжкам. — Вам, конечно, не нравится, что там войну выигрывает НАТО?
— Да не в этом дело, — ответил чех. — Во-первых, никогда войска Варшавского Договора войну не начнут, как пытается показать автор книги. Во-вторых, если уж возникнет необходимость в ответ на атаку двинуть танки, то черта с два ваше НАТО их остановит, как опять-таки самоуверенно утверждает этот генерал. Соцстраны войны не начнут. А потом в книге показан эдакий деликатный обмен атомными ударами — мы, значит, бросаем бомбу на Бирмингем, вы, значит, на Минск. И при этом звоним друг другу по телефону: так, мол, и так, получите бомбочку и распишитесь. Это в виде предупреждения, больше кидать не будем, извините за беспокойство. Чепуха все это. Уж если начнут сыпаться бомбы, черта с два их остановишь. Только дураки могут поверить, что возможна ограниченная атомная война. Дудки!
— Ничего, — сказал студент-социолог. — Ничего. НАТО необходимо обладать той же мощью, что и Варшавский блок, тогда вы два раза подумаете, прежде чем начинать войну.
— Не стоит стараться, — улыбнулся русский, — мы и так ее не начнем. Да и мощь, как вы выражаетесь, одинаковая.
— Это только ваш отставной натовец в своей книге через каждые две страницы жалуется, вот, мол, не подумали вовремя вооружаться и смотрите, что вышло, — снова вступил в разговор чех. — Одно скажу: этот генерал такой же плохой полководец, какой он публицист и политик.
Спор продолжался еще довольно долго.
Ару это надоело, и он пошел погулять вдоль берега.
Заливались лягушки, покрикивали ночные птицы, где-то высоко в ночном небе прогудел самолет — с той самой американской базы, наверное.
Зашелестели кусты, донесся шепот, приглушенный смех.
Костер на полянке затухал. Обугленные поленья, готовые рассыпаться черной золой, еще сохраняли свою форму и судорожно вспыхивали все тусклей и тусклей.
Пахло дымом. Заметно похолодало. Ветер стал резче.
Ар вернулся в свое бунгало. Умылся, залез под одеяло. Его сосед, дзюдоист-тяжеловес, громко храпел, словно разыгрывал гаммы.
Ар долго лежал с открытыми глазами, устремив взгляд в невидимый во тьме потолок, прислушиваясь к тишине…
На следующий день провели совместные тренировки с гостями. Ар все приглядывался к русскому — тоже высокий, широкоплечий сероглазый блондин. Они даже были чем-то похожи. И костюмы тренировочные одинаковые — голубые с тремя полосками фирмы «Адидас». И кроссовки одинаковые — белые.
Даже улыбались они одинаково. Или Ару это только показалось…
Гости уехали вечером. Их провожали радушно. Жали руки, хлопали по плечам. На память обменялись значками, вымпелами. И адресами.
Словно и не было ожесточенных споров.
А еще через два дня Ар вернулся в город. Ему предстояли тогда соревнования, в которых первое место казалось обеспеченным. Это были счастливые дни.
Как все счастливые дни, увы, быстро пролетевшие…
Постепенно Гудрун приобретала на своего друга все большее влияние. Частично это объяснялось тем, что на все вопросы она всегда имела простой ответ. И хотя ответ этот часто не устраивал Ара, найти убедительные контраргументы он не мог.
Вот, например, вернувшись из недельной поездки на соревнования, он с удивлением обнаружил в их квартирке в шкафу чью-то мужскую одежду. На его вопрос Гудрун спокойно ответила:
— Тебя ж неделю не было. Что, я должна была одна оставаться? Да не беспокойся ты, я ему завтра отдам его вещи…
Или однажды Гудрун отсутствовала всю ночь. Охваченный ревностью, Ар учинил ей утром допрос.
— Ходила по делам, — недовольно отвечала Гудрун. — Нужно было преподать одному болвану науку жизни. Чтоб знал: порядочные люди своих товарищей не предают. Вот мы и занимались этим.
Кто «мы», каким «делом», кто кого и как предал — она объяснять не стала. Лишь позже Ар узнал, что в ту ночь был зверски избит студент, порвавший со своей группой и собиравшийся выступить с какими-то разоблачениями.
Единственное, чего Гудрун никак не могла добиться, — это затащить Ара на собрание своего кружка, вообще познакомить его со своими товарищами.
— Слушай, — говорил он ей, — нам с тобой и так неплохо. Характер у меня не буйный. Сама видишь. Иначе меня б здесь давно не было. Все-таки, чтобы сносить твои причуды, надо к тебе хорошо относиться. Но еще лезть в твои дурацкие политические заварухи, общаться с твоими волосатиками — извини, обойдусь. Когда-нибудь вы плохо кончите, помяни мое слово. А мне мой покой дороже.
Вот так он ей тогда говорил, этот слепец Ар. А Гудрун только иронически усмехалась в ответ.
И хотя Ар действительно старался не вникать в «потустороннюю», как он выражался, жизнь своей подруги, но все же он был мужчиной и не мог совсем уж не интересоваться, скажем, откуда Гудрун берет деньги на жизнь. Тем более (он старался закрывать на это глаза) деньги-то эти шли не только на ее жизнь, но и на их общую.
Сначала Ар думал, что деньги ей дает отец — вполне процветающий пастор. Гудрун его не разуверяла. И лишь случайно выяснилась истина.
Однажды утром, когда Гудрун куда-то умчалась спозаранку, что с ней, к слову сказать, бывало не часто, а Ар еще валялся в постели, раздался звонок в дверь.
«Что за манера врываться к людям, когда восьми еще нет!» — подумал Ар и пошел открывать.
На пороге стояла пожилая женщина с увядшим лицом и печальными глазами. Она удивленно оглядела Ара и, сверившись с бумажкой, неуверенно спросила:
— Гудрун здесь живет?
— Ну здесь, — не очень приветливо ответил Ар.
— Вы… вы… ее муж?
— Ну допустим. — Женщина начала раздражать Ара. Было в ней что-то униженное, несчастное, забитое, чего он в женщинах не любил.
Последовало неловкое молчание. Ар не пригласил женщину пройти в комнату, и они так и стояли — она на лестничной площадке, он в проеме двери, загораживая проход.
— Я просто хотела узнать, как Гудрун, — пояснила наконец женщина тихим голосом, — здорова ли, вообще как…
— А вы кто? — грубо спросил Ар.
— Я Клементина, — торопливо ответила женщина, заискивающе улыбаясь. — Клементина, экономка господина пастора. Вам Гудрун не говорила обо мне?
— Нет… — сказал Ар, он пребывал в недоумении. — Вас прислал отец Гудрун? Может, пройдете?
Но женщина не двинулась с места. В глазах ее мелькнуло тоскливое выражение.
— Спасибо. Нет, конечно, господин пастор не изменил своего решения. А уж столько его уговаривала. — Она помолчала. — Я сама пришла, должна же я знать, как девочка, она последние годы совсем не пишет.
Ар сразу понял, что к чему. Из этих немногих слов, сказанных экономкой, все становилось ясно. Но он все же спросил:
— Значит, отец не имеет с Гудрун ничего общего? Он что, выгнал ее? За что?
Женщина испуганно смотрела на него. Она уже сообразила, что наговорила лишнего, и жалела об этом. Ее пугал этот неприветливый парень, который (она догадалась), конечно же, не муж, а неизвестно кто, но, не умея перестроиться, она отвечала по инерции на его вопросы.
— С тех пор как господин пастор отказал Гудрун от дома, уже столько лет прошло. А он все не забывает, не может ей простить. А девочка гордячка — ни разу не напишет, не позвонит. Раньше мне писала. А теперь вот молчит… Она разве не говорила вам? — машинально спросила женщина, хотя все и так было ясно, и торопливо добавила: — Но когда-нибудь все наладится, я уверена, господин пастор простит…
Она всхлипнула и замолчала. Потом повернулась и, не оглядываясь, стала тяжело спускаться по лестнице.
Недели две Ар ничего не говорил Гудрун об этом визите. Наконец не выдержал. Подчеркнуто небрежно сказал как-то за завтраком:
— Да, совсем забыл. К тебе тут экономка твоего отца приходила, интересовалась, как живешь.
Он ожидал, что Гудрун растеряется, смутится, начнет оправдываться. Ничуть не бывало.
— Ну рассказал? — спросила она равнодушно.
— Я-то рассказал, — взорвался он, — а ты вот почему мне не рассказала?
— Что именно? — удивилась она.
— Что вы с отцом давно порвали. Ты что-то натворила, и он тебя выгнал и до сих пор простить не может!..
Некоторое время Гудрун продолжала помешивать сахар в чашке, потом холодно сказала:
— А почему я должна тебе рассказывать о своих семейных делах? Кто ты мне — муж, брат, исповедник?
— Так, значит, ты не от отца получаешь деньги? — глупо спросил Ар.
— Разве я когда-нибудь это утверждала?
— Так откуда? — Вопрос звучал еще глупее. Гудрун презрительно улыбнулась и внимательно оглядела Ара.
— Удивительно, — заметила она со вздохом, — как при такой красивой и мужественной внешности можно быть таким идиотом…
Это переполнило чашу. Злость на себя, бессильное возмущение снисходительностью Гудрун, ее превосходством, ее презрительным отношением, протест против своего унизительного положения — все эти чувства внезапно нахлынули на Ара, и, не сдержавшись, он закатил своей подруге пощечину, от которой она чуть не упала со стула.
Ар похолодел. Как он мог! Что теперь будет!
Между тем Гудрун спокойно встала, намочила полотенце, приложила к пылающей щеке и, посмотрев на Ара каким-то странным взглядом, в котором смешались удивление, удовлетворение, смущение, проворчала:
— Наконец-то. Оказывается, ты иногда можешь быть мужчиной.
Ар остолбенело смотрел на нее, а Гудрун, вернувшись к своему кофе, как ни в чем не бывало заговорила:
— Вот что, Ар, у меня есть к тебе одно деловое предложение.
Глава III Выбор
Моя Гудрун неожиданно сделала мне деловое предложение. Похоже, что после того, как схлопотала по морде, она стала воспринимать меня всерьез.
Вообще именно тогда, как я теперь понимаю с высоты своего нынешнего опыта (эх, лучше б уж я его не приобретал), наметился некоторый поворот в наших отношениях. Гудрун стала меня уважать. Ну, это, наверное, слишком сильно сказано — уважать (она, по-моему, никого и ничего на свете не уважает, кроме кулака), во всяком случае, стала считаться со мной. В то время я не понимал, в чем дело, просто чувствовал это, инстинктом ощущал. Так можно сказать: «ощущал инстинктом»? Или как? Ладно, не придирайтесь к словам.
Так вот, как я понял позже, когда у меня высвободилось много времени для анализа, она просто посчитала меня созревшим. Созревшим для чего? Ну, об этом я расскажу потом. Собственно, об этом вся моя исповедь.
Просто она не догадывалась в то время, что я окажусь таким способным учеником и превзойду учителя. А может, джинном, выпущенным ею из бутылки. Словом, что настанет момент, и я выйду из-под ее контроля. Что мы поменяемся ролями.
Я потом долго размышлял: что стало поворотом в моей судьбе — этот адвокат с его конторой или та демонстрация, и суд, и каталажка? Одно могу сказать — благодаря усилиям моей любимой подруги я уже созрел для последующего. Не было бы адвокатской конторы или той демонстрации, произошло бы что-нибудь другое. Какая разница. Главное — я созрел. Пощечину я ей дал! Голову надо было оторвать! Или бежать, бежать без оглядки. Прав был ее папа-пастор, уж он-то знал свою дочь. Подальше б от нее, подальше.
Сейчас-то мне это ясно как божий день. К сожалению, лишь сейчас. Удивительно, почему даже умные люди так крепки задним умом? А ведь насколько полезней видеть на метр вперед, чем на десять километров назад!
Да ладно, что теперь говорить…
Словом, я еще в себя не могу прийти от моей безумной смелости — как же, влепил оплеуху самой Гудрун! А она утерлась и излагает свое «деловое предложение». Речь вот о чем.
Наступает период летних каникул. Высвобождается довольно много времени. Есть возможность подработать (это уж что-то новое, раньше Гудрун о таких вещах и упоминать-то не считала нужным). Оказывается, среди сотен других адвокатских контор существует в нашем городе адвокатская контора «Франжье и сын». Правда, кто отец, кто сын, неизвестно, поскольку в наличии имеется только сам Франжье, но это неважно. Важно, что этот Франжье хоть и молодой, но уже знаменитый. Контора его процветает, клиентов полно. Он специализируется на политических процессах. Защищает жертвы правительственного произвола, несправедливо уволенных, высланных, осужденных за политические взгляды, за участие в митингах и демонстрациях и т. д.
Так вот, ему требуются сотрудники на временную работу, и он охотно берет таковыми студентов юридического факультета. Говорят даже, некоторые так и остаются у него, не возвращаются в университет, предпочитая быть недоучками с работой, чем дипломированными безработными. Так или иначе, есть возможность на весь каникулярный период устроиться к нему. И платит он прилично, и дело делает благородное — защищает несправедливо преследуемых. Ну, как?
Отвечаю, что согласен. В конце концов, сколько можно жить (назовем вещи своими именами) за счет Гудрун? Тем более что, как выяснилось, я теперь мужчина. Но не могу же я это в дальнейшем каждый раз доказывать с помощью пощечин! Надо попробовать и по-другому — зарабатывая на жизнь. Необычно для меня? Ну что ж, всему бывает начало.
Итак, с первого мая мы сотрудники адвокатской конторы «Франжье и сын». Кроме нас, там, помимо постоянных, весьма немногочисленных юристов, работает еще полдюжины ребят и девчат с нашего факультета.
Работа несложная. Надо подбирать материалы к процессам, готовить досье. Франжье или кто-нибудь из его ближайших помощников дают задание — собрать такие-то документы, найти таких-то свидетелей, иногда в простых случаях кого-то опросить. Бывают и иные задания (о них почему-то ничего не говорится в учебниках юриспруденции), например затесаться в ряды демонстрантов, сфотографировать полицейскую расправу, растолковать непонятливому свидетелю за кружкой пива, что именно он видел своими глазами. Ну, и тому подобное.
Работа интересная. А главное, я впервые в жизни почувствовал, что делаю что-то полезное. И между прочим, Франжье не скряга. Он требует работы. Но уж если сделал, то платит хорошо. Молодец все-таки Гудрун. Нашла.
На второй месяц моей работы в адвокатской конторе возник серьезный процесс. Значит, дело было так.
Студент нашего университета, кстати, с юридического факультета, активист организации «Нет — войне», вместе со своими товарищами созвал антивоенный митинг. Митинг как митинг, таких у нас немало бывает. Войны-то кто же хочет? Но дело в том, что ребята эти устроили свой митинг у въезда на американскую военную базу — она расположена не очень далеко от города. В тот день на базу должен был приехать какой-то важный американский генерал. Так вот, тысячи полторы молодых собрались у въезда на базу и заблокировали его.
Они несли разные призывы, лозунги, транспаранты, куклу, изображающую заокеанского президента. Кукла в одежде ковбоя восседала на большом черном гробу, на котором белым было выведено слово «мир» на разных языках. Некоторые ребята были одеты в черные балахоны, на которых белой краской были нарисованы скелеты, а на груди надпись: «Мы жертвы нейтронной бомбы», ну и другие в таком же роде.
Сначала они стояли толпой, выкрикивали через мегафон лозунги протеста и разные не очень лестные пожелания в адрес американских солдат. Те собрались за колючей проволокой, фотографировали, тоже что-то орали в ответ, смеялись.
Прибыл генерал, а проехать не может. В машину тухлые овощи летят, дохлые мыши, всякий мусор. Генерал отступил, а через несколько минут примчались полицейские подкрепления, начали демонстрантов оттеснять.
Тогда те сели перед воротами и сидят.
А этого полицейские больше всего не любят. Их же, демонстрантов, надо переносить. Попробуйте перенести полторы тысячи здоровых ребят и девчат! Сопротивления они не оказывают, просто висят мешками у полицейских на руках. И тогда полицейские выходят из себя — тащат демонстрантов за ноги, за руки, а то и за волосы прямо по земле. Пока несут, незаметно поддают сапогом или дубинкой так, что потом надо в больницу отправлять.
И конечно, ищут зачинщиков. Вот поскольку студент был с мегафоном, больше всех кричал, давал указания демонстрантам, его и взяли. Не его, конечно, одного, но остальных довольно скоро выпустили, а этого предали суду. Обвинили в оскорблении главы союзного государства, в неподчинении представителям власти, в нарушении уличного движения, в сопротивлении и т. д. и т. п., всего четырнадцать пунктов обвинения. Тянет года на три тюрьмы.
Организация «Нет — войне» обратилась к Франжье, чтоб он взял на себя защиту. Заплатили хорошо. Потому что, замечу, хотя Франжье и защищает правое дело, но не бесплатно. И претензий, по-моему, к нему нельзя предъявлять: жить-то всем надо, контору содержать, нам, между прочим, платить. Словом, бизнес есть бизнес.
Франжье взялся за дело, как всегда, энергично и серьезно. У него только вид эдакого плейбоя — черные усики, безукоризненный пробор, загорелый, одет по последней моде, на груди массивный золотой знак зодиака.
Тезисы защиты таковы: никто не может доказать, что в мегафон кричал именно студент, никто не может доказать, что он давал указания демонстрантам — мало ли что он говорил, может быть, рекламировал зубную пасту? В чем оскорбление президента «дружественной страны», если его изобразили сидящим на гробе, на котором написано «мир»? Так в чем же здесь оскорбление? Президент только и делает, что грозит войной, требует вооружаться и пр.
Вот мне как раз было поручено составить досье на эту тему. Ну и работка! Я горы газет на трех языках перечитал. Посмотрел в городской библиотеке видеозаписи президентских речей. Все выписал. Получилась здоровая тетрадь. Доказательства убедительные. Бюджет военный довел чуть не до триллионов? Довел. Производство нейтронной бомбы, химического оружия, космических лазеров санкционировал? Санкционировал. Все переговоры по разоружению прервал? Прервал. Словом, много чего.
Нарушение уличного движения тоже отпало. Франжье доказал, что возле базы никаких улиц нет. И сопротивления властям не было — один из студентов заснял на пленку весь эпизод ареста подсудимого: с начала до конца он не сопротивлялся.
Обвинения отпадали одно за другим, осталось лишь два — кричал оскорбления в мегафон и руководил митингом. И тут, как назло, оказалось, что один из сержантов базы, неизвестно зачем, взял да и записал всю сцену карманным диктофоном.
Полиции об этом ничего не было известно, а мы узнали. Как? — не скажу, у Франжье свои источники информации. Он поручил мне и Гудрун встретиться с этим сержантом и попросту купить у него компрометирующие пленки.
Встретились. Солдаты с базы частенько заходили в городские кабачки, переодевшись в штатское, конечно. Впрочем, поскольку языка они не знают, их сразу же узнавали. Не то, чтоб народ очень любил этих гостей, но денег у них много, расплачивались щедро, и хозяева ресторанов их оберегали. Ну и, конечно, многие девки к ним липли, потому что жизнь не такая легкая сейчас, чтобы пренебрегать возможностью заработать. Случались и неприятности — то напьются солдаты и нахулиганят, изобьют кого-нибудь, таксиста ограбят, женщину изнасилуют, то их побьют. Но они за своей колючей проволокой недосягаемы. Они экстерриториальны. Их даже нельзя арестовать, сразу надо передавать их же военной полиции. Ну а те раз-два и готово — они уже дома за океаном. То ли наказали их строго, как об этом начальство сообщает, чтобы всех успокоить, то ли освободили, то ли в генералы произвели — этого никто не узнает.
Одним словом, Гудрун через подружку того сержанта подобрала к нему ключи, и вот мы сидим втроем за столиком, угощаем его (за счет адвокатской конторы «Франжье и сын», разумеется) и ведем тонкий подготовительный разговор.
Слушал он, слушал и говорит:
— Кончайте дурака валять, ребята. Вам запись того цирка нужна. Так?
— Ну так, — говорю. Уже ясно, что вся наша дипломатия ни к чему.
— Сколько? — спрашивает.
Я называю цифру, предварительно согласованную с шефом.
— Немного, конечно, — морщится. — Да ладно. Деньги с тобой?
— Со мной, — говорю, — а пленки?
— А пленки со мной. Что ж я, совсем идиот? Не догадывался, зачем пригласили?
Мы совершаем экономическую операцию «товар — деньги». Некоторое время, довольные друг другом, едим и пьем, потом я спохватываюсь:
— Слушай, а ты копии не снял случайно?
— Не снял, — смеется, — можешь быть спокоен. — Помолчал, потом говорит: — И денег с вас мало взял, и копии не снял, потому что по душе мне тот парень ваш. Правильно он все говорил. Ни к чему нам торчать у вас тут. Расползлись по всей Земле, как клопы, никому спокойно жить не даем. Словно у нас дома забот мало. Эх! — Парень покачал головой. — А что деньги взял, так я через неделю домой отбываю, у меня семья, мне жить надо.
Встал, попрощался и ушел. А мы с Гудрун еще долго сидели. Потом она говорит:
— Надо было отдать половину, остальное себе оставить. Шеф все равно бы не узнал.
Посмотрел на нее с удивлением — неужели это все, что взволновало ее в этой встрече? Я лично долго потом вспоминал: все же такое трудное задание и так легко и успешно выполнил. Теперь-то уж Франжье своего подзащитного точно выручит. И еще… И еще я все не мог забыть этого солдата. Как он говорил. Значит, и среди них есть, кто понимает, что к чему…
Ну а процесс Франжье выиграл, студента оправдали, и втайне я гордился, что и моя доля участия в том есть.
В общем первые два месяца, что я работал тогда у Франжье, были счастливыми.
Последними счастливыми месяцами в моей жизни…
Эх, если б знать! Черт возьми, какой уже раз я это говорю? Ну и что? Вы, благополучные, вам никогда не приходилось жалеть о том, что сделали? Или не сделали? Что не знали наперед, не догадывались, не предвидели, что будет? Никогда не приходилось? Нет? Ну, что ж, радуюсь за вас. Дай вам бог, чтоб и дальше так было. Только позвольте в этом усомниться. Знаете, как французы говорят: «Если у вас все хорошо, не огорчайтесь, это скоро пройдет». Да нет, зла вам не желаю.
Только почему я один, ну, не один, и другие, такие как я, должны расплачиваться? Потому что мы болваны? Ничего не понимаем? А не потому ли, что марионетки? Но ведь есть те, кто дергает за веревочки. Почему вы с них не спрашиваете? Руки коротки? Ничего, дойдет и до них очередь… Найдутся поумней нас — спросят.
Отвлекся, извините.
С июля началась для меня черная полоса. Не сразу, конечно.
В июле наш шеф взялся за очередной процесс. Расскажу и здесь, в чем было дело.
Группа молодежи из организации «Свастика» устроила большую демонстрацию под лозунгом «Долой империалистов! Назад к "новому порядку"!». Ребята там еще те, помните, я про одного вам рассказывал. Он хоть в Германии никогда не был, а «новый порядок» хочет по всему континенту установить. Значит, вышли они со своими знаменами со свастикой, с разными лозунгами, песнями. Демонстрацию сопровождает полиция… чтоб ее не обидели. Вообще-то так полагается, чтоб полиция сопровождала. Этих коричневых нигде не любят, так что при случае могут намять им бока. У нас ведь демократия, как же! Хоть на улицу выходи с лозунгом «Побольше Дахау на душу населения!», все равно, не тронь тебя. Это только коммунистов не касается — их трогать можно.
Идут себе эти демонстранты, а на тротуаре народ стоит. Смотрит неодобрительно, но молчит. И вдруг на каком-то углу толпа молодежи — как засвистят, как заорут: «Долой!», «Фашисты!»
Сначала эти, из «Свастики», растерялись, а потом смотрят, молодых-то тех немного, и как ринулись на них. Замечу: они с голыми руками на свои демонстрации не ходят. Повытаскивали кастеты, железные палки, ножи, дубинки и пошли молотить. Полиция… Что, думаете, вмешалась? Как же! Она в таких случаях не вмешивается. Лейтенант, как он сам потом говорил на процессе, стал «увещевать» нарушителей порядка и арестовал… одного. А из тех ребят человек десять увезли в больницу.
И вот процесс.
Арестованного обвинили в хулиганстве, нарушении порядка и сопротивлении властям и т. д. и т. п. — он все-таки изловчился и одному полицейскому смазал по роже. Ну и самому, конечно, тоже досталось.
Франжье построил защиту по классическому образцу — необходимая самооборона. Толпа молодежи, дескать, напала на мирную демонстрацию, и подзащитный вынужден был обороняться. И то, что он разбил лицо одной девушке и вывихнул руку другой, — лишь вынужденная самозащита. Тем более с полицией. Его начали избивать, он инстинктивно размахивал руками, защищая лицо. Ну и нечаянно задел полицейского. Готов принести извинения.
На этот раз мне было поручено найти свидетелей, которые могли бы подтвердить факт нападения кучки безответственных хулиганов на мирных, никого не трогавших демонстрантов.
Конечно, эти, со свастикой, не ангелы, размышлял я, даже, наверное, мерзавцы, но ведь они шли под лозунгом «Долой империалистов!». Ну, дураки, ну, темные люди, но лозунг-то справедливый. Прозреют. Удивительным было другое — подрались-то они с левыми, у которых тот же лозунг «Долой империалистов!». Только методы другие. Так что ж, неужели не могли поладить, найти общий язык? Поразительно. Борются за одно дело и дерутся, готовы прямо убить друг друга!
Во всяком случае, нечего сажать в тюрьму этого несчастного парня, хотя, конечно, отправлять в больницу тех ребят и ему и его дружкам тоже не следовало.
Свидетелей оказалось найти нелегко.
Поболтался я по той улице. Зашел в одно кафе, в другое, в пару магазинов. Пустой номер. Никто не захотел свидетельствовать в пользу «Свастики». А в одном кафе ко мне подошли трое здоровых парней и сказали: «Катись-ка отсюда, а то из-за тебя нас за убийство привлекут». Я даже сначала не понял. «За какое убийство?» — спрашиваю, как дурак. «За твое, — отвечают, — за то, что тебя, нацистского прихвостня, к твоему любимому Гитлеру отправим. Так что мотай, пока цел». Ну, я не стал задерживаться.
И все же свидетелей нашел. Двоих.
Один, такой усатый господин, к сожалению, все время был под мухой, и перед судом Франжье на два дня запер его прямо в помещении конторы. «Я, — говорит этот усач, — все, что хотите, покажу! Я бунтарей сам бы перестрелял этими руками!» На всякий случай спрашиваю: «А тех, из "Свастики", вы не считаете за бунтарей?» — «Какие же они бунтари, — говорит, — они же за старый "новый порядок"!» Все ясно. Поговорил с ним шеф, и действительно, он на суде сказал все, что нужно.
И еще один свидетель был — владелец магазина. Он вообще ничего не понимает, но, услышав, что кто-то за «порядок», готов поддержать. «Я, — говорит, — так устал от нынешних беспорядков, что всех, кто за порядок, буду защищать». Его магазин за один только год три раза грабили — можно понять человека.
Только Эстебан, как всегда, испортил мне настроение. Он, когда Франжье защищал того студента, похвалил меня, снизошел.
— Наконец-то, — сказал, — ты хоть что-то для порядочных людей делаешь.
А тут, наоборот, посмотрел на меня и говорит:
— Неужели ты до сих пор не научился разбираться, где правда, где ложь, кретин?
— Полегче, — говорю.
— Да уж куда легче. Ну, помогал своему шефу, тоже, кстати говоря, флюгеру порядочному, если не хуже, доброе дело сделать. Честь тебе и хвала. Но сейчас-то кого из тюрьмы выручили — подонка, мерзавца, нациста…
— Какой он нацист, он и в Германии-то никогда не был.
— Да разве нацист национальное понятие, это политическое понятие. Они и в Германии, и в Испании «Седаде», и в Португалии «Паладин», и в Италии «Терце позиционе», и во Франции «Ордр нуво», и, между прочим, в Чили, и в ЮАР, в Израиле и в Сальвадоре, и у нас в стране их хватает. В кои-то веки полиция наконец посадила одного, а вы его защищаете.
— Чего пристал, — говорю, — я пока что не Франжье и даже не его сын. С него и спрашивай, а я клерк — деньги зарабатываю.
— Не беспокойся, придет время, спросим. И с тебя тоже.
Последнее время мы что-то с Эстебаном все чаще лаемся. Жалко — такой друг. Почему надо ссориться? Ну ладно, у него одни взгляды на вещи, у меня другие, что ж, нам из-за этого не разговаривать друг с другом? Мало ли остального у нас общего, хоть спорт, например.
Да еще Гудрун подзуживает:
— Какой он тебе друг, он же только и делает, что орет на тебя. Вечно нотации читает. А сам, между прочим, в политике дремучий невежда. Как, впрочем, и все коммунисты.
— Ну, это ты зря, уж в чем, в чем, а в политике они разбираются. Во всяком случае, получше твоих анархистов или с кем ты там путаешься.
— Ничего ты не понимаешь, — фыркает, — они даже Кропоткина своего умудрились извратить. А ведь были у них и бомбисты, и другие герои. На смерть шли, убивая царей!
— Не злись, — говорю, — по-моему, это ты чего-то не понимаешь. У них, насколько я знаю, индивидуальный террор никогда не был в почете.
Гудрун только рукой машет.
Она вообще считает меня ребенком в политике. Может, и права. Сложно все. Столько развелось оракулов, пророков, безапелляционных авторитетов! «Во всем виноваты красные!», «Во всем виноваты фашисты!», «Во всем виноваты империалисты!», «расисты», «гегемонисты», «ревизионисты» и т. д. и т. п. Виноватых пруд пруди. И правых, конечно, еще больше. Поди разберись…
Хотя вот есть такие, как Эстебан. Он твердо знает, чего хочет.
И что удивительно, знает, чего хотят другие. Не все другие, конечно, но большинство. Приведу вам, чтоб вы поняли, лишь один пример. Я ведь не знаю степени вашей осведомленности, так что без примеров не обойтись. Не обиделись? Нет? Ну, вот и хорошо.
А пример — это борьба за мир. Стоп! Стоп! Я уже слышу ваши наивные возражения: «Кому же не дорога борьба за мир? Кому охота умирать? Кто же против мира?» Да? Так вы собрались возражать?
Так вот, для вашего сведения, на свете хватает таких, кто за войну. И идиотов, которые ее всерьез не принимают — воображают, что в эру атомных бомб ее будут вести с помощью обычных танков и пушек, а может, и арбалетов и рогаток. И отнюдь не идиотов, но предпочитающих войну, нежели мир и такой порядок, где все равны и где таких, как они, миллионеров и властителей, повесят на фонарях или отправят дробить камень на каторгу. И таких, кто верит, что погибнут все, кроме него лично, его жены, любовницы, секретаря, мажордома и дюжины хороших друзей. И наконец, таких, кто согласен, чтоб сгорели двадцать-тридцать миллионов его соотечественников, лишь бы в костре оказались двести-триста миллионов русских. Словом, дураков и подлецов на свете хватает.
Между прочим, я хорошо знаю одного умного и благородного — по имени Ар, — которому ровным счетом наплевать, что произойдет со всем человечеством при условии, что сам он, ну и скажем, парочка хорошеньких девочек уцелеют. А что? Будем ходить голышом или в звериных шкурах и вести веселую жизнь. И если при этом останется в живых Эстебан, поверьте, я буду рад.
Но ему, представьте, мало, чтоб остались на свете он и я. Ему нужно, чтобы все люди жили и валяли дурака на земле, а не только мы двое. Как показали дальнейшие события (я еще поведаю вам о них), Эстебан был готов свою-то жизнь отдать, лишь бы другие не знали горя. Но об этом мне не хочется сейчас говорить. Мне тоже бывает больно…
Впрочем, я отвлекся. Так вот, Эстебан в нашем городе организовал движение за мир. Когда стало известно, что кое-кто из наших человеколюбивых государственных лидеров с восторгом принял предложение одной союзной державы натыкать по всей нашей стране ракеты, Эстебан выступил сначала в студенческой, а потом и в городской левой газете со статьей. Довольно ядовитой, между прочим. Писал, что ракеты, мол, обладают странным свойством — они как магнит притягивают ракеты противника. Кроме того, учитывая, сколько психов, пьяниц и наркоманов числится в вооруженных силах «союзной державы», а именно эти силы будут обслуживать ракеты, немудрено, если ракеты в один прекрасный день сами отправятся в путь, не ожидая санкции какого-нибудь президента, который к тому же находится за много тысяч километров отсюда. И потом ракеты эти иногда падают с самолетов во время «учебных» полетов, вываливаются из грузовиков, когда пьяный водитель врезается на этом грузовике в дом. И все это не способствует очищению местности и укреплению здоровья населения. И т. д. и т. п.
Ну статья и статья.
Так нет. Представьте, пошли отклики, создалась одна организация, потом другая. Начались демонстрации, сперва так — десятка два-три народу, потом, глядишь, сотни, а там и тысячи. Не пускают к тому лесу, где эти ракеты собирались устанавливать, нажимают на членов муниципалитета. Те, конечно, за свои кресла держатся и тоже выступают против ракет. Словом, такую Эстебан заваруху поднял, что даже в столице аукнулось. Я его спрашиваю:
— Зачем тебе все это нужно? Других дел нет?
— Дурак, если этим, главным делом не заниматься, то действительно других дел не будет, разве что поуютней кладбище выбрать.
— Да пусть еще кто-нибудь этим занимается, тебе что, больше всех надо?
— Почему больше всех? Больше некоторых ограниченных тупиц — да. А так — это всем надо. Это дело всех. Во всяком случае, кому жизнь не надоела. Ничего, когда-нибудь поймешь, — и хлопает меня по плечу, — если, конечно, доживешь…
Смеется. Очень остроумно! Только настроение испортил. Может, действительно он прав? Хочет, чтоб людям лучше было. Во всяком случае, уж кто-кто, а Эстебан знает, чего хочет.
Впрочем, Гудрун тоже знает. И все же какая-то есть разница. Трудно объяснить, но мне почему-то кажется, что Эстебан действительно убежден в своей правоте, а Гудрун считает себя убежденной в своей. Скажете, это одно и то же? Э, нет, тут есть нюанс.
Теперь-то я знаю какой. Но в то время я только чувствовал, интуицией нащупывал.
Эх, если б… Ладно, не буду, а то правда превращаюсь в попугая.
То, что я работал у Франжье, не означало, что я совершенно оторвался от университетской жизни. Я даже принимал участие в митингах и демонстрациях. Правда, их нельзя было назвать политическими в полном смысле слова. Скорее экономическими.
Ну скажем, подорожали учебники, или повысилась плата за общежитие, или ухудшилось питание в столовой. Мы протестуем. При чем тут политика? К таким протестам присоединяются все — и левые, и правые, и черные, и белые. Учебники-то всем нужны, есть все хотят.
Но, между прочим, полиция такие митинги тоже не любит. Для нее это смута. А любую смуту полиция не терпит.
Поэтому драки и аресты бывают и здесь.
До сих пор меня это не касалось. Ну, участвовал, ну, даже выступил раза два. Но все как-то обходилось.
На этот раз не обошлось.
Странно устроена жизнь. Ведь стоило мне проспать ту демонстрацию или оказаться на тренировке, в кино, в кафе с Гудрун, и, быть может, вся моя жизнь повернулась бы иначе.
Так ведь нет. Пошел на демонстрацию. Почему? Решил протестовать против какой-то ерунды. Сократили бюджет на спорт, и все университетские спортсмены независимо от «политической принадлежности», как выражается Эстебан, собрались на демонстрацию протеста. Я, разумеется, в первых рядах.
Демонстрация проходила по улице, которая вела на городской стадион.
Мы шли спокойно и весело. Погода прекрасная, небо голубое, солнце светит, воскресенье — народ болтается без дела, смотрит на нас, улыбается.
Вот тогда-то они и налетели. Почему, до сих пор не могу понять. Их было не так много, но все злые, как черти. Наверное, не могли нам простить, что из-за нас теряют выходной день.
Они выскочили с параллельных улиц со своими щитами, в белых касках и начали орать, чтобы мы разошлись, толкали, оттесняли нас к стенам домов. Они не учли, что большинство ребят спортсмены. То ли такое несправедливое нападение возмутило, то ли сработала автоматическая реакция спортсменов, наверное, сыграло роль и то, что полицейских было мало — так или иначе, смотрю, одного швырнули, другого. Мой сосед — он чемпион университета по боксу — двоих сразу уложил, пока самому по башке не стукнули дубинкой.
Один здоровый, в белой каске, на меня уже дубинку поднял. Так я все-таки каратист или не каратист? Выбил у него ногой дубинку, сбил каску, только собрался еще ударить, мне самому по спине врезали. Прямо обожгло. Ну, тут у меня в глазах огнем заполыхало. Оборачиваюсь, вижу, он опять замахивается. Теперь я ударил по-настоящему. Попал по щиту, щит по нему — словом, упал как подрубленный.
А я уже за следующего взялся. Вот тут-то они на меня навалились, колотили по голове дубинками, надели наручники и в свой фургон — за углом стоял.
Человек десять арестовали. Пока везли в полицейское управление, я дал себе слово при каждой, при любой возможности давить этих черных тараканов. Господи, как я их ненавидел в этот момент! И их начальников, и всех этих мерзавцев, которые натравливают своих полицейских псов на нас! Гудрун права, убивать их надо! «Всякий полицейский — мишень для стрельбы», — читал я у одной журналистки. Правильно.
Привезли. Сфотографировали. Сняли отпечатки пальцев (будто я грабитель или убийца) и в камеру. В камере нас человек пять-шесть, в том числе Эстебан. Откуда он взялся? Я его что-то во время демонстрации не заметил.
Волынить не стали (надзиратель сказал, что в предвариловке мест не хватает). Наутро всех в суд. К тому времени я очухался, поспокойней стал. Ну что в конце концов произошло? Ну, прошлись на демонстрацию, ну, поцапались с полицейскими. Большое дело! На соревнованиях еще не так достается. Продержали нас в камере. Что ж из-за этого шум поднимать? Извиняться, конечно, они не будут. Понимаю. Ну и я тоже. Сейчас судья, этот старый болван, прочтет мне мораль, погрозит пальцем и скажет, чтоб я вел себя хорошо. Переживем.
Но все оказалось куда хуже.
Во-первых, судья не старый болван, а элегантный, лет сорока, здоровяк со злым лицом (или мне это показалось тогда). Сидит, смотрит волком, спрашивает: «Признаете себя виновным в нарушении порядка, сопротивлении полиции?» Ребята, кто поопытнее, отвечают: «Да». «Две недели тюрьмы! — рявкает. — Следующий!»
А следующий Эстебан.
«Нет, — он говорит, — не признаю. От адвоката отказываюсь, защитительную речь буду произносить сам».
И пошел, и пошел. Полицейские, мол, нарушили конституцию, свободу демонстраций, свободу волеизъявления, вообще демократию. Впрочем, в нашей стране демократия давно фикция. Как в том афоризме: «Демократия — это когда все говорят, что хотят, и делают то, что им говорят». Полицейский произвол. Старший инспектор Лойд установил слежку за прогрессивными студентами, их преследуют, фашистов поощряют, с уголовщиной не борются, а только с левыми…
И так и этак! Бумаги вынул, доказательств уйма. Только судья хочет его прервать, Эстебан ему статью кодекса под нос: нарушаете правила судебного процесса. «Я обращусь к прессе, — кричит. — Мы расскажем, как вы чините судебную расправу!»
И обратился-таки. Уж не знаю, как он все это откопал, но прямо целую хронику опубликовал. Там-то тогда-то полицейские сфотографировали на демонстрации молодого преподавателя университета, его уволили и теперь нигде на работу не берут — он в «черном списке». Двух студентов выгнали из университета, а когда они подняли шум, «неизвестные» хулиганы подкараулили их ночью в переулке и так избили, что они попали в больницу и неизвестно, когда оттуда выберутся.
Талантливого молодого профессора не взяли на работу, потому что двоюродная сестра прабабушки тетушки его соседа как-то раз улыбнулась, увидев красный флаг… И т. д. И пошел и пошел.
У дверей суда собралась молодежь. Кричали, требовали прекратить расправу, грозили, что займут университет.
Какой-то дошлый телевизионщик, «разгребатель грязи», взял у Эстебана несколько интервью. В первой же беседе Эстебан так дал по мозгам отцам нашего благопристойного города, особенно шефу полиции, что журналисту попало, следующие интервью отменили и вместо них передали «Советы хозяйкам»: «Как приготовить обед, если в холодильнике пусто».
Я смотрю, мой Эстебан превращается в авторитетную личность. Для многих его слово звучит убедительно. И главное, не один он. Его окружают такие же решительные ребята, им все нипочем.
В конце концов судья его отпустил, ну ни к чему не смог придраться. Заседание перенесли на вечер. Думаю — успеть бы на тренировку. И что же? На мне и еще двух оставшихся этот мерзавец отыгрался-таки.
Оказывается, полицейские шпики демонстрацию фотографировали. И мне предъявляют отличное глянцевое большое фото, на котором я со знанием дела бью полицейского! «А где он меня бьет, такого фото нет случайно?» — спрашиваю. Оказывается, нет. Оказывается, меня добром уговаривали, увещевали, просили. Я же, дикарь, хулиган, ниспровергатель, сразу в драку. Вывод: полтора месяца тюрьмы! Полтора месяца! Да у нас карманникам столько не дают. Я заорал. А мне этот здоровый боров говорит: «Будете в суде хулиганить, добавлю. Следующий!»
Моя б воля, убил бы его и только патроны пожалел бы…
Эти полтора месяца я никогда не забуду. Мне кажется, что наряду с общеобразовательной школой и военной службой надо ввести еще и обязательную, скажем, вот такую полуторамесячную отсидку для всех граждан. Обязательную. Пусть научатся ценить свободу, когда сидишь дома, а не в тюрьме. Вот так я тогда рассуждал.
Позже, откровенно скажу, поколебался в своем мнении.
Дело в том, что я убедился: многие на воле живут хуже, чем в тюрьме. Здесь хоть тепло, светло, кормят, поят, раз в неделю кино показывают.
А там, на воле, у нас миллионы людей в стране думают каждый вечер, что поесть завтра, сотни тысяч — где жить, где переночевать — под мостом, у вентиляционной шахты метро или в городском саду на скамейке. (Выбор, как видите, есть.) В тюрьме умрешь с тоски, целый день ничего не делаешь. А на воле — у нас в стране миллион триста тысяч безработных — они тоже целый день ничего не делают. Им что, лучше? И потом в тюрьме есть одно несомненное преимущество — там тебя не арестуют. На воле же, как вы могли убедиться из всей этой истории, такой гарантии нет.
Вышел я (и еще двое, мне подобных) в середине августа.
Жарища — не продохнешь. Отвык за это время от шума. А тут машины грохочут, бензином воняет, народу на улицах — толпы. (Во всяком случае, пока что больше, чем в тюрьме. Надолго ли?)
Как вам описать мои чувства в тот момент?
С одной стороны, мне вдруг все стало безразлично — ну к чему эти демонстрации, митинги, протесты, вся эта говорильня, размахивание руками? К чему вообще за что-то бороться, чего-то требовать? Почему не жить как все — заработать на кусок хлеба любым способом, в том числе и таким, как я раньше, может быть, не очень благородным, зато нехлопотным и верным? Или работая в этой адвокатской конторе. Тоже не каторга. А в остальное время тренироваться, забегать в ресторанчики, крутить с девчонками…
Жить как все…
Но вот все ли так живут? Почему, например, Эстебан живет иначе? Почему его беспокоит, как живут другие? Плевать мне, в конце концов, на остальных. Что важней, чтоб десять человек, включая меня, имели приличную работу или я — отличную, а девять никакой? А? Это вопрос. И на него не так-то просто ответить.
Словом, как уже сказал, с одной стороны, мне было в тот день все безразлично. Но с другой — я испытывал жгучую ненависть к этому элегантному мерзавцу-судье, который лишил меня не только полутора месяцев свободы, но и полуторамесячного заработка у Франжье, вряд ли тот оплатит мне этот вынужденный прогул…
Представьте — оплатил!
Это вообще очень любопытная история. Я вам ее подробно расскажу. Так вот, не прошел я и двух кварталов, как меня нагоняет «фиат» Гудрун. Тормозит у тротуара с таким скрежетом, что все прохожие останавливаются. Она выскакивает, бросается мне на шею, кричит:
— Как же я тебя проворонила! Все утро дожидалась у ворот.
— Нас через другие двери выпустили.
— Скорей поехали обедать, нас ждут.
«Кто бы нас мог ждать?» — думаю, но есть хочу зверски и потому залезаю в «фиат».
Дорогой небрежно интересуюсь, скольких любовников она переменила за мое отсутствие. Она морщит лоб и серьезно вспоминает:
— Двух, по-моему, двух. Или трех?..
— Что ж так мало? — спрашиваю с невыразимым (как мне кажется) сарказмом.
— Некогда было, Ар, другие дела. Поважней.
Только я собрался произнести на эту тему несколько ядовитых слов, как «фиат» внезапно останавливается (чуть не стукаюсь лбом о ветровое стекло).
Мы вылезаем и входим в один из самых дорогих ресторанов города. Наверное, мы выглядим странной парой: Гудрун в своих неизменных (даже в эту жару) черных брюках и обтягивающем лиловом батнике, волосы рассыпаны по плечам, по спине, по груди, длинный нос торчит, как бушприт у каравеллы, и я в измятых брюках, небритый, непричесанный. Но швейцар молчит — в наше время по внешнему виду не определишь, кто миллионер, а кто гангстер, но и тот и другой достойны уважения.
Проходим в отдельный бокс за занавесками, там накрыт стол. И кого же я вижу за столом, улыбающегося, гостеприимного? Адвоката Франжье, нашего шефа. Красив, элегантен, черные усики блестят, черные волосы сверкают, загорелый. Красавец! (Уж не вошел ли он в коллекцию Гудрун?)
— Садись, — говорит, — каторжанин! — Смеется. — Надо отметить твое вызволение из узилища.
Садимся, я набрасываюсь на еду. Потом, хоть и подобревший, спрашиваю:
— Шеф, что ж вы-то не пришли меня защищать? Стоило вам речь сказать, меня бы оттуда с цветами выпроводили.
— С цветами, с пинками, — улыбается. — Возможно, возможно. Но, во-первых, занят был по горло, а во-вторых… во-вторых, думаю, полезно было тебе хлебнуть тюремной похлебки. По крайней мере теперь знаешь, что к чему. — И смотрит, ого-го, уже совсем иначе — зло, властно, остро! — А то вон ты дылда какой, а все в пеленках валяешься. Пора тебе проявить себя.
— В чем? — спрашиваю.
— В борьбе. В борьбе, дорогой. В наше время нельзя стоять в стороне — сшибут. Если мы хотим, чтоб в мире царила справедливость, чтобы кучка богатых не топтала массы бедных, надо за это бороться.
— Как?
— Ты прекрасно знаешь как. Не хотел сам встать в ряды активных борцов, так тебя туда полиция записала. Да, да. Чего удивляешься? На тебя теперь заведено дело — есть фото, отпечатки пальцев, досье, ты опасный смутьян — участвуешь в демонстрациях, избиваешь полицейских, якшаешься с красными вожаками вроде Эстебана, работаешь в адвокатской фирме «Франжье и сын», известной своей деятельностью на ниве защиты противников режима… Видишь, сколько за тобой числится.
— Я у вас уже полтора месяца не работаю, небось другого взяли.
— Работаешь, и, между прочим, жалованье за все полтора месяца тебя ждет. Я верных друзей в беде не бросаю. — И смотрит на меня укоризненно.
Нехорошо получилось, все-таки я по-свински говорил с ним.
Помолчали, потом Франжье говорит:
— Тот судья, что твое дело рассматривал, подлец. Он таких, как ты, ненавидит. Он не имел права тебя и на неделю сажать, не то что на полтора месяца. Самодур!
— Что уж теперь говорить…
— Ну, дело твое. Я бы так не оставил, но если ты из тех, кто, получив по щеке, подставляет другую, дело твое.
— Что ж мне, на него в суд подавать, на судью?
— Можно и это, но у них одна шайка, рука руку моет.
Опять молчим. Вступает Гудрун:
— Знаешь, когда мне сказали, я хотела пойти и застрелить этого судью. Шеф еле удержал. Но это и сейчас не поздно.
— Опять ты за свое. По тебе весь суд, включая уборщицу, перестрелять надо.
— Весь не весь, а кое-кого не мешало бы. Но сейчас разговор о другом. Если оставишь всю эту историю безнаказанной, то этот судья такое натворит… Надо его наказать!
— Кого? — Я даже не сразу понял.
— Судью — кого же! Словом, у меня есть план. Мы его подстережем, знаю где, вывезем в лес и там «поговорим» с ним.
— А на следующий день нас арестуют, и он же даст нам по пять-десять лет. Прекрасный план, — смеюсь.
— Не бойся, у меня все продумано. Ты, я, еще двое надежных ребят заходим к нему в гараж, когда он машину вечером ставит. Будем в масках. Свяжем, вывезем в лес, пересчитаем ребра, а потом позвоним в «Скорую», скажем, где искать.
— Об алиби не беспокойся, — вступает Франжье. — Я и вся контора подтвердит, что весь вечер и часть ночи работали. Готовим сложное дело.
Я перестаю улыбаться. Раз уж не только эта сумасшедшая Гудрун, но и такой умный, опытный, хладнокровный человек, как наш шеф, толкает меня на эту авантюру, значит, это не авантюра, но вполне реальное дело. Вдруг сорвется — это же тюрьма не на пустяковых полтора месяца, на долгие годы (меня пробирает дрожь). С другой стороны, с каким удовольствием врезал бы я этой жирной свинье, чтоб знал, как расправляться с невинными людьми…
В конце концов они меня все-таки уговорили. Так завели, что я чуть не побежал, как был, с ножом и вилкой в руках, протыкать того судью.
Теперь, когда я спокойно все анализирую, я понимаю подоплеку. И эти полтора месяца тюрьмы, и жажда мести, и уязвленное самолюбие, и то, что говорили Франжье и Гудрун…
И жаркий август, и роскошный ресторан, и дорогой обед, коньяк, вино, музыка.
Все, что было до того, объясняет. Все, что было потом, подтверждает. Все, что будет теперь, убедит…
…Те двое, что поехали с нами, тоже работали у Франжье. Одного я знал — он учился в нашем университете, другого я раньше не встречал. Крепкие мрачноватые ребята, лишнего слова из них не вытянешь. Зато Гудрун что-то разболталась.
Сели мы в ее «фиат», доехали до какой-то зеленой пригородной улочки, оставили там машину, перелезли через глухой забор (темно, время — одиннадцатый час вечера, откуда-то Гудрун узнала, что судья вернется поздно), прошли к гаражу, спрятались там за какими-то ящиками и покрышками, ждем.
Тяжелая штука ожидание. Самая трудная. Потом-то я привык. Но вначале…
В этом окраинном районе на улицах тишина. Прогрохочет вдали электричка, залает собака, прошелестит машина. Откуда-то музыка еле слышна, откуда-то — смех, детский писк.
Ждем.
В начале двенадцатого очередной автомобильный шелест не замер, как остальные, приблизился, и машина медленно въехала в гараж.
Мы быстро надели маски, пригнулись. Зажегся свет. Судья нажал кнопку, и металлическая дверь гаража опустилась.
Вот тогда мы и вышли.
Я б не сказал, что он испугался.
— Кто такие? Что вам нужно? Вы знаете, с кем имеете дело? — спрашивает. Ну и наглец!
— Знаем, — один из ребят отвечает. — Поворачивайся носом к стене и не вздумай орать.
— Не беспокойтесь, — отвечает, — но много не разживетесь, у меня с собой денег нет, и машина не новая.
Однако носом к стене повернулся. Гудрун держит пистолет.
Парень он здоровый, но ребята завели ему руки за спину, надели наручники (мы их накануне купили — они в городе на каждом углу продаются, как, впрочем, и пистолеты, и винтовки, и кастеты, и рогатки фабричного производства, и даже старые мины противотанковые, и штыки, и, если очень поискать, автоматы).
Заткнули рот кляпом, надели на голову капюшон, засунули в его же машину и поехали за город.
У меня все время было такое чувство, словно я сплю, словно это не я, а кто-то другой двигается, садится за руль, ведет машину… Я наблюдаю за Гудрун и ребятами, отмечаю каждую мелочь, их жесты, выражение лиц (маски в пути мы сняли). Они уверены в себе и спокойны. Впечатление такое, что они всю жизнь только этим и занимались.
Мы едем по пустынным ночным улицам. Стоит мне пережать на педаль, Гудрун рявкает: «Тише! Тише же! Не превышай скорость!» Ах да, я вспоминаю бесчисленные прочитанные мною детективные романы — нет водителей, которые бы так свято уважали правила дорожного движения, как преступники после совершения преступления.
Наконец мы въезжаем в темный-темный лес. Где он? В скольких километрах от города? Как мы туда добрались? Убей меня бог, если я могу ответить на эти вопросы — всю дорогу Гудрун, как лоцман, указывала мне маршрут.
Остановились. Возле озера. Наверное, того же самого, на берегу которого наш спортивный лагерь — у нас в окрестностях только одно озеро, но оно большое, бог знает, на каком мы берегу…
Выходим. Тишина прямо ощутимая, словно в сурдокамере. Так и кажется, протянешь руку — уткнешься в тишину. Но потом начинаешь эту тишину слышать: сухие ветки трещат, лягушки квакают, вода булькает, жуки гудят, птицы кричат, какие-то шорохи, свисты, стуки. Словом, тишина целиком наполнена шумом. Но это шум, который для нас, городских жителей, не слышен. Мы привыкли к грохоту воздушной железной дороги, треску мотоциклов, визгу тормозов, гудению беспрерывного автомобильного потока, гвалту толпы. Если всего этого нет, значит, кругом тишина.
То же относится к запахам. Только наоборот. Бензиновую вонь, запах асфальта, пыли, камней, толпы мы не ощущаем, привыкли. А вот запах озерной воды, хвойного леса, цветов прямо пьянит.
Ну ладно. Выволакиваем судью, бросаем его на землю.
Некоторое время смотрим на него. Я замечаю, что он в смокинге, значит, возвращался из гостей. Взошла луна, и светло как днем, и до чего же нелепо выглядят узконосые лакированные ботинки, блестящие черные лампасы на черных брюках, белая крахмальная манишка со съехавшей набок черной бабочкой в этом лунном благоухающем лесу.
Парни подходят к лежащему и принимаются за работу. Бьют ногами, выбирая места, где побольнее. Делают мне приглашающие жесты рукой. Из-под капюшона доносятся глухие крики. Потом прекращаются.
Гудрун поднимает руку, ребята останавливаются, тяжело дыша.
И вдруг мною овладевает странное чувство, похожее на жалость к этому человеку, к его нелепым черным ботинкам, скрюченному в безнадежной попытке защититься телу. И эти полтора месяца тюрьмы кажутся мне таким пустяком, в конце концов, он делал свое дело. Должен же кто-то его делать…
Гудрун наклоняется к неподвижному телу, прислушивается, торопливо снимает капюшон — она, наверное, боится, не отдал ли судья богу душу. Я стою рядом — эдакий величественный монумент, словно отлитый из бронзы, в четком, ясном, голубом свете луны. (Таким, во всяком случае, кажусь себе я сам.)
Вздрагиваю. Мне кажется, что сейчас я увижу бледное лицо мертвеца. Но то, что я вижу, оказывается еще страшней — это ясный, полный ненависти взгляд широко раскрытых глаз судьи, устремленный на меня.
Ребята и Гудрун в стороне, а я на виду. Он, конечно, узнал меня. Один этот его взгляд обойдется мне в десять лет тюрьмы! И тут меня охватывает ярость. Почему все так получается! Почему нужно было идти на эту дурацкую демонстрацию, а полицейским ее разгонять, а мне с ними драться, а судье приговаривать меня к тюремному заключению, а нам его избивать, а ему меня узнавать, а луне светить, а… А, а, а!..
Что делать? На этот вопрос отвечает один из ребят:
— Он тебя узнал, Ар, теперь его нельзя выпускать. Надо кончать.
— Сволочи, вы за это заплатите! — неожиданно громко кричит судья, кляп выпал у него изо рта. — Я тебя найду, я тебя запомнил, мерзавец, я вас всех найду!..
Хлопает выстрел, странно тихо хлопает (я и не заметил глушителя). Судья дергается и замолкает. На белой манишке растекается красное пятно.
Теперь ребята меня не замечают. Они действуют быстро и ловко. Тот, что стрелял, возвращает пистолет Гудрун. Они хватают тело, снимают наручники, тащат к озеру, привязывают к ногам домкрат, который Гудрун достала из багажника и бегом принесла им. Раскачав, швыряют тело в озеро. Раздается глухой всплеск, частое бульканье, и вновь наступает тишина. Только высоко в небе с тихим рокотом проплывает самолет с американской военной базы.
— Поехали, — деловито говорит Гудрун. Мы все (я — как автомат) усаживаемся в машину и едем в город. Машину бросаем недалеко от дома судьи. Ребята уходят. Молча. Не простившись. Мы с Гудрун едем домой.
Прежде чем сесть в машину, Гудрун тщательно вытирает пистолет и спускает его в водосток.
Когда мы входим в дом, на дворе начинает светать. Гудрун неторопливо заваривает чай, съедает кучу огромных бутербродов, яичницу, кусок холодной курицы. Все это молча. Потом уходит в ванную и долго плещется там под душем. Наконец ложится в постель. Я, сбросив где попало одежду, уже лег и притворяюсь спящим. Она гасит свет, и вскоре я слышу ее тихое, ровное дыхание. Она безмятежно спит, как человек, честно и плодотворно проведший свой рабочий день.
Что касается меня, то сна ни в одном глазу. Без конца четкой вереницей проходят картины этой ночи.
В какой-то момент я ощущаю такую тоску, такую боль в груди, что встаю, иду на кухню, выпиваю из горлышка две бутылки пива.
Значит, вот она, борьба, о какой мне говорил Франжье. В эту ночь я перешел Рубикон, я стал по другую сторону баррикады, пересек водораздел… Идиотская фразеология! Почему не называть вещи своими именами? Я стал преступником, соучастником убийства. И винить-то некого… В чем я могу упрекнуть Гудрун и ребят? Ведь они все это делали ради меня. За меня мстили. Рисковали. И убили тоже ради меня, не их — меня ведь узнал судья. Так кого ж упрекать? Кто истинный виновник?
Потом у меня в голове появляются совсем уж дурацкие мысли. Мне начинает видеться какая-то чертовщина. А не спектакль ли все это? Заранее и хорошо продуманный сценарий? Почему Франжье не стал защищать меня в суде? Почему сам (непривычная честь) пригласил с Гудрун на обед в роскошный ресторан? Почему они насели на меня с этой местью? И кто так тщательно продумал и подготовил ее? (Зная, что я на это не способен.) И (уж совсем бредовая мысль) когда Гудрун сорвала с судьи капюшон, не знала ли она заведомо, что он в сознании и увидит меня и узнает? И не будет тогда иного пути, как убить его? Сделали меня соучастником, а значит, окончательно прибрали к рукам?.. Словом, чего только в голову не лезет.
Поворачиваюсь к Гудрун, внимательно рассматриваю ее. Во сне она выглядит моложе и… добрей. Она безмятежно посапывает. Даже нос не кажется сейчас таким длинным. Щеки порозовели. Ее густые волосы (уж если есть у нее что красивого, то это волосы) рассыпались по подушке. Спокойно спит молодая женщина, не знающая кошмаров, угрызений совести, тяжких сновидений. «Право, — усмехаюсь про себя, — только крыльев не хватает моему ангелочку».
Снова встаю. Иду на кухню, выпиваю еще две бутылки пива. Снова ложусь, закрываю глаза и… внезапно просыпаюсь. Смотрю на часы. Оказывается, я проспал как убитый семь часов. Солнце так и печет через открытое окно. А Гудрун и след простыл. На кухонном столе нахожу записку: «К обеду буду в нашем ресторанчике. Жду».
До обеда целый час. Обед на этот раз будет для меня и завтраком. Встаю разбитый. Принимаю душ. Одеваюсь. Ровно в два вхожу в зал «Свидания гладиаторов». Гудрун уже ждет меня.
Она, как всегда, поглощает чересчур обильный и сытный обед. Чему я, как всегда, удивляюсь.
Когда мне приносят кофе, а ей сигареты, наконец начинаем беседу.
— Ты молодец, — говорит, — расквитался с этим мерзавцем.
Лесть настолько очевидна, что приводит меня в ярость.
— При чем тут я?! Чем я молодец? Я, что ли, это придумал? Я его утянул? Я избил? И убил? Да я вообще сбоку припека!.. — говорю все громче.
— Ну уж! — усмехается Гудрун и с беспокойством оглядывается.
— А разве нет? Я был в стороне. Но, согласен, главный виновник я. Чем прикажешь расплачиваться?
— Трудно с тобой, — Гудрун вздыхает. — Тебя обидели — посадили ни за что за решетку. Судья — самодур, прислужник этой клики. Ты с ним рассчитался, как настоящий мужчина. Ну, помогли тебе, так что? В следующий раз ты поможешь. Главное в другом. Главное в том, чтоб ты понял: твое место в рядах настоящих борцов против олигархии. И пощады им от тебя ждать нельзя, так же как теперь не можешь ждать пощады и ты.
— Какой же вывод?
— Ты должен вступить в ряды «Армии справедливости»!
Ну вот, теперь все ясно. Что Гудрун и еще кое-кто из ребят входят в эту организацию, я давно подозревал. Но не проверял, не интересовался. Ни к чему мне это.
Теперь она, по существу, сама призналась. Не просто призналась, а прямо потребовала, чтоб и я стал солдатом этой армии. И весь сказ.
Она смотрит на меня вопросительно. Я спрашиваю:
— И сколько ты даешь мне на размышление?
— Неделю. — И вынимает сумочку, чтоб расплатиться.
Мы расстаемся.
За эту неделю произошли два события, которые оказали решающее влияние на мой ответ.
Во-первых, был найден труп судьи. Его случайно вытащили рыбаки. Газеты со следующего дня после убийства уже шумели по поводу исчезновения судьи, полиция рыскала повсюду. Нашли машину, следы в гараже. Стали перебирать всех, кого он сажал. Меня не тронули — уж слишком мелким было наказание, подозревать меня в убийстве никому не пришло в голову. Вызывали разных вышедших на волю рецидивистов.
И вот нашли тело. Начали настоящее следствие. Быстро восстановили картину — судью ждали в гараже, схватили, надели наручники, капюшон, вывезли за город, зверски избили, потом пристрелили и тело бросили в озеро. Проследили путь машины. На этом все закончилось.
Потом неожиданно начали таскать Эстебана. Держали на допросах по нескольку часов. В конце концов оставили в покое.
Газеты единодушно пришли к выводу: преступление из мести совершил кто-то из осужденных или его сообщники. Но кто именно, установить не удалось.
Эти дни я жил в постоянном страхе. Ждал ареста, допросов, ночевал в отелях, вскакивал при каждом звонке. Сейчас с высоты сегодняшнего моего опыта я, тогдашний, кажусь себе смешным и наивным.
Но в то время я, наверное, таким и был.
Все это привело к неожиданному результату — я так переволновался, так измучился страхом, что мне просто необходимо было кого-то возненавидеть, сделать ответственным за все эти переживания. Кого же? Ясно кого — полицию, правительство, ту самую «олигархию».
Короче говоря, к исходу шестого дня я созрел для вступления в «Армию справедливости». Я считал, что путь к прежней жизни мне заказан, что мне нечего терять. К тому же мне нужна была стена, за которой я мог спрятаться, сила, на которую мог опереться.
И когда я уже почти принял решение, произошло второе событие — разговор с Эстебаном.
Мы продолжали встречаться в спортзале, в университете, но реже заходили друг к другу. И это огорчало меня. Эстебана мне все-таки не хватало.
В те дни только и разговору было, что о найденном трупе, о полицейских розысках, о всяких газетных сплетнях. Собственно, об этом все болтали.
— Ну, убили, — глядя мне в глаза слишком пристально, как мне показалось, сказал Эстебан. — И чего добились? Лишь ожесточили полицию. Вызвали неодобрение у людей, скомпрометировали борьбу за народные интересы. Ты хоть понимаешь это?
— Мне-то какое дело, — отбрил я его.
— Всем есть дело, — настаивал Эстебан. — И мне тоже.
— А тебе-то почему?
Он посмотрел на меня иронически и сказал:
— Да потому, что на меня хотели это убийство спихнуть, тут у меня недавно украли шоферские перчатки, в которых я на мотоцикле езжу. Ну, поискал, поискал и бросил. И представь, в гараже у судьи этого мои перчатки и обнаружили. Взялись за меня. Да не получилось — оказалось у меня железное алиби: все эти дни я на соревнованиях был в другом городе на глазах у десятков людей. Не повезло убийцам.
Усмехнулся и опять посмотрел на меня:
— Террором, чтоб ты знал, Ар, еще никогда никому ничего не удавалось достигнуть. Ни государственным, ни тем более индивидуальным. Сколько история сохранила примеров — приходил кто-то к власти, начинал террор и ничего не добивался. Возьми Грецию при «черных полковниках», возьми Чили, Сальвадор, Гаити, возьми Кампучию при Пол Поте, Иран при шахе, я уж про давнюю историю не говорю. А индивидуальный террор? Вспомни ОАС, возьми Ирландию, Италию, ФРГ, Испанию, Иран сегодняшний. Сколько гибнет невинных людей из-за всех этих взрывов, похищений, убийств… Что это дает? А цель ясна.
— Какая?
— Очевидная, — усмехнулся Эстебан. — Внести панику, дестабилизацию, вызвать у народа усталость, тоску по «сильной руке», натравить всех на коммунистов, на левые партии, на прогрессивно мыслящих, намекнуть на «руку Кремля» и под этим соусом привести к власти реакцию, наследников Гитлера и Муссолини. Ну, словом, что я тебе азбуку читаю? Сам все знаешь. К сожалению, даже очень неглупые и знающие эту азбуку люди на крючок попадаются. Там ведь не дураки действуют, там ого-го какие умные, образованные люди руководят, блестящие ораторы, смельчаки с опытом, со знаниями. И деньги есть, и связи, и организация у них будь здоров, и поддержка в том же правительстве, в той же полиции, против которых они воюют. Разные там, конечно, партии, течения, организации. Много их, да все одним миром мазаны.
— К чему ты мне все это говоришь? — спросил я.
Он остановился, посмотрел мне еще раз в глаза:
— Сам знаешь почему. Меня-то хоть не старайся обмануть. Передай привет Гудрун. Ей бы не на юридическом учиться, а на педагогическом. Отличный из нее учитель.
И ушел, не попрощавшись.
Вот этот разговор, как ни странно, заставил меня окончательно решиться. Не знаю почему. Вернее, тогда не знал. Теперь-то я отлично понимаю все. Я пришел в ярость оттого, что Эстебан так легко раскусил меня, что он считал меня игрушкой в руках Гудрун (и не ошибался тогда), что пытается меня учить и воспитывать, что он меня презирает, что по собственной вине я потерял, наверное, единственного настоящего друга, что все так подло и глупо вокруг, что так неудачно сложилась моя жизнь…
Вот такие мной владели тогда чувства, многие из которых были неоправданны, многие возникли по моей же вине. Но, так или иначе, они привели меня в «Армию справедливости», как и подобных мне, о чем я узнал лишь много позже, к сожалению…
Глава IV Выбор сделан
Событие это всколыхнуло весь город.
У студентов закончились каникулы. Вновь начались занятия в университете. Вновь студенты яркой толпой заполняют дворы, дорожки, зеленые лужайки университетского городка. После лета они в большинстве своем вернулись в alma mater загорелые, оживленные. Хотя каникулы провели по-разному.
Вон те, обгоревшие до черноты, с выцветшими волосами и бровями, пополняли свои оскудевшие финансы, подрабатывая на юге на полях у фермеров. А эти трудились в лесах на повалах и с гордостью демонстрировали отросшие бороды, усы, шевелюры.
И эти двое загорели — только не на уборке и лесоразработках. Они провели каникулы на яхтах своих отцов, путешествуя по Карибскому и Средиземному морям, побывав в Гонолулу, Монте-Карло и Сингапуре. Им незачем пополнять свои финансы, они вообще не имеют представления о «пополнении финансов». Ведь пополнить можно только то, что исчерпывается. А их финансы (точнее, их родителей) неисчерпаемы.
Кто-то провел эти месяцы в спортлагерях, в альпинистских или морских походах. Или у родственников.
Словом, в университете тысячи студентов и только одни каникулы. Поэтому все эти тысячи проводят их самым разнообразным способом. В зависимости от возможностей, нужд, характера, вкусов и желаний каждого.
Больше возможностей и нужд, меньше желаний и вкусов.
Ну, как провел каникулы Ар, мы знаем. Плохо провел. В конце концов, несмотря на тишину и размеренную жизнь, тюрьма — не лучшее место отдыха. Не санаторий.
А вот где была Гудрун? В спортлагере? В молодежном? В туристическом? Оказывается, она была в лагере, но не совсем обычном. Мы еще вернемся чуть позже к тому лагерю, а пока рассказываю дальше.
Студенческая жизнь шла своим чередом. Разумеется, она не катилась по зеркально-гладкой дороге. В наши смутные времена в этой стране ничто по гладкой дороге не катилось, а если уж говорить о жизни вообще, то скорее ее движение намечалось под уклон.
Студенты исправно ходили на лекции, занимались спортом, спорили на диспутах и танцевали в дискотеках. Они болели за своих баскетболистов и легкоатлетов, иногда дрались на почве ревности или идейных разногласий, но объединялись на почве экономических интересов. Многие употребляли наркотики: кололи, глотали, нюхали, многие выпивали.
Ходили на демонстрации, заклеивали стены университетских зданий разными листовками и объявлениями, расчерчивали лозунгами и призывами.
Чествовали любимых и освистывали нелюбимых профессоров. Впрочем, были профессора, которых уважали все. Одним из таких и был профессор Дрон, чья известность далеко перешагнула границы не только города, но и страны. Выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии, имевший множество последователей и учеников, многие из которых сами уже стали знаменитостями, профессор Дрон был убежденным последовательным гуманистом и противником войны.
Профессор отнюдь не был марксистом. Но все же он был достаточно умен, чтобы понимать, кто агрессор, а кто нет, кто за гонку вооружений, а кто против, кому наплевать на последствия ядерной войны, а кому нет.
Физик, он хорошо представлял себе, что такое ядерная бомба вообще и нейтронная в частности. И в едких блестящих выступлениях обличал тех, кто грозил применением этого оружия.
Профессор Дрон подписывал антивоенные воззвания, участвовал в демонстрациях, выступал в печати. Он обладал огромным мировым авторитетом и для многих тысяч студентов был кумиром.
Пока нобелевский лауреат боролся за мир, выступал против войны, против гонки вооружений, затеянной правительством, все шло сравнительно спокойно. Уж слишком громким и уважаемым было его имя. Но однажды, случайно оказавшись на сборище реваншистов, он вдруг понял, что есть и иные силы, поддерживающие войну. Оказывается, не только реакционное правительство, не только военные промышленники заинтересованы в гонке вооружений, в нагнетании напряженности, но и разные мерзавцы, и, что поразительно, молодые мерзавцы, которых на свете не было еще, когда закончилась вторая мировая война!
С обычной энергией профессор Дрон обрушился на реваншистов, шовинистов, милитаристов, неонацистов, фашистов всех мастей, которых в силу слабой подкованности в политике смешал, разумеется, в одну кучу.
Это уже кое-кому не понравилось.
Профессору стали приходить угрожающие и оскорбительные письма. Раза два его лекции попытались сорвать… А когда во время очередного скандала он узнал хулиганов, заявил в полицию и подал в суд, дело приняло совсем плохой оборот. Началась травля.
И этот человек, лауреат Нобелевской премии, ученый и общественный деятель с мировым именем, гордость земляков — убит!
Как же могло такое произойти?
Произошло это так.
Ар тщательно разбирал бумаги — он увлекся: сложное уголовное дело, одно из тех, каких у Франжье было немного, но которые он умел выигрывать с неподражаемым искусством. И которые (и это главное!) служили основой его материального благополучия. На защите «политических жертв» много денег не заработаешь. Полиция не имела обыкновения хватать и бросать в тюрьмы миллионеров. Почему? Может быть, потому что их в рядах ниспровергателей и бунтарей не сыщешь? Но на таких процессах Франжье зарабатывал моральный, так сказать, капитал, престиж борца за правое дело.
А просто капитал, иначе говоря деньги, он добывал, защищая в судах уголовных преступников. Но не кого попало, а таких, кто мог хорошо заплатить.
В данном случае речь шла о «золотой молодежи». Трое сынков богатых родителей невинно развлекались тем, что, разъезжая поздним часом по загородным пустынным дорогам, выискивали одиноких женщин и девушек, затаскивали в машину и насиловали, а затем высаживали где-нибудь в глухом лесу в сотне километров от города.
Как ни странно, им это долго сходило с рук. Скрывая свой позор, жертвы не обращались в полицию. В тех же двух-трех редких случаях, когда такое обращение поступило, полиция ничего обнаружить не смогла.
Но однажды на очередную потерпевшую, высаженную из машины преступниками, случайно наткнулся полицейский патруль. Моментально сообразив, в чем дело, полицейские пустились в погоню и, без труда настигнув насильников, задержали их.
Начался процесс, в котором в качестве защитника был Франжье.
Вот к решающему судебному заседанию и готовил Ар документы.
Во-первых, Франжье доказал, что двое из трех арестованных подсели в машину позже. Они, оказывается, просто гуляли пешком (в тридцати километрах от города). Такая вот у них, у этих молодых, здоровых, спортивных юношей, привычка — проходить перед сном двадцать-тридцать километров по ночным дорогам. А что, нельзя?
На многочисленных опознаниях девушка в конце концов перестала их узнавать — Франжье требовал от нее все новых подробностей о нападавших — об их прическе, цвете глаз, галстуков, форме носа, настаивал на том, чтобы опознание проходило в полутьме, как было тогда, ночью, и т. д. и т. п.
В результате обвинение с этих двоих было снято, а потому и статья о групповом изнасиловании. Оставался третий, владелец автомобиля. Тут дело обстояло хуже. Во-первых, в машине обнаружили разные шпильки, цепочки, лоскут от порванной блузки, принадлежавшие потерпевшей, во-вторых, она безошибочно и не раздумывая на всех опознаниях, на всех фото указывала на преступника.
Тогда Франжье выдвинул такую версию: девушка сама навязалась обвиняемому, сама отдалась, а потом стала шантажировать его. Несчастный юноша, искренне увлеченный ею вначале, а затем понявший всю подлость этой падшей женщины, обманутый в своих благородных чувствах, уехал, и тогда она устроила весь этот цирк.
Чтоб подтвердить свою версию, Франжье привел десяток свидетелей, рассказавших, что они слышали, как девушка соблазняла обвиняемого.
Вот тех свидетелей и подыскивал Ар. Он как раз приводил в порядок их показания, когда в комнату вошел улыбающийся Франжье.
— Ну как, коллега, все в порядке?
Ар молча пожал плечами.
— Сегодня тебе удастся еще раз доказать, что ты настоящий мужчина.
Ар вопросительно посмотрел на адвоката.
— Так по крайней мере мне кажется, — усмехнулся Франжье. Он был, как всегда, элегантен, в галстуке сверкала жемчужина. От него исходил легкий аромат дорогого одеколона. — Ну, ладно, не буду мешать, коллега. Желаю удачи. — И он вышел.
Ар еще долго сидел, устремив в пространство пустой взгляд…
Таким и застала его Гудрун. Она была необычно серьезной, какой-то напряженной, словно следила за чем-то, видимым только ей.
— У нас сегодня операция, — прошептала она. — Ты меня понял?
— Какая операция? — машинально спросил Ар, хотя отлично понимал, о чем речь. Она так и сказала ему:
— Ты знаешь, о чем речь.
— Кого? — теперь тоже шепотом спросил Ар.
— Изменника и врага, — глаза Гудрун сверкнули. — Одного из тех, кто служит гегемонистам и империалистам.
— Кто поедет?
— Ты, я и Зебра.
Зеброй называли боевичку «Армии справедливости», молодую экзальтированную женщину, за цвет ее волос — чередование черных и седых прядей.
Ар помрачнел. Зебра уже имела на своем счету несколько взрывов и убийств, она не знала пощады, и человеческая жизнь для нее ничего не стоила, что чужая, что своя. От нее можно было всего ожидать.
— Ровно в девятнадцать часов я жду тебя у собора. Прихвати все, что надо.
Она ушла, а Ар вновь принялся внимательно рассматривать пространство…
В девятнадцать часов он подошел к собору.
Осенний вечер был прекрасен и тих. Ни ветерка, ни звука. Лишь на старом кладбище, примыкавшем к собору, лениво и неуверенно чирикали редкие птички. Пахло еще теплым камнем, корой, опавшей листвой и чем-то особым, неуловимым, чем пахнет всегда на кладбищах — вечностью и печалью.
Белые массивные стены небольшой церкви, пышно именовавшейся собором, возвышались над могилами. В этот час здесь было безлюдно.
Ар долго прохаживался возле могил.
Эти бесконечные кресты, каменные плиты и обелиски, скульптуры, холмики, укрытые цветами, эти скорбные лики мадонн и распятия всегда наводили на него грусть. Сколько людей прошло по земле весело, бодро, танцуя и распевая, целуясь и смеясь… И все закончили здесь свой путь. И все, что смеются и танцуют сейчас, и он в том числе, тоже закончат его здесь…
Во тьму тысячелетий уходит та дорога длиной в миллионы километров, по которой идут люди. Она во мраке. На мгновенье человек оказывается на свету, где все ярко, прекрасно и оживленно. На то мгновенье, что длится его жизнь. И снова он уходит во мрак, словно ступив на бесконечную ленту вечного транспортера, уносящего в небытие.
Миллионы лет человечества, секунды жизни человека. Один миллиметр на тысячекилометровом пути людей…
Ар неторопливо приблизился к старинному склепу из потемневшего гранита. В склеп вел узкий проход, перегороженный ржавой решеткой.
Он постоял перед склепом, незаметно оглядываясь. Затем, быстро пригнувшись, открыл решетку и нырнул внутрь. Посветив фонариком, достал из-под кучи гнилых листьев прорезиненный футляр, вынул большой револьвер, засунул за пояс, застегнул поплотнее плащ. Выглянул, осмотрелся, одним прыжком выскочил на дорожку.
И снова неторопливо побрел меж могил.
Гудрун ждала его в незнакомом «фиате», нетерпеливо поглядывая на часы. Ее длинные волосы были забраны под шапочку, плотно облегавшую голову. Темный плащ застегнут под самое горло, руки в перчатках лежат на руле.
На заднем сиденье неподвижно застыла Зебра. И она была в шапочке, черном плаще, черных перчатках. В полумраке машины лишь поблескивали глаза обеих.
Подождав, пока Ар закроет дверцу, Гудрун молча тронула машину с места.
Так и ехали они, ни слова не говоря, через весь город, по его оживленным в центре улицам, по пригородным аллеям, пока не выехали на широкую короткую дорогу, ведущую в «профессорский городок». Так называли небольшой жилой квартал, где находились укрытые зеленью виллы многих преподавателей университета.
Асфальтовая дорога петляла среди красивых домиков под красной черепицей, увитых плющом, окруженных густыми садами. На зеленых лужайках застыли румяные глиняные гномы в красных колпаках, валялись брошенные малышами игрушки, стояли плетеные стулья и качалки.
Тихо шелестела листва, журчали невидимые фонтаны, откуда-то доносилась фортепьянная музыка, негромкий смех.
Хотя солнце зашло, было еще совсем светло, закатные лучи окрасили все вокруг в золотисто-розовые тона.
Гудрун вела машину уверенно и неторопливо. Она, наверное, хорошо знала и этот район, и место, куда они ехали.
Наконец машина свернула к красивому одноэтажному домику, который виднелся из-за молодых березок, рябин, кустов жимолости и сирени.
Ворот не было — к дому прямо от шоссе вела плотно утрамбованная красным гравием дорога.
Гудрун резко свернула на дорогу и, чуть ускорив движение, за несколько секунд подкатила к дубовой двери, над которой висел железный фигурный фонарь.
Все трое быстро натянули маски, выхватили револьверы и бросились вперед. С улицы их не могли видеть. Мотор «фиата» продолжал тихо урчать.
Дверь не была заперта. В этом райском саду, где одуряюще благоухали цветы, где золотистый вечерний свет волшебно окрашивал белые стволы берез и превращал в драгоценные камни карминные гроздья рябин, где все дышало покоем, — к чему и от кого было запираться?
Что плохого могло случиться в этом тихом уютном доме, в котором жили мирные старые люди, никому не сделавшие зла за всю свою долгую жизнь?
…Трое налетчиков ворвались в холл — чистый, светлый холл, где сверкали медью декоративные блюда над камином, метались в огромном аквариуме юркие золотые рыбки, где пахло какой-то вкусной снедью и чисто натертым паркетом. На шум выбежали в холл удивленные хозяева: профессор Дрон в старомодном бархатном халате и домашних туфлях на босу ногу, его жена, благообразная седая полная женщина в белом фартуке, с руками, белыми от муки, и ее сестра, всю жизнь прожившая в этой семье.
Ошеломленные, они остановились на пороге.
Первым пришел в себя профессор. Он бросился к стоявшему на камине телефону. Смешной, бесполезный жест…
Гудрун выставила вперед зажатый в обеих руках револьвер и трижды нажала на спуск. Казалось, звук не очень громкий — глушитель сделал свое дело. И все же этот звук словно взорвал царившую в этом мирном доме тишину.
Несколько секунд старые женщины стояли неподвижно, потом в едином порыве бросились к распростертому телу.
Гудрун, а за ней и Зебра торопливо выбежали на улицу и вскочили в машину.
Ар продолжал стоять. Он был потрясен. Нет, не убийством. Он знал, для чего ехал. Он не ожидал, что жертвой окажется профессор Дрон. Дрон! Некогда и его кумир, человек, которого он привык безгранично уважать, больше того, перед которым преклонялся. Нет, это сон! Это наваждение!
Но вот оно, тело Дрона, здесь, на полу, у его ног. Руки раскинуты, полы бархатного халата распахнуты, отлетели к стене старомодные очки с железными дужками, огромное кровавое пятно невероятно медленно расплывается по паркету.
И еще он запомнил взгляд жены профессора, отчаянный старческий взгляд, полный тоски, изумления, укоризны…
Раздался нетерпеливый автомобильный сигнал. Ар пришел в себя, одним прыжком очутился снаружи, вскочил в уже двинувшуюся машину. Гудрун быстро вывела «фиат» на дорогу и, развернувшись, на максимально дозволенной скорости помчалась в город.
Налетчики сняли маски, спрятали оружие. В безлюдном тихом переулке бросили машину и несколькими проходными дворами вышли на тенистую площадь с фонтаном, где возле небольшого кафе терпеливо дремал «фиат» Гудрун. Сели в машину, проехали два десятка улиц и оказались возле собора. Там и расстались уже почти в сумерках. Молча, без единого слова.
Ар зашел на кладбище, спрятал в склепе так и не понадобившийся револьвер. Вышел через другие ворота и, дождавшись автобуса, поехал домой.
Вот так это произошло…
Убийство профессора Дрона вызвало бурю.
Десятки тысяч людей вышли на демонстрации. Профессора университета, учителя многих школ объявили однодневную забастовку. Газеты помещали возмущенные статьи.
На следующий день после убийства в редакции нескольких газет позвонили неизвестные лица и сообщили, что ответственность за этот акт берет на себя «Армия справедливости», а сам акт — это справедливое возмездие в отношении человека, предавшего подлинные интересы родины, прислужника коммунизма.
Из столицы прибыл на помощь местным полицейским комиссар Лукас, высокий, неторопливый пожилой человек, обладавший большим опытом и проницательностью.
И осторожностью тоже.
Хотя жена профессора Дрона и ее сестра еще долго находились в шоковом состоянии, они все же сумели кое-как описать преступников. Но что давало такое описание? Две почти одинаково одетые молодые женщины и один высокий широкоплечий мужчина, блондин. Все в доверху застегнутых темных плащах, в масках, с огромными револьверами.
Пули исследовали, легко определили, что стреляли из американского крупнокалиберного револьвера военного образца. Удалось даже установить, что оружие было из той партии, которая год назад таинственно исчезла как раз с соседней американской военной базы.
Это, кстати, тоже была любопытная история.
Как-то из ворот базы выехали два огромных крытых брезентом грузовика с оружием. Их пункт назначения был строго засекречен. Этот пункт — другая военная база — стал известен лишь после того, как оттуда позвонили и поинтересовались, когда же привезут груз.
Началась паника. Заработали телефоны. «Джипы» с военными полицейскими помчались по маршруту следования грузовиков. Пошли опросы и допросы.
Оказалось, что охрана, четверо мотоциклистов, довела грузовики до заранее указанной заправочной станции, расположенной у государственной автострады приблизительно на середине пути, и, не дожидаясь сменщиков — мотоциклистов, которые должны были прибыть с базы назначения, — повернула обратно. Сменщики приехали минут через пятнадцать и узнали, что, заправившись, грузовики поехали дальше, а сопровождали их или нет, никто не заметил. Удивившись такому нарушению правил охраны, а также тому, что грузовики не попались им навстречу, сменщики покатили домой.
Таким образом, стало ясно, что грузовики исчезли за те пятнадцать минут, что отсутствовала охрана. Зато неясным оставалось многое другое: почему вместо обычных солдат на этот раз машины повели гражданские шоферы из местного населения, почему был составлен такой странный график сопровождения, почему мотоциклисты, выехавшие с базы, не дождались сменщиков, почему сменщики, не найдя в условленном месте грузовики, не подняли сразу же тревогу и куда делись грузовики с оружием, а также шоферы?..
Словом, вопросов было много, а ответов на них никто дать не смог.
В итоге человек двадцать, включая начальников баз, получили взыскание, в газетах промелькнули краткие сообщения. На том дело вроде бы и кончилось.
К сожалению, оказалось, что не кончилось.
Месяца через два возле одного из полицейских участков произошел взрыв. Удалось установить, что взорвана мина из партии пропавшего оружия. Потом при аналогичных обстоятельствах обнаружили автомат, потом еще один, теперь вот револьвер…
Короче говоря, похищенное оружие не залеживалось. Оно исправно служило… Кому?
Этот вопрос можно было не задавать, не ясно, что ли?
Несмотря на то что убийство профессора Дрона взяла на себя «Армия справедливости», назвав его «прислужником коммунизма», многие газеты начали кампанию, обвиняя как раз коммунистов и левацкие террористические организации в преступлении и в том, что они сделали это нарочно, чтобы возбудить общественное мнение против «Армии справедливости».
Создалась крайне запутанная ситуация. Правые экстремисты обвинили левацких экстремистов в том, что те приписывают им преступление, которое совершили сами, леваки выступили с теми же обвинениями против правых. После каждого террористического акта в газеты и на радио шли десятки звонков от самых различных, большей частью никому не известных «союзов», «обществ», «армий», «бригад», «движений» и т. д., сообщавших, что именно они совершили данный акт во имя борьбы с «капитализмом», «империализмом», «фашизмом», «коммунизмом», «прогнившим обществом сытых», «обществом потребления», «обществом угнетения»…
А тем временем под пулями террористов гибли политические лидеры всех направлений (но почему-то больше прогрессивные), полицейские, судьи, прокуроры (но почему-то больше верные долгу), а заодно и некоторые крупные бизнесмены, дипломаты, излишне проницательные журналисты.
Разобраться во всем этом обывателю было нелегко, у всех были разные суждения, мнения, предположения, и как-то незаметно все громче стали раздаваться голоса, что такого, мол, при Гитлере, Муссолини, Франко не было, что вот, мол, турки навели у себя порядок, и если мягкотелое, ни на что не способное правительство не в состоянии справиться с положением, то надо найти кого-нибудь, у кого сильная и твердая рука, например, военного.
Прокатилась волна забастовок. В том числе среди полицейских под лозунгом: «Нам надоело погибать».
Иные полицейские, видя, что тот или иной преступник, арестованный подчас ценой жизни их коллег, очень скоро оказывается на свободе, предложили создать тайную полицейскую организацию, наподобие южноамериканских «эскадронов смерти», которая без всякого суда будет расправляться с преступниками. Действительно, кое-где такие полицейские организации возникли и даже начали делать свое дело. Однако очень быстро объектом их репрессий стали не столько уголовные преступники, сколько прогрессивные политические лидеры. Это вызвало слишком сильное возмущение в стране, и организации прикрыли, наложив на их членов строгие взыскания — до трех суток домашнего ареста!
Что касается студентов, то они активно участвовали во всей этой неразберихе, устраивая демонстрации, митинги, сидячие блокады посольств и консульств, расклеивали плакаты, раздавали листовки. И столько там высказывалось мнений, суждений, предложений, возражений, сколько в университете было студенческих групп, обществ, организаций и союзов, то есть десятки.
В стены консульств и муниципалитета летели «бомбы» — пластиковые мешочки с краской, яйца. Иногда горели перевернутые автомобили, участились схватки с полицией, аресты «вожаков». Адвокатская контора «Франжье и сын» процветала. У Ара и Гудрун прибавилось работы, и это стало их раздражать.
Вот тогда-то и состоялся у Ара надолго запомнившийся ему разговор с Эстебаном.
Как всегда, они встретились в спортзале, хотя в последнее время Ар посещал его все реже и реже — он уже понял, что против пистолета бессильны самые совершенные приемы каратэ.
Моросил мелкий дождь, осенние тучи затянули небо, дул пронизывающий ветер. В этот субботний день было мало прохожих, и те торопились добраться до дома. Да еще одинокие фигуры с собаками на поводке, прогуливавшие своих питомцев.
Было тихо, лишь откуда-то издалека доносились городские шумы, к которым городские жители давно привыкли.
Ар — высокий, широкоплечий, в светлом плаще с поднятым воротником, со сверкавшими дождинками в светлых волосах, и по контрасту с ним невысокий, коренастый, черноволосый и черноглазый Эстебан.
Насколько далеко разбежались дороги этих некогда близких друзей, знали разве что они сами, да и то вряд ли.
Ар внешне был все тот же молодой красивый плейбой, баловень женщин, кумир товарищей. И нужно было очень хорошо его знать, чтобы по углубившимся складкам в уголках рта, лишним морщинам на переносице, по возникавшей порой лихорадочной вспышке в глазах почувствовать в нем горькие внутренние перемены.
Эстебан шел молча, сосредоточенно глядя под ноги, словно готовясь к решительному разговору.
Он и готовился к нему.
Чувствуя это, Ар нервничал.
Наконец Эстебан вздохнул, словно человек, собравшийся нырнуть в холодную речку, и сказал:
— Слушай, Ар, мы когда-то были друзьями… Не перебивай! Именно были. Сейчас этого давно нет, женщина перебежала дорогу. — Он усмехнулся. — Обычное дело. Но Гудрун не баба в том смысле, в котором мы привыкли понимать. Не лезу в ваши интимные отношения, но для меня она прежде всего идейный противник. Да, да, не смейся! Она и ее дружки. Если б она женила тебя на себе — дай вам бог счастья, но дело в том, что она прибрала тебя к рукам как единомышленника, сообщника, если хочешь. Если бы, к примеру, девушка, которая нам обоим понравилась, предпочла бы тебя, я бы не смог протестовать: ты ведь у нас признанный красавец, с тобой трудно тягаться. А вот то, что ты за ней пошел, а не за нами, это жаль, с этим трудно примириться…
Эстебан замолчал.
— По-моему, ты перемудрил, — покачал головой Ар. — Гудрун прекрасный товарищ. Помимо иных отношений, нас связывает с ней дружба, она неглупа, добра, готова всем помочь… Она так же, как я и, кстати, как и ты и твои коммунисты, ненавидит существующий строй, капиталистов. Она была против грязной войны во Вьетнаме. Она говорит: «Лучше сжечь магазин, чем владеть им». Разве это не соответствует твоим взглядам?
— Да нет, — усмехнулся Эстебан. — Не соответствует. Жечь магазины не лучший путь чего-нибудь добиться. А что еще говорит твоя Гудрун? Не знаешь? Так я тебе скажу. Например: «Все, что способствует политической неуравновешенности в стране, служит нашим интересам». Тебе это ничего не напоминает? Нет? Ну, тогда почитай, о чем писали реакционные газеты в Чили или в Турции накануне известных событий. «На нас нападают, мы вынуждены обороняться!» Кто так говорит? Твоя Гудрун. А знаешь, что было сказано в письме, которое получило в свое время германское телеграфное агентство? «Тот, кто не будет защищаться, тот умрет. Пора начать вооруженное сопротивление. Создадим Красную армию!» И создали в Западной Германии «Фракцию Красной армии». Что это террористическая организация чистейшей воды, я надеюсь, ты не будешь отрицать?
— И что назвать эту банду подонков Красной армией — кощунство? — Эстебан остановился и повернулся к Ару. — Ты думаешь, ваша «Армия справедливости» на много лучше?
Ар вздрогнул.
— О чем ты говоришь?! — возмутился он. — Какая «Армия справедливости»? При чем тут я? И Гудрун?
— Слушай, — примирительно заговорил Эстебан. — Я же не утверждаю, что вы входите в эту бандитскую организацию. Просто мне кажется, что Гудрун близка к ней… Не спрашивай! Есть у меня основания так думать. А все, что относится к Гудрун, относится и к тебе. Так вот что я тебе скажу: вы плохо кончите…
— Это еще вопрос, кто плохо кончит, — перебил Ар, — когда-нибудь полицейские прикончат тебя на твоем митинге.
— Вот-вот, — продолжал Эстебан. — Вот этого ты никак не можешь понять. Меня прикончат во имя правого дела, ясного, благородного дела. А тебя за совершение преступлений. Да! Да! Не возмущайся. Если же вы своего добьетесь и придете к власти, то это будет еще большей гнусностью. Потому что это будет второй фашизм. Уж тут террор станет государственной нормой. Посмотри на страны, где под предлогом борьбы с беспорядками и дестабилизацией установили так называемый «твердый порядок». Что это? Это тот же террор, только теперь им занимается правительство.
— Ты так говоришь, словно уже доказано, что я командую «Армией справедливости», а Гудрун у меня по меньшей мере начальник штаба. — Ар иронически покачал головой. — До этого пока еще не дошло, представь себе.
— Дойдет, дойдет, — печально заметил Эстебан. — И боюсь, что скоро. — Он вдруг остановился и посмотрел Ару прямо в глаза. — Слушай, мы ведь были друзьями. Ну поверь мне хоть раз. Отойди от всего этого. Не хватает сил — уезжай. Совратят они тебя, если уже не совратили. Поверь мне хоть раз.
— Перестань, Эстебан, — Ар не на шутку рассердился, — не каркай. Я не изменился. И у меня своя голова на плечах. Я прекрасно знаю, когда Гудрун права, когда нет. И между прочим, знаю, когда прав и когда не прав ты. Так что разберусь. Это вы с Гудрун воюете за одно дело, а стоите на противоположных позициях. Я же стою посредине…
— Да не стоишь ты, — жестко сказал Эстебан, — а сидишь. Между двух стульев. В такой позиции легче всего шлепнуться на пол. Так что смотри…
— Нечего мне смотреть! И хватит меня учить. Я не ребенок. Если ты и твои красные друзья боитесь нажать на спуск и пожертвовать жизнью, то есть такие, кто не боится.
— Когда надо было, мои «красные друзья» и стреляли и погибали. Было во имя чего. А вот во имя чего погибнет твоя Гудрун, и ее «коричневые друзья», и ты заодно, если не возьмешься за ум, неизвестно. Не хватает силенок идти с нами, наберись сил хоть не идти с ними. Последний раз тебя предупреждаю, Ар. Как друг.
— Плевать я хотел на твои предупреждения! — окончательно взорвался Ар и неожиданно тихо добавил: — Да и запоздали они. Прощай, Эстебан.
— Прощай, Ар.
Так они расстались на углу старой улочки под мелким холодным дождем.
Но им доведется проститься еще раз при иных, совсем иных — трагических — обстоятельствах…
Ар все стоял, провожая глазами своего бывшего друга. Невысокий, коренастый, тот шел твердой, уверенной походкой, не оглядываясь, высоко подняв голову, не обращая внимания на усилившийся дождь.
И Ару почему-то представилась в этот момент не хмурая улица, залитая дождем, не торопящиеся прохожие, не широкая, все уменьшающаяся спина Эстебана, а совсем другая, однажды виденная им картина: залитая солнцем площадь, ярко одетая толпа молодежи, да и не только молодежи.
Девчонки в джинсах и цветных блузках, женщины, толкавшие коляски с детьми, парни, среди которых были и белые, и желтые, и черные — те, кто приехал из своих заморских стран, надеясь отыскать в их городе приличную работу, а нашел лишь тяжкий труд за гроши, пренебрежение, презрение к их цвету кожи, к их «возмутительным претензиям», чтоб их тоже считали полноценными людьми.
Шли и пожилые, иные опираясь на костыли или на палки.
Но в большинстве молодежь.
Они несли множество плакатов, знамен, лозунгов.
И в первых рядах Ар видел Эстебана таким, каким он его запомнил тогда, в тот солнечный голубой день, на той широкой светлой улице, впереди этой огромной, яркой, грозной массы людей, ведущего ее за собой…
Настроение у Ара было отвратительным — неужели Эстебан догадывается, что он вступил в «Армию справедливости» или даже что он участвовал в убийстве профессора Дрона? Нет, этого не может быть! Иначе он бы с ним вообще не стал разговаривать. И все же не страх был главным. Гораздо важнее, что он потерял друга, лучшего, а быть может, единственного настоящего друга.
И, как всегда в таких случаях, он заторопился увидеть Гудрун.
Они теперь снимали небольшую квартирку на последнем этаже пятиэтажного дома. Здесь они встречались с друзьями и засиживались, беседуя, за полночь. Иногда к ним среди ночи или на заре стучался в дверь (звонка не было — Гудрун не любила звонков) какой-нибудь неизвестный человек. Он называл пароль, и они впускали его на день-два-три. Кормили, переодевали, а бывало, что лечили легкую огнестрельную рану. Разговаривали мало. Эти недолгие жильцы склонностью к болтовне не отличались. К тому же некоторые плохо знали язык — они явно были из иных краев.
Люди эти возникали словно из небытия и в небытие уходили. И порой Ар и Гудрун удивлялись, как могли эти люди вести такую жизнь. Им обоим тогда и в голову не приходило, что настанет время и так будут жить они сами…
Как-то вечером их удостоил визитом сам «шеф» Франжье. Он пришел не один, с ним была незнакомая женщина. В выцветших джинсах, в старом, не первой свежести свитере и сандалиях на босу ногу, она выглядела весьма странно рядом с щеголеватым, элегантным Франжье.
— Знакомьтесь, это Рика, моя невеста, — сообщил Франжье и громко рассмеялся. «Невеста» улыбнулась, видимо, это была его дежурная шутка.
При ближайшем рассмотрении Рика оказалась очень красивой женщиной, приветливой, остроумной, всегда готовой пошутить и принять шутку.
Не без удивления они обнаружили, что в ушах у нее бриллиантовые серьги, на руках бриллиантовые кольца, а на шее украшенный бриллиантами изящный золотой крест.
— Как устроились, голубки? — весело поинтересовался Франжье, цепким быстрым взглядом внимательно оглядывая комнату.
— Какие же это голуби! — воскликнула Рика. — Это орлы.
— Что правда, то правда, — согласился Франжье.
Ар и Гудрун молчали. Они ждали, когда наконец прояснится причина внезапного визита. Франжье болтал о том о сем, нетерпеливо поглядывая на часы. Через несколько минут раздался стук в дверь, и появилась Зебра. Ее легкая блузка была застегнута на единственную пуговицу, карман оторван, волосы растрепаны. Казалось, она только что вырвалась из уличной потасовки. Но никто не удивился — у Зебры частенько бывал такой вид.
— Ну вот, друзья, все участники операции собрались. Можно начинать совещание.
— Какой операции? — спросил Ар.
Глава V Славные дела «Армии справедливости»
Я спросил его:
— Какой операции?
Я хорошо запомнил тот день. Может быть, потому, что он был с утра таким спокойным, солнечным и тихим. А спокойных дней стало выпадать на мою долю все меньше и меньше.
Встали поздно. Гудрун варила кофе на кухне. Это она умеет делать великолепно. Хоть на что-то пригодилось ее мелкобуржуазное воспитание, от которого она теперь так отчаянно открещивается. Готовит она очень хорошо — особенно блинчики с вареньем, с медом или с сахарной пудрой. Ах, какие блинчики, пальчики оближешь! Впрочем, когда пальцы пахнут порохом, то такое желание пропадает. А в те дни у меня они чаще пахли порохом, чем медом. Вот так-то.
Я стал очень старательно заниматься по утрам гимнастикой. Наверное, потому, что реже стал ходить в спортзал. Ну что там делать? Совершенствоваться в каратэ? Каратэ, конечно, может пригодиться, но, когда больше имеешь дело с пистолетом, лучше научиться как следует стрелять. Гимнастикой я занимаюсь каждое утро исправно. Приобрел целую аппаратуру. Гудрун это поощряет. Иной раз она садится, закинув ногу на ногу, курит и с удовольствием наблюдает, как я, обливаясь потом, качаю гантели, растягиваю эспандеры, отжимаюсь.
Сама она, сколько ее помню, зарядку не делала, между тем мускулы у нее железные. Иной раз так обнимет, что у меня кости трещат, а я, как вы знаете, отнюдь не слабак.
Если уж хотите, чтоб я с вами был совершенно откровенным, то признаюсь — перестал я посещать спортзал из-за Эстебана. У нас были одни и те же часы тренировок, только боксеры тренировались в нижнем зале, а мы в верхнем. И всякий раз так получалось, что домой мы возвращались вместе. Вот это меня тяготило. А после одного разговора я вообще перешел в другую группу, потому что разговаривать с Эстебаном мне стало невмоготу. Я начал избегать его, да он, надо признаться, мне и не навязывался.
Плохой это был разговор. Дурацкая манера у Эстебана — говорить то, что думает. Вот он и сказал мне, что давно мы уже перестали быть друзьями, что мой единственный друг теперь Гудрун и что он об этом очень сожалеет, потому что она стерва и до добра наша дружба с ней меня (да и ее) не доведет. Ну, может быть, он не совсем так выражался, поделикатней, но смысл был такой.
Я, конечно, возражал. А потом долго размышлял над его словами. Странно: мы стремимся вроде бы к одной цели, но их уважают, а нас нет. Ведь и мы и они против капитализма, против атомной бомбы, против «грязной» войны, за равенство, за свободу. И мы и они. Сначала я думал, что расхождение наше в методах. Они все делают (это я только вам признаюсь, по секрету) чисто как-то, честно. Говорят то, что думают, и делают то, о чем говорят. А мы?
А мы, во-первых, не говорим, а орем, во-вторых, делаем совсем не то, что проповедуем. Мы против войны, а льем кровь, мы против капиталистов, а кто же тогда Франжье? Мы против атомной бомбы, но лозунги-то у нас реваншистские, а что такое реванш, как не война? Когда я слишком долго размышлял обо всем этом, я шел к Гудрун. Она, как всегда, успокаивала меня. Действительно, невозможно справиться со всей этой империалистической верхушкой с помощью пустой болтовни. Революция бескровной не бывает. Так зачем ждать, пока «созреют массы»? Разве нельзя этому созреванию помочь, проложить, так сказать, к нему путь бомбами и пулями? Если, как утверждает Гудрун, да и Франжье, собственность — это кража, то владелец этой собственности — вор. А воров полагается наказывать. Между прочим, и смертью.
Вы, конечно, скажете, что наказанию предшествует приговор, который выносит суд. Кто же судьи? Да мы же и судьи!
С другой стороны, если каждый будет сам себе и следователь и судья, могу себе представить, что начнется. Ого-го!
Да, не было у меня в голове ясности. Это теперь, когда я создаю эти «мемуары», мне все ясно и понятно. А тогда такая путаница была в голове, такая каша, что иной раз хотелось куда-нибудь уехать подальше — в Африку, что ли, или в Австралию. Вот Эстебан так и сказал мне: «Не хватает сил — уезжай». Надо было его послушаться, уехать подальше и пробыть там подольше. Но как раз на это сил и не хватало.
Трудные были тогда для меня времена. И хотя я изображал из себя «главу семьи» (а Гудрун поддерживала эту игру), но в общем-то она мне помогла пройти тот кусок моего, теперь я это понимаю, никчемного жизненного пути (уж лучше бы не помогала!).
Мы вели тогда странный и смутный образ жизни. Половину дня проводили в конторе у шефа. И, честно говоря, не всегда задания, которые я получал от знаменитого адвоката, были связаны с защитой его клиентов. Ну, хоть такое.
Однажды мне и еще одному студенту нашего курса, тоже подрабатывавшему в конторе, поручили разыскать и привезти к шефу важную свидетельницу. Франжье предупредил, что женщина эта неврастеничка, всего боится и в свидетели идти не хочет. Но если он с ней поговорит, то сумеет переубедить. Важно только доставить ее к нему без лишнего шума. Поэтому лучше привезти ее к нему не домой, не в контору, а на его загородную виллу (я тогда впервые узнал, что у Франжье, идейного борца против личной собственности, имеется загородная вилла, даже две, как я потом выяснил).
Словом, подъехали мы с этим желторотым студентом к маленькому домику, который нам указал Франжье (начертил план на бумажке). Студент остался в машине, а я позвонил в дверь. Открыла средних лет неприметная женщина в фартуке, в резиновых перчатках (что-то делала по хозяйству).
— Вы, — говорю, — госпожа такая-то?
— Я.
— Вас просит приехать к нему господин адвокат. Это ненадолго.
— Какой адвокат? — удивляется она. (А меня шеф предупредил, что она будет играть комедию, мол, ничего не знаю, ничего не ведаю.)
Я говорю ей:
— Прошу вас, не упрямьтесь, это ради вашего же блага, поедемте. (В точности выполняю все инструкции шефа.)
— Уходите! Я ничего не понимаю. Несете какую-то чепуху. Вы, наверное, пьяны. Уходите. А то позову полицию.
Тогда я заталкиваю ее в дом, вынимаю из кармана компресс с какой-то дрянью и крепко прижимаю к ее лицу. (Странный, конечно, способ обращения со свидетелями, но раз так приказал шеф…)
Она чуть подрыгалась и замерла.
Тащу в машину, благо район пустынный, и мы с моим трясущимся с непривычки подручным отвозим ее на виллу, в сотне километров от города. Нас ждет Франжье и еще какой-то бородатый тип в очках, которого я раньше не видел. Вношу «свидетельницу» в дом, тащу в подвал (Франжье указывает дорогу). Там комната (для прислуги, что ли?) без окон, как бомбоубежище. Стол, кровать, стул, гардероб, умывальник. Кладу женщину на кровать.
— Все? — спрашиваю Франжье.
— Все, — отвечает. — Уж я с ней найду общий язык. Мой клиент будет доволен.
И я уезжаю.
А потом узнаю, что главный свидетель обвинения на процессе, в котором участвовал Франжье, неожиданно отказался от всех своих показаний и подзащитного нашего шефа оправдали за недостатком улик.
Ну, оправдали так оправдали, ничего особенного — мой шеф удачливый, он и не такие процессы выигрывал.
Только вот как-то случайно попалась мне на глаза газета с материалами, посвященными тому процессу (в свое время о нем много писали). На одной из бесчисленных газетных фотографий изображен главный свидетель обвинения, тот самый, что так внезапно и необъяснимо отказался от всех своих показаний. Фоторепортер снял его на пороге его дома вместе с женой. Я сразу узнал и дом и жену. Только на фото она без фартука и резиновых перчаток, а в шляпке и меховом жакете. Но я-то ее сразу узнал. Все ясно. Я б на его месте тоже отказался от показаний. Жена как-никак… Какая все же свинья мой дорогой шеф. Мог бы посоветовать мне хоть темные очки надеть. И тут я вспоминаю, что он таки посоветовал мне это. Только я пренебрег его советом.
Эх, если б я так поступал со всеми другими его советами… Почему мы все так крепки задним умом, а? Почему, я вас спрашиваю.
Впрочем, разве все честные, порядочные, законопослушные и благополучные поймут меня? Как же! Дурак, скажут, сам виноват. И будут правы.
Однако вернемся к нашим баранам (как говорят французы), то есть опять же ко мне (извините за неважный каламбур). Значит, мы с Гудрун аккуратно работали в процветающей адвокатской конторе «Франжье и сын», ходили на лекции, участвовали в студенческих демонстрациях и митингах.
Мне показалось, что студенты стали в то время более агрессивными, какими-то нервными, что ли. Не все, конечно, но многие. Может, потому, что больше употребляли героин, ЛСД, марихуану и другие наркотики, а может, потому, что в студенческих газетках стало появляться все больше призывов к применению «контрнасилия». В одной из них некая журналистка по имени Рика, довольно знаменитая, по крайней мере, я ее часто читал, та, что призывала считать полицейских мишенями, так и писала: «На своем долгом и горьком опыте студенты познали наконец, что ничего не достигнут, если будут спокойными и корректными, и что надо быть шумными и беспощадными».
Она еще не то писала, эта журналистка. Я представлял ее себе вроде Зебры — этакой истеричной Эгерией с ножом в зубах и автоматом в руках.
А потому был немало удивлен, когда к нам в гости явился сам господин Франжье с дамой, которую представил как свою невесту, назвав Рикой. Может быть, это другая Рика, подумал я, но оказалась та самая. И оказалась совсем другой, чем я представлял.
Одета, правда, вроде моей Гудрун, но вся в бриллиантах. И вообще видно — интеллектуалка! Веселая, симпатичная, она мне сразу понравилась. Шефу она, конечно, не невеста, но ровня. Он к ней относился с подчеркнутым уважением.
Посидели, поболтали. Вдруг заваливается Зебра, как всегда, взлохмаченная, словно кошка, которую окунули в ванну и вынули для просушки.
Шеф сообщил, что предстоит «операция». Вот тут я и поинтересовался — какая же?
— Скажи, — спрашивает меня Рика, — когда ты приходишь в магазин, тебя не возмущает изобилие вещей? Ну, которые тебя там окружают? И которые ты не можешь купить?
— Я по магазинам не хожу, — говорю.
— А меня возмущает! — сразу, конечно, подключается моя Гудрун. — И магазин — это лишь символ. Таково все наше общество потребления!
— Правильно, — подхватывает Рика. — Изобилие мещанских вещей и мещанских идей. Народ приобрести эти вещи не может — за них надо платить. А идеи бесплатны. Сколько можно терпеть все это!
— Надо жечь и уничтожать оружие господствующего класса. И это магазинное изобилие — тоже оружие.
— Оно недостойно нашего времени…
И пошли, и поехали! Мы с Франжье молчим. Зебра тоже. Жует жвачку. В такие минуты она действительно похожа на лошадь. Вернее, на корову. Но это бодливая корова, и рогов у нее бог, вопреки пословице, не отнял.
Короче говоря, выясняется, что «Армия справедливости» решила провести «операцию» по поджогу одного из крупнейших в городе магазинов «Два квартала», и поручено это нам — мне, Гудрун и Зебре. А штабное, так сказать, руководство (с почтительного расстояния) осуществляют Франжье и Рика. И вот они пришли посоветоваться.
Через минуту выясняется, что советоваться нечего. Они настолько тщательно все продумали, что остается только исполнять.
На следующий день отправляемся в магазин — в эту «империалистическую крепость имущества потребления», по выражению Гудрун.
Мы ходим по его десяти этажам, мимо бесчисленных прилавков, стеллажей, витрин, где лежит, висит, стоит «имущество потребления».
Народу тьма — дамы среднего достатка, озабоченные мужчины, старухи и старики, мамы с детьми, молодежь. Смотрят и изучают, но покупают мало.
Мы в джинсах и свитерах. Таких здесь много. По эскалатору поднимаемся с этажа на этаж, высматриваем удобные для проведения «операции» места. Отдел одежды. Здесь все просматривается. Снимаю с вешалки плащ, захожу в примерочную кабинку. Она маленькая, после закрытия ее наверняка убирают, тут сумки не оставишь — сразу заметят.
Поднимаемся в отдел «Белье — рубашки». Здесь нет даже примерочных кабинок. «Косметика», «Сувениры», «Игрушки» — слишком много продавщиц.
Наконец добираемся до девятого этажа — «Мебель». Все заставлено гарнитурами, диванами, столами, кроватями, креслами… Продавцов не видно. Ну, кто в наше время покупает в универсальном магазине мебель?
Гудрун даже смеется над таким предположением. Все втроем валимся на кровать, пробуем мягкость пружин, садимся в кресла-качалки. Зебра открывает летний бар, дурачится, изображает, что пьет, что напилась, незаметно выдавливает стекло в шкафу, отламывает ручку. Мы хохочем.
Никакого внимания. Впечатление такое, что на всем этаже ни одного человека — ни покупателя, ни продавца. Крепость без гарнизона!
Еще через день вновь приходим в магазин. За двадцать минут до закрытия — «Два квартала» закрывается в семь. На этот раз я тащу фирменный полиэтиленовый пакет, в который кладут продукты в продовольственном отделе. Тяжелый, черт.
Если б продавцы знали, какие в моем пакете продукты!..
Меня сопровождает Зебра. В сумке у нее пистолет. На всякий случай. На какой?
Магазин почти опустел. Продавцы нетерпеливо поглядывают на часы. Некоторые незаметно начинают набрасывать на прилавки брезентовые покрывала. Наше появление восторга не вызывает — приперлись, когда пора закрывать!
Мы быстро поднимаемся в мебельный отдел, находим какой-то глухой тупик между старинной столовой и современным кабинетом, и, пока Зебра смотрит по сторонам, я засовываю свой пакет в глубину нижних полок книжного шкафа. Зебра кашляет, я мгновенно покидаю тупик и нос к носу сталкиваюсь с продавцом. Он подозрительно разглядывает нас — не украли ли мы, например, обеденного стола.
Зебра ему так и говорит:
— Чего смотришь, думаешь, обеденный стол украли? Не бойся, ваш отдел небось единственный в магазине, где не воруют.
Продавец хочет что-то сказать, но передумывает, наверное, решает, что перед самым закрытием не стоит связываться, еще придется задержаться. Он поворачивается к нам спиной, Зебра показывает ему вслед язык, и мы бегом спускаемся по уже не работающему эскалатору. Верещит звонок, возвещая о закрытии магазина.
С поразительной быстротой продавцы накрывают все чехлами и исчезают, начинает гаснуть свет. Буквально через три минуты, когда мы подходим к запасным дверям, в которые выпускают последних запоздалых посетителей (вроде нас), гигантское помещение словно вымерло.
У дверей уже ждут ночные охранники с собаками. Идите, идите, друзья, сегодня вам не удастся выспаться на дежурстве, уж поверьте мне.
На улице нас ждет Гудрун. Она справилась раньше, оставив свой пакет в отделе спорттоваров, под резиновой лодкой.
Удивительное дело! Небось войди мы в магазин с пустыми руками, а выйди с пакетами, никто бы ничего не сказал — это нормально для магазина. А вот нормально ли войти с пакетами, а выйти без них? Но этого никто не заметил.
Мы отправляемся в ближайший ночной бар и задерживаемся там надолго.
Что происходит дальше? Не знаете? Не читали в газетах? Напомню.
Около полуночи в пожарную часть звонит дежурный из расположенного напротив магазина таксопарка. Он сообщает, что в окнах девятого этажа «Двух кварталов», по его мнению, виден подозрительный свет. Потом звонят еще два-три человека — горит и пятый этаж, на котором расположен отдел спорттоваров. Почти сразу же звонят ночные охранники магазина. Все они трезвонят в пожарную часть. И через несколько минут с воем сирен по городу мчатся красные машины.
Почти в это же время в ночную редакцию телеграфного агентства раздается звонок, и четкий женский голос, как сообщают наутро газеты, заявляет: «Сейчас загорится магазин "Два квартала". Это акт политической мести. Мы не уничтожаем людей — мы уничтожаем богатства гнилого общества потребления». (Эту фразу Гудрун придумала сама.)
Вместе с другими посетителями бара идем смотреть на пожар. Языки пламени вздымаются к ночному небу, искры летят во все стороны, струи воды полосуют мрак. Воют сирены, ревут моторы, кричат полицейские и пожарные. Красота!
Все-таки мы молодцы!
Молодцы, да не очень. У нас хватает ума сообразить, что пора смываться. Я звоню Франжье в два часа ночи. К телефону подходит Рика. Я спрашиваю, что делать. Она в ярости: «Не смей звонить, болван, отправляйтесь, как договорились, по первому адресу», — и бросает трубку.
Мы залезаем в «фиат» Гудрун и мчимся по указанному адресу (Франжье дал нам их три на случай бегства). Так вот, бежать мы догадались, а ехать без превышения скорости — нет. И нас задерживает в двух шагах от спасительного убежища патруль дорожной полиции за нарушение (мы к тому же проехали на красный свет, но какое это имеет значение в два часа ночи, когда кругом ни одной машины, ни одного пешехода?).
Гудрун вылезает из машины. Но от возбуждения после удачно проведенной «операции» мы так накачались в этом баре, что она еле держится на ногах. Мы с Зеброй в не лучшем виде. К тому же эта дура начинает орать, оскорблять полицейских и даже пытается укусить одного из них за нос. Зебра заработала оплеуху, и всех нас забрали в полицию.
Хотя забрали нас вроде бы за нарушение правил дорожного движения, но все равно полагается обыскивать. Тем более что эта дура Зебра вела себя с полицейскими по-хамски. И тогда на свет извлекается из ее сумочки пистолет, у меня из кармана запасной плексигласовый пакет магазина «Два квартала», а из кармана Гудрун ключ, с помощью которого она включила взрывной механизм замедленного действия своей бомбы.
К тому времени уже все полицейские комиссариаты знают о поджоге и ищут преступников, то есть нас.
Прямо ночью поднимают с постели продавцов и, заспанных, привозят в полицию.
Начинается опознание. Мерзкая процедура.
Продавщицы сразу узнают Гудрун. Прибывший на место Франжье (он, разумеется, взялся осуществлять нашу защиту) возражает, что в тот час Гудрун была единственная покупательница в брюках и потому ее нетрудно запомнить. Но продавщицы в один голос вопят, что они запомнили ее по прическе, по глазам, по «лихорадочному поведению». Меня и Зебру сразу же признал тот продавец из мебельного отдела, которому она нахамила.
Короче говоря, нас сажают в тюрьму, и начинается подробное следствие.
Гудрун как-то сразу успокоилась — она вяжет мне свитер и слушает музыку. Я читаю Маркузе, «Майн кампф» Гитлера, книги по юриспруденции.
Маркузе пишет, что рабочие больше не являются потенциальной революционной силой, а вот студенты «представляют наиболее передовой уровень сознательности человечества», и потому они должны повести на совершение революции «сверхэксплуатируемую» силу общества, слишком невежественную и беспомощную, чтобы реагировать самой. Враг же известен — это «порядок, установленный индустриально высокоразвитым обществом». Не знаю, правильно ли это, но мне нравится… Через книги, которые раньше не читал, я открываю для себя мир, о котором не имел представления. Мне говорят, и я начинаю думать, что насилие абстрактно не существует. Всякое насилие — это ответ на насилие. Что такое полицейский, для чего он существует? Чтобы совершать насилие надо мной, а если прикажут — уничтожить меня. Поэтому, если я уничтожу его, это будет актом самообороны. Кто-то из английских философов, Бекон кажется, сказал: «Делайте людям то, поступайте с ними так, как они поступили бы с вами, но делайте это раньше них». Очень мудро. И у меня возникает отчаянное, ни с чем не сравнимое, бешеное желание оказаться на свободе, жить и поступать, как хочу, а не так, как хочет это надутое, самодовольное, богатое общество, которое присвоило себе право диктовать мне свои условия!
Короче, я принимаю решение бежать. В тюрьме между камерами нет телефона. Во всяком случае, у нас. Хотя говорят, что те, кто украл не гроши, а миллионы, живут в камерах получше, чем в иных отелях. Но не мы. Телефонов у нас нет, но связь есть. Тем более что у нас, у всех троих, один адвокат — Франжье. Он навещает нас почти ежедневно — готовит план защиты. Так, по крайней мере, все думают. Но он готовит план побега.
Весь план покоится на глупости и доверчивости тюремных властей. Я позже много раз задавался вопросом: как получилось, что в нашей стране, где подозрительность тюремного начальства может сравниться только с его жестокостью (уж мне можете поверить), оно в то же время бывает крайне доверчиво, а в чем-то даже гуманно? Но потом сообразил, что никакого противоречия здесь нет. Просто жестокость и подозрительность оно проявляет к одним, а наивно и гуманно ведет себя с другими.
Еще когда нас задержали, полицейские намяли нам бока и вообще не церемонились. Но, когда выяснилось, что мы «политические», но не коммунисты, а, как они нас называли, «праваки», отношение сразу изменилось. Порой у меня создавалось впечатление, что они нас даже побаиваются, как бы смутно опасаются, что придет наш час и, в случае чего, мы им все припомним.
Через посредство нашего адвоката одно довольно солидное издательство заказало нам с Гудрун брошюру на тему «Юридические права студенчества в борьбе за свою автономию». Для того чтобы написать этот труд, нам необходимо работать в библиотеке Научно-исследовательского юридического института. Выясняется, что и институт заинтересован в этой работе. Учитывая ходатайства издательства и института, а также то, что следствие затягивается (и соответственно наше предварительное заключение) и что вина наша пока не доказана, администрация тюрьмы дает согласие.
И нас с Гудрун начинают ежедневно возить — правда, в наручниках — в читальный зал института. Там рядом с большим залом есть маленький — всего два стола и шкафы с каталогами. Из этого зала одна дверь ведет в холл (в него ведут и все другие двери читальни), а другая — из холла на улицу. Но если пройти в библиографический кабинет, то можно попасть во двор (проходной).
Читальня открывается в девять часов, а библиографический кабинет и малый зал с каталогами в восемь. Поэтому основной народ приходит незадолго до открытия, чтобы занять места получше в большом зале, и лишь немногие приходят к восьми. К этому часу привозят и нас, сажают в маленькую комнату. Полицейские, с которыми мы сцеплены наручниками, отпирают их, садятся за второй свободный стол и листают какие-нибудь журналы.
В день X, едва мы начали работать, в комнату входит Рика в парике, в темных очках, я едва узнал ее. Она оглядывается, ища место, и в конце концов садится за стол полицейских, попросив их подвинуться. Минут через десять появляются еще две девицы в очках и начинают смотреть каталоги.
Сначала мне становится смешно — я чувствую себя на съемках детективного фильма, и притом не из лучших. Эти парики, наручники, темные очки…
Но постепенно меня охватывает волнение. Да нет, это не детективный фильм, это жизнь. И смерть, между прочим, тоже. Я чувствую, что Гудрун вся в напряжении.
Дальнейшие события застают нас врасплох. Внезапно дверь распахивается, и на пороге появляется человек в маске с пистолетом в руке. В то же мгновенье Рика молниеносным и поразительно сильным для столь изящной женщины движением опрокидывает на полицейских стол, и те шлепаются на пол в нелепых позах, а на них сыплются журналы, книги, подшивки газет.
Мы с Гудрун приходим в себя и выскакиваем в холл. Рика за нами. Обе девушки, возившиеся возле каталогов, изображают панику. Они неловко топчутся в дверях, загораживая нас от полицейских, стрелять те не могут, так как рискуют попасть в этих, не вовремя подвернувшихся растерянных девиц.
Мы быстро минуем пустынный холл, влетаем в библиографический кабинет, устремляемся к двери во двор. Путь нам преграждает какой-то старикан в старомодном пенсне. «В чем дело, куда вы?» — кричит он фальцетом. Человек в маске, не останавливаясь, стреляет в него. Старик падает, девушки-библиографы визжат, хлопают двери, слышны крики… Мы выскакиваем во двор, там стоит большой черный «ситроен» с заведенным мотором. Мы ныряем в него, и машина через проходной двор выезжает на параллельную улицу и вливается в поток движения.
Мы с Гудрун и Рикой высаживаемся у тихого дома на окраине. Человек в маске, которую он так и не снял, и сидевший за рулем парень, лица которого я не разглядел, продолжают путь. Больше я их никогда не встречал.
Забегая вперед, скажу, что девушки, которые помогли нам «заклинить» полицейских, отделались легко, хоть их и вызывали на допрос, но обвинить ни в чем не могли. На их месте кто хочешь заметался бы, запаниковал…
Не так легко отделался старик библиограф: пуля угодила ему в печень — будет на всю жизнь инвалидом. Но, во-первых, пусть радуется, что в живых остался, во-вторых, пенсия по инвалидности больше, чем по старости, тоже хорошо, и, в-третьих, нечего изображать из себя героя, если тебе за шестьдесят.
Гудрун со своей дурацкой любовью к театральным эффектам, конечно, сразу же послала в газеты письмо, где, в частности, писала:
«Неужели полицейские псы действительно думают, что мы позволим бросить на два-три года в тюрьму наших товарищей? Неужели хоть один полицейский пес воображает, что развитие классовой борьбы, реорганизация пролетариата может происходить без того, чтобы мы одновременно вооружались? Мы будем сопротивляться с оружием в руках!»
«Армия справедливости»
Что касается Зебры, то она осталась в тюрьме, и мы ломали головы, как ее оттуда вытащить.
Вся эта история вызвала много шума в газетах. Писали об «обнаглевших анархистах», о «новом примере беспомощности полиции», о «необходимости, наконец, навести порядок». Сенсацией выглядело поведение известной журналистки Рики, доказавшей не только словом (в своих статьях), но и делом (участвует в нашем освобождении), что борьба «бунтарей» выходит за рамки полемических стычек и превращается в открытые вооруженные столкновения. Между прочим, ее поступок у многих вызвал сочувствие и даже восхищение — в основном у газет правого толка.
Все, что случилось тогда со мной, напоминало мне сцены из иных научно-фантастических романов: герой как бы движется в пространстве и времени и в то же время пребывает в неподвижности. Он и участвует в событиях и одновременно наблюдает их со стороны. Мне казалось, что я совсем мальчишка, школьник, студент. Меня увлекают школьные вечеринки, девчонки, еще какая-то ерунда. И в то же время я понимал, что стал опасным преступником, террористом, поджигателем и грабителем, похитителем, да и убийцей. Во всяком случае, соучастником убийства. Что обратного пути нет, что я должен уйти… да нет, уже ушел в подполье.
В жизни у всех у нас много рубежей. Минуем их один за другим. И не бывает возврата к прошлому. К хорошему ли, к плохому.
Вот и сейчас, когда я мысленно пишу эти свои «мемуары», я подошел к очередному рубежу. К какому? Ведь какой-то рубеж неизбежно станет последним… Но мы еще поговорим об этом. А тогда я ушел в подполье. И Гудрун и Рика. Сначала меня это напугало. Все же я занимался на юридическом факультете и имел кое-какое представление о возможностях современной полиции, об Интерполе, о трудностях и опасностях жизни вне закона.
Но потом я сказал себе: в нашей стране, во всей Европе, не говоря уж об Америке, Юго-Восточной Азии или Ближнем Востоке, в подполье живет, действует и процветает такое количество террористов, бандитов, уголовников, торговцев наркотиками, беглых банкротов, наемных убийц, разных мафиози и членов преступных синдикатов всех мастей и рангов, что они вполне могли бы составить население небольшой страны, уж не меньше Швейцарии, во всяком случае.
Это особый мир, особая страна. Здесь свои законы и правила, свои пути и столицы, сюда легко попасть, но почти невозможно отсюда выбраться. Здесь идут свои войны, и гибнут свои герои. Только здешний герой в той, нормальной, жизни преступник. Мир и антимир, вещество и антивещество (нет, я решительно переначитался фантастики!).
Во всяком случае, когда за спиной целая организация вроде «Армии справедливости», рассуждал я, нечего бояться. (Если б знал я тогда то, что знаю теперь, я боялся бы еще меньше.)
В общем, оказалось, что получить фальшивые паспорта не проблема, украсть машину тоже несложно, а уж найти квартиру, где спрятаться, тем более.
Потому что в нашем обществе всем на всех наплевать. Никто никого не интересует, если только из него нельзя извлечь выгоду. Воюет каждый за себя. Или все-таки нет? Вот помните, я говорил вам, что задумывался, почему таких, как Эстебан, уважают, а таких, как я, нет? Помните? Я еще подумал, что тут дело в методах. Но теперь-то я знаю, что в другом. Вот им не наплевать на всех, для них понятия счастья, свободы, перспектив конкретны и основываются на ясной и точной науке. Поэтому их борьба прицельна. А наша? А наш фундамент каков? Придет время, в конце этих моих душевных излияний я сам все скажу. А пока придется вам меня слушать. Не гоните коней. Мне, во всяком случае, спешить некуда…
Так о чем я рассуждал? Ах, да, о моем новом подпольном существовании.
В квартире, о которой я говорил, мы прожили недолго — дня два. Потом за нами заехал Франжье и увез в какой-то охотничий домик в горах, километрах в ста — ста двадцати от города, в стороне от шоссе, в глухом лесу, в долине. Кругом ни души.
— В случае чего вот, — сказал Франжье, пригласив нас на чердак и показывая на древние сундуки. Вокруг них валялся чуть ли не целый театральный реквизит — какие-то старинные торшеры, кресла, тумбочки — наверное, хозяин или хозяйка домика увлекались любительскими спектаклями. Франжье открыл один из сундуков. Ну и ну! Если вы думаете, что там лежали бархатные камзолы или туфли с пряжками, ошибаетесь. Там были вполне современные предметы — автоматы, гранаты, патроны, мины, пистолеты, был даже маленький миномет!
— Так что в случае чего есть чем встречать непрошеных гостей. А вот дорогих друзей будем встречать по-иному.
Тогда-то он и показал нам бар возле камина, замаскированный под книжный шкаф.
— Сегодня заедет еще один наш друг, так что вместе отметим ваше освобождение. Он привезет паспорта.
Потом мы с Гудрун отправились спать, а Франжье с Рикой продолжали о чем-то шептаться в гостиной.
Я задумался над мучившим меня вопросом: почему преуспевающая, даже знаменитая журналистка Рика, которой ничто не угрожало, вдруг пошла на эту авантюру с нашим спасением тогда в библиотеке? Ведь вместо нее туда могла прийти любая другая, вроде тех девушек, что «изучали каталоги». Я понимаю: ради нашего спасения она могла бы на это пойти, если нельзя было иначе. Но в том-то и дело, что вполне можно было без нее обойтись. Так почему?..
Загадка, тайна…
Нас разбудил Франжье, стучавший в дверь, да так громко, что Гудрун схватилась за револьвер — она с ним теперь не расстается. Играет, как маленькая.
— Эй, голубки, спускайтесь, стол накрыт, ждем…
Мы умылись холодной водой и спустились в столовую. Действительно, стол накрыт. Рика постаралась. Особенно по части бутылок — целая батарея.
А в углу у камина сидит тот самый дорогой друг. Курит трубку и рассматривает нас.
Мы же рассматриваем его.
Глава VI «Дорогой друг»
Они рассматривали друг друга внимательно и пытливо. Как впервые встретившиеся собаки — принюхивались. Чего ждать друг от друга, что сулит встреча?
Ар и Гудрун приостановились в дверях, гость продолжал неподвижно сидеть, попыхивая трубкой.
— Познакомьтесь, познакомьтесь! — воскликнул Франжье, подталкивая Ара и Гудрун к камину. — Это наш дорогой друг Рони Кратс…
— Для друзей просто Рони, — перебил гость. Он не спеша встал, переложил трубку в левую руку, протянул правую.
Рони был широкоплеч, невысок ростом, медлителен в движениях. На смуглом лице выделялись странные, какие-то белесые глаза, словно без зрачков, настолько они были светлые.
— А это Гудрун и Ар, наши боевые товарищи. Магазины — их работа, — продолжал представлять Франжье.
Наверное, «дорогой друг», как сразу же окрестил про себя вновь прибывшего Ар, был достоин всяческого доверия, если адвокат не скрывал от него ни «магазинную акцию», ни ее главных участников.
Все сели за стол. Наступила тишина.
— Молодцы, — заговорил наконец Рони, — хорошо сработали. Не боялись? — Он вдруг широко улыбнулся, обнажив ровный ряд крепких зубов.
Вопрос Ару не понравился.
— Чего бояться? Вы ж вот не побоялись с нами встречаться, а от нас всего можно ожидать.
Рони молча усмехнулся, Рика поморщилась — детская выходка. Франжье поспешил вмешаться:
— Не валяй дурака, Ар, Рони наш друг, повторяю, мы должны ему не только доверять, но и уважать его, запомни.
Итак, все встало на свои места. Рони, видимо, был начальством и для Франжье.
И только тогда Ар вдруг понял, что с самого начала поразило его в облике вновь прибывшего. Его одежда!
Рони — на вид ему можно было дать лет сорок — был одет как настоящий хиппи: вытертый джинсовый костюм, нелепые бусы на шее, потрепанные сандалии…
Костюм этот совершенно не вязался с лицом, да, пожалуй, и с возрастом Рони, с его аккуратным пробором в редких светлых волосах.
Очевидно, Рони разгадал мысли Ара — он встал, повернулся спиной, порылся в грязной, неопределенного цвета сумке, стоявшей возле его кресла, что-то достал оттуда, наклонился и повернулся снова. Теперь это был настоящий хиппи: окаймляющий парик (копна спутанных длинных волос, бакенбарды, густая борода) совершенно изменил его внешность.
Постояв так, он сдернул парик и весело рассмеялся. Ему вторили Рика и Франжье, заулыбались Гудрун и Ар.
— За знакомство! — воскликнула Рика, поднимая стакан с пивом.
Все дружно осушили свои.
— Расскажите, как было дело, — попросил Рони, — я имею в виду магазины.
Сначала неохотно и вяло, потом все более увлекаясь воспоминаниями, Ар начал рассказывать, а Гудрун добавляла подробности.
Закончив рассказ, они, улыбаясь, посмотрели на Рони. Но тот был серьезен. Его белесые глаза смотрели строго. Он заговорил неожиданно сухо и властно.
— Сработали здорово. Но ошибок наделали много. Слишком много даже для новичков. Мебельный отдел выбрали правильно. А зачем было хамить продавцу, чтоб запомнил? Отдел безлюдный, так почему пришли перед закрытием, когда народу совсем нет и вас легче припомнить? Ничего, — остановил он Ара, пытавшегося открыть рот, — ничего, думаете могли быть жертвы? Могли, что ж поделаешь, акция важней. Запомните, пусть лучше погибнет десяток случайных людей, чем один ваш товарищ. Запомните, — он повысил голос, — и впредь этим правилом руководствуйтесь. — Он снова помолчал, потом продолжал: — И незачем было возвращаться на пожар. И уж, конечно, непростительно напиваться в баре. Во время акций, до них и после категорически противопоказаны алкоголь и наркотики. Категорически! Пройдет день-два — пожалуйста. Из-за нарушения этого элементарного правила вы угодили в полицию, подвергли опасности свою жизнь и товарищей; пришлось проводить сложную дорогостоящую акцию по вашему освобождению. Запомните. Любая акция — это работа, ее надо делать тщательно, спокойно, квалифицированно, без эмоций и волнений, как чертеж, как деталь на станке. Как если ведете машину в тумане, по мокрой дороге. Сосредоточенно, внимательно, ни на секунду не отвлекаясь. Иначе врежетесь в столб и костей не соберете. Теперь проанализируем эпизод побега из библиотеки…
И ошеломленные Гудрун и Ар выслушали целую лекцию, из которой явствовало, во-первых, что Рони осведомлен обо всех их делах лучше, чем они сами, во-вторых, что он специалист высшего класса по проведению «акций».
— Ничего, мастерство приходит с тренировкой, — закончил свою речь Рони и улыбнулся, — это вам скажет любой спортсмен, а уж Ар — второй дан по каратэ — знает лучше других. Главное, чтоб были способности, а они налицо. Ведь и алмаз нуждается в шлифовке. За успех и удачу!
Он поднял свой стакан, другие последовали его примеру. В разговор вступила Рика, как всегда, весело, непринужденно. Постепенно заговорили о городских делах, о последнем футбольном матче, нашумевшем телефильме, о чем попало, лишь бы подальше от того, чем заняты были мысли.
Гудрун включила музыку. Потанцевали. Рони оказался веселым, остроумным собеседником; он рассказывал забавные истории, анекдоты, отлично танцевал, пил пиво вперемешку с виски и не пьянел. Его белесые странные глаза лучились добродушием.
Рика и Франжье весело смеялись. Ар захмелел. Все вылетело у него из головы — страх, тревога, неуверенность. Ему было хорошо. Вот он сидит в кругу друзей — веселых, надежных товарищей, настоящих, верных, и Гудрун тут, его подруга, влюбленная в него. Он молодец, он настоящий мужчина, смелый, искусный в тайной войне, бесстрашный и безжалостный. Он супермен, сверхчеловек, он полубог, он… Голова Ара туманилась все больше.
— Вот сейчас, — слышал он чей-то голос, доносившийся сквозь шум в ушах, — можешь расслабиться, сейчас. Только не во время акций…
Проснулся Ар, когда на дворе уже давно стоял тусклый осенний день. Во рту он ощущал невыносимую горечь, голова болела, тело ломило. Он никогда не был приверженцем алкоголя, не очень-то любил и не умел пить в таких дозах. Черт бы их всех побрал, и этого «дорогого друга», как его… Рони, и шефа, который притащил его сюда, и все эти дурацкие лекции. Что он о себе вообразил? Профессор! Магистр! Он, Ар, не мальчик, и нечего его учить! Учителя, черт бы их побрал. И эта Рика со своими улыбочками и шуточками, кривляка. А Гудрун? Тоже хороша, развесила уши, словно вокруг одни гении сидят, а на него, Ара, ноль внимания. Стерва!.. Где же она?
С трудом повернув голову, Ар обнаружил свою подругу на соседней постели, как всегда, безмятежно сопевшую во сне.
Это окончательно вывело его из себя. С трудом поднявшись, он подошел к ней, сдернул одеяло:
— Вставай! А ну, вставай! Ты что, на курорт приехала? Полиция у дверей!..
Он собрался рассмеяться своей шутке, но застыл с открытым ртом, пораженный реакцией Гудрун.
В мгновенье ока она была на ногах, с пистолетом в руке. Ар даже не успел заметить, когда она выхватила его из-под подушки. Голая, с растрепанными волосами, она подскочила к окну и застыла в нелепой позе, осторожно выглядывая наружу.
— Где полиция? — хрипло спросила Гудрун.
— Да я так, я пошутил… — неуверенно промямлил Ар. — Ты что, ты что! Гудрун! Не валяй дурака!
Он отступал к стене, а она шла на него, направив дуло пистолета ему в живот, и в глазах ее было столько сумасшедшей ярости, что Ару едва не сделалось дурно.
— Ничтожество, подонок, дерьмо, сосунок… — шипела она в бешенстве.
Наконец Гудрун швырнула в него пистолет, больно ударивший его в плечо, и, продолжая бормотать ругательства, ушла в ванную.
Некоторое время Ар неподвижно сидел на полу, холодный пот выступил на лбу, под мышками, на спине.
Как ни странно, голова прошла, но болело плечо. Ар потер его, тупо посмотрел на валявшийся на полу пистолет, на задернутые занавески, на развороченные постели.
С трудом поднялся на ноги. Голова не кружилась, хотя горечь во рту не прошла.
Внезапно он ощутил такую острую, такую жгучую тоску, словно это была физическая боль. Ему стало трудно дышать, он жадно хватал ртом воздух.
Этот ветхий дом с мебелью давно минувших времен, эта душная комната, где пахло пылью, стариной, пóтом, эти чужие ему люди, которые улыбаются тебе, хлопают по плечу и в любую секунду могут предать или выкинуть, как старые туфли… Эта женщина, там, в ванной, самое близкое ему сейчас существо. Эта страшная женщина, которая так крепко сжимает его в объятиях своими сильными руками и которая может этими же руками задушить его в припадке безотчетной ярости.
Эта кошмарная, эта обреченная жизнь…
А там, позади, остались лекции, веселые шумные студенческие сборища, тренировки, соревнования. И Эстебан — настоящий верный друг. Не беззаботная, нет, но славная студенческая жизнь. Навсегда теперь утерянная…
Ар сел на постель. Ему казалось, что сердце его сейчас разорвется. Он обхватил голову руками и чего-то ждал.
Скрипнула дверь ванной, вышла Гудрун. На ней был белый, короткий для нее махровый халат. Мокрые роскошные волосы рассыпались по плечам, от нее пахло лавандой.
— Собирайся, Ар, — сказала она тихо. И словно все это время читала в его душе, как в раскрытой книге, добавила: — Собирайся, обратной дороги нам все равно нет.
Она подошла к Ару и поцеловала его в щеку. Ар растерянно посмотрел на нее. Как-то странно всхлипнул и поплелся в ванную.
Когда они спустились вниз, оказалось, что «дорогой гость» и Франжье уехали.
Рика приготовила завтрак — яичницу с беконом и кофе. Из приемника лились бодрые танцевальные ритмы, а на экране включенного телевизора мелькали кадры детских мультфильмов. Сквозь раскрытое окно проникали в столовую запахи осеннего леса, свежий ветерок, лучи нежаркого солнца.
Все это несколько приободрило Ара.
Гудрун нежно обняла его, озабоченно пощупала синяк на плече, шепнула: «Прости, ты сам виноват. Можешь побить меня». — «Не премину!» — прошептал в ответ Ар.
Рика, как всегда в веселом настроении, удивительно красивая и свежая (так, по крайней мере, казалось Ару), рассказывала, как ее напугала неизвестно откуда появившаяся кошка, бесцеремонно забравшаяся к ней под одеяло.
— А куда делись шеф и Рони? — спросила Гудрун.
— Уехали в город — готовить наш переезд.
— Переезд?
— Конечно. Не сидеть же нам здесь всю зиму, словно медведям в берлоге, — заметила Рика. — С тоски помрем. Вам-то хорошо — голубкам. А мне, несчастной, одинокой женщине, каково?
— Могу одолжить Ара, — серьезно предложила Гудрун.
— Да нет, — рассмеялась Рика, — я старомодна. Это ваше доисторическое смешение полов не по мне.
— Неплохо бы и меня спросить, — проворчал Ар. — В крайнем случае можете разыграть меня в кости. А кто этот Рони Кратс, «дорогой друг»?
Рика молча пожала плечами. Она перестала улыбаться, стала убирать со стола, то ли не хотела говорить, то ли действительно не знала.
— Он, кажется, большой спец по нашим делам, — настаивал Ар. — Только почему он маскируется под хиппи? Парик какой-то дурацкий нацепил. Зачем все это?
— Может, потому, что своих волос не хватает, — улыбнулась Рика. — А джинсы — чтобы моложе казаться. Может, он хотел понравиться Гудрун?
— Он мне и понравился, — сказала Гудрун. Она поглощала вторую порцию яичницы, запивая ее кофе. — Он, видно, мастер своего дела. Уж такой не попадется. У него есть чему поучиться.
Ар хотел было возразить, но он пребывал в благодушном настроении и ему не хотелось спорить. Да и, честно говоря, Гудрун была права.
— Мы его еще увидим? — спросил он.
— Наверное, — ответила Рика. — Но когда, не знаю. Он ведь без конца мотается по свету.
— Да? — заинтересовался Ар. — Он не коммивояжер случайно?
— Коммивояжер, — пропустив иронию мимо ушей, серьезно ответила Рика. — У него хороший товар, и торгует он им неплохо.
— Что за товар? — снова задал вопрос Ар.
— А сам не догадываешься? — усмехнулась Рика. — Я не точно выразилась. Он не коммивояжер. Он, как бы это сказать, начальник отдела экспорта транснациональной промышленной корпорации.
— Какой корпорации? — не унимался Ар.
— Промышленной, — снова усмехнулась Рика, — одной промышленной корпорации.
— И что она производит?
— Она производит то, что нужно. — Рика потеряла терпение, она смотрела теперь на Ара холодно и неодобрительно. — И не задавай глупых вопросов. Тем более что сами мы в этой корпорации обыкновенные рабочие. Пока еще даже не очень высококвалифицированные, как тебе вчера было убедительно разъяснено.
Она направилась на кухню, а Ар продолжал задумчиво сидеть за пустым столом.
Потом он вышел в сад, миновал ветхую, державшуюся на одной петле калитку и углубился в лес.
Лес был настолько густой, что казался черным. Он поднимался по склонам невысоких гор, обступивших долину с трех сторон. Вся земля была покрыта желтой и бурой осенней листвой. Тяжелый могучий запах древнего бора сливался с ароматом альпийских лугов, долетавшим откуда-то сверху, с гор, невидимых сквозь густые заросли. Меж жестких кустов поблескивала покинутая паутина. И, словно отмечая время, падали с глухим звуком крупные желуди.
Ар долго бродил по неприметным тропкам, по заросшим просекам. В одном месте он набрел на гнездо птицы, в другом — на нору неизвестного зверька, посидел на замшелом камне возле холодного ручейка, беззвучно бежавшего у подножия горы.
Хорошо и спокойно было в этом могучем черном лесу! Здесь шла своя извечная жизнь. Но все ли здесь так спокойно и мирно?..
Взять хоть вот эти дубы, они отнимают свет у молодой поросли. И эта поросль рано или поздно задушит старые деревья. И эти жуки, что поедают мушек, и птицы, что клюют жуков! Да здесь такая война идет, в этом спокойном лесу, такое уничтожение! Это не мирный лес, а поле сражения — жестокого, беспощадного, не на жизнь, а на смерть!
И так везде — в лесу и горах, в морях и в пустынях. И в городах тоже. Всюду одни живые существа уничтожают других. Неважно, дуб ли осину, акула ли рыбешку, птица жука или человек человека! Какая разница? Это закон жизни. Просто есть те, кто уничтожает, и те, кого уничтожают. Важно быть в числе первых, обязательно в числе первых!
Он и стал в их ряды. Он теперь будет уничтожать, давить, убивать. Такая уж выпала ему доля. И пусть те, уничтоженные, раздавленные, не обижаются. Значит, у них доля иная. Таков закон жизни.
Он шел теперь по лесу широким шагом, вдыхая всей грудью напоенный ароматами воздух, шел быстро, высоко подняв голову и насвистывая…
Шел Ар, боец «Армии справедливости». Он воображал себя сверхчеловеком!
Вернувшись, он застал Гудрун и Рику у телевизора. Они сидели молча, нахмурившись. Гудрун курила. Рика нервно барабанила пальцами по подлокотнику кресла.
Ар собрался было нарушить тишину какой-либо веселой шуткой, но, взглянув на экран, замер.
С экрана на него смотрело его собственное изображение. Слегка приглушенный голос диктора вещал: «…особо опасны. Они вооружены и готовы на все, так как список их преступлений заслуживает высшей меры наказания в нашей стране — пожизненного заключения. Всех граждан, могущих сообщить какие-либо сведения о местонахождении или передвижении преступников, просят немедленно позвонить по указанным телефонам. Напоминаем: тем, кто поможет найти преступников, газета "Вечер" выдает солидную премию».
Наступила короткая пауза, и на экране возникла сверкающая сковородка с шипящим, булькающим маслом. Детский хор запел песенку:
На сковородке марки «Пшит» Ваш бифштекс не пригорит!Гудрун со злостью выключила телевизор.
— Сволочи! — крикнула она. — Сволочи! Как волков обкладывают. До моего отца добрались. И этот старый болван ничего лучше не придумал, чем обратиться ко мне с открытым письмом. Сейчас его будут повторять в третий раз. Сволочи!
Гудрун бросила сигарету, наступила на нее каблуком и, хлопнув дверью, вышла из комнаты.
Ар медленно подошел к телевизору, включил, сел в кресло. Его бодрое воинственное настроение улетучилось без следа.
На экране вновь возник диктор.
«Дочь моя, — начал он читать обращение отца Гудрун, — ты не понимаешь, что они играют тобой, как кошка мышкой. Вы обречены играть роль призрачной банды, действия которой служат оправданием для "охоты за ведьмами". Твой путь — это путь, идя по которому ваше движение никогда не станет движением большинства… революция не свершится за один памятный вечер. Не проливай кровь, она падет на тебя. Ты знаешь, я не поддерживаю революцию. Но преступление осуждают все. Раскайся. Сдайся властям. Господь простит тебя…»
Теперь телевизор выключает Рика.
— Гудрун права, — цедит она сквозь зубы, — ее отец действительно старый болван, неужели они все не понимают — да, наши действия преступны, но разве преступление не есть одна из форм истинно революционного разрыва с обществом? Скажи, разве нет?
Она смотрит на Ара, в лице ее нет сейчас ничего привлекательного, глаза сузились, на щеках играют желваки, губы плотно сжаты.
— Скажи, я не права?
— Я солдат, — бормочет Ар, — солдат «Армии справедливости». — И неожиданно зло добавляет: — Это вы там все дерьмовые теоретики. Все базу подводите. А мое дело исполнять. Приказывайте, приказывайте! И не морочьте мне голову вашими дурацкими лозунгами.
Пока Гудрун, ругая на чем свет стоит своего «старого болвана» отца, курила сигарету за сигаретой, сидя на неубранной постели; пока Ар, проклиная этих «дерьмовых теоретиков», с отвращением тянул на кухне пиво; пока Рика, лежа на диване у потухшего телевизора, мысленно корила себя за то, что связалась с «этими шизофрениками», — что поделывал в это время новый «дорогой друг» этой несвятой троицы, таинственный Рони Кратс, которого адвокат Франжье довез до города и высадил на одной из окраин?
Надев свой сложный парик, распахнув на волосатой, увешанной амулетами груди потертую джинсовую куртку, он зашел в дешевенький бар.
Накрапывал мелкий дождь, в свете тусклого желтого фонаря поблескивал мокрый асфальт. Всюду валялись окурки, апельсинные корки, обрывки газет, пустые пивные банки. Покосившаяся неоновая надпись сообщала, что за темной, украшенной медными планками дверью помещается «Солдатский бар». Однако неоновые буквы горели не все, и получалось, что бар «…датский». Впрочем, датское пиво там продавалось, так что и в таком виде название себя оправдывало.
Рони толкнул дверь, спустился на несколько ступенек и оказался в полутемном подвале. Лишь смоляные факелы, горевшие на стенах, освещали лица кроваво-красным, мятущимся отсветом. А лица эти были отвратительными. Небольшой зал был заполнен молодежью — неопрятными пьяными девицами с длинными нечесаными волосами, бородачами и усатыми парнями в грязной, мятой одежде, с дешевыми украшениями на шее. Было много пьяных. Громкая музыка не могла заглушить крики, хриплый смех, то вспыхивавшее, то угасавшее в каком-нибудь углу нестройное пение.
По внешнему виду Рони отлично вписывался в это общество. На него никто не обратил внимания. Он прошел к стойке, кивнул бармену — толстому мужчине с закрученными, напомаженными усами и попросил пива. Бармен, который, видимо, не первый раз обслуживал этого посетителя, достал с полки за спиной кружку в виде большого стеклянного сапога, накачал в нее пива и подвинул к Рони. Рони незаметно передал ему купюру, явно превышавшую стоимость дешевого пива.
— Третий столик слева, — шепнул бармен и повернулся к очередному посетителю.
А Рони огляделся, словно ища место, и не спеша направился к третьему столику слева от входа. За ним сидело четверо — двое парней и две молодые женщины. И хотя они были так же неопрятно одеты и так же непричесанны, как все остальные, но было в них что-то, что отличало их от других, собравшихся в этом подвале.
Во-первых, они не были пьяны, хотя на столе стояло не пиво, а почти пустая бутылка коньяка, во-вторых, было в их взгляде неуловимое выражение превосходства, легкого презрения к орущей пьяной толпе, наполнившей зал. Они не кричали, не пели, не смеялись, они спокойно и негромко беседовали. И были явно старше большинства присутствующих.
Когда Рони приблизился к ним и хотел уже присесть на свободный стул, высоченный парень в рогатом шлеме и в меховой жилетке, надетой на голое тело, одним прыжком опередил его. На шее у него, звеня, болталось ожерелье из железных крестов вермахта, на неправдоподобно мускулистых предплечьях красовалась густая татуировка. Он ехидно посмотрел на Рони и показал ему язык.
— Уступи место, Олаф, дай гостю сесть, — негромко сказал один из сидевших за столиком мужчин.
О том, каким авторитетом пользовался говоривший, свидетельствовала поспешность, с какой Олаф вскочил со стула и тотчас подвинул его Рони.
— Привет вам издалека, — сказал Рони, разглядывая сидевших за столом.
— Далекое может стать близким.
Обменявшись этим нехитрым паролем, они приступили к серьезному разговору.
— Вот что, — раздраженно заговорил Рони. Пламя факелов причудливо отражалось в его странных белесых глазах. — Мне надоело кочевать из бара в бар, как эстафетной палочке. Вот уже четвертое свидание, которое мне назначают. Если мы не договоримся, оно будет последним.
— Договоримся, — усмехнулся Главный. — Эстафета кончилась, вы прибыли на конечный пункт.
— Слава богу, — проворчал Рони.
— Давайте о деле, — снова заговорил Главный, и теперь было отчетливо видно, насколько он старше по возрасту и тех, кто сидел с ним за этим столом, и остальных посетителей бара.
— Давайте, — охотно согласился Рони. — Вот мое предложение: я вас свожу с тремя опытными боевиками, они помогут вам извлечь из тюрьмы вашего главного, этого…
— Не надо имен, — перебила его одна из женщин.
Рони удивленно посмотрел на нее и продолжал:
— Не надо так не надо. Словом, есть готовый план, есть кое-какие зацепки в тюрьме, есть, повторяю, трое опытных боевиков. Ваше дело помочь людьми, машинами. После того как мы его вытащим, я устрою ему выезд за границу, скажем, в Германию, потом в Швейцарию и дальше, в Южную Америку, в Чили, например. Пусть там отсидится. Все расходы по переброске мы берем на себя…
— Кто «мы»? — спросил Главный.
— Какое это имеет значение, — отмахнулся Рони. — Вы же не дети и понимаете, что я не один. За мной кое-кто стоит. И возможности у нас практически безграничные. Таких «сделок», какую я вам предлагаю, мы совершаем десятки по всему миру. Однако вернемся к делу, вы ведь этого хотите. Так вот, я выручаю его. Могу предложить, если вам нужно, партию автоматов «ингрэм мариетта». Деньги найдутся?
— Найдутся, — усмехнулся Главный. — А у вас?
— У нас, — самодовольно произнес Рони, — денег больше, чем у вашего правительства. За нас не беспокойтесь. Могу еще предложить героин — шесть тысяч за килограмм, гашиш — пятьдесят тысяч. Есть опиум.
Его собеседники оживились. Видимо, это предложение особенно заинтересовало их. Некоторое время оно оживленно обсуждалось. Наконец Рони, осушивший к тому времени без видимых последствий свой стеклянный сапог, сказал:
— Ладно, договоримся. Теперь скажу, что нужно мне. Все-таки сделка — акция двухсторонняя. — Он подмигнул.
— Мы слушаем, — сказал Главный.
— Тут у вас есть один следователь, уж больно он въедливый, привязался ко мне и копает, копает…
— Он что, вызывал вас?
— Еще этого не хватало, — высокомерно фыркнул Рони. — Но есть данные, что копает. И между прочим, все глубже. Надо его остановить.
— Ясно, — сказал Главный, — кто?
— Фамилия его Камински. Вот адрес, — он протянул бумажку.
— Нам понадобится неделя, — сказал Главный, подумав. — Мы свое дело сделаем. Это будет авансом.
— Хорошо. Что касается моих боевиков, они свяжутся с вами на следующий же день. Здесь. С тем же паролем.
— Хорошо, — коротко согласился Главный. — Еще выпьете?
Теперь, когда с серьезными делами было покончено, он решил, видимо, проявить к гостю дружеское внимание. На столе появилась вторая бутылка коньяка, стеклянный сапог был вновь наполнен. Заговорили о постороннем.
— У вас тут весело, — улыбнувшись, заметил Рони.
— Не скучно, — подтвердил Главный. Он все время говорил один, его спутники молчали. — Мы собираемся здесь частенько и еще в двух барах.
— Еще в двух? — заинтересовался Рони.
— Да, неподалеку. Это наш район. Другие в других. Но связь есть.
— Ну а ваши… ваши, — Рони подбирал слова, — оппоненты, что ли, они где?
— У них свои бары, — улыбнулся Главный. — И свои дела, — добавил он, помолчав, — мы в открытые конфликты не вступаем. На данном этапе у нас сходные цели, хотя и разные лозунги. У нас и взгляды на многое разные. Но главное — общие враги.
— Да? — рассеянно спросил Рони. — А именно?
— А именно — нынешнее общество, — сухо ответил Главный, ему не нравилось невнимание Рони, — нынешнее общество.
Рони осушил свой сапог и спросил из вежливости:
— В чем же вы его обвиняете, нынешнее общество?
— В мягкотелости, в беспомощности, в терпимости к красным, к иммигрантам, которые отнимают у нас работу. Вы посмотрите — у нас же полно черных, желтых, кого хотите. Без сильной руки…
Рони слушал вполуха. Ему надоели эти болтуны, он презирал их. О нет, они были эффектны в деле, но их болтовня, все эти высокопарные рассуждения, многозначительные призывы… Как сторожевые псы: пока кусают — цены им нет, но когда лают, что с них толку? И их «оппоненты» такие же болтуны. Интересно, что бы сказал его надутый собеседник, если б знал, что три дня назад в другом городе, в другом баре, набитом такой же шумной подвыпившей молодежью, у него состоялась аналогичная беседа — желтые, красные, коричневые — целая радуга, а на деле один цвет — черный. Впрочем, какое ему дело. И те и другие исправно покупают наркотики, оружие, взрывают, убивают, похищают. Так что не жаль им и деньжат, когда надо, подкинуть, и связать с кем нужно, и помочь вытащить какого-нибудь их главаря из беды, вроде вот этого…
Рони почувствовал, что устал. Он вежливо покивал, сделав вид, что внимательно слушал. Потом встал.
— До свиданья, друзья. Устал до смерти. Пойду спать.
— Счастливо, — пожелал ему Главный, но руки не протянул.
Рони не без труда протолкался сквозь толпу, вышел на улицу и с наслаждением вдохнул свежий сырой воздух. Он прошел сетью извилистых переулков, дошел до широкой улицы и, подойдя к стоявшему здесь роскошному черному «мерседесу», открыл ключом дверцу и сел за руль.
Через десять минут быстрой езды по пустынным ночным улицам он подкатил к роскошному отелю «Шератон», парадный подъезд которого украшали пять звездочек. Свой парик Рони снял по дороге.
Он вошел в громадный холл, портье, давно переставший удивляться необычной одежде богатого постояльца, почтительно склонился перед ним. Рони взял у него ключ и поднялся в свой номер-люкс на пятнадцатом этаже. Долго с наслаждением, громко фыркая, мылся под душем, потом достал из холодильника и залпом выпил стакан холодного молока и залез под одеяло. Уже засыпая, нащупал под подушкой пистолет и, успокоенный, вскоре заснул сном праведника.
Следователь Камински брился, стоя перед зеркалом, и весело насвистывал. Он был в отличном настроении. Вчера он закончил важный раздел своего доклада, посвященного делу некоего Рони Кратса, иностранного подданного. Собственно, дела еще никакого не было. Была кое-какая негласная слежка, которую Камински установил за «объектом», получив от своих тайных осведомителей соответствующие сигналы. Таких осведомителей у полиции было множество, но все они делились на две четкие категории. Одна — это сами работники секретной службы, специально внедренные в разные подозрительные официальные и подпольные организации, преимущественно левые, в профсоюзы и другие союзы, в различные круги общества, включая и высокопоставленные. Другая категория состояла из платных доносчиков самых разных калибров, начиная от какого-нибудь именитого повесы, политического деятеля, светской дамы и кончая владельцами баров, проститутками, а порой обыкновенными уголовниками.
На одних у полиции имелись компрометирующие материалы, грозившие разрушить карьеру, вызвать скандал. На уголовные делишки других смотрели сквозь пальцы, не замечали мелкие проступки или раньше срока выпускали из тюрьмы. Всем немного платили. Разумеется, то, что немного было для одних, другим показалось бы богатством. Соответственно оказывались и услуги.
У каждого следователя, инспектора, даже рядового полицейского были свои осведомители, которых знал только он.
И однажды один из них сообщил Камински, что болтается, мол, по низкопробным барам и дискотекам, именно там, где собираются «бунтари», какой-то странный тип, которого раньше никто не видел. Камински был достаточно опытен, чтобы сразу же проявить интерес к такому человеку. Ему потребовалось немного времени, чтобы установить, что человек этот иностранец, что живет он в номере люкс одного из самых роскошных отелей города, разъезжает в арендованном у прокатной фирмы «Герц» дорогом «мерседесе» и что он — в парике и одежде оборванца — проводит время в ночных заведениях, знакомясь с вожаками разных состоящих на подозрении экстремистских кружков всех направлений.
Еще некоторое время затратил следователь, чтобы выяснить, что подобный же образ жизни вел подозрительный иностранец и в некоторых других городах страны. Сначала Камински решил, что имеет дело с крупным международным вором, аферистом, торговцем наркотиками или, что вероятнее, оружием. Однако запрошенный Интерпол никаких данных на этого человека не имел. И что уж совсем странно, оказалось, что незнакомец регулярно посещал свое посольство, а работники посольства заходили к нему в отель «Шератон»! И хоть человек был подданным дружественной державы, но у державы этой были несколько своеобразные понятия о союзнических отношениях, о чем следователь прекрасно знал.
Короче говоря, Камински составил подробный доклад и на основе его намеревался в ближайшие дни вызвать господина Кратса в полицию и побеседовать с ним. После чего отправить доклад начальству.
Однако, как ни опытен был следователь Камински, он совершил две ошибки: никому из коллег не сказал о проделанной работе и подготовленном докладе, а также явно недооценил своего «подопечного».
Продолжая весело насвистывать, Камински тщательно вытер лицо салфеткой, смоченной одеколоном «Балафр». Он любил этот крепкий мужской одеколон с мужественным названием[1]. Недаром его рекламировали на обложках детективных романов «черной серии» — флакон и рядом кинжал. Да, жизнь хороша! Хотя и полна опасностей и приключений. Но именно это по душе Камински. Он молод, но его уже ценят. И между прочим, как раз за независимость характера. Плевать он хотел на все эти партии, программы, лозунги, речи политических лидеров. Он делает свое, полицейское дело и сажает преступников, а кто они — социалисты, либералы, коммунисты, католики, протестанты, буддисты, мусульмане, белые, черные, метисы, квартероны, хоть марсиане — ему безразлично.
Да, жизнь хороша — он молод, у него любимая жена и двое близняшек, он здоров как бык, он стрелок-снайпер и обладатель черного пояса (второй дан) по дзюдо. Он хорошо зарабатывает, а его «подопечные» никогда не забывают поздравить его с днем рождения, с рождеством, с некоторыми другими праздниками.
Камински надел свежую сорочку, пристегнул кобуру под мышкой, снял пистолет с предохранителя (он, помимо всего прочего, был человек осторожный) и, поцеловав жену и дочек, вышел на улицу. Хорошо, что прихватил зонтик — наверняка будет дождь, вон уже моросит.
Машина Камински, синий «фиат», стояла у тротуара напротив дома, в бесконечном ряду других машин, оставленных здесь хозяевами.
Камински внимательно огляделся. В этот ранний час улица была пустынна. Лишь у одного из дальних домов молочник разгружал бутылки с молоком; сосед по дому возился на участке, готовя огород к зиме, да почтальон что-то налаживал у своего мопеда, прислонив его как раз к «фиату» Камински (черт бы побрал растяпу, еще поцарапает!).
Следователь пересек дорогу, подошел к машине и ворчливо сказал:
— Другого места для велосипеда не мог найти? Прислонил бы к столбу.
— Извините, ради бога. — Почтальон виновато улыбнулся и отодвинул мопед.
Он покопался в своей необъятной сумке, вытащил большой револьвер с глушителем и почти в упор выпустил три пули в затылок садившегося в свою машину следователя. Затем, так же не спеша, завел свой мопед и скрылся за поворотом.
Тело Камински обнаружил настоящий почтальон, проезжавший по улице двадцатью минутами позже. Через полчаса весь квартал был оцеплен. Полиция допрашивала соседей, молочника, почтальона. В лаборатории тщательно исследовали пули и установили, что они все из той же партии оружия, которая была похищена при перевозке с одной американской базы на другую.
Начальство гадало о причинах покушения. Но поскольку Камински никому не рассказал о таинственном иностранце, никто ничего не мог понять. Что касается подготовленного им доклада, то он хранился в его служебном сейфе, и, конечно, принявший его дела следователь рано или поздно обнаружил бы толстую зеленую папку с надписью «Кратс». Но вот ведь незадача: ни через неделю, копаясь в оставленных его предшественником делах, ни через месяц, ни даже через год он этой папки так и не нашел. Странно? Очень. Но факт, как известно, вещь упрямая.
О гнусном убийстве следователя Камински Рони узнал в своем роскошном номере в отеле «Шератон». Он внимательно прочел аршинные заголовки газет (а ему их принесли полдюжины) все до одного. Так же внимательно ознакомился с отчетами полицейских хроникеров, заявлениями комиссара и прокурора, сопоставил, сравнил.
Затем поднял телефонную трубку и, услышав голос Франжье, попросил о свидании. Они встретились через час в маленьком кафе. Беседовали недолго, вернее, говорил Рони, а Франжье лишь кивал в ответ. И довольно быстро расстались.
— Хватит бездельничать, — строго сказал Франжье своим подопечным. — Есть серьезное дело.
Они сидели в гостиной своего загородного домика, этого безопасного, затерянного в лесу, но осточертевшего им убежища, и внимательно слушали шефа.
Франжье обстоятельно, как всегда, излагал план операции.
Они слушали и усваивали, как прилежные ученики.
Потом были вопросы и подробные ответы. Потом несколько дней подряд они, надев темные очки, ездили на разведку к стенам тюрьмы и по всему маршруту следования. Прикидывали, уточняли, рассчитывали.
Наконец наступил день «X».
Это был дождливый день, ветреный и холодный. Прохожие жались к стенам, чтобы их не обрызгали автомобили. Злой ветер рвал зонты из рук, выворачивая их наизнанку.
В такой день, как говорится, хороший хозяин собаку из дома не выгонит. Собаку может быть, но заключенного? Согласно тюремному регламенту заключенные в тюрьме № 7 (подследственные) имеют право на ежедневную получасовую прогулку с десяти до десяти тридцати утра. И если они настаивают, как им отказать? В конце концов, их тоже можно понять, дождь дождем, но когда у тебя всего полчаса в день чистого воздуха, тут дождь не помеха.
И, проклиная своих подопечных, погоду, службу, все на свете, надзиратели надевают плащи с капюшонами и выводят заключенных блока «А» на прогулку.
Заложив одну руку за спину, а в другой держа зонтик, заключенные, укутав носы в шарфы и надвинув шляпы по самые уши, медленно бредут друг за другом по кругу на специальном асфальтовом плацу. С трех сторон плац ограничивают тюремные корпуса, с четвертой — наружная стена. И хотя стена здесь не очень мощная и всего пяти метров высотой, но поверху натянута колючая проволока. Слева вышка, на которой стоит часовой, а у дверей тюремного корпуса жмутся, прячась от дождя, вооруженные надзиратели. Так что сбежать в таких условиях было бы чудом. Но бывают же на свете чудеса…
Рика неторопливо ведет машину, поглядывая на часы. Франжье не устает повторять, что успех любой операции на девяносто процентов зависит от точности и на десять от удачи.
Эту подержанную машину им подогнали в условленное место. Там Рика оставила свою и пересела в эту развалюху. Впрочем, на скользком асфальте, когда особенно не разбежишься, такая вполне сгодится.
Секунда в секунду соблюдая график, Рика едет узкими переулками по направлению к тюрьме. Наконец за мутной пеленой дождя возникает серая стена, увенчанная колючей проволокой.
Когда через шесть секунд она доедет до ее середины, навстречу ей в ремонтной машине должны подъехать Ар и Гудрун. И действительно, ровно через шесть секунд обе машины замедляют ход, даже останавливаются — не так-то просто разъехаться на скользком асфальте в этой узкой улочке, ограниченной с одной стороны тюремной стеной, а с другой — пустырем.
В такой дождь никто, в том числе мерзнущий в своей застекленной будке тюремный часовой, не обращает внимание ни на какие машины, мало ли их тут за день проезжает — грузовиков, легковых, цистерн, фургонов и ремонтных, между прочим, тоже. И уж, конечно, где ему заметить, что ремонтная машина вопреки правилам едет с поднятой на шестиметровую высоту площадкой, огражденной перилами.
Внимание часового привлечено одним из заключенных, задержавшимся у стены. Бросив незаметно взгляд на часы, он встал на колено и завязывает шнурок на ботинке. Остальные в соответствии с правилами, не останавливаясь, продолжают прогулку, оставив свободным место своего товарища.
Часовой бдительно следит с вышки за остановившимся заключенным. То же делают и надзиратели. Один из них направляется к растяпе, который никак не может завязать шнурок.
Вот тогда-то все и начинается.
С треском разбив стекло, на площадку сторожевой вышки влетает граната, брошенная Рикой. Граната взрывается с негромким хлопаньем. Часовой резко оборачивается. Поздно! Он роняет автомат, рвет на груди рубашку, задыхается, хрипит…
В ту же секунду, как черт из коробки, из-за брезентового ограждения ремонтной башни выскакивает Ар и бросает через стену веревочную лестницу. В месте броска он двумя движениями перерезает специальными ножницами колючую проволоку. Почти одновременно на башню поднимается Гудрун. Она в джинсах, в кедах, волосы спрятаны под купальной шапочкой. Масок они не надели. К чему? Их фотографии украшают теперь все участки, красуются на первых полосах газет.
Из автомата Гудрун поливает свинцом прогулочный двор тюрьмы. Заключенные бросаются на землю. То же делают и надзиратели. Двое застывают неподвижно, они уже не встанут.
Тем временем заключенный, столь неуклюже завязывавший шнурок, с поразительной ловкостью вскарабкивается по веревочной лестнице на гребень стены, перепрыгивает на башню ремонтной машины. Вместе с Аром и Гудрун он спускается вниз, вскакивает в машину, и Рика быстро, но осторожно трогает с места. Когда начинает реветь тюремная сирена, возвещая о побеге, они уже далеко.
Охранники выскакивают во двор, загоняют заключенных в камеры. Затем они поднимаются на стену и осматривают ремонтную машину. Из распахнутых ворот выезжает оперативная бригада. Во все концы летит сообщение о происшествии. Вскоре полиция оцепляет район.
Но налетчиков там давно нет. В одном из глухих проходных дворов они, бросив машину, пересели в крошечный, с брезентовой крышей «ситроен» и, попетляв по улицам, въехали в большой огороженный двор. Почти не снижая скорости, «ситроен» по заранее установленному помосту с ходу въехал в большой мебельный фургон. Какие-то шустрые ребята заставляют крохотный автомобильчик двумя могучими шкафами и плотно запирают двери. Фургон сразу же трогается с места и устремляется к загородному шоссе.
К чести полиции, она успевает установить заграждения на дорогах очень быстро. Останавливают все машины, в том числе и огромный мебельный фургон. У водителя, благообразного, аккуратного молодого человека в очках, проверяют документы, даже заставляют открыть заднюю дверь. Приподнимают брезентовый занавес, видят шкафы.
На этом осмотр заканчивается, и фургон едет дальше. Вот это полицейским, производившим осмотр, чести не делает. Зато спасает им жизнь…
Гудрун, Рика и Ар застыли со своими «свенами» в руках. Это надежный автомат, хотя и не столь миниатюрный, как «ингрэм мариетта». Но сильный. Им были вооружены австралийские солдаты в Бирме во время войны на Тихом океане. «Свен» лучше, чем «стен», да и «стерлинг» и «томсон» с ним не сравнятся. Во всяком случае, боевики предпочитают «свен».
Тревога оказывается напрасной. Фургон катит дальше. Ар вытирает пот со лба, Гудрун достает фляжку с ромом, и все по очереди жадно пьют из горлышка.
— Спасибо, ребята, — говорит беглец. У него землистого цвета лицо, заросшее щетиной. — Здорово вы это сварганили. Вы кто?
Нет, он явно потерял чувство реальности за время заключения. Ну кто же задает подобные вопросы?
— Мы рождественские деды, — смеется Рика. — Везем подарок твоим друзьям. Передай им новогодние пожелания. Впрочем, мы их не знаем.
Беглец, понявший свой промах, смущенно улыбается.
— Ладно. Все равно спасибо. Придется — отплачу.
— Не придется, — говорит Гудрун.
Отъехав километров пятьдесят от города, фургон останавливается в глухом лесу. Здесь уже стоят две машины.
Из одной выходят двое мужчин и две девушки, они бросаются к беглецу, обнимают его, жмут руки, хлопают по плечам. Они привезли ему одежду, коробку с едой, вино. Он сдержанно благодарит и обращается к своим спасителям:
— Еще раз спасибо, ребята. — Пожимает им руки и, помедлив, добавляет: — А тебя, Рика, я узнал. Ты молодчина, на твоих статьях и я учился. Спасибо тебе от всех нас, от всей нашей организации «9 апреля». Мы им еще покажем!
Друзья усаживают его в машину, и, переваливаясь по кочкам, она исчезает за деревьями.
А Гудрун, Рика и Ар залезают в другую и, сверившись по карте, лесными и проселочными дорогами добираются до своего убежища.
Здесь их ждет Франжье. Он весь радушие.
— Ну что, голубки, все в порядке, если верить радио?
Ему никто не отвечает, все расходятся по комнатам, моются, переодеваются.
Потом снова собираются в гостиной, где Франжье смотрит телевизор.
На экране возникают кадры, показывающие стену тюрьмы, двор, сторожевую вышку, брошенную ремонтную машину. Репортер берет интервью у начальника тюрьмы, у начальника полиции, у часового, у надзирателей, даже у заключенных. Далее на экране возникает седая женщина со впалыми щеками, с заплаканными глазами. Это вдова одного из убитых надзирателей, ее поддерживает дочь — девушка лет восемнадцати, она не может сдержать рыданий. Вдова что-то бормочет в микрофон. Неожиданно девушка начинает кричать, захлебываясь слезами:
— Будьте вы прокляты! Вы не люди! Вы чудовища! Ну убивайте, жгите, взрывайте! Но не говорите, что это ради свободы людей! Вы звери, лживые звери…
Ар резким движением выключает телевизор и до боли закусывает губы. Он наливает полный стакан пива.
— Выпьем, — кричит неестественно громким голосом, — выпьем за зверей! А? За славных хищных зверей, которые убивают во имя свободы! За львов, за тигров, за шакалов!
— Не ори, — обрывает его Гудрун, — истерик. Лес рубят — щепки летят. Еще ни одно большое дело не обходилось без жертв. Но это необходимые жертвы. Да, мы убьем тысячи, но свободными станут миллионы!
— Тихо, — говорит Франжье, в его голосе звучит металл, — разболтались! Вы делаете важное, нужное дело. Вы боретесь за революционные идеалы. И хватит болтать. Послезавтра будем эвакуироваться — здесь начинает дурно пахнуть. Полицейские не любят, когда ликвидируют их товарищей. А тут два надзирателя, да еще этот следователь, уж не знаю, кто его кокнул. Это перебор. Пора уезжать. Так что готовьтесь. Послезавтра.
Глава VII Скитания
После того как мы вытащили этого типа из тюрьмы, в городе, по выражению нашего шефа, стало дурно пахнуть. Полиция просто взбесилась — прочесывают квартал за кварталом, взялись за окрестные деревни. Того и гляди заглянут к нам. Так что самое время сматывать удочки. Жаль, я уже привык к нашему тихому домику, к этому глухому лесному уголку.
Между прочим, именно в те дни я обнаружил в себе новую черту — склонность к сентиментальности. Теперь-то, когда обдумываю эти строки, я эту черту утерял. И уже давно. А может, не утерял? Пожалуй, нет. А если быть точным — сентиментальность во мне таилась всегда, но просыпалась лишь иногда и непонятно по какому поводу. Впрочем, это я сейчас анализирую, когда располагаю временем, а тогда мне было не до вздохов и закатывания глаз. Так что погулял я в последний раз по лесным тропинкам, попрощался с белками и птичками, подышал лесным воздухом и пошел собирать вещи.
Замечу, что вещей у меня немного. Костюм, что на мне, плащ, шляпа, фальшивая борода и другие камуфляжные аксессуары, например, ватные тампоны за щеки, чтобы изменился овал лица… Еще пара пистолетов. Ничего более серьезного шеф брать не разрешил. «Тяжелая артиллерия будет следовать за вами малой скоростью», — сказал.
Вечером он приехал за нами на машине — ночью предстояло пересечь границу, до которой три часа езды.
Посидели, выслушали последние нотации шефа и загрузились в машину, черный быстроходный «рено». Я сажусь за руль. Франжье с нами не поехал. Да и к чему? Он так подробно и долго втолковывал нам все адреса, пароли, детали маршрута, каналы связи, что я могу их повторить, хоть разбуди меня среди ночи.
На прощанье Франжье сказал:
— Помотайтесь, запутайте следы, пусть вас немного подзабудут. Да и кое-чему не мешает вам подучиться. Когда придет время, я вас найду, не беспокойтесь. И тогда займетесь настоящим делом.
— А это, значит, все ненастоящее было? — спрашиваю.
— Это так, разминка, — отвечает без улыбки. — Ну все, до встречи.
Всю дорогу мы молчали. Каждый думал о своем. Не знаю, о чем Гудрун и Рика, но сомневаюсь, чтобы о новых фасонах платьев. Лично я подводил кое-какие итоги.
Как же получилось, что образцовый студент, жизнерадостный спортсмен, профессиональный донжуан Арндт вдруг превратился в опасного террориста-боевика, убийцу, врага общества, в солдата «Армии справедливости», чья цель разрушение этого самого неправедного общества? Как?
Я не такой уж простак, чтобы не понимать, какую роль здесь сыграли такие люди, как Франжье, этот «дорогой друг» Рони, да и моя нежная подруга Гудрун, у которой на счету больше убитых, чем любовников (а этих трудно сосчитать).
И все же, если бы не существовало этих моих учителей, стал бы я тем, кем стал? Наверное, все-таки да.
Как ни крути, а виновато общество, в котором мы живем, его законы, его нравы, его властители, эти «сильные мира сего». Я не теоретик, я практик и не очень-то разбираюсь в теориях, в которых такой мастак Рика. Но я согласен с ней — всех этих жирных свиней, погрязших в своем богатстве, надо давить как клопов. Сокрушить это гнусное общество потребления — задача благородная, но нужно подготовить почву. Нужно безостановочно и неустанно жалить. «Кусай и исчезай» — вот в чем сейчас наша задача. Сейчас, а дальше?
Когда-то у меня были какие-то мечты, цели, идеалы, что ли. А что теперь? Что осталось?.. Как что? Осталась борьба. Мой долг бойца «Армии справедливости». Ладно, сейчас, когда мы мчимся по ночному шоссе, думать обо всем этом не хочется. Впереди ночь, которую раздвигают могучие фары нашей машины, по обе стороны тянется неподвижная стена леса. Изредка навстречу проносятся гигантские грузовики с прицепами, они везут в наш город овощи, фрукты, цветы…
Гудрун трогает меня за плечо, я сбрасываю скорость, вглядываюсь в километровые указатели. Еще пять минут езды, и мы сворачиваем на боковую дорогу, проезжаем десяток километров, снова сворачиваем теперь уже на узкую разрытую лесную дорогу и едем совсем медленно.
Неожиданно впереди мигает красной точкой карманный фонарь. Красная точка становится зеленой, зеленая желтой и снова красной. Мы вынимаем пистолеты, я останавливаю машину.
К нам выходят двое парней. Они молча пожимают нам руки и уводят в лес… Итак, мы за границей. Как мы ее перешли? Ну какая вам разница! Вы же не будете ее переходить темной ночью глухим лесом, а? Вы, сидящие в стеганом халате и ночных туфлях в мягком кресле у камина, уставившись в экран телевизора, где крутят какой-нибудь идиотский фильм про шпионов и бандитов. Такой же далекий от действительности, как ваша ватная благополучная жизнь далека от моей. Ну так не спрашивайте! Вы ведь пересекаете границы в спальном вагоне или воздушном лайнере. И для вас главная опасность, чтоб таможенники не обнаружили в вашем чемодане бутылку виски или сигаретный блок сверх нормы. Жуткий риск!
Вот с того дня и начались мои, вернее, наши скитания. И где только мы не побывали! И в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Испании, и в Австрии, и в Швейцарии, и в Турции, и в Греции, даже в Марокко и в Алжире, даже за океаном.
Только до Восточной Европы не добрались. Но там таким, как мы, делать нечего. Там с такими, как мы, не церемонятся. Они у себя революции уже сделали и наши методы не понимают. А террористов, да еще таких, кто размахивает красным флагом и называет себя марксистом, особенно не жалуют. Ну и плевать! И других стран хватает, где можно порезвиться. Но особенно резвиться не приходится.
Оказывается, закон о выдаче преступников действует не только в отношении уголовников, но и в отношении опасных террористов, каковыми нас считают. О том, что мы идейные борцы, нечего и заикаться (тем более когда на нашем счету убитые полицейские).
Выясняется к тому же, что Интерпол разыскивает нам подобных по всем странам с такой энергией, словно мы фальшивомонетчики или злостные банкроты.
Так что куда бы мы ни попадали, почти везде приходится прятаться, все время менять квартиры, пользоваться фальшивыми документами, переодеваниями. Постепенно это стало привычкой. У шефа неплохие, наверное, связи — во всяком случае, всюду мы находим покровителей, машины, документы, квартиры, оружие. А вот насчет денег…
Насчет денег дело обстоит хуже. Постепенно мы начинаем ощущать их отсутствие. Видимо, Франжье, снабдив нас кое-какими капиталами, не учел наши аппетиты, а главное, образ жизни. Когда люди не работают, не учатся, не имеют семьи, постоянного места жительства, они тратят очень много денег. От безделья, наверное.
И вот однажды, дело было в большом немецком городе, уж забыл, где (столько их миновало, что не грех забыть), не то в Гамбурге, не то в Мюнхене, а может, во Франкфурте. Словом, сидим мы втроем на террасе кафе, пьем пиво (в Германии оно отличное) и грустим. Наши ресурсы подходят к концу.
— Вот что, — говорит неожиданно Рика, — в конце концов, буржуазная собственность должна быть естественным источником наших финансовых поступлений, и мы имеем право экспроприировать ее без всякого стеснения. Революция лишь использует излишки, накопленные привилегированными элементами. Так что не вижу, почему бы какому-нибудь банку, принадлежащему этим капиталистам, не поделиться с нами.
— Прекрасная мысль, — оживилась Гудрун, — и справедливая.
— Остается ее осуществить, — говорю.
По улице катят машины, няньки прогуливают детишек напротив в сквере, девчонка с мальчишкой целуются в подъезде, в кафе тянут лимонад, смакуют пиво такие же, как мы, бездельники. И, держу пари, никто не догадывается, о чем говорят две молодые женщины и спортивного вида привлекательный мужчина, сидящие за столиком. А мы обсуждаем акцию.
На следующий день, не теряя времени, начинаем действовать. Обходим чуть не полгорода и останавливаем свой выбор на средней упитанности заведении на Сименштрассе. Солидный банк. Спокойный, наверняка не привыкший к ограблениям.
Рика, как наиболее неприметная (ей не понравилось, когда я сказал это: она считает себя красивой и, конечно, права), идет на разведку. А кому идти? Гудрун по красоте с Рикой не тягаться, но уж на нее каждый прохожий обратит внимание. Рика молодец, ничего без внимания не оставила. Она запомнила число дверей, систему блокировки, где расположены телекамеры, сколько ступенек у входа, где остановить машину, какие вокруг светофоры и режим их переключения, когда на улице больше народа, когда меньше, ближайшие остановки городского транспорта и ближайший полицейский участок. Тщательно захронометрировала все расстояния.
Несколько дней готовимся, покупаем в разных концах города спортивные сумки, парики, карнавальные маски (я — поросенка). «Никогда не думала, что ограбление требует стольких трудов», — ворчит Гудрун.
В назначенный день надеваем темные брюки, темные свитеры, кожаные пиджаки — все это не бросается в глаза, полгорода так одето. Держим спортивные сумки. У меня под мышкой револьвер армейского образца, у Гудрун в сумке легкий пистолет-пулемет «ландман-притц», у Рики тоже пистолет и две гранаты.
На улице садимся в машину, которую я приметил, — самую пыльную, хозяин, наверное, в отъезде, во всяком случае, вот уже три дня ею никто не пользуется.
Светит солнце, синеет небо, отличная погода. Народ занят своими делами. Кто-то входит в банк, кто-то выходит. На нас не обращают внимания. Никакого волнения не чувствую. Работа как работа. У меня в такие минуты наступает как бы раздвоение. Один Ар действует, другой наблюдает за ним, хладнокровно анализирует каждый поступок.
Так вот, я собой доволен.
Мы останавливаем машину метрах в десяти от дверей и не спеша идем к банку. Поднимаемся по ступенькам, проходим мимо массивных железных решеток (на ночь их запирают), входим в большой операционный зал, но перед этим натягиваем маски; я — поросенка, Гудрун — крокодила (ей с ее носом это очень подходит), Рика остается у входа, но быстро надевает парик и темные очки.
В зале пусто — две старушки стоят у кассы и еще один господин заполняет чек.
Я громко кричу, размахивая револьвером:
— Налет! Всем руки за голову и молчать! Не шевелитесь, и вам ничего не будет. — И чтобы успокоить их, добавляю: — В конце концов, это не ваши деньги.
Служащие, бледные как полотно, жмутся друг к другу и молчат. Старушки ничего сначала не понимают, кассир что-то шипит им, и они растерянно поднимают руки к своим шляпам.
Гудрун, словно всю жизнь занималась барьерным бегом, перемахивает через стойку и, раскрыв сумку, вываливает туда деньги из раскрытых сейфов. Запертые мы не трогаем — некогда. Главное — действовать быстрее, чтобы не успела прибыть полиция, если кто-то из служащих успел нажать сигнальную кнопку. На всякий случай кричу:
— Если появится полиция, будем бросать гранаты!
Но, видимо, среди служащих героев нет, во всяком случае, полиция не возникает.
Наполнив сумку, Гудрун снова перепрыгивает через барьер (эх, на Олимпиаде ей бы цены не было).
— Ложись! — кричу и бросаю в центр зала дымовую шашку. Она шипит, валит дым, все кидаются на пол, стараясь укрыться за барьером.
Мы выскакиваем на улицу, забегаем в подъезд соседнего здания, затем в проходной двор, перелезаем через невысокую ограду, сбрасываем маски и парик. Оружие прячем в сумку Рики. Бегом пересекаем пустырь, углубляемся под арку старинного дома и уже медленно, спокойным шагом выходим на параллельную улицу. Здесь нас ждет старенький грузовичок, который я перегнал сюда накануне, «одолжив» его на выставке подержанных машин (сегодня она закрыта).
Женщины забираются в кузов, я сажусь за руль и медленно вливаюсь в поток движения.
Еще нет половины одиннадцатого утра, а мы уже «дома». Вся акция длилась три минуты, доход 55.152 марки. Неплохо. Теперь можем отдыхать.
Слово «дом» я взял в кавычки, потому что дома в обычном понятии у меня теперь нет. (И с тех пор до нынешнего, где я сейчас все это вспоминаю, и не будет.) И уж нынешний тоже придется взять в кавычки. Но об этом позже. Что ж представлял тогда наш «дом», а вернее «дома», потому что менялись страны и города, но интерьеры наших обиталищ были неизменными? Две-три запущенные комнаты, складные кровати — никогда не известно, сколько человек будет пользоваться квартирой, — во всех углах оружие: пистолеты, автоматы, гранаты, взрывчатка. Кухня полна продуктов — консервов, сухарей, полуфабрикатов (некоторые уже испортились). Банки пива, бутылки минеральной воды, «пепси», «кока-колы» громоздятся горами, а пустые валяются по всей квартире. Но обязательно есть телевизор, радиоприемник, телефон.
Квартиры эти обычно расположены в тихих глухих районах, где-нибудь на верхних этажах. Оттуда можно перелезть на соседние крыши, спуститься по пожарной лестнице. В подъездах есть и второй выход.
Еще в наших убежищах хранятся фальшивые номера на машины и разные поддельные документы. То, что в этих квартирах живет иногда по шесть-семь человек, мужчин и женщин, дополнительных удобств не создает.
Потому что мы не одни. Такие, как наша, команды, оказывается, кочуют по свету во множестве. Иной раз наши пути пересекаются — поживем два-три дня вместе в такой квартире и разъезжаемся. На смену одним приходят другие. Почти не разговариваем, ничего друг о друге не знаем, ни имен, ни национальности…
Впрочем, на акции порой идем вместе.
Кто все это решает и кто в общем-то руководит, не всегда и поймешь.
Я сказал, что мы больше молчим. Но иногда все же разговариваем. На разных языках. В буквальном и переносном смысле слова. В буквальном, потому что в этих квартирах можно встретить и немцев, и французов, и португальцев, и итальянцев, и испанцев, и моих соотечественников, конечно, тоже. В переносном, потому что, как я начинаю теперь понимать, в нашем великом движении «Армия справедливости» не армия, в лучшем случае дивизия, а то и полк. И полков таких много. Конечно, у всех у нас единая цель — уничтожить этих ненавистных сытых, этих самодовольных президентов промышленных и финансовых корпораций, этих болтливых политиканов, этих садистов — судей, прокуроров, полицейских….
Но мы расходимся в том, как это сделать. И еще больше в том, что строить на месте этого разрушенного общества. Как выражается Рика, «во имя чего делать революцию».
Я, например, считаю, что в борьбе за высшую цель все средства хороши. Тут один тип, уж не знаю, откуда он, высказался: «А большевики, — говорит, — осуждали индивидуальный террор, даже когда речь шла о самых близких». Действительно. Что на это возразить? Но моя Гудрун в таких случаях не теряется — посмотрела на него, прямо прожгла своими глазами-автогенами и говорит:
— Ты сын этого общества… И это чувствуется по запаху твоих слов!
А? Ничего? Вот так-то!
Ну а если говорить откровенно, она меня запутала. Иногда мы всю ночь ворочаемся в постели, не можем заснуть: думаете, занимаемся любовью? Как же! Моя нежная возлюбленная излагает мне свои политические взгляды. А чтоб в них разобраться, надо иметь три головы, а не одну.
Когда мы были в Италии, я вдруг узнал, что она ходит в церковь, в сумке, которую она однажды оставила (и куда я так, для информации, порой заглядываю), обнаруживаю, что бы вы думали — евангелие!
Подвел к этому разговор, и она мне по своей обычной манере преподносит целую лекцию.
— Я, — говорит, — согласна с Сартром, что экстремизм — это не что иное, как возврат к изначальному. Я верю в бога как раз потому, что я экстремистка. Если верно, что экстремизм означает возврат к изначальной доктрине перед лицом медлительности развития исторического процесса и политических компромиссов, нашей целью должна стать первобытная примитивная демократия, какой была демократия Христа…
Не знаю, как насчет «изначальной доктрины» и «медлительности развития исторического процесса», но насчет первобытности у нее здорово получается.
Вы бы видели ее во время акций!
Я иногда задумываюсь, как может один и тот же человек быть таким разным?
Может быть, Гудрун и не так красива, как, скажем, Рика, да и большинство моих бывших подружек, но в минуты близости она бывает такой ласковой, такой нежной, такой мягкой, что может дать им всем сто очков вперед. Я даже умиляюсь — такая она любящая маленькая девочка. Уткнется мне в плечо и спит, тихо посапывая носом. Да и нос ее в такие минуты кажется совсем не таким длинным. Нос как нос. А такие красивые волосы я мало у кого видел.
И посмотрели бы вы на нее в тот момент, когда мы освобождали этого типа из тюрьмы или тогда, с профессором Дроном… Страшно смотреть на нее! Вот уж действительно первобытный зверь! Глаза горят, губы в ниточку, палец белый — с такой силой жмет на спуск. И ясно, какое она получает наслаждение. Страшно!
А я все не могу забыть глаза той старой женщины у тела профессора…
Впрочем, что я все Гудрун и Гудрун? А чем Рика лучше? Уж кажется, красавица, умница, блестящая журналистка. Смеется, душа радуется — зубы как жемчуг, ямочки на щеках. Но когда у нее в руках пистолет или граната, тут не до жемчужных улыбок, тут оскал, оскал смерти.
И я не лучше. Где я тот, прежний, — ни забот, ни хлопот. Нет, заботы были: получше экзамен сдать, с той вон курочкой познакомиться, получше на первенстве университета выступить…
И что я тогда делал? Шел к Эстебану. Он умел поднимать мне настроение, с ним было весело, интересно. На него можно было положиться. Где-то он теперь?
Как где? Он-то на прежнем месте и делает свое обычное дело, он-то не изменился.
В те дни, что мы скитались по свету, я частенько вспоминал Эстебана, его советы, его предупреждения. Может, надо было его послушать? Да что уж теперь говорить…
Вечером того дня, когда мы «экспроприировали» банк, раздался телефонный звонок. Звонил Франжье. Откуда, бог его знает — из другого города, из другой страны, возможно.
— Сегодня же переезжай на южный курорт, дорогой Альберт, — говорит. И все, повесил трубку.
Южный курорт — это значит Италия. Альберт — это значит маршрут № 3, машиной через Австрию.
— Подъем! — кричу я.
И хотя мои девочки уже спать собрались, они мгновенно собираются, надевают джинсовые костюмы — боевые доспехи, так сказать, загружают в сумки кое-какую артиллерию, кое-какие консервы, и вот мы уже готовы.
Быстро спускаемся по лестнице, проходим два-три квартала, ищем машину помощней, побыстроходней.
Наконец находим — «Мерседес-600». Как он здесь оказался? Обычно такие машины стоят в солидных гаражах. Может быть, владелец заночевал у подружки?
Открыть любую дверцу, завести любой мотор для меня давно перестало быть проблемой. Садимся, трогаемся в путь. В очередной путь.
Где конец этому бесконечному пути? И какой он будет, этот конец?..
Только выехали из города, Рика говорит:
— Вот что, Ар, не нравится мне эта машина.
— Чем, — смеюсь, — машина что надо, и бар есть, и телевизор, и музыка квадрофоническая. Едем — сто шестьдесят! Только крыльев не хватает.
— Вот именно, давай-ка сменим на что-нибудь поскромней. Поверь мне.
Она, конечно, права, таких «мерседесов» не так уж много. Но жалко расставаться, уж больно хороша. Все же у меня хватает ума, проезжая через какой-то маленький городишко, где-то в полночь бросить в темном дворе нашу роскошную карету и пересесть тоже в «мерседес», но куда скромней и совсем не новый. Отъехав километров двадцать, меняем номера на итальянские и продолжаем путь.
Едем всю ночь. Границу минуем спокойно. Документы у нас железные, а таможенники спят на ходу.
Утром уже в Италии слушаем радио.
Узнаем, что через несколько часов после нашего отъезда полиция нанесла визит в нашу квартиру. В квартире, радостно сообщает диктор, обнаружены фальшивые автомобильные номера, оружие, карандашные планы банка и окрестных улиц, спортивные сумки. Словом, открыто убежище преступников, совершивших ограбление банка! Да здравствует полиция!
Мы смеемся, хотя полицейские напали на след, прямо скажем, удивительно быстро. Но еще более удивительна прозорливость нашего шефа, вовремя нас предупредившего. Прямо чудеса, словно и его кто-то предупредил из полиции… Бывает…
Но мы перестаем смеяться, когда узнаем, что полиция сразу же обнаружила угон «Мерссдеса-600» (оказывается, владелец вышел к своей машине буквально через несколько минут после нашего отъезда).
И что совсем плохо, полиция уже знает, что вместо «Мерседеса-600» мы теперь катим в нашей колымаге, сообщает ее цвет, номера мотора, шасси, предупреждает, что номер может быть другой, что нас трое, две женщины и мужчина, кое-какие наши приметы…
Сейчас по нашим следам идет Интерпол. Так, по крайней мере, сообщает диктор.
В такие минуты мы действуем быстро и решительно. Тут же сворачиваем в ближайшую рощу, бросаем там машину и расстаемся. Рика возвращается на шоссе — с ее красотой она доедет на попутных машинах, ее любой одинокий автомобилист рад будет подсадить. Мы с Гудрун пешим ходом добираемся до ближайшей железнодорожной станции.
Договариваемся встретиться в Венеции, на площади святого Марка, у подножия Кампанилы. Венеция — конечный пункт маршрута № 3 «Альберт».
Поезд мчится быстро, вдали, будто причудливый кремовый торт, маячат Доломиты. Вдоль пути торчат рекламы мыла, вин, зубных паст, отелей, ресторанов, машин. От них рябит в глазах. Гудрун дремлет, как всегда, тихо посапывая.
В полдень отправляемся в вагон-ресторан. Я выпиваю три чашки крепчайшего «экспрессо». Все-таки варить его умеют только в Италии. Когда официант слышит, сколько еды моя нежная подруга заказывает на завтрак, у него глаза лезут на лоб, а когда видит, с какой скоростью она все это поглощает, он чуть не падает в обморок.
Во второй половине дня прибываем в Венецию. На вокзале пахнет дымом, тухлой водой (ею всюду пахнет в этом городе). Солнце отражается в донельзя замусоренных водах каналов. Вообще зимой и весной здесь погода дрянная — дождь, холодный ветер. Я впервые в этом городе, и он мне не понравился. «Жемчужина Адриатики»! Как же — моченое яблоко! И все время приходится ходить пешком — машин нет.
У Кампанилы лужи, нахохлившиеся голуби мотаются по площади, норовя сесть туристам на плечи. Да и туристов что-то не видно. Маячит одинокая фигура Рики в дождевике, который она успела купить. Торопимся забежать в кафе — согреться, я пью кофе, они — виски. Гудрун использует паузу, чтоб съесть яичницу с беконом, салат, сыр и кусок яблочного торта.
Поздно вечером являемся на очередную квартиру, дверь открывает, как ни странно, монахиня. Она молча вручает нам ключи и исчезает. Осматриваемся. Та же картина: походные койки, консервы, пыль. Но здесь еще и сырость. Включаем телевизор — реклама. Включаем радио — неаполитанская музыка. Смотрю в окно — внизу грязный канал, напротив облезлый, избитый сырыми ветрами дом с когда-то розовым фасадом. Тоскливо…
Неожиданно нам наносят визит.
Раздается условный стук в дверь. Следует обмен паролями. Входит немолодой тип в очках в старомодной оправе. К нашему удивлению, выясняется, что он священник. С ним парень и девушка. Жгучие брюнеты, черноглазые, этакие живчики — типичные итальянцы (хотя здесь, в Венеции, итальянки как раз светловолосые).
Они принесли нам оружие — пистолеты «беретта», «кольт», взрывчатку, радиодетали. Оказывается, парень радиотехник, и он собирается мастерить приемник, чтобы подслушивать радиопередатчики полиции.
Мы угощаем гостей вином — красным и белым «кьянти», сами предпочитаем что-нибудь покрепче (кажется, я начинаю привыкать к алкоголю, а ведь когда-то, кроме пива, ничего не пил). Гудрун вынимает сигареты с марихуаной. Я совсем забыл вам сказать, что Гудрун частенько балуется марихуаной. Рика, кстати, тоже.
Меня лично наркотики не увлекают. Как-то попробовал, Гудрун уговорила — брр, мерзость! Как можно этим увлекаться? Да еще говорят, бросить трудно.
Болтаем с вновь пришедшими (священник ушел). И тут выясняется интересная вещь. Оказывается, они из КР, «красных бригад»! Ну, скажу я вам, не ожидал. Это же наши идейные противники. Вы небось читали, слышали о «двух зкстремизмах»? На одном полюсе они, на другом — мы. Два часа болтаем, во всем согласны, а, оказывается, идейные противники. Чудеса.
Девка только на вид романтическая красотка, как я понял, она — мозг, а парень — руки.
Она говорит, например:
— Что нас беспокоит, так это необходимость учитывать существование уголовного мира (говорит-то как!). Они видят в нас соперников — боятся, что отнимем у них доходы. И в какой-то степени правы, потому что всякое ограбление с целью политического характера (тоже мне формулировка!) приводит к усилению активности полиции. Поэтому нам приходится остерегаться уголовников: они считают святым делом доносить на нас.
Такие у нее заботы.
Но ее слова наводят меня на невеселые мысли. Им приходится остерегаться уголовников!
А мы-то кто? Не уголовники? Да нет, мы, конечно, идейные борцы. И каждый раз, когда мы осуществляем свои акции, не забываем подвести под это, так сказать, идейную базу, провозгласить красивые лозунги. Мы герои, мы борцы, мы провозвестники новой жизни, глашатаи великих идеалов. Тьфу! Даже думать об этом противно. Но ведь идеалы провозглашаем не только мы. Благородными свои цели объявляем не только мы.
Например, Эстебан и его товарищи.
Их, конечно, можно называть смутьянами, бунтарями, международными террористами, ниспровергателями — словом, какую только грязь на них не льют, в чем только не обвиняют.
Но я-то, между нами говоря, знаю, да и вы уж не притворяйтесь, сделайте милость, тоже прекрасно знаете, что все это чепуха. Что этикетки те на них навешивают. И я в том числе.
В том-то и печальная истина, что в отличие от нас и нам подобных Эстебан и его товарищи не уголовники. Ну не уголовники! Что тут поделать!
Иногда я задумываюсь над этим. Это что, такой вот хитрый ход у них — не залезать в грязь, не компрометировать себя разными темными делами, никого не убивать и не взрывать? Это у них такой ловкий прием, чтоб привлечь народ на свою сторону? Да нет, просто вот так они считают, такое у них кредо, как теперь модно выражаться.
Они, повторяю, делают то, что говорят, а говорят то, что думают. И потому у них слова не расходятся с делом и нет им нужды придумывать для своих дел красивые обертки.
Ведь им нелегко. Хоть банки они не грабят и людей не похищают, полиция за ними гоняется больше, чем за нами.
А Эстебан идет себе своей дорогой, и сколько помню его, ни разу слову своему не изменил. Дорога у него одна, и его не собьешь.
И в нем уголовники конкурента не видят.
А в нас — да. Поэтому опасения наших новых дружков меня беспокоят. Ведь коль скоро мы тоже встали на путь «экспроприации», значит, и нам грозит та же опасность.
А, собственно, почему разговор перешел на эту тему? Ага! Выясняется, что у наших новых знакомых есть предложение, даже два: ограбить банк и похитить в муниципалитете разные бланки, печати и т. д.
Самим не справиться, их сейчас только двое, ждать некогда, а мы, как им известно (откуда?), мастера таких дел.
Что касается моральных соображений, то их разрешила Рика.
— Наша тактика допускает на определенных этапах совместные действия с попутчиками, а в некоторых случаях даже с противниками.
И вот, покинув негостеприимную Венецию, мы катим по дорогам Италии на север, все дальше и дальше. Путь лежит в Милан. Дело в том, что наши «компаньоны» заявили: банк следует брать в каком-либо большом промышленном городе, символизирующем капитализм, буржуазию как таковую. Потому выбран Милан. Рика поддерживает эту идею.
Однако на этот раз все проходит далеко не так гладко, как хотелось бы.
Наши «компаньоны» выбирают филиал «Миланского банка», расположенного на окраине в районе новостроек. Здесь ровными рядами выстроились пятиэтажные розовые коробки дешевых домов. Между ними в небольших скверах возятся ребятишки, гуляют собаки, дремлют на скамейках старики. На балконах, словно белые флаги сдающихся гарнизонов, развеваются вывешенные для просушки простыни. Ни в одной стране я не видел такого количества белья, вывешенного во дворах, на балконах, на крышах, даже на протянутых между домами веревках! Такое впечатление, что все постоянно капитулируют.
Гудрун заходит в банк и тут же возвращается хмурая. Во-первых, у дверей охранник с огромным револьвером и к тому же не старый. Во-вторых, большинство персонала — мужчины и тоже весьма крепкие; в-третьих, кассир сидит в клетке из пуленепробиваемого стекла. Да и подъезды не очень удобные.
Сообщаем все это «компаньонам», но они настаивают. У них есть план. Они предлагают совершить налет не на операционный зал, а на машину, которая приезжает каждый вечер в шесть часов за деньгами из центрального банка.
Они давно следят: машина останавливается у входа, и два инкассатора переносят в нее сумки с деньгами. Они вооружены, но руки у них заняты. Шофер сидит в машине, так что, по существу, кроме еще одного сопровождающего машину охранника и банковского, который выходит из дверей в момент переноса денег, другой охраны нет. Во время наблюдения за ними в течение многих дней ни разу никто из охранников даже не расстегивал кобуру.
Ну что ж, нашим «компаньонам» видней.
Они привозят нас в какую-то развалюху в предместье города, и там мы проводим ночь и следующий день. Вот это самое тяжелое в нашем деле — целыми днями сидеть без толку, слушать какую-то дурацкую музыку, смотреть телевизор, пить пиво, курить марихуану (только не я).
В четыре часа они заезжают за нами на фургончике «фольксваген». По борту надпись: «Доставка цветов. Магазин "Флорала"». Залезаем. Я и парень — в кабину, женщины — в кузов. Едем.
Подъезжаем точно (хронометраж эти ребята сумели как следует провести). Машина инкассаторов стоит у подъезда. Шофер читает за рулем газету. Охранник прогуливается у входа. Мы останавливаем наш фургончик неподалеку. Охранник подозрительно поглядывает на нас, но, увидев, что наши женщины выгружают из кузова корзины и букеты цветов, успокаивается.
Гудрун, Рика и итальянка шепчутся возле корзин, делая вид, что проверяют адреса, вставляют в цветы визитные карточки, перевязывают букеты. Если инкассаторы сели в банке пить кофе, весь наш план может провалиться.
Слава богу, вот они появляются в дверях. Два крепких усатых парня тащат сумки с деньгами. За ними возникает охранник банка. Мы оглядываемся — народу на улице мало.
Инкассаторы подходят к своей машине, небольшому бронированному грузовичку.
В то же мгновение Гудрун и Рика выхватывают из корзин с цветами автоматы, итальянка кидает несколько дымовых шашек для острастки. Мы с моим «компаньоном» бросаемся с пистолетами в руках к инкассаторам, и я кричу:
— Всем лежать, руки за голову!
Все реагируют по-разному. Шофер бронированного грузовичка нажимает кнопку, и на окна его кабины с сухим щелканьем опускаются стальные жалюзи. Теперь он в безопасности и наверняка вызывает по радио полицию.
Охранник банка, этот смельчак, во весь рост хлопается на землю и даже зажмуривает от страха глаза. Второй охранник, тот, что прибыл с инкассаторами, начинает возиться с кобурой. Я стреляю в него, попадаю, наверное, в руку, потому что, уронив пистолет, он с воем катается по земле, зажав локоть.
Самыми ловкими, как ни странно, оказываются инкассаторы. Один с такой быстротой выхватывает пистолет, словно всю жизнь снимался в ковбойских фильмах, и разряжает в нас всю обойму. Одна пуля задевает мне ухо, другая впивается моему «компаньону» прямо в лоб, третья поражает итальянку в горло.
Гудрун открывает огонь почти одновременно и поражает обоих инкассаторов. Я хватаю сумки, забрасываю их в кузов и вскакиваю в кабину, Гудрун за мной. Последнее, что я вижу, раньше чем машина срывается с места, это Рика. Из своего автомата точным одиночным выстрелом она прикончила итальянку.
На полной скорости, под крики прохожих, мы вылетаем на дорогу и мчимся прочь от города. Добираемся до развалюхи, перекладываем деньги в продовольственные пакеты, и идем на железнодорожную станцию.
В город въезжаем в сумерки. Из окна поезда видим, что на дорогах идет проверка. Но проверяют лишь тех, кто выезжает из города.
Положение у нас невеселое. Явок нет, мы ведь здесь случайно. Придется рисковать. Расходимся по отелям, в конце концов, документы у нас в порядке.
Перед тем как распрощаться до завтра, я спрашиваю Рику:
— Зачем девчонку-то пристрелила?
Она пожимает плечами.
— Я видела — рана смертельная. Но перед смертью они могли из нее что-нибудь вытянуть насчет нас. Да и зачем ей мучиться. И потом в борьбе против системы возможно все, даже предательство своих…
И пошла, и пошла! Да, говорить она умеет не хуже, чем стрелять из автомата.
Вечером смотрю телевизор. Диктор сообщает о налете с массой ненужных подробностей. Все-таки итальянцы любят все приукрашивать. Выясняется, что мы забрали без малого шесть миллионов лир, что один инкассатор, отец двоих детей, убит, второй, холостяк, тяжело ранен, но выкарабкается (нет чтоб наоборот, жестокая все-таки дама — судьба, несправедливая). Убиты и двое налетчиков — мужчина и женщина, — как уже установлено, студенты из Болоньи. И тут, не веря ушам, я узнаю, что убиты они охранниками, мужественно вступившими в схватку с налетчиками. Ох уж эти итальянцы! Но нас это устраивает, а то, если «красные бригадисты» узнают правду, нам может не поздоровиться.
Утром встречаемся в каком-то кафе неподалеку от собора. Думаем, как быть дальше. В конце концов, решаем рискнуть. Я захожу на вокзал и оттуда звоню Франжье. Он подходит сразу же, словно только и делал, что ждал моего звонка.
Я долго молчу. Тогда он спрашивает:
— Это ты, Шарль?
Я бормочу в ответ:
— Ошибка, — и вешаю трубку.
Телефон шефа, конечно, прослушивают. Впрочем, кого только в моей благословенной стране не прослушивают?.. Да разве только у нас? А в Италии, Франции, Америке, Англии…
Всюду есть теперь гигантские электронные мозги, миллионные картотеки, где все записано, зарегистрировано, где о некоем Арндте, бывшем тихом студенте, а ныне опасном террористе, известно больше, чем я сам знаю о себе. И о Гудрун, моей нежной подруге, и о Рике, и о Франжье, знаменитом адвокате… И об Эстебане тоже. А о нем почему? Он ведь никого не убивал, не взрывал и, насколько я знаю, не собирается совершать насильственный переворот. Но он «красный». И поэтому отвечает за все беспорядки, которые происходили, происходят или могут происходить в стране, в Европе, в мире. И за все преступления «красных бригад» он тоже, конечно, в ответе. Они — «красные», он — «красный», а в деталях некогда разбираться. Раз «красный» — значит, виноват.
Я тогда задаюсь вопросом: почему? Почему наши уважаемые судьи, наши милые моему сердцу прокуроры и полицейские начальники, наши правители, официальные и неофициальные, куда больше боятся мирных демонстраций, в которых участвуют бабы, детишки и дряхлые старики, чем, скажем, нас, боевиков-террористов? Почему впадают в панику, слушая речи на профсоюзном собрании забастовщиков, и не умирают от страха, обнаружив один из наших тайных складов оружия?
Уж не потому ли, что один Эстебан с его речами, статьями и мыслями для них бóльшая опасность, чем вся наша организация?
В конце концов, с нами дело иметь неприятно, от нас пощады не жди. Но с другой стороны, ну отправим мы на тот свет пять судей и прокуроров, десять, двадцать. Одного миллионера, двух, трех. Но не всех же!
А Эстебан и его друзья-коммунисты уничтожат всех поголовно! Не в том, конечно, смысле, как мы, не взорвут и не перестреляют, но лишат власти и денег, а для наших правителей, официальных и еще больше неофициальных, это хуже смерти.
К тому же нас тоже, если серьезно взяться (я-то понимаю), не так уж трудно перестрелять. Сколько нас? Тысяча, пять, десять? Да откуда! А попробуй-ка перестрелять всех, кто за Эстебаном стоит. Шиш! Не все они, конечно, коммунисты, разный там народ. Но что они все не миллионеры — это уж точно. И что им не нравится ходить без работы, а, имея работу, все время опасаться ее потерять. Им не нравится, что кто-то, кто ни черта не делает, имеет все, а кто работает как вол, не имеет ничего.
И тогда Эстебан и другие такие, как он, пусть не коммунисты, объясняют, что к чему, и предлагают разные пути, чтоб все поставить на место. И хотя среди этих путей нет ни убийств, ни взрывов, они в сто раз опасней для тех, кто там, наверху, чем мы со всеми нашими бомбами и базуками.
Вот потому на таких, как Эстебан, и навешивают любое преступление, а уж кто его в действительности совершит — какое имеет значение.
Как-то давно Гудрун, моя мудрая подруга, сказала: «Слово сильнее пулемета». Потом она это говорить перестала. Однажды я ей напомнил:
— Что-то, я смотрю, у тебя взгляды изменились. Ты теперь меньше болтаешь, больше стреляешь…
— Слепец, — обрывает и смотрит на меня с презрением, — такой же слепец, как это стадо баранов! Они не понимают, что есть люди такие, как мы, готовые жизнь отдать ради их блага. Ничего, придет время — поймут. А пока, если не слышат слов, пусть слышат выстрелы. Может, хоть это их разбудит!
Может быть. Да только вряд ли поблагодарят за такой будильник…
Однако я отвлекся. Что я, в конце концов, не могу порассуждать на отвлеченную тему? Я и так ничего не утаиваю в своих «мемуарах». Вы же наверняка горите нетерпением узнать, что дальше.
Ну так вот. Звонком к Франжье я доволен. Вряд ли кто мог о чем-либо догадаться — ну ошибся человек номером, ну показалось Франжье, что звонит его друг Шарль. Что здесь подозрительного? Голос мой по одному слову не узнать, да и длился весь разговор десять секунд. Но главное сделано: «Шарль» — это маршрут № 5 в Швейцарию. Теперь все в порядке, теперь ясно, что нам делать.
Довольно улыбаясь, выхожу из кабинки и направляюсь к ближайшему кафе, где в глубине зала меня ждут Рика и Гудрун. И тут я перестаю улыбаться. Перестаю, потому что не успеваю к ним присоединиться, как мы видим через окно: к вокзалу на полной скорости подлетают три черных длинных «феррари» с антеннами на крышах. Из машин выскакивает десяток крепких ребят в плащах. Они устремляются к телефонным кабинкам.
Ого-го! Вот это оперативность! Чтоб за несколько секунд засечь звонок из другой страны, сообщить сюда, поднять группу… Нас это наводит на серьезные мысли. Как ни странно, именно этот эпизод заставляет по-настоящему задуматься о нашем нынешнем положении. У нас, конечно, есть повсюду друзья и доброжелатели, есть деньги, несколько комплектов надежных документов, есть оружие, целая сеть тайных квартир, тайных маршрутов движения. Но и врагов хватает. Весь Интерпол, вся служба безопасности, разные добровольные и платные полицейские осведомители, «законопослушные граждане», которые спят и видят, как бы получить премию за нашу поимку. Наверняка такая премия уже назначена банками, которые мы ограбили, простите, экспроприировали. Нюанс. Но владельцам банков он мало что говорит.
— Лучше всего куда-нибудь уехать подальше. Отдохнуть немного, набраться сил. Да и пусть здесь память о нас несколько выветрится.
Ну уж если Гудрун устала…
Но, словно угадав мои мысли, она торопится добавить:
— Ненадолго. Потом вернемся. И продолжим нашу революционную борьбу. Сволочи. До чего я их всех ненавижу!
Гудрун не всегда умеет сдерживать свои чувства.
Что касается Рики, то она того же мнения, но выражает его в стиле своих лучших публицистических статей:
— Ты права, надо подготовиться, потренироваться. Время есть. В конце концов, терроризм тем и отличается от «путчизма», что не ставит своей задачей немедленное свершение революции. Он создает в первую очередь условия для политической работы…
Пока они ведут эту высокоинтеллектуальную беседу, я размышляю о маршруте № 5. Надо ехать по железной дороге. Лучше не из Милана. На пригородном поезде мы доедем до какой-либо станции, оттуда на транзитном экспрессе прямо до Женевы. Так мы и делаем. Выждав еще два дня, пока утрясется история с банком и ослабнет контроль, мы, опять-таки разделившись, добираемся на дизеле до какого-то маленького городка у границы. Ночью садимся в экспресс Рим — Женева, который стоит здесь полторы минуты.
Чуть не до самой Женевы спим как убитые, благо удалось взять билеты в спальные вагоны.
Женева встречает нас ярким солнцем и голубым небом. Выходим из здания вокзала, переходим площадь и медленно спускаемся к озеру по улице Монблан. Останавливаемся у бесчисленных витрин, разглядываем часы, сувениры, ювелирные изделия. Кого-то ведь интересуют эти золотые и бриллиантовые побрякушки, эти часы всех размеров и моделей, начиная от усыпанных изумрудами дамских миниатюрных часиков-колец и кончая дурацкими настенными кукушками с гирями в виде еловых шишек. Мы рассеянно смотрим на умопомрачительные элегантные туфли, сумки из крокодиловой кожи, костюмы, рубашки, галстуки, белье. Тряпье! Тряпье и мусор для буржуа. Террор вещей! Вот где террор — все эти буржуа живут в страхе перед вещами, вернее, перед невозможностью их иметь. Ничего, мы их освободим от страха. Когда от наших бомб взорвутся эти роскошные витрины, взорвутся и кое-какие установившиеся взгляды на жизнь…
Во всяком случае, мы прекрасно чувствуем себя в наших джинсовых одеяниях. Здесь, кстати, они никому не бросаются в глаза, половина прохожих одета так же.
Переходим мост, минуем цветочные часы, слева вдали играет в лучах солнца знаменитый женевский фонтан. Углубляемся в сеть переулков и наконец оказываемся в старом темном дворике старого темного дома. Поднимаемся на пятый этаж. Открываем дверь (ключ нам оставили в шкафчике камеры хранения на вокзале, а шифр написали на пятой странице адресной книги в ближайшей кабине телефона-автомата).
Обыкновенная квартира, может быть, немного почище и поуютней, чем прежние.
Готовим себе завтрак. Холодильник набит всякой снедью. Мы с Рикой пьем кофе с бутербродами, Гудрун на этот раз довольствуется яичницей с беконом, банкой компота и солидным куском сыра.
Затем мы включаем телевизор и начинаем ждать. Однако до вечера никто не обнаруживается, телефон молчит. Терпение наше иссякло, и на третий день выходим в город.
Солнце еще жарче, небо еще голубей. Многие ходят в майках с изображением черт знает чего на груди, начиная от целующихся влюбленных и кончая портретами знаменитых футболистов, певцов и президентов.
Я, к сожалению, свою куртку снять не могу, у меня под мышкой пистолет.
Спускаемся к озеру.
Женева не Венеция. Здесь все приветливо и солнечно. А может, это зависит от погоды. Я заметил, что когда в какой-нибудь город приезжаешь в дождь, то остается совершенно иное воспоминание, чем если побывал там летом. Хотя город-то не изменился, он все тот же.
Бродим по набережным, пьем кофе в летнем кафе на острове Руссо возле его памятника (кофе здесь, конечно, не чета итальянскому), любуемся лебедями, и Гудрун кормит их хлебом. На лице ее умильное выражение, она растрогана красотой и грацией лебедей. Заходим в казино, но не задерживаемся — Интерпол протянул свои щупальца и в Швейцарию.
Долго сидим в сквере у отеля «Метрополь», смотрим на синее озеро и белоснежный фонтан вдали. Потом заходим в кино.
Надо же! Такие совпадения не часто бывают. Шел итальянский фильм «Я боюсь». Фильм как фильм. Но дело в том, что он про нас. Ну, не совсем про нас, про итальянских террористов. Там бедняга полицейский должен охранять какого-то судью, не то прокурора, за которым охотятся террористы, и он до смерти боится, как бы его не отправили на тот свет. А выясняется, что больше всего ему следовало бояться собственного начальства, потому что оно было с этими террористами заодно.
Фильм средненький, но я задумался.
Неужели у нас, я имею в виду «Армию справедливости», такая сила? Неужели у наших руководителей такие покровители? Или это только в Италии? И только в фильмах? Тогда почему за нами охотится полиция, специальные службы, почему нас убивают, арестовывают, сажают в тюрьму? А мы зачем уничтожаем полицейских и судей? Раз мы такая теплая дружная компания?
Потом я соображаю, что все-таки не все одним миром мазаны. Таких организаций, как наша, много, небось десятки, да еще во всех странах. Так и среди всех этих спецслужб, судей, следователей, прокуроров тоже есть разный народ. Вот и этот полицейский из фильма тоже вроде бы честный малый.
Наверное, хоть я их и ненавижу, но все же большинство в полиции честно делают свое дело. Нет, они, конечно, не прочь положить в карман, если что лишнее валяется на дороге, но людей, если смогут, убивать не дадут. И судьи, может, какую-нибудь шишку, у которого лучшие адвокаты, не посадят, но тех, кто взрывает и убивает, запросто отправляют в тюрьму. И не на день или два.
Но все же есть какие-то связи. И почему высокие деятели политические, военные, другие, как пишут газеты, могут быть заинтересованы в нашем существовании? Да потому, наверное, что, прихлопнув Ара, они заодно прихлопнут и Эстебана, хотя у Ара руки в крови, а Эстебан вроде бы только глотку дерет. Почему? Почему они считают его таким же опасным? Он-то ведь бомб не подкладывает и никого не похищает. Да, это вопрос.
Вот я и размышляю.
Смотрю, Гудрун и Рика тоже задумались. Потом Гудрун спрашивает, словно бы в пространство:
— Интересно, кто такой этот Рони?
Ей никто не отвечает, да она и не ждет ответа. Но ведь в самую точку попала! Увидим ли мы его еще когда-нибудь?
Ответ на свой вопрос я получил в тот же вечер. Французы говорят, что, когда думаешь о черте, он показывает хвост.
Мы обедаем в маленьком ресторанчике возле церквушки, что недалеко от улицы Монблан. Это даже не ресторанчик, а какой-то домашний пансион, и хозяйка обхаживает нас, надеясь, наверное, что мы у нее снимем комнаты. Черта с два.
Возвращаемся к себе на квартиру и включаем телевизор. И в один голос начинаем хохотать. Передача посвящена… терроризму! Наверное, сегодня Всемирный день терроризма, и все фильмы, теле- и радиопередачи посвящены ему. Не знаю, откуда идет передача, во всяком случае, не из Швейцарии. Некий, судя по количеству орденов и галунов, высокий полицейский чин важно разглагольствует о наших скромных делах. Он обрушивает на нас целую лавину цифр. Оказывается, за минувший год «в мире было совершено 2400 актов терроризма», в том числе 744 убийства, 684 нападения, 100 похищений, подложено 848 бомб, угнано 11 самолетов…
Одна американская фирма «Рассел и Теккер», или что-то в этом роде, даже использует специальные компьютеры, вычисляя «степень вероятности нападения террористов», и берет за это по тысяче долларов. Но советов фирма не дает (и хорошо делает, иначе давно бы обанкротилась).
Я слушаю и постепенно мрачнею. Я-то думал, что мы вносим серьезный вклад в мировую революционную борьбу, а оказывается, стреляют и убивают все, кому не лень, вон сколько совершается нападений, без малого по десятку в день.
Выключаем телевизор, садимся ужинать. И тут раздается условный стук в дверь.
Мгновенье — и мы на ногах. Рика бросается к окну, из-за занавески смотрит на улицу. Гудрун выходит в переднюю и становится так, чтобы отворившаяся дверь загородила ее. Я подхожу к двери и присаживаюсь на корточки, чтоб в меня не попали, если будут стрелять сквозь нее. В руках у нас пистолеты. Все это давно отработано, и, будь мы лунатиками, наверное, и во сне заняли бы те же позиции.
Тихим голосом спрашиваю тех, кто стучал. Слышу пароль, говорю отзыв и, не опуская пистолета, открываю дверь.
И кого же я вижу на пороге?
«Дорогого друга» собственной персоной!
Он улыбается, его белесые глаза рассматривают меня. В редких светлых волосах безупречный пробор. На нем элегантный голубой костюм, розовая рубашка, синий галстук и желтые ботинки. Попугай.
— Не ждали? Рады? — спрашивает он, словно рождественский дед, пришедший к детишкам с полным мешком подарков.
— Откровенно говоря, не ждали, — говорю я.
Но мы действительно рады. И Гудрун и Рика начинают суетиться, чтобы получше угостить дорогого гостя. На столе вырастает батарея бутылок, из холодильника извлекаются все припасы. Но наш гость величественным жестом отклоняет угощение.
— Есть серьезный разговор. — И улыбка исчезает с его лица.
Усаживаемся и готовимся слушать.
— Вот что, — начинает Рони, и в голосе его звучат командные нотки, — думаю, вам пора переменить климат. Европейский становится для вас вреден. Предлагаю совершить небольшое турне за океан, скажем, в Южную Америку. Там сейчас благодатный сезон. Отдохнете. А кстати и усовершенствуете ваши знания. Учиться всегда полезно. Потренируетесь. Ума наберетесь. А потом, обогащенные, вернетесь домой уже для настоящей работы.
— Значит, до сих пор работа была не настоящая, так, шуточки? — не выдерживаю я.
— До сих пор, — говорит он жестко, — вы были дилетантами. Способными, не спорю, но любителями. Вернетесь после наших лагерей профессионалами.
— Каких лагерей? — спрашивает Гудрун.
— Тренировочных. Не беспокойтесь, условия там и для жизни, и для занятий прекрасные. Еще спасибо скажете. Есть вопросы?
— Когда отправляться? — интересуется Рика.
— Завтра.
— Прямо завтра?
— Прямо завтра.
— А как?
— Самолетом. Билеты уже заказаны. Деньги у вас есть, насколько я понимаю (улыбается, мерзавец, иронически). А новые паспорта вот, с визами, печатями. Все в порядке.
И протягивает нам толстый конверт.
— Ну что ж, мне пора. Ни о чем не беспокойтесь. О дне вашего прилета там будет известно. Вас встретят, доставят куда надо.
— А вас когда увидим? — спрашиваю.
— Увидите в свое время, — усмехается.
— Когда обратно?
— Все узнаете в свое время.
— Франжье в курсе дела? — спрашивает Рика.
— Конечно. Кстати, он просил вам передать привет. Приехал бы сам, но дела не позволяют. Во всяком случае, когда вернетесь, по-прежнему будете иметь дело с ним.
И вдруг я испытываю чувство странного облегчения. Уехать! Уехать! Подальше. И поскорей. Куда-то, где можно не прятаться, не надевать парики и темные очки. Не носить пистолета в кармане. Не оглядываться на каждый шорох. Не присматриваться к каждому встречному. Где можно просыпаться по утрам и знать, что доживешь до вечера.
И где не надо убивать других…
Чувство это накатилось стремительно, оно росло, как снежный ком. Я хотел бы уехать сегодня, прямо сейчас…
— Летим завтра? — спрашиваю.
— Да, — отвечает Рони.
— А может, лучше сегодня?
Он с удивлением смотрит на меня.
— Куда такая спешка? Вот, кстати, билеты в первый класс. И вот что, переоденьтесь-ка! Это здесь вы сливаетесь с природой, — он улыбается, — а там, в первом классе, окажетесь белыми воронами. И еще — оружие оставьте здесь. С ним аэродромный контроль не пройдешь.
— Как же без оружия?! — восклицает Гудрун (она не хотела бы с ним расставаться даже и в уборной).
— Да не беспокойтесь, там получите другое. Там все получите, — он иронически смотрит на нас, — и оружие и квалификацию.
Я беру себя в руки. Что за истерика? Что за слабодушие? Я боец «Армии справедливости», я человек, посвятивший свою жизнь борьбе с капитализмом, с этим отвратительным, презренным обществом стяжателей. Так какого черта! Да нет, теперь уж покоя, безопасности и безделья мне не знать до конца жизни. А вот когда наступит этот конец, не известно никому, и меньше всего мне.
— Ну что же, — говорю я, — спасибо за заботу. Будем готовиться к отъезду.
Это был довольно невежливый намек. Но Рони, по-моему, его не понял. Или не захотел понять. Он посидел у нас еще полчасика, беседуя о чем попало, только не о деле. Потом распрощался.
Похлопал меня по плечу, пожал руку, поцеловал в щечки женщин и исчез, оставив запах крепкой туалетной воды.
Спали мы плохо, проснулись рано. И сразу же начали готовиться к отъезду. А чего, собственно, готовиться?
Мы все оставляем в этой квартире. Как охотники на далеком севере: оказавшись в охотничьей избушке в глубине лесов и найдя там оставленные предшественниками консервы, патроны, спички, они, в свою очередь, уходя, оставляют запасы тем, кто придет после них.
Наши деньги мы еще раньше поодиночке, немало помотавшись по маленьким банкам, перевели в дорожные чеки. Оставалось переодеться. И вот во время этой, казалось бы, пустяковой процедуры чуть не произошла катастрофа.
Конечно, из-за этой сумасшедшей Гудрун. Мы покупали плащи, костюмы и обувь в разных магазинах, заходя туда поодиночке.
Так вот, когда Гудрун зашла в «Иновасьон» и стала примерять новый плащ, продавщица взяла подержать ее старый. Его карман оттягивало что-то тяжелое, заглянув в него, продавщица обнаружила пистолет (ну что скажете — едем на аэродром, куда с оружием нельзя, так она все-таки взяла его), разволновалась, растерялась и постаралась незаметно сообщить о случившемся заведующему секцией.
Но Гудрун оказалась на высоте. Увидев в зеркале всю эту сцену, пригнулась и, лавируя между рядами развешанной одежды, пробралась к лифту, спустилась на первый этаж и вышла из магазина.
Впрочем, чтоб нас не нервировать, она рассказала об этом эпизоде позже, когда мы летели над океаном. Замечательный полет! Наверное, то были самые счастливые часы в этот период моей жизни, и сейчас я вспоминаю о них с удовольствием и тоской.
В аэропорту все прошло благополучно. Багаж наш (два чемодана с одеждой, чтобы выглядеть солидно) даже не досматривали, паспорта проштемпелевали за полминуты. И вот мы в «Боинге-747» бразильской компании «Вариг», в этом роскошном самолете, да еще в первом классе.
Шума двигателя почти не слышно, за окном ночь, в самолете погасили свет, только горят ночники. Сюда не нагрянет полиция, здесь безопасно, покойно. Ах, лететь бы так всю жизнь в мягком кресле, в тихо урчащем роскошном самолете. И чтоб ночь и мрак были только за окном, а не в душе, не на сердце. Не впереди…
Мы подлетаем к Американскому континенту еще засветло, где-то справа осталась Куба, на страшной глубине под нами лежит ровный посверкивающий океан. Отсюда, с высоты десяти километров, разыграйся там хоть самый бурный шторм, все равно будешь видеть тишь да благодать.
Наконец возникает пенный прибой, желтые пляжи, зеленые пятна леса, разноцветные крохотные кубики прибрежных вилл, поселков.
Мы приземляемся в Ресифе. Остановка один час. Пересадка. И мы летим дальше на ДС-9 местной компании. Наш путь лежит на противоположный конец континента, в страну, которая по своим очертаниям напоминает червяка. Или змею. Прилетаем уже совсем в темноте. Опять пересадка на какой-то маленький самолетик, еще час полета, и мы приземляемся на небольшом аэродроме.
Здесь нас встречают. Я ждал какого-нибудь черноволосого кабальеро в огромном сомбреро и с парой пулеметов за поясом. Ничего подобного — вполне белый, даже бледноватый блондин. Он сразу подходит к нам, молча здоровается за руку и ведет к подержанному «лендроверу». Может, он не знает языка? Мы едем по проселочным дорогам, минуем селения, где, по-моему, и электричества-то нет, а только керосиновые лампы, въезжаем в лес, наконец оказываемся на поляне, на которой стоит небольшой жилой вагончик и вертолет.
Блондин подводит нас к вертолету, сажает в него, жмет на прощанье руки и захлопывает дверь. За все это время он не произнес ни одного слова. Да, в болтливости нашего сопровождающего не обвинишь. Впрочем, он может то же самое сказать и о нас.
Проходит минут двадцать. Мы уже начинаем беспокоиться, когда наконец появляется пилот. Он так же молча жмет нам всем руки (удивительно вежливый здесь народ), садится на свое место и включает двигатель. Вертолет плавно поднимается в воздух и с потушенными огнями углубляется в ночь.
Летим, наверное, с час словно в аквариуме с чернилами. Час на вертолете? Значит, километров триста. Наконец приземляемся. И как только пилот нашел место посадки! Выходим. Кругом джунгли, воздух сырой, жара, такое ощущение, что находишься в сауне. Выясняется, что не так темно, как казалось в вертолете. На небе здоровенные звезды, и где-то край горизонта начинает светлеть. Можно разглядеть неизменный жилой вагончик и группу людей возле него. Пилот куда-то уходит, и через несколько минут к нам подъезжает «лендровер» с двумя мужчинами. Они одеты в маскировочные комбинезоны и береты. Один из них жестом приглашает нас в машину. У нас уже нет сил ни говорить, ни удивляться, так мы устали.
«Лендровер» с полчаса колесит по лесной дороге и упирается наконец в высокие фигурные железные ворота. В ограде из колючей проволоки они выглядят нелепо. У ворот шест, на котором полощется флаг — в слабом свете я умудряюсь разглядеть на желтом фоне черную маску, пересеченную автоматом.
Сопровождающий нас подходит к видеопереговорному устройству и что-то бормочет. Ворота открываются, и мы въезжаем. Машина останавливается у приземистого деревянного дома. Из него выходит мужчина тоже в маскировочном комбинезоне, они шепчутся несколько минут, и мы снова едем. Теперь мы, как я понимаю, у цели — два десятка маленьких бунгало разбросаны в джунглях. Нас вводят в один из них. Две крошечные комнаты, туалет. На окнах светомаскировочные шторы, под потолком вентиляторы. Все чисто, всюду порядок. В одну комнату наш сопровождающий заталкивает Гудрун и Рику, в другую — меня, на прощание говорит:
— Подъем в семь, завтрак в столовой, вам покажут. Отдыхайте.
Первые слова, которые мы слышим в этой стране молчунов.
Наутро встаем совершенно разбитые. Сказывается долгий утомительный путь, разница поясного времени, влажная жара, ощутимая уже с утра.
И все же у меня отличное настроение. Не надо никого бояться, быть настороже, в напряжении. Можно расслабиться. Здесь нам ничего не грозит.
Где здесь?
В восемь часов за нами приходит вчерашний тип в маскировочном комбинезоне и приглашает жестом следовать за ним. Неужели опять начинается игра в молчанку?
Мы идем к дому, у дверей которого стоит автоматчик. Входим без стука в кабинет, как я понимаю, начальника лагеря.
Это приземистый человек лет пятидесяти. У него морщинистый лоб, набрякшие веки, густые усы, усталое лицо много повидавшего в жизни авантюриста. Во рту сигара. Мы садимся без приглашения, осматриваемся.
Стены кабинета увешаны всевозможным оружием — пистолетами, винтовками, автоматами, кинжалами; в углу стоит небольшой миномет, под потолком крутятся лопасти вентилятора.
— Добро пожаловать, — приветствует нас хозяин кабинета. — Рони говорил мне о вас. Вы из фракции «Первое июня»?
Я говорю:
— Мы бойцы «Армии справедливости» и хотим…
Но он останавливает меня пренебрежительным жестом.
— Это меня не интересует. В нашем лагере «бойцы», как вы выражаетесь, стольких армий, союзов, групп, бригад, движений, черт знает чего еще, что не удивлюсь, если вы когда-нибудь окажетесь по разные стороны баррикады. Хотя я знаю, что все вы против красных. Плевал я на политику. Мое дело научить вас тайной войне, а против кого вы ее будете вести, меня не касается.
Так вот, здесь лагерь, можете ходить по нему, от вас здесь секретов нет. В свободное время занимайтесь чем хотите — пейте, курите, колите наркотики, любите, даже деритесь. При условии, что с девяти до часу и с четырех до восьми, а иногда и ночью вы будет свежими, трезвыми, бодрыми. В эти часы занятия. А у нас не школа бальных танцев, имейте в виду. Курс два месяца. Потом поедете куда захотите, впрочем, вами, полагаю, займется Рони. И еще один совет — поменьше болтайте с другими. Это может иметь для вас нежелательные последствия, — улыбнулся, — не теперь, так позже, через год, два. Даже господь бог не может предвидеть пути, по которым пойдут те, кто бывает в моем лагере. Все ясно?
Мы сразу понимаем, что капризничать с этим типом не следует. Кто он? А черт его знает. На груди его комбинезона два десятка планок неизвестно каких орденов, и, как я впоследствии установил, он без акцента говорит по меньшей мере на полудюжине языков, в том числе на нашем.
Идем осматривать лагерь.
В нем полсотни гектаров, и наверное, место это выбрано не случайно. Здесь есть все: и джунгли, и заросли, и морское побережье, и песчаные дюны, и водопад, и даже скалы. В одном месте построено несколько каменных домов — макет городского квартала, даже со светофорами. С утра до вечера слышна стрельба — хлопанье пистолетных выстрелов, треск автоматов, уханье минометов, иногда громкие взрывы.
Занятия начинаются в тот же день.
Могу вас заверить, что пришлось нам попотеть изрядно, даже мне, а я все-таки тренированный спортсмен, хотя последнее время в спортзал и не ходил, да и к бутылке стал чаще прикладываться. (Интересно, я заметил, что, несмотря на разрешение начальника, никто почти в лагере не пьет — то ли из-за жары, то ли по необходимости постоянно быть в форме.)
И еще одно. У женщин, а их немало здесь, нагрузка такая же, как у мужчин. Причем мне показалось, что они тренируются с бóльшим энтузиазмом, чем мы. Во всяком случае, Рика однажды сказала:
— Гораздо интересней учиться подкладывать бомбы или выпрыгивать из автомобиля на полном ходу, чем сидеть за пишущей машинкой.
А? Как вам это нравится? Наш теоретик, эта журналистка, предпочитает размахивать бомбой, а не пером. Кто ж тогда будет подводить теоретическую базу под всю нашу благородную деятельность?
Чему мы учились? Многому. Стрелять из десятков различных моделей автоматов, пистолетов, винтовок, пулеметов ночью, в темноте, с обеих рук, в падении, прыжке, по нескольким мишеням сразу; учились изготовлять самодельные бомбы, начинять взрывчаткой автомобили, незаметно подбрасывать и подкладывать бомбы в поездах, в квартирах, в учреждениях и в общественных местах; производить взрывы на расстоянии; блокировать машины, догонять и уходить от преследования, водить мотоцикл, трактор, вертолет, автомобили всех марок, а заодно и открывать их дверцы и заводить моторы без ключей. Учились вскрывать сейфы, подделывать документы, переодеваться, менять внешность, притворяться мертвым; учились убивать голыми руками. Тут я со своим каратэ, конечно, преуспел, но оказалось, что есть и другие системы, не менее эффективные.
Ну были, конечно, и ненужные «дисциплины», скажем, ползанье в песке, грязи, болоте, преодолевание реки, проволочных заграждений, минных полей. Зачем нам это? Может, кубинцам — противникам Кастро (их тут тоже хватало) это нужно, но нам-то зачем? В городах болот и минных полей не бывает…
Но мне сказали, что курс общий и нечего манкировать.
По вечерам чем нам оставалось заниматься? Хотя были тут и наши соотечественники, но, памятуя рекомендацию начальника, мы избегали общаться. Все в лагере делились на маленькие группы вроде нашей, замыкались в них.
В свободное время я играл на гитаре, читал детективные романы, занимался любовью с моей то пугавшей меня, то нежной и ласковой Гудрун. А что еще? Тоска и лень…
Так жили мы два месяца, показавшиеся нам годом. Мы загорели до черноты, похудели (у Гудрун, по-моему, только нос остался), но мышцы стали железными. Расстояния и упражнения, которые вначале казались нам непосильными, теперь давались легко. А главное — появилась жажда деятельности.
В конце концов там, за океаном, на нашей родине, наши единомышленники, наши товарищи по борьбе, солдаты «Армии справедливости», вели благородную борьбу с этим прогнившим обществом потребления, унавоживали почву, на которой должно было расцвести новое, справедливое общество, а мы тут прохлаждаемся под пальмами на берегу Тихого океана. Там гремят настоящие взрывы, свистят настоящие пули, настоящая смерть настигает наших товарищей. Пора в дорогу!
И однажды нас вновь вызвал начальник лагеря.
— Ну что, подзакалились, подучились? В зеркало смотрелись? Приехали белоручками, а теперь бойцы, солдаты! Вернетесь, ваши друзья из «Черного порядка»…
— Мы из «Армии справедливости», — перебиваю.
— Ах да, извините, вас тут столько, что запутаешься. Словом, завтра уедете. Маршрут вам подготовлен. Желаю удачи.
— Спасибо, — говорим. — Мы вас не забудем.
— А вот это зря, — хмурится. — И меня и лагерь забудьте навсегда. Но все, чему научились здесь, всегда помните.
Наутро, еще не рассвело, прикатил за нами все тот же мужчина в маскировочном комбинезоне на том же «лендровере», и наш путь повторился, только в обратном направлении: машина, вертолет, самолетик, самолет и роскошный «Боинг-747», перебросивший нас в Париж.
На этот раз покоя в самолете я не чувствовал, с тревогой думал о том, что меня ждет впереди.
На аэродроме «Шарль де Голль» мы просидели целый час, а затем перелетели в наш родной город. Выходили со страхом, скрывать не буду, оглядывались по сторонам. Когда протягивали паспорта (новые, нам их дали еще в лагере), руки дрожали. Но все прошло благополучно.
С аэродрома поехали прямо на тайную квартиру в центре города, между прочим, в двух шагах от главного полицейского управления.
Опять весна, на улице теплынь, солнце греет вовсю. Люди заняты своими делами, дети играют в скверах, влюбленные обнимаются у всех на виду, работают банки, магазины, фирмы…
Ничего, мы вернулись, солдаты «Армии справедливости», мы вернулись, и скоро вашей безмятежной жизни настанет конец!
Глава VIII Суд
Пока Ар, Гудрун и Рика совершенствовались далеко за океаном в своей специальности, их коллеги, оставшиеся в Европе, не бездельничали.
Как сообщали газеты, в ФРГ существовало 140 неонацистских групп, в которых состояло почти 20 тысяч членов; в Испании действовали около ста ультраправых группировок; во Франции имелась еще без малого сотня; в Финляндии тоже собралось вокруг новоявленного фюрера Синтойнена тысяч двадцать нацистов. Были такие и в Австрии, и в Дании, и в Бельгии, и в Португалии, и в Италии, и в Норвегии, и в Англии… И конечно же, у Ара на родине.
Занимались ли они своим «коричневым» делом на основе родившегося за океаном пресловутого документа «ФМ 30–31», где прямо говорилось о необходимости использовать «террористические движения в дружественных странах», или действовали по собственной инициативе, кто знает?
Документ, например, рекомендовал «создание полувоенных подрывных группировок, участие провокаторов в манифестациях с целью организации беспорядков и столкновений с полицией, акции, направленные на дискредитирование юридической власти и полиции, за проникновение в государственный аппарат, организацию взрывов, на убийства полицейских…».
Почти каждые десять часов происходят провокации, которые газеты дружно приписывают «левакам», «красным», а то и прямо «левым силам».
— Революцию не планируют, ее делают! — говорит своим подругам Ар.
И вся тройка активно включается в «революционную борьбу». Взрываются две наполненные динамитом машины — одна у ворот американской военной базы, другая у здания городского комитета коммунистической партии; через несколько дней убивают председателя городского суда, еще через неделю взрывается бомба на почтамте, потом убивают генерального прокурора; через месяц покушаются, правда неудачно, на президента крупнейшего банка, убивают полицейского комиссара, лидера правящей политической партии, начальника полиции, директора конфетной фабрики… Взрывают, стреляют, похищают… А всего в стране за десять лет с небольшим было совершено 13 тысяч актов политического терроризма, 312 человек убили и 1.075 ранили.
Однажды вечером, когда Гудрун, Рика и Ар отдыхали от своей бурной деятельности, с увлечением наблюдая по телевизору рекламу новой непотопляемой морской яхты, раздался условный стук в дверь.
Это был Франжье. Хоть связь с ним они поддерживали все время, воочию он предстал перед ними после их возвращения впервые.
Франжье казался постаревшим и усталым.
— Рад вас видеть, голубки, — сказал он со слабой и тут же слинявшей улыбкой, — вы отлично выглядите и за последнее время неплохо поработали. Как самочувствие?
— Самочувствие можете определить по нашим делам, — заметил Ар.
— Ну, судя по ним, оно великолепное. Но сейчас нам предстоит осуществить очень сложную акцию. Очень.
Он замолчал.
Его «подопечные» впервые видели своего шефа таким озабоченным. Видимо, дело действительно предстояло серьезное. Ар выключил телевизор. Рика принесла из кухни бутылки с виски, пивом, ликерами, но Франжье даже не взглянул на них. Он посмотрел на часы, потом на дверь. И, словно в стандартном детективе, в ту же секунду раздается условный стук.
Ар, Гудрун и Рика мгновенно занимают боевые позиции.
— Откройте, это ко мне, — говорит Франжье.
Входят двое: парень со спутанными волосами, неровно подстриженными усами и плотная черноглазая девушка с длинными густыми черными волосами, спадающими по плечам.
— Знакомьтесь, — говорит Франжье, — Карл и Ирма. А это Ар, Гудрун, Рика. Садитесь. — Он уже, как всегда, деловит и энергичен. — Итак, предстоит новая, очень, подчеркиваю, очень важная, а главное — трудная акция.
Наступает напряженная тишина. Лишь с улицы доносятся обычные звуки — гул проезжающих машин, детские крики, хриплый лай собаки.
— Речь идет вот о чем, — Франжье делает паузу, кажется, он никак не может решиться приступить к делу. Наконец заговорил сухо, лаконично, без лишних подробностей: — Предстоит похитить вожаков двух враждебных нам партий: коммунистической и главной оппозиционной — либеральной. Эстебана и Ларсона.
— Эстебана?! — не может сдержать восклицания Ар.
— Да, Эстебана, — раздраженно повторяет Франжье, ему не нравится, что его прерывают. — Так вот, его и Ларсона. Мы будем их судить. На суде они признают свои заблуждения, политическую несостоятельность своих политических взглядов (а следовательно, и тех, которых придерживаются и их партии). Все подробности суда мы будем записывать на пленку и посылать в газеты, информационные агентства, на радио.
— А потом? — спросил Ар.
— А потом мы их отпустим. Полностью дискредитированные, они постараются оправдаться перед своими партиями, у них есть верные сторонники, начнется раскол, сумбур. Об этом нас и просили.
— Кто просил? — настораживается Ар.
— Я неправильно выразился, — раздраженно морщится адвокат. — Имел в виду, что вас об этом прошу я. Задание это вы должны выполнить, — он опять говорит властно, — и притом точно, быстро и без ошибок. Ваше дело само похищение, вернее, арест, — поправился Франжье. — Мы арестовываем, чтобы предать суду опасных преступников. Это всегда связано с риском для обеих сторон. Но, как известно, цель оправдывает средства. И если это верно вообще, то для революционных армий верно вдвойне. В общей сложности в акции будет участвовать человек шестьдесят. Но вы на вершине пирамиды, вы ударная группа.
— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо перебил Ар, — похитили, увезли, а дальше?
— Дальше моя забота, — сухо ответил Франжье.
Но Ар хорошо знал, что Франжье должен делать после того, как Ларсон окажется у него в руках.
К тому времени боевики «Армии справедливости» действовали во всех случаях как высококвалифицированные профессионалы. У них была широкая сеть тайных квартир, целые арсеналы оружия, о пополнении которых заботились люди вроде «дорогого друга» Рони, в свою очередь добывавшего это оружие у «частных» торговых фирм вроде «Интерармс» Каммингса. Добывалось оружие и с помощью налетов на оружейные склады и транспорты. Порой винтовки и взрывчатка таинственно исчезали при перевозке с одной военной базы на другую. У террористов были ракеты, пулеметы, минометы… даже зенитное орудие.
Каждая акция готовилась очень тщательно, поэтому группа, состоявшая из Ара, Гудрун, Рики, Карла и Ирмы, потратила всю осень и зиму на подготовку.
Наконец в середине марта они смогли приступить к делу.
Оба похищения были осуществлены на протяжении двух дней. И ни в чем не были схожи. Прежде всего крайне отличались друг от друга объекты акции.
Ларсон, лидер главной оппозиционной — либеральной — партии, принимал серьезные меры для своей охраны (помимо той, которая полагалась ему от полиции).
Его большой двухэтажный дом, стоявший в фешенебельном пригороде, напоминал крепость. Над высокой каменной стеной, окружавшей сад, возвышалась еще более высокая сетка, чтобы затруднить полет гранаты, если кому-нибудь вздумалось бы метнуть ее (а заодно и дохлых мышей или банки с красками, которые норовили бросить недовольные политикой его партии демонстранты). В доме пуленепробиваемые стекла и стальные рамы. У ворот в специальной пристройке дежурила охрана, она могла в любой момент соединиться прямым проводом с ближайшим полицейским постом. Ночью в саду спускали собак и дежурили вооруженные сторожа.
На работу Ларсон выезжал всегда в разное время и разными маршрутами. Происходило это так: в определенный час внезапно и быстро раскрывались глухие железные ворота и из ворот вылетал «кадиллак» Ларсона. Рядом с шофером сидел его постоянный телохранитель, офицер полиции. За «кадиллаком» следовала вплотную вторая машина с четырьмя телохранителями. Не считаясь ни с какими ограничениями скорости, автомобили неслись в город и там вливались в общий поток движения.
Казалось бы, при таких мерах охраны к лидеру либералов не подступишься. Однако Ар, тщательно изучавший эти меры, обнаружил два слабых места, на чем и был основан весь план похищения.
Во-первых, по совершенно непонятным причинам ни «кадиллак», ни машина охраны не были бронированными; во-вторых, каким бы маршрутом ни следовал Ларсон, подъезжая к штаб-квартире своей партии, он должен проехать по аллее, рассекавшей большой сквер.
В назначенный день боевики встали рано и тщательно проверили оружие. Спустились во двор, сели в машины (два обыкновенных белых «фиата», таких миллионы колесят по дорогам Европы) и разными дорогами направились в город. В одной ехали Ар и Гудрун, в другой — остальные.
А тем временем Ларсон, толстенький, кругленький, лысый, как бильярдный шар, поцеловал на прощание сынишек — таких же толстеньких и кругленьких, как отец, но в отличие от него кудрявых, — спустился с лестницы, сел в машину и поздоровался с телохранителем и шофером.
Огромный «кадиллак» по обыкновению пулей вылетел из ворот и помчался в город. За ним неотступно следовал автомобиль телохранителей.
В городе скорость упала до двух десятков километров, и «кадиллак» с сопровождавшей его машиной охраны, как в любом большом современном городе, еле двигался от светофора до светофора, совершая лихорадочные прыжки, как только загорался зеленый свет, и снова застревая в очередной пробке. Наконец автомобиль Ларсона въехал в широкую аллею, проложенную через сквер, и движение ускорилось. Ларсон начал укладывать документы в портфель (он имел привычку в пути готовиться к наступавшему рабочему дню).
«Кадиллак» уже приблизился к концу аллеи, когда неожиданно яркий белый «фиат», обгонявший «кадиллак» слева, резко свернул вправо и начал тормозить. Шофер Ларсона отчаянно засигналил, но вынужден был сбавить ход. Машина охраны затормозила еще резче и ткнулась в задний бампер «кадиллака».
Все последующее произошло одновременно и заняло не более минуты. Из кустов выскочили Рика и Карл — искаженные лица, плотно сжатые губы, горящие глаза. Они открыли огонь из автоматов по машине охраны, буквально изрешетив ее и сидевших в ней охранников. Тем временем Гудрун и Ар, выскочившие из первого «фиата», прямо сквозь ветровое стекло «кадиллака» застрелили шофера и личного телохранителя Ларсона и, открыв дверцу, начали вытаскивать из машины лидера либералов.
— Что вы делаете! — вопил Ларсон. — Вы знаете, кто я? Я депутат! Со мной охрана! Немедленно отпустите меня! — Он упирался ногами и руками, извивался, стараясь освободиться от нападавших.
Сильным ударом по голове Ар оглушил Ларсона, поднял его и бросил на заднее сиденье другого «фиата», который в этот момент подогнала Ирма. Через несколько секунд, воспользовавшись всеобщей растерянностью, «фиат» исчез в потоке движения.
Рика и Карл нырнули обратно в кусты, пересекли сквер, вскочили в ожидавшую их машину, которая тоже быстро умчалась. Убедившись, что оба «фиата» благополучно покинули место происшествия, несколько молодых парней и девиц, напряженно следивших за событиями и не выпускавших из рук спортивные сумки, облегченно вздохнули, разошлись по стоявшим поблизости машинам и разъехались кто куда.
Боевики «Армии справедливости», предводительствуемые Аром, и их жертва, усыпленная с помощью укола, который не хуже заправской медсестры сделала Гудрун, целый день продолжали заметать следы, меняя машины, тайные квартиры, переезжая с места на место, пока не оказались в большом уединенном коттедже на окраине города.
Кто арендовал этот коттедж, они не знали (хотя это наверняка был очень важный человек, судя по той почтительности, с какой разговаривал с ним по телефону Франжье). Впрочем, им было на это наплевать.
Под домом располагался просторный бетонированный подвал, разделенный на отсеки. В одном из отсеков поместили пленника — поставили туда кровать, стулья, стол, кувшин с водой.
А на следующий день состоялось второе похищение — на этот раз коммунистического лидера Эстебана.
У того не было ни вооруженной охраны, ни виллы за высокими стенами, ни пуленепробиваемых стекол в окнах квартирки, где он жил вдвоем с матерью.
Правда, когда он шел на демонстрации, на собрания и митинги, рядом с ним всегда оказывалось несколько крепких товарищей. Но не все же время они были с ним. В городской комитет, где он теперь работал, и в свой спортивный клуб, который он продолжал посещать, хотя в соревнованиях уже не участвовал, он ходил в одно и то же время, одним и тем же маршрутом.
Так что с ним все было проще.
Карл и Ирма подъехали к его дому на угнанной за полчаса до этого машине, некоторое время следовали за ним, пока он шел по улице, потом проехали немного вперед, и, когда Эстебан поравнялся с ними, из машины вышел Карл и, наставив на него пистолет, коротко приказал:
— В машину!
Эстебан огляделся. Пригородная улица в этот час была пустынной. Он вздохнул и полез в машину. Когда нагибался, Карл оглушил его сильным ударом по затылку, втолкнул на заднее сиденье и сел рядом с Ирмой.
Они не опасались преследования, ехали медленно. Но все же, следуя правилам конспирации, помотались по разным загородным дорогам, пока не приехали к тому же коттеджу, где томился в заключении Ларсон. Лидер либералов и не подозревал, что в соседнем отсеке подвала, отделенном от него лишь бетонной стенкой, теперь занял место другой пленник, коммунист Эстебан.
Охрана их была доверена Ару, Гудрун, Рике, Карлу и Ирме. Карла и Ирмы Эстебан не встречал, но Гудрун и Ара?..
Рано или поздно должен был наступить момент, когда Ару придется предстать в новом качестве перед своим бывшим другом. Гудрун тот тоже прекрасно знал. Но если Гудрун, ненавидевшая Эстебана, злорадно улыбалась при мысли о предстоящем свидании, то у Ара холодел затылок.
Эту встречу он откладывал, как мог. Впрочем, никакой радости не испытала и Гудрун. Она, конечно, не ожидала, что Эстебан упадет на колени и будет молить о пощаде. Но хоть испугается, притихнет. Куда там!
— А, и ты, длинноносая стерва, тут замешана, — такими словами встретил он ее, когда она принесла ему завтрак под охраной Карла, ставшего с автоматом в дверях. — А я-то думал, докатитесь вы до такой жизни или нет? И Ар здесь с тобой?
Гудрун задыхалась от ярости. Этот мерзавец, этот болтун, этот чистоплюй, который еще претендует на роль борца! А сам не пролил ни одной капли крови, ни своей, ни чужой! И он еще смеет так разговаривать с ней! Эх, если б не строгое предупреждение Франжье, с каким наслаждением она всадила б в него всю обойму из своего пистолета!
Когда же она заметила, что Карл слегка улыбается из-под маски, она едва нашла в себе силы молча выйти. Еще минута, и она бы плюнула на все инструкции. Ничего, она дождется своего часа!
В это же время Ирма принесла завтрак Ларсону. В дверях с автоматом здесь стоял Ар.
— Послушайте, — закричал лидер либералов, как только открылась дверь. — Я категорически протестую! Свяжите меня с моим адвокатом, с моей семьей. Я не миллионер, но разумную сумму готов отдать. — Он перевел дыхание и жалобно добавил: — Почему вы выбрали меня? Что вам сделала моя партия или я лично?
Он еще долго что-то бормотал, о чем-то просил.
— Вот вам бумага и ручка. Можете писать кому хотите — семье, газетам, адвокатам, в секретариат вашей партии… — сказала Ирма.
Через два дня в коттедж прибыли Франжье и некоторые другие руководители «Армии справедливости». Это были «судьи».
Первым судили Ларсона.
Его привели в наручниках в самый большой отсек подвала. Здесь под натянутым на стене знаменем «Армии справедливости» за покрытым зеленым сукном столом сидели пять судей. Все в джинсовых костюмах, в черных, наподобие ку-клукс-клановских, колпаках с узкими прорезями для глаз.
Среди судей была и Рика.
— Встаньте, Ларсон. Вы находитесь перед лицом революционного народного трибунала «Армии справедливости». Вам надлежит ответить за все ваши преступления…
— Какие преступления! Я не совершал никаких преступлений! — истерично закричал Ларсон.
— Не прерывайте прокурора! Список ваших преступлений велик: вы лично обогащались за счет народа, вам лично принадлежат фабрики, магазины, где вы эксплуатируете труд тысяч людей. Но этого мало. Вы идеолог своего преступного общества, буржуазного общества, само существование которого уже преступление. Вы возглавляете партию либералов, партию обманщиков и лицемеров. Программа вашей партии — сплошной обман. Ваша цель — подавление пролетариата. Кроме того, вы не раз делали оскорбительные и клеветнические заявления в адрес «Армии справедливости», единственной подлинной силы, борющейся за торжество справедливости в нашем обществе…
«Прокурор» говорил еще долго, и, когда он закончил, стало ясно, что нет и не было в истории страны более гнусного преступника, чем этот кругленький лысый человек, который, дрожа от страха и потея, стоял сейчас перед «судьями».
— Господа судьи… — пробормотал он, когда «прокурор» умолк.
— Здесь нет господ! — резко крикнул председатель суда. — Это вы представитель партии господ!
— Товарищи судьи, — еще тише промычал Ларсон.
— Мы вам не товарищи! Называйте нас «граждане»!
— Граждане судьи! — неожиданно громко, в отчаянии закричал Ларсон. — Это безумие! Я не миллионер. Я, конечно, богатый человек. Но таких много в нашей стране. Я никого не эксплуатирую, никого не подавляю. Я обыкновенный представитель нашего обыкновенного буржуазного общества. Что касается программы нашей партии, — теперь он говорил увереннее (парламентская привычка брала свое), — то в существующих в нашей стране экономических и политических условиях она наилучший компромиссный вариант. Если наша партия придет к власти, то увидите — рабочим и мелким служащим будет легче. Что касается нашей программы в области ликвидации дефицита, упорядочения закупочных цен на сельскохозяйственные продукты, то…
— Молчать! — стукнул по столу председатель. — Или вы воображаете, что выступаете в вашем прогнившем парламенте? Нас вам не обмануть, не надейтесь. Отправляйтесь в камеру и продумайте пункты обвинения. Они будут вручены вам в письменном виде.
Ларсона увели.
— Какое ничтожество! — в сердцах воскликнула Рика.
— Как и вся его партия, — презрительно заметил Франжье.
— Ничем не лучше правящей партии, кучки обманщиков и бездарностей, — добавил председатель.
«Суд» над Эстебаном оказался куда короче. Едва прокурор собрался произнести свою обвинительную речь, как Эстебан встал и громко сказал:
— Пошли вы к черту, банда убийц! Таких, как вы, надо стрелять и вешать. Да по сравнению с вами любая буржуазная партия выглядит прогрессивной. Плевал я на ваши цирковые номера. Отведите меня обратно в подвал и не беспокойте больше.
Все попытки вызвать его на дальнейшие разговоры к успеху не привели.
А в стране царило смятение. Как только в газеты и телеграфные агентства позвонили неизвестные и сообщили, что Ларсон и Эстебан арестованы в связи с тяжкими обвинениями, выдвинутыми против них «угнетенным большинством», и будут преданы суду «Армии справедливости», все первые страницы периодических изданий, все радио- и телепрограммы заполнили сенсационные сообщения: подробности похищений, меры, принятые полицией. «Из столицы перебрасываются воздушно-десантные подразделения», «Границы закрыты», «В столице введено осадное положение», — писали газеты. Сотрудники редакций не успевали отвечать на идиотские панические вопросы вроде: «Это правда, что началась революция? Действительно ли введен комендантский час? Кого еще похитили?» и т. д. В школах отменили экскурсии и загородные прогулки, студенты собирали митинги, рабочие объявили предупредительную забастовку, полиция находилась в состоянии повышенной готовности.
Заместитель Ларсона по партии, который лелеял тайную надежду занять место Ларсона, гремел с трибуны: «Смертную казнь негодяям и убийцам! Чрезвычайные законы негодяям!» Лидеры правых партий требовали «правительства сильной руки, а лучше военного».
Разумеется, волновало всех в первую очередь похищение известного политического деятеля, лидера либералов Ларсона. Если бы в своих сообщениях террористы не упоминали неизменно оба имени, газеты не обратили бы внимания на кражу какого-то красного вожака. Но оказалось, что газеты просчитались: на демонстрации протеста, на гневные митинги вышли рабочие, и их-то судьба Эстебана волновала куда больше, чем судьба Ларсона.
Первыми забастовали студенты, потом волна забастовок прокатилась по всем предприятиям города, страны. Тысячи юношей и девушек устроили демонстрацию перед полицейским управлением. «Требуем покончить с террористами!», «Убрать полицейских-взяточников!» — такие плакаты несли демонстранты.
В одной из газет появилась статья под заголовком «Заодно». В ней говорилось: «Чем объяснить, что по нашей земле свободно разгуливают и творят свои кровавые дела банды террористов? Почему полиция практически ничего не делает для борьбы с ними? Вернее, даже не полиция, а прокуратура, суд, министерство юстиции? Ведь раскрыты тайные квартиры, склады оружия, обнаружены документы, неопровержимо свидетельствующие о том, что речь идет о новом фашистском движении. Между тем арестованных отпускают "за недостатком улик", легальных руководителей нелегальных организаций, призывающих к свержению демократии, убийству левых лидеров, разгрому прогрессивных организаций, никто не останавливает и не привлекает к ответственности.
Уж не потому ли, что у иных высоких прокурорских, судейских чиновников сходные взгляды? И не потому ли гибнут от рук террористов как раз те немногие честные следователи и прокуроры, которые пытаются выполнить свой гражданский долг? И не странно ли, что все эти террористические банды при всем различии их лозунгов действуют одинаково и целятся в одну мишень. Право, создается впечатление, что у всех у них одно начальство…»
Репортеры бросились по адресам обоих арестованных. Однако дом Ларсона полиция охраняла еще тщательней, чем прежде, и проникнуть за высокую каменную стену им не удалось. Зато в скромную квартирку Эстебана набилось такое количество журналистов, фоторепортеров, телевизионщиков с камерами и прожекторами, что матери Эстебана, и без того подавленной похищением сына, стало совсем плохо, и ее пришлось увезти в больницу.
Руководство поисками взял в свои руки комиссар Лукас. Его высокая фигура не сходила с экранов телевизоров.
Журналисты потребовали у него интервью.
— Скажите, комиссар, как, по-вашему, — «Армия справедливости» действует самостоятельно или она связана с другими аналогичными организациями?
— Думаю, что террористической деятельностью в нашей стране руководит единый центр.
— Вы считаете, — не унимался журналист, — что это своеобразный союз?
— Да, трагические факты последнего времени показывают, что террористы, не замкнутая группа из нескольких человек, ведущих вооруженную подпольную борьбу. Они являются частью более крупной разветвленной организации. Поддерживая постоянные контакты посредством легальных организационных форм, они проникают во все основные структуры государства.
— Скажите, комиссар, ведь террором занимаются и фашисты, и нацисты, и левацкие «красные» группировки, и «Армия справедливости». У них, по их заявлениям, разные цели, разные программы, разные платформы. Методы же одни. Как вы это объясняете?
— А, — отмахнулся Лукас, — все они лишь марионетки в чьих-то могущественных руках.
— В чьих именно, комиссар?
— Ищите ответ на этот вопрос сами, а я еще дорожу своим местом, — под общий хохот ответил комиссар.
В распоряжении Лукаса имелись значительные силы. Специальная группа ГПТ-10 по борьбе с терроризмом — эффективное оружие. Это отряд, набранный исключительно из добровольцев — крепких, спортивных ребят. Мастера каратэ, дзюдо, айкидо, снайперы, способные попасть в монетку с трехсот метров и потушить ночью сигарету с двухсот. Они безошибочно поражают цель ножом с расстояния 25 метров. Могут спускаться с вертолета по канату, подниматься на десятиэтажную высоту с помощью башмаков и перчаток с присосками. Им ведомы десятки способов убивать, не пользуясь оружием. Они могут вести машину одной рукой со скоростью 200 километров в час.
На вооружении ГПТ-10 пуленепробиваемые жилеты и каски, автоматическое оружие всех видов, шоковые и другие гранаты, инфракрасные прицелы, особые радиосредства, винтовки «валькирия», стреляющие световыми вспышками, что вызывает у противника потерю ориентации, даже гусеничные роботы, которые умеют подниматься по лестнице, открывать любые двери, вскрывать подозрительные упаковки. На роботе есть телекамера, водяное ружье, управляется он на расстоянии.
Еще более эффективными были специально созданные полицейские группы, состоявшие отнюдь не из суперменов, а из бородатых, хиппиобразных очкариков, знатоков психологии, социологии, политических наук. Их задача — внедряться в различные студенческие и другие «потенциально опасные» организации, изучать причины возникновения анархизма, неонацизма, маоизма и других «измов», участвовать в дискуссиях, манифестациях, в бунтах.
Правда, очень быстро эти «академики» превратились в обыкновенных провокаторов и осведомителей, слившись со множеством других доносчиков из числа уголовников и тех, у кого по какой-либо иной причине рыльце в пушку.
Но все эти средства и люди пока не приносили успеха комиссару Лукасу. Тысячи полицейских и агентов службы безопасности прочесывали город и окрестности, опрашивали портье отелей, владельцев баров и ресторанов, привратниц в домах. Тщетно.
Тем временем «процесс» над Ларсоном и Эстебаном продолжался.
Немного утешал Ларсон, оказавшийся порядочным трусом. Насколько громовыми, яркими и блестящими были его речи в парламенте, настолько жалкими и невнятными были они перед «судом». Родственники, полиция, либеральная партия, различные организации объявили о крупных денежных наградах каждому, кто поможет отыскать Ларсона. Это было скрытое предложение выкупа.
Но «Армия справедливости» не шла ни на какие компромиссы. Наконец она сообщила, как всегда с помощью анонимных звонков, что процесс закончен, оба обвиняемых за свои тяжкие преступления приговорены к смерти, но что им дано право апелляции. К кому апеллировать, правда, не указывалось. И что в случае признания своих заблуждений наказание, возможно, будет смягчено.
Обо всем этом было сообщено и «подсудимым».
Эстебан только усмехнулся. Режим его теперь ужесточили, держали постоянно в наручниках, хуже кормили, свет не зажигали.
Ларсон, промучившись и провздыхав целую ночь напролет, заявил наконец, что все пережитое и передуманное, все услышанное от «граждан судей и прокурора» заставило его на многое взглянуть иными глазами и пересмотреть некоторые свои позиции. Начался длительный торг: уточнялись «некоторые позиции». В конце концов был согласован и принят документ, подписанный Ларсоном, в котором он доводил до сведения своей партии, правительства и «всего народа», что, тщательно ознакомившись с программой «Армии справедливости», он, хотя и с некоторыми оговорками, признает правомерность этой программы и право «Армии справедливости» на существование. Кроме того, проанализировав собственные действия как политического деятеля и руководителя либеральной партии, он признает, что совершено много ошибок — недостаточно оценена роль молодежных студенческих организаций, игнорируется право пролетариата на революцию и вообще на свержение насильственным путем правительства, не предусматривается борьба с коммунистической опасностью…
К официальному заявлению Ларсона, опубликованному наутро во всех газетах, было приложено неофициальное письмо премьер-министру (его террористы переслали вместе с заявлением, но в запечатанном конверте, который редакторы, конечно, тут же вскрыли).
В этом письме Ларсон писал, в частности:
«Надеюсь, Вы не забыли важнейшее положение нашего законодательства "не допускать, чтобы одно преступление повлекло за собой другое, еще более тяжкое". Надеюсь, Вы сознаете, какую потерю понесет политическое руководство страной (понимая это в широком смысле) в случае гибели одного из самых преданных демократии и родине сынов. А потому не сомневаюсь, что Вы сделаете все необходимое, чтобы не препятствовать моему освобождению. Мне бы не хотелось поплатиться за деятельность, ответственность за которую несут другие лица. Не сомневаюсь, что, как благородный человек, Вы не опуститесь до мести людям, быть может и заблуждающимся в своих методах, но проявляющим гуманность в решающий момент».
Это туманное и двусмысленное послание содержало тем не менее прозрачный намек: не преследуйте террористов, и они меня выпустят.
Вечером Гудрун дала Ларсону таблетку снотворного, и он сразу же заснул мертвым сном. Проснулся в машине.
Когда машина остановилась, Ар приказал:
— Выходи!
Пыхтя и кряхтя, тот выкарабкался из машины.
— Не оборачиваться, — приказал Ар, развязал Ларсону глаза и, усевшись за руль серого фургончика, уехал.
А Ларсон еще долго не решался обернуться. Наконец робко осмотрелся. Он оказался в безлюдном парке. Далеко-далеко на аллее, по которой его, наверное, привезли, был виден удаляющийся грузовичок.
Ларсон вскочил и, смешно семеня короткими ножками, побежал в обратную сторону. Вскоре он встретил молодую няньку с ребенком.
— Где я? — хрипло спросил Ларсон.
Испуганно заслонив ребенка от подозрительного человека с безумным взглядом, в мятом костюме, заросшего щетиной, нянька стала громко звать на помощь. Подбежал полицейский, оказавшийся поблизости.
Вскоре ошалевший от счастья Ларсон уже проводил пресс-конференцию у себя дома. Сначала, правда, приказал секретарю заказать бронированные машины себе и охране, удвоить охрану, установить в доме самые усовершенствованные электронные средства защиты и в заключение добавил:
— И приобретите мне, жене и детям пуленепробиваемые жилеты.
— И детям? — переспросил удивленный секретарь.
— Да, и детям! И себе тоже. Можете за мой счет…
Однако те два часа, что длилась пресс-конференция, оказались последними счастливыми часами в жизни Ларсона.
Уже скоро по тону вопросов и реакции журналистов на его ответы он понял, что пощады не будет. И не ошибся.
Со следующего дня и еще добрую неделю газеты перемывали кости «этому воплощению трусости», «недостойному предателю чести и достоинства партии», «клоуну в руках бандитов», «жалкому эгоисту». О боже, каких только эпитетов не употребляли газеты!
Но это было еще не самое худшее. Ларсон вдруг заметил, что никто из его коллег по партийному руководству, его сотрудников и друзей не звонит ему, не поздравляет с освобождением. Он сам позвонил премьер-министру, но секретарь ответил, что тот занят.
Все стало окончательно ясно на чрезвычайном заседании исполкома либеральной партии. Исполком единогласно принял отставку Ларсона (которую он и не думал просить) с поста лидера «в связи с ухудшением здоровья, связанным с последствиями драматических событий».
Так оборвалась карьера Ларсона, лидера главной оппозиционной партии страны — либеральной. И он, и его партия еще долго потом являлись благодатным сюжетом для карикатуристов.
Но внимание прессы и общественного мнения от судьбы Ларсона отвлекла другая сенсация — судьба второй жертвы «Армии справедливости» — Эстебана.
Эстебан держался твердо и мужественно. Сколько его ни приводили в «зал суда», сколько ни допрашивали, ни грозили, он молчал и держался с завидной выдержкой и хладнокровием. Не действовали ни наручники, ни ужесточенный режим.
Встал вопрос, что делать дальше.
И тут мнения руководителей «Армии справедливости» разделились. «Если мы оставим его в живых, это подорвет наш авторитет в массах, вызовет недоверие к нам. Если же мы приведем в исполнение приговор, наш престиж сильно возрастет», — говорили одни. «Это вызовет неслыханные полицейские репрессии — с одной стороны, а с другой — возмущение всех подлинно левых сил», — утверждали другие. Итог спорам подвел Франжье. Он сказал: «Казнь Эстебана по приговору нашего трибунала — это акт революционной справедливости, самый гуманный из тех, что возможны в этом обществе, разделенном на кланы». И все же еще оставались сомнения.
Однажды, подмешав ему в пищу снотворное, его спящего перевезли на квартиру боевиков почти в центре города. Полиция в своих поисках слишком приблизилась к коттеджу, и оставаться там было опасно.
Вот тогда-то и состоялось последнее свидание Эстебана с Аром. Окно комнаты, в которой содержался теперь Эстебан, выходило в глухой двор-колодец, да к тому же было закрыто массивными ставнями, дверь обита железом.
Ночью с Эстебана снимали наручники, но днем надевали снова. Есть ему было в них трудно, и очередной «конвоир» вынужден был помогать ему.
Обычно это делал Карл, в то время как Гудрун или Ирма с автоматом стояли в дверях или сидели в соседней комнате. Но в один из дней, когда Карл, Гудрун и Рика уехали по своим делам, Ару пришлось наконец, как ни старался он этого избежать, встретиться лицом к лицу со своим самым близким некогда другом.
Оставив Ирму с автоматом в соседней комнате у телевизора, Ар взял поднос с обедом и повернул ключ в замке.
В комнате был полумрак. Эстебан сидел у стола, положив скованные руки на колени.
Увидев входящего Ара, он не выразил удивления, только сказал:
— А вот и ты, поздновато, поздновато явился.
— Ешь, — сказал Ар, ставя перед ним тарелки. — Наручники снять? Не мешают?
— Я привык, — пожал плечами Эстебан. Он быстро съел скудную еду и отодвинул пустую посуду.
— Еще принести? — спросил Ар.
— Принеси, если не жалко, — усмехнулся Эстебан.
Ар вышел и через несколько минут вернулся с новым подносом. Когда Эстебан кончил есть, он откинулся на стуле и внимательно посмотрел на Ара.
— Ну что, поговорим?
Ар оглянулся на приоткрытую дверь, из-за которой доносились звуки телевизионной передачи.
— Поговорим.
— Ладно, Ар, — медленно заговорил Эстебан, — мне отсюда не выйти, о нашем разговоре никто не узнает. Возможно, он вообще бесполезен, этот разговор, снова тебя честным человеком уже вряд ли сделаешь. Но почему не поговорить, если есть время. Скажи, Ар, чего вы добиваетесь? Теперь я уже смело могу говорить «вы», а не «они», потому что ты ведь твердо занял свое место в «Армии справедливости». Так?
Эстебан говорил непривычно спокойно, негромко, без резких, грубых выражений, и это мешало Ару.
— Да, Эстебан, я теперь в рядах «Армии справедливости» и горжусь этим.
— Гордишься, даже так. Так чего вы добиваетесь?
— Справедливости, это содержится в названии.
— И каким же путем?
— Эстебан, наши пути тебе вряд ли подойдут. Но поверь, они единственно правильные.
— А все же?
— Мы рекомендуем насилие как единственный способ изменить общество, мы отвергаем законные пути добиться этой цели, считаем, что большинство людей сами не знают, чего хотят и что для них хорошо…
— Но ты же читал «Майн кампф» Гитлера? — спросил Эстебан. — Ты знаешь, что именно это утверждал и он. Он тоже отвергал законные пути прихода к власти.
— Что ж, и у Гитлера были разумные идеи.
— То-то вам так нравится его пресловутый «порядок», — усмехнулся Эстебан. — И пока у вас нет возможности убивать миллионы, вы, бедняжки, вынуждены ограничиваться сотнями кого попало.
— Мы не анархисты, Эстебан!
— Еще бы, они овечки по сравнению с вами. Но вы взяли на вооружение именно их методы.
— Мы стремимся к победе пролетариата. Но мы категорически против коммунизма.
— И на том спасибо, Ар. Но иной раз вы не прочь приписать свои гнусные делишки нам, коммунистам.
— Да пойми, Эстебан, мы согласны с Маркузе, что пролетарская власть может быть реализована лишь авангардом, в частности студентами.
— Как реализована, Ар? С помощью убийств и взрывов, при которых гибнут десятки невинных людей?
— Насилие — наиболее совершенная форма классовой борьбы! — последние слова Ар выкрикнул и тут же испуганно оглянулся на дверь. Но оттуда по-прежнему неслись звуки телепередачи.
— Послушай, Ар, — совсем тихо заговорил Эстебан, и задушевные интонации этого голоса пробудили у Ара полузабытые, словно в далеком сне, воспоминания о крепкой мужской дружбе, о безмятежных веселых днях, о доверительных беседах вечерком в дешевом студенческом кафе. Но это было годы, века назад…
— Послушай, неужели ты совсем слеп. Я понимаю, ты завяз по горло, тебе нет пути назад, но хоть иногда подумай о себе, о том, что делаешь. Вот вы все стремитесь, чтобы вас признали, чтоб правительство вас считало за партию. Но вы же сами призываете вести беспощадную борьбу против империалистического государства. И от этого же государства требуете признания. Где же логика? Хочешь, я тебе скажу, зачем вам это нужно? Хочешь? Да затем, что народ, массы вас никогда не признáют! Их-то не заставишь. Я, конечно, не учил наизусть ваши дурацкие программы, но все-таки знаком с ними немного. Если не ошибаюсь, это одному из ваших, прозревшему, хоть и поздно, принадлежат слова: «Выступая против государственного аппарата, ты сам становишься его частью. В конце концов ты сходишь с ума, бросаешься с оружием в руках против всего человечества. И в тот момент, когда видишь единственный выход в том, чтобы стрелять, ты уже сам становишься трупом. Мы просто не понимаем, что являемся лишь марионетками в чужих руках». Или что-то в этом роде.
— Он предатель, — вяло заметил Ар.
— Он точно говорит, — продолжал Эстебан, словно не слышал реплики Ара. — Вы сами не заметите, как станете трупами. И в историческом плане. И в физическом. И ты, Ар, станешь трупом намного раньше, чем это намечала тебе судьба при рождении. Что так смотришь? Думаешь, я раньше стану? Наверное. Но я-то хоть не зря. А ты…
Наступило молчание.
— Как ты не понимаешь, что вы все, начиная с вашего главного и кончая такими, как ты — слепыми исполнителями с башкой, набитой этим идеологическим мусором, — вы все марионетки?
— Кто же дергает веревочки, по-твоему?
— Да тот же ваш «предатель», как ты выразился, сказал: «Если они сами достают для нас оружие, значит, заинтересованы, чтобы оно было пущено в ход». Правильно сказал. Подумай, откуда у тебя ну хотя бы этот автомат…
Ар молчал.
— Вы почву унавоживаете, — иронизировал Эстебан, — дорогу прокладываете! Правильно, только кому? Нет, не вашему справедливому пролетарскому обществу, а диктаторскому фашистскому режиму, и если он придет к власти, то как раз под предлогом борьбы с такими, как вы. Только не придет. Есть еще, к счастью, в нашей стране народ. Есть истинные борцы за правду и справедливость, которых вы не убьете. Всех-то не убить. А я, что ж, я, наверное, не первый, да и не последний из тех, кто отдаст жизнь за настоящее дело, а не за подлое, как ты. Эх, сказать бы последнее слово, да не вашему дурацкому трибуналу, а ребятам нашим, молодежи.
Он замолчал и посмотрел на Ара с явным сожалением.
— Вот что, Ар, — снова заговорил Эстебан глухим голосом, и было ясно, как он волнуется, — мы когда-то были друзьями. Делали друг для друга, что могли. Ты ведь знаешь, сколько мне осталось жить — день, два. Выполни последнюю мою просьбу, Ар, последнюю из последних. А?
В голосе Эстебана звучали непривычные просительные нотки, поразившие Ара.
— Что я должен сделать? — неожиданно для самого себя спросил Ар и почувствовал, как снова противный комок подступил к горлу.
— Я тут написал, как мог, — Эстебан потряс скованными руками, — с этим-то особенно не распишешься, ну, вроде завещание мое. Ты не бойся, о тебе и твоих и вообще о всей этой истории там нет ничего, я повыше беру… Ну как? Отправишь?
Ар похолодел. Он вдруг понял, что не сможет отказать Эстебану в предсмертной просьбе. Что делать? Как поступить? А может, удастся? Может, не догадаются?
Эстебан словно прочитал его мысли:
— Не бойся, Ар, там нет ничего, что могло бы тебя подвести. Я написал товарищам… чтоб сказали, что нашли, когда разбирали мои бумаги… после моей смерти…
Вот эти последние слова все и решили.
— Давай, — быстро сказал Ар.
— Под матрацем, — прошептал Эстебан.
Ар торопливо залез рукой под матрац. Нащупал несколько смятых листков и спрятал их в карман. Вовремя! За дверью раздались голоса. Вернулись остальные. Ар схватил поднос и поспешил к выходу.
— Прощай… — услышал он за собой прерывающийся голос.
Не оглядываясь, Ар вышел из комнаты и повернул ключ в замке.
В тот же вечер, сказав, что хочет прогуляться перед сном, он дошел до ближайшего почтового отделения и, запечатав листки в конверт, надписал на конверте указанный Эстебаном в конце письма адрес.
Бросив конверт в почтовый ящик, он почувствовал странное облегчение и даже удовлетворение. Его охватило злорадное чувство. По отношению к кому? Почему вдруг? Он бы не смог ответить на эти вопросы.
Глава IX Пропасть
Теперь, когда я знаю то, что я знаю, когда я прошел то, что прошел, и узнал тех, кого узнал, я понимаю, каким был тогда идиотом, каким наивным. И каким сентиментальным. Вообще я заметил, что по-настоящему сентиментальные люди бывают жестокими, резкими (каковым я себя считаю). А вот те слюнтяи, которые льют слезы по любому поводу, вздыхают на луну и не могут видеть, как у мухи отрывают крылья, у них зачастую вместо сердца холодильник, они, капая слезой, спокойно могут смотреть, как у людей отрывают голову. Общеизвестно, что больше всего Гитлер любил собак, а его эсэсовцы плакали, слушая, как играют скрипачи в Дахау.
Короче говоря, взял-таки я это письмо Эстебана и послал по адресу. И на всю оставшуюся жизнь запомнил, как он сказал мне «прощай» и его голос. Как и глаза той старой женщины, жены, нет, уже вдовы профессора Дрона, помните, я вам рассказывал? Помните?
Так о чем я? Ах да, о его голосе и ее глазах. Знаете, с первых шагов на этом белом свете (на который кое-кому из нас лучше бы не родиться) на нас обрушиваются тысячи всяких впечатлений, потом их становится миллион, а к концу жизни небось миллиард.
Большинство, как туман, как ветерок, как воздух, скользят себе мимо, расплываются и исчезают. Некоторые помнишь, какие дольше, какие нет. А вот немногие, единицы, остаются навсегда, они вписываются в тебя, как осколок снаряда, который невозможно извлечь и с которым ветеран так и ходит до конца своей жизни. Пьет, ест, спит, даже играет в теннис и любит женщин. Но осколок-то в нем, он тут как тут и порой дает себя почувствовать с такой силой, что кажется, будто впился в тело только сейчас.
Вот таким осколком были для меня последние, сказанные мне вслед слова Эстебана.
Что-то я расчувствовался. Сентиментальный дурак…
Это все болтовня. Но как же не хочется продолжать, как хочется оттянуть подольше рассказ о том, что было дальше…
Ничего не поделаешь, что было, то было.
Так вот. Конечно, когда письмо, духовное завещание Эстебана, появилось в газетах, мои шефы не очень-то поверили, что оно написано давно и где-то там обнаружено друзьями Эстебана в его бумагах. Хотя, отдаю должное, друзья его нигде не проговорились о том, когда и как попало к ним письмо, и о приложенном к нему дополнении с инструкциями. Эти инструкции они выполнили точно.
И все же Франжье и другие заподозрили истину. Они анализировали и изучали послание Эстебана, словно древний манускрипт, когда хотят открыть содержащуюся в нем тайну. И в конце пришли к твердому убеждению, что документ написан здесь и отослан отсюда. Как? Кем? Тут долго выбирать не пришлось. Очень скоро мне стало ясно, что главный подозреваемый — ваш покорный слуга. Доказать это невозможно, но они были уверены, что письмо отослал я.
И точно все установили эти психологи и аналитики. Они знали, что я не провокатор, не лазутчик, не предатель нашего дела (уж слишком много крови и пороховой гари было у меня на руках), но не забыли, что когда-то мы с Эстебаиом были самыми близкими друзьями, вспомнили, что во время его похищения и заключения я старался, чтобы он меня не увидел. Они раньше, чем я (и лучше), разобрались в моем характере, в моей душе (если допустить, что таковая есть у меня, в чем я лично сильно сомневаюсь), разглядели мою сентиментальность (что-то я много о ней говорю).
И хотя мне они ничего не сказали, но решили наказать. Как? Убивать не имело смысла — я надежный, верный и эффективный боевик. Так они, наверное, рассуждали. Надо было поискать что-то другое. И они нашли. Нашли наказание пострашней, самое страшное для меня.
Охрану Эстебана последнюю неделю поручали всем, кроме меня. Но что в этом подозрительного? Так было и раньше. Я сам старался так устроить. По указанию Франжье Эстебану не надевали больше наручников (да и зачем? В своем нынешнем состоянии он, спортсмен и боксер, и с Рикой бы не справился, не говоря уж о Гудрун). В тот день он побрился электрической бритвой, привел в порядок ногти, вымылся.
Его разбудили на рассвете. Карл принес ему костюм, рубашку, белье. Чуть ли не до полуночи Гудрун все это стирала, гладила, чистила. Эстебан не спеша оделся (носки только надел наизнанку), побрился, аккуратно причесался. Завтрака ему не дали.
Меня разбудили еще раньше. Я удивился, что в комнате, кроме Карла и Гудрун, были Франжье и еще двое руководителей «Армии справедливости». Все одетые, свежие.
— Вставай, Ар, есть срочное дело, — сказал Франжье, вид у него был озабоченный.
Я решил, что возникла опасность, вскочил, молниеносно оделся, сполоснул лицо, схватил автомат.
— Нет, — сказал шеф, — он слишком громкий, — и протянул мне парабеллум с глушителем.
Мы вышли в соседнюю комнату. В углу стояли Карл и Ирма, в дверях Рика, все с автоматами. У всех мрачный значительный вид.
— Слушай, Ар, — торжественно заговорил Франжье. — «Армия справедливости» поручает тебе важное и почетное задание, — он сделал паузу, — привести в исполнение приговор революционного трибунала. Сейчас ты подвергнешь справедливой казни предателя пролетариата, врага подлинных интересов масс, красного вожака Эстебана.
Я, конечно, уже чувствовал, к чему идет дело. Поэтому, наверное, сумел сохранить спокойствие. И еще потому, что я прямо кожей ощущал, как они все следят за мной, за каждым моим движением, за выражением лица.
И вдруг меня охватило странное равнодушие, эдакое раздвоение (я вам уже говорил, что со мной такое случалось). Вот сидит в первом ряду партера зритель Ар и наблюдает, как на сцене другой Ар привычно и тщательно осматривает парабеллум, загоняет патрон в патронник и засовывает оружие под пиджак. Из соседней комнаты Карл выводит Эстебана. Он смотрит на нас, ни на ком нет масок, и он сразу все понимает. Он очень бледный и осунувшийся, но такой же твердый и мужественный в решающие минуты, как всегда. Эстебан вслед за Карлом идет к двери. Молча мы спускаемся в мрачный двор-колодец. Посреди двора стоит красный автомобиль. Карл жестом приглашает Эстебана садиться в машину.
Эстебан поднимает лицо кверху, он смотрит на клочок голубого неба, еле видного из этого каменного колодца. Солнце уже встало, и небо немного золотится, эдакий золотисто-голубой квадратик, невозможно далекий. К нему и обращает свой последний взгляд Эстебан. Последний, потому что Карл делает мне быстрый знак рукой, и я, поспешно, судорожно нажимая на спуск, выпускаю все одиннадцать пуль в стоящего передо мной человека. Лишь бы он не успел посмотреть мне в глаза… Лишь бы не успел…
Он падает, одно-два судорожных движения, и распростертое тело замирает. Ар, тот, что на сцене, что стрелял, спокойно возвращается в комнату. За ним внимательно наблюдает другой Ар, тот, что сидит в партере.
Все по очереди значительно жмут мне руку. Я подхожу к бару и, налив полный стакан виски, залпом осушаю его. Никакого действия. Осушаю второй. Иду в свою комнату, валюсь на постель. Засыпаю мертвым сном,
А тем временем, как мне рассказали потом, Карл и Ирма завернули тело Эстебана в плед, погрузили в багажник красной машины и ровно в восемь часов (когда многие офисы еще не открылись, но машину поставить уже негде) выезжают из двора. В тот момент, когда Карл доехал до середины одной из центральных улиц города, из сплошного потока машин, стоявших у тротуара, отъехал белый «фиат» с Рикой за рулем. Красный автомобиль занял его место. Карл и Ирма вылезли из него и, не запирая, отправились в соседнее кафе завтракать.
В час дня Гудрун (она уж не упустит возможности покрасоваться) позвонила в полицию и торжественно сообщила о приведении в исполнение «приговора революционного суда» «Армии справедливости» и о месте, где можно найти тело.
Вот так это все произошло.
Вот так я навсегда расстался со своим самым лучшим, самым близким когда-то другом Эстебаном.
Вот так я миновал еще один рубеж в своей жизни.
Хоть Эстебан и был коммунистом, а коммунистов в нашей стране правительство (официальное) недолюбливает, а миллионеры, то есть те, кто правит фактически, ненавидят, но все-таки оставить убийство без последствий было нельзя.
И так уже много шуму наделали оба похищения, а теперь еще и убийство! Да и игнорировать то, что принято называть «реакцией общественного мнения», было невозможно.
Уже не тысячи, а сотни тысяч людей вышли на демонстрации, прокатилась волна забастовок, даже не очень-то дружелюбно настроенные к коммунистам лидеры других партий, стараясь не выбиться из общей струи, выступили с гневными речами.
Предсмертное послание Эстебана без конца перепечатывали газеты, читали по радио и на митингах (словно сам он выступал перед народом).
Вы, наверное, удивляетесь, что я вам не привел это послание. Но для меня оно как нож в сердце. Я затыкал уши или выключал телевизор, когда слышал слова, что были в том письме. Какие слова? А впрочем, мне ведь все равно когда-нибудь придется к этому вернуться. Так уж лучше сейчас. Только я не хочу снова это читать! Не могу! Читайте сами. Вот что писал Эстебан:
«Товарищи, вы, которые живы, которые делали, а теперь делают без меня мое дело, простите, что покинул вас на середине пути. Вы знаете — не моя в том вина, да и, может, своей смертью я все же принесу пусть небольшую, но пользу. (А только в случае моей насильственной смерти вы прочтете это письмо.) Если, узнав о том, как я погиб, и поняв, что к чему и в чем подлинная справедливость, кто-то встанет в наши ряды, я буду считать, что умру не зря.
Сейчас много теорий и мнений относительно того, как исправить мир. Как сделать его справедливым, честным, светлым и мирным. Но только наша, основанная на науке теория правильна.
Нет, конечно, не все, кто не с нами, сволочи и фашисты. Есть много честных, но наивных людей, крепко верящих в разные сказки, есть добрые слепцы, есть, особенно среди молодежи, энергичные, полные желания бороться, да не знающие как, а потому слушающие иной раз тех, у кого голос громче. Много есть и таких, кто доверчив, кто верит тем, кому верить нельзя. Все они хотят справедливости на земле, но, только поняв истину, только примкнув к нам, они смогут добиться этой цели.
А что касается моих палачей, всех этих явных и неявных террористов, демагогов, лжецов, предателей человечества, прислужников реакции и империализма — их время пройдет, их имена не останутся в памяти, а останется лишь презрение народов к их гнусным делам.
Кто помнит сейчас об оасовцах, тонтон-макутах?
Террор никогда ничего хорошего никому не приносил. На терроре не сможет удержаться ни один правящий режим, ни один диктатор, ни одна хунта. Да, конечно, повластвуют, поцарствуют, кто больше, кто меньше, и слетят в конце концов на помойку истории. Вспомните Гитлера, Муссолини, Франко, иранского шаха, Салазара, Дювалье…
Что государственный, что индивидуальный террор ни правительствам, ни партиям победы не приносил. И потому все марксистско-ленинские партии, все государственные руководители социалистических стран всегда осуждали террор.
Добиться своей цели мы можем разными путями — и революционными и демократическими. Только не террором.
Товарищи! Мои товарищи-студенты! Я знаю, вам особенно трудно находить истинный путь. Не все вы еще умеете ориентироваться в жизни, различать, где обман, разбираться в тех уговорах, лозунгах, призывах, теориях и советах, которые обрушивают на вас опытные, искушенные лжецы, демагоги, обманщики, подлецы, лжепророки…
Верьте нам, верьте коммунистам! Нас еще никто и никогда не смог уличить в обмане. Были и у нас ошибки и просчеты. Но не было лжи, предательства, подлости! Нам порой нелегко, мы порой погибаем, нас бросают в тюрьмы, убивают, на нас клевещут, нас чернят. Но потом правда все равно берет свое. Жизнь доказывает нашу правоту.
И если моя смерть, повторяю, еще хоть одного из вас приведет в наши ряды, значит, я отдал свою жизнь не зря!»
Наступили трудные времена. Теперь на нас спустили всю полицейскую свору. Поиски «убийц», как они нас называли, Франжье называл нас «вершители правосудия», возглавил комиссар Лукас, эта длинная каланча, его портрет красуется во всех газетах. Железный человек, его не интересует всякая там политика (хотя, судя по его интервью, он в ней неплохо разбирается). Но в чем он здорово разбирается, так это в своем деле. Полицейский номер один! Он видит только преступников и свою цель — их изловить. Сейчас, когда общественное мнение взбудоражено, когда все политиканы должны делать вид, что возмущены и жаждут возмездия, никакого нажима ниоткуда (несмотря на намеки нашего шефа) не будет.
И вообще, не надо всех стричь под одну гребенку. Полиция, как известно, состоит из людей. И хотя все они одеты в одну форму, но характеры, взгляды, привязанности у них разные. И между прочим, понятие о долге и совести тоже. Есть среди них многие, кто ненавидит нас, как бы мы ни назывались — убийцами, грабителями, террористами, «борцами за справедливость», «пятой позицией», «восьмым января», «омегой десять» и бог знает как еще.
Ненавидят и за то, что мы их убиваем. Мы их убиваем, а судьи нас потом оправдывают или приговаривают к таким срокам, что через год-два мы снова на свободе и снова убиваем полицейских.
И хотя министр внутренних дел и другие большие полицейские чины настойчиво твердят, что никаких «эскадронов смерти» не существует, но у меня на этот счет есть серьезные сомнения. Одно утешение — они больше охотятся за леваками, а не за нами. Но в жизни нас нетрудно и перепутать.
Мы лежим с Гудрун на диване и слушаем радио. Мы одни. Франжье и другие наши уважаемые руководители последнее время что-то не показываются.
— Как ты думаешь, куда они все пропали? — спрашивает Гудрун, покуривая вонючую сигарету с марихуаной.
— Трясутся за свою шкуру.
— Что ж они, на Луну, что ли, улетели?
— На Луну не на Луну, но могли и за границу уехать, и у себя где-нибудь отсиживаться. Ты же читаешь, чем полиция занимается — уже не город, а всю страну, вплоть до общественных уборных, прочесывает.
— Очень остроумно, — морщится Гудрун.
— Зато верно. Между прочим, и нам не мешает сменить место жительства. Куда-нибудь уехать, притихнуть ненадолго.
— А по-моему, наоборот, — заявляет моя нежная подруга, — именно теперь мы должны провести несколько акций, показать, что мы живы, сильны как никогда, что мы действуем, и действуем беспощадно. — Она говорит это с пафосом, а потом и совсем безразличным тоном добавляет: — Кроме того, у нас кончились деньги.
— Что ты хочешь этим сказать? — усмехаюсь. — Что первой нашей высокоидейной акцией должно быть ограбление банка?
Гудрун смотрит на меня с выражением, с каким бы она смотрела на раздавленного клопа.
— Какой ты все-таки циник, — говорит она осуждающе. — Запомни, мы не грабим! (О господи, уже слышу в ее голосе истеричные рулады.) Мы занимаемся законной экспроприацией. Мы ударяем это проклятое общество потребления в самое сердце. Что для него наиболее дорого? Деньги! Изымая деньги у всех этих ничтожных буржуа, мы наказываем их больней всего. Кроме того, это наше право. Общество, которое нам надлежит разрушить, должно само поставлять нам для этого средства.
Я молчу.
— Мы что, — Гудрун повышает голос, — пьем на эти деньги, покупаем себе меха, бриллианты, машины, виллы?! — Она почти кричит. — Посмотри, в чем мы ходим! В тряпье! Мы ездим на угнанных машинах! Мы живем в мансардах! Мы питаемся в дешевых харчевнях! Мы живем не богатствами, а идеалами! Во имя идеалов мы уничтожаем наших врагов! Во имя идеалов ты казнил того, кто был когда-то…
В ту же минуту я изо всех сил ударяю ее по лицу, кровь из ее разбитой губы брызжет мне на рубашку, и я ухожу в ванную сменить ее.
Вскоре туда приходит Гудрун, она долго моет лицо, прикладывает какие-то примочки. Потом возвращается ко мне в комнату, ложится рядом на диван и целует меня. (Может быть, ее надо все время бить, тогда она станет вести себя спокойней?)
— Не сердись, — шепчет, — я больше не буду (смотрите, какая маленькая раскаявшаяся девочка — ей бы бантик в косички!). Сейчас не время ссориться.
— А когда время? — спрашиваю.
Она долго молчит, потом говорит мечтательно (такой я ее вижу впервые, а уж то, что она говорит, я тем более впервые слышу).
— Сейчас бы полежать где-нибудь на теплом песке у моря. Где-нибудь на Гавайях, где пальмы, цветы… Ты хотел бы побывать на Гавайях?
Я не сразу прихожу в себя от услышанного.
— На Гавайях? Не знаю. Когда-нибудь, может быть. Это не для таких, как мы, Гудрун. Это в другом измерении.
— Ты прав, — соглашается она печально, — наше место здесь, на переднем крае борьбы. — Голос ее крепнет (ну вот, это снова Гудрун, какой я ее знаю). — Наша судьба в сраженье. Отдохнут другие, те, кому мы проложим дорогу.
Я бормочу:
— На кладбище они отдохнут.
Она поворачивается и удивленно смотрит на меня.
— Что с тобой, Ар, ты очень изменился после… — Она вовремя замолкает, вспомнив про разбитые губы.
— Ну, изменился! — взрываюсь. — Школу, которую мы с тобой прошли, не забудешь…
— Ты прав, — неожиданно тихо говорит она, — мы вообще ничего не можем забывать, Ар. У нас ведь только и есть прошлое. Будущего нет.
— Как же так, — усмехаюсь, — сражаемся ради будущего, а у самих его нет?
— Ты прекрасно меня понимаешь, Ар, мы с тобой до этого, да и ни до какого другого будущего не доживем.
— Так для кого готовим?
Она молчит, потом говорит:
— Знаешь, Ар, мне иногда кажется, что ни для кого. Во всяком случае, в «нашем» будущем никто не будет жить. Может быть, в другом каком-нибудь, которое готовят другие…
Я внимательно разглядываю Гудрун, такой я ее еще никогда не видел. Что с ней? Что ее мучает — угрызения совести? Только не это, не такова моя Гудрун! Страх? Она его тоже не знает. Может быть, предчувствие?
Настроение у меня и без того неважное, а тут еще и она добавляет тоски. Я решительно встаю и говорю:
— Собирайся, пошли в город.
— В город? Сейчас? Когда вся полиция идет по нашему следу?
— Ну и что — от судьбы никуда не скроешься, а от полиции можно. Пошли.
И мы уходим в ночной город. Бродим по улицам обнявшись — этакая влюбленная парочка с пистолетами за поясом и гранатами в карманах. Заходим в дешевое кино. Показывают дешевый порнографический фильм. Народу в зале немного. Я не ханжа, вы сами понимаете, при моем образе жизни мои взгляды на любовь и физическую близость вполне земные. Но вся эта тошнотворная сексуальная дребедень, которая заполнила экраны, даже мне омерзительна.
Не досмотрев фильма, заходим в какой-то захудалый бар в темном переулке, пьем пиво. Бар почти пуст. Неожиданно входят человек пять-шесть подростков. Таких много теперь развелось «волчат» — злых, беспощадных, жестоких. Нападают на стариков, на женщин, на влюбленные парочки. За такую парочку принимают и нас.
Сначала они шумят, кривляются, на полную мощность заводят проигрыватель-автомат, хихикают, потом все громче и громче прохаживаются на наш счет. Один вынимает велосипедную цепь и начинает поигрывать ею, другой недвусмысленно что-то сжимает в кармане.
Мы допиваем пиво и выходим в пустынный переулок.
Не успеваем пройти и полусотни метров, как нас окружают «волчата». Теперь в руках у них ножи, кастеты, железные палки. Глаза горят, в уголках губ слюна (они небось и марихуаной, и ЛСД балуются). Они действительно напоминают волчью стаю, сильную и смелую, лишь когда пятеро на одного, готовую растерзать свою жертву. Как же страшно должно быть какой-нибудь старушке или влюбленной парочке (не такой, как мы, а настоящей) перед лицом этих хищников. Я смотрю на них, и мне вдруг становится их жалко. Ходили бы с подружками, пели, ну ладно, не в церковном, так хоть в школьном хоре, сидели бы с папой и мамой у телевизора. Так нет, вот они, уличные бандиты… Как кончат? В тюрьме, на кладбище, куда их отправит такая же соперничающая банда. Или я. Они злорадно улыбаются, глядя на нас, предвкушая расправу. Им и в голову не приходит, как близко они сейчас к своей жалкой глупой смерти. Бедняги.
Мы стоим возле уличного фонаря, и нас хорошо видно. Они, наверное, специально выбрали такое место.
— Ну-ка, — говорит один из них, обращаясь ко мне, — три шага от девки, и пусть она подойдет сюда.
Некоторое время я молча смотрю на них, вздыхаю. Правой рукой снимаю темные очки, левой вынимаю пистолет (ах, я вам, кажется, не говорил, что я левша). Так вот, имейте в виду. Гудрун делает то же самое.
На мгновенье парни застывают, в глазах ужас. «Волчата» поняли, что перед ними тоже хищники, но посильней. Они привыкли к законам джунглей (в том числе и городских). Сами не знающие пощады, они не ждут пощады от других.
И вдруг один тоненьким, ломающимся голоском кричит:
— Это «они»! «Они», я вам говорю, я по телевизору видел! Это «они»!
И в ту же секунду, бросив палки и велосипедные цепи, «волчата» исчезают с фантастической быстротой. Переулок пуст, не слышно даже звука шагов.
Гудрун коротко смеется и прячет пистолет. Но мне не смешно. Не потому, что эти мальчишки давно знают цену деньгам и могут из ближайшего автомата позвонить в полицию. Нет, мы достаточно хорошо ориентируемся, и через несколько минут в гуще проходных дворов, переулков и домов с несколькими выходами нас не найти. А потому, что испытываю странное чувство горечи — даже эти зверята нас боятся, даже они, даже для грабителей, для бандитов мы пугало. Кто же мы? Кем стали? За кого нас считают?
Как за кого? Да за того, кто мы есть. За убийц, за страшных убийц, вот за кого!
А ну их всех к черту! Меня охватывает ярость! К черту их! К черту! К черту! Я боевик, мой путь ясен и ясны задачи. В конце концов, во всем виновато это общество сытых свиней! Вот их и надо уничтожать, жечь, убивать, взрывать, грабить! В этом моя задача! И я ее выполню. Мы ее выполним.
Я смотрю на Гудрун. Она идет рядом своим решительным шагом, длинный нос устремлен вперед, роскошные волосы убраны в целях маскировки под берет. Это верный товарищ, надежный друг. Или сообщник? Какая разница? Мы с ней связаны тысячью нитей, общей яростью, общим страхом, общей целью, общими жертвами. Мы идем одной дорогой и пройдем ее до конца вместе.
А эти «волчата», я не раз думал о них.
Они ведь тоже неодинаковые. Те, что сверкнули на нас сейчас из темноты своим волчьим оком, — так, мелочь, обыкновенные хищники, сегодня готовые избить, изнасиловать, ограбить. Завтра — убить, изувечить. Сегодня в их руках кастеты и ножи, завтра будут пистолеты. Уголовники, охотники за кошельком. Это они пополняют армию бандитов, убийц, гангстеров, которых полным-полно в нашей стране. И они столь же неизбежная часть ее населения, как, например, миллионеры и безработные.
Даже трудно себе представить, как это вдруг мы проснемся однажды, оглянемся вокруг… а преступников нет: никто не ворует, не убивает, не насилует! Словом, мир перевернулся. Нет! Пока будут существовать жирные свиньи с набитыми карманами, будут и воры и грабители. Другой вопрос, что не меньше достается тем, у кого карманы пусты. Так что поделаешь — надо же где-то брать деньги на порошок, на стаканчик, на дискотеку, на киношку… На мороженое тоже надо. А что? Теперь и десятилетние грабить банки пытаются, и соседей своих пристукивают, коль те мешают им смотреть телевизор.
Ну ладно, это все нормально. Так уж устроена жизнь, что должны быть и уголовники. Иначе полицейские превратились бы в безработных. Впрочем, нет, за них я не беспокоюсь, у них хватает работы — гоняться за демонстрантами, забастовщиками и им подобными, — они в глазах начальства куда опасней, чем вся эта уголовная мелюзга.
Но, оказывается, есть детишки поопасней любых «волчат». Это уже наши выкормыши. Те, кому мы дурили головы. Хоть они и не совсем дети, но в общем-то юнцы. И притом идейные борцы! У них ведь есть свои программы, лозунги, «идеалы».
И вот это самое жуткое. Когда мальчишка берет кастет, чтобы раздобыть деньжат, тут все ясно, по мне так вполне нормально. Но когда он хватается за пистолет, чтобы навести «новый порядок», тогда дрожь берет! Вот, помню, случайно забрели мы с Эстебаном на стадион. Это когда к нам приехала на матч какая-то команда из Германии, из Гамбурга, что ли. Бог ее ведает, футболом я никогда не увлекался. Со своими болельщиками, разумеется. Полстадиона заняли. Вторая половина — наши.
Началась игра, и начался ор. «Бей их! — вопят, — Бей! Бей смертным боем!» «Кого? — думаю. — Судей, игроков чужой команды? Болельщиков соперника? А черт их знает». Присматриваюсь, и что ж я вижу? А то: ход игры, оказывается, мало кого интересует. Им важно поорать, погрозить, помахать руками, довести себя до белого каления.
Это новая разновидность болельщиков. Раньше таких не было, раньше болельщиков интересовала сама игра, которая называется футболом и где главное — забить гол сопернику. Теперь иное дело. Этих болельщиков называют «праворадикальные банды». Даже вот такой термин есть. Для них футбольный матч только повод для погромов. Бить всех и вся! Душить, линчевать, убивать! Кого? Да кто под руку попадется, но в первую очередь иностранцев — турок, африканцев, южноамериканцев… Словом, тех, кто отнимает у аборигенов работу. Замечу, что все эти болельщики-погромщики никакой работы не теряют. Они или школьники, или студенты, или получают хорошее жалованье. Нищий заработок и лачуги, что достались на долю «черномазых» (так они называют всех иностранцев), им не нужны. Что же касается безработных, то они-то как раз погромами не занимаются, да и на стадионы не ходят.
Так к чему весь сыр-бор, эти футбольные истерики? Хотите знать? Скажу. Тут одному вожаку, он себя считает неонацистом, задали вопрос (удивительно, как газетчики любят интервьюировать подобный народ!): «Где вы вербуете своих сторонников?» — «Как где, — отвечает, — среди "бритоголовых" (есть такие юные кретинчики) и футбольных болельщиков. Они здорово нам помогают, хотя, конечно, еще не встали окончательно на нашу политическую платформу». А? Как вам это понравится?
Смотрю на поле. Там двадцать два парня из кожи лезут вон, чтоб вкатить один-единственный мяч в ворота соперника. А на трибунах сидят тридцать тысяч парней и дерут глотку. И наплевать, по-моему, им, в чьи ворота этот несчастный мяч вкатится. Нет, есть, конечно, у нас болельщики, что болеют за свои команды. Но не эти. Во всяком случае, руководитель одного из болельщицких союзов, «Феникса», прямо так и сказал в очередном интервью (ох уж эти интервью!): «Националистически настроенные союзы болельщиков не враждуют друг с другом из-за того, что их команды — члены высшей лиги — соперничают на футбольном поле. Все мы в конечном счете против засилья "черномазых" в нашей стране».
И собираются эти липовые болельщики в «своих» пивных, поют фашистские песни, напяливают черные мундиры, купленные на толкучке, и переносятся на крыльях винных паров в добрые старые времена, когда царил новый порядок.
Ничему не научились, а вернее, ничему их не научили.
И вот из таких болельщиков формируются разные «военно-спортивные союзы», «общества спасения нации», «циклоны-В», «красные волки», «смерть черномазым» и т. д. и т. п. А из этих союзов уже пополняются наши ряды.
Конечно, у нас дела посерьезней, чем ловить турок или марокканцев и бить им морду. У нас своих мишеней хватает, отечественных. Так ведь не все сразу. Сколько меня учили и обрабатывали, вспомните, я ведь вам рассказывал! Или забыли? Короткая же у вас память. Да не беда. Беда в том, что у правителей наших она короткая. Впрочем, мы им эту память освежаем. Эх, дали бы нам развернуться! Помню, мы как-то с Эстебаном заговорили о гитлеровском «пивном путче» (пива, что ли, зашли с ним выпить).
Я и говорю:
— Дали тогда штурмовикам разгуляться, они быстро в Германии порядок навели.
А Эстебаи смеется.
— Во-первых, — говорит, — не тогда, а попозже, когда капиталисты поняли, что руками этих штурмовиков можно расправиться с рабочим классом, вот кого они больше всего боялись. А во-вторых, что потом с этими штурмовиками и их главой, Ремом, стало, не помнишь случайно?
— А что? — спрашиваю.
— А перебили их всех, как нужда в них миновала. Так вот и с вами будет…
— Ну знаешь!..
— Знаю! Твердо знаю. С помощью таких вот, как ты и твоя лошадь, приведут к власти какого-нибудь новоявленного гитлера, который быстренько со всем прогрессивным в стране покончит. И между прочим, с вами тоже. Ну зачем вы ему тогда нужны будете? Он настоящих эсэсовцев выдрессирует, не то что ваши заплечных дел подмастерья. Так что думай, думай, Ар, пока не поздно. Головой думай, не руками, пока она у тебя цела.
Эх, Эстебан! Он тогда еще надеялся, что я задумаюсь. А я уже давно с этим покончил.
Когда же это было? Сейчас кажется, что столетия прошли. Ну да ладно, чего вспоминать…
Просто та встреча на улице с «волчатами» потянула ниточку воспоминаний.
Вот тот стадион. Ничего нет страшней толпы, жаждущей крови. Вот эти «бритоголовые», эти будущие гитлеровцы, куклуксклановцы, ну и другие такие же, ох и страшны же они, когда собираются вместе. Засаживают в это сборище десяток наших, как заряды в мину, и пошло! Ведь тол, его хоть гору навали, сам он не взорвется. А вот вставляют взрыватель, маленький такой на вид, словно карандашик, и, глядишь, вся эта гора взлетает на воздух, и все летит к чертовой матери.
Один журналист немецкий писал, помнится, в гамбургском журнале «Штерн» о том, что убежденные националисты внедряются в среду футбольных болельщиков и используют их страсть к попойкам и дракам, не имеющую, вообще говоря, отношения к политике, для проведения политических акций.
И чего я привязался к этим болельщикам? Черт его знает, вспомнил почему-то стадион и всех этих мальчишек вроде сегодняшних, что к нам с Гудрун приставали. Поэтому, наверное.
А может, по другой причине. Может оттого, что жаль мне тех ребят… Какое же наше общество гнусное! Как я ненавижу их, равнодушных, довольных собой, безжалостных ко всему, что стоит у них на пути, у этих сильных мира сего. Они любых растопчут: и этих мальчишек, и вас…
Только мы им крови попускаем до этого! Мы еще не одного на тот свет отправим!
Мы — я и Гудрун!..
Возвращаемся домой. Там нас ждут уже Карл, Ирма и Рика. Они беспокоятся — нас долго не было.
Беспокоятся и по другой причине. Поступило указание менять квартиру. Есть данные, что полиция подбирается к нашей. Какие данные? Об этом мы не спрашиваем. Не только полиция имеет своих агентов в наших рядах…
Карл излагает свой план. В небольшом городке, в двухстах километрах от столицы, он присмотрел банк (как выясняется потом, он их присмотрел чуть ли не в каждом городе). Нам нужны деньги. И мы должны взять этот банк. Заполучив деньги, махнем за границу, куда-нибудь во Францию или Швейцарию, а может, в Италию (только не в Венецию!). Немного отдохнем. Подождем, пока все уляжется, и снова за работу. Видимо, это лучшая тактика. Наскочить, произвести ряд акций.
А шумиха продолжается. В парламенте звучат громовые речи: «Уничтожить террористов!», «Нужно правительство сильной руки! Военных к власти!», «Запретить коммунистическую партию!», «Ввести смертную казнь!»; одна депутатка предложила даже разрешить в учебных заведениях телесные наказания. Каково? Вот самый радикальный способ разрешить все проблемы.
Полиция свирепствует. Комиссар Лукас, как паук, раскинул по всей стране гигантскую паутину. Правда, попадаются в нее ничего с нами общего не имеющие. Но много и наших. Уже обнаружены и захвачены некоторые наши подпольные квартиры, склады оружия, кое-какие документы. Словом, на вечер следующего дня намечаем отъезд. Днем разойдемся по городу, чтобы купить все необходимое для налета.
В квартиру возвращаемся поодиночке, предварительно собравшись в соседнем дворе. Соблюдаем при этом элементарное правило, заимствованное нами из детективных кинофильмов (или ими у нас?). Первый, кто приходит, наполовину спускает занавеску. Конечно, первому сигнал никто не подает, но все же остальные спасутся, как-никак потерь будет меньше. Впрочем, пока эта предосторожность оказывалась излишней. На этот раз не оказалась.
Первой в дом входит Рика. Мы уже собираемся идти за ней, когда Гудрун напоминает:
— Погодите, пусть опустит занавеску.
Мы нетерпеливо топчемся на месте, но занавеска не опускается. Неожиданно Гудрун впивается мне в плечо ногтями. Я прослеживаю направление ее взгляда — в одном из окон противоположного дома что-то блестит. Вглядываюсь, это сверкнул оптический прицел. Теперь мы внимательно рассматриваем все вокруг. Я ругаюсь про себя. Насколько же мы последнее время стали легкомысленными. Ведь и без всякого сигнала, будь мы повнимательнее, все стало бы ясно.
Мы обнаруживаем подозрительные машины в обоих концах улицы, тени в подъездах и на крышах, улавливаем необычную напряженную тишину, замечаем испуганных людей, выходящих из подъездов.
Сомнений не остается. Квартира обнаружена, в ней засада, и Рика схвачена. Ну что ж, как сказал однажды наш шеф Франжье: «Солдат нашей армии, попадающий в тюрьму, не имеет больше прав, у него есть лишь обязанности». Вот и Рика выполнила свою последнюю обязанность — не опустила занавеску. Она вообще держалась при аресте молодцом, как мы потом узнали из газет. Оказывается, кто-то, едва мы покинули квартиру, чтоб идти за покупками, позвонил в полицию. Кто? Имени своего этот человек не назвал, а ведь мог получить большую награду. Значит, кто-то правильно посчитал, что жизнь дороже любых денег. Комиссар Лукас — человек энергичный, уже через двадцать минут полиция была в квартире, все соседние дома заняты, квартал оцеплен. И все это незаметно, молниеносно, бесшумно. Непонятно только, как же они нас не сцапали.
Когда Рика вошла и ее сразу схватили, она не сопротивлялась, бесполезно. Сказала только: «Ну, что же, подонки, лакеи империализма, делайте свое грязное дело!»
В квартире полицейские обнаружили много оружия. Все остальное, что могло навести на какой-либо след, мы, готовясь к отъезду, успели уничтожить.
Мы угнали первую попавшуюся машину и поспешили уехать. У нас все же было оружие — то, которое мы всегда носили с собой. Деньги нам необходимы, акция разработана точно. Ее надо осуществлять! Что Рика нас не выдаст, мы были уверены.
В городок прибыли часам к шести. Налет был намечен на следующее утро, в час открытия банка. Мы провели ночь в какой-то роще на окраине города, в машине. Утром, бросив ее там, добрались до банка пешком. Походили по ближайшим улицам и нашли в одном из дворов мощный «мерседес» с ключом зажигания.
На этот раз мы действовали грубо. На лица натянули обыкновенные черные чулки, ворвались в банк, как только охранник открыл дверь. Карл выстрелил ему в живот, и он упал прямо на пороге. Перепрыгнув через тело, вбежали в зал. Кроме служащих, там никого не было.
— Налет! — кричу. — Кто нажмет на сигнал, будет убит. Если явится полиция, взорвем всех!
Служащие стоят, дрожат, подняли руки. Одна девушка падает в обморок, никто и шага не делает, чтобы ей помочь. Держу в каждой руке по пистолету. Гудрун и Карл опустошают сейф (Ирма ждет нас снаружи за рулем «мерседеса»).
Забрав сумки с деньгами, выбегаем и что мы видим? Двух полицейских, торопливо поднимающихся по ступеням с пистолетами в руках.
Секунду длится молчание, мы, замерев, смотрим друг на друга, застыв от неожиданности. Положение спасает Ирма: сзади из машины она стреляет полицейским в спину. Молодец! Не побоялась, могла ведь в нас попасть. (А может, ей было на это наплевать?)
Полицейские падают. На всякий случай выпускаем в них еще несколько пуль и в машину. При звуке выстрелов открываются окна, из дверей выбегают люди (доверчивые, провинциальные, они еще не знают, что, когда убивают, надо не на помощь бежать, а самим спасаться!).
Мы без помех покидаем городок и за один день преодолеваем пятьсот километров. За границу решаем не уходить — встречаться с пограничным контролем сейчас нам ни к чему. Куда деваться? Звонить Франжье бесполезно, он сам где-то скрывается, хотя его пока официально не разыскивают.
В конце концов решаем где-нибудь тихо отсидеться дней пять-шесть. Но где?
Помогает случай. В каком-то пригороде набредаем на огромную выставку-распродажу подержанных трейлеров. Ирма и Карл приобретают у до смерти обрадовавшегося продавца средних размеров трейлер. Мы отъезжаем на нем сотню километров и останавливаемся в кемпинге у берега озера.
Таких трейлеров, как наш, здесь десятки, много молодежи, да и вообще отдыхающих; здесь все заняты собой, и на других им наплевать. Идеальное место, чтобы скрываться. Кроме того, мы по возможности меняем свой внешний облик. Я перекрашиваюсь в брюнета, отпускаю бородку и усы, ношу очки с простыми стеклами. Когда хожу, стараюсь сутулиться. Гудрон перекрашивает волосы и коротко остригает их, вместо обычных джинсов надевает платье, которое сидит на ней мешком. Постригаются и Ирма с Карлом. Они надевают черные очки. Ходят в шортах. Ирма с голой грудью, как, впрочем, и другие девчонки в этом кемпинге.
По телевизору, который есть в нашем трейлере, и по газетам следим, что происходит в мире. Оказывается, наши не сидят сложа руки и на активность полиции отвечают активностью.
15 мая «Армия справедливости» взрывает машину, в которую села жена судьи, ведущего дела наших арестованных товарищей. Судья остается невредим (кто ж виноват, что эта дура первой села в машину?).
На следующий день взлетает на воздух здание следственного управления в нашем городе вместе со всеми делами.
19 мая взрывается редакция одной сволочной газеты, назвавшей нас «Армией бандитов и убийц». Двадцать человек ранено. К сожалению, охрана обнаружила бомбы в главном типографском зале, и всего за пятнадцать минут до взрыва.
Боевики взрывают машину, набитую динамитом, у стены тюрьмы, рассчитывая освободить двоих наших. Стена действительно разваливается, но оказалось, что прогулка, на которую выводили заключенных, как назло, закончилась в тот день на четверть часа раньше и двор оказался пустым.
Все это время я на всякий случай в разное время позваниваю Франжье. Так, для очистки совести. Телефон, разумеется, молчит. В доме адвоката никого нет. Вы замечали, что гудки в трубке, когда кто-то есть в квартире и просто медлит ответить, иные, чем когда никого дома нет? Так вот, у Франжье, когда бы я ни звонил, гудки сообщают: никого нет.
И вдруг я, как всегда, набираю номер, рассеянно поглядывая, как играют в футбол возле телефонной кабинки на лугу мальчишки, и неожиданно в трубке раздается щелчок и четкий голос Франжье произносит: «Я слушаю». Я настолько поражен, что не могу произнести ни слова. И хорошо делаю. Шеф недовольным голосом спрашивает: «Это ты, Роберт?» Наконец, взяв себя в руки, бормочу: «Ошибка» — и вешаю трубку. Вот так фокус! Роберт — это значит маршрут № 12. Минуту я стою в раздумье, потом со всех ног бросаюсь к нашему трейлеру. К счастью, все в сборе, ждут меня обедать.
— Быстро! Уезжаем!
Мы запихиваем в трейлер вытащенные было складные столы и стулья, и я включаю мотор. Уже по дороге в соседний городок нам навстречу на бешеной скорости, с ревом сирен одна за другой проносятся полицейские машины с синими маяками. Да, быстро они меня засекли. Но зато теперь все стало на свои места. Франжье в конторе, мы знаем, куда ехать, деньги есть. Жизнь прекрасна!
Прекрасна? Нет, она уже никогда не будет для меня прекрасной. Разве что когда я буду взрывать и убивать «их». Как раз за то, что она больше никогда прекрасной не будет, за то, что она у меня такая. За то, что погиб Эстебан…
Вот этого, его смерти, я «им» никогда не прощу. И буду мстить, беспощадно мстить! Ничего, «они» еще у меня наплачутся! Вряд ли я смог бы тогда ответить на вопрос: кто же такие «они»? Уж слишком многое и туманное вкладывал я тогда в это местоимение.
Мы долго колесим по разным дорогам, бросаем наш трейлер в какой-то лощине и, пересев на местный поезд, въезжаем в большой, второй по величине, город нашей страны, дымный, пыльный промышленный город. Есть где развернуться.
И мы развернемся, можете мне поверить. Как обычно, ключ от квартиры достаем в ящике автоматической камеры хранения. Как обычно, квартира находится в старом доме, с двумя выходами, проходными дворами, черной лестницей. И район старый, спокойный, довольно безлюдный.
Итак, у нас дом. Пусть временная, пусть жалкая, пусть ненадежная, но все же своя конура.
Располагаемся. Отдыхаем с дороги. Осматриваемся. Холодильник, как обычно, забит продуктами. Пива, виски и того больше. В условном тайнике находим автоматы, взрывчатку, пистолеты, винтовки с оптическим прицелом, патроны… Все в порядке. Мы готовы к действию.
И мы начинаем действовать.
Если бы вам довелось полистать газеты тех дней, то вы прочли бы в них много интересного. Нет, не только о концерте эстрадной звезды, и победе городской футбольной команды, и об открытии выставки собак, и строительстве нового фешенебельного кабаре. Не только об этом.
Но вы еще прочтете, что 8 июня неизвестные в масках убивают чуть не на пороге его дома главного прокурора города, заявившего по радио, что не должно быть пощады террористам; заодно убиты его телохранитель и шофер.
28 июня двое мужчин и женщина убивают из пистолетов председателя коллегии адвокатов, отказавшегося защищать членов организации «Армия справедливости».
16 июля от пуль неизвестных погибает главный редактор крупнейшей газеты города, рассказывающей о деятельности «Армии» так, словно эта газета продалась коммунистам. И в тот же день вечером из автомата убит чиновник министерства юстиции, возглавлявший отдел строительства тюрем. Через две недели в упор из автоматов застрелен старший офицер полиции из отдела по борьбе с терроризмом.
Бомбы взрываются у зданий иностранных консульств, полицейских комиссариатов, банков.
Так продолжалось все лето.
Мы словно осатанели. Теперь мне безразлично, во имя чего мы все это делаем. Пусть Франжье и другие теоретики рассуждают (хотя какой он теоретик), мое дело сражаться на передовой. Я мщу, жестоко мщу. За что? За все, за арест Рики, за смерть Эстебана, за эту сволочную жизнь, выпавшую на мою долю… Да не все ли равно, за что? Я просто иначе не могу. Я теперь, как стало модным выражаться, запрограммирован на такие действия. Я всего лишь пистолет, из которого кто-то стреляет. Даже не знаю кто. Но в чьих-то руках я хороший пистолет. Надежный. Точный.
Однако полиция тоже не дремлет. Газеты сообщают, что в распоряжении тех, кто борется с терроризмом, более 150 тысяч человек, из них 15 тысяч в нашем теперешнем городе. И это не считая сотен тысяч добровольных помощников, этих проклятых обывателей, благополучных отцов семейств, домашних хозяек, которые по воскресеньям подают к завтраку блинчики с вареньем, да и тех же рабочих на заводах, ради которых мы стараемся! Они, видите ли, недовольны нами. Оказывается, каждый раз, как мы совершаем нашу боевую акцию, правительство и полиция усиливают репрессии, и это ударяет по рабочим. А? Как вам это нравится?
Так не сидите истуканами, присоединяйтесь к нам, вперед на баррикады! Нет, представьте себе, у них иные методы борьбы. Ссылаясь на Маркса и Ленина, они осуждают террор и считают, что его нецелесообразно использовать в политической борьбе.
Я помню, как однажды кто-то из новеньких усомнился, мол, ограбление банков как-то не очень соответствует названию «Армия справедливости». Тогда Гудрун на него так посмотрела своими глазищами, что он прямо в землю врос.
— А что писал Маргинелла на этот счет, ты хоть знаешь? Он считает, что мы имеем право экспроприировать буржуазную собственность, используя излишки, накопленные привилегированными элементами. Ясно?
Вот так она молодых воспитывала. Жаль, того паренька пристрелила полиция, как раз когда мы эти излишки реквизировали…
Но я отвлекся. Это все теории. Я же, как вы помните, уже объяснял, что я практик.
Словом, мы «работаем». И, как я уже сказал, полиция тоже. По сообщениям газет, ежедневно в полицейское управление звонят сотни людей — все сообщают, где нас искать. Полиция объявила по телевидению два номера телефона, по которым любой может позвонить, и услышит записанные на пленку наши голоса — мой, Гудрун, других наших боевиков. Их записали, когда мы звонили и брали на себя ответственность за разные акции, выдвигали требования в отношении заложников и т. д.
Парламент принимает разные законы — повышается максимальный срок заключения для террористов, вводятся всякие проверки и ограничения, а полиции, наоборот, развязывают руки.
За полгода арестовано 277 террористов, обнаружено 18 баз и тренировочных пунктов, реквизировано столько оружия, что сам Каммингс иззавидовался бы.
Но нас не так-то просто обнаружить. Многие живут на легальном положении — студенты, конторщики, юристы, журналисты, служащие… Днем ходят в церковь, воспитывают детей, помогают женам мыть посуду. А ночью убивают, взрывают, похищают. Но это боевики, исполнители.
Есть в нашей «Армии» и кое-кто повыше — кто сам сидит в директорском кресле, а то и в парламентском, в военном штабе, а то и носит судейскую мантию. И упаси вас бог спрашивать их имена. Мне моя жизнь пока еще дорога. У нас болтунов не любят. Я и так сказал лишнее.
Да, за эти времена я многое понял, о многом догадался. Многое мне теперь ясно. Помните Рони, «дорогого друга» (я еще к нему вернусь)? Думаете, я не узнал, кто он? Не беспокойтесь, не такой уж я дурак. Это нас много, десятки организаций вроде «Армии справедливости» всех цветов и оттенков (кажется, я уже говорил об этом). А его-то организация одна. Кстати, была сенсация. Один из коллег нашего «дорогого друга», как говорится, «вывернул рубашку наизнанку», короче говоря, порвал с этой самой уважаемой организацией и пошел давать интервью направо и налево.
Один репортер его спрашивает: «Скажите, имеет ли место просачивание ваших агентов в крайние правые и крайние левые политические организации?» — «Это просачивание, — отвечает, — осуществляется различными способами, особенно при помощи вербовки активистов, которых либо шантажируют в связи с их прежними уголовными преступлениями, либо впутывают в уголовные дела. Но имеется также много "добровольцев". Они используются для получения информации, а также для всех провокационных операций и для организации демонстративных актов насилия».
Вот что он сказал! Раскрывший уши да услышит. Только учтите, я ничего вам не говорил. Я и с Гудрун на эти темы не разговаривал. В таких делах никому нельзя доверять. Даже себе самому.
Гудрун, которая регулярно ходит утром за газетами, возмущается.
— Представляешь, они сорвали голодовку!
— Какую голодовку?
— В тюрьме (Рика и еще несколько наших объявили голодовку, жалуясь на режим). Так знаешь, что эти мерзавцы придумали, тюремщики? Они им не дают воды, и жажда заставляет несчастных пить обогащенное молоко! Представляешь? Я бы этих тюремщиков напоила кое-чем!
У меня мороз пробегает по коже — я хорошо представляю, чем напоила бы гуманных тюремщиков моя нежная подруга. На всякий случай говорю:
— Зря все-таки Рика устраивает эту голодовку, она же знает, что от этого у нее путаются мысли.
— Много ты понимаешь, — презрительно фыркает Гудрун. — Ты совершенно не разбираешься в классовой борьбе!
— Зато я разбираюсь в бифштексах, уж ты-то со своим аппетитом черта с два объявила бы голодовку.
— Я! — Она задыхается от возмущения. — Да я, если ты хочешь знать, покончу с жизнью в тюрьме, если увижу, что из нее не выйти!
Эх, плохо я все-таки знал свою Гудрун!
Между тем война продолжается. Мы убиваем, взрываем, похищаем, нас выслеживают, арестовывают, судят, сажают в тюрьмы. Впрочем, все чаще суд отпускает нас «за недостаточностью улик» (чем больше судей мы убиваем, тем снисходительней становятся к нам оставшиеся в живых. Странная закономерность, вы не находите?). Кое-кого удается освободить путем налета на тюрьмы, подкупа надзирателей. Раньше еще удавалось брать заложников и обменивать их на наших. Но теперь правительство категорически с этим покончило: «Никаких сделок с террористами, никаких уступок!»
А потом происходит невероятное.
Я лежу, читаю «Хижину дяди Тома» (между прочим, впервые и с удовольствием, трогательно до слез, а теперь таких книг не пишут, да и не бывает такого в жизни). Гудрун смотрит телевизор (уже двенадцать часов, лучше бы шла готовить обед). Вдруг я слышу ее дикий вопль. Молниеносно выхватываю пистолет и бросаюсь в соседнюю комнату. Карл и Ирма с автоматами выскакивают из своей. Гудрун стоит бледная, лицо искажено яростью, тычет пальцем в телевизор:
— Они убили ее! Сволочи! Они убили ее!
Ничего не понимая, смотрю на экран. Там диктор продолжает передачу последних известий. Все становится ясно: Рика повесилась…
Глава X Взрыв
Диктор многословен. Передача «Последние новости» неоднократно возвращается к этому событию, радио тоже приводит множество подробностей. Все газеты полны домыслами и комментариями. Ар и Гудрун жадно впитывают обрушившуюся на них информацию.
Выясняется следующее.
Рика вела в тюрьме довольно активный интеллектуальный образ жизни, который журналисты всерьез не принимали.
У нее в камере была целая библиотека в полтораста книг, она подписалась на семь газет и журналов. В камере стояли приемник, телевизор и даже проигрыватель (который другим заключенным иметь запрещалось). Кстати, общаться с ними она избегала.
Последней книгой, которую она прочла, был роман ее бывшего мужа, в котором он выводил одного из руководящих деятелей «Армии справедливости» в качестве агента ЦРУ. В романе ее беззастенчивый муж так же прозрачно описывал некоторые эпизоды их прежней супружеской жизни.
Рика возмущалась и яростно отрицала какую-либо связь между своим темпераментом, личными чувствами и решением примкнуть к «Армии справедливости».
Но, как известно, стать убийцей и бандитом — сомнительный метод лечить неврастению.
В тот вечер она допоздна печатала на машинке, однако, по словам тюремного начальства, никакого печатного текста утром не обнаружили.
По словам того же начальства, затем произошло следующее (так, во всяком случае, можно предполагать): Рика отодвигает стоявшую у окна кровать, кладет матрац возле окна, ставит на него стул, разрывает полотенце, делает из него веревку. Затем, встав на стул, прикрепляет один конец к решетке окна, второй, завязав петлей, надевает на шею и спрыгивает со стула.
Утром в половине восьмого надзирательница обнаружила труп, а через несколько минут тюремный врач официально констатировал смерть в результате самоубийства.
Однако на этом дело не закончилось. Начали раздаваться голоса — и чем дальше, тем громче, — что Рику убили, да еще предварительно изнасиловав… Ее сестра прибегла к услугам адвокатов, началось длительное и сумбурное следствие.
Ссылаясь на результаты вскрытия, адвокаты считали, что было совершено насилие, а официальные власти их опровергали. Судебно-медицинские эксперты вступали в длительные дискуссии.
Эти споры раздувались газетами. «Армия справедливости» заявляла в подброшенных листовках, что не оставит безнаказанным «государственное убийство»; студенты, подхватив лозунг, устраивали шумные демонстрации.
В день похорон на кладбище явились более четырех тысяч человек, некоторые в масках.
— Ты действительно считаешь, что ее убили? — спросил у своей подруги Ар, уставший от всей этой перепалки.
— Безусловно! — твердо заявила Гудрун. — И им это так не пройдет!
— А, — махнул рукой Карл. Он лежал на диване, тупо глядел в пространство: последнее время он все больше и больше прибегал к марихуане, — не все ли равно. Мы же так или этак будем утверждать, что это убийство.
— Что значит утверждать? — возмутилась Гудрун. — Это и есть убийство. Преступление, гнусное преступление полицейских псов. Они знали, что рано или поздно мы рассчитаемся с ними. Вот и поторопились расправиться, пока она в их руках.
— Послушай, Гудрун, — Карл насмешливо посмотрел на нее, — ну какое это имеет значение, что произошло на самом деле. Солдаты «Армии справедливости» никогда не отчаиваются и самоубийством не кончают. Они сражаются до конца! Эта песенка известна. Если мы начнем вешаться, топиться, стреляться, значит, мы в тупике, значит, это крах наших лозунгов, призывов, всей нашей программы. Вот почему мы этого никогда не делаем, — он снова усмехнулся, — и Рика этого не сделала. Ее убили полицейские псы. И мы им, конечно же, отомстим — будем убивать и взрывать…
— Мне не нравятся твои разговоры, твои намеки. — Гудрун смотрела на Карла зло и презрительно. — Это речи труса, если не отступника.
— Ладно, ладно, — спохватился Карл, он слегка побаивался Гудрун, — ты же знаешь, что я шучу. Между прочим, полиция будет так же настойчиво утверждать, что Рика сама покончила с собой, поскольку им нужна именно такая версия.
Этот бесполезный разговор продолжался еще некоторое время. Ар безучастно слушал, потягивая пиво.
— Вот что, — наконец сказал он, — хватит болтовни, давайте действовать. За смерть Рики мы должны отомстить. Надо составить список тех, кто своей жизнью заплатит за гибель нашего товарища!
— Правильно, — сразу согласилась Гудрун. — Во-первых, начальник тюрьмы, во-вторых, тюремный врач, в-третьих…
Они долго сидели, составляя список, обдумывая план «казни». Однако на следующий день выяснилось, что власти отлично знали, с кем имеют дело: начальник тюрьмы уехал за границу, двое надзирательниц были переведены в другие тюрьмы.
И все же власти недооценили деятелей «Армии справедливости».
…Утром помощник начальника тюрьмы (который в день самоубийства Рики был в отпуске), как всегда, вышел из своего дома в семь утра. Он жил невдалеке от тюрьмы и ходил на службу пешком. Пройдя квартал, он заметил машину, которая медленно двигалась по улице в том же направлении. Мгновенно поняв грозившую ему опасность, он огляделся. Кругом стояли коттеджи с наглухо запертыми в этот ранний час дверями. Лишь в одном на пороге стояла женщина и двое ребятишек. Мужчина не раздумывал ни секунды. В несколько прыжков он подбежал к ним и попытался скрыться в доме.
— Мне срочно надо позвонить! — крикнул он ошеломленной женщине.
Но войти в дом не успел. Машина увеличила скорость. Когда она поравнялась с домом, застрочили автоматы. Не прошло и минуты, машина скрылась вдали. На пороге неподвижно лежали изрешеченные пулями помощник начальника тюрьмы, женщина, двое детей и не вовремя выскочившая к своим маленьким хозяевам такса.
В тот же вечер высокий, седой, элегантный господин, известный в городе патологоанатом, прикрепленный к тюрьме и давший заключение о самоубийстве Рики, также выходил из своего красивого загородного особняка. Они с женой направлялись на концерт органной музыки.
Врач подошел к стоявшему у калитки черному «ситроену», сел за руль и, крикнув жене, чтобы поторопилась, повернул ключ зажигания. В то же мгновенье мощный взрыв потряс весь квартал. Посыпались стекла, зазвенело железо, высоко в небо взметнулось пламя, и на фоне его, словно в замедленной съемке, поднялась в воздух, разламываясь на куски, машина. И снова опустилась на землю грудой почерневшего железа.
В ту же ночь множество полицейских начали прочесывать город. Они обходили отели, устраивали проверки в кинотеатрах, в барах… Нагрянули в студенческие общежития, клубы, дискотеки, сделали обыск в редакциях некоторых газет. Были произведены многочисленные аресты. В основном среди «левых элементов».
По радио выступили председатель городского муниципалитета, начальник полиции, прокурор города, партийные лидеры. Комиссар Лукас лично руководил операцией. Как всегда спокойный и немногословный, он разъезжал по городу в длинной черной машине с синим маяком и антенной на крыше, давая указания, выслушивая по радио доклады…
Масло в огонь подлило еще одно происшествие. Полицейский мотоциклист задержал машину, проехавшую на красный свет. Однако, не обращая внимания на его приказ остановиться, машина, набрав скорость, попыталась скрыться. Полицейский, вскочив на мотоцикл, начал преследование. В ходе погони к нему присоединился мотопатруль. Наконец они настигли машину, прижав ее к тротуару, и с пистолетами в руках направились к ней. Но не успели сделать и трех шагов, как из машины застрочили автоматы, и все трое были убиты…
Убийцы скрылись.
Полицейские были в ярости: убили их товарищей, а этого они не прощали. Теперь они действовали с особым усердием. Иной раз даже с излишним. Уже поступили сообщения, что на окраинной улице был застрелен прохожий только за то, что не поднял руки, когда ему приказал это сделать патруль. Прохожий оказался глухонемым. Одному студенту, пытавшемуся не пустить полицейских в частную молодежную дискотеку, проломили голову, и он скончался по дороге в больницу. Полицейские участки были набиты арестованными, многие избиты.
И все же одна ночь принесла полиции неожиданный и немалый успех. Были арестованы еще сотни террористов (и сотни людей никакого отношения к ним не имеющих), обнаружены еще десятки тайных квартир и филиалов.
Но, пожалуй, главный успех заключается в том, что удалось захватить нескольких главарей «Армии справедливости» и важные документы.
Произошло это так. Все анонимные (и не анонимные) звонки в полицию регистрировались (а их набиралось до тысячи в день) и по возможности проверялись.
И вот однажды последовал странный звонок. Старческий голос сообщал, что назвать себя он не хочет, все эти волнения ему не по возрасту, но на месте полиции он бы заглянул в дом по такому-то адресу. Он видел, как в подъезд заходят разные подозрительные личности с подозрительными чемоданами. В квартире по ночам горит свет, а однажды, когда там, видимо, случайно упала на окне занавеска, ему показалось, что в комнате вооруженные люди.
Конечно, большинство звонков оказывались пустым номером, однако некоторые наводили на след.
Оперативная группа выехала по указанному адресу, вошла в подъезд роскошного дома и, к своему изумлению, оказалась перед дверью известного адвоката, главы конторы «Франжье и сын». Правда, адвокат давно находился на подозрении, он, несомненно, был связан с различными экстремистскими группировками, но от этого до террористической деятельности все же немалая дистанция.
Дистанция оказалась более чем короткой.
В квартире явно кто-то был — слышалась музыка, громкие голоса. Когда полицейские позвонили, дверь не открыли, но сразу все стихло. Полицейский, с крыши противоположного дома наблюдавший в бинокль за квартирой, сообщил по радио, что свет в окнах погас.
Сделав еще два предупреждения, полицейские начали ломать дверь.
— В чем дело, кто там? — раздался тогда из-за двери возмущенный голос.
Это был владелец квартиры, адвокат Франжье. Он открыл сам и оглядел незваных гостей недовольным взглядом. На нем был расшитый бархатный халат, на шее висел массивный золотой знак зодиака. Несмотря на поздний час, он, как всегда, был безукоризненно причесан.
— В чем дело? — повторил он.
— Извините, господин адвокат, — вежливо сказал руководивший группой инспектор и, потеснив хозяина, вошел со своими сотрудниками в холл, — вот ордер на обыск.
— Вы нарушаете конституцию, неприкосновенность жилища, я адвокат и так этого не оставлю. Я…
Но полицейские уже осматривали квартиру. В спальне в постели обнаружили полуодетую красавицу. Когда один из них грубо сорвал с девицы одеяло, он обнаружил еще и два автомата. Неожиданной оказалась и реакция девушки. Мгновенно она превратилась в настоящую фурию. Сбив с ног полицейского безупречным приемом каратэ, она пыталась схватить автомат, и потребовались объединенные усилия двух здоровенных детективов, чтобы скрутить ее и надеть наручники.
Тем временем в холл через распахнутую парадную дверь ввалилась большая группа людей. Оказалось, что полицейские, устроившие засаду на черной лестнице, задержали там четырех неизвестных, пытавшихся скрыться из квартиры. Дверь за ними захлопнулась, и пришлось вести задержанных через парадный вход. Они все оказались вооружены. В двоих инспектор узнал давно разыскиваемых боевиков «Армии справедливости». Всю компанию увезли, вызвали специалистов и начали тщательный обыск квартиры. Франжье отвечать на вопросы отказался. Он сидел в кресле, курил и с холодным вниманием наблюдал за действиями полицейских.
А те работали сноровисто и быстро и вскоре уже сваливали в большую кучу оружие. Автоматы, пистолеты, гранаты, бомбы всех систем и видов, а также пакеты со взрывчаткой, электронные устройства для дистанционных взрывов, для подслушивания, радиоприемники, настроенные на волну специальных полицейских передач, мешочки с наркотиками, подлинные и поддельные бланки разных государственных учреждений, печати, фальшивые паспорта и водительские права, брошюры и книжонки с разными антиправительственными программами и планами. А в тайниках были обнаружены списки политических деятелей, судей, прокуроров, следователей (на почетном месте здесь фигурировал комиссар Лукас), финансистов и промышленников, журналистов и дипломатов, подлежащих «изъятию», как изящно значилось в заголовке списков.
Были здесь и адреса некоторых тайных квартир, некие маршруты № 1, 2, 3… — целые цепочки, по которым можно было выбраться из города, скрыться в провинции и даже за границей.
Словом, когда все это было доставлено комиссару Лукасу, он позвонил среди ночи министру внутренних дел и другим высокопоставленным руководителям полицейских и секретных служб. Все они горячо поздравляли комиссара, а то, что в голосе иных из них сквозила растерянность, он постарался не заметить.
Что касается Франжье, то он был совершенно спокоен. Арсенал, планы, документы. Он о них ничего не ведает. Вот что значит быть доверчивым — у него действительно в конторе работали и студенты юридического факультета, в том числе такие, как Гудрун, Ар… Это не тайна, полиция об этом осведомлена. Иногда, уезжая на неделю-другую, он оставлял им ключи и от своей личной квартиры — там было удобнее работать. Вот они, наверное, и устроили тут целый арсенал и разные тайники, воспользовавшись его отсутствием. Люди, которых задержали на черной лестнице? Это его клиенты. Те двое, что разыскиваются полицией, как раз хотели явиться с повинной и обсуждали с ним, своим адвокатом, как лучше это сделать. Почему он не сообщил о них? Не мог. Адвокат связан профессиональной тайной. Женщина с автоматами? Это его любовница, разве он не может иметь любовниц? Безнравственно, согласен, но уголовно не наказуемо. Что же касается автоматов, то у нее патологически ревнивый друг и если б он выследил ее и ворвался в квартиру, пришлось бы защищаться. Кстати, и полицейских она приняла за подосланных ее дружком убийц и только потому вступила с ними в борьбу. Еще вопросы есть?
Франжье тем не менее засадили за решетку, ему было отказано в освобождении под залог.
На следующий день вся страна читала сообщения о подробностях операции. Прочли их и Гудрун с Аром. Они были растерянны: арестован их шеф.
— Его надо освободить, — решительно заявила Гудрун.
— Как? — спросил Карл.
— Надо захватить заложников и обменять их на Франжье.
— Или устроить налет на тюрьму, пока его еще содержат в следственной. Я где-то читала недавно, — сказала Ирма, — что эта тюрьма по своей системе безопасности может сравниться лишь с обычным курятником.
— Надо выяснить все подробности, связаться с Франжье и вызволить его как можно скорей, — резюмировала Гудрун.
И заработали невидимые зубчатые передачи, натянулись невидимые провода, соединившие штаб-квартиры «Армии справедливости» и тюремные камеры.
Выясняется, что тюрьма, в которую был заключен Франжье в ожидании процесса, не имеет специальной заградительной стены, усовершенствованной системы тревоги, с городом ее связывал лишь один телефон, причем через коммутатор. Наружная охрана отсутствует, железные решетки из-за ошибки в расчете конструкции еле держатся в окнах и, по словам начальника тюрьмы, «никоим образом не исключают возможности бегства заключенного».
К тому же в то время здесь проводился эксперимент «открытой тюрьмы» — заключенные вместе готовили себе еду, играли во дворе в футбол, камеры не запирались: тюрьма напоминала курятник.
Чем объяснить, что Франжье, в сопроводительной бумаге которого значилось «рекомендуется строжайший надзор… не выпускать из поля зрения в связи с возможным нападением извне», оказался в такой тюрьме? А зачем объяснять? Для боевиков «Армии справедливости» освобождение из подобного узилища одного из своих главарей оказалось парой пустяков.
Гудрун, Ар, Ирма и Карл подогнали к стене тюрьмы «фольксваген», набитый взрывчаткой, и ровно в 12 часов 30 минут взорвали его с помощью дистанционного управления. Стена разлетелась на части, похоронив под своими обломками двух случайных прохожих.
Что касается Франжье, то он и в заключении оставался элегантным, холеным, подтянутым. В тот день он аккуратно прибрал камеру, плотно позавтракал (еду ему доставляли из ближайшего ресторана надзиратели, получавшие от него за эти услуги сумму, равную их недельному жалованью).
Затем он погулял во дворе, а в 11 часов 45 минут уселся на траве смотреть футбольный матч между командами корпуса А и корпуса В. Игра проходила с переменным успехом, и Франжье азартно болел за корпус А (в котором помещалась и его камера). Ровно в 12 часов 30 минут свисток судьи возвестил конец первого тайма.
В то же мгновенье стена тюрьмы, находящаяся метрах в двадцати от игрового поля, взлетела на воздух. Франжье, за несколько минут до этого переместившийся поближе к стене, даже не выбежал, а величественно прошествовал через пролом и лишь, досадливо морщась, отряхнул испачкавшийся пиджак. Он торопливо сел в подъехавшую машину, за рулем которой был Ар, а на заднем сиденье — Гудрун и Ирма с автоматами, и просто сказал:
— Спасибо, голубки. А теперь куда-нибудь обедать. Зверски хочу есть.
И они поехали не на тайную квартиру, где скрывалась освободившая его четверка, и не на другую такую же, а в тихий, семейный ресторанчик, совсем безлюдный в этот час. Там не спеша пообедали. И лишь после этого отвезли Франжье к центру города.
— Спасибо, — повторил он на прощанье, — дальше я сам доберусь. В ближайшее время мы проведем акцию, которой еще не предпринимали. Надо, чтобы все они поняли, что эта волна политических репрессий не пройдет им даром. До скорого.
Ар повел машину «домой».
Адвокат позвонил через четыре дня. Они договорились встретиться за городом на вилле одного очень богатого и очень влиятельного человека.
— Неужели и он наш? — удивился Ар.
— Не обязательно, — рассудительно заметил Карл, — он может быть сочувствующим. Или даже не знать, кто мы такие.
— Но Франжье-то он знает.
Карл пожал плечами. Он все больше увлекался марихуаной. Все чаще курила и Гудрун. Что касается Ара, то он пристрастился к виски. Заходя в бар, сразу заказывал пять порций: просто молча показывал официанту растопыренную пятерню.
…Их жизнь стала невыносимой.
Пришлось сидеть целыми сутками в запертой квартире с занавешенными окнами, в постоянном страхе, часами глядя на экран телевизора, на котором вновь и вновь демонстрировалась все та же осточертевшая реклама, идиотские мультфильмы, дурацкие детективы и «Последняя информация», в которой содержались сообщения далеко не радостные — полиция наступала. Хотя и террористы не сидели сложа руки.
Терпеть такую жизнь было невмоготу. Вечные переодевания, перекрашивание волос и парики, вечная необходимость следить за своим голосом, походкой, движениями, необходимость постоянно оглядываться, всех и всего остерегаться, ежесекундно ожидать нападения. Когда они выходили на улицу, то ни на мгновение не переставали сжимать в кармане пистолеты. Куда бы ни шли, хоть в кино, выбирали сложнейшие маршруты, чтобы избежать возможной слежки. Покупая продукты, все время меняли магазины и рынки. Пользовались угнанными на один раз машинами. Старались меньше звонить по телефону, хотя их квартира была полиции неизвестна (иначе их бы давно взяли).
Тоска. Все время была страшная тоска. Потому что, когда нечего делать, начинаешь думать, а в их положении приятные мысли в голову не приходили.
Они все меньше говорили о теории, все меньше вспоминали громкие лозунги, которые провозглашала «Армия справедливости». Но инерция оставалась. И когда наступало время очередной акции, они преображались. Становились точными, расчетливыми, хладнокровными. Это были профессионалы. Их работой было убийство. И на работу они выходили в рабочем настроении.
Да, такая работа была опасной, но они с нетерпением ждали, когда настанет час осуществления акции, настолько тягостным было само ожидание.
Поэтому на свидание с Франжье ехали в приподнятом настроении. Будет сверхсекретная конспиративная встреча, на которой, видимо, обсудят важную акцию.
И немало удивились, увидев на широкой эспланаде перед виллой (больше напоминающей средневековый замок) несколько десятков роскошных машин.
Все окна виллы были освещены, слышалась музыка. Швейцары в ливреях стояли у дверей. Несколько полицейских регулировщиков наводили порядок в автомобильном стаде.
Назвав вооруженной охране вымышленные имена (их так часто теперь приходилось менять), они беспрепятственно подъехали к дому и поставили два часа назад угнанный «мерседес» перед самым носом одного из регулировщиков. Тот откозырял вновь прибывшим гостям.
Они поднялись к парадному подъезду и вновь сообщили имена важному мажордому, вышедшему к ним навстречу с глубоким поклоном.
Мажордом не повел их, однако, по широкой внутренней лестнице на второй этаж, откуда неслись звуки музыки, он свернул к боковой двери. Они шли бесконечными коридорами, поднимались по лестницам, проходили пустые гостиные и наконец очутились в небольшом курительном салоне, обставленном со всей роскошью. Указав на низкий столик, на котором в изобилии выстроились бутылки виски, вина, коньяков самых лучших марок, мажордом вышел, тихо притворив за собой дверь.
Ар торопливо налил виски, выпил залпом, повторил. Карл со вздохом закурил толстую сигару, явно тоскуя по сигаретам с марихуаной.
Гудрун и Ирма ни к чему не притронулись. Они лишь оглядывались по сторонам, рассматривая шелковые вышитые обои, старинные картины, громадные персидские ковры, мраморные бюсты, огромный камин с позолоченными, искусной работы часами на нем.
— Ну и долго нам здесь ждать? — нетерпеливо воскликнула Гудрун, когда часы пробили половину десятого. — Уже четверть часа прошло! В конце концов, наш шеф мог бы…
— Не ворчи, — тихо сказал Ар и выразительно взглянул на потолок — там могли быть вмонтированы микрофоны.
И как раз в этот момент в комнату вошли Франжье и… Рони. Оба были в смокингах, оба широко улыбались и радостно пожали прибывшим руки.
— Давно не виделись, — продолжая улыбаться, сказал Рони, но его белесые глаза внимательно разглядывали «старых друзей».
— Давно, — подтвердил за всех Ар.
— Здесь что, вечеринка? — иронически улыбаясь, спросила Гудрун.
— Да вроде, — рассмеялся Рони, — у хозяина большой прием — помолвка дочери. Мы подумали, что более безопасного места для нашего совещания не сыщешь.
— А вы не боитесь, шеф, что вас тут узнают? — задала Ирма довольно наивный вопрос, обращаясь к Франжье.
— Нет, — снисходительно улыбнулся адвокат, — полицейских и осведомителей, которым раздали мои приметы и фото, тут нет. А те, кто здесь, занимают слишком высокие посты, чтобы помнить, кого разыскивают их подчиненные.
Все засмеялись.
— Займемся делом, — сказал Рони. — К сожалению, у меня мало времени. Я прервал там важный разговор. Сообщаю — вся необходимая для акции взрывчатка будет вам оставлена в коробках из-под обуви в автоматических камерах хранения на всех трех вокзалах города. Вот шифры камер. — И он протянул им листок. — Взрыватели и кое-какое дополнительное снаряжение завезем вам на квартиру. После акции надо будет сразу же уезжать за границу. Вы разделитесь, полетите поодиночке до Неаполя. Там сядете на лайнер «Бегония» и переправитесь для начала на ту сторону Средиземного моря. А там посмотрим. Наверное, отправитесь подальше. Вот билеты, вот паспорта, не сомневайтесь, все настоящее — и визы, и печати, и фото. Делали мои ребята, а они мастера. Вот и все. Желаю удачи. Надеюсь, еще доведется встретиться.
Рони пожал всем руки и вышел.
Франжье заговорил несколько торжественно:
— Предстоящая акция заключается в следующем: вы подложите мину в здание Центрального городского вокзала и взорвете ее в тот момент, когда подойдет поезд с возвращающимися из отпуска. Эта акция символизирует наше осуждение буржуазного образа жизни. Мы предполагаем, что она будет иметь далеко идущие последствия — возможна отставка правительства, возможно, что к власти придет правительство диктаторское, а это, в свою очередь, вызовет протест масс, создаст ту смутную ситуацию, которая позволит нам наконец добиться наших целей. — И, уловив на лицах своих собеседников выражение некоторого скептицизма, добавил: — Думаете, нас никто не поддержит? Не бойтесь, у нас много союзников. В том числе и среди них, — он указал жестом на дверь. — Вот план вокзала. Установите взрыватель с дистанционным управлением. Поезд приходит в воскресенье в шесть часов вечера. В это время и должен произойти взрыв. Чем громче он прозвучит, тем лучше. Не забывайте, что сказано в нашей стратегической программе: «Не надо принимать во внимание возможность жертв среди врагов или лиц, не имеющих отношения к политике». Будьте осторожны — полиция начеку.
Некоторое время все молчали. Первой прервала молчание Гудрун:
— За Рику я готова отправить на тот свет хоть тысячу этих проклятых псов.
— Каких псов? — удивилась Ирма.
— Полицейских! Проклятых полицейских!
— Но в поезде будут не полицейские, — заметила Ирма.
— Какое это имеет значение! — выкрикнула Гудрун. — Пусть знают, что им не будет покоя!
— Правильно, — подхватил Франжье. — Это главная цель. Возможно, будут жертвы и среди случайных людей. Но вы же знаете, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц? Так что действуйте. Я ухожу. Я и так задержался. Буду звонить сам.
И он вышел, забыв пожать им руки.
Они поехали домой, оставив за собой огромную, сиявшую огнями, гремевшую музыкой виллу.
Почти до утра боевики обсуждали детали предстоящей акции. Со следующего дня они начали ходить на вокзал, наблюдать. И сразу заметили усиленные наряды полиции, подозрительных плотных мужчин, с безразличным видом читавших газеты (чуть ли не по часу каждую страницу) или просто слонявшихся у «стратегических» пунктов. Заметили черные машины с антеннами на крыше.
Акция предстояла, бесспорно, серьезная, возможно, самая значительная в их практике. Она была намечена на второе августа на восемнадцать часов.
Они заранее побывали на вокзале, мысленно представляя каждое движение, каждый шаг.
— Ну что ж, — сказал в заключение Ар, — как будто все готово.
— Все пройдет отлично, — заметила Гудрун. Они никогда не сомневались в успехе.
— Разумеется, если не попадется сверхбдительный полицейский, сверхлюбопытный мальчишка, — перечислял Карл, — если никто не спросит, откуда наш грузовик, если…
— Да замолчи ты, — истерично крикнула Гудрун. — Трус! «Если, если»… Если кто-нибудь помешает, пристрелим как собаку.
— А если пристрелят нас? — усмехнулся Карл.
— Если нас, то погибнем за дело, за настоящее дело! — кричала Гудрун.
— Ладно, успокойся, не ори, — рявкнул Ар, — нечего друг другу нервы трепать. Спать, всем спать!
Каждый принял снотворное, но уснули не сразу.
На другой день в пять часов вечера Карл вышел на улицу, прошел несколько кварталов до станции автопроката и легко договорился с хозяином об аренде грузовичка. Ар подъехал к дому, и вчетвером в один заход они вынесли четыре мешка, в которые была уложена взрывчатка.
Затем Ар и Карл сели в кабину и поехали к вокзалу. Тем временем Гудрун и Ирма, уже давно постигшие искусство пользоваться любой машиной, даже если она заперта, а ключ зажигания отсутствует, скорым шагом добрались до соседней площади, где заранее присмотрели два «фиата». Судя по виду, ими уже несколько дней никто не пользовался.
В больших спортивных сумках Гудрун и Ирмы было оружие, огневой мощи которого позавидовал бы крейсер средних размеров. Гудрун и Ирма сели в машины и другим путем добрались до вокзала. Поставили машины так, чтобы удобно было наблюдать за боковым входом. Одновременно они держали под прицелом стоявшие на площади полицейские машины, главный подъезд вокзала и регулировщика на перекрестке.
Едва оба «фиата» заняли свои позиции с включенными моторами, как из боковой улочки неторопливо выкатил грузовичок и, подъехав к боковому входу, остановился. Из него выпрыгнули Ар с Карлом в синих грязноватых робах и стали разминать ноги.
«В чем дело? — подумала Гудрун и нахмурилась. — Они что, решили прогуляться?» Но в ту же минуту она увидела двух патрульных полицейских, направлявшихся в сторону грузовика. Ар с Карлом увидели их раньше.
Гудрун, сжимая в руке автомат, прикрытый накидкой, не спускала глаз с полицейских; она видела, что Ирма тоже в полной готовности.
Полицейские шли неторопливой, ленивой походкой. Поравнявшись с парнями, стоявшими возле грузовика, обменялись с ними несколькими словами. Все четверо рассмеялись. Полицейские продолжали путь. Гудрун вытерла пот со лба и сняла дрожавший от напряжения палец со спуска автомата. Ирма, откинувшись на сиденье, нервно закурила.
Карл с Аром сгрузили мешки и, взвалив на плечи, исчезли в дверях бокового входа. После второго захода они задержались надолго.
Но вот вновь вышли на улицу, не спеша забрались в кабину, и грузовичок скрылся из виду. Следом за ними, словно по команде, тронулись с места оба «фиата».
Суббота и воскресенье прошли, как всегда, в безделье, в тупом созерцании голубого экрана. Бывали минуты, когда им казалось, что для очередного тягостного ожидания просто уже не хватит сил. Они стали раздражительны, ссорились по пустякам. Однажды Ар не удержался и закатил Гудрун пощечину. Это обычно сразу ее отрезвляло, и она старалась приласкаться к нему. А тут выхватила пистолет и, если бы не Карл, успевший выбить у нее оружие, наверняка продырявила бы своего друга.
В эти дни они напоминали хищников, круживших по клетке. Это было удручающее зрелище. Напряжение разрядил звонок Франжье, сразу вернувший их к действительности. К телефону подошел Ар.
— Три — тринадцать — сорок два? — спросил Франжье.
— Нет, — ответил Ар, — три — сорок два — тринадцать.
Таков был несложный пароль.
— Ну как, голубки, готовы? — сам по-голубиному заворковал адвокат.
— Готовы!
— Груз доставили?
— Доставили.
— Хвостов не заметили?
— Нет.
— Значит, точно в шестерку?
— Да.
— Не промахнетесь?
— Нет.
Этот многозначительный, но совершенно идиотский разговор был бесполезен с точки зрения дела, и Ар никак не мог понять, зачем понадобилось шефу звонить и задавать все эти никчемные вопросы. Но Франжье был тонкий психолог, он отлично знал, в каком душевном состоянии пребывают его подопечные, и точно рассчитал время звонка.
Положив трубку, Ар вернулся к реальности. Действительно, какая нелепость — ругаются, ссорятся, когда впереди величайшая акция, опаснейшее дело. Вернее, не само дело, а то, что будет потом. Он прекрасно понимал, что последует за взрывом, если он удастся. Такого им никто не простит, и полиция сделает все, чтобы их поймать. Но в конце концов чего бояться? Билеты, паспорта, деньги у них в кармане, маршрут намечен…
И вот настало воскресенье второго августа. Это был великолепный воскресный день. Солнце светило радостно и торжествующе, на синем небе ни облачка, зеленела листва в скверах. Даже сквозь бензиновую вонь и тяжелый запах нагретого асфальта пробивался аромат травы и цветов.
Террасы кафе были заполнены, по-летнему ярко одетые посетители шумно спорили, смеялись, некоторые даже пели. И покачивались над столиками от легкого свежего ветерка большие цветные зонтики.
Поезд мчался к городу. В вагонах царило оживление — сотни людей возвращались после отпуска. Загорелые, отдохнувшие, полные летних впечатлений и радостных ожиданий, они вспоминали веселые эпизоды, морские походы, пляжи, пальмовые рощи, приморские рестораны и казино. А на перроне их ждали с цветами в руках родственники и друзья.
Машина с четырьмя боевиками «Армии справедливости» неторопливо, выдерживая график, ехала по направлению к вокзалу.
В квартиру они больше не вернутся. Сразу поедут на аэродром. Все так рассчитано, что они успеют проскочить до того, как в аэропорту будет усилен контроль. Ведь причину взрыва сразу не установят и, уж конечно, не установят виновных.
…17 часов 50 минут. Поезд минует последний перед городом разъезд и, громко стуча на стыках, начинает слегка замедлять ход. Многие пассажиры уже узнают пригороды, а иные даже свои кварталы.
…17 часов 55 минут. Старый «форд», угнанный за полчаса до этого со стоянки, притормаживает и сворачивает в ворота заброшенного склада невдалеке от железной дороги.
…17 часов 57 минут. Машинист электровоза ведет свою машину совсем медленно в лабиринте путей и стрелок. Он уже на территории станции, вдали видно разукрашенное в это летнее время здание вокзала.
…17 часов 59 минут. Ар вынимает из сумки электронное устройство дистанционного взрывателя и впивается глазами в циферблат часов. Слышно лишь тяжелое дыхание остальных. Все бледны, лица напряжены.
…18 часов. Поезд, лязгнув последний раз, останавливается у перрона. Толпы встречающих бросаются к дверям вагонов, откуда уже выскакивают первые пассажиры. Слышны приветствия, радостный визг ребятишек, крики носильщиков, смех…
…18 часов 01 минута. Ар резко нажимает на кнопку. Взрыв чудовищной силы сотрясает вокзал.
С грохотом, в клубах дыма и пыли обрушивается зал ожидания, взрывная волна горячим ураганом проносится по перрону. На какое-то мгновенье наступает тишина, нарушаемая лишь стуком запоздало падающей балки да звоном стекла. И сразу же раздаются отчаянные крики, вопли раненых, неистовый плач детей, слова команд, топот ног, стоны, рыдания. Обожженные люди мечутся повсюду, матери зовут детей… Вперемежку с кирпичами, балками, грудами стекла, валяются убитые и раненые, растекаются лужи крови…
С воем сирен мчатся к вокзалу машины полиции, «скорой помощи», пожарные.
Санитары, полицейские, добровольцы начинают выносить раненых, расчищать обломки, извлекая из-под них все новые и новые тела.
Полиция оцепляет весь район. На место прибывает комиссар Лукас с экспертами. И пока под непрекращающиеся крики пострадавших, рыдания, нечеловеческие вопли одна за другой машины увозят жертвы, эксперты начинают свою работу.
Может быть, это взрыв газа? Комиссар Лукас и помощники предполагают другое — они хорошо знают, что через город следуют «кое-какие» военные грузы на расположенные неподалеку военные базы. Может быть, какой-нибудь застрявший с этими грузами поезд или вагон взорвался?..
…Нажав на кнопку и услышав грохот взрыва, Ар включил мотор. Увидев, что он направляется к вокзальной площади, Карл вскричал:
— Ты куда?!
Но Ар молча сжал губы и продолжал гнать машину.
— Ты с ума сошел, немедленно на аэродром! Мы опоздаем! — Гудрун трясла его за плечо. Но он не останавливался.
На площади Ар выскочил из машины и подбежал к оцеплению. Широко раскрыв глаза, он смотрел, как выносили из здания вокзала раненых и убитых, машины «скорой помощи» беспрерывно отъезжали и вновь возвращались.
Когда он вышел за линию оцепления и полицейский остановил его, Ар запротестовал:
— Я тоже, черт возьми, аккуратно плачу налоги и имею такое же право развлечься, как другие, — при этом он странно рассмеялся.
И полицейский, приняв его за родственника или друга кого-то из пострадавших, чьи нервы не выдержали, отвел Ара в сторону.
Наконец Ар вернулся к машине, молча сел за руль. Но драгоценное время потеряно.
Километрах в десяти от аэропорта выстраивается длинная очередь автомашин.
— В чем дело? — спрашивает Гудрун у остановившегося на минуту встречного автомобилиста.
— А, — машет тот рукой. — Полицейский контроль, да еще какой, вы тут два часа проторчите. Опоздаете на самолет, а в утешение получите вот это, — и он с усмешкой подает ей маленькую желтую карточку.
На карточке написано: «Уважаемые господа! Извините за беспокойство, но это делается для вашей же пользы. Будем благодарны вам за содействие в борьбе с террористами».
Гудрун зло комкает желтую карточку и бросает в кювет. Ар включает радио. Взволнованный голос диктора сообщает: «…таким образом по предварительным подсчетам, в результате взрыва погибло 85 человек, в том числе 8 детей, серьезные ранения получили 200 человек, в том числе 20 детей… По мнению комиссара Лукаса, взрыв — дело рук крайней экстремистской группировки, возможно "Армии справедливости". Полиция разыскивает двух мужчин, один — высокий, широкоплечий, глаза синие, волосы, возможно, крашеные, может носить черные очки, второй — среднего роста, с усами, глаза черные, с лихорадочным блеском, волосы, возможно, крашеные… Особо опасны, вооружены…»
Ар решительно выезжает на левую сторону шоссе и поворачивает в город. Совершенно ясно, что до аэропорта им не доехать. Если их даже не опознают на контрольном посту, то узнают в аэропорту, при проходе пограничного контроля, в самолете… Да всюду.
Они возвращаются в квартиру, куда, как они думали, уже никогда не вернутся.
Войдя в холл, молча валятся на диваны. Силы на исходе.
Вялым движением Ар включает телевизор. Все передачи прерваны, сплошным потоком идут сообщения о все новых и новых подробностях взрыва на вокзале.
Но из сообщений явствует и другое — комиссар Лукас предпринимает отчаянные усилия, чтобы разыскать преступников. Десятки тысяч полицейских, как обычно, прочесывают город. Агенты уже установили, у кого и когда был взят напрокат грузовик, с кем и в каком направлении он поехал. Капкан вокруг их тайной квартиры вот-вот захлопнется. В городе идут повальные аресты (по ходу дела арестовывают многих прогрессивных и левых активистов, студенческих лидеров — не упускать же такой случай!).
Поздно ночью, когда боевики садятся ужинать, телевизор приносит ошеломляющее известие: арестован Франжье! Его задержали в аэропорту при попытке вылететь за границу. Вместе с ним был задержан иностранец, фамилию которого не называют и который был отпущен, так как предъявил дипломатический паспорт одной заокеанской дружественной страны. К тому же с Франжье он познакомился случайно в зале ожидания аэропорта.
По телевидению (уже который раз!) выступают премьер-министр, лидеры партий, министр внутренних дел. Мэр города в своей гневной речи предупреждает руководителей страны, что «о них будут судить по результатам выполнения их обещания: сурово наказать преступников».
Но взрыв на вокзале вызвал и другой взрыв невиданной мощи — взрыв всеобщего возмущения. Многотысячные демонстрации, митинги, забастовки были ответом на неслыханное преступление террористов. И в этом народ оказался единым.
— Ну вот что, — говорит наконец Ар, — надо уходить.
— Куда? — безнадежно машет рукой Ирма.
— Они нас не найдут, — Гудрун, как всегда, полна веры в свою счастливую звезду, — а найдут, мы прихватим на тот свет еще сотню этих псов. Живыми не сдадимся!
Ар неодобрительно смотрит на нее.
— Не валяй дурака. Переодевайтесь — и в путь.
Он уже взял себя в руки и готов действовать. На случай экстренного бегства они присмотрели в соседнем дворе двухэтажный гараж, в котором всегда находятся быстроходные роскошные машины, в том числе особенно мощная «порш». Теперь вся четверка лихорадочно собирается в дорогу. Суют за пояс пистолеты, в карманы — гранаты, надевают парики. Карл срочно сбривает усы.
Спускаются по лестнице и поодиночке пробираются к гаражу.
Когда Карл с Аром уже скрываются в его дверях, а Гудрун и Ирма собираются пересечь двор, они вдруг замечают какие-то подозрительные тени. Оказывается, и улица и квартал буквально кишат полицейскими и агентами спецслужб. Гудрун выхватывает пистолет и начинает отстреливаться. В ответ тоже звучат выстрелы. Она прячется за машиной. На спину ей откуда-то со второго этажа прыгает полицейский. Ирму тоже сбивают с ног. На руках арестованных защелкиваются наручники, и через несколько минут армейский вертолет поднимает обеих в воздух.
Тем временем во дворе начинается осада гаража.
Полиция проламывает подвальный трап возле гаража и бросает туда гранаты со слезоточивым газом, но поскольку вентиляционные трубы ведут также и в квартиры дома, газ уходит к верхним этажам. Чтобы террористы не могли выскочить, дверь гаража подпирают автомобилем. Спустя четверть часа машину оттягивают веревкой. В ту же минуту осажденные открывают двери, выпуская проникший все же в гараж слезоточивый газ.
Вся сцена напоминает съемки приключенческого фильма. На месте происшествия оказываются и сотрудники городского телевидения. Через какие-нибудь полчаса вокруг гаража, на балконах, на крышах уже расставлены телевизионные камеры, всюду размотаны толстые резиновые проводники. Ярко раскрашенные огромные фургоны передвижных телестанций застыли в переулках, и все драматические события по захвату террористов идут напрямую в эфир.
Несколько кордонов полиции сдерживают толпы любопытных, собравшихся на окрестных улицах.
В воздухе гудят вертолеты, все соседние крыши, окна подъездов и многих квартир заняты снайперами, штурмовые группы в противогазах, пуленепробиваемых жилетах и касках, вооруженные гранатами, автоматами, карабинами, ружьями, осторожно приближаются к гаражу. Через мощный громкоговоритель комиссар Лукас без конца кричит:
— Сдавайтесь! Вы окружены! Даем вам пять минут… три… две. Выходите по одному! Гарантируем вам жизнь. Вы еще так молоды! Сдавайтесь! У вас нет выхода!
— Сволочи! Псы! Не подходите! Дерьмо!
Карл занимает позицию у чуть приоткрытой двери, закуривает сигарету с марихуаной, перезаряжает пистолет и целится через щель. Но с противоположного балкона полицейский снайпер стреляет в щель, и пуля, отлетев рикошетом, попадает Карлу в бедро. Взвыв от боли, он откидывается в глубину гаража, но вскоре в дверях гаража появляется Ар с поднятыми вверх руками.
— Всю одежду сбросить! Руки за спину! Не вздумай валять дурака! — кричит Лукас.
Ар торопливо выполняет приказание, он остается в одних трусах, на левой ноге у него кровь — его тоже задела пуля. На него набрасываются полицейские, скручивают руки, он кричит от боли. Но его волокут к машинам.
— Кто остался в гараже? — спрашивает комиссар Лукас.
— Карл.
Ара запихивают в вертолет, который тут же улетает.
Десяток вооруженных до зубов полицейских в пуленепробиваемых жилетах, в касках и противогазах, под прикрытием бронемашины врываются в гараж и возле одного из автомобилей — роскошного «изоривольта» — обнаруживают раненого Карла. На нем черные очки, волосы всклокочены, нога залита кровью, он стонет. Четверо полицейских хватают его за ноги и за руки и волокут на улицу.
— Свиньи! Псы! — орет Карл, отчаянно отбиваясь.
— Вы обыскали его? — спрашивает комиссар Лукас. — Оружия нет?
И словно в ответ из кармана Карла вываливается пистолет. Полицейские хохочут.
Карла приносят в санитарную машину, делают ему переливание крови и тоже отправляют на вертолете.
Операция по захвату террористов закончена. Она не продолжалась и часа.
По телевидению выступает комиссар Лукас и без конца прокручивают видеопленку эпизодов ареста боевиков.
Полиция закусила удила. По всему городу идут повальные обыски. Более тридцати человек было арестовано, некоторые в результате драматических погонь, перестрелок и засад. В тюрьме после голодовки покончил с собой один из боевиков. Одновременно с «Армией справедливости» пострадали и другие террористические группки и организации, ставшие объектом массированных облав.
Но и они не дремали. Снова взрывались бомбы и начиненные взрывчаткой автомобили в общественных местах. От пуль террористов гибли самые разные люди: политические деятели едва ли не всех направлений, судьи и следователи, банкиры и редакторы газет.
В который раз повторилась знакомая картина: волна терроризма вызывала волну полицейских репрессий, которые, в свою очередь, вызывали новую волну террора.
«Насилие порождает насилие» — это звучало как никогда точно.
Террористов судили. Но после недолгого процесса адвокат Франжье был оправдан за недостатком улик. Единственным доказанным обвинением было сопротивление властям и ведение машины в нетрезвом состоянии, но срок наказания он уже отсидел в «предвариловке». «Решение суда меня поразило, — заявил после процесса Франжье комиссар Лукас. — Оно полностью противоречит фактам, собранным нами в ходе следствия. На основании этих данных суд мог и должен был вынести иной приговор неофашистам».
Это было отличное интервью, и Франжье, сидя за обедом в далекой стране с «дорогим другом» Рони, с удовольствием прочел его в газете.
В других процессах, где дела были серьезней, преступникам дьявольски везло: свидетели обвинения кончали жизнь самоубийством, умирали от отравления, попадали в пьяном виде под поезд или в автомобильную аварию. Наконец, просто погибали от пуль неизвестных. Другие — высокопоставленные свидетели, а то и подсудимые выбрали именно это время, чтобы уехать на каникулы, в заграничные деловые поездки или в туристские турне. И все как один по рассеянности забывали оставить адреса.
Шло следствие и по делу Ара, Гудрун, Карла и Ирмы.
Когда оно было закончено, состоялся суд. Все четверо подсудимых во время процесса не отказали себе в удовольствии поиздеваться над судьями, всячески оскорбляли их. Гудрун, яростно сверкая глазами, выкрикивала лозунги. Ар презрительно молчал, сплевывая время от времени. А когда начал говорить Карл, прокурору пришлось прервать его — подсудимый пересыпал свою речь чересчур крепкими выражениями.
Приговор оказался суровым. Может быть, потому, что судили все-таки не главарей. А может быть, уж слишком большое возмущение вызвало фактическое оправдание Франжье. Во всяком случае, в этом приговоре были и такие слова: «Никогда террористические группы не смогли бы осуществить столько покушений, если бы неофашисты не были уверены, что они пользуются покровительством влиятельных лиц, в первую очередь принадлежащих к государственному аппарату». Опубликовывая приговор, большинство газет в этом месте делали купюры.
Все четверо за убийства, ограбления банков, преступное сообщество, незаконное хранение оружия, похищения людей, угон автомобилей и т. д. были осуждены на пожизненное заключение.
После вынесения приговора все четверо последний раз спокойненько попрощались друг с другом за руку и по подземному переходу прошествовали в здание тюрьмы, в наиболее охраняемое ее крыло, где им и предстояло отныне существовать до конца жизни.
Глава XI Единственный выход
…Итак, вот уже более полутора лет я нахожусь в этой вонючей камере. Впрочем, я несправедлив. Просто так принято выражаться. Камера хорошо проветривается, есть все «удобства», книги, газеты, пусть примитивный, но приемник. Есть даже кое-какие мелочи, которые обыкновенно в тюремных камерах отсутствуют и о которых надзиратели не знают. Например, еще один приемник, очень мощный, пистолет, аппарат «морзе», взрывчатка и гипс в пакетах для кофе (чтобы заделывать тайники). Такие же наборы есть и в камерах Гудрун, Карла, Ирмы.
Где мы все это хранили, каким образом это к нам попало? Вас, наверно, это интересует? А больше вы ничего не хотите знать? Например, как мы в любой день запросто сносимся друг с другом? Это вас не интересует?
Зато могу ответить на вопрос, разрешают ли нам свидания. Разрешают. Адвокаты, скажем, побывали у нас за это время тысячу сто шестьдесят девять раз, друзья и родственники (у кого они есть) двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре раза. Еще вопросы есть? Нет? Спасибо за внимание.
Как мы держались все эти месяцы? Ведь одиночная камера — это даже не тайная квартира, это тюрьма. Конечно, есть радио, визиты, газеты… Но нет главного — надежды. Знаете (и поверьте моим словам — сейчас мне не до вранья), в жизни можно без многого обойтись. Без надежды — нельзя. Даже когда ты отдаешь жизнь ради высокой цели, есть надежда, что эта цель будет достигнута, пусть это сделаешь не ты, а другие. И с надеждой на это ты идешь на смерть. А вот если выясняется, что заветной цели не достичь? Нет, не потому, что не удастся, и не потому, что нет цели. А потому, что она совсем не высокая…
Но все это время мы жили надеждой на освобождение. Конечно, никто бы наш срок (а какой же срок у пожизненного заключения!) не скостил. Еще спасибо, что нет в нашей стране смертной казни (хотя многие сейчас вопят, что ее надо ввести), а то бы наши шестиметровые камеры превратились в двухметровые на кладбище. Да, да, а вы что думали! Привыкли, что власти голубят таких, как мы, но иногда все-таки (хотя бы ради так называемого «общественного мнения») приходится и им показывать когти.
Да, так вот, наших за эти месяцы арестовали 169 человек! Ничего, другие остались. А главное, остались главные. Наш уважаемый шеф, хозяин адвокатской фирмы «Франжье и сын» господин Франжье (он даже заходил не раз к нам в тюрьму, элегантный, загорелый, холеный, как всегда). Или наш «дорогой друг» Рони Кратс. Тот, правда, теперь не заходит, вышедшие в тираж его больше не интересуют. Ну зачем ему битые карты, он разыгрывает новые партии, козыри-то у него всегда в руках…
Мы надеялись на то, что нас обменяют. В конце концов, мы же не какие-то там уголовники, мы солдаты «Армии справедливости». Военнопленные. А, как известно, военнопленные подлежат обмену. На кого? Это вы в самую точку. На кого нас обменивать? Да на военнопленных противника, конечно. Берут заложников и обменивают их никому не нужные жизни на наши драгоценные. Вы, конечно, можете сказать, какие же это противники. Все эти женщины, дети, вообще «мирные граждане»? А как же, для нас все — противники, все общество, все люди! Слышите, все люди — наши враги! Потому что мы — враги всех! Короче говоря, те из наших, что остались на свободе, времени не теряли. Обвинять мы их не можем.
За эти месяцы они предприняли не одну попытку таким вот образом освободить нас, когда убедились, что непосредственным нападением на тюрьму это сделать не удастся — нас охраняют, как американский золотой запас.
Уже через месяц они похитили одного из наших крупнейших промышленников. Я читал в газетах все подробности. Подкараулили в микроавтобусе на шоссе, когда он возвращался на виллу, перестреляли охрану — четверых полицейских агентов — и увезли старика в неизвестном направлении. И тут же сообщили властям, что готовы обменять похищенного на нас. Однако им ответили категорическим отказом. Тогда наши захватили иностранное консульство, но, к сожалению, это дело провалилось. Полиция долго торговалась, наши развесили уши, а тем временем специальный отряд спустился на крышу с вертолетов и освободил заложников. Четверо наших погибло, остальных взяли.
И наконец, сделали еще одну выдающуюся (другого слова не подберу) попытку. О ней расскажу поподробней. Тем более что я следил за событиями не только по радио и по газетам, но и еще по кое-каким другим источникам. Надеюсь, не будете спрашивать, по каким?
Началось все на одном из курортов, откуда 86 туристов отправились на «Боинге-707» домой. Не успел самолет подняться в воздух, как его захватили наши ребята. И тут же последовало требование: «Освободите четверых наших боевиков».
Начались обычные долгие и бестолковые переговоры, а самолет тем временем мотался по разным странам. Нигде ему не разрешали задержаться. Заправлялся горючим, отправлялся дальше. Наконец приземлился в Африке. Солдаты «Армии справедливости» заявили, что дальше не полетят и что, если их требования не будут удовлетворены, они взорвут самолет. Поняв, что все переговоры, которые вели с ними всевозможные посредники, представители полиции, разных организаций (африканских, европейских, Организации освобождения Палестины, которая, к слову сказать, нас терпеть не может), ничего не дадут, ребята забрали у пассажиров виски, вино, коньяк, разлили в проходе между креслами и раскидали взрывчатку. К сожалению, они поздно сообразили, что командир корабля сумел сообщить во время технических переговоров с аэродромами о налетчиках, их числе и вооружении. Вот негодяй! За это он дорого заплатил. Наши поставили его в назидание другим пассажирам на колени в центральном проходе и пустили пулю в затылок. Молодцы! Каково им там было, не спали чуть не пять дней, пока летал самолет, а когда приземлился в Африке, там жара за сорок градусов. И еще надо следить за всеми пассажирами, а там дети орут, женщины падают в обморок, у пожилых сердечные приступы…
Но мне было ясно, что на этот раз мы выиграли. Еще одним, двумя людьми правительство пожертвует, но тут восемьдесят шесть! Ведь взорви наши самолет, и правительству пришлось бы уйти в отставку. А кому же охота?
Мы с Карлом даже кричали надзирателям: «До свидания! Скоро мы будем свободны!» И все-таки меня не покидала тревога. Я не отходил от приемника. И когда услышал официальное сообщение, у меня ноги подкосились.
«Правительство, — говорилось в нем, — обращается ко всем органам информации всех стран с призывом не передавать сведения о том, что специальная антитеррористическая команда прибыла на аэродром, где приземлился захваченный самолет».
Я узнал об этом сообщении не по своему приемнику — мне его передали надзиратели — и все понял. Самолет будут атаковать! И чтоб наши в самолете не услышали об этом, сообщение передали не по радио, а по телетайпам.
Что же будет? О том, что узнал, я быстро известил Карла, Гудрун и Ирму (хотя женщины сидят в другом блоке, но у нас так налажена связь, словно мы соседи). Идет время.
В тюрьме прозвучал отбой. Но я не сплю. Пусть спят дежурные надзиратели. Я же достал из тайника свой мощный приемник и не отрываюсь от него.
О том, что произошло за тысячи километров, на далекой африканской земле, вы узнаете из завтрашних газет, а я вот уже теперь, в половине первого ночи. Так что же произошло?
Специальная команда ГПТ-10, оказывается, преследовала захваченный самолет чуть не с первых минут. «Боинг-707», на котором она летела, вел пилот, чья невеста-стюардесса находилась в захваченной машине. Представляю, как он старался! В команде было человек шестьдесят, и девять из них атаковали самолет.
О, это высококвалифицированные специалисты, их, словно ищеек, натаскивают на нас, боевиков. У них особое оружие и всякие там хитроумные новинки. Вот и на этот раз вместе с командой находились два иностранных инструктора — видите ли, проверяли новое изобретение, «шоковые гранаты»! Эдакое гуманнейшее изобретение: шарик, похожий на мяч для игры в гольф, в действительности граната — когда она взрывается, то ослепляет и приводит в шоковое состояние на несколько секунд любое живое существо в радиусе трех метров. Последствий не остается, а легкая головная боль вылечивается, как заявляли изобретатели, с помощью пары порций виски. Ну что вы на это скажете? Неплохо придумано!
И вот эта великолепная девятка за три секунды взорвала запасные двери самолета, бросила внутрь свои «мячики для гольфа» и, поскольку знала заранее, где там наши ребята расположились, продырявила их из автоматов.
Ох, сколько шума вызвала вся эта история. Вроде бы ночь глухая, а радио уже растрезвонило на весь мир: «блестящая операция», «разгром террористов», «все заложники целы и невредимы, террористы убиты», «бесстрашные бойцы», «мужественные руководители»!.. Чего только не орали! Каких только поздравлений не наслышалось наше правительство! Непонятно. Убили троих наших, и все кричат «ура!». А, между прочим, когда полицейские, разгоняя демонстрацию, проламывают черепа десяткам людей, а то и пристрелят нескольких, почему-то никаких поздравлений не шлют. С чего бы? Стесняются, видите ли.
Словом, в эфире кавардак. Только о нас молчат. А ведь делалось все это ради нас, чтобы вытащить из этих стен, чтобы мы могли снова встать в ряды «Армии справедливости» и жечь, уничтожать, взрывать это проклятое общество равнодушных.
Да ладно, чего себя обманывать. Что мне до этого общества и вообще до кого-либо. Делали мы свое дело потому, что меня уговорила Гудрун, а ее — Франжье, а ему приказывал Рони, а ему те, кто повыше… И кто от этого в выигрыше? Может быть, Франжье, наверное, Рони, наверняка те, кто повыше. А кто в проигрыше? Мы. Я, Гудрун, Ирма, Карл, те, кого как собак пристрелили в самолете. Эти молодые идиоты, которые идут за нами, потому что молодые любят драки, парады, «подвиги» (хотя никто из них толком не знает, что это такое), а мы им все это предлагаем. Но правды в наших предложениях не больше, чем в тех карнавальных масках, которые мы когда-то надевали, чтоб грабить банк. Только тогда мы крали чужие деньги, а теперь чужие души и жизни.
Жаль только, что поздно все это понимаешь, что урок моей, например, жизни никому впрок не пойдет. Наши, да и похожие на нас будут рекламировать нас как героев, мучеников. А кто я в действительности? Скажу вам по секрету: я круглый дурак. Я такой дурак, что даже на конкурсе дураков и то занял бы второе место. Помните тот старый анекдот? Да? Ну так вот, он целиком относится ко мне… Но если бы только дурак. Я — убийца, мои руки в крови.
Но я отвлекся. И теперь, когда у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить над своей жизнью и над собой, я становлюсь противен сам себе. Вспоминаю свои деяния, и мне становится страшно; то, что раньше я называл чуть ли не героизмом, теперь видится мне совсем в ином свете, и называть все это надо своими именами — обыкновенные убийства и разбой. И нечего подводить под это всякие оправдательные лозунги.
Значит, так. Менять нас на промышленника власти отказались. Захват консульства провалился, захват самолета тоже. И теперь ясно, что ни при каких обстоятельствах власти на уступки не пойдут. Какой выход? Как сделать, чтобы не сидеть здесь годы, да, пожалуй, учитывая мой возраст, десятки лет? Как сократить срок заключения, как вырваться из этой вонючей (простите — благоустроенной) камеры?
Остается единственный выход… Попытаюсь связаться с остальными. Но… говорить, собственно, не о чем.
И без этого мы все понимаем. Теперь, когда мы знаем то, что мы знаем, у нас остается единственный выход. Мне не нужны волшебные очки, чтобы видеть происходящее в камерах моих друзей. Гудрун последует примеру Рики — она привяжет кусок провода (который хранила в тайнике) к решетке окна, набросит себе на шею петлю и оттолкнет стул.
Ирма наполнит умывальник водой и сядет возле, опустив в него кисти рук. Только предварительно, разбив стакан, перережет себе вены…
Карл достанет из тайника последнюю сигарету с марихуаной, неторопливо выкурит ее, а потом возьмет пистолет (тоже из тайника) и уверенно и спокойно, как он делает (простите — делал) все в жизни, выстрелит себе в голову…
И эти сони надзиратели ничего не услышат! Все-таки толстые и стальные двери имеют свои преимущества.
Ну а я?
Что сделаю я?
То же, что они. Я тоже изберу единственный выход.
Вот и настал час закрыть последнюю «страницу» обдумываемых мной мемуаров — «мемуаров идейного борца Ара». Сейчас я достану из тайника пистолет — и в путь.
Когда-то (Когда? Сто лет назад, тысячу?) по этому пути с моей помощью ушел мой самый близкий, мой единственный друг Эстебан. Теперь настал мой черед.
Но Эстебан в свой смертный час видел пусть далекий, но голубой и солнечный клочок неба. А я — только эти равнодушные железные решетки и за ними густой мрак, которому нет конца…
Прощайте. И пусть будут прокляты те, кто впутал меня в эту проклятую историю!..
1982–1983 гг.
Примечания
1
Балафр (франц.) — шрам.
(обратно)

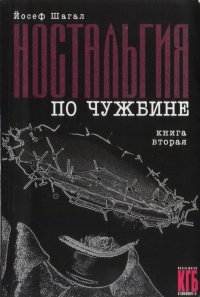
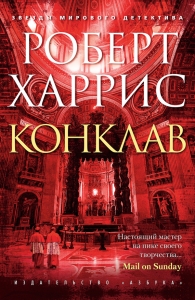
Комментарии к книге «Тупик», Александр Петрович Кулешов
Всего 0 комментариев