Фредерик Форсайт День Шакала
Часть первая. Технология заговора
1
Ранним мартовским утром в Париже недолго и озябнуть, а в ожидании расстрела — тем более. В 6.40 11 марта 1963 года на главном плацу форта д'Иври у вбитого в заиндевелый гравий столба стоял подполковник французской авиации; ему завели руки назад, связали их за столбом и обвязали его веревкой, а он все еще недоуменно смотрел на шеренгу солдат в двадцати шагах.
В тягостной тишине шаркнула по гравию подошва; тридцатипятилетний Жан Мари Бастьен-Тири последний раз взглянул на белый свет, и ему завязали глаза. Послышался тихий молитвенный голос священника, залязгали двадцать затворов: карабины взяли наизготовку.
За стеной на улице грузовик, мчавшийся к центру города, сердито загудел на шуструю легковушку, заглушив команду: «Целься!» Деловито хлопнул залп; слившись с обыденным рассветным гулом, вспорхнула стайка голубей, и уж вовсе не слышен был за нарастающим уличным движением акт милосердия — пистолетный выстрел в затылок.
Главаря боевой группы ОАС,[1] устроителя покушения на президента Франции, казнили, дабы положить конец подобным покушениям, но судьба решила совсем иначе, и тут началось такое, о чем не расскажешь, не объяснив подробнее, почему в то мартовское утро у столба на плацу военной тюрьмы сник изрешеченный пулями труп…
Солнце скрылось за дворцовой стеной, и зазмеились длинные тени; дышать стало чуть полегче. Был самый жаркий день года, двадцать пять градусов в семь вечера; парижане торопились на выходные за город, усаживая в автомобили и вагоны сердитых жен и орущих детей. В этот день, 22 августа 1962 года, несколько человек поджидали президента, генерала Шарля де Голля, на городской окраине — затем, чтобы его убить.
Итак, народ разъезжался отдохнуть от зноя в речной и приморской прохладе, а за вычурным фасадом Елисейского дворца все никак не кончалось заседание кабинета министров. На коричневатом гравии, теперь уже в тени, кольцом стояли шестнадцать черных «ситроенов», занимая три четверти двора. Водители отошли к западной стене, где тень легла раньше и гуще; они привычно перешучивались, коротая время в ожидании начальства.
Уже начинали ворчать: что-то министры припозднились; но около 19.30 из стеклянных дверей появился служитель в орденах и медалях. С высоты шести ступеней он сделал рукою знак охране. Водители притаптывали, расходясь, недокуренные «голуазы», охранники и часовые в будках у ворот насторожились, и раздвинулись чугунные решетчатые створки.
Все шоферы сидели в машинах, когда служитель распахнул двери: министры выходили, желали друг другу приятного отдыха, чинно спускались с крыльца к подкатывавшим лимузинам, устраивались на задних сиденьях и выезжали мимо козыряющих жандармов на улицу Фобур Сент-Оноре.
Минут через десять у крыльца остались лишь два «ситроена»; первый из них — с президентским вымпелом. Водил его Франсуа Марру, шофер из Главного управления национальной жандармерии в Сатори. Молчальник, он держался в стороне от прочих; хладнокровный, смелый и опытный водитель, он недаром стал личным шофером де Голля. Водитель второго «ситроена» был тоже из Сатори.
В 19.45 часовые снова стали навытяжку: за стеклянными дверями показался Шарль де Голль в своем всегдашнем двубортном костюме маренго и темном галстуке. По-старинному учтиво склонившись, он пропустил вперед г-жу Ивонну, принял ее под руку и свел по ступеням к распахнутой левой задней дверце; сам он обошел машину и сел справа. Их зять, начальник штаба бронетанковых и кавалерийских войск полковник Ален де Буасье, проверил, заперты ли обе задние дверцы, и уселся рядом с Марру.
Дежурный телохранитель Анри д'Жудер, могучий алжирец-кабил, поместился во второй машине возле шофера: он поправил под левой мышкой тяжелый револьвер и откинулся на сиденье. Ему полагалось смотреть вовсе не на «ситроен» впереди, а на проносящиеся тротуары и перекрестки. Позади него, сдав последние распоряжения, устроился в уютном одиночестве начальник личной охраны президента комиссар Жан Дюкре.
Взревели мотоциклы у западной стены, и двое в белых шлемах медленно выехали к воротам; остановились в десяти футах друг от друга и оглянулись. К ним уже подрулил Марру, и вторая машина не отстала. Было 19.50.
Снова разверзлись чугунные решетки, и маленький кортеж проехал мимо вытянувшихся в струнку жандармов на Фобур Сент-Оноре, а оттуда — на авеню де Мариньи. Из-под каштанов за ними наблюдал, сидя на мотороллере, молодой человек в белом защитном шлеме; он съехал с тротуара и помчался следом.
Заранее о проезде президента не оповещали; заслышав сирены мотоциклов, регулировщики отчаянно свистели, размахивали жезлами — и как-то успевали вовремя перекрыть движение.
Кортеж разогнался на тенистой авеню и вылетел на солнечную площадь Клемансо, направляясь прямиком к мосту Александра III. Юноша на мотороллере пристроился позади и ехал без помех. За мостом свернули на авеню Генерала Гальени, а оттуда — на широкий бульвар Инвалидов. Тут юноше все стало ясно: де Голль выезжает за город. На перекрестке бульвара и улицы Варенн он сбросил скорость и остановился возле углового кафе. Достав из кармана жетончик, он проследовал к телефону.
Подполковник Жан Мари Бастьен-Тири ожидал звонка в пригороде, в Медоне. Он был женат, имел троих детей, служил в министерстве авиации. Чиновник как чиновник, примерный семьянин, он, однако же, втайне страстно ненавидел Шарля де Голля, который, по его глубокому убеждению, предал Францию и обманул избирателей — ведь избран в 1958 году он был вовсе не затем, чтобы отдать Алжир на поток и разграбление арабским националистам.
Лично его алжирские дела никак не задевали: у него были высшие мотивы. Он считал себя патриотом и был уверен, что убийство предателя — лучшая услуга отчизне. Многие тысячи французов разделяли его убеждения, но мало кто становился оголтелым оасовцем, заклятым врагом Де Голля и его ставленников. Бастьен-Тири был из таких.
Когда его позвали к телефону, он спокойно прихлебывал пиво. Бармен протянул ему трубку, а сам отошел к другому концу стойки настраивать телевизор. Бастьен-Тири несколько секунд молча слушал, затем сказал: «Понятно, спасибо» — и вышел из кафе на тротуар, благо за пиво было уплачено; он вынул газету из-под мышки и не спеша развернул ее два раза.
В окне второго этажа напротив молодая женщина опустила кружевную занавеску и обернулась к двенадцати мужчинам, разместившимся в ее комнате. «Второе шоссе», — сказала она. Пятеро новичков, непривычных к убийству, перестали хрустеть пальцами и вскочили на ноги.
Другие семеро были постарше и держались спокойнее. Ими руководил заместитель Бастьена-Тири лейтенант Ален Бугрене де ля Токне; он был из дворян-землевладельцев, консерватор до мозга костей. Ему тоже было тридцать пять, женат, двое детей.
Среди опытных выделялся Жорж Ватен: коренастый, с квадратной челюстью, бывший алжирский агроном, за два с лишним года он стал отпетым убийцей. Он подволакивал раненую ногу и потому назывался Хромым.
Черным ходом спустились двенадцать человек в переулок к машинам и мотоциклам, украденным либо взятым напрокат. Было 19.55.
Бастьен-Тири разведывал место день за днем: он прикидывал огневые траектории, соображал, с какой скоростью и как именно будут перемещаться цели, то бишь машины, подсчитывал, какая понадобится плотность огня, чтобы их остановить. Облюбовал он длинное прямое шоссе, авеню де ля Либерасьон на пересечении с улочками Пти-Кламара. Первая группа снайперов открывает огонь по президентской машине за двести ярдов до перекрестка из-за огромного грузовика — огонь почти что кинжальный.
Как рассчитал Бастьен-Тири, не меньше ста пятидесяти пуль прошьют головную машину, пока она поравняется с грузовиком. Машина остановится, а второй отряд вынырнет из-за угла и ликвидирует охрану. Затем обе группы ураганным огнем добивают неприятеля и бегут к своим машинам на боковой улочке.
Сам Бастьен-Тири, тринадцатый участник покушения, отвел себе опаснейшую роль наблюдателя и координатора. В 20.05 все были на местах. Он за сто ярдов от засады стоял у автобусной остановки с газетой в руках. Взмахнув этой газетой, он должен был подать сигнал Сержу Бернье, начальнику первой группы, скрытой за грузовиком. И откроют пальбу снайперы, залегшие у его ног. Бугрене де ля Токне перехватит охранников, а уж Хромой Ватен никого в живых не оставит.
Отщелкивались предохранители; между тем кортеж генерала де Голля миновал центральные улицы и выехал на просторные пригородные проспекты со скоростью без малого шестьдесят миль в час.
Путь впереди расчистился: Марру взглянул на часы, ощутил за спиной сдержанное генеральское раздражение — и прибавил скорость. Мотоциклисты чуть-чуть отстали, тем более что де Голль их не жаловал — уж если нельзя без этого, так хоть не торчите на виду. В таком порядке и проследовал кортеж в Пти-Кламар по авеню де ля Дивизьон Леклерк. Было 20.17.
А за милю от них Бастьен-Тири почувствовал, что в чем-то он очень оплошал. В чем — это он понял куда позже, уже в камере смертников: полицейские ему объяснили. Оказывается, он готовил покушение по календарю 1961 года, где было написано черным по белому, что солнце нынче заходит в 20.35, и времени хватало с лихвой, даже если де Голль запоздает — а он запаздывал. Между тем по нынешнему-то календарю 22 августа 1962 года смеркалось в 20.10. Эти потерянные двадцать пять минут предрешили дальнейшую историю Франции. В 20.18 Бастьен-Тири наконец увидел президентский кортеж, приближающийся со скоростью семьдесят миль, и бешено замахал газетой.
Ста ярдами дальше на другой стороне проспекта Бернье злобно приглядывался и никак не мог понять, что там делает отуманенная фигурка. «Махнул он или не махнул газетой?» — вслух спросил он сам себя, и едва спросил, как акулий нос президентского «ситроена» промелькнул мимо автобусной остановки и надвинулся на него. «Огонь!» — заорал он, и снайперы у его ног открыли пальбу под прямым углом по проносящейся (70 миль в час) цели.
Стреляли они, что ни говори, метко: добрая дюжина пуль угодила в «ситроен», большей частью сзади. Брызнули клочья шин; и хотя они самозаклеивались, все же из-за внезапной потери давления машину занесло на передних колесах. Но Франсуа Марру спас жизнь де Голлю.
Первоклассный стрелок, бывший легионер Варга метился в колеса; остальные разрядили автоматы в заднее стекло удалявшегося «ситроена». Несколько пуль впились в кузов, одна продырявила стекло и просвистела в дюйме-другом от президентского носа. «Пригнитесь!» — закричал, обернувшись, полковник де Буасье. Г-жа де Голль уткнулась в колени мужа. «Это что, опять?» — холодно проговорил генерал и покосился на заднее окно.
Марру кое-как совладал с рулем, сбросил скорость и выровнял машину; «ситроен» рванулся вперед, к перекрестку, где на авеню де Буа его поджидал другой отряд боевиков. За Марру почти вплотную следовала как ни в чем не бывало машина с охраной.
Бугрене де ля Токне сидел за рулем, двигатель был включен; ему надо было мгновенно решать, подставиться и пожертвовать жизнью или полсекунды промедлить. Он промедлил — и, вырвавшись на проспект, оказался бок о бок с машиной, где сидели телохранитель д'Жудер и комиссар Дюкре.
Выставившись из правого заднего окна почти по пояс, Ватен разрядил магазин вслед президентской машине, в которой мелькнул за разбитым стеклом надменный профиль де Голля.
— Вот болваны, даже не отстреливаются, — раздраженно бросил тот. Между тем д'Жудер держал пистолет наготове и за десять футов не промахнулся бы, но голова водителя заслоняла цель. Дюкре повелительно крикнул: «За президентом!» — и оасовцы мигом остались позади. Мотоциклисты, одного из которых де ля Токне едва не сбил, нагнали машины, и президентский кортеж, развернувшись на развилке, проследовал на Виллакубле.
А незадачливым убийцам не было времени разбираться, кто в чем виноват; разобрались потом. Оставив три машины на месте засады, они мигом разъехались на запасных автомобилях, благо уже совсем стемнело.
Комиссар Дюкре связался с Виллакубле по рации и коротко объяснил, что и как. Через десять минут прибыл дополнительный конвой, и де Голль велел ехать прямиком к вертолетной площадке. Возле остановившейся машины столпились военные и штатские; задняя дверца распахнулась: все были встревожены самочувствием г-жи де Голль. Из другой дверцы появился генерал, встряхивая лацканы, обсыпанные осколками стекла. Жестом отстранив взволнованную толпу, он обошел машину и подал руку жене.
— Пойдем, дорогая, мы уже почти дома, — сказал он ей и, обернувшись, проронил суждение об ОАС: — Стрелять не умеют. — Он провел жену в кабину вертолета, сел рядом с нею — к ним присоединился д'Жудер — и отправился отдохнуть денек-другой.
Посерев и поникнув, сидел в машине Франсуа Марру. Баллоны под конец сдали, и «ситроен» дотянул на ободах. Дюкре потрепал его по плечу и отправился на расследование.
Журналисты всего мира повествовали о покушении и упражнялись в домыслах, а между тем французская полиция во главе с Сюрте насьональ с помощью спецслужб и жандармерии учинила розыск, еще небывалый во Франции (потом, правда, был розыск еще почище этого, когда искали неизвестного убийцу, которого так и не нашли; в картотеках он до сих пор имеет лишь кличку Шакал…), но до поры до времени тщетный.
Дело стронулось с мертвой точки 3 сентября, и стронула его, как это нередко бывает, простая проверка документов. Возле города Валанс, чуть южнее Лиона, на трассе из Парижа в Марсель, полицейские наугад остановили частную машину; в ней ехали четверо. Только в тот день их уже остановили несколько сотен, и без всякого толку; но тут у одного из четверых документов не оказалось, он их якобы потерял. Его, а заодно уж и остальных задержали и отвезли в Баланс — разобраться.
Там определенно выяснилось, что этот четвертый — случайный попутчик, и троих отпустили, а у него сняли отпечатки пальцев и послали их в Париж: тот ли он, за кого себя выдает? Ответ пришел через двенадцать часов: задержан двадцатидвухлетний дезертир из Иностранного легиона, подлежит военному суду. А что он Пьер Дени Магад — это правда.
В лионском полицейском управлении, пока он дожидался допроса, караульный полушутя спросил его:
— Ну, а что скажем насчет Пти-Кламара?
Тот угрюмо пожал плечами:
— Чего мне говорить — спрашивайте.
«Раскалывался» он восемь часов, ошеломляя допросчиков; стенографисты исписывали блокнот за блокнотом. Он назвал всех участников покушения и вдобавок девятерых сообщников, так или иначе в нем замешанных, общим счетом двадцать два человека. Теперь полиция знала, кого она ищет.
Скрыться, и притом бесследно, удалось одному Жоржу Ватену; вероятно, он проживает в Испании, где нашли прибежище многие главари ОАС.
Следствие по делу Бастьена-Тири, Бугрене де ля Токне и прочих закончилось к декабрю; в январе 1963 года они предстали перед судом.
Во время процесса ОАС развернула наступление всеми силами и средствами, и французской тайной полиции приходилось туго. Под личиной благополучия, под золоченым покровом культуры и цивилизации неистовствовала потаенная война, одна из самых ожесточенных и беспощадных в современной истории.
Французская тайная полиция именуется Service de Documentation Exterieure et de Contre-Espionage, сокращенно СДЕКЕ. Разведка за границей и контрразведка во Франции естественно дополняют друг друга. Первое управление СДЕКЕ — служба информации: она разбита на отделы под общей литерой «Р» (Renseignement[2]): Р-1 — аналитический отдел; Р-2 — Восточная Европа; Р-3 — Западная Европа; Р-4 — Африка; Р-5 — Ближний Восток; Р-6 — Дальний Восток; Р-7 — Америка (Западное полушарие). Второе управление ведает контрразведкой, Третье и Четвертое занимаются мировым коммунистическим движением, Шестое — финансовое, Седьмое — административное.
Но есть еще и Пятое, под названием «Аксьон»: там формировались ударные группы для разгрома ОАС. Сотню за сотней отборных бойцов поставляла штаб-квартира Аксьон сервис, расположенная в невзрачном квартале за бульваром Мортье, близ Порт-де-Лила, тусклого северо-восточного предместья Парижа. Отбирали большей частью корсиканцев: пройдя усиленную физическую подготовку, они затем обучались в Сатори отдельно от прочих курсантов. Их обучали всем приемам стрельбы из всех видов оружия, рукопашному бою — дзюдо и каратэ, — обращению с радиопередатчиками и взрывчаткой, технике допросов и пыток; учили разрушать, поджигать, похищать и уничтожать.
Некоторые из них говорили только по-французски; другие свободно владели иностранными языками и были как дома в любой мировой столице. Для пользы дела им разрешалось убивать, и они этим разрешением часто пользовались.
В ответ на оголтелый террор ОАС начальник СДЕКЕ генерал Эжен Гибо решился наконец дать полную волю своим молодцам. Агенты Аксьон внедрились в ОАС вплоть до самых ее верхов. По их наводке многие оасовские резиденты во Франции, а то и за ее пределами попали в лапы французской полиции. Иной раз, если взять их было нельзя, а заманить на родину не удавалось, их преспокойно убивали за границей. Родственники бесследно исчезнувших оасовцев всегда предполагали, и не без оснований, что это дело рук Аксьон сервис.
ОАС постаралась не остаться в долгу. Агентов Аксьон сервис (именовавшихся барбузами — бородачами, ряжеными) ненавидели пуще всякой полиции. В последние дни войны на территории Алжира семерых барбузов захватили живьем, и трупы их, с обрезанными носами и ушами, повисли с балконов и на фонарях. Вот так велась потаенная война, и навеки останется тайной, кто, кого и в каком подвале запытал до смерти.
Большей частью, однако, барбузы подвизались вне ОАС, на роли подручных СДЕКЕ. Были среди них бандиты-рецидивисты, сохранявшие связи с преступным миром и связи эти использовавшие, когда правительство нуждалось в особо грязных услугах. Во Франции даже поползли слухи о «параллельной» (неофициальной) полиции, которой якобы заправляет довереннейшее лицо де Голля, его правая рука, г-н Жак Фоккар. На самом же деле никакой «параллельной» полиции не было: орудовали головорезы из Аксьон сервис или — по их поручению — обыкновенные гангстеры. Среди уголовников Парижа и Марселя и в Аксьон сервис было полным-полно корсиканцев, и после зверского убийства семерых из алжирской спецкоманды оасовцам объявили вендетту, а в этом деле на Корсике толк знают. Как известно, корсиканские бандиты помогли в 1944 году союзникам высадиться на юге Франции (небескорыстно, разумеется: в награду они стали безраздельными хозяевами всех борделей и притонов Лазурного берега); а в начале 1960-х их вендетта порядком помогла торжеству законности. Кстати, «черноногие» оасовцы — уроженцы Алжира, были по всем статьям вылитые корсиканцы, так что временами война становилась прямо-таки братоубийственной.
Во время суда над Бастьеном-Тири и его сообщниками ОАС развернула широкую пропагандистскую кампанию. У ее вдохновителя и закулисного организатора пти-кламарского покушения, выпускника престижнейшей Политехнической школы полковника Антуана Аргу, была и сметка, и хватка. В чине лейтенанта он вступил под знамена де Голля и сражался с нацистами; потом командовал кавалерийским полком в Алжире. Превосходный командир, он не ведал ни устали, ни жалости; и в 1962 году этот крепко сбитый коротыш возглавил оперативный отдел ОАС.
Психологическая подоплека войны была ему отлично знакома: он понимал, что наряду с террором требуются дипломатия и пропаганда. В этих целях он использовал авторитет Жоржа Бидо, бывшего французского министра иностранных дел, а ныне председателя Совета национального сопротивления, служившего политическим рупором ОАС. Надо было по возможности «респектабельно» разъяснить общественности существо антидеголлевской оппозиции.
Аргу с его недюжинным интеллектом недаром стал в свое время самым молодым полковником во Франции, и недаром его считали опаснейшим из главарей ОАС, Он устроил Бидо серию интервью с крупнейшими радио- и телекомпаниями, а уж тот, опытный политик, постарался отодвинуть в тень неблаговидные делишки оасовских головорезов.
Успех этой пропагандистской вылазки встревожил правительство больше, чем взрывы пластиковых бомб в кафе и кинотеатрах по всей Франции. А 14 февраля раскрыли очередное покушение на де Голля: 15-го он выступал перед слушателями Военной академии на Марсовом поле и при входе в здание должен был получить пулю в затылок с чердака одного из корпусов.
Перед судом впоследствии предстали некто Жан Бикнон, капитан артиллерии Робер Пуанар и преподавательница английского языка в Академии г-жа Поль Русселе де Лифьяк. Стрелком у них был все тот же Хромой Ватен, по-прежнему неуловимый. На квартире Пуанара нашли снайперскую винтовку, и все трое были разом арестованы. Оказалось, что заговорщики, желая провести Ватена на территорию Академии, прощупывали унтер-офицера Мариюса То, а унтер-офицер немедля обратился в полицию. Генерал де Голль, как и намечалось, выступил в Академии 15-го, приехав, к своему крайнему раздражению, в бронированном автомобиле.
Заговорщики действовали донельзя неумело, но де Голль наконец обозлился. Наутро он вызвал министра внутренних дел Фрея и, стукнув кулаком по столу, заявил, что «с него хватит покушений».
Решено было крепко дать по рукам заправилам ОАС, чтобы прочие призадумались. Фрей не сомневался в исходе процесса Бастьена-Тири, благо тот напропалую разглагольствовал перед Военным трибуналом, что де Голля нельзя не убить. Но этого было маловато.
12 февраля на стол начальника Аксьон сервис легла копия докладной из Второго управления СДЕКЕ, направленной перед тем министру внутренних дел. Сообщалось:
«Нам удалось установить местонахождение одного из главнейших деятелей мятежного подполья, а именно бывшего полковника французской армии Антуана Аргу. Он отправился в Германию и намеревается, согласно агентурным данным, пробыть там несколько дней…
Таким образом, представляется возможным захватить вышеупомянутого Антуана Аргу. Однако же поскольку наша официальная просьба о содействии, адресованная спецслужбам ФРГ, встретила категорический отказ, а упомянутые спецслужбы могут оповестить Аргу и прочих главарей ОАС о наших намерениях, то операция по захвату Аргу, если она будет признана целесообразной, должна быть проведена в строжайшей тайне и неотложно…»
То есть проведение операции препоручалось Аксьон сервис.
Днем 25 февраля Аргу вернулся в Мюнхен из Рима после совещания на высшем уровне ОАС. К себе на Унертльштрассе он не поехал, а взял такси до гостиницы «Эден-Вольф»; там, в забронированном номере, предстояло очередное совещание, на которое он не попал. В холле к нему подошли двое; послышалась безукоризненная немецкая речь. Полицейские, решил он, и полез в нагрудный карман за паспортом.
Но обе руки тут же перехватили, пол ушел из-под ног, его мигом вынесли на улицу и зашвырнули в бельевой фургон. В ответ на свои протесты он услышал подзаборную французскую брань. Жесткий удар по переносице, резкий тычок под ложечку, нажатие нервного сплетения за ухом — и больше ничего не понадобилось.
Через двадцать четыре часа в Париже, в отделении Уголовной полиции на набережной Орфевр, дом 36, зазвонил телефон. Кто-то сипло сообщил дежурному сержанту, что он из ОАС и что Антуан Аргу, «крепенько повязанный», лежит в фургоне на их полицейской стоянке. Действительно, через несколько минут задние дверцы фургона распахнулись, и оттуда к ногам ошеломленных полицейских вывалился Аргу.
Глаза ему туго-натуго завязали сутки назад, и свет ослепил его. Ему помогли встать на ноги. Лицо его было испятнано высохшей кровью из разбитого носа; изо рта вытащили кляп, но рот не повиновался. Его спросили: «Вы — полковник Антуан Аргу?» Он беззвучно выговорил: «Да». Молодцы из Аксьон сервис как-то ухитрились ночью переправить его через границу, а уж звонок в полицию — это было так, для забавы. Аргу просидел в тюрьме до июня 1968 года.
Одного не учли ребята из Аксьон сервис и их начальники: похитив Аргу, они здорово обескуражили ОАС, однако на смену ему пришел незаметный, неизвестный, но отнюдь не менее хитроумный подполковник Марк Роден, он-то и занялся убийством де Голля. Может, лучше бы и не стоило убирать Антуана Аргу.
4 марта Высший военный трибунал вынес приговор по делу Бастьена-Тири. Его и еще двоих приговорили к смертной казни; такого же приговора заочно удостоились еще трое, в том числе Хромой Ватен. 8 марта генерал де Голль молча выслушал трехчасовую апелляцию: двоим он заменил смертную казнь на пожизненное заключение, но третий, Бастьен-Тири, подлежал расстрелу.
Вечером адвокат объявил подполковнику, что его ждет.
— Одиннадцатого, — сказал он и, видя, что тот недоверчиво улыбается, сердито проговорил: — Одиннадцатого вас расстреляют.
Бастьен-Тири, по-прежнему улыбаясь, покачал головой.
— Вам этого не понять, — сказал он адвокату. — Ни один французский солдат в меня не выстрелит.
Он ошибся. Радиостанция «Европа-1» сообщила в восьмичасовом выпуске новостей на французском языке, что приговор приведен в исполнение, и во всей Европе это услышали все, кто слушал эту передачу. И в маленьком номере одной австрийской гостиницы передача эта вызвала такой поток мыслей, а за ними и действий, что генерал де Голль оказался на самом краю гибели. Передачу слушал подполковник Марк Роден, новый руководитель оперативного отдела ОАС.
2
Марк Роден выключил транзистор и встал из-за стола; к завтраку он едва притронулся. Он отошел к окну, прикурил сигарету от окурка и невидящим взглядом уставился на заснеженные склоны гор, до которых еще не добралась запоздалая весна.
— Ублюдки, — негромко и ненавистно проговорил он и все так же вполголоса, отводя душу, высказался куда похлеще о президенте, правительстве и Аксьон сервис.
Роден был почти ни в чем не похож на своего предшественника. Длинный и сухопарый, с трупно-серым, исхудалым от затаенной злобы лицом, он в отличие от пылких соплеменников обычно сохранял невозмутимый вид. Сын сапожника, он в университетах не обучался; военная карьера его началась, когда он, еще зеленый юнец, переплыл Ла-Манш в рыбацкой лодке и вступил рядовым под знамена с лотарингским крестом.
Сержантский, а затем унтер-офицерский чины достались ему в жестоких боях в Северной Африке под командой Кенига и на полях Нормандии в дивизии Леклерка. Во время битвы за Париж его произвели в офицеры, о чем в мирное время он, с его образованием, и мечтать бы не смел. Война кончилась, и он мог уволиться из армии.
Уволиться, а дальше что? Отец обучил его сапожному ремеслу, но оно было ему не по душе; особенно же не нравилось ему, что рабочих, как раньше подпольщиков и партизан Сопротивления, прибрали к рукам коммунисты. Он остался служить и с горечью наблюдал, как новоявленные выпускники военных училищ, молокососы, вызубрившие учебники, запросто получали офицерское звание, которое он добыл потом и кровью. Между тем эти молокососы быстренько оказывались старше его по званию, и горечь стала закоренелой обидой.
Нет, рассудил Роден, уж если служить, то служить в колониальных войсках, драться бок о бок с настоящими, доподлинными солдатами, а эти… пусть учатся маршировать. И он испросил перевод в парашютно-десантные части.
Через год он командовал ротой в Индокитае, и окружали его единомышленники. Здесь карьера была открыта, хотя бы и сыну сапожника: знай себе иди в огонь — изо дня в день. Он стал майором, а когда война кончилась, разнесчастный год проторчал во Франции и наконец попал в Алжир.
За этот год на родине — после презренной капитуляции в Индокитае — его горькая обида превратилась в нестерпимую ненависть к политикам и коммунистам: он их не различал. От изменников и подлецов, заполонивших Францию, надо избавиться разом — кто же это сделает, если не военные? Одна только армия была чиста от этой скверны.
Как большинство боевых офицеров, которым — опять-таки изо дня в день — приходилось хоронить павших в бою и обезображенные трупы тех, кого противник, по несчастью, взял живыми, Роден гордился своими солдатами — солью земли, воинами, кровью своей искупающими буржуазное благополучие. И вот, провоевав восемь лет в индокитайских дебрях, он обнаружил, что на родине никто французского солдата в грош не ставит, а левые интеллектуалы еще и поносят: они, мол, пытками добивались признаний, без которых… да что говорить! И Марк Роден, обойденный судьбою, стал твердокаменным фанатиком.
Он ничуть не сомневался, что если бы не расслабленные колониальные власти и не политический саботаж во Франции, то вьетнамским партизанам тут бы и конец. Индокитай, однако же, уступили туземцам — это значит скопом предали тысячи и тысячи наших ребят, погибших, выходит, задаром. Нет уж, хватит предательства, это мы докажем в Алжире. Весною 1956 года Роден был, сколько мог, счастлив и убежден, что уж там-то, на алжирских холмах, и он покажет себя, и французская армия в грязь лицом не ударит.
После двух лет ожесточенных боев он был настроен по-прежнему. Ну да, мятеж пока не удалось подавить: сколько перестреляли феллахов, выжгли селений, запытали террористов — а он охватил всю страну и перекинулся из «глубинки» — бледа — в города.
За чем же дело стало? Да лишь за добавочной помощью из метрополии. Воевали-то, собственно говоря, во французской провинции, где обитало три миллиона французов. Алжир — это часть Франции, и драться за него надо так же, как за Нормандию, Бретань или Приморские Альпы. Свежеиспеченный подполковник Марк Роден усмирял уже не блед, а города, сначала Бон, потом Константин.
В захолустье он имел дело с бойцами Фронта национального освобождения (ФНО), какими-никакими, а все же более или менее солдатами. Он их, разумеется, ненавидел, но что это была за ненависть по сравнению с той, какую вызывали у него городские убийцы-невидимки, вроде мусорщиков, подкладывавших пластиковые бомбы в людных кафе и магазинах, на детских площадках французских кварталов. И Роден постарался очистить Константин от этой погани — так постарался, что заслужил у мусульман прозвище Живодер.
Чтобы вконец расправиться с ФНО и его армией, требовалась всего-навсего полная поддержка Парижа. Фанатизм легко затмевает факты: непосильные военные расходы, дестабилизация французской экономики, очевидная невозможность победы, упадок духа новобранцев — все это, считал Роден, вздор и сущие пустяки.
В 1958 году де Голль вернулся к власти: он стал премьер-министром, решительно ликвидировал прогнившую и немощную Четвертую республику и учредил Пятую, президентом которой был избран в январе 1959-го. В Елисейский дворец он вступил все с тем же обеспечившим ему ранее поддержку генералитета победоносным лозунгом на устах: «Французский Алжир!» Услышав эти его слова по радио, Роден удалился к себе и расплакался от радости. Де Голль явился в Алжир, и Родену казалось, будто сам Зевс низошел с Олимпа. Ну, думал он, теперь-то дела пойдут на лад. Коммунистов отовсюду выметут поганой метлой, изменника Жана Поля Сартра обязательно расстреляют, профсоюзы прижмут к ногтю, и Франция наконец по-настоящему придет на выручку своим кровным братьям в Алжире и своей армии, отстаивающей французскую цивилизацию против варварства.
Словом, все было ясно как день, и, когда президент де Голль повел свою, совсем неожиданную политику, Роден решил, что тут какой-то подвох. Мало ли какие у старикана расчеты? Слухам о предварительных переговорах с Бен Беллой и ФНО Роден попросту не поверил. В 1960-м он был всей душой на стороне повстанцев-колонистов Большого Жо Ортиза; однако же считал, что де Голля торопить не надо, тот наверняка знает, что делает, а придет время — разгромит проклятых феллахов одним ударом. Он ведь говорил, и повторял золотые слова: «Французский Алжир!»
Когда же окончательно, вне всякого сомнения выяснилось, что Шарль де Голль намерен благоустраивать Францию ценою потери Алжира, для Родена все пошло прахом. Больше некому и не во что было верить, не на что и не на кого надеяться; оставалась одна ненависть — к режиму, к политикам, к умникам, к алжирцам, к профсоюзам, к писакам, к иностранцам, и пуще всего к Этому Подлецу. Почти весь батальон Родена, кроме нескольких трусливых сопляков, принял участие в апрельском военном мятеже 1961 года.
Мятеж был сорван; де Голль упредил его до обидного просто и расчетливо. За неделю-другую до открытия переговоров с ФНО солдатам раздали тысячи маленьких транзисторов. Многие офицеры и сержанты отнеслись к этому одобрительно: развлечение безобидное, пусть ребята, которых донимают жара, мухи и скука, послушают легкую музыку, доносящуюся с родины.
Но с родины доносилась не только легкая музыка. В тот день, когда решалось, чью сторону возьмет армия, десятки тысяч новобранцев в алжирских казармах, как обычно, слушали последние известия. А затем зазвучал тот самый голос, которому внимал Роден в июне 1940 года. И звучал почти тот же призыв: «Выбирайте между верностью и изменой долгу. Я обращаюсь к вам от имени Франции, я в ответе за ее судьбу. Следуйте моим приказаниям».
Наутро от некоторых мятежных батальонов осталась горстка офицеров и большинство сержантов.
Мятеж рассеялся, как наваждение, — с помощью радио. Родену повезло больше других: с ним остались сто двадцать офицеров, сержантов и рядовых — это потому, что в его батальоне было много ветеранов Индокитая и войны в алжирской «глубинке». Такие, как они, и образовали ОАС — затем, чтобы избавить Францию от Иуды, засевшего в Елисейском дворце.
Правительственная армия эвакуировалась; части ФНО победно вступали в города и поселки. В семь недель промежутка, когда французские колонисты ни за грош отдавали нажитое за свой век и без оглядки бежали с истерзанного войной побережья, Тайная армия распрощалась с Алжиром на свой лад; после этого дикого и кровавого погрома главарям ОАС — во всяком случае, тем из них, кто был известен властям, — оставалось только скрываться за пределами Франции.
Роден стал заместителем начальника зарубежного оперативного отдела ОАС зимой 1961 года. Аргу планировал наступление Тайной армии — размашисто, дерзко и находчиво; Роден проводил в жизнь его планы — умело, трезво, хитроумно.
В качестве оголтелого фанатика он был не опаснее других бессчетных легионеров ОАС начала шестидесятых. Но этому сыну сапожника, смекалистому от природы, не задурили голову ни шаблонным образованием, ни армейской рутиной. Он привык думать и рассуждать по-своему.
Впрочем, насчет будущего Франции и поруганного престижа армии он мыслил в точности, как прочие оасовцы; однако сугубо практические вопросы решал дотошно, сосредоточенно и хладнокровно, чуждаясь восторженного прожектерства и яростных бредней своих сотоварищей.
Именно так он и принялся обдумывать убийство де Голля. Задача была не из легких, и во сто крат затруднили ее злополучные покушения в Пти-Кламаре и Военной академии. Охотники нашлись бы; но надо было найти какого-то особенного убийцу или разработать какой-то небывалый план — иначе не доберешься до президента сквозь плотную круговую оборону спецслужб.
Он кропотливо перебирал в уме большие и мелкие трудности. Битых два часа, стоя у окна в клубах сизого табачного дыма, он суммировал условия задачи; затем попытался ее решить. Решение за решением придумывалось, проверялось, казалось приемлемым по всем статьям и наконец отвергалось. Главное — подготовить покушение втайне, а это никак не выходило.
После пти-кламарского краха дела шли все хуже и хуже. На всех уровнях ОАС кишмя кишели вражеские агенты. Похищение Аргу доказывало, что Аксьон сервис разрешено охотиться за оасовскими вожаками напропалую: не побоялись же громкого скандала с немцами!
Аргу допрашивали уже четырнадцать дней, и вся верхушка ОАС была растревожена. Бидо потерял всякий вкус к публичным выступлениям и стал тише воды ниже травы; другие деятели Национального совета сопротивления ринулись кто куда — в Испанию, в Америку, в Бельгию. Все запасались подложными документами, все сидели на чемоданах.
Глядя на начальство, пали духом и рядовые. Раньше во Франции было у кого укрыться, с кем переправить оружие, передать известия, от кого получить нужную информацию; теперь прежние пособники отделывались извинениями и торопливо прерывали телефонный разговор.
Основательно допросив участников пти-кламарского покушения, полиция напала на след трех подпольных групп: обыскивали дом за домом и находили тайник за тайником — с оружием и боеприпасами; еще два заговора против де Голля были пресечены в зародыше — заговорщиков арестовали, едва они собрались второй раз.
Деятели Национального совета сопротивления разглагольствовали тем временем на заседаниях комитетов о попранной французской демократии; и Роден, угрюмо поглядывая на стоящий у постели портфель, набитый секретными донесениями, подводил безотрадные итоги. Денег в обрез; бойцов Тайной армии и сторонников ее все меньше, престиж во Франции и за границей падает, СДЕКЕ и полиция обложили со всех сторон, и их натиска ОАС заведомо не выдержит.
И как бы в завершение предыдущих размышлений Роден пробормотал: «Да, нужен человек неизвестный…» Он припомнил всех, кто годился на это дело, кто возьмется за него, — куда там! На каждого из них во французской полиции имеется досье потолще Библии. А то зачем бы ему, Марку Родену, отсиживаться в глухой австрийской деревушке?
К полудню он набрел на новое решение и поначалу забраковал его, но оно никак не шло из головы. Если такой человек отыщется… если такой существует… Он медленно и тщательно составил план с его участием, взвесил все препятствия и возражения. План их перевешивал, и наконец-то соблюдалась скрытность.
В предобеденный час Марк Роден надел пальто и спустился по лестнице; на улице его прохватило ледяным ветром. Он поежился, но зато на свежем морозном воздухе нытье в висках от прокуренной духоты как рукой сняло. По хрусткому снежку он прошел налево, к почтовому отделению на Адлерштрассе, и отправил несколько кратких телеграмм, извещая своих соратников, обретавшихся под чужими фамилиями в южной Германии, Австрии, Италии, Испании, о том, что вынужден отлучиться на несколько недель.
На обратном пути в скромненькую гостиницу ему пришло в голову: небось ведь подумает кто-нибудь, будто он тоже перетрусил и дал деру от убийц или похитителей из Аксьон сервис, — и он пожал плечами. Пусть их думают что хотят, не время объясняться.
В гостинице нынче кормили тушеной говядиной с макаронами, и хотя в индокитайских джунглях и алжирской пустыне он привык к самой непритязательной пище, однако же это дежурное блюдо доел через силу. Он быстро уложился, заплатил по счету и отправился на свой страх и риск искать нужного ему человека, а вернее, выяснять, есть ли на свете такие люди.
Когда Роден садился в поезд, лайнер британской авиакомпании БОАК «Комета-4В» опустился в лондонском аэропорту на посадочную полосу 0–4. Он прибыл из Бейрута. Вереницей потянулись пассажиры, и в их числе высокий белокурый англичанин со свежим, по-курортному загорелым лицом. Отлично отдохнувший, бодрый, он целых два месяца вкушал экзотические услады ливанской жизни; самое же приятное впечатление доставил ему перевод кругленькой суммы из бейрутского банка в швейцарский.
Далеко позади, в песках Египта, были давно уж захоронены тамошней разъяренной и ошеломленной полицией два трупа немецких инженеров-ракетчиков с аккуратно простреленными позвоночниками. Их безвременная гибель на несколько лет застопорила начатые по указанию Насера работы над серийным производством ракет «Аль-Гумхурия», и некий сионист-миллионер в Нью-Йорке остался доволен: расходы себя окупили. Легко миновав таможенный досмотр, англичанин взял такси и поехал в Мейфэр, к себе на квартиру.
А Роден был занят своими поисками около трех месяцев, и в портфеле у него появились три тощие папки-подшивочки. В середине июня он вернулся в Австрию и поселился в Вене, в пансионе «Клейст» на Брукнер-аллее.
С центрального почтамта он отправил две телеграммки в Италию — в Больцано и в Рим, — срочные вызовы на совещание. Не прошло и суток, как оба его главных помощника были уже в Вене. Рене Монклер приехал из Больцано, взяв напрокат автомобиль, Андре Кассон прилетел из Рима — оба, конечно, под чужими фамилиями. Их собственные были слишком хорошо знакомы СДЕКЕ, агенты которой не жалели денег на подкуп пограничников и служащих в аэропортах.
Андре Кассон явился в пансион «Клейст» первым, семью минутами раньше назначенных одиннадцати часов. Из такси он вышел на углу Брукнераллее, погляделся в витрину цветочного магазина, поправил галстук, с минуту постоял как бы в раздумье — и быстрым шагом прошел к вестибюлю гостиницы, где Роден зарегистрировался под одной из двадцати фамилий, известных только его ближайшим сподвижникам. Телеграммы они получили за подписью Шульце: так именовался Роден в текущие двадцать дней.
— Herr Schulze, bitte![3] — обратился он к молодому портье за конторкой. Тот сверился со списком проживающих.
— Номер шестьдесят четыре. Вас ожидают, сударь?
— Да, конечно, — отвечал Кассон и проследовал к лестнице. На втором этаже он свернул в коридор и сообразил, что номер шестьдесят четвертый на полпути направо. И точно, он протянул руку — постучать, и руку его тут же заломили назад. Обернувшись, он увидел массивную, иссиня выбритую физиономию и встретил холодный взгляд из-под кустистых, сросшихся черных бровей. Шагов, наверно, двенадцать тот за ним прошел, выйдя из ниши, но ничего не было слышно, циновка даже не скрипнула.
— Vouz desirez?[4] — безучастно осведомился гигант, сжимая его руку стальной хваткой.
Кассон оледенел, припомнив, как четыре месяца назад взяли Аргу в холле гостиницы «Эден-Вольф». Потом узнал: был такой поляк из Иностранного легиона в роте Родена, еще в Индокитае. Виктор Ковальский, не то адъютант, не то телохранитель.
— У нас с полковником Роденом деловое свидание, Виктор, — проговорил он. Услышав свое имя и фамилию начальника, Ковальский еще больше насупился. — Я — Андре Кассон. — Но Ковальский и ухом не повел. Не выпуская Кассона, он постучал в дверь левой рукой.
— Oui,[5] — отозвались изнутри.
Ковальский нагнулся к двери из-за плеча Кассона.
— Тут один к вам, — буркнул он, и дверь приотворилась, затем распахнулась.
— Андре, дорогой, извини, пожалуйста. — Он кивнул Ковальскому. — Все в порядке, капрал, я этого человека жду.
Выпущенный из медвежьего объятия Кассон прошел в номер. Роден бросил Ковальскому пару слов, закрыл и запер дверь. Поляк вернулся на свой пост.
Роден пожал гостю руку и указал на два кресла возле газового камина. Погода была не июньская — холодная морось, — а они оба привыкли к североафриканской жаре, и камин пылал вовсю. Кассон снял плащ и расположился в кресле.
— Раньше ты, помнится, так не осторожничал, Марк, — заметил он.
— Я и сейчас не за себя опасаюсь, — отозвался Роден. — Я-то уж как-нибудь, а вот бумаги… — Он показал на письменный стол у окна, где рядом с портфелем лежала толстая кожаная папка. — Затем мне и нужен Виктор. Ежели что, секунд шестьдесят у меня будет, успею сжечь.
— Ого, такие важные?
— Может, да, а может, нет. — В голосе Родена проскользнула нотка самодовольства. — Сейчас подойдет Рене — разберемся. Я ему назначил на одиннадцать пятнадцать, чтобы вы, чего доброго, не появились один за другим, а то Виктор может и всполошиться. Два незнакомца враз — это для него слишком.
И Роден скривил губы в непривычной для него улыбке при мысли о том, что будет, если Виктор со своим кольтом под мышкой вдруг да всполошится. В дверь постучали. Роден сделал несколько шагов и сказал в дверную щель: «Oui?»
Послышался придушенный умоляющий голос Рене Монклера:
— Марк, ради бога…
Роден распахнул дверь. Накрепко обхваченный огромной лапищей, малорослый Монклер казался совсем карликом.
— Ca va,[6] Виктор, — распорядился Роден. Монклер вошел, облегченно расправляя плечи, и скорчил гримасу в ответ на понимающую ухмылку Кассона. Дверь снова была заперта, и Роден опять-таки извинился.
Пожав ему руку, Монклер снял пальто и остался в мятом, неприглядном темно-сером костюмчике, который вдобавок на нем плохо сидел, как, впрочем, и костюм Родена: привыкшие к форме, в штатском они чувствовали себя неловко.
Усадив гостей к огню в мягкие кресла, Роден оставил для себя стул с прямой спинкой возле письменного стола. Он достал из шкафчика бутылку французского коньяка и вопросительно подержал ее на весу. Кассон и Монклер кивнули и, приняв наполненные стаканы, как следует приложились к ним: по такой погоде горячительное было очень кстати.
Приземистый Рене Монклер, уютно откинувшийся в кресле у изголовья постели, смолоду, как и Роден, служил в армии, но в сражениях не бывал: штабной офицер, он десять лет ведал финансовой частью в Иностранном легионе. Весною 1963 года он стал казначеем ОАС.
Штатским из них троих был один Андре Кассон. Невысокий, всегда собранный, он одевался в точности как прежде, в Алжире, где заведовал банком. Теперь он заправлял французским подпольем ОАС — НСС.
Таких твердолобых, как они с Роденом, даже среди оасовцев было немного. Стали же они такими по разным причинам. Сына Монклера девятнадцати лет призвали в армию, и он три года отбывал воинскую повинность в Алжире, пока отец распоряжался финансами Иностранного легиона на базе близ Марселя. Майору Монклеру не довелось проводить своего сына в последний путь: его похоронили в алжирском захолустье патрульные-легионеры, отбив деревушку у партизан, к которым попал в плен юный французский рядовой. Позднее Монклер узнал, что за труп они хоронили: в Легионе, как и везде, все раньше или позже становится известно — рты ведь не позатыкаешь.
Андре Кассон попал в ОАС не столь случайно. Он родился и жил в Алжире: там у него была работа, дом, семья. Заведовал он алжирским отделением парижского банка и безработным не остался бы ни в каком случае. И все же он примкнул в 1960-м к повстанцам-колонистам и даже выдвинулся в своем родном Константине как один из повстанческих вожаков. Из банка его и после этого не уволили, и он наблюдал, как закрывается счет за счетом, как дельцы распродают, что можно, и переправляют капиталы во Францию, — словом, ясно было, что французам остались в Алжире считанные дни. Вскоре после военного мятежа, возмущенный новой голлистской политикой и бессильно сочувствуя мелким фермерам и торговцам, которые оставались без гроша за душой и вынуждены были бежать за море, в неведомые края, он помог оасовским боевикам ограбить свой собственный банк на 30 000 000 старых франков. Пособничество его заметил младший кассир и донес о нем, так что на дальнейшую банковскую карьеру рассчитывать не приходилось. Он отослал детей с женою к ее родне в Перпиньян, а сам вступил в Тайную армию. Там его ценили в особенности за то, что он был лично знаком с несколькими тысячами сторонников ОАС, переселившихся во Францию.
Марк Роден уселся за стол и поглядывал на своих помощников. В их ответных взглядах сквозило любопытство, но вопросов они не задавали.
Обстоятельно и методично перечислил Роден все неудачи и поражения, которые потерпела ОАС за несколько последних месяцев контрнаступления французской Тайной полиции. Гости угрюмо слушали, прихлебывая коньяк.
— Надо отдавать себе полный отчет в происходящем. Именно в эти месяцы нам нанесли три самых тяжких удара. Обойдемся без подробностей, они вам известны не хуже моего. Нет никаких сомнений в преданности и стойкости Антуана Аргу: однако допрашивают его, вероятно, с применением наркотиков, и мы не можем рассчитывать, что от врага останется в тайне что бы то ни было. Нам придется начинать заново, почти с нуля. Это бы еще не беда, будь это год назад. Тогда у нас в резерве были тысячи добровольцев, исполненных отваги и патриотизма. Теперь дело куда сложнее. И я не виню наших сторонников; они вправе ожидать от нас результатов, а не выспренных речей.
— Ладно, ладно. Ты ближе к делу, — вмешался Монклер. Оба знали, что Роден кругом прав. Кому-кому, а Монклеру было отлично известно, что деньги, награбленные в алжирских банках, израсходованы подчистую, а промышленники из правых кругов жертвуют все неохотнее, с большим скрипом. И Кассону, что ни день, было труднее держать связь с французским подпольем: явки проваливались одна за другой, после захвата Аргу и казни Бастьена-Тири многие отшатнулись. Да, Роден был более чем прав, но что с его правоты?
А Роден продолжал, будто его и не прервали.
— Ситуация такова, что устранить Великого Могола — без чего мы не продвинемся ни на шаг к нашей цели, к освобождению Франции, — прежними методами невозможно. И я не решусь, господа, привлекать молодых патриотов к участию в планах, о которых почти наверняка через день-другой проведает французское гестапо. Ибо мы окружены паникерами, отступниками, перебежчиками.
Потому-то и удалось агентам Тайной полиции просочиться повсюду — так что утечка информации происходит у нас даже на высшем уровне. Противник буквально за несколько дней узнает о принятых решениях, знает наши планы и их исполнителей. Лишний раз напоминаю об этих прискорбных фактах затем, чтобы принять их в расчет и не впадать в самообман.
На мой взгляд, наша первичная цель — устранение Великого Могола — достижима лишь при условии, что мы оставим в дураках всех шпионов и осведомителей и обескуражим Тайную полицию; и если даже противник разгадает наш замысел, помешать его осуществлению не сможет.
Монклер и Кассон встрепенулись. В комнате стояла мертвая тишина, только стекла охлестывало дождем.
— Если мы примем мою, увы, точную оценку ситуации, — продолжал Роден, — то придется признать, что все, кто, как мы знаем, готов и способен устранить Великого Могола, находятся в поле зрения СДЕКЕ, отлично им известны. Едва любой из них вступит на землю Франции, как того и гляди угодит в лапы полиции, тем более что о нем доложат заранее барбузы и осведомители. Полагаю, господа, что у нас лишь один выход — прибегнуть к услугам человека со стороны.
Монклер и Кассон взглянули на него с изумлением, потом начали догадываться, куда он клонит.
— Какого же это человека? — спросил наконец Кассон.
— Ну прежде всего обязательно иностранца, — сказал Роден, — далекого от ОАС и НСС. Не известного полиции, не взятого на учет. Уязвимое место всякой диктатуры — ее бюрократизм. Что не зарегистрировано — того не существует. Так и наш незафиксированный убийца: нет его, и все тут. Он приедет с иностранным паспортом, сделает свое дело и покинет Францию, а французский народ сметет с лица земли изменническую клику де Голля. Впрочем, если его и поймают — невелика беда: все равно мы его освободим после прихода к власти. Важно лишь проникнуть в страну, избегнув слежки и подозрений. И как раз это никому из наших не под силу.
Слушатели молчали, осваиваясь с планом Родена. Потом Монклер тихо присвистнул:
— Ага, значит, профессиональный убийца, наемник.
— Вот именно, — подтвердил Роден. — И уж само собой, такой человек не возьмется за дело ради наших прекрасных глаз, из патриотизма или для собственного удовольствия. Тут потребуется недюжинная сноровка и выдержка, нужен подлинный мастер своего дела. А мастерам надо платить, и платить не скупясь, — прибавил он, бросив взгляд на Монклера.
— Почем еще знать, найдется ли такой человек, — пробормотал Кассон.
Роден предупредительно поднял руку.
— Все своим чередом, господа. Возникает, разумеется, масса вопросов. Сначала я хотел бы знать, приемлема ли для вас эта идея в принципе.
Монклер и Кассон переглянулись; потом, повернувшись к Родену, медленно кивнули.
— Bien.[7] — Роден откинулся на стуле. — Значит, по первому пункту мы договорились. Пункт второй, главный: он касается секретности. Похоже, что нам в этом смысле буквально не на кого положиться. Я не хочу сказать, будто все наши соратники в ОАС или НСС без пяти минут предатели, вовсе нет. Однако же давно известно, что чем больше людей посвящены в тайну, тем ближе она к раскрытию. А нам нужна полнейшая конспирация: это единственный залог успеха. И стало быть, круг посвященных надо сузить до предела.
Даже к руководству ОАС пробрались такие, что находятся в контакте с Тайной полицией. В свое время мы с ними разберемся, а сейчас их надо просто избегать. Да и среди политиков НСС хватает опасливых чистоплюев, которым этот замысел придется очень не по нутру. Зачем, спрашивается, стократно увеличивать опасность предприятия, приобщая к нему людей заведомо ненадежных?
Я вызвал тебя, Рене, и тебя, Андре, всецело полагаясь на вашу преданность делу и умение хранить тайны. К тому же от тебя, Рене, от нашего кассира и казначея, потребуются огромные усилия, чтобы мы смогли оплатить услуги наемного убийцы. А ты, Андре, обеспечишь на всякий случай поддержку и связь во Франции — отберешь несколько самых испытанных подпольщиков.
Повторяю, не вижу никакой надобности делиться нашими планами с кем бы то ни было. И предлагаю отныне считать себя комитетом, целиком ответственным за дальнейшую разработку, проведение и финансирование операции.
Опять наступило молчание. Наконец Монклер сказал:
— Что же нам, значит, действовать в полном отрыве от руководства ОАС и Совета сопротивления? Боюсь, не понравится им этот кот в мешке.
— Во-первых, они об этом не узнают, — спокойно возразил Роден. — Чтобы они одобрили наш замысел, надо как минимум созвать пленарное совещание. Этого не скроешь, и барбузы тут же примутся вынюхивать, что стряслось. А с одного-двух совещаний обязательно что-нибудь да просочится. Если же объезжать всех поодиночке, то мы и предварительного-то согласия добьемся не раньше, чем через месяц. Вдобавок все они захотят постоянно быть в курсе дел. Вы же знаете, что за публика эти чертовы политики и комитетчики. Им все надо знать — просто так, из любопытства. Пользы от них ни на грош, а дело они могут загубить в два счета, сглупа или спьяна распустивши язык.
А во-вторых, если даже замысел наш одобрят и нам не будут мешать, что это нам даст? Ничего, просто еще тридцать человек будут знать о том, о чем знать никому не надо. Если же мы будем действовать на свой страх и риск, то и в случае неудачи ничего особенно не теряем. Попадет нам, конечно, изрядно, не без того; вот и все. А если дело выгорит, то мы возьмем власть, а победителей не судят. Пусть те, кому неймется, выясняют задним числом, правильно или неправильно был убит диктатор. Короче, согласны ли вы действовать заодно со мной и попытаться втроем разработать и реализовать изложенный замысел?
Монклер и Кассон снова переглянулись и снова кивнули Родену. Целых три месяца, со времени похищения Аргу, они его не видели. При Аргу Роден скромно держался в тени. Теперь стало очевидно, что он умеет не только подчиняться, но и руководить, и на обоих это произвело впечатление.
Роден взглянул на них, медленно выпустил дым и усмехнулся.
— Отлично, — сказал он, — перейдем к деталям. Я понял, что нам нужен убийца-профессионал, в тот день, когда по радио известили о злодейском расстреле бедняги Бастьена-Тири. С тех пор я занимался поисками кандидатов. Искать их было трудно: такие люди себя не афишируют. Итоги моих поисков, начатых в середине марта, — вот они.
Монклер и Кессон, подняв брови, обменялись многозначительными взглядами и смолчали. Роден продолжал:
— Давайте так, вы просмотрите повнимательнее эти скудные досье, и мы обсудим, кто из троих нам больше подходит. А если он почему-либо не сможет или откажется, тогда взвесим две другие кандидатуры; у меня на их счет есть особые соображения. Досье в одном экземпляре — читать придется по очереди.
Он извлек из папки три тоненькие подшивки и протянул одну Монклеру, другую Кассону. Третью он держал в руках, не раскрывая: ему перечитывать досье было незачем, он знал их наизусть.
Чтение длилось недолго: досье и правда были очень скудные. Кассон дочитал свое первым и разочарованно взглянул на Родена.
— И это все?
— Скажи спасибо и на том, — отвечал Роден. — Вот тебе еще, почитай-ка, — и подал Кассону третью подшивку. Монклер тем временем покончил со своей и получил просмотренную Кассоном. Оба опять углубились в чтение. На этот раз первым закончил Монклер. Он посмотрел на Родена и пожал плечами.
— Н-да… Судя по этим досье, у нас и своих таких тринадцать на дюжину. Стрелять-то они все горазды, им только…
Его прервал Кассон.
— Погоди минутку, прочти вот это. — Он перевернул страницу, пробежал глазами три последних абзаца и вернул подшивку Родену, вопросительно глядя на него. Тот с непроницаемым видом передал ее Монклеру, а Кассону вручил оставшуюся. Четыре минуты спустя оба закончили чтение.
Роден стопочкой сложил подшивки на столе, пододвинул стул к огню и уселся на него верхом, облокотившись о спинку. И наконец поднял глаза на собеседников.
— Я же сказал вам — выбор невелик. Конечно, есть и другие, но черта с два их отыщешь: разве что по картотекам Тайной полиции, да и то вряд ли — как раз мастера экстра-класса туда не попадут. Но вот вам на первый случай трое. Будем называть их — немец, южноафриканец, англичанин. Что скажешь, Андре?
— Тут, по-моему, и говорить нечего, — пожал плечами Кассон. — Если сведения верны, то те двое англичанину и в подметки не годятся.
— А ты, Рене?
— Согласен. Немец староват для такого дела. И профиль у него узкий: охрана бывших нацистов от израильских агентов. Он, пожалуй что, и не профессионал — просто евреев не любит. Южноафриканец может запросто спровадить на тот свет какого-нибудь черномазого ротозея-политика вроде Лумумбы, но где ж ему застрелить президента Франции. Вдобавок англичанин свободно владеет французским.
Роден удовлетворенно кивнул.
— Я так и думал, что мы с вами сойдемся во мнениях. Собственно, выбор стал ясен еще в процессе работы.
— А про этого англосакса все точно? — спросил Кассон. — Это его рук дело?
— Я и сам сомневался, — сказал Роден. — Даже лишний раз проверил данные. Бесспорных доказательств не нашлось — вот и хорошо, иначе он всюду приобрел бы репутацию подозрительного иностранца. Может, сами британцы и взяли его на заметку, но под большим вопросом. Смутные слухи к делу не подошьешь — да и дела заводить не с чего, а стало быть, и Интерпол незачем утруждать. А уж чтобы англичане сообщили о нем СДЕКЕ, даже в ответ на формальный запрос, — это почти исключено. Вы же знаете — они между собой на ножах. Жорж Бидо у них в Лондоне был в январе; они и то отмолчались. Нет, конечно, для нашего дела англичанин подходит по всем статьям, кроме…
— Кроме?.. — перехватил Монклер.
— Кроме финансовой. Такие себя ценят дорого. Как у нас с деньгами, Рене?
Монклер развел руками.
— Да плоховато. Расходы, правда, уменьшились: после истории с Аргу все наши краснобаи перебрались из роскошных отелей в дешевенькие гостиницы, носа на люди не кажут и по телевидению не выступают. Но и приток средств минимальный, мы еле сводим концы с концами. Это ты верно сказал, что надо действовать, а не болтать, не то безденежье нас доконает; на одних возвышенных чувствах далеко не уедешь.
— Вот-вот, — мрачно подтвердил Роден. — Откуда-то надо раздобыть деньги. Только сперва не мешало бы знать, сколько нам потребуется на…
— То есть, — спрямил Кассон, — связаться с англичанином и выяснить, возьмется ли он за это дело и какую цену заломит.
— Именно так, возражений нет? — Роден перевел взгляд с одного на другого: оба покачали головами. Он посмотрел на часы. — Сейчас начало второго. Пойду позвоню в Лондон, там с ним свяжутся и пригласят сюда. Если он вылетит вечерним венским рейсом, то поспеет к ужину. Так или иначе, меня поставят в известность. Несколько упреждая события, я забронировал для вас два соседних номера; пусть уж Виктор охраняет нас всех вместе, а то, знаете, не ровен час.
— У тебя, видать, и без нас все было решено и подписано? — уязвленно осведомился Кассон.
Роден пожал плечами.
— Очень уж долго я провозился с этими розысками, и теперь не до церемоний. Давайте больше не терять времени.
Они поднялись; Роден послал Виктора в холл за ключами от 65-го и 66-го номеров и сказал Монклеру и Кассону:
— Звонить я буду с почтамта и Виктора заберу с собой. А вы пока запритесь-ка в одном номере: я постучу три, потом еще два раза.
Это был знакомый сигнал: «Фран-цуз-ский Ал-жир». Так — три и два коротких гудка, — бывало, сигналили машины на улицах Парижа в знак несогласия с деголлевской политикой.
— Да, кстати, — спохватился Роден, — оружие-то у вас есть?
Оружия у них не оказалось. Роден достал из секретера свой собственный увесистый девятимиллиметровый МАБ, щелкнул обоймой, дослал патрон в ствол и протянул его Монклеру.
— Эта пушка тебе не в новинку?
— Сойдет, — сказал тот, пряча пистолет в карман. Виктор проводил их в номер Монклера; когда он вернулся, Роден застегивал пальто.
— Пошли, капрал, время не ждет.
Сгущались сумерки, когда «Вэнгард» компании БЕА зашел на посадку в венском аэропорту Швехат. В хвостовом отсеке самолета у окна полулежал в кресле белокурый англичанин, глядя на проносящиеся посадочные огни. Он всегда с удовольствием следил, как они близятся, близятся — будто самолет вот-вот шаркнет колесами по траве на закраине летного поля. Лишь в последний миг исчезали тускло освещенная трава, номерные щитки и самые огни; простиралась черная гладь бетона, и шасси наконец касались ее. Ему нравилось, до чего точно приземляются самолеты. Он вообще любил точность.
В соседнем кресле сидел молодой француз из Французского туристического агентства на Пиккадилли — и опасливо поглядывал на спутника. Француза лихорадило с той минуты, как его позвали к телефону в обеденный перерыв. Почти год назад, проводя отпуск в Париже, он изъявил готовность помогать ОАС, но ему велели всего-навсего работать на прежнем месте и дожидаться письма или звонка с обращением «Дорогой Пьер» (его звали иначе) — и тут уж выполнять распоряжения немедленно и в точности. И вот наконец сегодня, 15 июня, это случилось.
Телефонистка сказала, что лично его вызывает Вена, и прибавила «из Австрии», чтобы он не подумал, будто это французский город Вьенна. Он недоуменно взял трубку, услышал: «Мой дорогой Пьер…» — и лишь через несколько секунд сообразил, что это условное обращение.
После обеда он отпросился с работы, сославшись на головную боль, отправился на Саут-Одли-стрит и позвонил в указанную квартиру. Отворивший ему англичанин ничуть не удивился, узнав, что его просят через три часа вылететь в Вену, а тут же упаковал дорожный саквояж, и они поехали на такси в аэропорт Хитроу. Посланец, краснея, признался, что у него почти нет с собой денег — только паспорт и чековая книжка, — и англичанин, достав пачку купюр, преспокойно заплатил за два билета до Вены и обратно.
С тех пор они и словом не обмолвились. Англичанин не спрашивал, куда ехать в Вене, с кем и чего ради встречаться, и слава богу, что не спрашивал, потому что молодой провожатый ничего этого не знал. Ему сказано было только позвонить перед вылетом из Хитроу в Вену, а в Швехате обратиться в справочное. И он был не в своей тарелке, а полнейшая безмятежность спутника почему-то вовсе не успокаивала его.
В центральном зале аэропорта он подошел к справочному, назвал свою фамилию миловидной австрийке, та повернулась, заглянула в ячейки для корреспонденции и подала ему желтенький листок, на котором было написано: «61.44.03, спросить Шульце». Он пошел было к телефонным кабинам, но англичанин тронул его за плечо и указал на окошечко с надписью «Wechsel».[8]
— Без мелочи не позвоните, — сказал он на своем чистейшем французском. — Даже у австрийцев за это принято платить.
Француз покраснел и шагнул к окошечку; спутник его расположился на мягком кожаном канапе у стены и закурил длинную английскую сигарету с фильтром. Провожатый с пригоршней мелочи в руке отправился звонить. Герр Шульце за несколько секунд распорядился коротко и деловито — и дал отбой.
Молодой француз вернулся к своему белокурому спутнику; тот поднял глаза.
— On y va?[9] — спросил он.
— On y va.
Француз скомкал и обронил листок с телефонным номером. Англичанин подобрал бумажный комочек, расправил его и поднес к пламени зажигалки. Листок вспыхнул и осыпался черными хлопьями; их растерла подошва элегантной замшевой туфли. Они молча вышли на привокзальную площадь и подозвали такси.
Ехали через центр, сверкающий огнями и запруженный машинами; и лишь через сорок минут такси остановилось у пансиона «Клейст».
— Мы расстаемся. Мне сказано высадить вас здесь и не задерживаться. А вы идите прямиком в 64-й номер, вас ждут.
Англичанин кивнул и вылез из машины. Водитель вопросительно обернулся к оставшемуся пассажиру. «Туда», — сказал тот и махнул рукой вперед. Такси умчалось; англичанин взглянул на готическую вязь уличной таблички, потом на латинский шрифт вывески пансиона, отбросил недокуренную сигарету и вошел в гостиницу.
Двери скрипнули, и дежурный, сидевший к ним спиной, повернулся, но англичанин и не подумал к нему подойти, а проследовал к лестнице. Дежурный хотел было поинтересоваться, кто ему нужен; посетитель наконец заметил его, как замечают прислугу, и уверенно бросил:
— Guten Abend.[10]
— Guten Abend, mein Herr,[11] — привычно ответил дежурный, и не успел он договорить, как блондин-посетитель был уже на лестнице, неторопливо поднимался, шагая через ступеньку. На втором этаже он заглянул в коридор: в дальнем его конце виднелась табличка с номером 68. Он рассчитал, где должен быть 64-й; других табличек не было видно. Справа, футах в двадцати, через два дверных проема. А по левую сторону коридора имелась ниша, скрытая красной плюшевой занавесью, которая свисала с дешевого медного карниза.
Нишу он внимательно оглядел — и внизу, под занавесью, не достигавшей пола дюйма на четыре, заметил носок черной туфли. Он повернулся и спустился в холл. На этот раз дежурный был начеку, но едва он успел раскрыть рот, как англичанин повелительно сказал:
— Будьте добры, дайте мне номер 64.
Дежурный взглянул на него — и повиновался: поколдовал над коммутатором и протянул ему трубку.
— Если через пятнадцать секунд ваш болван не уберется из ниши, я уезжаю, — проговорил тот, положил трубку и двинулся к лестнице.
Ступив в коридор второго этажа, он увидел, что дверь 64-го номера отворилась. Оттуда вышел Роден, бросил взгляд на англичанина и негромко позвал: «Виктор!» Из ниши появился великан-телохранитель: он поглядел на полковника и на незнакомца.
— Все в порядке, — сказал Роден. — Мы его ждем.
Ковальский нахмурился. Англичанин пошел по коридору.
Роден пригласил его в номер, который теперь напоминал вербовочный пункт. Секретер превратился в председательский стол; к нему был приставлен стул с прямой спинкой. Другого в номере не было, другие принесли и поставили с боков Монклер и Кассон. Они сидели на принесенных стульях и разглядывали белокурого гостя. А он, видя, что сесть перед столом некуда, выдвинул кресло и, пока Роден отдавал распоряжения Ковальскому и запирал дверь, устроился в нем как нельзя более уютно, оглядывая в свою очередь Кассона и Монклера. Наконец Роден прошел на председательское место.
Он тоже посмотрел на лондонского гостя и остался доволен, а полковник в людях разбирался. Шести с лишним футов ростом, разменял четвертый десяток, худощавый, атлетическое сложение. Выглядит прекрасно, загорелое лицо с правильными чертами; правильными и неприметными. Руки спокойно лежат на подлокотниках — выдержки ему, видно, не занимать. Вот только глаза… Роден видывал и жалкие, сырые гляделки хлюпиков, и тусклые, опасные глазные провалы одержимых, и суровые глаза солдат. Эти глаза глядели прямо и открыто; они были сероватые, словно застланные морозной утренней дымкой. Роден не сразу заметил, что выражения в них нет, что они служат мглистой завесой работы мысли, и ему стало не по себе. Человек порядка и дисциплины, он терпеть не мог неуловимого, а стало быть, и неподконтрольного.
— Кто вы такой — нам известно, — в упор начал он. — Представимся же и мы. Я — полковник Марк Роден…
— Знаю, — прервал его англичанин, — начальник оперативного отдела ОАС. А это — майор Рене Монклер, казначей, и господин Андре Кассон, руководитель французского подполья. — Он обмерил обоих взглядом и достал сигареты.
— Откуда же вы это знаете? — поинтересовался Кассон, пока тот прикуривал. Англичанин откинулся в кресле и выпустил изо рта длинную струйку дыма.
— Господа, будем играть в открытую. Я знаю, кто вы такие, вы знаете, кто я. Занятия у нас с вами необычные, хотя и похожие. Но за каждым вашим шагом следят, а я — вольная птица. У меня побуждения корыстные, у вас — идейные. Однако же и вы, и я — специалисты своего дела, так что давайте без околичностей. Вы наводили обо мне справки: немудрено, что это до меня дошло. Естественно, я полюбопытствовал, кто это мною интересуется. Может, мне хотят за что-то отомстить, а может, что-то предложить: разница существенная. Я выяснил, что справки наводит ваша организация, и просидел два дня в Британском музее за подшивками фрацузских газет. И когда нынче явился ваш птенец-посыльный, это меня ничуть не удивило. Bon.[12] Я, стало быть, знаю, что вы за люди, чем занимаетесь; вопрос в том, чем я вам могу служить?
Молчание затянулось. Кассон и Монклер выжидательно поглядывали на Родена. Полковник парашютно-десантных войск глядел на наемного убийцу, тот не отводил глаз. На своем веку Роден навидался головорезов, и ему было ясно, что этот подойдет. От Монклера и Кассона больше ничего, собственно говоря, не требовалось.
— Вы уже составили себе представление о нашей организации, и я не стану вам о ней рассказывать. Действуем мы, как вы верно заметили, из идейных побуждений. Мы считаем, что Францией правит диктатор — позор и бесчестье нашей страны, что его смерть и последующее падение его режима — необходимый залог национального возрождения. Из шести организованных нами покушений на него три были раскрыты на предварительной стадии, одно выдано накануне решающего дня, два не удались.
Мы предполагаем — пока лишь предполагаем — прибегнуть к услугам опытного специалиста, но деньги на ветер бросать не хотим. Первым делом желательно знать, стоит ли игра свеч.
Роден нарочито тянул: он знал ответ на этот вопрос. В непроницаемых серых глазах мелькнуло подобие выражения.
— Нет на свете человека, заговоренного от пули убийцы, — сказал англичанин. — Де Голль появляется на люди очень часто, и, конечно же, убить его возможно, но вот скрыться после этого шансов мало. Так что вернее всего поручить убийство ненавистного диктатора фанатику, который не пощадит себя. Примечательно, — добавил он не без ехидства, — что среди ваших борцов за идею такого фанатика не нашлось. Оба состоявшихся покушения провалились в конечном счете оттого, что в нужный момент кто-то не стал жертвовать жизнью.
— Немало французских патриотов готовы хоть сейчас… — пылко начал Кассон, но Роден сделал ему знак замолчать, а англичанин даже не взглянул в его сторону.
— В чем же тогда преимущество профессионала? — полюбопытствовал Роден.
— Профессионал действует хладнокровно, без воодушевления и, по всей вероятности, избегнет элементарных ошибок. За отсутствием идейных побуждений он не станет в последнюю минуту колебаться из-за того, что, положим, при взрыве погибнут случайные люди; как специалист в своем деле, он предусмотрит все до мелочей. Успех тоже предусмотрен и более вероятен, чем у других; однако профессионал и пальцем не шевельнет, пока не продумает, как ему спастись после этого успеха.
— И как по-вашему, с точки зрения профессионала, можно ли убить Великого Могола и спастись самому?
Несколько минут англичанин молча курил, задумчиво глядя в окно.
— В принципе — да, — ответил он наконец. — В принципе это всегда возможно, если все толком продумать заранее. Но это случай чрезвычайно трудный, вне всякого сравнения.
— Почему же вне сравнения? — спросил Монклер.
— Да потому что охрана де Голля начеку и ждет покушения ежедневно. Все главы государств состоят под охраной, но если на них не покушаются, то с годами охрана становится проформой, нудным обрядом; охраняют спустя рукава. И когда вдруг раздастся смертельный выстрел, начинается суматоха, благоприятная для убийцы. А де Голля охраняют зорко и бдительно, и если смертельный выстрел все-таки раздастся, то никакой суматохи не будет, тут же кинутся за убийцей. Да, задача эта в принципе выполнимая, но очень и очень трудная, труднее всякой другой. Вы успели здорово напортить дело, господа.
— Но если мы все-таки поручим это дело профессионалу… — начал Роден.
— Вам ничего другого не остается, — спокойно заметил англичанин.
— Почему же это? У нас найдется немало готовых на подвиг патриотов.
— Ну да, у вас найдутся Ватен и Кюрютше, — согласился белокурый англичанин. — Сыщется, пожалуй, и новый Дегельдр, а то и Бастьен-Тири. Но вряд ли ваша троица пригласила меня сюда, чтобы порассуждать о политических убийствах или похвастаться, что у вас есть кому пальнуть в президента. Вызвали вы меня, с большим запозданием сообразив, что в вашей организации полным-полно вражеских агентов, мгновенно выведывающих все ваши замыслы; вызвали потому, что всех ваших людей знает в лицо каждый французский полицейский. Стало быть, вам нужен человек со стороны. Это верно: только такой вам и годится. Осталось найти исполнителя и определить цену. Господа, вы, кажется, на меня уже насмотрелись.
Роден покосился на Монклера и поднял бровь. Монклер кивнул, за ним и Кассон. Англичанин безучастно смотрел в окно.
— Возьметесь ли вы убить де Голля? — негромко спросил Роден, и, казалось, вопрос его повис в воздухе, заполняя комнату. Англичанин перевел на него взгляд; глаза у него по-прежнему были пустые.
— Возьмусь, но это вам обойдется недешево.
— Сколько? — спросил Монклер.
— Прошу учесть, что после этого я навсегда выйду из игры. Поймать меня, положим, не поймают, но почти наверняка засекут. Поэтому надо заработать на всю оставшуюся жизнь, надо уберечься от мщения голлистов…
— Когда мы придем к власти, — сказал Кассон, — дело не станет за…
— Деньги на бочку, — сказал англичанин. — Половину вперед.
— Сколько? — спросил Роден.
— Полмиллиона.
Роден взглянул на Монклера, тот поморщился.
— Полмиллиона новых франков — сумма огромная…
— Долларов, — сказал англичанин.
— Как долларов? — крикнул Монклер, вскочив со стула. — Вы что, с ума сошли?
— Ничуть, — твердо сказал англичанин. — Цена не завышена, и я ее стою.
— Не все ценят себя так дорого, — язвительно заметил Кассон.
— Не все, — равнодушно согласился белокурый. — Наймите кого-нибудь подешевле, но не взыщите, если он сбежит с задатком или отделается объяснениями, почему никак нельзя было действовать. Услуги лучшего специалиста стоят дорого — в данном случае полмиллиона долларов. Вы же, кажется, собираетесь заполучить Францию? Дешево же вы ее цените!..
Тут наконец вмешался Роден.
— Touche.[13] Дело в том, что такой суммы наличными у нас нет.
— Это мне известно, — сказал англичанин. — Но если вам действительно надо, чтобы дело было сделано, то деньги вы достанете. Я тут лицо не слишком заинтересованное: последний раз я заработал столько, что на два-три года хватит. Однако же и правда не худо бы разом обеспечить себя до конца дней и удалиться на покой. Ради этого я готов буквально поставить жизнь на карту. В вашей игре ставка — Франция, но рисковать деньгами вы не хотите. В таком случае я откланиваюсь. Если вам не под силу раздобыть столько денег — что ж, устраивайте заговоры, а правительство будет их заблаговременно ликвидировать.
Он привстал из кресла и раздавил окурок в пепельнице, Роден также поднялся.
— Сядьте. Деньги мы достанем.
Оба уселись по-прежнему.
— Положим, — сказал англичанин, — но я вам поставлю свои условия.
— Какие же?
— Посторонний нужен вам главным образам потому, что вы насквозь просвечены. Сколько ваших осведомлены о вашем решении; надеюсь, не о моей кандидатуре?
— Только присутствующие. Мне это пришло на ум в тот день, когда был казнен Бастьен-Тири. Розыски я вел один. Нет, больше никто ни о чем не знает.
— Вот пусть и не узнают, — сказал англичанин. — Уничтожьте записи, отчеты и досье. Вся информация пусть хранится у вас в головах, причем, памятуя о печальной участи Аргу, я считаю себя вправе немедля ретироваться, если кого-нибудь из вас сцапают. Поэтому лучше бы вам до поры до времени укрыться понадежнее, под хорошей охраной. Согласны?
— D'accord.[14] Другие условия?
— Планировать операцию буду я сам и в свои планы вас посвящать не намерен. Сейчас мы расстанемся, и я исчезну с ваших горизонтов. У вас есть мой лондонский телефон и адрес, но через день-другой меня там не будет.
Не пробуйте использовать этот канал связи — разве что в самом крайнем случае. Вообще же никаких контактов между нами не предвидится. Я оставлю вам номер моего счета в швейцарском банке. Когда они подтвердят перевод двухсот пятидесяти тысяч долларов, я начну действовать, если к тому времени закончу приготовления. Торопить меня не надо, вмешиваться в мои планы — тем более. Договорились?
— D'accord. Но у нас есть свои люди в правительственных кругах, высокопоставленные лица. Они могли бы поставлять вам ценные сведения.
Англичанин чуть призадумался.
— Пожалуй. Когда вы отладите это дело, вышлете мне по почте в закрытом конверте телефонный номер, лучше — парижский, чтобы я мог позвонить напрямую из любого места во Франции. Мое местонахождение будет оставаться в тайне; звонить буду я, а мне будут сообщать новости насчет охраны президента. Но и связному не надо знать, зачем я во Франции. Скажите ему, что я выполняю ваше поручение, а он обязан мне помогать. Чем меньше он будет знать, тем лучше: пусть служит передаточной инстанцией, и не более того. И нужны мне только секретные сведения, а не газетные сенсации. Договорились?
— Хорошо. Вы, значит, не нуждаетесь ни в помощниках, ни в убежищах? Что ж, как вам угодно. Но подложные документы вам понадобятся? У нас есть два прекрасных специалиста по этой части.
— Спасибо, об этом я сам позабочусь.
— Во Франции у нас разветвленная конспиративная организация, — сказал Кассон. — Созданная с учетом опыта Сопротивления. Вы можете рассчитывать на ее всестороннюю помощь.
— Спасибо, не надо. Предпочитаю обходиться без всякой посторонней помощи. Полнейшая самостоятельность — мое лучшее оружие.
— Но если что-нибудь сорвется, и вы будете вынуждены…
— Ничего не сорвется, если вы мне ничего не сорвете. А с вашей организацией, господин Кассон, я не хочу иметь дела потому же, почему вы имеете дело со мной, — потому что она кишит осведомителями.
Кассон с трудом сдержался. Монклер хмуро уставился в окно: шутка ли, полмиллиона долларов! Откуда их взять? Роден задумчиво разглядывал англичанина.
— Спокойно, Андре. Господин предпочитает действовать в одиночку — значит, так ему сподручнее. В конце концов, не затем мы ему платим полмиллиона долларов, чтобы водить его на помочах, как наших молодцов.
— Хотел бы я все-таки знать, где мы раздобудем такую уйму денег, — пробурчал Монклер.
— Ограбьте десяток-другой банков, — небрежно посоветовал англичанин.
— Ладно, это наша проблема, — сказал Роден. — Еще какие-нибудь вопросы?
— Где гарантии, что вы не исчезнете с четвертью миллиона? — спросил Кассон.
— Я сказал вам, господа, — я хочу удалиться от дел. А если за мной будет охотиться целая армия бывших десантников, то на одну охрану никаких денег не хватит. Четверть миллиона растают как дым.
— Ну, а у вас, — настаивал Кассон, — какие у вас гарантии, что мы не откажемся выплатить вам по исполнении вторую половину?
— Да те же самые, — заявил англичанин. — В этом случае охотником буду я, а дичью — вы, господа. Но это, надеюсь, маловероятно?
— Так, если больше вопросов нет, — вмешался Роден, — то не будем задерживать нашего гостя. Ах, да… вот еще что. Нужна кличка. Раз уж не будет фамилии, то хоть кличка нужна. Может, сами предложите?
Англичанин немного подумал.
— Кстати, об охоте: Шакал не подойдет?
Роден кивнул.
— Очень даже подойдет. Мне — так просто нравится.
Он проводил англичанина к дверям и выпустил его в коридор. Из ниши появился Виктор и приблизился к ним. Роден улыбнулся — первый раз за вечер — и протянул убийце руку.
— Все будет сделано, как мы условились; спокойно принимайтесь за дело, не надо терять времени. Всего наилучшего. Bonsoir, monsieur Chacal.[15]
Белокурый англичанин неспешно удалился; Ковальский злобно посмотрел ему вслед. Ночь он провел в аэропортовской гостинице и вылетел в Лондон первым утренним рейсом.
А в номере пансиона «Клейст» кое-как сдерживавшиеся с девяти вечера до полуночи Кассон с Монклером обрушили на Родена град вопросов и упреков.
— Ну, откуда, откуда мы возьмем полмиллиона долларов? — повторял Монклер.
— Почему бы не ограбить десяток-другой банков, как советует Шакал? — отозвался Роден.
— Не нравится мне этот тип, — заметил Кассон. — Все сам да сам, помощники ему, видите ли, не нужны. Опасный субъект! В случае чего с ним никакого сладу не будет.
— Ну вот что, хватит, — заключил Роден. — Мы сообща продумали замысел, приняли соответствующие решения и нашли человека, готового и способного убить президента Франции за хорошую плату. Скажу вам так, если это вообще выполнимо, то он это сделает, я эту породу знаю. Словом, карты сданы: мы ходим в свою очередь, он пойдет в свою.
3
С середины июня до конца июля 1963 года Францию сотрясала сущая эпидемия грабежей, дотоле небывалая и впредь не повторявшаяся. Грабили банки, ювелирные магазины и почтовые отделения. Подробности об этом можно найти в анналах полиции.
Во всех концах страны в банки что ни день врывались гангстеры с пистолетами, обрезами, автоматами. Еще того чаще случались налеты на ювелирные магазины: бывало, едва успевали снять показания с потрясенных, порой окровавленных хозяев и приказчиков, как полицейских вызывали по соседству: там было то же самое.
Двух банковских служащих в разных городах застрелили при попытке оказать сопротивление грабителям, и к концу июля обстановка так накалилась, что на помощь полиции были призваны Corps Republicain de Securite,[16] сокращенно КРС, — отряды по борьбе с беспорядками, впервые вооруженные автоматами. Клиенты банков быстро привыкли к тому, что в вестибюлях их встречает постовой или два постовых в синей форме, держа оружие наготове.
Банкиры и ювелиры осаждали правительство негодующими жалобами, и полиции было приказано участить ночные обходы, но пользы это не принесло, потому что орудовали отнюдь не профессиональные взломщики-умельцы, вскрыватели сейфов, а просто бандиты, чуть что начинавшие палить напропалую. Средь бела дня, в рабочие часы, появлялись в магазинах и банках два-три человека в масках и с оружием; слышался повелительный возглас: «Haut les mains!»[17]
К концу июля удалось ранить и задержать троих — порознь, разумеется. Двое оказались обыкновенными рецидивистами, стакнувшимися с ОАС; третий — дезертиром из бывших колониальных частей, ныне, как он вскоре признал, оасовцем. Но сколь хитроумно их ни допрашивали, никаких объяснений, почему по всей стране происходят грабежи, не добились: налетчики твердили, что патрон просто-напросто указал такой-то банк или магазин. Наконец полиция пришла к выводу, что они и правда не знают, зачем все это делается; им обещана была доля из добычи, а они грабили по наводке.
Ясно было, что наводка оасовская и что Тайной армии зачем-то срочно понадобились деньги. Но лишь в начале августа и совсем иначе выяснилось зачем.
А к концу июня эта охота за наличными деньгами и драгоценностями приняла такой размах, что расследование препоручили комиссару Морису Бувье, многоопытному начальнику сыскной бригады Уголовной полиции. Стену его на удивление тесного, заваленного бумагами кабинета в Главном полицейском управлении на набережной Орфевр, 36, украсила диаграмма роста награбленной суммы: к похищенным наличными приплюсовывались приблизительные цены краденых драгоценностей. Во второй половине июля сумма превысила два миллиона новых франков, то бишь 400 000 долларов. Часть этих денег, вероятно, ушла на организационные расходы и оплату исполнителей, но и за всеми вычетами остаток, по подсчетам комиссара, был весьма внушительный.
В последних числах июня на стол начальнику СДЕКЕ генералу Гибо положили донесение его римского резидента. Сообщалось, что трое главарей ОАС — Марк Роден, Рене Монклер и Андре Кассон — поселились вместе в дорогом отеле близ виа Кондотти, в центре города: сняли — должно быть, за бешеную цену — два верхних этажа, для себя и для охраны, восьми отборных ветеранов Иностранного легиона, и на улицу не выходят. Думали было, что у них там совещание; но, очевидно, они просто приняли усиленные меры предосторожности, опасаясь участи Антуана Аргу. Неулыбчивый генерал угрюмо усмехнулся — вот уже и главные террористы отсиживаются в римской гостинице; и не придал рапорту особого значения. Хорошо поработали ребята из Аксьон сервис, а с боннским министерством иностранных дел, которое с февраля негодует на вопиющее нарушение германского суверенитета в гостинице «Эден-Вольф», как-нибудь утрясется. Зато какой отрадный результат — главари ОАС с перепугу попрятались по щелям. Правда, когда генерал заново просмотрел досье Марка Родена, у него мелькнуло сомнение: такой человек с перепугу прятаться не станет, да и чего особенно пугаться? На опытный взгляд вроде и со стороны ясно, что по соображениям политики и дипломатии никто сейчас не позволит устроить новое похищение. Лишь много позже понял генерал Гибо, почему трое оасовских главарей вдруг так озаботились своей безопасностью.
Между тем в Лондоне Шакал не терял времени даром: размеренно и последовательно он выполнял то, что наметил на конец июня и первые две недели июля. Для начала он положил себе прочесть по возможности все, что написал де Голль и что написано о нем. Он пошел в библиотеку и по новейшим книгам о де Голле составил подробную библиографию. Затем заказал по почте нужные издания — на чужую фамилию и адрес — в крупнейших книжных магазинах.
Над книгами он просиживал далеко за полночь, стараясь как можно отчетливее представить себе тогдашнего хозяина Елисейского дворца — от его детских лет до последнего времени. Многое из того, что он узнал, практического значения для него не имело; все сколько-нибудь существенное заносилось в блокнотик. В этом изучении жизни и характера французского президента особенно помог третий том его воспоминаний под названием «Острие шпаги» («Le fil de L'épée»), где Шарль де Голль подробно изъясняет свою жизненную позицию и судьбоносное назначение.
У Шакала был живой и цепкий ум. Он прекрасно усваивал и трезво оценивал прочитанное, а в памяти его откладывалось впрок великое множество всевозможных фактов.
Однако же, хотя образ величавого и надменного президента Франции достаточно вырисовывался из его мемуаров и книг близких очевидцев его жизни, ответа на свой главный вопрос, возникший еще 15 июля в номере венской гостиницы, Шакал покамест не получил. К концу первой недели июля он все еще не знал, когда, где и как его убить. Он отправился в читальный зал Британского музея, заполнил формуляр на все ту же чужую фамилию и углубился в подшивки главной ежедневной французской газеты «Фигаро».
Когда его осенило, в точности неизвестно: по-видимому, 8-10 июля. На мысль его навела газетная колонка 1962 года: он проверил свою догадку по газетам за все годы президентства де Голля, начиная с 1945-го, и она подтвердилась. Никаких сомнений: в этот день и в этот час, невзирая ни на какую опасность и уж тем более на болезнь или на плохую погоду, Шарль де Голль непременно появляется перед народом. Предварительные розыски, таким образом, закончились; теперь надо было продумывать план.
И он продумывал его долгие часы, лежа на тахте в своей квартире, глядя в кремовый потолок и со вкусом выкуривая сигарету за сигаретой, пока план не сложился до последней детали.
Около дюжины вариантов он забраковал, но в конце концов все встало на свои места: в унисон с вопросами «когда» и «где» разрешился и вопрос «как».
Шакал отлично знал, что в 1963 году ни одного из лидеров западного мира не охраняли так тщательно и так надежно, как президента Франции. Убить его было куда труднее, чем, скажем, президента США Джона Фитцджеральда Кеннеди, что и подтвердилось впоследствии. Убийца-англичанин не ведал, однако, о том, что американцы любезно предоставили экспертам французской службы безопасности возможность ознакомиться с организацией охраны президента Кеннеди и те остались очень невысокого мнения о своих заокеанских коллегах. И, по-видимому, недаром: в ноябре 1963 года Джона Кеннеди застрелил в Далласе полоумный авантюрист, а де Голль дожил до своей отставки и тихо скончался у себя дома.
Итак, Шакал знал, что тягаться ему предстоит с едва ли не лучшей в мире службой безопасности, что охрана де Голля постоянно начеку в ожидании очередных покушений, что нанявшая его организация просвечена насквозь. Оставалось рассчитывать на то, что он никому не известен, и на строптивый характер жертвы, которая почти наверняка не пожелает подчиниться настояниям охраны.
Рассчитывать на то, что в намеченный день гордый, упрямый, презирающий опасность президент Франции обязательно рискнет жизнью и подставится — хотя бы на несколько секунд.
Прибывший из Копенгагена лайнер, становясь в ряд самолетов перед зданием лондонского аэропорта, напоследок развернулся, прокатил еще несколько футов и замер. Двигатели взвыли и смолкли. Через несколько минут подъехал трап, и из самолета потянулись пассажиры, раскланиваясь на прощанье с улыбающейся стюардессой. На террасе для встречающих высокий блондин вскинул на лоб темные очки и поднес к глазам бинокль. В это утро он встречал так уже шестой самолет, но на залитой теплым солнцем террасе народу было полно, и все высматривали новоприбывших, так что поведение его было вовсе неприметно.
Но когда из дверцы вышел, пригнувшись, и распрямился восьмой пассажир, белокурый англичанин насторожился и повел биноклем за датским пастором в темно-сером костюме священнослужителя со стоячим воротничком. Судя по серебряной седине ровного пробора, ему было под пятьдесят, но лицо моложавое. Широкоплечий, высокий, статный, он был очень схож с тем человеком, который наблюдал его в бинокль.
Пассажиры один за другим предъявляли паспорта и багаж, а Шакал спрятал бинокль в кожаный портфельчик и неторопливо спустился в главный зал по лестнице за стеклянными дверями. Через пятнадцать минут в зале появился датский пастор с чемоданом и саквояжем. Никто его не встречал, и он первым делом пошел менять деньги.
Когда через шесть недель его допрашивала датская полиция, то оказалось, что он не заметил в той же очереди возле стойки «Барклиз бэнка» молодого белокурого англичанина, который пристально разглядывал его сквозь темные очки. Заметить, может, и заметил, но не запомнил. Англичанин же последовал за ним, отставая на несколько шагов, к автобусу компании БЕА, переправлявшей своих пассажиров на Кромвель-роуд, на другой аэровокзал; и ехали они, по всей вероятности, в одном автобусе.
На аэровокзале датчанин дождался, пока с автобусного прицепа разгрузят багаж; потом подхватил свой чемодан и решительно прошел мимо пунктов регистрации к стрелкам, указующим выход, где горело международное слово «такси». Между тем Шакал удалился от автобуса к служебной стоянке, где он оставил свою спортивную машину с открытым верхом. Забросив портфельчик на пассажирское сиденье, он сел за руль и подогнал машину снова к выезду, откуда было удобнее всего следить за длинной вереницей такси возле колоннады. Датчанин сел в третье из них, выехал на Кромвель-роуд и свернул к Найтсбриджу. Спортивный автомобиль не отставал.
Рассеянный пастор высадился у подъезда маленькой уютной гостиницы на Хаф-Мун-стрит, а спортивная машина пронеслась мимо и припарковалась на стоянке за углом, в дальнем конце Керзон-стрит. Шакал запер свой портфельчик в багажнике, приобрел у киоскера на Шепердмаркет дневной выпуск «Ивнинг стандард» и через пять минут вошел в вестибюль гостиницы. Минут еще через двадцать пять датчанин спустился, отдал ключ дежурному и направился в ресторан. Ключ чуть-чуть покачался на гвоздике. Мужчина в кресле, по-видимому поджидавший кого-то, приопустил газету — и заметил, что качается ключ от номера 47-го. Минуту-другую спустя, когда дежурный отлучился проверить, заказаны ли беспокойному гостю театральные билеты, человек в темных очках проскользнул на лестницу.
Двухдюймовой слюдяной пластиночкой открыть дверь номера 47-го не удалось: тугой был запор. Но вместе с гибким пастихином пластиночка сделала свое дело — и замок наконец отщелкнулся. Отправившись пообедать, пастор оставил паспорт на столике у постели. Шакал управился за тридцать секунд: туристские чеки он и пальцем не тронул. Раз ничего не украли, то паспорт датчанин просто где-нибудь обронил. Так и рассудили. Тот еще допивал свой кофе, а англичанина уж и след простыл. Пастор искал-искал свой паспорт, а потом все-таки осмелился заявить о пропаже. Администратор тоже принялся искать — и под конец объяснил постояльцу, что полицию лучше не вызывать, коли деньги не тронуты: ну, бывает, невелика потеря. Мало ли где можно потерять паспорт. Датчанин был человек мягкий, страна все-таки чужая: и он согласился, что все может быть. На другой день он сообщил о пропаже паспорта в датское консульство; ему выдали нужные на две недели документы, и он об этой истории забыл и думать. Сотрудник консульства выписал за потерей паспорта удостоверение на имя пастора Пера Енсена из Санкт-Кьельдскирке — и тоже забыл об этом. Было это 14 июля.
Несколько иначе лишился паспорта через два дня американский студент из города Сиракузы, штат Нью-Йорк. Он предъявил его в лондонском аэропорту у стойки «Американ экспресс» при размене туристских чеков. Деньги он запрятал во внутренний карман пиджака, а сумочку с паспортом — в кожаный саквояжик, который поставил на пол, подзывая носильщика. Три секунды спустя саквояжа как не бывало; носильщик отвел рассерженного молодого человека к справочному «Пан Американ», где ему посоветовали обратиться к любому полисмену; тот пригласил его в полицейское отделение, а уж там его внимательно выслушали, проверили, не захватил ли кто-нибудь его саквояж по ошибке, и составили протокол: налицо была явная кража.
Перед рослым, атлетически сложенным американцем извинились; пожаловались ему на обнаглевших воров и воришек, рассказали о том, как администрация аэропорта всемерно старается оградить от них приезжих иностранцев. Тот постепенно остыл и даже признал, что одного его приятеля обокрали даже на нью-йоркском вокзале.
Протокол, как положено, разослали по всем отделениям лондонской полиции, присовокупив точное описание саквояжа и перечень его содержимого, в том числе и документов; но когда через неделю-другую ни саквояж, ни его содержимое не нашлись, инцидент был исчерпан.
Студент Марти Шульберг пошел в свое консульство на Гроувенор-сквер, сообщил о краже паспорта, получил бумаги на обратный выезд в США и отправился на каникулы в Шотландию со своей подружкой-студенткой. В консульстве зарегистрировали пропажу документа, уведомили об этом госдепартамент — и пустяковое происшествие немедленно забылось.
Никто никогда не узнает, много ли новоприбывших в лондонский аэропорт было в те дни обмерено на ступеньках трапа взглядом сквозь бинокль с террасы для встречающих. Но те двое, у которых украли паспорта, были кое в чем схожи. Оба шести с лишним футов ростом, широкоплечие, поджарые, голубоглазые; оба походили на того незаметного англичанина, который так ловко их обокрал. И сорокавосьмилетний седовласый пастор, и двадцатипятилетний шатен-студент носили очки: у одного они были в тонкой золоченой оправе, у другого — для пущей внушительности — массивные, роговые.
Их фотографии Шакал изучал долго и пристально, разложив краденые документы на своем письменном столе в квартире возле Саут-Одли-стрит. На следующий день он экипировался у театральных костюмеров, в магазине оптики и вест-эндском салоне, где продавалась мужская одежда американского покроя и большей частью нью-йоркского изготовления. Он приобрел голубые контактные линзы, две пары очков с простыми стеклами, в золоченой и темной роговой оправе, черные кожаные мокасины, тенниску и подштанники, сероватые брюки и светло-синюю нейлоновую куртку на молнии, с красно-белым шерстяным воротом и такими же обшлагами — все из Нью-Йорка, — а также священническую белую сорочку, высокий жесткий воротник и черную манишку. С трех последних вещей он аккуратно спорол фирменные ярлыки.
Напоследок он посетил в Челси лавочку, где два гомосексуалиста торговали мужскими париками и накладками, и купил у них средства для окраски волос в серо-стальной и темно-каштановый цвета и набор головных щеток, а заодно получил точные и немного жеманные инструкции, как с максимальной быстротой добиться того, чтобы крашеные волосы выглядели вполне натурально. Всюду, кроме салона мужской одежды, он делал не больше одной покупки.
На следующий день, 18 июля, в «Фигаро» появилось неприметное сообщеньице о скоропостижной кончине заместителя начальника сыскной бригады уголовной полиции комиссара Ипполита Дюпюи: его хватил удар в кабинете на набережной Орфевр и до больницы его не довезли. На его место был назначен и немедля приступил к исполнению обязанностей комиссар Клод Лебель, прежде возглавлявший Отдел по расследованию убийств. Шакал ежедневно просматривал все продававшиеся в Лондоне французские газеты: ему бросилось в глаза слово «сыскной» в заголовке, и он прочел заметку, но никакого значения ей не придал.
Еще до того, как он принялся подбирать себе заграничных двойников, Шакал решил, что не только проводить, но и готовить операцию разумнее под чужим именем. Раздобыть фальшивый британский паспорт проще простого: Шакал прибег к испытанному способу мошенников и контрабандистов, которые предпочитают отлучаться с родины незаметно для властей. Он проехался на машине по долине Темзы, останавливаясь в маленьких селениях, в каждом из которых имеется церквушка, а рядом с нею — кладбище. На третьем кладбище отыскалось подходящее надгробие: некий Александр Дугган умер двух с половиной лет от роду, в 1931 году. Останься он в живых, он был бы в 1963-м на несколько месяцев старше Шакала, который наведался к пожилому викарию, учтивому и радушному, и заявил, что он занимается родословной Дугганов. Ему стало известно, что кто-то из них проживал в этой деревушке; нельзя ли, смущенно осведомился он, уточнить этот факт по приходской книге?
Викарий, разумеется же, дал на это согласие и уж совсем расцвел, когда симпатичный приезжий залюбовался старинной церковкой норманнского стиля и попросил принять его скромную лепту на содержание храма.
Обнаружилось, что супругов Дугганов уже лет семь как нет в живых и их, увы, единственный сын Александр похоронен здесь, на церковном кладбище, около тридцати лет назад. Шакал не спеша перелистывал книгу и среди записей о рождениях, браках и смертях апреля 1929 года наконец увидел фамилию «Дугган», выведенную простым каллиграфическим почерком.
Александр Джеймс Квентин Дугган родился 3 апреля 1929 года, в приходе церкви святого Марка, Самборн-Фишли.
Все это он переписал в блокнотик, рассыпался в благодарностях перед викарием и укатил в Лондон. Там он отправился в Центральный регистрационный архив, предъявил молодому доверчивому сотруднику визитную карточку шропширского стряпчего из Маркет-Дрейтона и объяснил, что разыскивает внуков клиентки, которая недавно скончалась и завещала им состояние. Известно, что один из этих внуков — Александр Джеймс Квентин Дугган, родившийся якобы в Самборн-Фишли, в приходе церкви святого Марка 3 апреля 1929 года. Сведения нуждаются в проверке и дополнении.
Вежливое обращение со служащими в английских учреждениях себя обычно окупает: так было и на этот раз. Архивный поиск удостоверил сведения о рождении и выявил, что Александр Дугган погиб 8 ноября 1931 года в дорожной катастрофе. За несколько шиллингов Шакал получил копии свидетельств о рождении и смерти. По пути домой он зашел в министерство труда, где ему выдали бланк ходатайства о паспорте, в игрушечный магазин — там он купил за пятнадцать шиллингов детский печатный набор — и на почту — за квитанцией об уплате пошлины в один фунт.
В ходатайстве он указал имена и фамилию Дуггана, его возраст, дату и место рождения и т. п. и свои приметы — рост, цвет волос и глаз; в графе «род занятий» написал «коммерсант». Полные имена родителей Дуггана были списаны из свидетельства о рождении, а имя и ученое звание поручителя — преподобного Джеймса Элдерли, доктора юридических наук, утреннего собеседника Шакала, — с таблички у ворот церкви. Подпись викария он тоненько нацарапал стальным пером, стряхнув с него лишние чернила; потом составил в наборной кассе слова:
Приходская церковь святого Марка
Сэмборн-Фишли
И накрепко оттиснул штамп рядом с подписью. Копию свидетельства о рождении, ходатайство и квитанцию он отправил в паспортное управление, а свидетельство о смерти уничтожил. Через четыре дня, когда он читал утренний выпуск «Фигаро», ему принесли ценное письмо с вложением новенького паспорта. После обеда он тщательно запер квартиру, поехал в аэропорт и приобрел — конечно, за наличные, чтобы не пользоваться чековой книжкой, — билет на ближайший копенгагенский рейс. В потайном отделении его чемодана, которое можно было обнаружить лишь при очень тщательном досмотре, было две тысячи фунтов, за которыми он заехал в Холборн и изъял их из своего личного сейфа в тамошней юридической конторе.
Задерживаться в Копенгагене он не собирался и в аэропорту Каструп заказал на завтра билет на вечерний брюссельский рейс авиакомпании «Сабена». Ходить по магазинам датской столицы было уже поздно; он снял номер в отеле «Англетер» на Конгенс Нюторв, роскошно поужинал в ресторане «Семь наций», прогуливаясь по парку Тиволи, немного пофлиртовал с двумя очаровательными блондинками и к часу улегся в постель.
На другой день он купил в центральном, самом известном копенгагенском магазине мужского платья легкий темно-серый пасторский костюм, скромные черные туфли, пару носков, белье и три белые сорочки; Шакал проследил, чтобы на всех купленных вещах непременно были датские фирменные ярлыки. Сорочки и нужны-то были ему только затем, чтобы перешить с них ярлыки на рубашку, стоячий воротник и манишку, которые он купил в Лондоне под видом студента богословия, завтрашнего священнослужителя.
Напоследок он приобрел книгу на датском языке о достопримечательных церквах и соборах Франции. Он плотно закусил в приозерном ресторане парка Тиволи и в 15.15 вылетел в Брюссель.
4
Какой бес попутал на склоне лет Поля Гоосенса, мастера золотые руки, было неведомо ни его немногим друзьям, ни многочисленным заказчикам, ни даже бельгийской полиции. Он проработал тридцать лет в Льеже на «Фабрик насьональ» и заслуженно считался скрупулезнейшим специалистом своего дела, в котором скрупулезность превыше всего. А уж честность его была вне всяких подозрений. За эти тридцать лет он прослыл несравненным экспертом-оружейником, ибо «Фабрик насьональ» изготовляла всевозможное оружие — от маленьких дамских пистолетиков до крупнокалиберных пулеметов.
Достойно вел он себя и во время нацистской оккупации. Хотя он и остался работать на фабрике, которая должна была производить оружие для германской армии, но позднее выяснилось, что он, несомненно, участвовал в подпольной деятельности Сопротивления, помогал укрывать сбитых летчиков союзных войск, а на работе руководил саботажем, из-за которого большая часть изготовленного в Льеже оружия либо не годилась для прицельной стрельбы, либо взрывалась на пятидесятом выстреле, убивая и калеча немецких солдат.
Эти сведения защите пришлось вытаскивать из него чуть не клещами, и они с торжеством предъявили их на суде как говорящие в пользу скромного и стеснительного подзащитного. В самом деле, они немало способствовали смягчению приговора; подействовало на присяжных и смущенное признание Гоосенса в том, что он нарочито скрывал свои заслуги перед Сопротивлением, чтобы избежать наград и почестей.
Когда в начале пятидесятых годов вдруг обнаружилось, что в одной крупной сделке с иностранным заказчиком кто-то хорошо нагрел руки, Гоосенс был одним из ведущих инженеров фирмы, и начальство его заявило полиции, что он выше подозрений.
Даже на суде, когда все уже было доказано, директор-распорядитель сказал о нем похвальное слово. Но судья полагал, что злоупотребление неограниченным доверием преступно вдвойне, и подсудимого приговорили к десяти годам тюрьмы. В ответ на кассацию срок сократили до пяти лет, а за примерное поведение выпустили через три с половиной.
Тем временем жена развелась с ним и забрала детей. Прежняя жизнь в уютном коттеджике с цветничком на живописной окраине Льежа (а там отнюдь не все окраины живописны) безвозвратно канула в прошлое. О дальнейшей работе в фирме нечего было и думать. Он снял квартирку в Брюсселе, потом купил дом в дальнем предместье. Денег у него хватало с избытком — он снабжал оружием добрую половину западноевропейского преступного мира и к началу шестидесятых годов получил кличку l'Armurier — Оружейник. Любой бельгийский гражданин может свободно купить револьвер, пистолет или винтовку в спортивном или специализированном магазине, надо лишь предъявить удостоверение личности. Однако при продаже оружия или патронов об этом делается запись в особом журнале с указанием фамилии и номера удостоверения личности покупателя. Поэтому Гоосенс использовал поддельные или краденые удостоверения.
Он вступил в соглашение с одним из самых ловких городских карманников, который, правда, часто отдыхал в тюрьме на казенных харчах, но, будучи на свободе, шутя обчищал кого угодно. За документы Оружейник платил ему живыми деньгами, немедля и не скупясь. Вдобавок он пользовался услугами специалиста, бывшего фальшивомонетчика: в сороковых годах тот попался на сущей безделице — изготовил большую партию французских банкнотов, ненароком пропустив в словах «Banque de France» букву «u» (молодость, молодость!), — и переквалифицировался. Зато документы он подделывал виртуозно и без ошибок. Сам же Гоосенс, разумеется, оружия никогда не покупал: с поддельными удостоверениями в магазин отправлялись воришки, сидевшие на мели, или актеры, желавшие пополнить скудные сценические заработки.
А он оставался в тени и был известен лишь карманнику и незадачливому фальшивомонетчику, да еще кое-кому из постоянных клиентов, главнейших бельгийских уголовников, которые в дела его носа не совали и, когда попадались, покрывали его, отказываясь сообщить следствию, откуда у них оружие, — они ведь знали, что он им снова понадобится.
Конечно, бельгийская полиция чуяла неладное, однако ни поймать за руку, ни подкрепить подозрения косвенными уликами не могла. Особенно подозрительны им были кузня и отлично оборудованная мастерская у него в гараже; к нему то и дело наведывались, но ничего, кроме заготовок для медальонов и сувениров, не обнаружили. В последний раз он церемонно преподнес главному инспектору фигурку Маннекен-Писа[18] — в знак уважения к закону и порядку.
Утром 21 июля 1963 года он со спокойной душой ожидал незнакомого англичанина, которого накануне рекомендовал по телефону один из лучших его покупателей: в 1960–1962 годах он служил наемником в Катанге, а теперь за хорошие деньги охранял брюссельские публичные дома.
Англичанин явился в назначенный час, ровно в полдень, и г-н Гоосенс провел его из передней в свой маленький кабинет.
— А вы не снимете очки? — спросил он, когда тот уселся, и, заметив его нерешительность, прибавил: — Для пользы дела — нужно ведь, чтоб мы хоть немного доверяли друг другу. Может быть, выпьем?
Человек с паспортом на имя Александра Дуггана снял очки и задумчиво посмотрел на щуплого оружейника с бутылкой пива. Г-н Гоосенс сел за стол, прихлебнул из своего стакана и безмятежно поинтересовался:
— Чем могу служить, сударь?
— Вероятно, Луи вам обо мне звонил?
— Разумеется, — кивнул Гоосенс. — Потому вы здесь и сидите.
— Сказал он вам, чем я занимаюсь?
— Нет, он сказал, что познакомился с вами в Катанге, что за вас ручается, что вам нужно оружие и что вы заплатите наличными.
Англичанин наклонил голову.
— Ну что ж, коли я знаю, чем вы занимаетесь, то и мне, пожалуй, незачем таиться. Да и оружие нужно особого свойства, без объяснений не обойтись. Я… м-м… специализируюсь на устранении лиц, чем-либо не угодивших богатым и влиятельным людям. Само собой, лица эти тоже, как правило, богаты и влиятельны, так что иной раз возникают известные трудности: они со своей стороны используют специалистов. Словом, для такой работы нужен точный план и подходящее оружие. Сейчас мне подвернулось довольно трудное дело — вот и понадобилась винтовка.
Гоосенс отхлебнул пива и понимающе закивал.
— Отлично, отлично. Стало быть, вы — собрат-специалист, и работа будет настоящая. И какая же винтовка вам нужна, какой системы?
— Дело не в системе, важно другое. Задача сложная, условия жесткие, и винтовка должна им отвечать.
Глаза Гоосенса замаслились.
— Нестандарт, значит, — обрадованно проворковал он. — Винтовка на заказ, на один этот случай, для вас, и ни для кого более, — словом, уникум! Ну, это вы пришли по адресу. Ничего не скажешь, настоящая работа; и я рад, сударь, что вы обратились ко мне.
— Взаимно, сударь. — Англичанин раздвинул губы в улыбке, как бы воздавая должное восторгу Оружейника.
— Итак, жесткие условия?
— Они касаются прежде всего размера, не столько длины, сколько поперечника. Патронник и казенная часть должны быть в диаметре, — он соединил большой и средний пальцы правой кисти в виде буквы «О», — не более двух с половиной дюймов. Многозарядной ее не сделаешь: нет места ни для газоотвода, ни для магазина, — продолжал англичанин. — Однозарядка, со скользящим затвором.
Гоосенс кивал, уставившись в потолок и мысленно конструируя тоненькую винтовку.
— Да-да, я слушаю, — заверил он.
— Затвор с боковой рукоятью, как у «маузера-7,92» и «Ли-Энфилд-3,03», не подойдет. При заряжании затвор должен напрямую, одним ходом отводиться к плечу большим и указательным пальцами. Спусковой скобы не надо, а крючок — съемный, вставляется перед стрельбой.
— Поясните, — попросил бельгиец.
— Затем, чтобы винтовка помещалась в трубчатом футляре, а футляр не привлекал внимания. Отсюда и указанный его диаметр, я еще скажу об этом. Так как, возможно сделать съемный крючок?
— Почему бы и нет. Вообще-то можно сделать однозарядную винтовку с откидным стволом, вроде охотничьего ружья. Тогда и затвора не надо, зато нужен шарнир — велик ли выигрыш? К тому же придется начинать с нуля, обтачивать и рассверливать болванку на казенник. В домашней мастерской это трудновато, но выполнимо.
— А сколько понадобится времени? — спросил англичанин.
Оружейник развел руками.
— Боюсь, что несколько месяцев.
— Слишком долго.
— Что ж, переделаем покупную винтовку. Продолжайте.
— Далее, чем легче она будет, тем лучше. И калибр пусть некрупный — дело решает попадание. Ствол не длиннее двенадцати дюймов…
— С какого расстояния будете стрелять?
— В точности пока не знаю, но, вероятно, не дальше чем со ста тридцати метров.
— Целить будете в голову или в грудь?
— Пожалуй, в голову. Можно, впрочем, и в грудь, но в голову оно вернее.
— Ну да, попадание — верная смерть, — подтвердил бельгиец. — Зато в грудь легче попасть, тем более из легонькой винтовки с коротким стволом на расстоянии ста тридцати метров, учитывая возможные помехи. Вы, должно быть, потому и сомневаетесь, — прибавил он, — что мишень могут заслонить?
— Да, могут.
— Чтобы выстрелить второй раз, вам надо извлечь гильзу, вставить новый патрон, задвинуть затвор и заново прицелиться — то есть несколько секунд. Они у вас будут?
— Вряд ли. Ну, может, будет секунда-другая — и то при наличии глушителя, если я промахнусь и этого никто не заметит. Если же попаду в висок — да, без глушителя явно не обойтись: мне нужно несколько минут, чтоб успеть скрыться, прежде чем догадаются хотя бы приблизительно, откуда стреляли.
Бельгиец задумчиво кивал, глядя в блокнот.
— В таком случае лучше стрелять разрывной пулей. Я их вам с десяток изготовлю в придачу к винтовке, хотите?
— С глицерином, со ртутью?
— Со ртутью, конечно: ртуть — дело чистое. Это все ваши требования к винтовке?
— Боюсь, что нет. Как вы понимаете, цевье и приклад отпадают; нужна стальная рама, как у пулемета «Стэн», трехчастная — два стержня и плечевой упор. И наконец, абсолютно надежный глушитель и оптический прицел, тоже съемные.
Бельгиец размышлял и прихлебывал пиво, пока стакан не опустел. Заказчик прервал молчание:
— Так что ж, беретесь?
Мосье Гоосенс очнулся от задумчивости с виноватой улыбкой.
— Извините, ради бога. Очень сложный заказ, но я берусь его выполнить, а раз берусь — значит, не подведу, такого со мной не бывало. По сути дела, вы отправляетесь на охоту, но ваше снаряжение, то бишь охотничье ружье, должно быть незаметно. Сделаем. Двадцать второго калибра[19] для вас будет мелковато: это на зайцев и кроликов, а «Ремингтон-300» не подойдет по размерам казенника.
Я, кажется, знаю, что вам надо, и за этой винтовкой недалеко ходить, она у нас продается в спортивных магазинах. Дорогая вещь, тонкая работа. Бой отменный, изящная, легонькая. Из нее обычно стреляют козочек, но с разрывными пулями сойдет и для крупной дичи. А кстати, этот… э-э-э… господин, он будет двигаться быстро, медленно или будет стоять на месте?
— Цель неподвижная.
— Тогда решено. Приладить разъемный стальной приклад и посадить крючок на резьбу — это пустяки. Нарезку для глушителя я сделаю сам и обрежу ствол на восемь дюймов. Да, бой уж будет не тот. Жаль, жаль. А вы — снайпер?
Англичанин кивнул.
— Ну, тогда вы никак не промахнетесь по неподвижной цели со ста тридцати метров. Глушитель — да, придется изготовить; дело опять-таки несложное, а купить готовый трудно, особенно длинный, для ружья — охотники-то ими не пользуются. Вы упомянули, сударь, о трубчатых футлярах для переноски разобранной винтовки. Можно поточнее?
Англичанин встал и подошел к столу, возвышаясь над щуплым оружейником. Он сунул руку во внутренний карман пиджака, и маленький бельгиец с испугом покосился на него. Он впервые заметил, что выражение лица убийцы не сообщалось его глазам, застланным непроницаемой дымно-серой мутью. Англичанин извлек из кармана всего-навсего серебряный цанговый карандаш. Он придвинул к себе блокнот Гоосенса и набросал чертежик.
— Понятно, что это такое? — спросил он, снова повернув блокнот к оружейнику.
— Да-а, вполне, — ответил тот, рассматривая четкий, скупой набросок.
— Прекрасно. Свинчивается эта штуковина из алюминиевых трубок. Здесь, — показал он карандашом, — один стержень приклада, здесь — другой. Затыльник в открытую соединяет эти две трубки, вот так. То есть выполняет двойное назначение. В этой, — он перевел карандаш, и глаза бельгийца изумленно расширились, — в самой толстой трубке помещается казенная часть с затвором, наглухо соединенная со стволом. Раз есть оптический прицел, значит, без мушки и прицельной планки. Две последние секции — эта и эта — содержат прицел и глушитель. Патроны заделываются вот сюда, в наконечник. В собранном виде все должно выглядеть натурально и не вызывать ни малейших подозрений, а целиком вмещать винтовку с амуницией. О'кей?
Коротышка-бельгиец еще несколько секунд изучал чертеж.
— Сударь, — почтительно сказал он, — это гениально просто. Комар носу не подточит. Будет сделано.
Англичанин остался невозмутим.
— Вот и хорошо, — сказал он. — Теперь к вопросу о времени. За две недели управитесь?
— Да. Ружье будет куплено дня через три. Еще неделю я буду над ним работать. Оптический прицел достать нетрудно, я подберу вам какой нужно для стрельбы со ста тридцати метров. А уж разметите его вы сами. Глушитель, патроны, упаковка… да, двух недель мне хватит, если не мешкать. Но все же хорошо бы вы явились за день-два до срока, вдруг понадобятся какие-нибудь доделки. Через двенадцать дней сможете?
— Через неделю и далее я в вашем распоряжении. Но четырнадцать дней — крайний срок, четвертого августа мне нужно быть в Лондоне.
— Четвертого утром абсолютно все будет готово, если вы явитесь первого; мы соберем винтовку и обсудим последние мелочи.
— Договорились. Осталось прикинуть, во что это вам обойдется и сколько вы с меня запросите. Или пока не знаете?
Бельгиец немного подумал.
— За всю работу, с учетом ее особой специфики и требуемой квалификации, я по совести не могу запросить меньше тысячи английских фунтов. Это, конечно, непомерно дорого за обычную винтовку, но ваша-то — не обычная, а произведение искусства. Я думаю, во всей Европе, кроме меня, не найдется мастера, который сумеет в точности выполнить ваш заказ, воздать ему должное. В своем деле, сударь, как и вы в своем, я — специалист экстра-класса, а за это — плата особая. Плюс к ней — цена покупного ружья, патронов, прицела, ну и прочие затраты… скажем, еще двести фунтов.
— Идет, — сказал англичанин, и не подумав торговаться. Из того же внутреннего кармана пиджака он вынул стопку пятифунтовых бумажек в пачках по двадцать штук и отсчитал пять пачек.
— Если вы не против, — ровным голосом продолжал он, — то я выплачу вам пятьсот фунтов задатка для пущей верности и на покрытие расходов. Остальные семьсот получите через одиннадцать дней. Устраивает?
— Сударь, — поклонился бельгиец, упрятывая деньги в карман, — приятно иметь дело с настоящим специалистом и неподдельным джентльменом.
— И вот еще что, — сказал заказчик, пропустив комплимент мимо ушей. — Не вздумайте наводить обо мне справки у Луи или еще у кого-нибудь. Не пытайтесь выяснить, кто мой наниматель и кто будет моей жертвой. Если вздумаете и попытаетесь, я непременно об этом узнаю и убью вас, равно как и в том случае, если вы свяжетесь с полицией или попробуете меня шантажировать. Понятно?
Гоосенс огорчился. Стоя в дверях кабинета, он поднял глаза на белокурого англичанина, и мороз пробежал у него по коже. На своем веку он навидался матерых бельгийских уголовников — изготовлял для них какое-нибудь особое, необычное оружие либо доставал обыкновенные тупорылые кольты. Опасный народ, что и говорить, но перед этим — сущие дети. Гость из-за Ла-Манша, который намеревался подстрелить какую-то важную, недосягаемую персону — не главаря бандитской шайки, а птицу куда покрупней, наверно, политика, — был не просто опасен, а холоден и неумолим, как сама смерть. И бельгиец, подумав, не стал ни возмущаться, ни протестовать.
— Сударь, — спокойно сказал он, — мне совершенно незачем узнавать про вас что бы то ни было. Я сотру серийный номер на вашей винтовке. Для меня всего важнее замести собственные следы, а кто вы такой — что мне за дело? Всего доброго, сударь.
Шакал вышел на солнечную улицу, через два квартала остановил такси и поехал к центру города, в отель «Амиго».
Он не сомневался, что у Гоосенса есть на примете изготовитель поддельных документов, но предпочел подыскать такового на свой вкус. И опять помог Луи из Катанги: правда, не слишком утруждаясь. Мошенничество этого рода издавна процветает в Брюсселе, и многим иностранцам очень нравилось, что тут можно обзавестись подложными паспортами без лишних проволочек. А в начале шестидесятых Брюссель стал центром вербовки конголезских наемников: французы, южноафриканцы и англичане завладели этим поприщем позднее. После крушения режима Чомбе больше трехсот «военных советников» остались без работы и околачивались по барам в кварталах, озаренных красными фонарями; чего-чего, а фальшивых документов у них хватало.
Луи устроил Шакалу встречу с нужным человеком в баре на улице Нев. Они уединились в углу, а Шакал достал свои собственные водительские права, выданные два года назад Советом Лондонского графства и действительные еще несколько месяцев.
— Владельца этого документа, — сказал он, — нет в живых. А у меня права надолго отобраны — и нужно, чтобы здесь, на первой страничке, было мое имя.
Он положил на стол паспорт на имя Дуггана.
Бельгиец сперва взял в руки новенький паспорт, отметил про себя, что он выдан три дня назад, и понимающе посмотрел на англичанина.
— En effet,[20] — пробормотал он и раскрыл маленькое красное водительское удостоверение. Через несколько минут он поднял глаза.
— Это проще простого, сударь. Джентльмены, которые удостоверение выдали, видно, гнушаются мыслью, что документы можно подделывать. Такую бумажонку, — он шевельнул листок с номером и фамилией, наклеенный на первой страничке удостоверения, — ребенок отпечатает. Водяной знак обычный. Словом, безделица. И это все?
— Нет, нужны еще два документа.
— Ага, ага. А то вы меня, признаться, даже удивили: что, думаю, за черт, неужто в Лондоне ему это за час-другой не спроворят? Еще два, говорите? Какие?
Шакал дал подробные объяснения. Бельгиец задумчиво сощурился, достал пачку «Бастос», предложил сигарету собеседнику — тот покачал головой — и закурил.
— Это сложнее. Ладно еще французское удостоверение личности — их тут сколько хочешь, только руку протяни. Чтоб как следует получилось, надо, сами понимаете, держать образец перед глазами. А с другим хуже: я, пожалуй что, такого и не видывал. Редкостный документик.
Шакал подозвал официанта; тот наполнил стаканы и удалился. Бельгиец продолжал:
— Да еще с фотографией, вот какое дело. Сами говорите — и возраст не ваш, и рост не тот, и цвет волос другой. Обычно-то фальшивый документ нужен с правильной фотографией, и данные подделываются. А тут нужна ваша фотография, где вы не в своем виде, — это голову сломишь.
Он отпил полстакана пива, разглядывая англичанина.
— Надо, стало быть, отыскать человека, подходящего по возрасту, какой значится в документе, и более или менее похожего на вас, хотя бы с лица и посадкой головы; обстричь его, как вам требуется, сфотографировать — а уж потом вы, наоборот, как хотите, так и старайтесь походить на его фотографию в документах. Я понятно говорю?
— Понятно, — отозвался Шакал.
— Тут враз не управишься. А вы долго пробудете в Брюсселе?
— Нет, — сказал Шакал. — Не сегодня-завтра уеду, но к первому августа вернусь и пробуду здесь дня три. Четвертого мне нужно быть в Лондоне.
Бельгиец еще немного подумал, глядя на фотографию в паспорте. Потом извлек из кармана клочок бумаги, записал на нем: «Александр Джеймс Квентин Дугган», спрятал бумажку и водительские права, а паспорт закрыл и протянул англичанину.
— Ладно, сделаем. Только нужна ваша хорошая, портретная фотография — анфас и в профиль. Да, времени я на это порядком ухлопаю, и деньги изрядные понадобятся… вы еще учтите, что, может, придется мне съездить с приятелем-карманником во Францию за образчиком второго документа. Конечно, сперва-то я его попробую раздобыть в Брюсселе, но как бы не пришлось…
— Сколько? — перебил его англичанин.
— Двадцать тысяч бельгийских франков.
— То есть… скажем, сто пятьдесят фунтов. Идет. Сто фунтов в задаток, остальные при расчете.
Бельгиец поднялся.
— Что ж, поедемте ко мне в ателье, сделаем портретные снимки.
Они проехали милю с лишним и вылезли из такси у невзрачного, замызганного здания, в полуподвальном этаже которого помещалась фотостудия с жалкой вывеской, гласившей, что здесь изготовляются в присутствии клиентов снимки на паспорт. Грязноватую витрину, само собой, украшали на радость прохожим былые шедевры мастера: два безобразно отретушированных портрета жеманящихся девиц, гадкое свадебное фото, внушающее отвращение к браку, и два снимка грудных младенцев. Бельгиец спустился по ступенькам, отпер двери и пригласил гостя.
За последующие два часа он выказал такие сноровку и вкус, какие автору выставленных портретов наверняка и во сне не снились. Из огромного сундука в углу были извлечены изумительные фотокамеры и всевозможная аппаратура, а также множество актерских принадлежностей, краски, кремы, парики, накладки, очки всех фасонов и коробки с гримом.
Посреди сеанса его осенило: может, вовсе и не надо подыскивать дублера? Он гримировал Шакала уже добрых полчаса; отступил, оглядел его — и вдруг, порывшись в сундуке, вытащил оттуда еще один парик.
— Посмотрите-ка, — предложил он.
Парик был седой, стрижка бобриком.
— Вам не кажется, что если ваши волосы остричь и покрасить, будет один к одному?
Шакал взял парик и осмотрел его.
— Попробуем, поглядим, что получится на снимке, — сказал он.
Получилось то, что нужно. Бельгиец сделал шесть снимков, скрылся в лаборатории и через полчаса появился оттуда с кипой фотографий. Они склонились над столом, рассматривая лицо усталого, пожилого человека. Лицо было землисто-серое, под глазами тени, следы утомления и недугов. Безбородый, безусый и седой человек выглядел на свои пятьдесят с лишком и здоровьем, видно, не отличался.
— Пожалуй, сойдет, — наконец сказал бельгиец.
— Однако же, — отозвался Шакал, — вы меня гримировали с полчаса, и я был в парике. Сам я так не сумею. К тому же снимок сделан в помещении, с подсветкой, а предъявлять документы я буду на улице.
— Ну и что с того? — возразил бельгиец. — Не вам надо быть похожим на фотографию, а фотографии похожей на вас. Ведь как проверяют документы? Смотрят в лицо, потом просят их предъявить. Видят фотографию — а лицо уже запечатлелось. Зрительный снимок накладывается на фотографический, причем проявляется сходство, а не разница. Чего ищут, то и находят.
Это первое, а второе — что перед нами фото двадцать пять на двадцать. Перед ними будет карточка в удостоверении: три на четыре. И третье — надо, чтоб фотография была не слишком похожа; удостоверение-то не вчера выдано, а несколько лет назад, человек с тех пор изменился. Вы здесь в полосатой рубашке с отложным воротом: больше ее не носите и вообще не открывайте горло — наденьте галстук, там, кашне или водолазку.
Ну, и последнее: не так уж я вас и загримировал, справитесь. Тут главное — волосы; подстригитесь бобриком, покрасьте их седее, чем на фотографии, не бойтесь перестараться. Чтоб выглядеть старше и жальче, дня за два-три отрастите щетину, а потом кое-как побрейтесь тупым лезвием, да еще порежьтесь разок-другой и порезы заклейте, так это по-стариковски. Вот цвет лица — это существенно, лицо должно быть серое, болезненное, с восковым оттенком. Кордиту немного сможете раздобыть?
Шакал слушал очень внимательно, с затаенным восхищением. Второй раз на дню он встретил настоящего специалиста, мастера своего дела. Не забыть потом отблагодарить Луи.
— Раздобуду.
— Два-три кусочка кордита разжуйте и проглотите, и через полчаса затошнит, голова закружится: очень противно, но выносимо. Физиономия становится серая, пот прошибает. Мы это в армии частенько проделывали, чтоб освободиться от учений или ноги поберечь.
— Спасибо, учту. Так как же — сделаете к сроку?
— Да за мной-то дело не станет, сделать можно. Лишь бы достать образец второго документа: вот тут надо расстараться. Но к первым числам августа, когда вы вернетесь, я думаю, все будет готово. Вы… э-э… упомянули о задатке на текущие расходы…
Шакал вынул из кармана пачечку пятифунтовых бумажек и вручил ее бельгийцу.
— Как мы с вами встретимся? — спросил он.
— Как и в этот раз.
— Ненадежно. Мой посредник к месту не привязан, может, его и в городе не будет. Тогда где я вас найду?
Бельгиец поразмыслил.
— Что ж, давайте я буду ждать вас первого — третьего августа с шести до семи вечера в том же баре. Если не придете, сделка расторгается.
Англичанин снял парик и протер лицо смоченным в спирту полотенцем, молча повязал галстук и надел пиджак. Затем он повернулся к бельгийцу.
— Хочу с вами кое о чем условиться, — спокойно сказал он, и ни малейшего дружелюбия не было ни в его голосе, ни в лице, а глаза его словно заволокло холодным океанским туманом. — Закончив работу, вы будете ждать меня в баре точно в назначенное время. Вы вернете мне права с новой вклейкой и листок, изъятый из них. Отдадите негативы и все отпечатки сделанных сегодня снимков. Вычеркнете из памяти фамилию Дугган и фамилию прежнего владельца водительских прав. Для двух французских документов подберите сами обычную и простую фамилию и, отдав эти документы мне, тут же ее забудьте. И никогда никому ни слова о наших с вами делах. Если вы нарушите любое из этих условий, я вас убью. Понятно?
Бельгиец глядел на него слегка ошарашенно. Он уж совсем было решил, что этот англичанин — обычный клиент, хочет ездить там у себя на машине, а во Франции — зачем-то выдавать себя за пожилого француза. Да контрабандист, наверно, переправляет откуда-нибудь из рыбачьего поселка в Бретани наркотики или бриллианты.
— Понятно, сударь.
Через несколько секунд англичанин скрылся в темноте. Он прошел кварталов пять, потом взял такси и приехал в «Амиго» к полуночи; заказал себе в номер холодного цыпленка и бутылку мозельского, принял ванну, тщательно смыв с лица остатки грима, и лег спать.
Наутро он расплатился в гостинице и успел на брабантский экспресс в Париж. Было 22 июля.
В это утро глава Аксьон сервис, сидя за своим рабочим столом, перечитывал два донесения из смежных отделов, отпечатанные на тонкой синеватой бумаге. Текст следовал за списком начальства СДЕКЕ, которому рассылались копии. Напротив его должности стояла галочка. Оба донесения были только что получены, и в другой раз полковник Роллан взглянул бы, в чем там дело, сведения отложились бы в его неимоверной памяти, а бумаги он разложил бы по разным папкам. Но в двух этих донесениях встретилась одна и та же фамилия, и Роллан насторожился.
Из Р-3 (Западная Европа) прислали откомментированный конспект докладной римского резидента: немудрящее сообщение о том, что Роден, Монклер и Кассон пребывают на верхнем этаже гостиницы, их по-прежнему охраняют восемь человек. На улице никто из троих не показывался со дня вселения (18 июня). Р-3 направил в Рим подкрепление, дабы установить круглосуточный надзор. Инструкции прежние: ничего не предпринимать, продолжать наблюдение. Затворники поддерживают регулярную связь с внешним миром по-заведенному (см. сообщение Р-3 от 30 июня). Связной все тот же Виктор Ковальский. Конец.
Полковник Роллан полистал бежевую подшивку, лежавшую справа, возле спиленной гильзы 105-мм снаряда — вместительной пепельницы, которую в этот утренний час уже наполовину заполнили окурки сигарет «Диск Бле». В сообщении Р-3 от 30 июня говорилось, что каждый день один из охранников ходит на главный римский почтамт и забирает там корреспонденцию до востребования на имя Пуатье, хранящуюся — из понятной предосторожности — не в запертой абонементной секции, а в конторке почтового служащего. Агент Р-3 пытался его подкупить, но безуспешно: тот доложил по начальству и был заменен старшим по должности, которого также подкупить не удалось. Не исключено, что итальянская Тайная полиция эту корреспонденцию просматривает, но Р-3 имеет предписание не искать сотрудничества с итальянцами.
Ежеутренне за корреспонденцией является некто Виктор Ковальский, бывший капрал Иностранного легиона, служивший в роте Родена в Индокитае. По-видимому, у него есть поддельный документ на имя Пуатье или соответствующая доверенность. Отправляя письма, Ковальский опускает их в почтовый ящик главного зала за пять минут до выемки, затем дожидается, пока ящик опустошат и всю корреспонденцию отнесут на сортировку. Таким образом, перехватить поступающую или отправляемую корреспонденцию главарей ОАС возможно лишь ценою вооруженного столкновения, каковое, согласно инструкциям из Парижа, категорически воспрещается. Иногда Ковальский звонит по международному телефону, но ни засечь номер, ни подслушать разговор ни разу не удалось. Конец.
Полковник Роллан закрыл подшивку и перечитал второе утреннее донесение. Из Меца сообщали, что во время обхода в баре был задержан неизвестный, который отказался отвечать на вопросы и в последовавшей стычке нанес тяжелые увечья двум полицейским. Как выяснилось по оттискам пальцев, это — дезертир из Иностранного легиона Шандор Ковач, венгр по национальности, бежал из Будапешта в 1956 году. Примечание парижского полицейского управления: Ковач — известный оасовский боевик, разыскивается как участник террористических акций против правительственных служащих, в Боне и Константине (Алжир) в 1961 году, совершенных им совместно с другим оасовцем, пребывающим на свободе, бывшим капралом Иностранного легиона Виктором Ковальским. Конец.
Роллан еще поразмыслил все о том же, о чем думал целый час: что за люди эти двое и насколько тесно они были связаны.
Наконец он нажал переговорную клавишу, и послышалось:
— Досье на Виктора Ковальского, срочно.
Досье принесли из архива через десять минут, и около часу Роллан читал и перечитывал его, один абзац в особенности. Настало обеденное время, и тротуар под окном заполонили торопливые, деловито-беззаботные парижане; между тем полковник вызвал к себе на совещание секретаря, специалиста-графолога из отдела документации и двух дюжих молодцов из своей личной охраны.
— Господа, — объявил он, — от имени и без ведома отсутствующего здесь лица мы с вами сейчас сочиним, напишем и отправим одно письмо.
5
К обеденному часу брабантский экспресс прибыл на Северный вокзал, и такси доставило Шакала в небольшую, но очень удобную гостиницу на улице Сюрень, невдалеке от площади Мадлен. Конечно, никакого сравнения с копенгагенским «Англетером» или брюссельским «Амиго», но Шакал недаром выбрал пристанище поскромней. Во-первых, в Париже он собирался пробыть куда дольше, чем в Копенгагене и Брюсселе, а во-вторых, здесь недолго и натолкнуться на случайного лондонского знакомого — время летнее, июль. На улице он этого не слишком опасался, незаметный и почти неузнаваемый в своих темных очках. Зато в гостинице — в коридоре или вестибюле — очень даже мог бы весьма некстати прозвучать веселый возглас: «Кого я вижу!» — а затем и фамилия на слуху у какого-нибудь служителя, знающего его как мистера Дуггана.
Был он, правда, вовсе не примечателен. Жил тише тихого, булочки и кофе на завтрак приносили ему в номер. В кондитерской напротив он купил банку английского мармелада и попросил горничную, чтобы утром вместо черносмородинного джема ему подавали мармелад.
С прислугой он был ровен и учтив, по-французски выговаривал всего несколько фраз с жутким английским акцентом и вежливо улыбался, когда к нему обращались. А если его спрашивали, нет ли у него жалоб и всем ли он доволен, он отвечал, что как нельзя более, спасибо.
— Господин Дюган, — сказала как-то дежурному хозяйка гостиницы, — est extremement gentil. Un vrai[21] джентльмен.
Дежурный был более чем согласен.
И вел он себя как самый обычный турист: в первый же день купил подробный план Парижа и, сверяясь с записной книжкой, пометил крестиками интересующие его места. Затем обходил их и осматривал — очень досконально, обращая внимание на архитектурные красоты и держа в памяти исторические события.
Три дня он то бродил вокруг Триумфальной арки, то сидел на террасе «Елисейского кафе» и обозревал арку и крыши высоких домов, окружающих площадь Звезды. Если бы кто-нибудь следил за ним в эти дни (а за ним никто не следил), то сильно бы удивился, что архитектурные роскошества барона Османа[22] нашли столь преданного ценителя. И уж конечно, никто бы не догадался, что этот спокойный, элегантный английский турист, который, помешивая кофе, часами любовался на окрестные здания, на самом-то деле соображал, под каким углом откуда придется стрелять, вымерял глазом расстояние от верхних этажей до Вечного огня, полыхавшего под Триумфальной аркой, прикидывал, насколько возможно будет спуститься пожарной лестницей и смешаться с толпой.
На четвертый день он отправился в Монвалерьен, к усыпальнице мучеников Сопротивления. Приехал он туда с букетом цветов, и гид, тронутый этим знаком внимания со стороны чужестранца к своим былым соратникам, всюду его провел и все показал, не замечая, разумеется, что посетитель переводит взгляд с ворот усыпальницы на высокие тюремные стены, заслоняющие обзор дворика с крыш соседних зданий. После двухчасовой экскурсии он очень вежливо поблагодарил гида, в меру щедро вознаградил его за труды и удалился.
Посетил он и площадь Инвалидов, которую с юга замыкает Дом инвалидов с гробницей Наполеона и музеем славы французской армии. Особенно заинтересовала его западная сторона огромной площади: целое утро он просидел в кафе на крохотной треугольной площади Сантьяго-де-Чили, перекрестке улиц Фавер и Гренель. Дом 146 по Гренель высился у него над головой, и оттуда, с седьмого-восьмого этажа, наверняка простреливались и палисадник Дома инвалидов, и почти вся площадь, и еще две-три улицы. Очень удобно обороняться, а убивать президента — не очень. Во-первых, до нижних ступеней лестницы, возле которой, между двумя танками на постаментах, будут останавливаться машины и откуда посыпанная гравием дорожка ведет к музею, — больше двухсот метров. Во-вторых, обзору из окон дома 146 мешают пышные кроны лип на площади Сантьяго, вокруг памятника маршалу Вобану в беловатых струпьях голубиного помета. Что ж, нет так нет; Шакал заплатил за свой аперитив и отправился дальше.
Еще день он расхаживал вокруг собора Парижской богоматери. Ни дать ни взять муравейник, сколько угодно задних лестниц, ходов и выходов, проходных дворов и т. п., но от подножия ступеней до входа в храм — лишь несколько шагов, крыши зданий на площади Парви — слишком далеко, а на малюсенькой площади Шарлемань — чересчур близко, уж за ними-то служба безопасности уследит.
И наконец 28 июля он появился на площади в южном конце улицы Ренн. Раньше площадь с улицей назывались одинаково, но голлистский муниципалитет присвоил площади имя 18 Июня. Шакал глядел на сверкающую табличку с новым названием, припоминая прочитанное. 18 июня 1940 года одинокий и горделивый лондонский изгнанник обратился к соотечественникам-французам по радио с благой вестью, что проиграть битву не значит проиграть войну.
В этой площади, заставленной с юга приземистой громадой Монпарнасского вокзала, столь памятной парижанам военного поколения, что-то было, что-то такое, отчего убийца застыл на месте, озирая асфальтовый простор, по которому с бульвара Монпарнас катилась лавина машин, а в нее вливались потоки с улиц Одессы и Ренн.
Искоса глядели на площадь окна высоких, узких домов по обе стороны улицы Ренн. Он вкруговую подошел к привокзальной ограде, за которой сновали машины, подвозя и увозя пригородных пассажиров, десятки тысяч человек в сутки. Под закопченными стальными сводами огромного здания, свидетеля истории страны и несчетных людских судеб, к зиме воцарится стылая тишина. А в 1964 году его должны снести: за пятьсот ярдов по линии строился новый вокзал.
Шакал повернулся спиной к ограде: перед ним простиралась площадь 18 Июня, а за нею тянулась вдаль оживленная улица Ренн. Он был убежден, что президент Франции непременно явится здесь в оный день, в назначенный час, последний раз в своей жизни. Явится, наверно, и в других местах, осмотренных за неделю, но уж здесь-то обязательно. Монпарнасского вокзала скоро не станет, его видавшие виды колонны переплавят на дешевые изгороди, а привокзальная площадь, где некогда был унижен Берлин и воспрянул Париж, превратится в заурядный городской кафетерий. Но до этого здесь все-таки появится еще раз человек в кепи, с двумя золотыми звездами на груди. А расстояние от верхнего этажа углового дома на западной стороне улицы Ренн до середины привокзальной площади примерно сто тридцать метров.
Шакал оценивал позицию опытным взглядом. Оба угловых дома само собой годятся. Годятся, пожалуй, и три первых дома с той и с другой стороны улицы Ренн, угол обстрела допустимый. Дальше — нет, дальше угол чересчур сужается. Еще годятся три дома на бульваре Монпарнас, пересекающем площадь с востока на запад, и все, дальше дистанция велика, а угол совсем узкий. Все остальные здания далеко от привокзальной площади, разве что сам вокзал — но это смешно и думать, верхние служебные помещения окнами на площадь займут охранники. Шакал решил сперва присмотреться поближе к трем домам на западной стороне улицы Ренн и не спеша направился к ее противоположному углу, в «Кафе герцогини Анны».
Он уселся на террасе за несколько футов от проносящихся машин, заказал кофе и стал разглядывать дома напротив. Так он просидел часа три, пересек улицу и пообедал в «Ансьен Брассери Альзасьен», откуда были отлично видны все три здания на восточной стороне. Потом прогуливался взад-вперед по улице, мимо парадных шести облюбованных домов.
Сходил он и на бульвар Монпарнас, но тамошние здания — сравнительно новые — оказались учрежденческими, к ним почти что не было подступа.
На другой день он опять расхаживал по улице Ренн и сидел на тротуарных скамеечках под деревьями, поверх газеты обозревая верхние этажи. Шести-семиэтажные дома, за парапетами — высокие, крутые крыши, черная черепица и окошечки мансард, где когда-то обитала прислуга, а теперь — жильцы победнее. И крыши, мансарды будут, конечно, под особым наблюдением. Возле труб-то, наверно, и пристроятся наблюдатели — следить в бинокли за крышами и окнами напротив. Но и верхний этаж тоже по высоте подходит, а в комнате надо сесть подальше от окна, чтоб не увидели через улицу. Окно будет распахнуто — но в жаркий, душный летний день это никого не удивит.
Чем дальше, однако, от окна, тем неудобнее будет стрелять по привокзальной площади — в сторону и вниз. И Шакал счеркнул оба третьих дома, с той и с другой стороны улицы Ренн. Совсем косой выйдет угол обстрела.
Осталось по два — там и там. А стрелять, верно, придется часа в три, в четыре, когда солнце уже клонится к западу, но за крышей вокзала еще не скроется и будет светить в окна на правой стороне, бить в самые глаза, и, стало быть, надо ориентироваться на два дома слева. Для проверки он дождался четырех часов (было 29 июля) и заметил, что верхние этажи западной стороны едва-едва задевают косые лучи, а стекла на восточной так и сверкают.
На следующий лень он наблюдал консьержку — то с террасы кафе, то со скамеечки в нескольких шагах от парадного. Он сидел вполоборота, по тротуару без конца спешили прохожие, а она устроилась у дверей вязать. Из ближнего кафе к ней подошел поболтать официант и назвал ее мадам Бертой. Умилительная сценка. День был теплый, яркие лучи солнца, стоявшего высоко в небе за площадью, над крышей вокзала, проникали в темный подъезд.
Приветливая и добродушная, она щебетала входящим: «Bonjour, monsieur»,[23] а те весело отвечали: «Bonjour, madame Berthe»,[24] и наблюдатель на скамейке за двадцать футов правильно рассудил, что ее здесь любят. Ласковая бабуся, всякого несчастного пригреет. В третьем часу откуда ни возьмись объявился блудный кот, и мадам Берта сразу же нырнула в свою каморку и вынесла блюдечко с молоком. Кот у нее назывался Котенышем.
Около четырех она свернула вязанье, прибрала его в объемистый карман фартука и, не переодевая шлепанцев, отправилась в булочную. Шакал встал со скамейки, неспешно проследовал в парадное — и ринулся вверх в обход лифта. Через каждый этаж дверь с промежуточной площадки вела к пожарной лестнице, и перед седьмым, верхним этажом (выше были мансарды) он отворил такую дверь и выглянул во двор. Со всех сторон возвышались задние стены домов; в дальнем, северном конце виднелся узкий крытый проход, должно быть, сквозной.
Шакал тихо притворил дверь, закрыл задвижку и поднялся на седьмой этаж. Убогая лесенка вела с площадки к мансардам, а две коридорные двери — к двум парам квартир, на улицу и во двор. Которые на улицу, те обе — и тут ошибки быть не могло, не зря он столько гулял возле дома — смотрят одним окном вниз, на улицу Ренн, другим — наискось, на привокзальную площадь.
Таблички у звонков гласили: «Мадемуазель Беранже» и «Господин и госпожа Шарье». Он прислушался; в обеих квартирах стояла тишина — и осмотрел замки, глубоко врезанные, надежные, массивные. Наверняка и запираются на два оборота, а язычок — что твой засов, французы это любят. Да, без ключей тут, видно, не обойтись, а запасные ключи непременно есть у мадам Берты в каморке.
Шакал провел в доме минут пять; бесшумно сбежав по лестницам, он покосился на силуэт консьержки — вернулась — за матовым стеклом и быстрым шагом вышел из парадного.
Он пошел налево, миновал два жилых дома, потом почтовое отделение и свернул на улицу Литтё. За углом почты обнаружился узкий крытый проход. Шакал остановился и, закуривая сигарету, скосил глаза. Слева виднелся служебный вход — наверно, для телефонисток ночной смены, — а в конце туннеля — залитый солнцем двор и нижние перекладины пожарной лестницы, той самой. Что ж, теперь было ясно, как удалиться с места происшествия.
Он опять-таки свернул налево, на улицу Вожирар, и на бульваре Монпарнас огляделся в поисках такси, но тут на перекресток вылетел и тормознул полисмен-мотоциклист. Он выскочил из седла и засвистел во всю мочь, перекрывая движение по улице Вожирар и бульвару от вокзала. Встречный поток он отвел направо, и едва все машины застыли, как от Дюрока послышался вой полицейских сирен. Кортеж вынырнул ярдов за пятьсот от Шакала и понесся к нему. Впереди, отчаянно завывая, мчались два мотоциклиста в черной коже и сверкающих белых шлемах; за ними появились акульи пасти двух «ситроенов». Полицейский, стоявший к Шакалу спиной, выбросил левую руку в сторону авеню Мэн, а правую, согнутую в локте, держал у груди ладонью вниз, и, повинуясь его указанию, подались вправо мотоциклы, а за ними и лимузины; в первом из них, за шофером и адъютантом, сидел, выпрямив спину и глядя перед собой, высокий человек в костюме маренго. Промелькнул задранный подбородок и всемирно известный нос. «В следующий раз, — проводил его взглядом убийца, — ты мне будешь отлично виден через оптический прицел». И, усаживаясь в такси, назвал адрес гостиницы.
А из метро на станции Дюрок вышла женщина, у которой проезд президента тоже вызвал особый интерес. Она ступила на пешеходную дорожку, но полицейский жестом отослал ее обратно на тротуар. Через несколько секунд мотоциклисты и машины промчались мимо нее с бульвара Инвалидов на бульвар Монпарнас, она увидела отчетливый надменный профиль, и глаза ее вспыхнули. Кортеж уже скрылся, а она все смотрела ему вслед; потом заметила, что полицейский ее оглядывает, встрепенулась и пошла своей дорогой.
Жаклин Дюма шел двадцать седьмой год, она блистала красотой — недаром же работала в фешенебельном косметическом салоне за Елисейскими полями. 30 июля под вечер она торопилась к себе в квартирку на площади Бретей. А оттуда на свидание — через несколько часов ей придется ублажать своим телом ненавистного любовника, и надо быть как можно обольстительней.
За несколько лет до этого она только и думала, что о каком-нибудь предстоящем свидании. Семья у нее была на зависть: папа — уважаемый служащий крупного банка, мама — ласковая и образцовая хозяйка дома, настоящая французская maman; она, Жаклин, училась на косметических курсах, Жан-Клод отбывал воинскую повинность. Жили они, положим, далековато, не в самом лучшем предместье Ле-Весине, однако же в прелестном домике.
Однажды за завтраком, в конце 1959 года, им принесли телеграмму из министерства вооруженных сил. Министр с глубоким прискорбием оповещал господина и госпожу Арман Дюма о гибели их сына Жан-Клода, рядового Первого колониального парашютно-десантного полка. Его личные вещи будут возвращены семье при первой же возможности.
Мирок, в котором жила Жаклин, распался. Все потеряло смысл: и домашний уют в Ле-Весине, и болтовня подружек в салоне о том, какая душка Ив Монтан или что за сногсшибательный танец рок-н-ролл придумали в Америке. Она думала и думала, как это так, что ее милого и любимого братика Жан-Клода, тихого, задумчивого и вежливого, ненавидевшего не то что войну, но всякую грубость, с головой уходившего в книги, и вообще мальчишку, которого она баловала и портила, — застрелили где-то в Алжире, в какой-то дурацкой пустыне. И в душе у нее проснулась ненависть — ненависть к арабам, мерзким, грязным, трусливым убийцам.
А потом приехал Франсуа. Он появился зимним утром в воскресенье, папы с мамой не было, они уехали к родственникам. Стоял декабрь, улицы в снегу, и снег хрустел на садовой тропинке. Все были какие-то бледные, задерганные, а Франсуа — загорелый и бодрый. Он спросил мадемуазель Жаклин, она сказала: с'est moi[25] и что вам угодно? Он сказал, что он — командир взвода, в котором служил рядовой Жан-Клод Дюма, погибший в бою; он привез его неотправленное письмо. Она пригласила его в дом.
Письмо Жан-Клода было написано за несколько недель до смерти, до того как его в составе патруля отправили на розыски банды феллахов, перебивших семью колонистов. Банду они не разыскали, а сами напоролись на батальон АЛН, воинских подразделений Фронта национального освобождения. Под утро, еще в полутьме, завязалась ожесточенная перестрелка, и пуля угодила Жан-Клоду в легкие. Перед смертью он вытащил письмо из нагрудного кармана и отдал его командиру взвода.
Жаклин прочла письмо и всплакнула. В письме ничего не было о последних неделях: так, шуточки насчет казарменной муштры в Константине, насчет, черт бы его взял, боевого обучения, насчет дисциплины. А как было дело, рассказал Франсуа: как они отступали, отстреливаясь, четыре с лишним мили, а алжирцы их понемногу окружали, как они дозвались наконец своих по рации и в восемь утра подоспела помощь, как ревели самолеты-штурмовики и взрывались ракеты.
И как ее брат, который нарочно попросился в самый боевой полк, чтобы доказать самому себе, что он — настоящий мужчина, погиб смертью храбрых, захлебываясь кровью в расселине, на коленях у капрала.
Франсуа обращался с нею очень бережно. Вообще-то он был тверже той жесткой, сухой алжирской земли, в боях за которую в четыре года обучился солдатскому ремеслу. Но с сестрою своего погибшего рядового он обращался очень бережно. Это ее тронуло, и она согласилась пообедать с ним в Париже. К тому же она опасалась, что вот-вот нагрянут родители и застанут его. Она не хотела, чтобы они услышали, как погиб Жан-Клод; все-таки прошло уже два месяца, они понемногу успокоились и зажили по-прежнему, а тут… За обедом она упросила его ничего им не рассказывать, и он дал слово.
Зато сама она хотела знать все-все об этой алжирской войне, о том, что и как было на самом деле, за что воюют, почему так юлят политики. Как раз в январе генерал де Голль на волне патриотического подъема под залог негласного обещания кончить войну и отстоять французский Алжир стал из премьера президентом. И от Франсуа она впервые услышала, что человек, которого ее отец обожал, — предатель родины.
Весь его отпуск они встречались каждый вечер; он ждал ее у салона, где она работала с января 1960-го, закончив курсы. Он рассказывал ей о том, как предают французскую армию, как парижские мерзавцы тайком ведут переговоры с заключенным главарем ФНО Ахмедом Бен Беллой, как Алжир готовятся отдать туземцам.
Весной 1961-го Франсуа приехал в свой последний отпуск, и, когда они прогуливались по бульварам, он в форме, а она в нарядном платье, она думала, что во всем Париже нет никого сильнее, смелее, красивее его. Кто-то из ее подружек их видел, и на следующий день в салоне все толковали о новом кавалере Жаки, да еще каком — красавце парашютисте. Ее при этом не было: она взяла отпуск, чтобы не разлучаться с ним ни на минуту.
Франсуа был радостно возбужден: в воздухе чувствовались перемены. Преступный сговор с ФНО стал секретом полишинеля — и армия, настоящая армия, подобных сделок за ее спиной не потерпит. Алжир останется французским: в это свято верили и закаленный в боях двадцатисемилетний офицер, и его двадцатитрехлетняя возлюбленная, носившая под сердцем его ребенка.
Впрочем, о ребенке Франсуа не узнал. Он вернулся в Алжир в марте 1961 года; 21 апреля разразился военный мятеж, в котором Первый колониальный парашютно-десантный полк участвовал почти целиком; лишь горстка новобранцев улизнула из казарм и явилась, как призывали, в префектуру. Ветераны им не препятствовали. Через неделю между мятежниками и лояльными войсками начались бои, и в первых числах мая Франсуа был убит.
Жаклин с апреля ждала от него писем и только в июле узнала о его смерти. Не выказывая особого волнения, она сняла дешевую квартирку в предместье, заперла двери и включила газ. Отравиться она не отравилась — квартира была как решето, — но выкидыш случился. В августе родители повезли ее с собой отдыхать, и вернулась она как будто поздоровевшая. В декабре она стала активной подпольщицей ОАС.
Побуждения у нее были самые простые: за Франсуа и Жан-Клода надо мстить, мстить и мстить — любой ценой, не щадя себя и никого на свете. Никаких других побуждений у нее не осталось. Жаловалась она только на то, что ей поручают все какие-то пустяки: с кем-то снестись, что-нибудь передать и редко-редко оставить где-нибудь в хозяйственной сумке кирпич взрывчатки. Она была убеждена, что годится на большее. Ведь шпики, которым из-за постоянных взрывов в кафе и кинотеатрах велено было обыскивать подозрительные сумки у прохожих, ее никогда не обыскивали, стоило ей только состроить глазки или надуть губки.
После пти-кламарского покушения один из незадачливых убийц трое суток прятался у нее в квартире на площади Бретей. Этим она гордилась, но как это было недолго! Через месяц он попался, но ее не выдал — может быть, просто забыл о ней. И все же на всякий случай старший группы на несколько месяцев освободил ее от поручений и снова привлек лишь в январе 1963 года.
А в июле старший явился к ней с незнакомцем, с которым обращался весьма почтительно, но имени не называл. Тот спросил, готова ли она выполнить особое задание организации. Разумеется. Может быть, опасное, крайне неприятное? Не имеет значения.
Через три дня ей показали из машины человека, объяснили, кто он такой и что от нее требуется.
В середине июля они как бы случайно познакомились в ресторане: Жаклин попросила соседа за столиком передать ей солонку и робко улыбнулась. Тот заговорил с ней, она отвечала скромно, сдержанно. Расчет был верен: его пленила ее застенчивая прелесть. Разговор продолжался, и она оказалась внимательной и благодарной слушательницей. Через пару недель, как только его жена с двумя детьми уехала на виллу в долину Луары, они стали любовниками.
Утром 31 июля Шакал поехал на Блошиный рынок с вместительной сумкой через плечо. Он долго бродил между рядами и купил засаленный черный берет, пару скособоченных туфель, изрядно поношенные брюки; наконец отыскалась и старая долгополая шинель. Ей бы, конечно, быть полегче, но шинель — одежда не летняя. Во Франции шинели шьют из шерстяной байки. Зато длинная, гораздо ниже колен, а это было главное.
Пробираясь к выходу, он заметил лоток с потускневшими медалями и купил целый набор, а к нему — книжицу-перечень французских боевых наград с выцветшими иллюстрациями и объяснительными подписями.
Неподалеку от гостиницы, в кафе на улице Руаяль, он слегка подкрепился, а в гостинице оплатил счет и упаковал вещи, причем рыночные покупки упрятал поглубже, на дно одного из своих двух презентабельных чемоданов. Справляясь с перечнем, он составил себе колодку медалей: за воинскую отвагу, за освобождение Франции и еще пять штук, подходящих для ветерана армии де Голля, участника боев за Бир-Хакейм, Ливию и Тунис, а также высадки в Нормандии, и нагрудный памятный знак воина Второй бронетанковой дивизии генерала Филиппа Леклерка.
Затем он пошел прогуляться по бульвару Мальзерб и порознь выбросил остальные медали и книжицу в урны на фонарных столбах. Дежурный в гостинице сообщил ему, что с Северного вокзала в 17.15 отходит на Брюссель удобнейший экспресс «Полярная звезда». В поезде Шакал отлично пообедал и к ночи прибыл в бельгийскую столицу.
6
На следующее утро в Рим пришло письмо, адресованное Виктору Ковальскому. Исполин-капрал возвращался с почты, и в вестибюле гостиницы его окликнул служитель:
— Signor, per favore…[26]
Он хмуро обернулся. Итальяшка был какой-то незнакомый, но чему тут удивляться: он их никогда не замечал и даже по сторонам не смотрел, проходя через вестибюль к лифту.
Черноглазый юноша опасливо подошел к Ковальскому с письмом в руке.
— Eina lettera, signore. Per il Signor Kowalski… non conosco questo signore… E forse un francese…[27]
Ковальский не понимал, чего он там тараторит, но смысл уловил и различил свою исковерканную фамилию. Он выхватил письмо из протянутой руки, посмотрел на фамилию и адрес. Жил он здесь под чужой фамилией, а газет не читал, и ему было невдомек, что пять дней назад в одной из парижских газет под броским заголовком сообщалось о главарях ОАС, засевших на верхнем этаже римской гостиницы.
Вроде бы некому было знать, где он сейчас находится. Однако же письма он получал нечасто и, как всякий простой человек, придавал им чрезвычайное значение. Похоже, этот итальянец, который смотрит на него собачьими глазами, будто он, Ковальский, как есть мудрец и сейчас все ему объяснит, — похоже, ни он и никто из них прочих не слыхал про такого постояльца и не знает, что делать с письмом.
Ковальский взглянул на него сверху вниз.
— Bon. Je vais demander,[28] — снизошел он. Но итальянец все таращился.
— Demander, demander,[29] — повторил Ковальский, показав пальцем на потолок. До итальянца дошло.
— Ah si. Domandare. Prego, signor. Tante grazie…[30]
Ковальский повернулся спиной к благодарному итальянцу и прошел к лифту. На восьмом этаже его встретил караульный с пистолетом наготове: секунду-другую они глядели друг на друга. Потом караульный щелкнул предохранителем и убрал пистолет в карман: увидел, что в лифте никого нет, кроме Ковальского. Так полагалось делать, заметив, что лифт идет выше седьмого этажа.
Другой караульный стоял в конце коридора у двери на пожарную лестницу, еще один — у входа в коридор. И пожарная, и обычная лестница были заминированы, хотя администрация об этом и не знала; а чтоб мины не взорвались, надо было выключить ток под столом у коридорного.
Четвертый охранник дневной смены дежурил на крыше, над девятым этажом, где жило начальство, а в случае чего в момент можно было поднять еще троих из ночной смены.
Дежурный отошел к столу и позвонил наверх, что почту принесли, и сделал знак Ковальскому. Бывший капрал уже спрятал свое письмо во внутренний карман, а почта для начальства была в стальном планшете, прикованном цепочкой к браслету на левой кисти Ковальского. Разомкнуть браслет и отпереть планшет мог только Роден — у него были ключи. Через несколько минут он это сделал, и Ковальский отправился в свой номер — отдыхать после ночной смены.
Вернувшись к себе на восьмой этаж, он наконец прочитал письмо, начиная с подписи. И удивился, что письмо от Ковача, которого он уж год как не видел и который писать умел еще хуже, чем Ковальский — читать. Но кое-как разобрал, благо письмо было короткое.
Ковач писал, что друг прочел ему из газеты, будто Роден, Монклер и Кассон прячутся в этой гостинице, в Риме, вот он и подумал, может, и старина Ковальский там же, вдруг да письмо дойдет.
Потом он жаловался, что во Франции проходу нет от шпиков, проверяют бумаги на каждом углу, а дома не посидишь — велят потрошить ювелиров. Он, Ковач, сделал четверых, но толку чуть — вся выручка идет дяде, не то что в Будапеште, вот где была пожива, хоть и всего две недели.
И под конец — что с месяц назад видел Мишеля, а Мишель разговаривал с Жожо, тот говорит, маленькая Сильвия хворает, какая-то у нее «легкония», что ли, в общем, чего-то с кровью, пустяки, наверно, скоро поправится, не бери в голову, Виктор.
Но Виктор взял в голову. Совсем это было ни к чему, чтобы маленькая Сильвия хворала. Вообще-то за свои тридцать шесть лет Виктор Ковальский давно отвык волноваться. Ему было двенадцать, когда немцы захватили Польшу, а через год после этого за родителями приехали в черном фургоне. В этом возрасте он уже понимал, чем занимается его сестра в гостинице за собором, где жили немецкие офицеры; родители его так от этого огорчились, что пошли жаловаться военному коменданту, вот их и увезли. Партизан его возраст тоже не смутил. Первого своего немца он убил в пятнадцать лет. Когда пришли русские, ему было семнадцать, и он хорошо помнил, что родители его русских ненавидели и боялись и много рассказывали, как русские обходятся с поляками. Виктор ушел от партизан — их потом комиссар велел всех расстрелять — и подался в Чехословакию, таясь, как зверь от охотников. В Австрии долговязый исхудалый юнец, полумертвый от голода и объяснявшийся на пальцах, попал в лагерь для перемещенных лиц: в первые послевоенные годы таких, как он, было пруд пруди. На американских харчах он отъелся и весенней ночью сбежал из лагеря — сначала в Италию, а оттуда во Францию, потому что его лагерный приятель-поляк говорил по-французски. В Марселе он вломился ночью в магазин, убил всполошившегося хозяина — и приятель посоветовал ему записаться от греха в Иностранный легион, пока полиция не словила.
За шесть лет в Индокитае он и думать забыл о нормальной человеческой жизни. Война кончилась, и его отправили в Алжир, только сперва на шесть месяцев в учебный лагерь под Марселем. В Марселе он познакомился с крохотулькой Жюли, шлюшонкой-уборщицей в припортовом кабаке. К Жюли настырно приставал ее «кот», и Ковальский одним ударом бросил его на шесть метров и отключил на десять часов. Очухаться-то он очухался, но слова стал выговаривать странно — плохо срослась раздробленная челюсть.
Жюли понравился громадина-легионер, и несколько месяцев он провожал ее по ночам после работы домой, в грязнющую мансарду возле Старого порта. Любовь не любовь, а постельной возни хватало, только она жутко обозлилась, когда забеременела. Сказала, что от него, и он, пожалуй что, поверил, потому что очень хотелось поверить. Еще она сказала, что ребенок ей ни на кой не нужен, что есть тут одна старуха, которая свое дело знает. Ковальский дал ей оплеуху и пригрозил, что убьет. Через три месяца ему надо было ехать в Алжир, а покамест он сдружился с бывшим легионером Юзефом Гжибовским по кличке Жожо Поляк. В Индокитае ему отстрелили ногу, но во Франции повезло, нашлась до него охотница — веселая вдовушка, которая торговала на вокзале с тележки закусками для проезжающих, В 1953-м они поженились и с тех пор работали вдвоем: Жожо ковылял за каталкой, принимал деньги и давал сдачу. В свободные вечера он торчал в барах, куда захаживали легионеры из ближних казарм: все больше молодежь, новенькие, но однажды они повстречались с Ковальским.
С ним-то Ковальский и решил посоветоваться насчет ребенка, и Жожо согласился, что дело хорошее: все же оба воспитаны были в католической вере.
— А она хочет ребенка загубить, — сказал Виктор.
— Salope,[31] — сказал Жожо.
— Корова, — согласился Виктор. Они выпили еще по одной, мрачно поглядывая в зеркало за стойкой.
— Ребенок-то чем виноват? — сказал Виктор.
— Не говори, — подтвердил Жожо.
— Детей-то у меня никогда не было, — подумав, заметил Виктор.
— У меня тоже нет, хоть я женатый, — отозвался Жожо.
Уже под утро, изрядно нарезавшись, они надумали, что делать, и вылили за удачу с осоловелой серьезностью. На другой день Жожо припомнил свое обещание, но поговорить со своей мадам у него духу не хватило. Три дня он бродил вокруг да около, намекал на то на се и наконец, в постели, все ей выложил. К его изумлению, она с радостью согласилась, и дело было решено.
Виктор уехал в Алжир воевать в батальоне майора Родена, а в Марселе Жожо с супругою то улещивали, то запугивали Жюли. К отъезду Виктора она была уже на пятом месяце, для аборта поздно — как угрожающе сообщил Жожо сутенеру со сломанной челюстью, который опять увивался вокруг нее. Тот зарекся перебегать дорогу легионерам, хоть бы хромым, плюнул, выругался и стал искать другой источник дохода.
В декабре 1955 года Жюли родила голубоглазую, белокурую девочку, подписала какие надо бумаги и вернулась к прежним занятиям, а Жожо с женой назвали приемную дочку Сильвией. Виктору сообщили об этом письмом; читая его на казарменной койке, он был до странного обрадован, но радостью своей ни с кем не поделился. Жизнь его научила: если есть что свое, держи в тайне, а то отберут.
Однако же через три года перед отправкой в горы на трудное и опасное задание капеллан предложил ему сделать завещание. Такое Виктору никогда и в голову не приходило: хотя бы потому, что и завещать было нечего, все свое жалованье он оставлял в барах и бардаках, а что на нем — то казенное. Но капеллан заверил его, что времена теперь другие, что мало ли как оно бывает и что он имеет право; и с его помощью завещание было составлено. Все, что ни на есть, он завещал дочери Жозефа Гжибовского, бывшего легионера, проживающего в Марселе. Копия этого документа была подшита к его делу, которое хранилось в Париже, в министерстве внутренних сил. Когда имя его всплыло в связи с террористическими акциями 1961 года в Боне и Константине, досье это было затребовано вместе со многими другими в распоряжение Аксьон сервис. Оттуда съездили к Гжибовскому, выяснили, в чем дело. Ковальский, разумеется, об этом не узнал.
Он видел свою дочку два раза: в 1957-м, когда ему дали отпуск после ранения в ногу, и в 1960-м, сопровождая в Марсель подполковника Родена: тот выступал свидетелем на заседании военного трибунала. В первый раз ей было два года, во второй — четыре с половиной. Ковальский привозил кучу подарков Жожо и его жене и кучу игрушек для Сильвии. Они отлично поладили друг с другом — белокурая малютка и медведистый дядя Виктор. О ней по-прежнему не знал никто, даже Роден.
А теперь у нее какая-то «легкония» — и Ковальский все утро был не в себе. После обеда он поднялся наверх за стальным планшетом: Роден надеялся, что нынче из Франции сообщат, сколько денег накопилось на счету ОАС после полутора месяцев грабежей, и велел Ковальскому сходить на почтамт еще раз.
— А «легкония» — это что? — вдруг спросил капрал.
Роден защелкнул браслет и удивленно поглядел на него.
— Понятия не имею.
— Чего-то с кровью, — объяснил Ковальский.
Кассон, сидевший у окна с иллюстрированным журналом, рассмеялся.
— Лейкемия, наверное, — сказал он.
— Ну, и что это такое, сударь?
— Рак, — ответил Кассон. — Рак крови.
Ковальский перевел взгляд на Родена: чего толковать со штатским?
— Они это могут вылечить, les toubibs, mon colonel?[32]
— Нет, Ковальский, не могут. Это смертельная болезнь. А в чем дело?
— Да так, — буркнул Ковальский. — Читал — слово непонятное попалось.
И удалился. Может, Родену и было любопытно, с чего это вдруг его телохранителю, который и приказы-то разбирал чуть не по складам, вздумалось читать, но виду он не подал, а потом напрочь забыл об этом. Извещение пришло: общим счетом в швейцарских банках набралось уже больше двухсот пятидесяти тысяч.
Роден, довольный, сел к столу — писать инструкции о перечислении денег. Что собрана лишь половина обещанного, его не волновало. После смерти президента де Голля отбою не будет от промышленников и банкиров, прежде, бывало, так щедро финансировавших ОАС: они тут же выложат остальные двести пятьдесят тысяч. Те же самые мерзавцы, которые еще несколько недель назад отделывались от просьб о деньгах паскудными отговорками, что, мол, «постоянные неудачи и отсутствие инициативы со стороны патриотических сил в последние месяцы» не позволяют надеяться на возврат ранее внесенных сумм, — все они будут рады-радешеньки снова стать кредиторами новых хозяев возрожденной Франции.
…Душной римской ночью Ковальский сидел на крыше гостиницы в тени вентиляционной трубы, поигрывая привычным кольтом сорок пятого калибра, и думал о больной девчушке с «легконией» в крови — каково-то ей сейчас? Перед рассветом ему припомнилось, что в 1960-м, когда они последний раз виделись с Жожо, тот говорил, будто им скоро поставят телефон.
В то утро, когда Ковальский получил письмо, Шакал вышел из брюссельского отеля «Амиго» и доехал в такси до угла улицы, где обитал г-н Гоосенс. Перед завтраком он ему позвонил, назвавшись, естественно, Дугганом, и договорился на одиннадцать часов, а в десять тридцать уже сидел в скверике с газетой, оглядывая улицу.
Ничего тревожного он не заметил и ровно в одиннадцать позвонил в дверь, которую Гоосенс на этот раз тщательно запер за ним, наложив цепочку. Они прошли в давешний маленький кабинет, и англичанин повернулся к оружейнику.
— Готово? — спросил он.
Бельгиец замялся.
— Да как бы сказать… не совсем.
Убийца холодно и сурово смотрел на него из-под полуопущенных век; лицо его точно окаменело.
— Вы сказали мне, что если я приеду первого августа, то четвертого смогу забрать винтовку, — напомнил он.
— Совершенно верно, и как раз винтовка-то готова, — заверил бельгиец. — Прекрасное, скажем прямо, получилось оружие, я им горжусь. Загвоздка с вашим сопутствующим заказом, непредвиденные осложнения. Да я вам все покажу.
На столе лежал плоский чемоданчик — примерно два фута на восемнадцать дюймов. Г-н Гоосенс раскрыл его, точно книжку, и Шакал увидел нечто вроде готовальни глубиной дюйма в четыре; по отделениям ее были разложены части винтовки.
— Таких чемоданчиков в продаже нет, — пояснил г-н Гоосенс. — Какие есть — слишком длинные. Этот я сделал сам, все вымерено до микрона.
Вымерено было идеально. В верхнем желобе помещались ствол с казенником, общей длиною не больше восемнадцати дюймов. Шакал вынул его и осмотрел: очень легкий, похож на автоматный; узкий затвор с шишечкой-замком назади задвинут. Англичанин прихватил шишечку большим и указательным пальцами, крутнул ее против часовой стрелки и оттянул затвор: блеснул патронник, показалась черная дыра ствола. Он снова задвинул затвор и запер его, повернув шишечку по часовой стрелке.
Под затвором был приварен стальной диск толщиною в полдюйма, диаметром меньше дюйма с серповидным вырезом вверху для отхода затвора. В центре диска высверлено полудюймовое отверстие с резьбой.
— Для приклада, — сказал бельгиец.
Шакал перевернул ствольную коробку: отверстия для крепежных болтов ложа во фланцах понизу были гладко заделаны. В узкой прорези виднелся боек ударника и сточенное заподлицо основание спускового крючка; к нему был приварен крохотный кругляшок с нарезным отверстием. Гоосенс молча подал ему закорючку длиной в дюйм с резьбою на конце; Шакал быстро и точно ввинтил ее и затянул — и на месте спиленного крючка возник новый.
Бельгиец извлек из готовальни тонкий стальной стержень, опять-таки с резьбою.
— Нижняя часть приклада, — сказал он.
Убийца ввинтил стержень в затыльник ствольной коробки; он опускался под углом в тридцать градусов. В двух дюймах от затыльника он был чуть сплющен, и просверленное наискось отверстие обращено назад. Гоосенс подал второй стержень, покороче.
— Верхний, — сказал он.
Этот скосился вниз совсем немного: образовался узкий треугольник, лишенный основания. Гоосенс извлек его — вогнутый, подбитый черной кожей плечевой упор длиною в пять-шесть дюймов, с двумя отверстиями.
— Тут резьбы нет, вставляйте.
Шакал вставил стержни в отверстия и легким нажимом пригнал упор. Прикладная рама и спусковой крючок создали наконец некое как бы контурное подобие винтовки. Убийца вскинул ее к плечу, прицелился в стену, нажал на спуск. Раздался глухой щелчок.
Он повернулся к бельгийцу: тот держал в руках две черные трубки длиною дюймов по десять.
— Глушитель, — сказал англичанин и, приняв поданную трубку, осмотрел тонкую нарезку возле дула и до упора навинтил глушитель широким концом. На конце ствола появилось нечто вроде длинной сосиски. Он протянул руку за оптическим прицелом.
На стволе были продольные парные бороздки для зажимов прицела, который крепился строго параллельно стволу. Справа и наверху окуляра имелись крохотные болты для передвижки прицельных осей. Англичанин снова вскинул винтовку и прищурился: ни дать ни взять английский джентльмен в элегантном клетчатом костюме зашел в магазин на Пиккадилли подобрать себе охотничье ружье. Но не охотничье это было ружье: диковинный набор за десять минут превратился в коварное, дальнобойное и бесшумное оружие убийцы. Шакал положил винтовку на стол, повернулся к бельгийцу и одобрительно кивнул.
— Хорошо, — сказал он. — Просто очень хорошо. Поздравляю вас. Прекрасная работа.
Г-н Гоосенс просиял.
— Осталось наладить прицел и пристрелять ружье. Патроны вы запасли?
Бельгиец достал из ящика стола коробку на сто патронов. Она была распечатана, и шести не хватало.
— Вот вам для пристрелки, — сказал оружейник. — А шесть штук — это я вынул, вам ведь нужны с разрывными пулями?
Шакал вытряхнул кучку патронов на ладонь. Маленькие, с виду уж очень маленькие для такого дела; но он не преминул заметить, что они куда длинней охотничьих патронов этого калибра. Пороху, значит, больше, больше скорость пули, выше точность попадания и убойная сила. И пули остроконечные: словом, патроны не охотничьи, а спортивные.
— А где те шесть штук? — спросил убийца.
Г-н Гоосенс снова отошел к столу и вынул оттуда сверточек из бумажной салфетки.
— Обычно-то они у меня в очень надежном месте, — заметил он, — но я достал их к вашему приходу.
Он высыпал патроны на белую промокашку. На первый взгляд они были такие же, как те в коробке. Шакал взял патрон с промокашки и рассмотрел его.
Кончик пули был сточен, чтоб обнажить свинец под мельхиоровой оболочкой. Затем в свинце высверлено отверстие глубиной в четверть дюйма, туда закапана ртуть, и отверстие залито расплавленным свинцом; когда свинец затвердел, кончику пули была придана прежняя форма.
Шакал слышал о таких пулях, но сам их еще ни разу не применял. Они были опаснее, чем дум-дум, и запрещены Женевской конвенцией: в теле они разрывались, как маленькие гранаты.
Убийца подложил патрон к остальным пяти. Добродушный человек, который их изготовил, вопросительно глядел на него.
— По-моему, превосходно. Вы мастер своего дела, господин Гоосенс. Какая же загвоздка?
— Да с футляром, сударь, с трубчатым футляром. Я думал, это будет проще. Сперва я испробовал алюминий, как вы предложили. Только учтите, пожалуйста, что первым делом я изготовил винтовку, поэтому ко второму заказу приступил только на днях. Надеялся, что быстро управлюсь: обдумывать вроде особенно нечего, станки — инструменты под рукой. Сделал заготовку нужного диаметра, высверлил на пробу — а металл тоньше папиросной бумаги. Нет смысла в таких трубках, они гнутся при малейшем нажиме. А если довести до надежной толщины, то, учитывая диаметр казенника, будет выглядеть ненатурально. Я тогда решил взять нержавейку. Лучше не придумаешь: она и с виду как алюминий. Немного потяжелее, конечно, зато куда прочнее, можно потоньше сделать, гнуться не будет. Но зато с ней работа нешуточная, и не на один день. Я вот вчера начал…
— Ладно. Понял, согласен. Главное — чтоб было сделано, и сделано как можно лучше. Когда будет готово?
Бельгиец пожал плечами.
— Если новых трудностей не возникнет, а это вряд ли, все теперь продумано — ну, через пять-шесть дней. Самое большее, через неделю.
В упор глядя на оружейника, англичанин невозмутимо выслушал его. Последовала пауза: он что-то обдумывал.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Это немного нарушает мои расчеты, но оказалось, что у меня есть кой-какое время в запасе. К тому же мне все равно надо опробовать винтовку, а это можно сделать и в Бельгии. Кроме обычных патронов, дадите мне один с начинкой. И еще — где тут у вас отыскать тихое, укромное место для стрельбы на сто тридцать — сто пятьдесят метров?
— Да в Арденнском лесу, — слегка поразмыслив, предложил мсье Гоосенс. — Там много таких мест, где вас уж несколько-то часов никто не потревожит. Туда-обратно обернетесь за один день. Сегодня четверг, а там конец недели: пикники, прогулки. Поезжайте пятого, в понедельник. А ко вторнику или к среде я, глядишь, и работу закончу.
— Пожалуй, — кивнул англичанин. — А винтовку с патронами я заберу сейчас. Во вторник или в среду дам о себе знать.
Бельгиец раскрыл было рот, но заказчик опередил его.
— Помнится, я вам должен еще семьсот фунтов. Вот, — он обронил на стол несколько пачек, — вот пятьсот из них. Двести получите, когда я заберу остальное.
— Merci, monsieur,[33] — сказал оружейник и упрятал в карман пять стофунтовых пачек. Он разобрал винтовку, бережно укладывая части ее в обитые зеленым сукном отделения чемоданчика. Патрон с разрывной пулей он завернул в бумажную салфетку и подложил к ветоши и щеткам. Потом закрыл чемоданчик, с виду совершеннейший «дипломат», и подвинул его к заказчику. Тот взял чемодан и принял протянутую пачку патронов. Г-н Гоосенс с любезной улыбкой проводил его до дверей.
В бар на улице Нев Шакал явился после шести; его уже ожидали. Кивком указав на свободный столик в углу, он прошел туда, сел и закурил. Бельгиец подсел к нему через несколько секунд.
— Сделали? — спросил убийца.
— Да, все сделано. И смею сказать, сделано на славу.
Англичанин протянул руку.
— Покажите, — велел он. Тот встряхнул пачку «бастос», извлек и закурил сигарету, потом покачал головой.
— Вы меня извините, сударь, но здесь люди кругом. Да и освещение не то, а их надо рассмотреть толком, особенно французские. Они у меня в студии.
Шакал холодно поглядел на него и кивнул.
— Ладно, раз так, поедем к вам.
Они вылезли из такси на углу улочки, где находилась студия. Вечернее солнце еще светило и грело вовсю, и даже на узенькой, тенистой улочке Шакал остался в своих круговых защитных очках. Навстречу им попался лишь скрюченный ревматизмом старик: он брел опустив голову.
Бельгиец первым сошел по ступенькам, достал кольцо с ключами и отпер дверь. Внутри было почти по-ночному темно; тусклый свет едва пробивался между безобразными фотографиями, наклеенными на окно возле двери. Смутно виднелись стол и стул. Хозяин, а за ним и гость прошли за бархатные занавеси в студию. Фотограф зажег верхний свет, вынул из кармана коричневый конверт и разложил его содержимое на круглом столике красного дерева, служившем для портретных съемок. Столик он выдвинул на середину комнаты, ближе к свету, а дуговые лампы над помостом в дальнем углу включать не стал.
— Пожалуйста, сударь, — он широко улыбнулся, указывая на разложенные удостоверения. Англичанин взял одно из них — свои водительские права с новой вклейкой; насколько он мог судить, подделка была выполнена превосходно; да тут ничего особенного и не требовалось.
Затем Шакал поднял к глазам французское удостоверение личности на имя Андре Мартена, пятидесяти трех лет, уроженца Кольмара, проживающего в Париже. В уголке было его маленькое фото — фото Шакала, постаревшего лет на двадцать, седые волосы бобриком, вид глуповато-смущенный. Замызганное, захватанное удостоверение, документ рабочего человека.
Третье он рассматривал дольше и внимательнее. Фото на нем было другое, как и дата выдачи — на несколько месяцев позже: ведь будь документы настоящие, их бы не в один день обменяли. На фото снова был он самый, снятый две недели назад; но рубашка потемнее, лицо, поросшее щетиной. Фотография была искусно, тонко отретуширована, и казалось, что на двух документах два разных снимка, разного времени. А сделаны оба документа были мастерски. Шакал спрятал их в карман вместе с правами и поднял глаза.
— Отлично, — сказал он. — То что надо. Поздравляю с удачей. Кажется, я вам должен пятьдесят фунтов.
— Совершенно верно, сударь. Merci. — Фотограф выжидательно смотрел, как англичанин достает из кармана приготовленную пачку — десять пятифунтовых кредиток; но тот задержал их в руке и сказал:
— Помнится, было еще одно маленькое условие?
Бельгиец изобразил недоумение на лице.
— Какое, сударь?
— Что вы вернете мне прежнюю вклейку: она мне нужна.
Теперь не оставалось сомнений, что фотограф валяет дурака. Он изумленно поднял брови, будто наконец понял, о чем речь, отвернулся и прошелся по комнате, заложив руки за спину и склонив голову как бы в раздумье.
— Об этой бумажонке, сударь, хотелось бы поговорить отдельно.
— Вот как? — вопросительно проронил англичанин, не выказав ни малейшего волнения. Лицо его было неподвижно, лишь глаза затуманились, словно он углубился в свои мысли.
— Дело в том, сударь, что эта прежняя вклейка из водительских прав с вашим, должно быть, подлинным именем — она не здесь. Нет, нет, — он успокоительно вскинул руки, хотя англичанин и ухом не повел, — она очень надежно спрятана. Она в моем банковском сейфе, шифр знаю я один. Видите ли, сударь, человек моей профессии вынужден принимать предосторожности, так сказать, подстраховываться.
— Я вас слушаю.
— А почему бы нам, досточтимый сэр, не договориться с вами по-деловому: я вам так и быть уступлю эту бумажку, а вы мне заплатите сумму, несколько превышающую вышеупомянутые пятьдесят фунтов?
Англичанин слегка вздохнул, как бы сетуя на то, что люди так склонны усложнять жизнь себе и другим. Никакого интереса к деловому предложению он не проявил.
— Вас разве не устраивает? — обиженным голосом спросил фотограф. Он разыгрывал свою партию как по нотам: вокруг да около, тонкие намеки… скверный детективный фильм, да и только.
— Обыкновенный шантаж, — заметил англичанин без тени укора, безразлично констатируя факт. Но бельгиец возмутился.
— Помилуйте, сударь! Шантаж? Это вы мне? Да ничего подобного: шантаж — это когда от вас не отстают, а я предлагаю вам однократную сделку. Вы мне — деньги, а я вам — целый пакет со всякой всячиной. У меня ведь там в сейфе не только вклейка из ваших прав, а вдобавок фотографии остальных документов и все негативы ваших снимков, в том числе, увы, — он развел руками в знак раскаяния, — увы, один, где вы сняты без грима, я успел и такой сделать. И я убежден, что если все это попадет в руки английской и французской полиции, то у вас будут неприятности. Вы же явно из людей, которые привыкли откупаться от неприятностей…
— Сколько?
— Тысячу фунтов, сударь.
Англичанин поразмыслил над предложением очень спокойно и как бы вчуже.
— Да, пожалуй, ваш пакет этих денег стоит, — признал он.
Бельгиец расплылся в улыбке.
— Счастлив это слышать, сударь.
— Но дело не выгорит, — заметил англичанин, точно продолжая обдумывать ситуацию. Зрачки его собеседника сузились.
— Почему же? Не понимаю. Раз вы согласны, что лишнего я не запрашиваю, то в чем же препятствие? Я — вам, вы — мне, что тут такого особенного?
— По двум причинам, — мягко отвечал заказчик. — Во-первых, где гарантия, что вы не скопировали негативы, чтобы потом продолжать вымогательство? Во-вторых, почем я знаю — может, вы отдали пакет на хранение другу, а тот возьмет да решит, что ему тоже не помешает тысяча фунтов?
Бельгиец облегченно вздохнул.
— Всего-то навсего? Зря опасаетесь. Зачем бы я стал доверять кому-нибудь пакет — вдруг да он и правда заартачится? А вас на один испуг не возьмешь, вам за ваши денежки подавай документы и снимки. Так что они у меня под рукой, в моем, повторяю, банковском сейфе. И насчет дальнейшего вымогательства вы напрасно. Фотокопия вашего именного листка из водительских прав английским властям без надобности — да если вас и поймают с поддельными правами, так оштрафуют и все, какой вам смысл мне дальше платить? Или взять французские документы: ну, узнают тамошние власти, что какой-то англичанин разъезжает по Франции с фальшивыми документами на имя Андре Мартена, — ну, может быть, арестуют вас.
Сейчас-то это вам ни к чему, но если я снова начну к вам приставать, то вы эти документы выбросите и закажете другие, оно дешевле. И тогда ищи-свищи Андре Мартена: его уже и в помине нет, как не бывало.
— А почему бы мне и сейчас так не поступить? — по-прежнему задумчиво спросил англичанин. — Ведь новые документы и правда обойдутся дешевле — те же сто пятьдесят фунтов, не больше.
Фотограф поднял палец.
— Я делаю ставку на то, что для вас время — деньги. Документы Андре Мартена и мой молчок потребуются вам в ближайшее время и ненадолго. А пока еще вам изготовят новые документы — да они ведь наверняка будут хуже этих, эти-то превосходные, и они уже у вас в руках. А мой молчок обойдется вам в тысячу фунтов.
— Ну что же, изложено внятно. А почему вы думаете, что у меня с собой есть тысяча фунтов?
Фотограф терпеливо улыбнулся: он, мол, знает все ответы на все вопросы, но если любезный друг в этом сомневается, то пожалуйста.
— Сударь, вы — английский джентльмен, это сразу видно. А хотите выдать себя за пожилого французского рабочего. По-французски вы говорите почти без акцента, но чуть-чуть похоже на эльзасцев — я потому и поставил Андре Мартену место рождения Кольмар. Итак, вы проезжаете по Франции под видом Андре Мартена — великолепно, гениально! Кому придет в голову такого Мартена обыскивать? Значит, при себе у вас будет что-то очень ценное. Может быть, наркотики? Очень нынче модное увлечение среди английской богемы. А Марсель — один из торговых центров наркобизнеса. Или бриллианты? Не знаю уж, но заняты вы, конечно, прибыльным делом. Английские милорды не обчищают карманы на скачках. Давайте мы, сударь, не будем в жмурки играть, а? Позвоните вашим друзьям в Лондон, попросите их перевести вам тысячу фунтов, мы завтра вечером обменяемся пакетиками, и вы — прыг-скок — отправитесь по своим делам, hein?[34]
Англичанин грустно закивал, словно окидывая мысленным взором ошибки и прегрешения прошлого. Но вдруг он поднял голову и добродушно улыбнулся. Фотограф впервые увидел его улыбку, и у него точно гора с плеч свалилась: значит, этот хладнокровный человек примирился с положением вещей и не пытается как-нибудь извернуться, не то что иные прочие. Все в порядке — подумал и понял, что деваться ему некуда. Ну, вот и слава богу.
— Ладно, — сказал англичанин, — ваша взяла. Завтра к полудню достану тысячу фунтов. Но с одним условием.
— С условием? — бельгиец снова насторожился.
— Встретимся не здесь.
— Чем же здесь плохо? — фотограф пожал плечами. — Тихо, спокойно…
— А тем и плохо: вот вы говорите, вы тайком меня щелкнули, — и я вовсе не хочу, чтобы какой-нибудь ваш приятель исподтишка запечатлел наш с вами маленький обмен.
Бельгиец с явным облегчением расхохотался.
— Чересчур уж вы опасливы, cher ami. Ателье мое собственное, непритязательное, приходят сюда только по моему особому приглашению. Да мне ведь и не резон высовываться, я промышляю снимками для туристов, очень ходкий товар, но такие, знаете, в галастудии на Гран-плас не закажешь.
И он со скабрезной ужимкой потыкал пальцем в кулак.
Глаза англичанина заискрились, он ухмыльнулся и залился смехом. Фотограф обрадованно вторил ему, а тот крепко, по-дружески ухватил его за плечи. Он продолжал, хихикая, изображать половой акт — и вдруг ему в пах будто врезался грузовик.
Голова его дернулась вперед, руки упали и судорожно потянулись к больному месту, от которого державший его заказчик отнял правое колено; смех стал взвизгом, хлюпанием, рвотной натугой. Он опустился на колени — Шакал придержал его — и повалился ничком, корчась и подгребая руками.
Убийца перешагнул через него, оседлал его спину, просунул правую руку под горло, обхватив свой левый бицепс, и левой ладонью уперся ему в затылок. Потом резко рванул голову — назад, вверх и вбок.
Сломанный хребет негромко хрустнул — точно в тишине студии выстрелил маленький пистолетик. Тело фотографа дернулось и обмякло; Шакал еще подержал его и отпустил. Шея искривилась; мертвое лицо с высунутым прокушенным языком повернулось боком, уставившись в потертый узор линолеума широко раскрытыми глазами.
Англичанин отошел к занавесям, проверил, плотно ли они задернуты, затем перевернул тело и нащупал ключи в левом кармане брюк. Огромный сундук в углу отперся четвертым ключом, и минут за десять он вышвырнул на пол все его содержимое.
Затем он подволок тело под мышки, поднял его, перевалил и старательно уложил плашмя на дно опустошенного сундука. Через несколько часов оно оцепенеет и застынет, как уложено. Шакал подоткнул труп со всех сторон женским бельем, париками и прочей тряпичной мелочью, а сверху заставил коробками с кистями и гримировальными красками. Оставшиеся тюбики крема, две дамские сорочки, свитеры и джинсы, платье и несколько пар ажурных чулок совсем завалили труп и заполнили сундук с верхом. Он надавил на крышку: наконец пробой вошел в петлю, и был навешен замок.
Руки он с самого начала обмотал тряпицами, сброшенными в сундук. Замок и все внешние поверхности сундука обтер своим носовым платком; взял со стола и положил в карман пачку пятифунтовых бумажек, затем поставил стол на место, протер и его; погасил свет и сел на стул у стены — подождать, пока стемнеет. Через несколько минут он достал пачку сигарет, переложил оставшийся десяток в карман пиджака и закурил, стряхивая пепел в пустую пачку и пряча туда же окурки.
Он не сомневался, что раньше или позже исчезновение фотографа обнаружится, но случится это, вероятно, нескоро: лицам его профессии свойственно пропадать, никому не сказавшись. Вряд ли его друзья-приятели сразу всполошатся. Потом-то примутся искать — первыми, должно быть, заказчики поддельных документов и порнографических открыток. Кто-нибудь из них, может, и знает об этой студии, наведается сюда и потыкается в запертую дверь. Если же кто и проникнет в студию, ему еще надо будет все обыскать, взломать сундук и докопаться до трупа.
Ни одному преступнику, рассуждал он, и в голову не придет сообщать об этом в полицию; подумают, что это сделано по приказу какого-нибудь бандитского главаря. И то сказать: разве маньяк-заказчик, свихнувшийся на порнографии и случайно совершивший убийство, станет так тщательно прятать труп? Но все же в конце концов полиция дознается об убийстве. Опубликуют фотографию убитого, и бармен, на улице Нев, может быть, припомнит, что вечером первого августа видел его в обществе высокого блондина в клетчатом костюме и темных очках. Но пока еще доберутся до его банковского сейфа — а он почти наверняка зарегистрирован под чужой фамилией.
С барменом Шакал не разговаривал; правда, две недели назад заказывал официанту пиво. Положим, у этого официанта феноменальная память — он вспомнит, что белокурый клиент говорил с легким акцентом. Полиция примется с прохладцей искать высокого блондина, пусть даже набредут на след Александра Дуггана — но и тут Шакала еще искать и искать. Короче, он решил, что у него есть в запасе верный месяц, а больше ему и не требовалось. Убил он фотографа так же машинально, как раздавил бы таракана.
Докурив вторую сигарету, Шакал прошел в переднюю и глянул в окно. Было уже полдесятого; улочка тонула в сумраке. Он преспокойно вышел и запер наружную дверь. Прохожих не было. Через полмили он бросил связку ключей в люк канализации и услышал, как они булькнули. И поспел к позднему ужину.
На другой день, в пятницу, Шакал отправился за покупками в рабочее предместье Брюсселя и купил в спортивном магазинчике походные ботинки, длинные шерстяные носки, брезентовые штаны, ковбойку и рюкзак, а кроме того — несколько тонких листов поролона, продуктовую сетку, моток шпагата, охотничий нож, две кисточки и две баночки масляной краски — розовой и коричневой. Хотел было купить с лотка большой арбуз, но раздумал — еще испортится за три дня.
Теперь и паспорт, и права у него были на имя Александра Дуггана, и он заказал на утро прокатную машину, а старшему администратору отеля сообщил, что ему очень нужен на выходные дни отдельный номер с душем или ванной где-нибудь возле моря. Дело это было нелегкое, все-таки август, самый курортный месяц; но администратор лицом в грязь не ударил, забронировал обходительному англичанину комнатку в маленькой гостинице с видом на живописную рыбачью гавань в Зеебрюгге — и пожелал ему приятного отдыха.
7
В то утро, когда Шакал ходил по брюссельским магазинам, Виктор Ковальский звонил в Марсель с римского почтамта. Растолковав служащему, который немного знал по-французски, чего ему надо, и со второго захода еле-еле объяснив, как пишется мудреная фамилия «Гжибовский» и где он живет, Ковальский наконец узнал телефон Жожо, и еще через полчаса их соединили. В трубке трещало; голос у бывшего легионера был какой-то странный, и Жожо словно бы не торопился подтвердить дурные новости из письма. Да, он очень рад, что Ковальский позвонил, он его уже три месяца разыскивает.
К сожалению, да, насчет болезни маленькой Сильвии — это правда. Она все слабела, худела на глазах, доктор наконец разобрался в чем дело, и теперь уж она не встает. Она тут по соседству, в спальне. Нет, это квартира другая, они сняли новую, побольше. Что? Адрес? Жожо по буквам продиктовал его, а Ковальский медленно записал, помогая себе языком.
— Сколько она еще проживет, что лекари говорят? — прокричал он в трубку. Жожо понял его лишь с четвертого раза и долго молчал.
— Алло? Алло? — орал Ковальский, и Жожо наконец ответил:
— Говорят, с неделю, а может, и две-три.
Ковальский недоверчиво посмотрел на трубку в своей руке. Не сказав больше ни слова, он положил трубку, неуклюже выбрался из кабины, оплатил разговор, забрал почту, защелкнул планшет и побрел в гостиницу. Впервые за много лет он был совершенно растерян: никакого приказа нет, и вся его сила ни к чему.
А Жожо в своей прежней квартире, из которой он и не думал переезжать, повернулся от телефона к двум агентам Аксьон сервис с полицейскими кольтами сорок пятого калибра в руках: один был нацелен на него, другой — на его бледную как смерть жену, забившуюся в угол дивана.
— Подлюги, — злобно сказал Жожо. — Говнюки.
— Приедет? — спросил один.
— Он ничего не сказал, трубку положил.
Темные, пустые глаза корсиканца разглядывали его в упор.
— Надо, чтоб приехал. Таков приказ.
— Не слышал, что ль, я все ему сказал по-вашему. Он, верно, здорово растерялся и бухнул трубку. Я тут при чем?
— Надо, чтоб он приехал, ты меня понял, Жожо?
— Приедет, — хмуро сказал Жожо. — Если сможет, приедет. Из-за девочки.
— Вот и ладно. А дальше ты ни при чем.
— Ну и убирайтесь отсюда! — заорал Жожо. — Оставьте нас в покое.
Корсиканец поднялся, по-прежнему держа пистолет наготове. Другой продолжал сидеть, глядя на женщину.
— Уйти-то мы уйдем, — сказал корсиканец, — но и вас с собой заберем. А то вы болтать начнете или вообще в Рим позвоните, а, Жожо?
— Куда вы нас заберете?
— Немного отдохнете в горах, в чудесной новенькой гостинице. Солнце, воздух свежий. Тебе полезно, Жожо.
— Надолго? — уныло спросил тот.
— Как управимся.
Поляк посмотрел в окно на аллейки и рыбные лавки вокруг открыточного пейзажа Старого порта.
— Сейчас самый сезон, все поезда полны. Мы в августе зарабатываем больше, чем за целую зиму. Несколько лет потом расхлебывать.
Корсиканец рассмеялся, точно ему это показалось забавным.
— Да не считай ты свои убытки, Жожо. Это же все для блага Франции, твоей, можно сказать, второй родины.
Поляк резко обернулся.
— Плевать мне на вашу политику, кто там у власти, какая партия — дерьма-то на лопате! Но вашего брата я знаю, навидался на своем веку. Вы бы и Гитлеру служили. Или Муссолини, или ОАС — вам все одно. Режимы разные, а подлюги все такие же… — кричал он, ковыляя к агенту Аксьон сервис, чья рука с пистолетом даже не шевельнулась.
— Жожо! — вскрикнула женщина на диване. — Прошу тебя — не лезь ты к нему!
Поляк покосился на жену, будто вовсе забыл, что она здесь. Потом обвел глазами комнату: жена смотрела на него умоляюще, двое громил из тайной полиции — безразлично. Они давно притерпелись к оскорблениям — собака лает, ветер носит. Старший кивнул в сторону спальни.
— Иди собирайся. Жена потом.
— А Сильвия? Она вернется из школы к четырем — а нас не будет? — спросила женщина.
Корсиканец не сводил глаз с ее мужа.
— Поедем мимо школы — заберем и ее, уже договорились. Учительнице сказано, что ее бабушка при смерти и вся семья едет к ней. Все шито-крыто. Давайте поживее.
Жожо пожал плечами, еще раз взглянул на жену и заковылял в спальню; корсиканец последовал за ним. Жена его, комкая носовой платок, робко подняла глаза на агента помоложе, гасконца, который сидел на том же диване и держал ее под прицелом.
— А что… что с ним сделают?
— С кем, с Ковальским?
— С Виктором.
— Да ничего, хотят с ним поговорить.
Через час большой «ситроен» мчался в горы, к уединенной гостинице в распоряжении органов государственной безопасности; позади сидели Гжибовские с дочерью, впереди — два агента Аксьон сервис.
В субботу Шакал купался в Северном море, загорал, бродил по улочкам Зеебрюгге; в воскресенье проехался по фламандской провинции, побывал в Генте и в Брюгге и к вечеру вернулся в Брюссель, в свою гостиницу. Он заказал ранний завтрак в постель и попросил упаковать ему что-нибудь на обед, объяснив, что наутро он поедет в Арденнский лес, к могиле старшего брата, который погиб в январе 1945 года между Бастонью и Мальмеди.
Ковальскому самостоятельные решения давались нелегко; в субботу — воскресенье он нес караульную службу, а между сменами почти не спал: лежал на постели у себя в номере, курил и прихлебывал дешевое красное итальянское вино, которое охранникам доставляли ежедневно во фляге вместимостью в галлон и которому, конечно, далеко было до алжирского пинара, бывало плескавшегося во фляжках легионеров; и лишь в понедельник под утро наконец надумал, как быть.
Отлучится он ненадолго — на день или, может, на два, если выйдет заминка с рейсами. Как ни крути, а слетать все-таки надо. Патрону он объяснит потом — и патрон, конечно, поймет, хоть и здорово рассердится. Ему приходило на ум сейчас же все рассказать полковнику и отпроситься на сорок восемь хотя бы часов, но он был уверен, что полковник, какой он ни есть настоящий командир и за своих всегда горой, а его на этот раз нипочем не отпустит. Насчет Сильвии будет ему совсем уж непонятно, и как ему объяснишь, где взять нужные слова? Ковальский был не мастак объясняться. Отправляясь на утреннее дежурство, он тяжело вздохнул: за все годы службы в Легионе это у него будет первая самоволка.
Точно тогда же поднялся и Шакал, выспавшийся, собранный. Он принял душ, побрился, съел отличный завтрак, ожидавший его на подносе у постели. Затем вынул плоский чемоданчик из запертого гардероба; извлеченные оттуда части винтовки обернул поролоном, перевязал бечевкой и уложил на дно рюкзака, а поверх — баночки с краской и кисти, брезентовые штаны и ковбойку, носки и ботинки. В боковые карманы рюкзака он засунул продуктовую сетку и коробок с патронами.
Он надел одну из своих полосатых рубашек, легкий сизый костюм вместо обычного клетчатого, черные кожаные мокасины, повязал черный плетеный шелковый галстук.
Потом спустился на гостиничную стоянку к машине, запер рюкзак в багажнике, вернулся в вестибюль, забрал пакет с бутербродами, вежливо кивнул дежурному в ответ на его «Bon voyage»[35] и в девять часов выехал из города по старому шоссе Е-40 Брюссель — Намюр. Окрестная равнина купалась в солнечных лучах; предвиделся знойный день. Согласно дорожной карте, до Бастони было девяносто четыре мили; еще пять-шесть — и на лесистом всхолмье к югу от городка обязательно сыщется укромное местечко. Сто миль до полудня — это пустяки: он прибавил газу, и «симка-аронд» еще быстрее понеслась по ровной, прямой дороге через валлонскую равнину.
Солнце еще не достигло зенита, а он уже проехал Намюр и Марш, и дорожные знаки возвещали о приближении Бастони. Миновав этот небольшой городок, который зимою 1944 года пушки «королевских тигров» Хассо фон Мантейфеля сровняли с землей, он принял к югу, к холмам. Потянулось густолесье, дорога петляла, затененная развесистыми вязами и буками, и все реже пробивались меж деревьев яркие солнечные лучи.
Милях в пяти за городом Шакал свернул в лес по узкому проселку; еще через милю ответвилась дорожка в самую чащу. Он проехал несколько ярдов и укрыл машину за порослью молодняка. Закурив сигарету, он посидел немного в прохладной лесной тени, слушая, как затихает остывающий мотор, шелестит ветерок в листве и вдалеке воркуют голуби.
Потом не спеша вылез, перенес рюкзак из багажника на капот и переоделся. Щегольской, отутюженный сизый костюм он уложил на заднем сиденье, натянул брезентовые штаны и сменил рубашку с галстуком на ковбойку, а городские изящные туфли на туристские ботинки с шерстяными носками, в которые заправил брюки.
Один за другим развязывая поролоновые свертки, он собрал винтовку; глушитель и оптический прицел сунул в карманы штанов. Отсчитал двадцать патронов и ссыпал их в нагрудный карман, а в другой упрятал завернутый в салфетку патрон с разрывной пулей.
Оставив винтовку на капоте, обошел машину, вынул из багажника купленный вчера вечером и пролежавший там всю ночь арбуз. Потом захлопнул багажник, пристроил арбуз в рюкзаке с красками, кистями и охотничьим ножом, запер машину и направился в лес. Было начало первого.
Через десять минут отыскалась длинная, узкая прогалина ярдов на сто пятьдесят. Прислонив винтовку к дереву, Шакал отмерил сто пятьдесят шагов. Там тоже нашлось дерево, от которого видна была оставленная винтовка. Он выложил на траву содержимое рюкзака, раскрыл баночки и густо закрасил темно-зеленую кожуру арбуза — сверху и снизу коричневым, а посредине — розовым. Пока краска не высохла, он обозначил пальцем глаза, нос, усы и рот.
Он воткнул сверху нож в арбуз, чтобы взять его, не смазав краску пальцами, и осторожно опустил арбуз в продуктовую сетку. Сетка была тонкая, плетенье редкое: не скрадывались ни очертания арбуза, ни изображение лица.
Наконец он крепко всадил нож в ствол дерева примерно в семи футах от земли и повесил сетку с арбузом на рукоять. На фоне зеленоватой коры закачалось жутковатое, коричневое с розовым подобие человеческой головы без туловища. Он отступил и поглядел на свою работу. За сто пятьдесят ярдов — сойдет.
Закупорив баночки с краской, он зашвырнул их подальше в кустарник, кисти воткнул в землю щетиной вниз и затоптал; взял рюкзак и вернулся к ружью.
Он туго навинтил глушитель, приладил оптический прицел, отвел затвор и вложил первый патрон. Прищурившись в окуляр, он повел стволом в поисках висячей мишени и удивился: так близко и четко она была видна. Казалось, до нее ярдов тридцать, не больше. Можно было различить и тонкий переплет сетки, и черты арбузной физиономии. Для пущей устойчивости он прислонился к дереву и снова сощурился.
Осевое скрещенье было смещено по центру, и он, осторожно подкрутив болты, наладил его, тщательно прицелился в середину арбуза и спустил курок.
Отдача оказалась слабее, чем он ожидал, а приглушенный хлопок выстрела вряд ли был бы слышен на другой стороне тихой улицы. Шакал взял ружье под мышку и сходил к дереву проверить попадание. Пуля задела арбуз справа поверху, перервала сетку и впилась в дерево. Он возвратился и прицелился второй раз — пуля ушла еще правее на полдюйма. Еще два выстрела, и он убедился, что прицел действительно смещен вправо вверх. Он подправил его.
Следующая пуля ушла влево вниз. Он снова сходил к мишени: пробит был левый уголок рта арбузной головы. Он выстрелил еще три раза — пули ложились там же. И он чуть-чуть переместил крестик обратно.
Девятая пуля угодила прямо в лоб, куда он и метил. Шакал в третий раз прошелся по прогалине, вынул кусочек мела и обвел места попаданий: над правым виском, у левого угла рта и дырочку посредине лба.
Затем он без единого промаха попал в оба глаза, в переносицу, верхнюю губу и подбородок, а повернув мишень боком, — в висок, в ухо, в шею, в щеку, в скулу и загривок, и лишь одна пуля чуть-чуть отклонилась.
Теперь все было в порядке; он пометил положение болтов, регулирующих оптический прицел, достал из кармана тюбик бальзового клея и залил вязкой жидкостью головки болтов и бакелитовую поверхность трубки. Прошло полчаса, были выкурены две сигареты — и клей затвердел, а прицел был налажен как нельзя более точно — для этой винтовки, для этого стрелка, на сто тридцать метров расстояния.
Он извлек из второго нагрудного кармана патрон с разрывной пулей, зарядил его, поточнее прицелился в лоб и выстрелил.
Рассеялся голубой дымок у конца глушителя; Шакал оставил винтовку возле дерева и пошел по прогалине к своей сетке с арбузом. Она обвисла, почти пустая, у ствола расстрелянного дерева. В арбуз попало двадцать пуль, — и ничего, а теперь он рассыпался. Куски валялись на траве. Семечки и клочья мякоти ползли по стволу. Сетка с арбузными остатками свисала с ножа, словно обмякшая мошонка.
Он снял сетку и зашвырнул ее в кусты. От мишени и следа не осталось, одна каша. Нож он выдернул и сунул в ножны. По дороге к машине прихватил винтовку, а там разобрал ее, снова бережно завернул каждую часть в поролон и положил в рюкзак вместе с ботинками, носками, рубашкой и брезентовыми штанами. Он переоделся в городское, запер рюкзак в багажнике, присел и не спеша пообедал всухомятку.
Потом он выехал на шоссе и свернул налево, к Бастони, Маршу, Намюру, Брюсселю. В отель он вернулся в начале седьмого, отнес рюкзак в номер и спустился рассчитаться за прокат машины. Час с лишним, перед тем как принять предобеденную ванну, он протирал и смазывал винтовочные части; потом сложил их в чемоданчик и опять-таки запер в гардеробе. Поздно вечером рюкзак, остаток шпагата и клочья поролона были выброшены в мусорный бак, а двадцать одна гильза — в канализацию.
Утром в понедельник пятого августа Виктор Ковальский снова искал на римском почтамте кого-нибудь, кто понимает по-французски. На этот раз он хотел, чтобы позвонили куда надо и узнали, когда на этой неделе летают самолеты из Рима в Марсель и обратно. Нынче он, как оказалось, опоздал на самолет — через час он не успеет во Фьюмичино. А следующий прямой рейс — только в среду. Есть рейсы с пересадкой: синьору не подойдут? Нет? Значит, в среду? Да, да, отлетает в 11.15, прибывает в Марсель чуть за полдень, в аэропорт Мариньян. Обратный рейс — на другой день. Один билет? Туда и обратно? Разумеется, а как фамилия? Ковальский назвался по документам, которые лежали у него в кармане. В странах Общего рынка паспорта были упразднены, достаточно было удостоверения личности.
Его попросили явиться к стойке «Алиталии» во Фьюмичино за час до отлета. Наконец служитель положил трубку, а Ковальский забрал почту, запер свой стальной планшет и вернулся в отель.
Наутро состоялось последнее свидание Шакала с г-ном Гоосенсом. Шакал позвонил ему после завтрака, и оружейник имел удовольствие сообщить, что работа выполнена. В одиннадцать часов г-н Дугган сможет подъехать? Да, и пусть непременно захватит все, что нужно для примерки.
Он, как и прошлый раз, приехал за полчаса до назначенного; в руках у него был купленный тем же утром подержанный фибровый чемодан, а уж в нем — маленький «дипломат». Тридцать минут он озирал улицу и наконец неторопливо подошел к парадному г-на Гоосенса. Тот сразу отворил на звонок, и Шакал, не дожидаясь приглашения, проследовал в его кабинет. Гоосенс запер за ним входную дверь и старательно притворил дверь кабинета.
— Новых сложностей не возникло? — спросил англичанин.
— Да нет, на этот раз обошлось без сложностей.
Бельгиец достал откуда-то несколько свертков мешковины, положил их на стол и принялся развязывать, рядком укладывая стальные трубки, отделанные под алюминий. Потом, не глядя, протянул руку, и Шакал подал ему чемоданчик с винтовкой.
Части винтовки, одна за другой, точно входили в стальные футляры.
— Хорошо постреляли? — спросил оружейник, не прерывая работы.
— Пострелял хорошо.
Взяв оптический прицел, Гоосенс заметил, что болты жестко закреплены бальзовым клеем.
— Жаль, что пришлось заменить прежние болты на эти, маленькие, — сказал он. — С теми, конечно, было гораздо удобнее и надежнее. Но что поделать — иначе прицел в трубку не влезет.
И прицел скользнул в трубку, словно клинок в ножны. Все части ружья исчезли в футлярах; остались стальная закорючка и пять патронов.
— Это отдельно. — Он взял затыльник приклада, показал незаметный надрез в коже, упрятал туда спусковой крючок и заклеил надрез черным пластырем. Заклейка выглядела как заплатка, очень естественно. Из ящика стола он достал черный резиновый цилиндрик полтора дюйма в диаметре и два в высоту с торчащим посредине нарезным шпеньком.
— Ввинчивается в нижнюю трубку, — пояснил он. Вокруг шпенька были пять гнезд, и в каждое он вогнал патрон до самого капсюля.
— Когда завинтите до упора, патронов не будет видно, — сказал он. — А резиновый наконечник — это очень даже натурально. — Англичанин молчал. — Как вам кажется? — спросил Гоосенс, немного встревожившись.
Ни словечка не вымолвив, англичанин поочередно рассмотрел трубки, потряс каждую из них — не забренчит ли; но они были проложены изнутри двойным суконным слоем. Самой длинной была двадцатидюймовая трубка для ствола с казенником. Остальные, размерами около фута, вмещали верхний и нижний стержни приклада, глушитель и прицел. Кроме них, имелся затыльник приклада с запрятанным в кожаной обивке спусковым крючком и резиновый цилиндрик с пятью патронами. Угадать во всем этом охотничье ружье или винтовку убийцы не было никакой возможности.
— Превосходно, — неторопливо одобрил Шакал. — Лучше и быть не могло.
Бельгиец был доволен. Он и сам знал себе цену, однако похвала была ему приятна, как всякому другому, а к тому же похвалил его очевидный знаток.
Между тем Шакал снова обернул мешковиной трубки с винтовочными частями, плечевой упор и резиновый наконечник; обернул и уложил их в фибровый чемодан, а «дипломат» вернул оружейнику со словами:
— Он мне больше не понадобится. До поры до времени винтовка полежит здесь. — И положил на стол две сотенные пачки фунтов. — Итак, мы с вами в расчете, господин Гоосенс.
— Да, сударь, — отозвался бельгиец, пряча деньги, — если у вас больше нет ко мне никаких пожеланий.
— Одно есть, — сказал англичанин. — Не забывайте, пожалуйста, о чем я вас предупреждал две недели назад.
— Я не забуду, сударь, — вполголоса проговорил бельгиец.
Он снова испугался: а вдруг этот учтивый убийца решит, что мертвый молчаливей живого? Да нет, не решит. Начнется расследование, и высокий англичанин окажется на подозрении у полиции прежде, чем успеет пустить в ход винтовку, упрятанную в чемодан. Тот, по-видимому, угадал его мысли и усмехнулся.
— Не беспокойтесь, я убивать вас не стану. Вы же человек с головой, вы наверняка предусматриваете, что клиент может и убить. Вам, должно быть, примерно через час позвонят и, если телефон не ответит, приедут проверить, живы ли вы, так? И небось письмо оставлено у поверенного — с тем, чтобы его вскрыть в случае вашей смерти. Так что убивать вас — себе дороже обойдется.
Гоосенс был изумлен. Действительно, у поверенного хранилось письмо с пометкой «вскрыть в случае внезапной смерти». В письме полиции предлагалось заглянуть под такой-то камень в саду за домом. Под камнем была жестянка, а в ней — список ожидаемых на сегодня посетителей. Нынче, например, посетитель ожидался всего один — высокий, прекрасно одетый англичанин, именующий себя Дугганом. Словом, нечто вроде страховки.
Англичанин снова усмехнулся.
— Вот-вот, — сказал он. — Стало быть, не волнуйтесь. Однако же я непременно убью вас, если вы кому бы то ни было пророните хоть одно слово обо мне и о нашей сделке. Сейчас за мною закроется дверь — и меня словно и не было.
— Само собой, сударь. Так у меня со всеми заказчиками, и, смею сказать, я жду от них того же. Поэтому и серийный номер на вашей винтовке вытравлен. Мне ведь тоже надо беречься.
Англичанин снова усмехнулся.
— Ну, так мы друг друга понимаем. Всего вам доброго, господин Гоосенс.
И через минуту, заперев за ним дверь, бельгиец, который знал все об оружии, многое о преступном мире и почти что ничего о Шакале, облегченно вздохнул и удалился в кабинет — пересчитывать деньги.
Шакал не хотел показываться в гостинице с дешевым фибровым чемоданом и поэтому, хоть и опаздывал к обеду, съездил на вокзал, сдал чемодан в камеру хранения и спрятал квитанцию в свой бумажник из крокодиловой кожи.
Чтобы отметить успешное завершение дел во Франции и Бельгии, Шакал роскошно пообедал в лучшем ресторане Брюсселя, а потом вернулся к себе в «Амиго» и оплатил гостиничный счет. Уезжал он, как и появился, в клетчатом костюме с иголочки и темных круговых очках; портье поднес к такси два шикарных чемодана. Он стал на тысячу шестьсот фунтов беднее, но зато в чемоданишке на вокзале была спрятана превосходная винтовка, а в его внутреннем кармане — три отлично подделанных документа.
Самолет вылетел из Брюсселя в начале пятого; на таможне лондонского аэропорта его попросили раскрыть один из чемоданов и ничего подозрительного там, разумеется, не обнаружили, К семи вечера Шакал принимал душ у себя на квартире, намереваясь отужинать где-нибудь в Вест-Энде.
8
К несчастью для Ковальского, в среду утром ему не понадобилось никуда звонить с почтамта, а то бы он, глядишь, и опоздал на самолет. Он забрал пять писем на имя Пуатье, замкнул стальной планшет и поспешил в гостиницу. В полдесятого он сдал планшет с почтой полковнику Родену и был отправлен отдыхать до семи вечера перед ночным дежурством на крыше.
У себя в номере Ковальский не задержался. Он захватил кольт (Роден не позволял таскать его на улицу) и сунул его в кобуру под мышкой. Будь пиджак по фигуре, кобура с кольтом была бы приметна за сто ярдов, но костюм сидел на его туше мешком. Рулончик пластыря и купленный накануне берет он запихнул в один карман, в другой — пачку лир и франков, свои шестимесячные сбережения, и вышел в коридор.
Охранник за столом поднял голову.
— Послали позвонить, — буркнул Ковальский, указав большим пальцем на потолок. Охранник молча смотрел, как подъехал вызванный лифт и поляк зашел в кабину. На лицо Ковальский надел большие защитные очки.
В кафе напротив гостиницы человек в темных очках приопустил развернутый журнал и следил за Ковальским: тот искал такси, но свободных машин не было, и он зашагал к перекрестку. Человек с журналом вышел из кафе на тротуар; рядом с ним остановился маленький «фиат». Он залез в машину, и «фиат» пополз за Ковальским, который наконец поймал на углу такси и, усаживаясь, бросил шоферу:
— Во Фьюмичино.
В аэропорту он расплатился за билет наличными и кое-как объяснил девушке в форме, что у него нет ни багажа, ни ручной клади. Ему было сказано, что до посадки на марсельский рейс 11.15 еще час и пять минут. Ковальский провел это время в кафетерии за чашкой кофе, глядя в окно на взлеты и приземления самолетов: он не понимал, как и почему они летают, но аэропорты с их деловитой суетой ему почему-то нравились.
Наконец объявили посадку, и вереница пассажиров потянулась через стеклянные двери на сверкающую бетонную гладь к самолету, стоявшему за сто ярдов. В их числе был и Ковальский, в черном берете, с грубо залепленной пластырем щекой.
Двое агентов СДЕКЕ, следивших с террасы для встречающих, как он взошел по трапу, устало и многозначительно переглянулись. Турбовинтовой лайнер взял курс на Марсель, а они потихоньку спустились в зал. Один из них зашел в телефонную будку, набрал римский номер, назвался по имени и раздельно произнес:
— Улетел. «Алиталия», четыре-пять-один. Прибывает в Мариньян в двенадцать десять. Ciao.
Через десять минут об этом знали в Париже, еще через десять — в Марселе.
Улица, название которой Жожо продиктовал по телефону, находилась возле загородного шоссе; Ковальский вылез из такси, не доезжая до нее. Он подождал, пока машина скроется из виду, вынул клочок бумаги с названием и спросил официанта уличного кафе, как туда пройти. Глядя на многоэтажный новехонький дом, Ковальский подумал, что, наверно, Гжибовские расторговались и мадам завела свой ларек, о котором давно мечтала. Вспомнив о Сильвии — что это Жожо сказал? неделю? две? не может быть! — он взбежал со ступенькам к парадному и остановился в вестибюле перед двойным рядом почтовых ящиков. Вот — Гжибовский, квартира 23. Третий этаж, можно и пешком.
Дверь с новенькой табличкой «Гжибовский» возле звонка была в конце коридора, между 22-й и 24-й квартирами. Ковальский позвонил, дверь приоткрылась, и на голову ему тупым концом обрушился ледоруб. Он разодрал кожу и с глухим стуком отскочил от лобной кости. Распахнулись двери квартир 22 и 24, оттуда выскочили люди; все это случилось за полсекунды, и Ковальский осатанел. Он был тугодум и увалень, но уж драться умел на славу.
В узком коридоре было негде развернуться; сквозь заливающую глаза кровь он различил двоих перед собой и почуял четверых по сторонам — и ринулся в 23-ю квартиру.
Стоящий в дверях шарахнулся; нападавшие сзади хватали за ворот и полы пиджака. Он выдернул кольт из кобуры, обернулся и выстрелил в дверь, но удар ломиком по кисти отклонил пулю вниз. Она угодила кому-то в колено, и тот рухнул с пронзительным воплем. Еще удар по кисти, и Ковальский выронил револьвер из ослабевших пальцев. На него кинулись пятеро; дрались три минуты. Били его в основном по голове: врач насчитал около двадцати черепных ушибов. Оборвали ухо, размозжили нос, превратили лицо в кровавую кашу.
Он дрался почти бессознательно. Дважды он едва опять не завладел револьвером; наконец чья-то нога отшвырнула кольт в другой конец комнаты. Когда он бессильно упал ничком, его еще долго с размаху пинали; но на ногах оставались лишь трое.
Главарь перевернул Ковальского на спину, поднял ему веко, потом прошел к телефону у окна и, тяжело дыша, набрал номер.
— Взяли, — сказал он в трубку. — Дрался? Еще бы не дрался. Успел раз выстрелить, попал Гверини в колено. Капетти схлопотал между ног, Виссар по виску, вроде дышит… Чего? Ну да, поляк жив, вы же убивать не велели, а то бы все были целы… Да, уж он свое получил. Не знаю, он без сознания… Слушайте, хватит вам, кофе с молоком не надо, присылайте скорей санитарные машины.
Четверть часа спустя два санитарных «ситроена» остановились у здания, и наверх взбежал врач. Минут пять он осматривал Ковальского, потом засучил ему рукав, сделал укол, и двое санитаров, кряхтя, унесли на носилках огромное безжизненное тело.
Через двенадцать часов Ковальский лежал на койке в подвальной камере тюрьмы неподалеку от Парижа. На беленых стенах камеры, в пятнах, подтеках и плесени, там и сям были нацарапаны ругательства и молитвы. Стояла спертая духота, пахло карболкой, потом и мочой. На вцементированной койке был плоский тюфяк, под голову подложено скатанное одеяло. Лодыжки, бедра и кисти закрепили широкими кожаными ремнями; еще один ремень перетягивал грудь. Он был все еще без сознания и дышал глубоко и прерывисто. Кровь с лица смыли, лоб и ухо зашили, нос заклеили пластырем.
Склонившийся над ним человек в белом халате закончил осмотр, выпрямился, спрятал в сумку стетоскоп и кивнул другому, который дожидался поодаль; тот постучал в дверь. Их выпустили, и дверь снова захлопнулась, а тюремщик задвинул два огромных засова.
— Он что у вас, под поездом побывал? — спросил врач, когда они шли по коридору.
— Шесть человек поработали, — отозвался полковник Роллан.
— Нечего сказать, потрудились. Едва не отправили его на тот свет. И отправили бы, не будь он такой здоровяк.
— Иначе его было не взять. Он и так троих изувечил. Однако к делу: мне нужно задать ему несколько вопросов. — Роллан разглядывал огненный кончик сигареты. Они остановились: дальше им было не по пути. Один шел в тюремную клинику, другой — к лестнице на первый этаж. Врач неприязненно поглядел на начальника Аксьон сервис.
— Здесь у нас тюрьма, — тихо сказал он. — Сидят у нас государственные преступники, знаю. И все же я — тюремный врач, и во всей тюрьме с моим мнением как-никак считаются. Этот коридор, — он повел головой назад, — ваша, особая зона. Мне сказано было яснее ясного, чтобы я сюда нос не совал и вообще помалкивал. Однако учтите: если вы начнете «расспрашивать» — а я знаю, как вы расспрашиваете, — этого человека прежде, чем он хоть немного оправится — хотя бы от сотрясения мозга, — то он либо умрет, либо свихнется.
Полковник Роллан выслушал это предостережение совершенно хладнокровно.
— Сколько надо ждать? — спросил он. Врач пожал плечами.
— Трудно сказать. Может, он придет в сознание завтра, а может — через несколько дней. Но и после этого никакие допросы немыслимы — с врачебной то есть точки зрения: немыслимы еще две недели. Это как минимум — если сотрясение легкое.
— Имеются препараты, — проронил полковник.
— Имеются, только я их выписывать не собираюсь. Вы, конечно, наверняка их достанете, так хотя бы не через меня. И все равно ничего связного от него не добьетесь: будет молоть чепуху. Рассудок его, безусловно, поврежден, прояснится он или нет, неизвестно. Но уж не раньше своего времени. Психотропные препараты сделают из него идиота, вот и все. Словом, очнется он, вероятно, через неделю. Извольте подождать.
Но врач ошибся. Ковальский открыл глаза через трое суток, 10 августа, и в тот же день ему устроили первый и последний допрос.
А между тем Шакал завершал приготовления к решающей поездке во Францию.
В Автомобильной ассоциации он предъявил водительские права на имя Александра Дуггана — и получил на то же имя международные права. Приобрел три подержанных кожаных чемодана; в один из них были упакованы принадлежности облика пастора Пера Иенсена из Копенгагена. При этом он спорол английские и нашил датские ярлыки с трех купленных в Копенгагене сорочек на пасторскую рубашку, воротничок и манишку. К ним прилагалось все прочее: туфли, носки, белье и легкий костюм цвета маренго. Таким образом должен был возникнуть, если понадобится, пастор Пер Иенсен. В тот же чемодан Шакал уложил и пожитки американского студента Марти Шульберга: спортивные туфли, носки, джинсы, пуловеры и нейлоновую куртку.
В плотную двойную подкладку были зашиты паспорта этих двух иностранцев, запасных личин Шакала. И наконец, он положил в чемодан датский путеводитель по французским соборам, очки для пастора и для студента, две разноцветные пары контактных линз, завернутые в бумажные салфетки, и тюбики с краской для волос.
Второй чемодан содержал ботинки, носки, рубаху и брюки французского производства, купленные на парижском Блошином рынке в дополнение к долгополой шинели и черному берету. В подкладку были зашиты документы несуществующего француза Андре Мартена. Чемодан был неполон: оставалось место для стальных трубок со снайперской винтовкой.
Третий чемодан, немного поменьше, вмещал одежду Александра Дуггана: его туфли, носки, белье, рубашки, галстуки, платки и три элегантных костюма; а в подкладке — несколько тоненьких пачек десятифунтовых кредиток, общим счетом на тысячу фунтов — эти деньги Шакал снял со своего банковского счета, вернувшись из Брюсселя.
Чемоданы были заперты, замки проверены, ключи надеты на кольцо; сизый костюм вычищен, отутюжен и повешен в стенной шкаф — с паспортом, правами (английскими и международными) и сотней фунтов на мелкие расходы во внутреннем кармане пиджака.
Кроме трех чемоданов, имелся еще саквояж, а в нем — бритвенный прибор, пижама, губка в полиэтиленовом пакете, полотенце и кой-какие последние покупки: тоненький, но очень прочный бандаж, два фунта гипса, несколько широких марлевых мотков, полдюжины рулончиков лейкопластыря, три пачки ваты и туповатые, но мощные портновские ножницы. Шакал знал по опыту, что ручная кладь вроде саквояжа никакого интереса у таможенников не вызывает.
Таким образом, все практические приготовления были закончены. Личины пастора Иенсена и студента Марти Шульберга ему, надеялся он, вряд ли понадобятся: они у него были в запасе, на случай, если почему-либо прогорит Александр Дугган. Бегство — дело нешуточное, мало ли как оно обернется. А не понадобятся, так чемодан можно будет оставить где-нибудь в камере хранения. Зато без личины Андре Мартена никак не обойтись; но потом и от нее вместе с винтовкой надо будет избавиться. Короче, въезжал он во Францию с четырьмя местами багажа, а выехать располагал с двумя — саквояжем и чемоданом.
Да, все было в порядке; еще две бумажки — и можно трогаться в путь. Во-первых, парижский телефонный номер, чтоб узнавать, как обстоит дело с охраной французского президента. Во-вторых, требовалось оповещение от герра Майера из Цюриха — что на такой-то счет переведены двести пятьдесят тысяч долларов.
А дожидаючись бумажек, он расхаживал по квартире и учился хромать. Через два дня он разработал такую хромоту, что со стороны невозможно было усомниться: сломана лодыжка либо голень.
Первое письмо пришло утром 9 августа. В конверт со штемпелем римской почты был вложен листок, на котором напечатано:
«Свяжетесь с вашим другом по телефону Молитор 5901. Скажете: Ici Chacal.[36] Вам ответят: Ici Valmy.[37] Удачи».
Письмо из Цюриха прибыло только утром одиннадцатого. Шакал радостно улыбнулся — что бы там ни было, а если он останется жив, то до конца своих дней будет богатым человеком. Если удастся все остальное, то будет еще богаче. А что удастся — в этом он ничуть не сомневался. У него все было продумано с начала до конца.
Остаток утра он провел у телефона: звонил и заказывал билеты. Заказал на следующее утро, на 12 августа.
Виктора Ковальского начали допрашивать в той самой камере утром десятого августа; наконец после восьмичасовой пытки электричеством, в шестнадцать десять он сломался: включили магнитофон, и между всхлипами и вскриками появились ответные слова, а спрашивать его не уставали:
— Почему они там засели, Виктор… в этом отеле… Роден, Монклер и Кассон… чего они боятся… с кем они виделись… почему никто не приходил, Виктор… пожалей себя, скажи нам, Виктор… почему в Риме… В Вене почему, Виктор… где они были в Вене… какая гостиница… почему они там были, Виктор…
Ковальский выплевывал, выкашливал невольные слова вперемешку со стонами минут пятьдесят; записывали его, пока он не замолк; проверили — умер, и немедля отправили кассету из тюремного подвала в Париж, в резиденцию Аксьон сервис.
Извещенный об этом полковник Роллан явился, прервав ужин с друзьями в ресторане, в свой кабинет около часу ночи. Ему принесли вместе с чашкой кофе первый экземпляр распечатки показаний Ковальского.
Сперва он бегло прочел все двадцать шесть страниц, чтобы хоть немного разобраться в полубредовом словесном месиве. Посредине чтения что-то его насторожило; он нахмурился, однако дочитал машинопись до конца.
Второй раз он читал медленнее, внимательнее, обдумывая каждый абзац. На третий — взял черный фломастер и от строки к строке вычеркивал слова и фразы, относящиеся к Сильвии, «легконии», Индокитаю, Алжиру, Жожо, Ковачу, корсиканским ублюдкам, Иностранному легиону. Тут все было понятно, и Роллана ничуть не интересовало, равно как и упоминания о некой женщине по имени Жюли.
В конце концов показания сократились до шести страниц, и он попытался их как-нибудь связать. Рим, Рим, Рим. Три главаря находятся в Риме: а почему? Этот вопрос был задан Ковальскому восемь раз, и отвечал он примерно одно и то же. Не хотят, чтобы их похитили, как Аргу в феврале. Само собой, подумал Роллан: неужели же он зря потерял время на вызов, захват и допрос Ковальского? Правда, два раза в этих восьми ответах мелькнуло слово «тайный». Ничего тайного в том, что они в Риме, нет. Может, не «тайный», а «тайна»? Какая тайна?
Роллан в десятый раз дочитал протокол до конца и вернулся к началу. Три оасовца засели в Риме — и не хотят, чтобы их похитили. Если их похитят, может раскрыться тайна.
Роллан иронически улыбнулся. Ну вот то-то, а генерал Гибо думал, будто Роден станет прятаться с перепугу.
Тайна, значит. Что же это за тайна? Похоже, она как-то связана с их пребыванием в Вене. «Вена» всплывала три раза, но поначалу Роллан подумал, что Ковальский говорит не о Вене, а о Вьенне, городке в двадцати милях к югу от Лиона. Да нет, городок тут, видимо, ни при чем, должно быть, речь идет об австрийской столице.
Положим, у них было совещание в Вене. Оттуда они поехали в Рим и приняли все меры, чтобы их не похитили и не выпытали у них некую тайну. О чем же они совещались в Вене?
Тянулись ночные часы; чашкам кофе уж и счет был потерян, в снарядной гильзе росла гора окурков. Но еще не забрезжил рассвет над унылым фабричным предместьем к востоку от бульвара Мортье, а полковник Роллан почуял, что он близок к разгадке.
Многое, впрочем, оставалось неясным и теперь уж не прояснится: в три часа по телефону доложили, что новый допрос невозможен, Ковальский умер. Но, может, что-нибудь все-таки отыщется в этом бессильном словоизвержении, выдавленном из поврежденного сознания?
Роллан записывал на отдельном листке, казалось бы, случайные, никак не идущие к делу слова. Клейст, кого-то зовут Клейст. Поляк Ковальский произносил эту немецкую фамилию правильно, и Роллан, который еще с войны имел некоторое представление о немецкой речи, поправил неверно записанное слово. Фамилия? А если название места? Он позвонил и велел справиться по венской телефонной книге, какие там есть Клейсты. Через десять минут сообщили, что персональных абонентов два столбца, а есть еще начальная школа Эвальда Клейста и пансион «Клейст» на Брукнер-аллее. Роллан записал и школу, и пансион, но пансион подчеркнул. Потом снова стал вчитываться в протокол.
Несколько раз упоминался какой-то иностранец, и Ковальский то говорил о нем «bon», хороший, то вдруг называл его «fâcheur» — негодяй. В шестом часу утра полковник Роллан послал за кассетой и магнитофоном и целый час прослушивал запись. Наконец, выключив магнитофон, он тихо и яростно выругался, взял ручку и внес в текст исправления.
Вовсе не «bon» говорил Ковальский, а «blond», блондин. И другое слово плохо выговаривалось разбитыми губами: не «fâcheur», а «faucheur», убийца.
Все сразу стало куда яснее. И слово «шакал», которое Роллан всюду повычеркивал, потому что решил, будто так Ковальский честит своих преследователей и мучителей, приобрело иной смысл. Это была кличка белокурого убийцы-иностранца, с которым виделись три главаря ОАС в венском пансионе «Клейст» за несколько дней до того, как переехали в Рим и поселились в гостинице под охраной.
Вот, значит, зачем восемь недель грабили во Франции банки и ювелирные магазины. Этот блондин запросил с ОАС большие деньги, и запросить такие деньги он мог лишь за одно-единственное дело на свете. Не затем его вызывали, чтобы сводить счеты или утрясать дрязги.
В семь утра Роллан позвонил дежурному связисту и велел отправить «молнию» резиденту СДЕКЕ в Вене, пренебрегая установленным порядком (это полагалось делать только через отдел Р-3, Западная Европа). Потом он затребовал все экземпляры протокола и запер их у себя в сейфе. И наконец сел писать докладную записку, у которой был лишь один адресат, да еще с пометкой «строго конфиденциально».
Писал он без сокращений, вкратце описав предпринятую им по личной инициативе операцию по захвату Ковальского: как бывшего легионера удалось заманить в Марсель, передав ему окольным путем ложные сведения о болезни близкого человека; как его арестовали агенты Аксьон сервис; как он был затем подвергнут допросу (без лишних подробностей, разумеется) — и дал несколько путаные показания. Он счел нужным добавить, что при аресте Ковальский оказал сопротивление, изувечил двоих и пытался покончить с собой, вследствие чего пришлось его госпитализировать, и признания были им сделаны на больничной койке.
Следовал протокол допроса с комментариями Роллана. После этого он прервался, глядя на крыши в позолоте утреннего солнца. У него была, как он прекрасно знал, прочная и заслуженная репутация сдержанного и отнюдь не склонного к преувеличениям человека. Поэтому он тщательно взвесил каждое слово заключительного абзаца:
«Поиски дополнительных фактов, подтверждающих наличие предполагаемого заговора, ведутся в данный момент. Следует заметить, что в случае, если таковые обнаружатся, заговор этот представляет, на мой взгляд, еще небывалую опасность для жизни президента Франции. Если мои предположения верны, если некий убийца-иностранец нанят с целью произвести покушение на президента и в настоящее время это покушение подготавливает, то считаю своим долгом сообщить, что необходимы чрезвычайные меры общегосударственного масштаба».
Против всякого обыкновения полковник Роллан сам переписал докладную на машинке, вложил ее в конверт, оттиснул на сургуче свою личную печать и поставил штемпель, означавший высшую степень секретности. Он сжег рукописный черновик докладной над раковиной рукомойника в углу кабинета и смыл пепел.
Затем он вызвал к себе в кабинет связного-мотоциклиста, а заодно попросил принести ему яичницу, булочку с маслом, еще кофе — на этот раз большую чашку с молоком — и, наконец, аспирину: у него разболелась голова.
Он вручил связному запечатанный конверт, объяснил, куда и кому его доставить, съел яичницу с булочкой и уселся допивать кофе на подоконник у распахнутого окна в сторону Парижа. За несколько миль видны были шпили собора Парижской богоматери, а еще дальше, в разогретом мареве над Сеной, очертания Эйфелевой башни.
Был десятый час утра, и, должно быть, горожане, отрываясь от обыденных дел, чертыхались вслед завывающей сирене и мотоциклисту в кожаной куртке, который мчался в обгон и наперерез машинам к Восьмому округу Парижа.
9
В то же самое утро, ближе к полудню, министр внутренних дел Франции сидел за столом у себя в кабинете и угрюмо смотрел из окна на залитый солнцем овальный двор. В дальнем конце его были резные чугунные ворота с гербами Французской республики на створках, а за ним шумела площадь Бово: потоки машин выплескивались на нее с Фобур Сент-Оноре и с авеню Мариньи, образуя гудящий водоворот вокруг возвышавшегося в центре регулировщика.
Услышав за спиной шелест бумаги, министр крутнул кресло и повернулся лицом к столу. Его визави закрыл папку и почтительно положил ее на стол перед министром. Оба молча смотрели друг на друга, и слышно было лишь тиканье золоченых каминных часов против входной двери да отдаленный гул транспорта с площади Бово.
— Так что же вы думаете?
Комиссар Жак Дюкре, начальник личной охраны президента де Голля, был крупнейшим во Франции специалистом по всем вопросам безопасности, и особенно по части предотвращения покушений на убийство. Поэтому он и занимал свой пост, и поэтому же шесть организованных до того времени заговоров с целью убийства президента Франции закончились провалом либо были задушены в зародыше.
— Роллан прав, — сказал наконец Дюкре. Он произнес это ровным, спокойным, непререкаемым тоном, словно речь шла о заведомом исходе очередного футбольного матча. — Если все обстоит, как он пишет, то заговор представляет исключительную опасность. Иностранец, привлечен со стороны, действует в одиночку, без помощников, на собственный страх и риск. Вдобавок еще и профессионал… Против такого человека бессильны вся наша агентура, все нынешнее осведомители в ОАС, бесполезны тут и досье всех французских служб безопасности. Как сказано у Роллана… — Он полистал докладную шефа Аксьон сервис и прочел вслух: — «опаснейший умысел террористов», опаснее и быть не может.
— Ну, что ж, — после долгого раздумья сказал министр, снова обозревая слепящий двор, — необходимо поставить его в известность.
Полицейский промолчал. В положении технического исполнителя имелись преимущества: он делал свое дело, а руководящие решения принимали другие, за то им и деньги платили. Ему незачем было лезть вперед с дурными вестями. Министр обернулся к нему.
— Хорошо. Благодарю, комиссар. Постараюсь сегодня же попасть на прием и доложить президенту. — Он заговорил сухо и решительно. Делать так делать. — Вряд ли стоит напоминать вам о необходимости соблюдения строжайшей тайны до тех пор, пока я не ознакомлю президента с ситуацией и не получу соответствующих указаний.
Комиссар Дюкре встал и пешком отправился восвояси через площадь; оттуда до ворот Елисейского дворца оставалось метров сто. После его ухода министр внутренних дел придвинул к себе перламутрового цвета папку и еще раз внимательно перечел докладную. Роллан, несомненно, делал правильные выводы, Дюкре их подтвердил, и теперь деваться было некуда. Опасность существует, опасность серьезная, отмахнуться от нее нельзя, и президент должен знать о ней.
Он как бы нехотя нажал на рычажок диктофона: пластмассовый ящик тут же ожил, и министр распорядился:
— Соедините меня с генеральным секретарем Елисейского дворца.
Не прошло и минуты, как зазвонил красный телефон рядом с ящиком. Роже Фрей изложил свое дело в двух словах.
— Весьма и весьма срочно, Жак… Да, понимаю, но что поделаешь. Буду ждать. Пожалуйста, позвоните мне тотчас же.
Звонок воспоследовал примерно через час. Аудиенция была назначена на четыре, сразу после президентской сиесты. Министра потянуло было протестовать: листки с бювара взывали о деле поважнее сиесты, но он сдержался. В окружении президента все знали, как нежелательно пререкаться с этим обходительным служакой, вхожим к президенту в любое время дня и ночи и копившим на всех материалы интимного свойства, о которых поговаривали с опаской.
Без двадцати четыре Шакал вышел из ресторана «Каннингэм» на Керзон-стрит, изысканно и роскошно отобедав рыбными блюдами — лучшими, какие готовят в Лондоне. В конце концов, рассудил он, выезжая на Саут Одли-стрит, видимо, в ближайшее время пообедать в Лондоне не удастся, и это стоило как-то отметить.
В тот же самый момент из ворот французского министерства внутренних дел на площади Бово выехал черный лимузин «DS-19». Полицейские у чугунных ворот окликнули регулировщика, и он приостановил движение транспорта с прилегающих улиц, щелкнул каблуками и взял под козырек.
Через сотню метров «ситроен» свернул к серому каменному порталу Елисейского дворца. Постовых жандармов оповестили, и движение было опять-таки перекрыто; лимузин беспрепятственно развернулся и заехал под редкостно узкую арку. Двое республиканских гвардейцев у сторожевых будок по обе стороны портала дружно хлопнули белыми перчатками по карабинам, взявши «на караул», и министр въехал во двор.
На выезде из-под арки путь лимузину преградила низко свисавшая цепь; подошел дежурный инспектор, подчиненный Дюкре, и мельком заглянул в машину. Он поклонился министру, тот кивнул в ответ. Инспектор подал знак, цепь опустили на землю, и «ситроен» с хрустом проехал по ней. От ворот до фасада дворца было метров тридцать рыжеватого гравия. Водитель принял вправо и, обогнув двор против часовой стрелки, доставил своего шефа к подножию шестиступенчатой гранитной лестницы.
Дверцу распахнул швейцар в черном фраке, с серебряной цепочкой на животе. Министр выбрался из машины и взбежал по ступенькам. У стеклянных дверей его встретил старший служитель и провел внутрь. В вестибюле они задержались под огромной люстрой, свисавшей из-под свода на золоченой цепи, пока служитель звонил по телефону с мраморного столика слева от входа. Положив трубку и обернувшись, он раздвинул губы в улыбке и проследовал величественной неспешной походкой налево, вверх по устланным ковром гранитным ступеням.
На втором этаже они спустились по нескольким широким ступеням, и на площадке над холлом служитель мягко постучал в дверь слева. Изнутри донеслось: «Войдите!» — служитель распахнул дверь и отступил, пропуская министра в церемониальный зал.
Теплый солнечный свет струился из обращенных к югу широких окон и заливал ковер. Дальнее, во всю стену, окно было раскрыто, и из сада слышалось голубиное воркование. В пятистах метрах, отгороженные раскидистыми липами и буками, шумели Елисейские поля, но гул моторов доносился еле-еле, не громче того же воркования. В южной части Елисейского дворца коренному горожанину г-ну Фрею всякий раз казалось, что он перенесся в какой-то заброшенный замок в деревенской глуши. Президент, известное дело, большой любитель природы.
Дежурил полковник Тессер. Он поднялся из-за столика.
— Полковник… — Г-н Фрей повел головой влево, в сторону дверей с золочеными ручками. — Обо мне доложили?
— Разумеется, господин министр. — Тессер прошел в конец зала, постучал, приоткрыл створку и остановился на пороге.
— Господин президент, министр внутренних дел.
Из-за двери донесся одобрительный рокот. Тессер отступил, улыбнулся министру, и Роже Фрей прошел мимо него в личный кабинет Шарля де Голля.
Министр давно заметил, что в отделке и обстановке этого кабинета во всех мелочах виден его владелец. Справа были три высоких красивых окна, тоже выходивших в сад. Одно из них было раскрыто, и голубиное воркование, приглушенное на проходе, снова слышалось в полную силу.
Где-то между липами и буками укрылись стрелки с парабеллумами, вслепую пробивающие с двадцати метров пикового туза. Но беда, если кого из них заметят из окон второго этажа! Если бы им пришлось постоять за него, они стояли бы насмерть, но по дворцу ходили легенды о том, как гневался охраняемый, когда узнавал или замечал, как его охраняют. Тяжкий крест нес на себе Дюкре, исполнявший незавидные обязанности по охране человека, которому всякая охрана казалась унизительной.
Слева, рядом с застекленными книжными полками, стоял стол эпохи Людовика XV с часами эпохи Людовика XIV. Паркет был устлан ковром «савонри», вытканным на королевской мануфактуре Шайо в 1615 году. Президент как-то объяснил, что прежде там вытапливали мыло, потом стали ткать ковры, но они по-прежнему назывались «са-вонри» — с мыловарни.
Всюду — простота, вкус и достоинство; все напоминало о величии Франции. Таков же, по мнению Роже Фрея, был и человек, который поднялся из-за письменного стола и приветствовал его с обычной подчеркнутой любезностью.
— Дорогой Фрей!
— Мое почтение, господин президент! — министр пожал протянутую руку. Президент усадил его в гобеленовое кресло «бове» времен Первой империи. Пристроив гостя, Шарль де Голль уселся напротив, спиной к стене. Он откинулся на сиденье и возложил пальцы на полированную крышку стола.
— Мне передали, дорогой Фрей, что вы хотели видеть меня по срочному делу. Итак, что же вы имеете сообщить?
Роже Фрей набрал в грудь воздуху и приступил к делу. Он изъяснялся скупо и кратко, памятуя, что де Голль позволяет многословие только себе, и то лишь на официальных церемониях. В обиходе же генерал ценил краткость, в чем довелось убедиться кой-кому поречистее из его подчиненных.
Слово за словом слушатель министра все больше настораживался. Он глубже и глубже утопал в кресле и при этом как будто вырастал, а нос его казался командной высотой, с которой он взирал на доверенного слугу, ненароком протащившего к нему в кабинет какую-то пакость. Впрочем, Роже Фрей знал, что за пять метров президент еле-еле различает его лицо: он был близорук и скрывал это от посторонних, надевая очки лишь при надобности зачитать торжественную речь.
Министр внутренних дел говорил немногим больше минуты, упомянул под конец Роллана и Дюкре и закончил словами: «Докладная Роллана у меня с собой».
Без единого слова президент протянул руку через стол. Фрей передал извлеченную из портфеля докладную.
Шарль де Голль достал очки из нагрудного кармана, водрузил их на нос, развернул папку и углубился в чтение. Голубь за окном как будто понял, в чем дело, и перестал ворковать. Роже Фрей посмотрел на деревья, потом перевел взгляд на медную настольную лампу возле бювара. Это был изящный светильник, Фламбо де Вермей эпохи Реставрации с вмонтированной электрической лампочкой. За пять лет президентства де Голля этот светильник озарил не одну тысячу бумаг, чередой ложившихся на бювар главы государства.
Генерал де Голль читал быстро. На докладную Роллана ему не понадобилось и трех минут. Он неторопливо закрыл папку и скрестил поверх нее ладони.
— Итак, любезный Фрей, чего же вы от меня хотите?
Роже Фрей снова перевел дыхание и принялся кратко перечислять предполагаемые меры. Дважды он повторил: «…полагаю, господин президент, что в целях предотвращения опасности придется…» На тридцать третьей секунде он произнес: «Интересы Франции требуют…»
Продолжить ему не пришлось. Президент прервал его, и слово «Франция» раскатилось величественным эхом, как имя божества: так благоговейно оно не звучало ни до, ни после де Голля.
— Интересы Франции, любезный Фрей, требуют, чтобы Президент Франции не шарахался перед лицом какого-то жалкого наймита, к тому же… — Он сделал паузу, и в кабинете сгустилась атмосфера презрения, — иностранца.
Роже Фрей понял, что проиграл. Генерал не вышел из себя, как можно было опасаться. Он заговорил ясно и строго, словно втолковывая что-то собеседнику. Сквозь раскрытое окно отдельные слова доносились до полковника Тессера.
— Франция не может допустить… поступиться достоинством и величием из-за презренных угроз какого-то… какого-то Шакала.
Через две минуты Роже Фрей вышел от президента. Он сдержанно кивнул полковнику Тессеру, миновал церемониальный зал и спустился в вестибюль.
— Ого, — подумал старший служитель, проводив министра с крыльца к «ситроену» и глядя ему вслед, — видно, задали человеку задачу. Интересно, чего ему наговорил Старик. — Но он был в должности, и за двадцать лет здешней службы на лице его запечатлелось незыблемое спокойствие дворцового фасада.
По возвращении из Елисейского дворца министр тотчас вызвал своего ответственного секретаря, он же заведующий кадрами. Александр Сангинетти был родом с Корсики. Последние два года он, по поручению министра, организовывал и координировал действия органов французской государственной безопасности, чем и стяжал себе громкую репутацию, которую всякому предоставлялось оценивать сообразно своей политической принадлежности и представлению о гражданских правах.
Крайне левые ненавидели и опасались его: им не нравилось ни создание военизированных отрядов КРС,[38] ни те методы, какими действовали эти сорок пять тысяч отборных молодцов при разгоне всех и всяческих демонстраций.
— Невероятно, просто невероятно. Невозможный человек. Мы его охраняй, а он будет связывать нам руки. Уж как-нибудь добрались бы мы до этого Шакала. И вот вам, пожалуйста — никаких контрмер. Что же прикажете делать? Дожидаться выстрела? Сидеть и дожидаться?
Министр вздохнул. От своего ответственного секретаря он иного и не ждал, но криком делу не помогаешь. Он уселся за стол.
— Погодите, Александр. Начать с того, что правота Роллана все-таки еще под вопросом. Он делает свои выводы из бессвязных фраз этого… Ковальского. Может быть, Роллан и ошибается. В Вене еще не закончена проверка данных. Я узнавал у Гибо: он ожидает результатов нынче к вечеру. И надо признать, что пока нет особого смысла устраивать общегосударственную облаву на иностранца, о котором ничего не известно, кроме клички. Тут я согласен с президентом.
Затем у нас есть его инструкции… его прямые предписания. Повторю еще раз. Никакой гласности, никакого общегосударственного розыска, никакой утечки информации за пределы очень узкого круга лиц. Президент считает, что если пресса о чем-нибудь дознается, то у нас поднимется дикий вой, заграница начнет злорадствовать, и любые дополнительные меры безопасности и здесь, и там истолкуют так, будто какой-то иностранец в одиночку нагнал страху на президента Франции.
Этого он не потерпит, категорически не потерпит. Скажу больше… — министр поднял для пущей выразительности палец, — он ясно дал мне понять, что если по нашей милости хоть что-нибудь выйдет наружу, если в воздухе хоть что-то почувствуется, то мы люди конченые. И поверьте, он был тверд, как никогда.
— Но президентский регламент, — запротестовал чиновник-корсиканец, — его-то придется пересмотреть. Пока тот тип на свободе, надо отменить все публичные выступления. Должен же он…
— Ничего он не отменит. Даже не передвинет — все пойдет минута в минуту. Мы должны действовать в полном секрете.
— Как же действовать, если нам все запрещено?
— Этого я не говорил, — возразил Фрей. — Я сказал, что нам запрещено действовать в открытую. Все должно делаться втайне. У нас остается только один выход. Надо провести секретное расследование, установить личность убийцы, разыскать его — будь то во Франции или за границей — и немедля уничтожить.
— …немедля уничтожить. Такова, господа, единственная альтернатива.
Министр внутренних дел многозначительно помолчал и обвел взглядом участников совещания, сидевших за столом в конференц-зале. Всего собралось четырнадцать человек.
Министр стоял во главе стола. Справа от него сидел ответственный секретарь, слева — префект полиции, ее политический руководитель.
Правее Сангинетти занимали места начальник СДЕКЕ генерал Гибо и шеф Аксьон сервис полковник Роллан: экземпляр его докладной лежал перед каждым из присутствующих. Возле Роллана сидел начальник личной охраны президента комиссар Дюкре, а рядом с ним — сотрудник из Елисейского дворца, полковник авиации Сен-Клер де Виллобан, рьяный приверженец де Голля и, по достоверным сведениям, еще более рьяный честолюбец.
Слева от префекта полиции г-на Мориса Папона находился Морис Гримо, генеральный директор государственного криминального ведомства Сюрте насьональ, далее, один за другим, руководители пяти подведомственных ему управлений.
На страницах романов Сюрте насьональ — гроза преступного мира, на самом же деле так называется учрежденьице с небольшим штабом, которое координирует работу пяти управлений, действительно имеющих дело с преступниками. Функция Сюрте, как, кстати, и легендарного Интерпола, чисто административная, и в штате его нет ни одного детектива.
Весь сыскной аппарат Франции был в подчинении у соседа Мориса Гримо слева — Макса Ферне, начальника ПЖ — Уголовной полиции. Главное управление Уголовной полиции занимает громадное здание вдоль набережной Орфевр: его не сравнить со скромным домом на улице Соссэ, за углом от министерства внутренних дел, где находится Сюрте. Главное управление ведает семнадцатью областными филиалами, по числу полицейских округов французской метрополии. Кроме этого, существуют национальная жандармерия и дорожные патрули, поддерживающие порядок в сельской местности и на дорогах. Во многих районах жандармов и полицейских из практических соображений расквартировали в одних и тех же зданиях. Таким образом, под началом Макса Ферне в 1963 году состояло свыше десяти тысяч полицейских.
Третьим слева от Ферне сидел начальник Direction de la surveillance du territoire, ДСТ, — французской контрразведки, в обязанности которой входит также и постоянное наблюдение за аэродромами, морскими портами и границами Франции. На всех пограничных пунктах регистрационные карточки перед отправкой в архив поступали на просмотр к тамошнему дежурному офицеру ДСТ, и тот фиксировал прибытие во Францию нежелательных лиц.
Вереницу высокого начальства замыкал глава КРС, того самого сорокапятитысячного корпуса, который стараниями Александра Сангинетти снискал за последние два года особую известность и дурную славу.
Начальнику КРС сбоку места не хватило, и он сидел прямо напротив министра. Между ним и полковником Сен-Клером, на самом углу стола, стояло еще одно кресло. Его занимал грузный мужчина флегматичного вида, дымивший трубкой и тем явно раздражавший утонченный вкус полковника. Привел его Макс Ферне по специальному указанию министра. Это был комиссар Морис Бувье, глава Уголовного розыска.
— Вот так обстоят наши дела, господа, — продолжал министр. — Докладная полковника Роллана перед вами, вы все с нею ознакомились. Мы должны предотвратить угрозу. Однако вы слышали, какие жесткие условия президент счел нужным нам поставить ради соблюдения престижа Франции. Еще раз подчеркиваю, что как само расследование, так и любые проистекающие из него акции должны быть строго секретны.
Я созвал вас потому, что, на мой взгляд, все ваши учреждения раньше или позже окажутся тут при деле, и вам как руководителям надо знать, что к чему. В любую минуту может потребоваться личное и безотлагательное участие каждого из вас. Подчиненным нельзя перепоручать ничего, кроме заданий второстепенных, не наводящих на догадки.
Он опять помолчал. Кое-кто степенно кивнул. Другие выжидательно смотрели на министра или разглядывали свою копию досье. Комиссар Бувье на дальнем конце стола обозревал потолок и попыхивал трубкой, выпуская дым короткими струйками, словно подавал сигнал на манер индейца в дозоре. Сидевший рядом с ним полковник недовольно морщился.
— А теперь, — продолжал министр, — слово за вами. Полковник Роллан, удалось ли вам что-нибудь выяснить в Вене?
Глава Аксьон сервис поднял глаза от собственной докладной и покосился на шефа СДЕКЕ, но тот и бровью не повел.
Роллан с утра самочинно использовал для выяснений венскую агентуру СДЕКЕ, и генералу Гибо пришлось полдня успокаивать начальника своего третьего разведывательного отдела. Генерал этого не забыл, и теперь взгляд его был неподвижен.
— Да, — ответил полковник. — Во второй половине дня наши оперативники закончили расспросы в «Пансионе Клейст» — есть такой маленький частный отель на Брукнер-аллее. Их снабдили фотографиями Марка Родена, Рене Монклера и Андре Кассона. Снимков Виктора Ковальского в Вене под рукой не оказалось, а передать мы не успели.
Дежурный припомнил двоих, но кто они, сказать затруднялся. Ему сунули взятку, и он согласился просмотреть регистрационную книгу с 12 по 18 июня — 18-го все трое главарей ОАС поселились вместе в Риме.
В конце концов он заявил, что помнит в лицо Родена, который 15-го снял номер на имя Шульца. По словам дежурного, в номере происходила какая-то деловая встреча, а на другое утро Шульц уехал.
Запомнился он в особенности потому, что у него был дюжий и угрюмый спутник. С утра в номер явились какие-то двое, и началось совещание. Вероятно, это были Кассон и Монклер. Их снимки были ему предъявлены, и одного из них он как будто припоминает.
Они якобы весь день просидели в номере, только Шульц и верзила — так он окрестил Ковальского — днем отлучались куда-то на полчаса. Еды в номер никто не заказывал, в ресторан не спускались.
— Четверо, а пятого не было? — нетерпеливо вмешался Сангинетти.
Роллан продолжал все тем же ровным тоном.
— Вечером к ним на полчаса наведывался еще кто-то. Дежурный его запомнил, потому что человек этот вошел быстрым шагом и сразу направился к лестнице, промелькнул перед глазами. Он было подумал, что это кто-нибудь из постояльцев со своим ключом, но в спину ему все-таки посмотрел. Через несколько секунд тот вернулся в холл, и дежурный узнал его по одежде.
Он позвонил по внутреннему телефону и спросил Шульца из 64-го. Сказал что-то по-французски, положил трубку и снова пошел наверх. Через полчаса он спустился и вышел, не сказав ни слова. Примерно час спустя ушли поодиночке и оба других посетителя. Шульц с верзилой переночевали, позавтракали и отбыли.
Вечернего посетителя дежурный описывает так: высокий, неопределенного возраста, черты лица как будто правильные — впрочем, на нем были темные круговые очки — бегло говорит по-французски, блондин, волосы длинные, зачесаны назад.
— А нельзя ли с помощью дежурного сделать фоторобот этого блондина? — спросил префект полиции Папон.
Роллан покачал головой.
— Мои… наши агенты прикинулись венскими сыщиками. По счастью, один из них может сойти за венца. Но затягивать этот маскарад нельзя. Его и расспрашивать-то приходится на рабочем месте.
— Нужны приметы поточнее, — жестко заметил начальник архивного управления. — А как насчет имени или фамилии?
— Не упоминались, — сказал Роллан. — Это все, что удалось выжать из дежурного за три часа. По каждому пункту его расспрашивали снова и снова. Больше из него не вытянешь. В дополнение к этим приметам можно рассчитывать разве что на фоторобот.
— Почему бы вам не похитить его, как Аргу, и не изготовить фоторобот здесь, в Париже? — поинтересовался полковник Сен-Клер.
Вмешался министр.
— Хватит с нас похищений. Из-за Аргу у нас до сих пор нелады с министерством иностранных дел ФРГ.
— Но ведь положение серьезней некуда, а дежурный — не Аргу, его исчезновение особого шума не наделает, — возразил начальник ДСТ.
— Кроме всего прочего, — спокойно заметил Макс Ферне, — от опознавательного фото человека в круговых темных очках пользы маловато. Видели его мельком и вполглаза два месяца назад: портреты в таких случаях выходят самые приблизительные, и пойманные преступники на них, как правило, непохожи. Подозреваемых окажется с полмиллиона, и хорошо еще, если фото не будет сбивать с толку.
— Значит, кроме покойного Ковальского, который выложил то немногое, что ему было известно, только четверо во всем мире знают, кто этот Шакал, — сказал комиссар Дюкре. — Он сам и те трое, в римском отеле. А как бы нам заполучить одного из них?
Министр снова покачал головой.
— На этот счет мне сказано прямо. Похищения исключаются. Итальянское правительство из себя выйдет, если кого-нибудь начнут похищать в двух шагах от виа Кондотти. К тому же это вряд ли удалось бы. Как вы считаете, генерал?
Генерал Гибо поднял глаза.
— По сведениям моих агентов, которые не спускают глаз с Родена и его подручных, заслон там такой мощный, что о похищении и думать нечего, — сказал он. — Оборону держит отборная восьмерка бывших легионеров — семерка, если Ковальского не заменили. Стерегут все входы и выходы, лифты, пожарную лестницу и крышу. Чтоб взять хоть одного из главарей живьем, понадобится нешуточная пальба, придется пустить в ход пулеметы и дымовые шашки. А вдобавок и итальянцы вскинутся — и где ж тут доставить его за пятьсот километров во Францию. По таким делам у нас есть первейшие в мире специалисты; они говорят, что без десантных отрядов здесь нипочем не обойтись.
В зале воцарилось молчание.
— Что ж, господа, — сказал министр, — давайте думать дальше.
— Ясно одно — этот Шакал должен быть найден, — подал голос полковник Сен-Клер. За столом переглянулись; кое-кто вскинул брови.
— Что ясно, то ясно, — как бы соглашаясь, процедил министр. — Осталось только решить, с учетом нашего стесненного положения, как мы это сделаем и соответственно — кто этим займется.
— Защита президента республики, — провозгласил Сен-Клер, — при любом повороте событий зависит в конечном счете от личной охраны президента и его секретариата. Смею вас заверить, министр, что мы выполним свой долг.
В зале сидели опытнейшие знатоки своего дела, и многие из них брезгливо сощурились. Комиссар Дюкре метнул на полковника совершенно убийственный взгляд.
— Видно, забылся, думает, что перед Стариком, — едва слышно буркнул Гибо Роллану.
Роже Фрей пристально поглядел в глаза сановнику из Елисейского дворца и лишний раз доказал, что не зря он назначен министром.
— Разумеется, полковник Сен-Клер совершенно прав, — мягко проговорил он. — Все мы выполним свой долг. И полковник, конечно, понимает, что если чье-то ведомство будет в ответе за эту задачу и не справится с ней, и даже если дело по чьей-либо небрежности просто получит нежелательную огласку, то с руководителя ведомства взыщется, и боюсь, довольно строго.
Угроза повисла в воздухе над длинным столом явственней, чем сизая пелена дыма из трубки Бувье. Бледная и тощая физиономия Сен-Клера заметно вытянулась, и в глазах его мелькнула тревога.
— Всем здесь известно, что личная охрана президента имеет свою ограниченную специфику, — без обиняков заявил комиссар Дюкре. — Наше дело — неотлучно находиться возле президента. Расследование же явно потребует самых разносторонних усилий, и мои сотрудники не могут ради него отвлекаться от своих прямых обязанностей.
Никто не возразил: начальник президентской охраны говорил сущую правду. Однако взгляда министра все как-то избегали. Роже Фрей обвел сидящих взглядом и выбрал комиссара Бувье, восседавшего в дыму на дальнем конце стола.
— Что скажете, Бувье? Вас мы еще не слышали.
Детектив вынул трубку изо рта, ловко пустил напоследок смачную струю дыма под нос обернувшемуся Сен-Клеру и размеренно заговорил, как бы перечисляя очевидные для него простые факты.
— Я так полагаю, господин министр, что СДЕКЕ не может отыскать этого человека через своих агентов в ОАС — в ОАС ведь его тоже не знают; Аксьон сервис не может обезвредить его — неизвестно, кого надо обезвредить. ДСТ не перехватит его на границе — кого им хватать? — а архивисты не подберут о нем сведения — откуда им знать, что за сведения требуются? Полиция его не арестует — неизвестно, кого арестовывать, а КРС не изловит — было бы кого ловить. Нет имени — и парализована вся служба безопасности Франции. Вот я и полагаю, что на первый случай нам нужно выяснить имя — без него ни в каких мерах смысла нет. Есть имя — будет человек, где человек — там и паспорт, где паспорт — там и арест. А чтобы втайне выяснить имя, это уж задача для детектива.
Он замолк и снова прикусил трубку. Все обдумывали его слова. Возражений не находилось. Справа от министра утвердительно склонил голову Сангинетти.
— А кто, по-вашему, комиссар, лучший детектив у нас во Франции? — поинтересовался министр.
Бувье поразмыслил и потом опять извлек трубку изо рта.
— Лучший детектив во Франции, господа, мой заместитель, комиссар Клод Лебель.
— Вызовите его, — сказал министр внутренних дел.
Часть вторая. Технология облавы
10
Через час Клод Лебель вышел из конференц-зала смятенный и расстроенный. Минут пятьдесят он слушал, как министр внутренних дел вводил его в курс дела.
У него будет собственное бюро: неограниченный доступ ко всей нужной информации — все ведомства, возглавляемые участниками совещания, целиком к его услугам. Никаких ограничений в расходах.
Несколько раз было подчеркнуто, что необходима полная секретность: так распорядился сам глава государства. Лебель слушал и отчаивался. Они просили — нет, требовали — невозможного. Ему не с чего было начинать. Преступления пока что нет. Следов тоже. Нет и свидетелей — кроме троих, с которыми не побеседуешь. Известно только имя, вернее, кличка, и на тебе — обыскивай целый свет.
Клод Лебель и сам знал, что он толковый полицейский. Он всегда был толковым полицейским, неторопливым, тщательным, дотошным. Иной раз его осеняло, и толковый полицейский превращался в незаурядного сыщика. Но он никогда не упускал из виду, что успех в полицейском деле на 99 процентов складывается из черновой работы, кропотливого паучьего связывания деталей, пока детали не образуют целого, целое не станет паутиной, а паутина не облепит, наконец, преступника: и тогда если даже дело и не попадет на первые страницы газет, зато в суде не смогут придраться ни к одной улике.
После совещания размноженную докладную Роллана собрали и заперли в личном сейфе министра. Одному Лебелю разрешили оставить себе копию. С его стороны была одна просьба: чтоб ему было позволено конфиденциально сотрудничать с руководителями уголовного розыска крупнейших стран, где профессиональные убийцы вроде Шакала могут быть взяты на заметку. Он указал, что без такого сотрудничества нечего и начинать поиски.
Сангинетти спросил, можно ли на этих людей положиться, будут ли они помалкивать. Лебель ответил, что нужных людей он знает лично, запрос будет неофициальный и дело пойдет путем личных контактов на уровне высших полицейских чинов. Министр слегка поразмыслил и дал разрешение.
И вот Лебель стоял в холле, поджидая Бувье, и смотрел, как мимо него один за другим проходили начальники ведомств. Одни коротко кивали на ходу, другие сочувственно улыбались и желали доброй ночи. Пока Бувье поспешно заканчивал беседу в конференц-зале с Максом Ферне, в числе последних вышел аристократ-полковник из Елисейского дворца. Лебель успел уловить его имя, когда представляли сидевших за столом: Сен-Клер де Виллобан. Он остановился перед невысоким, кругленьким комиссаром и оглядел его с плохо скрытым раздражением.
— Надеюсь, комиссар, что вы справитесь с розыском, и незамедлительно, — сказал он. — Мы во дворце будем пристально следить за ходом расследования. И если вам не удастся отыскать этого бандита, то смею вас заверить, последуют кое-какие… неприятности.
И он прошествовал вниз по лестнице. Лебель не сказал ни слова и растерянно замигал.
Ему не хватало внушительной фигуры Бувье, живого воплощения надежности закона. Не был он и остер на язык, как многие из нового поколения следователей, нынче пополнявших кадры: те умели до слез запугать и унизить свидетеля. Он справлялся и без этого.
Допрашивал он мягко, почти извиняясь, и так деликатно выяснял что-нибудь у свидетеля, что тот, сам не свой от казенной грубости, оттаивал и готов был беседовать по душам.
Были у него и другие свойства. До недавнего времени Лебель возглавлял Отдел по расследованию убийств в прославленной и самой мощной европейской Уголовной полиции. Десять лет он прослужил следователем сыскной бригады. За его мягкостью и внешней простоватостью крылся проницательный ум и упрямая хватка человека, не ведающего страха при исполнении долга. Ему угрожали самые отпетые главари французских преступников. В ответ на это Лебель растерянно мигал: казалось, угрозы не пропали даром. Только потом, за тюремной решеткой, у бандитов было время сообразить, что они недооценили человека с мягкими карими глазами и усами щеточкой.
Выслушав полковника Сен-Клера, Клод Лебель замигал, как провинившийся школьник, и ничего не сказал. Он повел порученное дело по-своему, не считаясь ни с чьими репликами.
Морис Бувье вышел из конференц-зала последним. Он хлопнул Лебеля по плечу ручищей, похожей на окорок.
— Ну что, малыш Клод? Вот такие пироги. Чего греха таить, это ведь я предложил поручить дело Уголовной полиции. Другого ничего не оставалось. А то так бы и толкли воду в ступе. Пойдем, поговорим в машине.
Лебель спустился по лестнице следом за ним, и они вдвоем забрались на заднее сиденье «ситроена», ожидавшего во дворе.
Ехали молча. Наконец Бувье заговорил.
— Придется тебе бросить прочие занятия. Все до единого. Расчистишь стол. Я пришлю Фавье и Мальпоста — сдашь им самые неотложные дела. Новый кабинет нужен?
— Да нет, я предпочел бы остаться на своем месте.
— Ладно, пусть так, только теперь у тебя там будет штаб операции «Лови Шакала». Никаких посторонних дел, договорились? Нужен тебе кто-нибудь в помощь?
— Да, Карон, — сказал Лебель.
Карон был из молодых инспекторов: они вместе работали в отделе по расследованию убийств, и Лебель выдвинул его в заместители начальника сыскной бригады.
— Ладно, Карон так Карон. Дать еще кого-нибудь?
— Нет, спасибо. Но Карона придется ввести в курс.
Бувье немного подумал.
— Что ж делать! Чудес не бывает. Ясно, что тебе нужен помощник. И все ж таки погоди часок-другой. Я приеду к себе, позвоню Фрею и испрошу допуск по всей форме. Но больше чтоб никому. Если просочится, на другой день попадет в газеты.
— Никому, кроме Карона, — сказал Лебель.
— Bon. И еще одно, последнее. Как раз перед моим уходом Сангинетти предложил, чтобы всех присутствующих регулярно информировали о ходе дел. Фрей согласился. Мы с Ферне попытались было отбрыкаться, да не вышло. С завтрашнего дня будешь каждый вечер отчитываться в министерстве. Ровно в десять.
— О господи, — сказал Лебель.
— В принципе, — продолжал Бувье с издевкой в голосе, — тебе ведь понадобятся наши ценные советы и указания, вот мы и будем под рукой. Не горюй, Клод, без нас с Ферне там не обойдется, а мы не дадим тебя слопать.
— И так впредь до особых распоряжений? — спросил Лебель.
— Боюсь, что да. Операцию-то, хоть тресни, никак на этапы не разобьешь. Тебе всего-навсего надо обнаружить убийцу прежде, чем он доберется до Большого Шарля. Неизвестно, есть ли у него свое расписание, и если есть, то какое. Может, у него намечено завтра на утро, а может, впереди еще месяц. Либо ты его поймаешь, либо хоть выяснишь, где он и кто такой. А там уже твое дело сторона, все карты в руки ребятам из Аксьон сервис.
— Бандитская свора, — проворчал Лебель.
— Не спорю, — легко согласился Бувье, — но польза от них есть. В жуткое время мы живем, любезный Клод. И обычных-то преступлений пруд пруди, а тут вдобавок еще политическое. И как ни крути, а кое без чего не обойдешься. Вот Аксьон сервис и занимается кое-чем. Словом, ты уж расстарайся и отыщи этого субчика, ладно?
Через десять минут Клод Лебель снова сидел у себя в кабинете. Будь он человеком иного склада, ему пришло бы на ум, что за последние полтора часа его наделили полномочиями, делающими его — пусть на время — самым грозным полицейским в Европе; что, кроме президента и министра внутренних дел, никто не смел отказать ему ни в чем; что он, пожалуй, мог бы мобилизовать французскую армию, если б только удалось сделать это тайком. Пришло бы ему на ум, наверно, и то, что чрезвычайные полномочия были даны в расчете на успех, что в случае успеха его ждут почести, неудача же грозит полным крушением карьеры, как намекнул Сен-Клер де Виллобан.
Но человеком иного склада он не был и ни о чем таком не подумал. Он ломал голову, как бы объяснить Амели по телефону, что его неизвестно до каких пор не будет дома. В дверь постучали. Вошел Люсьен Карон.
— Мне только что позвонили от комиссара Бувье, — начал он. — Велено явиться к вам.
— Все правильно. Впредь до особого распоряжения меня освободили от непосредственных обязанностей и поручили довольно-таки необычное задание. А тебя прикомандировали ко мне.
Он не стал тешить самолюбие Карона и скрыл, что он сам испросил молодого инспектора себе в помощники. На столе зазвонил телефон, он поднял трубку и выслушал.
— Вот-вот, — кивнул он затем Карону, — это звонил Бувье, сообщил, что тебе предоставлен допуск, и теперь можно рассказать, в чем дело. Для начала почитай-ка вот это.
Пока Карон сидел на стуле для подследственных и читал докладную Роллана, Лебель собрал со стола все подшивки и записи и кое-как распихал их по захламленным полкам позади своего кресла. Вообще кабинет был не слишком похож на мозговой центр грандиозной облавы в истории Франции.
Карон дочитал и поднял взгляд.
— Дерьмо, — сказал он.
— Вот именно, дерьмо, да еще какое, — отвечал Лебель, который редко позволял себе крепкие словечки. — И все же, — продолжал он, — послушай, что я тебе скажу вдобавок. Пока еще есть время, а потом его у меня не будет.
За полчаса он кратко описал Карону вечерние происшествия. Карон слушал молча.
— Дьявол, — подытожил он, когда Лебель закончил, — ну и заарканили они вас. — Он с минуту подумал, потом тревожно и озабоченно поглядел на шефа. — Мой комиссар, вы понимаете, что дело-то они спихнули на вас, чтоб самим не рисковать? Вы понимаете, что они с вами сделают, если вы не успеете поймать этого типа?
Лебель печально кивнул.
— Да, Люсьен, понимаю. А что поделаешь? Мне поручена работа. Надо браться за нее, и все тут.
— Да с чего же начинать?
— Начнем с того, что нам с тобой предоставлены широчайшие полномочия, какие только бывали у пары французских полицейских, — со смешком ответил Лебель. — Вот и давай их использовать. Для начала садись-ка вон за тот стол. Бери блокнот и записывай. Моего секретаря придется куда-нибудь перебросить или пока отправить в отпуск. Понадобится — вызовем. Круг посвященных замкнулся. Ты мой помощник, и ты же мой секретарь. Принеси из каптерки раскладушки и белье, умывальные и бритвенные принадлежности. Из столовой пусть принесут молока, сахару и установят здесь кофейный автомат. Кофе нам будет нужен все время. Позвони на подстанцию и скажи, чтобы в наше распоряжение выделили десять внешних каналов и одного телефониста. Если заартачатся, сошлись на самого Бувье. Приготовь мне на подпись циркуляр для рассылки по всем ведомствам, представленным на нынешнем совещании; пусть знают, что ты теперь мой единственный помощник и вправе требовать от них чего угодно.
Карон дописал и поднял глаза.
— Понятно, шеф. За ночь справлюсь. Что самое неотложное?
— Подстанция. Мне там нужен кто потолковее, лучший работник, какой у них есть. Потревожь на дому их кадровика и опять же ссылайся на Бувье.
— Ясно. Что нам от них нужно на первый случай?
— Надо как можно скорее добиться в семи странах прямой связи с начальниками отделов по расследованию убийств. По счастью, я с ними почти со всеми перезнакомился на прошлых совещаниях Интерпола. Если с начальником не знаком, знаю первого заместителя. На худой конец и этот сойдет.
Страны: Соединенные Штаты, то есть федеральный розыск в Вашингтоне, Англия — скотленд-ярдский уполномоченный по уголовному розыску, Бельгия, Голландия, Италия, Западная Германия и Южная Африка. Доберись до руководителей сыска на службе или же дома.
С каждым из них мне нужно лично поговорить утром, от семи до десяти. Разговаривать буду из кабинета связи Интерпола, интервал между разговорами двадцать минут. Внуши им всем, что разговор у меня строго конфиденциальный, а дело первостепенной важности — и, пожалуй, не только для Франции.
Я пока что спущусь в картотеку отдела и проверю, нет ли у нас на подозрении какого-нибудь иностранного убийцы, который орудовал во Франции и не был выловлен. Честно говоря, мне что-то никто в этом роде на ум не идет, и, уж наверно, Роден поостерегся с выбором.
Клод Лебель вышел из кабинета и направился к лестнице. Часы собора Парижской богоматери на том же острове посреди Сены пробили полночь, и наступило 12 августа.
11
Полковник Рауль Сен-Клер де Виллобан приехал домой как раз к полуночи. Перед этим он три часа тщательно составлял и перепечатывал докладную о вечернем совещании в министерстве внутренних дел. Утром она должна лежать на столе генерального секретаря Елисейского дворца.
Особенно увлекаться не стоило: вдруг Лебель и в самом деле отыщет этого типа. Но уж если не отыщет, то неплохо и упредить события; кое-кто, мол, заранее был начеку и имел свои сомнения насчет передачи дела Лебелю.
К тому же Лебель отнюдь не вызвал у него доверия, пустяковый человечишка, решил он про себя. «Несомненно, обладающий безупречным послужным списком» — так сформулировал он это в отчете.
Лично он невысоко ставил шансы убийцы, даже если убийца и вправду где-то притаился. У президента была самая надежная охрана в мире, а в обязанности Сен-Клера при секретариате как раз входила организация публичных выступлений президента и составление его маршрутов. Нечего было и опасаться, что какому-то чужеземному бандиту удастся прорвать эту тщательно и глубоко продуманную систему обеспечения безопасности.
Он отпер парадную дверь квартиры и услышал из спальни голос недавно переехавшей в нему любовницы.
— Это ты, милый?
— Да, дорогая. Конечно, я. Соскучилась?
Сен-Клер оставил папку в передней, вошел в спальню и самодовольно посмотрел на Жаклин. Та призывно улыбнулась в ответ.
Она ненавидела его с первого дня, ненавидела и сейчас. И мужчина-то никудышний, одно утешение, что порядочный болтун. Особенно любил он расписывать свою роль в делах Елисейского дворца.
— Почему ты так задержался? — спросила она. — Я вконец извелась.
Сен-Клер мрачно покачал головой.
— Вот уж об этом, моя дорогая, тебе совершенно незачем знать.
— У, какой ты. — Она отпрянула на другой край постели, надула губки, отвернулась и поджала колени.
— Ну, в чем дело?
— Ни в чем.
— Послушай, дорогая, я был очень занят. Небольшой аврал — пришлось перед уходом привести дела в порядок.
— Не знаю, милый, какие у тебя там важные дела, но ты все-таки мог бы дать мне знать, что задерживаешься. Я целый вечер проволновалась.
— Хорошо, теперь волноваться уже нечего. Похоже, что ОАС не оставила президента в покое, — сказал он. — Сегодня днем раскрыли заговор. Пришлось этим заняться. Вот я и задержался.
— Не выдумывай, милый, с ними давно покончено.
— Покончено, как же! Теперь они наняли иностранного убийцу… Эй, не кусайся!
Через полчаса утомленный любовью полковник Рауль Сен-Клер де Виллобан спал, уткнувшись лицом в подушку, и уютно похрапывал. Любовница его лежала рядом в темноте и смотрела в потолок.
То, что она узнала, ужаснуло ее. Хотя Жаклин и понятия не имела ни о каком заговоре, но важность признаний Ковальского была ей яснее ясного.
Она в молчании ждала двух часов ночи, поглядывая на светящийся циферблат будильника. В два она выскользнула из постели и отключила штепсель отводного телефона.
Прежде чем подойти к двери, она склонилась над полковником и порадовалась, что он не из тех мужчин, которые любят спать в обнимку. Он все храпел.
Жаклин тихо притворила за собой дверь спальни, прошла через гостиную в холл и отгородилась еще одной дверью. Она набрала номер предместья Молитор. Минуту-другую пришлось подождать, потом отозвался сонный голос. Она торопливо проговорила минуты две, удостоверилась, что ее поняли, и повесила трубку. Еще через минуту она снова была в постели и попыталась заснуть.
Ночь напролет начальников уголовного розыска полиции пяти европейских стран, Соединенных Штатов и Южной Африки будили телефонные звонки из Парижа. Отвечали на них большей частью сонно и с раздражением.
Около четырех утра очередь дошла до мистера Энтони Мэлинсона, скотленд-ярдского уполномоченного по уголовному розыску. Он спал у себя дома в Бексли. В ответ на упорное дребезжание телефона у постели он протестующе забурчал, нащупал и снял трубку и проговорил: «Мэлинсон».
— Мистер Энтони Мэлинсон? — спросил чей-то голос.
— У телефона. — Он повел плечами, освобождаясь от простыни, и взглянул на часы.
— Говорит инспектор Люсьен Карон из французской Сюрте насьональ. Я звоню по поручению комиссара Клода Лебеля.
Мэлинсон с минуту подумал: «Лебель? А, да, тот коротышка, возглавляет расследование убийств у них там, в уголовной полиции. С виду невелика пташка, но толк от него был. Здорово помог в той истории с убитым английским туристом два года назад. Если б убийцу сразу не поймали, могли бы выйти осложнения с прессой».
— Ну, знаю комиссара Лебеля, — сказал он, прикрывая трубку ладонью. — В чем дело?
Рядом с ним жена его Лили, потревоженная разговором, забормотала во сне.
— У нас возникло неотложнейшее дело весьма секретного свойства. Я назначен помощником комиссара Лебеля. Дело крайне необычное. Комиссар желал бы иметь с вами личный телефонный разговор через кабинет связи Скотленд-Ярда в девять утра. Вы не смогли бы подойти туда к этому времени и ответить на вызов?
Мэлинсон поразмыслил.
— Это что, ординарный запрос в порядке полицейского сотрудничества? — спросил он. Если так, то обойдутся и телефонной связью Интерпола. В девять часов в Ярде все и все заняты.
— Нет, мистер Мэлинсон, дело обстоит иначе. Речь идет о некотором негласном содействии. Возможно, что дело, которое возникло, никак не касается Скотленд-Ярда. Скорее всего, что так. И если так, то лучше бы обойтись без формального запроса.
Мэлинсон обдумал услышанное.
— Ладно, записываю вызов. На девять часов.
— Очень вам признателен, мистер Мэлинсон.
— Спокойной ночи. — Мэлинсон положил трубку, перевел звонок будильника с семи на полседьмого и снова заснул.
Пока Париж был погружен в предрассветный сон, некий учитель средних лет расхаживал по своей холостяцкой комнатушке. Кругом царил дикий беспорядок: книги, газеты, журналы и рукописи были разбросаны по столу, стульям и тахте, валялись даже на покрывале узкой кровати, задвинутой в нишу в дальнем углу комнаты. В другой нише была раковина, загроможденная немытой посудой.
Когда над восточными предместьями занялся рассвет, учитель наконец присел и подобрал одну из газет. Он снова пробежал глазами передовицу на страничке зарубежных новостей. Она называлась: «Главари ОАС отсиживаются в римском отеле». Прочтя ее еще раз, он решился, набросил легкий дождевик — по утрам уже было холодновато — и вышел из квартиры.
На ближайшем бульваре он подхватил такси и велел шоферу ехать на Северный вокзал. Из такси он вылез на привокзальной площади и помешкал, но, как только машина отъехала, учитель пересек улицу и зашел в ближайшее ночное кафе.
Он заказал кофе и телефонный жетон, оставил кофе на стойке и пошел в конец зала звонить. Справочная соединила его с международной телефонной станцией, и там он спросил номер телефона римского отеля. Получив ответ через минуту, он повесил трубку и вышел из кафе.
Пройдя метров сто, он снова зашел в кафе позвонить: на этот раз он узнал в справочной, нет ли неподалеку от вокзала междугородного переговорного пункта. Разумеется, оказалось, что есть — в почтовом отделении за углом центрального здания вокзала.
На почте он заказал разговор с Римом по раздобытому номеру, не назвав отеля, и прождал двадцать мучительных минут.
— Мне нужен сеньор Пуатье, — сказал он итальянцу, снявшему трубку.
— Какой синьор? — спросил голос по-итальянски.
— Француз. Пуатье. Пуатье…
— Кто? — переспросил голос.
— Француз, француз… — сказали из Парижа.
— Ах, француз. Сейчас, минуточку…
Послышались щелчки, затем усталый голос произнес по-французски:
— Н-нда…
— Слушайте, — торопливо проговорил парижанин. — У меня мало времени. Берите карандаш и записывайте. Начинаю: «Вальми для Пуатье. Шакал накрылся». Повторяю: «Шакал накрылся. Ковальского взяли. Перед смертью раскололся. Все». Ясно?
— Н-нда… — сказал голос. — Передам.
Вальми положил трубку, поспешно оплатил счет и шмыгнул на улицу. Он тут же затерялся в толпе служащих, выплеснувшейся из главного вокзального выхода. Через пару минут после исчезновения Вальми к почте подкатил автомобиль, и двое из ДСТ кинулись внутрь. Они потребовали у телефониста описать звонившего, но его описание годилось на любого.
В Риме Марка Родена разбудили в 7.55; охранник с нижнего этажа потряс его за плечо. Он мигом проснулся и привскочил, отыскивая под подушкой пистолет. Тут же узнав в лицо склонившегося над ним легионера, Роден облегченно фыркнул. Он покосился на ночной столик: восемь, а он еще в постели.
Августовское римское солнце уже высоко стояло над крышами, а ведь за годы в тропиках полковник привык просыпаться в самую рань. Еще бы, неделю за неделей он только и делал, что литрами пил дешевое красное вино, вечерами картежничал с Монклером и Кассоном и даже не имел возможности поразмяться. Неудивительно, что он обленился и стал сонлив.
— Телефонограмма, полковник. Только что позвонили, вроде спешная.
Легионер протянул блокнотный листок, на котором были вразмашку нацарапаны бессвязные фразы Вальми. Роден прочел телефонограмму и выпрыгнул из-под простыни. Он обернул бедра куском полотна — тоже восточная привычка — и перечитал бумажку.
— Ладно. Можете идти.
Легионер отправился на свой этаж.
Роден несколько секунд яростно ругался про себя, комкая листок бумаги. Черт, черт, черт, черт побери Ковальского…
Первые два дня после исчезновения телохранителя он думал, что тот попросту дал тягу. С недавних пор случаи дезертирства участились: рядовой состав убеждался, что ставка ОАС бита, что им не удастся прикончить Шарля де Голля и свергнуть нынешнее французское правительство. Но казалось, что Ковальский-то будет верен до конца. Теперь Ковальского не было в живых, и Роден прекрасно понимал, какая тому выпала смерть.
Однако важнее всего было припомнить, что же именно мог сказать Ковальский. Встреча в Вене, название отеля. Это разумеется. Имена троих участников встречи. Невелика новость для СДЕКЕ. Но что он знал о Шакале? У дверей он не подслушивал, это точно. Он мог сказать, что к ним троим приезжал высокий белокурый иностранец. Факт сам по себе незначительный. Может, это был торговец оружием или кредитор ОАС. Имя его не упоминалось.
Но в телефонограмме Вальми названа условная кличка — Шакал. Откуда? Как это могли выпытать у Ковальского?
Вздрогнув от ужаса, Роден отчетливо припомнил, как они расставались. Они с англичанином стояли в дверях, Виктор — за несколько шагов в коридоре, раздраженный тем, что англичанин приметил его в нише — профессионал провел профессионала, — и ожидал стычки. Что он, Роден, тогда сказал? «Bonsoir, monsieur Chacal». Конечно, будь оно трижды проклято!
Перебрав все в памяти еще раз, Роден сообразил, что настоящего имени убийцы Ковальский никак не мог знать. Знали его только трое. Но все равно, Вальми прав. Раз СДЕКЕ имеет в руках признания Ковальского, то дело накрылось, и переиграть ничего нельзя. Они знают о встрече, знают отель, наверно, уже опросили дежурного: у них есть описание внешности, им известна условная кличка. Вне всякого сомнения, они догадались о том, о чем догадался и Ковальский: что тот белокурый — убийца. С этих пор заслон вокруг де Голля станет еще плотнее; генерал не будет появляться на публике, не будет выезжать из дворца, и убийца до него никак не доберется. Дело конченое: операция накрылась. Придется отозвать Шакала и настоять на возврате денег за вычетом расходов и вознаграждения за потраченное время и хлопоты.
Но прежде всего надо было срочно предупредить Шакала — пусть сматывает удочки. Роден еще не настолько утратил закваску боевого офицера, чтобы посылать подчиненного на задание, успешно выполнить которое стало невозможно.
Он вызвал телохранителя, которому со времени исчезновения Ковальского поручено было каждый день ходить на почтамт, забирать корреспонденцию и по мере надобности звонить оттуда, и подробно наставил его.
К девяти часам телохранитель был на почтамте и заказал телефонный разговор с Лондоном. Прошло двадцать минут, и на вызов ответили. Телефонистка указала французу на переговорную кабину. Он подождал, пока она положит трубку, приготовился говорить и услышал, как — дзз-дзз… пауза… дзз-дзз — звонил телефон в Англии.
В это утро Шакал поднялся рано: у него было много дел. Три своих чемодана он проверил и запаковал накануне вечером. Оставалось только уложить в саквояж губку и бритвенный прибор. Он, как обычно, выпил две чашки кофе, умылся, принял душ и побрился. Затем он запер упакованный саквояж и поставил все четыре вещи у двери.
В своей уютной кухоньке он наскоро позавтракал яичницей, выпил апельсинового соку и еще чашку черного кофе. Грязи и беспорядка он не терпел: остаток молока был вылит в раковину, над нею же расколоты два яйца. Ничто больше до его возвращения испортиться не могло. Апельсиновый сок он допил и выбросил жестянку в мусоропровод. Объедки хлеба, яичная скорлупа и кофейная гуща отправились следом.
Наконец он облачился в тонкую шелковую рубашку и костюм цвета маренго, в карманах которого были документы на имя Дуггана и сто фунтов наличными, надел темно-серые носки и узкие черные мокасины. Туалет завершали неизменные темные очки.
В четверть десятого он взял вещи по две в руку, захлопнул за собой дверь квартиры и спустился по лестнице. До Саут-Одли-стрит идти было недалеко; на углу он остановил такси.
— Лондонский аэропорт, корпус номер два, — сказал он шоферу.
Когда такси отъехало, в его квартире зазвонил телефон.
Было десять часов, когда легионер возвратился в отель возле виа Кондотти и сообщил Родену, что полчаса безуспешно дозванивался в Лондон.
— В чем дело? — спросил Кассон, который слышал разговор с легионером и видел, с каким лицом Роден отправил его обратно на пост.
Три главаря ОАС сидели у себя в гостиной. Роден извлек клочок бумаги из внутреннего кармана и протянул его Кассону.
Кассон прочел и передал бумажку Монклеру. Наконец, оба посмотрели на руководителя, ожидая разъяснений. Их не последовало. Роден глядел в окно на раскаленные римские крыши и задумчиво хмурил брови.
— Когда поступило сообщение? — спросил Кассон.
— Утром, — коротко ответил Роден.
— Надо его остановить, — запротестовал Монклер. — Они же поднимут пол-Франции на розыски.
— Пол-Франции будет искать высокого белокурого иностранца, — спокойно сказал Роден. — В августе во Франции иностранцев больше миллиона. Насколько можно судить, в СДЕКЕ не знают ни его имени, ни внешности, ни паспорта. Кстати, он профессионал и, вероятно, путешествует с фальшивым паспортом. Им еще придется изрядно попотеть, пока они до него доберутся. Немало шансов, что он позвонит Вальми и будет настороже, а там сможет и выехать.
— Если он позвонит Вальми, ему, конечно, будет велено прекратить операцию, — сказал Монклер. — Вальми распорядится.
Роден покачал головой.
— У Вальми нет таких полномочий. Ему приказано принимать информацию от девушки и передавать ее Шакалу, когда тот будет звонить. Больше он ничего делать не станет.
— Но Шакал и сам поймет, что дело его конченое, — возразил Монклер. — Ему надо будет выбираться из Франции после первого же разговора с Вальми.
— В принципе — да, — задумчиво сказал Роден. — Выберется — вернет деньги. Не только у нас, у него тоже много поставлено на карту. Все зависит от того, насколько он уверен в своих расчетах.
— Ты думаешь, у него есть шансы теперь… при таком повороте событий? — спросил Кассон.
— Честно говоря, нет, — сказал Роден. — Но он профессионал. Я тоже, в своем роде. Мы люди особого склада. Как-то не с руки бросать операцию, которую сам же спланировал.
— Ну, так отзови же его, ради бога, — взмолился Кассон.
— Не могу. Отозвал бы, да не могу. Он снялся с места. Он в пути. Как ему хотелось, так и будет. Мы не знаем, где он, не знаем, что у него намечено. Он действует в одиночку. Я даже не могу позвонить Вальми и передать через него указание Шакалу бросить все это дело. Так ведь и Вальми накрыться недолго. Теперь никто не может остановить Шакала. Слишком поздно.
12
Комиссар Клод Лебель вернулся в свой кабинет к шести утра. Усталый, измотанный инспектор Карон в нарукавниках сидел за столом. Перед ним было несколько листов бумаги, испещренных записями.
Лебель прошел к своему столу и плюхнулся в кресло. Хотя не спал он всего сутки, вид у него был усталый, не лучше, чем у Карона.
— Впустую, — сказал он. — Я проглядел все за последние десять лет. Не было у нас политических убийц-иностранцев: разве что Дегельдр пытался орудовать, а он на том свете. Кроме того, он из оасовцев, так у нас и зарегистрирован. Надо полагать, что Роден выбрал кого-нибудь, кто с ОАС никак не связан, и правильно сделал. За десять лет только четверо наемных убийц пытали счастья во Франции. Троих мы изловили. Четвертый отбывает пожизненное где-то в Африке. Опять же все они обычные бандиты, куда им стрелять в президента Франции!.. Я насел на Баржерона из Центрального архива, и они все перепроверяют, но чует мое сердце, что у нас этот тип нигде не значится. Уж это-то Роден поставил себе первым условием, отсюда и танцевал.
— Так что надо начинать из-за рубежа?
— Именно. Такой человек наверняка где-то набивал себе руку. Чего бы стоила его репутация, если б за ней не стоял ряд успешно сработанных дел? Пусть не президенты, но люди видные, не какие-нибудь главари преступного мира. Стало быть, его наверняка где-то кто-то взял на заметку. Обязательно. Что у тебя?
Карон извлек из кипы лист бумаги со списком фамилий и расписанием бесед в левой колонке.
— Договорился со всеми семью, — сказал он.
Следующие три часа Лебель и Карон просидели в цокольном кабинете связи над телефоном.
Переговаривались на переменных частотах и на такой длине волн, что перехват был исключен. Сыщики беседовали между собой, пока в мире пили утренний кофе или прощальный коктейль.
Лебель ничуть не сомневался, что такие люди, как начальники отделов по расследованию убийств, поймут, на что он намекает, хоть и не может сказать в открытую. Во Франции была только одна мишень для первостатейного политического убийцы.
Ответ без исключения был один и тот же. Да, конечно. Перероем все архивы и картотеки. Постараемся позвонить до вечера. Да, кстати, Клод, желаем удачи.
Беспокоили его только англичане. Он не сомневался в Мэлинсоне — свой брат полицейский не подведет. Но он знал, что уже сегодня этим займутся лица куда поважнее Мэлинсона.
Прошло всего семь месяцев с тех пор, как де Голль отбрил Великобританию, порывавшуюся вступить в Общий рынок: 14 января генерал провел на этот счет пресс-конференцию. После нее лондонский Форин офис устами своих политических корреспондентов непрерывно обличал французского президента с жаром едва ли не поэтическим. Об этом был наслышан даже Лебель, хоть политикой и не интересовался. Неужели они теперь воспользуются случаем отплатить Старику?
Лебель с минуту смотрел прямо перед собой, на угасший щиток передатчика. Карон не сводил с шефа спокойных глаз.
— Пойдем, — сказал комиссар, направляясь к двери. — Чего-нибудь перекусим и попробуем соснуть. Покамест с нас взятки гладки.
Уполномоченный Энтони Мэлинсон положил трубку и, нахмурившись, задумался. Он почти всю жизнь прослужил в полиции и отлично понимал, в какую переделку попал Лебель.
— Вот не повезло бедняге, — сказал он вслух. Затем нажал кнопку внутренней связи.
— Да, сэр? — послышался из селектора голос его личного помощника, сидевшего в соседнем кабинете.
— Будьте добры, Джон, зайдите ко мне.
Вошел молодой инспектор уголовного розыска в темно-сером костюме, с блокнотом в руке.
— Джон, вам надо будет отправиться в Центральный архив. Обратитесь там к заведующему, главному инспектору Маркему. У меня к нему личная просьба — потом я с ним объяснюсь, сейчас не имею права. Попросите его просмотреть все имеющиеся материалы об известных нам профессиональных убийцах — англичанах…
— Убийцах, сэр? — Личный помощник смотрел так, будто уполномоченный попросил подобрать материалы обо всех обнаруженных марсианах.
— Да, об убийцах. Не о той — повторите ему лишний раз, — не о той заурядной бандитской сволочи, которая сводила или сводит счеты между своими. Материалы о политических убийцах, Джон. О тех или о том, кто способен прикончить хорошо охраняемого политика или государственного деятеля.
— Это ведь скорее клиентура Особого отдела, сэр.
— Да, знаю. Я и хочу переправить все это в Особый отдел. Но сначала не худо и нам самим произвести обычную проверку. Да, кстати, тот или иной ответ нужен мне к полудню. Договорились?
— Хорошо, сэр, будет сделано…
Личный помощник постучался и вошел около двенадцати.
— Только что звонил главный инспектор Маркем из Центрального архива, — сказал он. — Похоже, что в материалах по уголовным делам нет никого подходящего. Известны семнадцать наемных убийц — уголовников, сэр: десять в тюрьме, семеро на свободе. Но все они состоят при крупных шайках — в Лондоне или других больших городах. Главный инспектор говорит, что ни один не возьмется прикончить политика. Он тоже предложил обратиться в Особый отдел, сэр.
— Ладно, Джон, спасибо. Это все, что мне было нужно.
Пока Мэлинсон писал отчет о проделанной работе, перевалило за половину первого. Он снял трубку и попросил соединить его с уполномоченным Диксоном, начальником Особого отдела.
— Алло, Алек? Тони Мэлинсон. Ты не можешь выкроить для меня минутку? Рад бы, да не выйдет. Нынче у меня на обед один голый сандвич. На днях — обязательно. Нет, мне бы пару минут повидаться с тобой перед твоим уходом. Вот и хорошо, сейчас приду.
Мэлинсон проговорил с Диксоном минут двадцать и опрокинул все его расчеты на спокойный обед в клубе. Уже взявшись за дверную ручку, Мэлинсон снова обернулся.
— Прости, Алек, но это и вправду больше по твоей части. Я со своей стороны думаю, что у нас в Англии такими крупными делами, пожалуй что, и некому заниматься. Тебе надо только проглядеть материалы, а там — телефонируй Лебелю и скажи, что мы ничем помочь не сможем. Вот уж кому на этот раз не завидую.
Уполномоченный Диксон, которому по роду службы приходилось держать на заметке всех английских сумасбродов, способных покуситься на жизнь политика, чувствовал всю безвыходность положения Лебеля еще острее, чем Мэлинсон. Охранять собственных и приезжих деятелей от фанатиков удовольствия мало, но тут хоть имеешь дело с любителями, и не им было тягаться с поднаторевшими профессионалами, подчиненными Диксона.
Куда хуже, если глава государства становится мишенью для отечественной организации закаленных отставных солдат. Однако французы разгромили ОАС, и как специалист Диксон восхищался ими. Но если на горизонте появляется наемный убийца — иностранец, тут хуже некуда. Было одно утешение, и то лишь для Диксона: кандидатур оставалось раз-два и обчелся, и уполномоченный не сомневался, что по материалам Особого отдела среди англичан не окажется такого матерого убийцы, какого разыскивает Лебель.
Мэлинсон ушел, и Диксон вызвал своего личного помощника.
— Передайте, пожалуйста, главному инспектору Томасу, что он понадобится мне в… — он посмотрел на часы, прикидывая, сколько займет у него весьма сокращенный обед, — ровно в два.
Шакал прилетел в Брюссель в начале первого. Он оставил три основных багажных места в автоматической камере хранения на аэровокзале и взял с собой в город только саквояж с предметами первой необходимости, а также гипсом, пластырем и бинтами. Он отпустил такси возле железнодорожного вокзала и пошел в камеру хранения.
Фибровый чемоданчик с винтовкой был на той же полке, куда служитель поставил его неделю назад. Шакал предъявил квитанцию и получил багаж.
Неподалеку от вокзала он отыскал маленькую грязноватую гостиницу, заказал на сутки отдельный номер, заплатил вперед бельгийскими франками, которые выменял в аэропорту, и поднялся к себе. В номере он для пущей надежности запер дверь, налил в таз холодной воды, выложил на постель гипс и бинты и принялся за работу, Когда все было готово, оставалось подождать еще часа два, чтобы гипс затвердел. Это время он просидел у окна спальни, глядя на унылое скопище крыш, покуривая сигареты с фильтром и возложив на стул отяжелевшую ногу. Он то и дело пробовал гипс большим пальцем и каждый раз решал подождать, пока не затвердеет еще немного.
Фибровый чемоданчик из-под винтовки валялся пустой. Остатки бинтов и гипса были упакованы в саквояж на случай, если придется что-нибудь подправлять. Наконец он встал, запихнул дешевый чемоданчик под кровать, проверил, не осталось ли в комнате еще каких-нибудь следов его пребывания, вытряхнул пепельницу в окно и собрался уходить.
Оказалось, что в гипсе поневоле приходится хромать, так что и притворяться не нужно. Спустившись по лестнице, он с облегчением заметил, что неопрятный и заспанный дежурный больше не сидит за конторкой, а удалился в заднюю комнатку — пристроился там пообедать; однако застекленная матовая дверь комнатки, выходившая прямиком к конторке, была распахнута.
Шакал бросил взгляд на входную дверь, убедился, что с улицы никто не идет, половчее прижал саквояж под мышкой, опустился на четвереньки и быстро, бесшумно перебежал по кафельному полу. Из-за летней жары парадная дверь была открыта, и Шакал выпрямился вне поля зрения дежурного на верхней из трех наружных ступенек.
Он кое-как прохромал вниз по ступенькам и по тротуару до перекрестка. Через полминуты его подхватило такси, и он покатил обратно в аэропорт.
С паспортом в руке он появился у столика «Алиталии». Девушка за конторкой улыбнулась ему.
— У вас тут должен быть билет на Милан, заказан два дня назад, фамилия Дугган, — сказал он.
Она проверила списки пассажиров дневного рейса на Милан. Самолет отлетал через полтора часа.
— Да, конечно, — засияла она. — Мейстер Дугган. Билет заказан, но еще не оплачен. Желаете оплатить?
Шакал снова расчелся наличными, получил билет и был уведомлен, что посадку объявят через час.
Все были к нему донельзя предупредительны. Ему помогли усесться в автобус и озабоченно следили, как он проковылял по трапу к дверце самолета. Миловидная итальянская стюардесса встретила его широчайшей улыбкой и устроила на удобном месте в среднем салоне, где сиденья расположены друг против друга.
— Здесь вашей ноге будет посвободнее, — заметила она.
Другие пассажиры, занимая места, старательно обходили ногу в гипсе, а Шакал откинул голову и мужественно улыбался.
В четверть пятого лайнер был на взлетной полосе, и вскоре Шакал уже летел на юг, к Милану.
Главный инспектор Брин Томас вышел из кабинета уполномоченного около трех в преотвратительном настроении. Мало того, что лето, как назло, выдалось на редкость холодное, а тут еще на него навалили новое задание и испортили ему весь день.
Он позвонил двум инспекторам, которые у него были заняты не слишком срочной работой, и велел им по своему примеру бросить все дела и явиться к нему в кабинет. Информировал он их более сжато, чем был информирован сам. Он ограничился сообщением о том, кого искать, но не сказал зачем. Подозрения французской полиции, будто некий тип взялся убить генерала де Голля, не имели никакого отношения к прочесыванию архивов и картотек Особого отдела Скотленд-Ярда.
Самолет Шакала приземлился в миланском аэропорту Линате в начале седьмого. Заботливая стюардесса свела англичанина по ступенькам на гудрон, девушка из группы обслуживания препроводила его в центральное здание аэровокзала. На таможне его приготовления — он переложил составные части винтовки из чемодана в менее подозрительное место — окупились сторицею. Проверка паспорта была формальностью, но, когда чемоданы из багажного отделения, подпрыгивая, проехали по конвейеру и улеглись на таможенную скамью, риск стал нешуточным.
Шакал подозвал носильщика, который выставил три чемодана рядком. Шакал присоединил к ним саквояж. Завидев, как он прохромал к скамье, один из таможенников подошел к нему.
— Синьор? Это весь ваш багаж?
— Ну да, три чемодана и этот саквояж.
— Ценностей, недозволенных вещей не везете?
— Нет.
— Вы по делам, синьор?
— Нет, я приехал отдохнуть, но, пожалуй, заодно придется и подлечиться. Собираюсь поехать на север, на озера.
На таможенника это не произвело впечатления.
— Позвольте ваш паспорт, синьор.
Шакал протянул паспорт. Итальянец внимательно просмотрел его и молча протянул обратно.
— Откройте, пожалуйста, вот этот.
Он указал на один из трех чемоданов. Шакал достал кольцо с ключами, выбрал нужный и открыл чемодан. Носильщик положил его плашмя, чтоб было удобнее открывать. По счастью, это был чемодан с вещами мнимого датского пастора и американского студента. Порывшись в вещах, таможенник оставил без внимания темно-серый костюм, белье, белую рубашку, теннисные туфли, черные полуботинки, защитные очки и носки. Книга на датском языке тоже не заинтересовала его. На обложке было цветное фото Шартрского собора, а датское название, похожее на английское, в глаза не бросалось. Он не разглядел аккуратно зашитого шва в боковой подкладке и не нашел фальшивых документов. При серьезном обыске документы обнаружились бы, но таможенник по-обычному ворошил вещи: настоящий обыск начинается, если подвернется что-нибудь подозрительное. Разобранная снайперская винтовка находилась за метр от него, через конторку, но ему это было невдомек. Он закрыл чемодан и сделал Шакалу знак снова запереть его. Потом быстро расчеркнулся мелом на всех четырех вещах. С делом было покончено, и лицо итальянца расплылось в улыбке.
— Счастливо отдохнуть.
Носильщик пригнал такси, получил хорошие чаевые, и вскоре Шакал мчался в Милан. Он попросил доставить его на Центральный вокзал.
Там он снова подозвал носильщика и проковылял за ним к камере хранения. В такси переложил стальные ножницы из несессера в карман брюк. Он сдал в камеру хранения саквояж и два чемодана, оставив себе тот, где была французская шинель, а также вдосталь свободного места.
Отпустив носильщика, он заковылял в мужской туалет. В длинном ряду умывальных раковин по левую сторону от писсуаров была занята лишь одна. Он опустил чемодан на пол и принялся тщательно мыть руки. Когда туалет на секунду опустел, Шакал метнулся в кабинку и заперся.
Поставив ногу на сиденье унитаза, он минут десять бесшумно расковыривал гипс, пока тот не начал отваливаться, обнажая ватные тампоны, благодаря которым создавалось впечатление сломанной лодыжки, уложенной в гипс.
Дочиста облупив гипс на ноге, он снова надел шелковый носок и узкий кожаный мокасин, примотанный пониже икры. Затем собрал обломки гипса, клочья ваты и отправил их в унитаз. Воду пришлось спускать два раза.
Он пристроил чемодан на крышке бачка, разложил стальные трубки с винтовочными частями между складками шинели, и чемодан постепенно заполнился доверху. Потом он затянул внутренние ремни, чтобы содержимое не побрякивало, запер чемодан и выглянул из-за дверцы. Два человека стояли у раковин, и еще двое у писсуаров. Он вышел из кабинки, повернул к выходу и взбежал по ступенькам в главный вокзальный холл; вряд ли кто из бывших в туалете при всем желании успел бы его заметить.
Он не мог пойти обратно в камеру хранения целым и невредимым, только что выйдя оттуда калекой, и поэтому подозвал носильщика, объяснил ему, что торопится и хочет как можно быстрее обменять валюту, получить багаж и найти такси. Багажную квитанцию он сунул в руку носильщику вместе с тысячей лир, указав ему на камеру хранения. Он знаками объяснил, что пойдет к стойке обмена валюты менять свои английские фунты на лиры.
Итальянец радостно кивнул и отправился за багажом. Шакал обменял свои последние двадцать фунтов на итальянскую валюту, и в этот момент подоспел носильщик с вещами. Через две минуты Шакал был уже в такси, которое неслось в обгон прочих машин через площадь Герцога д'Аоста к отелю «Континенталь».
У приемного окошечка в роскошном парадном холле он сказал дежурному:
— У вас должен быть забронирован для меня номер. Фамилия — Дугган. Заказан по телефону из Лондона два дня назад.
К восьми Шакал не спеша побрился и принял душ у себя в номере. Впереди были коктейль, обед — и скорее в постель, потому что завтра, тринадцатого августа, предстоит тяжелый день.
13
— Ничего.
В кабинете Брина Томаса молодой инспектор захлопнул последнюю папку и перевел взгляд на шефа.
Его коллега закончил проверку с тем же результатом. Томас досмотрел свою долю минут пять назад; теперь он стоял у окна и глядел на огни машин, проносившихся в сумерках.
Голова его болела от табачного дыма и оттого, что приходилось весь вечер звонить и отвечать на звонки: уточнять данные на разных сомнительных лиц, зарегистрированных в отчетах и картотеках. Все было без толку. Либо человек на виду, либо за убийство французского президента явно не возьмется.
— Ладно, значит, на том и порешим, — твердо сказал он, повернувшись от окна. — Мы сделали все, что могли, и по нашим данным нет ни одной годной кандидатуры.
Молодые помощники собрали папки с материалами и направились к двери. Оба они были семейные, а один со дня на день ожидал рождения первенца. Он торопливо вышел, а другой задержался.
— Шеф, мне тут за проверкой пришла в голову одна мысль. Если среди англичан есть такой человек, то в Англии-то он как раз и не станет орудовать. Надо же ему где-нибудь иметь базу. Прибежище, что ли, место, куда вернуться. В своей-то стране такой человек, пожалуй, будет добропорядочным гражданином.
— Ну-ну, — сказал Томас, внимательно глядя на него.
— В общем, по-моему, такой преступник будет орудовать только за границей. Органам безопасности о нем знать неоткуда. Вот в разведке, может, что и слышали.
Томас поразмыслил, потом медленно покачал головой.
— Забудь об этом, парень, и иди домой. Я напишу отчет.
Инспектор ушел, но оброненная им мысль крепко засела у Томаса в голове. Он мог хоть сейчас сесть и отчитаться. Нет, и все тут. Пустой номер. Материалы обследованы, и дело с концом. Но вдруг запрос из Франции имеет какие-то основания? Скорее всего, французы просто так дрожат и трясутся за жизнь своего драгоценного президента. Ну, а если не просто так? Если они и вправду набрели на еле заметный след, если и сами толком не знают, кого ищут, то им небось приходится наводить сейчас справки по всему свету. Сто против одного, что этого убийцы и в заводе нет, а если есть, то он родом из какой-нибудь страны, где политические убийства в обычае. Но что, если французы напали-таки на след? И если убийца все-таки англичанин или хотя бы родом из Англии?
Главному инспектору Брину Томасу до пенсии оставалось два года. Чтоб ненароком не оскандалиться под занавес, лучше выверить все. Томас снял трубку и назвал номер…
Двое мужчин встретились после восьми, чтобы распить бокал-другой в тихом кабачке у реки. Они поговорили о регби, и Томас заказал выпивку. Но Ллойд догадывался, что вряд ли сотрудник Особого отдела зазвал его в прибрежный кабачок, чтобы потолковать о спорте. К тому же до начала сезона оставалось еще два месяца. Бармен пододвинул к ним бокалы, они отпили по глотку, и Томас сделал головой знак в сторону террасы над причалом.
— Тут такое дело, дружище, — начал Томас. — Я подумал, может, ты пособишь.
— Что ж… если смогу, — отозвался Ллойд.
Томас рассказал про запрос из Парижа и про тщетные поиски по материалам уголовного архива Особого отдела.
— Мне пришло в голову, что если это не блеф и такой англичанин существует, то он скорее всего здесь, у нас, ни во что не замешан, понимаешь. Ему сподручнее орудовать только за границей. Но следы-то он оставлял, а значит, мог попасть на заметку Службе.
— Службе? — спокойно переспросил Ллойд.
— Ладно тебе, Барри. Мало ли что мы про кого знаем. — Томас говорил чуть слышно. — Как-никак я главный инспектор Особого отдела. Ты же не можешь таиться от всех на свете, верно?
Ллойд смотрел в бокал.
— Это что, официальный запрос?
— Нет, мне этого никто не поручал. Французский запрос тоже неофициальный, от Лебеля к Мэлинсону. Тот ничего не отыскал в Центральном архиве, так и сообщил французам, но все ж таки переговорил с Диксоном. А Диксон попросил меня проверить на скорую руку. Все втихую, понимаешь? Иногда приходится и так. Это дело тонкое. Чтоб не просочилось в прессу, туда-сюда. Скорее всего, мы Лебелю ничего не сможем подсказать. Я просто решил для очистки совести напоследок обратиться к тебе.
— Предполагают, что он охотится за де Голлем?
— Надо думать, что так, судя по характеру запроса. Но французы темнят. Очевидно, опасаются гласности.
— Очевидно. А почему бы им не связаться прямо с нами?
— Запрос об имени возможного убийцы поступил по прямому проводу, на высшем уровне. Лебель обратился лично к Мэлинсону. Должно быть, у французской разведки просто нет личных контактов с вашим сектором.
Если Ллойд и заметил намек на заведомо никудышные отношения между СДЕКЕ и Интеллидженс сервис, то виду не подал.
— Что скажешь? — спросил Томас немного погодя.
— Забавно, — сказал Ллойд, уставившись на другой берег. — Примерно в январе 61-го года диктатора Доминиканской Республики Трухильо убили на глухой дороге в окрестностях Сьюдад-Трухильо. Сообщалось, что убили партизаны: врагов у него хватало. Тогда как раз прибыл оттуда наш человек, и мы с ним сидели в одном кабинете, пока его куда-то не перебросили. Он рассказывал, что, по слухам, машину Трухильо остановили одним винтовочным выстрелом — потом уже подбежали из засады, взорвали автомобиль и добили диктатора. Выстрел был поразительный: со ста пятидесяти ярдов по мчащейся машине. Пришелся точно в водительский ветрячок — все остальные окна были из пуленепробиваемого стекла. Сам автомобиль бронирован. Шоферу пробило горло, и машина перевернулась. Тут-то и подоспели партизаны. Любопытно, что, по слухам, стрелял англичанин.
Последовала долгая пауза.
— Тот … человек… о котором ходили слухи… Фамилию его он не называл?
— Может, и называл. Не помню. Говорили мы между делом, в офисе было столпотворение, а что нам карибский диктатор?
— Разговоры разговорами, а донесение-то он по этому поводу составлял?
— Должно быть. Это у нас принято. Только учти, это был обычный слух, не более того. Мало ли что болтают! А мы принимаем во внимание только факты, надежную информацию.
— Но хоть где-то это зафиксировано?
— Наверно, да, — ответил Ллойд. — Сущий пустяк, слухи. Они там на своем острове только слухами и пробавляются.
— А ты не мог бы поднять старые отчеты? Поглядеть, нет ли там фамилии этого стрелка?
Ллойд оторвался от перил.
— Ты поезжай домой, — сказал он главному инспектору. — Я тебе позвоню, если отыщется что-нибудь дельное.
— Заранее спасибо, — сказал Томас, пожимая Ллойду руку. — Может быть, все это пустое. Но чем черт не шутит!
Когда Томас и Ллойд беседовали над водами Темзы, а Шакал смаковал последний глоток «дзибальоне» в ресторане на крыше миланского отеля, комиссар Клод Лебель присутствовал на первом рабочем совещании в конференц-зале французского министерства внутренних дел.
Кругом были те же лица, что и сутки назад. Во главе стола сидел министр внутренних дел, по сторонам — начальники ведомств. Лебель занимал место напротив министра, и перед ним лежала тощая папка. Министр коротко кивнул, подавая знак начинать.
Первым выступил начальник канцелярии министерства. За истекшие сутки, доложил он, все таможенники на всех пограничных пунктах Франции получили указание обыскивать при въезде багаж высоких белокурых мужчин-иностранцев. Предписано особо тщательно проверять их паспорта: агенты будут просматривать каждый на случай подделки. Туристы и бизнесмены, приезжающие во Францию, могут и заметить внезапное усиление бдительности на таможнях, но вряд ли кто-нибудь из подвергнутых обыску сообразит, что по всей стране взяты под особый надзор высокие блондины. Если какой-нибудь дотошный журналист сделает запрос, ему объяснят, что это всего лишь обыкновенная выборочная проверка. Впрочем, никакого запроса, вероятно, не будет.
Сангинетти сделал еще одно сообщение. Предлагалось рассмотреть вопрос о возможности захвата одного из главарей ОАС в Риме. На Кэ д'Орсэ, в министерстве иностранных дел, этому решительно воспротивились, а президент их поддержал. Таким образом, этот способ выпутаться из затруднений отпал.
Генерал Гибо от имени СДЕКЕ сообщил, что в результате самой доскональной проверки разведывательных архивов не удалось обнаружить ни одного профессионального политического убийцы вне круга ОАС и лиц, с нею связанных; все же известные убийцы были наперечет.
Начальник архивного управления сообщил, что поиски в картотеках французских преступников дали те же результаты, причем проверены не только французы, но и иностранцы, пытавшиеся действовать во Франции.
Затем сделал сообщение глава ДСТ. В половине восьмого утра был перехвачен телефонный звонок с почты близ Северного вокзала в римский отель, где находятся трое главарей ОАС. С тех пор как они там засели восемь недель назад, телефонистам международных линий была дана инструкция немедля сообщать обо всех звонках по этому номеру. Но утренний дежурный замешкался. Он принял заказ, не заметив, что номер значится в особом списке. Он соединил абонента и только потом позвонил в ДСТ. Однако у него все же хватило смекалки подслушать разговор. Телефонограмма гласила: «Вальми для Пуатье. Шакал накрылся. Повторяю. Шакал накрылся. Ковальского взяли. Перед смертью раскололся. Все».
В зале несколько минут стояло молчание.
— Откуда они узнали? — спокойно спросил Лебель с дальнего конца стола.
Все взгляды обратились к нему, и только полковник Роллан в глубокой задумчивости смотрел перед собой.
— Дьявол, — отчетливо выговорил он, не сводя взгляда со стены.
Все перевели глаза на шефа Аксьон сервис.
Полковник встрепенулся.
— Марсель, — коротко сказал он. — Чтобы получить Ковальского из Рима, мы использовали в качестве приманки его старого друга, некоего Жожо Гжибовского с женой и дочерью. Мы держали их всех под превентивной охраной, пока не взяли Ковальского. Тогда им было позволено вернуться домой. От Ковальского мне требовалась только информация о шефах. Тогда еще не было оснований подозревать заговор с участием этого Шакала. Потом, конечно, все переменилось. Должно быть, этот поляк Жожо уведомил агента Вальми. Моя оплошность.
— Вальми задержали на почте? — спросил Лебель.
— Нет, мы опоздали на пару минут и упустили его из-за нерасторопности телефониста, — ответил шеф ДСТ.
— Ряд непростительных упущений, — вдруг отчеканил полковник Сен-Клер де Виллобан. На него обратились недружелюбные взгляды.
— Мы действуем ощупью, наудачу, против неизвестного врага, — сказал генерал Гибо. — Если господину полковнику угодно руководить операцией и взять на себя всю ответственность…
Полковник из Елисейского дворца листал свои бумаги, будто в них было кое-что поважнее и посущественнее, чем скрытая угроза шефа СДЕКЕ. Но он понял, что его замечание было не из удачных.
— В известном смысле, — задумчиво произнес министр, — может быть, оно и к лучшему, пусть знают, что их наемный убийца раскрыт. Ведь им теперь наверняка придется отменить операцию.
— Именно, — сказал Сен-Клер, стараясь загладить промах. — Министр совершенно прав. Они с ума еще не сошли.
— А он, собственно, не раскрыт, — спокойно сказал. Лебель. Про него почти позабыли. — Мы до сих пор не знаем его имени. Предупрежденный, он лишь примет дополнительные, усиленные меры предосторожности. Фальшивые бумаги, грим, переодевание…
Оптимизм, который зародился было за столом после замечания министра, тут же улетучился. Роже Фрей с уважением поглядел на низкорослого комиссара.
— Я думаю, господа, что нам лучше всего будет выслушать комиссара Лебеля. В конце концов, именно он возглавляет расследование. Мы лишь должны по мере возможности помогать ему.
После такого поощрения Лебель доложил о мерах, принятых за сутки. После полной проверки всех французских источников он все больше укрепляется во мнении, что этот иностранец может оказаться на заметке лишь у какой-нибудь иностранной полиции, если он вообще взят на заметку. Согласно разрешению министра, он наводит справки за пределами Франции. Имел ряд конфиденциальных бесед по линии Интерпола с полицейским начальством семи стран.
— Ответы поступили сегодня в течение дня, — заключил он. — Вот они: из Голландии — нужными сведениями не располагают. Из Италии — известны несколько наемных убийц, но все они под началом у мафии. В ответ на секретный запрос из жандармерии римский главарь мафии заверил, что ни один из их людей без приказа не пойдет на политическое убийство, а мафия не занимается убийствами иностранных государственных деятелей. — Лебель поднял глаза. — Лично я склонен этому верить. Из Англии пока сведений нет, но расследование препоручено другому ведомству, Особому отделу, проверка продолжается.
— Как всегда, по-черепашьи, — проворчал Сен-Клер.
Лебель расслышал его и снова поднял голову.
— Зато они все доводят до конца, наши английские друзья. Не нужно недооценивать Скотленд-Ярд. — И он продолжал чтение: — Америка. Две кандидатуры. Один — подручный крупного международного торговца оружием, базирующегося во Флориде, в Майами. Был морским пехотинцем, затем — агентом ЦРУ в Карибском районе. Отчислен за убийство в драке кубинского эмигранта перед самым вторжением на Плайя-Хирон. Кубинец должен был командовать одним из отрядов десанта. Потом этого бывшего агента подобрал торговец оружием, один из тех, кого ЦРУ неофициально использовало для снабжения плайя-хиронских интервентов. Босс, очевидно, использовал его, чтобы устранить двух конкурентов, убийства которых до сих пор не расследованы. Видимо, в торговле оружием конкуренция жесточайшая. Имя этого человека — Чарлз (Чак) Арнольд. В настоящее время выясняется его местонахождение.
Второй — некто Марко Вителлино, в прошлом личный телохранитель главаря нью-йоркской мафии Альберта Анастасиа. Его босса пристрелили в парикмахерском кресле в октябре 57-го, и Вителлино бежал из Штатов, опасаясь за свою жизнь. Осел в Венесуэле, в Каракасе. Пытался организовать собственный рэкет, но успеха не имел. Тамошний преступный мир не дает ему хода. Если он на полной мели, то за сходную цену возьмется убивать по заданию иностранной организации.
В зале была тишина. Четырнадцать человек слушали, затаив дыхание.
— Бельгия. Одна кандидатура. Убийца-маньяк, ранее служил у Чомбе в Катанге. В 1962 году был захвачен в плен отрядами ООН и выслан из Конго. В Бельгию ему путь закрыт: над ним висит обвинение в убийстве. Типичный наемник, но убийца ловкий и опасный. Вероятно, тоже эмигрировал в Центральную Америку. Зовут Жюль Беранже. Бельгийская полиция уточняет, где он может находиться.
ФРГ. Один возможный вариант. Ганс Дитер Кассель, бывший оберштурмбанфюрер СС, осужденный в двух странах за военные преступления. После войны жил в Западной Германии под чужим именем и действовал по заданиям подпольной организации бывших эсэсовцев — ОДЕССА. Подозревается в убийстве двух левых социалистов, которые требовали от правительства более энергично расследовать военные преступления. Был обнаружен, но успел бежать в Испанию, предупрежденный высокопоставленным полицейским чином: тому это стоило места. Предположительно — живет на отдыхе в Мадриде… — Лебель снова поднял взгляд. — Кстати, он староват для такого дела. Ему пятьдесят семь… Наконец, Южная Африка. Одна кандидатура. Профессиональный наемник. Зовут Пиит Шуипер. Тоже из головорезов Чомбе. Отличный стрелок и явно предпочитает действовать без помощников. В последний раз о нем слышали после краха катангских сепаратистов, в начале этого года: его выслали из Конго. Вероятно, застрял где-то в Западной Африке. Южноафриканский Особый отдел продолжает поиски.
Он замолк и поднял голову. Четырнадцать человек вокруг стола глядели на него пустыми глазами.
— Конечно, — сказал Лебель извиняющимся тоном, — боюсь, что все это очень расплывчато. Во-первых, я навел справки только в семи наиболее вероятных странах. Шакал может быть швейцарцем, австрийцем или еще кем-нибудь. Затем, из трех стран сообщили, что у них никого нет на примете. Они могли ошибиться. Может быть, Шакал — англичанин, голландец или итальянец. Или же южноафриканец, немец, бельгиец, американец, но не из числа упомянутых. Почем знать! Приходится брести ощупью и надеяться на удачу.
— На одних надеждах далеко не уедешь, — резко бросил Сен-Клер.
— Может быть, полковник имеет предложить что-нибудь другое? — вежливо спросил Лебель.
— Лично я полагаю, что убийцу, несомненно, отозвали, — ледяным тоном сказал Сен-Клер. — Теперь, когда его план раскрыт, ему никак не подобраться к президенту. И сколько бы там Роден и его присные ни обещали заплатить этому Шакалу, они теперь потребуют деньги назад и отменят операцию.
— Вы полагаете, что убийцу отозвали, — мягко заметил Лебель, — но полагать и надеяться — это примерно одно и то же. Я предпочел бы пока что продолжать расследование.
— В какой стадии находится расследование в данный момент, комиссар? — спросил министр.
— В настоящий момент, господин министр, полицейские управления тех стран, из которых поступили данные, высылают по телексу полные досье. По моим расчетам, завтра к середине дня все они будут здесь. Фотоснимки также вышлют по телеграфу. В нескольких странах полиция продолжает розыски с целью установить местонахождение подозреваемых лиц.
— Не желает ли еще кто-нибудь высказаться? — спросил Фрей. Роллан поднял и опустил руку.
— В Мадриде мы имеем своего резидента, — сказал он. — В Испании осело немало оасовцев, приходится за ними следить. Мы можем все разузнать об этом нацисте Касселе, не прибегая к услугам западных немцев. Как я понимаю, наши отношения с боннским министерством иностранных дел все еще не блестящие.
— Спасибо, — сказал полицейский комиссар, — было бы очень кстати, если б вы смогли выследить этого Касселя. Прибавить ничего не имею: хотелось бы только, чтобы все ведомства и в дальнейшем содействовали мне так же, как в прошлые сутки.
— Что ж, до завтра, господа, — отрывисто сказал министр и поднялся, собирая свои бумаги. Совещание закрылось.
Снаружи, на лестнице, Лебель с облегчением вдохнул полной грудью теплый ночной воздух Парижа. Часы пробили двенадцать, и наступил вторник, 13 августа.
В самом начале первого Барри Ллойд позвонил главному инспектору Томасу домой в Чизуик. Томас как раз собрался погасить ночник, решив, что звонок из Интеллидженс сервис будет утром.
— Я разыскал копию того донесения, — сказал Ллойд. — В общем-то, я был прав. В ней упоминается о слухе, который тогда разнесся по острову. Подшито к делу и тут же помечено: «Не придавать значения». Я же говорил, мы тогда были по уши в других делах.
— Имя упоминается? — спросил Томас вполголоса, чтобы не потревожить спящую жену.
— Да, с острова примерно в то же время исчез английский бизнесмен. Может, он был и ни при чем, но вокруг его имени ходили пересуды. Некий Чарлз Калтроп.
— Спасибо, Барри. Утром пойду по следу. — Он положил трубку.
Для порядка Ллойд составил краткую докладную о запросе и предоставленной информации и положил ее в «исходящее». Рано поутру дежурный чиновник с минуту недоуменно разглядывал ее, и так как дело касалось Парижа, то докладная была подложена к пачке бумаг для французского отдела Форин офис, а всю пачку надлежало по обыкновению представить утром на личный просмотр начальнику Франции.
14
Шакал встал, как обычно, в половине восьмого, выпил поданный в постель чай, умылся, принял душ и побрился. Одевшись, он извлек из-за подкладки чемодана пачку с тысячу фунтов, переложил ее в нагрудный карман и спустился позавтракать. В девять он вышел из отеля на виа Мандзони. Два часа он ходил по банкам, частями обменивая английскую валюту. Двести фунтов он обменял на итальянские лиры, а остальные восемьсот — на французские франки.
Покончив с этим делом, Шакал устроил перерыв и выпил чашку «эспрессо» на веранде кафе. Затем продолжил поиски. После долгих расспросов он оказался на захолустной улочке Порта Гарибальди, рабочего района вокруг вокзала Гарибальди. Здесь он нашел то, что искал: блок закрытых гаражей. Один из них он снял у владельца, который держал бензоколонку на углу улицы. За два дня пришлось заплатить десять тысяч лир — вовсе не дешево, но за короткий срок дерут вдвое.
В ближайшей скобяной лавчонке он купил спецовку, ножницы для резки металла, несколько ярдов тонкой стальной проволоки, паяльник и с фут припоя. Все это он уложил в брезентовый саквояж, купленный там же, и оставил саквояж в гараже. Ключ от гаража он положил в карман и пошел обедать в тратторию ближе к центру города, в более фешенебельном районе.
Около двух, договорившись по телефону из траттории, он подъехал на такси к маленькой и не слишком преуспевающей фирме проката автомобилей. Здесь он нанял подержанную «альфу-ромео», двухместную модель 1962 года. Шакал объяснил, что в ближайшие две недели хочет отдохнуть и проехаться по Италии и возвратит машину перед отъездом из страны.
Оттуда он приехал на «альфе» в «Континенталь», припарковался на гостиничной стоянке, поднялся в номер и забрал чемодан с разобранной снайперской винтовкой. Вскоре после чая он снова был на боковой улочке возле запертого гаража.
Он тщательно запер за собой дверь, подключил паяльник к патрону в потолке, пристроил на полу мощный фонарь так, чтобы машина освещалась снизу, и принялся за работу. Два часа он старательно припаивал тонкие стальные трубки с винтовочными частями к шасси «альфы». Шакал не зря выбрал «альфу»: порывшись в Лондоне в автомобильных журналах, он выяснил, что из всех итальянских машин у «альфы» особенно массивные стальные шасси с глубокими внутренними пазами.
Когда он кончил, спецовка была вся в масле, а руки ныли от напряжения: пришлось натуго обматывать шасси проволокой. Зато все в порядке. Трубки почти невозможно было обнаружить, разве что при внимательном осмотре машины снизу; к тому же их скоро запорошит пылью и облепит грязью.
Он уложил спецовку, паяльник и остатки проволоки в брезентовый саквояж и зарыл его в груду старого тряпья в дальнем углу гаража. Ножницы для резки металла он положил в перчаточное отделение.
Над городом снова сгущались сумерки, когда он наконец вырулил из гаража «альфу» с чемоданом в багажнике. Он закрыл и запер дверь гаража, положил ключ в карман и поехал обратно в отель.
Через двадцать четыре часа после прибытия в Милан Шакал снова был в своем номере и принимал душ, смывая дневную усталость: натруженные руки он отмочил в тазу с холодной водой, затем переоделся к обеду и отправился в коктейль-холл выпить свое излюбленное кампари с содовой.
По пути он остановился возле окошечка дежурного и попросил после обеда приготовить счет, а утром разбудить его в половине шестого и подать чаю.
Он снова роскошно пообедал, заплатил по счету оставшимися лирами и в двенадцатом часу уже спал.
Сэр Джаспер Квигли был начальником Франции — не в том буквальном смысле, что распоряжался страной за проливом, о дружбе с которой на его веку было немало говорено, хоть дружба и не клеилась, — нет, он возглавлял отдел Форин офис, занятый изучением происшествий, устремлений, деяний, а зачастую и умыслов, имеющих место в этой треклятой стране; и все это с тем, чтобы докладывать о них первому заместителю министра, а там и самому ее величества министру иностранных дел.
Он удовлетворял всем основным требованиям, иначе не получил бы этого назначения: долгая, отмеченная наградами дипломатическая карьера за пределами Англии, неизменное здравомыслие в политических суждениях, нередко ошибочных, но всегда увязанных с соображениями начальства: словом, беспорочная служба, вызывающая законную гордость. За ним не числилось ни нашумевших ошибок, ни неуместной правоты, он никогда не поддерживал опальных взглядов и не выдвигал никаких мнений, не справившись прежде, что думают наверху.
Женитьба на перезрелой дочери начальника канцелярии берлинского консульства (впоследствии помощника заместителя государственного секретаря) тоже отнюдь не повредила. Это помогло кое-кому закрыть глаза на неудачный меморандум из Берлина в 1937 году: в нем утверждалось, что перевооружение Германии не будет иметь никаких политических последствий для Западной Европы.
Вернувшись в Лондон во время войны, он некоторое время заведовал балканским отделом Форин офис, затем молодого Квигли перевели во французский отдел.
Здесь он отличился, громче всех требуя британской помощи генералу Жиро в Алжире. Из этого вышла бы отличная политика, если бы всех не обошел другой, скороспелый французский генеральчик, живший в Лондоне и все пытавшийся сколотить какие-то вооруженные силы под названием Свободная Франция. Зачем Уинстону понадобился этот тип, никто из профессиональных дипломатов так никогда и не понял.
Конечно, все французы — шваль на один покрой. Никто не смог бы сказать про сэра Джаспера, получившего в 61-м титул пэра за свои заслуги на дипломатическом поприще, что ему не хватает главнейшего качества, потребного для настоящего начальника Франции. У него была врожденная неприязнь к Франции и всему французскому. Однако это были еще цветочки по сравнению с теми чувствами, которые он испытывал к особе французского президента после пресс-конференции 14 января 1963 года, когда де Голль преградил Англии путь в Общий рынок и это стоило сэру Джасперу двадцати минут неприятной беседы с министром.
В дверь постучали. Сэр Джаспер отпрянул от окна. Он взял с бювара и поднес к глазам тонкий синий листок, будто его застали за чтением.
— Войдите.
В кабинет вошел младший сотрудник, притворил за собой дверь и приблизился к столу.
Сэр Джаспер поглядел на него поверх серповидных очков.
— А, Ллойд. Я тут как раз просматриваю вашу вечернюю докладную. Интересно, интересно. Высокопоставленный французский сыщик направляет неофициальный запрос высокопоставленному чину британской полиции. Тот переправляет его не кому-нибудь, а главному инспектору Особого отдела, а этот находит возможным проконсультироваться — неофициально, разумеется, — с младшим чином разведывательной службы. М-м-м?
— Да, сэр Джаспер.
Ллойд уперся взглядом в невзрачную фигурку дипломата, стоящего у окна и изучающего его докладную, будто она только что попалась ему на глаза. Он, во всяком случае, понял, что сэр Джаспер отлично знаком с содержанием докладной и что, вероятно, его бесстрастный вид — не более чем поза.
— А этот младший чин находит возможным по собственной инициативе, не консультируясь с начальством, высказывать свои предположения сотруднику Особого отдела. Предположения — помимо всего прочего, бездоказательные, — что британский гражданин, очевидно бизнесмен, на самом деле может быть хладнокровным убийцей. М-м-м?
«Какого дьявола надо этому старому хрычу?» — подумал Ллойд.
Вскоре это выяснилось.
— Я недоумеваю, любезный Ллойд, каким образом об этом запросе — неофициальном, разумеется, — сделанном вчера утром, глава министерского отдела, имеющего самое близкое касательство к французским делам, узнает лишь сутки спустя. Странное положение вещей, вы не находите?
— Со всем должным уважением, сэр Джаспер, вынужден заметить, что адресованный мне запрос главного инспектора Томаса — как вы заметили, неофициальный — был сделан вчера в девять вечера. Докладная составлена в полночь.
— Справедливо, справедливо. Но я успел заметить, что вы поторопились ответить на запрос еще до полуночи. Не могли бы вы мне это разъяснить?
— Мне казалось, что запрос о каналах, вернее, возможных каналах расследования относится к разряду обычного межведомственного сотрудничества, — ответил Ллойд.
— Да неужели, да неужели? — Сэр Джаспер оставил мягко вопросительный тон и дал волю гневу. — Но, очевидно, не относится к разряду межведомственного сотрудничества вашей службы с французским отделом, м-м-м?
— Мой отчет у вас в руках, сэр Джаспер.
— Поздновато, сэр. Поздновато.
Ллойд решил не остаться в долгу. Он знал, что если допустил ошибку, не посоветовавшись с начальством, прежде чем позвонить Томасу, то советоваться надо было с собственным шефом, а не с сэром Джаспером Квигли. А глава Интеллидженс сервис стяжал любовь сотрудников и неприязнь чинуш из Форин офис тем, что никому не позволял распекать своих подчиненных.
— Поздновато для чего, сэр Джаспер?
Сэр Джаспер метнул на него яростный взгляд. Он не собирался попадать в ловушку, выдав, что поздновато для того, чтобы помешать сотрудничеству с Томасом и ответу на его запрос.
— Вы, разумеется, отдаете себе отчет, что речь идет о добром имени британского гражданина. О человеке, против которого нет и тени подозрения, не говоря уж об уликах. Не кажется ли вам, что несколько странно подобным образом порочить доброе имя, а судя по характеру вопроса, и репутацию человека?
— Я не думаю, что сообщить чье-то имя главному инспектору Особого отдела для целей дополнительного расследования — значит опорочить его, сэр Джаспер.
Дипломат плотно сжал губы, сдерживая злобу. Нахальный щенок, еще и вывернуться норовит. За ним нужен глаз да глаз. Он взял себя в руки.
— Понятно, Ллойд. Понятно. Но, даже учитывая ваше очевидное рвение — весьма похвальное рвение, разумеется, — все-таки можно было ожидать, что вы с кем-нибудь посоветуетесь, прежде чем очертя голову кидаться на помощь Особому отделу?
— Вы спрашиваете, сэр Джаспер, почему я не посоветовался с вами?
Сэр Джаспер остервенел.
— Да, сэр, спрашиваю, сэр. Именно это самое я и спрашиваю.
— Сэр Джаспер, при всем уважении к вашему чину, я, однако, вынужден обратить ваше внимание на тот факт, что я состою в штате разведывательной службы. Если вас не устраивает мой вчерашний образ действий, то уместнее будет жаловаться на меня моему начальству, а не мне лично.
Уместнее? Уместнее? Этот выскочка и молокосос смеет указывать начальнику Франции, что уместно, а что неуместно?
— Так оно и будет, сэр, — отрезал сэр Джаспер, — так оно и будет. В самых резких выражениях.
Не спросив разрешения, Ллойд повернулся и вышел из кабинета. Он почти не сомневался, что его ждет нагоняй от Старика, и оправдываться он мог разве тем, что запрос Брина Томаса показался ему неотложным, а проволочка могла оказаться губительной. Если Старик решит, что надо было использовать обычные каналы, то ему, Ллойду, здорово влетит. Но по крайней мере влетит от Старика, а не от Квигли. А, черт бы побрал Томаса!
Однако сэр Джаспер был в большом сомнении, жаловаться или нет. Ему могло не поздоровиться от острого на язык шефа Интеллидженс сервис: ведь офицера разведки вызвали, не испросив на то разрешения. Кроме того, глава Интеллидженс сервис, по слухам, был весьма близок кое с кем на самом верху.
— Что напортили, то напортили, — заметил сэр Джаспер в начале второго своему гостю за ленчем в клубе. — Видно, уж они пойдут дальше и примутся сотрудничать с французами. Надеюсь, они их до смерти не загоняют, а?
Шутка была хорошая, и он повеселился на славу. К несчастью, он недооценил своего гостя, который тоже был весьма близок кое с кем на самом верху.
Личный доклад главного уполномоченного британской полиции попался на глаза премьер-министру около четырех, когда он вернулся к себе на Даунинг-стрит, 10, после парламентских дебатов; и почти одновременно его ушей достигла шутка сэра Джаспера.
В десять минут пятого в кабинете главного инспектора Томаса зазвонил телефон.
Томас с самого утра пытался выследить человека, о котором он не знал ничего, кроме имени. Как обычно при выяснении личности — если точно известно, что человек был за границей, — начал он с паспортного стола.
Наведавшись туда к девяти утра, времени открытия, Томас раздобыл у них фотокопии заявлений шести Чарлзов Калтропов о выдаче паспорта. Увы, все это были разные лица, с различными вторыми именами.
Провинциальные Калтропы отпали; из двух лондонских один оказался зеленщиком в Кэтфорде и стоял за прилавком, когда два тихих человека в штатском явились побеседовать с ним. Жил он над своим магазином и паспорт представил через несколько минут. В паспорте не было никаких свидетельств о пребывании владельца в Доминиканской Республике. Расспросив его, сыщики убедились, что он даже не знает, где это такой остров.
С последним Калтропом дело обстояло сложнее. Заявление о выдаче паспорта было подано четыре года назад; по указанному в нем хейгетскому адресу находился многоквартирный дом. В домоуправлении подняли архивы и выяснили, что жилец съехал в декабре 1960 года. По какому адресу, указано не было.
Тут-то и пригодилось, что Томас знал его второе имя. Поиски в телефонной книге не дали ничего, зато на главном почтамте Томасу как представителю Особого отдела сообщили, что некий Ч. Г. Калтроп абонирует не зарегистрированный в телефонной книге номер в Западном Лондоне. Инициалы совпадали с именами искомого Калтропа: Чарлз Гарольд. Тогда Томас связался с регистрационным столом нужного района.
Да, сказал ему голос из районной регистратуры, действительно, мистер Чарлз Гарольд Калтроп снимает квартиру по такому-то адресу и числится в этом районе в списках избирателей.
Затем отправились к нему на квартиру. Она была заперта, и на звонки никто не отвечал. Никто из соседей, по-видимому, не знал, куда отлучился мистер Калтроп. Когда наряд ни с чем вернулся в Скотленд-Ярд, Томас испробовал другой подход. Он обратился в налоговое управление: нельзя ли проверить по ведомостям платежные взносы некоего Чарлза Гарольда Калтропа, домашний адрес такой-то. Просьба уточнить, где он служит и где служил последние три года.
Тут-то и зазвонил телефон. Томас снял трубку, назвался и несколько секунд слушал.
— Меня? — спросил он. — То есть как, лично? Да, конечно, выхожу. Пять минут у меня есть? Сейчас буду.
Звонил Джеймс Харроуби, начальник охраны премьер-министра. Он встал, когда вошел Томас.
— Заходите, Брин. Рад вас видеть.
— В чем дело? — спросил Томас. Харроуби изумленно поглядел на него.
— Я-то надеялся, что вы мне это скажете. Четверть часа назад он позвонил сам, назвал вашу фамилию и велел вам немедленно явиться. Что-нибудь натворили?
Томас знал за собой только одно и был удивлен, что об этом так быстро прослышали наверху. Что ж, если премьер пока не желает вводить в курс собственную охрану, это его дело.
— Что-то ничего не припомню, — сказал он. Харроуби снял трубку и попросил соединить его с кабинетом премьер-министра. В трубке затрещало, и голос сказал: «Да?»
— Господин премьер-министр, говорит Харроуби. Тут у меня главный инспектор Томас… да, сэр. Сию минуту. — Он положил трубку. — Едва дослушал. Наверняка вы что-нибудь натворили. В приемной два министра дожидаются. Пойдемте.
Харроуби провел Томаса по коридору к обтянутой зеленым сукном двери в дальнем конце. Выходивший оттуда секретарь заметил их, отступил и придержал дверь. Харроуби пропустил Томаса внутрь, раздельно произнес: «Главный инспектор Томас, господин премьер-министр» — и удалился, тихо прикрыв за собой дверь.
Человек, стоявший у окна, повернулся.
— Добрый день, главный инспектор. Садитесь, пожалуйста.
— Добрый день, сэр. — Он выбрал высокий стул и примостился на краешке. Премьер-министр молча пересек комнату и сел напротив.
— Главный инспектор Томас, до меня дошло, что вы сейчас ведете расследование в связи с запросом о содействии, полученным вчера утром по телефону из Парижа от высокопоставленного деятеля французской уголовной полиции.
— Да, сэр… да, господин премьер-министр.
— И этот запрос продиктован опасениями французских органов государственной безопасности, что где-то затаился человек… профессиональный убийца, видимо нанятый ОАС, с тем чтобы действовать во Франции?
— Собственно, об этом можно только догадываться, господин премьер-министр. Нас запросили на предмет выяснения личности такого профессионального убийцы, не известен ли нам кто-нибудь в этом роде. А зачем им нужны такие сведения, этого нам не объяснили.
— И тем не менее, главный инспектор, какие вы делаете выводы из самого факта такого запроса?
Томас слегка пожал плечами.
— Те же, что и вы, господин премьер-министр.
— Именно. Не нужно особого гения, чтобы догадаться, что французские власти желают выявить подобный… человеческий экземпляр по одной-единственной причине. А как вы полагаете, в кого будет стрелять этот человек, раз уж он так заинтересовал французскую полицию?
— Насколько я понимаю, господин премьер-министр, они боятся, что убийцу наняли с целью покушения на их президента.
— Именно. Это ведь был бы не первый случай такого покушения.
— Нет, сэр. Их уже было шесть.
— Известно ли вам, главный инспектор, что в нашей стране есть лица, занимающие немаловажные посты, лица, которые ничуть бы не огорчились, если б ваше расследование велось как можно менее энергично?
Томас был искренне удивлен.
— Нет, сэр. — С чего бы это у премьер-министра такие мысли в голове?
— Будьте добры вкратце осветить мне положение дел на данный момент.
Когда Томас закончил, премьер-министр встал и подошел к окну, за которым виднелась залитая солнцем зеленая лужайка. Добрых несколько минут он смотрел во двор, и плечи его сутулились. «Что у него на уме?» — подумал Томас.
Может быть, он вспоминал алжирское побережье, где когда-то гулял и разговаривал с высокомерным французом, который теперь сидел в другом кабинете за триста миль отсюда и вершил судьбами своей страны. Тогда они были на двадцать лет моложе, многое из того, чему суждено было случиться, еще не случилось, и между ними еще почти ничего не стояло.
Или, может быть, он думал о том, как восемь месяцев назад тот же француз, восседая в золоченом зале Елисейского дворца, размеренными, звучными фразами сокрушил надежды английского премьер-министра увенчать свою политическую карьеру вступлением Англии в Европейское сообщество, а затем удалиться на покой с гордым сознанием, что мечты его сбылись?
А может быть, он думал о недавних мучительных месяцах, когда откровения сводника и шлюхи[39] чуть не свергли британское правительство. Мир теперь стал совсем другим, мир был полон новыми людьми с новыми идеями, а он — человек из прошлого. Понимал ли он, что нынче властвуют иные нравственные нормы, почти чуждые его разумению и враждебные ему?
Он глядел на залитую солнцем траву и, вероятно, понимал, что его ожидает. Хирургическую операцию особенно откладывать было нельзя, а стало быть, надо уходить от руководства. Скоро мир перейдет в руки иных людей. Уже и теперь многое перешло к ним в руки. Пусть так, но неужели этим миром будут править сводники и шлюхи, шпионы и… убийцы?
Томас увидел, как плечи премьер-министра распрямились, и старик повернулся к нему лицом.
— Главный инспектор Томас, запомните, что генерал де Голль — мой друг. Если ему угрожает хоть малейшая опасность и если эта опасность исходит от английского гражданина, то она должна быть ликвидирована. С настоящей минуты вы отдаете все свои силы этому расследованию. В ближайший час ваше начальство получит мое личное указание оказывать вам всемерное содействие. У вас не будет никаких ограничений ни в штате, ни в расходах. Вы получите право привлекать под свое начало кого угодно и допуск к официальной документации всех учреждений страны, какая только понадобится в процессе расследования. Вам я даю личное указание сотрудничать с французскими властями в этом деле без всякой оглядки. Только в случае, если вы полностью убедитесь, что человек, которого хотят опознать и арестовать французы, кем бы он ни был, не является британским подданным и никак не связан с Англией, вы можете прекратить расследование. Об этом вы доложите мне лично. В случае же, если будет достоверно установлено, что этот Калтроп или любой другой обладатель британского паспорта именно тот, кого ищут французы, вы задержите этого человека. Кто бы он ни был, его нужно остановить. Вам все ясно?
Куда уж яснее. Томас был убежден, что до слуха премьер-министра дошли какие-то сведения, отчего он и разразился этими инструкциями. Наверно, что-то крылось за странным намеком на лиц, желающих застопорить его расследование. А впрочем, как знать.
— Да, сэр, — сказал он.
Премьер-министр наклонил голову в знак того, что беседа окончена. Томас встал и пошел к двери.
— Э-э… господин премьер-министр.
— Да.
— Вот какое дело, сэр. Я не уверен, как по-вашему, надо ли сейчас сообщать французам насчет расследования слуха об этом Калтропе — ну, в Доминиканской Республике, два года назад.
— Достаточно ли вы осведомлены о его прошлом, чтобы решить, что он подходит под описание, данное французами?
— Нет, господин премьер-министр. Ни одному Чарлзу Калтропу мы не можем поставить в вину ничего, кроме слуха двухлетней давности. А про того Калтропа, которого мы пытались нынче выследить, мы даже не знаем, был ли он в районе Карибского моря в январе 61-го. Если это не он, то мы вытянули пустой номер.
Премьер-министр немного подумал.
— По-моему, не стоит тратить время вашего французского коллеги на версии, основанные на неподтвержденных и давних слухах. Заметьте, главный инспектор, я говорю — неподтвержденных. Пожалуйста, продолжайте расследование, и как можно энергичнее. Как только вы сочтете, что накопилось достаточно информации об этом или другом Чарлзе Калтропе, подтверждающей слух об участии его в убийстве генерала Трухильо, сразу же сообщите французам и одновременно выследите этого человека, где бы он ни находился.
— Слушаюсь, господин премьер-министр.
— И будьте добры попросить ко мне мистера Харроуби. Я немедленно распоряжусь насчет ваших полномочий.
К концу дня в кабинете Томаса все совершенно переменилось. Он подобрал группу из шести лучших инспекторов Особого отдела, подробно разъяснил им задание, взял подписку о неразглашении и сел у телефона, отвечая на непрерывные звонки. В начале седьмого налоговое управление отыскало ведомости платежей Чарлза Калтропа. Один сыщик был послан за ведомостью, другой поехал на квартиру Калтропа выяснить, не знает ли кто из соседей и местных лавочников, куда он мог деться; прочие остались у телефонов… Фотографию, приложенную Калтропом к заявлению о выдаче паспорта четыре года назад, пересняли, размножили в фотолаборатории и вручили по экземпляру каждому инспектору, Из налоговых платежей подозреваемого явствовало, что последний год он нигде не работал, а до того провел год за границей. Большую же часть финансового 1960/61 года он служил в фирме, владелец которой, по сведениям Томаса, был одним из ведущих британских производителей и экспортеров огнестрельного оружия. За час главный инспектор выяснил фамилию управляющего фирмой и дозвонился в графство Суррей, в дачный поселок биржевиков. Томас условился о немедленном свидании, и, когда Темзу окутали сумерки, полицейский «ягуар» несся над рекой по направлению к деревне Вирджиния Уотер.
Патрик Монсон был мало похож на торговца орудиями убийства; впрочем, рассудил Томас, все они таковы. От Монсона Томас узнал, что Калтроп прослужил в оружейной фирме чуть меньше года. Важнее было то, что в декабре 1960 — январе 1961 года он был командирован в Сьюдад-Трухильо с поручением сбыть шефу полиции Трухильо партию списанных с вооружения английской армии станковых пулеметов.
Томас неприязненно оглядел Монсона. А как там потом распорядятся, не наше дело, так, что ли, парень, подумал он, но высказывать свою неприязнь не счел нужным. Почему Калтроп столь поспешно покинул Доминиканскую Республику?
Монсон, видимо, был удивлен вопросом. Разумеется, потому, что убили Трухильо. Весь режим рухнул в несколько часов. А чего ждать от нового режима человеку, который явился на остров продавать прежним хозяевам оружие и боеприпасы? Конечно, ему надо было скорее убираться.
Томас поразмыслил. Оно, конечно, так. Монсон сказал, что, по рассказам Калтропа, они как раз сидели в кабинете шефа полиции диктатора и обсуждали сделку, когда стало известно, что генерала убили в засаде за городом. Шеф полиции побелел и тут же уехал к себе в имение, где у него всегда был наготове самолет с пилотом. Через несколько часов толпы метались по улицам и выискивали приверженцев старого режима. Калтропу пришлось подкупить рыбака, чтоб выбраться с острова.
А почему, спросил тогда Томас, Калтроп покинул фирму? Его уволили — был ответ. Почему? Монсон задумался, подбирая слова. Наконец он сказал:
— Видите ли, главный инспектор, торговля подержанным оружием связана с острой конкуренцией. Тут, можно сказать, пощады не бывает. Если конкурент хочет перехватить сделку, то ему позарез нужно знать, что предложено на продажу и по какой цене. Скажем так: мы были не вполне удовлетворены лояльностью Калтропа по отношению к компании.
По пути обратно в город Томас все это обдумывал. В тогдашнем калтроповском объяснении причин поспешного бегства из Доминиканской Республики была своя логика. И это объяснение не подтверждало, а скорее опровергало слух, о котором впоследствии доносил карибский резидент Интеллидженс сервис, — слух о его причастности к убийству.
С другой стороны, если верить Монсону, Калтроп был нечист на руку. Может быть, он прибыл как полномочный представитель компании по сбыту огнестрельного оружия и в то же время предложил свои услуги повстанцам?
Томаса смутила одна фраза Монсона: тот упомянул, что, когда Калтропа приняли на службу, он неважно разбирался в оружии. Уж снайпер-то знает в оружии толк? С другой стороны, он, само собой, мог подучиться и за время службы в компании. Но если стрелок он был зеленый, то с чего бы партизанам нанимать его, раз надо было одним выстрелом остановить машину генерала на полном ходу? Или он в свое время не был нанят? Может, версия Калтропа и есть чистая правда?
Томас пожал плечами. Ничего не доказано, ничего не опровергнуто.
Но в кабинете его ждали новости, от которых он насторожился. Позвонил инспектор, занимавшийся расспросами по месту жительства Калтропа. Он отыскал соседку по этажу, которая весь день была на работе. Та сказала, что мистер Калтроп вот уж несколько дней как уехал и при этом обмолвился, что хочет поездить по Шотландии. На заднем сиденье его машины, которая стояла возле дома, женщина видела что-то вроде набора удочек.
Удочек? Главного инспектора Томаса вдруг зазнобило, хотя в кабинете было тепло. Едва он положил трубку, как вошел другой инспектор.
— Шеф?
— Да?
— Тут мне кое-что пришло в голову.
— Выкладывай.
— Вы по-французски говорите?
— Нет, а ты?
— Я — да, моя мать была француженка. Этот убийца, которого разыскивают французы, у него ведь кличка Шакал?
— Дальше что?
— Так вот, «шакал» по-французски будет «chacal», а Чарлз — Шарль. Получается, Ша-кал. Понимаете? Может, это и простое совпадение. Что же он — чурбан чурбаном, взял кличку, пусть и французскую, составленную из первых букв своего имени и первых букв…
— Семь чертей и одна ведьма, — сказал Томас и оглушительно чихнул. Потом потянулся к телефону.
15
Третье заседание в министерстве внутренних дел в Париже началось немногим позже десяти вечера. Первым заслушали генерала Гибо из СДЕКЕ. Он был краток и говорил по существу. Агентами мадридского отделения контрразведки установлено местопребывание бывшего нациста, убийцы Касселя. Он тихо и мирно проживал в своей мадридской квартире, завел в городе на паях с другим бывшим эсэсовцем-десантником процветающее дело и, насколько удалось выяснить, связей с ОАС не имел. Во всяком случае, когда из Парижа затребовали дополнительные сведения, в мадридском отделении уже имелось на него досье, и там считали, что он вообще никогда не был связан с ОАС.
Принимая во внимание возраст Касселя, участившиеся приступы ревматизма, из-за чего ему все труднее было ходить, и чрезмерное пристрастие к спиртному, решили, что на роль Шакала он не годится.
Генерал закончил, и все глаза обратились к Лебелю. Он не мог сообщить ничего утешительного. Из Америки поступили сведения, что Чак Арнольд, коммивояжер фирмы по сбыту оружия, сейчас в Колумбии, где по поручению своего патрона-американца пытается заключить сделку — всучить начальнику генштаба партию боевых винтовок типа AR-10 из списанного снаряжения армии США. Кстати, в Боготе он находится под постоянным наблюдением ЦРУ, и нет никаких указаний на то, что, помимо этой неугодной власти США сделки, он замышляет что-то еще.
Тем не менее досье на этого человека было передано по телексу в Париж, как и досье на Вителлино. Последнее свидетельствовало, что бывший убийца из Коза ностра, обнаружить которого пока не удалось, был ростом пять футов четыре дюйма, приземист и непомерно широк в плечах, имел черные как смоль волосы и смуглую кожу. Поскольку эти данные расходились с приметами Шакала, которые сообщил венский портье, Лебель заключил, что и Вителлино можно сбросить со счетов.
В Южной Африке установили, что Пиит Шуипер в настоящее время командует военизированной охраной, которую некая алмазная корпорация содержит в одной из западноафриканских стран Британского Содружества. Хозяева подтвердили его местонахождение, он, несомненно, пребывал на своем посту в Западной Африке.
Бельгийская полиция подняла досье на бывшего легионера. В картотеке раскопали донесение посольства из одной республики в Карибском районе: согласно донесению, прежний наемник Чомбе три месяца назад был убит в драке в гватемальском баре.
Лебель дочитал последнее донесение из лежавшей перед ним папки.
— Похоже, все наши предположения повисают в воздухе.
— Повисают в воздухе, — съязвил Сен-Клер, — вот они, плоды ваших «чисто детективных методов»! Все повисает в воздухе! — Он свирепо взглянул на двух детективов, Бувье и Лебеля, мгновенно почуяв, что остальные молчаливо поддерживают его.
— Похоже на то, господа, что мы, — министр незаметно употребил форму множественного числа, включив в это «мы» и комиссаров полиции, — вернулись к тому, с чего начали. Как говорится, снова на нуле, а?
— Боюсь, что так, — ответил Лебель. Бувье решил принять удар на себя.
— Моему коллеге фактически приходится действовать наугад, вслепую и разыскивать, пожалуй, одного из самых неуловимых типов на свете. Такие субъекты не афишируют своей профессии или местопребывания.
— Мой дорогой комиссар, мы помним об этом, — холодно возразил министр, — однако вопрос…
Его прервал стук в дверь. В дверях появился робкий и вконец смешавшийся министерский швейцар.
— Прошу прощения, господин министр. Комиссара Лебеля просят к телефону. Из Лондона. — Почувствовав крайнее недовольство заседавших, он попробовал оправдаться: — Говорят, что очень срочно…
Лебель встал.
— С вашего позволения, господа?
Он вернулся через пять минут. За время его отсутствия атмосфера конференц-зала не потеплела.
— Думаю, господа, что мы располагаем именем человека, который нам нужен, — начал он.
Через полчаса все расходились чуть ли не в легкомысленном настроении. Когда Лебель пересказал свой разговор с Лондоном, участники совещания испустили дружный вздох, как состав, подходящий к платформе после длинного перегона. Каждый знал, что теперь-то наконец и ему есть чем заняться. За тридцать минут все быстро согласились, что вполне возможно, соблюдая строжайшую секретность, прочесать Францию в поисках человека по имени Чарлз Калтроп, найти его и, если понадобится, устранить.
Во Франции он или еще нет — не суть важно. До его приезда будет сохранена полнейшая тайна, а когда он объявится, его схватят.
— Эта мерзкая тварь, тип по имени Калтроп, можно сказать, уже в наших руках, — сообщил полковник Рауль Сен-Клер де Виллобан своей любовнице, лежа с ней той же ночью в постели.
Часы на камине мелодично пробили полночь, и наступило 14 августа.
Главный инспектор Томас откинулся на спинку своего рабочего кресла и оглядел группу из шести инспекторов, которых он снял с других заданий сразу же по окончании разговора с Парижем. Снаружи в тишине летней ночи часы на Большом Бене отбили полночь.
Инструктаж занял час. Первому инспектору было поручено разузнать все о юности Калтропа: где проживают или проживали его родители, какую школу он посещал, состоял ли в школьном военном отряде, и если да, то какие результаты показал на стрельбищах. Проявлял ли особые способности, бывал ли отмечен и т. п.
Второму вменялось в обязанность раздобыть материал о его ранней молодости от окончания школы до призыва, о военной службе, включая послужной список и оценки по стрелковой подготовке, о работе после армии вплоть до ухода из фирмы по сбыту оружия, уволившей его по подозрению в двурушничестве.
Третьему и четвертому детективам была поставлена задача ознакомиться с его образом жизни после ухода с последнего известного места работы в октябре 1961 года. Где бывал, с кем встречался, сколько и откуда получал денег, к тому же в полицейской картотеке Калтроп не фигурировал и, следовательно, отпечатков его пальцев не имелось, а Томасу требовались любые и особенно недавние его фотографии.
Два последних инспектора должны были постараться установить местонахождение Калтропа в настоящий момент. Тщательно осмотреть квартиру, нет ли где отпечатков пальцев; выяснить, где был куплен автомобиль, проверить в лондонском муниципалитете, не выдавали ли ему водительские права, и если нет, то запросить отделы выдачи водительских прав в провинции. Установить марку, год выпуска, цвет машины, ее номер. Найти гараж, услугами которого он пользуется, и узнать, не собирался ли он в длительную автопоездку, проверить списки пассажиров, следовавших паромом через Ла-Манш, обойти все авиакомпании, не заказывал ли он билета на самолет, не важно куда.
Все шестеро подробно записали задание. И только когда Томас закончил, они встали и гуськом вышли из кабинета. В коридоре двое последних переглянулись.
— Насквозь и подчистую, — сказал один. — Больше ничего и не придумаешь.
— Обрати внимание, — заметил другой. — Старик так и не сказал, что именно натворил или собирается натворить этот парень.
— Одно-то уж точно: такую кашу и не заваришь без приказа, сам знаешь откуда. Можно подумать, этот паршивец задумал пристрелить самого таиландского короля.
Чтобы разбудить мирового судью и дать ему подписать ордер на обыск, потребовалось мало времени. В предрассветный час, когда обессиленный Томас задремал в служебном кресле, а Клод Лебель, еще более измотанный, у себя в кабинете прихлебывал крепкий черный кофе, два инспектора из Особого отдела прочесывали квартиру Калтропа. К шести утра квартира была выпотрошена до нитки.
Большинство соседей, столпясь на площадке, показывали друг другу глазами на закрытую дверь Калтропа и перешептывались, но сразу замолкли, как только полицейские показались на лестнице.
Один нес чемодан с частными бумагами и личными вещами Калтропа. Он спустился вниз, вскочил в ожидавший его полицейский автомобиль и укатил к главному инспектору Томасу. Второй приступил к долгой процедуре опросов. Он начал с соседей, памятуя, что большинство из них через час-другой отправятся на работу. Местные лавочники могли и подождать.
Несколько минут Томас перебирал груду вещей, вываленных на пол в его кабинете. Тем временем инспектор сыскной полиции извлек из кучи синюю книжечку и, подойдя к окну, принялся листать ее при свете восходящего солнца.
— Взгляните-ка, шеф. — Он ткнул пальцем в открытый паспорт, держа его перед собой. — Слушайте… «Доминиканская Республика, аэропорт Сьюдад-Трухильо, декабрь 1960, въезд…» Он-таки там побывал. Это он самый и есть.
Томас взял паспорт, пробежал глазами и уставился в окно.
— Верно, старина, он-то нам и нужен. Но тебе не приходит в голову, что его заграничный паспорт у нас в руках?
— Ах ты… — прошептал инспектор, когда до него дошел смысл сказанного.
— Вот именно, — сказал Томас, которому религиозное воспитание позволяло употреблять сильные выражения лишь в самых исключительных случаях. — Если он разъезжает без паспорта, так с чем же он разъезжает? Дай сюда телефон и вызови Париж.
К этому времени Шакал уже пятьдесят минут как был в дороге, оставив Милан далеко позади. До французской границы у Вентимильи по карте было двести пятьдесят километров, то есть около ста тридцати миль, и он, рассчитав, что доберется до нее от Милана за два часа, не выбился из расписания. Правда, когда в самом начале восьмого он попал в колонну грузовиков, шедших из Генуи в доки, ему пришлось снизить скорость, но уже через четверть часа он вырвался на шоссе А-10 до Сан-Ремо и границы.
Когда без десяти восемь он прибыл на самый сонный из французских пограничных постов, обычное движение на дорогах оживилось, а солнце начало припекать.
Полчаса он прождал в очереди, затем ему жестом приказали въехать на пандус для таможенного осмотра. Полицейский забрал у него паспорт, внимательно просмотрел и, пробормотав: «Одну минутку», исчез в таможенном бараке.
Через несколько минут он появился с человеком в штатском, который держал паспорт.
— Добрый день.
— Добрый день.
— Это ваш паспорт?
— Да.
Паспорт был уже тщательно изучен.
— Какова цель вашего приезда во Францию?
— Туризм. Я еще не бывал на Лазурном берегу.
— Понимаю. Это ваша машина?
— Нет. Я взял ее напрокат. В Италии у меня деловая командировка, но неожиданно выдалась свободная неделя. Вот я и взял напрокат машину, чтобы немного попутешествовать.
— Документы на машину у вас при себе?
Шакал предъявил международные водительские права, контракт на прокат и две страховые квитанции. Штатский просмотрел обе.
— Вы с багажом?
— Да, три чемодана в багажнике и еще саквояж.
— Попрошу вас принести их в здание таможни.
Он ушел. Полицейский помог Шакалу выгрузить три чемодана и саквояж и отнести их на таможню.
Прежде чем выехать из Милана, он вытащил старую шинель, замызганные штаны и ботинки Андре Мартена, несуществующего француза, чьи документы были зашиты в подкладку третьего чемодана, скатал вещи и сунул в глубь багажника. Одежду из двух других чемоданов он распределил по трем. Медали положил в карман.
Над каждым чемоданом работали двое таможенников. Пока они занимались своим делом, Шакал заполнял стандартную анкету для лиц, въезжающих во Францию. Из содержимого чемодана ничто не вызвало интереса. Был один неприятный момент, когда таможенники извлекли флаконы с краской для волос. Он предусмотрительно перелил ее в опорожненные бутылочки из-под лосьона после бритья. В то время лосьон не был моден во Франции, он едва успел появиться на рынке и пользовался спросом главным образом в Америке. Шакал увидел, как таможенники переглянулись, но положили флаконы обратно в саквояж.
Краешком глаза он наблюдал через окошко, как другой служащий проверяет багажник и капот «альфы-ромео». К счастью, таможенник не стал заглядывать под корпус. Сверток с шинелью и штанами он развернул и брезгливо их осмотрел, но, видимо, решил, что шинель для того, чтобы укрывать капот в морозные ночи, а старое тряпье — на случай, если придется чинить машину в пути. Он свернул одежду и закрыл багажник.
Когда Шакал заполнил анкету, двое таможенников закрыли чемоданы и кивнули человеку в штатском. Тот в свою очередь взял въездную учетную карточку, проверил ее, еще раз сравнил с паспортом и вернул паспорт владельцу.
— Спасибо. Счастливого пути.
Десять минут спустя «альфа» на полной скорости въезжала в восточный пригород Ментоны. Безмятежно позавтракав в кафе с видом на старый порт и яхт-рейд, Шакал повел машину вдоль Корниш Литтораль[40] на Монако, Ниццу и Кан.
В своем лондонском кабинете главный инспектор Томас помешал ложечкой крепкий черный кофе и провел ладонью по щетине на подбородке. У противоположной стены лицом к начальнику сидели два инспектора, которым было поручено установить местонахождение Калтропа. Все трое ожидали прибытия подкрепления — шести сержантов, освобожденных от своих прямых обязанностей в Особом отделе после серии телефонных звонков, которым Томас посвятил предшествующий час.
Сержанты стали поодиночке подходить в начале девятого, после того как, явившись на службу, получали там направление под начало Томаса. Когда все были в сборе, Томас их проинструктировал.
— Итак, мы разыскиваем одного человека. Я не обязан вам сообщать, почему он нам нужен, — вам это знать не обязательно. Но мы должны его заполучить, и как можно скорее. Мы знаем, по крайней мере считаем, что в данный момент он находится за границей. И мы почти уверены, что он путешествует с фальшивым паспортом.
— Вот… — он передал им пачку увеличенных копий с фотографии на калтроповском ходатайстве о паспорте, — так он выглядит. Не исключено, что он изменил свою внешность, а потому не обязательно должен походить на собственное фото. От вас требуется вот что: отправиться в паспортное бюро и получить полный список всех ходатайств о паспортах за недавнее время. Начнете с поданных за последние пятьдесят дней. Если ничего не обнаружите, возьмете ходатайства за предыдущие пятьдесят. Придется порядком попотеть.
Затем он вкратце описал самый распространенный способ получения фальшивого паспорта, которым, кстати, и воспользовался Шакал.
— Самое главное, — сказал он напоследок, — не ограничиваться одними свидетельствами о рождении. Поднимите свидетельства о смерти. Поэтому, получив список из паспортного бюро, перебазируйтесь в Сомерсет-хаус,[41] устройтесь как следует, разделите список между собой и займитесь свидетельствами о смерти. Если удастся найти ходатайство, поданное человеком, которого уже нет в живых, самозванец, скорее всего, и окажется тем, кто нам нужен. Приступайте.
Восемь агентов гуськом вышли из кабинета, а Томас переговорил по телефону с паспортным бюро и с бюро записи актов гражданского состояния в Сомерсет-хаус, чтобы обеспечить своим людям максимальное содействие.
Через два часа, когда он брился чужой электробритвой, подключив ее к настольной лампе, позвонил старший из двух инспекторов, поставленный начальником над группой. За последние сто дней, сообщил он, было подано восемь тысяч сорок одно ходатайство о выдаче заграничного паспорта. Лето, объяснил он, самое время отпусков, когда ходатайств подается больше всего.
Брин Томас положил трубку и высморкался.
— Чертово лето, — сказал он.
В начале двенадцатого тем же утром Шакал прикатил в Кан. Как всегда, когда он был при деле, он начал искать отель получше и, покружив несколько минут по улицам, вырулил на площадку перед «Мажестиком». На ходу поправляя прическу, он широким шагом вошел в вестибюль.
Время близилось к полудню, большинство постояльцев разошлись по городу, и в холле было малолюдно. Светлый элегантный костюм и самоуверенная повадка выдавали английского джентльмена, поэтому никто не удивился, когда он спросил коридорного, как пройти к телефону. Шакал подошел к дежурной за конторкой между коммутатором и гардеробом, и та подняла глаза.
— Дайте, пожалуйста, Париж, Молитор, 5901, — попросил он.
Через пару минут она жестом пригласила его в кабину возле коммутатора и проводила взглядом, когда он прикрыл за собой звуконепроницаемую дверцу.
— Говорит Шакал.
— Вальми слушает. Слава богу, что позвонили. Мы два дня пытаемся с вами связаться.
Если бы кто-нибудь посмотрел сквозь дверное стекло, то увидел бы, как англичанин у телефона вдруг подобрался и нахмурился. Он пробыл в кабине минут десять и большей частью слушал. Изредка шевелил губами, задавая короткие, отрывочные вопросы. Но никто на него не смотрел: телефонистка с головой ушла в душещипательный роман и очнулась, только когда гость вырос над ней, уставившись на нее стеклами темных очков. Она взглянула на цифру, указанную счетчиком, и приняла деньги.
Шакал вынес кофейник на террасу, откуда открывался вид на Круазетт и сверкающее море, где с озорными криками резвились загорелые купальщики. Он погрузился в раздумье, глубоко затягиваясь сигаретой.
Он представлял себе Ковальского, здоровенный поляк запомнился ему по венской гостинице. Чего он не мог понять, так это откуда телохранитель, находившийся за закрытыми дверями, узнал его кличку и проведал, для чего его наняли.
Шакал подвел баланс. Вальми советовал ему завязать и возвращаться домой, но признался, что не получал от Родена распоряжений отменить операцию. Подтверждались худшие опасения Шакала насчет расхлябанности в ОАО. Но он знал кое-что другое, скрытое от них и тем более от французской полиции. А именно: что он путешествует под чужим именем и с законным паспортом, выданным на это имя, да еще с тремя отдельными комплектами фальшивых бумаг про запас, включая два заграничных паспорта плюс соответствующий грим.
На что конкретно могла опереться французская полиция и этот человек, о котором говорил Вальми, комиссар Лебель? На очень расплывчатое описание: высокий белокурый иностранец. Но в августе во Франции таких тысячи. Не забирать же их всех подряд!
Другое преимущество — французская полиция охотится за человеком с паспортом на имя Чарлза Калтропа. Ну и пусть себе охотится, на здоровье. Он — Александр Дугган и может это доказать.
Ковальский мертв — одним меньше; зато теперь уже никто, даже Роден со своими присными, не знает, как его зовут и где он находится. Наконец-то он действует сам по себе, как ему всегда хотелось.
Тем не менее опасность возросла, сомнений быть не могло. Идея убийства вышла на свет, и теперь ему придется атаковать крепость, возведенную охраной. Вопрос в том, можно ли с помощью разработанного им плана убийства пробить стену этой крепости. Взвесив все «за» и «против», он мог с уверенностью сказать: да.
Однако вопрос оставался, и его требовалось решить. Отступить или продолжать? Отступить значило схватиться с Роденом и его шайкой за право распоряжаться четвертью миллиона долларов, лежавших на его счете в Цюрихе. Если он откажется возвратить деньги, они без малейших колебаний его выследят, заставят под пыткой подписать бумаги на выдачу денег со счета, а затем пристукнут. Скрываться же от них — стоит денег, больших денег, чуть ли не всех, какие у него есть.
Продолжать значило подвергнуть себя новым опасностям до завершения операции. Чем ближе намеченный день, тем труднее станет в последнюю минуту отступление.
Принесли счет, он глянул и поморщился. Бог мой, ну и дерут! Чтобы жить такой жизнью, нужно быть богатым, иметь доллары, доллары и еще раз доллары. Он посмотрел на алмазное море и на гибких загорелых девушек, разгуливающих по пляжу; на шипящие «кадиллаки» и рычащие «ягуары», что на малой скорости ползут по Круазетт; на шоколадных молодых людей, которые, сидя за рулем, одним глазом следят за дорогой, а другим шарят по сторонам, выискивая подходящий «кадр». Вот к какому существованию он стремился долгие годы, еще с тех дней, когда прижимался носом к витринам туристических агентств и глазел на рекламные плакаты, живописавшие другую жизнь, другой мир, такой далекий от сутолоки пригородных поездов и анкет в трех экземплярах, от канцелярских скрепок и остывшего чая. За последние три года он почти добился своего, урывками, но добился. Он привык к хорошей одежде, дорогим блюдам, шикарной квартире, спортивному автомобилю, элегантным женщинам. Отступить значило отказаться от всего этого.
Шакал заплатил по счету и оставил щедрые чаевые. Он забрался в «альфу» и, покинув «Мажестик», устремился в сердце Франции.
Сидя за письменным столом, комиссар Лебель чувствовал себя так, словно он никогда в жизни не спал и вряд ли поспит в будущем. В углу на раскладушке громко храпел Люсьен Карон. Он всю ночь возглавлял архивные поиски, задачей которых было обнаружить во Франции Чарлза Калтропа. На рассвете его подменил Лебель.
Сейчас перед ним громоздилась кипа донесений из различных инстанций, ведавших регистрацией и контролем за передвижением иностранцев по территории Франции. Все они подтверждали одно: с начала этого года (на более отдаленные сроки проверка не распространялась) лицо под таким именем не пересекло границы законным порядком ни в одном из пунктов.
Утренний звонок от главного инспектора Томаса отодвинул надежды на скорую поимку неуловимого убийцы еще дальше. Снова всплыла фраза «на нуле», правда, на этот раз, к счастью, лишь в разговоре с Кароном. Участники вечернего совещания еще не знали, что след Калтропа, очевидно, ведет в тупик. Но в десять часов придется сообщить им об этом. Если он не сумеет предложить им другое имя, можно представить, как опять будет издеваться Сен-Клер и укоризненно промолчат остальные.
Карон выдвинул предположение, что британская полиция могла спугнуть Калтропа в его отсутствие, пока он был в городе по своим делам, что паспорта на другое имя у него не оказалось, что он затаился и отказался от операции.
Лебель вздохнул.
— О большей удаче не приходится и мечтать, — сказал он своему помощнику, — но не рассчитывай на нее. Британский Особый отдел сообщил, что в ванной не нашли ни умывальных, ни бритвенных принадлежностей, а соседу Калтроп якобы говорил, будто уезжает поразмяться и порыбачить. Если Калтроп не взял с собой паспорта, так потому только, что он ему больше не нужен. Не рассчитывай, что он наделает кучу ошибок. Чем дальше, тем больше не нравится мне этот Шакал.
Тот, за кем охотилась полиция двух стран, решил избежать мучительных «пробок» на убийственном отрезке Гранд-Корниш от Кана до Марселя и объехать стороной южный участок магистрали RN-7 за Марселем, где она поворачивает на север к Парижу. Он знал, что в августе обе дороги представляют собой изощренный вариант земного ада.
Чувствуя себя в безопасности под чужим именем и с чужими документами, он решил, свернув с побережья, неспешно проехаться через Приморские Альпы, где на высоте было не так жарко, и далее по холмистой Бургундии. Особенно торопиться было некуда, день, выбранный им для охоты, был еще неблизок, и он знал, что приехал во Францию с небольшим опережением графика.
От Кана он повернул на север по шоссе RN-85, миновал живописный городок Грае и поехал к Кастеллану, где бурный Вердон, усмиренный высокой плотиной в нескольких милях вверх по течению, уже послушно стекал по Савойе, чтобы у Кадараша влиться в Дюранс.
Днем он проехал Систерон, где дорога плавно заворачивала в северном направлении, все еще следуя вдоль левого берега Дюранса в его верхнем течении до самой развилки, а там шоссе RN-85 шло прямо на север. Сумерки застали его в небольшом городке Гап. Он успел бы проехать дальше, до Гренобля, но спешить было некуда, а в августе в маленьком городке снять номер больше шансов, и он решил поискать гостиницу в сельском стиле. Сразу за городом он обнаружил здание «Отель дю Серф» с великолепной остроконечной крышей — бывшую резиденцию какого-то савойского герцога, сулившую непритязательный уют и хорошую кухню.
Несколько номеров были свободны. Отказавшись от привычного душа, он понежился в ванне и облачился в шелковую сорочку, вязаный галстук и серый костюм с сиреневым отливом.
Отужинал он в обшитом панелями зальчике с видом на лесистый склон, под громкий треск цикад, доносившийся из соснячка. Было тепло, окна закрыли лишь после того, как в середине ужина одна декольтированная дама в платье без рукавов заметила метрдотелю, что стало прохладно.
У Шакала осведомились, не будет ли он против, если закроют окно, у которого он сидит, и указали ему глазами на даму, попросившую об этом. Шакал обернулся и посмотрел на нее. Она ужинала одна — красивая женщина лет под сорок, с белыми нежными руками и полной грудью. Шакал утвердительно кивнул метрдотелю и едва заметно поклонился женщине. Та ответила холодной улыбкой.
Еда была великолепна. Он заказал пятнистую речную форель на рашпере, обжаренную над огнем, и шашлык на угольях с тимьяном и сладким укропом. Пил он местное кот-дю-рон, густое, с тонким букетом, подававшееся в бутылках без этикетки. Очевидно, бочковое вино из подвала; хозяин рекомендовал его как фирменное. Оно было почти на всех столах — и недаром.
Доедая шербет, Шакал услышал за спиной низкий и властный голос женщины, приказавшей метрдотелю подать ей кофе в общую гостиную, тот кланялся, величая ее «мадам баронесса». Через несколько минут Шакал, распорядившись, чтобы ему тоже подали кофе в гостиную, прошел за нею следом.
Из Сомерсет-хаус главному инспектору Томасу позвонили в четверть одиннадцатого. Звонил старший инспектор, возглавляющий группу. Голос у него был усталый, однако с ноткой оптимизма: он надеялся, что его сообщение избавит их всех от каторжного труда по розыску сотен свидетельств о смерти, которых не существовало в природе, поскольку владельцы паспортов благополучно здравствовали.
— Александр Джеймс Квентин Дугган, — лаконично объявил он, когда Томас поднял трубку.
— Ну, а дальше? — спросил Томас.
— Родился 3 апреля 1929 года в Сэмборн-Фишли, приход святого Марка. Ходатайство о паспорте подано в обычной форме и обычным порядком 14 июля сего года. Паспорт выписан на другой день и 17 июля выслан почтой по адресу, указанному в ходатайстве. Адрес, скорее всего, фиктивный.
— Почему? — спросил Томас. Он не любил, когда его заставляли ждать.
— Потому что Александр Джеймс Квентин Дугган погиб в автомобильной катастрофе в родной деревне 8 ноября 1931 года двух с половиной лет от роду.
Томас подумал с минуту.
— Пускай остальные заканчивают проверку, вдруг обнаружится еще одна фальшивка, — распорядился он. — Передай командование второму старшему, а сам выясни, что это за адрес, на который выслали паспорт. Как только выяснишь, немедленно позвони. Если в доме живут, побеседуй с хозяином. Привезешь мне все сведения об этом лже-Дуггане и дубликат фотокарточки, представленной с ходатайством. Хочу поглядеть на нашего друга Калтропа в его новом обличье.
Старший инспектор позвонил около одиннадцати. В Пэддингтоне по указанному адресу находилась лавчонка, торгующая табачными изделиями и газетами, одна из тех, что выставляют в витрине карточки с адресами проституток. Разбудили владельца, живущего над лавкой, и тот признался, что получает и передает корреспонденцию своих клиентов, не имеющих постоянного адреса. За определенную мзду. Инспектор показал хозяину Калтропа, но тот не опознал его. Ему также показали карточку Дуггана с ходатайством, и он сказал, что второго человека вроде бы припоминает, но ручаться не станет. Может, тот был в темных очках. Из тех, кто ходит к нему покупать разложенные под прилавком журналы с голыми девчонками, многие носят темные очки.
— Забирай его, — приказал Томас, — и являйся сам.
Затем он поднял трубку и заказал Париж.
Второй раз вызов из Лондона поступил в разгар вечернего совещания. Комиссар Лебель объяснял, что Калтроп, безусловно, не может находиться во Франции под собственным именем, разве только он тайно высадился на берег из рыбацкой лодки и перебрался через границу, в каком-нибудь богом забытом месте. Лично он считает, что профессионал не станет этого делать: стоит ему уже во Франции попасть под выборочную проверку документов, как его тут же схватит полиция, потому что документы-то у него не в порядке, то есть в паспорте не будет отметки о въезде.
Есть две возможности, заявил Лебель. Этот тип не стал обзаводиться фальшивым паспортом, полагая, что ему ничего не грозит. В этом случае полицейский налет на его лондонскую квартиру должен был застать его врасплох. Лебель объяснил, почему он в это не верит: люди главного инспектора Томаса обнаружили, что в шкафу — нехватка одежды, в белье — недостача, а умывальных и бритвенных принадлежностей и вовсе нет; стало быть, человек собрался заранее и отбыл из своей лондонской квартиры. К тому же соседу своему Калтроп якобы говорил, что прокатится в автомобиле по Шотландии. Ни британская, ни французская полиция не видели оснований верить словам Калтропа.
Либо же Калтроп раздобыл фальшивый паспорт: эту версию и обрабатывает сейчас британская полиция. То ли он покамест за границей готовится к операции, то ли уже пробрался во Францию, не вызвав ни у кого подозрений.
Это предположение вызвало негодующий взрыв.
— Уж не хотите ли вы сказать, что он может находиться во Франции, даже в центре Парижа? — запротестовал Александр Сангинетти.
— Дело в том, — объяснил Лебель, — что он действует по графику, и график этот известен только ему. Мы ведем расследование семьдесят два часа. Почем знать, на какой стадии мы подключились? Одно несомненно: убийца знает, что нам известно о существовании заговора против жизни президента, но чего мы успели добиться, он знать не может. Поэтому у нас есть реальные шансы арестовать его, застав врасплох, как только станет известно его новое имя и установлено точное местонахождение.
Но совещание и не думало успокаиваться. Одна мысль о том, что убийца может находиться в какой-нибудь миле от них и что в его графике покушение на президента может быть помечено завтрашним днем, вызывала у всех острую тревогу.
— Не исключено, разумеется, — прикинул полковник Роллан, — что, узнав от Родена через неизвестного нам агента Вальми о разоблачении плана по существу, Калтроп исчез, чтобы уничтожить следы подготовки к покушению. Скажем, вот сейчас он утопил винтовку и патроны в каком-нибудь шотландском озере, чтобы вернуться и предстать перед своей полицией как ни в чем не бывало. Трудненько будет подыскивать улики.
Над гипотезой Роллана поразмыслили и энергично закивали в знак согласия.
— Скажите нам, однако, полковник, — сказал министр, — будь вы наняты для такого дела и узнай вы о разоблачении заговора, поступили бы вы именно так, даже если вас пока и не опознали?
— Разумеется, господин министр, — ответил Роллан. — Будь я опытный убийца, я понял бы, что наверняка фигурирую в какой-нибудь картотеке и поэтому с разоблачением заговора ко мне рано или поздно нагрянет полиция и устроит обыск. Понятно, я бы постарался отделаться от улик, а что надежнее затерянного шотландского озера?
Серия улыбок, которыми его одарили из-за стола, показала, насколько всех устраивал ход его рассуждений.
— Из этого, однако, не следует, будто мы можем позволить птичке упорхнуть. Я все же считаю, что нам следует… позаботиться об этом господине Калтропе.
Улыбки исчезли. На несколько секунд воцарилось молчание.
— Не понял вас, — сказал генерал Гибо.
— Очень просто, — пояснил Роллан. — Нам было приказано разыскать и уничтожить этого человека. Может быть, он на время и отказался от своего плана. Но снаряжения он мог и не уничтожить, только припрятать, чтобы обвести британскую полицию. А после вернуться к тому, на чем кончил, но уже с новым планом, раскрыть который будет еще сложнее.
— Но если он все еще в Англии и британская полиция его обнаружит, она, конечно же, задержит его? — спросил кто-то.
— Не обязательно. Скорее, напротив. У них, вероятно, не будет никаких доказательств, одни подозрения. А наши друзья-англичане, как известно, весьма щепетильны насчет своих пресловутых «гражданских свобод». Боюсь, они его разыщут, снимут показания, а затем отпустят за отсутствием улик.
— Конечно, полковник прав, — вмешался Сен-Клер. — Британскую полицию вывел на него слепой случай. Они ведут себя как последние идиоты, у них еще и не такие разгуливают на свободе. Следовало бы поручить отделу полковника Роллана обезвредить этого Калтропа раз и навсегда.
Министр заметил, что все это время комиссар Лебель оставался молчалив и серьезен.
— А вы, комиссар, что скажете? Вы согласны с полковником Ролланом, что в настоящий момент Калтроп разбирает и прячет или же уничтожает снаряжение и бумаги?
Лебель посмотрел на два ряда напряженных лиц по обе стороны стола.
— Надеюсь, — произнес он тихо, — что полковник прав. Но боюсь, что он ошибается.
— Почему? — Вопрос прозвучал, как выстрел.
— Потому что, — мягко ответил Лебель, — Калтроп мог и не отменять операцию. Сообщение Родена до него могло и не дойти или же дошло, но он все равно решил идти до конца.
Тут-то Лебеля и вызвали к телефону. На сей раз он отсутствовал двадцать с лишним минут, а когда вернулся, то проговорил еще десять перед затаившим дыхание обществом.
— Что предпримем теперь? — спросил министр, когда комиссар закончил. Не торопясь, со свойственным ему спокойствием Лебель начал отдавать распоряжения, как генерал, разворачивающий вверенную ему армию, и никто из присутствующих, хотя все они были выше чином, не оспорил ни одного его слова.
— Итак, — подвел он итог, — все мы спокойно и без шумихи проведем общегосударственный розыск Калтропа — Дуггана. Тем временем британская полиция займется проверкой в кассах авиакомпаний, на паромах через Ла-Манш и так далее. Если они первыми обнаружат его, то сами арестуют или сообщат нам, если он выехал. Если мы обнаружим его во Франции, мы его арестуем. Если окажется, что он в какой-то третьей стране, мы можем либо подождать, пока он, ни о чем не подозревая, въедет сюда, и взять его на границе, либо… прибегнуть к другим мерам. Тогда мое дело будет сделано: преступник найден. Однако до этой минуты, господа, я был бы вам очень обязан, если бы вы согласились работать так, как я укажу.
Вызов был такой откровенный, а самоуверенность — столь беспредельная, что возражений не последовало. Все просто кивнули. Промолчал даже Сен-Клер де Виллобан.
И лишь приехав домой в самом начале первого, он нашел слушателя, которому излил все свое бешенство: подумать только, этот коротышка, этот буржуйчик-полицейский оказался прав, а лучшие эксперты государства ошибались.
Он ничком лежал на постели, любовница слушала его с сочувствием и пониманием, одновременно массируя ему шею. И лишь перед самым рассветом, когда полковник крепко заснул, она смогла выскользнуть в прихожую и позвонить.
Главный инспектор Томас посмотрел на два различных ходатайства о паспорте и на две фотокарточки, разложенные на бюваре в круге света от настольной лампы.
— Прогоним еще раз, — приказал он старшему инспектору, сидевшему рядом. — Готов?
— Так точно.
— Калтроп: рост — пять футов одиннадцать дюймов. Верно?
— Так точно.
— Дугган: рост — шесть футов.
— Утолщенный каблук, сэр. Особые ботинки могут прибавить до двух с половиной дюймов роста. Коротышки на подмостках сплошь и рядом пользуются этим из тщеславия. К тому же, когда смотрят в паспорт, на ноги не глядят.
— Хорошо, — согласился Томас, — ботинки на утолщенном каблуке. Калтроп: цвет волос — шатен. Это еще ничего не значит: цвет может иметь разные оттенки, от светлого до темно-каштанового. Судя по карточке, должен быть темно-каштановый. У Дуггана тоже отмечено: шатен. Но он похож на светлого шатена.
— Совершенно верно, сэр. Но на фотографиях волосы обычно выходят темнее. Все зависит от освещения и где стоит лампа, ну, и так далее. Опять же он мог окрасить их посветлее, чтобы стать Дугганом.
— Хорошо, допустим. Калтроп: цвет глаз — карие, Дугган: цвет глаз — серые.
— Контактные линзы, сэр, проще простого.
— Прекрасно. Калтропу тридцать семь. Дуггану в апреле исполнится тридцать четыре.
— Пришлось помолодеть, — объяснил инспектор, — ведь настоящий-то Дугган, мальчонка, что умер двух с половиной лет, родился в апреле 1929-го. Этого не переменишь. Но кому придет в голову подозревать тридцатисемилетнего, если в паспорте сказано, что ему тридцать четыре! Поверят паспорту.
Томас взглянул на фотокарточки. На вид Калтроп был солиднее, полнее лицом, крепче сбит. Но чтобы стать Дугганом, он мог изменить внешность. Больше того, он, вероятно, изменил ее еще до первой встречи с главарями ОАС, с тех пор таким и остался и был таким, когда ходатайствовал о паспорте на чужое имя. Люди подобного типа, очевидно, обязаны были уметь месяцами жить под чужой личиной, чтобы избежать разоблачения. Оттого, вероятно, Калтроп и не числился ни в одной из полицейских картотек мира, что он человек ловкий и педантичный. Если б не тот карибский слушок, им бы никогда про него не дознаться.
Приметы Дуггана вместе с номером паспорта и фотокарточкой он спустил к операторам, чтобы их передали по телексу в Париж.
В эту минуту позвонили из Сомерсет-хаус. Там кончили проверять последнее ходатайство, и все оказалось в порядке.
— Прекрасно. Поблагодарите сотрудников и закругляйтесь. В восемь тридцать утра всем быть у меня, — сказал Томас.
Он откинулся на спинку кресла, чтобы немного соснуть. Пока он спал, незаметно наступило 15 августа.
16
Баронесса де ла Шалоньер остановилась у дверей своего номера и повернулась к молодому англичанину, который провожал ее. В полутьме коридора его лицо расплывалось неясным пятном.
Вечер прошел приятно, и она не могла решить, настаивать ли ей, чтобы на том он и кончился. Вот уже час, как этот вопрос не давал ей покоя.
День она провела в офицерском училище в Барселонетте, высоко в Альпах, где присутствовала на выпускном параде — ее сына назначили вторым лейтенантом в полк альпийских стрелков, где когда-то служил его отец. Она, безусловно, была самой привлекательной из приехавших туда матерей, однако церемониал присвоения ее сыну звания офицера французской армии заставил ее с чувством, близким к ужасу, полностью осознать, что через несколько месяцев ей исполнится сорок и у нее уже взрослый сын…
— Я очень приятно провела вечер.
Опустив ладонь на ручку двери, она рассеянно подумала: «Вдруг он вздумает меня поцеловать?» Не то чтобы ей этого не хотелось. Слова были банальны, но в глубине ее существа проснулось желание. Может быть, виной тому было вино, или злой кальвадос, заказанный к кофе, или пейзаж при лунном свете, но только она знала, что не таким виделось ей окончание вечера.
Она почувствовала, как незнакомец неожиданно заключил ее в объятия, и ощутила на своих губах его губы. Они были горячими и упругими. «Хватит», — подсказал разум. Через секунду она ответила на его поцелуй, не разжимая губ. От вина у нее кружилась голова, ну, конечно, это все вино виновато. Объятия, почувствовала она, заметно окрепли, и руки у него были сильные и твердые.
Дверь комнаты подалась под ее тяжестью внутрь; она вырвалась из объятий и сделала шаг в комнату.
— Входи, дикарь.
Он вошел и закрыл дверь.
За ночь все архивы в Пантеоне перерыли заново, на этот раз в поисках Дуггана, и с успехом. Раскопали карточку, согласно которой Александр Джеймс Квентин Дугган прибыл во Францию экспрессом «Брабант» из Брюсселя 22 июля. Через час обнаружили второе донесение с того же пограничного пункта: имя Дуггана было в списке пассажиров экспресса, следовавшего из Парижа в Брюссель 31 июля.
Из префектуры поступила гостиничная карточка, заполненная на имя Дуггана, с номером паспорта, который соответствовал номеру паспорта Дуггана, указанному в сообщении из Лондона. Из карточки явствовало, что он проживал в небольшом отеле у площади Мадлен с 22 по 31 июля.
Инспектор Карон ратовал за налет, но Лебель предпочел незаметно сходить туда рано поутру и лично побеседовать с хозяином. Он убедился, что нужное ему лицо на 15 августа в отеле не проживало, а хозяин был благодарен комиссару за то, что тот проявил благоразумие и не стал будить всех постояльцев.
Лебель приказал сыщику в штатском поселиться в гостинице под видом постояльца и впредь до особых инструкций никуда не отлучаться — на тот случай, если Дугган объявится вновь.
— Этот июльский визит, — сказал Лебель Карону, вернувшись к себе в половине пятого, — был рекогносцировкой. Не знаю, каковы его планы, но у него все уже на мази.
Он посмотрел на две присланные из Лондона фотокарточки — Калтропа и Дуггана. Калтроп превратился в Дуггана, изменив рост, цвет волос и глаз, возраст и, вероятно, манеру держаться. Он попытался представить себе этого человека. Что это за противник? Уверенный, самонадеянный, убежденный в собственной неуязвимости. Опасный, изворотливый, педантичный, ни в чем не полагающийся на случай. Конечно, носит при себе оружие — но какое? Автоматический пистолет под мышкой? Метательный нож на шнурке за пазухой? Винтовку? Но где он ее спрячет во время таможенного досмотра? Как удастся ему приблизиться к генералу де Голлю с таким предметом, когда за двадцать метров от президента даже у дам проверяют сумочки, а мужчин с продолговатыми свертками без всяких церемоний гонят взашей и близко не подпускают к тому месту, где появляется президент?
— О господи, а этот полковник из Елисейского дворца думает, что мы имеем дело с очередным головорезом! — Лебель понимал, что одно преимущество у него все-таки есть: он знает новое имя убийцы, а убийце и невдомек, что он это знает. Единственный козырь, а всю игру ведет Шакал, но на вечерних совещаниях никто не может и не хочет этого понять.
Если он учует, что тебе это известно, прежде чем ты его изловишь, и еще раз сменит личину, подумал Лебель, тут-то тебе, друг мой, Клод, и каюк.
— Каюк, — произнес он вслух. Карон поднял голову:
— Вы правы, шеф. У него нет никаких шансов.
Лебель вспылил, что было на него не похоже. Очевидно, начало сказываться недосыпание.
В семь утра, на рассвете, местный жандарм подкатил к «Отель дю Серф», слез с велосипеда и прошел в вестибюль.
— Вот карточки, — сказал хозяин, протягивая из-за конторки маленькие белые карточки, заполненные накануне вновь прибывшими постояльцами. — Вчера вечером приехало всего трое.
Только в восемь утра жандарм вернулся в комиссариат Гапа с сумкой, набитой регистрационными гостиничными карточками. Их принял участковый инспектор, пробежал глазами и положил в проволочный ящичек для бумаг, откуда их позже должны были забрать для отправки в главную префектуру Лиона, а уже оттуда — в Главное архивное управление в Париже. Смысла в этом инспектор не видел.
Покуда в комиссариате инспектор складывал карточки в ящик, госпожа Колетт де ла Шалоньер расплатилась по счету, села за руль своего автомобиля и поехала на запад. Этажом выше Шакал проспал до девяти часов.
Главный инспектор Томас дремал, когда на столе пронзительно зажужжал телефон внутренней связи.
— Алло!
В ответ раздался голос старшего инспектора полиции.
— Наш друг Дугган, — начал он, сразу переходя к делу, — вылетел из Лондона в понедельник утром рейсовым самолетом БЕА. Билет был заказан в субботу. Ошибки быть не может, Александр Дугган. За билет заплатил в аэропорту наличными.
— Куда? В Париж?
— Нет, шеф. В Брюссель.
Томас быстро стряхнул остатки дремоты.
— Хорошо, слушай. Он улетел, но может вернуться. Продолжай проверять заказы по книгам авиакомпаний, вдруг встретишь еще заказы на его имя. Особенно если он заказывал билет, а самолет только должен вылететь из Лондона. Проверь заблаговременно заказы. Я хочу знать, успел ли он уже вернуться из Брюсселя. Хотя вряд ли. Думаю, мы его упустили. Правда, он отбыл из Лондона за несколько часов до начала расследования, так что мы тут ни при чем.
— Так точно. Как быть с розысками настоящего Калтропа по Соединенному Королевству? В них занято много полицейских на местах, нам только что звонили из Скотленд-Ярда и жаловались.
— Прекратите розыски, — сказал Томас. — Я больше чем уверен, что его здесь нет.
Он поднял трубку внешнего телефона и попросил соединить его с кабинетом комиссара Лебеля в парижской Уголовной полиции.
Утром в четверг инспектор Карон был уверен, что окончит свой век в сумасшедшем доме. Сначала в пять минут одиннадцатого позвонили англичане. Он сам снял трубку, но главный инспектор Томас потребовал к телефону Лебеля, и он пошел к раскладушке в углу будить спящего. Лебель выглядел, как труп недельной давности. Но к телефону подошел. Как только Томас убедился, что разговаривает с Лебелем, Карону снова пришлось взять трубку, чтобы переводить. Он перевел то, что сказал Томас, и реплики Лебеля.
— Передай ему, — сказал Лебель, когда сообщение улеглось у него в голове, — что с бельгийцами мы сами свяжемся. Скажи, что я очень благодарен за помощь и что, если удастся выследить убийцу на континенте, а не в Англии, я сразу же дам ему знать, чтобы он освободил своих ребят.
Кончив разговор, Лебель и Карон вернулись к своим рабочим местам.
— Соедини меня с брюссельской полицией, — сказал Лебель.
Шакал проснулся, когда солнце стояло уже высоко над холмами, обещая еще один великолепный летний день. Он принял душ и оделся, получив свой хорошо отутюженный клетчатый костюм из рук горничной Марии Луизы, зардевшейся, когда он ее поблагодарил.
Немногим позже половины одиннадцатого он отправился на «альфе» в город, на почту, чтобы позвонить по междугородному в Париж. Через двадцать минут он вышел оттуда торопливым шагом, плотно сжав губы. В хозяйственном магазине неподалеку Шакал приобрел кварту густо-синего глянцевого лака и полпинты белого, а также две кисти, одну тонкую, верблюжьего волоса, для надписей, другую — двухдюймовую из мягкой щетины. Еще он купил отвертку. Сложив все это в перчаточный ящик, он вернулся в «Отель дю Серф» и потребовал счет.
Пока дежурный портье разменивал в конторе купюру, чтобы принести ему сдачу, англичанин перелистал книгу регистрации постояльцев, в которую портье готовился занести имена приезжающих в этот день, и, перевернув предшествующую страницу, нашел записи, сделанные накануне, и среди них имя госпожи баронессы де ла Шалоньер, Верхний Шалоньер, департамент Коррез.
Через несколько секунд после того, как счет был оплачен, у подъезда раздался рев «альфы-ромео», и англичанин исчез.
Около полудня к Лебелю поступили новые сообщения, Из брюссельской полиции передали по телефону, что в понедельник Дугган провел в столице всего пять часов. Он прибыл самолетом БЕА из Лондона, но в тот же вечер вылетел рейсом «Алиталии» в Милан. За билет расплатился в кассе не чеком, а наличными, заказал же его еще в субботу по телефону из Лондона.
Лебель немедля соединился с миланской полицией.
Не успел он положить трубку, как снова зазвонил телефон. На этот раз позвонили из ДСТ, чтобы сообщить: обычным порядком получено донесение, что среди въехавших накануне во Францию из Италии через пограничный пункт Вентимилья числится Александр Джеймс Квентин Дугган, заполнивший, как и положено, регистрационную карточку.
Лебель взорвался.
— Почти тридцать часов, — заорал он. — Больше суток…
Он хлопнул трубку на место. Карон вскинул бровь.
— Карточка, — устало объяснил Лебель, — шла до Парижа из Вентимильи. Сейчас разбирают вчерашние утренние карточки со всей Франции. Говорят, что их за двадцать пять тысяч. И это за один только день. Зря я погорячился. Одно по крайней мере мы знаем: он здесь. Совершенно точно. Во Франции. Если я явлюсь завтра на вечернее заседание с пустыми руками, они с меня шкуру спустят. Кстати, позвони главному инспектору Томасу и поблагодари его еще раз. Передай, что Шакал во Франции и мы займемся им сами.
Едва Карон переговорил с Лондоном, как позвонили из штаб-квартиры ПЖ в Лионе. Лебель выслушал сообщение и торжествующе посмотрел на Карона. Трубку он прикрыл рукой.
— Теперь он наш. Вчера вечером он на двое суток снял номер в «Отель дю Серф», что в Гапе.
Убрав руку, он заговорил в трубку:
— Значит, так, комиссар. Я не имею права сообщать вам, зачем нам понадобился этот Дугган, но поверьте мне, это очень важно. Я хочу, чтобы вы сделали следующее…
Он говорил десять минут, а когда кончил, затрещал телефон на столе Карона. Опять звонили из ДСТ, сообщили, что Дугган въехал во Францию в белой «альфе-ромео», двухместной спортивной модели под номером MI-61741, взятой напрокат.
— Дать команду по всем полицейским участкам задержать ее? — спросил Карон.
Лебель с минуту подумал.
— Нет, еще не время. Если он разъезжает по окрестностям, его, чего доброго, задержит какой-нибудь деревенский жандарм, который решит, что дело идет об угнанном спортивном автомобиле. Шакал убьет любого, кто попытается перехватить его. Винтовка должна быть спрятана где-то в машине. Важно, что он снял номер на двое суток. К тому времени, как он вернется, нужно стянуть к отелю целую армию. Попробуем, если удастся, обойтись без жертв. А сейчас пошли, а то вертолет улетит без нас.
Пока происходил этот разговор, полицейские силы Гапа в полном составе перекрывали все дороги, ведущие из города и от гостиницы, а снайперы занимали посты в кустарнике возле застав. Так приказал Лион. В Гренобле и Лионе полицейские с автоматами и карабинами размещались в «черных мариях», пригнанных из двух автопарков. На базе в Сатори близ Парижа подготовили вертолет, на котором комиссар Лебедь собирался лететь в Гап.
Даже в тени под деревьями полуденный зной был изнурителен. Раздевшись до пояса, чтобы не слишком пачкать одежду, Шакал проработал над машиной два часа.
Ближе к четырем он закончил покраску и отошел на несколько шагов. Автомобиль поблескивал темно-синим глянцем, краска в основном уже высохла. Работа явно не профессиональная, но вполне сойдет, если, понятно, к машине особо не приглядываться, тем более в сумерках. Два отвинченных номерных щитка лежали на траве вниз номерами. У каждого на обороте белой краской был выведен несуществующий французский номер с двумя последними цифрами 75 — знак парижской регистрации. Шакал знал, что машины с такими номерами чаще всего встречаются на дорогах Франции.
Документы на прокат и страховые квитанции, выданные на белую итальянскую «альфу», никоим образом не годились для синей французской, и если дорожный патруль его остановит, то без документов ему крышка. Стирая вымоченной в бензине тряпкой следы краски с рук, он раздумывал только об одном: трогаться сразу же, рискуя, что дилетантство его работы будет бросаться в глаза при ярком солнечном свете, или выждать до сумерек.
Раз уж стало известно его новое имя, прикинул он, станет известен и пограничный пункт, через который он въехал во Францию, а там начнутся розыски автомобиля. До убийства оставалось еще несколько дней, и ему было просто необходимо отыскать место, где он мог бы затаиться и подготовиться. Значит, нужно попасть в департамент Коррез, двести пятьдесят миль по сельской местности, и быстрее всего этот путь проделать в автомобиле. Рискованно, но другого выхода не предвидится. Что ж, прекрасно, и чем скорее, тем лучше, пока каждый полицейский автоинспектор во Франции не начал высматривать «альфу-ромео» с белокурым англичанином за рулем.
Он привинтил новые номерные щитки, выбросил остатки краски и обе кисти, натянул шелковую спортивную рубашку и куртку и включил двигатель. Выехав на шоссе, он посмотрел на часы. Было без девятнадцати четыре.
В небе у него над головой протрещал вертолет, направляясь на восток. До селения Ди было семь миль. Он достаточно хорошо знал французский, чтобы не читать названия на английский манер,[42] но совпадение все же заметил. Он не был суеверен, однако, когда он въехал в центр поселка, глаза у него сузились. На главной площади, рядом с памятником погибшим воинам, посредине дороги стоял рослый полицейский из мотопатруля в черной кожаной форме. Он знаком приказал ему съехать на правую обочину и остановиться. Шакал помнил, что трубки с частями винтовки все еще закреплены на раме машины, ни пистолета, ни ножа у него не было. Какое-то мгновение он колебался, не зная, то ли ему остановиться, то ли сбить полицейского крылом автомобиля и ехать дальше, а там бросить машину через дюжину миль и попробовать с четырьмя местами багажа на руках без зеркала и воды превратиться в пастора Енсена.
За него решил полицейский. Как только «альфа» начала притормаживать, полицейский о ней забыл, повернулся кругом и стал изучать дорогу в противоположном направлении. Шакал съехал на обочину, смотрел и ждал.
С дальнего конца поселка до него донесся вой автомобильных сирен. Что бы ни случилось, действовать было уже поздно. В поселок влетела колонна из четырех полицейских «ситроенов» и шести «черных марий». Патрульный отскочил в сторону и вздернул руку, отдавая честь, колонна пронеслась мимо «альфы» и свернула на дорогу, по которой приехал Шакал. Сквозь зарешеченные оконца, отчего французы прозвали «черных марий» «салатницами», он разглядел сидевших в ряд полицейских в шлемах и с автоматами на коленях.
Колонна исчезла так же мгновенно, как появилась. Патрульный опустил руку, лениво махнул Шакалу, чтобы тот ехал дальше, и прошествовал к своему мотоциклу возле памятника. Он все еще пытался завести мотоцикл, когда синяя «альфа» исчезла за углом, повернув на запад.
Они достигли «Отель дю Серф» без десяти пять. Клод Лебель, приземлившийся по другую сторону городка и доставленный к гостинице в полицейском автомобиле, подошел к парадному входу в сопровождении Карона, который под наброшенным на правую руку плащом прятал заряженный и взведенный пистолет-пулемет МАТ-49. Указательный палец он держал на спуске. К этому времени весь городок знал, что что-то происходит, не знал только хозяин гостиницы. Отель вот уже пять часов держали в кольце, но хозяина беспокоило только одно: почему не появляется продавец форели со свежим уловом.
Портье вызвал хозяина, который потел над счетами у себя в конторе. По мере того как тот отвечал на вопросы Карона, стоявший рядом Лебель все больше горбился.
Через пять минут гостиницу наводнили полицейские в форме. Они допросили служащих, перерыли номер, обыскали двор. Лебель в одиночестве вышел на дорожку у подъезда и уставился на близлежащие холмы. К нему подошел Карон.
— Вы думаете, шеф, что сюда он уже не вернется?
Лебель кивнул.
— Он удрал, ясное дело.
— Но ведь он же снял номер на двое суток. Вам не кажется, что хозяин с ним заодно?
— Нет. Он и его персонал говорят правду. Где-то нынче утром Шакал передумал. И выехал. Сейчас вопрос стоит так: куда, к черту, он отправился и не начал ли подозревать, что мы знаем, кто он на самом деле?
— Откуда ж ему подозревать? Об этом он знать не может. Здесь наверняка просто совпадение. Наверняка.
— Дай-то бог, дорогой Люсьен.
— Сейчас мы располагаем только номером его машины.
— Да. Тут моя ошибка. Нужно было распорядиться задержать автомобиль. Свяжись-ка с радистами из полиции в Лионе — воспользуйся передатчиком одной из наших машин — и дай команду по всем полицейским участкам. Экстренное задание. Разыскивается белая «альфа-ромео» с итальянским номером MI-61741. Проявлять осторожность, водитель может быть вооружен и опасен. Ну, и дальше все по форме, сам знаешь. И еще одно: газетчикам ни слова. Вставь в приказ, что подозреваемый, вероятно, не знает о том, что его подозревают, и, если он по чьей-то милости услышит об этом по радио или прочтет в газетах, я спущу с виновного шкуру. Я скажу лионскому комиссару Гайяру, чтобы принял здесь командование на себя. После этого возвращаемся в Париж.
— Вы олух, господин комиссар, олух. Вы держали его в руках и дали ему улизнуть.
Для пущей выразительности Сен-Клер привстал и гневно уставился на макушку Лебеля по ту сторону длинного полированного стола красного дерева. Комиссар продолжал изучать бумаги с таким видом, будто Сен-Клера вообще не существует.
— Если вы ознакомитесь с копией донесения, лежащей перед вами, любезный полковник, — спокойно сказал он, когда тот кончил, — вы заметите, что он не был у нас в руках. Донесение из Лиона о том, что некто Дугган остановился в одной из гостиниц Гапа накануне вечером, поступило лишь сегодня днем в четверть первого. Теперь мы знаем, что Шакал внезапно выехал из отеля в пять минут двенадцатого. В любом случае у него был в запасе целый час. Больше того, я не могу согласиться с вашей огульной критикой по адресу французской полиции. Вы забываете о распоряжении президента вести это дело в строжайшей тайне. Следовательно, нельзя было бросить всю сельскую жандармерию на поиски человека по имени Дугган, не рискуя вызвать гвалт в прессе. Регистрационную карточку, заполненную Дугганом в «Отель дю Серф», забрали обычным порядком и в обычное время и с очередной партией отправили в главную префектуру Лиона. Только там обнаружили, что Дугган — именно то лицо, которое мы разыскиваем. Проволочка была неизбежной. Этого бы не случилось, если бы велся общегосударственный розыск. Я таких полномочий не имею. И последнее: Дугган снял номер в гостинице на двое суток. Мы не знаем, что заставило его в одиннадцать часов сегодня утром передумать и скрыться.
— Очевидно, то, что кругом болтались ваши полицейские, — отрезал Сен-Клер.
— Я уже объяснял, что никто не «болтался» там до четверти первого, а к этому времени прошло два часа, как его след простыл, — сказал Лебель.
— Нам, конечно, не повезло, очень не повезло, — вмешался министр. — Однако мне по-прежнему неясно, почему розыски автомобиля не были организованы тотчас же. Комиссар?
— Я согласен, господин министр, что в свете дальнейших событий это оказалось ошибкой. У меня были основания считать, что преступник находится в отеле и намерен провести там ночь. С чего ему срываться с места? А если бы мотопатруль опознал и задержал его машину где-нибудь поблизости, он почти наверняка убил бы не подготовленного к такой встрече полицейского.
— Когда был отдан приказ о задержании белой «альфы»? — спросил начальник ПЖ Макс Ферне.
— Я дал распоряжение в четверть шестого, будучи в гостинице, — ответил Лебель. — К семи должны были оповестить все главные подразделения дорожного патрулирования, а в больших городах будут ставиться в известность заступающие на ночное дежурство полицейские. Поскольку это опасный тип, я сообщил, что речь идет о краже машины: заметив ее, надлежит тут же дать знать в районную префектуру, а не пытаться справиться с похитителем в одиночку. Если совещание решит изменить мои распоряжения, то я попросил бы совещание принять на себя и всю ответственность за вытекающие отсюда последствия.
Желающих не нашлось. Заседание, как обычно, закончилось около полуночи. Через тридцать минут наступила пятница, 16 августа.
17
Синяя «альфа-ромео» выехала на привокзальную площадь Юсселя около часа ночи. Через площадь, напротив вокзала, еще было открыто кафе, и несколько запоздалых пассажиров потягивали кофе в ожидании поезда. Шакал провел по волосам расческой и, миновав террасу со штабелями столиков и стульев, прошел прямо к бару. Он замерз, потому что при скорости за шестьдесят миль горный воздух обжигал холодом; от маневрирования «альфой» на бесчисленных поворотах горной дороги у него онемели руки и болела поясница; он проголодался, так как после ужина в гостинице двадцать восемь часов ничего не держал во рту.
Он заказал два больших ломтя тонкого батона, разрезанного вдоль и намазанного маслом, и четыре яйца вкрутую, еще — большую чашку кофе с молоком.
Пока ему мазали хлеб, а кофе цедился через фильтр, он поискал глазами телефонную кабинку. Кабинки не было, однако на другом конце стойки стоял телефон.
— У вас есть местная телефонная книга? — спросил он бармена. Занятый своим делом, бармен молча кивнул на груду справочников, что лежали на полке за стойкой.
— Пожалуйста, — сказал он.
Фамилию барона он нашел на букву «Ш» под словами «Шалоньер, г-н барон де ла…», и адрес значился: «Замок в Верхнем Шалоньере». Шакал это знал, но на его дорожной карте деревушка не была обозначена. Однако у телефона был эглетонский номер, и Эглетон он нашел без труда. Еще тридцать километров от Юсселя по 89-му шоссе. Он принялся за бутерброды.
Без нескольких минут два он миновал каменную тумбу с надписью «Эглетон — 6 км» и решил бросить автомобиль в придорожном лесу. Метров через триста-четыреста он приметил тропинку, которая вела в лес и была отделена от шоссе перекинутой поперек жердью, украшенной доской с надписью «Частные угодья». Он убрал жердь, подъехал к лесу и вернул жердь на место.
Затем он углубился в лес на полмили. В свете фар кривые силуэты деревьев походили на сердитых призраков, пытавшихся сучьями уцепиться за нарушителя. Под конец он остановился, выключил фары и извлек из перчаточного отделения садовые ножницы и фонарик.
Час он провозился под машиной, спина у него взмокла от росы. Стальные трубки со снайперской винтовкой были наконец высвобождены из тайника, где провели шестьдесят часов, и переложены в чемодан — вместе со старьем и армейской шинелью. Он в последний раз осмотрел машину, чтобы убедиться, не забыл ли чего-нибудь, способного навести на след водителя, и загнал ее в самую середину густых зарослей дикого рододендрона.
Еще час он занимался тем, что срезал ножницами ветки рододендрона с соседних кустов и втыкал их в землю перед колеей, которую проделала в зарослях «альфа», пока надежно не замаскировал ее.
Два чемодана он связал за ручки галстуком и завалил их через плечо на манер вокзального носильщика, третий чемодан и саквояж взял в руки и двинулся назад к шоссе.
Шел он медленно. Через каждую сотню ярдов останавливался, опускал чемоданы на землю и возвращался по собственному следу, заметая веткой едва различимые отпечатки шин «альфы» во мху и сломанные веточки. На то, чтобы добраться до шоссе, нырнуть под жердь и отойти от начала лесной тропинки на полмили, ушел еще час.
Его клетчатый костюм был выпачкан в земле и грязи, пропотевшая рубашка упрямо липла к телу, мышцы разболелись. Выстроив чемоданы в ряд, он уселся и принялся ждать; небо на востоке уже чуть-чуть посветлело. В сельской местности, напомнил он самому себе, автобусы начинают ходить рано.
Ему повезло. Без десяти шесть появился деревенский грузовичок с прицепом сена, ехавший на рынок в город.
— Машина сломалась? — проорал шофер, нажимая на тормоза.
— Нет, получил увольниловку на субботу и воскресенье и добираюсь до дому на попутных. Вчера вечером доехал до Юсселя, а оттуда решил податься до Тюля. У меня там дядюшка, он мне может устроить грузовик до Бордо. Но хватило меня только досюда.
Он улыбнулся шоферу, который рассмеялся и пожал плечами.
— Ты что, сдурел, топать ночью по этой дороге? Тут, как стемнеет, никакого движения. Залезай в прицеп, подброшу до Эглетона, там тебе что-нибудь подвернется.
В городок они прикатили без четверти семь. Шакал поблагодарил крестьянина, улизнул от него, обогнув вокзал, и направился к кафе.
— Такси у вас в городе есть? — спросил он, глотая кофе.
Бармен дал ему номер, он позвонил в таксомоторную компанию, и ему ответили, что машина освободится через полчаса. За это время он воспользовался нехитрыми удобствами в виде крана с холодной водой в уборной при кафе, чтобы умыться, переоделся в свежий костюм и почистил зубы, покрывшиеся налетом от кофе и сигарет.
В половине восьмого пришло такси — древняя развалюха «рено».
— Знаете деревню Верхний Шалоньер? — спросил он водителя.
— Еще бы.
— Это далеко?
— Восемнадцать километров. — Шофер ткнул большим пальцем в сторону холмов. — На горах.
— Туда и поедем, — сказал Шакал; два чемодана и саквояж он поместил в багажник на крыше, а один взял с собой в кабину.
Он велел доставить его на деревенскую площадь перед «Кафе де ла Пост». Таксисту из ближнего городка было вовсе не обязательно знать, что он приехал в замок. Когда такси уехало, он перенес вещи в кафе. На площади здорово припекало, и два вола, запряженные в тележку с сеном, задумчиво пережевывали жвачку, не мешая жирным черным мухам прогуливаться вокруг своих кротких терпеливых глаз.
В кафе было сумрачно и прохладно. Он не увидел, скорее услышал, как посетители повернулись за столиками, чтобы рассмотреть приезжего. Старая крестьянка в черном платье, отделившись от компании батраков за столиком, прошла за стойку.
— Что прикажете? — прокаркала она.
Он поставил чемоданы и оперся на стойку. Местные, как он успел заметить, пили красное вино.
— Пожалуйста, кружку красного.
— Далеко ли до замка? — спросил он, когда ему налили вино. Она наградила его острым взглядом хитрых глаз, похожих на черные мраморные шарики.
— Два километра.
Он устало вздохнул.
— Этот кретин шофер пытался меня уверить, что никакого замка здесь нет, и высадил меня на площади.
— Шофер эглетонский? — спросила она. Шакал кивнул. — В Эглетоне одни дураки, — сказала она.
— Мне нужно добраться до замка, — заметил он.
Кольцо наблюдавших за ним из-за столиков не шелохнулось. Никто не спешил с советом. Он вытащил новенькую стофранковую купюру.
— Сколько с меня за вино?
Она впилась глазами с ассигнацию. Синие холщовые штаны и блузы у него за спиной пришли в движение.
— У меня не будет сдачи, — сказала старуха.
Шакал вздохнул.
— Найдись у кого-нибудь фургончик, он мог бы забрать сдачу себе, — сказал он.
Кто-то поднялся и подошел к нему сзади.
— Есть у нас в деревне фургон, — прорычал голос.
Шакал обернулся, изобразив на лице удивление.
Коллет де ла Шалоньер сидела в постели, пила кофе и перечитывала письмо. Злость, охватившая ее при первом чтении, прошла, уступив место какому-то безнадежному отвращению.
Она не знала, как ей жить дальше. Накануне вечером она вернулась домой, не спеша проделав весь путь от Гапа, и была встречена старухой Эрнестиной, горничной, находившейся у них в услужении еще со времен отца нынешнего барона, и садовником Луизоном, из крестьян, женившимся на Эрнестине, когда та ходила еще в младшей прислуге. Теперь эта пара, по существу, была хранительницей замка, в котором две трети комнат пустовали.
Она посмотрела на глянцевитую вырезку из парижского великосветского журнала, столь заботливо пересланную подругой, на физиономию мужа — с глупой улыбкой, зафиксированной вспышкой, и глазами, разбегающимися между объективом и выдающимся бюстом восходящей дивы, из-за плеча которой он вытягивал шею. Журнал приводил слова этой кафешантанной танцовщицы, в прошлом барменши: она надеялась, что «когда-нибудь» сможет выйти за барона, своего «очень хорошего друга».
Ну что ж, Альфред, подумала она, в эту игру можно играть и вдвоем. Она тряхнула головой, рассыпав доходившие до плеч черные волосы, так что одна прядь упала на щеку и скользнула на грудь. Сейчас она жалела, что не осталась в Гапе. Он был хорошим любовником. Быть может, они бы неплохо отдохнули вместе, путешествуя под вымышленными именами, как сбежавшие из дому влюбленные. На кой черт было возвращаться домой?
Во дворе послышалось тарахтенье старого фургончика. Она лениво запахнула пеньюар и подошла к окну, выходящему во дворик перед замком. Там стоял деревенский фургон с распахнутыми задними дверцами. Двое мужчин что-то выгружали с откидного бортика. Луизон бросил полоть декоративную лужайку и теперь направлялся к ним, чтобы помочь.
Один из мужчин вышел из-за фургона, на ходу засовывая в карман какие-то бумажки, сел за руль и включил зажигание. Кто это и что доставили в замок? Она ничего не заказывала. Фургон тронулся с места, и она вздрогнула от неожиданности: на гравии стояли три чемодана и саквояж, а рядом — человек. Светлые волосы знакомо блестели на солнце; от радости она широко улыбнулась.
И вот уже Эрнестина бежала вверх по лестнице со всей прытью, на какую были способны ее старые ноги.
— Госпожа, к вам гость.
Вечернее совещание в министерстве было в эту пятницу короче обычного. Сообщить можно было только то, что сообщать нечего.
— Придется принять одно из двух, — разъяснил Лебель хранившим молчание коллегам. — Либо он все еще считает себя вне подозрения, то есть его отъезд из «Отель дю Серф» был непреднамерен и явился простым совпадением; в этом случае у него нет причин бояться открыто разъезжать в своей «альфе-ромео» и останавливаться в гостиницах под видом Дуггана. Тогда рано или поздно мы его обнаружим. Другая возможность — он решил отделаться от машины, пустив ее где-нибудь под откос, и положиться на собственные силы. В таком случае возникает еще одна альтернатива. Либо у него нет других фальшивых документов, на которые он бы мог положиться, тогда ему далеко не уйти: придется регистрироваться в гостинице или же на пограничном пункте при выезде. Либо у него есть фальшивые документы на другое имя, и он ими воспользовался. В таком случае он все еще крайне опасен.
— Почему вы считаете, что у него могут быть документы на другое имя? — спросил полковник Роллан.
— Напрашивается вывод, — ответил Лебель, — что раз ОАС предложила ему, по всей видимости, огромную сумму за это убийство, он должен быть одним из лучших профессиональных убийц на свете. Следовательно, человек с опытом. Однако он умудрился не попасть ни под подозрение властей, ни в одну государственную полицейскую картотеку. Добиться этого он мог только потому, что все свои задания выполнял, действуя под чужим именем и изменив внешность. Другими словами, он, кроме всего прочего, еще и эксперт по маскировке.
Из сопоставления двух фотокарточек мы знаем, что Калтроп, прежде чем превратиться в Дуггана, прибавил себе роста туфлями на утолщенном каблуке, похудел на несколько килограммов, изменил цвет глаз с помощью контактных линз и перекрасил волосы. Если он мог проделать это один раз, было бы непозволительной роскошью думать, будто он не сможет повторить подобную процедуру.
— Но нет никаких оснований считать, будто он подозревает, что его разоблачат раньше, чем он подберется к президенту, — запротестовал Сен-Клер. — Зачем ему такая сложная страховка: еще одна или несколько личин?
— Знакомясь с досье на Калтропа, переданным английской полицией, я обратил внимание, что воинскую повинность он отбывал сразу же после войны в парашютно-десантном полку. Может быть, он воспользовался опытом, наплевал на удобства и скрывается сейчас в горах? — предположил Макс Ферне.
— Может быть, — согласился Лебель.
— В таком случае он вряд ли так уж потенциально опасен.
Лебель подумал.
— Я бы не рискнул утверждать это, пока он не окажется за решеткой.
— Или в могиле, — сказал Роллан.
— Если у него есть хоть какие-то мозги, он попытается выбраться из Франции, покуда цел, — сказал Сен-Клер.
На этом совещание закрылось.
Тот, за кем они охотились, лежал на свежих простынях в замке в глуши департамента Коррез. Он помылся, отдохнул и набил живот домашним паштетом и тушеным кроликом, запив их терпким красным вином, черным кофе и бренди. Упершись взглядом в позолоченные завитушки на потолке, он мысленно расписывал дни, оставшиеся до его парижской операции. Через неделю, думал он, ему придется сняться с места, и отъезд может обернуться сложной штукой. Но он с этим справится. Он придумает, почему ему нужно уехать.
Прошло три дня, а Лебель все еще не вышел на свежий след. Каждый вечер на совещании все громче раздавалось мнение, что Шакал удрал из Франции, поджав хвост. На совещании 19-го числа один только Лебель продолжал настаивать, что убийца все еще где-то во Франции, затаился и выжидает подходящий момент.
— Чего выжидает? — вопил Сен-Клер на очередном заседании. — Единственное, чего он может ожидать, если он еще здесь, так это удобного случая пуститься наутек к границе. Как только он выскочит из укрытия, мы его сцапаем. Против него брошены все силы, ему некуда деться, негде спрятаться, если, конечно, ваше предположение, что у него начисто отсутствуют контакты с ОАС и их сторонниками, верно.
За столом послышался одобрительный шепот. Большинство участников начинало укрепляться во мнении, что первоначальное заявление Бувье, будто розыск убийцы — задача для детектива, было неверным.
Лебель упрямо покачал головой. За восемь дней, прошедших с момента, когда на него свалилось это дело, он поневоле научился отдавать должное молчаливому человеку с винтовкой, человеку, чье поведение нельзя было предугадать и у кого все, вплоть до непредвиденных обстоятельств, было рассчитано до мельчайших подробностей. Признаваться в своих чувствах перед лицом политиканов, собравшихся за столом, значило поставить крест на собственной карьере. Небольшим утешением служила лишь массивная фигура Бувье, который сидел рядом, втянув голову в плечи, и безучастно рассматривал крышку стола.
— Чего выжидает, этого я не знаю, — ответил Лебель. — Но чего-то он выжидает: может быть, назначенного дня. Я думаю, господа, что Шакал еще о себе напомнит. Почему я так думаю, объяснить не могу.
Министр с сомнением поглядел на него.
— По вашему мнению, комиссар, следует продолжать расследование? — спросил он. — Вы полагаете, что реальная опасность по-прежнему существует?
— На второй вопрос, ваше превосходительство, я затрудняюсь ответить. Что касается первого, то я считаю: мы должны искать до тех пор, пока не добьемся полной ясности.
— Что ж, пусть так. Господа, я желаю, чтобы комиссар продолжил расследование и чтобы мы, как и раньше, собирались по вечерам для заслушивания его сообщений.
Утром 20 августа лесничий Марканж Калле занимался отстрелом вредителей в хозяйских угодьях между Эглетоном и Юсселем, департамент Коррез, и подстрелил лесного голубя в самой чаще: тот исступленно бился на водительском сиденье открытого спортивного автомобиля, кем-то, судя по всему, здесь брошенного.
Около полудня деревенский жандарм повертел ручку своего домашнего телефона и передал в комиссариат Юсселя донесение о том, что в ближнем лесу обнаружен брошенный автомобиль. Белый? — спросили его. Он заглянул в записную книжечку. Нет, синий. Итальянский? Нет, с французским номером, неизвестной марки.
В начале пятого автомобиль отбуксировали во двор юссельского комиссариата, а без нескольких минут пять полицейский механик, осматривавший машину на предмет опознания, заметил, что она чудовищно плохо покрашена. Он вытащил отвертку и поцарапал по крылу. Под синей краской обозначилась белая полоса. Вконец запутавшись, он тщательно проверил номерные щитки и увидел, что они вроде бы перевернуты. Через пару минут передний щиток валялся на земле кверху белым номером — М1-61741, — а полицейский бежал через двор к зданию комиссариата.
До Клода Лебеля новость дошла около шести вечера. Сообщил ее комиссар Валантэн из районного комиссариата ПЖ в Клермон-Ферране, главном городе Оверни. Когда Валантэн начал докладывать, Лебеля подбросило в кресле.
— Так вот, слушай, это очень важно. Не могу объяснить почему, могу только сказать, что очень. Сейчас же собери людей и отправляйся в Юссель. Бери самых лучших и сколько сможешь. Расследование начинайте с того места, где нашли автомобиль. Пометь его на карте, оно будет центром, от него по радиусу поведете широкий поиск. Расспрашивайте в каждом доме, каждого крестьянина, всех, кто регулярно ездит по этой дороге, в каждой деревенской лавочке и кафе, во всех гостиницах и лесных сторожках. Вы ищете высокого блондина, он англичанин, но хорошо говорит по-французски. При себе имел три чемодана и саквояж. Имеет при себе крупную сумму денег наличными и хорошо одет, но может выглядеть так, будто ночевал под кустом. Твои люди должны опрашивать, где он был, куда направлялся, что пытался купить. Да, еще одно: нельзя подпускать к этому делу газетчиков, чего бы это ни стоило.
На закате полицейские силы Клермон-Феррана с подкреплением из Юсселя расположились на площади малюсенькой деревушки, ближайшей к тому месту, где нашли автомобиль. Из радиофургона Валантэн отдавал распоряжения полицейским автоотрядам, стянутым к другим окрестным деревням. Он решил начать с круга радиусом в пять миль от места, где нашли автомобиль, и проработать всю ночь. С наступлением темноты жителей скорее можно было застать дома. Хотя, с другой стороны, в этом краю извилистых равнин и холмистых скатов в темноте у его людей было больше шансов сбиться с пути или проглядеть какую-нибудь неприметную сторожку, где может скрываться беглец.
Было и еще одно, что Валантэн не мог объяснить Парижу по телефону и что, он весьма опасался, ему придется объяснять Лебелю лично. Он не знал, что кое-кто из его людей столкнулся с этим еще до полуночи. Несколько полицейских опрашивали крестьянина из домика, находившегося в двух милях от места, где нашли автомобиль.
Он стоял на пороге в ночной рубахе, демонстративно не пригласив полицию в дом. Керосиновая лампа у него в руке бросала на полицейских мигающие блики.
— Ну же, Гастон, ты частенько ездишь этой дорогой на рынок. Так ты ехал по ней до Эглетона в пятницу утром?
Крестьянин окинул их взглядом из-под прищуренных век.
— Может, и ехал.
— Так как же, ехал или не ехал?
— Не помню.
— Ты не видел на дороге человека?
— Я своим делом занят.
— Мы не об этом. Ты человека видел?
— Никого и ничего я не видел.
— Высокого блондина спортивного вида, и при нем три чемодана и саквояж?
— Ничего я не видел.
Так продолжалось двадцать минут. Наконец они ушли, причем один сыщик что-то педантично отметил в книжечке. Псы рычали и рвались с цепей, едва не хватали полицейских за ноги, заставляя их отскакивать в сторону и ступать в навозную кучу. Крестьянин провожал их взглядом, пока они не выбрались на шоссе и не укатили в своей машине. Тогда он захлопнул дверь, пинком отшвырнув с дороги не в меру любопытную козу, и снова забрался в супружескую постель.
— Это тот малый, которого ты подвез, разве нет? — спросила жена. — И чего он им сдался?
— Не знаю, — ответил Гастон, — но только никто не скажет про Гастона Грожана, что он помог им заполучить еще одного бедолагу.
Он отхаркался и сплюнул в очаг на головешки.
— Грязные шпики.
Он прикрутил фитиль и задул лампу, перебросил ноги через край деревянной кровати и протолкнулся поглубже в постель, к обильным формам супруги.
— Удачи тебе, приятель, где бы ты ни был!
Лебель положил бумаги и обратился к совещанию.
— Господа, как только совещание закончится, я вылетаю в Юссель, чтобы лично руководить поисками.
Последовало короткое молчание.
— Какие, по-вашему, выводы отсюда напрашиваются, комиссар?
— Два вывода, господин министр. Мы знаем, что цвет автомобиля он изменил с помощью краски, и следствие, я боюсь, обнаружит, что если в ночь с четверга на пятницу он проехал от Гапа до Юсселя, то уже в перекрашенном автомобиле. В этом случае, расследование по этой линии ведется, выходит, что краску он купил еще в Гапе. Если это так, значит, его предупредили. Кто-то ему позвонил, или он позвонил кому-то, здесь или в Лондоне, и этот кто-то сообщил ему о раскрытии псевдонима Дугган. Из чего он мог заключить, что охота за ним и за его автомобилем начнется еще до полудня. Поэтому он поспешил убраться.
Ему показалось, что роскошный потолок зала совещаний вот-вот даст трещину, настолько гнетущим было молчание.
— Вы серьезно предполагаете, — спросил кто-то как будто за тысячу километров, — что отсюда происходит утечка информации?
— Этого я не говорил. Существуют телефонисты, операторы на телексе, средний и младший персонал, которым приходится передавать приказы. Кто-то из них может оказаться тайным агентом ОАС. По крайней мере одно проявляется все более отчетливо. Ему сообщили о разоблачении в принципе плана убийства президента Франции — он все равно решил продолжать. И ему сообщили о раскрытии фиктивной личности Александра Дуггана. В конечном счете один-единственный источник информации в ОАС у него все-таки оказался. Подозреваю, что это Вальми, чей разговор с Римом был перехвачен.
— А каков второй вывод, комиссар? — спросил министр.
— Второй вывод таков: когда он узнал о разоблачении Дуггана, он не сделал попытки уехать из Франции. Напротив, он ринулся прямо в сердце Франции. Другими словами, он все еще охотится за главой государства. Он просто-напросто бросил всем нам вызов.
Министр встал и собрал бумаги.
— Мы не станем вас задерживать, господин комиссар. Найдите его, и сегодня же. Покончите с ним, если понадобится. Так я приказываю вам от имени президента.
Часом позже вертолет Лебеля поднялся со взлетной площадки на базе Сатори и взял курс на юг.
— Наглая свинья! Да как он посмел! Намекать, что, так или эдак, мы, представители верховных французских властей, оказались не на высоте. Я, конечно, упомяну об этом в очередном докладе.
Жаклин притянула голову любовника себе на грудь.
— Расскажи мне все, — проворковала она.
18
Утро 21 августа было таким же ослепительно ясным, как все предыдущие за две недели этого периода летней жары. Из окон замка Верхний Шалоньер, обращенных к одетым вереском волнистым холмам, оно казалось спокойным и мирным, ничто в нем не намекало на суматоху полицейских опросов, которая уже в этот час завладела городком Эглетоном в восемнадцати километрах от замка.
В халате, наброшенном на голое тело, Шакал стоял у окна в кабинете барона, заказав ежедневный утренний разговор с Парижем. Его любовница спала наверху после очередной ночи яростной близости.
Когда его соединили, он произнес обычное: «Говорит Шакал».
— Вальми слушает, — ответил хриплый голос на другом конце. — Дело опять завертелось. Нашли автомобиль…
Он слушал еще две минуты, один раз прервал говорившего кратким вопросом. С прощальным «мерси» он положил трубку и стал нашаривать в карманах сигареты и зажигалку. Было ясно, что новое известие меняет его планы, хочется ему того или нет. Он думал пробыть в замке еще два дня, но теперь ему придется уезжать, и чем скорее, тем лучше. В этом телефонном разговоре ему не понравилось и кое-что другое, чего никак не должно было быть.
Сначала он не придал этому значения, но, пока курилась сигарета, ему неотступно сверлила голову одна мысль. Догадка пришла сама собой, когда он докурил сигарету и выбросил окурок на дорожку через открытое окно. Не успел он начать разговор, как в трубке что-то щелкнуло. За три предыдущих разговора такого не случалось ни разу. В спальне стоял второй аппарат, но Коллет, когда он уходил, наверняка крепко спала. Наверняка… Он повернулся, проворно взлетел по лестнице, бесшумно ступая босыми ногами, и ворвался в спальню.
Трубка уже покоилась на рычажке. Но шкаф был распахнут, три чемодана валялись на полу, и все они были открыты. Рядом лежало его кольцо с ключами от чемоданов. Баронесса, стоявшая на коленях среди этого погрома, подняла на него широко открытые немигающие глаза. Вокруг были разбросаны тонкие стальные трубки. Полые концы их были открыты, тут же валялись затычки из мешковины. Из одной трубки выглядывал задник оптического прицела, из другой — рыльце глушителя. Когда он вошел, она с ужасом разглядывала предмет, который держала в руках. Это был ствол и казенник винтовки.
Она медленно поднялась, выпустив ствол, который с лязгом упал посреди других деталей.
— Ты хочешь убить его, — прошептала она. — Ты один из них, из ОАС. А это — винтовка, ты хочешь убить де Голля.
Молчание Шакала уже было ответом. Она бросилась к дверям. Он без труда перехватил ее и через всю комнату швырнул на постель; три быстрых шага — и он был рядом. Пружины подбросили ее на скомканных простынях, она открыла рот, чтобы закричать. Удар слева в сонную артерию задушил крик. Схватив баронессу левой рукой за волосы, он перегнул ее через край кровати. Последнее, что она успела заметить, был узор на ковре, и тут сокрушительный удар справа ребром ладони обрушился сзади ей на шею.
Шакал подошел к дверям и прислушался, но снизу не доносилось ни звука. Эрнестина на кухне в глубине дома, как обычно, готовила на завтрак булочки к кофе, Луизону скоро отправляться на рынок. К счастью, старики были глуховаты. Он уложил детали винтовки в трубки, а трубки — в третий чемодан, к армейской шинели и грязной одежде Андре Мартена, и похлопал по подкладке, чтобы убедиться, на месте ли документы. Затем запер чемодан. Второй чемодан, с одеждой датского пастора Пера Енсена, также был открыт, но его содержимого не трогали.
В ванной рядом со спальней он потратил пять минут на умывание и бритье. Потом вооружился ножницами и следующие десять минут занимался тем, что укорачивал свои длинные белокурые волосы, приподнимая их гребешком, на два дюйма. Затем он нанес на них столько краски, сколько понадобилось, чтобы превратить их в седеющие волосы человека средних лет. Влажные волосы он в конце концов сумел уложить в прическу, поглядывая на фотокарточку в паспорте Енсена, который он поставил перед собой на туалетную полочку. В заключение он вставил серые контактные линзы.
Он тщательно стер с раковины следы краски, собрал бритвенные принадлежности и вернулся в спальню. На голое тело подле кровати он не обращал внимания.
Когда он закончил сборы, было около восьми и с минуты на минуту должна была появиться Эрнестина с утренним кофе. Баронесса старалась держать их связь в тайне от прислуги — старики души не чаяли в бароне, когда тот был еще мальчиком, а позже — главой дома.
Из окна он видел, как Луизон на велосипеде проехал по широкой дорожке к воротам поместья, и корзина подпрыгивала у него на багажнике. Тут Эрнестина постучалась в дверь спальни. Он замер. Она постучала еще раз.
— Госпожа, ваш кофе, — прокричала она через закрытую дверь. Шакал решился и сонным голосом громко произнес по-французски:
— Оставь снаружи. Мы возьмем, когда встанем.
По ту сторону двери Эрнестина изобразила ртом укоризненное О. Стыд и срам. Подумать только… да еще в спальне хозяина. Она поспешила вниз, чтобы разыскать Луизона, но тот уже укатил, и ей пришлось удовольствоваться кухонной раковиной, перед которой она долго распространялась об испорченности нынешних нравов, совсем, совсем не таких, как во времена старого барона. По этой причине она не услышала, как чемоданы, спущенные из окна на перекрученной простыне, с мягким стуком плюхнулись в клумбу перед фасадом.
Не слышала она и того, как дверь спальни заперли изнутри, как безжизненное тело хозяйки уложили на кровати в естественной позе спящего человека, натянув одеяло до подбородка, как в спальне хлопнула оконная рама, когда седоватый мужчина присел на подоконнике и вслед за тем приземлился на лужайке, легко и осторожно спрыгнув вниз.
Услышала она рев мотора, когда в гараже, бывшей конюшне, у стены замка завели хозяйкин «рено», и из окошка судомойни мельком увидела, как автомобиль свернул на аллею, ведущую к воротам, и укатил прочь.
Вскоре после завтрака Клод Лебель вернулся вертолетом в Париж. Как он позднее сказал Карону, Валантэн проделал работу на «отлично», невзирая на ослиное упрямство этих чертовых крестьян. К восьми утра он проследил путь Шакала вплоть до эглетонского кафе, где тот позавтракал, и теперь разыскивал таксиста, приехавшего по вызову. Тем временем он распорядился перекрыть все дороги вокруг Эглетона в радиусе двадцати километров, и к полудню заставы должны были быть на местах.
Учитывая статус Валантэна, Лебель намекнул ему, насколько важно обнаружить Шакала, и тот пообещал взять Эглетон в кольцо.
Маленький «рено» несся по горной дороге от Верхнего Шалоньера на юг, в сторону Тюля. Шакал рассчитал, что если накануне вечером полиция начала массированные поиски от того места, где нашли «альфу», то к рассвету следы приведут в Эглетон. Бармен в кафе расскажет, таксист расскажет, и к полудню, если не произойдет чуда, полиция будет в замке.
Пусть так, но они будут разыскивать белокурого англичанина, благо он принял все предосторожности, чтобы никто не видел его в облике седеющего пастора. Погоня, однако, все равно будет следовать по пятам. Он гнал автомобильчик кратчайшим путем, по проселкам, пока не выскочил на шоссе в восемнадцати километрах к юго-западу от Эглетона и в двадцати километрах от Тюля. Он взглянул на часы: без двадцати десять.
Когда он исчез за поворотом, со стороны Эглетона показалась небольшая колонна машин. Она состояла из полицейского автомобиля и двух крытых фургонов. Колонна остановилась перед поворотом, и шестеро полицейских принялись устанавливать стальное заграждение.
— Как это нет? — орал Валантэн на плачущую жену эглетонского таксиста. — Куда он поехал?
— Не знаю, не знаю. Каждое утро он встречает на вокзальной площади поезд из Юсселя. Когда нет пассажиров, возвращается домой, в гараж, и чего-то там чинит. А если не возвращается, значит, нашел клиента.
Валантэн похлопал ее по плечу.
— Хорошо. Не надо расстраиваться. Мы его подождем.
Он обратился к одному из сержантов:
— Пошли человека на вокзал и еще одного — на площадь, к кафе. Номер такси ты знаешь. Как только он объявится, немедленно ко мне. Живо.
За шесть миль от Тюля Шакал сбросил в ущелье чемодан со всей английской одеждой и паспортом Александра Дуггана. Он хорошо ему послужил. Чемодан перелетел через парапет моста и с треском врезался в густые заросли на дне провала.
Покружив по Тюлю и выяснив, где вокзал, он поставил машину на тихой улочке за три квартала так, чтобы она не бросалась в глаза, и оставшиеся полмили прошел пешком с двумя чемоданами и саквояжем в руках.
— Будьте добры, один билет до Парижа, второй класс, пожалуйста, — сказал он кассиру. — Сколько я плачу?
Он заглянул поверх очков в уютное гнездышко кассы.
— Девяносто семь новых франков.
— Пожалуйста, в какое время следующий поезд?
— Одиннадцать пятьдесят. Вам придется обождать около часа. На перроне есть ресторан. На Париж с первой платформы.
Шакал взял вещи и направился к контролю. Ему прокомпостировали билет, он еще раз подхватил чемоданы и прошел на перрон. На пути у него выросла фигура в синем.
— Предъявите, пожалуйста, ваши документы.
Жандарм из КРС был молод и пытался выглядеть солиднее, чем позволял возраст. Через плечо у него был переброшен автомат. Шакал снова поставил вещи и вручил ему датский паспорт. Жандарм перелистал его и не понял ни слова.
— Вы датчанин?
— Простите?
— Вы… датчанин? — Он постучал по корочке паспорта.
Шакал расцвел и радостно закивал.
— Датчанин… да, да.
Жандарм вернул паспорт и кивнул в сторону перрона. С равнодушным видом он шагнул вперед, преграждая дорогу другому пассажиру, пропущенному через контроль.
Луизон вернулся с рынка около часа, пропустив по дороге стаканчик-другой вина. Жена, пребывавшая в расстроенных чувствах, поведала ему свою скорбную новость. Луизон взял дело в свои руки.
— Я заберусь, — объявил он, — и загляну в окошко.
Поначалу у него вышли разногласия с лестницей. Она вела себя как заблагорассудится. Однако в конце концов ее удалось прислонить к кирпичной кладке под окном хозяйкиной спальни, и Луизон, пошатываясь, забрался наверх. Через пять минут он спустился.
— Госпожа баронесса почивает, — объявил он.
— Она никогда не спит так поздно, — возразила Эрнестина.
— А вот сегодня почивает, — ответил Луизон, — и не нужно ее беспокоить.
Парижский поезд запаздывал. Он прибыл в Тюль точнехонько в час. Среди севших в Тюле пассажиров был седой протестантский пастор. Он выбрал купе, в котором ехали лишь две женщины средних лет, устроился в уголке, нацепил очки для чтения в золотой оправе, достал из саквояжа толстую книжицу о церквах и соборах и начал читать. В Париж, сказали ему, поезд прибывает этим же вечером в двадцать часов десять минут.
Шарль Бове, стоя у неподвижного такси, посмотрел на часы и выругался. Полвторого, самое время подкрепиться, а он застрял тут между Эглетоном и деревушкой Ламазьер в самом безлюдном месте. Со сломанным валом. Можно, конечно, бросить автомобиль, попытаться дойти пешком до соседней деревеньки, оттуда автобусом доехать до Эглетона и вечером вернуться с аварийной машиной. Но одно это станет ему в недельный заработок. Тем более, что дверцы не запираются, а ветхая колымага — все его достояние. Не бросать же такси на растерзание вороватым деревенским мальчишкам! Лучше уж немного потерпеть и дождаться попутного грузовика, который отведет его на буксире назад в Эглетон. Еды у него не было, в машине лежала бутылка вина. Правда, уже почти пустая: когда копаешься под машиной, здорово сохнет глотка. Он забрался на заднее сиденье и принялся ждать. На обочине было адски жарко, никакой грузовик не тронется с места, пока не станет чуточку прохладней. У крестьян сейчас сиеста. Он устроился поудобнее и крепко заснул.
К четырем часам Эрнестине удалось настоять на своем.
— Полезай наверх еще раз, разбуди госпожу, — надоедала она Луизону, — не может такого быть, чтобы человек целый день все спал да спал.
Старик Луизон снова поднялся по лестнице, на сей раз поуверенней, осторожно приподнял раму и шагнул в комнату. Некоторое время спустя он высунулся в окно и хрипло позвал жену.
— Эрнестина, госпожа вроде померла.
И вот он уже катил по дорожке, нажимая на педали изо всех сил, какие оставались в его дрожащих от страха ногах. Доктора Матье, который пятый десяток пользовал жителей Верхнего Шалоньера, он нашел в конце сада, где тот дремал под абрикосовым деревом. Старик согласился немедленно отправиться в замок. Когда его автомобиль, тарахтя, въехал во двор, перевалило за половину пятого, и прошло еще четверть часа, прежде чем он выпрямился у постели и обратился к двум слугам, стоявшим в дверях.
— Она мертва. Ей сломали шею, — с дрожью в голосе произнес он. — Нужно вызвать жандарма.
Клод Лебель позвонил из Парижа Валантэну в половине седьмого.
— Что нового, Валантэн?
— Пока ничего, — ответил Валантэн. — Мы перекрыли дороги… Минуточку, только что поступило новое донесение.
Трубка замолкла, но Лебель слышал скороговорку того, с кем переговаривался Валантэн на другом конце провода. Затем снова раздался голос комиссара:
— Чертовщина какая-то! Произошло убийство.
— Где? — оживился Лебель.
— В соседнем замке. Только что поступил рапорт от деревенского жандарма.
— Кто убит?
— Владелица замка. Один момент… баронесса де ла Шалоньер.
Карон видел, как побледнел Лебель.
— Валантэн, слушай внимательно. Это он. Скрылся он уже из замка?
В полицейском участке Эглетона снова посовещались.
— Да, — ответил Валантэн, — уехал нынче утром в машине баронессы. Маленький «рено». Тело обнаружил садовник, но ближе к вечеру. Он думал, что баронесса спит. Потом влез через окно и увидел, что она мертва.
— Номер и приметы автомобиля у тебя есть? — спросил Лебель.
— Да.
— Так подними тревогу по всем постам. Секретность уже ни к чему. Теперь мы охотимся за убийцей — и в открытую. Я объявлю общегосударственный розыск, но ты постарайся, если сможешь, взять след на месте преступления. Постарайся выяснить, в каком направлении он скрылся.
— Есть, исполню. Вот теперь можно взяться за дело по-настоящему.
Лебель положил трубку.
— Господи, к старости я начинаю плохо соображать. Фамилия баронессы де ла Шалоньер была в списке «Отель дю Серф» как раз в тот вечер, когда там останавливался Шакал.
Совершавший обход полицейский обнаружил машину на невзрачной улочке Тюля в семь тридцать вечера. Он вернулся в участок без четверти восемь, а без пяти восемь Тюль связался с Валантэном. Комиссар из Оверни позвонил Лебелю в пять минут девятого.
— Примерно в полкилометре от вокзала, — сказал он Лебелю.
— У тебя есть под рукой расписание?
— Да, должно где-то быть.
— Во сколько парижский утренний отошел из Тюля и когда он должен прибыть на Аустерлицкий вокзал? Скорее, ради бога, скорее!
На другом конце провода послышались приглушенные голоса.
— Всего два поезда в сутки, — сказал Валантэн. — Утренний отошел в одиннадцать пятьдесят и в Париж прибывает… ага, вот оно, в двадцать десять…
Лебель ринулся из кабинета, крикнул Карону, чтобы тот следовал за ним.
Восьмичасовой экспресс величаво подплыл к перрону Аустерлицкого вокзала точно по расписанию. Не успел сверкающий состав остановиться, как дверцы всех вагонов распахнулись, и поток пассажиров хлынул на платформу. Одних встречали родные, другие же сразу шли к аркам, через которые можно было попасть к стоянке такси. Среди этих других был седоватый человек в пасторском воротничке. Он оказался на стоянке одним из первых и, поднатужившись, загрузил саквояж и два чемодана в багажник «мерседеса».
Водитель включил счетчик и осторожно тронулся с места, чтобы съехать по наклонному спуску на улицу. Проезжая дорожка огибала привокзальную площадь дугой, один конец которой упирался во въездные ворота, другой — в выездные. Такси заскользило вниз к выезду. Водитель и пассажир одновременно услышали нарастающий вой сирен, который перекрыл крики пассажиров, пытавшихся привлечь к себе внимание таксистов. Когда такси выехало к повороту на улицу и притормозило, прежде чем влиться в поток машин, три полицейских автомобиля и две «черные марии» влетели через въездные ворота и остановились перед центральными арками возле главного зала.
— Ишь как забегали, сукины дети, — заметил водитель. — Куда прикажете, господин аббат?
Священник дал ему адрес маленькой гостиницы на набережной Гран-Огюстэн.
Вернувшись к себе в девять часов, Клод Лебель нашел записку с просьбой позвонить комиссару Валантэну в тюльский комиссариат. Его соединили за пять минут. Валантэн говорил, а он делал пометки в блокноте.
— Автомобиль проверили на отпечатки пальцев? — спросил Лебель.
— Конечно, и комнату в замке тоже. Полным-полно отпечатков, и все сходятся.
— Переправь их сюда, да поскорее.
— Слушаюсь. Не прислать ли заодно и жандарма из КРС, с вокзала в Тюле?
— Спасибо, не надо, он не расскажет нам ничего нового. Спасибо за старание, Валантэн. Теперь мы сами им займемся.
— Вы уверены, что датский пастор? — спросил Валантэн. — Может, совпадение?
— Нет, — сказал Лебель, — конечно, это он. Один чемодан он выбросил, скорее всего, вы найдете его где-то между Верхним Шалоньером и Тюлем. Поищите в речках и ущельях. Но три оставшихся багажных места — слишком уж все сходится. Конечно, это он.
Лебель положил трубку.
— А теперь извольте, пастор, — с горечью сказал он Карону, — датский пастор. Как звать, неизвестно, жандарм не мог припомнить фамилию в паспорте. Таковы люди, и ничего с этим не поделаешь. Таксист засыпает на дороге, садовник не решается выяснить, почему его хозяйка проспала шесть лишних часов, полицейский запамятовал фамилию в паспорте. Скажу тебе одно, Люсьен: это мое последнее дело. Совсем я старею. Старею и начинаю плохо соображать. Распорядись, чтобы подавали машину. Пора на вечернюю пытку.
Заседание в министерстве проходило в натянутой и напряженной атмосфере. Около часа собравшиеся слушали последовательный отчет о событиях: как был найден след, приведший из леса в Эглетон, как потерялся крайне необходимый свидетель-таксист, как узнали об убийстве в замке и о том, что седоватый высокий датчанин сел в Тюле на парижский экспресс.
— Короче говоря, — произнес Сен-Клер ледяным тоном, когда Лебель кончил, — убийца сейчас в Париже под новым именем и с новой личиной. Похоже, мой дорогой комиссар, что вы опять сели в лужу.
— Отложим обвинения на будущее, — вмешался министр. — В данный момент, господа, нам остается только одно. Я буду просить президента о новой аудиенции и попрошу отменить все общественные мероприятия с его участием до тех пор, пока этот тип не будет изловлен и уничтожен. Тем временем каждого датчанина, приехавшего в Париж сегодня вечером, надлежит рано утром поименно и безотлагательно проверить. Я могу положиться на вас, комиссар? И на вас, господин префект полиции?
Лебель и Бувье утвердительно кивнули.
— В таком случае, господа, на сегодня — все.
— Чего не могу переварить, — сказал Лебель Карону позднее в их кабинете, — так это то, что они настаивают, будто все дело в его везении и нашей глупости. Конечно, ему везет, но он еще и чертовски умен. А нам не везет, и мы наделали ошибок. И я наделал. Но есть еще один момент. Два раза мы с ним разминулись. Тогда он в последнюю минуту удрал из Гапа в перекрашенном автомобиле. Сейчас он скрывается из замка, убив к тому же свою любовницу, через несколько часов после того, как нашли «альфу-ромео». И каждый раз это происходит утром, а накануне я сообщаю совещанию, что он окружен и его поимка — вопрос ближайших двенадцати часов. Люсьен, друг мой, я начинаю подумывать о том, чтобы воспользоваться своими неограниченными полномочиями и устроить маленькое прослушивание телефонных разговоров.
Он стоял, опершись на подоконник, и смотрел поверх плавно текущей Сены в сторону Латинского квартала, где ярко сияли огни и над освещенной водой носился смех.
Метрах в трехстах от него другой человек, опершись на подоконник в своем номере, задумчиво созерцал в летней ночи массивное здание ПЖ, высящееся левее залитых прожекторами [шпилей] собора Парижской богоматери. На человеке были черные брюки, дорожные ботинки и шелковая спортивная рубашка, закрывавшая белую сорочку, и черный нагрудник священника. Он курил длинную английскую сигарету с фильтром. Пряди седеющих волос плохо сочетались с его моложавым лицом.
Не подозревая об этом, двое людей смотрели в направлении друг друга поверх вод Сены, а тем временем в пестром перезвоне церковных колоколов наступило 22 августа.
Часть третья. Технология убийства
19
Отдохнуть Лебелю не удалось. Едва он заснул, как в половине второго его разбудил Карон.
— Простите, шеф, но я тут кое-что надумал. У этого Шакала, у него теперь датский паспорт, верно?
— Ну и что? — Лебель встряхнулся.
— Ну и либо он фальшивый, либо краденый. Раз он покрасился, значит, наверно, краденый.
— Значит, ну и что?
— В июле он съездил на разведку в Париж, а так-то все был в Лондоне. Стало быть, украл паспорт здесь или там. А датчанин что сделает, коли у него пропал паспорт? Он, датчанин, обратится в свое консульство.
Лебель вскочил на ноги.
— Да ты, друг Люсьен, пожалуй, далеко пойдешь. Звони в Лондон Томасу домой, а потом звони здешнему датскому генеральному консулу.
Битый час он провел у телефона — и уговорил обоих встать и поехать на службу, а сам снова улегся около трех. В четыре его разбудил звонок из префектуры: им в полночь и в два доставили девятьсот с лишним регистрационных карточек датчан-постояльцев, и они теперь их сортируют: «вероятные», «возможные» и «прочие».
До шести он не ложился и как раз пил кофе, когда позвонили перехватчики из ДСТ, которым Лебель дал инструкции в начале первого. Перехватили. Через пять минут они с Кароном мчались в машине по светлым безлюдным улицам, к Управлению ДСТ. В подвальной лаборатории они прослушали запись разговора.
Вслед за громким щелчком послышалось верещание: набирали семизначный номер. Затем протяжный гудок и снова щелчок: сняли трубку.
Сипловатый голос сказал: «Алло?»
Женский голос сказал: «Ici Jacqueline».
Мужской отозвался: «Ici Valmy».
Женщина быстро проговорила:
— Они знают, что он — датский пастор. В полночь, а потом в два и в четыре они соберут по гостиницам регистрационные карточки всех датчан в Париже. Потом всех проверят.
После паузы мужской голос сказал: «Merci», и раздались один за другим два щелчка.
Лебель глядел на медленно вращающиеся бобины.
— Номер засекли? — спросил он.
— Конечно. Определяется по возврату диска. Молитор пять-девять-ноль-один.
— Адрес узнали?
Связист протянул ему листок бумаги. Лебель взглянул на листок.
— Пойдемте, Люсьен. Надо навестить господина Вальми.
В семь часов, когда учитель готовил на конфорке утренний кофе, в дверь постучали. Он нахмурился, прикрутил газ и пошел открывать. В дверях стояли четверо: он сразу, понял, кто они и зачем пришли. Двое в форме подались вперед, однако низенький человечек добродушного вида сделал им знак подождать.
— Ваш телефон прослушивали, — спокойно сказал он. — Вы — Вальми.
Учитель ничуть не смутился и отступил, пропуская незваных гостей.
— Можно одеться? — спросил он.
— Да-да, конечно.
Под присмотром двух полицейских он натянул поверх пижамы рубашку и брюки. Молодой человек в штатском оставался в дверях. Старший прошелся по квартире, оглядывая кипы книг и папок.
— Да тут за сто лет не справишься, а, Люсьен? — сказал он.
— Слава богу, это не наша забота.
— Вы готовы? — обратился он к учителю.
— Да.
— Отведите его в машину.
Комиссар остался один в квартире и принялся просматривать бумаги, разложенные на столе. Это были правленые экзаменационные сочинения. Видимо, учитель брал работу на дом, чтобы не отлучаться: ведь Шакал мог позвонить в любое время суток. В 7.10 телефон зазвонил. Секунду-другую Лебель колебался, затем рука его точно бы сама протянулась и сняла трубку.
— Алло?
Послышался ровный, тусклый голос:
— Ici Chacal.
Лебель лихорадочно соображал.
— Ici Valmy, — сказал он и замолк. Никакие слова не шли на ум.
— Что нового? — спросил голос.
— Ничего. Они потеряли след в Коррезе.
Лоб его покрылся испариной. Главное — чтобы Шакал еще несколько часов не трогался с места. Раздался щелчок, и телефон заглох. Лебель положил трубку и стремглав кинулся по ступенькам вниз, к машине у тротуара.
— Обратно! — сердито крикнул он водителю.
А в вестибюльчике маленькой гостиницы на берегу Сены Шакал задумчиво глядел сквозь стекло телефонной будки. Ничего нового? Что-то сомнительно. Комиссар Лебель отнюдь не растяпа. Наверняка они отыскали таксиста в Эглетоне, наверняка выследили его до Верхнего Шалоньера. И убитую, конечно, нашли, и «рено» хватились, а потом обнаружили машину в Тюле, выспросили станционную охрану. Да они почти наверняка…
Он прошел от телефонной будки к окошечку администратора.
— Пожалуйста, счет, — сказал он. — Я спущусь через пять минут.
В 7.30 Лебель вошел в свой кабинет, и тут же позвонил главный инспектор Томас.
— Уж извините, — сказал он. — Этих датчан пока добудишься, да пока они раскачаются… Словом, вы в точку попали. 14 июля датский пастор доложил в консульство о пропаже паспорта. Подозревал, что украли из номера, но доказать не мог — и не стал жаловаться в полицию, на радость хозяину отеля. Пастор Пер Иенсен из Копенгагена. Шесть футов ростом, голубые глаза, седоватый.
— Он, это он, спасибо, инспектор, — Лебель положил трубку. — Звони в префектуру, — велел он Карону.
Четыре полицейских фургона остановились у отеля на набережной Гран Огюстен в 8.30. Номер 57-й они переворотили сверху донизу.
— Прошу прощения, господин комиссар, — обратился владелец гостиницы к невзрачному сыщику, который руководил обыском, — но, если позволите, господин Иенсен уже час как съехал.
Шакал подхватил такси и поехал на Аустерлицкий вокзал, куда прибыл накануне вечером, рассудив, что уж там-то его искать не станут. Он сдал в камеру хранения чемодан с винтовкой, шинелью и прочим облачением Андре Мартена и оставил себе другой — личину и бумаги американского студента Марти Шульберга, а также саквояж со всякой всячиной.
С чемоданом и саквояжем в руках, в темном костюме и белом пуловере, скрывавшем пасторскую манишку, он заявился в жалкую привокзальную гостиницу. Дежурный сунул ему бланк регистрации, а паспорта не спросил, так что даже и Пера Иенсена среди жильцов не оказалось.
У себя в номере Шакал тут же начал менять внешность. Он промыл растворителем седые волосы и снова сделался блондином, а затем — шатеном, под стать Марти Шульбергу. Голубые глаза он оставил, а очки в золотой оправе сменились другими — в массивной роговой, на американский манер. Черные туфли, носки, рубашку, манишку и строгий костюм он уложил в чемодан заодно с паспортом пастора Иенсена из Копенгагена. И, надев другие носки, джинсы, мокасины, безрукавку и штормовку, превратился в молодого американца, студента из города Сиракузы, штат Нью-Йорк.
Около десяти утра преобразившийся Шакал положил в один нагрудный карман американский паспорт, а в другой — пачку французских франков. Чемодан с облачением пастора Иенсена он запер в платяном шкафу, а ключ от шкафа спустил в унитаз. Удалился он пожарной лестницей — только его здесь и видели. Через несколько минут он сдавал саквояж в камеру хранения на Аустерлицком вокзале, и вторую квитанцию положил к первой, в задний карман джинсов. Затем переехал в такси на левый берег, вышел на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Юшетт — и затерялся в бурливой толпе студенческой молодежи, заполняющей Латинский квартал.
За дешевым обедом в прокуренном подвальчике Шакал размышлял, где бы ему переночевать. Он ничуть не сомневался, что пастора Пера Иенсена Лебель уже ищет, а Марти Шульберга начнет искать через сутки, не больше.
— Чтоб он сдох, этот Лебель, — злобно подумал он и, широко улыбнувшись официантке, сказал:
— Спасибо, деточка.
Лебель позвонил Томасу в десять часов: тот глухо застонал и вежливо ответил, что сделает все, что сможет. Положив трубку, Томас вызвал старшего инспектора, который занимался делом Шакала всю прошлую неделю.
— Садитесь, садитесь, — сказал он. — Лягушатники не отстают, они его опять упустили. Теперь он у них болтается в Париже и снова, понимаете, сменил физиономию. А наше дело телячье: обзвонить все лондонские консульства, узнать, у кого пропали или украдены паспорта с первого июля. Негры и азиаты не в счет, из прочих считаются только мужчины выше пяти футов восьми дюймов ростом. Приступайте немедля.
Дневное совещание в министерстве перенесли на 14.00. Лебель докладывал, как всегда, негромко и монотонно, и на него были устремлены холодные, невидящие взгляды.
— Черт побери! — воскликнул министр, прерывая доклад на полуслове. — Ну и везет же этому мерзавцу!
— Нет, господин министр, то есть ему, конечно, везет, а иной раз не очень, но не только в этом дело. Он, понимаете, отлично осведомлен о каждом нашем шаге, знает, что мы предпринимаем. Поэтому он и навострил лыжи из Гапа. Поэтому же убил баронессу де ля Шалоньер и едва-едва успел выскользнуть из силка. Дело в том, что я каждый вечер докладывал вам о своих делах и планах. Мы его три раза ну чуть не настигли. Нынче-то его всполошил арест Вальми, да я вот не сумел ему толком ответить по телефону. Это, конечно, только все-таки в первом и во втором случаях он именно что рано поутру узнал о грозящей опасности.
Вокруг стола презрительно безмолвствовали.
— Если я не ошибаюсь, комиссар, вы уже однажды высказывали подобное предположение, — сухо сказал министр. — Надеюсь, на этот раз оно не голословно?
В ответ Лебель поставил на стол магнитофончик, нажал клавишу — и в тишине конференц-зала зловеще проскрежетал перехваченный разговор. Все замерли в жутком недоумении, не сводя глаз с умолкнувшего аппарата; лишь полковник Сен-Клер, посерев, дрожащими руками засовывал свои бумаги в папку.
— Чей это был голос? — спросил наконец министр. Лебель промолчал. Сен-Клер медленно поднялся, и все оглянулись на него.
— К сожалению, должен сообщить вам… господин министр, что этот голос… это моя близкая знакомая. В настоящее время она живет у меня. Прошу прощения.
Он поспешно вышел и отправился в Елисейский дворец — подавать заявление об отставке. Никто не поднимал глаз.
— Ну что ж, комиссар, — как нельзя более спокойно произнес министр, — продолжайте, прошу вас.
Лебель доложил о запросе в Лондон относительно утраченных за последние пятьдесят дней паспортов.
— Надеюсь, — заключил он, — что к вечеру у меня останется одна или две фамилии с паспортными описаниями, подходящими для Шакала. И я тут же запрошу в соответствующих странах их фотографии: уж наверно, Шакал будет теперь больше похож на своего нового двойника, чем на Калтропа, Дуггана или Иенсена. Даст бог, завтра к полудню и фотографии будут.
— Я же со своей стороны, — сказал министр, — хочу проинформировать вас об имевшей место беседе с президентом де Голлем. Он наотрез отказался менять что бы то ни было в своем расписании из-за какого-то убийцы. Собственно, этого и следовало ожидать. Но все же одной уступки я от него добился: ситуацию разрешено приоткрыть. Ведь теперь Шакал, кроме всего прочего, — обыкновенный преступник. Он был застигнут за кражей драгоценностей, убил баронессу де ля Шалоньер, сбежал и, по-видимому, скрывается в Париже. Версия ясна, господа?
Сегодня же она попадет в вечерние выпуски газет. Как только вам, комиссар, станут известны его точные приметы и теперешняя фамилия — пусть даже две-три фамилии, — вы их сообщите прессе. Таким образом, утренние газеты снова поднесут публике всю эту историю. А если завтра утром вы действительно получите фотографию того разини-иностранца, у которого украли паспорт, то ее поместят в вечерних газетах — завтра — и покажут по телевидению, так что убийство с погоней опять-таки освежится в памяти.
Кроме того, приказываю сразу по выяснении фамилии вывести весь личный состав парижской полиции и КРС на улицы и начать поголовную проверку документов.
Префект полиции, шеф КРС и начальник Уголовного розыска черкали у себя в блокнотах. Министр продолжал:
— ДСТ вместе с архивистами возьмут на учет всех известных нам сторонников ОАС; за их жилищами установить неусыпное наблюдение. Выполнимо?
Глава ДСТ и заведующий архивом согласно кивнули.
— Всех детективов снять с других заданий и подключить к розыску убийцы.
Кивнул Макс Ферне.
— Попрошу впредь оповещать меня заранее и заблаговременно о каждом шаге и всяком намерении президента; сам же он не должен знать о чрезвычайных мерах по обеспечению его безопасности. Мы рискуем вызвать его гнев, но в данном случае приходится идти на такой риск. И разумеется, я полагаюсь на сугубую бдительность службы президентской охраны, комиссар Дюкре.
Начальник личной охраны де Голля Жан Дюкре слегка наклонил голову.
— Сыскная бригада, — министр поглядел на комиссара Бувье, — несомненно, имеет среди уголовников уйму платных осведомителей. Сообщите им фамилию и приметы преступника, пусть следят в оба.
Морис Бувье нехотя кивнул. Ему все это очень не нравилось. Видывал он облавы на своем веку, но это уж едва ли не слишком. Чуть не сто тысяч человек, от агентов тайной полиции до уголовников, враз кинутся рыскать по улицам, гостиницам, барам и ресторанам: потом расхлебывай.
— Н-ну вот, пожалуй, и все. Комиссар Лебель, теперь нам нужны от вас лишь имя, приметы и фотография. Думаю, после этого Шакал и шести часов не прогуляет на свободе.
— Собственно, у нас есть еще целых три дня, — вдруг заметил Лебель, почему-то уставившись в окно. На него изумленно обернулись.
— Собственно, почему вы так думаете? — спросил Макс Ферне.
Лебель растерянно замигал.
— Ну да, извините, конечно. Очень глупо с моей стороны, мог бы и раньше догадаться. Я… это… уж неделю как уверен, что у Шакала нашего есть план и что свой день он выбрал, подобрал заранее. Почему вот он, сбежавши из Гапа, не сделался тут же пастором? Что бы ему сразу поехать в Валанс и сесть на парижский экспресс? Почему он, как вы думаете, целую неделю прожил во Франции, словно турист?
— Ну, и почему же? — спросил кто-то.
— Да потому, что день у него определенно намечен, — сказал Лебель, — и торопиться ему вовсе незачем. Вот, комиссар Дюкре, президент, он как, собирается сегодня, завтра или в субботу выезжать из дворца?
Дюкре покачал головой.
— А в воскресенье, 25 августа?
Послышался общий вздох, словно колосья зашелестели на ветру.
— Еще бы, — выговорил за всех министр, — да это же День Освобождения! Мы ведь здесь, боже мой, почти все были тогда с ним, в сорок четвертом, в день освобождения Парижа!
— Вот-вот, — сказал Лебель. — Видите, какой он, Шакал, психолог. Он сообразил, что есть один день в году, ну так сказать, главный день, когда генерал де Голль уж непременно предстанет перед парижанами. Этого-то дня он и дожидается.
— В таком случае, — оживился министр, — его песенка спета. Связного мы взяли, и теперь этому Шакалу в Париже укрыться негде, кто станет на свою голову прятать убийцу и грабителя? Попался он, попался. Комиссар Лебель, мы ждем от вас его новой фамилии.
Клод Лебель встал и направился к дверям. Участники совещания выходили из-за стола: пора было обедать.
— Да, погодите, — окликнул Лебеля министр, — как же вы догадались, что надо прослушивать именно домашний телефон полковника Сен-Клера?
Лебель обернулся в дверях и развел руками.
— Я не строил догадок, — сказал он. — Прошлой ночью все ваши домашние телефоны прослушивались. Всего хорошего, господа.
В пять часов вечера Шакал — в таких же темных очках, как и все кругом в этот солнечный день, — сидел на террасе кафе возле площади Одеон; и при виде двух мужчин, прогуливающихся по улице, ему наконец представился возможный выход из положения. Он заплатил за пиво, встал и удалился, а ярдов за сто от кафе сделал кое-какие закупки в парфюмерном магазине.
В шесть часов в типографиях срочно набирались новые заголовки: они кричали с первых страниц вечерних выпусков газет Assassin de la belle Baronne se refugie a Paris;[43] под заголовками — одна и та же фотография, снимок пятилетней давности из парижской светской хроники, обнаруженный в архивах фотоагентства.
В восемь часов позвонил из Лондона главный инспектор Томас. Голос у него был усталый: хлопотный выдался день. В одних консульствах охотно шли навстречу, в других отнекивались.
За последние пятьдесят дней заявили о пропаже или краже паспортов, не считая женщин, негров, азиатов и низкорослых мужчин, восемь человек. Такие-то: фамилии, номера паспортов, приметы.
— А теперь давайте работать методом исключения, — предложил он Лебелю. — Трое потеряли свои паспорта, когда еще Шакала, он же Дугган, в Лондоне не было. До первого июля все по всем спискам проверено — не было его. Восемнадцатого он вечером вылетел в Копенгаген. А дальше БЕА сообщает, что он слетал в Брюссель — никаких чеков, заплатил наличными — и оттуда обратно в Англию шестого числа.
— Сходится, — сказал Лебель. — Мы тут, между прочим, выяснили, что он часть этого времени был вовсе не в Брюсселе, а в Париже. С двадцать второго по тридцать первое июля.
— Ну, так стало быть, — дальний голос из-за Ла-Манша чуть-чуть похрюкивал, — не будем, что ли, считать три паспорта, которые за это время не то пропали, не то украдены?
— Не будем, — согласился Лебель.
— Тогда остаются пятеро пострадавших, из них один — громадина, шесть футов шесть дюймов, по-вашему, больше двух метров. К тому же он итальянец, а это значит, что рост его обозначен в метрах и сантиметрах и любой французский таможенник, едва раскрыв паспорт, тут же заметит несообразность — разве что Шакал ваш странствует на ходулях.
— Высоковат, вы правы. Бог с ним. А прочие четверо?
— Один — толстяк, весит двести сорок два фунта, то бишь свыше ста килограммов. Это вашему Шакалу надо так утяжелиться, что он и шагу не ступит.
— Тоже не годится. Ну, а остальные?
— Еще один староват. Рост в самый раз, но на восьмом десятке. Конечно, можно загримироваться, только нужен под рукой первоклассный гример.
— Нет, нет, — сказал Лебель. — Там вроде еще два?
— Ну да, норвежец и американец, — подтвердил Томас. — Оба как на заказ: высокие, широкоплечие, возраст подходящий — двадцать тире пятьдесят. Норвежец по двум статьям сомнителен. Во-первых, блондин: вряд ли Шакал, который только что накололся под видом Дуггана, останется в той же — в своей! — масти. Опять выходит Дугган, зачем ему это. А во-вторых, норвежец заявил своему консулу, что паспорт он потерял, катаючись с девушкой на лодке по серпантину в Гайд-парке. Точно, говорит, знаю, что был в кармане, когда свалился в воду, а когда вылез, хватился минут через пятнадцать — его нет как нет. Американец, наоборот, оставил письменное заявление в полиции лондонского аэропорта, что паспорт у него был в саквояже, а саквояж увели, пока он зевал по сторонам. Кто вам больше нравится?
— Будьте добры, — сказал Лебель, — вышлите мне данные на этого американца. Фотографию я сам запрошу из Вашингтона, из паспортного отдела. И большое вам еще раз спасибо за все ваши хлопоты.
В министерстве состоялось второе совещание на день — в десять вечера. Оно было очень короткое. За час до этого всем, кому надо, разослали паспортные описания Марти Шульберга, подозреваемого в убийстве прекрасной баронессы. Вскорости ожидалась фотография: ее должны были опубликовать на первых полосах вечерних газет, которые поступят в продажу часам к десяти утра.
Министр выпрямился во весь рост.
— Господа, как вы помните, когда мы собрались впервые, комиссар Бувье предположил, что выявление убийцы под кличкой Шакал — дело уголовного розыска. Задним числом не могу с этим не согласиться. И по счастью, за эти десять дней провел большую работу комиссар Лебель. Несмотря на то, что убийца трижды сменил облик: из Калтропа он стал Дугганом, из Дуггана — Иенсеном, из Иенсена — Шульбергом, и невзирая на прискорбную утечку информации из этого зала, комиссару все же удалось идентифицировать преступника и выследить его до самых пределов Парижа. Принесем же ему благодарность за его неусыпные труды.
Министр слегка поклонился Лебелю; тот смущенно поежился.
— Но теперь, господа, вся ответственность ложится на наши плечи. Нам известны фамилия, приметы, номер паспорта, национальность. Через несколько часов у нас будет и фотография преступника. Мы располагаем достаточными силами, и я убежден, что его поимка — дело ближайшего будущего. Уже сейчас парижская полиция, КРС и все сыщики получили соответствующие инструкции. Наутро, самое позднее — к полудню он окажется в наших руках.
Позвольте же еще раз поздравить вас с успехом, комиссар Лебель, и освободить вас от тяжкого бремени вышеупомянутой ответственности. В дальнейшем ваше неоценимое содействие более нам не понадобится. Ваша задача выполнена, и выполнена отлично. Спасибо вам.
Закончив речь, он как бы выжидал. Лебель подумал, поморгал и поднялся. Он искоса обвел взглядом собрание хозяев жизни, которым подвластны были тысячи и тысячи человек, которые ворочали миллионами и миллионами франков. Они ему улыбались. Он повернулся и вышел из зала.
Впервые за десять дней комиссар Клод Лебель отправился домой — спать. Ключ повернулся в замке, жена разразилась накопленными попреками, часы пробили полночь. Настало 23 августа.
20
Шакал вошел в бар за час до полуночи и, сощурясь, огляделся в полутьме. Слева, за длинной стойкой, тянулись зеркально удвоенные ряды разноцветных бутылок. Бармен сразу во все глаза уставился на незнакомца.
Справа, за узким проходом, стояли маленькие столики; дальше, в большом салуне, четырех- и шестиместные. И за столиками, и на высоких табуретах у бара сидели вечерние завсегдатаи; свободных мест почти не было.
Ближние к дверям оборачивались; понемногу стихали остальные, и вскоре все до единого разглядывали высокого, стройного новичка. Порхнул шепоток, кто-то хихикнул. Шакал заприметил незанятый табурет у дальнего конца стойки, не спеша подошел к нему и ловко уселся. За его спиной проворковали:
— Oh, regarde-moi ca![44] Боже, что за мускулы, это же с ума можно сойти!
Бармен скользнул вдоль стойки, торопясь присмотреться поближе. Его подкрашенные губы кокетливо улыбались.
— Bonsoir, monsieur.[45]
Позади дружно и пакостно захихикали.
— Donnez-moi un Scotch.[46]
Бармен восторженно протанцевал к бутылкам. Ой, мужчина, мужчина, мужчина пришел. Ах, вот уж нынче будет переполох! Не зря, небось, petites folles[47] за теми столиками коготки навострили. Они-то все больше поджидают своих обычных самцов, но есть там и такие, что пришли подкадриться. Ну, какой новый мальчик, подумал он, ну это прямо ой что будет, что будет!
Сосед Шакала обратил на него томный взгляд. Златокудрый, напомаженный, с изящным начесом на лоб — юный греческий бог, да и только… с подведенными глазами, подкрашенными губами и припудренными щеками. Впрочем, из-под маски проступало пожилое, увядшее лицо, жадно поблескивали голодные глаза.
— Tu m'invites?[48] — по-девически пролепетали яркие губы.
Шакал медленно покачал головой. Педераст повел плечиком и отвернулся: снова послышались шепотки и взвизги, насмешливо-укоризненные. Шакал снял куртку, потянулся за стаканом — и на его плечах и спине под безрукавкой заиграли мускулы.
Бармен умирал от восхищения. Неужели «мужик»? Да нет, какой мужик, он и не пришел бы сюда — зачем? И не самочку подыскивает — иначе с чего бы он так обидел бедняжку Коринну, когда она всего-то попросила поставить ей стаканчик? Нет, он… ой, какая прелесть! Он наш, красавчик самец, и нужна ему краля, он на дом хочет. Вот уж вечерок нынче выдался, о-ой!
Самцы прибывали один за другим после полуночи, рассаживались за столиками, оглядывали присутствующих, иногда подзывали бармена — пошептаться. Тот возвращался за стойку и делал знак кому-нибудь из «девочек».
— Мсье Пьер хочет с тобой перемолвиться словечком, лапонька. Только будь умницей и не плачь, как прошлый раз, ладно?
В начале первого Шакал сделал свой выбор. Его уже несколько минут оглядывали двое мужчин. Они сидели за разными столиками и друг друга явно терпеть не могли. Оба пожилые: один тучный, с крохотными глазками, поблескивавшими из-под тяжелых век, с толстыми складками на жирном затылке. Ни дать ни взять — сидячий боров. Другой — стройный, щеголеватый, жилистая шея слегка изогнута, лысина аккуратно прикрыта зализанными прядями. Костюм от портного, брюки в обтяжку, из-под рукавов пиджака — манжетные кружева; шелковый шейный платок затейливо повязан. Артист, подумал Шакал, а может быть, модельер или парикмахер.
Жирный подозвал бармена и что-то шепнул ему на ухо. В тесный брючный карман заползла крупная купюра. Возвратившись за стойку, бармен с ухмылкой тихо сообщил Шакалу:
— Мсье приглашает вас распить с ним за компанию бокал-другой шампанского.
Шакал поставил стакан с виски на стойку.
— Передайте мсье, — раздельно сказал он, и «девочки» у стойки сладостно насторожились, — что он меня не волнует.
Кто-то ахнул от ужаса, и шустрые, тоненькие молодые люди соскользнули с табуретов и на всякий случай подобрались поближе. Бармен испуганно разинул рот.
— Миленький, ну почему же не выпить с ним шампанского? Он не какой-нибудь, он набит деньгами. Не упускай случая.
Вместо ответа Шакал соскочил с сиденья, взял свое виски и направился ко второй крале.
— Можно я сяду за ваш столик? — спросил он. — А то ко мне пристают.
«Артист» был на седьмом небе, а разобиженный толстяк вскоре злобно удалился, между тем как соперник его невзначай поглаживал костлявой старческой рукой кисть своего новоявленного юного друга и вполголоса сетовал на невыносимую, ну просто, знаете, невыносимую человеческую бестактность. Они покинули бар в начале второго ночи; за несколько минут до этого Жюль Бернар дружески спросил Шакала, где он остановился, и тот застенчиво ответил, что нигде, что он студент, остался на мели и не знает, как дальше-то и быть. Бернар едва поверил своему счастью. Вот уж тут, сообщил он юному другу, ему и беспокоиться нечего, у него, Бернара, как раз совершенно очаровательная квартирка, очень удобная, очень тихая, никто не помешает, даже и соседи, он с ними, кстати, давно рассорился, они такие, знаете, приставучие. И пока Мартен — можно вас так называть? — в Париже, то, пожалуйста, он будет очень рад. Шакал изобразил неописуемую благодарность и согласился. Перед самым уходом он наведался в уборную (уборная была только одна) и появился оттуда с накрашенными ресницами, напудренными щеками и намазанными губами. Бернар, по-видимому, очень расстроился, но до поры предпочел смолчать и лишь на улице возмутился:
— Ну зачем вам все это? С кого вы берете пример — с этих шлюх у стойки? Вы такой красивый молодой человек, вам вовсе не нужно мазаться.
— Ой, ради бога, простите, Жюль, а я думал, вам понравится. Сейчас приедем, и я все-все смою.
Бернар смягчился и пошел к машине. По дороге домой надо было еще заехать на Аустерлицкий вокзал за вещами нового друга — он попросил. На первом же перекрестке им преградил путь постовой. Едва он наклонился к водителю, как Шакал включил в машине свет. Полицейский взглянул на него и гадливо отпрянул.
— Allez! — скомандовал он без лишних слов и добавил вслед им: — Sales pedes.[49]
Еще раз остановили перед самым вокзалом и спросили документы. Шакал кокетливо хихикнул.
— Душка, милый, документы — и все? — спросил он, вытянув губы.
— А ну вас к чертям, — и полицейский отошел.
— Да не дразните вы их, — вполголоса попросил Бернар. — Еще арестуют, чего доброго.
Шакал забрал свои вещи под брезгливым взглядом кладовщика и бросил их на заднее сиденье.
За двести-триста метров от дома Бернара, на перекрестке, их опять остановили: патруль КРС, рядовой и сержант. Рядовой прошел к дверце, поглядел на Шакала и отшатнулся.
— Господи, боже ты мой. Куда едете? — рявкнул он.
Шакал поджал губы.
— Тебе, котинька, непонятно, куда?
Патрульный передернулся.
— Есть же на свете погань. Езжайте…
— Надо было у них все-таки документы спросить, — сказал сержант, когда красные огоньки уже исчезли за поворотом.
— Да ладно тебе, начальник, — отмахнулся тот, — так тоже нельзя. Ведь мы кого ищем? Который затрахал и прикончил баронессу, при чем тут педики?
К двум часам Бернар с Шакалом были на месте. Шакал попросил постелить ему на кушетке в гостиной, и Бернар спорить не стал, хоть и подглядывал в щелочку из спальни, когда гость раздевался. Мускулы какие, прямо стальные. Да, видно, нелегко будет его соблазнить, но дело того стоит.
Ночью Шакал обследовал холодильник в уютной, по-женски опрятной кухоньке и решил, что еды, пожалуй, хватит на три дня на одного, но на двоих — едва ли. Поутру Бернар хотел сходить за молоком, однако Шакал не пустил его — зачем, не надо, он больше любит сгущенное. Они поболтали, потом Шакал попросил включить телевизор, посмотреть полуденные новости.
Сообщили о розыске убийцы баронессы де Шалоньер, убитой двое суток назад. Жюль Бернар испуганно взвизгнул.
— Ой, не могу я все эти ужасы…
Экран заполнило лицо, приятное лицо молодого человека в массивных роговых очках, с темно-каштановой шевелюрой — вот он, убийца, американский студент по имени Марти Шульберг. Всех, кто его видел или что-нибудь о нем знает, просят…
Бернар, сидевший на кушетке, обернулся, поднял голову и подумал напоследок, что вовсе не голубые глаза у Марти Шульберга: глаза, глядевшие на него, когда стальные пальцы сдавили ему горло, были серые…
Через несколько минут тело бывшего Жюля Бернара, всклокоченного, с перекошенным лицом и вывалившимся языком, было запихнуто в стенной шкаф в прихожей. А Шакал присмотрел журнал на полке и уселся в кресло — ему надо было еще переждать два дня.
За эти два дня Париж перевернули вверх дном: такого еще не бывало. Проверили все гостиницы — от самых роскошных до самых паскудных, — да что гостиницы: все бордели, пансионы, общежития, ночлежки. По всем барам, ресторанам, ночным клубам, кабаре и кафе рыскали агенты в штатском, предъявляя фотографию и расспрашивая официантов, барменов, вышибал. Были задержаны семьдесят с лишним молодых людей, отдаленно похожих на убийцу, — потом их, извинившись, отпустили, поскольку все они оказались иностранцами, а с иностранцами, известно, разговор особый.
Останавливали прохожих на улицах, задерживали такси и автобусы, у всех проверяли документы. Въездные пути в Париж перегородили заставами; а ночным гулякам никакого житья не стало.
Сто тысяч государственных служащих — от инспекторов уголовного розыска до рядовых жандармов — были подняты на ноги. Примерно пятьдесят тысяч уголовников и иже с ними уясняли встречных и поперечных. В студенческом кафе, барах и клубах, на любых собраниях и встречах было полным-полно молодых и моложавых шпиков. Агентства по размещению иностранных студентов на частных квартирах получили соответствующие предупреждения.
Вечером 24 августа комиссара Клода Лебеля, который пребывал на субботнем отдыхе и, облачившись в поношенный свитер и латаные штаны, копался у себя в садике, вызвали по телефону к министру. Машина пришла за ним в шесть часов.
При виде министра Лебель слегка оторопел. Полновластный охранитель французской государственной безопасности выглядел усталым и измученным. Казалось, он состарился за двое суток: черные тени легли под бессонными глазами. Он указал Лебелю на стул перед столом; сел и сам в свое кресло-вертушку, в котором любил оборачиваться к площади Бово за широким окном. На этот раз он к окну не оборачивался.
— Не можем мы его найти, — обронил он. — Исчез этот ваш Шакал, точно сквозь землю провалился. И в ОАС наверняка знают не больше нашего, где он прячется. И уголовники ничего не разнюхали.
Он замолк и тяжело вздохнул, глядя через стол на невзрачного сыщика: тот лишь растерянно моргал.
— Боюсь, мы за целых две недели толком не поняли, с кем имеем дело. А вы думаете, где он?
— Здесь, в городе, — сказал Лебель. — Как вы распорядились назавтра?
Лицо министра болезненно перекосилось.
— Президент категорически не желает ничего отменять или изменять. Я разговаривал с ним нынче утром, он был очень недоволен и лишний раз подчеркнул, что завтра все пойдет по намеченному. В десять он зажигает вечный огонь у Триумфальной арки. В одиннадцать — торжественная месса в соборе Парижской богоматери. В двенадцать тридцать он будет возле усыпальницы героев Сопротивления в Монвалерьене; потом возвращается во дворец, на обед и на отдых. Отдохнув, вручит медали десяти ветеранам, о которых наконец-то вспомнили.
Это будет в четыре, на площади перед Монпарнасским вокзалом, так он приказал. Через год, вероятно, вокзал уже снесут, это в последний раз.
— С толпой как будет? — спросил Лебель.
— Мы это все вместе продумали. Публику будут держать дальше обычного. И стальные барьеры будут поставлены за несколько часов до каждой церемонии, а внутри оцепления все обыщут, вплоть до канализации. Каждый дом, каждую квартиру. Перед каждой церемонией и во время ее на крышах разместят наблюдателей. За барьеры пропускаются только должностные лица — те из них, кто принимает участие в церемониях.
Мы приняли чрезвычайные меры. Даже на карнизах собора будут расставлены полицейские: на крыше и у шпилей — тоже. Священников, служек и певчих обыщут всех до единого. Полиции и агентам КРС завтра утром будут розданы особые значки — вдруг он попробует между ними затесаться.
А за последние сутки мы еще надумали поставить ему в «ситроен» пуленепробиваемые стекла. Вы, кстати, об этом молчок, даже президент не должен об этом знать, он просто в ярость придет. Машину ведет, как всегда, Марру, ему сказано ехать побыстрее, а то как бы наш голубчик не вздумал обстрелять машину на ходу. Дюкре подобрал рослых ребят, чтобы получше прикрыть генерала незаметно от него.
Что же еще — ну в пределах двухсот метров всех велено обыскивать — всех без исключения. Дипкорпус, конечно, вой поднимет, и пресса грозит скандалом. Опять-таки завтра рано поутру всем сотрудникам прессы и дипломатам обменяют пропуска — это на случай, если Шакал вздумает затесаться среди них. И уж само собой, любого с какой-нибудь поклажей, тем более — с продолговатым свертком велено тут же хватать без всяких и волочь в участок. Вы что-нибудь еще можете предложить?
Лебель немного подумал, заложив сплетенные руки между колен, точно школьник перед учителем. По правде говоря, он никак не мог притерпеться к величественным порядкам Пятой республики: он-то был всего-навсего обыкновенный полицейский, и ловил он преступников лучше других просто потому, что глаз не смыкал, когда не надо, вот и все.
— По-моему, извините, — сказал он наконец, — Шакал этот никак подставляться не станет. Он ведь наемник, за деньги работает. Ему надо как-нибудь смыться, а там уж и деньги тратить в свое удовольствие. Все у него продумано заранее, план разработан за последнюю июльскую неделю. И вот ежели бы он хоть чуть сомневался, что не выйдет у него убийство или не получится удрать, то он бы уже и сейчас смотался.
Значит, нет, значит, он себе на уме. Он так это, знаете, сообразил, что в этот самый день, ну в День освобождения, генерал де Голль ни за что не станет прятаться, наплюет на любую опасность. Он, этот Шакал, видите ли, господин министр, он, особенно когда его обнаружили, принял во внимание все ваши мероприятия. И все-таки продолжает.
Лебель встал и, забыв про всякий чиновный этикет, прошелся туда-сюда.
— Продолжает все-таки. И продолжит. А почему? А потому, вы знаете, что думает — получится, и сойдет с рук. Стало быть, как? — он, значит, чего-то такое надумал, что думает всех обойти. Либо что-нибудь взорвет издали, либо выстрелит. Взрывчатка — это, пожалуй, нет, найдут взрывчатку, и дело с концом. Стало быть, будет стрелять. Потому он и во Францию приехал на автомобиле. Там-то она и винтовка была — приварена к шасси или к обшивке.
— Но к де Голлю-то он с винтовкой близко не подойдет! — воскликнул министр. — К нему никакого подступу нет, считанные люди, да и тех обыщут. Как же он, как вы думаете, проникнет с ружьем за наши барьеры?
Лебель остановился напротив министра и пожал плечами.
— Вот уж не знаю. Но он-то думает, что проникнет, и он, заметьте, промашки пока не дал, хотя счастье его по-разному оборачивалось. Нашли мы его, охотятся за ним две лучшие в мире полицейские службы, а он — вот он, и где — неизвестно. Ружье при нем, он прячется, новая, стало быть, личина и новые документы. Вот что я вам скажу, господин министр. Завтра он, как ни крути, появится, где-нибудь да появится. А появится — тут-то его и прихлопнуть. Словом, только одно и остается: разевай глаза.
Ну что же еще вам предложить, господин министр? Насчет мер безопасности вы здорово все придумали, чего ж бы еще. Можно, я у вас там всюду буду ходить, вдруг подвернется этот-то. А больше чего же думать? Пожалуй, все.
Министр был разочарован. Помнится, две недели назад Бувье порекомендовал этого типа как лучшего сыщика во Франции: что же он — какая-нибудь хотя бы догадка, какое-нибудь такое откровение. Разевай, изволите видеть, глаза. Министр встал.
— Насчет этого будьте уверены, — холодно сказал он. — Но и вы соизвольте действовать, господин комиссар.
В тот же вечер, попозже, Шакал заканчивал свои приготовления в спальне Жюля Бернара. На постели были разложены стоптанные черные туфли, серые шерстяные носки, поношенные брюки и рубашка с открытым воротом, а также длиннополая солдатская шинель с орденскими ленточками и черный берет — принадлежности французского ветерана Андре Мартена. А поверх всего — брюссельские фальшивые документы, скреплявшие новый облик.
Рядом он положил легкий сетчатый бандаж, изготовленный в Лондоне, и пять стальных — а по виду алюминиевых — трубок, содержавших приклад, ствол с патронником, глушитель и оптический прицел снайперской винтовки. И возле них — черный резиновый наконечник с пятью начиненными ртутью патронами. Из двух патронов он вынул пули плоскогубцами, обнаруженными на кухне, в хозяйственном ящике, затем извлек стерженьки кордита, а гильзы вместе с пулями бросил в мусорное ведро. Осталось три патрона: больше и не надо.
Он не брился два дня и зарос желтоватой щетиной. Завтра ее надо будет грубо сбрить опасной бритвой, купленной сразу по приезде в Париж. Подле опасной бритвы на полочке стояли две склянки из-под лосьона: в них была серая краска, уже пригодившаяся, и растворитель. Каштановую краску, приличествующую Марти Шульбергу, он уже смыл с волос и, сидя перед зеркалом в ванной, обстригался все короче и короче, и наконец его голова обрела вид плохо подстриженной ежиком.
Он еще раз проверил, все ли готово к утру; потом изжарил себе омлет, уселся перед телевизором, посмотрел варьете и лег спать.
В воскресенье 25 августа 1963 года было очень жарко. Это была самая середина летнего зноя, точно как за год и три дня до того, когда полковник Жан-Мари Бастьен-Тири и его сообщники попытались убить Шарля де Голля на дорожной развилке у Пти-Кламара. В тот вечер, в 1962 году, никому из заговорщиков и в голову не приходило, что из-за них начнется такая катавасия, настоящий конец которой придет лишь в это душное воскресенье, в праздничном Париже.
Однако же в этом Париже, который праздновал девятнадцатую годовщину освобождения от гитлеровцев, семьдесят пять тысяч человек обливались потом в своих голубых саржевых блузах и тяжелых мундирах — они поддерживали порядок. Газеты старательно разблаговестили о торжествах и созвали на них несметные толпы народу. Мало кому довелось хоть мельком увидеть главу государства за плотными рядами охранников и полицейских.
Загораживали его от взглядов и целые когорты офицеров и чиновников, весьма польщенных неожиданной близостью к светилу и ничуть не подозревавших, что они подобраны всего-навсего по росту и служат внешним живым щитом президента; внутренним служили четыре телохранителя.
По счастью, будучи близорук и не желая при этом носить очки на публике, президент почти ничего не видел дальше своего носа и уж вовсе не замечал окружавшие его могучие туши Роже Тессье, Поля Комити, Рэймона Сасия и Анри д'Жудера.
В газетах их называли «гориллами», и с виду они эту кличку как будто вполне заслуживали. Между тем их вид и походка объяснялись очень просто. Кряжистые и мускулистые, они владели всеми навыками рукопашного боя и держали врастопырку руки с полураскрытыми ладонями; к тому же под левой мышкой у каждого был пистолет, который мог в любую секунду понадобиться.
Но пистолеты не понадобились. Церемония у Триумфальной арки проходила в точности по-намеченному, между тем как на крышах зданий вокруг площади Звезды за трубами скрючились сотни охранников-наблюдателей с биноклями и винтовками. Когда наконец президентский кортеж умчался по Елисейским полям к собору Парижской богоматери, они, облегченно вздыхая, стали спускаться вниз.
В соборе тоже все обошлось как нельзя лучше. Обедню служил архиепископ парижский; и он, и вся его пышная свита облачались под бдительным надзором. На хорах — о чем не знал и сам архиепископ — сидели двое с винтовками. Среди паствы было полным-полно полицейских в штатском, которые не преклоняли колен и не смыкали вежд, но про себя молились так же истово, как от века молятся полицейские: «Пронеси, Господи, пока я на посту!»
Двух подозрительных сцапали метров за двести от портала, когда они полезли за пазуху. Один чесал под мышкой, другой доставал портсигар.
И все было тихо-мирно. Не щелкнул выстрел с крыши, не разорвалась бомба. Полицейские косились друг другу на лацканы со значками, выданными утром, дабы Шакал не смог прикинуться блюстителем порядка. Патрульного КРС, который потерял значок, живо сгребли, отобрали карабин и погрузили в «воронок», а отпустили только вечером, когда человек двадцать его опознали и поручились за него.
Особенно взволнованы все были в Монвалерьене — все, кроме президента, который сохранял полнейшую невозмутимость, а если и заметил общее волнение, то виду не подал. Эксперты рассудили, что в самом склепе генералу ничего не угрожает, но по дороге, на узких улочках рабочего предместья и особенно на перекрестках, где машина сбавляла скорость, убийца мог улучить момент. Однако Шакала в Монвалерьене не было.
Пьеру Вальреми все это осточертело. Жара донимала его, блуза промокла хоть выжимай, и ремень карабина натер плечо, горло пересохло, время было обеденное, а обеда не предвиделось. И черт его дернул пойти служить в КРС!
Оно вроде показалось заманчиво, когда его в Руане поперли с завода из-за реконструкции, а чиновник на бирже труда показал ему на плакат, с которого улыбчивый молодец в форме КРС сообщал всем и каждому, что за свое будущее он спокоен и живет дай бог всякому. Мундир у парня на плакате, и правда, был такой, словно его кроил сам Балансиага. И Вальреми завербовался.
Это уж потом он отведал казарменной жизни — что твоя тюрьма, да в этих казармах раньше тюрьма и была. Зверская муштра, ночные учения, колкая саржевая блуза, часы за часами в холод и в жару на уличных перекрестках: вот-вот, мол, арестуешь Того Самого, но арестовать ему никого не довелось. И бумаги у всех прохожих были в порядке, и спешили они по своим безобидным делам — словом, в пору запить, да и только.
Теперь вот их наконец вывезли из Руана, и не куда-нибудь, а в Париж. Он-то надеялся хоть столицу, что ли, посмотреть, да где там! Сержант Барбише — он как в казарме раскомандовался, так и тут не унимается. Вальреми, говорит, видишь барьер? Вот и стой возле него, как штык, следи, чтоб никто не просочился, понял? Вот тебе какой пост доверен, смотри у меня, парень!
Да уж, пост, нечего сказать! Видно, они все тут с ума посходили со своим Днем Освобождения. Это же надо, сколько тысяч понагнали отовсюду на помощь парижским. Из десяти городов у них в казармах вчера перезнакомились ребята. Вроде ожидается в Париже какая-то катавасия, а то зачем бы им столько постовых. Слухи разные ходят, именно что слухи. А толку-то!
Вальреми обернулся и взглянул на улицу Ренн. Барьер, он барьер и есть — ну, протянули здоровенную цепь через улицу, метров за двести пятьдесят от площади 18 Июня. Фасад вокзала был еще двумястами метрами дальше, а перед ним площадочка, там ходили разметчики и размечали, где стоять ветеранам, где начальству, где оркестру республиканской гвардии. Три часа еще, не меньше, а то и… Боже, конец-то этому будет?
За барьером начали собираться зрители. Вот, ей-богу, набрались терпения, подумал он. Это ж те же три часа проторчать на солнцепеке и углядеть, если повезет, за триста метров толпу вокруг де Голля — он там где-то такое внутри. Ну, им бы только разок еще поближе оказаться к старику Шарлю.
Собралась сотня-другая народу, и какой-то старикан, здравствуйте, приковылял, еле на ногах держится. Берет на голове промок от пота, шинель к ногам липнет. А на груди целая выставка медалей. Его пропускали и жалостно косились.
Носится это старичье со своими медалями, подумал Вальреми: ладно, у них и в жизни-то, небось, ничего другого не осталось. Особенно ежели ногу отстрелили на войне. Небось, в свое-то время бегал на двух ногах не хуже другого, подумал Вальреми, глядя на старикана, теперь не побегаешь. Вот так, вспомнил он, чайка одна ни за что не хотела подыхать, видел такую на море, в Кермадеке.
Нет, это не приведи бог ковылять до могилы на одной ноге, подпираясь алюминиевым костылем. Старик подошел поближе.
— Je peux passer?[50] — робко спросил он.
— Погоди, папаша, у тебя документы как?
Ветеран порылся где-то под рубашкой, которую сильно не мешало бы постирать, вытащил два удостоверения и протянул их Вальреми. Андре Мартен, французский гражданин, пятьдесят три года, родился в Кольмаре, Эльзас, живет в Париже. На втором удостоверении сверху была надпись: «Инвалид войны».
«Да, брат, что инвалид, то инвалид», — подумал Вальреми.
Он рассмотрел фотографии: он самый, только в разное время снимали. И поднял глаза на инвалида:
— Сними-ка берет, папаша.
Старик сдернул берет и скомкал его в руке. Вальреми поглядел ему в лицо, потом еще раз на фотографию: ну да, он самый. Только наяву чуть постарше и больной, что ли. За бритьем, видать, порезался, промокал кровь туалетной бумагой. Серое, потное, сальное лицо. Разлохмаченные, кое-как подстриженные волосы торчат во все стороны. Вальреми отдал ему удостоверения.
— Тебе туда зачем надо-то?
— Да живу я там, — сказал старик. — Вышел на пенсию и живу. Мансарду вот снял.
Вальреми взял обратно удостоверение личности: адрес — дом 154, улица Ренн, Шестой округ. Он поднял голову, взглянул на табличку: дом 132. Все правильно, 154-й, значит, в конце улицы. Такого приказа не было, чтоб стариков домой не пускать.
— Проходи, давай. Только сиди дома и не высовывайся. Сюда через два часа сам Шарло нагрянет.
Старик, пряча документы, улыбнулся, переступил с ноги на костыль и чуть не растянулся — Вальреми его поддержал.
— Знаю, — проговорил старик. — Один мой старый друг сегодня медаль получает. Я-то свою давно получил, два года назад, — он тронул на груди медаль «За освобождение», — мне ее министр навесил, а ему вот сам президент.
Вальреми пригляделся к медальке. Скажите на милость, медаль! За освобождение! Пустячный кругляшок, а за него подавай ногу. Он вспомнил, что он не кто-нибудь, а постовой, и коротко кивнул. Старик медлительно заковылял по улице. Вальреми перехватил ловкача, который вздумал пробраться под шумок.
— Ну-ну, нечего. Ступайте, ступайте обратно.
И обернувшись на старого солдата в долгополой шинели, увидел, как тот исчез в подъезде неподалеку от площади.
Мадам Берта изумленно подняла глаза от вязанья, когда на нее упала чья-то тень. Денек выдался просто ужас, полицейские расхаживали по всему дому, и бог еще знает, что сказали бы жильцы — спасибо, почти все поразъехались на отдых.
Когда полицейские закончили обход и обыск, она снова уселась у подъезда и принялась вязать. Предстоящая церемония за сто с лишним ярдов на привокзальной площади ее ничуть не интересовала.
— Excusez-moi, madame…[51] я просто… мне бы стаканчик воды, если можно. А то еще долго ждать и жарко очень…
Она окинула взглядом старика в шинели, как у покойного мужа, с медалями под левым отворотом. Он тяжело опирался на костыль, из-под шинели виднелась одна-единственная нога. Лицо у него было потное, измученное. Мадам Берта свернула вязанье и положила его в карман фартука.
— Oh, mon pauv' monsieur.[52] Такая жара, вы так тепло одеты, а начнется-то часа через два, не раньше… Проходите, проходите…
И она заторопилась к себе за стаканом воды для усталого ветерана. Тот ковылял следом.
Она отвернула кухонный кран и за шумом хлынувшей воды не услышала, как плотно притворилась наружная дверь, и совсем уж незаметно, совсем неожиданно охватили ее шею длинные, цепкие пальцы левой руки, а правый кулак ударил костяшками пониже уха. Водяная струя и стакан рассыпались в ее глазах красно-черными осколками, и обмякшее тело было тихо опущено на пол.
Шакал распахнул шинель, отстегнул сзади за поясом бандаж и высвободил правую ногу, туго притянутую к ягодице. Потом с гримасой боли распрямил ногу и разогнул затекшее колено. Он переждал минуту-другую, пока кровообращение восстановится, и осторожно ступил на ногу.
Через пять минут бесчувственное тело мадам Берты, крепко связанное по рукам и ногам найденным под кухонной раковиной бельевым шпагатом, было упрятано в буфетной. Рот ее Шакал заклеил широким куском пластыря.
Квартирные ключи обнаружились в ящике стола. Застегнув шинель, он взял наперевес костыль, на который опирался две недели назад в аэропортах Брюсселя и Милана, и выглянул за дверь. Вестибюль был пуст. Он запер квартиру консьержки и взбежал по лестнице.
На седьмом этаже он, подумавши, постучал в дверь мадемуазель Беранже. Никто не откликнулся. Он выждал и постучал еще раз. Ни звука в ответ — ни оттуда, ни из соседней квартиры супругов Шарье. Шакал перебрал связку, нашел ключ с фамилией «Беранже» и вошел в квартиру, заперши дверь за собой.
Потом осторожно подошел к окну. Напротив, на крышах, рассаживались полицейские: успел, значит, в самый раз. Стоя боком, он отпер шпингалет и тихо отворил створки вовнутрь до отказа, еще немного посторонившись. На ковер лег большой квадрат солнечного света; остальная комната была в тени.
Только не попасть в этот квадрат, и наблюдатели тебя не заметят.
Он глянул в щель между задернутыми занавесями: наискосок внизу отлично была видна за сто тридцать метров залитая светом привокзальная площадь. Шакал передвинул и установил небольшой столик футах в восьми сбоку от раскрытого окна; снял вазон с искусственными цветами и скатерть и положил две подушки с кресла: хороший упор для ствола.
Затем сбросил шинель, закатал рукава и принялся разбирать костыль, для начала отвинтив черный резиновый наконечник. Блеснули капсюли трех оставленных патронов. Из двух других он съел кордит, и тошнота только-только начала отступать, пот уже не так прошибал.
Бесшумно выскользнул глушитель, за ним — оптический прицел и, наконец, из самой толстой части костыля — ствол с казенником.
Из костыльной рамы появились и были тут же свинчены прикладные штыри, а плечевой упор, никак не скрытый, но скрывавший под кожей спусковой крючок, встал на свое место.
Он собирал винтовку любовно и бережно — накрепко приладил к стволу с патронником приклад и затыльник, навинтил глушитель и спуск. И наконец очень тщательно вставил и закрепил прицел.
Поудобнее усевшись на стуле, пристроив винтовку на верхней подушке, он заглянул в прицел — и четко увидел солнечную площадь пятьюдесятью футами ниже. Показалась — примерно там, где нужно, — голова подготовителя церемонии. Он повел за ним дуло: голова видна была ясно и отчетливо, ни дать ни взять арбуз в Арденнском лесу.
Все было готово, все правильно; и Шакал выстроил рядком три патрона, нежно отвел затвор большим и указательным пальцами и вставил первый из них. Должно хватить и одного, а ведь еще два в запасе. Он двинул затвор вперед — донышко гильзы скрылось, — тихонько повернул его и запер. Осторожно уложив винтовку на подушке, он достал сигареты и спички.
Потом глубоко затянулся, откинулся на спинку стула и приготовился ждать еще час и три четверти.
21
Комиссару Клоду Лебелю еще никогда в жизни так не хотелось пить. Гортань его пересохла; язык не то что прилип, а был точно припаян к небу. Но отнюдь не только из-за жары: впервые за многие-многие годы он по-настоящему перепугался. Что-то непременно вот-вот должно было стрястись, это он чуял, но где и как — не знал.
Был он утром у Триумфальной арки, потом в соборе и в Монвалерьене — и ничего не стряслось. За обедом он оказался среди уже привычных комитетских лиц — последнее заседание комитета провели в министерстве рано поутру — и слушал, опустив глаза в тарелку, как у них смятение и злоба сменялись восторженным самодовольством. Оставалась всего-навсего пустячная церемония на площади 18 Июня: и уж тут-то, будьте уверены, все было прочесано и наглухо запечатано.
— Да нет, он смылся, — сообщил Роллан на выходе из гриль-бара близ Елисейского дворца — сам генерал обедал во дворце, — обделался и смылся. Ну, то-то. И все равно он где-нибудь да объявится, не уйдет от моих молодцов.
После этого Лебель, мало на что надеясь, обходил посты за двести метров от бульвара Монпарнас — площадь оттуда и видно-то почти что не было. И полицейские, и постовые КРС, точно сговорившись, отвечали одно и то же: нет, мол, как барьеры в двенадцать поставили, так никто-никто не проходил.
Улицы, переулки, ходы-выходы — все было перекрыто. На крышах посты, а уж на вокзале, бесчисленные окна и оконца которого глядели на площадь, — там агентов было видимо-невидимо. Они засели и на крышах огромных пустых паровозных депо, и над платформами, благо поездов нынче нет, все отведены на вокзал Сен-Лазар.
И внутри, как проверишь, все было прочесано, от чердака до подвала. Квартиры-то большей частью пустовали: разъехались люди на отдых, кто в горы, кто к морю.
Короче, затиснули площадь 18 Июня, как сказал бы Валантэн, «уже мышкиной жопки». Лебель улыбнулся, вспомнив распорядительного полицейского из Оверни, но улыбку точно стерли с его лица: какой ни есть Валантэн, а Шакал-то его объегорил.
Лебель прошел переулочками, предъявляя свой на все годный пропуск, — и вышел на улицу Ренн, и там было то же самое. Улица перетянута цепью метров за двести от площади, за цепью — толпа, на улице — никого, кроме патрульных КРС. Лебель, собравшись с силами, снова принялся расспрашивать.
Никого такого не заметили? Нет, сударь, не заметили. Кто-нибудь проходил за барьер? Никто, сударь, не проходил. Вдали, на привокзальной площади, послышались нестройные звуки — оркестранты, наверно, приготовляются. Лебель взглянул на часы. Да, сейчас приедет. Здесь никто не проходил? Нет, сударь, здесь — никто. Ладно, вы свое дело знаете.
Перед вокзалом кто-то гулко скомандовал, и президентский кортеж вылетел на площадь 18 Июня. Вон они свернули к вокзалу. Полиция навытяжку, честь отдает. Толпа глядит, распялив глаза, на черные лощеные лимузины. Он посмотрел на крыши: ну вот, молодцы ребята. Вниз и глазом не косят, скрючились и глаз не спускают с крыш и окон напротив; чуть что, они тут как тут.
Лебель дошел до западного конца улицы Ренн. Паренек из КРС стоял, властно расставив ноги, у барьера от номера 132. Он показал удостоверение, парень вытянулся.
— Проходил здесь кто-нибудь?
— Никак нет.
— Давно стоишь?
— С двенадцати, сударь, как закрыли проход.
— И никто-никто за цепь не проходил?
— Никак нет, сударь. Хотя… прошел один калека-старичок, больной совсем, он там живет.
— Что за калека?
— Да что, сударь, старик. Еле на ногах держался. Все я у него проверил — и удостоверение, и инвалидную карточку. Адрес — улица Ренн, 154. Как было его не пропустить, сударь, еле, говорю, с ног не падает, ну совсем больной. И то сказать — как он в своей шинели вообще не умер. Совсем, видать, обалделый.
— В шинели?
— Ну. В длинной, знаете, шинели старого образца. В такой-то шинели да в такую жару.
— С ног падает?
— Я же говорю, жара, а он в шинели!
— Я не про то. Он что, покалеченный?
— Одна нога, сударь, другой нет. Ковыляет, знаете, с костылем.
С площади послышался звонкий трубный глас: «Allons, enfants de la patrie, ie jour de gloire est arrive…»[53] В толпе подхватили знакомый запев Марсельезы.
— С костылем? — Лебель едва узнал свой далекий голос. Постовой участливо поглядел на него.
— Ну. С костылем, а как же ему иначе. С алюминиевым костылем…
Лебель помчался по улице, крикнув парню, чтобы он не отставал.
На солнечной площади все выстроились угол к углу. Машины стояли одна за другой вдоль вокзального фасада. А напротив машин, у ограды, замерли в строю десять ветеранов, которым глава государства должен был сам навесить медали. Справа подровнялись чиновники и дипломаты в костюмах маренго, там и сям расцвеченных розетками орденов Почетного легиона.
Слева стеснились сверкающие каски и красные плюмажи республиканских гвардейцев; оркестр стоял немного впереди почетного караула.
Возле одного из лимузинов сгрудились чиновники и дворцовая челядь. Оркестр продолжал Марсельезу.
Шакал поднял винтовку и сощурился, оглядывая привокзальный дворик. Он взял на прицел ближнего ветерана, которому награда причиталась первому. Толстенький, невысокий, вытянулся в струнку. Прекрасно просматривалась его голова. Еще несколько минут — и примерно на фут выше в прицеле появится другая голова — горделивый профиль и кепи цвета хаки с двумя золотыми звездами.
«Marchons, marchons, qu'un sang impur…» Трам-бам-ба-ба-ба-бам. Замерли последние звуки государственного гимна, и воцарилась тишина. Послышалась зычная команда: «Внимание! НА-КРАУЛ!» Раз-два-три — и руки в белых перчатках перехватили карабины, щелкнули каблуки. Толпа возле машины расступилась надвое. Выделилась высокая фигура, твердо шествующая к строю ветеранов. За пятьдесят метров от них свита остановилась: рядом с де Голлем пошел министр по делам фронтовиков, который должен был представить одного за другим ветеранов президенту, и чиновник, который нес на бархатной подушке десять медалей и десять цветных ленточек. Эти двое и де Голль — и все.
— Здесь, что ли?
Лебель, вконец запыхавшись, остановился у подъезда.
— Да вроде здесь, сударь. Ну да, второе от площади. Сюда он зашел.
Коротышка-сыщик бросился в подъезд, и Вальреми последовал за ним — слава тебе, господи, от жары отдохнешь. Тем более что и начальство, стоя навытяжку у ограждения, начало не по-хорошему коситься на их беготню. Ну ладно: он в случае чего скажет, что гонялся за этим, будто бы полицейским комиссаром.
Тот, между прочим, ломился в квартиру консьержки.
— Где консьержка? — кричал он.
— Вот уж не знаю, сударь.
И не успел он рот разинуть, как тот, коротышка, локтем вышиб матовое стекло, сунул руку внутрь и отпер дверь.
— За мной! — приказал он и ринулся в чужую квартиру.
Да уж конечно, за тобой, подумал Вальреми, следуя за ним. Ты, братец, свихнулся, кто тебя знает, чего натворишь.
А сыщик был уже у двери буфетной. Заглянув ему через плечо, Вальреми увидел консьержку, связанную и все еще бесчувственную.
— Ну и ну! — Он вдруг сообразил, что этот коротышка-то — не шутник. Он и правда сыщик, они правда бегут за преступником. Вот и пожалуйста, мечтал и получил, только лучше бы этого не было, а он был бы обратно в казарме.
— На верхний этаж! — заорал коротышка и припустился по лестнице прытко на диво; Вальреми поспешал за ним с автоматом наготове.
Между тем президент Франции остановился возле первого в шеренге ветерана и преклонил слух к речи министра: тот поведал о воинских подвигах девятнадцатилетней давности. Когда министр закончил, президент кивнул ветерану, повернулся к чиновнику с подушкой и взял первую медаль. Оркестр отнюдь не в полную силу заиграл что-то вроде «Маржолены», и долговязый генерал нацепил медаль на выпяченную грудь пожилого героя. Потом он отступил назад и взял под козырек.
На высоте седьмого этажа, в ста тридцати метрах от происходящего, Шакал, сощурясь, выровнял прицел. Лицо было отлично видно: затененный козырьком лоб, гордо выпученные глаза, здоровенный носище. Вот и рука опустилась от козырька, висок поймался на скрещенье нитей… Шакал мягко, плавно спустил курок.
Не веря глазам своим, он глядел на привокзальную площадь. В ту малую долю секунды, когда пуля вылетала из ствола, президент Франции вдруг резко опустил горделиво закинутую голову. В недоумении смотрел убийца, как он расцеловал ветерана в обе щеки. Ритуал обычный для Франции и некоторых других стран, но англосаксам непонятный.
Словом, президент не вовремя нагнулся.
Потом установили, что пуля чиркнула едва-едва поверх головы президента. Слышал он ее смертельный свист или не слышал — это уж и вовсе неизвестно. Виду, во всяком случае, не подал. Министр и чиновник ничего не слышали, а об охране за пятьдесят метров и говорить нечего.
Пуля впилась в размякший от жары термакадам, и страшный разрыв ее никому не повредил. Оркестр по-прежнему играл «Маржолену». Президент окончил целование ветерана, выпрямился и передвинулся к следующему награждаемому.
А Шакал, сжимая в руках винтовку, тихо и яростно выругался. Ни разу в жизни он еще не промазал за сто пятьдесят ярдов по неподвижной цели. Выругался и успокоился: ладно, еще не вечер. Он отвел затвор, выбросив на ковер пустую гильзу, взял второй патрон, сунул его в казенник и задвинул шпенек.
Клод Лебель, хватая ртом воздух, вбежал на седьмой этаж: сердце его, казалось вот-вот выскочит из груди. Окнами на улицу две квартиры. Он посмотрел на одну, на другую дверь, и как раз подбежал паренек из КРС, с автоматом у бедра.
Пока Лебель раздумывал, из-за двери послышался хлопок. Он ткнул туда пальцем.
— Стреляй, — велел он и отступил. Мальчик расставил ноги и разнес замок длинной очередью. Брызнули в разные стороны щепки, осколки, расплющенные пули. Дверь перекосилась и мотнулась внутрь. Вальреми вбежал первым, Лебель — за ним.
Растрепанные седые вихры Вальреми узнал, а больше узнавать было нечего. Обе ноги у мужика в целости, шинель он скинул, винтовку держал в мускулистых молодых руках. И времени ему никакого не дал: вскочил из-за стола, пригнулся и выстрелил от бедра. Выстрел был неслышный, у Вальреми в ушах еще не отзвучала его собственная автоматная очередь. Пуля впилась ему в грудь, разорвалась и разнесла грудную клетку. Больно было невыносимо, боль разрывала; потом боль тоже пропала. Свет померк, словно лето превратилось в зиму. И ударил его в щеку ковер, он уже лежал на ковре. Потом омертвели живот и ноги, грудь и шея. Последнее, что осталось, — соленый вкус во рту, морской вкус, вроде как на берегу в Кермадеке после купанья, еще одноногая чайка сидела на столбе. И обрушилась вечная темнота.
А Клод Лебель поднял глаза над его трупом. Сердце было уже ничего, уже не билось сердце.
— А, Шакал, — сказал он.
— А, Лебель, — отозвался тот. Он спокойно оттянул затвор: гильза блеснула и упала на пол. Взял что-то со стола и заправил в казенник. Серые глаза его разглядывали Лебеля.
«Это он меня завораживает, — подумал Лебель, точно в кино. — Зарядил, выстрелит. И убьет меня».
Он оторвал глаза, поглядел на пол. Скрючился мертвый мальчишка из КРС; автомат его лежал у ног Лебеля. Он машинально упал на колени, схватил автомат, нащупывая спуск. И нащупал — как раз когда Шакал щелкнул затвором. И нажал на спуск.
Треск автоматной очереди огласил комнату и был слышен на площади. Потом журналистам объяснили, что где-то там какой-то дурак завел, понимаете, мотоциклет. А Шакалу разорвали грудь чуть не двадцать девятимиллиметровых пуль: он вскинулся и рухнул на пол в дальнем углу, у софы, неопрятным трупом. За ним упал торшер. И в это самое время внизу оркестр заиграл «Mon Regiment et Ma Patrie».[54]
В шесть часов вечера инспектору Томасу позвонили из Парижа. Он вызвал старшего группы.
— Все, отбой, — сказал он. — Взяли они его там, у себя в Париже. Конец — делу венец, только вы все-таки съездите к нему на квартиру, малость там разберитесь.
В восемь часов, когда инспектор перебрал все до тряпочки и собрался уходить, в раскрытую квартиру кто-то вошел. Инспектор обернулся. На пороге стоял крепкий, коренастый мужчина.
— Вам здесь чего надо? — спросил инспектор.
— Да нет, извините, это я не понимаю, чего вам тут надо. Вы здесь с какой стати?
— Тихо, тихо, — сказал инспектор. — Вы кто такой?
— Я-то Калтроп, — ответил тот. — Чарлз Калтроп. Это вот моя квартира. Ну-ка, а вы кто такой?
Инспектор очень пожалел, что у него нет с собой пистолета.
— Ладно, — сказал он как можно осторожнее. — Пойдемте, пожалуйста, в участок, там разберемся…
— Пойдемте, пойдемте, — громогласно согласился Калтроп. — Вы мне там объясните, по какому праву…
Объяснять пришлось все-таки Калтропу. Мало того, его еще задержали на двадцать четыре часа, пока три депеши из Парижа не подтвердили, что Шакал мертвее мертвого, а пять барменов из Сазерлендского графства в Шотландии не удостоверили, что Чарлз Калтроп как есть провел три предыдущие недели за альпинизмом и рыбной ловлей — и он им лично известен.
— Ну, ежели Шакал — не Калтроп, — сказал Томас, когда Калтроп, наконец отпущенный, хлопнул дверью, — то кто же такой Шакал?
— Даже и речи не может быть, — заявил на другой день полицейский уполномоченный начальнику Диксону и помощнику Томасу, — чтобы наше, Ее Величества правительство признало этого какого-то Шакала своим подданным. По-видимому, некоторое время некий англичанин находился под некоторым подозрением. Нынче подозрений нет. Известно, впрочем, что так называемый англичанин, так сказать… м-м-м… пребывая во Франции, воспользовался фальшивым английским паспортом. Мало ли — он выдавал себя, как известно, за датчанина, американца и за француза, имел два краденых паспорта и французские удостоверения личности. Насколько нам известно — вот так вот, мы установили, что некий, как выяснилось, убийца путешествовал во Франции с фальшивым паспортом на имя Дуггана и под этим именем его проследили до… как там он у них называется? Гапа. Вот и все. Дело кончено, джентльмены.
Наутро на кладбище Пер-Лашез похоронили безымянного мертвеца. Свидетельство о смерти гласило, что похоронен иностранный турист, погибший 25 августа 1963 года в автомобильной катастрофе. На похоронах присутствовали: священник, полицейский, регистратор и два могильщика. Равнодушными взглядами проводили они в могилу простой некрашеный гроб. Был там еще, правда, некто в штатском. Тот немного призадумался. Отказавшись назваться, он повернулся и пошел по кладбищенской тропке домой: к жене и детям.
День Шакала закончился.
Примечания
1
Organisation Armee Secrete (фр.) — военно-политическая организация фашистского типа, противостоявшая в 60-х гг. политике деколонизации президента де Голля и ставившая целью захват власти во Франции.
(обратно)2
Разведывательные данные (фр.)
(обратно)3
Простите, мне нужен герр Шульце! (искаж. нем.)
(обратно)4
Вам угодно? (фр.)
(обратно)5
Да (фр.)
(обратно)6
Все в порядке (фр.)
(обратно)7
Хорошо (фр.)
(обратно)8
Обмен (нем.)
(обратно)9
Идем? (фр.)
(обратно)10
Добрый вечер (нем.)
(обратно)11
Добрый вечер, сударь (нем.)
(обратно)12
Хорошо (фр.)
(обратно)13
Не в бровь, а в глаз (фр.)
(обратно)14
Согласны (фр.)
(обратно)15
До свидания, господин Шакал (фр.)
(обратно)16
Республиканский корпус безопасности (фр.)
(обратно)17
Руки вверх! (фр.)
(обратно)18
Писающий мальчик, скульптура на брюссельской площади.
(обратно)19
Здесь калибр исчисляется в сотых и тысячных долях дюйма.
(обратно)20
Вот как (фр.)
(обратно)21
Чрезвычайно любезен. Истинный… (фр.)
(обратно)22
Жорж Эжен Осман (1809–1891) — французский политический деятель; став в 1853 году префектом Парижа, осуществил проект перестройки и оздоровления французской столицы.
(обратно)23
Здравствуйте, сударь (фр.)
(обратно)24
Здравствуйте, мадам Берта (фр.)
(обратно)25
Это я (фр.)
(обратно)26
Простите, сударь (ит.)
(обратно)27
Тут письмо, сударь. Для господина Ковальского… я такого не знаю… Он, может быть, француз… (ит.)
(обратно)28
Я спрошу (фр.)
(обратно)29
Спрошу, спрошу (фр.)
(обратно)30
Ах, да. Спросите. Пожалуйста, сударь. Очень благодарен… (ит.)
(обратно)31
Шлюха (фр.)
(обратно)32
Лекари, полковник? (фр.)
(обратно)33
Благодарю, сударь (фр.)
(обратно)34
А? (фр.)
(обратно)35
Доброго пути (фр.)
(обратно)36
Говорит Шакал (фр.)
(обратно)37
Говорит Вальми (фр.)
(обратно)38
Роты республиканской безопасности.
(обратно)39
Имеется в виду скандальное «дело» министра Профьюмо и манекенщицы Кристин Килер.
(обратно)40
Приморская автострада.
(обратно)41
Здание лондонского муниципалитета.
(обратно)42
Die — в английском языке это слово читается «дай» и означает «умирать».
(обратно)43
Убийца прекрасной баронессы скрывается в Париже (фр.)
(обратно)44
Ой, смотри, какой! (фр.)
(обратно)45
Добрый вечер, сударь (фр.)
(обратно)46
Дайте мне шотландское виски (фр.)
(обратно)47
Шлюшонки (фр.)
(обратно)48
Ты меня приглашаешь? (фр.)
(обратно)49
Езжайте!.. Вонючие педерасты (фр.)
(обратно)50
Можно пройти? (фр.)
(обратно)51
Извините, сударыня (фр.)
(обратно)52
Бедный вы, сударь (фр.)
(обратно)53
«Вперед, отечества сыны, для вас день славы настает…» (фр.)
(обратно)54
Мой полк и моя родина (фр.)
(обратно)


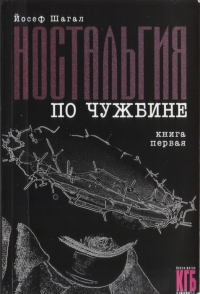


Комментарии к книге «День Шакала», Фредерик Форсайт
Всего 0 комментариев