Роберт Дугони Властелин суда
Отцу моему Уильяму,
лучшему из известных мне людей;
маме Пэтти,
моей вдохновительнице;
моему дорогому другу Эдду Вендитти —
Господь спешит забрать к себе лучших.
Благодарности
Как и в каждом предприятии, благодарности тут заслуживают многие. Всем вам я бесконечно благодарен за время, потраченное на меня, и за ваш талант. Ваша интуиция помогла мне в работе над книгой. Если я забыл кого-то упомянуть, он знает о своем вкладе, потому что труд его — в этих страницах. Ошибки же — мои и только мои.
Моя особая благодарность, как всегда, Дженнифер Маккорд, консультанту северо-восточных издательств и моему доброму другу, приютившему мои писания и помогающему моей карьере. Шерифу города Редвуда Пэту Моргану и сотруднику Управления по охране окружающей среды и бывшему агенту ФБР Джозефу Хиллдорфу — спасибо за то, что ввели меня в курс работы полиции, разрешали болтаться среди полицейских и досаждать им своим любопытством. Джеймсу Финну, знатоку оружия, — за его увлечение в особенности, а также за его разнообразную эрудицию вообще. Ваша помощь неоценима. Роберту Капелле, доктору медицины, — за его более чем тридцатилетний опыт в области патологоанатомии и проведении вскрытий; он очень помог мне узнать новые и весьма изощренные способы убийства. Бернадетте Крамер, клиницисту-фармакологу, много рассказавшей мне о лекарствах и их действии на организм, а также о внутреннем распорядке больниц, в особенности психиатрических. Я и не знал, что моя сестра такая умница. Спасибо также тем библиотекарям, которые указали мне, где следует искать ответ на каждый из моих вопросов.
Благодарю моих добрых друзей и бывших коллег по «Гордону и Рису», Сан-Франциско, которые за двенадцать лет нашей совместной деятельности познакомили меня с тонкими и не очень тонкими особенностями юриспруденции. Благодарю также новых моих друзей и коллег в «Шифрин», Сиэтл, — Олсена, Шлемлейна, Хопкинса и Терезу Гетц; гибкость и снисходительность этих высокопрофессиональных юристов и моих друзей позволили течь воде из кранов, а электричеству струиться по проводам, что побуждало меня писать мои художественные и нехудожественные произведения; мои жена и дети особенно вам благодарны.
Благодарю Сэма Голдмена, блестящего преподавателя журналистского искусства, одного из лучших на Западе. Вы научили меня писать и пристрастили к этому занятию.
Моим агентам: Джейн Ротросен, Дональду Клири и всем сотрудникам агентства Джейн Ротросен, а особенно — Мэг Рули. Вы — выше всяких похвал. Я и раньше так говорил. Вы обладаете тремя ценнейшими качествами: неизменной доступностью для писателя, неизменной заинтересованностью в его работе, неизменной готовностью прийти на помощь. Я всем вам обязан очень многим. Мэг, в следующий же мой приезд в Нью-Йорк — за мною ужин!
Я крайне признателен талантливым сотрудникам «Тайм Уорнер бук труп». Особая благодарность издателю Джейми Рабу за его доброжелательность и за то, что дал приют моей книге. Спасибо Беке Оливер за ее настойчивую и успешную работу по продвижению «Властелина» на международный книжный рынок. Спасибо артдиректору Энн Туми за классную и оригинальную обложку, редакционным сотрудникам Пенине Сакс и Майклу Кару, работавшим над рукописью, — благодаря их стараниям я стал выглядеть лучше, чем я есть, спасибо рекламному агенту Тине Андреадис. И конечно же, спасибо Колину Фоксу, моему редактору, всегда бывшему на моей стороне, всемерно заботившемуся обо мне и «Властелине суда». Мы непременно должны распить бутылочку, и безотлагательно.
При всех ваших замечательных качествах в общении с вами я изо всех сил пытался обнаруживать лишь сильные стороны моей натуры. Все сомнения и скулеж я приберегал для моей жены Кристины. Но, несмотря ни на что, она не теряла веры в меня. И эта вера была даже больше собственной моей веры. И я, Кристина, остаюсь самым горячим из твоих поклонников.
Потерянный, я вновь обрел себя,
Слепой, теперь прозрел.
Джон Ньютон. Гимн «О, благодать». 17791
Сан-Франциско
Шаркая ногами, они вошли в зал суда — вылитые сан-францисские бродяги: плечи ссутулены, головы опущены, словно в поисках завалявшейся где-нибудь на тротуаре монетки. Дэвид Слоун сидел, опершись локтями на солидный дубовый стол и сложив пальцы пирамидкой с вершиной возле самых губ. Такая поза производила впечатление глубокой задумчивости, однако на самом деле Слоун фиксировал каждое движение присяжных. Семеро мужчин и пять женщин вернулись на предназначенные им места в ложу присяжных на возвышении за красного дерева барьером; наклонившись, чтобы достать оставленные на мягких креслах записные книжки, они уселись, свесив головы и потупившись. Когда они подняли головы, взгляды их, миновав Слоуна, устремились к соседнему столу — месту достопочтенного адвоката истца Кевина Стайнера. То, что присяжные избегали встречаться взглядом с ним, Слоуном, можно было счесть грозным предзнаменованием. Эти взгляды, прямо обращенные в сторону противника, отозвались в Слоуне отчетливыми звуками похоронного колокола.
С каждой новой из четырнадцати последовательных профессиональных побед Слоуна, имевших результатом его неуклонно возраставшую популярность, адвокатские конторы подбирали ему все лучших и лучших оппонентов. А лучше, чем Кевин Стайнер, адвоката уж просто не было. Он был звездой сан-францисского юридического небосклона. Голову Стайнера венчала серебристая, уже слегка поредевшая шевелюра, его улыбка могла растопить лед какой угодно толщины, а ораторское мастерство было отточено декламацией шекспировских строк на драматических подмостках в колледже. Заключительную речь Стайнера смело можно было назвать блестящей.
Хотя Слоун и предупреждал своего клиента, что ему не следует реагировать на возвращение в зал присяжных, сейчас он почувствовал, как Пол Эббот наклонился к нему. Рукав костюма от Хики-Фримена потерся о плечо стандартного синего блейзера Слоуна. Свою ошибку клиент усугубил тем, что попытался загородиться, поднеся к шевельнувшимся губам пластиковый стакан с минералкой.
— Мы пропали! — шепнул Эббот, словно читая мысли Слоуна. — Они не глядят на нас. Ни один не глядит!
Слоун сохранял величавую и неколебимую неподвижность человека, находящегося в абсолютном согласии со всем творящимся вокруг, и выглядел совершенно невозмутимым. Эббот, однако, не успокоился. Отбросив всякую маскировку, он опустил стакан.
— Я плачу вам и вашей фирме по четыреста долларов в час не для того, чтобы проигрывать, мистер Слоун. — Изо рта Эббота несло дешевым красным вином, стакан которого он выпил за обедом. Вена на шее, вздувавшаяся всякий раз, когда он сердился, сейчас вылезала из-под белого накрахмаленного воротничка, набухшая, как река, готовая вот-вот выйти из берегов. — Единственное, почему я вас нанял, это потому, что Боб Фостер говорил моему деду, что вы никогда не проигрываете. Для вашей же пользы вам следует расчихвостить этого подонка.
Высказав эту угрозу, Эббот прикончил стакан минералки и, откинувшись на спинку кресла, оттянул шелковый галстук.
Однако и на этот раз Слоун не отреагировал. Вот бы примериться хорошенько и одним движением локтя опрокинуть Эббота в его кресле, после чего спокойно выйти из зала, но не бывать тому. Разве мыслимо, черт возьми, бросить такого клиента, как внук Фрэнка Эббота, близкий друг и постоянный, каждое субботнее утро, партнер по гольфу Боба Фостера, управляющего директора корпорации «Фостер и Бейн». Происхождение и обстоятельства вознесли Пола Эббота, сделав его наследником многомиллионного предприятия — охранной фирмы Эббота, а также худшим из всех возможных клиентов Слоуна.
Эббот для удобства своего предпочел забыть краткий период, когда служил главным менеджером фирмы и своей некомпетентностью разрушил многое из того, что по крупицам создавал в течение сорока лет его дедушка, но именно этот краткий период послужил причиной его привлечения к суду, из-за чего он и находился сейчас в зале. Сотрудник охранной фирмы Эббота, трижды привлекавшийся к суду за управление транспортным средством в нетрезвом виде — обстоятельство, которое могла бы обнаружить простейшая кадровая проверка, сидел за столом дежурного в вестибюле сильно под мухой. Он клевал носом и потому пропустил к лифтам дважды судимого за изнасилование Карла Сэндала, не спросив у него пропуск. Сэндал шатался по коридорам здания до позднего вечера, пока не застал юриста Эмили Скотт одну в ее кабинете. Там он жестоко избил женщину, изнасиловал и задушил ее. Ровно через год после этой трагедии муж Скотт возбудил дело против охранной фирмы Эббота от своего имени и имени их шестилетнего сына, обвиняя фирму в насильственной смерти миссис Скотт и требуя шесть миллионов долларов компенсации. Слоун склонял Эббота уладить дело миром, особенно после того как предварительное следствие обнаружило множество невыявленных нарушений со стороны других сотрудников фирмы, но Эббот наотрез отказался уступить, как он выразился, «этому пройдохе Брайену Скотту».
Краем глаза Слоун уловил еле заметный кивок, которым Стайнер ответил на взгляды присяжных. Профессиональная выучка не позволила ему улыбнуться, он лишь тихонько прикрыл свою папку и опустил ее в свой служебный портфель — помятый и поцарапанный за тридцать лет судейских баталий. Работу свою Стайнер выполнил, и оба они — и он, и Слоун — это знали. Охранная фирма Эббота потерпела поражение и при допросе свидетелей, и в юридическом обосновании, а всего лишь потому, что президент фирмы оказался форменным надутым ослом, не послушавшимся советов Слоуна, включая и тот, что не стоит являться в сшитом на заказ двухтысячедолларовом костюме в душный зал суда перед лицом присяжных, большинство которых простые работяги, — единственный смысл, который они могут усмотреть в подобном жесте, это желание пустить на ветер дедово состояние, едва для этого представится повод.
Сидевшая на своем насесте под огромной золотой печатью штата Калифорния верховный судья Сандра Браун отложила в сторону стопку бумаг и, достав из рукава черной мантии носовой платок, вытерла им лоб. Хитроумная система кондиционирования, встроенная в это современное здание, дала сбой под натиском жары, вдруг охватившей город и заставлявшей сейчас служащих то и дело вытаскивать ярко-оранжевые удлинители и портативные вентиляторы за собой в коридоры и гужеваться там. После заключительной речи Стайнера судья Браун в качестве акта милосердия объявила десятиминутный перерыв. Слоун воспринял это как временное освобождение. Но освобождению вот-вот наступал конец.
— Мистер Слоун, теперь ваше заключительное слово.
Поблагодарив судью Браун, Слоун окинул беглым взглядом чернильные каракули в своем блокноте.
Но все это было лишь игрой.
Никакой заключительной речи перед ним сейчас не лежало. После выступления Стайнера он вслед за ним сунул свои записи в портфель. Он не имел ничего, что можно было бы противопоставить Стайнеру — его страстному мелодраматизму, набросанной им ужасной картине последних мгновений жизни Эмили Скотт и вопиющей небрежности дежурного. «Расчихвостить этого подонка» Слоуну было нечем.
В голове была пустота. Наполненный зрителями амфитеатр за ним шуршал, обмахиваясь веерами и бумажками, как конгрегация баптистов где-нибудь на Юге, — белые листики так и мелькали. Назойливый гул ручных вентиляторов напоминал неумолчное жужжание невидимых насекомых.
Толкнув назад кресло, Слоун рывком встал.
В глазах вспыхнул и померк яркий свет — ударом молнии свет прошиб его болью, начиная от затылка, резанул глаза. Он ухватился за край стола, и перед глазами вновь возникла, наплывая и тут же отступая в туман, теперь уже такая знакомая картина: женщина лежит на земляном полу, вокруг истерзанного тела кровавая лужа, растекающаяся ярко-красными ручейками. Удержавшись от брезгливой гримасы, Слоун постарался прогнать картину обратно во тьму и пошире открыть глаза.
Судья Браун слегка раскачивалась в своем кресле, и слышалось ритмичное, похожее на тиканье часов поскрипыванье. Стайнер тоже сохранял полнейшую невозмутимость. В первом ряду амфитеатра между двух остальных своих дочерей сидела Патриция Хансен, мать Эмили Скотт. Руки трех женщин были перевиты и крепко сцеплены — так держатся за руки демонстранты в пикете. На секунду Патриция отвела стальной взгляд своих серо-голубых глаз от Слоуна, скрестив его со взглядами присяжных.
Усилием воли Слоун распрямился, вытянувшись в свой полный, шесть футов и два дюйма, рост. За время процесса, начиная с первой своей речи в этом зале, он из своих ста восьмидесяти пяти фунтов сбросил целых десять, но на глаз такая его внешняя и внутренняя деградация — неизбежное следствие питания в фастфудах, постоянного недосыпания и непреходящего стресса — не была заметна. Колебания в весе он учитывал, и в шкафу у него хранились костюмы разных размеров. Присяжные ничего не заметят. Он застегнул пиджак и сделал несколько шагов по направлению к присяжным, но те не дрогнули, оставив его молчаливо стоять у барьера, — нежданный родственник, встреченный нелюбезно в надежде, что, поняв это, он вскоре уйдет.
Слоун ждал. Вокруг него гудел и поскрипывал зал, воздух густел от человеческих испарений.
Присяжный номер четыре — бухгалтер из Ноуи-Вэлли, все время усердно строчил что-то в своей тетрадке, но сейчас поднял глаза первым. Затем это сделал номер пятый — русоголовый сезонный рабочий. Девятый номер — афроамериканец, тоже рабочий, строитель. Он тоже поднял глаза, хотя его руки остались демонстративно и вызывающе скрещенными на груди. За девятым последовал номер десятый. Третий, седьмой... Глаза распахивались, как щелкающие фишки домино, — любопытство присяжных отрывало их подбородки от груди, заставляя приподнимать голову, пока это не сделала последняя, двенадцатая присяжная. Слоун развел руки в стороны ладонями вверх, подобно священнику, движением этим приветствующему паству. Поначалу выглядевший диковато, жест этот был оправдан: он словно показывал, что руки Слоуна пусты, что он не запасся ничем себе в помощь, никакой бутафорией.
Он открыл рот в полной уверенности, что слова явятся сами собой, как с ним происходило всегда, явятся и потекут одно за другим, нанизываясь на невидимую нить, как бусинки в бусах, — одно за другим, беспрепятственно и без видимых узелков.
— Вот, — сказал он, — кошмарная картина, преследующая каждого из нас. — Руки его скрестились на диафрагме. — Вы дома моете посуду в кухне или купаете ребенка в ванной, или нее смотрите по телевизору какой-нибудь матч — словом, заняты самым обычным повседневным делом. — Он сделал несколько шагов влево. Головы присяжных повернулись вслед за ним. — В дверь стучат. — Он сделал паузу. — Вы вытираете руки кухонным полотенцем, говорите сыну, чтобы не включал кран горячей воды, и подходите к двери, косясь на экран телевизора. — Теперь он прошелся вправо и, остановясь, встретился взглядом с присяжным № 7, школьной учительницей из округа Сансет, настроенной, как было ему известно, самым решительным образом против его клиента. — И вы открываете дверь... — Женщина судорожно глотнула. — На пороге двое мужчин в неприметных серых костюмах, за ними вы различаете полицейского в форме. Они спрашивают вас, называя ваше имя и фамилию полностью. Вы слишком часто видели подобное по телевизору, чтобы не понять, зачем они явились.
Женщина еле заметно кивнула. Он двинулся вдоль ряда. Кончик пера бухгалтера замер на странице блокнота. Строительный рабочий расцепил скрещенные руки.
— Вы тут же предполагаете несчастный случай. Вы мысленно молите их сказать, что с женой все в порядке, но выражение их лиц и само их появление на вашем крыльце говорят, что нет, не все в порядке.
Белые бумажные листки теперь лежат неподвижно. Стайнер снимает ногу с колена и подается корпусом вперед с озадаченным и недоуменным выражением лица. Патриция Хансен перестает стискивать руки дочерей и хватается за барьер с видом человека, вознамерившегося в последнюю секунду воспрепятствовать венчанию жениха и невесты, сообщив о непреодолимых к тому препятствиях.
— Тон их суров и будничен. Они говорят без обиняков: «Вашу жену убили». Ваш шок выражается в смятении и нежелании поверить. На секунду вы укрываетесь за абсурдной мыслью, что это ошибка, что они ошиблись адресом. «Это какая-то ошибка», — говорите вы. Но они опускают глаза: «Простите, но ошибки тут нет».
— Вы выходите на крыльцо: «Нет. Только не с моей женой. Взгляните на мой дом. На мою машину на подъездной аллее». Широким взмахом руки вы обводите соседние дома: «Взгляните на моих соседей. На тех, кто тут живет. Здесь не бывает убийств. Потому мы и поселились тут. Это безопасный район. Дети катаются здесь на велосипедах по улице. И спим мы с открытыми окнами. Нет! — Голос ваш звучит умоляюще. — Произошла ошибка!»
Он делает паузу, чувствуя, видя по блеску глаз, что они жаждут продолжения, жаждут успокоительного рокота его речи, хотят впитывать, всасывать в себя его слова, как наркотик из шприца.
— Нет, ошибки не произошло. Несчастный случай. А вернее — продуманный. Заранее просчитанный шаг больного и ущербного в социальном плане человека, психопата, нацеленного в этот вечер на убийство. А раз так — никто и ничто не могли сбить и отвратить его от намеченного.
Он широко раскидывает руки, словно укрывая присяжных этим жестом от боли, признавая всю трудность предстоящей им задачи.
— Хотел бы я, чтобы вам надлежало ответить лишь на простой вопрос: действительно ли Эмили Скотт явилась жертвой ужасного и бессмысленного убийства? — Это была тонкая ссылка на заключительную речь Стайнера. — С этим, я уверен, согласен каждый из здесь присутствующих.
Присяжные утвердительно наклоняют головы.
— Хотел бы я, чтобы обращенный к вам вопрос был сформулирован так: «Пострадали ли супруг и малолетний сын убитой от гнусного поступка Карла Сэндала и продолжатся ли их страдания в дальнейшем?»
Он переводит взгляд с одного лица на другое.
— Да, и страдания их нам даже трудно вообразить. — Слова его сливаются с завораживающим жужжанием ручных вентиляторов. — Но не на эти вопросы призваны вы ответить, в чем вы поклялись. И каждый из вас в глубине души это знает. Что и делает таким трудным ваше положение. Трудным и болезненным. Поставленный перед вами вопрос не решается с помощью эмоций. Чтобы ответить на него, требуется разум, хотя в самом произошедшем нет ничего разумного — оно бессмысленно. В самом деле, преступление Карла Сэндала разумом непостижимо, разумному объяснению не подлежит. И таким оно и останется.
По щекам русоголового сезонника заструились непрошеные слезы.
Слоун поглядел на одного из присяжных — автомеханика из округа Ричмонд, и в ту же секунду что-то подсказало ему, что именно этого человека выберут старшиной.
— Всеми силами души я желал бы уметь предотвращать бессмысленные жестокие преступления недочеловеков, нацеленных на насилие. Всеми силами души я желал бы сделать так, чтобы никто больше не открывал дверей навстречу известию, подобному тому, что получил Брайен Скотт. Всеми силами души я желал бы помешать Карлу Сэндалу сделать то, что он сделал. — Он чувствовал, что установился контакт, чувствовал, что враждебность, с которой поначалу встретила его слова часть присяжных, теперь улетучилась, что теперь они на его стороне. — И, однако, тут мы бессильны. Что мы можем противопоставить этому? Разве только жить в постоянном страхе, забаррикадировав окна и двери, забиться в клетки, подобно зверям, что же еще, что — я вас спрашиваю!?
Теперь он потупился, отведя от них взгляд; он отпустил их. Они открыли ему двери, они дружелюбно приветствовали его на пороге. И в ту же минуту Слоун понял, что больше от него ничего не потребуется. Охранное предприятие Эббота дела не проиграло.
А он всеми силами души желал помешать и этому тоже.
2
Блумбери, Западная Виргиния
Припарковавшись под осинами, офицер полиции Чарльзтауна, Западная Виргиния, Берт Куперман мусолил кнопку рации, зажав ее между большим и указательным пальцами подобно рыбаку, ощупывающему леску. Но как ни старался, найти крючок он не мог, и добыча вот-вот готова была ускользнуть от него.
Это не было внутренним сообщением. Дежурил в тот вечер Кей, а ни один человек в здравом уме не спутал бы его приятный, врастяжку, западно-виргинский говорок с речью того, чьи обрывочные слова долетали до Купермана из передатчика. Это могла быть парковая полиция — дорога в предгорьях хребта Блуридж-Маунтинс проходила по краю Национального парка «Медвежий ручей», и район этот курировался парковой полицией, но частота иная: сообщение передавалось на волосок от частоты 37,280 мегагерц, почти на их собственной частоте, частоте чарльзтаунской полиции. И это его озадачивало.
Куперман наклонился к рации, продолжая теребить кнопку — чуточку вправо, затем влево, опять вправо.
Ну давай! Выкладывай! Хоть что-нибудь! Господи, да он всему будет рад. Десять часов из двенадцатичасовой ночной смены в пятницу уже прошли, и он приканчивал шестую чашку черного кофе, а веки все равно смыкались, как сдвигающиеся двери гаража. Чертово полнолуние, кажется, обмануло, вселив иллюзорную надежду. Может быть, все это ерунда и суеверие, но факт тот, что в полнолуние маньяки активизируются и выползают. Когда они выползают, двенадцать часов дежурства пролетают с быстротой двенадцати минут.
А вот сегодня — нет.
Сегодняшняя ночь длится и длится, словно прошло уже двенадцать дней. Ну, по крайней мере, ему предстоят выходные, когда он с женой и новорожденным сынишкой отправится к ее родным в Южную Каролину и он сможет отоспаться и всласть поохотиться. Мысль об этом, да вот этот голос по рации, дразнящие и будоражащие обрывки слов, — единственное, что способно еще заставить его бодрствовать и не клевать носом. Голос этот явился ниоткуда, когда Куперман, припарковавшись у обочины, принялся за сандвич с салатом и яйцом, который тухнет теперь в машине.
«Пожарная про... восемь миль с... возле... ки».
Вот опять — слабые, прерывающиеся, но такие волнующие. Черт побери, если он упустит такой случай!
«...под кустом... у ре... вы... пояса». Видимо, человек. Похоже, обнаруженный в кустах. Куперман с усилием вслушивался, «...несомненно, мертв».
«Черт побери! — Куперман откинулся назад и хлопнул по рулю. — Наверняка егерь какой-нибудь». С ними вечно что-то случается. Но ему, кажется, подфартило. Он включил двигатель «шевроле» и, развернувшись, выехал с ответвления на основную дорогу.
Опять затрещала рация.
«...мертв».
Куперман нажал на тормоз. Кофе из маленького термоса-кружки выплеснулся через край и обжег ногу. Приподнявшись, он подстелил под себя газету, подложил салфетки и тут же вновь ухватился за кнопку — влево, вправо.
Безрезультатно.
«Нет... нет... не надо! Возвращайся!»
Он выплеснул в окошко остатки кофе и откинулся в кресле. Луна дразнила, поглядывая на него с высоты. Мысль ударила, как отцовская рука, хлопавшая его по затылку за какую-нибудь очередную глупую промашку.
А что, если парень тот не мертв, а, Куп? Что, если он еще жив?
В крови забурлили беспокойство и кофеин. Он выпрямился. «Черт!»
Что, если он вот сейчас при смерти?
Он опять включил мотор, но другая мысль заставила его вновь нажать на тормоз.
«Да разве его, черт побери, отыщешь?» Найти умирающего от раны все равно что искать иголку в стоге сена.
Нехорошо получается.
«Знаю, черт возьми. Знаю».
Что сказал этот тип? Соображай! Напряги свою сонную башку и припомни, что ты услышал, коп!
«Я думаю. Соображаю». Но это было не так. Соображать он не мог. Мысли вертелись вокруг неизбежного столкновения с Джеем Рэйберном Франклином, начальником полиции Чарльзтауна. По ночам он вечно на страже, бродит в ночи, неприкаянный, что твой вампир.
Пожарная просека.
Куперман встрепенулся: пожарная просека. Он ясно помнит, что сказали «пожарная просека».
Да их здесь как собак нерезаных, идиот...
Он потер затылок: «Что еще было сказано? Что еще?»
Восемь миль.
«Верно! Он так и сказал: «Восемь миль».
Рация вновь ожила.
При впадении реки...
При впадении реки.
Шенандоа и Потомак.
Куперман ухватился за кнопку. Уловил.
Нет. Не Шенандоа и Потомак. Это слишком далеко.
«Должно быть ближе. А что ближе?»
Эвитс-ран.
Мысль эта вспыхнула в мозгу, взорвавшись, как переполненный воздухом воздушный шар.
«Пожарная просека. Господи, да он же на дороге, проложенной по гари! Наверняка там! Вот она, отгадка!»
Он вышвырнул остатки сандвича в окно, включил фары, осветив стволы и ветви деревьев белыми и голубыми сполохами. Вывернув машину с усыпанной гравием обочины, он выехал на полотно дороги и нажал на акселератор.
Четыре минуты спустя Куперман, маневрируя на взгорках и придерживая одной рукой руль, повесил на рычаг микрофон. Он сообщил о том, куда направляется: к северу по автостраде № 27. По правилам, ему следовало запросить подкрепление, но он знал, что диспетчеру потребуется время, чтобы связаться с парковой полицией, а чтобы полицейские прибыли на место происшествия, времени потребуется еще больше.
Нет, это его дело — возможно, первый его труп. Путаница сомнений, слезящиеся от усталости глаза — все было вмиг забыто, он полон энергии, как засидевшийся на скамейке запасной, вдруг включенный в игру. Черт побери, как хорошо вдруг ринуться в атаку! Он бросил взгляд на небо и застонал:
— Вот оно, полнолуние, мальчик мой!
Он поддал газу и, не снижая скорости, завернул. Пропустить дорогу, проложенную по гари, он не боялся — он мог бы ее отыскать и с закрытыми глазами. Эвитс-ран петляла здесь перпендикулярно дороге, а потом сливалась с Шенандоа. В феврале и октябре, когда шел лов форели и окуня, эта дорога становилась очень оживленной. Но в другие месяцы она была по большей части безлюдна — лишь изредка на нее ступал какой-нибудь охотник, пробиравшийся к Блуридж-Маунтинс. Что ни год или два, кто-нибудь из них отстреливал палец или запузыривал своему дружку в зад картечью. Возможно, и сейчас произошло нечто подобное, хотя говоривший, видно, был встревожен не на шутку. Куперман решил, что набирал он девять-один-один, почему его рация и уловила сообщение. Рассказывал же Моль историю, немало повеселившую их отделение, как его рация вдруг начала транслировать секс по телефону — баба и мужик несли невесть что. Может, Моль, конечно, все и выдумал, ведь он известный шутник — прочел небось заметку в «Пост» о сбоях в беспроводниковых передатчиках, как те вдруг вклиниваются в телефонные разговоры, вроде радиосигналов, которые улавливаются антеннами.
Куперман осклабился: «Может, моя история вовсе не про траханье будет, Моль, но подожди, еще посмотрим, что я расскажу».
А возможно, он совершит геройский поступок, спасет чью-нибудь жизнь. Джей Рэйберн Франклин тогда скажет: «Чертовски ловкая работа полицейского». Он ценит такую ретивость у молодых сотрудников. Может так случиться, что о Купермане напишут в «Спирит оф Джефферсон», местном еженедельнике. А может, он даже удостоится упоминания в «Пост» ради такого случая.
Машина затормозила, скрежеща задними покрышками по гравию обочины, чуть не врезавшись в парапет. Куперман прибавил скорость, затем притормозил и крутанул руль на следующий поворот. «Все как по маслу, Куп». Подпрыгнув на новом взгорке, он приметил знакомый треугольник дорожного знака, в свете фар отливавший желтым, резко крутанул руль вправо, выправил задние колеса и нажал на акселератор. Машина подпрыгнула и шлепнулась на немощеное полотно дороги, подняв фонтан грязи вперемешку с гравием. Шины взметнулись в воздух, на секунду зависнув над взгорком, и тут же стукнулись о землю, а фары осветили силуэты кленов и ясеней. Куперман вывернул руль вправо и остановил машину, поймав фарами фигуру мужчины — рыжий, бородатый, — тот стоял возле побитого белого пикапа.
Словно какой-нибудь лось или олень, пойманный лучами фар.
«Так-то, Рыжий, скачка окончена».
Куперман припарковался и, выглянув из-за руля, двумя привычными движениями снял свой фонарик и ощупал дубинку на поясе. Адреналин толкал его вперед, хотя где-то в глубине сознания звучали предостережения инструкторов Академии, их призывы не спешить и сначала обдумать ситуацию. Но ноги не слушались.
И едва приблизившись, он спросил:
— Это вы звонили?
Мужчина поднял руку, загораживаясь от света. Куперман направил луч фонарика пониже.
— Это вы звонили насчет тела?
Рыжий повернулся к пикапу. Куперман провел фонариком по направлению его взгляда — луч осветил затылок мужчины, а за ним — пирамиду с двумя мощными ружьями. Шерсть на загривке Купермана колыхнулась, и он было потянулся к своему смит-вессону, однако побуждение вытащить его он в себе подавил.
Обдумай все. Включи мозги. Как и всегда.
Рыжий был в джинсах, тяжелых ботинках и рубашке из грубой хлопчатобумажной ткани — одежда, обычная для охотника. Спокойствие. Что за охота без ружей? Их двое. Два ружья. Спокойствие. На табличке с лицензией закатные холмы Западной Виргинии, а над ними — такая знакомая надпись: «Девственная красота». Только спокойствие. Два хороших парня отправились в горы поохотиться, только и всего. Дверца напротив водительской распахнулась, и из пикапа выпрыгнул темноволосый мужчина с густой бородой. Куперман направил на него луч фонарика.
— Я Берт Куперман, офицер чарльзтаунской полиции. Это вы позвонили девять-один-один насчет мертвого тела?
Мужчина кивнул и приблизился. В руке у него был мобильник. Ну, все в точности как говорил Моль.
— Да, офицер. Это я звонил. Черт возьми, вы нас прямо напугали, так быстро приехали. Вот уж неожиданность! — Мужчина говорил с заметным западновиргинским акцентом и словно бы запыхавшись.
— Моя рация уловила ваш звонок. Я тут патрулировал неподалеку.
Мужчина махнул рукой в сторону ракитника, заросли которого почти скрывали черный «лексус».
— Показалось странным, как он стоит, — пояснил он, сделав шаг к машине. — Мы решили, может, авария или что. А там внутри никого. Один только пиджак. Тоже чудно как-то. Ну, мы и порыскали немного просто из любопытства, знаете ли. — Говоря, мужчина указывал куда-то вниз и, петляя, шел в том направлении. — И тело оказалось вон там, под обрывом. Звука мы не слышали, но похоже, он только что это сделал.
Куперман едва поспевал за ним.
— Только что это сделал?
Мужчина остановился на краю крутого склона. Внизу катила свои воды Шенандоа — темная, как гудроновая полоса ночью.
— Стрельнул себе в голову. Так, по крайней мере, выглядит.
— Он мертв? — спросил Куперман.
— Тело еще теплое. Мы ведь не доктора, чтобы... но, видать...
Куперман заглянул за край обрыва.
— А жив он быть не может?
Мужчина указал на тело.
— Видите вон там, слева от куста, метрах в двадцати отсюда? Видите?
Куперман направил луч фонарика и осветил какой-то куст, конский каштан, а затем, поведя луч в обратном направлении, выхватил из тьмы нечто гротескно-неуместное — брючину, выглядывающую из-за кустов. Тело. Явный труп. Он, конечно, ожидал это увидеть, но все-таки... Первый его труп...
И опять в голове замелькало, мысли понеслись, словно предметы в детской видеоигре. Куперман начал было спускаться и остановился.
Охолонись. Сообщи. Возможно, он еще жив. Ведь тело-то теплое.
Он снова начал спуск и снова остановился.
Даже если он жив, один ты ему не поможешь. Вызови «скорую».
Поднявшись к краю обрыва, он направился к машине, потом обернулся, чтобы сказать этим двоим, что он собирается делать.
— Я хочу...
Он уронил фонарик, и тот, покатившись, остановился возле носка черного охотничьего ботинка. Опытные люди говорят, что оно кажется огромным, как водосточная труба. Глаза бы не глядели.
— Подкрепление будет здесь через минуту, — сказал Куперман.
Темноволосый улыбнулся.
— Спасибо за столь ценное сообщение, офицер. — Теперь у него никакого выговора не было. Как не было в руках и телефона. Вместо него мужчина держал крупнокалиберный пистолет.
Куперман стоял, не сводя глаз с дула.
3
Джосмитский Национальный парк, Калифорния
Крик раздался эхом, отлетевшим от гранитных скал, подобно стону привидения. Слоун сел, с трудом приподнявшись в тесном, как кокон, спальном мешке. Выпростав руку из-под стеганой ткани, он пошарил по земле, ища прорезиненную рукоять, и вынул из чехла зазубренное лезвие в тот же миг, как выпутался из спального мешка и с выпученными глазами поднялся на четвереньки. В ушах стучало. Было трудно дышать.
Эхо замерло над Сьеррами, оставив после себя лишь обычные для спящей горной местности звуки — стрекотание кузнечиков, разноголосый хор насекомых и приглушенный шум далекого водопада. Его пробрало холодом, после чего по спине поползли мурашки, а онемевшие члены пробудились к жизни.
Он был один. Разнесшийся эхом крик издал он сам.
Слоун бросил нож и взъерошил волосы. По мере того как глаза привыкали к окружающей тьме, грозные тени становились деревьями и скалами, возле которых он и разбил свой лагерь.
Сразу же после вынесения приговора он твердо решил уехать — подальше от суда, чтобы забыться, чтобы горы, как всегда, принесли ему успокоение. Оставив Пола Эббота в зале суда, а свой компьютер и служебный портфель на кухонном столе в квартире, он промчался по Сан-Хоакин-вэлли с опущенными стеклами под звуки «Рожденного скрываться» Спрингстина, несшиеся из репродуктора; стоградусная жара смердела луком и коровьими лепешками окрестных пастбищ. С каждой новой милей, ложившейся между ним и Эмили Скотт, в нем росла бодрая уверенность, что он движется вперед, оставляя кошмар позади.
Но он ошибался. Кошмар не отступал, а следовал за ним по пятам.
Мог бы и догадаться. Бодрый оптимизм его не был основан ни на фактах, ни на разумных логических доводах, и порождало его лишь отчаяние. Обуреваемый желанием забыться, он не захотел считаться с явным нарушением логики, а вместо разума опираться на вымышленные факты — для опытного судейского ошибка весьма опасная. И вот теперь огонек бодрого оптимизма в нем мерк, оставляя после себя тлеющие угольки, а пламя гасло, подернувшись пеплом едкого разочарования.
Боль въедалась внезапной лихорадкой, паутиной расползалась по голове. Кошмар всегда оставлял после себя головную боль — так за молнией всегда следует гром. Вооружившись фонарем, Слоун, спотыкаясь, брел по ковру из сосновых игл и гальки, в котором тонули его башмаки. Свой рюкзак он подвесил на ветку, чтобы не разворошили звери. Боль, острая как кинжал, тянула свои щупальца, черно-белые вспышки мелькали, как огни дискотеки, застили зрение. Наклонившись, он взял палку, чтобы поправить рюкзак, подняв его повыше, и живот скрутило так, что он упал на одно колено и в несколько судорожных позывов вытошнил весь свой завтрак из хлопьев. Головная боль может теперь усилиться, и что-нибудь разглядеть будет невозможно. Эта мысль заставила его подняться на ноги. Из наружного кармашка рюкзака он вытащил пластмассовую фляжку и, проглотив две голубые таблетки, запил их водой. Флоринал утихомирит боль, но не избавит ни от разочарования, ни от досады.
— Довольно, — сказал он себе, глядя вверх на полную луну и звездное небо. — Довольно, черт побери!
Стоя на четвереньках в отсвете разожженного заново костра, Слоун ворошил палкой горевшие сучья, подбавляя хворост. Хвоя горела и потрескивала, вспыхивая желтыми искрами. Свой бивак он разорил, и сейчас в нем боролись неодолимое желание сняться с места и голос разума, советовавший дождаться утра. Но голос разума был слаб. Хотя он так и не рискнул слишком удаляться от путаницы земельных участков, окружавших жилые строения Сан-Гэбриел-вэлли в Южной Калифорнии, он решил, что Сьерра-Невада вряд ли спасет его от работы и связанных с нею проблем, не дававших ему сейчас покоя.
Нет, больше не спасет.
То, что тревожило и не давало уснуть, не запрячешь в глубь сознания, как старую мебель в заброшенный сарай. Оно существовало независимо от процесса Эмили Скотт — живое, изменчивое и непредсказуемое. Он вглядывался в окружающий мрак и чувствовал это, чувствовал некое присутствие. Что бы это ни было, оно не исчезало, и спрятаться от него было невозможно. Оно пришло по его душу, оно преследовало его, безжалостное, неумолимое.
Он встал и, забросав костер глиной, загасил его.
Пора было двигаться в путь.
4
Национальный парк «Медвежий ручей», Западная Виргиния
Детектив Том Молья раздвинул кустарник и постарался подавить тошноту, от которой любой нормальный человек, имеющий нормальную специальность, тут же извергнул бы на землю кусок итальянской колбасы, наспех шлепнутый между двумя ломтями хлеба и проглоченный в качестве завтрака, прежде чем ринуться к машине. Убитый лежал на боку, по-видимому и упав на бок, — хорошо сложенный мужчина в белой рубашке и с галстуком, запятнанным темно-красной кровью с вкраплениями серых кусочков мозга. Неподалеку от скрюченных пальцев правой руки, частично скрытой густой травой и ветвями ракитника, выглядывал ребристый ствол кольта — «питон-357». Оружие нешуточное.
Молья сел на корточки, чтобы взглянуть повнимательнее. Пуля либо от 357-го магнума, либо специальная 38-го калибра прошила висок мужчины, как товарняк на полной скорости, снеся значительную часть макушки.
— Похоже, никогда я к этому не привыкну, — сказал он.
Тыльной стороной ладони он отогнал муху. С начинавшейся жарой отыскать труп им труда не составило. Молья вытянул из земли корешок порея и сунул в рот, выплевывая приставшие к языку частички глины. Едкий луковый вкус несколько умерил запах смерти, но запах этот все равно застревал в ноздрях, лип к одежде и долго еще преследовал его после того, как он оставил место происшествия.
— Кольт «питон». Похоже, триста пятьдесят седьмой. Серьезное оружие. Видать, он не шутки шутить собрался.
С тем же успехом он мог обращаться к трупу. Офицер парковой полиции Западной Виргинии Джон Торп стоял на склоне чуть выше детектива, помахивая фонариком и разводя в стороны высокую траву. Он был похож на фонарный столб.
Молья распрямился, встал и обозрел окрестность.
— Трава здорово мешает. С таким огромным выходным отверстием пуля может быть где угодно, и вряд ли найдем... Но все же...
Он осекся. Если Торп и владел искусством общения, он в очередной раз не воспользовался удобным случаем это доказать.
Молья промокнул платком лоб и оглянулся назад, на крутой обрыв. Хотя он и не видел этого, но знал, что наверху, возле черного «лексуса», сейчас уже собралась толпа следователей парковой полиции и агентов ФБР, и в шаге от них — пресса. Торп не прикрыл табличку с лицензией, и личность покойного мгновенно стала известна, о чем передали все средства информации. Когда Молья прибыл к просеке на гари, два шерифа в форме уже перегораживали дорогу натянутой лентой, чтобы оградить место преступления от журналистов.
Молья выпутался из спортивной куртки и накинул ее себе на плечо, продолжая отирать пот со лба. Может быть, роль тут сыграло карабканье взад-вперед по обрыву, но белое и уже раскаленное как факел солнце на утреннем, без единого облачка небе пекло немилосердно. Судя по прогнозу — девяносто градусов при девяностопроцентной влажности, — обливаться потом ему предстоит до конца дня.
— Вот говорят, не так страшна жара, как влажность, — сказал он. Родившись и проведя детство в Северной Калифорнии с ее сравнительно мягким климатом, он считал погоду Западной Виргинии одной из наиболее раздражающих ее особенностей, свыкнуться с которой никак не мог. — Но тому, кто так говорит, видать, не приходилось торчать на девяностоградусной жаре, когда потеешь так, что кожа слазит! Жара она и есть жара, а влажность тут ни при чем. Верно я говорю, Джон?
Торп высился на склоне и молчал, словно ошалел, чего-то нанюхавшись. Еще с десяточек таких безмолвных фигур — и было бы похоже на грядку с овощами.
Ослабив узел галстука, Молья расстегнул верхние пуговицы. Рубашка уже помялась. Мэгги всегда говорила, что каким бы отутюженным он ни выходил из дома, возвращается он весь изжеванный, как будто одетым в постели валялся. Таков удел толстяков. При росте в шесть футов Молья стройностью никогда не отличался, но в молодые годы он был все-таки поспортивнее и в фигуре его бросались в глаза разве что плечи, грудь и ноги. Но перевалив через сорокалетний рубеж, он начал набирать вес, толстея все больше в талии. Жирную складку у него на животе любила теребить Мэгги, называя это «эротическим массажем». Какая уж тут эротика. Похоже скорее на запасную шину, в которую качают воздух. Какую бы то ни было диету он отвергал — слишком любил поесть. Что толку зваться итальянцем, если не интересуешься едой? А если, едва продрав глаза, надо бежать трусцой, так уж лучше оставаться толстым! Утром, взвесившись голым, он получил результат 228 фунтов, и это в его сорок три года!
Сунув платок в задний карман форменных брюк, он обнаружил там солдатика армии конфедератов из геттисбергского музея — солдатика этого он купил для своего сына Тиджея.
— Придется им довольствоваться следами пороха, — сказал он, полагая, что пули для баллистической экспертизы ему не найти. — Ты точно наших никого не видал?
Торп передернул плечами.
— Сам погляди.
Молья поглядел. Согласно оперативной сводке, Берт Куперман позвонил чуть ли не в 3.30 ровно и сообщил, что выезжает по звонку насчет найденного трупа. После этого сообщений от Купермана не поступало. Диспетчер связался с парковой полицией, а Кей вытащил из постели Молью. Слова его, произнесенные врастяжку, с гнусавым южным выговором и услышанные в телефонной трубке, не доставили Молье особого удовольствия, хотя любой женатый человек в такой ситуации мог бы просто рвать и метать. Но Кей действовал так не из пристрастного отношения к Молье. Последний был детективом-оперативником. И все было как положено, если не считать того, что, прибыв на место, Молья нашел там не Купа, а Торпа, заявившего, что ответственный тут он, и расхаживавшего повсюду с хозяйским видом первого лица в государстве. Торп указал Молье на черный «лексус» с сине-белой ламинированной табличкой, делавшей неуместными какие бы то ни было возражения и недовольство и заставлявшей служащих федеральной полиции в их синих форменных куртках с ярко-желтыми буквами суетиться на обрыве, снуя вокруг, как потревоженные шмели над разворошенным гнездом. Покойник был Джо Браник, личный друг, доверенное лицо и помощник по особым поручениям президента США Роберта М. Пика.
Торп передернул плечами.
— Он влез не в свое дело. Парк, уважаемый детектив, — в ведении федеральной полиции.
Молья прикусил язык. Вся эта свара вокруг территориального разграничения полномочий между двумя подразделениями бесила его. Дж. Рэйберн Франклин, шеф чарльзтаунской полиции, не раз остерегал его от ссоры с соперниками; говорил, что все они делают одно общее дело, — словом, молол обычную в таких случаях чепуху. Но сдержанность никогда не была в числе добродетелей Мольи, и сейчас он ощутил в груди жжение, причина которого коренилась вовсе не в итальянской колбасе, а в опыте двадцатилетней службы. Непорядок.
— Разумеется, Джон, но ведь речь идет о возможном убийстве.
— Убийство? — Торп ухмыльнулся. — Мне кажется, убийством тут и не пахнет, детектив. Ни дать ни взять доброе старое самоубийство.
Ухмыляться ему не стоило. Наряду с обжорством Молья унаследовал и итальянский темперамент, который, как и ртуть в градуснике, начав закипать, уже с трудом опускался до начальной отметки. Ухмылку эту Молья воспринял как насмешку «старших» над неуклюжим деревенским простачком.
— Возможно, что и так, Джон, но Куперман же не мог этого знать заранее, не добравшись до места, правда?
— Ну, вообще-то...
— А если это убийство, то оно касается как парковой, так и местной полиции, и вы должны развязать руки местной.
— Развязать руки?
— Так как ответственный — Куперман.
Торп по-прежнему безмятежно помахивал фонариком, разводя туда-сюда стебельки высокой травы, но Молья видел, что лицо его посуровело. Торп спустился сюда по склону и стоял на солнцепеке не для дружеской болтовни. Он беспокоился, что теряет верную добычу, и охранял ее сейчас, как охотник, подстреливший зверя и не желающий выпускать его из рук.
— Не знаю, за что он там ответственный, но сейчас его на месте нет, мы же, в отличие от него, тут как тут, — сказал он, имея в виду парковую полицию. — А значит, по крайней мере остаток утра в полном твоем распоряжении. — И Торп погладил ладонью макушку. — Твое счастье. Не будешь тут жариться, как на сковородке.
— Боюсь, что ты ошибаешься, — сказал Молья, отводя протянутую ему оливковую ветвь. Он нацелился бросить бомбу, а когда это произойдет, то вряд ли кому-нибудь понравится, особенно тем жужжащим наверху шмелям. Что ж, не в первый раз, ему, Тому Молье, не привыкать, единственное, что его беспокоило, так это сосущий голод, который не утихомирит булочка, оставшаяся в бардачке.
— Я хочу сам заняться телом, Джон.
— Чего-чего ты хочешь?
— Заняться телом. Телом должен заняться ответственный.
— Ответственного ты видишь перед собой.
— Ни черта подобного. Обнаружил его Берт Куперман. То есть полиция Чарльзтауна. Тело будет доставлено к коронеру округа.
Лицо Торпа приняло скучающее выражение.
— Куперман отсутствует. И ответственный здесь я.
— Кто тебя сюда вызвал, Джон?
— То есть?
— Ты здесь по звонку паркового диспетчера, так?
— Ну да...
— А кто сообщил парковому диспетчеру?
Он дал вопросу повиснуть в воздухе.
— Ну... — промямлил наконец Торп, видя, что добыча все дальше уплывает от него в кусты.
— Так что тело отправляется к коронеру округа. Таков порядок.
— Порядок? — Торп ткнул пальцем вверх, туда, где начинался обрыв, и опять ухмыльнулся. — И ты собираешься объяснить это им?
— Нет. — И Молья покачал головой. — Вовсе не так. — Торп повернулся к нему. — Им объяснишь ты.
— Что?! — взвился Торп.
— Ты им это объяснишь.
— Черта лысого я им это объясню!
— Черта лысого ты им этого не объяснишь. Тебе перенаправила звонок диспетчерская. В диспетчерскую доложил офицер чарльзтаунской полиции. Тело отправляется к коронеру округа. Если федеральная полиция хочет официальным путем забрать его себе — пусть действует. Пока же мы следуем положенной процедуре. И вы обязаны обеспечить порядок. Это ваш участок. Вы здесь власть. — Молья улыбнулся.
— Ты это серьезно?
— Как приступ стенокардии.
У Торпа была привычка зажмуриваться — так жмурится ребенок, надеясь, открыв глаза, увидеть, что все плохое улетучилось. Торп зажмурился, и веки его затрепетали, как две большие бабочки.
— Брось, Джон. Не так уж это сложно. Не хочешь же ты попасть впросак в таком крупном деле! Чтобы пресса разнесла все это по косточкам, разделала тебя, как рождественскую индейку! И не сваливай на меня возню с федералами. Порядок нарушил ты, и они захотят знать почему. Они забросают тебя вопросами и загрузят бумажной волокитой по самые уши, так что до самого вторника тебе хватит.
Рот Торпа скривился, словно удерживая не один десяток слов, которые тот готовился сказать, хотя среди них и не было простого «ошибаешься». Так и не промолвив ни слова, он резко повернулся и начал карабкаться вверх по обрыву. Молья следовал за ним. Вернувшись в участок, он может застать в раздевалке Берта Купермана, как ни в чем не бывало поднимающего штангу — любимое его занятие после смены. Новоиспеченный офицер полиции может даже признаться, что испугался, когда понял, что дело это — вне его полномочий. Обычный страх новичка. Вполне возможно, что этим все и объясняется. И вскрытие, возможно, покажет, что Джо Браник, доверенное лицо и личный друг президента США, сам принял решение приставить к виску кольт и снести себе полчерепа. И в то же время Молья кожей чувствовал — обе возможности даже меньше, чем возможность, что его мать признает неправоту Папы Римского.
Вскарабкавшись на обрыв и отдуваясь, он взглянул на небо с желанием хорошенько выматерить палящее солнце и заметил там слабый, но все еще различимый в белесой утренней мгле лунный очерк. Полнолуние.
5
Пасифика, Калифорния
С Тихого океана шел сырой туман, клубы его катились вопреки летнему времени года и мокрым покрывалом висли над городом, застя свет фонарей и превращая его в тускло-оранжевые пятна — единственная краска в металлически-сером мире, мире однотонном, раскинувшемся до самого горизонта, не допускавшем ни малейшего намека на то или иное время суток. Если самой холодной зимой, какую довелось пережить Марку Твену, было лето в Сан-Франциско, то случилось это лишь потому, что писателю не хватило смелости проехать по побережью еще на тридцать миль южнее, до городка Пасифики. Летний туман там порой пробирает до костей.
Дворники постукивали на лобовом стекле. Клочья тумана, одни густые, другие пореже, наползали, окутывая двухэтажный многоквартирный дом, как в фильме ужасов. Как и многое другое в жизни Слоуна, дом был запущен и нуждался в ремонте. Беспощадная сырость и соленый морской воздух покрыли кровельную дранку беловатым налетом. Металлические рамы проржавели, и их надо было менять. Краска местами облупилась, навес для автомобилей заметно подгнил. Восемь лет назад Слоун, вняв совету агента по недвижимости, вложил накопленные средства в покупку восьмисекционного дома с прилегающим к нему пустым участком. Территория тогда осваивалась, и застройщики платили неплохие деньги, превращая дома на побережье в кондоминиумы, но потом произошел кризис, цены рухнули, и Слоун стал владельцем «белого слона». Когда дом освободился, Слоун сам вселился в него из соображений экономии и вовсе не надеясь получить от проживания в нем хоть какое-то удовольствие. Но за прошедшие годы он к дому привязался — так привязываются к старой паршивой собаке, от которой все равно не избавишься. Он спал с раздвинутой балконной дверью, в которую врывался шум прибоя, и мерный шум волн, бьющихся о берег, успокаивал, словно стук маятника на часах самой природы, напоминание о быстротекущем времени.
Слоун выключил зажигание и, откинувшись на спинку кресла, замер.
«У вас просто талант какой-то... ведь то, что вы сделали с присяжными...»
Слова Патриции Хансен, сказанные в зале суда, продолжали звучать в ушах. Годы практики научили его не спешить после оглашения приговора, он и не спешил, методично складывал свои блокноты и вещественные доказательства и всегда старался выйти из зала заседаний последним. Он не хотел рукопожатий и похлопываний по плечу. Ведь для семьи потерпевшего победа адвоката противоположной стороны была как бы вторичной потерей их любимого человека, что делало Слоуна, справедливо или нет, фигурой достаточно мрачной. Он предпочитал покинуть зал тихо-спокойно и в одиночестве. Но мать Эмили Скотт не дала ему такой возможности.
Когда он уже собрался уходить, Патриция Хансен все еще оставалась на своем месте в амфитеатре — она сидела, прижимая к груди свернутую газету. Но когда Слоун уже был в дверях, она встала и шагнула в проход.
— Миссис Хансен...
Она предостерегающе подняла руку.
— Не надо! Не смейте уверять меня в своем сочувствии! — Она произнесла это почти шепотом, и голос ее был скорее усталым, чем раздраженным. — Вам дела нет до моей утраты! Будь это не так, вы никогда не сделали бы того, что сделали! — Она замолчала, но, видно, еще не выговорилась. — Ведь поступок Карла Сэндала... Я даже могу... — Она сглотнула слезы, изо всех сил стараясь не показывать Слоуну глубины своей скорби. — Я даже могу это понять. Ущербный в социальном плане больной человек. Психопат. Ведь вы так его охарактеризовали. Но его преступление бледнеет в сравнении с тем, что сделали вы — сделали Эмили, сделали нашей семье, самому понятию правосудия! Вы всех обвели вокруг пальца, мистер Слоун, вот что вы сделали!
— Я только исполнял свой служебный долг, миссис Хансен.
Патриция Хансен ухватилась за эти слова, как актер за удачную реплику.
— Ваш служебный долг? — издевательски протянула она, с бесконечным презрением окинула взглядом зал, а потом опять вперилась в Слоуна своими холодными как сталь серо-голубыми глазами. — Вы просто себя уговариваете, мистер Слоун, и, может быть, от повторения этих слов вы в один прекрасный день и сами в них поверите, поверите, что все в порядке! — Она раскрыла газету, сличая стоявшего перед ней мужчину с газетным снимком. — У вас просто талант какой-то... ведь то, что вы сделали с присяжными... Не знаю, как вам это удалось, как вы смогли их убедить. Они ведь отказывались вам верить! Я видела это, когда они вернулись в зал. Но вы заставили их принять другое решение! — По ее щеке скатилась слеза, но она не вытерла ее. — Что ж, только помните, мистер Слоун, что моя Эмили мертва и что мой внук навсегда лишился матери. Этого вам никакими вашими словами не переиначить.
И она шлепнула ему на грудь газету. Обе руки Слоуна были заняты, и он мог только беспомощно наблюдать, как газета упала и с плиточного пола на него воззрилось его собственное изображение.
Череда адвокатских побед в процессах, где речь шла о насильственной смерти, обострила у Слоуна не просто интуицию, он не подозревал, он точно знал, пускай не разумом, но знал настроение присяжных — интуиция превращалась в безошибочный прогноз. И точно так же он все знал в тот день перед своей заключительной речью. Он был уверен, что жюри присяжных возложит вину на охранную фирму Эббота. Он знал, что они считают охранника шляпой. Что они ненавидят его клиента. Он знал, как знают все искушенные в судебных заседаниях юристы, что на заключительном слове процесса не вытянешь — оно лишь театральный трюк, необходимый для пущего драматизма. Он знал, что заставить присяжных переменить решение ему нечем.
И все же он это сделал.
Менее чем за два часа приговор охранной фирме Эббота был пересмотрен. Он убедил их всех и каждого в отдельности в том, во что сам не верил. И самым интригующим обстоятельством было то, что, встав для заключительного слова и понятия не имея, чем собирается переубеждать их, он, однако, произнес именно те слова, которые требовались, чтобы рассеять сомнения и тревоги присяжных. И при этом слова не принадлежали ему. Их произносил его голос, но было похоже, что говорит через него кто-то другой.
Не желая додумывать до конца эту мысль, он распахнул дверцу автомобиля навстречу порывистому ветру, доносившему дальний воющий шум и соленый запах океана. Едва ступив из джипа на землю, он почувствовал сильную боль в правой лодыжке. Он подвернул ногу в темноте на спуске, и на обратном пути она распухла и онемела. Он достал рюкзак и, вскинув его на плечо, захромал по направлению к дому. Знакомый свет в знакомом крайнем справа окне нижнего этажа светился, подобно приветливому свету берегового маяка. Но макушки Мельды в окне ему видно не было. Мельда ежедневно вставала в 4.30 — привычка, родившаяся еще на полях Украины, на которых она трудилась в отрочестве. Встревожится, должно быть, услышав шум в верхней квартире. Слоуну предстояло вернуться еще только через два дня. Сейчас он поднимется к себе, сбросит рюкзак и заглянет к Мельде на чашку чая. Чаепитие с Мельдой успокаивало, как теплая ванна, и можно было прибегнуть к этому способу.
Порывшись в связке, увесистость которой посрамила бы и школьного сторожа, он выбрал ключ от почтового ящика и всунул его туда, где должен был находиться замок, но вместо этого обнаружил небольшую дырку. Он ткнул ключом в дырку, дверца открылась, и внутри он нашарил замок. Почтовые ящики остальных квартир были заперты, и замки у них в порядке. Слоун достал замок и осмотрел его. Наверное, слабо держался и выпал, когда Мельда вынимала его почту. Еще один предстоящий расход.
Он сунул замок в карман, поправил рюкзак на плече и поднялся еще на два пролета по бетонной лестнице, держась за перила. Добравшись, прихрамывая, до площадки, он заметил на асфальте полоску света. Дверь в его квартиру была приоткрыта. У Мельды был второй ключ и, несмотря на столь ранний час, она могла находиться в квартире, но дверь она бы непременно закрыла, чтобы не устраивать сквозняк. Не исключено также, что она ушла, неплотно закрыв дверь, и та открылась от порыва ветра с океана. Такое возможно, хотя тоже маловероятно. Мельда очень осмотрительна. Она бы непременно подергала ручку.
Сбросив с плеча рюкзак, Слоун потянулся к двери, чтобы открыть ее, и отдернул руку, услышав, как внутри что-то с грохотом разбилось. Подавив в себе желание немедленно броситься в квартиру, он мгновение выждал и потом тихонько толкнул дверь. Дверные петли заскрипели, как колени у подагрика. Переступив порог, он наклонился, вглядываясь.
Казалось, что по гостиной прошелся ураган. Большой, во всю комнату ковер был усеян его следами — книжками в бумажных обложках, дисками, бумагами, разбросанной одеждой, перевернутой мебелью. Диванные подушки располосованы, и из дырок вылезла набивка — клочья ее валялись повсюду, словно рассыпанные ватные шарики. Стереосистема, телевизор разбиты и выпотрошены на ковер.
Из кухни донесся звон стекла.
Перешагнув через перевернутый столик в холле, Слоун прижался спиной к стене и бесшумно двинулся в кухню. Там, где стена кончалась, он помедлил и, собравшись с духом, скользнул внутрь. У самых его ног что-то зазвенело. Через кухонный стол прыгнула тень и скрылась во мраке гостиной.
Бад, его кот.
Слоун взглянул на разбившееся возле его ног стекло, еще секунду назад составлявшее часть полочки для кухонной утвари и продуктов. Бад, должно быть, прыгнул на полку, чтобы слизнуть разлитый сироп. Вот стекло и разбилось. Но это никак не объясняет прочие разрушения. Мысль эта мелькнула в голове одновременно с донесшимся звуком.
Тихие шаги за спиной. И не успел он обернуться, как почувствовал тяжелый удар по затылку.
6
Западное крыло, Вашингтон, округ Колумбия
Паркер Медсен разглядывал глянец на черном, с фигурным носком ботинке. Четыре пары ботинок выстроились в ряд на своих коробках, как солдаты на смотре. Медсен выбрал пятую пару, — каждый день он надевал новую пару — крепкие ботинки, преимуществом которых была прежде всего прочность. Военный врач говорил Медсену, что он подволакивает ногу. Он вспомнил это, разглядывая вмятину на резиновой подметке — видимо, день оказался для него особенно нелегким. До сих пор, правда, он особой связи тут не усматривал.
В каждый второй и четвертый четверг месяца служитель относил его ботинки на Нью-Йорк-авеню к чистильщику-вьетнамцу, уже уяснившему для себя смысл выражения «до зеркального блеска». Ботинки возвращались к Медсену в пятницу утром вместе со снежно-белыми рубашками и темно-синими пиджаками на трех пуговицах. Вашингтонские журналисты любили повторять, что заслуженный генерал в отставке предпочел мирному цвету оливковой ветви темно-синий военно-морской, — шпилька, которую Медсен воспринимал как комплимент. К внешнему виду своему, как и к одежде, он не испытывал интереса и не уделял им времени. Формы тем и хороши, что экономят время, столь необходимое для вещей более существенных. Военные хорошо это понимали. Как и Эйнштейн.
Медсен поставил ботинок на крышку коробки рядом с парным и достал из кобуры, спрятанной под пиджаком, свой пистолет сорок пятого калибра. Положив его на верхнюю полку нижнего шкафчика, он прикрыл дверцу. Обойдя свернувшегося возле своей погремушки Эксетера, рыжего добермана, он прошел к столу, где его пристального внимания ждали аккуратно разложенные газеты. Газеты секретарь разложил в той последовательности, которой Медсен всегда придерживался при чтении: первой, разумеется, шла «Вашингтон пост», за нею — «Вашингтон таймс», далее — «Уолл-стрит джорнэл», «Нью-Йорк таймс» (которую он считал либеральной дребеденью), «Лос-Анджелес таймс» (дабы почувствовать, чем дышит западное побережье), «Чикаго трибюн», «Даллас морнинг ньюс» и «Бостон глоб». Обычно Медсен проглядывал газеты еще до девяти. Но сегодня день был необычным.
Он нажал на кнопку оперативной связи.
— Мисс Бек, пришлите ко мне помощника генерального прокурора, — сказал он и, откинувшись в кресле, снял с рукава пушинку. Пушинка спланировала вниз в потоке света, падавшего из створчатой балконной двери за его спиной. Медсен предпочитал садиться спиной к Южной лужайке, хотя за получение этого кабинета ему и пришлось побороться. Но открывавшийся отсюда вид тут ни при чем. Обычно кабинет главы администрации Белого дома располагался напротив, через улицу, в старом административном здании в пятидесяти метрах от Западного крыла в смысле расстояния, но в сотнях миль оттуда в смысле престижа и влияния. Самые влиятельные сотрудники работали в Западном крыле. Кабинет Медсена находился всего через две двери от Овального кабинета.
Когда дверь открылась, Эксетер поднял голову. Медсен щелкнул пальцами, упреждая лай, но взгляд Эксетера устремился на вошедшего — помощника генерального прокурора, который шел сейчас по ковру кабинета. Походка Риверса Джонса напоминала циркача на ходулях — плавное и заученное чередование острых углов, образуемых решительными движениями локтей и коленей, что добавляло лишних два-три дюйма к шести футам роста помощника. Строгий серый костюм Джонса, его белая рубашка и темно-красный в крапинку галстук как нельзя лучше подходили к его манере держаться — безжизненной, бесцветной, без проявлений малейшего интереса.
Когда Джонс вошел, Медсен встал.
— Благодарю за то, что не заставили себя ждать, Риверс. Садитесь, пожалуйста.
— Генерал... — Джонс наклонился над столом для рукопожатия, после чего, расстегнув пиджак, сел напротив Медсена с видом школьника в кабинете директора. Ножки стула были укорочены на два дюйма. При росте в пять футов восемь дюймов главе президентской администрации надлежало, сидя в кабинете, возвышаться надо всеми.
— Видели мою пресс-конференцию? — с места в карьер осведомился Медсен.
Джонс кивнул и поежился, усаживаясь поудобнее.
— Я утром смотрел ее, когда одевался.
— Уверен, что утренние газеты уже раззвонили всё. Не каждый день удается заполнить бизнес-страницу новостью о смерти кого-то из Белого дома. Из-за Джо Браника газеты расхватают.
Джонс покачал головой. Остроносый, лохматый, с волосами, торчащими дыбом, он был похож на соломенное огородное пугало.
— Трусливый поступок.
Медсен поглядел на него сверху вниз.
— Вам когда-нибудь доводилось держать в руках оружие, Риверс?
Джонс запнулся от неожиданного вопроса.
— Нет.
— Ну а мне доводилось. И лично я считаю, что приставить к голове заряженный пистолет и нажать на спуск требует немалого мужества. — Медсен потеребил губу и добавил уже мягче: — Зачем люди делают то, что они делают, а, Риверс? Впрочем, знай я это, я был бы психоаналитиком и вот эту стену украшал бы сейчас мой диплом.
В отсутствие диплома аналитика стены кабинета Медсена ничто не украшало, ни единой картины, семейной фотографии, никаких грамот или дипломов, хотя Медсен и являлся выпускником Вест-Пойнта в третьем поколении. Не было там и впечатляющей выставки наград под толстым стеклом — знаков отличия, полученных им за боевые действия во Вьетнаме или во время «Бури в пустыне», ничего, что могло бы отвлечь от ближайших и насущных задач.
Весь этот хлам лишь обременяет.
— К несчастью, на обдумывание у меня нет времени. Как вам известно, шумиха поднялась утром, время крайне неподходящее. Вникать в детали мне недосуг, но это — лишняя брешь в нашей твердыне, а я уж и так только и делаю, что затыкаю дыры. Мне не хватает рук, Риверс.
— Я к вашим услугам, генерал.
Медсен обогнул стол и оперся о его край; он скрестил руки, отчего материя на его рукавах и спине натянулась. Он разглядывал Джонса своими светло-карими, цвета древесных щепок глазами на смуглом и сморщенном, как старые кожаные перчатки, лице.
— К делу надо подойти умело и результативно. Каким бы трудным это ни казалось, президенту надлежит не предаваться скорби, а продолжать исполнять то, что ему доверил избравший его народ, и чем скорее он это сумеет сделать, тем лучше. Пресса обожает мусолить всякую грязь, черт возьми, и вы это знаете не хуже меня. Какой-нибудь полоумный наверняка начнет распространять сплетни, и вал их покатится быстро, как огонь от спички, брошенной в сено. И вот уже заговорят о «втором Винсенте Фостере».[1] Мне нужно найти кого-то, кто бы это понял.
— Это не представляет проблемы, генерал.
Медсен приподнял бровь.
— Когда помощник и доверенное лицо президента США кончает жизнь самоубийством, это все-таки представляет проблему, Риверс. А когда он к тому же является личным другом президента, проблема усугубляется хрен знает как. — Обычно Медсен ругательств избегал и не любил, когда в его присутствии ругались другие. Он считал такую речь доказательством ограниченности словарного запаса, но тут он хотел получше выразить настроение. — Могу я говорить с вами напрямик?
— Конечно.
— Чем больше людей привлечено к расследованию, тем больше возможность ошибки, а в данном случае каждая ошибка будет еще и раздуваться. Вам знакомо правило военной разведки, Риверс?
— Сэр?
— Там обычно действуют втроем. Знаете почему? Опыт показывает, что три человека — это оптимальное число, если хочешь добиться успеха. Больше трех — распыляет ответственность. Меньше — будет ощущаться нехватка исполнителей. Мне нужна команда из трех человек, Риверс. Третьим я выбрал вас и постарался, чтоб это были именно вы.
Джонс слегка выпрямился на стуле.
— Вы не будете разочарованы, генерал.
Это прозвучало не высокопарно и не заученно, хотя, без сомнения, являлось и тем и другим. Медсен знал, что Риверс Джонс — правильный выбор, потому что он знал все об этом человеке, даже то, что трусам он предпочитает плавки. Тридцать девять лет, женат, детей не имеет, постоянно изменяет жене с дорогостоящей «эскорт-дамой» из Мак-Лина. Рожденный в католической семье, он стал протестантом из политических соображений — не вечно же ему торчать в Министерстве юстиции. Как и у всех прочих в Вашингтоне, у Джонса имелись политические амбиции. Он мечтал о карьере сенатора или члена палаты представителей, дабы остаток дней кормиться услугами и подачками богатых лоббистов. В полной мере сознавая важность связей в этом городе политиков, Джонс женился на дочери Майкла Карпентера, спикера палаты. Не по любви, конечно. Говоря коротко и грубо, Джонса можно было назвать жополизом, всегда знавшим, чью жопу надо лизать.
Медсен распрямился и, обойдя стол, вновь вернулся к своему креслу.
— С парковой полицией связались?
В охранное бюро Белого дома позвонили в 5.45 утра. Медсена они потревожили дома. До этого он уже сорок две минуты как занимался делами. Повесив трубку, Медсен тут же связался с генеральным прокурором и вызвал Джонса. Джонсу он позвонил домой, пробудив от сна известием, что расследование Министерства юстиции относительно обстоятельств гибели Джо Браника возглавит он. Так как Браник был штатным сотрудником Белого дома и служащим федерального уровня и так как тело его было обнаружено в Национальном парке, расследованием его гибели предстояло заняться не кому-нибудь, а правительству, и в частности Министерству юстиции. Джонсу надлежало известить об этом парковую полицию. Они должны были уступить полномочия.
— Я переговорил с ними, едва окончив разговор с вами, — заверил его Джонс.
— Они согласны передать дело? — осведомился Медсен.
— Согласны, но они не полномочны, генерал.
Медсен пригладил ладонью непокорный вихор. В армии он умел сладить с волосами, так как коротко стриг их, но, заделавшись политиком и вняв совету имиджмейкера, он начал носить волосы подлиннее, и проблема вернулась.
— То есть как «не полномочны»?
— Похоже, что первым к месту происшествия прибыл офицер чарльзтаунской полиции и делом занялся один из их следователей. Судя по всему, он проявил характер. — Джонс вытащил из кармана маленький блокнот и заглянул в записи. — Детектив Том Молья. Отправил тело окружному коронеру. — Он поднял глаза от записей. — Формально он прав.
Медсен не сделал попытки скрыть свое недовольство столь неожиданным поворотом событий.
— Свяжитесь с окружным коронером и потребуйте, чтобы он доставил тело без какого бы то ни было расследования.
— Без расследования?
— Вскрытие будет произведено в Министерстве юстиции.
— Сэр? — Во взгляде Джонса был вопрос.
Медсен не сводил глаз с блокнота Джонса и его ручки, пока тот не закрыл блокнот, не щелкнул ручкой и не сунул то и другое во внутренний карман пиджака.
— Не мне пятнать репутацию покойника, Риверс, — Медсен обошел угол стола и открыл выдвижной ящик, — но, как я уже сказал, в нашем кругу я желаю полной ясности. — И Медсен протянул Джонсу конверт, а когда тот, открыв его, извлек содержимое, добавил: — Полагая, что вы присовокупите к расследованию и эти записи телефонных разговоров мистера Браника, я взял на себя смелость затребовать их. Вы найдете здесь и запись телефонного звонка в Белый дом, произведенного в 21.13. Джо Браник позвонил президенту накануне вечером. Президент поделился со мной, сказав, что голос у мистера Браника был нехороший, что, видимо, он выпил. Поговаривали, что он вообще начал пить, но президент не хочет, чтобы бездоказательные слухи муссировались газетами. Беспокоясь, как этого и следовало ожидать, за своего друга, президент предложил ему конфиденциальную встречу. Джо Браник прибыл в Белый дом в 22.12. Запись о его прибытии и отбытии вы здесь увидите.
Медсен ждал, пока Джонс с шуршанием листал бумаги.
— Два охранника при исполнении, дежурившие в Западных воротах, докладывают, что вид у мистера Браника был взволнованный. Встреча состоялась в личных апартаментах, и разговаривали друзья один на один. Позднее президент сказал мне, что выглядел Джо Браник плохо и был в скверном настроении.
— Он не говорил о причине его расстройства?
Медсен шагал по квадратикам света, льющегося из балконных дверей. В столбах света плясали пылинки, и все это превращало Медсена в какой-то персонаж старого черно-белого фильма.
— Не мне вам говорить, Риверс, что половину всех дел Белый дом проворачивает на вечерних приемах и дружеских беседах за коктейлями. Я не поклонник такого рода контактов, но приходилось принимать чужие правила игры. — Он передернул плечами. — Будь жива моя Оливия, думаю, и она подобного не одобрила бы.
— Понимаю, сэр, и...
Медсен прекратил мерить шагами квадратики света и, круто развернувшись, взглянул на помощника главного прокурора.
— Жена Джо Браника все это презирает, Риверс. И редко удостаивает посещением такие мероприятия, предпочитает жить за городом. Президент считает, что ее натянутые отношения с мужем — результат этого и что именно это — причина всех несчастий мистера Браника. Отсюда и депрессия. — Подойдя к столу, Медсен взял там какой-то листок и протянул его Джонсу. — Месяц назад Джо Браник написал заявление с просьбой разрешить ему ношение оружия. Я взял на себя смелость снабдить вас также и копией разрешения.
Джонс изучил бумагу.
— Короче, Риверс, это все строго между нами. Президент не желает, чтобы репутацию его друга подрывали газетные статьи. Я тоже этого не желаю, хотя и из других соображений. — Медсен опять обогнул стол и, стоя, наклонился к Джонсу. — Что отразится плохо на репутации Джо Браника, отразится плохо и на президенте, а значит, Риверс, будет плохо и для администрации. Может быть, кое-кто увидит здесь черствость, но скажу прямо: я этого не потерплю. Будучи другом Джо Браника, президент станет казниться. Он станет задаваться вопросом, не мог ли он предотвратить то, что произошло. Я же позволить себе казниться не могу. Много раз мне приходилось терять людей, моих подчиненных, хороших, ценных сотрудников. Мы отдаем им должное, после чего движемся дальше, продолжаем путь, не потому что забываем их, а как раз напротив — в память о них. У нас есть работа, обязанности. У президента есть работа, Риверс. Лучшая память о друге — продолжать делать эту работу и делать ее хорошо. И я намерен обеспечить ему условия для этого — с божьей помощью обеспечить последующие шесть лет его правления.
Джонс встал.
— Понимаю.
— Хорошо. — Медсен потянулся к стулу, бросив через плечо: — Предлагаю вам начать ваше расследование с кабинета мистера Браника. Я приказал опечатать его.
— Опечатать? Могу я узнать почему?
Медсен опять повернулся к нему.
— Потому что я не знаю, не находится ли там чего-нибудь вредного для администрации или национальной безопасности. Мистер Браник был доверенным лицом президента, его помощником по особым поручениям, Риверс. — Медсен помолчал. — Но могу вас заверить, что отныне расследование в ваших руках.
7
Пасифика, Калифорния
Темнота уступала туманному свету. Видимые очертания предметов возникали, вновь исчезали, кружили вокруг, закручиваясь спиралью. Слоун лежал на спине, уставившись в светящуюся флуоресцентным светом панель на кухонном потолке. Он инстинктивно попытался приподняться, чтобы сесть, но волна тошноты тут же закружила его вместе с комнатой — ощущение такое, будто его крутанули на чертовом колесе в парке, — и он опять рухнул на пол. На грудь ему легла чья-то рука. Покружившись, над ним застыло лицо. Мельда.
— Мистер Дэвид? — Она хлопала его по щекам, терла ему лоб чем-то влажным и, запинаясь, скороговоркой бормотала: — Ох, простите, мистер Дэвид! Мне так жаль! Я очень испугалась! Я услышала шум и подумала, что это же не можете быть вы. Вы же сказали: «Вернусь в воскресенье вечером»! — Чуть не плача, она зажала рот рукой.
Слоун сел и коснулся пальцами ушибленной макушки. На полу возле коленей Мельды он заметил черную сковороду. Воссоздать произошедшее не составило труда. Милая и мягкая, как яблочный пирог, который она так замечательно пекла, Мельда была стреляным воробьем, не забывшим свою суровую юность в деревне. И к своим обязанностям сторожа она тоже относилась крайне серьезно. Заметив в темноте мужскую спину, она вначале действовала, вопросы же задавала потом. К счастью, Мельде было за шестьдесят, а рост ее не достигал и пяти футов, что в известной мере ограничивало возможную силу ее ударов. Однако удар сковородки все же оглушил его, а рассыпанные по полу специи тоже не способствовали ясности сознания. Ему смутно помнилось, как он успел вовремя поднять руки и соскользнул на пол, упав ничком и стукнувшись лбом о кухонный стол. Он сжал ее руку.
— Все в порядке, Мельда. Вы действовали правильно — ведь я вернулся неожиданно. Простите, что так напугал вас.
Оставшись бездетной вдовой, Мельда окружила материнской заботой Слоуна. Она обихаживала его, когда он был дома, и обихаживала дом в дни его отсутствия во время его служебных командировок. Она вынимала его почту, кормила Бада, бродячего кота, которого он подобрал на помойке, и сыпала корм рыбкам в аквариум. Она обстирывала его, убирала в квартире и ставила ему в холодильник пластмассовые мисочки с едой — услуги, за которые Слоун пытался ей платить. Но разговоры об оплате лишь портили ей настроение. За восемь лет он ни разу не увеличил ей квартирной платы. Заплаченное же инвестировал в рынок ценных бумаг и на каждое Рождество вручал ей банковский чек, объясняя, что это дивиденды по акциям компьютерной фирмы, которые он для нее приобрел.
Он оглядел распахнутые дверцы шкафов и пустые полки; содержимое шкафов и полок было рассыпано и разбросано повсюду — бакалейные припасы валялись вперемешку с чашками, тарелками, столовым серебром. В помещении сильно пахло ароматизированным уксусом.
— Что здесь произошло?
Она продолжала тереть ему лоб какой-то влажной тряпкой.
— Грабители! — Она вытаращила глаза. — Здесь все было вверх дном, мистер Дэвид!
Ухватившись за край кафельного прилавка, он рывком поднялся на ноги, пол был скользким, и ноги у него разъезжались.
Мельда тоже поднялась.
— Я вызову доктора.
— Нет. Я в порядке. Только дайте мне секунду разобраться немного.
Она вытерла руки кухонным полотенцем.
— Здесь все перевернуто, мистер Дэвид.
Слегка опираясь о стол, он прошел в гостиную. Мельда оказалась права. Все было переворочено. На ковре — битое стекло. Судя по всему, лопнула трубка телевизора. В аквариуме плавала размокшая книжка. Даже решетки батарей были сорваны. За его спиной всхлипывала Мельда.
Повернувшись, Слоун обнял женщину и почувствовал, как дрожит ее хрупкое тело.
— Все хорошо, Мельда. Все будет хорошо.
Он ласково бормотал ей что-то, пока Мельда не перестала дрожать.
— Может быть, приготовите нам чайку, — предложил он.
— Я вам чаю приготовлю, — сказала она, словно идея была ее собственной, и пошла в кухню ставить чайник.
Слоун бродил по квартире, не зная, с чего начать разборку.
— Вы что-нибудь слышали, Мельда? Или видели? — Слоуну трудно было представить, чтобы столь сильные разрушения могли не привлечь ничьего внимания.
Она наполнила чайник под краном.
— Ничего я не слышала... ведь по четвергам меня не бывает... по четвергам у нас танцевальные вечера. — Мельда ходила на встречи для пожилых при католической общине. — А утром я пришла и застала вот это. Я вышла на лестницу вызвать полицию. И когда вернулась, в кухне были вы, но было темно, а я не так хорошо вижу... О, мистер Дэвид, такая жалость, что все так произошло!
Слоун стоял посреди комнаты, оглядывая разрушения и мысленно возвращая вещи на их законные места. Исполненный любопытства, он прошел из гостиной в спальню и щелкнул там выключателем. Тахта была разодрана и располосована, как и диван, из шкафа все вытряхнуто. Но все это было вторично. То, что заботило его прежде всего, лежало прямо перед ним на ночном столике.
Его часы «ролекс».
8
Министерство юстиции, Вашингтон, округ Колумбия
Риверс Джонс откинулся на кремового цвета спинку кожаного кресла; мерно покачиваясь и вертя между большим и указательным пальцами скрученную скрепку, он ждал соединения. Он бросил в мусорную корзину бумажный пакет из-под завтрака, приготовленного женой, и стаканчик из-под остывшего кофе и отщипнул от остатка лепешки с отрубями. Взгляд его был устремлен на дипломы в затейливых рамках, висевшие на стене его унылого служебного кабинета. На дипломах значилось: Ш. Риверс Джонс Четвертый. Первый инициал (лишь немногим из его знакомых было известно, что это сокращение его первого имени Шерман) он давно отбросил, как отбросил и порядковый номер после фамилии — слишком претенциозно, если ты не живешь на глубоком Юге. Увы, он давно уже не водил дружбы с отчаянными парнями, не гонял на машинах с бешеной скоростью, когда из-под колес летят во все стороны лепешки грязи, а ты лишь поплевываешь, пуская пузыри жевательной резинки сквозь щель между передними зубами. Кончено. А как хотел бы он перестать всякий день видеть перед собой на стене эти внушительные бумажные листы — доказательство сделанной им карьеры, напоминание о пути, выбор которого продиктовал ему отец. Если б не жестокий сердечный приступ, прикончивший этого сукина сына, дипломы Джонса висели бы сейчас в кабинете с видом на центральные кварталы Батон-Руж, в Луизиане.
Джонс вновь отщипнул от лепешки и откинулся назад, чтобы крошки не просыпались на костюм. Звонок Паркера Медсена прервал его крепкий сон. В отличие от генерала он не имел привычки подниматься чуть свет — для физических ли упражнений либо для безделья и приятного времяпрепровождения. Он едва успел принять душ и побриться — в сортире посидеть можно будет и попозже, чтобы прибыть в Западное крыло без опоздания. Медсен требовал пунктуальности. Конечно, этот парень и вечные «да, сэр», «нет, сэр» и прочая дребедень порядочно портят ему жизнь, но, с другой стороны, в Вашингтоне пронесся слух, что Республиканская партия будет выставлять Медсена в вице-президенты на следующий срок Роберта Пика. А это открывало возможность Медсену подумать и о президентстве. Неудивительно, что его так обеспокоила смерть Джо Браника. Учитывая, что в экономике продолжается неуклонный спад, а безработица и инфляция, наоборот, растут, как и яростное противоборство интересам США во всем мире, неожиданное самоубийство ближайшего, как это считается, к президенту человека никак не может быть фактом положительным. Генерал подыскивает и себе доверенное лицо, а это на руку Джонсу. Наплевать ему, к какому паровозу прицепиться, лишь бы вез.
Джонс только что переговорил с коронером округа Джефферсон. Доктор Питер Хо не оказал никакого сопротивления. Неудивительно. Большинство окружных чиновников крайне ленивы. Похоже, Хо даже испытал облегчение оттого, что не придется ему в уикенд производить вскрытие. Вот сейчас Джонс отдаст такой же недвусмысленный приказ чарльзтаунскому детективу, который тоже испытает облегчение оттого, что одной папкой на столе у него станет меньше. Дело будет, считай, сделано, а он, Джонс, приобретет еще одного влиятельного покровителя.
Размышления Джонса прервала его секретарша, сообщившая, что дозвонилась. Джонс выпрямился, прикидывая, как будет выглядеть слово «конгрессмен» или «сенатор» в рамочке на его визитке.
Клей Плешуин так подался вперед, что ножки его стула скрипнули по линолеуму. Он барабанил по конторке, с каждым неотвеченным звонком все сильнее. Секретарша помощника генерального прокурора ясно дала понять, что помощник хотел бы звонок не афишировать. Плешуин оглянулся на белое грифельное табло, на котором значились фамилии служащих. Обычно оранжевая магнитная бирка под словом «на месте» означала, что тот или иной офицер полиции должен ответить на звонок. Однако к Тому Молье это, видимо, отношения не имело. О табло он постоянно забывал, приходя и уходя когда ему вздумается, и Плешуин стал уже подозревать, что такая забывчивость детектива — забывчивость намеренная.
Плешуин встал, и правую ногу его тут же пронзило болью до онемевшей ступни; морщась, он потянул провод, заглядывая через щели жалюзи в затянутое железной решеткой оконце. Ну конечно! Молья стоял посреди комнаты, развлекая Марти Бенто и парочку других офицеров в формах, о чем свидетельствовали его мимика и жесты — болтал с увлеченностью девчонки-подростка.
— Эй, Моль, — рявкнул через стекло Плешуин.
Том Молья замолчал, поднял взгляд на Плешуина и помахал ему.
Плешуин указал на телефон:
— Тебе же звонят!
Молья приложил руку к сердцу и проартикулировал ответ:
— И ты... мне... как брат, Клей!
Бенто и другие полицейские так и зашлись в припадке беззвучного хохота. Сукин сын!
— Возьми трубку, Моль, черт тебя дери! — Плешуин глядел, как Молья подошел к своему столу и взял трубку. — Вот проклятье! Я что, в игры с тобой играю? Ответь на звонок!
— Я не совсем понимал, что ты там корчишься, Клей. На ирландскую джигу смахивало. Что, опять нога дает о себе знать?
Плешуин перестал сгибать и разгибать ногу.
— Нога моя тут ни при чем! И я англосакс, а не ирландец! Чем тут я, по-твоему, занимаюсь? Тебе звонят!
— Звонят! Господи Боже мой! Плешь, уж не королева ли это английская?
Плешуин издал тихое шипенье. О привычке копов сокращать и переиначивать фамилии он знал, но прозвище, которым наградил его Том Молья, в точности совпадало с внешней приметой Плешуина — его день ото дня все более расползающейся лысиной.
— Звонит генеральный прокурор из Министерства юстиции!
— Черт возьми, Плешь, так бы сразу и сказал! Хватит пререкаться! Разве можно заставлять ждать такого человека! Сейчас же переведи звонок!
— Так я же сказал тебе...
— Не будем тратить времени, Клей.
Помня предостережение секретаря, Плешуин бросился обратно к конторке и перевел звонок.
Том Молья приветственно поднял руку, помахал Клею Плешуину, говоря в трубку:
— Детектив Том Молья у телефона.
— Детектив Молья, — произнес женский голос, — готовы ли вы ответить на звонок помощника генерального прокурора США Риверса Джонса?
Возможно, вся эта чопорная церемонность объясняется южным происхождением помощника генерального прокурора, о чем свидетельствует его странное имя. Молье захотелось сказать женщине: «Готов. Передайте, чтоб позвонили мне», после чего повесить трубку, но он решил побороть искушение.
— Соедините, — сказал он, усевшись за стол, выглядевший так, будто его не убирали уже много лет.
— Детектив Молья?
— Ну, как вы в такое утро там, в министерстве? Не очень запарились, а, Риверс? Или обливаетесь потом, как мы?
Молья откинулся в кресле и задрал ноги на угол стола, отчего на потертый линолеум пола полетели бумаги и папки. В комнату, вмещавшую два стола, было втиснуто три, а на допотопном металлическом шкафчике мелькали лопасти переносного вентилятора. За кипами бумаг проглядывали фотографии жен и детей в рамочках, а стены пестрели разнообразными объявлениями, памятными записями и прочей дребеденью. Середину стены занимал черный силуэт — прикнопленное изображение мужчины с дыркой от пули во лбу и многочисленными следами от дротиков «дартс», которые в него метали как в мишень; два дротика еще торчали в нем, третий валялся на полу возле стола детектива.
— Нет, у нас все хорошо. У меня в кабинете кондиционер.
— Повезло, потому что, как говорят, сегодня опять ожидается жара.
— Вы занимались делом Джо Браника, детектив?
— Это вы про самоубийство?
— Да, детектив Молья, это я про самоубийство. — Джонс старался говорить очень спокойно и даже монотонно.
— Официально приказа еще нет, но дело это — мое. Еще одно привалило. Уже неделю я в запарке, пыхчу, как мартовский заяц, это я в смысле работы, как вы понимаете. — Молья снял ноги со стола, поднял дротик и бросил его, угодив мишени в плечо. Он порылся в бумагах. — Ну, здесь, по крайней мере, все ясно как апельсин. Мужик этот найден ярдах в двухстах от своей машины. Смерть от единственной пули в висок. В руке пистолет. Стреляный. Выстрел с близкого расстояния. Пулю, вероятнее всего, не найдут, учитывая рельеф местности. На правой руке и виске следы пороха... Картина ясная. Я заказал баллистическую экспертизу. Но и без нее яснее некуда.
Все ясно, кроме того, что о Берте Купермане по-прежнему ни слуху ни духу, и если не внезапный отпуск, то объяснить его отсутствие попросту нечем: дома у него никто не отвечает, служебной машины возле его дома нет, а Министерство юстиции уже взяло на заметку странное при всей своей ясности самоубийство.
Сосущая боль под ложечкой стала такой сильной, что ни пастилка «Тамс», ни два глотка «Пепто бисмал», бутылочку которого Молья держал в ящике стола, не смогли ее заглушить.
— По чьему распоряжению была заказана баллистическая экспертиза, детектив?
Молья засмеялся.
— Распоряжению? Вы шутите, Риверс? У меня на руках труп. При нем оружие. Он держит это оружие в руке! Я заказал баллистическую экспертизу. И никакого распоряжения мне для этого не требуется. — В трубке часто задышали. — У вас астма, Риверс? У меня самого в это время года сенная лихорадка начинается.
— Не сомневаюсь, что вы действовали как положено, детектив Молья...
— Моль.
— Простите? — досадливо переспросил Джонс.
— Зовите меня Моль. «Детектив Молья» — уже сколько лет ко мне так не обращаются. Поневоле начинаешь озираться: уж не отец ли мой находится в комнате? Встреча с ним была бы мне приятна, хотя, думаю, порядком бы и оглоушила — ведь он уже шестой год как на том свете.
— Да, детектив Молья, — продолжал Джонс. — Я хочу сказать, что баллистическая экспертиза, конечно, вещь вполне закономерная, но в данном случае... Покойный был членом правительства и личным другом президента.
— Ага, я это читал где-то.
— Вот именно.
— Что ж, сообщите президенту, что на этот раз ему не надо ни о чем беспокоиться. Я все беру на себя.
Последовала пауза.
— Уверен, что вы прекрасно справились бы с этим делом, детектив.
Молья услышал это «бы» и понял, что, как говаривал его Тиджей, «в «бы» вся загвоздка».
Помощник генерального прокурора не обманул его ожиданий.
— Но на этот раз не придется. Делом будет заниматься Министерство юстиции. Вам надлежит прекратить все дальнейшие действия и все материалы передать мне.
— При всем уважении к вам, Рив, и к президенту, тело было...
— Что это, детектив Молья? Мне послышалось, что вы назвали меня «Рив»? Разрешите мне кое-что объяснить вам. Я не имею прозвища, но имею должность. Я помощник генерального прокурора Соединенных Штатов. Я служу в Министерстве юстиции, и именно туда вы переправите дело! Я ясно выразился?
Молья мог бы сгладить ситуацию и извинить Джонса, решив, что тот просто переработал и на нем сказался очередной стресс, какие нередко испытывают правительственные чиновники, и что только из-за этого он позволил себе в разговоре с ним забыть о вежливости, но его всегда бесило чванство вышестоящих. Отец его не уставал повторять, что должность — она как дырка в заднице: у каждого имеется, а в Вашингтоне у некоторых и вовсе по две должности и, стало быть, уже по две дырки.
— Ну, достаточно, по-моему! — сказал он. — Это точно, что у вас в кабинете кондиционер, Риверс? А то мне кажется, что вы несколько перегрелись.
— Я уже сказал, что...
— Сейчас я говорю, Риверс. Вы меня перебили. И, могу добавить, уже не в первый раз. А говорил я о том, что, при всем уважении к вам и президенту, тело было найдено в Западной Виргинии офицером чарльзтаунской полиции. А значит, это дело наше, местное, а если точнее, то, поскольку меня угораздило с рассветом первым покинуть свою уютную постель и примчаться туда, то это мое дело.
— Уже не ваше, — прошипел Джонс. — Вы подчиняетесь Министерству юстиции, а Белый дом поручил расследование мне. Всякая ваша попытка помешать этому будет сурово наказана.
Далее последовало то, что некоторые сочли бы «внушительной паузой», но что Молья называл «тянуть резину» или «мямлить». У Риверса Джонса, помощника генерального прокурора и служащего Министерства юстиции, казалось, язык прилип к гортани, и он мялся, не зная, как ответить.
— Простите?
— Вы сказали: «расследование», Риверс. О каком расследовании речь?
— Сказав «расследование», я оговорился. Сказал это чисто механически, по привычке. Я хотел сказать «дело». Мы займемся этим делом.
— Неубедительно. Вы не оговорились. Вы сказали, что Белый дом просил вас провести расследование. Просто и ясно.
Новая пауза. Теперь Джонс полезет в бутылку. Тоже вполне предсказуемо. Когда загоняешь человека в угол и он не знает, что ответить, он либо сникает, либо лезет в бутылку. И опять помощник генерального прокурора не обманул ожиданий Мольи.
— Вы что, шутите, детектив? Потому что если вы вздумали шутить, то шутка ваша вовсе не забавна. И времени на шутки у меня нет. Распоряжение исходит от президента Соединенных, мать их, Штатов! Если я его выполняю, так и вы будьте любезны его выполнить!
Вытащив из-за уха карандаш, Молья воткнул его в лежавший на промасленном клочке папиросной бумаги гамбургер. Он поступил как намеревался, а Джонсу не хватило ни мозгов, ни решительности выпутаться из создавшегося положения. Скрывая что-то, люди обычно ведут себя либо уклончиво, либо агрессивно. Джонс грешил как тем, так и другим. В ходе разговора он, похоже, совершил уже две ошибки: проболтался Молье о расследовании и о том, что за расследованием стоит Белый дом. Молья как в воду глядел.
— Знаете, помощник генерального прокурора, я ведь всего только полицейский детектив, пытающийся выполнять свою работу как можно лучше, в чем и присягнул двадцать лет назад. Так что до тех пор, пока я не получу приказа от своего начальства, я буду вести свое расследование в интересах жителей округа Джефферсон, мать его так и рас-так!
— Кто же ваше начальство, детектив Молья?
— Шеф полиции Джей Рэйберн Франклин... Третий, — ответил Молья и услышал, как Риверс Джонс повесил трубку.
9
Юридическая корпорация «Фостер и Бейн», Сан-Франциско
Слоун вышел из лифта и торопливым шагом двинулся через облицованную итальянским мрамором приемную с персидскими коврами, кожаной мебелью и картинами на стенах. Подобным образом меблированные приемные встречали посетителей на каждом из пяти этажей корпорации «Фостер и Бейн» — дорогое убранство, приличествующее фирме, где работает почти тысяча юристов, а ее годовой доход в отделениях банков, разбросанных как в Штатах, так и в Европе и даже Гонконге, составляет 330 миллионов долларов.
Слоун опаздывал; полиция прибыла к нему в дом далеко не сразу; прибыв же, она, казалось, не проявила особого интереса, задав лишь положенное количество вопросов. Слоун совершенно не понимал, кто и зачем мог совершить налет на его квартиру, и так как ничего из ценностей, включая часы «ролекс», у него не пропало, он счел, что скупки и ломбарды ему тут тоже не помогут. Он вытерпел всю процедуру, так как достаточно знал страховые компании и понимал, что первым делом любой агент поинтересуется, присовокупил ли он к бумагам полицейский протокол. Теперь, когда копия протокола у него имелась, он мог заняться заявлением, но данные по страховке он оставил в офисе.
К одиннадцати офис будет уже бурлить, что означает необходимость отвечать на недоуменные вопросы, почему человек, впервые за пять лет взявший свободные дни, явился на работу. Он решил для простоты говорить, что перед отъездом хочет кое-что докончить.
На двадцать девятом этаже он быстрым шагом прошел мимо дежурного секретаря, маячившего на фоне панорамного окна с видом на Сан-Францисский залив от самого Эйнджел-Айленд до Бэй-бридж, и шмыгнул в коридор. Коридор был пуст, хотя из комнат и доносились голоса — коллеги трудились, вырабатывая «человекочасы». Эти «человекочасы» в больших адвокатских конторах были на вес золота, так как ими измерялись производительность труда адвоката и степень его усердия и самоотверженности, не говоря уже о том, что в соответствии с ними выставлялись счета клиентам.
Тина Скокколо, когда он проходил мимо ее стеклянной будки, сделала стойку. Проскользнуть незамеченным оказалось невозможным.
— Что это ты тут делаешь? — В голосе ее прозвучало не столько даже любопытство, сколько раздраженное недоумение.
Слоун приложил палец к губам, не замедляя шага и не отрывая взгляда от финишной черты в конце коридора — двери в его кабинет в северо-западном углу здания.
— Ничего. Ты меня не видишь.
Она высунула голову из-за стекла.
— Тогда, полагаю, и не слышу, что ты мне сейчас говоришь, да? — Слова эти были сказаны уже ему вдогонку.
— Именно. И ни с кем меня не соединяй.
— Ты хромаешь.
Он распахнул дверь своего кабинета и, едва войдя, внезапно остановился, как турист в музее перед красной заградительной ленточкой. Взгляд метнулся к табличке на стене: «Мистер Дэвид Слоун».
Его кабинет было не узнать! Хлам, скопившийся за четырнадцать лет его службы, чудесным образом исчез. Место кип заявлений, блокнотов и шатких стопок старых представлений суду, с незапамятных времен высившихся по углам, заняли два фикуса в горшках. На светло-коричневом ковре впервые обозначился серо-синий узор. Почта на его столе была сложена в аккуратную небольшую стопочку, а корзина для мусора пуста. Помнится, он видел ее дно лишь в первый день своей работы в конторе. Он чувствовал, что на его свободу посягнули, в то же время освободив его. Как и большинству адвокатов, ему было уютно среди беспорядка, в хлам он кутался, как в одеяло. Но теперь он даже не мог вспомнить, зачем ему были нужны все эти бумаги, и испытывал большое облегчение, словно с плеч его сняли груз.
— Тина! — крикнул он в коридор.
— Прости, — раздалось оттуда, — но я не слышу: тебя ведь нет!
Улыбнувшись, он прошел к себе и провел пальцем по своему столу — его явно обработали полиролем с лимонной отдушкой. Даже абстрактную картину над его рабочим местом, ранее висевшую криво, она протерла и повесила как надо, рядом висели его дипломы, а вот и статья — он сразу углядел ее. Статью сунули в рамочку и поместили между дипломов, пытаясь спрятать с какой-то, еще неясной, целью. Заголовок так и пышет гордостью: «Мощнейшее оружие Сан-Франциско».
А под ним фотография, та самая, которую шлепнула ему на грудь Патриция Хансен, — фотография была даже хуже заголовка. Фотограф прислонил его к столу в зале заседаний, и фигура на фотографии кренилась, как Пизанская башня. Незадолго перед тем постриженные волосы торчали, как иглы у дикобраза, и пришлось в последнюю минуту прибегнуть к гелю, причем так основательно, что цвет их изменился — вместо темно-русых они стали черными как вакса и слиплись, сделавшись похожими на маску, которую цепляют в Хэллоуин. Свет, падавший из затемненного окна, отбрасывал на лицо тени, образуя поперек вздернутого подбородка и скул рытвины, подобные дорожным колеям, что делало его старше годков примерно на десять. Ему можно было дать лет сорок семь. Смуглая кожа, густые брови и полные губы обычно смягчали его внешность, но тут эти мрачные тени и слипшаяся шевелюра превращали его в записного злодея.
Сама статья была под стать заголовку и фотографии: в напыщенных выражениях она расписывала подвиги «лучшего юриста по убийствам во всем Сан-Франциско». Боб Фостер настоял на том, чтобы Слоун побеседовал с репортером — занятие Слоуну ненавистное, — самолично присовокупив к материалу кое-что от себя с целью заполучить для фирмы побольше клиентов, для чего не пощадил природной скромности и добропорядочности Слоуна. Со времени публикации статьи Слоун постоянно чувствовал себя под прицелом — количество трудных дел у него возросло чуть ли не вдвое, а шансы на мирный исход таяли на глазах: его клиенты были теперь уверены в успехе, а прокуроры видели своей задачей сбить спесь с зарвавшегося адвоката.
Слоун снял статью со стены и уже хотел сунуть ее в ящик стола, как дверь кабинета распахнулась, впустив Тину, а за ней вереницу адвокатов и служащих конторы, кричавших «сюрприз!» и кидавших в него конфетти. Кто-то гудел в рожок в самое его ухо. В руках Тина держала сильно початый торт с двумя свечками и цифрами «1» и «5», хотя, приглядевшись, можно было различить, что «1» было переделано из цифры «3». Коллеги тянули головы друг у друга из-за спины, как школьники на групповом снимке, и, не оспаривая звания «скромных сотрудников великого Слоуна», спешили первыми пожать ему руку.
Тина вручила ему торт. Слоун положил на стол статью, стряхнул с плеч конфетти и вытащил застрявшие в волосах ленточки серпантина. Буквы из глазури на торте образовывали загадочную надпись: «...ем рожд...».
— Чей же это именинный торт?
Вопрос этот Тина проигнорировала.
— Задуй-ка свечу! — распорядилась она.
Поставив торт на стол, она принялась резать его на куски.
— Я собиралась поздравить тебя и устроить вечеринку в понедельник, когда ты должен был вернуться. Прости, но это все, что можно было устроить экспромтом. — И она протянула ему бумажную тарелку с куском шоколадного торта.
— По какому поводу шум?
Хриплый от привычных ему двух пачек сигарет в день голос Боба Фостера скрежетал, как мотор, заводимый в морозное утро. Фостер появился в дверях кабинета — роскошный, в сшитой на заказ голубой рубашке с белым воротничком и ониксовыми запонками, в расписанном вручную галстуке — незыблемый оплот борьбы с небрежностью и обезличенностью в одежде, пропагандируемыми нашей техногенной цивилизацией и модой, которой волей-неволей покорилась и сан-францисская адвокатура. Толпа при виде его расступилась, как волны Красного моря перед Моисеем.
Фостер приблизился к Слоуну.
— Два часа? Вы продержали присяжных в совещательной комнате целых два часа, Слоун? Так-то вы усвоили мои уроки? — вопросил он с наигранным негодованием, вызвавшим веселый смех всех присутствующих. И тут же он потряс руку Слоуну: — Отличная работа! Не думал, что ты спасешь этого осла на сей раз! Фрэнк Эббот чуть свет позвонил мне. Он вне себя от радости. Похоже, позволит мне обыграть себя в гольф в уикенд.
Слоун выдавил из себя улыбку.
— Вот и прекрасно.
Фостер заговорщицки придвинулся к нему.
— Я знаю, что этот мерзавец слова доброго не стоит. Да и все это знают, но он внук своего деда, и, поверьте мне, пока Пол Эббот там у руля, дел, затеянных против «Эббот секьюрити», будет не меньше, чем свиней в свинарнике, а это нам прямая выгода. Всем прочим юристам он отказал. И уже передает семь дел в наше ведение.
К горлу Слоуна подступила тошнота.
— Остается лишь надеяться, что это дело Скотт не слишком перевернет наше размеренное существование. — Отступив на шаг, Фостер выпустил из своих ладоней руки Слоуна. Он окинул взглядом бейсбольную, с эмблемой «Сан-Франциско джайентс» каскетку Слоуна, его ветровку и синие джинсы, словно только сейчас все это заметил: — А вообще, какого черта ты здесь делаешь? Ты же бог знает сколько времени не брал себе дни! Я думал, ты уже по горам где-то лазаешь!
— Заглянул, только чтобы докончить кое-что.
Фостер поднял бровь.
— Мне-то уж баки не заколачивай! Я знаю, что такое «кое-что докончить» в пятницу! Не успеешь оглянуться — и полдня как не бывало. А там уж имеет смысл пробыть до вечера, чтобы хоть уикенд себе освободить, а к делам еще не приступил, потому что телефон разрывается и коллеги то и дело наведываются к тебе в кабинет — пописать и то некогда. И вот уже воскресный вечер, и вот уже жена по телефону требует развода и половины твоего состояния! Дело известное...
Все засмеялись, хотя Фостер не столько острил, сколько говорил чистую правду: половина всех сотрудников «Фостера и Бейна» пережили развод по меньшей мере однажды, сам же Фостер разводился дважды. Он взглянул на часы:
— Пятнадцать минут. После чего я лично выставлю тебя отсюда! — Он повернулся к собравшимся: — Ладно, ребята, давайте ешьте ваш торт, а потом расходитесь и принимайтесь за работу — дайте возможность человеку уйти! — Он положил себе на тарелку большой ломоть торта и, слизав с пальцев шоколад, вывалился в коридор, откуда послышались телефонные звонки и его крики: — Иду, иду, черт побери!
Собравшиеся постепенно разошлись, обменявшись с ним последними рукопожатиями и приветствиями, и в кабинете осталась одна Тина.
— Я считала, что тебя сегодня не будет. Думала, ты в горы отправился, — сказала она.
Слоун сел за стол и взял в руки верхнее письмо из стопки.
— Хотел разобраться с бумагами, чтобы потом не беспокоиться. А получилось, что в этом не было необходимости. Спасибо тебе за то, что разгребла у меня завал.
— С помощью двух бульдозеров.
Он кивнул в сторону фикусов.
— И растения эти здесь очень к месту.
— Подумала, что кислород тебе не помешает.
— Здесь или вообще?
— Я имела в виду пятый этаж.
— А чем это тянет?
— Свежим воздухом.
Она прикрыла дверь. В свои тридцать три Тина Скокколо была на четыре года младше Слоуна, но порой она вела себя с ним как мать. Возможно, потому что ей это было привычно. У нее имелся девятилетний сын Джейк от брака, рухнувшего, когда ей было двадцать четыре, и оставившего Тину матерью-одиночкой — опыт, по-видимому, закаливший ее характер. Слоуну не приходило в голову просить ее о свидании, хотя возможности для этого и были. На корпоративных вечеринках, когда адвокаты много пили и много себе позволяли, она царила и выглядела лучше некуда: при росте пять футов восемь дюймов отличалась спортивным сложением — стройные ноги, крепкие плечи, тонкая талия. Не будучи, что называется, красавицей, она обладала природной привлекательностью. Золотисто-рыжие волосы до плеч оттеняли белую кожу, а россыпь веснушек на переносице придавала ее облику девическую задорность. Ее голубые глаза искрились, когда она смеялась, и становились холодно-серыми в минуты печали. Непрошеные ухаживания она либо пресекала, ставя на место зарвавшегося коллегу каким-нибудь метким словцом, а нередко — напоминанием о его супружеском долге, либо просто уходила с вечеринки пораньше, пока выпитое еще не начинало развязывать языки.
— У тебя все в порядке? — Скрестив, как директриса в разговоре с нерадивым школьником руки, она ожидала ответа начистоту.
— Все прекрасно.
— Ты выглядишь утомленным.
— Так и есть. Обычное дело: процессы всегда утомляют.
— Ты не заболел?
— Не дождешься.
Она подступила к нему поближе, вглядываясь в его лицо.
— А что это за шишка у тебя на лбу?
Он натянул на лоб бейсболку.
— Просто шишка, и все. Стукнулся.
— По скалам лазил? — неодобрительно осведомилась она.
— Не успел.
Сняв ветровку, он уселся в кожаное кресло, но это не поколебало решимости Тины. После многих лет работы бок о бок с ним она отлично понимала, когда он врет, и никогда не упускала случая призвать его к ответу.
Он откинулся на спинку кресла.
— Ну ладно. Кто-то вломился ко мне в квартиру и основательно ее переворошил. Я чуть ли не все утро приводил все в порядок.
— Ужас какой. А ты...
— Обратился в полицию? Да. Они приехали, составили протокол, и на этом все и закончилось, так как подозреваемых нет, а ничего из ценностей вроде бы не пропало.
— А ты собираешься...
— Потребовать от страховой компании возмещения убытков? Да. И на работу зашел, в частности, за этим.
— А ты не догадываешься...
— Кто бы это мог быть? Нет. Кто-нибудь из тех, кто меня ненавидит, а больше ничего сказать не могу.
Она нахмурилась.
— Ну что ж, пусть так. — И она направилась к двери.
Он отложил почту.
— Тина?
Она оглянулась.
— Ты прости меня. Просто я немного устал и нервничаю. Я не собирался вымещать это на тебе.
— Извинения приняты. Могу я чем-нибудь помочь?
— Как у тебя с выбором мебели по каталогам?
— Они тебе и мебель попортили?
— Мне нужны диван и кресло ему под пару. Кожаные. Неброские. Просто чтобы было на чем сидеть. Еще мне понадобятся телевизор, стереосистема и новая тахта.
— Они стащили твою тахту?
— Нет, лишь вспороли.
— Зачем?
Он пожал плечами.
— В этом весь вопрос. Отыщи, кто может доставить мебель на дом. Воспользуйся моей кредиткой.
— Ты даешь мне карт-бланш?
— Только не опустошай мой счет. Да, еще принеси мне, пожалуйста, мою страховку.
Подождав, пока за ней закроется дверь, он крутанул кресло и устремил взгляд в бескрайнюю и чистую, без единого облачка, небесную синеву и грифельно-серые воды Сан-Францисского залива. Летевший в вышине самолет тянул по небосклону узкий белый след, похожий на нечаянно брызнувшую на синий холст белую краску.
Через пять минут Тина вернулась.
— Дэвид, на что это ты там уставился?
Он оторвал взгляд от окна.
— Наверное, просто позволил себе секунду видом полюбоваться.
Она тоже подошла к окну.
— Видом? С чего это вдруг?
— Что тут удивительного? Почему бы и нет?
— Потому что за десять лет, что с тобой работаю, я такое замечаю впервые.
Она вручила ему три розовые бумажки с сообщениями о телефонных звонках и четыре письма без подписи.
— Остальное я записала на голосовую почту.
С ростом его популярности она начала фильтровать его звонки и электронную почту. Взглянув на имена двух первых звонивших, он отнес их к категории несрочных. Имя третьего ничего ему не говорило:
— Джо Браник — кто это?
10
Чарльзтаун, Западная Виргиния
— Моль!
Голос Дж. Рэйберна Франклина обвалом прогремел в коридоре, выбивая из рук стаканчики с кофе, сдувая со столов документы. Марти Бенто дернулся в кресле, стукнулся коленкой о ящик стола и выругался:
— Черт! Опять!
Внешность Франклина всегда разочаровывала. Он был единственным из знакомых Тома Мольи, чей вид не соответствовал голосу. Такой голос мог принадлежать какому-нибудь здоровяку, политическому тяжеловесу, заядлому курильщику сигар или футбольному тренеру. Однако худющий, вечно озабоченный очкастый Франклин скорее походил на страдающего несварением бухгалтера или налоговика в запарке. Дарованный же ему голос казался одинокой забытой винтовкой на опустошенном оружейном складе.
Помощник генерального прокурора США Риверс Джонс даром времени не терял.
Франклин рванул с носа очки, причем одна из проволочных дужек зацепилась за ухо, и он, сдирая, согнул ее, что еще больше его рассердило. Он запыхался, хотя расстояние, пройденное им от своего кабинета, было всего метров двадцать.
— Может, объяснишь, как тебе удалось в пятиминутном разговоре взбесить помощника генерального прокурора США и одновременно оскорбить нашего президента?
— Господи, Рэйберн, я всего только сказал...
Франклин поднял руку:
— Меня не интересует, что ты сказал или что собирался сказать. Мне интересно лишь, что он мне сказал по поводу вашего разговора. Тебе что, особое удовольствие доставляет портить мне жизнь?
— Рэйберн...
— Или тебе заняться больше нечем?
— Шеф, я...
— Потому что, если тебе заняться нечем, я тебе придумаю занятие! — Франклин чуть-чуть раздвинул указательный и большой пальцы и стал наступать на Молью: — Я нахожусь теперь вот настолько от принудительной отставки, а если меня уволят, то я гарантирую — и ты здесь не останешься!
— Этот тип — настоящий осел, Рэй. Господи, я ведь о тебе заботился...
Франклин улыбнулся, но улыбка эта больше походила на гримасу.
— Заботился обо мне? — Он попятился и взмахнул руками, отчего очки, которые он держал в руке, полетели на пол. — Так бы сразу и сказал! Видно, я ошибся, ведь на самом деле я должен рассыпаться в благодарностях!
— Ты язвишь.
— Нет, Моль, как ты мог такое подумать? Ведь ты всего лишь нагрубил помощнику генерального прокурора, звонившему от имени президента Соединенных Штатов!
— Соединенных, мать их, Штатов.
— Что-что?
— Это он так выразился.
— Плевать мне, как он выразился! Подо мной кресло шатается, и чудо будет, если я усижу в нем еще неделю, черт бы тебя побрал! — Последние слова Франклин выкрикнул, придвинувшись почти вплотную к Молье. Пряди его поредевших, с пробором посередине волос, которые он зачесывал назад, сейчас растрепались и упали ему на лоб.
— Нет, ты все-таки язвишь!
Франклин дернулся.
— Хватит, Моль! Не дури!
Очень спокойно, словно утихомиривая собственного ребенка, Молья проговорил:
— Он назвал это расследованием, Рэй. Как ты думаешь, почему он употребил это слово в отношении банального самоубийства?
Франклин моргнул. Возможно, недоверчиво, словно он не мог поверить услышанному, а возможно, давая себе передышку, чтобы восстановить душевное равновесие. Однако Молья усмотрел в этом раздражение с оттенком некоторого любопытства. Как бы Молья ни раздражал своего начальника, он был его лучшим детективом и интуиция редко его обманывала.
— Плевать мне, какое слово он употребил! Да пусть бы он назвал это хоть Тайной вечерей! Мне важно удержаться на месте, как, полагаю, и тебе, если, конечно, ты не заимел дополнительный источник дохода, о котором мне ничего не известно.
— Не нравится мне это дело, Рэй. С души воротит, тошнит.
— Учитывая твой рацион, ничего удивительного. Ешь всякую дрянь, которой и козел бы побрезговал. — Франклин нацепил на нос очки, откинул волосы со лба и, приглаживая виски, потер их, успокаиваясь. После минутной паузы он произнес:
— Ладно. Так что тебя беспокоит?
— О Купе по-прежнему ни слуху ни духу.
— Он отпросился на выходные. Подал заявление две недели назад.
— Не отвечает...
— Его домашний телефон. Знаю. Потому что жена его в отъезде — отправилась в Южную Каролину продемонстрировать ребенка своей родне, и Куп воспользовался случаем, чтобы поохотиться и порыбачить. Автомобиль взяла она, так что он на выходные воспользовался служебным. Я дал добро. Велел ему отправляться сразу же после наряда. Вот ты или я смогли бы отправиться, едва отбыв наряд? Не смогли. Но ведь нам уже не двадцать пять, Моль.
— Но как же случай в парке? Разве можно просто смыться, обнаружив такое?
— Куп — новичок, Моль, не забывай об этом. Новички иногда делают глупейшие вещи. Возможно, он решил, что уже в увольнении и его дело сторона, и не хотелось ему возвращаться и тратить законное свободное время на бумажную волокиту. Тебе ли не знать поговорки, что сподручнее просить прощения, чем разрешения! Слушай, по-моему, это все твои фантазии. В понедельник Куп приползет на брюхе с извинениями. Тогда я ему задам трепку. А пока — что касается дела Браника, в Министерстве юстиции, как я слышал, юристов хватает, не правда ли? Так чтобы ты меня понял как следует, повторю четко: прикрой это дело. Если что-то в работе, вели прекратить.
— Ну и куда мне девать все это? — Молья позволит Франклину в последний раз издевательски пнуть его. Пускай. Если так легче для его самолюбия.
Франклин не заставил себя ждать.
— Возьми папку с делом и положи ее на кресло себе под задницу! — И Франклин пошел к выходу. В дверях он обернулся: — Я не шучу, Моль. Не желаю даже слухов о том, что ты продолжаешь возиться с этим делом.
Молья поднял руки, словно перед задержанием.
— Нет проблем. У меня полно других забот.
— Иногда я начинаю в этом сомневаться, — сказал Франклин, после чего в коридоре раздался скрип его удаляющихся шагов. Прежде чем завернуть за угол, он взглянул в затянутое проволочной сеткой оконце. Молья захлопнул картонную папку с делом, аккуратно положил ее на кресло и придавил своей задницей.
11
Юридическая корпорация «Фостер и Бейн», Сан-Франциско
Тина взяла из рук Слоуна листок с сообщением и, с подозрением оглядев собственный почерк, вернула ее Слоуну.
— Не знаю.
Слоун засмеялся.
— Полагаю, он это не разъяснил.
Она опять взяла бумажку, опять проглядела ее, вернула.
— А что, разве говорится, что разъяснил?
— Так кто же он такой?
— Почем мне знать? Возможно, какой-нибудь предприимчивый юнец, занимающийся прогнозами на бирже. Тебя такие одолевают в последнее время.
Он улыбнулся.
— А мы не могли бы узнать поточнее?
— Позвони.
Слоун поднял бровь.
— О, поняла. Под «мы» подразумевалась я! — Она вырвала из его рук бумажку и, закатив глаза, удалилась, что-то бормоча себе под нос.
Минуту спустя она вернулась.
— Ты прямо метеор.
— Могла бы и побыстрее. Позвонила Диана. Его Величество желает переговорить с тобой насчет твоих переговоров с «Трансамериканской страховой компанией» в понедельник утром. Хочешь, я отведу следующие три часа твоего времени на разговор с этим бахвалом?
Беседовать с Бобом Фостером Слоун был не в настроении.
— Что ты ей сказала?
— Дала ей от ворот поворот. Сказала, что ты в туалете. Если она еще раз позвонит, скажу, что ты убежал, прежде чем я смогла передать тебе, что она звонила.
И она самодовольно улыбнулась Слоуну.
Он быстро стянул со спинки кресла ветровку.
— Ты гений.
— Слова ничего не стоят. Я хочу прибавки к жалованью.
— Я бы задержался и подал заявление насчет тебя, но не хочется превращать тебя в лгунью в глазах Дианы. Приятного тебе уикенда.
Она приложила руку к груди жестом регулировщика перед школой, вручила ему папку с его страховочными документами, а заодно и три листа бумаги вместе с ручкой.
— Задержитесь еще на секундочку, мистер Мощнейшее оружие. Требуется ваш автограф.
Он расписался на каждом листке и отдал ей бумаги.
— Что это я подписал?
— Ничего существенного. Прибавка к жалованью Тине. Оплаченный отпуск Тине. И моя ежегодная инвентаризация. Взяла на себя смелость заполнить все графы без тебя.
— Ну и как обстояли дела в этом году?
— Как всегда, без сучка без задоринки.
— Молодец.
Сунув в карман розовую бумажку с сообщением и сбив чуть-чуть набок картину на стене, он подмигнул ей, проходя мимо, и исчез в коридоре.
12
Чарльзтаун, Западная Виргиния
Том Молья выждал до предвечерних часов с тем, чтобы Клей Плешуин не усмотрел в его отсутствии ничего, кроме легкого дисциплинарного нарушения в конце недели. Уходя, он даже передвинул на доске эту чертову магнитную бирку, так его раздражавшую, что он всегда забывал это делать. Он подозревал, что доска — изобретение Франклина, сводного брата Плешуина. Франклина хлебом не корми, но дай последить за полицейскими, особенно за Мольей. После двадцати лет приходов и уходов когда ему вздумается Молья не мог свыкнуться с идеей табеля и не допускал, что кто-то может контролировать его приходы и уходы, кроме, может быть, жены, заслужившей это право тем, что терпела его целых двадцать два года их совместной жизни. Доске же он объявил войну.
Сидя в своем изумрудно-зеленом шевроле 1969 года выпуска, он мысленно проигрывал свой разговор с помощником генерального прокурора Риверсом Джонсом. Он просеивал все сказанное Джонсом, прикидывая, что из этого можно извлечь.
Слова летели и шуршали, как листья в листопад. Но слово «расследование», оброненное Джонсом, не было случайной оговоркой. Министерство юстиции расследовало очевидный случай самоубийства, и распоряжение исходило из Белого дома. Почему? Логичное объяснение тут могло быть только одно: кто-то не уверен, что это самоубийство, а значит, существует вероятность убийства, что касается уже его, Тома Мольи.
Он повернул направо на Шестую авеню, въехал в узкий проулок за двухэтажным кирпичным, крытым штукатуркой зданием с дымчатыми окнами и вылез из машины. Разогретый асфальт на стоянке призрачно поблескивал. Еще не открыв металлическую запасную дверь и не поднявшись по черной лестнице, он уже вспотел. Сотрудников он не застанет. На самой верхней площадке он толкнул внутреннюю дверцу и очутился в помещении с кондиционером, наполненным оглушительными раскатами группы «Ю-2». Быстро пройдя зал для посетителей, он углубился в коридор, где пахло патолого-анатомическим исследованием — схоже с запахом сырой печени.
Доктор Питер Хо сидел на вращающемся табурете, склонившись над еще не полностью вытащенным из темно-зеленого мешка трупом. Мощную лазерную лампочку он держал в зубах, высвобождая руки для манипуляций зажимами и пинцетами, с помощью которых раздвигал один за другим слои кожи. Хо был само внимание, если не считать того, что каждые несколько секунд он ударял своим стальным хирургическим инструментом по краю ближайшего лотка в такт музыке, исполняемой его любимой группой.
Замедлив шаг и ступая на цыпочках, Молья приблизился и схватил Хо за плечо.
Окружной коронер вскочил так стремительно, будто его сбросило с табурета, и метнулся на середину комнаты. Лазерная лампочка полетела прямо в разверстую грудную полость трупа, зеркальце на лбу Хо соскочило с обода, а очки, упав с переносицы, повисли на закрепленной вокруг шеи цепочке.
Хо тяжело дышал, красный и злой.
— Черт возьми, Моль, я же просил тебя больше так не делать!
Молья со смехом поднял табурет.
— Ты принял меня за одного из своих клиентов — вдруг ожившего и набросившегося на тебя, а, Питер?
Шутка эта могла бы ему надоесть, если б не живейший, в который раз, испуг Питера. Осанистый толстощекий азиат никогда бы в этом не признался, однако Молья был уверен, что коронер округа Джефферсон боится мертвецов. Точь-в-точь механик, боящийся машин.
— Вот будешь продолжать в том же духе, так и станешь моим пациентом! — опять взъярился он. — От тебя можно и инфаркт схлопотать!
— Разве уже нельзя просто заглянуть поздороваться?
— Так ты поздороваться хотел? Почему ж не зайти через основной вход, как нормальные люди ходят, чтобы я услышал звонок?
Хо поправил зеркальце на лбу. Молья поднял руку, загораживаясь от яркого света.
— Но задняя дверь ближе к парковке. Звонка ты за всем этим грохотом все равно бы не услышал. А кроме того, мы оба прекрасно знаем, что нормальным меня не назовешь.
— Музыка «Ю-2» — это вовсе не грохот. А с последним я соглашусь — нормальным тебя не назовешь.
Сев на табурет, Молья наклонился к накрытой голове трупа.
— Вообще-то тебе следует запирать заднюю дверь, Питер. В целях безопасности. Отсюда к тебе кто угодно может проникнуть. — И взяв в руки обоюдоострый скальпель, он для пущей выразительности ткнул им в Питера.
Хо взял в руки щипцы.
— Очень мило. Слава Богу, инструмент стерильный. — Он уронил орудие в металлический лоток. — Отныне я лично прослежу за тем, чтобы Бетти, уходя домой, запирала эту проклятую дверь.
— Уверен, что она одумается, — сказал Молья.
Бетти вечно забывала про эту дверь.
Молья приподнял материю, прикрывавшую голову трупа.
— Парень плохо выглядит, Пит. Думаю, что работать тебе с ним будет нелегко.
Хо опять прикрыл голову трупа.
— Побольше уважения к мертвым, Моль. И ты выглядел бы не лучше, размозжи тебе кто-нибудь башку из двенадцатикалиберной пушки.
— Несчастный случай на охоте?
— Нет, на кухне. Так, по крайней мере, утверждает жена и пока что упрямо отстаивает эту версию. Конечно, то, что произошло это в тот самый день, когда она выяснила, что муж гуляет с продавщицей бакалейного отдела «Уинн-Дикси», — чистое совпадение.
Моль склонил голову набок и поцокал языком.
— Ту-ту-ту! Связался с продавщицей! Как такое стерпеть!
— Бум-бум-бум! В общем, не бросай корок на пол. Пробросаешься. Потом локти кусать будешь. Говорят, она ворвалась в дом и уложила его прямо за ужином. — Хо ткнул пальцем в рубашку покойника. — Вот здесь был еще майонез, когда его доставили. — Он снял перчатки из латекса и вытер руки о резиновый фартук. — Спасибо тебе за сегодняшний трупик, приятель. Может быть, сумею тебе отплатить — заразить гепатитом или еще что.
Когда Молья переправил ему в то утро труп Джо Браника, Хо еще не было на месте.
— Что-нибудь не так?
— Что-нибудь не так? — передразнил его Хо. — Как я и сказал, потом локти кусать будешь. — Он прошел к белой фарфоровой раковине вымыть руки. — Трясут меня, а больше ничего. И не говори, что не знаешь, про что я толкую.
— Про Министерство юстиции?
— Не только оно трясет. Еще и семья. И репортеры. — Он вытер руки бумажным полотенцем, кинул его в мусорное ведро, сунув руки за спину, развязал тесемки фартука, повесил его на крюк двери и скрылся в кабинете. Спустя несколько секунд доносившаяся оттуда музыка замолкла, и он вышел с картонной папкой в руках, одетый в черную футболку, украшенную изображением солиста группы «Ю-2» Боно.
— Ручная доставка! — Он помахал в воздухе бумагой с грифом Министерства юстиции. Потом сдвинул на переносицу очки с диоптриями: — Браник Джо. Надлежит отправить без медицинского освидетельствования экспертом. То есть без меня. И так далее, и тому подобное. — Он захлопнул папку и взглянул на Молью поверх очков. — То есть вскрытия не производить. То есть я отправляюсь домой, чтобы смотреть, как будет подавать Джейсон.
— Что, сегодня игра?
— Мэгги просила тебе напомнить. Почему бы тебе, собственно, не обзавестись расписанием?
— Думаешь, это самоубийство? — спросил Молья.
— Не знаю. Я и близко к трупу не подходил. А теперь и надобности нет.
— Но он еще здесь?
Хо равнодушно ткнул пальцами в сторону холодильного шкафа из нержавейки со множеством отделений.
— В ящике. Они утром первое, что сделают, за ним прибегут. Бумаги в порядке.
Он прошел к столу под полками, уставленными толстыми книгами по патологии, анатомии, токсикологии и судебной медицине.
— Если ты знал, что тебя от дела отстраняют, зачем было заниматься документацией?
— Я и не собирался, но позвонила его сестра из Бостона. Говорила, как юрист самого высшего ранга, в приказном тоне. Сказала, что ей нужно знать точную причину смерти. Настроена была самым серьезным образом. Ну, и я стал строчить писанину. Потом мне позвонил мистер Джонс и велел дело свернуть. А потом и бумага пришла. Думаю, что и ты не избежал подобной участи, так как тоже значишься в списке тех, на кого ему следовало излить теплоту и доброжелательность.
— Погоди. — Молья соскользнул с табурета. — Его сестра сказала, что хочет получить результаты побыстрее? Она сказала почему?
— Не-а.
— А вслед за этим Министерство юстиции велит тебе работу прекратить?
— Ага.
— И причину не объясняет.
— Не-а. — Хо выключил свет в кабинете. — Наверное, не доверяет провинциальным медикам, да и всем вам.
Хо был родом из Филадельфии, то есть таким же «провинциалом», как и Молья.
— Ты ей перезвонил?
— Сестре? Зачем это? — Пройдясь по кабинету, Хо выключил верхний свет над рабочим столом. — Мне-то что за дело? Пусть кто-нибудь другой этот труп режет.
— Зачем сюда впуталось Министерство юстиции, а, Питер?
Хо пожал плечами.
— Он был другом президента.
— Да, они так и сказали. Но они ведут себя так, словно это не самоубийство. Джонс из себя вышел в разговоре со мной.
— Удивительное дело.
— И начал бросаться словами вроде «расследования». Чего расследовать банальное самоубийство?
Хо выключил лампу возле Мольи.
— Не знаю.
— И Джонс сказал, что выполняет распоряжение президента.
Хо приостановился.
— Серьезно?
— Ага, вполне.
Хо равнодушно махнул рукой.
— Ну, они же были друзьями. Так что президент тут лично заинтересован, а родные вечно не верят, что близкий человек мог покончить жизнь самоубийством. Ты ведь знаешь.
— Что-то муторно мне как-то.
— И будет муторно, если ешь всякую дрянь. Надеюсь, мне не придется делать тебе вскрытие. Небось в брюхе у тебя жестянки из-под консервов и проглоченные акцизные знаки.
— В ту ночь не было звонка диспетчера, Питер, никто не звонил девять-один-один, чтобы сообщить о трупе. Я проверил.
Хо помолчал, обдумывая услышанное.
— Так как же Куп узнал?
— Хороший вопрос. Вот я и думаю: а что, если ему и не полагалось узнавать? Скажем так: он нечаянно наткнулся на то, на что натыкаться ему не следовало. Тогда наш разговор с Джонсом выступает в ином свете, не так ли?
Лицо у Хо стало напряженно-сосредоточенным, словно он нехотя решал трудную математическую задачу. Потом он тряхнул головой, словно прогоняя все мысли по этому поводу.
— Это все твои домыслы. Фактов у тебя нет. Подумай сам: Министерство юстиции, на кой ему впутываться в такого рода дело? Смешно, ей-богу!
— А я о чем говорю! Они бы не впутывались, будь это и вправду самоубийство!
Молья подождал, пока вывод из его слов всколыхнет Хо и пробудит в нем интерес. Единственным способом узнать, самоубийство ли это, было вскрытие.
— Ну, узнать-то просто.
— Да?
— Если б я палец о палец ударил, чего я делать не собираюсь.
Хо набросил на плечи легкую ветровку с логотипом «Чарльзтаун Литтл Лиг», под которым было выведено: «бестии».
— Разве тебе не любопытно? — спросил Молья.
Хо подошел к рабочему столу и закрыл на молнию мешок, готовясь отправить тело обратно в холодильник.
— Не настолько, чтобы заваривать такую кашу. Я получил от ворот поворот. Как и ты, Моль. Так пускай Министерство юстиции само в этом и копается. Если тут не самоубийство, то рано или поздно они это выяснят.
— Ты, наверное, прав, — в спину Хо бросил Молья. — Возможно, все это и пустяки. Простое совпадение — как этот парень и сомнительного поведения продавщица в «Уинн-Дикси». — Он повернулся и направился в коридор. — Я не уезжаю на уикенд. Звякни мне. Могли бы взять мальчишек на рыбалку.
Хо с шумом выдохнул воздух, как кит, выпускающий фонтан.
— Ах ты, сукин... Что ж ты делаешь со мной! Знаешь ведь, что теперь мне ничего не остается, как попытаться выяснить!
Молья улыбнулся. Хо был из тех парней, которые, начиная читать роман, вначале заглядывают в конец.
— А можно сделать все так, чтобы никто ни о чем не узнал, а, Питер?
— Тебя это до такой степени волнует?
— Не вижу необходимости вызывать подозрения.
Хо секунду помолчал, прикидывая.
— В какой-то мере да. С огнестрельной раной сделать это, в общем, возможно: взять лоскуток кожи со следами пороха с виска, сличить его с ожогами на пальцах и пороховой пылью под ногтями, определить траекторию пули, забрать кровь для химического анализа. Не стопроцентно точно, зато надежно. Никто не узнает, что проводишь исследования.
— Сколько это займет? Если бы ты взялся.
— За телом приедут утром. Что, это так уж важно, Том?
— Может оказаться важным.
Хо снял ветровку и вернулся к раковине, чтобы взять фартук; при этом он тихонько чертыхался, но делал это без азарта, словно для порядка.
— Поди объясни это Джейсону. — Он намыливал руки так яростно, словно старался содрать с них кожу. — Он дико обидится на меня за то, что я пропущу его игру.
— Я попрошу Мэгги записать игру на видео. Ну и сколько времени мы проведем в разговорах до первых результатов?
Хо взял еще бумажных полотенец.
— Кровь я отправлю в лабораторию завтра. Результат может быть, самое раннее, дня через два. Анализы крови порой длятся и дней десять, если не больше. Ты станешь меня торопить?
Молья покачал головой.
— Нет. Придется подождать. Ведь терпение — тоже добродетель, не так ли?
— К тебе это не относится.
— Спасибо, Питер. — Он вновь направился в коридор и остановился, словно его вдруг осенило.
— Под какой фамилией будут делаться анализы в лаборатории? Ты же не можешь указать его фамилию.
С треском натянув перчатки, Хо открыл зеленый мешок с телом и перевернул привязанную к пальцу ноги желтую бирку.
— Данбар, Джон.
Он поднял глаза на Молью.
— Мне понадобится и баллистическая экспертиза. Одними ожогами от выстрела тут не отделаться.
— Посмотрю, чем бы я смог тут помочь, — сказал Молья уже из коридора.
— И впредь входи сюда только через переднюю дверь! — крикнул ему Хо.
Потом он вернулся в кабинет, врубил на полную мощность музыку и пошел к стальному холодильному шкафу, чтобы вытащить оттуда тело с биркой: «Браник, Джон».
13
Пасифика, Калифорния
Стараясь отдышаться, Слоун прислонился к можжевеловой обшивке двери в квартиру. На его фуфайке расползались круги от пота, ручьями стекавшего со лба и висков. За две двери от него жужжала дрель: слесарь врубал новый замок в секцию №6. Весть о взломе распространилась быстро, и жильцы из тех, кто постарше, проявляли беспокойство.
Слоун распахнул дверь, бросил свой МП3-плеер и миниатюрные наушники на кафельный прилавок, отделявший гостиную от кухни, и, вытащив из холодильника бутыль с холодной водой, стал пить жадными глотками, так что вода струйками стекала из углов рта. В кухонное окно было видно, как чайки вились вокруг идущих вдоль пляжа мужчины и женщины — те бросали им крошки. В открытую дверь балкона неслись крики чаек.
Уйдя с работы, он ощутил потребность двигаться. Лодыжка по-прежнему болела, но в основном если отставлять ногу в сторону. При беге трусцой вдоль берега боль, похоже, стихала — ее заглушали Мик Джаггер с «Роллинг стоунз» своими воплями непосредственно ему в уши. Вспоминались люди, давным-давно им не виденные и не слышанные, — лица из детства мелькали, наплывали на него, как в немом кино, сопровождаемом музыкой тапера. Он был так увлечен всем этим, что когда остановился, желая повернуть назад, понял, что пробежал почти пять миль, а единственная возможность вернуться — проделать еще пять миль в обратном направлении.
Он снова заткнул пробкой бутыль с водой и поставил ее в холодильник. Мельда оставила ему пластмассовую миску, подсунув под нее записку: «Чтоб было, когда вернетесь. Всегда рада. Мельда».
Он снял крышку с миски, сгреб в горсть два кусочка курицы в грибном соусе с рисом и отправил в рот; Бад моментально очутился на прилавке. Слоун помахал рукой перед его носом. Кот понюхал и, не проявив интереса, спрыгнул на пол.
— Вот так всегда и бывает. Год назад жрал из помойки, а сейчас прямо гурманом заделался.
Он закрыл крышку и поставил миску в холодильник. Затем вынул из морозильника мешочек со льдом и порылся в ящике в поисках клейкой ленты. В гостиной сыпанул корма в аквариум и посмотрел, как морской окунь метнулся, опередив морского ангела, чтобы ухватить крохотную креветку. Аквариум Слоун приобрел, поддавшись минутному порыву: рыбки вдруг показались ему подходящей домашней живностью для холостяка с океанского побережья. Положив мешочек со льдом, оторвал зубами кусок клейкой ленты от мотка и занялся оказанием первой помощи диванной подушке, с тем чтобы было хотя бы где сесть и полечить лодыжку, когда в дверь раздался стук — условленные три раза.
Мельда стояла на площадке с ворохом конвертов.
— Я вам почту принесла, мистер Дэвид. На этот раз не так уж много — счета и ерунда всякая.
Он убил чуть ли не год, уговаривая ее звать его просто «Дэвид», но привычка оказалась неискоренимой. При виде почты он вспомнил о почтовом ящике.
— Вы не заметили, что мой ящик вскрыт, Мельда?
Лицо ее приняло озадаченное выражение.
— Вскрыт? Как это?
— Дверца открыта. Замок... — он попытался найти слово попроще, — ... сбит.
Рука ее сжалась в кулак.
— Сбит?
— Ну, отсутствует. Нет замка. — Судя по ее лицу, она понятия не имела, о чем это он толкует. — Ну, неважно. Входите и давайте выпьем чаю.
Она покачала головой. Лицо ее сморщила улыбка.
— Я пеку яблочный пирог. Вечером после клуба принесу вам кусочек.
Яблочные пироги Мельда пекла в качестве психотерапии. Слоун понимал, что утром она перенервничала. Он похлопал себя по животу — все еще тугой, хотя и не так, как раньше.
— У вас просто чутье какое-то, Мельда. Стоит мне решить сесть на диету, как вы печете яблочный пирог!
— Не надо, да? — разочарованно проговорила она.
— Когда это я мог устоять против вашего яблочного пирога?
Улыбка опять осветила ее лицо.
— Значит, до вечера. Я схожу в клуб на лотерею-бинго, а потом принесу пирог. — Она собралась было уходить, остановилась, приложила руку к виску.
— Ох, простите, память сдавать стала...
— Что такое?
— Телефоны... Их починили?
— Починили?.. У вас плохо работал телефон?
Она покачала головой.
— Не у меня. У вас.
— Мой телефон? А что с ним такое?
Она пожала плечами.
— Когда вас не было, приходил мужчина и говорил, что какая-то поломка и надо чинить.
— Он объяснил, в чем дело?
Она опять покачала головой.
— Я в этом не разбираюсь... Транс... в общем, что-то не так. Я просто показала ему ваш аппарат.
— Провели его ко мне в квартиру?
Будка с телефонными кабелями ко всем телефонам дома находилась снаружи, возле автомобильного навеса. Слоун достаточно хорошо знал устройство этой системы, чтобы понять, что починка не ограничилась бы телефоном в его квартире, особенно если учесть, что его не было дома и ни о какой неисправности он не сообщал.
— Он говорил что-то насчет проверки, я следила за ним.
Слоун снял трубку со стоявшего на кухонном прилавке аппарата. Раздался гудок.
— Все в порядке. Телефон работает. Кто-нибудь жаловался на телефон?
Она покачала головой.
— Нет, никто ничего не говорил.
— А человек этот в будку заходил?
— Нет, — ответила она, на этот раз не очень уверенно.
— Другие телефоны он проверял?
— Нет. Только ваш. — На лице Мельды мелькнул испуг. — Я что-то сделала не так?
Профессиональная выучка Слоуна тут же заставила его связать взлом квартиры с телефонным мастером. Если он прав, то о том, что взломщики проникли в квартиру случайно, и думать нечего.
— Мистер Дэвид, я что-то не так сделала?
Слоун покачал головой:
— Нет. Уверен, что все нормально, Мельда. Как вам показалось, человек этот был из телефонной компании?
Она кивнула.
— Он оставил карточку или какую-нибудь квитанцию?
Она покачала головой.
— А как насчет фамилии?
— Фамилии он не назвал. Такой симпатичный мужчина, такой вежливый.
— Нет, я уверен, что все в порядке. — Мысленно он сделал зарубку на память: не забыть утром же в понедельник позвонить в телефонную компанию и проверить, записан ли у них этот визит. Он не сомневался, что ответ ему известен. Он прикидывал, не мог ли этот человек быть родственником кого-либо из пострадавших от него в суде, кого-либо, кто точит на него зуб. — Можете описать мне этого мужчину? Как он выглядел?
Она секунду подумала.
— Ростом поменьше вашего. — Она согнула плечи, сгорбилась. — Мускулистый такой. Ну а лицо? Не знаю даже. Коротко стрижен. — Она провела рукой по макушке. — Здесь гладко... Ах да... На руке у него птица.
— Птица?
— Орел. Знаете, как это бывает. — Лицо Мельды напряженно сморщилось: — Как это сказать? — Она ткнула пальцем себя в предплечье. — Когда краску вводят... Иголкой...
— Татуировка?
— Да. Татуировка. Орел.
И как по заказу зазвонил телефон.
— Ну, думаю, его починили, — сказал Слоун.
Она улыбнулась.
— Вечером увидимся.
— Жду с нетерпением.
Закрыв за ней дверь, он взял трубку.
— Дэвид? Господи, ты меня до смерти напугал. Что ты делаешь дома? Я думала, ты уже отдыхаешь на всю катушку!
— У меня переменились планы, — сказал он. — А чего ты звонишь, если думаешь, что меня нет дома? — спросил он и тут же сообразил, что звонит она в пятницу в пять часов вечера. — Ты что, себе надбавку зарабатываешь?
— Держи свои деньги при себе. Пригодятся.
Помимо обычного сарказма он уловил в ее тоне еще что-то.
— Что случилось?
— Я хотела тебе сообщение оставить на случай, если ты позвонишь. Нехорошо было бы тебя в понедельник как обухом по голове шандарахнуть.
— Звучит не слишком обнадеживающе.
— Так и есть. Как говорится, дерьмо пошло — успевай глотать. От «Эббот секьюрити» к нам поступило целых семь дел. Пол Эббот дал от ворот поворот всем своим юристам и хочет, чтобы его делами занимался только ты! С чем и поздравляю.
— Да знаю я. Боб Фостер еще утром успел этим меня порадовать.
— Правда? А Его Величество сообщил тебе также, что одно из дел назначено к слушанию в понедельник?
— В этот понедельник?
— В этот понедельник.
От возмущения Слоун даже рассмеялся.
— Мы получим пролонгацию.
— Не получим. Эмми Доусон сегодня частным порядком ринулась в Верховный суд Сан-Матео, и судья Марголис ей наотрез отказал. По всей видимости, Эббот в третий раз меняет защиту. Вот прохвост. Когда будем устраивать новогодний бал для клиентов, напомни мне потерять его адрес. И судья Марголис что-то вскользь проговорил насчет того, чтобы «Мощнейшее оружие» было наготове, так что лучше тебе времени зря не терять. Эббот звонил трижды и в последний раз спрашивал твой сотовый и домашний телефоны, причем был не слишком-то обходителен.
— Дело-то очень муторное?
— Эмми говорит, ничего особенного. Один из служащих Эббота ограбил ювелирный магазин, который ему было поручено охранять. Парень уже был судим за грабеж. Умеют же подобрать себе кадры! Молодцы, да и только!
Слоуну хотелось пожаловаться на судьбу, но жаловаться в разговоре с Тиной было все равно что читать молитвы перед церковным причтом, и в конце концов, к добру ли, к худу ли, но это его работа.
— Лучше мне самому разобраться что к чему. Скажи Эмми, что я уже в дороге. И закажи нам «Ханен», хорошо?
Он повесил трубку, мысленно готовясь к долгому и утомительному вечеру. Потом бросил в портфель почту — так как большую часть дня проводил на службе, счета он, так или иначе, оплачивал там, — стянул через голову мокрую от пота фуфайку и поспешил в ванную, чтобы наскоро принять душ.
14
Остров Камано, Западный Вашингтон
Чарльз Дженкинс опустился на пятки своих измазанных глиной ботинок и, сняв кожаную рукавицу, провел рукой по лбу, оставляя на нем грязь, смешанную с потом. Хотя было и не жарко, фуфайка его под рабочим комбинезоном потемнела от пота на спине и груди. Высоко в летнем небе пролетела на северо-запад стая канадских гусей, клин их ясно обозначился на меркнущем небосклоне. С южной стороны горизонта высилась гора Рейньер, ледники на ней сейчас отливали золотом.
Дженкинс опять натянул рукавицу и продолжал прополку помидоров, копаясь в остро пахнущем кофейно-коричневом перегное, перемешанном с навозом и дворовым мусором, выбирая оттуда сучки и камушки. За его спиной на лугу скакали галопом арабские жеребцы — они вскидывали задние ноги и фыркали, нагнув голову и примериваясь, чтобы лягнуть Лу и Арнольда. Если не считать еды, самым большим удовольствием для его псов было задирать этих девятисотфунтовых великанов. Неумолчный и назойливый собачий лай не вынесли бы никакие соседи, но соседей у Дженкинса не было. С запада и севера десять акров его луга окаймляли густые заросли можжевельника, тсуги и кленов, на востоке зеленые, как зеленое одеяло, невысокие холмы граничили с молочной фермой. В четверти мили к югу находился залив Пьюджет — единственным строением в той стороне была дощатая пресвитерианская церковь, и там же проходили две дороги, кружившие по острову и зажимавшие его в клещи.
Воспользовавшись редким моментом тишины, Дженкинс распрямился и, бросив взгляд через плечо, увидел, что копыта арабских жеребцов уже нацелены, но Лу и Арнольд не увертывались — они напряженно замерли, навострив уши и принюхиваясь.
Дженкинс тоже был настороже, хотя его к этому еще и подтолкнули: когда днем он отправился в Стенвуд за сеткой для птиц, чтобы уберечь огород, Гэс из скобяной лавки сообщил ему, что им интересовались. Свою роль сыграла и первая страница «Сиэтл постинтеллидженсер».
Машина ехала с восточной стороны, у церкви она замедлила ход — видимо, водителю церковь указали в качестве ориентира. Он потерял машину из виду, когда она скрылась за дощатой церковью, а потом опять вынырнула вдали, свернув на глину и гравий полосы отвода. Машина ехала теперь медленнее, так как дорога шла в гору, потом машина опять исчезла за ежевичными кустами, отделявшими церковные владения от его земель. Не важно. Дорогу эту он знает как свои пять пальцев. Гравий скоро кончится, и начнется грунтовая, с выбоинами; на развилке возле следующей купы ежевичных кустов, разросшихся так, что того и гляди разрушат его ветхий сарай, водитель свернет направо, потому что дорога там покажется ему шире, а значит, и более наезженной. По ней он доедет до ручья, а там тупик, и ему придется пятиться задом. Левая дорога так узка, что кусты будут царапать корпус машины, и так до самого навеса — сомнительного шаткого сооружения, примыкающего к сторожке. Наиболее предприимчивые из визитеров предпочтут покинуть машину и постучать в переднюю дверь. Но сегодня вечером на стук никто не ответит. Хозяин в огороде — пропалывает томатную грядку.
Как только хлопнула дверца машины, Лу и Арнольд бросились прямо через заросли, огрызаясь и стараясь опередить друг друга. Их внезапное появление и огромные размеры — оба этих родезийских риджбэка весили по 130 фунтов — вкупе со стоявшей дыбом гривой волос на спине могли бы вызвать панику. Но виляющие хвосты и выражение слюнявых морд изобличали абсолютную безвредность и мирный нрав этих зверюг. Дженкинс сомневался в их породистости: собаки, выведенные в Южной Африке для охоты на львов, в его случае не одолели бы и белки.
Склонившись над грядкой, он продолжал мешать компост с землей. Спустя несколько минут он услышал, как мчатся Лу и Арнольд — они бежали в высокой траве, и по их неровному, с внезапными остановками бегу Дженкинс понял, что за ними следом к нему кто-то направляется. Добежав, они стали кружить вокруг него, тяжело дыша, свесив языки на сторону. Дженкинс снял рукавицы и, подняв с земли мотыгу, распрямился во весь свой шестифутовый с половиной рост, огромная, весом в 230 фунтов, фигура, выросшая из земли, подобно стеблю из сказки про Джека и бобовое зернышко. Он отер грязь с правой руки о штанину левой и словно бы собирался повторить это движение. Но вдруг наклонился вправо и, ухватив ручку мотыги, взмахнул ею, прорезав воздух ее острием.
15
Юридическая корпорация «Фостер и Бейн», Сан-Франциско
Слоун сунул папку обратно на полку, прикрыл веки и ущипнул переносицу. Врач, проверявший его зрение, сказал, что к сорока годам он, видимо, будет читать в очках, но, судя по тому, как у него уставали глаза, похоже, он года на два опережал прогноз. Хорошо по крайней мере, что, как и большинство пожаров в его ведомстве, пожар, который живописала Тина по телефону, оказался ложным. Чутье не подвело Слоуна: судья Марголис решил уладить дело миром, и это было правильно, процесс отменялся. После часового телефонного разговора с Эбботом Слоун в конце концов убедил его внести соответствующую сумму и покончить с этим, но ему пришлось пригрозить, что в случае отказа он сложит с себя все полномочия в отношении «Эббот секьюрити». Эббот, со своей стороны, тоже не скупился на угрозы, однако потом согласился.
Обычно на просмотр такого рода дел Слоун тратил вполовину меньше времени. За годы работы он выработал умение отключаться от всех отвлекающих обстоятельств и целиком концентрироваться на непосредственной задаче. Работа была его лекарством, возможно, подменой, но тем не менее подменой эффективной.
Но на этот раз лекарство не помогало. Он был рассеян и все время мысленно возвращался к взлому и последовавшему затем признанию Мельды, что в квартиру заходил телефонный мастер. Профессиональная выучка подсказывала ему рассматривать оба этих факта как взаимосвязанные, пускай даже одной лишь необъяснимостью с точки зрения логики, а также местом действия — квартирой Слоуна.
Сев за стол, он, орудуя палочками, доел из картонки остатки еды — кусочки острого мяса, наполнявшие всю комнату запахом перца, зеленого лука и чеснока, и запил китайским пивом. Никакого явного доказательства связи двух инцидентов он не имел, но его преследовало чувство, что он упускает нечто важное, основополагающее, чему и предстоит связать воедино два этих странных случая. Вот оно, проклятье всех юристов, — уверенность, что все взаимосвязано, стоит только обнаружить некую нить. И всегда есть вероятность заговора. Неудивительно, что юристы вечно подвергаются преследованиям — они сами на себя эти преследования и навлекают.
У вас есть враги, мистер Слоун?
Слоун видел перед собой этого полицейского, пришедшего к нему в квартиру по факту взлома, в ушах его еще раздавался этот голос. Он задал Слоуну свой вопрос, когда они выясняли причиненный ущерб.
— Похоже, вы кого-то крепко рассердили, — сказал он. — У вас есть враги, мистер Слоун?
Слоун ответил, что врагов у него, наверное, полно, учитывая его профессию.
— А почему вы спрашиваете?
Полицейский подвел его к входной двери и показал замок.
— Замок сбит, но не сломан.
— Это имеет значение?
— Указывает на то, что в квартиру проникли легко. В дверь не пришлось ломиться. У проникшего сюда либо был ключ, либо он подобрал отмычку. Работа профессионала. Идеи имеются?
— Ни малейших, — сказал Слоун в пустоту комнаты. Он уронил палочки в пустую картонку и, выбросив то и другое в корзину для мусора возле своего стола, вытащил из портфеля почту и стал ее разбирать, пока не наткнулся на бурый, 9x12, конверт. На конверте были написаны от руки его фамилия и адрес.
Постучав, в дверь вошла Тина.
— Ты еще здесь? — Он положил конверт, взяв у нее из рук проект соглашения, который надиктовал ей, имея в виду подготовить это к утру понедельника.
— Лишь физически, — ответила она. — Мысленно я отчалила отсюда уже в пять.
— Я не думал, что ты будешь тратить на это сегодняшний вечер.
— Поздно. — Она отвела от щеки выбившуюся прядь, одернула рукава вязаного жакета. — В чем дело? У меня что-нибудь не так с лицом? — Глядя на свое отражение в стекле, она вытерла уголок рта.
Он не сводил с нее глаз. Он клюнул на нее с первой же минуты, когда ее представили ему в качестве его секретаря, но по-настоящему она произвела на него впечатление, когда вошла в зал, где отмечалось двадцатипятилетие их фирмы, вошла одна, без сопровождения, в черном платье с декольтированной спиной и жемчужным ожерельем на шее. Они сели рядом — оба без супругов, без дам и кавалеров, и протанцевали друг с другом не один раз за этот вечер. Но едва пробило полночь, как Тина мгновенно ушла. И его это устроило. Продолжение исключалось. Она была его подчиненной — роман между ними мог быть лишь губительным, как все его прежние романы, выстроившиеся в цепь неудач. Но в отличие от женщин, единственным стремлением которых был брак, Тина таких поползновений не выказывала. Слоун привык ее уважать за ум и зрелость не по годам, за то, что во главу угла она ставила благополучие своего сына Джейка.
— Я просто удивился, с кем ты оставила Джейка.
Она отвернулась от окна.
— Не поверишь, но с его отцом. Позвала его, чтобы проверить, не подернулось ли пеплом адское пламя. — Она махнула рукой. — Мама говорит, что я не должна говорить такие вещи, что мне следует быть подипломатичнее: «Фрэнк — неплохой человек. Он только плохой отец». — Она закатила глаза, потом дернула подбородком в сторону бутылки пива.
— У тебя еще есть или ты вылакал их все?
Слоун откупорил бутылку и протянул ее Тине через стол.
— Хочешь китайской еды? У меня осталась целая картонка курицы в чесночном соусе.
— Я уже заказала себе. На твои деньги. — Она подняла вверх бутылку: — Ну, за веселый пятничный вечер! — Они чокнулись бутылками, и она опустилась в кресло через стол от него. — Так куда же ты собирался?
— Ты о чем?
— О твоем отпуске.
— О, просто побродить в горах несколько дней. В Джосмит.
— По скалам полазить?
— Ну ничего. Для этого я сейчас не в форме. Так что рад, в конце концов, пораскинуть мозгами, поупражняться в профессии.
— Ты просто убиваешь себя.
— Спасибо тебе, что задержалась так поздно. Надеюсь, я не очень нарушил твои планы?
— Нарушил. Меня очень ждали. Мать обожает «Старинное шоу». Ладно, забудь об этом. По крайней мере, это дало возможность мне позаниматься, а Джейку — пообщаться с так называемым отцом. Ну вот, опять я за свое.
Слоун засмеялся.
— Это ты о своих занятиях?
— Ты говоришь о них с таким удивлением.
— Меня рассмешили твои слова. Ты что, школу посещаешь или как?
— Или как. — Она расхохоталась, забавляясь его замешательством. — Нет, ты определенно в шоке.
— Нет, погоди... Ты ведь никогда ничего не говорила. Ты где-то учишься?
Она застенчиво улыбнулась и отхлебнула еще пива.
— Что же ты изучаешь?
— Архитектуру.
— Нет, серьезно, что?
Она поставила бутылку.
— Ну и как она?
— Ты это о чем?
— О твоей ноге.
Она не шутила. А он считал, что, может быть, речь идет о каком-нибудь рисовальном кружке.
— К твоему сведению, я уже три года как в колледже занимаюсь. Когда родился Джейк, пришлось бросить учебу, но я дала себе слово восстановиться и колледж окончить. Потом Фрэнк посчитал, что отцовство для него слишком обременительно, и мне пришлось ждать. Прежде чем рассказывать об этом, мне хотелось быть уверенной, что у меня получится.
— Получится что?
— Окончить колледж. Это произойдет к концу лета.
Он почувствовал сосущую боль в диафрагме.
— К концу лета? И что будет потом?
Она отпила из бутылки.
— После обсудим.
— Ты собираешься уйти с работы?
Она заколебалась.
— Я думала сказать тебе раньше, но ты был так занят делом этой Скотт, и я не хотела вклиниваться.
Ему казалось, что его пихнули ногой в живот.
— Так ты уходишь...
— Первого августа я подам заявление, — сказала она.
— За две недели?
— У тебя будет месяц на то, чтобы найти мне замену. А шанс мне выпал неожиданно. И мне еще нужно время на то, чтобы записать Джейка в школу осенью и подыскать нам жилье.
Комната словно закружилась вокруг него.
— Жилье... Куда же ты уезжаешь?
— В Сиэтл. Приятель предложил мне работу чертежницы. Работа хорошая. И оплачивается лучше. И льгот побольше. Я буду в состоянии даже дом купить. Смогу больше времени уделять Джейку, и мама наконец вздохнет свободнее.
Он не знал, что сказать. Ему и в голову никогда не приходило, что Тина может уйти с работы. Он представлял себе, что компания подарит ему и ей золотые часы одновременно.
— Я и не собиралась корпеть здесь до старости, Дэвид. А так для меня лучше. То есть, я хочу сказать, что перспектив здесь для меня особых нет. Или есть, по-твоему?
— Ты могла бы найти себе другое место, не уезжая.
— Ладно, хватит об этом. — Отвернувшись, она смотрела в окно, потом опять взглянула на него. — Почему ты здесь?
— Это хорошая фирма, Тина...
— Нет. Почему ты здесь сегодня вечером? Ты уже бог знает сколько лет не был в отпуске, и вот когда взял наконец свободные дни, почему-то остаешься. И прости меня за такие слова, но выглядишь ты плохо, у тебя усталый вид.
Может быть, из-за того, что она уезжала, а может быть, из-за выпитого пива, но, так или иначе, его вдруг прорвало:
— Я плохо сплю.
— Ты слишком устаешь на работе.
— Дело не в работе. Меня преследует кошмар.
— Кошмар?
— И тогда начинает болеть голова и я уже не могу уснуть.
Ее рука с бутылкой поползла вниз.
— И сколько уже это продолжается?
— Каждую ночь на рассвете, с того времени, когда начался процесс Скотт.
— Тебе надо к доктору обратиться, Дэвид.
Он коротко засмеялся.
— Ты хочешь сказать, что мне надо голову полечить?
— Я не это имела в виду.
— Юристы все связаны друг с другом, Тина. Не надо, чтобы поползли слухи, будто я, похоже, тронулся.
— Ты упрямишься, — сказала она. — Сходи к доктору, Дэвид. — Она отпила пива. — А что за кошмар?
— Не стоит тебе все это выслушивать, Тина.
— Почему же? Чем дольше я здесь, тем больше времени Джейк проведет с этим так называемым... О Господи, я хочу сказать, со своим отцом. — Она поставила на стол пустую бутылку. — Открой-ка мне еще одну! — Он передал ей вторую бутылку. — А потом, я поделилась с тобой своим секретом и вправе ожидать того же и от тебя. Может быть, поделившись с кем-то, ты почувствуешь облегчение.
Да, тая это в себе, облегчения он, во всяком случае, не чувствовал.
— Ладно, какого черта...
И он начал спокойно, сухим, будничным тоном, словно излагая присяжным суть дела:
— Я в комнате. Где именно — непонятно; характерных деталей мало, и комната кажется голой. В ней женщина. — Он закрыл глаза, представив себе ее. — Иногда она работает за столом. Иногда она просто стоит... в белом платье, освещенная сзади, она похожа на силуэт. И не знаю почему, но у меня возникает чувство... — Он открыл глаза. — Нет, даже больше, чем чувство, уверенность... я знаю, что с ней что-то должно произойти, что-то плохое, что-то, чего я не могу предотвратить.
— Почему?
Он с трудом подыскивал точные слова.
— Я не могу сдвинуться с места. Мне кажется, что руки и ноги у меня скованы. Я хочу крикнуть ей, но мой голос... звука не получается...
Она подалась вперед.
— И что же с ней происходит?
— Непонятное. Ослепительная вспышка света, взрыв... — Он поднес ладонь к уху, словно загораживаясь от этого звука. — И в комнату вбегают люди... они кричат...
— Кто эти люди?
Он покачал головой.
— Все как в тумане. Не разглядеть, не вздохнуть...
— И что же с женщиной?
Он отпил из бутылки.
— Дэвид!
Он опустил глаза.
— Они насилуют ее, — тихо сказал он, — а потом убивают.
16
Она не шелохнулась.
Острие мотыги остановилось в двух дюймах от ее горла, но она не сдвинулась с места.
Она разглядывала его, как если б перед ее глазами вдруг вырос гигантский сикомор, и удивлялась его размерам. Ее взгляд охватывал его всего, начиная с лямок рабочего комбинезона, врезавшихся в мощные плечи и грудь, и кончая штанинами, закатанными над грязными бутсами. Чарльз Дженкинс не узнавал ее, хотя в памяти его мелькало что-то смутное, но такое лицо, раз увидев, не забудешь. Красота ее была столь же поразительной, как и выдержка. Ее волосы волной падали на плечи, как пролитые чернила — иссиня-черные, того же цвета, что и ее глаза. Нос тонкий, безукоризненно правильный, возможно, измененный хирургическим путем, и хоть следов косметики на ее лице Дженкинс и не заметил, оно было румяным — не то от холода, не то от адреналина в крови. Не считая румянца, оно было ровно-смуглым, бронзового цвета. На вид росту в ней было футов пять, причем большую часть составляли ноги в прямых обтянутых джинсах, а лишний дюйм, возможно, добавляли каблуки начищенных до блеска сапожек — острые эти каблуки проваливались, дырявя рыхлый сырой грунт. На ней была короткая, по пояс, кожаная куртка и белая блузка.
И за всей этой красотой чувствовались еще и спортивность, и тренированность.
— Чарльз Дженкинс? — спросила она.
Оставив мотыгу на грядках, он повел женщину по лугу к коттеджу. У задней двери он снял башмаки и вошел в дом. Пройдя через кухню в большую комнату и не слыша за собой ее шагов, он оглянулся и увидел, что она стоит на пороге, разглядывая кухню с тем же сдержанным интересом, с каким разглядывала его. Кастрюли, сковороды и кухонные ложки заполняли всю раковину, громоздились на пластиковом рабочем столе и оставляли свободной лишь одну конфорку плиты. На столе в ряд, как игрушечные солдатики, выстроились десятки банок, некоторые запечатанные, с притертыми пробками. Свежесобранная ежевика и малина в решетах ждали своей очереди, чтобы, помыв, их сварили. Городской супермаркет торговал его джемами в секции, отведенной для местных товаров, — джемы были его хобби, как и арабские скакуны. Родители оставили ему скромное состояние, на которое при грамотных вложениях и осмотрительных тратах можно было жить до старости.
— Так тепло выдувает, — сказал он, хотя в доме было прохладно.
Она прикрыла за собой дверь и легким шагом стала пробираться между пластиковых контейнеров с рассадой — помидоров, патиссонов, кукурузы, горошка и салата, направляясь к нему в комнату.
Скинув рукавицы на кипы газет, он взял ворох невскрытых конвертов с надписью «Местному жителю» — конвертов этих на круглом столе скопилась целая куча. Шестидюймовый кусок дерева он вытесал из комеля толстенного кипариса, поваленного ураганами зимы 1998 года. Отшлифованный и отполированный, комель этот служил ему теперь универсальным столом. Все конверты, кроме одного, он кинул в сложенный из приречных камней камин, чиркнул спичкой о комель, поджег конверт в руке и бросил его на остальную кучу. Потом он наклонился, чтобы добавить растопки; стоя к ней спиной, он слышал, как цокают ее каблучки по дощатому полу. Она ходила вдоль книжных стеллажей, занимавших все стены, как в сельской библиотеке, и вмещавших внушительное собрание книг и видеодисков с киноклассикой. Книги и диски — те, что он не успел прочитать или же просмотреть еще раз, — были и в ящиках из-под фруктов.
Он бросил взгляд через плечо и увидел, что она роется в его картинах, сложенных возле заляпанной краской палитры.
— Совсем неплохо! — Сказано это было не как похвала, а скорее удивленно. Что ж, правильно, до Ван Гога ему далеко.
Лу и Арнольд сбили пластиковую заслонку на собачьем лазе и влезли в комнату. Ворвавшись, они заняли свои привычные места: Лу — на мягком кресле с вытертыми ручками, Арнольд — на шезлонге перед камином. Пол их не устраивал. Избалованы. Собаки сидели, напряженно вытянувшись, навострив уши, стреляя глазами то в Дженкинса, то в неожиданную гостью, нарушившую однообразие их идущего как заведено дня. Дженкинс подбросил в камин кленовых щепок, наполнивших комнату сладковатым сиропным ароматом, и поставил на место экран. Встав, он почесал Лу за ушами, отчего собачья морда сморщилась, как у девяностолетнего старика.
Она подошла к толстому стеклу, потом погладила цветущую орхидею — их с десяток стояло в ряд на полочке. Цветы эти распространяли в комнате тепличный аромат и делали ее похожей на оранжерею. Она глядела на луг за окном.
— Арабские. Животные норовистые и нервные.
— Вы разбираетесь в лошадях.
— Семья моей матери жила на ферме. Там были породистые арабские скакуны и мулы.
Отойдя от окна, она направилась к нему и подала ему руку, как подают деньги кассиру в супермаркете. Ладонь ее была прохладной и мягкой, хотя, судя по мозолям, на жизнь она зарабатывала не канцелярской работой.
— Алекс Харт.
— Что ж, мисс Харт. Джо Браника я не видел и не разговаривал с ним уже лет тридцать.
— Неудивительно. У вас же нет телефона.
Из нагрудного кармана комбинезона он вытащил сотовый.
— Моего номера нет в справочнике. Мне редко звонят. И приезжают ко мне редко. Те, кому я нужен, спрашивают обычно «чернокожего». Вы же называли мою фамилию.
— Слухами земля полнится.
Она взяла свой портфель и, поставив его на один из двух потертых, ясеневого дерева стульев, которые он сам смастерил, вытащила номер «Вашингтон пост». Сообщение «Ассошиэйтед пресс», которое он видел в «Пост интеллидженсер», было помещено под разворотом с той же самой фотографией Джо Браника. На ней Джо был старше, чему не приходилось удивляться: как-никак тридцать лет прошло. На висках его проступила благородная седина, но в остальном смуглое обветренное лицо и румянец, казалось, по-прежнему принадлежат жителю южных штатов. Дженкинс не удосужился прочитать статью в городе, не собирался читать и сейчас. С него достаточно было заголовка — большего ему не требовалось. Джо Браник был не из тех, кто кончает самоубийством. И тридцать лет вряд ли его изменили.
Он уронил газету на стол.
— Не знал, что «Вашингтон пост» теперь распространяет газету с курьером. Может, это только единичный случай?
Она улыбнулась и поправила прядь волос, отведя ее за ухо. На него пахнуло ее духами — аромат забивал даже аромат орхидей. Арнольд заскулил. Сунув руку в портфель, она вытащила оттуда толстый конверт из плотной бумаги и протянула ему.
— Джо сказал, что, если с ним что-нибудь случится, я должна передать вам вот это.
Конверт был тяжелым.
— Что это?
Он поглядел ей в глаза, но если она и скрывала что-то, то делала это мастерски. Не сводя с нее взгляда, он повертел в руках конверт, все время чувствуя, что и она смотрит на него, возможно, проверяя его реакцию. Он надорвал край конверта, сунул руку внутрь и вытащил содержимое.
Потертая картонная папка внутри потрясла его — такое мог бы ощутить отец ребенка, увидев того, кого оставил тридцать лет назад.
17
Тина поежилась, но не от ужасной картины, нарисованной Слоуном, а от регулярности того, что происходило с ним каждый день на рассвете.
— Мне так жалко тебя, Дэвид, — негромко сказала она.
— Хуже всего, — признался он, — что у меня такое чувство, будто в происходящем с нею виноват я.
— Потому что ты не можешь ей помочь?
— Не только. — Он помолчал, думая, как бы получше объяснить; он потрогал пальцем губу, прежде чем сказать: — Я чувствую себя так, словно ответственен за это.
— Тебе это только кажется, Дэвид.
— Знаю, — сказал он, мысленно следя за тем, как призрачная тень хватает за волосы женщину и отрывает ее от пола, как ее тело безжизненно свисает в его руках, как поблескивает в лунном свете полированное стальное лезвие, перед тем как мелькнуть в ночи, прорвав ее темный покров.
Она откинулась в кресле.
— Неудивительно, что ты плохо высыпаешься. Переживать каждую ночь такой ужас! Ты хоть имеешь понятие, кто эта женщина?
Вопрос смутил его.
— Ты про Эмили Скотт?
Она вытаращила глаза, и брови ее поползли вверх.
— Но ты и слова не сказал про Эмили Скотт. Так это она?
Раньше он подозревал, что это так, но теперь на прямой вопрос он не знал, что ответить.
— Мне это приходило в голову.
Тина поставила на стол полупустую бутылку.
— Могу я еще кое о чем спросить?
Он улыбнулся, зная, что она все равно спросит.
— Ну, если уж у нас вечер признаний, так давай, выкладывай.
— Что ты почувствовал, когда присяжные оправдали Пола Эббота?
— Другими словами, каково мне было, когда я спас сукина сына от уплаты кругленькой суммы, которую он, по справедливости, должен был уплатить? Может, тут и не все правильно устроено, Тина, но судить клиентов — не мое дело. Этим занимаются присяжные.
— В таком случае забудь на время о Поле Эбботе. Не думай о присяжных и о том, правильно или неправильно все устроено. Скажи только, чувствовал ли ты радость победы на этот раз?
— Куда ты клонишь?
Она сказала с шутливым упреком:
— Задавать вопросы — твоя работа. Позволь раз в жизни и мне выступить в суде. Так что же ты почувствовал?
— Трудно совсем уж отрешиться от самолюбия. Проигрывать никому не по вкусу.
— Это все слова. Ты хочешь отделаться стандартными ответами. А я хочу знать, что ты действительно чувствовал. Что ты испытал — радость, огорчение? Ощутил ты вину?
Слово повисло в воздухе, как нож гильотины над головой.
— Чего ты пытаешь меня?
— Так ощутил, да?
Он неловко покрутил головой, расправляя затекшие мускулы шеи.
— Нелегко это все, Тина, и не слишком радостно, но копаться в этом я не имею права. Как бы ни сочувствовал я той семье, мое дело — защищать клиента, нравится он мне лично или же не нравится.
Он вытер рот рукой.
— Человеку свойственно сострадание. Что и делает такие процессы особенно нелегкими для адвоката. Присяжные желают во что бы то ни стало дать возможность семье получить деньги, но это не отменяет моей задачи, для выполнения которой меня и наняли.
Перед глазами его всплыло изуродованное лицо Эмили Скотт на фотографии, прикнопленной на демонстрационной доске в зале суда. Следователь использовал эту фотографию в своих показаниях о деле, охарактеризованном им как «самый жуткий случай насилия, который он видел за все двадцать шесть лет службы». Стайнер не убрал фотографию с доски после того, как следователь окончил свое выступление. В последний день процесса в суд привели и маленького сынишку Эмили Скотт, и тот сидел в первом ряду, болтая в воздухе ножками, глядя на фотографию, по которой будет потом вспоминать свою маму. Поняв это, Слоун встал в середине выступления Стайнера, чего вообще делать не полагалось, и, пройдя к доске, убрал фотографию.
Никто не стал возражать. Ни Стайнер, ни судья.
Слоун поглядел на сидевшую через стол Тину.
— Да, — сказал он и услышал шуршанье ножа, с каким тот соскользнул по рукояти гильотины, а затем глухой стук удара. — Вину я чувствовал.
18
Паркер Медсен, стоя в своем обшитом деревянными панелями кабинете, глядел в толстое оконное стекло, потягивая чай из кружки с изображением оленя — подарок на Рождество от секретаря. Над ветвистыми гордыми рогами зверя была надпись: «Удачной охоты за прибылью». На ухоженном зеленом газоне, освещенном разбросанными по нему живописными японскими фонариками, Эксетер грыз спущенный баскетбольный мяч. Внука Медсена ждет огорчение, но собаки не в первый раз учили детей уму-разуму. Сейчас будет ему наука: не оставляй вещи где попало.
Оторвавшись от окна, Медсен подошел к светившей неярким светом зеленой с золотом настольной лампе и еще раз пробежал глазами листок в руке. Последние три зарегистрированных звонка были сделаны с интервалом в две минуты, два из них — на код района Сан-Франциско. Первый номер принадлежал юридической корпорации в Сан-Франциско, второй номер был домашний, в Пасифику, Калифорния. Звонки предназначались одному и тому же человеку — Дэвиду Аллену Слоуну.
По сведениям, полученным из судейской коллегии Сан-Франциско, Слоун служил адвокатом в корпорации «Фостер и Бейн». Юрист. Медсену это показалось примечательным. Каждый звонок оплачивался как за минуту разговора, что означало фактическое время даже меньшее, чем минута, — оставить сообщение или попросить того, кто взял трубку, перезвонить по такому-то номеру.
Медсен положил листок обратно в папку-скоросшиватель и, щелкнув, приобщил его к другим документам. Дата рождения Слоуна — 17 февраля 1968 года. Никогда не был женат и детей не имел. По запросу в отдел социального страхования в Балтиморе выяснился номер его карточки 573 и индекс — калифорнийский. Согласно сведениям, полученным из Министерства здравоохранения и демографической статистики, свидетельство о рождении Слоуна было выдано вторично в 1974 году. Почему это понадобилось — указано не было, но Медсен решил, что причина каким-то образом связана с гибелью родителей Слоуна в автокатастрофе, произошедшей в Калифорнии, когда Слоун был еще совсем маленьким. На вырезке из «Лос-Анджелес таймс» была фотография машины, смятой в гармошку и закрученной вокруг телеграфного столба. В шесть лет Слоун стал БРО, то есть «без родителей и опекуна». До семнадцати лет, оставаясь на попечении штата, он кочевал из приюта в приют, пока не завербовался в морскую пехоту США. Быть зачисленным на военную службу раньше положенного возраста — дело довольно распространенное. Некоторые лгут насчет своих лет, другие получают расписку от родителей. Свидетельств о чем-либо подобном в папке не было. Каким-то образом Слоун уломал комиссию, набиравшую в морские пехотинцы. А когда он в том же году получил высший балл по проверке годности, никому даже в голову не пришло интересоваться его возрастом. Медсен нацепил на нос свои бифокальные очки и еще раз проверил цифру. Нет, он не ошибся. Дальнейшие проверки подтверждали ее — ай-кью Слоуна 175. Колоссально, просто гений какой-то. И дело было не только в интеллекте. Видно, командование разглядело в Слоуне нечто, позволившее им сделать его, самого младшего из морских пехотинцев, командиром взвода роты службы радиолокации во Втором батальоне Первой дивизии морской пехоты. За четыре года пребывания в морской пехоте Слоун пополнил свой послужной список немалыми отличиями — он заработал несколько благодарностей на стрельбах и Серебряную звезду за храбрость в Гренадской кампании. Медсен ознакомился и с заключением медиков. Слоун схлопотал себе кубинскую пулю, потому что в бою скинул бронежилет. Почему он это сделал, объяснялось в приложенном к медицинскому заключению документе, в котором Медсен тут же признал характеристику психолога. Он придвинул поближе лампу:
«Данный военнослужащий обладает несомненным умом, ловкостью и лидерскими качествами. Товарищи по взводу с готовностью подчиняются его приказам, веря в него и его способности, которые, учитывая юный возраст данного морского пехотинца, я нахожу замечательными. Тем не менее от рекомендации его в офицерскую школу я воздержусь. Единственным объяснением, почему он скинул бронежилет во время боя, которое смог представить данный морской пехотинец, было то, что бронежилет его «сковывал» и «придавливал к земле», а ему надо было «бежать побыстрее». На первый взгляд поступок этот может показаться простой оплошностью, неосмотрительностью, странной для столь умного человека, однако дальнейшие беседы с ним доказывают характерность произошедшего, закономерность его для натуры столь импульсивной. Так, например, свое решение вступить в ряды морских пехотинцев он объяснил тем, что проходил мимо соответствующего вербовочного пункта, направляясь в скобяную лавку купить болтов. «И меня вдруг как осенило».
По моему мнению, морская пехота придала его жизни то, чего ей не хватало, — стабильность и упорядоченность, ощущение братства с товарищами по оружию. То, что он, вступив в морскую пехоту, смог так отличиться и так сойтись с товарищами, неудивительно. Но внезапность принятого им решения вполне согласуется в последующем с его внезапным порывом скинуть с себя во время боя бронежилет. И то и другое доказывает неудовлетворенность жизнью и склонность менять ее ход. Подобная порывистость в будущем могла бы необдуманно навлекать опасности не только на него самого, но и на лиц, находящихся в его подчинении».
Медсен отложил докладную и прижал палец ко рту, уголки которого поползли вверх в легкой полуулыбке: Слоун был похож на солдат, которых он отбирал себе, — не имеющих семьи, ловких, решительных, но неотесанных, нуждающихся в руководстве и дисциплине. Распоряжаться ими — все равно как натаскивать пса. Медсен умел ломать таких и перекраивать, в достаточной мере прививая им дисциплину, но так, чтобы они не утратили боевитости и естественной склонности драться. Стоит бросить своре псов кусок мяса, и вся дрессура летит к черту. Вместо порядка — свалка и драка. Вместо выучки — животный инстинкт. И то же самое с людьми. Сколько раз во Вьетнаме Медсену приходилось видеть, как торжествует в людях темное начало — оно заставляло их направлять пулеметные очереди в женщин и детей, сжигать дотла их хижины. Его люди исполняли приказ, не задумываясь о моральных или этических последствиях того, что они делают. Их стихией было действовать. А такими людьми, как и собаками, пренебрегать не стоит. Никогда.
Медсен закрыл папку. Агентство национальной безопасности уже целых шесть месяцев отслеживало телефонные разговоры Слоуна, как и его финансовые операции. Все было отлажено, но таким богатством, как время, Медсен не располагал. Хотя никакой видимой связи между Джо Браником и Дэвидом Слоуном не наблюдалось, она, несомненно, имела место. Браник счел для себя возможным дважды звонить Слоуну и послать ему по почте пакет.
Эксетер вошел в комнату, клацая когтями по твердым паркетным половицам. После смерти жены Медсен ликвидировал в доме все персидские ковры. Ковер приглушает звуки, а Медсен не любил неожиданностей.
19
Сдержав, правда без особого успеха, улыбку, Тина смахнула слезу в уголке глаза.
— Это все пиво, — сказала она.
— У тебя пиво вызывает слезы?
Она передала ему пустую бутылку.
— Заткнись и лучше дай мне еще одну.
Он открыл бутылку и протянул ей.
— Ты гуманный человек, Дэвид. То, что ты чувствуешь свою вину, лишь доказывает это.
Он хмыкнул.
— А разве были на этот счет сомнения?
— Иногда я сомневаюсь, — сказала она не без сарказма.
— Господи, наверное, уж лучше не знать, что о тебе думают другие.
— Ну, теперь ты вдруг дуться начинаешь...
— Это моя гуманность лезет наружу!
Оба засмеялись, потом он сказал задумчиво:
— Мне жаль, что ты уезжаешь, Тина, но я рад за тебя.
Она потупилась, уставившись на бутылку.
— Тебе подберут другого секретаря. Фирме невыгодно стопорить адвокатскую машину Слоуна.
— Десять лет ты была мне помощницей и добрым другом. Я это ценю.
Она подняла взгляд.
— Мне надо подумать о Джейке.
— Знаю, — сказал он. — Что и делает тебя образцовой матерью.
При этих словах лицо ее слегка порозовело, и она встала, отвернувшись к огромному, от пола до потолка, окну.
— Знаешь, я и не упомню, когда в последний раз была дома в пятницу вечером. Мать все время недовольно ворчит... — Она осеклась. — Ну, знаешь, как это матери умеют...
Слоун не знал. Но это была другая тема.
— Почему ты вторично не выходишь замуж? — Вопрос, казалось, смутил ее, и он сам не меньше ее удивился тому, что его задал. — Прости, это, конечно, не мое дело.
— По ряду причин, наверное, — сказала она, обращаясь к своему отражению в стекле. — Во-первых, человек этот должен подходить не только мне, но и Джейку. — Она взглянула на Слоуна и опять отвернулась к окну. — Расти без отца трудно, но заиметь никудышного отца было бы еще хуже. Джейку и без того хватило разочарований... А значит, тут нужен кто-то, кто будет с ним ладить, будет уделять ему время, кто полюбит его.
— Полюбить его не трудно. Джейк — чудный паоень. Я только из-за него и езжу каждый год на корпоративные пикники.
Она отвернулась от окна, подошла опять к креслу.
— Да, он до сих пор опомниться не может от того, как играл с тобой в мяч, — сказала она.
— Ну, а тебе-то что мешает?
Она пожала плечами.
— Причины самые практические.
— Например?
— Я редко где-нибудь бываю, а выбор приятных одиноких гетеросексуалов в этом городе весьма ограничен.
— А как насчет того парня в Сиэтле?
— Что?
— Ну того архитектора из Сиэтла.
Она засмеялась.
— Тут, я думаю, мне ничего не светит.
— Может, у тебя есть кто-нибудь?
— Может быть. — Она секунду помолчала, словно прикидывая, и вновь отвернулась к окну. — Но он еще с собой не разобрался, а до тех пор трудно ожидать, что он разберется со мной.
Она поставила свою бутылку на край стола.
Он уже собрался спросить, не хочет ли она выпить кофе, как вспомнил про Мельду и взглянул на часы.
— Я задержался. Совершенно забыл, что у меня свидание.
Она сделала каменное лицо.
— Когда тебе за семьдесят и ты печешь яблочный пирог, ты вправе ждать, что приглашенный на этот пирог его отведает.
— Мельда!
— Собирайся, я тебя подвезу.
— Тебе большой крюк придется делать. А тогда ты и вправду опоздаешь.
Она была права.
— Я оплачу тебе такси.
— Уж придется! Не хотелось бы тащиться на автобусе в такой поздний час.
Он выбросил в мусорную корзину картонку из-под китайской еды, сгреб со стола бумаги для работы, собираясь сунуть их в портфель.
Тина перехватила его руку.
— Ты же взял дни! Отдохни хотя бы один из них, Дэвид!
20
Он погладил рукой картонную обложку, словно ощупывая тонкий шелк. Уголки папки обтрепались, сама обложка пожелтела от времени, и слово «секретно», криво проштемпелеванное красным, выцвело до бледно-розового цвета, но ошибки быть не могло. Чарльз Дженкинс начал было открывать папку, но вновь захлопнул ее, как захлопывают дверцу шкафа, где гнездятся дурные воспоминания. Грудь сжимало так сильно, что пришлось потереть ее и отвести назад плечи. Он внезапно почувствовал, что ему не хватает воздуха.
— Вы в порядке? — спросила Алекс Харт.
Нет, в порядке он не был. Он чувствовал нечто вроде сердечного приступа, и если ему суждено пережить сердечный приступ, то момент для этого был самый подходящий. Он взглянул вниз, на стол. Папка все еще лежала там. Какая нелепость. Все эти годы он считал, что она уничтожена. А оказывается, нет. Джо забрал ее. Эта мысль, вспыхнув в сознании, вернула ему ощущение реальности. Реальностью же являлось то, что если Джо рискнул прятать у себя папку целых тридцать лет, вряд ли он доверил бы ее первому попавшемуся. А это представляло стоявшую сейчас в его гостиной незнакомку в совершенно ином свете.
— Как вы с ним познакомились? — спросил он.
— С Джо? Он был другом моего отца.
— А ваш отец... — И что-то смутное, мелькнувшее в его памяти, когда он стоял в огороде, сейчас вырвалось наружу, словно дверь распахнуло от сквозняка.
— Роберт Харт... — прошептал он.
Она как будто удивилась.
— Так вы и отца знали?
За два года их пребывания в Мехико Дженкинс и Джо Браник несколько раз побывали дома у профессора Роберта Харта. Харт был американцем, женатым на подданной Мексики. Он преподавал в Национальном независимом университете в Мехико и имел два дома: один — возле мексиканского гольф-клуба, другой — в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, — роскошь для университетского профессора. Но сейчас перед глазами Дженкинса предстало не лицо Роберта Харта. Он видел перед собой красавицу креолку, встречавшую его и Джо на пороге своего дома. Ее прямые темные волосы доходили до середины бедер, а зелень глаз выдавала ее испанское происхождение. Алекс Харт была вылитая мать, не считая роста и вьющихся волос. И то и другое она унаследовала от отца. Прошлое, которое Дженкинс так старался забыть, сейчас предстало перед ним в облике женщины, которую в последний раз он видел ребенком, катающимся на велосипеде во дворе родительского дома.
— Мне надо выпить, — сказал он.
Он прошел в кухню и, порывшись на полках, нашел в глубине одной из них бутылку. Вернувшись в комнату, он поставил на стол виски «Джек Дэниелс» и две толстые кружки, в каждую из которых он плеснул на два пальца спиртного; передав ей кружку, он залпом выпил свое виски, отчего его охватило жаром, во рту защипало, а на глаза навернулись слезы. Когда жжение прекратилось, он налил себе еще.
— Сколько вам лет, Алекс? — От выпитого виски голос его звучал хрипло, как у Клинта Иствуда в «Хорошем, плохом, злом».
Она рассмеялась.
— Ну, я давно уже совершеннолетняя, хотя спасибо за комплимент! — Приятными манерами она напоминала мать.
— Вы похожи на мать.
Она опустила кружку.
— Спасибо. Мама уже больше двух лет как умерла.
— Простите. А ваш отец — он жив?
— Нет. Умер полгода спустя. Доктора сказали, от сердца. Думаю, что сердце его не выдержало горя. Он так любил ее.
— Да, это правда. Он был хороший человек. — Дженкинс сел и указал ей на второй стул. На этот раз она села. — Полагаю, вам известно, что он работал на нас?
В течение долгого времени Роберт Харт являлся высокооплачиваемым агентом ЦРУ, специализировавшимся по Южной Америке. Его областью были организации правых мексиканских радикалов.
— Я узнала это лишь с годами. Мама мне объяснила. — Она опрокинула в рот виски, сморщилась и поставила кружку на стопку конвертов. На лежавшую между ними папку они оба глядели с опаской, словно та могла внезапно кинуться на них и укусить.
— Вы знаете, каким образом Джо смог раздобыть это?
Она покачала головой.
— Тем не менее, хоть вы и работали с ним. — Он потер руки — привычный для него жест в минуты задумчивости. Потом сказал: — Нефть. Проклятая нефть.
Такой мысленный скачок вовсе не был странным. Наоборот. Избирательная платформа Роберта Пика строилась на недовольстве американцев ценами на бензин, растущими по требованию ОПЕК, и на поднимавшемся в обществе возмущении гибелью американцев в нефтяных войнах. Американцы не желали больше становиться заложниками мусульманских террористов. Подобно Ричарду Никсону, обещавшему во время президентской избирательной кампании покончить с войной во Вьетнаме, но не объяснявшему, каким образом он это сделает, Пик пообещал покончить с зависимостью Штатов от ближневосточной нефти. Хитроумные политиканы сочли это избирательным трюком. Пика постоянно щедро финансировали нефтяные компании, взамен остающиеся крупными акционерами американских автомобилестроительных компаний. Возможность для Пика совершить нечто, подрывающее благосостояние этих компаний, была близка к нулю. Другие высказывали предположение, что Пик намеревался лоббировать в конгрессе законопроект об интенсификации изысканий источников альтернативного топлива и процентном увеличении доли автомобилей, работающих на этом топливе. Но и последнее было бы невыгодно нефтяным компаниям, и, учитывая вес этих компаний в автомобилестроении, подобное тоже было маловероятно. Так как спад в экономике шел по нарастающей, Пик не мог себе позволить выступить против структур, оказавших ему самую большую политическую поддержку. Некоторые возможности представляла Латинская Америка: Венесуэла, несмотря на то что правительство ее с трудом удерживало страну на грани полного хаоса, и Мексика с ее запасами в 75 миллиардов баррелей, но только в том случае, если бы Пику удалось заполучить эту нефть и добыть ее с помощью современных технологий. И то и другое было весьма проблематично.
— Каким же образом он это делает?
Секунду-другую она мерила его взглядом.
— Открывая вновь мексиканский нефтяной рынок американским нефтяным компаниям и смежным с ними отраслям.
Дженкинс покачал головой.
Национализация нефтяного рынка для мексиканцев была столь же священна, как Пресвятая Дева Гваделупская. В 1938 году проверкой был обнаружен беззастенчивый грабеж Мексики американскими и прочими иностранными нефтяными компаниями; президент Мексики Ласаро Карденас изгнал из страны эти компании и национализировал мексиканскую нефть. Он подавил сопротивление Франклина Делано Рузвельта и Джона Д. Рокфеллера, а также избежал прямого конфликта со Штатами во время Второй мировой войны, пригрозив продавать мексиканскую нефть Германии в случае, если Штаты не отступятся от своих поползновений. Мексиканские историки провозгласили Карденаса героем, и Мексика продолжает отмечать 18 марта как «день национальной гордости».
— Мексиканцы никогда этого не допустят.
— Влиятельные чиновники уже ведут переговоры с полномочными представителями Кастаньеды, — сказала она, имея в виду недавно избранного молодого президента Мексики, которого сравнивали с Джоном Ф. Кеннеди.
Дженкинс отнесся к этому скептически.
— Зачем это? Что это дает Мексике?
— Увеличение доли нефти, продаваемой в Америку по твердой цене, привязанной к мировым ценам на нефть. А это означает миллиарды и миллиарды долларов.
Секунду-другую Дженкинс размышлял над услышанным.
— Ну и как далеко продвинулись переговоры?
— Президент не поедет в Южную Америку на обсуждение проблемы глобального потепления.
— То есть они не стали бы рисковать конфиденциальностью переговоров и впутывать в них Пика, если бы почти не ударили по рукам. — Встав, он прошелся по комнате, отчего половицы заскрипели под его тяжестью. Кастаньеда был известен как правый консерватор, всегда открыто выступавший против иностранного вмешательства во внутренние дела Мексики, включая и право мексиканцев распоряжаться своими недрами.
— Вы рассуждаете как американец. В Мексике президента избирают лишь на один шестилетний срок. Ему не надо беспокоиться о переизбрании.
— Но подобная сделка исключает и для его партии возможность оставаться у власти. Подобная политика бессмысленна.
— Или же наоборот: очень осмысленна.
Он перестал мерить шагами комнату.
— Тогда объясните почему!
— Пик держит его на крючке или, лучше сказать, на нефтяной привязи. Доступ к мексиканским нефтяным месторождениям был поставлен условием финансовой помощи Мексике со стороны США после краха частных мексиканских банков.
— Ясно.
— В случае если Мексика не отдаст свой долг США, она так или иначе потеряет контроль над нефтью. Кастаньеда ведет переговоры отнюдь не с позиции силы. Пусть скажет спасибо предыдущей администрации, заварившей кашу с НАФТА, — для Мексики это было очень невыгодно. А теперешняя сделка позволит ему снизить потери и как-то выправить ситуацию. Даже на первый взгляд ясно, что сделка открывает возможность мексиканцам работать в Штатах, создает хорошо оплачиваемые рабочие места для бедняков, расширяет пространство мексиканского экономического рынка и дает деньги, которые можно направить в социальный сектор.
— А это все группы населения, на которые и опирается президент. Теперь он будет выглядеть в их глазах просто героем, — заметил Дженкинс, уловив ход ее мыслей.
— Он утверждал, что выбран народом и будет все делать для блага народа. Словом, предложение это чересчур выгодно, чтобы упускать его.
Взгляд Дженкинса был устремлен в окно — там, за толстым стеклом, мирно паслись арабские жеребцы.
— Но тут есть одна загвоздка: не тот человек Роберт Пик, чтобы делать чересчур выгодные предложения.
21
Финансовый центр, Сан-Франциско
Подняв воротники, они дрожали на холодном ветру, крутившем вихри в ущельях между небоскребами. Ветер тихонько подвывал, приносясь с залива; он пах морем, разогретым недельной девяностоградусной жарой, убивавшей всю растительную жизнь и оставлявшей во рту металлический привкус. Теперь волна жары спала.
Вечерами тихий и безмолвный финансовый центр навевал на Слоуна жуть: оставаться там на улице было все равно что стоять в колодце двора между корпусами огромного многоквартирного комплекса, который вдруг спешно покинули все обитатели. Сами масштабы окружающих зданий играли злые шутки с воображением — чудились разные звуки: чьи-то голоса, шум машин, вой сирен. Но на самом деле то был лишь ветер, изредка рев автомобильного мотора или шорох какого-нибудь клочка оберточной бумаги, носимого ветром по тротуарам и водостокам. С заходом солнца жители Сан-Франциско покидали деловую часть города, мигрируя в свои дома, отправляясь в рестораны Норт-Бич и Чайна-тауна и модные ночные клубы Саут-ов-Маркет. Финансовый центр был похож на призрачный город на голливудской декорации.
— Тебе вовсе не надо ждать здесь со мной, Дэвид. Я ведь знаю, что ты спешишь и нервничаешь.
Он вытащил сотовый.
— Предупрежу ее, что немного запаздываю.
После трех гудков у Мельды включился автоответчик. Наговорив сообщение, Слоун, щелкнув, закрыл телефон и опять взглянул на часы.
— Все нормально? — спросила Тина.
— Просто странно, что она еще не вернулась.
— Отправляйся. Я прекрасно доеду.
— Да нет. Все в порядке. — Он сунул руки в карманы кожаной куртки и съежился, чтобы холодный ветер не так задувал в шею. — Наверное, осталась выпить кофе с джентльменом, о котором она так часто говорит.
— Другой мужчина? Она не пришла к тебе на свидание!
Тина широко улыбнулась и отвернулась от порыва ветра, подувшего с Бэттери-стрит и растрепавшего ей волосы. Он всегда считал, что глаза у нее голубые, но сейчас, при свете, струившемся из вестибюля, они были цвета яркого летнего неба с серыми и желтыми крапинками. Она вдруг подалась к нему, словно притянутая невидимой нитью, и у него даже мелькнула мысль, что она хочет его поцеловать, но она шагнула мимо, устремившись к газетному автомату за его спиной, и стала рассматривать газету в пластиковом окошечке.
— Сообщение, что я тебе передала, у тебя сохранилось? Ну, то самое, где мальчишка-брокер предлагает свои услуги?
Он сунул руку в карман, но рубашка на нем была другая.
— Какая там была фамилия? — спросила она. — На листке?
— Джо Браник, кажется. А что такое?
— Никакой он не брокер, — сказала она, словно разговаривала сама с собой.
— Что? — Он прошел туда, где она стояла. Фотография была над самым сгибом, фамилии видно не было. Недоверчиво взглянув на Тину, Слоун порылся в кармане в поисках четвертака. Бросив монетку в прорезь автомата и получив в руку газету, он громко прочел заголовок: «Президент скорбит о потерянном друге». Заглядывая ему через плечо, она прочла вместе с ним всю страницу:
«АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС»
Вашингтон
На утренней пресс-конференции в Белом доме, на которой президент Роберт Пик, как ожидалось, должен был обсуждать свое участие в южноамериканской конференции по защите окружающей среды, глава администрации Белого дома Паркер Медсен подтвердил известие о гибели доверенного лица и помощника президента по особым поручениям Джо Браника.
Парковая полиция Национального парка «Медвежий ручей» в Западной Виргинии обнаружила тело Браника вблизи заброшенной просеки, проложенной по гари, примерно в 5.30 утра. Единственный пистолетный выстрел в голову, оказавшийся смертельным, был, видимо, произведен самим Браником. Медсен заявил, что дальнейших подробностей Белый дом сообщать не будет, и адресовал все вопросы к Министерству юстиции. Состояние президента и всего Западного крыла он охарактеризовал как «потрясение».
Друзья детства и соседи по общежитию в колледже Джорджтауна, Пик и Браник остались близкими друзьями на всю жизнь. Президент, который утром должен был отбыть в Южную Америку, чтобы присутствовать на саммите, отменил поездку. Согласно письменным источникам из Белого дома, президент лично сообщил о гибели Браника его жене и трем взрослым детям.
Слоун опустил газетный лист, вспоминая фамилию на сообщении.
— Совпадение, не иначе, — тихо сказал он.
К обочине подкатило такси Тины.
— Он погиб. В газете сказано, что это самоубийство. Зачем ему понадобилось звонить тебе?
Он взглянул на нее.
— Но мы даже не знаем, он ли это был.
— Конечно же он! Кто же еще? Ты его знаешь?
— Я... — Он рассматривал фотографию в газете. В выражении глаз мелькает что-то знакомое. — Нет, — сказал он. — Совершенно точно — нет!
Водитель, худой как щепка негр, нетерпеливо высунулся в окошко. Открыв дверцу, Слоун сунул в щель тридцать долларов.
— Отвезите ее домой. Сдачу оставьте себе.
— Ты вовсе не должен оплачивать мне такси, Дэвид! — Несмотря на все ее шутки на эту тему, он знал ее как яростную поборницу своей финансовой независимости.
— Нет уж, будь любезна! А счет я выставлю Полу Эбботу.
— В таком случае домой я поеду кружным путем! — И, улыбнувшись, она нырнула на заднее сиденье. — Так или иначе, история занятная, — сказала она, указывая подбородком на газету в его руке.
Он не был в этом уверен.
— Что с тобой?
— Я все еще в шоке оттого, что ты уезжаешь.
— А может, еще и не уеду. — Она потянулась к дверной ручке. — Я же сказала, что, если мне встретится подходящий парень, я останусь. Все, что от тебя требуется, это найти мне такого.
И она захлопнула дверцу, а он остался. Один на тротуаре.
Он вел машину, направляясь домой, но делал это чисто механически. Мысли его витали далеко — он трудился над разгадкой, пытался сложить пазл, в котором, чем больше он думал над ним, тем больше оказывалось прорех и несвязных деталей. Фотография в газете глядела на него с сиденья.
Почему ты замялся? Почему ты ответил не сразу, когда Тина спросила, не знаешь ли ты его?
Еще и еще раз он вглядывался в лицо на фотографии, но мысль работала нечетко.
Щелк.
Мысленная картина вдруг изменилась. Он стоит, глядя на дыру в почтовом ящике, в том месте, где раньше был замок. Дверцы семи других почтовых ящиков закрыты. Заперты.
Щелк.
Он стоит в квартире, беседуя с полицейским. Замок сбит, но не сломан. Так сказал полицейский. Сбит.
Работа профессионала. Щелк.
Слоун крутит в руке замок почтового ящика. На нем нет ни одной царапины.
Офицер полиции говорил о замке от входной двери Слоуна, но теперь Слоун вдруг понял, что с тем же успехом это можно отнести и к замку почтового ящика. Тот тоже был сбит. И дело не в неисправности. В таком случае это влечет за собой цепочку фактов, требующих тщательного осмысления. Тот, кто вскрыл его квартиру, вскрыл и почтовый ящик. Оба происшествия слишком схожи, слишком близки по времени, чтобы быть простым совпадением. А если это так, то мотив преступления меняется целиком и полностью. Это не был просто недоброжелатель, вознамерившийся нанести как можно больше ущерба имуществу Слоуна.
Щелк.
Мысленно он вновь перенесся в хаос развороченной гостиной. Решетки отопительных батарей были сорваны, мебель вспорота. Они что-то искали.
Щелк.
Он крутит в руках замок почтового ящика, ящик был пуст.
Они рылись в его ящике, надеясь найти что-то. Щелк.
Мельда, стоя на площадке, протягивает ему кипу конвертов.
На этот раз не так уж много — счета и ерунда всякая.
Щелк.
В офисе, проглядывая почту, он обратил внимание на бурый конверт с адресом, написанным от руки. Нет, не только счета и ерунда всякая.
Он машинально бросил взгляд на сиденье, потом вспомнил, что оставил портфель в офисе, предварительно набив его почтой. Хотел было выйти из машины, но удержался.
У тебя разыгралось воображение. Нет никаких оснований считать, будто в том конверте есть что-то, кроме счетов и всякой ерунды. Возможно, там сертификат, дающий право на несколько дней отдыха в Лас-Вегасе или Палм-Спрингс, если выдержишь полуторачасовые разглагольствования о том, как выгоден тайм-шер.
Он включил радио, но и с музыкой мысли продолжали крутиться, перебирая частички пазла, прилаживая одну к другой, пытаясь создать из них связную картину. Мельда не заметила взломанного ящика, из чего следует, что она вынимала почту до проникновения туда кого бы то ни было.
Желудок свело от боли. Он взглянул на часы, вытащил из бардачка сотовый и быстро набрал номер. Гудок.
Ответа нет. Второй гудок. Ответа нет.
И в третий раз точно так же.
Щелчок включившегося автоответчика. Он нажал на кнопку отмены и взглянул на время на приборной доске: 10:00. Лотерея-бинго уже больше часа как завершилась. Мельда должна была вернуться домой.
Мельда Деманюк повернула ключ в замке и нажала на дверную ручку. Заперто. Она досадливо вытащила ключ, вложила его в новый, недавно вставленный замок и повернула в ожидании щелчка, как и учил ее Дэвид. Опять сунув ключ в первый замок, она подергала им. Бывает, заедают зубцы. На этот раз дверная ручка подалась легко.
Ей казалось, что, уходя на лотерею, она заперла дверь на оба замка, но память ее, слабея с каждым днем, преподносила все новые сюрпризы. По всей видимости, она забыла запереть дверь как следует, а придя домой и отпирая замок, заперла его. Она вздохнула. Столько хлопот, столько сложностей.
И все же она выдавила из себя улыбку. Нет, она не будет портить себе настроение из-за такой глупости. Особенно в такой вечер. Ведь она выиграла бинго! Впервые! Когда выкрикнули «Б-5», она чуть не запрыгала от радости. «Бинго!» — это прозвучало визгом собачонки, которой наступили на хвост. Зал церковного собрания взорвался смехом, а потом аплодисментами, когда, встав, она отправилась за выигрышем — огромным, целых 262 доллара. Она сжимала в сумочке эти деньги, казавшиеся ей целым состоянием. Она уже знала, на что потратит выигрыш. Она купит Дэвиду свитер — тот самый, который видела в витрине магазина на набережной. Он так по-доброму к ней относится, не от всякого сына дождешься такого.
Распахнув дверь, она щелкнула выключателем. И уронила сумочку. Обе руки ее поднялись, зажимая рот, из которого несся беззвучный вопль. Уже на пороге в глаза бросился разгром. На бежевом ковре валялись вдребезги разбитые керамические фигурки ангелов из ее коллекции. Картины выдраны из рам, обивка мебели вспорота и порвана в клочья. Разгром был и в кухне: тарелки и чашки лежали вперемешку с кастрюлями, сковородами и продуктами, вываленными из холодильника. А ее свежеиспеченный яблочный пирог разбросал по линолеуму свою присыпанную корицей начинку.
Ноги стали ватными и не держали ее. Она уцепилась за кухонный прилавок, дрожа, как от внезапного порыва ледяного ветра.
Что же делать? Господи, что же делать?
Ее обуял страх. Выхватив из духовки сковороду, она прижала ее к груди, как бесценную фамильную драгоценность.
Дэвид. Позвать Дэвида.
Она попятилась, оступаясь на каких-то обломках; очутившись на площадке, ринулась вверх по ступенькам, карабкаясь так, словно в этом было все спасение, с усилием, как по глубокому снегу. На верхней площадке она уцепилась за перила, без сил, отдуваясь, неспособная даже произнести имя Дэвида, позвать на помощь. Она толкнула его дверь и шагнула внутрь. В голове у нее был разброд, все перемешалось, как кусочки пазла-головоломки. Он стоял в кухне спиной к ней.
Она набрала воздуха в легкие, чтобы что-то сказать.
Он повернулся.
— Вы! — ахнула она.
22
Чарльз Дженкинс прихлопнул автомобильную дверцу подошвой сапожка: руки его были заняты тремя пакетами с провизией и пятидесятифунтовым мешком собачьей еды. Заперев на ночь в конюшню арабских жеребцов, он рискнул съездить в Стэнфорд за продуктами: они были на исходе, к гостям он не готовился, и Алекс Харт придется побыть у него некоторое время, до тех пор хотя бы, пока он не прикинет что к чему. Если Джо Браник поручил ей доставить Дженкинсу папку, то он, должно быть, чувствовал опасность. Его смерть подтвердила опасения. А это означало, что жизнь и Харт, и его, Дженкинса, теперь под угрозой. Последние тридцать лет Дженкинс прожил спокойно лишь потому, что он, как и другие, считал папку уничтоженной. Ее неожиданное возникновение все переменило — переменило для всех.
Ветви можжевеловых деревьев и тсуги покачиваются над головой — верный знак того, что поднимается ветер, как часто бывает в сумерки в это время года, и порывы его относят звуки. Ни Лу, ни Арнольд и не подумали выбежать ему навстречу.
Вот тебе и лучший друг человека! Стоит появиться бабе, и эти твари напрочь забывают о службе — прямо дезертиры какие-то. Уж, наверно, бродят по пятам за Алекс Харт и не сводят с нее преданных глаз, как влюбленные подростки! Трудно их винить.
Женщины, которых он приводил в дом, обычно пахли виски «Джим Бим» и «Мальборо», а наутро исчезали. Большинство из них влекло к нему лишь любопытство. На острове он оставался диковинкой, и не только из-за черноты и мускулистости: бытовало представление, что такой крупный сильный мужчина и в любви будет по-ослиному упрям и ненасытен. Когда Дженкинс поселился на острове, местное общество было сплоченнее братства ирландских монахов. Моментально поползли слухи — какой-то черный купил ферму Уилкокса. Возможно, и из-за этих слухов Дженкинс вел жизнь замкнутую, и слухи обрели очертания самые фантастические. Во время его редких вылазок в городок большинство жителей его сторонились, хотя кое-кто из местных парней, хлопнув для храбрости стаканчик-другой, под влиянием выпитого следовал за ним по пятам — так охотник преследует оленя, за которого обещана награда. Когда мог, Дженкинс старался улизнуть, если же это оказывалось невозможным, старался побыстрее закончить разговор и отделаться от них. Это еще больше подогревало слухи. Его оставили в покое — эдакое упрямое своенравное животное.
Отправляясь в городок, он принял душ и облачился в черные джинсы, такую же куртку, фланелевую рубашку на пуговицах и ковбойские сапожки — единственная пара обуви, которая оказалась невыпачканной. Он даже разыскал флакончик с остатками жидкости после бритья.
Толкнув дверь подошвой сапожка, он шагнул в кухню и уронил один из пакетов. Фрукты покатились по полу, не встречая препятствий — рассада исчезла. С прилавка тоже все было убрано, банки составлены в уголок; клубника и ежевика, видимо, находились теперь в холодильнике. Лосось, которого он накануне поймал в заливе, был выпотрошен и покоился на блюде, начиненный овощами с его огорода.
Он поставил на прилавок второй пакет, сбросил на пол мешок с собачьей едой и направился в гостиную.
— Ни к чему было ездить в магазин!
Она расчистила стол, накрыла его белой скатертью и теперь сервировала, располагая тарелки и серебряные вилки и ножи вокруг миски зеленого салата с помидорами. Дрова в камине уютно потрескивали, распространяя аромат свежей кленовой древесины. Книги были поставлены на полки, картины аккуратно распределены по комнате. За час она сделала больше для уюта его обиталища, чем сумел сделать он за тридцать лет!
— Простите. Я тут прибрала немного. Похозяйничала. Наверное, не надо было. — Она стояла, проверяя его реакцию.
Не найдя, что сказать, он протянул ей бутылку каберне.
— Не знал, что будет рыба.
Она поставила бутылку на стол рядом с миской.
— Все такое свежее. А помидоры просто гигантского размера! У вас, должно быть, есть какой-то секрет.
— В сельском хозяйстве секретами не делятся, — сказал он, несколько оправившись.
— По-моему, это просто волшебство!
— Разве только волшебники умеют выращивать крупные помидоры?
Она улыбнулась, и лицо ее осветилось, как у ребенка при виде фейерверка на 4 июля. Дженкинс вернулся в кухню, оперся на краешек кафельного прилавка.
— Простите. Дом — не мой, так что незачем было тут хозяйничать, — послышалось у него за спиной. Она стояла в дверях.
Он обернулся, и на него пахнуло ее дыханием — теплым и сладким, как карамель. Он попятился, уперся в прилавок и, сделав неловкий поворот, склонился к собачьим мискам, словно так и намеревался сделать.
— Наверное, пора собак покормить.
Она прислонилась к дверному косяку, чуть склонив голову набок.
— У вас, наверное, полно секретов.
— Если не лезешь ко всем и каждому с подробностями своей биографии, это еще не значит, Алекс, что у тебя много секретов.
— Я имела в виду помидоры.
Он опустил мешок.
— Ах, ну да!
— Но если уж сообщать подробности вашей биографии, то информационно-поисковая служба была бы им весьма рада.
— Вы собираетесь это сделать?
— Я говорю о возможностях.
Взяв собачьи миски, он хотел проскользнуть мимо нее, но дверной проем был узким, а она не попыталась посторониться. Огонь камина отбрасывал отблеск на ее щеку — так озаряет закатное солнце поле колосящейся пшеницы на Среднем Западе. Он приметил волну волос, изящно окаймлявшую овал ее лица и свободно ниспадавшую на плечи. Он ошибся. Она не была такой же красивой, как ее мать. Она была красивее. Заигрывала ли она с ним? Все это было так давно, что теперь он не мог понять. Женщины в барах обычно хватали его за ширинку. Еще не успев поставить на место стакан, они вцеплялись в него, словно он был спасательным кругом. В искусстве ухаживания, обольщения он не практиковался уже много лет, и вот...
И она была дочерью Роберта Харта, долговязой девчонкой, разъезжавшей на велосипеде возле дома.
— Мне надо насыпать еды Лу и Арнольду.
Она улыбнулась.
— По-моему, вы уже это сделали.
Он взглянул на миски.
— Тогда уж лучше пойти поискать их, чтоб не начали мебель грызть.
Он миновал ее.
Обычно звук сыплющегося в миски корма был для собак как бряцанье оружия — обе наперегонки устремлялись за едой, сминая друг друга и чуть не валя с ног его самого. Но сейчас они не просто медлили — на обычных местах возле камина их тоже не было.
— Я думала, вы взяли их с собой, — сказала она.
Он покачал головой.
— Они двое на заднем сиденье плюс продукты — комбинация не из удачных. Наверное, гуляют.
— Я открою вино, — предложила она.
Он распахнул дверь и ступил на крыльцо, выходившее на молочную ферму и выпас. Иной раз, когда арабские жеребцы их игнорировали, Лу и Арнольд пролезали под колючую проволоку и начинали приставать к коровам. Но нет: последние из стада мирно направлялись в хлев. Поставив миски на пол, Дженкинс пронзительно свистнул в два пальца, но порыв ветра подхватил звук уже на крыльце и заглушил его. Дженкинс шел по лугу среди высокой колышущейся травы, зовя собак по именам. Летом в половине десятого свет на Северо-Западе еще меркнет и сине-серые сумерки превращают луг в туманное море теней. Собак не было и следа. Это означало, что они, вероятно, валяются в грязном песке возле ручья, а из-за ветра не слышали, как он подъехал. Он повернулся и стал подниматься по ступенькам крыльца.
Она искала его через информационно-поисковую службу. Как иначе она могла его найти? Прошлое и настоящее мгновенно, в долю секунды, соединились, когда он услышал сухой щелчок — еле слышный треск, словно обломилась сухая ветка, и этот звук пробудил в нем дремавшие инстинкты.
Он съежился, пригнулся, как будто увидел у самых ног раскрытый капкан, алюминиевые миски задребезжали, шарики корма просыпались.
Первая пуля просвистела возле его правого уха и расщепила косяк двери.
23
На смешной скорости семьдесят пять миль в час Слоун съехал с автострады №1 на Пальметто-авеню и попал в густой, как гороховый суп, туман. Перед ним сверкнули красные огоньки, и он резко затормозил, вырулив джип на мокрый тротуар. Объехав зад машины, он остановился у перекрестка, переждал поток машин, идущих наперерез, и на полной скорости устремился на Приморский бульвар. Спустя минуту он уже делал правый поворот, паркуясь на крытой гравием площадке параллельно фургону, прижавшемуся к лавровой живой изгороди, отделявшей парковку его дома от пустыря. Измученные долгой дорогой путники иногда парковались здесь, желая сэкономить. Слоун не возражал — лишь бы не мусорили и не шумели. На сей раз он даже не стал останавливаться, чтобы выяснить что к чему.
Он вылез из машины и рысцой припустил к дому, все еще чувствуя боль в лодыжке. В кухне у Мельды горел свет, но макушки ее в окне видно не было. Возможно, хлопочет в глубине кухни, отрезая ему ломоть пирога. Он стал подниматься по задней лестнице, торопливо перескакивая через две ступеньки, отчего лодыжку сводило болью, а поднявшись, заковылял к квартире Мельды. Дверь была открыта. Дурной знак. Дело плохо.
Он переступил порог и стал озираться вокруг, растерянный, испуганный сразу бросившимся в глаза разгромом; он был близок к панике.
Потолок над ним задрожал, и он взглянул вверх, не сразу сообразив, что шумят в его квартире. Там кто-то был. И этот «кто-то» двигался. И шаги его были тяжелее, чем у хрупкой старушки ростом в пять футов. Следуя за доносившимися сверху звуками, он вышел на площадку и перегнулся через перила. Мужчина наверху деловито удалялся из квартиры Слоуна. На нем был темно-синий комбинезон, на спине продолговатая эмблема «Пасифик Белл». Телефонная компания.
— Эй! Вы!
Мужчина остановился и обернулся, двигаясь заученно, как робот. Пистолет в его руке возник как бы из воздуха, материализовавшись внезапно, — чуждый, страшный. Похолодев, Слоун следил, как перемещается пистолет, понимая, что мужчина целится. Но тут сработал инстинкт и выучка. Он втянул голову на площадку и присел, вжавшись в стену, вслушиваясь в движения мужчины. Лестницы были с двух сторон здания, к фургону можно спуститься как по одной, так и по другой. Услышав, что мужчина направляется к передней лестнице, Слоун скользнул к задней. Оглянувшись, он увидел, что мужчина быстро спустился по лестничному пролету, ухватился за перила и скрылся за поворотом лестницы. Но дальше спускаться он не стал. Он не спешил к фургону. Он направлялся к площадке.
Быстро повернувшись, Слоун припустил вниз по лестнице. Последние четыре ступеньки он перепрыгнул. Нога его подогнулась, и он почувствовал, как вывернутая лодыжка мгновенно обожгла его острой болью. Он заставил себя подняться. Площадка над ним дрогнула. Проглотив боль, он проковылял через темное пространство под автомобильным навесом и проход-галерею, ведущую к тылам здания.
Едва оторвавшись от стены, он почувствовал порывы ветра, несущего туман и океанскую влагу. Он замер и обернулся, вглядываясь в конец прохода. Силуэт мужчины возник как из туннеля. Трещины возле головы Слоуна взорвались, и лицо его, как острыми иголками, осыпало деревянными щепками. Слоун бросился в туман и темень, то и дело подворачивая ногу на неровной, поросшей ледяниками земле, превозмогая сильную боль. Он кружил, менял направление, пригибался к земле, ища укрытие и не находя его.
Он удалялся от дома, пока не поскользнулся и не упал на одно колено. Где-то за толстой пеленой тумана он услышал рев океанских волн, бьющихся о скалы, и почувствовал на коже морской ветер и соленые брызги.
Поросль ледяников внезапно оборвалась.
24
Он вломился в переднюю дверь, крича ей: «Ложись!»
Алекс стояла у стола, держа в руке бутылку с воткнутым в пробку штопором, когда толстое оконное стекло взорвалось осколками, бутылка разбилась, а горшки с орхидеями разлетелись по кругу, как кольца мишеней в тире. В комнате закрутился вихрь стеклянных осколков и кусочков древесины, с полок посыпались книги, деревянные панели испещрились дырками, из камина повалил пепел. Стрельба была яростной — кажется, патронов у них с собой было предостаточно, и они вознамерились израсходовать их все.
Дженкинс ползком добрался до перевернутого стола и прижался к нему спиной. Пули бились о столешницу, изрешечивая ее кругляшками конфетти. Алекс тоже сидела, вжавшись спиной в деревянную поверхность, ее белая блузка стала темно-красной, почти фиолетовой, но то, что ей удалось перевернуть стол и извлечь из своего портфеля девятимиллиметровый «глок», ясно доказывало, что блузка ее окрасилась лишь вином, а никак не кровью.
— Вы в порядке? — вскричал он.
С таким же успехом можно было кричать в эпицентре бури.
— Может быть, выберемся через заднюю дверь? — Она была столь же невозмутима, как в огороде, когда возле горла ее маячило острие мотыги.
— Они только этого и ждут! Иначе не стреляли бы с фасада!
— А соседей позвать на помощь нельзя? — опять прокричала она.
— Ветер дует с залива, а близко никого нет, так что никто нас не услышит.
— Хоть догадываетесь, кто это?
— Я в теориях не силен, но подозреваю, что это те же парни, что кокнули Джо.
— Так они за этой папкой охотятся?
Она указала подбородком туда, где у противоположной стены на стуле возле камина она оставила папку.
— Опять же, хоть в Стэнфорде и не обучался, но думаю, что дело именно в этом. Прикроете меня?
— Зачем?
Он кивком указал на папку.
— Да бросьте вы ее!
Он покачал головой.
— На этот раз нет, Алекс.
Он поднялся, прячась за столешницей.
— Черт! — Алекс привстала на колено, поняв, что с нею или без нее, но задуманное он выполнит. Она приготовилась стрелять.
— По моему сигналу, — предупредила она. И когда огонь на секунду стих, произнесла: — Пошел!
Он бросился к стулу, она же приподнялась и трижды выстрелила налево и направо, туда, где еще недавно находилось окно. На секунду или две огонь противника прекратился. Затем последовал новый шквал выстрелов. Стойкого прикрытия от «дамской пукалки» Дженкинсу ждать не приходилось. Лежа ничком на полу с папкой в руке, он поглядывал на Алекс через плечо, ожидая, когда она вновь поднимется и начнет стрелять; как только это произошло и раздались три ее новых, точно рассчитанных выстрела, он перебежал на прежнее место.
— Я плохо разбираюсь в оружии. — Она вжалась в дерево, так как обстрел возобновился. — Из чего это они, черт возьми, стреляют?
— Если выберемся отсюда, я, так и быть, скажу вам это за обедом и бутылочкой-другой каберне.
— Я его не пью, — сказала она. — У меня от кислого голова болит.
— Надеюсь, мне еще выпадет случай это припомнить. И мы выпьем доброго шотландского виски в память о вашем отце.
— За ваш счет? — осведомилась Алекс.
— Если только понятие «рыцарство» за последние тридцать лет не изжило себя. — Он кивнул в сторону коридора. — Мое оружие в спальне.
Она замотала головой.
— Не доберетесь. Далеко. А у меня патронов не так много, чтобы вас прикрыть. Лучше оставайтесь на месте.
— Выбора нет, — сказал он. — Долго вам их удерживать не удастся. Они прорвутся в этот дом, просочатся в него, как термиты, и сровняют с землей. К тому же, судя по мощности огня...
Что-то вспыхнуло, затем последовал оглушительный удар, и передняя дверь, сорвавшись с петель, пролетела через комнату и грохнулась о книжные полки. По комнате покатилась граната, из которой валил густой черный дым. Дженкинс подскочил к ней и выпихнул обратно в зияющую дыру, обжегши руку, потом, воспользовавшись дымовой завесой и горой упавших книг в качестве прикрытия, кинулся в спальню. Он рванул дверцу шкафа и, нащупав в углу дробовик, переломил ствол. Всего один патрон в одном из стволов. Он нащупал на полке коробку с патронами, но она тут же смялась в его руках — пусто! Он рылся в одежде, расшвыривал обувь в поисках завалявшихся патронов и нашел еще один комплект. Во время секундного затишья он услышал выстрелы Алекс — размеренные, расчетливые; она экономила патроны, но все же выстрелы ее оттягивали момент, когда нападавшие, кто бы они там ни были, бросятся в атаку.
Присев к тумбочке, он вытащил оттуда свой смит-вессон. Обойма была пуста. Он поискал запасные магазины и, не сразу найдя, вспомнил, что видел их в багажнике машины, когда ездил в лес попрактиковаться в стрельбе в цель. Потом в тумбочке, в глубине ящика, нашлось четыре патрона 40-го калибра.
Сгодится.
От удара разлетелось окно над кроватью, и спальня наполнилась все тем же едким аммиачным запахом. Схватив валявшуюся на полу рубашку, он, удерживая дыхание, пополз в ванную. Отвернул кран. Сухо. Они перекрыли воду. Окунув рубашку в туалетный бачок, он прижал ее ко рту и носу, стараясь дышать через материю. Горло сжимало, веки жгло огнем. Ползком пробравшись обратно в гостиную, разорвал надвое мокрую материю и протянул половину Алекс. Она обмотала мокрой тряпкой рот и нос.
— Еще выходы есть? — спросила Алекс.
— Вам видится проложенный под усадьбой подземный ход?
— Было бы неплохо.
— К сожалению, ничего подобного не имеется.
— А что вы предлагаете?
— Стараться не дышать.
В коридоре полыхало пламя. Газ проник в вентиляцию. Времени у них в обрез. Набитый книгами и старыми газетами дом вспыхнет, как древесина бальсы. Языки пламени вырывались уже из спальни.
Он сунул ей в руки дробовик. Она спрятала свой «глок» в задний карман брюк. Он ослабил ремень джинсов и заткнул папку за пояс на животе.
— Когда выйдем, забирайте влево. Там есть лесная тропинка. Она ведет к сараю. До него пятьдесят ярдов, но лес и подлесок там густые, так что укрыться можно.
— Что вы хотите делать?
— Выбраться.
— Понятно, только объясните мне, как мы выйдем из дома, если они караулят нас у задней двери.
— Мы и не пойдем через нее.
Она поглядела на него как на помешанного.
— Вы видели когда-нибудь картину «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», Алекс?
— Нет.
Опершись спиной о стол, он вынул из кармана патроны, вытащил пистолетную обойму и заправил туда сороковые.
— Так вы не видели «Буча Кэссиди»! Это же классика.
Она глядела, как наползает пламя.
— А нельзя замечания о моей неосведомленности в области кино оставить до другого раза?
— Там есть сцена, когда Буч и Сандэнс Кид оказываются запертыми в сарае где-то в Южной Америке. И хотя они этого не знают, но возле дверей караулит целая армия федералов, только и ждущих, чтобы их растерзать.
— История не слишком обнадеживающая.
— Я к тому, что вылезают они из передней двери, так как этого-то как раз меньше всего от них ожидают.
— И им это удается?
Дженкинс вбил магазин в рукоятку.
— Удается или не удается, дело другое. Мне нравится сама идея.
— Идея безумная. А прикрытие?
— Вопрос хороший. Прикрытие — дерево.
Сунув в карман пистолет, он поплевал на руки и взялся за нижний край стола.
— На счет «три» начинай продвигаться!
— Но он же неподъемный!
— А кто, думаешь, его втащил сюда? Лу с Арнольдом? Когда окажешься у окна, стреляй прямо по центру. Оглуши их. Пускай призадумаются.
Он натужился, как тяжелоатлет в жиме.
— Три!
Его джинсы туго натянулись на ножных мускулах, он хрипло рыкнул, как рассерженный медведь. Стол медленно оторвался от пола, и он ринулся вперед, тараня им зияющую дыру в стене, в месте, где раньше находилось окно. Алекс отбивала патрон за патроном из двенадцатизарядного дробовика, потом кинулась влево и скрылась в зарослях. Дженкинс уронил стол, потеряв равновесие, упал, покатился, поднялся с пистолетом в руке, выпустил две пули в том направлении, откуда, как ему казалось, еще недавно стреляли, и побежал следом за Алекс в густые заросли. Пятьдесят ярдов до сарая кажутся целой милей... сто пятьдесят шагов... сто двадцать... В спину его подталкивали шелест и вой ветра. Что-то прожужжало возле самого уха — вряд ли это комар. Шагов через сто он нагнал ее, и они побежали бок о бок, отводя преграждавшие путь ветки, спотыкаясь на кочках, как солдаты на трудном марше. Нет, черт возьми, надо выдержать.
Он споткнулся. Упал вперед. Грохнувшись о землю, крикнул ей, чтоб не останавливалась. Кое-как приняв сидячее положение, он дважды выстрелил в сторону сторожки, хотя в темноте преследователей видно и не было. Приподнявшись на колени, он оперся рукой о землю, чтобы встать, и нащупал теплую шерсть.
Лу.
Язык пса вывалился наружу и был в пене, на морде застыло выражение мучительной боли. Глаза закатились до белков, рот раскрыт в оскале. Рядом, частично скрытый зарослями чертополоха и ежевики, лежал Арнольд.
Дженкинс подполз к своим собакам, прижал к груди их головы.
— Нет! О нет! Нет, нет!
— Хватит! Бежим! — Стоя над ним, Алекс потянула его: — Теперь не вернешь!
Он поднял на нее глаза с земли; выкрикнул под вой ветра:
— Черт подери, Джо! Черт подери их всех!
— Довольно, Чарли!
Треснула ветка. Возле самой головы Дженкинса от ствола дерева отлетела щепка. Алекс вскрикнула и осела, как мешок с мукой. Дженкинс опомнился и, схватив дробовик, пустил последний патрон в надвигающуюся тень. Он вскинул на плечо Алекс и, с усилием поднявшись на ноги, двинулся к сараю, таща ее, словно пятидесятифунтовый мешок собачьего корма. Тридцать шагов... Он ждал выстрела в спину... Ноги подламывались... Двадцать шагов... Он весь сжался в ожидании... десять шагов... Он рывком распахнул дверь и нырнул внутрь, увертываясь от летящих на него щепок. За кучами сена он опустил на пол Алекс и перевел дыхание. Всполошенные куры летали вокруг, подымая тучи перьев. Арабские жеребцы топотали в своих стойлах, дергали головой и громко всхрапывали.
Дженкинс вгляделся в блузку Алекс. Из-за винных пятен трудно было понять, куда именно ее ранило, но он заметил, что около правого плеча материя порвана.
— За пояс меня обхватить сможешь?
— Что?
— Сможешь за меня держаться?
— Наверно. А в чем дело?
Он усмехнулся.
— Небось и Джона Уэйна в «Настоящем мужестве» ты тоже не видела.
— Не видела, но надеюсь, что ему там повезло больше, чем Бучу и Сандэнсу Киду.
Сорвав со столба веревку, он затянул на ней мертвую петлю и открыл дверцу стойла. Белый жеребец заржал и, испуганно кося глазом, попятился. Дженкинс опутал веревкой его морду и шею так, чтобы петля оказалась на голове, и ухитрился продеть в петлю конец веревки. На шею животного он навесил груз и закрепил веревку на другом боку жеребца. Получилось нечто вроде поводьев. Ничего, сойдет.
Алекс поднялась, опираясь да его руку. Дженкинс вывел жеребца из стойла, позволив ему кружить и становиться на дыбы, лишь бы тот успокоился. Встав на деревянную колоду, он перекинул ногу на спину животного. Смущенный, обеспокоенный жеребец взбрыкивал и тряс головой, но Дженкинс крепко сжимал его круп обеими ногами, продолжая кружить, одновременно подныривая под балки сарая.
— Влезай, — сказал он.
Алекс ступила на колоду, и он потянул ее вверх, на спину животного позади себя.
— И что же было? — спросила она.
— Ты о чем?
— В «Настоящем мужестве» — что было потом?
— Опусти голову и знай держись!
— Наверняка что-нибудь неприятное.
Ухватив зубами веревку и держа в правой руке смит-вессон, а в левой — «глок», он сильно пнул лошадь, направляя ее к двери сарая.
25
Глина сыпалась на макушку Слоуна, а оттуда — за воротник рубашки. Прижав к груди подбородок и закрыв глаза, он переждал эту мини-лавину. Он приник к камню футах в двадцати пяти от вершины. Мужчина находился над ним и шел по самой кромке. Прибой с грохотом бился о берег, отщипывая от него кусочки известняка и скальной породы, он грохотал, как гигантский молот, но верхняя часть скалы оставалась сухой, нависая над берегом, как резцы неправильного прикуса. Это да еще густой туман стали спасением для Слоуна. Даже если мужчина ляжет на живот, чтобы заглянуть за край скалы, Слоуна он не увидит. Всякий на его месте решил бы, что Слоун либо рискнул спасаться вплавь в ледяной тихоокеанской воде, либо ухитрился ускользнуть от него и кануть в темноту. Но тут же возникал вопрос: как долго сможет мужчина выжидать, дабы в этом удостовериться? Висеть так целую вечность Слоун был не в состоянии. Лодыжку жгло ледяным огнем, а мускулы рук и ног, уже не столь крепкие и выносливые, как раньше, когда он регулярно лазил по скалам, начали подергиваться — первый признак усталости. Он может сорваться. Слоун постарался перенести тяжесть тела и ухватиться по-другому, касаясь каменной стены лишь в трех точках. Пот, смешиваясь с соленой океанской влагой, заливал глаза; глаза щипало.
Опять посыпалась глина.
И даже если выдержат его руки и ноги, нет гарантии, что не рухнет выступ. Скала, за которую он ухватился, вся в трещинах и крошится, как мел. Упорство океана когда-нибудь обрушит скалу, и случится это внезапно — известняк, как известно, камень непрочный. По телевидению не раз показывали душераздирающие сцены, как усадьбы сползают в океан за несколько секунд.
Слоун про себя отсчитывал секунды: к этому фокусу он прибегал, когда хотел сосредоточиться. Семь минут — такой срок он себе положил, чтобы продержаться и еще сохранить силы для карабканья вверх. В темноте, с больной лодыжкой, под вой ветра, застыв от ледяной сырости, карабкаться будет нелегко. Ему придется проверять каждый выступ, прежде чем ухватиться за него или ступить всей тяжестью. Возможные последствия ошибки таковы, что уж лучше не торопиться.
Он ухватился за ветку, нащупал выемку для ноги, проверил ее и сделал шаг. Выемка осыпалась — правая нога его зависла. Он болтал ею в воздухе, ища стену, пока не нашел новую опору. Секундная передышка. Сердце бешено билось о грудную клетку. Снизу доносился ритмичный шелест волн — океан тяжко дышал прибоем: вдох-выдох, так дышит в трубку респиратора умирающий.
Перенеся тяжесть тела, Слоун уцепился за другой выступ и сделал шаг вверх. Лодыжка пульсировала, но он заставлял себя не обращать на это внимания — собранный, сосредоточенный, как шахматист, на два-три хода опередивший соперника. Пути к отступлению не было.
По прошествии двадцати минут он добрался до кромки обрыва. Если он ошибся и мужчина все еще там, Слоун пропал. Секунду выждав, он подтянулся повыше, боясь, что вот сейчас пальцы его придавит мужской ботинок и он полетит вниз, в туманную мглистую пену. Но ботинка не появилось, и он высунул голову над краем и подтянулся, стараясь держаться поближе к земле. Он вглядывался во мрак, в туманную ветреную мглу в поисках чего-нибудь необычного. Не обнаружив такового, он поднялся в полный рост, хромая, направился к дому и, пройдя по проходу, очутился под автомобильным навесом, откуда была видна крытая гравием парковочная площадка.
Фургон исчез.
Его мысли обратились к Мельде.
Почему ее нет дома? Если, вернувшись с лотереи, она застала там разгром, единственным, к кому она могла кинуться, был Слоун.
А там как раз был тот мужчина.
Он облокотился на металлические перила, опираясь на них как на трость, поднялся на площадку и, хромая, направился к себе в квартиру. Входная дверь была открыта.
— Мельда?
На прилавке валялась ее чугунная сковорода.
— Мельда?
Ни в кухне, ни в гостиной ее не было. Спотыкаясь о разбросанные повсюду предметы, он бросился в спальню и включил свет. На полу возле закрытой двери в ванную лежала брошенная туфля. Белая, на мягкой подошве. Туфля Мельды.
— Мельда?
Слоун никогда не закрывал двери в ванную. Выходила ванная прямо на океан. Чувствуя биение пульса в ушах, он потянулся к дверной ручке. Если есть на свете Господь Бог, пусть ванная окажется пустой. Он повернул ручку и толкнул дверь. По линолеуму протянулась полоска света, она преломлялась, расширялась, как на циферблате солнечных часов, высвечивая фигуру, сидевшую прислонясь к фаянсовой ванне. Картина была едва ли не мирной. Затем Слоун щелкнул выключателем и замер от невыразимого ужаса: под Мельдой была лужа крови, голова запрокинута, в горле зияет дыра.
Слоун почувствовал, что ноги прилипают к полу, а руки сжимаются в бессильной и смутной вспышке гнева и отчаяния.
— Нет! — тихо вскрикнул он. А потом с мучительной яростью из горла вырвалось: — Не-е-ет!
Упав на колени, он подполз к ней, прижал к груди тело.
Нет. Нет. Нет.
— Дыши! — взмолился он. — Дыши! Пожалуйста! Пожалуйста! Дыши! Сделай вдох! Ну пожалуйста!
Он уложил ее на пол и, посильнее закинув ей голову, прижался ртом к ее рту и стал вдувать в нее воздух, надавливая на грудную клетку, ничего не соображая, растерянный, раздавленный.
— Раз, два, три, четыре, пять.
Один выдох, пять толчков.
Воздух вырывался из ее горла, как из продырявленной шины.
— Три, четыре, пять.
Нет, о Господи, нет...
И опять. Выдох. Три, четыре, пять. Еще. И еще. Комната поплыла в беловатом мерцании.
— Два, три, четыре...
Слабость охватила его, голос его звучал все тише.
Темнота навалилась тяжким грузом, сдавила лодыжки. Он осел на пол. Свет померк. Боль пронзила лоб и виски, еще глубже погружая его во мрак и одиночество, нарушаемое лишь его собственным голосом, замиравшим, как магнитофонная запись, когда садятся батарейки: раз... два... три...
Потом исчезло и это. И он потерял сознание.
26
Стремление отомстить убийцам его псов толкало его вперед, и он гнал жеребца по узкой тропе, посверкивая пистолетами в обеих руках, как это делал Задира Когберн — Джон Уэйн, — когда ехал по прерии в самом захватывающем эпизоде «Настоящего мужества». Но сейчас это было не кино, а жизнь как она есть, а в жизни хорошие парни погибают. Дженкинс гнал жеребца прочь от сарая и дальше по тропе, одной рукой прикрывая лицо от свесившихся ветвей. За спиной он чувствовал прикосновение головы Алекс. Она крепко обхватила его за пояс. Подлесок поредел, показалась асфальтированная дорога. Приостановившись среди деревьев, он несколько секунд наблюдал за дорогой, надеясь, что преследователи не догадываются о ее спасительном существовании. Потом он заставил жеребца перейти дорогу, и они опять углубились в темную чащу на другой ее стороне.
После десяти минут изнурительной гонки, когда у арабского жеребца из ноздрей в прохладу ночи вырывались белые облачка пара, Дженкинс притормозил, переправляясь верхом через ручей, в миле от того места впадавший в залив. Жеребец взобрался на крутой береговой откос, и, ощутив под конскими копытами твердую почву, Дженкинс оглянулся назад на свою ферму, похожую на вигвам, сложенный из еловых ветвей. Спешившись, он привязал коня к дереву, помог Алекс слезть и усадил ее, прислонив спиной к стволу. Когда он рванул рукав ее блузки, чтобы осмотреть рану, она поморщилась.
Ей посчастливилось. Пуля срикошетила о дерево и лишь оцарапала ее. Отметина останется, но ничего опасного. Рана уже затягивалась.
Он отрывал зубами лоскут материи.
— Надо показать тебя доктору, — сквозь стиснутые зубы проговорил он.
— Ты что, жеребца назад отвести хочешь?
Он оторвал еще один лоскут и стал накладывать ей повязку.
— Это уже не твое дело, Алекс.
— Теперь мое.
Завязав узел, он наложил новый лоскут.
— Рана поверхностная. Когда ты девчонкой гоняла на велосипеде во дворе отцовского дома, у тебя небось бывали раны и похуже.
Она оттолкнула его и попыталась встать.
— Ну, сейчас я не на велосипеде и уже не девчонка, так что, Чарли, можешь предоставить мне самой о себе позаботиться.
Упрямая, вся в отца. Он распрямился.
— Ты обижаешься, Алекс, лезешь в бутылку, а дело кончится тем, что тебя убьют.
— Ну а ты разве не лезешь в бутылку?
Отвернувшись, он поглядел на ферму вдали. Расстояние делало картину мирной и идиллической, как огонек костра на биваке.
— Они псов моих убили, — произнес он раздумчиво, словно лишь сейчас начинал осознавать это. — Я хотел все позабыть. Они испортили мне карьеру, испортили жизнь, но я хотел все это позабыть. — Он опять повернулся к ней и голосом, звенящим от волнения и гнева, проговорил: — Это они лезут в бутылку!
— Мы с тобой теперь в одинаковом положении, у нас обоих нет выбора, и надо быть осмотрительными.
Наступила долгая пауза, во время которой слышались лишь журчание ручья вдали и изредка порывы ветра.
— Куда ты уходил, Чарли? В какое давнее прошлое? Ты так глядел на меня, словно перенесся куда-то очень далеко.
Он не ответил.
— И ты назвал меня «Джо».
Первые несколько лет призрак женщины являлся к нему каждую ночь. «Джек Дэниелс» и «Южная услада» помогали забыться днем, и если он выпивал достаточно, то можно было кое-как скоротать и ночь, иной раз хватало и на неделю, но воспоминания о случившемся, о том, в чем он сам принимал участие, не оставляли его — стойкие и неизменные, как гора Рейньер с юга на горизонте — дремлющая, но в любую минуту готовая взорваться извержением. Когда выпивка перестала помогать, он развязал с наркотиками. Ни антикризисной терапии, ни советов специалистов из общества анонимных алкоголиков ему не требовалось. Да он и не был алкоголиком. Он лишь пытался отделаться от кошмара. И не надо было ему, избегая искушения, спускать виски в унитаз: бутылка так и оставалась нетронутой — до сегодняшнего вечера.
— А что в этой папке, Чарли?
Он взглянул на нее, потом перевел взгляд вдаль, туда, где в низине под ним полыхал огонь.
— Дурные воспоминания, — сказал он. — Их там целая куча.
27
Ослепительная вспышка, дверь взрывается дождем игольчатых щепок, сотрясая комнату. Громовым взрывом его сбрасывает с кровати — так вышвыривает из лодки путника в грозу. Пытаясь удержаться, он хватается за одеяло и, падая в пустоту, в тесную щель между стеной и тяжелой рамой кровати, старается укрыться с головой. Но двинуться невозможно. Легкие саднит от дыма, дым жжет глаза, зрение заволакивает туманом. Взрыв заглушил все звуки, оставив лишь звон в ушах.
Пол под ним сотрясается опять, в комнату врываются люди.
Она падает на пол, и лицо ее теперь рядом с его лицом. Земляной пол окропляет кровь. Он беспомощно глядит, как она, словно от пчелиного роя, отмахивается от ударов, потом боль и инстинкт подсказывают ей позу зародыша. Когда удары ослабевают, женщина приподымается на коленях, — она тяжело дышит, тело ее конвульсивно вздрагивает. Из одной ноздри и уголка рта сочится кровь. Она поднимает голову, смотрит в глаза стоящим перед нею, потом плюет им на башмаки.
Избиение возобновляется. Они срывают с нее одежду, оставляя голой, незащищенной, и толкают ее на спину. Один за другим они вскарабкиваются на нее, и она уже не бьется, не сопротивляется. Рука в перчатке поднимает ее за волосы с пола, тело ее безжизненно и вяло, как у тряпичной куклы, правый глаз распух и заплыл, губа разбита. Поведя левым глазом, она на краткий миг останавливает взгляд на нем, лежащем под кроватью.
В мерцающем лунном свете сверкает лезвие — в одну секунду оно прорезает тьму, как серп, прорезающий стену пшеничных колосьев.
— Нет!
На этот раз в ушах не раздается эха. И жуткий вопль не преследует его. Слоун с трудом приподнялся, чтобы сесть, но грудь сдавило, и он понял, что руки и ноги не слушаются его. Яркий свет слепит глаза — ослепительно-белый круг света. Он близок к панике, но кто-то окликает его по фамилии:
— Мистер Слоун, мистер Слоун, вы меня слышите?
Круг света удаляется, оставляя после себя ореол черных и белых точек, из которых выплывают смутные образы. Он чувствует, что кто-то стоит над ним, зовет его.
— Мистер Слоун?
Образы становятся четче. Над ним склонилась женщина, незнакомое лицо плоско и кругло — как раздувшаяся рыба-собака, если ее тронуть, глаза женщины спрятаны за толстыми стеклами очков в пластмассовой оправе, очки странные: восьмиугольной формы и слишком велики для ее лица.
— Мистер Слоун?
Комната незнакомая — совершенно белая, если не считать розовато-лиловой занавески, приглушающей свет из окна. И пустого стула в углу того же цвета, что и занавеска. Он опустил взгляд и заметил, что грудь ему перерезал красный нейлоновый ремень. Такими же ремнями обмотаны его кисти. Хотя щиколотки его под белой тонкой простыней и не видны, но он чувствует, что и они спутаны. Из сосуда, подвешенного на металлическом штативе, прозрачная пластмассовая трубка тянется к иголке, воткнутой в сгиб его правой руки.
Это не его квартира... не его комната.
— Все в порядке?
Теперь слышится другой голос — мужской. Слоун поворачивает голову. Изображения туманятся, скользят, как на прокручиваемой фотопленке, и останавливаются, выхватывая из тумана фигуру чернокожего мужчины. Он стоит в открытой двери, держась рукой за косяк. Лампы дневного света бросают блики на его бритый череп. Он в сером костюме и безвкусном галстуке.
— Мне послышался крик.
Женщина шагнула к нему.
— Нет, все нормально, детектив. Подождите за дверью, пожалуйста.
— Очнулся?
— Это я сейчас проверяю. Когда я решу, что он в состоянии говорить, я вам сообщу.
— По-моему, он пришел в себя.
— Предоставьте судить об этом мне, детектив Гордон!
Мужчина обиженно пожал плечами.
— Пойду еще кофе выпью, — сказал он, закрывая за собой дверь.
Женщина вернулась к изножью кровати.
— Мистер Слоун? Вы меня слышите?
Слоун кивнул. Лицо ее прыгало то вверх, то вниз, пока он не зажмурился, а потом вновь открыл глаза.
— Вы плохо видите?
— Все как в тумане.
— Я доктор Бренда Найт. Вы знаете, где вы находитесь?
Он покачал головой, и ее фигура дернулась и замелькала, как кадр в неисправном телевизоре.
— Вы в больнице, — сказала она.
Сознание его теперь соединило воедино скудное убранство комнаты, но предметы меблировки казались неестественных размеров, разрозненными, словно в плохой экранизации «Алисы в стране чудес».
— Как... — Горло саднило, будто его потерли наждаком. Доктор Найт взяла с тумбочки пластиковую чашку и поднесла к его губам соломинку. Тепловатая вода обожгла глотку. Он вздрогнул, отпрянул, и она вынула соломинку. Он снова упал головой на подушки.
— Что со мной произошло? Как я попал сюда? — спросил он. Собственная речь отдавалась пульсацией во лбу.
— Вас привезла «скорая» этой ночью.
— Этой ночью?
— Сейчас утро, мистер Слоун.
— Я попал в аварию? Что это было? И почему я прикручен ремнями?
Доктор вынула из кармана халата офтальмоскоп, включила его и, не прерывая разговора, оттянула веко Слоуна. Свет пронзил его макушку острой болью. Слоун скривился и сбросил с себя ее руки.
Она выключила свет, быстрым движением сунула инструмент в передний карман халата и, сложив на груди руки, уставилась на него, изучая, как сложный ребус.
— Вы помните что-нибудь из того, что происходило ночью, мистер Слоун?
— Не думаю, что помню.
— Попытайтесь. Расскажите мне то, что вы помните.
Вперив взгляд в стену напротив, он собрался с мыслями, но в голове было пусто. Он уже собрался сказать: «Ничего не помню», когда вдруг перед ним замелькали образы, как карты в тасуемой колоде, сначала медленно, потом все быстрее. Перед глазами возник газетный снимок. Джо Браник. Тина передала ему розовую бумажку с сообщением, а на ней ручкой нацарапано — Джо Браник. Его почтовый ящик, металлическая дверца открыта. Разгром в его квартире. Мужчина на лестничной площадке, он поворачивается к нему. В руках у него пистолет. Он бежит, спотыкается о ледяники, оскальзывается на краю береговой скалы. На него сыплется глина.
Мельда. Он вспомнил, что с Мельдой что-то случилось. Его квартира. Сковородка Мельды. Ее туфля на полу возле... дверь в ванную.
Мельда.
— О нет! — Он закрыл глаза.
— Мистер Слоун?
Мерцающий лунный свет, сверкнуло лезвие...
— Мистер Слоун... мистер Слоун!
Грудь придавливает невероятная тяжесть, не давая дышать. Он проваливается в темноту. Голос над ним звучит все глуше. Свет меркнет. «Мистер Слоун... мистер...»
Его поглощает тьма, та самая, где в луже крови лежит женщина. Молодая. Густые темные волосы прикрывают часть лица. Он наклоняется к ней, став на колени, отводит с лица пряди. Это не Мельда. И не Эмили Скотт. Грудь пронзает острой болью, она отдается во всем его существе, разливаясь волнами.
Дыши! Ну пожалуйста! Дыши!
Ее ноги согнуты в коленях и подоткнуты под тело. Голова неловко свесилась на плечо, обнажая зияющую рану. Он прижимает к себе тело. Глаза наполняются слезами, слезы текут по щекам. Он виноват. Это из-за него.
Он чувствует чье-то присутствие и, подняв глаза, видит, что над ним стоят двое мужчин — чернокожий, рослый, крупный, настоящий великан, и белый, с волос которого на лицо стекает вода, он тяжело дышит, но не так, как после изнурительного бега. Он дышит, пытаясь справиться с волнением и гневом. Слоун вглядывается в лицо мужчины, и даже искаженное страданием, оно кажется ему знакомым.
Опять он ускользает, плывет куда-то, проплывает над двумя мужчинами, глядя на них, оставшихся внизу, он поднимается на поверхность, как ныряльщик, выскользнувший из своего тяжелого пояса, тщетно сопротивляющийся силе, которая выталкивает его вверх из воды. Темная глубь сменяется мерцанием света. Возвращается голос.
— Мистер Слоун?
Он выныривает на поверхность, задыхаясь, запыхавшийся, с колотящимся сердцем.
— Мистер Слоун? Вы меня слышите?
Он закрывает глаза, чтобы вернуться туда, в глубину, к тем двум мужчинам, но нырнуть обратно не может.
— Мистер Слоун?
И так же внезапно, как оказался невесть где Слоун, мужчина, тот, со дна, чье лицо было почему-то ему знакомо, из толщи воспоминаний прорывается на поверхность, к реальной жизни, и Слоун, ошеломленный, вдруг понимает.
28
Автострада №5, Браунсвилл, Орегон
Острая боль разливается огненными волнами по позвоночнику, начиная от шеи и кончая жгучей точкой между лопатками. После шести часов за рулем Дженкинс чувствовал себя выжатым лимоном. Задница болела. Левое колено, если согнуть, похрустывало — артрит, полученный от какой-то травмы, о которой он и думать забыл. Благодаря все еще молодо выглядевшей матери и собственной физической форме — его тело не выказывало явных признаков старения и никогда еще его не подводило — Дженкинс нередко забывал о том, что ему пятьдесят два года. Глядя в зеркало, он удивлялся своему отражению — ведь чувствовал он себя все еще тридцатилетним, за исключением моментов вроде теперешнего.
В первые два часа он внимательно глядел в заднее и боковое зеркала, но машин на автостраде было мало, и он, конечно же, заметил бы преследование. Преследования не было. Алекс не просыпалась, голова ее лежала на прислоненной к стеклу и сложенной в виде подушки кожаной куртке, а тело подрагивало — и это после болеутоляющего: двух пилюль мотрина, наспех проглоченных у магазинной стойки и запитых пивом. Наверное, рана сильно болела.
Дженкинс вел машину по Орегону, по голому пустынному отрезку автострады №5. С приближением рассвета горизонт вдали заалел, как раздуваемый ветром костер. Рассветные лучи окрасили кирпично-красную глину в рыжий цвет ржавчины и зажгли ледники на окрестных горах, превратив их в гигантские костры. И это навело его на мысли о доме и Лу с Арнольдом.
Он и Алекс дождались, когда пожар потушили. Кто-то на острове заметил пламя и вызвал бригаду пожарников. Им потребовалось больше трех часов, чтобы справиться с огнем. Алекс пыталась отговорить его от возвращения на ферму. Но он не мог оставить псов гнить в лесу, не хотел, чтобы они стали добычей койотов и прочих тварей. Он закопал их возле ручья. Место было выбрано правильное — они ведь так любили бегать по мелководью, — но спешка не позволила ему выбрать из земли камешки и сучки, и это продолжало его беспокоить. И времени погоревать о них у него не было. Он лишь стиснул в ладони горсть земли, силясь вспомнить молитву, которую мало-помалу выучил, просиживая часами в баптистской церкви во время утренней воскресной службы.
«Из праха сотворен, в прах возвратишься, — сказал он, просеивая землю сквозь пальцы и бросая ее в воздух. — Прах к праху и тлен к тлену».
И такую-то малость они заслужили. Они заслужили и больше. Когда-нибудь, если ему служится вернуться сюда, он сложит здесь могильный холмик из камней, посадит дерево или куст рододендрона в память о них. Окончательность такого решения расстроила его. Он представил себе, как весело, вприпрыжку бежали они навстречу своей погибели, виляя хвостами, никак не подозревая в людях подобной бесчеловечности. Но Чарльз Дженкинс о ней знал. Он знал о ней по личному опыту, и тридцать лет также не смогли стереть это воспоминание.
Его синяя нейлоновая ветровка не пропускала воздуха, и тело парилось в ней. Рубашка прилипла к коже, как целлофановая пленка. Он то и дело стирал с головы капли влаги и пота, чтобы они не заливали глаза. Рассвет пробивался сквозь прорехи в сплошном шатре из листвы и ползучих растений, посылая туда косые и изломанные полосы света вместе с почти безмятежным ощущением покоя.
Уж слишком все спокойно.
Густые заросли всегда смущали его — молчание их казалось неестественным, словно какой-нибудь хищник притаился рядом, распугав или убив все живое вокруг, все, способное двигаться и перемещаться.
Он продирался сквозь густые заросли к поляне, где его ожидала ужасная картина, подобную которой он до сих пор видел лишь однажды, во Вьетнаме.
В мертвенном застылом воздухе повисла пелена дыма и пепла — она поднималась от углей, жгла горло и ноздри запахом пожарища и еще одним запахом — сладковатым, который, как он надеялся, ему никогда уже больше вдыхать не придется. Невысокие костры догорали там, где некогда были хижины, иногда из сгоревшей постройки вдруг вырывалось длинное пламя — огонь потрескивал, шипя на него, как злобная потревоженная змея. И это было единственным звуком под покровом леса. Ведь даже дикие звери скорбят молча.
От горя и изнеможения Дженкинс упал на одно колено, его стало мутить от гнева. За его спиной раздался шелест, он услышал шаги и тяжелое дыхание догонявшего его человека. Джо Браник вышел из зарослей и застыл, словно внезапно очутившись на краю пропасти. Если он что-то и собирался сказать, слова застыли в нем — так же внезапно. С открытым ртом Браник глядел на окровавленные тела, они лежали в дверях уже несуществующих хижин, на тропинках, на склонах, там, куда бросились местные жители в отчаянной и тщетной попытке бегства. Но их догоняли и расстреливали, как диких зверей. Их казнили. Мужчин и женщин.
Детей.
Дженкинс согнулся пополам в приступе рвоты. Когда желтая пена перестала литься изо рта, тело все еще сотрясали мучительные сухие судороги. Он сел, вытер слюну в уголках рта, сплюнул, в глотке жгло какой-то кислятиной.
— Сперва они убили мужчин, — шепотом сказал он. — Собрали и стали расстреливать. Огонь был смертельный. Они дали им возможность бежать и стреляли по ним, как по мишеням.
— Господи... — прошептал Браник. Он перекрестился.
Дженкинс встал и пошел прямо к трупам.
— Женщин они связали, одних замучили, других, конечно, насиловали. Они убивали матерей, руками укрывающих своих детей.
Ему теперь было ясно, как все происходило. Дети, цеплявшиеся за своих матерей, судорожно обнимающие их, были девочками. «Мальчиков они отделили», — сказал он и, повернувшись, торопливо зашагал по деревне. Браник следовал за ним.
Хижина без перегородок, примостившаяся к большому плоскому камню, сильно обгорела, но каким-то образом не разрушилась — возможно, ее спасли дождь и сырость, возможно, роль тут сыграло что-то другое, что именно — вникать не хотелось. Дверь была сорвана с петель, и не для того, чтобы войти, — дерево было хлипким и от порядочного пинка разлетелось бы в щепки. Сделано это было, чтобы вызвать смятение и панику.
Дженкинс поднырнул под дверной косяк и вошел внутрь. На земляном полу лежало тело, и, несмотря на побоище вокруг, это тело, растерзанное и изувеченное, лежащее в стороне от других, делало все произошедшее до ужаса личным и непостижимым.
Подтверждение тому, что Дженкинс и подозревал, заставило его сжать кулаки от ярости. Гнев клокотал в горле, душил его мукой, а чувство вины сбивало с ног, ударами кувалды бросая на колени.
— Чарли! Хватит! Идем же! — Джо Браник, стоя над ним, тянул его к двери.
— Черт подери, Джо! — сказал он. — Черт подери их всех!
Алекс пошевелилась, вздрогнула от боли, но не проснулась.
В тусклом свете, льющемся с приборной доски, Дженкинс изучал ее черты, продолжая гадать, неужели это Джо мог так подставить под удар дочь Уильяма Харта. Она сказала, что они выслеживали правых, чьи организации могли помешать соглашению, нужному для того, чтобы Мексика открыла свой нефтяной рынок иностранным компаниям. Такое весьма вероятно, но Джо погиб не из-за этого. Ответ содержался в присланной им папке.
Он погиб из-за Дэвида Аллена Слоуна.
29
Клиника Калифорнийского университета, Сан-Франциско
Доктор Бренда Найт сняла ремни, стягивавшие грудь и лодыжки Слоуна, но ремни, удерживавшие кисти его рук в шести дюймах от края койки, остались на месте. Правилами внутреннего распорядка, объяснила она, снимать их не разрешается. В противном случае его пришлось бы поместить в запертый бокс, чего он, конечно же, не хочет. Слоун понимал, что дело тут не только в правилах. Она считала его не то сумасшедшим, не то опасным для окружающих. Учитывая полицейского, дежурившего возле его двери в ожидании возможности поговорить с ним, подобное заключение было вполне естественным. Мыслями он постоянно возвращался к Мельде, к тому, как держал в руках ее хрупкое безжизненное тело. Его переполняла грусть. Временами его охватывал гнев.
Кто мог совершить подобное? Кому понадобилось убивать милую безобидную старушку?
Ну а сон, преследовавший его? Был ли это просто сон, или он таил в себе что-то еще, некое предчувствие? Неужели он предвидел это? И сродни ли его предчувствие той силе, которую он ощутил в себе в зале суда?
Лежа в одиночестве в палате клиники, он испытывал такое же чувство вины, ощущение, что он в какой-то степени ответственен за это. Мысль заставляла цепенеть от ужаса. А потом вспоминал ее убийцу, и в душе вспыхивал гнев.
Несмотря на свое нежелание допустить к нему полицию, доктор Найт живо интересовалась его состоянием, и из ее вопросов он понял, что случай его — особый и вызывает ее любопытство. Она рассказала ему, что полиция обнаружила его в квартире приникшим к безжизненному телу Мельды; при этом он горестно стонал. Когда они приблизились, Слоун отказывался им повиноваться. Когда они попытались оторвать его от Деманюк, он стал сопротивляться. Последовала легкая потасовка, в ходе которой он вдруг обмяк и словно бы потерял сознание. Не сумев привести в чувство, они доставили его в отделение скорой помощи. Дежурный врач осмотрел его и не нашел никакой патологии, но так и не смог его растормошить. Он вызвал из дому Найт, которая заступила на его место. Он же удалился в комнату отдыха.
Найт вколола Слоуну в руку два миллилитра атавана, сказав, что это поможет снять напряжение. Начав действовать, лекарство притупило все его чувства. Голова стала тяжелой, и ее было трудно оторвать от подушки. Руки и ноги пощипывало, словно его опустили в перегретую ванну. Он закрыл глаза и увидел перед собой человека, извлеченного из глубин его памяти. Черты лица его были моложе и казались четче, острее — годы еще не смягчили их, но лицо, несомненно, было тем же самым, что и на фотографии в газете. Джо Браник.
Где-то и как-то они пересеклись, а это означало, что женщина, смерть которой он переживал с каждым рассветом, не была ни предчувствием, ни сновидением. Она была реальностью, и Джо Браник, доверенное лицо президента, находился там, рядом с ней. Браник звонил Слоуну, он оставил ему телефонное сообщение за день до того, как кто-то вскрыл почтовый ящик Слоуна, учинил разгром в его квартире, и, судя по газетам, за несколько часов до того, как тело самого Браника полиция обнаружила в Национальном парке в Западной Виргинии, сочтя его смерть явным случаем самоубийства. Если и оставались сомнения, что события эти взаимосвязаны, то они уничтожались вторым визитом телефонного мастера. Иной причины рыться в квартире Мельды, кроме как в поисках корреспонденции Слоуна, у него не было. Мысленно Слоун видел бурый конверт со своей фамилией, написанной от руки. Джо Браник пытался ему дозвониться. Так ли уж абсурден вывод, что и конверт Слоуну послал именно он?
Слоун почувствовал изнеможение, действие успокоительного нарастало. Он увидел утку, желтую пластмассовую утку, плывущую по воде, — игрушку, с которой дети плещутся в ванне. Он чувствовал, как и сам плывет, уплывает, веки стали тяжелыми... спящая утка... подсадная утка...
Тот мужчина не пошел назад — к своему фургону. Он не пытался скрыться. Он шел по проходу с пистолетом в руке.
Он явился убить Слоуна.
Слоун открыл глаза. Неприятное предчувствие, страх, который он так сильно ощутил в горах, уверенность, что кто-то крадется за ним, охватили его. Тот мужчина мог повернуться и уйти. Но он предпочел преследовать Слоуна.
И он придет опять.
Взгляд Слоуна упал вниз, к ремням, стягивавшим его кисти.
Подсадная утка.
30
Автострада №5, Дансмур, Калифорния
Алекс скользнула на вишневое диванное сиденье в дальнем конце придорожной забегаловки. Через Вашингтон и Орегон они промчались, не останавливаясь. После девятичасовой непрерывной гонки Дженкинс внял наконец зовам мочевого пузыря и голодным коликам, когда, как оазис в пустыне, на обочине показался ресторанчик. Вскоре после полудня температура снаружи приблизилась к девяноста восьми градусам. Привыкнув к мягкому климату северо-западного Тихоокеанского побережья, где столбик термометра редко подскакивал выше восьмидесяти градусов, Дженкинс чувствовал себя так, словно его кинули в жерло печи.
— Болит? — осведомился он.
Она пощупала повязку под рубашкой.
— Плечо в порядке. А вот голова болит зверски. Как с похмелья. Что это ты мне дал выпить?
— Мой дед не уставал повторять, что пиво любую хворь снимает.
— Меня словно дубиной по голове огрели. — Она перевела дух и стряхнула с макушки клочья паутины. И тут же ткнула пальцем в его руку:
— Артрит?
Он сгибал и разгибал пальцы, прогоняя онемение в суставах. Хуже, чем после работы в огороде.
— Да нет, просто кисть как свинцом налита.
— Отец так же вот делал, — с улыбкой сказала она.
Молодая женщина в розовом в белую полоску форменном платье поставила на стол перед ними две кока-колы в старомодных стаканах с воткнутыми в них соломинками. Бумага на стаканах была частично содрана. Дженкинс заказал сандвич, Харт — еще и салат. Он отбросил соломинку и пил прямо из стакана. Кока-кола, редкая в его рационе, показалась ему сладкой, как кленовый сироп, но в это утро он нуждался в сахаре, как и в кофеине. Он повернулся и, вытянув шею, следил, как голосует на дороге молодой человек в армейской тужурке — кажется, еще один призрак из шестидесятых — десятилетия, вознамерившегося теперь не давать ему покоя.
— Вьетнам, — негромко, сам себе пробормотал он.
— Вьетнам?
Он перевел взгляд на Алекс. Она стянула волосы назад, обнажив мягкую линию шеи, и держала во рту соломинку. Он смущенно уловил в ней сходство с маленькой девочкой.
— Была такая легкая заварушка в Юго-Восточной Азии незадолго до твоего рождения, — сказал он.
Она снисходительно улыбнулась ему.
— Я лишь подумал, что не бывал в такой жарище, начиная с Вьетнама, — пояснил он.
Она сделала глоток через соломинку.
— Ты не выглядишь таким уж старым.
— Спасибо.
Она подмигнула ему:
— Замели?
— Я добровольцем пошел, — сказал он. — Тогда это казалось делом чести — воевать за свою страну. Многие мои друзья даже и не раздумывали. Мне было восемнадцать, когда я сошел с борта самолета в Дананге, а на американскую землю, тринадцать месяцев спустя, я ступил уже мужчиной средних лет. Последние два дня там были самыми кошмарными в моей жизни. Я был уверен, что мне крышка. До родительского дома в Нью-Джерси я добирался тридцать восемь часов самолетом, а потом автомобилем, а добравшись, свалился как подкошенный на диван и заснул с сигаретой во рту, отчего чуть не сгорел заживо.
— Как случилось, что ты стал работать на Управление?
Положив руки на стол, он скатывал в шарик обертку от соломинок.
— Даже через два месяца после моего возвращения я ловил на себе косые взгляды — на улице, на набережной. Люди, которых я знал испокон веков, стали глядеть на меня другими глазами, и я стал глядеть на них иначе. Все изменилось, уже не было таким, как прежде, и было ясно, что и дальше уже не будет. Я не вписывался в их жизнь, выделялся — как живое напоминание о том, как тысячи юношей, лучшие из лучших, гибли на чужбине, а они здесь были заняты своими делами и плевать хотели, что кто-то там воюет. И вот в один прекрасный день на пороге моего дома появились двое парней и спросили меня, не хотелось бы мне поработать на правительство. Я сразу смекнул, что речь идет не об Иностранном легионе. Так как работы у меня не было и в скором времени не предвиделось, я подумал: чем черт не шутит. Я взялся бы за что угодно, лишь бы убраться из дома.
— Так они были вербовщиками?
— И уже собрали обо мне полную информацию.
— Прежде чем ты дал свое согласие? Зачем же так?
— Они очень спешили, и им нужен был человек, свободно говорящий по-испански и с военной подготовкой, конечно.
Она кивнула.
— Ты говоришь по-испански?
— Теперь уж не так хорошо.
— И вот почему дело кончилось Мехико.
— Это было первым моим заграничным заданием.
— И там ты встретился с Джо?
— Да, — сказал он, отвернувшись и опять глядя на голосовавшего на дороге — плавившийся асфальт призрачно мерцал, окружая его волнами туманной дымки. — Да, там я встретился с Джо.
Казалось, она секунду обдумывает услышанное. Потом она спросила:
— Но почему Мехико?
— Ирония судьбы. Так отозвались события на Ближнем Востоке. Как раз примерно в это время
Саудовская Аравия стала понимать, что ее нефтяные запасы стоят миллиарды и миллиарды и это можно использовать, чтобы укрепиться на международной политической арене. Королевская семья стала более или менее открыто грозить США тем, что может национализировать нефтяную промышленность своей страны, как это сделали в Мексике, если Штаты не прекратят оказывать поддержку Израилю. Такого рода разговоры начали сильно беспокоить богатых акционеров, а так как президентов назначают и снимают в основном они, то дела и развернулись. Никсон поначалу постарался придерживаться жесткой линии и посоветовал королевской семье заткнуться и молчать в тряпочку. Или в тюрбан — не знаю, что они там носят. Саудовцы ответили соответственно, на семьдесят процентов взвинтив цену за баррель. Когда это не помогло и не уничтожило противостояния, их компаниям было приказано прекратить все поставки нефти американским военным. Учитывая разгар «холодной войны», поддержку палестинцев русскими и их желание увеличить свое влияние в регионе, нам нужны были меры, всю серьезность которых смогли бы оценить саудовцы.
— То есть нужен был козырь, — сказала она, потягивая колу через соломинку. — Альтернативный источник нефти.
— Именно. Мы подозревали, что, когда ситуация обострится, королевскую семью больше станут заботить миллиарды долларов, чем общеарабская солидарность.
— И как раз примерно в это же время Мексика открыла у себя в плодородной саванне штата Табаско и заливе Кампече обширные запасы углеводородов и натурального газа, — сказала она.
— Что было очень кстати. По предварительным оценкам, запасы эти исчислялись цифрами от шестидесяти миллиардов баррелей и выше и, возможно, доходили до сотни миллиардов.
— Услышаны были молитвы Никсона.
— Как посмотреть. Иными словами, нефть имелась. Вопрос был в технологии, как до нее добраться и разрешит ли Мексика нам заняться разработками. Но изобретательность растет по мере необходимости, и мы полагали, что технология явится сама собой и что дело не в ней.
— А в том, чтобы убедить Мексику вновь открыть свой нефтяной рынок иностранным компаниям.
— А из учебников истории ты, возможно, помнишь, что у Мексики тогда был и своих хлопот полон рот. Студенческие волнения и забастовки рабочих участились, становясь все более ожесточенными. Были свидетельства о проникновении в страну мятежников из коммунистической Кубы и Советского Союза, желавших превращения Мексики во второй Вьетнам. Но одно дело подобная угроза где-то далеко, в Юго-Восточной Азии, и совсем другое дело, Алекс, когда мятежники уже ломятся в твои ворота.
— И вы с Джо пытались определить, как велика грозящая опасность, — сказала она, начиная догадываться о том, как все происходило. — Ты и Джо держали под наблюдением все эти группы, выявляя те из них, что были способны спровоцировать в обществе беспорядки, если дело дойдет до серьезных переговоров между США и Мексикой.
— Наша работа заключалась в том, чтобы поддерживать статус-кво в случае, если саудовцы не отступят.
— История повторяется, — заметила она.
— Как и всегда. — Опершись рукой о сиденье, он откинулся на диванную спинку. — Поэтому мне и надо знать, в чем состояло твое сотрудничество с Джо, Алекс. Мне требуется вникнуть в специфику вашей работы, с тем чтобы я смог сопоставить ее с той работой, что вели мы с Джо.
Набрав в легкие воздуха, она тоже откинулась на спинку и устроилась поудобнее.
— Мы работали в среде мексиканской интеллигенции, выявляя организации радикалов, способные помешать идущим переговорам. Джо попросил меня ему помочь. Он сказал, что после тридцати запустил свой испанский и ему нужен устный переводчик, который помогал бы в беседах и работе с документами.
Дженкинс рассмеялся.
— Джо запустил испанский! Да он никогда и не знал его толком! Скажи мне, пожалуйста, вот что: была ли среди организаций, за которыми вы вели наблюдение, El Frente de Liberacion Mexicano?[2]
Она нахмурилась.
— Что происходит, Чарли?
— За этой организацией Браник тоже поручал тебе следить?
— Да.
— И что ты обнаружила?
— Все это тебе известно: ФОМ, по общему мнению, перестал существовать. Никто о нем не слышал вот уже тридцать лет, то есть с тех пор, как вы с Джо покинули Мексику. — И она вопросительно подняла брови.
— Такие организации могут прекращать свое существование, — сказал Дженкинс, тщательно подбирая слова, — но стоящая за ними философия бессмертна. И вот теперь мы в полной мере хлебаем последствия этого на Ближнем Востоке. Называют подобные организации себя по-разному, но их философия все та же: их цель — разрушение западной культуры.
Она кивнула.
— Поговаривают, что Национальная партия труда исторически связана с ФОМ.
Знакомство его с мексиканской историей делало такие предположения небеспочвенными. Партия труда была партией Альберто Кастаньеды, и только она одна впервые за восемьдесят лет сумела преодолеть укоренившуюся в мексиканской политике коррупцию и победить на выборах правящую партию. Кастаньеда получил прозвище «Destapado» — честный, открытый, так как к вершине президентской власти он поднялся из полной безвестности. Основную поддержку ему оказали коренное население и низшие классы общества — организованные в профсоюзы рабочие и фермеры. Обычно эти люди не так охотно являлись на голосование. Но на этот раз они проголосовали. Именно к этим слоям в 1970-е годы апеллировал ФОМ, провоцируя серьезные беспорядки, особенно на юге страны.
— Главарь ФОМ назывался El Profeta, — сказал Дженкинс.
— Пророк?
— Он и проповедовал, в основном низшим и средним классам, что в Мексике не видать свободы до тех пор, пока ее вожди не освободятся от иностранного влияния, и что, лишь объединившись, они способны это сделать. Он заявлял, что в силах уничтожить многовековую зависимость Мексики от иностранных держав, в особенности от Соединенных Штатов. Поначалу никто в правительстве не прислушивался к его словам и не обращал на него внимания, но когда ФОМ стал убивать правительственных чиновников и богатых землевладельцев, обвиняя их в предательстве, мексиканское правительство внимание на него обратило. Народ, в особенности жители деревень на юге Мексики, явно осмелел под чьим-то руководством. Что-то рождало в них уверенность в близких переменах. Правительство использовало все имеющиеся у него рычаги, чтобы схватить его.
— И кто же он был?
Дженкинс покачал головой.
— Его так и не поймали?
— Нет. Несмотря на все меры, доказавшие свою эффективность, несмотря на новейшую технику допросов, его так и не нашли. Мы также не преуспели в этом.
— И что же с ним сталось?
— До твоего появления на пороге моего дома, — сказал он, — я считал, что он мертв.
31
Клиника Калифорнийского университета, Сан-Франциско
Несмотря на настойчивые просьбы Слоуна, доктор Найт отказалась дать ему разрешение побеседовать с полицией. Она сказала, что в его теперешнем состоянии такая беседа нежелательна. Когда он потребовал, чтобы она отпустила его из клиники, она процитировала ему законодательство и сказала, что его случай целиком «подпадает под пункт пятьдесят четыре пятьдесят» и что она имеет право держать его сколь угодно долго. Спорить и доказывать ей что-либо было бессмысленно — это значило бы лишь рассердить ее и тем самым увеличить себе дозу успокоительного, а ему и без того было нелегко бороться с его действием и не погружаться в сонную одурь.
Доктор Найт захлопнула папку и прижала ее к животу.
— Мы проведем ряд экспериментов, а там поговорим, — сказала она. И прежде чем он успел возмутиться, бросила: — Ваша жена здесь. Я разрешу свидание при условии, что оно будет коротким. Сейчас для вас самое главное — отдых.
Она переговорила с кем-то за дверью, и не прошло и секунды, как в палату вошла Тина.
— Покороче, пожалуйста, — сказала Найт, берясь за ручку двери. — Не больше десяти минут. — Она вытащила из переднего кармашка халата визитную карточку и вручила ее Тине. — Когда вы поговорите, зайдите ко мне. Мой кабинет наверху.
Дверь захлопнулась, и Тина прошла к изножью кровати. Держалась она неуверенно, выглядела измученной. Волосы не уложены, красные глаза казались усталыми.
— Они пускают только родственников.
— Как ты меня разыскала?
— Ты записал мой номер как телефон экстренной связи, Дэвид. Мне позвонили среди ночи. Единственное, что сказали, — это то, что тебя доставила «скорая». Я решила, что твоя машина попала в аварию. Думала, что застану тебя с трубками в носу на искусственном дыхании. А вместо этого прождала все утро, чтобы впустили.
Когда на работе он заполнял положенные бумаги, ему и в голову не приходило, что телефон экстренной связи понадобится. Тину он записал тогда за неимением ничего лучшего. Других кандидатур и не было. Мельда с такой ситуацией никогда бы не справилась.
— Извини меня, Тина, я должен был хоть разрешения спросить.
— Да ничего, я не возражаю, просто...
Он понял, что она собиралась сказать, и опередил ее. Это был еще один из его секретов, в котором прежде он признался одной лишь Мельде.
— Родных у меня нет. Мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было не то шесть, не то семь лет, и рос я в сиротском приюте. У меня действительно никого нет. Теперь не осталось. Мельда была единственным родным мне человеком.
Признание вызвало у него горечь. Он тяжело вздохнул.
— Прости меня, Дэвид.
— Полиция считает, что это я ее убил.
Она устало опустилась на стул возле его койки.
— Ты любил Мельду, Дэвид. Я-то это знаю. И знаю, что ты не виноват в ее смерти. — Она перевела дух. — Но твой кошмар... Откуда ты мог знать?
Он покачал головой, не зная, как втолковать ей свою мысль, но твердо зная, что время поджимает. Предчувствие, что тот мужчина скоро заявится, крепло в нем.
— Тина, то, что я собираюсь сказать тебе, может показаться странным и даже безумным, но пожалуйста, поверь мне, потому что ты единственная, кто у меня теперь есть.
Она робко кивнула.
— Хорошо.
Он рассказал ей о мужчине в галерее, о том, что случилось вечером и что, по его версии, к нему в квартиру вломился тоже он.
— Вот поэтому ты и не мог дозвониться Мельде.
— Да, именно поэтому.
— Кто он? Что ему надо?
Он подозревал, что дело в Джо Бранике.
— Ему нужен конверт, что-то, что было мне отправлено по почте. Он не просто проник ко мне в квартиру, Тина. Он переворошил ее всю, от пола до потолка. И вскрыл мой почтовый ящик. Я не сразу связал два этих события. И в квартиру Мельды он влез тоже за этим.
— Она забирает твою почту, когда тебя нет, — сказала Тина.
— Совершенно верно.
— Что же в том конверте?
— Не знаю, но фамилия «Браник», Джо Браник, тебе что-то говорит?
— Тип, оставивший сообщение? Тот самый, из газеты?
— Да.
— Думаешь, конверт тебе прислал он?
— Набери номер, и это подтвердится. А я и без того уверен.
— Почему?
— Объяснять нет времени. Ты должна мне поверить. А мне необходимо выбраться отсюда.
— Дэвид...
— Тот тип все еще рядом. И нужен ему не только конверт. Тогда вечером в галерее он легко мог уйти. Он мог скрыться, но не сделал этого. Он шел на меня с пистолетом в руке. И он еще вернется. Я понимаю, что это может показаться безумием, но заклинаю тебя десятью годами, которые мы провели с тобой бок о бок, поверь, что это серьезно. Мне надо отсюда выбраться.
— Но, Дэвид, откуда ему знать, что ты здесь? И потом, за дверью охрана. Как он может проникнуть к тебе?
Он натянул ремни, показывая ей то, что его удерживало.
— Он убьет меня, Тина.
Дверь в палату распахнулась. Вошел пухлый медбрат.
— Миссис Слоун, боюсь, что ваше время истекло.
Слоун заторопился, пытаясь досказать необходимое:
— Он маленького роста, коренастый, коротко стриженный. Мельда сказала, что на предплечье у него татуировка — орел. Это тот самый мужчина, которого я видел вчера вечером. Сюда ко мне раньше заглянул детектив...
— Фрэнк Гордон. Он и со мной говорил. — Она вытащила из кармана джинсов визитку: — Он дал мне свою карточку.
— Доктор Найт не разрешает мне с ним поговорить. Ты должна дать ему описание этого человека. Рассказать ему, что квартиру мою взломали. Что был составлен полицейский протокол. И скажи ему, пусть пошлет кого-нибудь, чтобы порасспрашивали соседей — может быть, кто-то его видел. Ездит на фургоне. Кто-нибудь мог заметить номер лицензии.
— Хорошо, — сказала она.
Медбрат сделал еще несколько шагов в палату.
— Миссис Слоун...
— Заставь детектива опросить жильцов — не видали ли они этого мужчину, не говорили ли с ним. Ведь от кого-то из них он должен же был узнать, что Мельда в доме нечто вроде смотрителя. Иначе он не стал бы обыскивать ее квартиру. И скажи ему, пусть позвонит в телефонную компанию. Наверняка выяснится, что никаких ремонтов и устранений неполадок предусмотрено не было. Это уж как пить дать.
— Миссис Слоун, простите меня, но...
Она повернулась к медбрату, затем снова к Слоуну.
— Ты задний вестибюль в моем доме знаешь, ну тот, что возле навеса для автомобилей? Посоветуй Гордону осмотреть там стену.
— Зачем?
— Дырку от пули поискать.
Глаза ее расширились.
— Пусть поищет.
Пухлый медбрат тронул ее за локоть. Она резко обернулась.
— Отстаньте, слышите! Я с мужем говорю.
Медбрат отстал.
Слоун улыбнулся.
— И еще одна просьба. Раздобудь мне мой портфель.
Она недоуменно взглянула на него.
— Портфель?
— Я оставил его в кабинете под столом. Помнишь?
— И положил в него почту, да?
— Так вот, достань его. Принести мне его сюда сможешь?
Она кивнула и направилась к двери, потом остановилась, словно внезапно вспомнила о чем-то, и вернулась. Подойдя к краю его койки, она стиснула его руку. Потом наклонилась, поцеловала его в щеку и, помедлив секунду, вновь пошла к двери.
32
Клиника Калифорнийского университета, Сан-Франциско
Тина стояла у окна с чашкой травяного чая в руках, разглядывая знаменитый вид, который туристы могли приобрести у любого фотографа в Рыбацкой гавани: залитые ярким утренним светом пролеты Золотых ворот сверкали, словно действительно были сделаны из драгоценного металла, но другая часть моста и Морской мыс, куда был перекинут мост, все еще терялись в волнах беловатого тумана.
Словно смотришь на картину — двухмерную, лишенную объема. Мысли ее витали далеко. Она вновь переживала недавний разговор с Дэвидом и детективом в холле.
Фрэнк Гордон был коренаст и хмур; он так глядел на собеседника, будто сомневался даже в том, правильной ли фамилией он представился, — правда, в ее случае такая подозрительность была отчасти оправданна. Несмотря на весь скептицизм Гордона, она настойчиво внедрила в его сознание все то, что Слоун попросил ее ему рассказать. Гордон записывал ее слова, а когда она кончила, он запыхтел, раздувая ноздри. Если скепсис его и не улетучился, от нее он это скрыл. Слоун передал ему факты, факты осязаемые, которые он был в состоянии проверить, и Тина понимала, что смущало детектива. Гордон не хотел верить этой истории, но иного выбора, чем взяться проверять, у него не оставалось. Он захлопнул блокнот и, вызвав местного секьюрити, отдал тому распоряжение следить за дверью в палату. После этого он повернулся и ушел, оставив Тину в холле.
Тут она почувствовала, как усталость одолевает ее, въедается в мускулы лица и шеи, как деревенеет голова, становясь тяжелой, словно с похмелья, после двух стаканов красного вина, но теплый, пахнущий апельсином чай сейчас возвращал ее к жизни.
— Прошу прощения. Разговор оказался длиннее, чем я ожидала.
Доктор Найт повесила трубку. Тина отвернулась от окна. Найт сидела за захламленным столом в скромных размеров кабинете, походившем скорее на склад, чем на комнату для работы. По стенам были развешаны дипломы, на полках красовались грамоты, но фотографий — мужа, детей либо даже любимца семьи — домашнего животного — Тина не заметила. На круглом столике справа высилась кипа папок. Без очков черты врача казались мельче, а лицо — страннее. Желтый линованный блокнот на письменном столе Найт был испещрен записями и крохотными синими точками — говоря, она тыкала в блокнот острием авторучки.
Тина села в одно из двух кресел, стоявших напротив, через стол от Найт, и они продолжили прерванный телефонным звонком разговор.
— Я психиатр с двадцатипятилетним стажем, миссис Слоун, но мне не приходилось ни наблюдать, ни читать что-либо подобное.
— В каком смысле?
— Когда полиция доставила сюда вашего мужа, никаких видимых следов физической травмы у него не было, но на внешние раздражители он не реагировал. Булавочные уколы ладоней и подошв не вызывали у него никакой реакции. Зрачки расширены, глаза бегали, пульс был неустойчив — от нормального, семьдесят два удара в минуту, он вдруг убыстрялся до ста, а потом падал до шестидесяти с небольшим, хотя никаких физических усилий ваш муж не делал и пребывал в полном спокойствии. Временами ему было трудно дышать и температура понижалась до 96 градусов, а потом вдруг подскакивала до 101,5. Давление у него также скакало.
— И что все это значит?
— Пока не знаю, — сказала доктор, но сказала так, что Тина заподозрила, что кое-какие идеи у Найт все-таки имеются и они весьма ее интригуют, почему она и не прерывает разговора. — Как я уже говорила, мне не приходилось наблюдать ничего подобного. Если бы моей задачей было поставить предварительный диагноз, я бы сказала, что организм пребывает в состоянии некоего расстройства — все защитные силы его брошены на то, чтобы убежать от реальности того, что переживает сознание.
— Реальности?
Найт откинулась в кресле.
— Симптомы, которые можно наблюдать у вашего мужа, схожи с теми, что мы зовем телесной памятью, миссис Слоун. — Опершись локтями о стол, Найт стиснула ладонями шариковую ручку с такой силой, словно вознамерилась сломать ее пополам. — Слышали вы когда-нибудь о посттравматическом стрессовом синдроме?
— Да, это бывает у солдат, вернувшихся с войны.
— Да, большинство ассоциирует это понятие именно с солдатами, и мы располагаем массой медицинских сведений об этом синдроме благодаря вьетнамской войне. Телесная память сродни этому синдрому, с которым я не раз сталкивалась в своей практике. Проявляется этот синдром далеко не сразу — тут свою роль играет известная вам амнезия. Больной может похоронить в себе это воспоминание и годы и годы вести нормальную жизнь и производить впечатление совершенно нормального, нетравмированного человека. Он может быть успешен в профессии, иметь нормальные отношения с окружающими, иметь семью.
— Но потом это проявляется? — спросила Тина.
Найт опустила ручку.
— Психиатры еще дебатируют вопрос о том, что именно может запустить в действие заглушённый механизм воспоминания, но то, что механизм этот может быть запущен, никем не отрицается. И война вовсе не является тут необходимым условием. Заглушённые воспоминания о физическом или сексуальном насилии распространены ничуть не меньше.
— И вы думаете, что процесс Эмили Скотт мог запустить в действие механизм воспоминания, который Дэвид до этого времени в себе заглушил?
— Возможно. Сколько лет было вашему мужу, когда погибли его родители?
Тина припоминала, что говорил ей Дэвид.
— Он сказал, что был еще мальчиком.
Найт хмыкнула и, записав что-то в блокноте, принялась ударять по бумаге кончиком пера, ставя синие точки.
— А разве это важно?
— Амнезия у детей имеет ряд особенностей. Обычно им помогает справиться с психической травмой находящийся рядом взрослый, в большинстве случаев — родитель. Часто этой помощи бывает достаточно — наступает излечение. Но у вашего мужа ситуация, по-видимому, осложнялась тем, что рядом не было никого из родителей, а судя по тому, что вы мне рассказали, и близких родственников у него также не было. Случай для клинициста весьма интересный и провоцирующий. Такого мне еще не встречалось. Вам известно что-нибудь о его жизни после гибели родителей, кто воспитывал его?
— Он воспитывался в сиротских приютах.
Найт поморщилась.
— После такой травмы не иметь рядом человека, который, воспитывая, помогал бы изжить воспоминание... у подобного ребенка не будет даже возможности понять, почему произошло то, что произошло. Дети часто бывают склонны брать вину на себя, считать, что виновники произошедшего — они.
Тина подалась вперед.
— Он так и говорил! Он сказал, что чувствует, будто то, что произошло с той женщиной из его кошмаров, — произошло из-за него!
Найт кивнула.
— Многие дети винят себя в чем-то, чего не понимают в окружающей жизни. Например, в разводе родителей. Альтернатива только одна — отбросить от себя неприятное, похоронить его. Мозг упрямо отказывается это принять, и неприятное событие отодвигается все дальше в глубину памяти и хранится там, как я уже сказала, долгие годы. — Найт замолчала, сосредоточенно глядя на собеседницу, словно колеблясь, продолжать ли.
— Что вы хотели сказать? — спросила Тина.
— Трудно не заметить сходства между преследующим вашего мужа кошмаром и обстоятельствами убийства этой женщины, миссис Слоун.
Тина замотала головой.
— Он не убивал ее, доктор, при всем сходстве — не убивал! Он любил Мельду. Она была ему как мать.
— Ну, существует еще другая возможность, не знаю, право, стоит ли говорить вам...
Тина выжидала.
Найт почесала макушку.
— Конечно, пока что это лишь предположение.
— Понимаю.
— Я признаю, что теряюсь в догадках. Вопреки явному сходству, муж ваш отрицает, что женщина из его кошмаров — та самая, что была убита в своем кабинете... — Она сверилась с записями: — Эмили Скотт.
— Да, когда мы говорили с ним, он их никак не связывал.
— И к тому же это не Мельда.
— Последнее вообще невозможно. Кошмар мучит его уже многие недели. Что же все это значит?
— Возможно, и ничего, — сказала Найт тоном, заставлявшим предположить, что некое значение она все же в этом усматривает. — Дело не в самих кошмарах, миссис Слоун, но они сигнал, указывающий нам на неблагополучие. Из того, что вы мне рассказали, по-видимому, не следует, что ваш муж изгоняет из памяти трагическую гибель родителей.
— Этого я не знаю, — сказала Тина.
— Он вспоминает эту гибель?
— Да.
— Что и доказывает, что преследующий его кошмар с автомобильной катастрофой и гибелью родителей не связан.
— Он может быть связан с чем-то другим, — заметила Тина.
Найт кивнула.
— С каким-то эпизодом из его прошлого. С чем-то настолько ужасным, что сознание предпочло напрочь забыть. До настоящего времени.
33
Клиника Калифорнийского университета, Сан-Франциско
Слоун наклонился вперед, чтобы видеть зеркало, повешенное на двери в ванной. Дверь была оставлена открытой, и в ней отражался затянутый проволокой прямоугольник глазка на двери в его палату. Каждые пятнадцать минут плюс-минус полминуты одетый в форму охранник заглядывал через этот глазок в его палату. Это осложняло дело, но не меньше осложняло его и ожидание непрошеного визита телефонного мастера.
Слоун насчитал двенадцать минут со времени последнего появления охранника в глазке. Счет был сложным делом, единственным, что заставляло его на данном этапе полубодрствовать. Через три минуты охранник должен появиться вновь. А через семь минут после этого явится пухлый медбрат.
Прошло пять минут.
Дверь с шумом распахнулась, впустив пухлого медбрата. Охранник выбился из графика.
Слоун быстро просчитывал возможности. Узнать, куда делся охранник — совсем ли ушел или просто отлучился в туалет, он не может. Это выяснится лишь в пути, если до пути дойдет дело. Не спеши, говорил он себе. Продумай все наперед, но действуй точно и четко. Скалолазание приучило его тело и мозг к выдержке и умению концентрироваться на мелочах. Сейчас он опирался на этот опыт.
Медбрат подскочил к койке Слоуна и ухватил его за кисть. Слоун прервал это движение, сжав левую кисть мужчины и притянув ее к краю койки. В ту же секунду медбрат заметил, что лекарство из капельницы капает на пол, так как игла вытащена из вены правой руки Слоуна, и что рука свободна.
Когда Тина, наклонившись, поцеловала Слоуна, она, загородив его от медбрата, освободила его руку от ремня.
На лице медбрата выражение замешательства сменилось испугом. Рот в панике приоткрылся.
— Простите, — проговорил Слоун.
Правой рукой он нанес прицельный удар медбрату и, согнув его ноги, почувствовал, что тело мужчины обмякло как мешок. Он удержал тело, помешав ему рухнуть на пол, и уложил его поперек койки, бросая зоркие взгляды в зеркало. Потом он закинул ноги медбрата на койку. Палата закружилась, как на карусели. Он ухватился за край койки и, борясь с центробежным движением, тормознул его ногой. Когда палата перестала кружиться, он вновь проверил дверь.
Охранника не было.
Он встал и сразу ощутил холодное жжение в лодыжке — еще одна напасть на его голову. Он пересек палату, стараясь пригнуться, чтобы его не было видно через глазок, и открыл дверцу шкафчика возле ванной. Его бумажник и кольцо выпускника колледжа лежали на полочке, но одежды там не было. Очередное осложнение, на которое он не рассчитывал. В больничном одеянии он далеко не уйдет — его спина будет маячить издали. Он обернулся к медбрату.
Действуя быстро и энергично, он сорвал с себя больничную рубаху и переоделся в форменную рубашку и штаны медбрата. И то и другое было ему тесно, а штаны коротки. Воспользоваться ботинками медбрата было вообще невозможно. Слоун забросил их под койку. Хорошо бы охранник не стал разглядывать пол. Он сунул в ремни ноги и руки медбрата и закрепил ремни так, чтобы тот не мог встать.
Медбрат застонал. Слоун заткнул ему рот полой рубахи и натянул простыню по самый его нос. Он схватил со стула лежавший на нем пюпитр и, уже направляясь к двери, увидел в зеркале отражение охранника, глядевшего в затянутое проволочной сеткой оконце-глазок.
34
Их вновь прервал телефонный звонок. Найт досадливо потянулась за трубкой.
— Простите. Прошу меня извинить. Мне казалось, я переключила звонки. Минуточку.
Она взяла трубку.
— Доктор Найт слушает.
Откинувшись в кресле, Тина следила за черным пятнышком птицы, парящей на волнах снежно-белого тумана, никак не желавшего отступать от берега.
— Дэвид Слоун? Да, это мой пациент.
При упоминании фамилии Дэвида Тина тут же оторвалась от созерцания пейзажа и переключила все внимание на Бренду Найт. Лицо докторши сморщилось, как от боли. Она махнула ей рукой, словно извиняясь, и вновь принялась постукивать острием ручки по блокноту.
— Верно. Никаких посетителей ему не разрешено. Так это и записано. — Ее голос раздраженно повысился. — Это детектив Гордон? А кто это? — Она нахмурилась. — Подождите секунду.
Найт прикрыла трубку ладонью.
— Что-то случилось? — спросила Тина.
— Это с вахты. Говорят, что к вашему мужу пришел посетитель, а они нечаянно сообщили ему номер палаты, прежде чем увидели мой запрет на посещения.
— Кто он такой? — спросила Тина.
— Вот здесь какая-то неувязка. Вы же, кажется, говорили, что у вашего мужа нет родных, не так ли?
Тина внезапно почувствовала, как ее живот сводит судорогой страха.
— Так он говорил.
— Ну а дежурный на вахте утверждает, что мужчина оказался братом вашего мужа.
Тина даже привстала.
— Кем он оказался?
— Братом вашего мужа, прибывшим из Индианы. Он заявил, что только что с самолета и...
Ноги Тины прилипли к полу.
— Но муж вовсе не из Индианы. Он вырос в Южной Калифорнии!
Она чувствовала, как немеют плечо и шея. В голове еще звучало эхо того, что говорил Слоун.
Мельда описала этого человека. Она сказала, что он маленького роста, коренастый, коротко стриженный. Сказала, что на предплечье у него татуировка — орел. Это тот самый мужчина, которого я видел вчера вечером. Когда я вернулся из офиса, он был в доме.
Она рванула дверь кабинета.
— Вызовите охрану! — крикнула она и бросилась в холл.
35
Слоун встал так, чтобы охранник не видел его лица. Дверь в палату распахнулась.
— Здесь все в порядке? — осведомился полицейский.
Слоун, царапая что-то на пюпитре, украдкой бросил взгляд на медбрата и, стараясь говорить его голосом, врастяжку произнес:
— Угу. Все тип-топ. Спит сном праведника.
Ему показалось, что полицейский медлит уйти. Потом дверь захлопнулась.
Слоун перевел дух, зная, что облегчение долго не продлится. Миновать охранника, пройти по коридору и выйти из здания клиники будет нелегко. Он подозревал, что дверей в психиатрическом отделении не так уж много, а так как привезли его без сознания, он понятия не имел, где они находятся. Кружа по этажу, он лишь привлечет к себе внимание. Значит, надо идти целенаправленно. А уж куда — это дело другое.
Он шагнул к двери и поглядел в глазок, но охранника не увидел. Приоткрыв в двери щель, он кинул взгляд в холл. От успокоительного предметы расплывались перед глазами, но он все же различил охранника — тот сидел, опершись на конторку дежурных сестер на площадке, где пересекались два коридора. По-видимому, там же находились и лифты. Он взглянул в другую сторону. Там был тупик. Медбрат застонал громче. У Слоуна не было ни времени, ни выбора. С пюпитром в руках он открыл дверь и вышел.
Каждый шаг отдавался болью в лодыжке, но, приближаясь к конторке, он заставлял себя не хромать; у конторки охранник любезничал с сестрой, чем и объяснялось нарушение графика: еще бы, славненькая блондинка.
«Только продолжайте любезничать, — шептал, приближаясь к ним, Слоун. — Не поднимайте на меня глаз, не глядите ни вверх, ни вниз».
Охранник повернул голову, но на Слоуна не взглянул, а посмотрел мимо, окинув взглядом холл. После чего возобновил свой флирт. Проходя мимо поста дежурных сестер, Слоун загородился пюпитром. Дальше была площадка, где сходились два коридора.
Из-за угла выглянула Тина, голова ее была опущена, она споткнулась, но не упала и, не заметив его, бросилась в холл. В нескольких шагах от нее бежала раскрасневшаяся и запыхавшаяся Бренда Найт, полы белого халата развевались, доктор пыталась нагнать Тину. Остановившись у конторки, Найт бросила охраннику, тыча пальцем в удалявшуюся фигуру:
— Вы! За нею! Живо!
Полицейский расправил плечи.
— Все в порядке. Я лишь недавно проверял. Он спит. И медбрат у него в палате.
Выйдя на площадку, Слоун увидел лифты и нажал на кнопку вызова, одновременно оглядываясь в поисках лестницы и не находя ее.
В холле Найт спрашивала сестру, которая вместе с полицейским уже направлялась в палату:
— Еще кто-нибудь здесь был?
— Нет, — сердито отвечала девушка. — Майкл, а больше никто.
Не имея времени дожидаться лифта, Слоун продолжал искать выход на лестницу. Когда он оглянулся на дежурный пост, то перехватил взгляд сестры: та глядела на него в замешательстве, словно не узнавая. От стен коридора гулко отдавалось эхо взволнованных голосов. И тут же мигнула лампочка, и сестра закричала, тыча пальцем:
— Эй! Он возле лифта! Он возле лифта!
Послышался звонок — лифт прибыл. Шаги. Кто-то бежит.
Дверцы лифта раздвинулись. Тина бросилась к конторке, ее настигал охранник, она метнулась к лифту:
— Дэвид!
Навстречу Слоуну шагнул мужчина.
Ростом поменьше вашего. Мускулистый такой. Коротко стрижен. На макушке гладко.
Оба узнали друг друга одновременно. Мужчина схватил Слоуна за рубашку, в то время как тот втолкнул его обратно в лифт. Дверцы сомкнулись, их отбросило к задней стенке лифтовой кабины. Кабина дрогнула. Сцепившись, они боролись, мотаясь от стенки к стенке. Слоун удерживал руку, в которой был пистолет. Другая рука мужчины сжимала горло Слоуна, его большой палец упирался ему в кадык, перекрывая доступ воздуха. Действие лекарств лишало Слоуна сил, вопреки приступу гнева и буйству адреналина в его крови, и он чувствовал, как незнакомец одолевает его, рука, державшая оружие, постепенно сгибалась и тянулась к нему. Он ощущал себя борцом, вот-вот готовым проиграть матч, и дуло пистолета постепенно, дюйм за дюймом, приближалось к его голове.
Слоун сделал резкое движение головой и услышал, как хрустнула сломанная переносица незнакомца. Брызнула кровь. И в ту же секунду, утвердившись на здоровой ноге, Слоун развернулся и сильным ударом вдавил незнакомца в перила у противоположной стены кабины. Лифт бешено дернулся, отчего они, потеряв равновесие, упали на пол, и внезапно встал.
Слоун методично бил руку с пистолетом о стену лифта, пока оружие не выпало. Он потянулся, чтобы схватить пистолет, но лифт, судорожно устремившись вниз, не дал ему этого сделать. Дверцы раздвинулись. Слоун все-таки завладел оружием, когда в лифт вошла женщина. Незнакомец толкнул ее к Слоуну, также толкнув в его сторону и других ожидавших лифта. Они попадали на Слоуна подобно кеглям. Дверцы лифта ритмично закрылись и вновь открылись, отзываясь на препятствие сильным гулом. Пробравшись по упавшим, Слоун кинулся в коридор. Служащие клиники, ища укрытия, спешили лечь на пол. Незнакомец был через холл от него, он уже открывал дверь на площадку. Проковыляв вслед за ним с горящей как огонь лодыжкой, Слоун потянул на себя дверь и, перегнувшись через перила, увидел, как мужчина торопливо сбегает вниз. Даже и на двух здоровых ногах Слоуну было бы его не догнать. Сверху доносились гул голосов и топот. Внизу тоже что-то кричали. Пути к выходу мало-помалу перекрывались. Спустившись на один пролет, Слоун сунул пистолет за пояс, прикрыв его форменной рубашкой медбрата, и очутился этажом ниже, в коридоре, где медсестра никак не могла совладать с лежащим на койке больным и штативом на колесиках. Слоун, хромая, пристроился у нее за спиной; ухватившись за металлическую раму и опершись на нее, он принялся подталкивать тяжелую койку.
— Разрешите вам помочь, — сказал он.
— Спасибо, — сказала она, не поднимая головы. — А то эти дурацкие колесики все время... Господи, что это с вами?
Рубашка Слоуна была в пятнах крови.
— Из носа кровь шла, — сказал он. — Я как раз иду переодеться. Куда вы его тащите?
Впереди, в двадцати шагах от него, с лестничной площадки бегом поспешали два охранника. Слоун слегка отвернулся и стал поправлять простыню на койке, стараясь шагать так, чтобы его загораживала шагавшая с другой стороны медсестра, которая начала приглядываться к нему с некоторой подозрительностью.
— Я вас что-то раньше не видела.
Она бросила взгляд на его босые ноги.
Все. Это конец.
Слоун заметил табличку «Выход», резко толкнул дверь на площадку и скрылся, повалив штатив.
Внизу Слоун распахнул дверь, ведущую в служебный коридор и тамбур с вертушкой. Проскочив вертушку и почувствовав дуновение свежего воздуха, он очутился на складе, заставленном корзинами с больничной одеждой. Но ни тележек, ни автокаров здесь не было. Он вытянул из корзины голубую форменную куртку-спецовку, такие же штаны, надел все это поверх униформы медбрата, убрал волосы под больничную шапочку и сунул свои босые ноги в прозрачные бахилы. Когда, идя по двору, он пересекал подъездную дорожку, в подошвы ему впивался гравий. Он собрался уже выйти на улицу, когда возле входа в клинику заметил стоявшее такси. Это было рискованно, однако он понимал, что без ботинок, да еще с больной лодыжкой, далеко не уйдет. Вернувшись, он подошел к такси и открыл заднюю дверцу.
— Доктор Ингмен? — осведомился водитель.
— Я спешу, — сказал Слоун.
36
Блумбери, Западная Виргиния
Все это было похоже на объявленный в городе праздник. Том Молья припарковался, пристроившись в хвост веренице полицейских машин и оранжевых фургонов дорожной службы, стоявших на обочине автострады №9; автомобильные фары расцвечивали сумрак в яркие цвета. Прибыл грузовичок репортеров, и журналисты спешно обустраивались: волочили свои портативные камеры и протягивали кабель. Молья приметил в толпе двух полицейских в форме и дорожный патруль. Поднырнув под ленточку ограждения, он подошел к огромному, занимавшему полдороги крану; кран стоял возле самого обрыва. Толстые железные тросы тянулись по крутизне склона от громады крана к стоявшей у воды лебедке.
Несмотря на спазмы в животе, Молья все еще не расставался с надеждой, что произошла ошибка, что Клей Плешуин что-то напутал. Пусть только это окажется ошибкой, молил он.
Плешуин позвонил Молье домой, когда тот играл во дворе в мяч с Тиджеем. Мэгги сбежала с крыльца, таща ему телефон.
— Это Клей. Ты что, опять на дежурстве?
Нет, на дежурстве он не был и, едва услышав фамилию «Плешуин», почувствовал, как сводит живот; он понимал, что просто так, от нечего делать, Клей Плешуин звонить не станет. К тому времени как Молья повесил трубку, желудок его уже жгло огнем, а тело бил холодный озноб.
Капитан рыболовецкой шхуны заметил нечто на своем радиолокаторе — устройстве, которое он горделиво именовал «поисковым обнаружителем рыбы Гармина 240». Он возвращался с предвечернего лова и, зная, как он уверял, каждый дюйм Шенандоа, был немало удивлен, увидев на экране темную тень некоего предмета. Он решил, что это может быть крупная рыба, но по зрелом размышлении понял, что ошибся.
— Они считают, что нашли его. Нашли Купермана, — сказал Плешуин.
Этой короткой фразой были перечеркнуты все домыслы Мольи насчет того, что Куперман задержался где-нибудь в местном баре, попивая пиво и играя в пул.
— Судя по всему, не вписался в поворот, — продолжал Плешуин. — Обнаруженные следы шин доказывают, что он зацепился за камушек и не смог вовремя вырулить. Там ведь нет ограждения, Моль. Почему никто ничего и не заметил. Был человек, а через секунду — нет человека.
Молья поглядел вниз с откоса и почувствовал слабость в коленях и как на лбу его выступает холодный пот. Он попятился, отходя от края. Высоты он боялся — был у него такой недостаток. На высоте он нервничал, даже небольшой подъем заставлял его воображать бог знает что, как еще секунда — и он летит в пропасть. Он прошел к кабине подъемного крана, водитель которого говорил по рации, по-видимому, с тем, кто управлял лебедкой на берегу.
Молья поднял вверх свой полицейский жетон.
— Что там у вас?
— Три водолаза в воде работают. — Водитель говорил громко, стараясь перекричать гул машины и не прекращая дергать рычаги. — Они цепи прикрепляют, чтобы мы могли вытащить ее сюда. — Водитель ткнул пальцем себе через плечо, указывая на стоявший рядом грузовик с платформой.
— Какой марки машина? — спросил Молья.
— В воде не разглядеть. Но за рулем человек — это точно.
Молья содрогнулся.
— Так его еще не вытащили?
— Не смогли. — Водитель нажал на другой рычаг. — Слишком уж машина покорежена.
Послышалась какая-то команда по рации.
— Прошу прощения! — произнес водитель и, поудобнее усевшись, всерьез занялся делом.
Через несколько минут и после новых команд по рации трос натянулся.
— Вот, пошла наконец! — крикнул водитель.
Молья сделал пару шагов вперед, стараясь не слишком приближаться к краю. Он слышал натужный рев мотора и вибрирующий гул натянутого троса. Поверхность воды прорезал разбитый корпус машины, с которого стекали потоки воды.
Патрульная машина. Берт Куперман. Молья сплюнул за край откоса: боль в желудке перешла в горечь во рту.
— Он что, из ваших? — крикнул ему водитель крана.
— Угу, — не отворачиваясь, ответил Молья. — Из наших.
Кто-то поднял руку на копа, и на этот раз никакая сволочь — генеральный прокурор, грози он хоть не знаю чем, — тела не получит. На этот раз Том Молья будет делать то, в чем приносил присягу округу Джефферсон, мать его так и растак! И плевать ему на всех недовольных!
37
Клиника Колумбийского университета, Сан-Франциско
Возле главного входа в клинику на Джуда-стрит сгрудились с десяток черно-белых машин полиции, в сумерках ярко горели их зажженные фары, отчего окружающий пейзаж казался еще красочнее. Закатные облака мешали пурпур и синеву. На противоположном тротуаре плечом к плечу стояли студенты-медики с тяжелыми рюкзаками и персонал клиники; наблюдая происходящее, они оживленно делились впечатлениями. Слухи продолжали ходить самые невероятные: внутри гора трупов. Взбесившийся пациент психиатрического отделения ухитрился сбежать из палаты, убил кое-кого из персонала клиники, а сейчас держит других в заложниках, в то время как полиция обыскивает этаж за этажом и палату за палатой.
Собравшаяся толпа несказанно удивляла детектива Фрэнка Гордона — сквозь матовое стекло дверей в вестибюле клиники ему хорошо было видно, что люди никак не расходятся.
— Свет фар патрульных машин для них все равно что освещенное крылечко для мошкары, — сказал он. — И неважно им, что это опасно, что они могут погибнуть, их просто тянет на свет! — Он повернулся к Тине: — Нет, правда, кто вы ему? Его девушка? Ведь то, что вы не жена, это ясно. — Гордон показал на левую руку Тины. — Кольца нет. Да я и проверил: Слоун не женат.
— Я его секретарь. Тина Скокколо.
Гордон подался вперед, словно был туговат на ухо:
— Секретарь?
Она кивнула.
— Я с ним десять лет проработала.
Гордон покачал головой с улыбкой полного недоумения.
— Двадцать четыре года как я в полиции работаю, но такой дикости еще не видал.
— Но с рассказом-то его это совпадает, верно? И описание мужчины оказалось правильным.
Лицо Гордона приняло сдержанное и не очень веселое выражение.
— Да, описание парня, сказавшегося братом Слоуна, данное вахтером, и то, что говорил сам Слоун, совпадают, как совпадают они с приметами, которые сообщил один из жильцов Слоуна. Я ведь съездил туда, переговорил. Тот жилец признался, что сам он направил телефонного мастера именно такой наружности к Мельде, как там ее... — Гордон заглянул в записи.
— Деманюк, — подсказала Тина.
— Правильно. Деманюк.
— Но к телефонной компании он не имел отношения, — сказала Тина.
— Очевидно, нет. Слоун и тут оказался прав. Никакого вызова в тот дом в телефонную компанию не поступало.
— И значит, Дэвид говорил правду насчет взлома, — заметила она.
— Вот тут я не уверен. Единственное, что я знаю, это сведения из полицейского протокола, предоставленные мистером Слоуном, и свидетельства двух полицейских, выезжавших на место. Согласно им, кто-то проник в квартиру Слоуна точно так же, как кто-то проник к этой госпоже...
— Деманюк.
— Госпоже Деманюк. Совершенно верно. Так или иначе, да, все это совпадает.
Тина облегченно перевела дух.
— Но офицер полиции все же считает ситуацию странной.
— Странной?
— В той части, что проникший в квартиру Слоуна ничего в ней не взял.
— Не понимаю.
— Я тоже. Обычно взломщики проникают с целью грабежа. — Гордон многозначительно поднял брови. — Но тот, кто влез в квартиру Слоуна, по всей видимости, не забрал из нее ничего ценного — ни стереосистемы, ни телевизора. Лишь поломал их. И это, судя по всему, полностью исключает мотив грабежа. — Тине вспомнились слова Дэвида насчет того, что незнакомец искал конверт. Но она промолчала. — Вам известно о каких-либо порочных наклонностях мистера Слоуна?
— Порочных наклонностях? — удивилась она.
— Да. Пристрастии к наркотикам, алкоголю, азартным играм... женщинам.
Она покачала головой.
— Он почти не пьет, детект... — Она осеклась, вспомнив о просьбе Слоуна принести ей из офиса портфель. Конверт от Джо Браника находился в портфеле.
— Госпожа Скокколо?
— Да?
— Так что же насчет порочных наклонностей?
— Нет, — сказала она. — Мне ни о чем таком неизвестно. — Но ответ ее прозвучал уже не столь уверенно, и от детектива, казалось, это не ускользнуло.
— Ну а могла быть какая-нибудь... какой-нибудь человек, которому он сильно досадил? Долг, который он кому-нибудь не отдал?
— Нет, — сказала она, по-прежнему не слишком уверенно. — Она скрестила руки на груди. — Я не все, конечно, знаю о его личной жизни, детектив, но могу вас заверить, что других увлечений, кроме, может быть, работы, у него нет. Да и времени ни на что другое он бы не нашел. Что же касается денег, то его чеками распоряжаюсь я, и по счетам он платит совсем немного. Могу утверждать, что средства у него есть. Крайне редко тратит деньги на себя. Костюмы и рубашки я ему заказываю по каталогам.
— Так что же он делает с деньгами?
— Вкладывает куда-нибудь или же просто оставляет на счетах. Он много жертвует детским приютам.
Гордон потер подбородок, словно проверяя, насколько отросла щетина.
— Ну а что скажете насчет его врагов?
Она пожала плечами.
— Ну так он же все-таки адвокат!
Замечание вызвало у Гордона короткий смешок.
— Я хотела сказать, что если он адвокат и постоянно выигрывает в суде, то может найтись кто-то, кому это не по вкусу. Но прямых врагов... нет, я таких не знаю.
Гордон вытащил из кармана пальто пластиковый мешочек и показал его Тине. Внутри была пуля.
— Один из наших сотрудников нашел. Как раз в том месте, какое назвал Слоун.
Она опять почувствовала, как по телу пробежал холодок.
— Сможете ему кое-что передать?
— Попытаюсь.
— Хорошо бы вам это удалось. Скажите ему, чтоб сдался.
— Но вы же верите ему, — возразила она. — Вы сами сказали, что он говорит правду.
— Насчет всего-всего? Не знаю. Нет, в убийстве госпожи Деманюк его, судя по всему, никто не подозревает, но, к сожалению, ему самому это неизвестно.
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что он в бегах и, согласно показаниям свидетелей, имеет при себе заряженную пушку.
— Он не представляет угрозы, детектив.
— В обычной ситуации я, госпожа Скокколо, с вами склонен был бы согласиться. Но тут ситуация необычная. А люди в отчаянном положении могут совершать отчаянные поступки. Слоун дошел до грани отчаяния, если он сбежал из палаты, и это, как я понимаю, связано с тем мужчиной, с которым он дрался в лифте. Хотя вы и сказали, что сбежал он до появления мужчины. Следовательно, Слоун знал о том, что мужчина явится, или же имел какую-то иную вескую причину считать, что находится в опасности. Какие бы вопросы и почему мне ни хотелось бы сейчас ему задать, дело не в них, и не они меня в данный момент заботят.
— А что заботит?
— Заботит тот мужик, что заявился в клинику. Он бродит где-то рядом, и мне бы не хотелось, чтобы опасность усугублялась.
38
Металлические полки с садовым инвентарем Мельды и всевозможными строительными инструментами занимали почти весь чулан, который и так был не больше шкафа. Слоун сидел на пятигаллоновом бочонке с краской, оставшейся после того, как в последний раз красили крышу. Голая лампочка на гвозде, которую он кое-как прикрутил проволокой к потолочной балке, тускло, в полнакала освещала чулан. Он проснулся, все еще чувствуя действие успокоительных, проснулся разбитым и слабым, но, по крайней мере, прошли озноб и тошнота. Он понятия не имел, сколько времени здесь провел.
Он попросил таксиста сбросить его на пустыре возле дома и некоторое время простоял, наблюдая, но не заметил ничего необычного. Тогда он прокрался задами, по краю обрыва, к чуланчику возле прохода-галереи. Там он рухнул. По мере того как проходило возбуждение от драки в лифте, его все больше охватывали слабость и тошнота. Необходимо было где-то сесть и прийти в себя — без ключей в квартиру можно было попасть лишь через балконы. Последнее, что он помнил, это как он, прислонясь к цементным блокам стены, ловил ртом воздух.
Он встал, дернул за свисавший провод лампочки, чтобы погасить ее, и медленно приоткрыл дверь в темноту. Сколько бы часов он ни проспал, была ночь. В траве стрекотали кузнечики, глухо доносился звук прибоя. Но в галерее гулял прохладный ветерок. Все было залито лунным светом. Туман еще не спустился.
Прежде чем выйти и пройти под автомобильный навес, он постоял под крышей, глядя в окна на парковочную площадку. В темноте светился верхний фонарь полицейской патрульной машины, припаркованной возле лавровой изгороди.
Сделать то, что он собирался, будет непросто.
Он вновь прокрался в чулан и, схватив там пятигаллоновый бочонок с краской, оттащил его к тылам здания. Встав на бочонок, он сможет дотянуться до решетки на балконе Мельды. Он подтянулся, перекинул ноги через решетку, очутился на ее балконе, потом опять подтянулся уже на свой балкон. Открыв стеклянную дверь, ведущую в спальню, он прислушался, нет ли кого, и вошел, стараясь не думать о Мельде и о том, что здесь произошло. Он сменил больничные тряпки на джинсы, майку и серый свитер, затем поднял моток клейкой ленты там, где он его бросил, заклеивая разодранный диван. Лодыжка была вся синяя, но заниматься ею не было времени. Сев на край тахты, он натянул на ногу носок, из тех, в каких он бегал, обмотал лодыжку пластырем, чтобы укрепить ее, и справился с ожидаемой болью, когда, втиснув ногу в тяжелый ботинок, стал туго его зашнуровывать, но ботинок и пластырь все же сделали боль терпимой и давали возможность не хромать.
Он поднял с тахты пистолет. Недолгая служба в морской пехоте позволяла определить, что это «руджер МК-2», двадцатидвухкалиберный, автоматический. Что происходит, черт побери? Ему казалось, что его внезапно ввергли в какой-то виртуальный мир, в какую-то игру, где им управляют и манипулируют неведомые силы. Встав, он отбросил эту мысль и заставил себя думать здраво. Затем сунул пистолет в спортивную сумку, которую вытащил и набил выхваченными впопыхах из комода случайными вещами и туалетными принадлежностями из ванной. Опять бросившись в спальню, он опустился на корточки перед шкафом и, разворошив обувь и грязное белье, отогнул ковровое покрытие пола, обнажив маленький потайной сейф, который установил еще при въезде. Он использовал его как надежное место для хранения важных документов и квартирной ренты, которую старые жильцы ему платили наличными. Открыв сейф, он пересчитал деньги — 2420 долларов.
Он хотел как можно дольше не пользоваться кредитными карточками и банковскими автоматами. Увидев лежавший на ночном столике «ролекс», он схватил и его, решив, что сможет часы заложить. Надевая их на руку, заметил мигающую красным цифру «1» на автоответчике возле тахты. Повинуясь странной тяге, он нажал на кнопку. Сигнал показался ему громким, как автомобильный гудок. Слоун быстро уменьшил звук.
— Дэвид? Это Тина. — Голос звучал взволнованно. — Если получишь это сообщение, пожалуйста, позвони мне. Я говорила с детективом Гордоном. Он сказал, что беседовал с одним из твоих жильцов. Ты был прав. Человек, который приходил в клинику, раньше был у тебя в качестве телефонного мастера, этот жилец направил его к Мельде. Детектив Гордон все проверил. В телефонной компании вызов не значится. А еще полиция обнаружила пулю в стене. Гордон просил передать, что этот человек, кто бы он там ни был, все еще бродит рядом... — Голос прервался. — Надеюсь, ты получишь сообщение, Дэвид.
С души у него спал камень. По крайней мере, все, что происходит с ним, — не плод его воображения, не галлюцинация. Он хотел было уже отключить автоответчик, но Тина, словно вдруг вспомнив что-то, произнесла:
— Я сегодня вечером хочу забрать из кабинета твой портфель. Звони мне домой. — И с щелчком автоответчика Слоуна, как внезапно нахлынувшей волной, окатило нехорошим предчувствием. Портфель! Он и позабыл, что попросил его достать и принести, теперь же он понял, какую ужасную ошибку совершил. Кабинет Слоуна, по всей логике, был следующим из мест, куда незнакомец должен явиться в поисках конверта — и это так же непреложно, как предчувствие его визита в клинику. И в ту же секунду щелкнула еще одна костяшка домино — нечто, что раньше гнездилось где-то в подсознании, не додуманное до конца. Если человек этот профессионал, умеющий вскрывать замки, зачем приходить под видом телефонного мастера — разве только чтобы не привлекать внимания?
Слоун поспешил в гостиную, а оттуда в кухню, снял с прилавка телефонный аппарат и отвинтил нижнюю панель. Между батарейками был вделан микрофон — крохотный, не больше батарейки наручных часов.
Он взглянул на свой «ролекс». Он опоздал не меньше чем на полчаса.
Звук цокающих по мраморному полу каблучков заставил Джека Коннели поднять голову и загнуть уголок страницы в романе, который он читал.
Оттолкнувшись ладонями от конторки, он отодвинул стул и встал. К нему приблизилась улыбающаяся Тина; она рылась в сумочке, ища компьютерную карточку входа. После истории с Эмили Скотт и более давнего налета одного клиента адвокатской фирмы, проникшего в здание фирмы с оружием, большинство учреждений установили системы безопасности, блокируя доступ к лифтам в вестибюле не имеющим специальной компьютерной карточки, и обзавелись на каждом этаже дополнительными запирающимися дверями из внешнего коридора в коридор, ведущий к кабинетам. Чтобы пройти к лифтам, а также открыть дверь на этаже, после окончания рабочего дня требовалась карточка.
— Тина, ну зачем такой хорошенькой девушке, как вы, вдруг являться на работу в такое неурочное время, да еще в субботний день? — сказал Джек Коннели, недавно ставший дедом и годившийся Тине в отцы.
— Да вот, работа призвала, Джек, очередной процесс...
— Надеюсь, вы не задержитесь так поздно, как вчера.
— Нет, сегодня не задержусь, — сказала она, продолжая рыться в сумочке. — Мне лишь забрать кое-что.
— Субботний вечер дан для веселья. А вы слишком много работаете. Все жадничаете — сверхурочные зарабатываете.
— Да, приходится платить по счетам. — Наконец она нашла карточку. — А кроме того, — она провела карточкой по электронному сенсору и подмигнула Коннели, — все хорошие парни, вроде вас, давно разобраны.
Коннели улыбнулся улыбкой застенчивого школьника. Компьютер отметил ее приход в 9:22 вечера.
— Девятнадцатый открыт. — Коннели опять принялся за роман. — Уборщик только что поднялся.
Тина шагнула в стоявшую кабину лифта и, когда двери закрылись, прислонилась спиной к стенке, глядя, как мелькают номера этажей. Она оставила сообщения для Дэвида у него дома, на рабочем телефоне и на мобильнике и надеялась, что хоть одно из них он получит. Лифт замедлил ход и остановился. Двери открылись. Она вышла и тут же, испуганно отступив и схватившись за грудь, впрыгнула обратно в кабину.
— О Господи! Как вы меня напугали!
Стоявший в лифтовом холле дежурный чистил пепельницу; он выглядел смущенным.
— Простите, — извинился он и сдвинул мусорный контейнер, давая ей пройти.
Тина набрала входной код на специальной панели, висевшей под позолоченной вывеской «Юридическая корпорация «Фостер и Бейн», и потянула на себя дверь. Она вошла в полутемную приемную, освещенную лишь лампочкой секьюрити и зеленой светящейся табличкой «Выход» над двойной дверью, и в этом сумеречном свете направилась по коридору к кабинету Дэвида. Портфель она нашла точно в том же месте, где он его оставил. Она взяла портфель и, увидев в одном из отделений торчавший оттуда бурый конверт, подумала, что бы это такое могло быть.
Из коридора послышался телефонный звонок. Она удивилась: кто же это еще из сотрудников работает в субботу вечером? Вообще-то ничего странного: разведенных здесь достаточно. Она вернулась в коридор и уже была на пути в приемную, когда заметила мигающий огонек сообщения на своем телефоне. Так как накануне, в пятницу, она была на работе чуть ли не до десяти часов вечера, сообщение вряд ли было служебным. О том, где она находится сейчас, могли, по ее предположениям, знать точно двое — ее мать и... Дэвид. Она вошла в свой отсек и набрала нужный номер и пароль. Электронный голос сказал, что ей оставлено два сообщения. Первое было послано примерно двадцать минут назад.
Тина? Тина, ты здесь?
При звуке этого голоса она ощутила волну адреналина, но сообщение внезапно оборвалось. Она быстро нажала кнопку «повтор», чтобы прослушать второе сообщение, оставленное через четыре минуты после первого.
Тина. Это Дэвид. Я только что говорил с твоей матерью. Ты здесь?
Он тихонько, как бы про себя, чертыхнулся.
Черт возьми, Тина, я получил твое сообщение.
Судя по помехам, говорил он с мобильника. Он задыхался, как после бега.
Забудь о портфеле. Не бери его, слышишь? Оставь его там, где он есть. Если ты уже здесь и взяла, поставь его на место и уходи отсюда. Уходи, черт возьми!
Эти слова ударили ее как под дых. Секунду она неуверенно держала трубку, словно в нерешительности, потом, повесив ее, по памяти набрала номер.
— Дэвид!
— Тина, где ты сейчас?
— В офисе, я...
— Убирайся оттуда немедленно! Поняла? Быстро, как только можешь!
— Что...
Она услышала скрип тележки уборщика. Звук колесиков, катящихся по мраморному полу. Курение в здании запрещено. Зачем ему понадобилось чистить пепельницу возле лифта?
— Тина? Тина!
Ей вспомнилась Мельда Деманюк. И Эмили Скотт.
Он быстро двигался под навесом, прячась за машинами и оглядывая парковку. Его джип исключался: возле него расположились полицейские. Оставалось единственное: Мельдина «барракуда» выпуска 1969 года. У Слоуна был запасной ключ от нее. Если он сумеет подойти к машине и завести ее, то у него есть шанс. После смерти мужа Мельда за руль садилась редко, и машина главным образом простаивала.
Поначалу он хотел, выйдя из квартиры, броситься к двум полицейским у входа, но мысль эту он отверг. Ведь они были заняты поисками сбежавшего из лечебницы психа, вооруженного и, видимо, крайне опасного. А при таких обстоятельствах было маловероятно, что они поверят Слоуну, будто в одном из небоскребов в центре города находится женщина, чья жизнь сейчас под угрозой. Да они даже и слушать его не станут. Он попытался связаться с детективом Фрэнком Гордоном и позвонил в инглсайдский участок, но тот не ответил, а о том, чтобы дать Слоуну его домашний телефон, не могло быть и речи. Ему отвечали, что оставят Гордону сообщение, но рассчитывать, что тот доберется до офиса раньше Слоуна, не приходилось.
Скользнув по стене к машине, он щелкнул замком. Дверца со стороны водителя заскрипела, как крышка сундука, который долгие годы простоял на чердаке и ни разу не открывался. Он втиснулся в машину, откинув спинку водительского кресла, и посмотрел в зеркало заднего вида и боковое — полицейских видно не было. В машине пахло кислой плесенью — так пахнут шкафы стариков, — и запах этот не могла забить сосновая отдушка, к тому же давно выдохшаяся. Однако вишневые кресла и приборная доска были как новые — ни единого пятнышка или трещинки. Слоун всей душой надеялся, что и двигатель машины сохранился так же хорошо. Так ли это, ему предстояло выяснить. Он вставил ключ в зажигание, пожелал себе удачи, скрестив пальцы, и повернул ключ. Двигатель напрягся, но, как назло, не заработал. Слоун выжимал стартер, умоляя машину ожить, но, чувствуя, что аккумулятор садится, выключил зажигание. Не отрывая взгляда от зеркала заднего вида, он заставил себя досчитать до десяти. После этого резко вытянул ручку подсоса и опять повернул ключ зажигания. На этот раз двигатель взвыл и слабо, но обнадеживающе зафырчал. Слоун жал на педаль, понукая машину:
— Давай! Ну давай же!
Двигатель кашлял и отплевывался, как вытащенный из воды утопленник. Потом он заглох.
Черт. Слоун выключил зажигание и обшаривал взглядом парковку, гася в себе желание действовать немедленно и надеясь, что аккумулятор все-таки не подкачает и соберется с силами. Он начал опять считать, но на этот раз дотерпел лишь до пяти и вновь повернул ключ зажигания. Двигатель словно взорвался и стрельнул выхлопной трубой — под навесом разнеслось эхо, как от выстрела. Слоун услыхал голоса, и в зеркале заднего вида показались двое полицейских. Вот сейчас они увидят облачко дыма из выхлопной трубы Мельдиной «барракуды».
Слоун зажмурился.
— Ладно, Мельда, если ты там, наверху, все еще опекаешь меня, подтолкни свой драндулет!
Он резко нажал на газ, одновременно повернув ключ зажигания. Двигатель задрожал, зафырчал, плюясь, и снова выстрелил. Слоун не отпускал педаль, наращивая число оборотов, не давая мотору заглохнуть. Теперь заднее стекло накрыло темно-серое облако. Не снижая оборотов, он включил заднюю передачу и, сняв ногу с тормоза, пожелал, чтобы двое полицейских, стоявших где-то там, в дыму, убрались с его пути.
39
Чарльзтаун, Западная Виргиния
Темно-синий «шевроле-блейзер» Питера Хо с надписью белым на дверной панели «Медицинский эксперт округа Лоудаун» стоял припаркованный на кирпичной дорожке, ведущей к выстроенному в колониальном стиле дому Тома Мольи. Дом был в тупичке, выкрашен желтой краской, с окаймленными синими ставнями окнами мансарды. В палисаднике цвели розы и азалии, а газон был зеленым, если не считать бурых пятен в местах, куда не доставал портативный разбрызгиватель-поливалка. Молья остановил «шевроле», чтобы полюбоваться картиной пригородных домиков в окружении зеленых лужаек и раскидистых деревьев; маленькие, в три спальни, домики переливались всеми цветами, освещенные безукоризненно ровными рядами уличных фонарей и разнообразием ламп на крылечках. Именно о покупке такого дома в таком пригороде мечтал Берт Куперман, чем нередко делился с товарищами. Хватит об этом.
Молья лично сообщил обо всем семье Купермана. Ему и раньше доводилось стучать в дверь с подобной вестью, но сегодняшний визит дался ему тяжелее. Едва увидев его, Дебби Куперман рухнула в обморок. Она поняла. И вся семья поняла тоже. Они были дома. Ждали. Надеялись, даже потеряв надежду. Маленький сын Купермана плакал на руках у матери. Что ж — имел полное право.
Джей Рэйберн Франклин посчитал несчастный случай единственным объяснением всего произошедшего — и исчезновения Купермана, и того, что, прибыв на место, молодой офицер не связался по рации и что парковая полиция не увидела машины. Купу не повезло. Его машину занесло на повороте, и он полетел с крутого склона прямиком в Шенандоа. Объяснение выглядело логичным.
Только Том Молья не верил в это. Ни капельки не верил.
Берт Куперман не мог не справиться с машиной на повороте, какой он делал в своей жизни сотни раз. Не мог из-за усталости не рассчитать скорости. Кому-то было нужно, чтобы все выглядело именно так. Кому-то было нужно представить это несчастным случаем, будто новичок-полицейский, уставший после дежурства, спеша добраться туда, куда он ехал, совершил трагический просчет. Они знали, что делали, уничтожив все улики и сведя все к единственной — следу шины на крутизне. Они не были заурядными убийцами, как не были убийцами-любителями. Это были мастера своего дела. Мастера экстра-класса.
Но они не знали Берта Купермана так, как знал его Том Молья.
Они не знали, что Куп был деревенским парнишкой, охотившимся в горах Западной Виргинии, ловившим рыбу в ее ручьях с тех пор, как смог, разъезжая с отцом в машине, тянуть нос из-за руля. Не знали, что такое для молодого офицера полиции в конце дежурства ехать на первый свой труп. Куп не мог чувствовать усталости. Он был совершенно бодр и настороже.
Молья припарковался на обочине и, открыв дверцу машины, потащился по дорожке, остановившись лишь затем, чтобы подобрать брошенный сыном велосипед. Прислонил руль велосипеда к крыльцу, руль повернулся, и велосипед упал. Пускай лежит. Он открыл сетчатую дверь и услышал жужжание вентилятора — пользоваться кондиционером вечерами он не любил: дороговато, и воздух от него спертый. Питер Хо сидел на диване рядом с Мэгги; на ней были шорты и его фуфайка для игры в софтбол[3] с фирменным знаком команды чарльзтаунской полиции; свои рыжие волосы Мэгги затянула в конский хвост. Выглядела она — лучше некуда. Его дочка Бет, лежа на овальном коврике, пыталась читать, в то время как Тиджей, еще не снявший своей спортивной формы команды юниоров, тыкал стетоскопом Хо ей в голову. Она отмахивалась, как от надоедливой мухи, и шлепала его, но Тиджея это лишь раззадоривало.
Мэгги встала с дивана и обняла Тома.
— Как ты?
Он сглотнул слезы, которых не стыдился в гостиной Дебби Куперман. Мэгги попятилась.
— Что-нибудь новое?
Он покачал головой — откуда бы взяться новому? Официальный протокол зафиксирует гибель Берта Купермана в результате несчастного случая. Улик, чтобы оспорить это, нет.
— Я дам тебе поесть, — сказала Мэгги.
— Спасибо, мне не хочется.
Он бросил взгляд на детей, теперь смотревших на него очень внимательно и чувствующих, что день у него был не такой, как всегда. Он крепко обнял их, прижав к себе обоих. Когда он отпустил их, вмешалась Мэгги:
— Ладно, голубчики. Поздно. Пора ложиться. — Она стала выпроваживать детей из комнаты. Когда они проходили мимо него, Молья поцеловал обоих в макушку.
Мэгги отобрала у Тиджея стетоскоп и вернула его Хо.
— Приятно поболтать с тобой, Питер.
Хо улыбнулся, но улыбка вышла кислой.
— Как и с тобой, Мэгги. Лиза собиралась позвонить тебе насчет церковного приюта, но закрутилась.
— Я знаю, как это бывает. Ты точно не хочешь остаться и поужинать с нами? Я мигом.
— Не стоит. У меня на этой неделе с едой как-то не складывается. А скоро мне уж домой. Мы ведь не засидимся. — И подождав, когда Мэгги выйдет из комнаты, он повернулся к Молье: — На теле множество синяков. И сильный ушиб затылка, от которого он, весьма возможно, потерял сознание.
Молья позвонил Хо с места трагедии и доставил ему тело Купермана. Поручив двум вооруженным полицейским охрану, он отправился сообщить горестную весть семье Купермана.
— А можешь ты...
— Могу ли я определить, откуда синяки? Явились ли они результатом катастрофы или были получены ранее от ударов тупым предметом? — Хо досадливо покачал головой. — Прости меня, Том. Я очень хотел бы это сделать, но учитывая скорость, с которой он ехал, и, возможно, действие воды... Он, должно быть, здорово расшибся о машину. Тонкая трещина в черепе свидетельствует об ударе о ветровое стекло. Основание черепа тоже переломано. — Хо потер затылок. — При обычных обстоятельствах я мог бы и не искать других повреждений — достаточно тонкой трещины в черепе.
Молья сгорбился и потер лицо:
— Но перелом основания черепа вполне мог быть вызван ударом тупым предметом, вроде ружейного приклада, — ударом, нанесенным до того, как они сунули его в машину и столкнули с обрыва.
На это Хо промолчал.
— Гематома под твердой мозговой оболочкой также указывает на удар тупым предметом, нанесенный, еще когда он был жив. Вся проблема заключается в том, что я не могу отделить травмы, полученные в автокатастрофе, от тех, что могли быть получены ранее, хотя и я вполне уверен, что последние имели место.
Молья метнул на него взгляд. Хо поднял лежащий на диване конверт из толстой бумаги и бросил его себе на колени.
— Джон Данбар. Лаборатория оказала мне услугу.
— Джон Данбар?
Хо ткнул пальцем в конверт.
— Джо Браник. Я попросил их потихоньку провести исследование.
Молья не сводил взгляда с лица Хо.
— Здесь ведь тоже не он сам виновник своей смерти, верно?
Хо покачал головой.
— Сделать такой вывод тоже нельзя. Но поспорить есть о чем.
Вскрыв конверт, Молья вынул оттуда фотографии и заключение баллистической экспертизы.
— Ну, а твое мнение как медика?
— Как медик я склонен думать, что это, скорее всего, не самоубийство.
Молья изучал результаты экспертизы.
— Но в экспертизе все сходится.
— Пуля отсутствует, Том. Следы пороха на руке и черепе идентичны. Оружие одно и то же. Специфика следа от ожога порохом кожи головы и лица показывает, что сделан был один выстрел с очень близкого расстояния. Повреждение ткани виска, кровоизлияние...
— Следовательно, дуло пистолета было либо прижато непосредственно к голове, либо находилось очень близко от нее.
— Именно. А траектория пули в черепе совпадает с той, какую можно ожидать в случае, если бы стрелял самоубийца. Пуля прошила висок и вышла через затылок, снеся верхнюю долю черепа. — Хо указал на конверт. — Ты найдешь здесь весьма четкие фотографии, которые я советую тебе запомнить, а потом зарыть где-нибудь за домом.
Разглядывая фотографии, Молья поднялся и встал. Ему лучше думалось на ходу.
— Анализ крови что-нибудь показал?
— Ничего. На теле никаких следов укола, какие бы остались после введения того или иного химического вещества. Полагаю, что и дальнейшие лабораторные исследования не выявят присутствия тяжелых металлов, следов отравления, наличия в крови или моче лекарственных препаратов или наркотиков. Но это выяснится лишь недели через две.
— В таком случае отчего ты так уверен, что это не самоубийство?
Хо, морщась, потягивал пиво; глаза его слезились от пенящихся пузырьков. Отбросив волосы со лба, он вперился глазами в пол, словно воскрешая перед собой произошедшее событие.
— Я было хотел уже с этим закруглиться, сунуть труп обратно в холодильник, звякнуть тебе и пригласить на чашечку кофе. Но тут я заметил порез на тыльной стороне руки, над костяшкой среднего пальца. Вот тут есть очень ясная фотография. — Хо взял конверт и, пролистав фотографии, нашел снятую крупным планом руку Джо Браника. — Видишь?
На Молью снимок не произвел впечатления.
— Царапина. Может быть от чего угодно. Он мог поцарапаться, падая.
— Весьма возможно. Сам порез ничего не значит. Важно то, что кровь не свернулась. Ее и не было.
Молья достаточно знал о покойниках, чтобы заинтересоваться:
— Я весь внимание, Питер.
— Ладно. Интенсивный курс по системе кровообращения человека. Когда человек жив, кровь в нем циркулирует. Поэтому, когда в него попадает пуля или он каким-то образом сильно ранит себя, из крупных и мелких сосудов возле места повреждения высвобождаются красные кровяные тельца. Проще говоря, место ранения должно быть все залито кровью, как мы это наблюдали у Купермана с его гематомой у основания черепа. — Хо поднял другую руку и сжал ее в кулак. — Но когда человек умирает, кровь в нем течь перестает. Сердце прекращает биение, и кровь в ткани не поступает. Отсутствие красных кровяных телец в месте травмы — верный признак того, что травма, в данном случае от пули, была им получена уже после того, как он умер. В случаях, когда задействовано крупнокалиберное оружие, определить это труднее — настолько искорежены бывают череп и мускульные ткани.
— Так почему же ты все-таки так подумал?
Хо мерил шагами пространство возле стеклянного кофейного столика.
— Я заподозрил это. И решил воспользоваться тонкой иглой. Очень тонкой — в пять или шесть раз тоньше волоска в диаметре. Такая иголка вводится в кожу, чтобы получить образец ткани. Я сделал биопсию, заготовил кубик парафина для слайда, вымазал его гематоксилоном и эозином, и подтвердилось, что красные кровяные тельца остались внутри ткани. Кровь из сосудов не вытекала.
Молья кивнул.
— Смерть наступила до того, как они его пристрелили.
40
Юридическая корпорация «Фостер и Бейн», Сан-Франциско
Тина бросила телефон, через холл ринулась в полутемный кабинет и тихо закрыла за собой дверь. Она съежилась, сев на корточки за письменным столом и, стянув на пол телефонный аппарат, нажала красную кнопку экстренного вызова. Короткий гудок. И голос Джека Коннели:
— Джек? Это Тина. Вызовите полицию!
— Тина? Я вас почти не слышу.
— Вызовите полицию, Джек, — сказала она так громко, как только осмелилась. Скрип мусорной тележки в коридоре затих. Возможно, уборщик бросил тележку и сейчас один за другим обыскивает кабинеты.
— У вас все в порядке, Тина? Мне плохо слышно.
Она представила себе, как ее звонок заставил его оторваться от романа в бумажной обложке.
— Джек, только вызовите полицию, и все! Отключите лифты. Просигнальте тревогу и запритесь в своей каптерке.
— Да что случилось, Тина? Мне подняться?
— Черт возьми, Джек...
Дверь в кабинет распахнулась, из коридора хлынул свет.
— Джек, вызовите же... — завопила она.
Быстрым движением уборщик вырвал из стены телефонный провод. Потом бросил взгляд вниз, на портфель в ее руке и, улыбаясь, двинулся на нее, наматывая провод на костяшки обеих рук, так, чтобы между ними оставался отрезок фута в два длиной. Тина обежала стол, меча в него все, что могла схватить. Он уклонялся от ее бросков, стоя между нею и дверью. Она увидела на столе нож для бумаги — это был подарок фирмы каждому сотруднику на пятнадцатилетнюю годовщину фирмы.
— Полиция уже в пути! Они вот-вот нагрянут, — сказала она. — Им известно, кто вы такой!
Он лишь улыбнулся.
Сделав ложное движение, она кинула в него книгу и, схватив нож, метнулась к выходу. Он схватил ее сзади и стал оттаскивать от двери. Сильно, как только могла, она ударила его ножом и, почувствовав, что тот вонзился в ногу мужчины, постаралась поглубже вдавить лезвие, еще дюймов на пять, до самой надписи «Фостер и Бейн» на рукоятке.
Не разжимая рта, уборщик издал вопль — так кричит от боли раненый зверь. Сбросив с себя свитер, Тина кинулась в дверь, а оттуда — через холл — к запасному выходу. Потянув на себя дверь, она оглянулась. Мужчина, ковыляя, выходил из кабинета, по его правой штанине быстро расползалось темное пятно крови, в руке был пистолет.
Шины стопорило на скользком покрытии, белый дым из-под колес мешался с серым угольным дымом выхлопной трубы. Затем резину сцепило с покрытием, и «барракуда» рванула на парковочную площадку, тормозя и разбрасывая колесами гравий. Двое полицейских, вынырнув чуть ли не из-под колес, попадали на землю. Слоун ехал задом, ведя машину по площадке, сквозь лавровую изгородь и по тротуару. Выли сирены. Визжали шины. Он крутанул руль и нажал на газ.
Через три минуты «барракуда» влилась в поток машин на автостраде №1. Со своим старым двигателем, не имеющая новомодных противотуманных устройств, с помощью которых из машины выжималось все, что только можно, «барракуда» оказалась на удивление быстроходной. Спидометр показывал больше восьмидесяти, а ей хоть бы что. Слоун свернул к северу, перемахнув через автостраду №280, и ожидал услышать за собой блеянье патрульных машин. Но их не было.
Он открыл мобильник и нажал кнопку «повторить набор». Отводная трубка на столе у Тины зазвонила, но Тина не ответила. Вместо нее ее голосом ответил автоответчик.
— Тина? Тина, ты здесь?
На перекрестке в центре города он вынырнул на Четвертую стрит, где свободный проезд внезапно оканчивался. Плюнув на красный свет, он притормозил в конце улицы, прикидывая скорость пестрого трамвая слева от себя. Рельсы шли параллельно дороге, а ему предстояло пересечь их, сворачивая влево на Сансом-стрит. Он нажал на акселератор, секунду помедлил, увидев трамвай совсем близко от себя, но все же решил рискнуть. Сделав резкий поворот, он услышал металлический скрежет, шипение пневматических тормозов, но уже подумал, что маневр удался, когда трамвай, ударив его в задний бампер, толкнул «барракуду» на припаркованную машину. Времени для извинений и оставления штрафов не было — он лишь поднажал, наращивая скорость. Возле Бэттери-стрит он схватил мобильник и уже хотел нажать кнопку повторного набора, когда телефон в его руке зазвонил.
— Тина?
— Дэвид!
— Где ты?
— В конторе.
— Уходи. Слышишь? Уходи как только можешь быстро! Тина? Тина!
Он швырнул на сиденье мобильник и, уже въезжая не с той стороны на подъездную аллею, выхватил из спортивной сумки пистолет; резко крутанув руль, он остановил машину позади здания возле грузового пандуса. Задняя дверь оказалась заперта. Он бросился по аллее к фасаду, ожидая увидеть там машины полиции — ни одной! Двигаясь слева направо, он методично дергал стеклянные двери, и с каждой запертой дверью рывки его становились все сильнее, пока вдруг крайняя правая дверь не поддалась, распахнувшись. Он вбежал в вестибюль. Ночной охранник, стоя возле своей конторки, кричал в телефон:
— Тина, что с вами? Тина?
Джек Коннели нажимал кнопки на пульте — нервно и неуверенно.
— Мистер Слоун, — сказал он, когда тот приблизился к конторке. При виде пистолета глаза Коннели вылезли из орбит. Руки его поднялись, поползли вверх, к плечам.
Проскочив мимо него, Слоун шагнул в лифт и нажал кнопку девятнадцатого этажа. Двери не закрылись. Он нажимал на кнопки других этажей, но и те не работали. Компьютер. Лифты были заблокированы. Требовалась карточка.
Он бросился обратно к конторке.
— Включите лифты, Джек!
— Не волнуйтесь...
— Джек, включите сейчас же лифты, черт возьми!
Коннели явно колебался.
— Включите их обратно. С ней там наверху беда приключилась!
Коннели покачал головой, руки его тряслись.
— Не могу. Компьютерам требуется минута для разблокировки.
Слоун бросил взгляд на дверь в противоположной стене вестибюля. Девятнадцать этажей, но не может же он стоять просто так и ничего не делать! Вдруг дверь на площадку распахнулась, вбежала Тина, она задыхалась и, спотыкаясь, скользя на мраморном полу, кричала: «Джек, ложись!»
Он двинулся к ней, потом остановился — все замедлилось, шагать было трудно, как сквозь густую вязкую нефтяную лужу. Тина пронеслась мимо конторки охранника, и Коннели вышел из-за конторки, шагнув к ней. Дверь на площадку опять распахнулась, грохнув о стену. Огневые вспышки и па-па-па — очереди из полуавтоматического оружия, как гулкое эхо, разнеслись по вестибюлю. Тело Коннели судорожно дергалось от каждой пули, прошивающей его насквозь, как прошивают выстрелами подброшенную вверх жестянку, тело дергалось и извивалось, пока выстрелы не прекратились, тогда он упал.
Теперь Коннели не загораживал ему цель, и стрелявший, взмахнув, как маятник, рукой, направил дуло пистолета на Тину.
41
Чарльзтаун, Западная Виргиния
— Ты уверен? — спросил Молья. — На биопсию можно опираться? Я имею в виду — как на доказательство?
Хо поднял обе руки.
— Не торопись. Никто ни слова не сказал о доказательстве. Не забудь, что парень этот, если по правилам, не должен был покидать холодильника. А кроме того, одной биопсии маловато.
Молья подался вперед.
— А это означает, что ты предпринял еще что-то.
Том Молья знал Питера Хо; он знал, что за внешностью сельского доктора скрывается высокоодаренный коронер, лучший из всего выпуска в «Джоне Гопкинсе», специалист, так же преданный своему делу, как был предан своему Молья.
Хо выдержал паузу.
— Я решил раздобыть побольше образчиков ткани. Я прошелся по ротовой полости, по нижней части нёба — туда уж заглядывают меньше всего... И я собрал то, что мне было надо, чтобы подтвердились результаты исследования с иглой.
Молья обдумывал услышанное, рассуждая вслух сам с собой:
— Так что же в результате, каким образом наступила смерть, Питер? Ты сказал, что следов физической травмы ты не обнаружил, если не считать пореза на руке. Если в организме не нашли отравляющих веществ, то отчего же он умер?
— Если точно? — Хо покачал головой. — Не знаю, но профессионально — случай интереснейший. И знаешь, Том, редкий. Строго говоря, единственный раз, когда я сталкивался с чем-то подобным, был еще в «Гопкинсе». Несчастный случай. Отец утверждал, что они упали за борт, потому что он был пьян и отключился. Родители были в разводе, и районный прокурор заподозрил, что отец, задушив детей, столкнул их за борт, садистски отомстив этим матери.
— Господи!
— Мне предстояло выяснить истину. При удушении кровь в сосудах останавливается, и смерть наступает от нехватки кислорода — сперва отказывает мозг, потом сердце. Такое полное нарушение системы кровообращения весьма сходно с нашим случаем. Кровь не поступает в ткани одинаково — точно так же, как при сильном ранении — пулевом или ножевом.
— То есть ты хочешь сказать, что и наш случай больше похож на асфиксию, чем на смерть от непосредственного ранения?
— Именно.
— Кто-то задушил его.
— Нет, не думаю.
— Но ты же только что...
— Обычно в случаях медленной смерти от удушья, то есть от недостатка кислорода, всегда можно обнаружить многочисленные микрокровоизлияния на внешних тканевых покровах — сердца, легких и в вилочковой железе на шее. Вторым признаком, уже не столь очевидным, является набухание тканей мозга. Учитывая состояние черепа, в данном случае определить последнее было бы затруднительно. Пришлось бы делать трепанацию, то есть вскрытие по всем правилам.
— И тогда...
— Я просто считаю, что умер он куда быстрее.
— Почему?
— Отсутствуют следы борьбы, сопротивления. Логично было бы видеть какие-нибудь отметины на теле — синяки, как у Купермана. Ведь мужчина он рослый. В хорошей физической форме. Мускулистый. Если б его душили, мы бы видели следы этого вокруг носа, рта. Повреждения сосудов. Ссадины, царапины на руках, синяки. Но если не считать дырки в черепе, ничего подобного мы здесь не наблюдаем. Я знаю, что пристрелили его уже мертвого. Но отчего он умер — не знаю.
— Ну а твои предположения?
Хо покачал головой.
— Очень немногие из известных мне химических средств не оставляют на внутренних органах характерных следов, которые выявились бы при лабораторном исследовании.
— Но такие средства все же есть? — спросил Молья.
— Есть. Например, двуокись углерода. Но к чему я веду, Том: убийцы этого парня — как и Купермана, если ты прав, — никакие не любители. Проделано все без сучка без задоринки. Чуть ли не идеально. Они знали, что делали, и выполнили свою работу отлично.
Они посидели, слушая шум вентилятора, похожий на жужжание тучи комаров.
— Прости, что я втянул тебя в эту историю, Питер, — сказал Молья. — Чистый эгоизм с моей стороны.
— Но это и моя работа, Том.
— Ни единая душа ничего не узнает, Питер. Я скрою это от всех.
— Что же ты собираешься делать?
— Они убили копа, Питер.
— Но у тебя нет доказательств. Ни малейших.
— Знаю. Но всегда что-нибудь да появляется. Преступлений, выполненных совершенно чисто, не бывает. Что-нибудь всегда проваливается в щели, Питер. Ты и сам прекрасно знаешь, а раз так, я буду ждать, чтоб подхватить и вытащить это на свет божий.
— Только не дай им возможности приволочь тебя ко мне в брезентовом мешке, Том.
— Все будет хорошо.
Хо встал.
— Ну, я отправляюсь домой — ужинать с женой и детьми. И тебе советую сделать то же самое. — И поставив на кофейный столик пивную бутылку, он подошел к сетчатой двери и потянул ее на себя.
— Питер! — Хо обернулся. — Спасибо тебе, — сказал Молья.
Хо вышел на крыльцо, и сетчатая дверь за ним захлопнулась. Том Молья, оставшись в гостиной, следил, как друг его идет по дорожке — силуэт, нечетко видимый в вечернем сумраке сквозь сетку двери.
42
Юридическая корпорация «Фостер и Бейн», Сан-Франциско
К нему внезапно вернулась солдатская выучка, все, что он знал, нахлынуло вспять незапруженной рекой, накрыв его воспоминанием. Останавливаться, припоминая детали, не было нужды. Он несся, подхваченный потоком. Мир сузился до узкой трубы предельной концентрации, где все было ярко и четко. Пульс стучал в голове. Дыхание с шумом вырывалось из грудной клетки — так шумят волны о берег, негромко, мерно, — и с тихим присвистом выходило из полуоткрытых губ. Он расставил ноги на ширину плеч, подставил ладонь под руку, удерживавшую оружие, затаив дыхание, прицелился и дважды выстрелил.
Правое плечо уборщика дернулось, как у тряпичной куклы, — он ответил яростным рикошетом пуль, выбивших искры из мраморного пола и стен. Слоун, не снимая его с мушки, ждал, когда мужчина упадет и он выхватит у него пистолет. Но мужчина продолжал стоять, только на его форменной куртке расползалось пятно крови — багровое, оно на зеленом казалось почти черным, как и пятно на правой штанине. Правая рука его повисла, но кисть отказывалась выпустить оружие. От одной боли он должен был бы повалиться, как сноп или как мешок с песком. Но вместо этого он повернул голову и скрестил свой взгляд со взглядом Слоуна — выражение лица его было непроницаемым, как маска, глаза — как два уголька.
Слоун поборол в себе желание еще раз нажать на спуск, тем самым давая выход гневу и безудержному стремлению отомстить. Убивать этого человека не входило в его планы. В этом не было смысла. Он нужен ему живым. Чтобы мог отвечать на вопросы.
Снаружи, извне трубы, послышался шум — шаги и какие-то крики. Боковое зрение Слоуна уловило темно-синие тени — полицейские, пригибаясь, скользили за пультом охраны.
— Бросьте оружие! Сейчас же! Покажите руки! Руки! Я должен их видеть!
Слоун держал пистолет нацеленным на уборщика, который также не шевелился и не повиновался приказу.
— Оружие на пол! На пол!
Как и он, уборщик ничем не выказывал, что видит или слышит что-нибудь извне своей трубы предельной концентрации. По всей вероятности, он хотел втянуть Слоуна в игру «кто кого» по самой высшей ставке. Потом лицо его дрогнуло в еле заметном движении — мускульной судороге, еле видимой глазу. Губы вытянулись, рот оскалился с выражением «что уж тут поделать», и в следующее мгновение он перехватил пистолет левой рукой.
Но тут открыли огонь полицейские.
43
Пасифика, Калифорния
Дверь в его квартиру была закрыта, как того и следовало ожидать в десять часов вечера. Куда интереснее было то, что вход преграждала желтая ленточка полицейского ограждения. Дженкинс отворил двери и подлез под ленточку, порвав ее. Прибранная квартира все же обнаруживала следы не то ожесточенной драки, не то обыска, не то того и другого вместе. Дженкинс поискал пятна крови и, не сразу обнаружив их, решил, что беспорядок был, скорее всего, результатом обыска — новое подтверждение тому, что поиски Джо Браника велись в нужном направлении.
Алекс Харт вошла в квартиру следом за ним.
— У вас обоих одна и та же фирма убирает?
Дженкинс посчитал разумным скупо делиться с ней информацией — он еще не был уверен в степени ее вовлеченности в дело. Он сказал лишь, что они собираются разыскать одного человека, который, может быть, прольет некоторый свет на обстоятельства гибели Джо.
— Наверное, мы прибыли туда, куда надо, — заметила Алекс, — но, похоже, с некоторым опозданием.
— Не сожгли все дотла, и на том спасибо.
Дженкинс детально осмотрел помещение. Телефонный аппарат на кухонном прилавке был повален, задняя стенка его снята, батарейка вытащена, в ней виднелось крохотное подслушивающее устройство. Он прошелся по гостиной под приглушенный аккомпанемент прибоя, в который время от времени вливался печальный звук далекого туманного горна. Он перешел в спальню. Штора на раздвижной стеклянной двери балкона была слегка отодвинута. Он перегнулся через балконные перила и увидел внизу на земле пятигаллоновый бочонок. Он опять вернулся в комнату к зеркальному шкафу. В углу был потайной сейф. Сев перед ним на корточки, он извлек страховку и завещание и наскоро просмотрел оба документа. Дэвид Аллен Слоун, будучи в добром здравии, вменяемым и в твердой памяти, оставлял все свое состояние Мельде Деманюк. Если смерть вышеуказанной Мельды Деманюк воспоследует ранее его смерти, состояние следовало разделить между несколькими детскими приютами и некой Тиной Скокколо.
У Дэвида Слоуна не было прямых родственников.
Встав, Дженкинс прошел в ванную и включил свет.
— О Господи! — воскликнула Алекс. Стоя за его спиной, она разглядывала кирпично-ржавые пятна засохшей крови на белом линолеуме. — Мы опоздали!
Осторожно ступая, Дженкинс подошел к аптечке и открыл ее за уголок, чтобы не оставлять отпечатков, потом осмотрел раковину. Обойдя Алекс, он вернулся в спальню, где поднял с пола валявшуюся там одежду — синюю больничную спецовку. Она тоже была в крови.
— Он жив, — сказал Дженкинс, уронив спецовку.
— Это что, проявление неискоренимого оптимизма?
— Он жив, если только ты не станешь утверждать, что покойнику требуется зубная щетка и бритва. — Дженкинс указал подбородком в сторону ванной. — Он забрал туалетные принадлежности. Нет щетки. Нет зубной пасты. И бритвы тоже нет. Не думаю, чтобы он стал менять одежду, стоя в такой луже крови, — если это его собственная кровь. Покойников одежда так же обычно не волнует, как не волнуют и деньги. Сюда же приходили затем, чтобы переодеться в чистое и взять деньги, и приходивший знал о том, что стеклянная дверь будет не заперта, как знал и шифр замка сейфа. — Дженкинс указал пальцем на раздвижную балконную дверь. — Он пришел сюда через балкон. А бочонком внизу он воспользовался, чтобы, ступив на него, подтянуться на нижний балкон.
— Почему?
— Наверное, потому что боялся, что за зданием следят. Тылы от глаз скрыты. С фасада происходящее здесь не видно.
— Как же в таком случае ты объясняешь кровь?
— Не совсем понятно, откуда она взялась. Кто-то истек тут кровью, но это был не он. Он прибрал в гостиной, и полиция вряд ли стала бы обматывать пластырем диванные подушки, готовя ему место, где сесть. Это указывает на то, что после обыска он был жив.
— Обыска?
— Кто-то устроил здесь большой погром.
— Откуда ты знаешь, что погром этот был произведен не дракой?
— Чувствую интуитивно.
— Если он прибрался здесь, почему он не уничтожил пятен крови в ванной, не подобрал с пола одежды?
— Это было уже после. — Дженкинс указал на лежавшую на постели одежду. — Это, да еще зубная щетка, говорит мне о том, что он возвращался домой, возможно за деньгами и переодеться. Он собирал вещи в большой спешке.
— Или же кто-то убил его, когда он собирал вещи.
— В таком случае мы увидели бы чемодан с вещами и туалетными принадлежностями, а также тело или же очерченный мелом на полу силуэт, не правда ли? Зачем бы полиции забирать чемодан с вещами и туалетными принадлежностями?
Она молчала.
— Он жив. И он в бегах.
Она по-прежнему колебалась.
— Что ж, если ты прав, то разыскать его будет невероятно трудно, если ты и расскажешь мне больше о том, каким образом он вовлечен в это дело.
Дженкинс обошел кровать; подойдя к тумбочке, нажал кнопку автоответчика и выждал, пока тот раскрутится. Затем послышался сигнал, а вслед за ним — женский голос. Дженкинс прибавил звук. Когда сообщение окончилось, он вскрыл футляр автоответчика и, вытащив пленку, положил ее в карман.
— Может быть, я и не прав, — сказал он, — но я же полон неискоренимого оптимизма.
44
Юридическая корпорация «Фостер и Бейн», Сан-Франциско
Безжизненное тело Джека Коннели лежало, укрытое белой простыней. На противоположной от стеклянного входа стороне улицы полицейское заграждение сдерживало толпу. Вспышки передвижных телевизионных камер отражались в стеклянных дверях маленькими ослепительными кружками, похожими на диски искусственного солнца; они освещали фигуры полицейских в форме, следователей в штатском, санитаров и судебных медиков, толпившихся в вестибюле. Возле пульта охраны застыл в радостном изумлении молоденький, почти безусый полицейский. Рубашка на нем была распахнута, и он ощупывал дыру в своем мундире и еле заметную вмятину в бронежилете. Другие полицейские изучали заключенную в пластиковый мешочек покореженную пулю, как если бы то был ценный охотничий трофей.
В углу в кресле сидел детектив Фрэнк Гордон; на коленях у него лежали блокнот и ручка; он был хмур. Пиджак и рубашку он снял, и фельдшер перевязывал ему мускулистое плечо — детектив отказывался ехать в больницу, пока не переговорит со Слоуном. Беспорядочные выстрелы со стороны вооруженного мужчины были лишь слабым ответом на мощный огонь полицейских, заставивший тело мужчины дергаться как марионетка и в конечном счете рухнуть на пол. Гордону не повезло — его зацепило одной из этих пущенных наугад пуль, но к счастью, пуля лишь слегка задела его. Правда, и так она ему особого удовольствия не доставила. И сейчас он сидел как ребенок в кресле у парикмахера — сердитый на всех и вся. Несмотря на боль в плече, детектив уже чуть ли не час допрашивал Слоуна.
У стены напротив санитары, загородившись от камер репортеров, подняли на носилки тело Коннели. Скрюченные ноги его растянули, как мехи аккордеона, и выпрямили. Тина попятилась; вытирая слезы, глядела она, как носилки с Коннели покатили к стеклянным дверям и вспышкам камер. Дежурные в студиях уже, наверное, ждут не дождутся последней информации и живенькой пленки об очередной перестрелке в одном из сан-францисских небоскребов.
— Для местных жителей что тебе цирк. Второй раз за день мы ухитряемся подсыпать перцу в их пресное существование, — сказал Гордон. — Знаете, ведь я мог бы арестовать вас за отсутствие разрешения на это оружие. Сам не пойму, почему я этого не делаю.
Слова эти прозвучали убедительно, однако Слоун знал, что детектив не станет его арестовывать. Ведь Слоун спас жизнь Тине. И его версия подтвердилась. Мертвый уборщик служил тому очевидным доказательством. А кроме того, Гордону было сейчас не до разрешений на оружие, ему предстояло много хлопот, в том числе и отправка в больницу. Говорил это он лишь с досады и бравируя. Гордон озабоченно вздохнул.
— У вас нет никаких предположений, кто бы это мог быть?
Слоун опять окинул взглядом мертвое тело — ужасающая окровавленная, испещренная дырами от пуль груда мяса — уборщик походил теперь на жертву гангстерской разборки. Одной из пуль ему вышибло левый глаз. По просьбе Слоуна коронер приподнял рукав его футболки — и показалась татуировка: орел выпустил когти и держит нож в клюве. В точности как описывала Мельда. Не считая этого, с телом обращались почтительно и даже благоговейно, словно то было какое-то ценное произведение искусства. Возле него стояли люди, некоторые щелкали фотоаппаратами, но никто к нему не прикасался — это было запрещено, сначала должны были проделать свою работу судебные эксперты — заснять место преступления и зафиксировать точное местоположение всех предметов.
На уверения Слоуна, что он не знает этого человека, Гордон отвечал сдержанным недоверием, которого и не пытался скрыть.
— Все равно что глядеть, как кто-нибудь со скалы прыгает, — сказал он. — Побежденный, лицом к лицу с превосходящим его вооружением противником, не имея ни единого шанса, он тянется к оружию. Просто волосы дыбом. Это ж прямо самоубийство. И он предпочел смерть. — Гордон опять покосился на Слоуна: — И вы хотите меня уверить, что не имеете к нему никакого отношения? Не очень правдоподобно, мистер Слоун, скажу я вам!
Винить Гордона Слоун не мог. Детективу тоже нелегко пришлось. К несчастью, со смертью этого мужчины все их вопросы относительно того, кто он такой, что и по какой причине ему было надо, оставались без ответа. Слоун подозревал, что и папка в конверте, о котором он Гордону ничего не сказал и не собирался говорить, дела не прояснит. И не приблизит разгадку.
Гордон захлопнул блокнот и указал шариковой ручкой на лежавший возле тела уборщика автоматический пистолет.
— Это AC-556F, пистолет-пулемет. Четыре года армейской службы прилипают как хорошо нажеванная резинка, а то, что этот сукин сын побывал в армии, видно сразу. И дело не только в татуировке. Кто бы он там ни был, он профессионал и действовал умело. А такого рода типы обычно в одиночку не работают, Слоун. Понятно, о чем я говорю?
Слоун и сам пришел к тому же заключению. Четыре года в морской пехоте для него также не прошли даром.
— Будьте в пределах досягаемости, — сказал Гордон, когда согласился признать необходимость поездки в больницу. Он встал, накинул на плечо пиджак, санитары встали рядом, готовые его сопроводить. — Я буду вам звонить, и мы еще побеседуем. Так и знайте.
Слоун прошел туда, где стояла Тина; она ежилась, обхватив себя руками, словно ей было холодно.
— Ты в порядке?
Она кивнула, а затем, повернувшись, уткнулась головой ему в грудь; плечи ее содрогались в безмолвных рыданиях. Слоун не мешал ей выплакаться. Спустя минуту он обнял ее и повел в глубь вестибюля к задним дверям. Женщина в темных очках и рукавицах склонилась над уборщиком, тщательно осматривая тело. Когда они проходили мимо, Слоун вдруг услыхал:
— Господи Боже! Нет, ты только взгляни, Фрэнк!
Гордон приостановился и взглянул. Женщина приподняла руку уборщика — на ладони были видны безобразные шрамы, перерезавшие кончики пальцев, — следы какой-то ужасающей, самостоятельно нанесенной травмы.
— Отпечатков пальцев не снимешь, — сказала она.
Угол Восьмой и Мишн-стрит, окраина сан-францисского района Мишн, еще не был сметен безумием перепланировки, начатой в 90-е годы, которой подверглись улицы к югу от Маркет: в результате появились новый баскетбольный стадион, шикарные рестораны и гордо высившиеся в своем величии кондоминиумы. Похоже, что район этот навсегда оставили в покое. Потому что надо же беднякам где-то жить и работать. Стены авторемонтных мастерских, складов, меняльных лавок и магазинчиков, торговавших не столько съестным, сколько спиртным, были исчерканы граффити. Граффити украшали и спущенные на ночь металлические рольставни мелких предприятий, и запертые ворота. Молодые люди в мешковатых куртках, обвислых джинсах, вязаных шапочках стояли на тротуарах, прислонившись к машинам местного производства, приземистым, со сверкающими хромированными колпаками, дерзко припаркованным под табличкой «Парковка запрещена». В уши бил рэп.
На третьем повороте, сделав третий виток, чтобы запутать преследователей, и убедившись, что у них на хвосте никого нет, Слоун подъехал к стоянке отеля «Первоклассный», вопиюще не отвечающего своему наименованию. Тина осталась в машине, а он пошел взять номер. Джейку предстояло провести ночь с ее матерью. Портье за стойкой поинтересовался, на какой срок Слоуну понадобится номер — видимо, клиенты на одну ночь здесь были редкостью. Слоун попросил номер подальше от улицы и припарковал «барракуду» в укромном месте позади здания. Поднявшись по наружной лестнице, которая дрожала, как от сильного землетрясения, они очутились на треугольной площадке, с которой был виден не до конца наполненный бассейн, бурая вода в котором отчаянно нуждалась в очистке.
Несмотря на непрезентабельный внешний вид гостиницы, номер Слоуна удивил — аккуратный, чистый. Обставлен он был дешевым, обшитым деревом гарнитуром 70-х годов, две широченные кровати застелены цветастыми покрывалами, пол устлан мохнатым ковром тускло-апельсинового цвета. Закрыв дверь, он защелкнул ее еще и на металлическую задвижку. Пистолет Гордон у него отобрал, оставив его безоружным.
— Тадж-Махал, — заметил Слоун, осматривая убранство номера. Спортивную сумку и портфель он пристроил возле письменного стола. Телевизор был прикручен к стене цепью и железными болтами. — Остается надеяться, что проститутки тут берут номера с одной кроватью. — Тина шутку не восприняла. — Хочешь есть? Я приметил парочку фастфудов неподалеку.
Она покачала головой.
Они постояли, помолчали. Потом, минуя ее, он метнулся было в ванную.
— Я горячий душ тебе включу. Ты сразу лучше себя почувствуешь.
— Обними меня, — сказала она, делая шаг к нему.
Он обнял ее, крепко прижав к себе. Казавшаяся ему такой сильной, она была тонкой, с узкой, как у девочки, спиной. Он ощущал тепло ее тела и все его изгибы; от ее волос исходил нежный цветочный аромат.
— Ты прости меня, Тина, — начал он, но она лишь взглянула на него снизу вверх и, встав на цыпочки, крепко поцеловала в губы.
Он хотел ее остановить. Хотел сказать, что это нехорошо, но она не давала ему возможности заговорить, и он понимал, что и не хочет ее останавливать. Они быстро раздевались — расстегивали пуговицы, помогали друг другу стянуть одежду. Он уложил ее на кровать, наслаждаясь теплом ее тела, приникшего к его телу, сгорая от желания, пока с ее помощью он не проник внутрь нее и его не обдало жаром.
Она спала на смежной кровати, и дыхание ее было глубоким и ровным. Насытившись любовью, они перешли под душ, где водяные струи и пар помогли им успокоиться; они ловили ртом воздух, щупали руками пространство в неутомимом желании избыть ужас прошедшего вечера и найти утешение в чем-нибудь прекрасном. Окончив купание, они вернулись в постель, где она лежала в его объятиях, пока он не ощутил, как она медленно уплывает в сон, измученная нравственно и физически. Тогда он тихонько убрал руку, накрыл ее одеялами и стал глядеть, как она спит и как нежны ее черты во сне.
За сорок восемь последних часов Слоун приблизился к пониманию того, почему он так и не женился, почему женщины, с которыми он встречался, не удовлетворяли его, почему он не мог всецело отдаться им. Свои чувства к Тине, как и все прочие чувства, он заталкивал в черную дыру, заваливая сверху работой. Так было проще — не думать. Чувства — это слишком запутанно. Ему казалось, что между ним и Тиной ничего не может быть. Но тогда, в офисе, и потом, ожидая такси, она намекнула ему, что что-то возможно, если он способен рискнуть. Она намекнула, что он и есть тот человек, которого она ждет, но что сперва он должен разобраться с собой. Ему хотелось скользнуть под одеяла рядом с ней, хотелось, чтобы она обняла его. Ему хотелось уехать с ней в Сиэтл, и пускай прошлое — что бы там ни было в нем — будет похоронено и забыто, хотелось начать все заново. Ему хотелось заботиться о ней и Джейке, маленьком мальчике, с которым он познакомился на корпоративных пикниках, хотелось стать отцом Джейку — каким образом, он еще не знал, но знал твердо, что будет мальчику тем, кем не сумел ему стать родной отец. Он будет брать мальчика на матчи, помогать ему с уроками, будет таким отцом, о котором сам мечтал в детстве и которого не имел. Но он знал также, что всего этого не произойдет, если он будет продолжать слепо, как во сне, шагать по жизни. Тина была права. Ему не обрести ее, если вначале он не обретет себя, а в глубине души он знал, что это означало осознание того, что с ним происходит и почему это происходит с ним. Его кошмары — вовсе не сны, а воспоминания. Мертвая женщина из его кошмаров — не плод его воображения, не психологический выверт. Она существовала в действительности. Как существовал и Джо Браник. А значит, и черный гигант, стоявший, как запомнилось Слоуну, возле Джо Браника, тоже существовал в действительности. Браник был мертв, как мертва была и та женщина, но черный гигант, кто бы он ни был на самом деле, возможно, все еще жив.
Слоун достал из портфеля конверт, но не сразу вскрыл его — так медлит ребенок, разбирающий в рождественское утро свои подарки. Четверых погубил этот конверт. И это надо было обдумать. Обдумать хотя бы ради Мельды. Потом, когда смолкла музыка в автомагнитолах и затих уличный шум на перекрестке, он почувствовал, что настало время. Опустив колпак настольной лампы так, чтобы свет не бил в глаза Тине, он открыл портфель. Он поднес конверт к тускло горевшей лампе, вглядываясь в почерк. Конверт был тонкий, но оказался тяжелее, чем ему вспоминалось, — возможно, весу ему прибавили печальные обстоятельства. С этой мыслью он перевернул конверт, отцепил от него металлические скрепки, снял печать и вытащил страницы текста.
45
Эксконвенто де Хурбуско, Койоакан, Мехико
Мигель Ибарон упер резиновый наконечник своей трости с золотым набалдашником в неровные и потрескавшиеся камни и с трудом сделал еще один шаг. Лицо его ничем не выразило привычной боли, распространившейся вверх — от щиколоток к коленям и спине, пронзившей его костяк, как электрический заряд. Избавиться от болей, которые несли с собой опухоли, не удавалось — некогда сильное и мускулистое его тело теперь сохло и увядало, как цветок на солнцепеке, но он мог сдерживать свои чувства и терпеть боль молча.
Рак убавил его рост на несколько дюймов — иссушил тело, превратил густую гриву темных волос в тусклые серые патлы, но больше с почтенным сановником он ничего сделать не мог. Высокий, белокожий, возможно из-за текшей в его жилах испанской крови предков, Ибарон сохранил стать, хотя высокая, более шести футов в высоту, широкоплечая его фигура, некогда легко несшая 210 фунтов собственного веса, теперь насилу справлялась со 175 фунтами.
Женщина при входе в музей приветствовала его улыбкой и отказалась взять с него деньги.
— No sirve aqui,[4] — сказала она. — Мне брать с вас деньги было бы позором. Приходя сюда, вы оказываете нам честь.
Такой прием приличествовал человеку, вся жизнь которого была отдана Мексике и ее народу. С самого своего вступления в ИРП — Partido Revolucionario Institutional[5] — Ибарон был знаменем партии и образцовым ее членом. За тридцать лет своей деятельности на благо Мексики он побывал и diputado в нижней палате конгресса, и senador в верхней его палате. Дважды он назначался одним из tapados, то есть «теневых», кандидатур, отобранных партией в качестве возможных преемников президента, правда, в обоих случаях звания verdadero tapado, «действительного теневого», он не удостаивался.
Субботним днем Ибарон проковылял по всем семнадцати залам музея, и глиняный пол уходил из-под его ног. Как и большинство зданий в Мехико и его окрестностях, музей с каждым годом опускался на несколько миллиметров глубже в землю — это было результатом постепенного выкачивания воды из почвы двадцатью пятью миллионами жителей города, раскинувшегося на мягком грунте бывшего озера Лаго де Текскоко.
Эксконвенто де Хурбуско располагался в достославном месте, но хранил свидетельства национального позора. Сооруженное примерно там, где некогда ацтеки приносили в жертву своему богу войны Вицлипуцли — Колибри-левше, дабы умилостивить его, еще бьющиеся человеческие сердца, здание монастыря было потом крепостью, откуда мексиканские воины вели яростные бои, отражая атаки армии США, наступавшей от Вера-Крус к Мехико в 1847 году. Солдаты, державшие оборону против войск американского генерала Дэвида Твиггса, израсходовали все патроны. Когда Твиггс все-таки вступил в крепость и потребовал от генерала Педро Анайя сдать оставшиеся боеприпасы, Анайя ответил: «Si hubiera cualquiera, usted no estaria aqui».[6]
И вот в этом-то памятнике мексиканской чести и достоинству разместился музей национального позора и унижения. На оштукатуренных стенах и в крытых красной плиткой коридорах были развешаны выцветшие фотографии, пожелтевшие документы, выставлены в витринах незабываемые свидетельства иностранного вторжения — начиная с французов и кончая США.
Ибарон остановился перед застекленной витриной с «доктриной Монро». К нему немедленно подошел человек, в правой руке которого была свернутая газета. «Высокомерие этих республиканцев не позволяет им видеть в нас ровню, они считают нас низшей кастой», — произнес мужчина, цитируя Хосе Мануэля Зозайю, первого посла Мексики в Вашингтоне.
«Со временем они станут нашими заклятыми врагами», — отозвался Ибарон, тем самым закончив цитату; оба дали знать собеседнику, что говорить можно свободно.
Начальник мексиканской разведывательной службы Лопес Руис поправил ворот пиджака и подергал галстук — из-за этой привычки казалось, что клочок материи на шее постоянно его душит. Мускулистый и крепкий Руис ростом был не выше пяти футов, но плечи его были твердыми, как наковальни, а грудная клетка широкой и развитой благодаря работе в юные годы в отцовских каменоломнях. Он лысел, что пытался скрыть длинными волосами и зачесом. Занятия боксом оставили свой след, расплющив ему нос, и сейчас лицо его было плоско, с грубой, как выделанный башмак, кожей. Недостаток роста и благообразия Руис компенсировал энергией, стойкостью и упрямством. Эти качества способствовали его быстрому восхождению на политический Олимп, чему в немалой степени помог и Мигель Ибарон.
Руис пригладил зачес в тщетной попытке прикрыть лысеющую макушку.
— Мне звонили из аппарата шефа Центрального разведывательного управления. С согласия ФПП и начальства меня попросили сделать подробный анализ моих данных, — сказал он, имея в виду Федеральную превентивную полицию и главу Директората, то есть две организации, крышующие службы мексиканской разведки. Они вели неусыпную слежку за деятельностью активистов Сопротивления и групп революционеров — они интересовались Народной революционной армией, сапатистами, Армией народной революции и Фронтом освобождения Мексики.
Ибарон кивнул, внешне ничем не выказав своих эмоций.
— Единственное, что мне было сказано, — продолжал Руис, — это что информация должна быть максимально полной. Я осведомлялся у самых надежных источников. Никто не знает цели этого запроса, Мигель. Вето ничего не знает, Тоньо — также, — сказал он, называя этими прозвищами Альберто Кастаньеду и Антонио Мартинеса, министра полиции.
У Ибарона информация эта вызвала чувств не больше, чем выцветший клочок бумаги за стеклом.
— Кто запрашивал аппарат шефа ЦРУ? — лишь спросил он.
— Американец из Вашингтона, Джозеф Браник.
— Ты знаешь почему?
— Нет, но мне известно, что человек этот мертв.
Ибарон повернул голову.
— Мертв?
— Так сообщают американские газеты.
Ибарон прошелся вдоль витрины, где была выставлена фотография, на которой генерал Антонио Лопес де Санта Анна подписывал договор о так называемой «Гадсеновской покупке», в соответствии с которым Мексика была вынуждена продать территории, составляющие теперь Южную Аризону и Нью-Мексико.
— А что мы о нем знаем?
— О Джозефе Бранике? — Руис покачал головой. — Ничего. И кажется, причины подозревать что-нибудь особенное у нас не имеется.
— Отчего он умер?
— Покончил самоубийством. Выстрелил себе в голову.
Ибарон искоса бросил взгляд на Руиса, но никакой другой реакции не последовало.
— И ты не видишь ничего особенного в самоубийстве друга президента? — С сообщениями газет он тоже был знаком. — Разве президент не отменил совещание здесь на этой неделе ради того, чтобы присутствовать на похоронах?
— Нас заверили, что это не повлияет на ход переговоров.
— Рисковать мы не можем, — сказал Ибарон. — Выясни все, что можно, о Джо Бранике.
— Ну а как насчет переговоров?
— Если Роберт Пик не прибудет к нам, мы сами к нему прибудем. — И не сказав больше ни слова, Ибарон повернулся, чтобы взять у служительницы при входе свою светлую соломенную шляпу, и покинул здание, оставив Руиса в одиночестве.
Выйдя, он надел шляпу, защищаясь от жаркого летнего солнца. Воздух был влажным и тяжелым, но не от смога, висевшего над долиной и душащего Мехико и его обитателей во время летней сырости.
Ибарон чувствовал надвигающуюся грозу.
46
Берривилл, Западная Виргиния
Оставлять Тину в отеле было очень нелегко, но Слоун твердо знал, что взять ее с собой так же невозможно. Помимо того что это было бы опасно, ему предстояло наладить собственную жизнь. Он добыл из офиса свой ноутбук и укрылся под вымышленным именем в отеле. Целый день он потратил на поиски в Интернете, на резервирование билетов на самолеты, номеров в отелях, аренду автомобилей и звонки в отделение «Фостер и Бейн» в Лос-Анджелесе. Все это было очень похоже на то, с чего начинались его адвокатские дела. Клиент приходил к нему с той или иной проблемой. Ему предстояло найти решение. Прежде чем определить путь, каким он это сделает, надо было выяснить факты — каждую деталь, независимо от того, какой бы мелкой или незначительной она ему ни казалась. Все факты становились кусочками головоломки и, поставленные на свое место, обнаруживали некую связь. Теперешнюю ситуацию отличало лишь то, что сейчас он являлся клиентом и адвокатом одновременно. Оставалось надеяться, что распространенное мнение, будто адвокаты делают карьеру, дурача клиентов, не соответствует действительности.
Первым объектом его розысков стал Джо Браник, и недостатка информации об этом человеке Слоун не испытывал. Браник окончил Джорджтаунский университет, где его соседом по комнате на первом курсе стал второкурсник факультета политологии Роберт Джон Пик, которого его приятели называли Робом. В последующие четыре года эти двое крепко сдружились. Их сближали общая квартира и интерес к политике и спорту. Оба окончили университет в числе лучших студентов. Пик пошел по стопам отца и стал работать в ЦРУ, а так как старший Роберт Пик имел возможности ему помочь, Роберт получал награды одну за другой, как породистый пудель на выставках; он был самым молодым из начальников отделений, работая в Лондоне, Германии и Мехико. Он стал заместителем начальника оперативной службы в сорок пять лет, заместителем начальника всего Управления в сорок восемь и начальником — в президентство Джорджа Маршалла, когда его отец был в кабинете министров. К верхнему эшелону политиков Роберт Пик был причислен, когда Маршалл уступил свои шансы на переизбрание, проиграв Гордону Миллеру, чем оставил Пика без работы. Четыре года спустя Пик баллотировался в вице-президенты во время предвыборной кампании Томаса Макмиллана, где соперником Макмиллана был Миллер. Кампания прошла успешно, и Миллер был смещен. По прошествии двух президентских сроков Пик сменил Макмиллана на посту президента.
Жизнь Джо Браника была не столь впечатляющей. Будучи инженером, он женился на своей университетской подруге, служил в ряде национальных и транснациональных нефтяных компаний. За тридцать пять лет брака они с женой родили двух дочерей и сына. После трехлетнего контракта между американским производителем нефтяного оборудования «Энтарко» и мексиканской нефтяной компанией «Пимекс», когда он работал на совместном предприятии, Браник вернулся в Штаты и перевез семью обратно в Бостон, чтобы быть поближе к восьми своим братьям и сестрам из ирландского католического анклава. Вместе с четырьмя своими братьями он занялся делами импортно-экспортной компании, которой владела их семья. Его жизнь казалась налаженной. Но потом его друг Роберт Пик объявил о своем желании баллотироваться в президенты и слезно попросил, как утверждали некоторые, Джо Браника руководить предвыборной кампанией. Учитывая интересы троих своих детей — взрослых и учившихся в колледже, — Браник согласился и удостоился бесчисленных похвал, когда Пик выиграл кампанию. Многие полагали, что Браник станет главой администрации Белого дома, но тут вмешалась политика. Республиканская партия положила глаз на вышедшего в отставку с тремя звездами генерала Паркера Медсена, быстро набиравшего силу удачливого игрока на поле вашингтонской политики. Поговаривали, что на перевыборах Республиканская партия намерена выдвинуть Медсена в вице-президенты. Браник хотел вернуться домой, но Пик опять соблазнил его остаться, создав специально для него должность советника президента по особым поручениям. Больше о Бранике мало что было слышно, пока полиция Национального парка не обнаружила его тело.
Самым примечательным из всего, что удалось выяснить Слоуну, было абсолютное отсутствие какой бы то ни было логической причины такому, по-видимому, благоразумному, твердо стоящему на ногах человеку и хорошему семьянину приставлять к голове заряженный пистолет и спускать курок. Детали происшествия были скудны. Сообщалось, что Браник ушел со службы в четверг немногим позже половины четвертого пополудни. Никому, включая секретаря, он не сказал, куда направляется. Жена его забеспокоилась вечером, когда он не позвонил ей, как было у них заведено. В джорджтаунскую квартиру, куда он удалялся, когда работал допоздна и не хотел, чтобы его тревожили, она не смогла дозвониться. Почти на рассвете тело его было найдено в Национальном парке «Медвежий ручей»; в руке Браник держал пистолет. Расследованием занялось Министерство юстиции, хотя «Вашингтон пост» и писала, что местные правоохранительные органы были не слишком довольны таким решением, и намекала даже, что министерство отдало распоряжение местной полиции прекратить расследование. Министерство не посчитало нужным оправдываться. Помощник генерального прокурора Риверс Джонс, ответственный за расследование, отказался комментировать события, перенаправив любопытствующих к пресс-службе Министерства юстиции и заметив, что официальное заявление было бы неуместно до окончания следствия. Белый дом также хранил молчание. Единственное заявление озвучил Паркер Медсен, оказавшийся в Восточном крыле в то утро, когда было обнаружено тело Джо Браника; Медсен зачитал кое-что из заготовленного текста, где упомянул о «потрясении», пережитом президентом и первой леди, и «глубокой скорби», которую вызвала у них утрата дорогого друга и выдающегося общественного деятеля. Слоуну слова эти показались штампованными и лишенными искреннего чувства, что было странно для человека, потерявшего своего давнего друга, но, может быть, иного и трудно было ожидать от видной политической фигуры, которой как-никак приходилось думать о своем гражданском долге.
Выдоив из Интернета все, что было возможно, Слоун отыскал на набережной магазин мужской одежды, где купил кое-что из вещей, а потом стал колесить по побережью, раздобывая себе посадочные талоны. Он позвонил Тине на мобильник из автомата уже перед самой посадкой на ночной рейс в Даллес.
— Извини, что я не смог попрощаться с тобой, — сказал он.
— И не надо. Лучше сообщи, когда будешь возвращаться.
— Я вернусь, — сказал он, — когда разберусь с собой.
— Дэвид, я не это имела в виду.
— Ты была совершенно права, Тина. И положись на меня.
— Хорошо.
Три мили до Берривилла на арендованной машине Слоун проехал с опущенным стеклом. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения, что предвещало день жаркий и безветренный. Густые древесные кущи сменились порыжелыми от летней жары лугами, по которым там и сям были разбросаны фермы с пасущимися возле них лошадьми. Съехав вниз с холма — первый ориентир, — он сбавил скорость, повернул на шоссе округа и проехал до череды почтовых ящиков на столбах — второй его ориентир, — после чего свернул на грунтовую полосу отвода. Белый двухэтажный фермерский дом с мансардой, ярко-зелеными ставнями и изогнутой по фасаду верандой стоял в окружении густого, как ковер, газона. Позади него маячили красный сарай и обширное пастбище, где щипали траву гнедые и темно-гнедые лошади.
Разговор с родственниками покойного всегда требует особой деликатности, потому что реакция их может быть непредсказуемой, однако Слоун надеялся, что родные Джо Браника имеют с ним, Слоуном, и нечто общее — желание знать, отчего погиб Браник. Он покосился на лежавший на соседнем сиденье бурый конверт — информация, в нем содержащаяся, рождала больше вопросов, чем ответов.
Густая живая изгородь по краю подъездной аллеи закрывала поворот, и ему пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться сразу в патрульную машину, припаркованную возле входа в стоявший на отлете гараж. С крыльца спрыгнул, возвещая его приезд, золотистый ретривер — собака лаяла и виляла хвостом. Слоун запихнул конверт обратно в портфель и, повернувшись, обнаружил собачьи лапы на оконном стекле, а ее голову с высунутым языком — в машине.
— Ну, как дела? — спросил он. — Как насчет того, чтобы позволить мне вылезти?
Собака заскулила и опустилась на землю.
Слоун вышел из машины, наклонившись, позволил собаке обнюхать свою руку, а потом почесал ее за ушами и под подбородком. В ответ животное стало подпрыгивать, ставя лапы ему на бедра. Приласкать любимца семьи никогда не мешает — по крайней мере, будет с чего начать разговор.
К нему подошел полицейский в форме.
— Чем могу быть полезен? — осведомился он.
— Все в порядке, офицер.
Со ступенек веранды спустилась женщина приметной наружности; на ней были хлопковые брюки цвета хаки, синяя шелковая блузка и туфли без каблуков. Подойдя к Слоуну, она оттянула от него собаку, ухватив ее за ошейник: «Довольно, Сэм! Сидеть!» Она взглянула на Слоуна:
— Простите! В последнее время он скучает, — говорила женщина с выговором уроженки Новой Англии, глотая звук «р».
— Ничего страшного. Такой красавец.
— Это собака брата. Вы Дэвид Слоун?
Слоун протянул ей руку.
— Зовите меня Дэвид.
Она крепко, не по-женски, стиснула руку Слоуна так пожимают руку женщины, привыкшие обмениваться рукопожатиями с мужчинами. В ней не было ничего женственного, примиряюще мягкого.
— Эйлин Блер.
Возраст Блер Слоун определил как примерно пятьдесят с лишком. Она была высокой, спортивного сложения, каштановые с золотистым отливом волосы свободно и естественно лежали по плечам. Слева от пробора заметны седоватые пряди. Но лицо было моложавым, лишь возле глаз пролегла мелкая сеточка морщин. С шеи свешивалась нитка жемчуга. Привлекательная женщина.
— В доме есть чай со льдом, — сказала она.
Вслед за Эйлин Блер Слоун поднялся по двум деревянным ступенькам веранды, ступеньки заскрипели под его тяжестью. В углу висели без движения качели, рядом стоял плетеный стол. По краям веранды стояли горшки с цветами, уже слегка подвядшими. Сэм последовал за ними, но за сетчатую дверь Блер собаку не пустила.
— Стоять! — приказала она, и собака осталась за дверью. — Собака просто прекрасная. Стыдно, что они не могут оставить ее у себя. Не знаете, может, кому-нибудь нужна собака?
— Боюсь, что не знаю таких, — сказал Слоун.
Через сетчатую дверь он прошел за Блер. В доме было темно — главным образом из-за дубовых полов и темных узорчатых обоев. Пахло свежим тестом — не то печеньем, не то пирогом. Из других комнат доносились голоса, но в прихожую к ним никто не вышел. Раздвинув темные двери, Блер вошла в кабинет, зеленый, с закрытыми белыми ставнями на окнах. Две темно-красные кожаные кушетки, стеклянный кофейный столик и травянисто-зеленое кресло с подголовником расположились вокруг дубового стола. За одной из кушеток стоял зеленый бильярдный стол, а возле него большая, в человеческий рост, картонная фигура — Ларри Берд, бывший игрок бостонской баскетбольной команды «Селтикс», живая легенда. Баскетбольного фаната Слоуна, как магнитом, потянуло к этой фигуре, он разглядывал Берда, пока Блер закрывала дверь. Предстоял конфиденциальный разговор.
— Джо обожал «Селтикс», а особенно Ларри Берда, — сказала Блер, чуть приоткрывая ставни, чтобы в щели проник свет. — Он бредил зеленым цветом их формы. И он, и его братья боготворили землю, по которой ступала нога этого человека. Они не пропускали ни одной игры в «саду» и рыдали как дети, когда «сад» сровняли с землей. Не знаю, где Джо это раздобыл, и даже не понимаю, как удалось ему уговорить жену держать здесь эту фигуру, но мой брат умел быть очень убедительным, когда хотел чего-то добиться. — Она отошла от окон. — Как, впрочем, и я.
Слоун повернулся к ней.
— Не ждите от меня рассказов из семейной истории, мистер Слоун. Я человек деловой. — Она подняла глаза на все еще не снятую со стены семейную фотографию. Пятеро мужчин в заляпанных грязью бутсах и формах игроков в регби стояли, положив руки на плечи друг другу. Джо Браник был в середине. — А область спорта и разговоры о нем предоставим братьям Джо.
47
Зона-Роза, Мехико
Телефонный звонок как ударом вывел его из глубокого сна. Джо Браник был настроен серьезно: «Одевайся. Через пять минут выходи из дома».
Чарльз Дженкинс повесил трубку и уже через несколько секунд стряхнул с себя сон и, скинув одеяла, встал. Ему понадобилось одно мгновение, чтобы тело привыкло к вертикальному положению вместо горизонтального, после чего он ступил на холодный кафель ванной, ополоснул теплой водой лицо и помочился. Он натянул джинсы, надел рубашку на пуговицах — одежду он выбрал из валявшейся на полу груды, — и спустя четыре минуты после того как повесил трубку, был уже в дверях и накидывал на ходу синюю ветровку с тисненной золотом надписью «Энтарко» на правой стороне груди. Он ждал в круге света от уличного фонаря. Еще не было трех часов утра, но лоб его уже покрывался потом. День обещал быть жарким и влажным — в Мехико этому удивляться не приходилось. В такие дни смог густел и становился совсем уж нестерпимым. К концу дня, если дышать глубоко, болела грудь.
Дженкинс снимал небольшую квартиру над уличным кафе в Зона-Розе, богатом пригороде, полном живописных лавочек и ресторанов, так нравившихся ему за то, что жизнь в них била ключом и навещали их красивые посетительницы. Но сейчас Зона-Роза спала, чернея неосвещенными витринами, а мостовые, не запруженные непрекращающимся потоком машин и сигналящими такси, были пусты. Он грыз зеленое яблоко, следя за фарами направлявшегося к нему форда; машина подрулила к обочине.
— Говори, как ехать, — бросил Браник, когда Дженкинс уселся рядом с ним.
— А куда едем-то? — с полным ртом осведомился Дженкинс.
Браник съехал с обочины, обогнул багажник такси «фольксваген-жук», сейчас единственного транспортного средства на улице, кроме их машины, и прямо на красный свет повел машину в южном направлении.
— В деревню, — сказал он.
Дженкинс перестал жевать. В сумеречном утреннем свете он только сейчас обратил внимание на напряженно-взволнованное лицо Браника. Тот выглядел расстроенным и хмурым.
— Что случилось, Джо?
— Мне кажется, вечером там что-то произошло. — Браник произнес это тихо, почти шепотом, как молитву. — Что-то плохое. Очень плохое. — Он взглянул через плечо на Дженкинса.
Дженкинс опустил стекло на окне и выбросил на улицу недоеденное яблоко. В последние несколько недель он тоже чувствовал приближение чего-то плохого — так начинают ныть кости в преддверии гриппа. Но тут боль сосредоточивалась не в теле, болело что-то внутри, что-то, составлявшее самую его суть, заботливо выпестованную годами сидения на церковной скамье в баптистской церкви, — в душе зрело беспокойство.
— Почему? — услышал он собственный вопрос, хотя и понимал, что уместнее было бы спросить: «Что произошло?» И то, что он спросил иначе, тоже вызывало беспокойство.
— Из-за твоих докладов, Чарли, — сказал Браник. — Твои доклады всех взбудоражили.
Дженкинс почувствовал, как внутренности его обдало жаром, как от волнения деревенеют руки и ноги. Покосившись на него, Браник вновь устремил взгляд в лобовое стекло и заговорил, словно обращаясь к какой-то тени на автостраде:
— Они ведь так убедительны, — сказал он. — Ты делал их такими чертовски убедительными.
Чарльз Дженкинс сел в постели, не сразу поняв, что происходит. Звонили — звонил его мобильник. Он взял его с ночного столика, на ламинированной поверхности которого кто-то вырезал: «Д. С. — минетчица», и быстро открыл.
— Алло? Алло... Черт!
Щелкнув, он закрыл телефон, встал и принялся мерить шагами комнатушку. Рубашка была влажной, ладони — липкими. Под сгибами пальцев и под коленками ныло, словно температура вдруг упала, а тело пощипывало и пробирало холодом. Убогий номер мотеля вызвал внезапный приступ клаустрофобии, и он ухитрился приоткрыть окно, несмотря на несколько слоев присохшей краски на раме, и высунуть голову в отверстие. Дышал он ртом, чтобы не так чувствовался запах гниющего мусора и мочи, которым пропах проулок под окном.
Покинув квартиру Слоуна, они с Алекс постучались к нескольким из его жильцов. Те, кто пожелал говорить, открыли им много интересного. Сказанное навело их на след детектива Фрэнка Гордона.
Гордона они нашли в его кабинете полулежащим в кожаном кресле; рука его была на перевязи, настроение — хуже некуда. В воскресное утро Гордон выглядел так, как если б то был вечер пятницы. Красные прожилки делали белки его глаз похожими на дорожную карту — глаза молили об отдыхе. Лицо детектива было живой иллюстрацией переутомления. На плаву его удерживали сейчас лишь таблетки обезболивающего, запиваемые глотками холодного кофе, ноги Алекс, на которые он пялился, ритмично покачиваясь в кресле, и удовлетворение собственной проницательностью — как он и подозревал, дело Слоуна оказалось не таким простым, как это изображал сам Слоун. Визит агентов ЦРУ был тому подтверждением.
Опыт подсказывал Дженкинсу, что копы больше любят рассказать хорошую историю, чем держать ее про запас. Гордон не был исключением.
Спустя час Дженкинс выведал у него три важные вещи: Слоун жив, хотя где он находится в настоящий момент, Гордон не знает. В квартире у Слоуна был убит человек — женщина, указанная в завещании Слоуна как наследница, — и, по-видимому, Слоун обнаружил ее тело. Когда Гордон сказал им, что у женщины было перерезано горло, Дженкинс на секунду прикрыл глаза и почувствовал дурноту. Прибывшая полиция застала Слоуна обнимающим тело женщины, он рыдал и на вопросы не реагировал. Им пришлось отвезти его в клинику Калифорнийского университета и поручить заботам психиатра по имени доктор Бренда Найт. Доктор Найт, судя по всему, имела опыт лечения больных, страдавших посттравматическим синдромом, и полагала симптомы Слоуна сходными с их симптоматикой. И наконец, в окружном морге находился труп — как утверждал Гордон, мужчина этот служил некогда в армии и имел при себе оружие, которым мог бы отстреливаться целый взвод в течение недели.
Мобильник в руках Дженкинса зазвонил опять. Его номер был известен лишь одному человеку. Он открыл мобильник.
— Прилетела?
Выйдя от Гордона, они с Алекс поехали в аэропорт. Они оплатили наличными два билета в один конец на Вашингтон. Даже под чужими фамилиями их вдвоем трудно было бы не заметить. Кроме того, беседа с Гордоном вызвала у Дженкинса потребность до отъезда сделать еще одно дело, и так как психиатр от разговора с ним уклонилась, ему пришлось действовать по старинке. Алекс позвонила приятелю в Лэнгли, чтобы он встретил ее в аэропорту с несколькими своими дружками. А пока пусть потихоньку наведет справки о Дэвиде Слоуне.
— Все в порядке, — сказала она.
— И что тебе известно?
— Слоун одиннадцать раз резервировал билеты на восемь рейсов шести авиакомпаний в разные пункты назначения из аэропортов Сан-Франциско, Окленда и Сан-Хосе. В каждом пункте назначения он бронировал место в отеле и арендовал машину в агентстве. Он постоянно пользовался кредитной карточкой, так, чтобы все операции легко можно было отследить. Он взял три посадочных талона на разные рейсы с отправкой примерно в одно и то же время.
— Игра в наперстки.
— Возможно, но ты выбрал правильный наперсток. Один из билетов был на Даллес. Откроешь мне, как ты это узнал?
— Чтобы испортить этим весь сюрприз?
— Я прослежу за его кредитками и банковскими счетами, но подозреваю, что отныне он будет пользоваться только наличными.
Дженкинс был в этом более чем уверен. И слава Богу: если он, Дженкинс, не смог найти Слоуна, может быть, и другие не смогут.
— А что насчет татуированного, которого описал детектив Гордон?
— Работа идет, но займет время, если хочешь, чтобы все было проделано тихо.
— Хочу, — сказал Дженкинс.
Он глядел на желтый блокнот, испещренный неразборчивыми записями, чернильными точками и каракулями на полях — блокнот этот он стащил в кабинете доктора Бренды Найт.
— Ты в порядке? Ты словно где-то далеко, — сказала Алекс.
Дженкинс думал о деревне среди зарослей и о том, чему был свидетелем тем утром.
— Ты разбудила меня. Я дремал.
— Как, должно быть, приятно.
— Позвоню тебе утром, когда устроюсь. Будь крайне осторожна, Алекс, заклинаю тебя.
Он выключил мобильник и принялся изучать блокнот доктора Найт — ее детальные записи ночных кошмаров, преследовавших Дэвида Слоуна, как и его самого.
48
Беррисвилл, Западная Виргиния
Эйлин Блер указала Слоуну на кушетку и передала ему стакан холодного чая с ломтиком лимона. Стакан приятно холодил руки. На внешней стороне его было туманное облачко изморози. Она села в кресло с подголовником, вытряхнула сигарету из пачки «Мальборо», взглянула на него и предложила пачку ему. Слоун отказался.
— Вот молодец, — сказала она.
Она закурила, положила пачку и зажигалку на кофейный столик и, установив у себя на коленях стеклянную пепельницу и выпуская дым в потолок, сказала:
— Никак не могу отделаться от этой проклятой привычки. Бросала невесть сколько раз. Мать меня ругает. Муж ругает. Дети, так те просто замучили совсем. Я не курила целых три недели. А потом получила известие о смерти брата.
— Мне очень жаль, — сказал он.
Она стряхнула пепел, как бы стряхивая вместе с пеплом и эти его слова.
— Так кто же вы, мистер Слоун?
— Пожалуйста, зовите меня Дэвид. — И, вытащив из нагрудного кармана, он вручил ей визитку.
Секунду она с рассеянной улыбкой смотрела на визитку.
— Юрист.
— Но я здесь не по делам, миссис Блер. — Он вспомнил, что газеты писали о том, что Эйлин Блер — адвокат и работает в Бостоне. Он надеялся, что это обстоятельство вызовет у нее доверие к нему и они легче найдут с ней общий язык.
— Надеюсь. Приехать за три тысячи миль по делам — значило бы, что дела ваши обстоят неважно. — Она положила визитку на столик. — Так вы говорите, что вам известно что-то касательно обстоятельств гибели брата?
— Думаю, что да.
Она закинула ногу на ногу и разгладила свои хлопковые брюки-стретч. Лицом она сильно походила на брата, особенно когда стягивала волосы в конский хвост: выступающая вперед челюсть, по-ирландски светлая кожа, синие глаза.
— Хорошо. Для начала скажу, что хочу быть с вами откровенной. Я даже не знаю, почему я позволила вам сюда приехать. Я все время спрашиваю себя, почему, когда вы позвонили, я сразу же сказала вам «да». И сама не заметила, как стала объяснять вам, как проехать. Звонков было много, и всем я отказывала во встрече. Но когда я услышала вас по телефону, мне понравился ваш голос, в нем была искренность, которой я не уловила у других просителей. Мне хочется верить, что интуиция меня не обманывает. — Она раздавила окурок в пепельнице и, продолжая говорить, пальцем выбила из пачки другую сигарету. — Но прежде чем вы начнете свой рассказ и станете тратить свое и мое время, разрешите мне сказать вам, что я вот уже три дня слушаю всякую чепуху, а ответов на вопросы что-то не видно. Мои отец и мать слишком дряхлы для этого, братья заняты бизнесом, что же касается жены Джо... она... как бы еще эмоционально не готова воспринять все это. Мы отправили ее с детьми домой в Бостон — заниматься приготовлениями. Я самая младшая, но я ломовая лошадь этой семьи. Не могу этого отрицать. Стало быть, ответственность лежит на мне. Я сначала была ошеломлена, потом пыталась спорить. Если верить моему доктору, сейчас я должна быть в стадии невольного, через силу приятия, но для этого я слишком взбешена, черт возьми.
Он улыбнулся этим ее словам.
— Имеете право.
Она кивнула.
— Так откуда вы знаете брата?
— Я его не знаю.
Она подняла бровь.
— По телефону вы сказали мне, что Джо позвонил вам.
— Позвонил. Ваш брат позвонил в мой офис в Сан-Франциско и оставил мне сообщение в четверг вечером, в шесть тридцать по сан-францисскому времени. — Слоун протянул ей розовый листок с сообщением. — Судя по тому, что утверждают газеты, это уже после того, как его в последний раз видели живым.
— Здесь его служебный телефон, — сказала она, разглядывая сообщение.
— И из того, что он оставил этот номер и просил меня ему перезвонить, можно сделать вывод, что ваш брат намеревался на службу вернуться. — Скрытый смысл этих слов повис в воздухе, как облачко сигаретного дыма. — Говоря проще, ваш брат рассчитывал жить. Непохоже на человека, собирающегося кончать самоубийством.
Блер разглядывала его лицо.
— Но вы ни разу не говорили с ним?
— Нет.
— И утверждаете, что не были с ним знакомы?
— По-моему, это так, Эйлин. После его телефонного звонка все как-то усложнилось.
Она кивнула.
— Уж наверное. Вряд ли вы проделали бы три тысячи миль ради того, чтобы передать мне это устное сообщение. Думаю, вам стоит начать все с самого начала, Дэвид.
Прикинув, он решил начать со своего дома.
— В тот вечер, когда ваш брат оставил мне сообщение, кто-то вскрыл мой почтовый ящик и проник в квартиру. Самое странное, что ничего не было украдено. Они лишь переворошили там все. Я посчитал это простым хулиганством.
— Но теперь так не считаете?
— Тот, кто влез ко мне, что-то искал, искал определенную вещь. Присланную мне по почте — и прислал ее мне ваш брат.
Потянувшись за портфелем, он вынул из него конверт и вручил его ей.
Она поглядела на конверт.
— Это почерк Джо, — подтвердила она. Вскрыв конверт, она вытащила бумаги и несколько минут изучала их. Когда она подняла глаза на Слоуна, брови ее были нахмурены.
— Документы об усыновлении?
— Документы на право считать себя свободным. Ваш брат нашел их. Не я. До получения этого конверта я понятия не имел, что усыновлен. Я считал, что мои родители погибли в автокатастрофе в моем раннем детстве.
— Не имели понятия?
Это было потрясающим открытием, а кроме того, анализируя чувства, которые он никогда не смел анализировать из страха найти ответ, Слоун понял, что, прочитав бумаги, он ощутил не боль и не гнев. Он ощутил облегчение. Он не помнил, чтобы когда-нибудь плакал о погибших родителях, мечтал о ласковом касании их рук, скучал без их указки или утешения, и это рождало в нем чувство вины. Почему он ничего не испытывал к людям, которых должен был бы инстинктивно любить? Принесенное конвертом открытие снимало с его плеч груз вины, наваливая, правда, на него груз еще больший. Он с новой силой чувствовал себя теперь кораблем, оставшимся без руля в бушующем море.
Он указал на бумаги в руке Эйлин.
— Эдит и Эрнест Слоун, которых я считал своими родителями, погибли в автокатастрофе, когда мне было шесть лет.
Эйлин Блер листала подшивку.
— Но ведь это бумаги об усыновлении?
— Я так и подумал.
Она перестала листать странички и подняла на него глаза.
— Джо ошибся?
— Здесь вложены бумаги из больницы Святого Андрея в Глендейле, Калифорния. Я попросил филиал моей фирмы в Лос-Анджелесе добыть для меня эти бумаги. Указанную здесь женщину, ту, что, по всем документам, отдала меня на усыновление, звали Дайана О' Лири. Восемнадцать лет. Не замужем. Проживала с очень религиозными теткой и дядей.
— Господи! — воскликнула Блер.
Она дошла до документов из архивов «Лос-Анджелес таймс». Дайана О'Лири не выписывалась из больницы с младенцем и не отдавала его на усыновление.
— Она задушила собственного сына! — ахнула потрясенная Блер.
— Районный прокурор ей не сочувствовал, и она получила пятнадцать лет за убийство второй степени. А выйдя на свободу, она умерла, превысив дозу выписанного ей болеутоляющего.
Блер вопросительно взглянула на него.
— Но если эта женщина не отдавала ребенка на усыновление, значит, бумаги не имеют никакого смысла.
— Нет, имеют.
Лицо ее выразило недоумение.
— Кто-то подделал бумаги с тем, чтобы казалось, будто Эдит и Эрнест Слоуны усыновили ребенка и назвали его Дэвидом.
— Кто это сделал?
— Единственное логичное предположение, что это был ваш брат.
Ее рука с бумагами опустилась.
— Джо? Зачем бы понадобилось ему подделывать бумаги?
— Опять же, в точности сказать не могу, но единственное логичное объяснение, которое приходит мне в голову, Эйлин, это чтобы спрятать меня, скрыть, кто я на самом деле.
Она подалась вперед.
— Почему вы так думаете?
Он отнял у нее бумаги, перелистав, выбрал одну из них и передал ей.
— Потому что Эдит и Эрнест Слоуны, Эйлин, мальчика действительно усыновили. — Бумага, которую он отдал ей, была свидетельством о смерти. — Но Дэвид Аллен Слоун, семи лет от роду, погиб в автокатастрофе вместе с ними.
49
Западное крыло, Вашингтон, округ Колумбия
Эксетер выпустил свою погремушку и встал, приветствуя вошедшего в кабинет Медсена. Тот почесал ему макушку и позвонил секретарю, чтобы разрешила войти посетителю.
— Извините, что беспокою вас, — сказал Риверс Джонс еще в дверях, входя в кабинет. Его походка стала заметно энергичнее. — Но вы сказали, что желаете получать полную информацию о ходе расследования по делу Браника. А мы столкнулись с проблемой.
Медсен, не переставая почесывать голову собаке и скармливать ей сухарик, поднял бровь.
— Мы проанализировали записи телефонных разговоров Браника за последние шесть месяцев. Один телефонный номер в них повторяется. — Джонс обогнул кресло так, словно дистанция была способна смягчить удар, который он, несомненно, нанесет своей информацией. — Это номер телефона в Мак-Лине. Звонки туда шли постоянно, в любое время дня и ночи. Иногда следовали один за другим. В последний день звонили несколько раз.
— Женщина, — предположил Медсен, все еще почесывая голову собаки.
Джонс наклонился вперед.
— Эскорт-леди, сэр.
Медсен поднял глаза.
— Проститутка.
Джонс кашлянул.
— Можно и так сказать.
— Занимается сексом с мужчинами за деньги?
— Да.
— Проститутка...
Поставив свой портфель на кресло, Джонс вынул из него листок бумаги в целлофановой обложке и протянул его Медсену.
— И вот что мы обнаружили.
Щелчком пальцев приказав Эксетеру отправляться обратно к своей погремушке, Медсен сделал шаг и взял документ. Он нацепил на нос бифокальные очки для чтения.
— Где? — спросил он, опуская страницу.
— В его портфеле.
— Кому еще это известно?
— Трудно сказать. Портфель находился в его кабинете, когда мы вошли туда, чтобы... чтобы все проверить. До тех пор кабинет был опечатан, так что, может быть, никому больше это и неизвестно, но уверенным быть не могу.
— Можете.
Джонс кивнул и забрал бумагу. Над их головами жужжал кондиционер.
— Простите мне мои слова, генерал, но, мне кажется, вы не удивлены.
Медсен ухмыльнулся.
— Мало что в людях и людских характерах способно меня теперь удивить, Риверс. Всю жизнь я наблюдаю и оцениваю людей. Что, к несчастью, превратило меня в циника. Чрезвычайно редко люди таковы, какими хотят казаться. Знакомя вас с этим делом, я сказал, что подозреваю худшее. Уверен, что, в частности, и поэтому президент выразил желание проявлять тут деликатность.
Повернувшись, Медсен обогнул стол и опять встал за ним.
— Что вы намерены делать?
Секунду Джонс собирался с мыслями:
— Намереваюсь побеседовать с этой женщиной, Терри Лейн, разузнать, что ей известно, когда в последний раз она виделась или говорила с мистером Браником.
Медсен потер ладонью рот с видом глубокой задумчивости.
— Вы не согласны?
Медсен пожал плечами и взмахнул рукой.
— Ответственный за расследование вы, Риверс.
— Но я считаюсь с вашим мнением, — огорченно заметил Джонс.
Медсен сделал глубокий вдох.
— Беседа с этой женщиной станет известна, Риверс. И мы оба это знаем. Чем больше камушков швырнешь в водоем, тем больше его взбаламутишь, а чем больше взбаламутишь, тем больше вероятность, что какая-нибудь из волн достигнет берега. Поговорить с этой женщиной, так кто знает, до чего она договорится, когда откроет рот.
— Сэр?
— Учитывая выбранный ею род деятельности, Риверс, и тот факт, что звонки шли в Мак-Лин, я могу предположить, что она имела дело с постоянными и весьма состоятельными клиентами. Неужели вы думаете, что журналисты удовольствуются одним только Джо Браником? Они тут же унюхают кровь. Почуют скандал.
— Вы не считаете, что ей лучше помалкивать?
Такое предложение позабавило Медсена.
— Мы, конечно, не знаем, каким образом эта женщина записывала и контролировала свои встречи с клиентами, Риверс, дабы обезопасить себя. Но если все обстоит так, как я подозреваю, она будет первым человеком на всех телевизионных ток-шоу, вроде «Опры», по всей Америке. — Медсен покосился направо, словно уже различал там силуэт Роберта Пика, восседавшего в Овальном кабинете. — И вообразите, какой убийственной для родных Джо Браника окажется подобная история, просочившись в прессу. — Он прошелся взад-вперед за столом. — Президент, без сомнения, хочет оградить своего павшего соратника, Риверс. К несчастью, я опасаюсь, что другие придерживаются на этот счет иного мнения. После Уотергейта и Кена Старра все только и ждут возможности стащить президента с пьедестала.
Джонс откашлялся.
— Я думал об этом, и мне кажется, нащупал решение.
Медсен повернулся к нему.
— Полученная информация не отменяет факта самоубийства мистера Браника.
— Полагаю, что так, — согласился Медсен.
— Человек этот совершил самоубийство. Мы занялись расследованием сами, дабы факт этот подтвердился. Что и произошло. На национальную безопасность случай этот не повлияет, и общественный интерес к нему раздувать не следует.
Медсен кивнул.
— Согласен. И что же вы предлагаете?
— Предлагаю сделать для прессы официальное сообщение — дескать, Министерство юстиции Соединенных Штатов, удовлетворенное заключением о том, что имел место несчастный случай, трагическое и ужасное самоубийство, поручает парковой полиции Западной Виргинии завершить расследование.
— Журналисты захотят знать, что убедило вас в этом.
— Вскрытие. — Джонс улыбнулся с видом человека, заметившего свет в конце туннеля. — Вот что мы получили вчера. — Джонс вытащил из портфеля заключение и протянул его Медсену. — Результаты баллистических экспертиз совпадают. Следы пороха как при ранении, нанесенном собственноручно. Он застрелился.
Медсен поднял взгляд от бумаги.
— А лабораторное исследование?
— Оно значения не имеет, — сказал Джонс. — К вопросу о том, самоубийство ли это, оно не относится. И не меняет основного. Мы опубликуем короткое сообщение, что вскрытие подтвердило факт самоубийства Джо Браника. Местным властям необходимо будет завершить расследование, и так как они ничего не найдут, тем все и кончится.
Медсен покачал головой, словно был еще не убежден.
— Журналисты все равно захотят знать причину, почему он покончил жизнь самоубийством.
— Предоставим это семье. Если они захотят порочить репутацию покойного тем, что брак его был на грани краха и что он был пьяницей, — пожалуйста.
Медсен кивнул.
— Что ж, примем как рабочий вариант. Но как вы намерены сообщить это семье?
Джонс сморщился, как от внезапной боли.
— Это может оказаться нелегко. Сестра мистера Браника поднимает шум, требуя результатов вскрытия. Она прибывает в Вашингтон завтра, с тем чтобы разобрать кабинет мистера Браника, и хочет получить отчет по всей форме.
— Когда вы с ней встречаетесь?
— В двенадцать часов. Я хотел тогда же сообщить ей новости. Но я мог бы отменить...
— Нет. — Медсен секунду помолчал, обдумывая ситуацию. — Встречу не отменяйте. Встретьтесь с ней в кабинете мистера Браника. — Он вернул помощнику генерального прокурора результаты вскрытия. — А потом скажите ей, что планы изменились.
50
Берривилл, Западная Виргиния
Эйлин Блер застыла с открытым ртом. И пепел с непогашенной сигареты, казалось, вот-вот упадет ей на колени.
— Но если ребенок, как вы говорите, погиб, то...
— То кто я такой? — Слоун, стоя, сунул руки в карманы брюк. — Пока что понятия не имею, — сказал он. И эти слова, все время крутившиеся в его голове с тех пор, как он вскрыл конверт, показались ему пугающе странными.
Всю жизнь он в каких-то отношениях чувствовал свою «особость». Вырастая в разнообразных — иные лучше, иные хуже — детских коллективах, он жил жизнью, где не было старших. Он не имел родителей, которые посещали бы его тренировки или уделяли бы свое время его школьным занятиям. И несмотря на школьные успехи, на нем всегда было клеймо. Он был «приютский» ребенок, что понималось как ребенок «трудный». Он был сиротой, не имел семьи, родителей, по которым другие родители могли бы судить о его добропорядочности, характере и, в конечном счете, значимости. То, что его происхождение, его корни оставались неизвестными, нервировало окружающих больше, чем его самого. Он был как бродячая собака — вот она идет по тротуару и вроде бы вид у нее самый мирный, но, несмотря на это, неизвестно, откуда она взялась, что заставляет относиться к ней с подозрением и даже со страхом — вдруг темное ее происхождение обернется агрессией. Поэтому одноклассники в школе, хотя не сторонились его и не избегали, однако, сближаясь с ним, все-таки старались ограничить общение безопасными пределами школьных стен. Слоун не винил их и не сердился. Всегда находились предлоги, почему его нельзя было выдвинуть на ту или иную общественную должность, пригласить наряду с другими на день рождения, почему девочки не ходили с ним на танцы. В результате он замкнулся в себе с единственным желанием преуспеть и найти свое место в жизни. Морские пехотинцы поначалу дали ему такой шанс, подарили ощущение причастности, но со временем он понял, что реальность такой жизни была мнимой, что братство, в котором он, казалось бы, очутился, связано случайностью обстоятельств и общей для всех невозможностью вырваться. Военную службу он оставил, потому что не хотел примириться с сознанием, будто это все, на что он способен. Теперь же он иногда думал, а не был ли он действительно способен лишь на это и не больше.
— И выяснить это, кажется, не представляется возможным, — сказал он. — Следы в бумагах теряются, едва их нащупаешь.
Пепел с сигареты все-таки упал ей на колени. Блер встала, стряхнула пепел с брюк и раздавила окурок. Она хотела было взглянуть на часы, но так и не взглянула.
— К черту время, мне надо выпить, и не думаю, что в мире найдется кто-нибудь, способный меня за это упрекнуть. Присоединитесь, мистер Слоун? Если я знаю брата, то у него должна быть здесь припрятана бутылочка хорошего шотландского виски.
Бутылку она нашла в ящике за складным бильярдом и налила себе и ему по стаканчику виски со льдом.
— У меня нет для вас ответа, Дэвид, но одно я могу сказать про моего брата Джо. Он всегда поступал как должно. Если он и совершил то, о чем вы говорите, подделал документы, значит, так было надо.
— Разрешите задать вам один вопрос, Эйлин. Вы когда-нибудь допускали возможность, что ваш брат...
— Не лишал себя жизни? — Она передала ему его стакан. — Мой брат не убивал себя, Дэвид. Готова держать пари на что угодно, а в пари я толк понимаю. — И она стала загибать пальцы, подчеркивая этим каждый пункт: — Первое — мой брат был католиком. Знаю, что большинство сейчас считает это чушью и религиозными предрассудками, но для нашей семьи это не так. Самоубийства католики не приемлют. Второе — мой брат не просто любил жену и детей, он обожал их. Он никогда не поступил бы так с ними. Не бросил бы их таким образом. Третье — это моя мать. Она ирландская католичка, Дэвид. А уж одно это делает ее ответственной за детей — она разделяет с ними все их свершения и все их грехи. И Джо это знал. Он был ее любимцем. Я говорю это без всякой горечи. Между ними существовала особая близость. Так поступить с ней он не мог. Не мог обременить ее на старости лет такой ношей. — Она пронзила Слоуна стальным взглядом своих синих глаз. — Господь знает, как я люблю мою веру и мою невестку, но я не вынесла бы, если б моя мать стала корить себя за смерть Джо. Понимаете?
Он кивнул.
— Понимаю.
— Но есть еще что-то, чего вы мне не говорите, Дэвид. Иначе вы бы не приехали сюда. Ведь вы же знали уже, что документы поддельные. Зачем бы вам понадобилось, чтобы я вам об этом сказала? Вы говорили, что не думаете, будто были знакомы с братом. А может, вы с ним знакомы?
— Я видел вашего брата раньше, Эйлин, хотя и не помню, где и когда. Но то, что происходило в тот день, до сих пор меня преследует.
В течение следующих сорока пяти минут Слоун во всех подробностях рассказывал Эйлин о своем ночном кошмаре; он рассказал ей, что видит ее брата в комнате, стоящим возле огромного афро-американца. Блер отхлебывала виски, терпеливо слушая и задавая вопросы — изредка, но вопросы очень точные и уместные. Когда Слоун кончил свой рассказ, перед нею стоял пустой стакан и пепельница, полная окурков.
— Не уверен, что это выведет меня куда-нибудь, но я хотел бы больше узнать о вашем брате, — сказал он. — Это может оказаться зацепкой на пути к другому человеку. Зацепкой пусть маленькой, но неплохой для начала.
— Хотела бы я вам помочь, Дэвид, но я и сама сейчас недалеко продвинулась. В настоящий момент передо мной как бы каменная стена, которую я не в силах преодолеть. Думаю, частично это из-за рода деятельности Джо.
— Рода деятельности?
Она секунду помолчала, и он почувствовал, что она прикидывает, как много может ему рассказать.
— Вы не найдете этого ни в газетах, ни в его послужном списке, Дэвид, но мой брат работал на ЦРУ.
Мысленно Слоун пролистал прочитанные ранее газетные вырезки, суммируя факты: Браник работал за границей — в Лондоне, Германии, Мексике. Почему-то он и тогда отметил это обстоятельство как важное, хотя и не мог понять почему. Сейчас он это понял. В каждой из этих стран шефом местного отделения ЦРУ был Роберт Пик.
— Он работал у Роберта Пика. Они дружили.
Она кивнула.
— Насколько я понимаю, Джо был зачислен в компанию лишь затем, чтобы сделать его присутствие в той или иной стране законным. Разумеется, нам не полагалось об этом знать, но хранить секреты в нашей семье довольно трудно. Никто из нас не хотел этого возвращения в Вашингтон.
— Думаю, у вас не сохранилось ни чеков, ни каких бы то ни было записей, по которым я смог бы определить компании, в которых он работал?
Блер окинула взглядом кабинет и покачала головой.
— Наверное, мы могли бы разузнать кое-какие фамилии, но никаких записей я никогда не видела. Сомневаюсь, чтобы Джо стал бы здесь их держать. Самым логичным было бы... — Она осеклась и секунду словно бы изучала его. — Да, вы могли бы это проделать.
— Проделать что?
— Вы немного молоды, но не настолько, как я думаю, чтобы это бросалось в глаза. Джон всегда выглядел моложе своих лет.
Слоун был в совершенном недоумении:
— Джон? Простите...
— Мой муж. Мне пришло это в голову сразу же, как только я увидела вас вылезающим из машины. Какой у вас рост, Дэвид? Шесть и один? Шесть и два?
— Шесть и два.
— А весите сто девяносто фунтов?
— Примерно. А что такое?
Блер улыбнулась:
— Вы очень похожи на Джона, когда он был помоложе и потемнее. Рост у вас одинаковый. И комплекция. И цвет лица.
— Вы заставляете меня теряться в догадках, Эйлин.
— Существует договоренность, что завтра я приеду разбирать кабинет Джо. Я ехать не могу — возникли сложности с доставкой его тела домой в Бостон, а это важнее. До вашего приезда я собиралась позвонить и перенести встречу.
— И вы думаете, что поехать туда смогу я.
— Можно позвонить и сказать им, что я посылаю вместо себя Джона.
— Ну, не знаю, Эйлин.
— Это даст вам возможность проникнуть туда, даст шанс порыться в кабинете Джо. Скорее всего, именно там вы найдете его документы, записные книжки, узнаете его знакомства и контакты.
Слоун покачал головой.
— Но у меня нет удостоверения личности, Эйлин.
— Поэтому я и заговорила о комплекции. Вы можете взять водительское удостоверение Джона. Он из тех водителей, которых никогда не штрафуют, удостоверение ему возобновляют по почте. По-моему, в последний раз он фотографировался, когда ему было под сорок. Вы с ним как братья. И я дам вам несколько его визиток на всякий случай.
— И этого хватит?
— Больше вам ничего не потребуется. На той неделе я устроила им форменный разнос. Помощник генерального прокурора, в чьем ведении находится дело, боится меня теперь, как огня. Позвонив, я скажу ему, что не желаю никакой волокиты с пропусками, допусками и прочей вашингтонской дребеденью, что я хочу, чтобы все было проделано незамедлительно. Мне приходилось бывать у Джо. Кабинет его в старом здании администрации, напротив Белого дома. Там надо пройти через секьюрити, но они могут включить вас в список VIP-персон, чтобы облегчить процедуру. Главным образом их интересует оружие.
— Ну а если секретарь или кто-нибудь...
— Да кто там знает Джона? Он же домосед и редко когда покидает Бостон. — Она улыбнулась. — Что может нас подвести?
51
Чарльзтаун, Западная Виргиния
Клей Плешуин сидел на стуле, стараясь переносить тяжесть тела на правое бедро, и читал передовицу «Духа Джефферсона», местного еженедельника. К вечеру от долгого сидения начинал сильнее ныть его седалищный нерв, но не по этой причине он мечтал сейчас об отставке. Три месяца назад он умолил своего родственника спасти его от домашней идиллии, заготовленной ему женою ко времени его выхода на пенсию. Дж. Рэйберн Франклин дал ему частичную занятость, поручив отвечать на звонки и вести учет приходов и уходов сотрудников, что вызволило его из дома. Но известие о гибели Берта Купермана заставило Плешуина тосковать о доме и пребывании в кругу семьи — с женой и внуками.
Утром состоялись похороны Купермана. В отделении царила сдержанная скорбь — настроение, которому еще некоторое время суждено было длиться. В память товарища они основали фонд, надеясь собрать достаточно денег на воспитание младенца и будущее его образование. Конечно, отца это ему не заменит. Плешуин сложил газету, бросив последний взгляд на фотографию — разбитая патрульная машина Купермана, висящая на стреле крана. Он вспомнил, как хотел всегда Куп увидеть в газете свою фотографию с упоминанием фамилии.
— О Господи... — вздохнул Плешуин.
Стеклянная дверь за его спиной распахнулась, но Плешуин не дал себе труда обернуться. Он увидел, как въезжает на парковку машина Тома Мольи — изумрудно-зеленый «шевроле» 1966 года выпуска.
— Табло! — произнес он.
Молья на ходу притормозил, борясь с желанием содрать со стены кусок картона и разорвать его в клочки. Впервые за двадцать лет службы ему претила его работа полицейского. Ему претило, что кто-то обводит его вокруг пальца, претило, что, убив Купа, убийца не получит по заслугам. Расследование по этому делу, которое он попытался вести, зашло в тупик. Хо не сможет больше ничего сделать с телом. Выяснить, какой телефонный разговор, подслушанный Куперманом, заставил его помчаться к обрыву, как в том был уверен Молья, оказалось невозможным. Расследование дела Браника вырвали у него из рук.
Тупик за тупиком, и вновь тупик.
Молья перемещал магнитную бирку из колонки «отсутствует» в колонку «на месте», когда на конторке зазвонил телефон. Плешуин взял трубку.
— Мы больше не занимаемся этим делом, оно передано нами в Министерство юстиции, — говорил Плешуин. — Этого я вам сказать не могу. Свяжитесь с начальником отделения.
Молья опять взглянул на табло и быстро передвинул оранжевый магнит возле первой из указанных фамилий. Плешуин повернулся, через него бросил взгляд на табло.
— Его нет. Могу только записать сообщение и попросить его перезвонить вам.
Плешуин записал сообщение и номер телефона и, взяв листок, сделал движение, чтобы встать со стула. И тут же, поморщившись, опять опустился на место.
— Спина замучила, да, Клей?
— А? — Плешуин обернулся, удивленный тем, что Молья все еще не ушел. — Да просто натрудил поясницу. Жена вчера заставила сучья обрезать.
— Да, работа в саду — это наказанье божье. — Молья сделал жест, указывая на листок в руке Плешуина. — Могу занести записку вместо тебя. Кому это?
— Рэю. — Плешуин повернулся и опять поглядел на табло. — А я и не видел, как он ушел.
— Наверно, проскользнул, когда ты по телефону говорил. Счастье еще, что есть это табло.
Плешуин покосился на него.
— Для того и поставлено.
Молья протянул руку:
— Так я занесу ему сообщение.
Плешуин заколебался, но какие бы подозрения относительно причин такой услужливости Мольи он ни питал, они улетучились под новым натиском боли в пояснице. Он передал Молье листок.
— Просто положи ему на кресло.
— Конечно.
Слоун повесил трубку, скинул ботинки и повалился на спинку кровати в мотеле. В последнюю неделю он почти не спал, и тело, как и сознание, начало давать сбой. Чарльзтаунская полиция не предоставляла ему никаких сведений насчет хода расследования по делу Джо Браника, хотя из газет он знал, что первоначально, до того, как Министерство юстиции затребовало дело себе, расследованием занимались здесь. Ответного звонка начальника полиции он не ожидал. Если же звонок все-таки последует, наверняка Слоуна перенаправят в Министерство юстиции, как это сделал коронер округа Джефферсон доктор Питер Хо, когда Слоун позвонил ему, чтобы узнать о результатах вскрытия, которыми настоятельно интересовалась Эйлин Блер.
Он снял трубку и позвонил Эйлин Блер. Она подтвердила, что его ждут в кабинете Джо Браника на следующий день в двенадцать.
— На вахте вам будет оставлен пропуск, — сказала она. — Вы встретитесь с Бет Сароян. Она какая-то там шишка в Министерстве юстиции и, как меня заверили, сможет провести вас через все рогатки секьюрити в кабинет Джо. Я отправляюсь в Бостон завтра утром. Если будут осложнения, звоните мне на мобильник.
Она дала Слоуну номер мобильника и повесила трубку.
Телефон в комнате зазвонил, вспугнув его полудрему. Он подумал, что это Эйлин Блер, но голос оказался мужским.
— Мистер Блер?
— Да.
— Говорит детектив Том Молья из Чарльзтаунского полицейского отделения. Как я понимаю, вы звонили по поводу Джо Браника?
52
Блумонт, Виргиния
Ломбард помещался в одноэтажном здании на выезде из Блумонта, Виргиния, возле самой автострады №734, втиснутом, как это ни смешно, между кафе-мороженым и лавкой, где торговали куклами. Это был пятый ломбард, куда он обратился. В местном «Желтом справочнике» он значился под рубрикой «Оружие» вместе с маленьким рекламным объявлением, где над изображением черного пистолета была надпись красными буквами: «Платим наличными за подержанное оружие. Продаем, покупаем, меняем».
Слоуна привлекли два слова — «наличные» и «меняем». Принятие закона Брэди с его ограничениями и длительными проверками означало, что всякая покупка оружия теперь растянется минимум на месяц. Ждать так долго Слоун был не в состоянии. Уловками в аэропортах он не мог до бесконечности дурачить своих преследователей, кем бы там они ни оказались, а если его преследовало ЦРУ, как он стал теперь подозревать, в их распоряжении хитрое оборудование, с которым ничего не стоит его разыскать. Пистолет, в конечном счете, может и не помочь, но уж вреда не принесет, это точно.
Хозяин ломбарда, говоривший с виргинским прононсом, объяснил Слоуну по телефону, как проехать. Они обсудили тип оружия, которое искал Слоун, и так как ни тот, ни другой не торопились, Слоун успел выведать, что владелец — действительный член Национальной армейской ассоциации и ветеран вьетнамской войны, бывший морской пехотинец. Когда Слоун сказал ему, что и он тоже служил в морской пехоте и получил ранение в Гренаде, это, как ему показалось, сразу протянуло между ними невидимую, но несомненную нить доверительности. И эту нить Слоун собирался использовать.
Слоун дождался вечера, времени как раз перед закрытием, когда особенного наплыва посетителей в лавочке не ожидалось. Он вошел через главный вход, отчего над дверью зазвенели колокольчики. Тридцать минут спустя колокольчики опять зазвенели, и владелец закрыл за Слоуном дверь. Слоун вышел оттуда без своих часов «ролекс» и без зажигалки. В пакете из оберточной бумаги у него лежали незарегистрированный «кольт-дефендер 45», то есть видоизмененный «кольт-командер», которым пользовались во вьетнамской кампании, три обоймы, две коробки ремингтоновских кумулятивных зарядов «Золотая сабля» в медной оболочке и бельтцеровская кобура, которую владелец лавочки добавил от себя, хотя Слоун его об этом не просил.
Сидя в машине, Слоун заправил обоймы, вогнав одну в рукоятку, и полюбовался безупречной гладкостью стали и резины, чувствуя, как ловко ложится в руку увесистая тяжесть. Удобно, ничего не скажешь. До того как в лифте клиники он ухватил «руджер», рука его не держала оружия со времен службы в морской пехоте, и он дал себе зарок, что и впредь к оружию не прикоснется.
Он прикрепил пистолет к своему расшитому кожаному поясу, имевшему дополнительную толстую петлю на правом бедре, так, чтобы пистолет плотно прилегал к телу, и проехал к фастфуду с телефоном-автоматом на парковке. Сдачу он получил четвертаками, так что мог кинуть в щель автомата целую пригоршню монет. Мобильник Тины ответил с третьего сигнала.
— Это я. Не называй меня по имени.
— У тебя все в порядке?
— Все прекрасно. А как ты?
— У нас тоже все прекрасно. Слушай, тебе надо быть осторожным.
— Я осторожен.
— Я не про то. Мне позвонила доктор Найт. Сказала, что к ней в офис приходил кто-то из ФБР; хотел порасспросить ее о тебе, но она от встречи отказалась. А в выходные кто-то влез в ее кабинет. Она никак не могла взять в толк, что ему понадобилось, пока не заметила пропажу.
— И что же у нее пропало?
— Ее блокнот с записями, где она зафиксировала наш с ней разговор, тот, в котором я ей описывала твой ночной кошмар. Она сказала, что проверила у охранников, и те утверждают, что приходил служащий Федерального почтового ведомства. Это был тот же самый человек, который раньше в клинике представился агентом ФБР.
— Откуда она знает?
— Они описали ей его, и она сказала, что такую внешность не скоро забудешь.
— А тебе она его описала?
— Да. Она сказала, что он афроамериканец. Очень высокий. Очень крупный.
53
Чарльзтаун, Западная Виргиния
Ухватив зубами добрую половину сандвича с копченой колбасой, Том Молья накинул спортивную куртку и взглянул на часы — 10:00. Джон Блер пунктуален. Молья заторопился по коридору к выходу, но из-за угла навстречу ему вынырнул Дж. Рэйберн Франклин — начальник был сердит, видимо искал его; увидев Франклина, Молья поспешил бросить в карман недоеденный сандвич и сделать движение в сторону туалета.
— Об этом и не мечтай, — прогремел голос Франклина, и окрик этот заставил Молью замереть на месте.
Он отдернул руку от двери туалета. Извечная история. Когда цель близка. Он повернулся к Франклину.
— О чем «не мечтать», шеф?
— Нырнуть в сортир, чтобы не встречаться со мной, — вот о чем. Потому что сейчас я и там достал бы тебя — не побрезговал.
Молья схватился за живот.
— Да я и думать не думал, шеф. Мне просто нехорошо...
— Ты почему на звонки не отвечаешь? — От Франклина несло выпитым кофе.
— Вызывал? Прости, меня не было на месте. Ты же знаешь меня и мои хвори. — Большим пальцем он указал на дверь туалета. — Похоже, я от ребят заразился. — Он кашлянул, заставив этим Франклина сделать шаг назад. — Хотя, может быть, это и вчерашняя итальянская колбаса сказывается. Не надо было жадничать, вторую есть. Не бойся, я буду держаться на расстоянии. Хотя и тут гарантий, конечно, нет.
Молья решительно двинулся в сторону уборной, но Франклин протянул руку, преграждая ему путь.
— Тогда уж и копченую следует исключить. Где записка?
Молья изобразил недоумение.
— Записка? Какая записка?
— Не паясничай и не делай вид, что не понимаешь, Моль. Записка, которую передал тебе вчера Клей.
Молья потер подбородок, словно проверяя, насколько отросла щетина.
— А Клей передал мне вчера записку?
Франклин улыбнулся.
— Разве насчет Браника никто не звонил? Не было звонков?
— Ах, та записка...
— Да, именно та. Клей сказал, что ты вызвался собственноручно передать мне сообщение. Почему это ты, скажи, вдруг проявил такую услужливость?
— У Плеши поясницу прихватило...
— И ты решил изобразить из себя доброго самаритянина, потому что вы с Клеем не разлей вода?
— Ну да. — Молья вновь сделал шаг в сторону туалета, и Франклин вновь преградил ему путь рукой. Они стояли так близко друг от друга, что Молья видел даже пылинки на стеклах очков начальника. — Ты начинаешь просто препятствовать естественным отправлениям организма, вмешиваясь в законы природы, Рэйберн.
— Хотелось бы знать, чем занимается мой старший следователь.
— Работой — и то и дело бегает в туалет.
— Над чем работает?
— Знаешь, Рэй, у меня сейчас дел невпроворот. Ношусь как...
— Как угорелый. Понятно. Что же за дела?
— Что за дела? Минуточку, дай с мыслями собраться. Во-первых, то ограбление. Там уже наметились хорошие зацепки, и я иду по следу.
— Что за ограбление?
— Ну, ограбление... Парень чистил квартиры.
Франклин улыбнулся.
— Значение слова я понимаю, Моль. Интересовался я тем, кто он такой.
— Это-то я и пытаюсь выяснить.
Франклин бросил на него взгляд поверх очков.
— Так в скором времени я могу ожидать доклада?
— До того как изменит память и факт превратится в вымысел, — сказал Молья, повторяя излюбленную мантру Франклина.
Тот опустил руку. Оба стояли, глядя друг на друга и не веря друг другу. Оба не желали быть изобличенными. Франклин опять протянул руку.
— Так где записка?
Моль вытащил из кармана скомканную бумажку, которая была теперь к тому же запачкана горчицей.
— Вчера я позабыл передать — отвлекся, заработался: дела, звонки, знаешь ли...
Франклин взял бумажку за край, брезгливо взглянув на след от горчицы.
— Я хотел бы ознакомиться с делами, которые ты ведешь.
Молья взглянул на часы.
— Нет проблем. Можно после обеда?
— А сейчас нельзя?
— Сейчас не могу, Рэй. — Молья кивнул в сторону туалета.
— Я подожду.
— Это может занять время, Рэй. Ты ведь знаешь. Иной раз успеваешь прочитать всю спортивную страницу.
— Ну, ничего.
Молья опять взглянул на часы. Его приперли к стенке.
— Конечно, конечно. Пойдем. Папки на моем столе. — Он повернулся, чтобы идти к себе в кабинет. Не услышав за спиной шагов Франклина, он обернулся.
Франклин остался стоять в коридоре.
— Ты, кажется, забыл о чем-то?
— О чем?
Большим пальцем Франклин ткнул в сторону туалета.
— Верно. Опять отвлекся... ты меня отвлек. — Молья двинулся по коридору и толкнул дверь в туалет; Франклин за ним. — Папки у меня на столе. Я буду через минуту.
Слоун сидел в вестибюле Чарльзтаунского полицейского отделения в привинченном к полу синем пластиковом кресле и, нервно пролистывая «Ньюсуик» двухмесячной давности, то и дело поглядывал на стенные часы. Детектив Том Молья не колеблясь принял его предложение встретиться. Но, к несчастью, его пунктуальность не соответствовала проявленной готовности, и сейчас Слоун опаздывал. Ему сказали, что путь до Министерства юстиции займет полтора часа. Больше ждать он не может. Он встал, чтобы уйти. Металлическая дверь справа от него распахнулась, и в помещение ворвался крепкий, слегка грузноватый мужчина — он рылся в карманах мятой спортивной куртки, верхняя пуговица рубашки у него была расстегнута, узел галстука распущен. Он протянул руку и пробормотал приветствие сквозь зубы, занятые сандвичем. Слоун уже хотел пожать ему руку, но рука отдернулась, чтобы вытащить изо рта сандвич.
— Простите меня. Ранний завтрак. Вы Джон Блер?
— Да, а вы...
Молья протянул было руку для рукопожатия, потом замялся, запихнул сандвич в карман, после чего пожал руку Слоуну, одновременно подталкивая его к выходу.
— Я действительно очень сожалею, что заставил вас ждать. Меня задержали.
Они вышли на солнцепек.
— Вы знаете, детектив, боюсь, нам придется встретиться в другой раз. У меня назначена встреча. У меня даже на чашку кофе не будет времени.
Не снимая руки с плеча Слоуна, Молья вел его через парковку.
— Я виноват, Джон. Скажите вот что: где у вас встреча?
— В Министерстве юстиции.
— Я подвезу вас.
— В Вашингтон? Думаю, для вас это слишком большой крюк.
— Уж это-то я могу для вас сделать! Мне крайне неприятно, что из-за меня вы опаздываете. — Руки с плеча Слоуна он так и не снял.
— Очень любезно с вашей стороны...
— Пожалуйста, пожалуйста. У меня все равно есть там кое-какие дела, которыми я собирался заняться. Так что я убиваю одним махом двух зайцев. А кроме того, могу гарантировать, что со мной вы не опоздаете, потому что я могу парковаться, где мне вздумается. Служебная привилегия. Вам приходилось парковаться возле Министерства юстиции, Джон? Это кошмар. А по пути мы сможем потолковать.
Они дошли до изумрудно-зеленого, без полицейских знаков «шевроле». Том Молья открыл дверцу со стороны пассажира, и Слоун уже наклонился, чтобы скользнуть на сиденье, но рука Мольи схватила его за плечо, прежде чем он успел ощутить, как из автомобиля на него веет жаром, словно из раскаленной печи.
— В это время года приходится проветривать машину, Джон. А не то спечешь себе задницу. Вы откуда?
— Из Бостона.
— Там тоже жарища. Видел в телевизионных новостях. По всему восточному побережью на тротуарах хоть яичницу жарь.
— Хотелось бы поскорее.
— У нас есть время. — Наклонившись, детектив принялся собирать разбросанные по полу машины газеты и обертки и перемещать их на заднее сиденье. — Простите за этот свинарник. — Он опустил руку в карман, вытащил оттуда недоеденный сандвич с копченой колбасой и, сунув его в рот, продолжал рыться в карманах.
— Они у вас в руке, — сказал Слоун, указывая на ключи от машины.
Молья вытащил изо рта сандвич.
— Жена говорит, что я себя гроблю, но холестерин у меня как у двадцатилетнего. — Он пожал плечами. — Вот и прикиньте. — Он гордо позвенел ключами перед лицом Слоуна с видом мальчишки, отбившего трудный бейсбольный мяч. — Ладно, поехали. Не хочу, чтобы вы опоздали.
Дорога до Вашингтона была живописной, но знойной. О температуре за окном детектив отозвался так: «С легкостью перемахнула за девяносто и теперь подбирается к ста», что, в общем-то, можно было отнести и к скорости, с которой они мчались. «Шевроле» не имел кондиционера. Со спущенными стеклами казалось, что впереди них крутится винт самолета.
— Не так страшна жара, как влажность! — крикнул Молья, стараясь заглушить шум ветра. — Можете объяснить смысл этого высказывания, Джон?
Слоун улыбнулся и пожал плечами.
— И я не понимал его, пока не переехал на восточное побережье. К жаре еще можно приспособиться, но чувствовать себя постоянно так, словно тебя посадили на садовую прыскалку, — нет уж, увольте! Лишает последних сил. А с другой стороны, если б не летние месяцы, я был бы фунтов на десять толще. Жена моя в последнее время от моего ворчанья лишь отмахивается, говорит, я цепляюсь за эту дряхлую развалину, вместо того чтобы купить что-нибудь поприличнее, с кондиционером, специально, чтоб было за что ругать Западную Виргинию! — Он улыбнулся такой идее. — Что ж, она недалека от истины.
— А откуда вы родом, детектив?
— Из Окленда, Калифорния, — с видимой гордостью сказал Молья. — И называйте меня Моль. Меня все так зовут.
— Ладно.
Молья покосился через плечо на Слоуна.
— Хорошее прозвище для детектива, а?
Слоуну в голову это не пришло.
— Да, пожалуй.
— Может, потому и судьба у меня так сложилась. Знаете, ну, как если бы метеоролога звали Шторм или Смерч. Возможно, это и совпадение, но я ведь уже в третьем поколении коп. Видать, все-таки неспроста.
— А в Западной Виргинии как очутились?
— Как очутился? Из-за женщины, естественно, из-за чего же еще? Не думал, что брошу когда-нибудь Северную Калифорнию, да вот угораздило влюбиться в девушку из Западной Виргинии, а она это поставила одним из условий. — Он пожал плечами. — Что прикажете делать? А я-то был влюблен. Далековато от дома, конечно, и временами тоска пробирает, но места здесь красивые и спокойные, детям раздолье. В округе у меня все соседи дверей не запирают, так и спят за сетчатыми. И все же взять парня из Окленда... Вы-то хоть бывали там?
— В Окленде? Нет. В Сан-Франциско, вот там я бывал.
— Ну, это ж небо и земля. Сан-Франциско — это вино и сыр, а Окленд — пиво и колбаса. Прилипает к тебе так, что не отдерешь, под ногти забивается, как грязь, — трудно вычистить. Становится частью тебя, вроде как мой «шевроле». — Он провел рукой по приборной доске, словно потрепал по шее чистокровного скакуна. — Отец купил «шевроле» подержанным и подарил мне его на шестнадцатилетие, потому что счел его, как он говорил, машиной надежной. И оказался прав. Машина эта еще ни разу меня не подвела. И в Виргинию с ней вдвоем отчалили, и обратно я на ней съездил, когда отец заболел, — не мог ее бросить.
— Поехали на машине? Почему же не полетели?
Молья покачал головой.
— У меня, знаете ли, с высотой особые отношения. Побаиваюсь. От одной мысли, что под тобой тридцать тысяч футов пустоты, поджилки трясутся. Однажды влез в самолет, хотел побороть страх. Думаю, чепуха это все — страх и прочее. Пересилить себя — раз плюнуть. Так, верите ли, до кресла дойти заставить себя не мог.
— Так и не летали?
— Не-а. И не знаю уж, что бы меня теперь заставило полететь. — Он постучал по приборной доске. — Мой «шевви» всегда доставит меня куда нужно. Уж на что в последний раз я его чуть не угробил, думал — все, пропала машина, а подлил бензинчику, маслица плеснул — и ожила, бегает как миленькая! — Он взглянул на одометр: триста двадцать восемь тысяч и четыреста тридцать семь миль на счетчике.
Детектив менял темы разговора с такой же скоростью, с какой перескакивал с полосы на полосу: детей у него двое — мальчик и девочка, был в армии, как и отец, а демобилизовавшись, пошел работать в полицию.
— А вы в армии служили, Джон?
Слоун выбрал то, что знал:
— В морской пехоте.
— А сейчас чем занимаетесь?
Слоун и здесь предпочел предмет знакомый:
— Я адвокат.
— У меня сестра ваша коллега.
— А в копах вы давно? — Слоун хотел сменить тему.
— Десять лет на улице оттрубил и восемь уже — в детективах. Работа в моем вкусе, только вот если бы не случаи вроде этого.
Слоун все ждал начала, ждал, что вот и приоткроется щелочка, и станет ясно, что детективу требуется поговорить о Джо Бранике и расследовании, как это, несомненно, и было. Не просто же за компанию увязался Молья в Вашингтон, вызвавшись подвезти Слоуна в Министерство юстиции. Ему нужна была какая-то информация. Слоун надавил — не сильно, чуть-чуть:
— Да? А в чем дело?
Молья отер с виска выступившую там бусинку пота:
— В дело влезло Министерство юстиции и оттеснило нас.
— Это я понял. Но почему оно влезло, детектив?
Молья смерил его взглядом:
— Не догадываетесь?
— Говорили что-нибудь насчет юрисдикции.
Молья кивнул.
— Эти крючкотворы-юристы иногда метят территорию не хуже, чем собаки, писающие на пенечки. Понимаете, о чем я? Они нашли тело вашего родственника в Национальном парке, а значит, он подлежит расследованию на федеральном уровне.
— По-моему, я читал, что делом занимается ваше отделение.
— Первоначально так и было.
— Как же так?
— Потому что сигнал поступил от нашего патрульного. А по правилам, тогда тело отправляется к коронеру округа, до тех пор пока все не будет законным порядком оформлено.
— Я и не знал. А каким образом патрульному это стало известно, прежде чем узнали остальные?
— Неясно, — сказал Молья.
— Вы не знаете?
Молья окинул его взглядом; одной рукой он придерживал руль, локоть другой был в окне машины.
— Полицейский этот мертв, Джон.
У Слоуна сжалось сердце.
— Мертв?
— Похоже, его машина сверзилась с обрыва, вроде бы направляясь к месту происшествия. Он так и не доложил, поэтому мы не знаем.
Слоун отметил про себя слова «похоже» и «вроде бы».
— Простите, — сказал он, опечаленный еще одной смертью. Потом в голову ему явилось некое соображение: — Я считал, что такие звонки регистрируются.
— Его звонок был зарегистрирован, но звонок, что найдено мертвое тело, ни от кого не поступал, если вы об этом говорите. Единственный сигнал был от Купа, от офицера полиции Берта Купермана.
— Откуда же он узнал?
Молья лишь покачал головой.
— Мне позвонили домой. Когда я прибыл на место, дело требовала себе парковая полиция. И надо сказать, что в споре позиции мои были весьма шатки, но я настоял на своем и отвез-таки труп к коронеру округа.
— А почему вы так боролись за него?
Прежде чем ответить, Молья помолчал немного, потом кивнул:
— Наверное, потому что я люблю во всем порядок.
— Ну а что показало вскрытие?
— Не производилось. Министерство...
— Я так понял, что его сестра специально просила коронера округа произвести вскрытие.
Молья опять окинул взглядом Слоуна.
— Его сестра?
— Сестра Джо, — неуклюже поправился Слоун. — Моя жена. Она попросила о вскрытии.
Молья кивнул.
— Похоже, Министерство юстиции тут наложило лапу. Сообщило, что проведет вскрытие самостоятельно. Удивительно, что вас они не поставили в известность, Джон.
— Может быть, жена и в курсе. Просто я занимался другими вещами.
— Разбирали его кабинет?
— Разбирал его кабинет. Значит, дело теперь не ваше?
— Так мне сказали.
— И все же вы его пока не закрыли?
Молья улыбнулся, как мальчишка, которого застали за воровством печенья из банки.
— Разрешите мне объяснить вам кое-что из деятельности правоохранительных органов, Джон. Такие дела, как это, обычно не проходят бесследно. Ну, как тухлый завтрак, если понятно, что я имею в виду. Они имеют способность к тебе возвращаться. За двадцать лет я нахлебался этих тухлых завтраков достаточно. И вот могу сказать, как все будет: Министерство юстиции вмешалось, потому что ваш родственник — важная шишка, но после того как шумиха утихнет, власти не захотят, да и не смогут, уделять время какому-то там самоубийству, а значит, они спихнут дело нам обратно, бросят его на мой стол для завершения. Вот на этот случай я и держу папку открытой.
— Звучит не слишком обнадеживающе.
Такому объяснению Слоун поверил не больше, чем он поверил искренней готовности детектива совершить часовую с лишним поездку в Вашингтон ради пустой болтовни с недавним знакомцем. Он наблюдал подобную тактику у лучших адвокатов: наступив себе на горло, разыгрывают простачка, чем располагают к себе присяжных и добывают у свидетелей необходимую информацию. Местная газета цитировала анонимный источник, утверждавший, что работа местных органов правопорядка была дезорганизована и сведена на нет вмешательством Министерства юстиции в дело Браника. Теперь Слоун легко мог догадаться, кто был этим анонимным источником.
— Ну а что вы надеялись узнать, Джон?
— Семья несколько растеряна, детектив. На многие наши вопросы мы не получаем ответов.
Протянув руку, Молья прикрутил радио. До этого времени Слоун даже не замечал, что оно включено.
— Какие же вопросы вы имеете в виду, Джон?
— Брат моей жены не принадлежал к типу самоубийц, детектив. Поэтому жена и попросила коронера о вскрытии, и он согласился. Теперь же мы слышим, что вскрытие так и не было произведено. Министерство юстиции нам мало что сообщает. Это обескураживает.
Молья опять кивнул, но на этот раз лицо его сморщила задумчивая улыбка.
— Мне это чувство знакомо.
54
Старое здание администрации представляло собой сооружение из белого гранита с крышей и колоннами. Было в его облике что-то римское, впрочем, Слоуну вся архитектура Вашингтона с его приземистыми зданиями и памятниками казалась римской. Когда они припарковались возле переднего входа, Том Молья спросил, не может ли он сопровождать Слоуна. Тот не слишком удивился. Он догадывался, что детектив держит папку открытой не из-за тухлого завтрака: у него тоже не было уверенности, что смерть Джо Браника являлась самоубийством, а гибель полицейского — несчастным случаем. Он так же был обескуражен, в чем и признался, не получая ответов на многочисленные вопросы. Он решил, что для начала неплохо было бы завязать дружбу с кем-нибудь из родных Браника. Слоун, со своей стороны, не видел причины отказывать детективу в просьбе взять его с собой. Иметь рядом доброжелателя не повредит, как не повредит и то, что доброжелатель этот — полицейский и при оружии, особенно учитывая тот факт, что Слоуну пришлось оставить свой «кольт-дефендер» в бардачке взятой напрокат машины. Его все еще преследовало видение телефонного мастера в галерее, с пистолетом в руке направляющегося к нему. Надо думать, найдутся и другие, что захотят приблизиться к нему с тем же намерением. А вдобавок ему нравился Том Молья. Он был как старый ботинок — надежный, удобный.
Они вошли в здание вместе, и Молья оттянул ворот рубашки, пуская внутрь прохладный кондиционированный воздух. Как и предупреждала Эйлин Блер, в вестибюле их встретили пост секьюрити и металлоискатели. Слоун надеялся, что и ее план обеспечить ему доступ за красную линию сработает так же четко. Он наблюдал за шедшим впереди них человеком в костюме. Охранник лишь мельком взглянул на его документ, прежде чем пропустить его через детектор.
Том Молья помахал своим жетоном, предъявил девятимиллиметровый «зигзауэр» и, обойдя детектор, стал дожидаться за ним Слоуна. Слоун представился как Джон Блер, словно имя это уже само по себе должно было что-то сказать охране. Но, по-видимому, не сказало. Охранник, внушительного вида солидный мужчина с внешностью крупье в Вегасе, попросил у него документ с фотографией и сунул в зажим клочок линованной бумаги для пропуска на вход и выход. Слоун открыл бумажник и положил его на конторку водительским удостоверением вверх, не вынимая его из-под пластика, — старый трюк времен его отрочества, когда приходилось покупать пиво по фальшивому документу. В книге посетителей он расписался как Джон Блер, сказав: «У вас должен быть оставлен пропуск. Это договорено с помощником генерального прокурора Риверсом Джонсом».
Охранник поднес к глазам удостоверение и потом взглянул на Слоуна.
— А не могли бы вы вынуть удостоверение из бумажника? — сказал он, возвращая ему документ.
Слоун постарался ничем не выдать волнения, хотя и почувствовал себя так, словно почва под его ногами загорелась.
— Разумеется.
Он вынул удостоверение и протянул его через конторку без улыбки, так как и Джон Блер на карточке не улыбался.
Охранник вновь поднес к глазам удостоверение. Потом взгляд его задержался на лице Слоуна. Спустя секунду он произнес:
— Отойдите в сторонку, пожалуйста.
Слоун поборол в себе желание спросить, что случилось, стараясь держаться так, словно ничего случиться и не могло. Он отошел в сторонку, как ему было сказано, а охранник, сняв трубку с пульта, набрал номер и сказал что-то, чего Слоун не мог расслышать. Слоун внимательно глядел на охранника. Если происходящее и интересовало охранника, он этого никак не выказывал. На лице его играла дежурная улыбка, и для каждого входящего у него были наготове несколько слов, по преимуществу о погоде и о том, как хорошо очутиться в прохладном помещении.
Через две минуты Слоун увидел, как к ним через вестибюль торопливо идет молодая женщина с плоскими картонными коробками под мышкой. Опустив коробки на пол, она протянула руку с готовностью вожатой в лагере скаутов.
— Мистер Блер? Я Бет Сароян.
Пожав руку Слоуну, Сароян обратилась к присоединившемуся к ним Тому Молье. Она извинилась за то, что не оставила ему пропуска.
Молья с улыбкой прервал извинения:
— Не беспокойтесь, голубушка. Я друг Джона.
Они поднялись в лифте, и Сароян провела их по коридору, где возле позолоченной двери дежурил охранник в форме. Это было похоже на вход в мавзолей. Без всяких подсказок с их стороны он встал и отпер дверь, удалив с нее желтую полицейскую ленту. Слоуну в этой предупредительности почудилось что-то искусственное, словно перед ним разыгрывали представление. Впечатление это еще усилилось, когда он вошел внутрь. Кабинет оказался чище, чем его собственный после того, как Тина прибралась в нем. Стол Джо Браника сиял полированной поверхностью, отражавшей верхний свет. Книги на полках стояли безукоризненно ровно, перемежаясь семейными фотографиями и памятными безделушками. Прикрытый ковром пол также был совершенно чист — ни соринки, ни клочка бумажки. Он увидел, как Том Молья приблизился к мусорной корзине и словно бы невзначай заглянул в нее. И корзина, и крутящаяся урна возле стола были пусты. Вновь и Слоун, и детектив думали об одном и том же. Долгие годы адвокатской практики подсказывали Слоуну, что вряд ли тот, кто покидал кабинет в спешке, как это явствовало из материалов дела, мог бы оставить его в таком первозданном порядке. Кто-то постарался его основательно почистить.
И это был новый тупик.
Полчаса спустя Слоун закрыл крышкой последнюю из картонных коробок. Все они теперь были заполнены личными вещами Джо Браника, которые Слоун обещал доставить Эйлин Блер, но среди которых не было ничего, что помогло бы ему узнать, на какие компании работал Браник и кто был тот чернокожий, маячивший в его воспоминаниях. Он поднял голову при виде входящего в кабинет мужчины с чопорной походкой и мелкими чертами лица; подойдя, тот протянул руку так, словно они были старыми знакомыми.
— Мистер Блер? Я помощник генерального прокурора США Риверс Джонс.
При упоминании этого имени Слоун увидел, как дернулась к плечу голова детектива Мольи — он вышел за дверь и завел беседу с охранником.
Коротко остриженные, разделенные аккуратным пробором тусклые волосы, ранняя седина кажется искусственной, тощий — Джонс выглядел не то типичным чиновником, не то болваном-компьютерщиком.
— Очень приятно, — сказал Слоун.
— Я должен извиниться за шероховатости при разговоре с вашей женой. Я надеялся, что встречусь с ней и при личном контакте сумею исправить впечатление, которое могло бы у нее сложиться обо мне после разговора по телефону.
— Забудем. А ваши извинения я ей передам.
— Госпожа Сароян помогла вам? — спросил Джонс.
— И очень. Благодарю вас. Собственно говоря, — Слоун окинул взглядом кабинет, — работа почти окончена.
— Хорошо. — Взгляд Джонса устремился мимо него, к фигуре Тома Мольи, и Джонс направился к двери. — По-моему, мы незнакомы, — сказал он и протянул руку.
Молья не ответил.
Джонс тронул его за плечо.
Молья обернулся.
— По-моему, мы незнакомы, — повторил Джонс.
— О, как поживаете? — Молья небрежно пожал руку Джонса и попытался вернуться к беседе с охранником, но Джонс вторично тронул его за плечо.
— Прекрасно поживаю. Я помощник генерального прокурора США Риверс Джонс. А вашей фамилии я не расслышал.
Детектив хмыкнул, изобразив смущение.
— Я, кажется, сегодня забываю о приличиях, — сказал он, обращаясь к охраннику, и повернулся к Джонсу. — Я Джим... — Фамилию он пробурчал неразборчиво.
— Простите? — наклонился к нему Джонс.
— Джим. Джим Планкетт, — сказал Молья.
Уроженец Окленда Молья представился помощнику прокурора, назвав фамилию бывшего игрока «Оклендских рейдеров».
— Очень приятно, мистер Планкетт, — сказал Джонс. — Вы друг...
— Мой друг. — Слоун выступил вперед, указывая глазами на детектива. — Мистер Планкетт мой друг, мистер Джонс. Скажите мне, кто принял решение опечатать кабинет?
Джонс кивнул:
— Вы видели ленточку на двери.
— Да, видел. В чем дело?
— Так распорядился глава администрации Белого дома.
— Глава администрации? — переспросил Слоун. — Что заставило его так распорядиться?
— Обстоятельства. В то утро в особый отдел Белого дома был звонок из парковой полиции. Найдено служебное удостоверение мистера Браника. Дежурные перезвонили домой главе администрации. Он распорядился немедленно опечатать кабинет. Я согласился с таким решением.
— Почему? — спросил Слоун.
Вопрос, казалось, озадачил Джонса, и его ответ прозвучал снисходительно:
— Чтобы быть уверенным, что ни одна деталь информации не ускользнет и не будет изъята. Это обычная практика в ситуациях, когда кто-то решает покинуть... или, ну, словом, в такого рода ситуациях.
Слоун огляделся.
— Значит, с тех пор как мистер Браник покинул кабинет, в помещение никто не входил?
— Никто, — сказал Джонс. — А почему вы спросили? Чего-то не хватает? Вы чего-то не обнаружили?
Слоун покачал головой.
— Нет-нет. Все в исключительном порядке.
— Хорошо. Тогда я хотел бы...
— А то, что расследование будет проводиться непосредственно Министерством юстиции, тоже решил глава администрации? — прервал его Слоун.
Вопрос заставил Молью несколько податься вперед.
Джонс, казалось, был застигнут врасплох.
— Мне точно не известно, каким образом было принято это решение.
— Но расследованием занимаетесь вы?
— Совершенно верно. Министерство юстиции поручило...
— И вы не знаете, кому принадлежит это решение?
Джонс запнулся.
— Не то чтобы... Нельзя сказать, что я не знаю. По-моему, это было совместное решение генерального прокурора и Белого дома. Строго говоря, существует ряд вопросов, которые я надеялся обсудить с вашей супругой за обедом, — сказал он и направился к двери. — Вы располагаете временем?
Слоун покосился на Молью.
— Простите, но Эйлин ничего такого не говорила.
— Не страшно! — Молья, неожиданно заинтересовавшись, сделал шаг в кабинет: — Обед — это предложение крайне заманчивое. Я умираю с голода.
Джонс улыбнулся.
— Простите, мистер Планкетт, но я имел в виду мистера Блера... одного.
— Все, что вы намереваетесь сказать, вы можете говорить и в присутствии мистера Планкетта, — заметил Слоун.
Джонс замотал головой.
— Я не хотел никого обидеть...
— Все нормально, Джон, — прервал его Молья, — не хочу мешаться, быть пятой спицей в колеснице и тому подобное. Ты без меня домой доберешься?
— Да мы отвезем вас, куда вы скажете, — заверил Слоуна Джонс. — Это не составляет труда. Госпожа Сароян сделает наклейки на коробки и перешлет их куда надо.
Сароян выступила вперед с видом заправской стенографистки, держа наготове бумагу и ручку. Но Слоун понятия не имел, какой адрес назвать.
— Адрес мне придется сообщить вам потом.
Лицо Джонса выразило недоумение.
— Отсюда кое-что надо будет отправить на хранение.
Сароян вручила ему визитку.
— Отлично. Мы договорились. — Джонс положил руку на плечо Слоуна и повел его в холл, но приостановился и обернулся к детективу:
— Ваше лицо мне знакомо, мистер Планкетт. Вы уверены, что раньше мы не встречались?
Молья пожал плечами.
— Если только в «Ротари-клубе». Там много людей толчется. И еще боулинг. Вы увлекаетесь боулингом?
Джонс улыбнулся.
— Нет, боюсь, что нет. Возможно, вы просто напомнили мне кого-то из знакомых.
— Ну да, такое лицо, как у меня, нередко можно встретить, — сказал Молья.
— Простите, что я не смог пригласить и вашего друга тоже, — заговорил Джонс, когда они ждали лифта. — Это, конечно, можно было сделать, но пришлось бы несколько изменить план.
— Изменить план?
Лифт прибыл. Джонс пропустил Слоуна вперед и нажал кнопку вестибюля.
— Думаю, вы, Джон, убедитесь, насколько все мы здесь стараемся сделать так, чтобы расследование обстоятельств смерти Джо Браника было проведено скрупулезнейшим образом. — Он сделал паузу, словно собираясь произнести ударную фразу анекдота.
Двери лифта закрылись.
— Президент просил меня передать вам, что хочет побеседовать с вами лично.
55
Вклинившись в ряд за огромным, как танк, фургоном для перевозки спортивного снаряжения, Том Молья поднял трубку автомобильного телефона, по нынешним стандартам вполне допотопного, и, тыча в кнопки большим пальцем, набрал номер.
Со второго сигнала Марти Бенто снял трубку своего прямого телефона.
— Моль? Где ты? Франклин меня замучил — вынь да положь ему тебя! Говорит, что ты пошел в сортир бог весть когда и пропал. Он уж думал, ты в унитаз провалился. Мы здесь тянем спички, кому придется нырять туда за тобой.
— Как приятно, что все так обо мне заботятся. Имеешь соображения, зачем я ему вдруг так позарез нужен?
— Он хочет знать, куда ты запропастился, вот и все.
Когда Дж. Рэйберну Франклину надо было знать местонахождение Мольи, он обращался к Марти Бенто. Молья и Бенто покрывали друг друга. Франклину это было известно. Но все же он продолжал их пытать лишь затем, чтобы знали, что они у него на крючке.
— Ну а подробности?
— Ими он не делился, и я ухожу, так что мне недосуг больше выслушивать, как он зол на тебя.
— Когда ты уходишь?
— Сейчас. — В голосе Бенто прозвучали металлические нотки. — Я сейчас ухожу, Моль. И если раньше я еще не слишком торопился, то сейчас бегу без оглядки, потому что твой вопрос мне не нравится.
— Я просто спросил, Бенто.
— Чушь. Знаю я, куда ты клонишь. Ты опять с какой-то просьбой. Знаешь, Моль, единственный человек, допекающий меня больше Франклина, это Джинни. До конца лета мне надо побыть дома и уделить время детям. Джинни ужасно злится, что мы работаем по выходным.
— Сошлись на меня.
— Я так всегда и делаю.
— Неудивительно, что она меня недолюбливает.
— Ну, в данный момент она к тебе относится лучше, чем ко мне.
— Ты же знаешь, как это бывает, Бенто. Через десять минут после твоего прихода домой сын скажет, что собирается к другу поиграть в компьютерные игры, а дочка сядет на телефон. — Он сменил полосу. — Тем более что и просьба у меня небольшая.
— Знаю.
Молья решил, что услышанный им звук — это удар кулаком по столу.
— И тебя знаю как облупленного. Да что я, тебе в личные секретари нанимался, что ли?
— Мне надо от тебя только одно — чтобы ты проверил одного человека, — сказал Молья.
Бенто взял ручку. Он мог бы еще побрыкаться, но Молья все равно добьется своего. Как было всегда. Так уж лучше, не теряя времени даром, сделать что он просит.
— Давай. Выкладывай, — сухо сказал Бенто.
— Я твой должник!
— Вот как? Да я скорее в лотерею выиграю, чем ты отдашь мне свой долг!
— Фамилия Блер, имя Джон, пишется почему-то через два «н».
— Это тот парень, что звонил вчера?
— Тот самый.
— А в чем дело?
— Просто я провел с ним утро.
— Он ждал тебя в вестибюле, да?
— У тебя замечательные дедуктивные способности, Марти.
— Угу. А как твои дедуктивные способности? Слабо было самому все разузнать?
— Прости. Ладно. Слушай. У меня возникли подозрения. Этот парень сказал, что служил в морской пехоте. Будь добр, проверь списки личного состава — числился ли он там. Он также утверждает, что он адвокат из Бостона. Просмотри массачусетскую адвокатскую коллегию.
— А разве не бывает злостных нарушителей, практикующих вне коллегии?
Молья рассмеялся.
— Полно. Моя сестра — одна из них. И проверь документ Управления регистрации транспортных средств — не будет ли там фотографии. А еще прогляди чеки фирм, занимающихся прокатом. Не нападем ли мы там на его след. На бампере его машины на парковке я заметил билетик. Машина взята напрокат, но в фирме довольно мелкой. Проверь, не значится ли там клиент по фамилии Блер. Я перезвоню тебе через полчасика.
— С ума сойти, Моль, а больше ничего не нужно? Как насчет того, чтоб приготовить тебе сандвич или застегнуть ширинку, когда ты пописаешь?
— Против сандвича не возражал бы, — сказал Молья. — А что касается ширинки, это уж увольте.
56
Быстрым шагом в удушающей и влажной жаре они пересекли Пенсильвания-авеню. Слоун обливался потом, и сердце у него колотилось, как у приговоренного к смерти, шагающего к месту казни. В голове царила пустота. Он чувствовал себя так, будто его подхватило мощным потоком и, бессильного выплыть, влечет к неизбежному — к встрече с президентом Робертом Пиком. Пока, отдуваясь и пыхтя, как два паровоза, они покрывали пространство в пятьдесят ярдов между двумя зданиями, Риверс Джонс продолжал свой монолог, в котором расписывал на все лады обширные возможности Министерства юстиции. Слоун слышал лишь обрывки этого монолога, так как сосредоточенно вспоминал другой разговор — с Эйлин Блер. Блер сказала, что муж ее не любит политических сборищ, что он домосед. Значит ли это, что он не посещает этих сборищ или же не любит, но, так или иначе, бывает на них? Она сказала, что он не любит наведываться в Бостон, но, опять же, не наведывается или наведывается, но неохотно? Мало ли мужей, которые делают то или иное через силу. Эйлин Блер сказала, что ей случалось бывать в служебном кабинете брата, но о Белом доме она ничего не говорила. Надо думать, Джо Браник возил своих родных в Белый дом. Кто бы пренебрег такой возможностью? Браник был другом Пика со студенческих лет. Должно быть, Пик присутствовал у Браника и на семейных торжествах. Виделся ли он там с Джоном Блером? Вполне вероятно. Впрочем, Эйлин Блер — младшая в семье и между ней и братом не один год разницы. Может быть, ко времени появления Джона старший брат уже отделился от семьи. Господи, он не знает, что и думать, кроме того, что думать надо быстро.
Пройти через Западные ворота с Джонсом оказалось просто. Солдаты Особого отдела в формах проверили его на предмет оружия, но документов не потребовали — видимо, Джонс организовал все заранее. Он взял у охранника пропуск и вручил его Слоуну, и Слоун покорно прицепил пропуск к своей спортивной куртке, идя вслед за Джонсом к двери для посетителей в северной части Западного крыла. Фантастика. Перед ним Западное крыло. Он вступает в Белый дом. Поднявшись, как и Джонс, на четыре ступеньки, он очутился в портике, по бокам которого застыли два морских пехотинца. Тот, что стоял слева, сделал четкий шаг в сторону и распахнул дверь.
Джонс провел Слоуна по обшитому деревом длинному вестибюлю, украшенному портретом Пика и фотографиями, запечатлевшими встречи Пика с мировыми лидерами. Дальше была не слишком обширная приемная с американским флагом в каждом из углов и кожаными коричневыми диванами и такими же креслами вдоль стен. Слоун сел на диван, в то время как Джонс представился группе людей, работавших за конторкой. После этого он сел рядом со Слоуном, чтобы продолжить одностороннюю беседу.
В голове у Слоуна по-прежнему царила пустота, и времени заполнить эту пустоту у него не было. Не прошло и минуты после того как Джонс сел с ним рядом, как к ним приблизилась женщина средних лет в элегантном синем костюме с черной брошкой на отвороте — брошка эта напоминала огромного жука. Женщина склонилась к ним:
— Мистер Джонс, мистер Блер. Президент сейчас примет вас.
Она провела их через еще одну дверь и дальше по коридору. Там сновали люди — мужчины и женщины входили в кабинеты и выходили обратно в коридор. Женщина повернула направо и неожиданно остановилась. Прежде чем войти в дверь, она трижды деловито стукнула в нее, а войдя, придержала дверь, впуская и их.
Джонс вытянул вперед руку, повернувшись к Слоуну:
— После вас.
Слоуну хотелось бежать без оглядки. У него даже мелькнула мысль сделать вид, что ему плохо. Шансов забрызгать рвотой ботинки Джонса у него было достаточно. Но, покорившись неизбежному, он заставил себя войти.
Президент Роберт Пик сидел за огромным инкрустированным столом профилем к двери, зажав между плечом и ухом телефонную трубку. Судя по всему, он спешил закончить разговор. Перед ним была бронзовая статуэтка рыболова с радужной форелью на крючке; рыбий рот был полуоткрыт, голова вывернута. Несмотря на волнение, Слоун отметил про себя, что кабинет президента не так велик, как ему представлялось. Почти весь пол покрывал голубой ковер с выпуклой президентской печатью. Гостиный угол вмещал в себя два дивана, мраморный кофейный столик между ними и качалку. Слоун не мог не преисполниться почтения к истории, вершившейся здесь, и не вспомнить снимок из учебников: Джон и Роберт Кеннеди склонились друг к другу, лица их озабоченны и суровы — они запечатлены в кризисный момент выяснения отношений с русскими. Слоуну сейчас предстояло собственное выяснение отношений, и он решил не сдаваться без боя.
Профессия адвоката научила его принимать неизбежное. Во время судебных заседаний бывало так, что никакие слова или действия с его стороны не могли изменить участи его клиента. Они с ним могли быть правы, но признаны виновными. Их могли поддержать свидетели, а присяжные все равно выносили вердикт против них. Мысль эта, как ни странно, успокоила Слоуна. Если Роберт Пик знает Джона Блера, Слоун пропал. И сделать сейчас он ничего не в силах. Трепыхайся сколько хочешь, все равно ничего не изменится. Однако если Пик с Блером никогда не встречались, у Слоуна есть некоторый шанс. Просто судьба его совершила сейчас крутой поворот — неизвестно, к добру или к худу. Если ему требуется информация о Джо Бранике, то нет для этого места лучше.
Профессия адвоката научила его также хорошо различать реальность и видимость. Ведь это вещи совершенно разные. Для юриста, каким бы организованным и способным он ни был, невозможно быть всегда подготовленным. Хорошие юристы это сознают и делают все, чтобы выглядеть подготовленными. В судах существует определенная тактика выживания: отвечай только на прямой вопрос; если не знаешь ответа на прямой вопрос, переиначь вопрос так, чтобы он подходил к твоему ответу; старайся говорить общими словами, не вдаваясь в частности; выведай, насколько возможно, информацию, а выведав, будь за это благодарен — сядь и помалкивай; скажешь — помолчи. Чем меньше ты говоришь, тем меньше у тебя возможностей совершить ошибку.
Пик повесил трубку, секунду помолчал, словно мысленно переключался на другие рельсы, потом встал и обошел стол кругом. Походка у него была как у человека, страдающего неослабными болями в спине или коленях, как у спортсмена, расплачивающегося за былые спортивные подвиги. В отличие от Овального кабинета, сам Пик показался ему крупнее, чем на телеэкране, — ростом он был со Слоуна, но широкие плечи без труда несли вес куда как больший. Седоватый, без пиджака, с наполовину засученными рукавами рубашки, Пик был похож на главу строительной компании, вонзающего в грунт первую лопату на торжественной церемонии закладки фундамента. Он протянул руку Джонсу, и тот повернулся к Слоуну, чтобы представить его:
— Господин президент, разрешите вам представить Джона Блера.
Паркер Медсен повесил трубку. Звонки на мгновение прекратились, и он воспользовался этой краткой паузой, чтобы перевести дыхание. На своем веку он выдержал немало битв — всех не упомнишь, он закалил свое тело и дух нечеловеческой усталостью в знойных джунглях Вьетнама и Южной Америки, в бескрайних унылых песках Ближнего Востока, и когда заканчивалась очередная битва, он был не в силах заснуть, дать себе отдых. Взбудораженный адреналином мозг вновь и вновь прокручивал в памяти проделанную операцию, анализируя ее, рассекая на составные части, измысливая способы улучшить результат, сделать действия более эффективными. Ему нравилось, когда события происходили как было задумано, им задумано и организовано, когда каждый нес посильную ношу, выполняя приказ, не задаваясь вопросами и не испытывая колебаний. Наслаждение, которое это доставляло Медсену, превосходило даже сексуальное наслаждение, впрочем, наслаждение, которое получал Медсен в бою, было вообще ни с чем не сравнимо. Даже неуклонно повышаясь в звании, Медсен не оставлял своих людей — всегда шел с ними в бой, не отсиживался в блиндаже, уставясь в экран компьютера, когда его ребята рисковали жизнью на поле боя. Начинавший как солдат, Медсен остался солдатом. Видит Бог, он любил воевать.
Но теперь он чувствовал усталость. Альберто Кастаньеда, президент Мексики, нарушил его план. Сукин сын коварно отклонился от заранее намеченного, как это и свойственно мексиканцам. Что и объясняет, почему страна таких огромных размеров и с такими природными богатствами, страна, как выразился в свое время Генри Киссинджер, обладающая потенциалом, способным влиять на мировую политику, выполняет в ней роль статиста. Ее лидеры слишком неорганизованны, слишком безответственны. Потратить месяцы на секретные встречи, чтобы известие о переговорах не стало достоянием гласности — ведь меньше всего надо было раздражать ОПЕК или арабов, не заручившись пока альтернативой, — и что вдруг делает мексиканский президент? Появляется на пресс-конференции в Мехико и объявляет о достигнутой вчерне договоренности между Мексикой и Соединенными Штатами увеличить добычу нефти в Мексике и, соответственно, продажу ее Штатам. Теперь пресса требует подробностей.
После первого шока от ужасной оплошности Кастаньеды Западное крыло, перегруппировавшись, подняло мосты и затаилось. Медсен дал строжайшее указание пресс-секретарю Белого дома никоим образом не подтверждать заявления Кастаньеды и не давать официальных комментариев. Вначале надо было уточнить, что именно сказал и чего не сказал Кастаньеда. Попытки дозвониться до него успеха не имели. Но что сказал Кастаньеда, Медсен догадывался заранее. Главный переговорщик с мексиканской стороны Мигель Ибарон намекнул, что Мексика готова принять последнее предложение Штатов, ускорявшее встречу в верхах, хотя подтверждения еще не поступало. Но все было не так просто. Одно дело согласиться помочь Мексике увеличить добычу нефти, и совершенно другое — иметь возможность оказывать эту помощь на выгодных условиях. Это же не Ближний Восток, где нефть прет из каждой дырки, куда ни ткни. Медсен умолял об осторожности, но Роберт Пик, более всего озабоченный тем, что Кастаньеда выступил на первый план, и отчаянно нуждаясь в поддержании своего рейтинга и прояснении своей позиции насчет цен на нефть, еще и ухудшил дело тем, что запланировал вечером обратиться к народу, отчего журналистский котел закипел так, что вот-вот паром могло сорвать крышку.
Медсен потянулся, и в шее у него хрустнуло. Ноги его затекли, а ухо вздулось и покраснело от бесконечных телефонных переговоров — чиновники и политики звонили один за другим. Вот что он ненавидел в Вашингтоне — это необходимость согласовывать и пересогласовывать каждый шаг, а решив что-то, решать заново. Всем до всего дело. И каждый в своем праве вмешиваться. Неудивительно, что ничего не решается. Слишком много посредников, промежуточных инстанций, слишком многое приходится утрясать, чтобы довести до финала; каждый пустяк требует санкции президента, без него и задницу не подотрешь.
Но наступит и этому конец. Медсен покажет им, что такое настоящая власть, такая власть, какую Вашингтон еще не видывал. Решать будет он, и решения его будут выполняться.
Ожидая чернового варианта речи президента, Медсен взял со стола верхнюю газету из лежавшей там пачки. Стопка не рассыпалась. Он просмотрел заголовки и параграфы, отчеркнутые его помощником. После двадцати минут чтения он принялся за нижнюю газету — экземпляр «Бостон глоб». И моментально внимание его привлек заголовок над двумя колонками текста:
«Семья Браника хочет нанять частного следователя».
Он ухмыльнулся. Пускай. Пускай потратят деньги. Может быть, тогда успокоятся. Ни к чему их расследование не приведет, и они будут вынуждены взять назад свои слова насчет Министерства юстиции. Штатские и военные и к смерти относятся по-разному. Солдатам известно, что смерть всегда ходит рядом, они учитывают ее возможность. Люди живут и умирают. Одни умирают, служа своей стране, защищая ее основополагающие принципы. Другие умирают в преклонных летах. Но все же умирают. Умирают, потому что пришел их час. Солдаты воспринимают смерть как естественную часть природного цикла. Штатским это не дано. Они могут годами оплакивать своих умерших супругов, родителей, детей. Они сооружают святилища в память тех, кто почил раньше их, молят их о помощи, просят направить их на их жизненном пути. Когда умерла его Оливия, Медсен дал себе сорок восемь часов на то, чтобы привести себя в порядок, а потом двигаться дальше. Но он уложился в тридцать шесть.
Он прочел и заметку под заголовком «В Бостоне перед семейным гнездом Браников была проведена встреча с прессой». В заметке не сообщалось ничего интересного. Медсен хотел было уже отложить газету, но взгляд его переметнулся к фотографии, сопровождавшей текст. На фотографии он увидел женщину, стоящую перед микрофоном. Ее окружала группа людей. Что тебе клан Кеннеди! Подпись указывала, что женщина на фотографии — это Эйлин Блер. Немезида Риверса Джонса. Уяснив себе это, Медсен широко улыбнулся. Судя по его голосу, Джонс явно испытал облегчение, когда узнал, что Блер возвращается в Бостон, а разбирать кабинет Джо Браника пришлет вместо себя мужа. Медсен взглянул на часы. Вот сейчас, вероятно, Джон Блер беседует с Пиком. И все будет кончено. Семейство не станет больше раскапывать кладбище, которое он, Медсен, для них разбил.
Он опять взглянул на фотографию. Семейство окружило Блер, как сектанты окружают своего проповедника на сходке. Клан католиков-ирландцев встал как один на защиту своего члена, начиная с мужчины, стоящего непосредственно рядом с ней. Ее муж.
Джон Блер.
Пик окинул Слоуна скорбным взглядом серо-голубых глаз и одарил его улыбкой, ставшей столь знаменитой за время избирательной кампании и так эксплуатируемой потом политическими карикатуристами. В глазах его не было ни узнавания, ни смятения.
— Джон. Как я рад. Хотелось бы только, чтобы встреча наша происходила по другому поводу.
Слоун почувствовал, как с плеч у него скатилась немыслимая тяжесть — словно тысяча бандитов, навалившихся на него, вдруг оставили его в покое.
— Господин президент, — сказал он, пожимая руку Пику. — Спасибо за то, что приняли меня. Могу вообразить себе, насколько загружен ваш рабочий день. Надеюсь, что я не слишком отрываю вас.
— Зовите меня Робертом, пожалуйста, и не надо извинений. В конце концов, это была моя идея. Эйлин не смогла встретиться со мной. А я так давно ее не видел.
— Она будет очень сожалеть, — отвечал Слоун. Он покосился на Джонса. — Мы не знали...
— Понимаю. Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз, — сказал Пик. — Он бросил взгляд на Джонса. — Благодарю вас, Риверс.
Джонс повернулся к Слоуну и деловито пожал ему руку.
— У Западных ворот вас будет ожидать машина. Вас проводят. — Он протянул Слоуну визитку. — И не стесняйтесь звонить мне по любому поводу и в любое время.
Слоун взял визитку.
— Вы были очень любезны, мистер Джонс. Я весьма благодарен вам за знакомство и за ваши неустанные хлопоты. Я не премину передать это всем моим домашним.
Джонс просиял, как мальчишка, которого похвалили перед классом; сжав Слоуну плечо, он прошел в дверь, где его ожидала дама с брошкой. Дверь захлопнулась.
Пик повел Слоуна к одному из двух синих в бежевую полоску диванов. Сам он сел в качалку и минутку помолчал, наливая себе воду из стоявшего на мраморном столике графина.
— Мне надо выпивать не менее восьми стаканов в день из-за щитовидки, — сказал он. — На все эти процедуры уходит больше времени, чем на телефон. — Он предложил воды и Слоуну.
Слоун кивнул:
— Да, пожалуйста.
Стакан с водой ему поможет: будет чем занять руки — и даст возможность потянуть время, если это понадобится.
— Как Барбара? — как по заказу бросил реплику Пик.
Слоун взял стакан и пригубил его. Из газетных статей он знал, что жену Браника зовут Кэтрин. У Браника имелись две дочери. Но вряд ли Пик стал бы выделять одну из них. Путем исключения он пришел к выводу, что осведомляется президент о матери Браника, но рисковать он не мог.
— Как и следует ожидать. Очень переживает. Вот уж чего мы никак не могли предвидеть.
Грудь Пика неожиданно содрогнулась. Из заднего кармана он извлек платок и промокнул глаза, вдруг наполнившиеся слезами. Проявление чувств пришло неожиданно и неизвестно откуда. Слоуна оно застало врасплох.
— Простите. — Пик не сразу овладел собой. — Кроме Шерри, вы первый человек, с которым я говорю об этом с самого моего посещения Кэтрин, когда я передал ей горестную весть. Меня весть эта просто подкосила.
— Понимаю, — поддакнул Слоун. Несмотря на недавний всплеск эмоций, оценить глубину горя Роберта Пика он не мог. А когда пытался, это ускользало от него, подобно камешку, скачущему по воде.
— Мы с Джо знали друг друга сорок лет. И кажется, это было вчера — Джорджтаун и мы, молодые. В нас было столько честолюбия. — Он улыбнулся своим воспоминаниям, потом кашлянул. — Мы ведь говорили об этом, знаете? Говорили о том, что будем сидеть когда-нибудь в этом кабинете. И в первый раз, когда мы встретились здесь, мы выпили за наши мечты и за то, что они исполнились. — Пик тяжело вздохнул: — Не могу поверить, что его больше нет. Просыпаюсь утром с ощущением, что мне это привиделось в дурном сне. Но потом читаю какую-нибудь статью в газете или хочу задать ему вопрос на планерке, а его нет. — Он покачал головой. — Я так привык полагаться на него. Советоваться с ним.
Слоун молча кивал.
— Я и Кэтрин знаю почти столько же лет, что и Джо, — продолжал Пик. — Я ведь, знаете, был шафером у них на свадьбе.
— Да, — сказал Слоун.
— Самое трудное было сказать маленькому Джо, видеть его горе. Они были так близки. Я даже завидовал их отношениям. Господу известно, до чего я люблю своих дочек, но... когда Джо попросил меня быть его маленькому Джо крестным, я преисполнился гордости.
— Вы всегда были добрым другом, мистер президент. Я знаю, что и Джо так считал.
Пик покачал головой.
— Называйте меня Робертом, — опять повторил он. — А насчет «доброго друга» я совсем не так уверен. Был бы я действительно добрым другом, этого, быть может, не случилось бы.
Дверь в кабинет отворилась. Дама с убийственной брошкой внесла поднос с сандвичами и фруктами. Она поставила поднос на столик между ними.
— Риверс говорил, что у вас были планы относительно обеда. Я подумал, что, может быть, вы проголодались, — сказал Пик.
— Нет, я не голоден, но все равно — спасибо.
Последовала легкая пауза. Пик потер ладонью подбородок и, подавшись вперед, приступил к делу:
— Я хотел поговорить с вами начистоту, Джон. Боюсь, что расследование выявило кое-что весьма неприятное.
Слоун поставил на столик свой стакан с водой, положил ногу на ногу и сложил руки на коленях.
— Неприятное?
Пик встал, прошел к письменному столу, взял оттуда картонную папку и передал ее Слоуну; пока Слоун открывал папку и читал, Пик продолжал стоять.
— Это было обнаружено в портфеле.
Слоун вытащил исписанный от руки листок в пластиковой обложке. Доказательство. Письмо, в котором подробно рассказывалось о том, как любит Джо Браник жену и свою семью, как не хочет причинять им боль. Письмо было путаным — порою сердитым, порою неловким — речь шла о женщине. Слоун внимательно прочитал письмо, затем перечитал его вновь, стараясь запомнить его на случай, если придется говорить о нем с Эйлин Блер. Затем он положил листок обратно в папку. Видимо, ему полагалось изобразить шок. Он сделал, как подсказала ему интуиция.
— Не знаю, что и сказать, — произнес он после паузы.
Пик оттолкнулся от спинки своей качалки.
— Мне жаль, Джон, что неприятное известие сообщаю вам я, и в частности, поэтому я хотел встретиться с вами. Нехорошо было бы, если б вы узнали это от кого-то другого. Я приказал опечатать кабинет Джо и изъять многое из его личных бумаг.
— Так это было ваше решение?
— Я подозревал нечто в этом роде, — сказал Пик, указывая на письмо.
Слоун поднял на него глаза.
— Подозревали?
— Я знал, что у Джо роман, Джон.
Пик опять сел в качалку; он наклонился вперед, опершись локтями о подлокотники, сложив руки.
— Он продолжался некоторое время. Джо его не афишировал, но я солгу, если скажу, что ничего не знал. Кэтрин, как вам известно, не любила Вашингтон и здешнюю общественную жизнь. Джо обычно появлялся всюду один. Однажды между нами зашел об этом разговор. Джо сказал, что меня это не касается, а я слишком его уважал. Он был моим другом, но не сыном же. Какое право я имел его судить?
Слоун не сводил глаз с лица Пика, но прочитать что-то в его взгляде не мог. Несмотря на всю серьезность момента и слезы, которые пролил Пик в его присутствии, Слоун не ощущал в нем ни внутреннего смятения, ни беспокойства. Глядя на Пика, он вспоминал Дэна Разера на передаче новостей Си-би-эс: невозмутимость и отсутствие эмоций.
— Я буду откровенен. Когда все началось, меня больше заботило, как это отразится на моей администрации. Я боялся скандала. — Пик покачал головой. — Я был близорук.
Это явилось непредвиденным поворотом — как выступление на суде неожиданного свидетеля. Хорошо подготовиться, чтобы достойно парировать, было невозможно. Значит, главная задача — выудить как можно больше информации, ничем не выдавая паники.
— Кто эта женщина? — спросил Слоун.
— Она из Мак-Лина, — сказал Пик. — Никто из нас не застрахован от несбыточных желаний. Могу только представить, какую боль и разочарование почувствовал Джо, когда понял свою ошибку, не говоря уже об угрызениях совести.
— С ней кто-нибудь говорил?
Пик покачал головой, лицо его было сурово.
— Пока нет. — Он провел рукой по затылку. — Случай деликатный, Джон. Если Министерство юстиции начнет донимать ее, она может взять адвоката, и тогда поднимется страшный шум. Я не о своей шкуре теперь хлопочу. С этим покончено, я и без того на себя зол. Я забочусь о вашей семье, о семье Джо. Не хочу, чтобы пресса пинала его, как футбольный мяч, ведь Кэтрин и детям и так досталось с лихвой. Пусть помнят своего мужа и отца таким, каким они его знали — достойным любви и уважения. — Он в задумчивости откинулся на спинку качалки. — Последние день-два мне часто вспоминается Джон Ф. Кеннеди-младший и снимок, растиражированный тысячами газет, — мальчик тянется рукой под флаг, чтобы коснуться гроба отца. И я думаю о том, что ему пришлось пережить потом, за тридцать последующих лет. Неужели мало было, что он потерял отца? — И Пик достал платок, чтобы вытереть непрошеные слезы в уголках глаз.
В голове Слоуна роились вопросы, но он чувствовал, что и так переходит границу дозволенного, что ему пора сматывать удочки, элегантно раскланяться, прежде чем он совершит какой-нибудь промах. Он чувствовал это интуитивно, это подсказывал ему опыт. И все же он замечал, что продолжает давить, потому что в ушах его все еще звучал голос Эйлин Блер, призывавший его не верить:
«Но прежде чем вы начнете свой рассказ и станете тратить мое и свое время, разрешите мне сказать вам: мой брат не убивал себя, Дэвид».
И Слоун поверил ей.
— Могу я спросить, откуда вы все это узнали? Если пока еще никто с этой женщиной не беседовал, то откуда тогда информация?
Пик высморкался и вытер платком верхнюю губу, после чего опять выпил воды.
— Джо позвонил мне накануне вечером. Мы проговорили с ним около получаса в моих личных апартаментах. Уделить ему больше времени я не мог: должен был присутствовать на официальном обеде. — Пик вновь наполнил стакан и выпил воды. — Я предложил ему остаться у меня, но... Он был взволнован, нервничал... Был сам не свой... И все-таки я и подумать не мог... Не такой он человек, чтобы... — Голос Пика задрожал. Спустя секунду он овладел собой и продолжил: — Я хотел, чтобы он выпил кофе, собрался с мыслями, переночевал в Белом доме. Но он — ни в какую.
— Он сказал вам, где находится?
Пик поднял глаза так, словно заданный вопрос был неуместен.
— Где находится?
— Семья в недоумении. Мы не понимаем, почему со службы в тот день он ушел в три тридцать и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.
Движением головы Пик указал на папку. Слоун открыл ее. Внутри был перечень каких-то цифр, по виду телефонных номеров.
— Джо звонил мне по мобильнику из бара в Джорджтауне. Вот звонки, которые он сделал в тот день. — Открыв папку, Слоун стал изучать запись. Он заметил номер, часто повторявшийся — похоже, той женщины. Пик откашлялся, видимо, опять борясь со слезами. Он указал на страницы в папке: — Министерство юстиции запросило эту запись. Если они ее получат и начнут раскручивать это дело, журналисты пронюхают, а они уж своего не упустят.
Слоун вложил странички обратно в папку. Он понимал, что логичным было бы обсудить вопрос телефонных разговоров Браника, но интересовало его сейчас другое.
— Куда же он отправился? Расставаясь с вами, он не сказал, куда собирается ехать?
Пик поднял обе руки.
— Сказал, что поедет домой уладить какие-то дела. А куда он поехал — не знаю. Думаю, он отправился в Мак-Лин. Если б я знал, что у него есть оружие... Джо никогда не носил с собой оружия, никогда — за все годы, что я его знал. — Пик потер затылок и покрутил шеей. — Мне жаль, Джон, что пришлось сообщить вам такое, искренне жаль.
— Не сомневаюсь, что вам было нелегко. Я очень ценю вашу откровенность. Я и вся наша семья ее ценят. Многое становится ясным... снимается множество вопросов. — Однако вопросы оставались.
Внутренний голос Слоуна взывал к нему, моля его уйти, но он все гнул свою линию:
— Так что же теперь будет?
— Министерство юстиции соберет сегодня к вечеру пресс-конференцию. Мне нужно было только согласие семьи, — сказал Пик.
— Согласие?
Пик взял со стола еще один документ и передал его Слоуну. Это был проект заявления для прессы; текст был вполне обтекаемым. Результаты вскрытия были подвергнуты санитарной обработке, точно такой же, какой подвергся кабинет Браника. Министерство юстиции собиралось дать заключение, что Джо Браник собственноручно лишил себя жизни:
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что следы пороха на руке и виске покойного доказывают факт самоубийства.
— Таков конечный вывод, — сказал Пик. — Остальное... м-м... несущественно. — Он наклонился вперед: — Министерство юстиции сообщит о том, что доказательств чьего бы то ни было злого умысла не обнаружено. Упоминания о наличии алкоголя в крови и прочих фактов, не имеющих отношения к непосредственной причине смерти, не будет. Заключение ограничится главным — соответствием пороховых ожогов оружию, из которого было произведено самоубийство. После этого заявления министерство прекратит расследование и закроет дело.
Слоун положил текст заявления в папку, присоединив его к другим документам. Вот и все — гладко, чисто, как кабинет Джо Браника. Афишировать полученные сведения семейству не захочется, им ничего не останется, как тихо ретироваться, а Министерство юстиции поможет им в этом.
Тому Молье на стол вскоре ляжет очередной тухлый завтрак.
И даже если все, что сообщил сейчас Слоуну Роберт Пик, — хитро сфабрикованная ложь, назначение которой заставить семейство перестать лезть с собственным расследованием в обстоятельства смерти Джо Браника, у Слоуна нет возможности это опровергнуть. Заключение экспертизы ограничится непосредственным установлением причины смерти, кабинет вычищен, записка из дела будет устранена. Единственный свидетель — девушка по вызову, которой нет особого доверия, но которая владеет целым арсеналом бомб, чей взрыв способен вырвать множество видных деятелей из их уютного кокона безопасности — при условии, что Слоун найдет эту девушку. Но пока что он даже не знал ее фамилии, Пик не назвал ее, а он не спросил об этом, дабы не вызвать подозрения. Однако...
Записанные телефоны!
Он взглянул на папку. Там ее телефон.
Дверь кабинета отворилась. Пик повернулся лицом к вошедшей женщине в синем костюме с брошью.
— Простите, господин президент. У вас начинается заседание.
Пик взглянул на часы, встал и повел женщину к двери.
— Пожалуйста, скажите им, что я уже иду.
Слоун открыл папку и быстро вытащил оттуда листок с телефонами. Сможет ли он запомнить? Обычно ему это удавалось, но в данном случае надеяться на память и рисковать он не мог. Продолжая одним глазом следить за Пиком, он быстро сложил листок и украдкой сунул его во внутренний карман. Листок оттягивал карман, словно был свинцовым.
Пик повернулся к нему.
— Простите, Джон...
Слоун как ни в чем не бывало вынул руку из кармана, встал.
— Я понимаю. Вы и так потратили на меня уйму времени, благодарю вас.
И он вручил ему папку.
Из папки торчал уголок листка.
Пик открыл ее.
Сердце у Слоуна екнуло. Он протянул руку.
— Спасибо, господин президент. Спасибо вам за все.
Пик выровнял странички и, как показалось, окинул их беглым взглядом, потом закрыл папку и положил ее на письменный стол. Он проводил Слоуна к двери, пожал ему руку.
— Я займусь организацией похорон, — сказал он.
— Наша семья будет вам очень благодарна, — произнес Слоун.
Внутренний голос панически кричал ему: Не высовывайся! Заткнись! Хватит вопросов!
Но у него имелся шанс, возможно последний. И он не мог себе позволить упустить этот шанс.
Не надо! Уходи! Пора уходить!
— Да, чуть не забыл... Мы пытаемся связаться кое с кем, с друзьями и коллегами Джо. Разбираем его вещи, хотим разыскать возможно большее число его знакомых.
— Чем могу вам помочь?
— Мы разыскиваем его товарищей по работе. К примеру, Кэтрин вспомнила об одном его знакомом, чернокожем, с которым он некогда работал.
Глаза Пика блеснули, в непроницаемой маске, которую он сохранял на протяжении всей беседы, обнаружилась едва заметная щель. Он чуть-чуть помедлил.
— Чернокожий... простите...
— Внешность очень запоминающаяся. Кэтрин помнит его прекрасно, а фамилию забыла. Она говорит, что работали они вместе с Джо очень давно, но в последнее время тоже общались.
Пик вытер ладонью рот, но что означал этот жест, было трудно сказать — не то забрезжившее воспоминание, не то озабоченность.
— Общались? И на какой предмет — не знаете?
— Нет. — Он кое-что подозревал и хотел разыграть эту карту. — Знаю только, что Кэтрин сказала, будто они работали на вас, что есть вещи, которые нам знать не полагается, но...
Пик кивнул.
— Правильно... По-моему, я догадался, кого имела в виду Кэтрин, хотя прошло столько времени... тридцать лет...
— Вы знали этого человека?
— Если речь идет о нем. Чарльз Дженкинс.
Есть! Фамилия у Слоуна в кармане!
— Чарльз Дженкинс, — повторил он.
— Да, но боюсь, что Кэтрин ошиблась, Джон.
— Ошиблась?
— Что они общались.
— Правда? Почему вы так думаете? — спросил Слоун, сразу же почувствовав разочарование.
— Потому что Чарльз Дженкинс действительно работал на меня. Это было в начале семидесятых, в Мехико. Но вскоре после того, как он начал на меня работать, мы стали замечать в нем некоторые особенности, странности поведения...
— Странности поведения?
— Чарльз Дженкинс был ветераном войны во Вьетнаме, Джон... словом, стали происходить вещи, весьма для нас огорчительные. По-видимому, пережитое на войне сильно на нем отразилось. Появились галлюцинации, он не всегда умел отличить реальность от воспоминаний времен войны. Он очень страдал от этого.
— Понимаю. А вы знаете, что стало с ним потом?
— В конце концов он вынужден был оставить агентство.
— И куда он делся?
— Точно не знаю. Но несколько лет назад пронесся слух, что он умер. Странно, если б Джо этого не знал и не сообщил об этом Кэтрин.
— Ну, так или иначе, спасибо вам, — сказал Слоун.
Он уже повернулся, чтобы уйти, когда дверь внезапно распахнулась и чуть не пришибла его. В кабинет вошел глава администрации Белого дома. Паркер Медсен.
57
Том Молья подтвердил свое прибытие в шесть ровно, заверив Мэгги, что не опоздает, и нацарапал себе на ладони памятку насчет литра молока.
— Молоко, ладно...
— И батон хлеба.
— Батон хлеба,—повторил он и написал: «хлеб». — Есть. Ну, пока...
— И тебе, как обычно, может не хватить картошки.
— Помидоров.
— Картошки.
Он исправил «п» на «к».
— Картошки. Так...
— И еще сменить машину!
— Сменить...
— Привет, — сказала Мэгги, первой повесив трубку, как делала всегда, когда чувствовала, что это собирается сделать он.
Молья повесил трубку и тут же набрал номер Марти Бенто.
— Наконец-то просрался!
— Красиво выражаешься, Бенто. Ты и со своими детьми так разговариваешь?
— Чем ты занимаешься? Глядишь «Клан Сопрано» по телевизору, пока я тут полчаса твоего звонка дожидаюсь?
— Не надо лезть в бутылку, через две минуты тебя здесь не будет.
— Я не спешу.
Молья засмеялся.
— Прикинем. Мэтью ушел к приятелю, а Эмили с Джинни — за покупками.
— Черт подери! — Бенто подхватил игру. — Ты переговорил с Мэгги. Мэтью — у вас, а Джинни позвонила Мэгги и пригласила ее присоединиться к ним.
— Ты гений, Бенто. Я как раз собирался обсудить с тобой, почему Джинни не носит лифчика.
— Охотно обсудил бы. Но на этот раз речь идет о соответствующей покупке для Эмили.
— Эмили? Но она же еще ребенок.
— Ей тринадцать, Моль.
— Вот черт! Почему так летит время, Бенто?
— Вот уж не знаю, Моль. И времени размышлять над этим у меня нет. Слишком занят, подтирая твою задницу.
— Как там Франклин?
— Воскрешает мертвых. Вот Лазарь прошел сейчас мимо моего рабочего места.
— Как он выглядит?
— Лучше, чем ты будешь выглядеть, если не отзвонишь ему и не постараешься его утихомирить.
— Перебьется. В глубине души он меня любит.
— Ну хоть кто-то тебя любит.
— Мэгги готовит жаркое. Подскочи к ужину. Помнится, по телевизору сегодня бейсбол — играют балтиморские «Иволги». Можешь провести приятный вечер в кругу семьи.
Бенто засмеялся.
— Вот стервец!
— Ужин ровно в шесть. И не опаздывай. Ты же знаешь Мэгги. Никакая адская фурия ей в подметки не годится, если ей взбредет в голову, что жаркое пережарилось. Ну, так что ты выяснил для меня?
— В Военном архиве числится некто Джон Блер.
— Серьезно? Значит, не такой уж я гений.
— Только этот Джон Блер писался как положено, с одним «н», и погиб в Первую мировую.
— Должно быть, не тот, — сказал Молья.
— Если только Франклин не воскресил и его тоже, но я так не думаю.
— Больше ничего у тебя нет?
— А разве такое со мной бывает? В Адвокатской коллегии Массачусетса залицензирована фамилия «Блер», только это Эйлин Блер, супруга которой зовут Джоннатан, с двумя «н».
— Есть!
— Но он не адвокат и не практикует.
— Нет?
— Нет. Так что карточку его я выудил в Массчусетском управлении регистрации транспортных средств. Он похож, до ужаса похож на того парня, что сидел утром в вестибюле, насколько я смог разглядеть его за жирной тушей Плеши, но должен сказать, что это не он. Мы не «в подковки» с тобой играем, нет?
— Нет.
— Так что вот так, а договор об аренде в бардачке его машины, стоящей на парковке, свидетельствует, что машину взял Дэвид Слоун.
— Ты влез в его машину?
— Слушай, я спешу. Кроме того, машина взята напрокат. Какая неприятность может его постигнуть? Самое большее, лишится задатка. Судя по тому, что расплатился он наличными, я думаю, он может себе это позволить.
— Кто же платит наличными за аренду?
— Тот, кто не хочет пользоваться кредиткой. А дальше еще интереснее, Моль. У этого парня есть кольт-45 с запасом патронов — что тебе профессиональный взломщик, специализирующийся на ограблении банков. Я проверил. Оружия, зарегистрированного на Дэвида Слоуна, не существует.
— Так это же криминал?
— Не существует в округе Колумбия, как не существует и в Калифорнии. Проверка на федеральном уровне займет некоторое время, но мой дружок в ФБР пообещал, что...
— В Калифорнии? Почему ты ринулся искать его в Калифорнии?
— Потому что порыскал в документах Управления регистрации транспортных средств, и этот Слоун проживает в Пасифике. Это где-то на побережье возле Сан-Франциско. Словом, он из ваших калифорнийских непроходимых кретинов, Моль.
— Беру обратно все ругательства, которыми честил тебя, Бенто.
— Их и вполовину не так много, как тех, которыми честил тебя я.
— Ну, в шесть увидимся. И не забудь защелкнуть замочек на купленном лифчике. Найдутся парни такие же бойкие, какими были когда-то мы с тобой.
— Я спокоен. Мы с Эмили договорились — никаких свиданий до свадьбы.
58
Паркер Медсен шагнул в Овальный кабинет со сложенной газетой под мышкой.
— Господин президент, простите, что прерываю вас... — Хотя он обращался к Пику, взглядом он окинул Слоуна, и тот мгновенно почувствовал, что дело плохо.
— Я знаю, Паркер. Я иду.
— Сэр...
— Мы уже заканчиваем, Паркер. Джон, это Паркер Медсен, глава администрации Белого дома...
Слоун пожал руку Медсена, ощутив такую волну энергии, словно ткнул вилку в розетку. Ему захотелось отдернуть руку. Лампочка зажглась, и следом послышался громовой раскат. Слоун постарался удержаться и не скатиться в разверзшуюся перед ним темную пропасть, куда толкал его этот человек. Он старался не потупиться, глядя Медсену прямо в глаза — неподвижные кружки, без зрачков и радужной оболочки.
Пик распахнул дверь.
Слоун отдернул руку. Падение откладывалось.
Он ступил в холл, стараясь больше не глядеть на Медсена. Женщина терпеливо ждала.
— Шейла, проследите, пожалуйста, чтобы мистера Блера проводили к служебной машине и отвезли, куда ему требуется.
— Господин президент... — опять вклинился Медсен.
— Я уже иду, Паркер.
Пик сжал руку Слоуна.
— Остается только пожелать увидеться с вами при обстоятельствах более благоприятных, Джон.
— Ну, может быть, и представится случай. — У Слоуна слегка кружилась голова, его подташнивало. Побуждаемый какой-то невидимой силой, настоятельной потребностью, он опять взглянул на Медсена. И опять сверкнул свет, на этот раз осветивший одну лишь тьму. Слоун высвободился, криво улыбнулся и проследовал за женщиной, чувствуя себя так, будто пояс его обвила веревка и в любую минуту его могут потянуть назад. Он миновал зал Рузвельта, сейчас заполненный людьми, и вслед за женщиной вышел из здания. Они пересекли асфальтовую площадку, направляясь к Западным воротам. С каждым шагом веревка обхватывала его все туже, но он ухитрялся идти непринужденной походкой, поспевая за цокающими каблучками женщины. У ворот он поблагодарил ее. Уже пройдя через них, и никак не раньше, поглядел через плечо.
Никто не шел за ним.
Пик вернулся в кабинет и закрыл дверь. Небрежной походкой он подошел к стоявшему на столе подносу с сандвичами и взял себе один с салатом и цыпленком.
Медсен развернул газету и приблизился к нему.
— Господин президент.
Пик поднял руку, как бы отстраняясь от него, и, обойдя стол, направился к французскому окну, выходившему в Розовый сад. Стоя около окна, он ел сандвич, словно поглощенный созерцанием пейзажа. Проглотив очередной кусок, он заговорил:
— Вы, должно быть, желаете объяснить мне, — сказал он, — каким образом можно проникнуть через надежнейшую в мире охрану и попасть в Овальный кабинет президента США, не так ли? — Пик повернулся к Медсену. — Я знаю, что это был не Джон Блер, по крайней мере подозреваю. Он немного моложе, чем должен быть муж Эйлин, и вряд ли ему или Эйлин что-либо известно о Чарльзе Дженкинсе. Так что единственное, что меня интересует, генерал, — это узнать, кто он и как, черт подери, он сюда пролез.
— Я теряюсь в догадках, господин президент.
— Лучше вам прекратить теряться и выяснить все об этом человеке. Я желаю знать его фамилию, как он познакомился с Джо, какое отношение он имеет к этой истории и зачем ему понадобился Чарльз Дженкинс. Я желаю знать его местопребывание, с кем он успел пообщаться и как получилось, что он выдал себя за Джо Блера. Я желаю знать всю его подноготную, что он ест, сколько спит, в какое время привык мочиться, черт возьми.
Медсен кивнул.
— Я возьму это под контроль.
— Серьезно? Потому что я начинаю сомневаться в вашей способности брать что-либо под контроль. Вы обещали, что все дело будет спущено на тормозах и прикрыто. Это были ваши собственные слова, разве не так?
— Дело в наших руках и движется, господин президент. Расследование близится к завершению. Все сомнительное отсекается.
— Разрешите возразить вам, генерал: нечто весьма и весьма сомнительное только что вышло из моего кабинета. Позаботьтесь, чтоб отсекли и это тоже!
Пик перевел дух, бросил в мусорную урну недоеденный сандвич и распахнул дверь.
— И еще, Паркер...
Медсен тем временем двинулся к другой двери. Он остановился и повернул голову.
— Сэр?
— Этот человек заявил, что Джо недавно общался с Чарльзом Дженкинсом. Я только что заверил его, что Чарльз Дженкинс умер. Вы не собираетесь сделать из меня лжеца или выставить идиотом, не правда ли?
59
Слоун вылез из черного линкольна-лимузина и пошел по парковочной площадке к зданию Чарльзтаунского полицейского отделения. Послеполуденный африканский зной курился дымкой над асфальтом. Было так жарко, что легкие саднило от каждого вздоха. Куртку, в кармане которой лежал листок со списком телефонных номеров, он накинул на плечи. Мигрень еще не одолевала его, но чувствовал он себя как после приступа. Руки и ноги дрожали, его подташнивало. Встреча с Паркером Медсеном далась ему тяжело, как никакая другая. Правая рука до сих пор горела, и он не мог избавиться от воспоминания о неподвижных кружках глаз, уставившихся на него. От них веяло жутью и неизбывной злобой.
Слоуну предстояло войти в здание полиции, чтобы разыграть свою роль перед детективом Томом Мольей. Оба они выдавали себя не за тех, кем были на самом деле, но Слоун симпатизировал Тому Молье. Детективу было велено прикрыть дело и отойти в сторону, так почему бы не послушаться, черт возьми? Браника Том Молья знать не знал и все же, вопреки приказу начальства, продолжает расследование, которое, кроме неприятностей, возможно, ничего ему не сулит. Строго говоря, он целает вещь недозволенную, чем единственно и можно объяснить, что отрекомендовался он Риверсу Джонсу под вымышленной фамилией.
Ну, а если Слоун ошибается, то что грозит ему лично?
Роберт Пик либо солгал, либо действительно не знает, что Чарльз Дженкинс жив. Потому что злезть в кабинет доктора Бренды Найт и стащить там записи относительно Слоуна мог если не Дженкинс, то пришелец из потустороннего мира. Слоун понятия не имеет, на чьей стороне выступает Дженкинс. С тем же успехом он может быть убийцей Джо Браника, вознамерившимся сейчас убить Слоуна, хотя Слоун так и не думает. Ясно одно — выбора у Слоуна нет. Ему надо отыскать Дженкинса, не то сам Дженкинс его отыщет, а Слоун предпочел бы первое, особенно теперь, заручившись помощью полиции.
Он оглядел парковку, но ни малейших признаков зеленого «шевроле» не обнаружил. Он остановится в другом отеле и оттуда позвонит детективу. Подойдя к взятой напрокат машине, он отпер дверцу, открыл ее и наклонился внутрь, но тут же испуганно отпрянул, покачнулся и чуть не упал.
— Я же предупреждал вас, Джон. В это время суток машину надо сначала проветрить, не то задницу обжечь можно.
На месте рядом с водительским сидел Том Молья с кольтом-45 на коленях. По воротнику его рубашки и манжетам на закатанных выше локтя рукавах расползались серые пятна пота. Казалось, что он брошен в сауну прямо в одежде.
— Что это вы тут делаете, черт побери?
— Дожидаюсь беседы с вами, — невесело ответил Молья. — Сам придумал этот план, чтобы не дать вам уехать, не пообщавшись со мной за чашкой кофе. Подозреваю, что за последние двадцать минут я сбросил фунтов пять. Волосы на себе рву — надо же было соображать, что делаю. Вы всегда путешествуете с пистолетом и полным боевым комплектом, а, Джон? — Молья кинул на него взгляд, как бы говоривший: «Шутки в сторону». — Иметь и прятать у себя оружие без специального разрешения противозаконно, и не думаю, что вы собирались мне его предъявить. Как противозаконно заниматься и адвокатской практикой без лицензии, по крайней мере здесь, в Массачусетсе, хотя эту проблему мы можем и опустить, так как вы житель Калифорнии. — Он протянул ему водительское удостоверение Джона Блера с фотографией: — Неплохо! Чертовское сходство, но мы не в «подковки» играем, так что сходство вроде и ни к чему.
— Чего вы хотите?
— Хочу убраться к чертовой матери из этого пекла еще до звонка, вот чего я хочу! Я просто таю на солнце!
60
Ленхем, Мэриленд
Таксист сбросил его перед затейливой резной решеткой ворот. Вытащив из кармана записку, Чарльз Дженкинс набрал нужные цифры кода и услышал вой механизма и грохот одновременно раздвигающихся створок; он очутился за каменной оградой. Дженкинс пошел по подъездной аллее мимо поросшей густой зеленой травой лужайки и небольшого яблоневого сада, и путь этот показался ему длиннее, чем запомнилось. В траве валялись переспелые брэберны, а аллея вела к выстроенному в испанском средиземноморском стиле дому под рыжей шиферной крышей. Стены были овиты плетьми голубой и лиловой бугенвиллеи — ее тоже раньше не было. Ветви плакучей ивы развевались, как подхваченные ветром девичьи косы. Ветер все усиливался, и Дженкинс почувствовал приближение грозы, хотя грозы здесь и отличались от гроз на Камано, где небо затягивалось серой погребальной пеленой, а дождь сопровождался густым туманом. На восточном побережье грозы были иными — мощными и надвигались стремительно. На еще ясное небо с горизонта наползала тьма, разражалась гроза и тут же уходила.
В его кармане зазвонил сотовый.
— Где ты находишься? — спросил он.
— Все еще стою в пробке, — сказала Алекс. — Уже двадцать пять минут торчу здесь. Гроза придет — будет совсем невесело. А она уже приближается.
— Да, вижу.
— Ты в ворота легко прошел?
— С фасада, как мы и договорились. Все еще похоже на испанскую крепость, — сказал он, подходя по кирпичной дорожке к входной двери — неструганому куску дерева с медными кольцами и широкими квадратными засовами. Тут он набрал второй код. — Чересчур надежно забаррикадировано для университетского профессора.
— Ты же знал отца. Он был предусмотрителен и не считался с расходами.
— Ты собираешься здесь жить? — спросил он.
Вдали погромыхивал гром.
— На государственном-то жалованье? Я не смогла бы платить налогов.
— Рад слышать, что государство не изменилось в отношении оплаты труда своих служащих.
— А кроме того, дом для меня слишком велик. В нем и заблудиться можно.
— Так что же будет? Хочешь его продать?
— А ты бы купил?
Он открыл дверь и очутился в прихожей, сводчатый потолок которой перекрывали толстые деревянные балки; прихожая вела на лестничную площадку, на испанский манер выложенную кафелем; площадку и верхний этаж соединяла лестница; единственное, что изменилось, — это запах: теперь пахло затхлостью, а ему запомнился чудесный пряный аромат специй.
— Учитывая обстоятельства, я буду торговаться. Назови свою цену.
— Миллион долларов наличными.
— Миллион за такой дом — это дешево.
— В теперешнем его состоянии — не дешево. Должно быть, он в запустении. После папиной смерти я отключила все удобства. Сейчас там нет ни электричества, ни отопления.
— Я уже начинаю чувствовать себя как дома.
Спустившись на несколько ступенек, Дженкинс очутился в устланной ковром гостиной. Портфель с папкой он оставил возле лестницы. Всю северную стену от пола до потолка занимал вытесанный из скальной породы камин.
— О нашем друге есть известия?
— Нет, но насчет татуированного я узнала такое, отчего у тебя волосы на голове встанут дыбом.
Дженкинс услышал, как где-то по соседству залаяла собака, и от этого лая ему стало грустно.
— Покойник, которого детектив Гордон держит в холодильнике сан-францисского морга, зовется Эндрю Фик. В Военном архиве сохранилось свидетельство, что он был с позором изгнан из рядов диверсионно-разведывательной службы за то, что грабил убитых вьетконговцев, но в его официальном послужном списке это обстоятельство отсутствует.
Пройдя к раздвижным стеклянным дверям, Дженкинс отпер замок и вышел на огражденную железной решеткой веранду. Веранда была над обрывом, ведшим в поросшее кустарником ущелье.
Такие же веранды находились симметрично на верхнем и нижнем этажах.
— Дай-ка погадаю. В официальном послужном списке он значится обычным рядовым, киснувшим во вьетнамских джунглях.
— Угадал.
— Ну а чем он занимался на самом деле?
— Участвовал в секретных операциях, перебрасывался в Камбоджу и Лаос.
— В специальных подразделениях?
— Вряд ли.
— Не был с почетом демобилизован, — сказал Дженкинс.
— Наверняка не был, но точно сказать не могу. Дело его на этом обрывается. Я обратилась к одному своему приятелю из Пентагона, у которого имеется допуск самого высшего разряда. Он перезвонил мне из автомата, потребовал сказать, зачем я влезла в такое дерьмо и тащу туда и его.
— Звучит многообещающе. Так он что-нибудь узнал?
— Он говорил, что татуированный, судя по всему, входил в подразделение, известное во Вьетнаме как «Когти», хотя, как он меня уверил, никаких официальных бумаг, которые могли бы подтвердить существование таких подразделений и то, что он входил в одно из них, я не найду.
Дженкинсу и не надо было подтверждать существование таких отрядов. Он наблюдал их собственными глазами. Действовали они так тайно и скрытно, что у солдат не было ни документов, ни даже солдатских жетонов. На формах их не было ни имен, ни нашивок, ни знаков отличия, ни даже личного знака, даже бирок с обозначением производителя одежды и то не было. Им не давали ни сигарет, ни жевательной резинки, питаться они должны были только местными продуктами, и даже чужеземный запах не должен был их выдавать — узнать в них американских солдат было невозможно. Они воевали анонимно и так же анонимно умирали. Если они погибали за границей и товарищи не могли переправить тело, командование его не затребовало. Дженкинсу запомнилось утро, когда они вошли в сожженную дотла деревню. Все мужчины в ней были убиты выстрелами в голову, как при казни; некоторых же застрелили на бегу — они лежали в позе вспугнутого оленя. Тела расстрелянных валялись на разном расстоянии от деревни — явное доказательство, что убийцы, кто бы они ни были, забавлялись тем, что давали жертвам возможность уйти и только потом их приканчивали. В зарослях они находили тела изнасилованных женщин с перерезанным горлом. Даже собаки и свиньи подверглись экзекуции.
Это были нелюди. Их можно было назвать зверями, но Дженкинс никогда не оскорбил бы зверей подобным сравнением. Звери не убивают ради забавы. На такое падение способны одни только люди. Эти солдаты не имели ни чести, ни совести, у них не было командира, который научил бы их отличать добро от зла. И страшнее всего то, что все они были прекрасно подготовлены.
— Их больше не существует, — сказала Алекс. — Их как бы не было и не будет.
— Как и Фронта освобождения Мексики, — сказал Дженкинс.
61
«Закусочная Мерль» представляла собой типичное кафе в маленьком городишке: имя владельца и адрес написаны по трафарету белыми буквами на коричневом навесе и стекле витрины. Внутри с полдесятка посетителей, расположившихся на табуретах у стойки в форме подковы, окаймлявшей гриль под колпаком вытяжки. Две средних лет женщины в форменных платьях по-семейному заботливо обслуживали их. Еще с полдюжины клиентов сидели на диванах возле окон, пили кофе и болтали, самозабвенно увлеченные беседой. Но так было, пока в закусочную не вошел Молья. Увидев его, они вскочили, приветствуя детектива, как если бы тот был старшим по званию.
— Часто бываете здесь? — спросил Слоун, проскальзывая за дальний столик.
Молья улыбнулся.
— Не говорил я вам, что здесь будет прохладно и хорошо? — Сев за столик, он обмахнулся полой рубашки. — Так-то лучше, правда?
Одна из женщин, хлопотавшая возле гриля, немолодая, с густой копной темных волос, забранных от лица заколками, которые, казалось, вот-вот раскроются, не выдержав обилия волос, подошла к Молье из-за спины и сжала его плечо.
— Что принести тебе, дорогой?
— Только чаю, милая. — Он представил ее Слоуну. — Это Мерль.
— Привет, очень рада. Где это Моль откопал вас, такого красавца? Бенто вам в подметки не годится!
— Эй, это мне Бенто в подметки не годится! — запротестовал Молья.
Мерль приникла к плечу Мольи, продолжая улыбаться Слоуну.
— Да, но ты не свободен. А у него на пальце кольца нет.
— Молодчина! — похвалил ее Молья. — А я и не заметил!
Мерль игриво толкнула Молью в плечо и обратилась к Слоуну:
— А тебе, голубчик, что подать?
— Хорошо бы чаю, — сказал Слоун.
Мерль поставила на столик две фарфоровые кружки, потом пошла к стойке и вернулась оттуда с кипятком. Налив его в кружки, она положила на столик два пакетика чая «Эрл Грей».
Молья опустил в кружку пакетик и поболтал его, пока кипяток не окрасился в почти черный цвет.
— Кажется, вы ей понравились. Знаете, Дэвид, в чем закавыка? Вы тоже мне нравитесь, но я не знаю, кто вы такой, и это меня беспокоит.
— Я Джим Планкетт.
Молья улыбнулся.
— Спасибо, что тогда поддержали меня.
— Вам не кажется, что Планкетт — это уже вчерашний день?
— Нет, это я вчерашний день, черт возьми! С ума сойти, сколько воскресений я провел в «Колизее», чтобы посмотреть его игру! Он вернул былую славу «Славе и чести». — Моль пожал плечами. — Я всегда выбираю фамилию какого-нибудь спортсмена. Это первое, что приходит в голову. Не ожидал, что вы окажетесь калифорнийцем. Если б знал, назвал бы другую фамилию.
Слоун улыбнулся. Он вспомнил Браника и фигуру Ларри Берда. Хоть он и не был знаком с Браником, но ему почему-то думалось, что детектив Том Молья понравился бы и Бранику тоже.
— Вы любите спорт, детектив?
— Моя жена говорит, что если я вижу мяч, я просто не могу пройти мимо — обязательно должен либо стукнуть по нему, либо смотреть, как это делают другие; футбол, баскетбол больше, чем футбол, — я все это обожаю, ну а бейсбол, тот просто моя страсть. Планкетт — фамилия эта сразу пришла мне в голову, без заминки, а когда тебя спрашивают, как твоя фамилия, заминки быть не должно.
— А Ларри Берд вам нравился?
Детектив отхлебнул глоток чая.
— Берд? Хороший был игрок. С головой. Я и сам с головой. Он да еще Трейси Макгрейди... Вспомнишь, так размечтаешься. — Он откинулся в кресле. — Итак, вы мне вот что скажите: почему адвокат из Сан-Франциско заинтересовался самоубийством, произошедшим в Западной Виргинии? Вы друг семьи?
— Можно и так сказать.
— Вы следователь?
— Нет. А вы скажите, почему детектив из Чарльзтауна продолжает вести дело, которое ему велели закрыть? У вас что, там, в Западной Виргинии, других преступлений нет?
— Вы говорите, как мой начальник. — Молья поставил кружку на стол. — А еще я вот чего не пойму: зачем пьют горячее, когда жарко? — Он пожал плечами. — Ладно, Дэвид. Я все объясню, и считайте это проявлением доверия с моей стороны. Я был готов согласиться с тем, что Джо Браник пустил себе пулю в лоб, хотя все мои внутренности протестовали против этого, с самого начала протестовали. А ведь внутренности у меня луженые. Если уж мне не по себе, значит, на то есть причина. Понимаете?
— Понимаю.
— Так что, прикрой я это дело и пусти все на самотек, жизнь моя была бы куда как проще. Сейчас я бы уже сидел дома и отдыхал в кругу семьи — с женой и детьми. Но случилось так, что, когда я прибыл к месту события, там уже суетилась парковая полиция и ни слуху ни духу не было слышно о новичке-полицейском, который сообщил по рации, что едет к трупу, обнаруженному в Национальном парке.
Молья сделал многозначительную паузу.
— Вы считаете, что его убили, что это не был несчастный случай?
— Скажем так: что мне это показалось подозрительным, и показалось еще раньше, чем мне позвонил один надутый осел по фамилии Риверс Джонс и стал бросаться словами типа «расследование» в отношении очевидного самоубийства. Я, конечно, не семи пядей во лбу, Дэвид, но и в моей темной черепушке иной раз винтики шевелятся, и, как вы, может быть, уже догадались, следы в ней отпечатываются довольно четко, ну, как на тонкой клеенке в захудалом баре; вот я и спросил Джонса, чего это он расследует явное самоубийство. Ну, а он в ответ сразу же полез в бутылку, взбесился и пожаловался на меня моему начальству. Босс содрал с меня три шкуры и скоренько отстранил от дела, к которому я и не приступал, так что финиш нагрянул еще до старта. И все это из-за самоубийства? — Он откинулся на диванную подушку и поднял дугой брови. — Похоже, у меня это наследственное, мой папаша был точь-в-точь как я: не любил, когда ему указывали, что делать да как. Я такое только от жены могу стерпеть, но она, видит Бог, это заслужила. И все же я, может, и не стал бы трепыхаться...
— Но из реки выловили того полицейского.
Молья кивнул.
— Именно. Из реки выловили того полицейского. Они инсценировали несчастный случай. Очень ловко все сделали. — Он произносил слова с усилием, так, будто от каждого слова у него стреляло в челюсть. — Он оставил жену и новорожденного ребенка, жизнь его только начиналась. И кто-то отнял ее у него. Я не могу этого спокойно стерпеть. Понимаете?
Слоун вспомнил Мельду.
— Да, детектив. Понимаю.
62
Паркер Медсен нацарапал на полях документа очередную поправку и перечитал получившееся предложение. Мускулы его челюсти отбрасывали четкие тени, черные булавки его зрачков выражали сосредоточенность. Он отдал распоряжение секретарю не соединять его и отменил все дневные встречи, после чего заперся в своем кабинете, намереваясь работать до шести ноль-ноль. В шесть часов Роберт Пик, вопреки совету Паркера Медсена, должен был выступить по общенациональному телевидению и сообщить народу о своем замысле серьезно сократить зависимость США от ближневосточной нефти. Нефть эта звалась «нехристианской», хотя в его речи из опасения оскорбить мусульман термин этот и не фигурировал. Стиль чернового текста, наскоро составленного командой спичрайтеров, был смел и решителен. Вечером Роберт Пик вежливо пошлет к черту арабов с их нефтью. Он пообещает американскому народу изменение политики США на Ближнем Востоке, отныне на эту политику перестанут влиять как постоянные угрозы национализации, так и рост цен на нефть. Америка больше не будет пресмыкаться перед диктаторскими режимами, которые одной рукой просят подаяния, а другой норовят сунуть нож в спину США. Отныне в Америке перестанут хозяйничать шейхи и короли с миллиардными банковскими счетами и американские матери больше не будут посылать своих сыновей погибать в пустыне. Кровные денежки налогоплательщиков будут направляться на укрепление национальной безопасности.
Роберт Пик даже отказал конгрессу в праве поставить на голосование его проект.
В целом все это было хорошо и правильно. Медсен и сам первый рукоплескал бы такой возможности сказать арабам пару теплых слов — пускай подавятся своей нефтью, — если б не одно «но»: соглашение между Пиком и мексиканцами еще не было оформлено. Кастаньеда торопился с этим. Он хотел, чтобы встреча в Вашингтоне произошла чем раньше, тем лучше. Медсену же такая скоропалительность была не по вкусу.
В перерывах между просмотром речи Медсен получал доклады о человеке, проникшем в Белый дом, и был лишь слегка удивлен, узнав, что это был некий Дэвид Слоун. Машина сбросила Слоуна в Чарльзтауне перед отделением полиции, а уехал он оттуда с мужчиной, сидевшим рядом с водительским местом. Сейчас оба они находились на диванах в закусочной и беседовали о чем-то, судя по всему, весьма интересном. Слоун был явлением странным — странной и даже таинственной была его заинтересованность в этом деле, как и его возникновение. Казалось, он материализовался из воздуха. У него не было ни жены, ни детей, ни родных. Уж не призрак ли он, думал Медсен. С человеком, не имеющим привязанностей, договориться трудно. И это представляло проблему. Не имея семьи, Слоун не имел и слабостей, на которых можно было сыграть, не имел ничего, чем не желал бы жертвовать.
Но последнему предстояло измениться.
Люди Медсена нащупали ахиллесову пяту Слоуна. Она есть у каждого.
Эксетер поднял голову от своей погремушки на секунду раньше, чем в дверь постучали. Медсен не удосужился опустить ручку с красной пастой. Он знал, кто это.
— Войдите!
Риверс Джонс вошел походкой закованного в кандалы каторжника.
— Простите, что помешал...
— У меня нет времени на ваши извинения, мистер Джонс.
— Думаю, вам покажется это важным.
Безупречная, в стиле «Хьюго Босс» фигура Джонса как бы сникла, рубашка его была расстегнута, галстук отсутствовал. Лицо обмякло и сморщилось, как оставленная на солнце плюшка. Устремленные на Медсена глаза были красны, и Медсен уловил запах перегара. Некоторых мужчин стресс превращает в мокрую тряпку, лишает их сил и энергии. Медсен не из их числа. От стресса он получал лишь удовольствие, находя в нем источник бодрости и воодушевления; стресс был для него глотком чистого адреналина. Такому не научишь, и перенять это невозможно. С этим надо родиться. Он наблюдал крепких парней, вздрагивающих и съеживающихся от звука автомобильного выхлопа, в то время как другие, получившие ту же подготовку, и под пулями лишь улыбались — дескать, нам сам черт не брат.
— Я знаю, кто был у вас в кабинете, и знаю, как их разыскать, — сказал Джонс.
Медсен положил ручку и откинулся в кресле.
Джонс перевел дух, собираясь с силами, как приговоренный, которому предстоит попросить помилования у губернатора.
— Я говорил с охранником при входе в старое здание администрации. Он сообщил, что тот человек расписался как Джо Блер. При нем было водительское удостоверение, а это доказывает, что семейство в курсе.
— Вы говорили, что выяснили, кто он такой, — произнес Медсен, чувствуя, что терпение его на исходе.
— Не он. А тот, кто был с ним. Охранник сказал, что у него был жетон. Это офицер чарльзтаунской полиции Том Молья. Мы с ним уже сцепились, когда я изымал дело. Этот сукин сын заносчив как черт. Я в точности не знаю, кто такой этот Джон Блер, но, судя по всему, он спелся с этим детективом. Я позвоню его начальству, завтра же он будет вызван сюда, и мы раскрутим всю эту махинацию.
Медсен промолчал.
— И еще. Патологоанатом, производивший вскрытие трупа Джо Браника, позвонил мне и сообщил, что, по его мнению, с трупом производились некие действия. — Джонс сунул палец в рот и ткнул себя в нёбо, отчего дальнейшие слова его прозвучали неотчетливо. — Там на нёбе разрез. Патологоанатом сказал, что впечатление такое, будто тайно делали биопсию. Судя по всему, это окружной коронер упражнялся. Но я его также обезвредил.
— Видимо, не совсем, — сказал Медсен.
Джонс прочистил горло.
— Я уже позвонил и побеседовал с ним, генерал. Я отзову его лицензию. И завтра же лично переговорю с начальством Мольи и раскручу всю эту интригу. Если он продолжает заниматься этим делом, это будет последнее его дело. У него отнимут жетон полицейского.
Медсен встал — время и терпение его истощились.
— Спасибо, мистер Джонс. Как бы там ни было, от дальнейшего расследования вы отстраняетесь.
— Генерал, я уверяю вас, что все выясню...
— Вы совершили ошибку, мистер Джонс, а ошибок я не терплю и не прощаю. Я предупреждал вас об этом заранее. В моей профессии ошибкам нет места. Вы отстранены. Еще один ваш звонок — и это станет последним вашим делом.
Джонс собрался с духом:
— Но это мое расследование. Я его начинал и хотел бы закончить.
— Этого не будет. Если я узнаю, что вы не оставили его, вы лишитесь работы.
— Генерал, мне неприятно это вам говорить, но я работаю не у вас, а в Министерстве юстиции. Если я буду вынужден, я обращусь к своему начальству, и, думаю, им будет крайне интересно узнать, что Белый дом подтасовывает результаты вскрытия и прячет свидетельство, имеющее непосредственное отношение к делу. Так что, полагаю, для нас обоих лучше будет действовать сообща, в противном же случае лишиться работы мы можем оба.
Медсен достаточно хорошо разбирался в людях, чтобы понимать, что бравада Джонса продиктована не природной храбростью, а отчаянием и страхом. Но все же он вынужден был отдать ему должное. Возможно, есть в нем все-таки кое-какое мужество. Это хорошо. Мужество ему пригодится.
— Утром я позвоню детективу и затребую его сюда, — промямлил Джонс, прерывая гробовое молчание Медсена. — А как только это произойдет, я выясню, кто этот...
Медсен выдвинул верхний ящик стола, вынул оттуда конверт в плотной бумаге, снял скрепки.
— ...его дружок. Если мне понадобится вызвать его повесткой, я...
Медсен перевернул конверт, и оттуда посыпались фотографии. Джонс стоял разинув рот, потрясений глядя на свои изображения — на усеявших стол фотографиях он был совершенно гол и беззащитен, а над ним склонилась затянутая в черную кожу Терри Лейн с хлыстом в руке.
63
Район Сансет, Сан-Франциско
Тина протянула по верху коробки клейкую ленту и прижала ее ладонью, соединив таким образом две створки. Она уже хотела перекусить ленту зубами, но конец ее соскочил с катушки. Все: лента кончилась.
Тина взяла черный маркер и аккуратно подписала: «Комната Джейка». Она придвинула коробку к двум другим, стоявшим возле двери в комнату мальчика. Комната опустела и в то же время еще выглядела наполненной. Хорошо бы хозяин не рассердился на эти обои. Увидев их в магазине, она не смогла устоять — объемное изображение кабины шаттла. Иллюминаторы она закрасила черной краской и наклеила пластиковые звезды — получилось космическое пространство. Увидев это впервые, Джейк просто онемел. А потом лицо его расплылось в широченной улыбке. «Вот это да!» — только и вымолвил он.
Она запаковала его плюшевых зверей, вычистила шкаф. С четырех рожков старомодного светильника на потолке еще свешивались леговские самолеты на лесках — их они с сыном собирали вместе. При включенном вентиляторе самолеты словно летели. Как бы запаковать их, чтобы не сломались? Другие стены были украшены постерами с изображениями его любимых спортсменов, разумеется Берри Бондса и тех, кого она сама для него выбрала, — Джо Монтаны, потому что он такой красавец, и Мохаммеда Али, потому что могла многое рассказать Джейку о том, как Мохаммед Али воплотил в жизнь свою мечту.
Она отбросила пряди от лица и воспользовалась минутной передышкой, чтобы забрать волосы в конский хвост. Насколько же больше могла она успеть в отсутствие матери и Джейка, вечно болтающегося под ногами и требующего, чтобы с ним поиграли! И сколько еще предстояло ей сделать! За десять лет, что она снимала эту двухкомнатную квартиру на верхнем этаже перестроенного викторианского дома, они с Джейком успели накопить столько хлама, что хватило бы и на семью из пяти человек. Надо было поторопиться и успеть уложиться к пятнице, когда приедет фургон.
Она присела на кровать Джейка, чувствуя, как подрагивает пол — это по улице проехал трамвай Норт-Джуда. Телефонный звонок Дэвида был для нее неожиданностью, но неожиданностью приятной — по крайней мере, он думает о ней и, может быть, у них что-нибудь и получится. Она с волнением вспомнила, как он просил ее дождаться его в Сиэтле, подождать, пока он разберется с собой и приедет. Как бы она хотела помочь ему или же хотя бы утешить. Но утешений ему не требовалось. Не такой он человек, чтобы ему нужны были утешения.
У него не было близких. Мысль эта продолжала ее изумлять. Значит, всем, чего он достиг, он обязан только себе самому, что делает его достижения еще значительнее. Можно только поражаться его работоспособности, его напористости — и это же делало его фигурой трагической. Ведь у него никого не было. Никого и ничего. Одна работа, и ничего больше. Хорошо исполнять свою работу — только так он мог состояться, ощутить уверенность, обрести цель и смысл жизни.
Она встала с кровати, подошла к окну, выглянула из-под конька крыши. Возле самой дорожки, ведущей к дому, стояла припаркованная патрульная машина — на ее присутствии настоял детектив Гордон. Этот пост был словно фонарик охранника в ночи.
— Все. Хватит, — сказала она, готовая опять заняться делом. — Клейкую ленту!
По узкой лесенке она спустилась в крохотную кухню в глубине квартирки. На новом месте кухня у нее будет в два раза больше и каменная вместо этих кафельных плиток, которые так трудно мыть. Из мешка с разными необходимыми вещами, которые раздобыла в отделе транспортировки, она вытащила еще одну катушку ленты и потянулась к холодильнику за диетической кока-колой. И вот тут-то она кое-что заметила. Повернув голову вправо, она взглянула поверх дверцы холодильника. Замок на задней двери был в вертикальном положении — открыт. Живя одна с маленьким ребенком, она очень за этим следила и никогда не оставляла дверь незапертой. Никогда.
Паркетные половицы в коридоре заскрипели. В голову ей ударил адреналин, но она справилась с приступом паники. Наклонившись, она сунула голову в холодильник. Из-за уголка холодильника показалась голова мужчины. И так же быстро, как он появился, Тина выпрямилась и метнула в него банку с содовой — точным, сильным ударом, каким бросала бейсбольный мяч Джейку. Не проявивший быстрой реакции мужчина получил банкой по физиономии, содовая выплеснулась ему в лицо, так что он замешкался, а она успела скользнуть в заднюю дверь. Она сбежала по черной лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Мгновение — и она была уже за углом, мчалась по дорожке между обшитой досками стеной и соседним забором.
— Помогите! — крикнула она, выскочив на улицу и стукнув в стекло припаркованной патрульной машины со стороны водителя. — Помогите!
Полицейский не пошевелился. Она рванула дверцу.
— Помогите! — Она хотела сказать что-то еще, но тело полицейского накренилось влево и вывалилось на мостовую. Щека его и плечо синего мундира были залиты кровью.
Она попятилась, не замечая остановившейся за ее спиной машины с открытой дверцей и мужчины с какой-то тряпкой в руке. Мужчина крепко зажал этой тряпкой рот и нос Тины и втащил ее на заднее сиденье.
64
— Расскажите мне о том полицейском, — сказал Слоун; мысль о еще одной невинной жертве удручала его, он чувствовал себя в какой-то мере ответственным за его гибель.
— О Купе?
Молья вздохнул, подобрал со столика крошку, повертел в руках пакетик чая.
— Хороший был парень. Все пробиться хотел, но вообще хороший, порядочный. Изуродовало его очень — как это бывает в таких катастрофах. — Молья поднял глаза на Слоуна.
— Но вы ведь не считаете это катастрофой, правда?
— Правда. А почему — этого я сказать вам не вправе. Впрочем, доказательство это к вашему родственнику... то есть к Джо Бранику, отношения не имеет. — Держа кружку в одной руке, Молья закинул другую на диванную спинку. — А вот скажите-ка мне лучше, почему это сан-францисский адвокат так вдруг озаботился убийством, произошедшим в Западной Виргинии?
— Это долго рассказывать, детектив.
Молья повернул голову в сторону барной стойки.
— Мерль? Два куска твоего яблочного пирога. А мне — с мороженым. — И он опять повернулся к Слоуну. — У нас есть время, Дэвид, но дайте мне краткую версию событий, как в «Ридерс дайджест», у меня внимание рассеивается очень быстро.
В последовавшие затем полчаса Слоун ел пирог, запивая его второй кружкой чая, и излагал все, что можно было изложить, стараясь, чтобы это выглядело разумно и логично. Детектив чуть не поперхнулся чаем, когда услышал, что Слоун беседовал с Робертом Пиком.
— Господи Боже! — только и воскликнул он и после паузы осенил себя крестным знамением.
Слоун вынул из кармана листок с телефонными номерами и через стол протянул его Молье.
— Если все рассказанное правда, то повторяющийся номер — это ее телефон.
Молья изучил листок.
— Ну а ваши соображения? Как вам кажется, Браник трахал ее?
Слоун закинул руку на спинку кресла.
— Всякое возможно, детектив. Однако, на мой взгляд, — непохоже.
— Почему же?
— Противоречит тому, что сказала его сестра, что ее брат всегда поступал как должно. Я не был знаком с этим человеком, но из того, что мне известно о нем, можно заключить, что такие, как он, обычно семью не предают.
— Если послушать доктора Фила, так все мы одним мирром мазаны, Дэвид. — Молья собрал с тарелки последние крошки пирога. — Но если все так, как говорите вы, значит, это попытка удержать родных от дальнейшего расследования.
— Вероятно. Его сестра характеризовала брата как натуру цельную. Этим, в частности, и объясняется его решение вернуться домой в Бостон, оставив ЦРУ. Он устал от политики, посчитав ее грязным делом.
— Надеюсь, что открытие это не было для него как гром среди ясного неба. — Молья потер нижнюю губу. — Думаете, это Медсен? Склоняетесь к мысли, что за всем этим стоит он?
— Я ни в чем не уверен, детектив. Но именно он занялся этим делом с самого начала, и учтите его возможности и количество людей, ему подчиненных. А потом... — Мысленно Слоун увидел перед собой глаза Медсена — темные и мрачные, как грозовые тучи.
— А потом что?
— Знаете, у меня, как и у вас, тоже есть интуиция. Способность нутром чувствовать то или иное. Так вот: мне кажется, что Медсена это каким-то образом касается непосредственно.
Молья надул щеки, после чего медленно выпустил воздух.
— Требуется куда больше доказательств, чем те, которыми располагаем мы, чтобы ломиться в парадные двери Белого дома и обвинять главу администрации в проведении акции над мирными жителями.
— Почему я и думаю, что найти этого человека, Чарльза Дженкинса, для нас так важно.
— Вы считаете, что он на нашей стороне?
— Я не знаю наверняка, но думаю, да. И думаю также, что разыскать его нам надо поскорее. У нас не так много времени в запасе.
— Почему это?
— Роберт Пик сказал, что Чарльз Дженкинс мертв. Я знаю, что это не так, но может случиться, что в живых ему оставаться недолго.
Молья взял листок с телефонными номерами и вытащил свой мобильник.
— Говорил же я вам, что такие дела имеют способность возвращаться вспять, как тухлый завтрак! Противно все время оказываться правым. — Он щелкнул крышкой мобильника: — Пожелайте мне удачи. На этот раз я рассержу кое-кого всерьез.
65
Дженкинс стоял на веранде дома Уильяма Харта, глядя, как кроваво-красное небо затягивают черные грозовые тучи.
— Газету дневную видел? — Алекс все продолжала свой трудный, дюйм за дюймом, путь, пробираясь в уличной пробке; в мобильнике ее слышался треск помех от надвигающейся грозы. — Важное сообщение из Белого дома. Из Мехико поступила информация, что Альберто Кастаньеда выступил сегодня с заявлением на пресс-конференции и приподнял завесу тайны над переговорами. По-видимому, Пик вечером выступит с обращением к нации.
Дженкинс раздумывал над услышанным. Похоже, Кастаньеда нажимает на Пика. Иначе они выступили бы с совместным заявлением, возможно, сопроводив это рукопожатиями перед камерами репортеров на лужайке Белого дома. А так — видимо, Белый дом заявление Кастаньеды не санкционировал. Не похоже также, что Кастаньеда совершил нечаянный промах. Такое было бы непростительно, если он намеревался заключить соглашение и тем поправить стесненные обстоятельства, в которых очутилась его страна. А значит, он или кто-то за его спиной организовал это намеренно. Совершив подобное, Кастаньеда не оставил Пику иного выбора, кроме как выступить по общенациональному телевидению и безропотно принять любые условия. Если Пик не сделает этого, если проявит холодность или нерешительность, это подхлестнет критиков его курса, упрекающих его в неспособности поступать жестко. Арабы же, мгновенно учуяв для себя лазейку, найдут способ сорвать соглашение, чем подставят ножку Пику, уничтожив его как президента. Если Дженкинс был прав — а у него не было причины думать, что это не так, — следующим шагом Кастаньеды будет предложение о скорейшей встрече в верхах, и за это предложение Пик ухватится, как хватается за брошенную ему веревку висящий над пропастью скалолаз.
Является ли простым совпадением гибель Джо именно в эту неделю, когда, причастный к соглашению, он попытался разыскать человека, которого, как считалось, уже тридцать лет как нет в живых?
— Ты далеко? — спросил он.
— Мне ехать еще минут двадцать, может быть, полчаса.
Он почти не слышал ее.
— Помехи ужасные, голос заглушают.
— Впереди уже видны огни — там автопроисшествие, из-за которого мы все встали, да и погода не убыстряет дело.
На бетонную веранду упали первые капли дождя — тяжелые, они падали с шумом и плеском.
— Если мы хотим здесь остаться, нам понадобятся свечи и спички, — сказал он.
— Свечи в столовой, в буфете. А спички отец держал на камине.
Дождевые капли забарабанили по полу и крыше веранды. Дженкинс поспешил укрыться в доме и, подойдя к камину, нашел в одном из углублений коробок спичек. Порыв ветра потряс дом, окна задребезжали, почти заглушив другие звуки — царапанье ногтями по дереву. Дженкинс бросился на пол как раз перед тем, как от выстрела вдребезги разлетелось огромное, от пола до потолка, французское окно; дождем посыпались осколки.
— Чарли?
Он пополз, слыша еще один выстрел — пуля ударилась в пол, и затем послышалось «щелк-щелк» перезарядки — в патронник вгоняли еще один патрон. Он подполз к камину, схватил кочергу, с грохотом уронив остальные, перекатился к двери. Второй выстрел угодил в каменное обрамление камина, и в лицо Дженкинса полетели камешки и каменная пыль. Лишь недавно сойдя с самолета, он был безоружен — удобная мишень в тире.
— Чарли! Чарли! — кричала в трубку Алекс.
Он кое-как поднялся на ноги и, пошатываясь в темноте, бросился в темный коридор, а оттуда — из комнаты в комнату, хлопая дверями, — мышь, мечущаяся в лабиринте.
— Оружие! У твоего отца было оружие? Есть оно в доме?
Телефон молчал.
Он метался в поисках выхода из этого дома, похожего на крепость с зарешеченными окнами. Он вбежал в нарядную спальню и распластался у стены, рассчитывая внезапно кинуться на противника, когда он ворвется в дверь. В коридоре слышались шаги, потом они замерли. Черт. Сплоховал я. Дженкинс метнулся прочь от стены, когда дверь в комнату прошибло выстрелом, вырвавшим кусок стенной штукатурки и дверной рамы и засыпавшим его мелкой белой пылью. Третий патрон.
Выстрел и звук вгоняемого в ствол патрона.
Противоположная стена рухнула. Четвертый патрон.
Он укрылся у другого выхода. Стреляли из 12-калиберного помпового боевого дробовика, возможно «Спас-12» или «Мосберг-500». Оба были излюбленным оружием американских военных. Разница заключалась лишь в том, что «Мосберг» вмещал в себя пять патронов, «Спас» же — семь в патроннике и один — в стволе. В общем счете — восемь. Если человек за дверью не перезарядил свой дробовик, пока Дженкинс искал выход — а Дженкинс думал, что он его не перезарядил, — ему либо остается один выстрел, либо патронник пуст лишь наполовину. Дженкинс перекатился на бильярдный стол и вылез с другой стороны, нащупав в сетке бильярдный шар. В комнате была непроглядная тьма, единственное окно прикрыто шторой. Дверь распахнулась. Он метнул шар, поразив цель. Оружие выстрелило вверх, в потолке образовалась дырка. Пятый патрон. Дженкинс хотел броситься на незнакомца, но услышал звук вгоняемого в ствол патрона и сразу же оставил эту мысль. Дробовик был все еще заряжен. Напавший на него выбрал более тяжелый «Спас» ради лишних патронов. Повезло ему.
Пригнувшись, он метнулся вон из комнаты и через совмещенную ванную ворвался в большую гостиную с балками на потолке и деревянным баром. В зеркале на стене отражались бутылки, стаканы под красивой старинной лампой на цепях, крепившихся к потолку. Другим выходом из комнаты была балконная дверь, ведшая на веранду, а оттуда, как он уже знал, путь был лишь один, и вел он в никуда, к обрыву. Все. Он в ловушке.
66
Они сделали остановку возле супермаркета, чтобы детектив смог купить молока, хлеба и помидоров. Вдобавок он купил еще пакетик орешков кешью, который и лежал теперь открытый на переднем сиденье «шевроле», между ними. Детектив наклонялся вперед, напряженно вглядываясь в лобовое стекло — по потемневшему небу тучи мчались с такой быстротой, словно кто-то нажал кнопку прокрутки видеоплеера.
— Грозовой фронт, — сказал Молья, поясняя природу грозы на восточном побережье. — Постоянная жара вкупе с влажностью всю прошедшую неделю может разрешиться только так и не иначе — это как если кипятишь чайник с закрытой крышкой, понятно? Пар накапливается, а потом крышку срывает. Разница только в том, когда это произойдет и сколько пара выйдет. Вот сейчас нас, судя по всему, ожидает неплохая встряска. Не то что в Калифорнии: тамошние грозы по сравнению с нашими — вроде как душем покропило. — Он откинулся на спинку кресла. — Да что я болтаю? Вы своими глазами все увидите. Как это говорится — не описать пером?
Мгла за считаные секунды превратилась в кромешную тьму, которую прорезала молния, окрасив темно-пепельную тучу лиловым цветом побледневшего синяка.
Молья считал вслух: «Один... два...»
Ударил и глухо зарокотал гром, Молья с победоносным видом взглянул на Слоуна: гроза пришла, не разочаровав их, гроза нешуточная. Дождь лил стеной, похожей на кусок белого пластика. Молья включил верхний свет и повернул ручку дворников. Ближняя к нему стрелка не работала.
— Жара эта чертова, — сказал он, быстро опуская стекло. — Резина к стеклу прилипает. — Высунув руку, он дернул стрелку дворника. Та осталась у него в руке.
— Черт! Еще этого не хватало!
И словно в ответ ему ударила молния и загрохотал гром.
— Придется переждать. Я знаю здесь поблизости одно местечко, не то чтобы очень шикарное, но лучшей фасолевой похлебки вряд ли где сыщешь.
Но Слоун еще не опомнился от пирога.
— А как насчет жаркого?
— Ну, это в качестве закуски.
Через несколько минут они свернули с трассы на проселочную дорогу, проложенную между кустарниками, белыми ясенями, вязами и березами; дорога вела на небольшую поляну. За парковочной площадкой, на которой было больше грязи, чем гравия, и лежали бревна в качестве парковочных мест, высилось ветхое продолговатое строение. Сильный ветер трепал выполненную вручную вывеску над сетчатой дверью, и она билась о стену, как незакрепленная ставня. Алые буквы выгорели, и надпись стала розовой: «Кафе рыболовов и магазин рыболовных принадлежностей». Перед кафе располагались две бензоколонки образца пятидесятых годов.
В промежутке между взмахами дворника Слоун ткнул пальцем, указывая на вывеску, и сказал, стараясь перекричать гром:
— Закрыто. И кажется, прочно.
Молья явно выглядел озадаченным.
— Лес и Эрл вот уж десять лет как грозятся прикрыть заведение, но мне и в голову не приходило, что они это всерьез. — Он повернулся к Слоуну. — Они братья. Воевали друг с другом как противники в Гражданскую. Поговаривают, что они и стали противниками. Лес был хозяином кафе, а Эрл стал ворочать делами на бензозаправке. Лет пятьдесят все у них шло отлично. Каждый охотник и рыболов в штате здесь начинали день и здесь же его оканчивали.
— Но не сегодняшний.
Молья покачал головой:
— Неудачно вышло. За здешнюю фасолевую похлебку что угодно отдашь.
За спиной у них раздался шум — не шум дождя и не рокот грома, природа была тут ни при чем, это был шум, производимый человеком, мчащимся на машине на высокой скорости, с воем, нещадно газуя. Слоун обернулся, как раз когда в поле их зрения ворвался сильно побитый грузовичок-пикап; разбрасывая грязь и гравий, он пересек парковочную площадку, водитель резко развернулся, тормознув и сильно накренив машину; казалось, она вот-вот перевернется, но машина выровнялась и направилась прямиком на них. Из окошка рядом с водительским высунулось дуло крупнокалиберной пушки.
— Непохоже, что они прибыли сюда поесть фасолевой похлебки, — сказал Молья.
Он вытащил свой «Зиг», бросив кольт на колени Слоуну.
Они выскочили из машины, когда по металлическому корпусу ее градом забарабанили пули.
67
Дженкинс перемахнул через стойку бара и стал судорожно обыскивать полки в поисках чего-нибудь пригодного в качестве оружия — кочерга для этой цели не очень-то годилась, — если ему не удастся подойти совсем близко; последнее было маловероятно, поскольку для этого пришлось бы выдержать еще три выстрела. У него не было даже ножа. Он услышал, как дверь в комнату тихо отворилась — незнакомец уже понял, что Дженкинс не вооружен, но в темноте все-таки проявлял осторожность. Сейчас он, без сомнения, оглядывал комнату, отыскивая возможность укрытия, понимая, что их всего два — веранда или стойка бара.
Время. Дженкинсу требовалось время. Внизу стояли бутылки со спиртом — преимущественно с дорогим шотландским виски, таким, какое Уильям Харт любил смаковать, попыхивая трубкой. Внезапно его осенило. Схватив коктейльный стакан, он метнул его за стойку, стакан разбился, вызвав тем шестой выстрел.
Драгоценные секунды.
Схватив с полки бутылку с тридцатилетним «Спрингбэнком», он открутил пробку и намочил висевшее на стене полотенце.
Звук вгоняемого в ствол патрона. Патрон лег на место. Щелк-щелк. Заряжено.
Он опустил край полотенца в горлышко бутылки.
Справа от него выстрелом пробило дыру в баре — посыпались кусочки дешевой деревянной обшивки, осколки разбитых бутылок, брызгая виски, впивались в кожу, как репей.
Семь.
Дженкинс скорчился, приняв позу зародыша. Восьмого выстрела он не избежит. Прячась за портативным холодильником, он вытащил из кармана спички, чиркнул по полоске серы; спичка не загорелась. Чиркнул еще раз. Никакого эффекта.
Звук патрона, ложащегося в ствол. Последний патрон.
Он вытянул из коробка еще одну спичку.
Щелк-щелк — патрон на месте.
Дженкинс чиркнул спичкой. Легкое шипенье, потом пламя. Намоченная ткань вспыхнула. Он бросил другой стакан — дешевый трюк, который вряд ли сработает, — и, встав, швырнул самый дорогой в мире коктейль Молотова.
68
Слоун лежал лицом вниз в грязной луже, дождь лил с такой силой, что казалось, будто водяные струи направлены вверх, от земли. Шина «шевроле» лопнула с сильным гулким звуком, эхом отдавшимся в ушах Слоуна и вместе со свистом ветра и пуль оглушившим его. В минуту затишья Слоун приподнялся на одно колено и, поддерживая левой рукой правую, послал три точно рассчитанных выстрела в лобовое стекло пикапа, пробивая в нем дырки веером — слева направо. От другого борта послышался огонь, потом Молья перевалился через капот и плюхнулся рядом с ним в грязную воду. Он потянул Слоуна к переднему бамперу машины, чтобы укрыться там. Они съежились за одним из бревен.
— Ранен? — выкрикнул Молья, перекрывая раскаты грома.
— Если и ранен, то ничего не чувствую.
Слоун заглянул за борт машины. Из окна вновь высунулось дуло. Он сделал еще два выстрела. Оставалось три патрона. Другие два лежали в бардачке арендованной машины.
— Они серьезно превосходят нас в вооружении.
— Надо уходить в лес. — Молья ткнул пальцем, указывая направление. — Там стрелять лучше. Ярдах в трехстах отсюда с севера на юг течет ручей. Давай. Я подойду.
Слоун покачал головой: он знал, что уйти в лес без прикрытия детективу будет трудно.
Из окошка грузовика выдвинулось дуло автомата.
— Геройствовать нет времени. Я этот лес знаю, вы — нет. Я потом подойду.
Он подтолкнул Слоуна в направлении лесной полоски и, обернувшись, дважды выстрелил в лобовое стекло грузовичка. Это было все, чем он мог прикрыть его.
Слоун услыхал два выстрела детектива, когда перемахнул через поваленное дерево на опушке. Он упал и прицелился в грузовичок, хотя тот и был на смехотворно далеком для пистолета расстоянии. Но он все же сделал два выстрела, после чего у него остался лишь последний патрон. Он двинулся как можно быстрее через густые заросли, отводя от себя низко свисавшие ветви, которые царапали ему лицо и плечи и цеплялись за одежду.
Где же, черт возьми, этот ручей?
Сверкнула молния, моментальной вспышкой осветив весь лес, как в фильмах ужасов. Гром прогремел совсем близко, прямо над головой. В глазах все поплыло. Он решил, что это из-за дождя. И тут же лоб его пронзила острая как нож боль. Он упал на одно колено, сжал руками голову, словно иначе она могла бы расколоться пополам.
Нет.
Он встал, качнулся вперед. Все вокруг пульсировало, туманилось, плывя в фокус и обратно. Черные и белые мушки. Радуга.
Мигрень.
Нет.
Зрение и чувство равновесия изменяли ему. Неверными шагами, слепо, он двинулся вперед, больная лодыжка вихлялась на неровной земле, нога скользила, не выдерживая инерции движения. Покров мокрых листьев под ногами разъезжался — так ползет ковер по свежелакированному полу. Слоуна качнуло вбок, и он полетел кувырком вниз по склону, покатился, как булыжник. Он ударялся о пни, камни и стволы деревьев, пока его не прибило к чему-то твердому и устойчивому. Ветер завывал. Опять сверкнула молния.
Крики. Душный едкий дым. Мерцающие языки пламени и яркие вспышки огня выхватили из мрака в ужасающем конусе света лежащую на полу фигуру женщины.
Слоун отбросил от себя это воспоминание. Он яростно барахтался, стараясь удержаться на плаву, не погрузиться в пучину, удержаться на поверхности.
Снаружи доносились женский и детский плач, горестные вопли, исполненные боли, ужаса, смятения.
Нет!
Он потянулся вверх, пробиваясь к свету на поверхность. Потом снова лег, прислонясь спиной к стволу дерева, с ветвей которого все еще струями лилась вода. На секунду он потерял ориентацию, потом, задержав дыхание, с трудом встал на ноги. Ему надо отыскать ручей. Надо помочь Тому Молье. Он опирался рукой о ствол, чтобы не упасть, предметы виделись нечетко, но он различал след, который оставило его тело, скатившись по склону на дно ущелья. Он стал подниматься вверх, цепляясь ногами и руками, хватаясь за все, за что можно было уцепиться, — шаг вперед по мокрой, усыпанной листьями грязи — два шага назад. Ливень бил его своими струями. В голове мерно стучало. Лодыжка болела.
Когда он выбрался наверх, он задыхался и не знал, сколько времени прошло, но времени встать и понять что к чему у него не было. Пробираясь между деревьями, он подныривал под сучья, цеплявшие его за одежду.
Где же, черт его возьми, этот ручей?
Пикап сильно ударил в зад «шевроле», отчего передние колеса поднялись в воздух и опустились на бревно. Водитель, темноволосый убийца Берта Купермана, распахнул дверцу и под ее прикрытием выпустил залп из автоматического пистолета «Узи», в то время как его напарник, рыжеволосый бородач, скользнул вперед, сжимая рукоятку 12-калиберного «бенелли». Они видели, как Слоун скрылся в лесу, но не заметили, чтобы за ним последовал и детектив. Им было приказано четко и недвусмысленно — детектива убить, но Слоуна доставить живым.
Рыжебородый продвигался вперед, целя в разбитые окна «шевроле» и окидывая глазами салон машины. Он продвинулся дальше к передней части машины и обвел дулом решетку. Детектива нигде не было.
— Они в лесу, — крикнул он напарнику, обернувшись назад.
Темноволосый тоже прошел к передку машины и, выхватив ключи зажигания, швырнул их в кустарник. Затем отступив на несколько шагов, он выстрелил в рацию и телефон «шевроле». Он знал, что детектив не успел попросить подмоги: частоту чарльзтаунской полиции они проверяли, но это была предосторожность на тот случай, если бы детектив вздумал вернуться к своей рации и все-таки затребовать помощи. Потом они разделились: его напарник пошел по кругу по часовой стрелке, он же — в обратном направлении; встретиться они договорились в двенадцать. Подобная военная хитрость уменьшала шансы подстрелить друг друга.
В лесу темноволосый перебегал от дерева к дереву, вглядываясь в темноту. Вода стекала с листьев и ветвей, и казалось, что смотришь сквозь струи водопада. Ветер выл ему в уши. Деревья шумели и скрипели. Он продирался сквозь высокую траву и кустарник, пригибаясь к земле, то и дело останавливаясь, чтобы рассмотреть подозрительные тени; внутри у него все дрожало от охотничьего азарта и предвкушения скорого трофея. Над головой сверкнула полоска молнии. Лес озарился неровным белым сиянием, и тут же раздался громовой раскат. Внезапно грудь его пронзила острая боль. Он схватился за диафрагму. Небо раскололось молнией, на секунду осветившей кровь, текшую по его ладони и между пальцев. Он покорно поднял голову. Загрохотал гром. И второй, точно рассчитанный прицельный выстрел поразил его прямо в переносицу.
69
Незнакомец взмахнул своей пушкой, отбрасывая от себя огненный шар. Бутылка разбилась о деревянную панель стены, обрызгав горящим спиртом его лицо и одежду. От последнего его выстрела лампа, висевшая над головой Дженкинса, разлетелась, и на него посыпались зеленые осколки.
Пустой ствол. Пустой патронник.
Дженкинс перепрыгнул через стойку бара, держа в руках кочергу.
Опытный боец, незнакомец упал на пол и принялся кататься по нему, гася пламя; он поднялся было на одно колено, держа пушку в руке, но Дженкинс уже прыгнул на него. Он ударил его кочергой, действуя ею как бейсбольной битой, отчего пистолет полетел на пол, и вновь замахнулся, готовясь нанести удар. Незнакомец мгновенно потянулся вверх и схватился за кочергу, удержав ее в воздухе, чем продемонстрировал замечательную силу и умение терпеть боль. Продолжая удерживать железку на весу между ними, мужчина распрямился — выросший из земли гигант с плечами как бампер автомобиля. Дженкинс, не отдавая кочерги, вдавил колено в живот незнакомцу. Живот был твердым как стена. Незнакомец наклонил голову и ударил Дженкинса в лоб, отбросив назад. Не выпуская кочерги, он упал, используя свой вес и силу инерции, чтобы утянуть за собой и противника. Коснувшись пола, он двинул сапогом в живот незнакомца, отчего тот покатился кувырком. К несчастью, кочерга, вырвавшись из рук Дженкинса, очутилась у противника.
Поднявшись, Дженкинс приготовился отвести неизбежный удар. Поздно. Кочерга угодила ему по ребрам, отчего его как током ударило и он вынужден был опуститься на одно колено. Он услышал свист рассекаемого воздуха, когда мужчина, высоко взметнув кочергу, резко опустил ее вниз — как лесоруб, готовый вонзить топор в ствол дерева. Чувствуя, что удар неминуем, Дженкинс прыгнул вперед, так что удар пришелся ему на спину, плечами он сильно толкнул противника в диафрагму, и тот полетел к охваченной пламенем стене. Ухватив мужчину под мышки, он вытряс из его рук кочергу. Тот, в свою очередь, пихнул его, вытащил шестидюймовый нож, висевший в чехле у него на поясе, и пошел на Дженкинса, нанося удары в воздухе. Дженкинс стал кружить и пятиться, стараясь увильнуть. Его правая рука висела плетью, а во рту и в носу он чувствовал теплую горечь крови, так что было трудно дышать. Силы его убывали.
Мужчина вытер кровь, лившуюся из рассеченного лба, и по лицу его протянулась безобразная красная полоса.
— Славно гниют твои собачки, — сказал он, замахиваясь ножом. — Хорошо почву удобряют.
Боль и слепящая ярость, слившись воедино, исторгли из груди Дженкинса хриплый первобытный вой. И, одновременно, Дженкинс в прыжке вывернул ему кисть и сильно ударил в предплечье, отчего рука хрустнула, как куриная косточка. Мужчина заорал от боли. Не отпуская его кисти, Дженкинс опять подпрыгнул и, извернувшись, смазал правым сапогом ему в челюсть. Новый поворот, и левая нога повторила маневр правой, в свою очередь нанеся удар; мужчина попятился и начал крениться набок; он стоял на нетвердых ногах — темный силуэт в потемневшей от грозовых туч комнате. Дженкинс собрался с силами и заставил себя встать. Он нацелил каблук своего сапога в грудь незнакомца. Нога его распрямилась, как закрученная пружина. От мощного удара мужчина отлетел назад, стекло балконной двери с треском разбилось, мужчину перенесло через перила, и он исчез.
Дженкинс обмяк, опустившись на колени.
— Как и ты будешь удобрять, — шепнул он.
70
Том Молья смотрел, как темноволосый опустился на колени и упал лицом вперед в заросли.
— Это тебе за Купа, — сказал он.
Он выбрался из кучи сухих листьев и неверными шагами направился вперед, вынув из рук мужчины и сунув себе за пояс пистолет. Он поклялся себе никогда больше не ругать здешнюю сырость. Эта гроза стала настоящим божьим благословением. Молния освещала тьму, давая ему возможность видеть, а раскаты грома заглушали звуки его выстрелов, не позволяя определить его местонахождение. Молья мог выстрелом сбить блоху с задницы белохвостого оленя, и пистолет оказался достаточно точным оружием. Целил он темноволосому в грудь и сначала подумал, что промахнулся, так как тот от выстрела лишь дернулся. Но со следующей вспышкой молнии он все рассчитал точно и выстрелил второй раз, когда прогремел гром. На этот раз ошибка исключалась — он угодил мужчине прямо промеж глаз.
Теперь пора было разыскать Слоуна.
Он направился к ручью, стараясь двигаться побыстрее. Возле ручья он встал на одно колено и сполз по глинистому береговому откосу в воду, оглядывая окрестность и не видя ни Слоуна, ни рыжебородого. С берега стекали струи воды, и ручей вспухал, готовый выплеснуться из берегов. Молья прошел несколько сотен ярдов по течению ручья, потом вскарабкался опять на берег, прошел назад, все время озираясь, надеясь отыскать Слоуна и дать рыжебородому уйти вперед. Он шел, хоронясь за деревьями, пока не достиг места, откуда начинал путь, и тут интуиция подсказала ему все, что требовалось знать.
Если преследователя нет впереди, значит, и он тоже вернулся назад.
Молья оглянулся.
Рыжебородый стоял в десяти футах за его спиной, дуло его пушки было нацелено и готово выстрелить.
71
Прилив сил, вызванный вспышкой ярости, улетучился, оставив Дженкинса разбитым и сокрушенным. Лежа ничком, он то терял сознание, то вновь приходил в себя, стараясь взбодриться, отогнать от себя бредовые видения. Очаги огня вокруг дышали жаром, отнимая кислород; пламя подползало все ближе, языки его лизали лицо, щупали его плоть, ожидали его смерти, чтобы поглотить, сожрать его.
Умом Дженкинс понимал, что надо двинуться, встать, бежать отсюда. Но тело не слушалось. Он не мог поднять головы, ноги не повиновались. Пальцы не шевелились и словно налились свинцом.
Так вот как, оказывается, суждено ему умереть. Вот какой конец ему уготован.
Он часто думал, как это произойдет, и никогда всерьез не верил, что доживет до старости и будет мирно коротать свои дни, сидя в качалке на крыльце в обществе красавицы жены и внуков, играющих возле его ног. Такая жизнь не для него. У него отнята такая возможность. Не сможет он смежить веки в кругу близких, дежурящих возле его смертного одра, наблюдающих его последний вздох. Он умрет, как и жил, одиноким, не имея никого, кто стал бы тосковать по нему, думать о нем, оплакивать его. Даже это они у него отняли. Он исчезнет, оставит этот мир, совершенно к нему равнодушный, — жестокая расплата за долгое, в течение многих лет, молчание.
Он закрыл глаза, чувствуя, что воля покидает его, уходит, как вода в сток ванны.
Алекс.
Ему хотелось вспомнить напоследок что-нибудь красивое. Алекс.
Это имя дразнило его язык, он представил ее стоящей на пороге его сторожки на острове Камано, представлял себе ее волосы и как они обрамляют ее безукоризненно прекрасное, без изъяна лицо, как ниспадают на шею, на плечи, прекраснее самой прекрасной шелковой шали. Он видел перед собой ее грустные иссиня-черные глаза — отцовские, шотландские, глаза эти искрились как бриллианты.
Как бы он любил ее! Любил бы в каждое мгновение каждого дня из тех, что ему остались. Он столько лет потратил, переживая прошлое, что не заботился о будущем. Он держался гордостью и принципиальностью, оставаясь верным самостоятельно выработанным моральным нормам. Но в конце концов наказал он лишь себя самого.
Он проиграл. Его победили.
Комната пылала, омытая солнечным радужным пламенем — красно-оранжевая, вспыхивающая желтым. Огни подступали все ближе, дюйм за дюймом, они окружали его, а он терпеливо ждал. Он опять погружался в беспамятство, в темную глубь, и видел их приближение — ангелы спустились сверху, подняли его и понесли, как он надеялся, на небо.
72
— Бросьте оружие, детектив.
Молья бросил на землю «Зиг» и поднял руки на высоту плеч. Сзади за поясом у него автоматический пистолет, но от этого теперь мало толку, так как на него нацелено дуло дробовика, способного разорвать его на части, прежде чем он успеет потянуться к пистолету, и все же у него оставалась надежда. Но вскоре и она улетучилась.
— Снимите куртку, сбросьте ее. — Молья повиновался. — Теперь медленно поворачивайтесь. Бросьте его на землю.
Детектив протянул руку назад и сбросил пистолет вслед за курткой. Он приготовился получить картечь в спину.
— Повернитесь.
Почему рыжебородый не застрелил его, когда ему представился такой случай? Этого Молья не знал, но, так или иначе, каждая лишняя секунда давала шанс на жизнь. А Том Молья намеревался остаться в живых.
— Кто вы? — спросил он.
— Это так важно?
Они говорили очень громко, перекрикивая шум ветра и дождя, как матросы на палубе корабля в штормовом море.
— Мне надо знать вашу фамилию для отчетности.
Рыжебородый посчитал эти слова забавными.
— Ну, тогда я, так и быть, скажу. — Он настороженно огляделся, с волос и бороды его лилась вода, сбивая их в сплошную массу, как шерсть у бездомного пса. — Где ж твой дружок, детектив?
Слоун. Вот почему рыжебородый не выстрелил ему в спину. Им нужен Слоун или скорее даже та папка, о которой он говорил.
— Собирает войска. Скоро здесь будет полно людей, которым не очень-то по вкусу придется убийца полицейского. На твоем месте я бы отсюда смылся.
— Хороший совет. Я и собираюсь так сделать.
— А я остаюсь.
Было глупо так говорить, но Молье сказанная фраза доставила некое извращенное удовольствие, в то время как он продолжал перебирать в уме небогатые возможности выбора. Броситься в ручей? Но рыжебородый изрешетит его, как мишень в тире, еще прежде, чем он успеет нырнуть.
Рыжебородый пожал плечами.
— Превратности войны, детектив!
— Серьезно? А я-то думал, что объявлять войну — это привилегия конгресса. Придется полистать конституцию, освежить в памяти некоторые ее статьи. Так за кого воюешь, солдат?
— Я мог бы и сказать тебе это, детектив, но потом мне придется тебя шлепнуть. Смешно, правда?
— Бывает и смешнее. Похоже на шутку из плохого фильма. Успокой ты мою душу перед тем, как мне лечь в могилу. Скажи только, это вы те подонки, что кокнули Купермана?
— Если ты про того полицейского, то да.
— Ну, тогда счет по меньшей мере равный. — Он отогнал от себя прочь мысли о Мэгги и детях. Он не умрет. Не допустит этого. Повернись. Не давай ему слишком легко взять тебя на мушку. Да разве в этом дело? Дробовик и без того разорвет тебя на куски.
— Я счета не веду, детектив. И зла на вас не держу. И не моя на то воля — убивать стражей порядка. Я лично полицию уважаю — работа у вас не из легких.
— Твои слова — мне просто бальзам на душу.
— Тот полицейский был непредвиденным осложнением. Нам не оставалось ничего другого.
— Будь уверен, я это передам его жене и сыну, когда их увижу.
— Вряд ли передашь, — сказал рыжебородый, поднимая «бенелли».
Деревья и кустарник поредели, обозначив истоптанные тропинки, ведущие к небольшой поляне-пролысине в густой чаще леса. Кто расчистил эту поляну — природа или человек, Слоун не знал, но пустое пространство, несмотря на потоки воды, льющиеся сверху, и туман, дало ему возможность увидеть их фигуры. Проблема заключалась в расстоянии. Даже в самых благоприятных обстоятельствах он вряд ли мог бы попасть в такую цель, стреляя из пистолета, а при туманящей зрение мигрени и среди водяных струй шансы его были равны одному к миллиону. А выстрелить он мог только один раз. Он вжался спиной в ствол дерева, судорожно соображая и не находя очевидного решения. Он вгляделся опять.
Его выстрел, по крайней мере, привлечет внимание обоих. А это может дать детективу необходимое время. Он глубоко вздохнул и потянулся к заткнутому за пояс кольту.
Но кольта не было.
73
Жгучая боль была нестерпимой. У Чарльза Дженкинса ныли кости, мускулы его дергались. Голова, казалось, вот-вот лопнет. Если б не дикая боль в челюсти, он бы улыбнулся. Он знал, что мертвые боли не чувствуют, а единственным его чувством сейчас была неподдельная острая боль.
Он был укрыт тонкой простыней, но ткань эта давила на больной костяк, как свинцовая плита. Во рту у него было щекотно, словно он наглотался волос, а воздух вокруг потрескивал, словно его прошивало током — так бывает, когда вытаскиваешь из сушилки шерстяные носки. Стоило моргнуть, и глаза пронзало болью. Последнее, что он помнил, был пол в доме Уильяма Харта и смутное ощущение, что он парит над ним и ангелы влекут его в темный туннель к яркому свету, как он полагал, на другом его конце.
Он поднял голову, и все пошло волнами — стол, стул, тумбочка с телевизором, цветастые обои. Если это и есть царствие небесное, он ужасно разочарован. Он опять упал на подушки и стал погружаться в беспамятство, не в силах бодрствовать; он мог только дремать, пребывая в смутной вневременной неопределенности.
— Как ты себя чувствуешь?
Голос отдавался гулким эхом, замирал и вновь возвращался, звеня в пустоте пространства.
— Чарли?
Он повернул голову. Она стояла в дверях. Алекс. Возможно, все-таки это было царствие небесное.
Она приблизилась к его кровати.
— Как ты себя чувствуешь?
— Как... — Он вздрогнул от боли.
Она помогла ему сесть, подложив подушку под спину, потом протянула таблетки и стакан воды.
— Нет, — произнес он, морщась от света настольной лампы.
— Это мотрин. К сожалению, я не смогла достать пива. Придется тебе запить водой.
Он улыбнулся и тут же пожалел об этом.
— Не смеши меня. Смеяться очень больно.
Голос его звучал хрипло, как у злодея из мультфильма.
Она села на краешек кровати, сунула ему в руку две пилюли и поднесла к его губам стакан. Ему показалось, что он глотает мячики для гольфа. В зеркале над столом он поймал свое отражение. Лучше бы ему его не видеть. Глаза его были обведены лиловыми тенями, что придавало ему сходство с енотом. Переносица вдавлена, как у боксера, а кончик носа свернут на сторону, вправо.
— Интересно, есть у меня что-нибудь, что осталось бы цело и не болело?
— Так, давай прикинем: ушиб и перелом ребер, возможный перелом ключицы, множественные синяки, несколько порезов. Руки и кожа головы травмированы осколками стекла. Да, еще возможное сотрясение мозга, почему мы тебя все время и будим. — Она наклонилась к его уху. — И все равно красивее тебя я никого не видела.
Он почувствовал, как ее теплая ладонь сжала его руку в искреннем, прочувствованном пожатии.
— Тебе надо больше с парнями встречаться, чтоб было с кем сравнивать, — сказал он.
Она с улыбкой отодвинулась.
— Молчал бы уж. Я впустила тебя в отцовский дом, а ты чуть не спалил его дотла.
Он улыбнулся ей в ответ.
— Теперь мы квиты. Продажную цену-то снизишь?
И тут же всплыл главный вопрос. Алекс была девушкой крепкой, но и она вряд ли смогла бы так быстро добраться до отцовского дома, а добравшись, втащить его двухсотсорокафунтовую бесчувственную тушу вверх по лестнице, а затем выволочь из дома.
— Как ты меня оттуда выволокла?
Она выпрямилась и повернулась к двери. Аккуратно причесанный мужчина в синем полосатом костюме, стоя в дверях, смотрел на них.
74
Раскат грома почти заглушил этот звук — звук треснувшей ветки.
Рыжебородый автоматически поднял голову и обернулся в направлении звука: из темноты метнулась тень — так бросается хищник на ничего не подозревающую добычу. Движение было рассчитано точно — удар, пришедшийся под мышку, заставил рыжебородого отпрянуть и, задрав дуло «бенелли», выстрелить в сторону деревьев. Рыжебородый упал на спину, так что пятки его очутились в воздухе, но он приподнялся, сгруппировавшись, как кетчер на базе, и вновь нацелил ствол на Тома Молью.
Потом детектив увидел, как ствол медленно опускается, словно сила, удерживающая его в воздухе, постепенно убывала. Потом его противник качнулся вперед, упал на колени, глаза его закатились и стали белыми, как на посмертной маске, и он рухнул лицом вниз, в опавшую листву.
Молья встал на одно колено и, сжав обеими руками «Зиг», приготовился к новому выстрелу. Но его не требовалось. Он поднялся и, сделав шаг вперед, носком ботинка отшвырнул «бенелли». Затем, протянув руку, взял рыжебородого за кисть, хотя и этого не требовалось.
Молья зачехлил «Зиг» и прошел туда, где в куче сухих листьев лежал Слоун. Нанеся удар рыжебородому, Слоун не прервал своего движения — сила инерции толкала его вперед, туда, где его не могла достать пуля Тома Мольи. То, что он совершил, можно было посчитать как фантастической храбростью, так и глупостью. Впрочем, как ни считай, Молья знал, что именно этот поступок спас ему жизнь, и поэтому уж ему-то придираться не стоило.
— Порядок? — спросил он, помогая Слоуну встать на ноги.
— Ага. Ты как в тумане плаваешь. Я вижу тебя нечетко. Это из-за мигрени.
— Потому ты и не стрелял?
— Я пушку потерял. Вот и кинулся туда, где должно было находиться дуло. Наобум кинулся.
— Хорошо, что ты мне сейчас рассказываешь об этом.
— Сделай одолжение — засучи ему рукав.
Молья наклонился и засучил левый рукав рыжебородого.
— Орел? — спросил Слоун.
— Угу, — сказал Том Молья. — Он самый.
Гроза прошла, исчертив небо пестрой палитрой красок — от розовой до цвета ночной синевы. Птицы, лягушки и насекомые, ожив, подняли целую симфонию звуков, сплетая свои голоса с потрескиванием полицейских радиопередатчиков и разговорами офицеров федеральной полиции, осторожно шагающих по краю глубоких, как шахты, грязных луж. Слоун видел, как отбыли две машины «скорой помощи», отбыли тихо, без сирен и мигалок. Торопиться незачем. Пассажиры были мертвы. Как и уборщик, эти двое сообщить ничего не могли.
Обезболивающее притупило его мигрень. В глазах прояснилось.
— Вам рентген нужно сделать. — Фельдшер перевязал Слоуну лодыжку, после чего помог надеть ботинок.
Слоун зашнуровал ботинок до конца, затянул шнурки так, чтобы ноге было удобно, и проковылял к стайке патрульных машин без опознавательных знаков, возле которых он заметил Молью. Детектива распекал какой-то коротышка в очках с проволочной оправой, лысоватый и с голосом резким, как рупор:
— Как видим, произошло чудесное исцеление, Моль. Час назад Бенто уверял меня, что ты на смертном одре, а оказывается, ты тут бегаешь по лесу, уворачиваясь от пуль!
— Я готов это объяснить, Рэйберн, — усталым голосом, вяло произнес Молья.
— Разумеется, объяснишь — в письменной форме. Мне нужна объяснительная. Во всех подробностях. И самым срочным образом. Я хочу знать, что происходит, Моль. И при чем тут фасолевая похлебка? Это что, новое средство от гриппа, мне пока неизвестное?
Слоун выступил вперед.
— Может быть, мне следует это объяснить?
Коротышка взглянул на него, сощурив глаз — так щурятся, когда хотят удержать в глазу монокль.
— Кто вы такой, черт возьми?
— Эрвин Джонсон. — Слоун протянул ему руку, но коротышка этот жест проигнорировал.
— Джей Рэйберн Франклин, начальник чарльзтаунской полиции, — сказал Молья, знакомя их со Слоуном.
— Боюсь, что виноват во всем я, мистер Франклин.
Франклин поднял бровь.
— Вы? Каким образом?
— Я друг Тома из Калифорнии. Это я уломал его поехать и отведать похлебки, которую он так расхваливал все эти годы. А приехав сюда и увидев, что заведение закрыто, мы попали в грозу и решили переждать ее здесь. Тут-то и возникли эти двое — думаю, они собирались ограбить кафе. Они наскочили на нас с оружием в руках, и если б не быстрота реакции Тома, который толкнул меня в заросли, меня бы сейчас не было в живых. Я ему жизнью обязан. Он настоящий герой. У вас все такие храбрые в Западной Виргинии?
Франклин уставился на него так, словно внимал какой-то иностранной речи, потом брезгливо покачал головой.
— Подождите здесь вы оба, — сказал он и направился к команде судебных экспертов, облепивших «шевроле» и пикап.
— Неплохо, — сказал Молья. — Думаю, он почти купился. Только зря ты заговорил о геройстве. Надо знать, кому какие слова можно говорить. Для Франклина я такой же герой, как Шварценеггер — губернатор.
— Мне твою машину жалко, — сказал Слоун.
Молья взглянул на изрешеченный пулями «шевроле».
— Да ладно, какого черта! Может, это и к лучшему — давно пора купить что-нибудь поновее, с кондиционером. — Он опять повернулся к Слоуну:
— Эрвин Джонсон?
Слоун пожал плечами.
— Франклин, судя по всему, не из баскетбольных фанатов.
— Это точно, но Колдун Джонсон почти семи футов ростом и черный, как сапог. Не думаю, чтоб вас можно было принять за близнецов. Наверное, лучше было бы назваться Джоном Стоктоном.
— Стоктон? Парень с головой? Я и сам с головой. Вспомнишь, так размечтаешься.
Молья хмыкнул.
— Возможно. А вот о том, что произошло сегодня, ни ты, ни я не мечтали. Что ни говори, а это из-за тебя все случилось. Они собирались меня кокнуть, но прежде им нужно было разыскать тебя, из чего можно сделать вывод, что главная их цель — вернуть бумаги, которые тебе послал Джо Браник.
— Ты хоть догадываешься, чего они так всполошились?
— Пока нет.
Подошел еще один офицер. Молья представил его как Марти Бенто.
Бенто взглянул на часы.
— Не хотел бы я быть в твоей шкуре. Мэгги небось не простит тебе пережаренного жаркого.
— Когда я скажу ей, что наконец-то избавились от «шевроле», она будет на седьмом небе от счастья.
Сунув руку в карман рубашки, Бенто вытащил оттуда листок бумаги.
— Проверил я тот телефончик. Номер этот в Мак-Лине, Виргиния, и принадлежит он некой Терри Лейн.
— В Мак-Лине? — переспросил Молья.
— По всей вероятности, девочка не из дешевых, не из тех, что за пятьдесят баксов делают минет в темных закоулках, но не трудись выезжать по адресу.
— Нет в живых?
— Исчезла. И исчезла второпях. Полиция Мак-Лина по моей просьбе наведалась туда. Докладывают, что увидели там на столе недопитый бокал вина, свет не погашен, стерео не выключено, банное полотенце брошено на пол. Соседка утверждает, что видела, как мисс Лейн села в свой «мерседес» с чемоданом и укатила. Кредитки у нее чистые и, думаю, останутся таковыми еще некоторое время. Карточками «Виза» и «Мастеркард» она, как я полагаю, не пользуется. Таким образом, она может скрываться хоть до скончания века.
— Да, вляпались мы в какую-то грязь.
— Возможно. Хотя за секс с нами никто в ответе и не будет. А вот со второй фамилией, о которой ты мне поручил разузнать — Чарльз Дженкинс, — мне не повезло. О нем сведений нет. Ты уверен, что он существует?
Молья покосился на Слоуна.
— Существует, — сказал Слоун, больше чем когда-либо уверенный, что Дженкинс был, а возможно, и остается агентом ЦРУ.
— За старанье спасибо.
Бенто кивнул.
— Хо нашел тебя?
— Питер? Нет. А что такое?
— Он звонил в отделение, искал тебя. Я ему посоветовал попробовать позвонить на мобильник. Я же не предполагал, что кто-то в это время использует тебя в качестве мишени. Он сказал, что помощник генерального прокурора опять звонил ему и выражал свое серьезное недовольство несанкционированным вскрытием. Какого черта ты такое творишь, Моль? Моль?..
Том Молья по привычке направился к «шевроле», но резко остановился и, повернувшись к Бенто, протянул к нему руку с видом просителя:
— Не в службу, а в дружбу — не одолжишь мне свою машину?
75
Мотрин приглушил боль настолько, что он смог сесть в постели без того, чтобы каждая кость его не взвыла, моля о пощаде. Туман в голове, такой же плотный, как туманы, порой накрывавшие его ферму, продолжал редеть, и фигуры в комнате стали двигаться в реальном времени, а не в некоем призрачном, повернутом вспять, как это бывает во второсортном японском кино. Алекс сидела на стуле возле его кровати, а высокий худощавый мужчина, ранее стоявший в дверях, теперь мерил шагами комнату в изножье кровати. Директор ЦРУ Уильям Брюер был безукоризненно одет, накрахмален и выутюжен, в прекрасно сшитой белой рубашке с темно-синим галстуком и при запонках. С правой кисти свисала золотая цепь, а седоватые, цвета соли с перцем волосы были того же оттенка, что и полоски на его костюме, пиджак от которого висел на спинке стула. Подбородок его украшала густая щетина, хотя явственный запах одеколона и говорил о том, что он недавно брился — возможно, после дневной разминки. Судя по его спортивной фигуре, он регулярно играл в сквош или «ракету». Выражение лица его было кислым, как у человека, только что выложившего кругленькую сумму за невкусный обед.
— Мне звонил глава Мексиканской разведывательной службы и выражал недоумение, почему мы вдруг заинтересовались организацией, которая вот уже тридцать лет как не существует. — Говоря, Брюер продолжал мерить шагами комнату. — Я понятия не имел, о чем он говорит, хотя и не сказал ему об этом. Он заявил, что ему позвонил начальник нашего отделения в Мехико и попросил информацию относительно крыла группировки, называющей себя Фронт освобождения Мексики, и особенно относительно так называемого «Пророка». По-видимому, запрос исходил от Джо Браника. — Брюер сделал остановку и пронзил Дженкинса самым внушительным из своих взглядов крупного чиновника. — Вы объясните мне, что все это значит, агент Дженкинс?
Несмотря на боль, Дженкинс не смог сдержать улыбки.
— Ко мне уже тридцать лет так не обращались, мистер Брюер.
Брюер кивнул.
— Знаю. Я читал ваше досье. Там вы характеризуетесь как помешанный окончательно и бесповоротно. — Он бросил взгляд на Алекс. — Однако агент Харт утверждает, что это не так. А еще она говорит, что вы, как никто другой, можете помочь нам понять, что происходит, и в обоих случаях я склонен ей поверить. — Брюер сверился с часами. — Дело в том, что, если что-то происходит, мне лучше узнать об этом срочно. Потому что минут через десять президент готовится обратиться к нации и подтвердить сообщение из Мексики о договоренности значительно увеличить закупки нефти и природного газа, которые мы там производим. Друзей на Ближнем Востоке это заявление нам не прибавит. — Качнув стул, на спинку которого он повесил пиджак, Брюер оседлал его и заерзал, усаживаясь поудобнее. — Агент Харт просветила меня насчет теории Джо Браника о возможном возрождении этой группы — Фронта освобождения Мексики. Мне хотелось бы услышать ваше мнение.
— Это не теория.
— Глава Мексиканской разведывательной службы другого мнения. Он утверждает, что не нашел никаких признаков, подтверждающих существование этой организации сейчас; ему кажется забавной наша озабоченность делами тридцатилетней давности. Он сказал, что у них достаточно хлопот с современными террористами. Что ловить призраков они не намерены.
— А в семьдесят третьем они этим занимались, — сказал Дженкинс. — Как и мы.
— Вы про Эль Профету?
— Про него.
Движением подбородка Брюер указал на круглый стол за его спиной — там лежала раскрытая картонная папка.
— Я читал ваши донесения насчет него. Но позвольте мне сказать, что пока вы занимались всякой чепухой, мы провели большую работу по изучению всех сведений об этой организации вообще и этом человеке в частности. И все показания сходятся в том, что Эль Профеты либо не было в природе вообще, либо он умер. О нем вот уже тридцать лет ни слуху ни духу.
— Ваши показания неверны.
Брюер глубоко вздохнул и шумно выпустил воздух, пристально глядя на Дженкинса — он остался при своем мнении, но напрочь отвергать мнение Дженкинса тоже не хотел.
— Хорошо. Объясните мне, почему вы так думаете.
— Потому что нефтяной рынок для Мексики — это предмет священный. Кастаньеда не собирается заключать соглашение, которое открывало бы двери в Мексику американским нефтяным компаниям и позволило бы им вновь хозяйничать в стране.
Брюер взял в руки дневной номер «Пост» и поднял его так, чтобы Дженкинс мог прочитать заголовок: «Мексиканско-американский нефтяной саммит, как утверждают, близится».
— Вы ошибаетесь. Он уже согласился. Президент подтвердит, что саммит состоится послезавтра и начнется с церемонии на Южной лужайке утром в пятницу.
Дженкинс покачал головой.
— Нет, это вы ошибаетесь. На проведение саммита он действительно согласился. Но договор по нефти заключен не будет.
— Переговоры состоялись и закончены, агент Дженкинс. А саммит — это будет всего лишь шоу.
— Может быть, это и будет шоу, но не такое, какого все ждут.
— Что вы имеете в виду?
— Дирижирует саммитом он.
— Кастаньеда?
— Да.
— Вы считаете, что он и есть Эль Профета?
— Нет. Слишком молод. Но я считаю, что он действует по указке Эль Профеты.
— Эль Профета стоит и за соглашением, и за саммитом?
— Да, потому что он знает Роберта Пика. Знает обещания, данные Пиком американскому народу, и его намерения эти обещания выполнить. И он использует это как приманку, чтобы заманить Пика на переговоры.
— Зачем?
— Чтобы приблизиться к нему. Ему почти удалось сделать это в Южной Америке. Но помешала смерть Джо Браника. Поэтому ему пришлось изменить свой план. Он изобретателен. А еще он упорен и терпелив. Почему бы и не потерпеть? Ведь он уже тридцать лет этого ждет. Вот он и велит Кастаньеде обнародовать переговоры и втянуть в них Пика, потому что знает, что это сработает, знает Пика как высокомерного сукиного сына, которого заботит только одно — его карьера. Что и делает неизбежным саммит и его скорейшее проведение.
Брюер покачал головой.
— Вы хотите, чтоб я поверил, что один из самых известных за всю мексиканскую историю террористов, человек, которого, как считается, уже тридцать лет нет в живых, не только жив, но и тайно направляет секретные переговоры?
— Что с меня взять? — Дженкинс пожал плечами. — Я же помешанный.
Алекс встала, готовая содействовать компромиссу.
— Директор хочет сказать, Чарли, что подобную статистическую вероятность довольно трудно усвоить.
— Плевать мне, что усваивает или не усваивает директор! — Дженкинс опять повернулся к Брюеру: — Вот что я знаю твердо, мистер Брюер: что никакие статистические вероятности к этому человеку неприменимы. Я изучил его. Я старался понять ход его мыслей и составил себе представление о нем: он революционер, религиозный фанатик, гений, а возможно, и все это, вместе взятое. А еще я понял, что иногда на первый план выступают не математика и наука, а такие вещи, как рок и судьба, что дух человеческий не поддается расчету, и какие поступки человек совершит, и как долго способен он ждать, чтобы совершить их, если видит в этом свою цель, часто не поддается пониманию.
Брюер встал.
— Возможно, и так, но я привык иметь дело с реальностью.
— Что ж, не ошибитесь — ведь он весьма реален.
Брюер потер лоб.
— Тогда объясните мне вот что. Учитывая все, что я читал, включая и ваши донесения, этот саммит противоречит всему, во что этот человек верит. Тогда зачем он ему понадобился?
— Потому что, как я уже говорил вам, соглашения не будет и он это знает. И толкают его вперед не политические соображения и не экономические, связанные с нефтью. Побудительным мотивом служит нечто более важное и основополагающее. — Он покосился на Алекс. — Такой мотив возникает, когда у тебя отнимают все самое дорогое и ты не хочешь или не можешь это забыть.
— И что же это такое? — спросил Брюер.
За него ответила Алекс:
— Жажда мести.
76
Том Молья затормозил, оставив джип возле лесенки, ведущей к металлической задней двери кирпичного оштукатуренного здания. Оставив ключи в зажигании, он вылез из машины и показал на синий «шевроле-блейзер», стоявший в углу парко-вочной площадки в тени под деревом.
— Машина Хо.
— Хорошо. — Слоун соскочил с кресла рядом с водительским и торопливо обогнул машину.
— Да нет. Сейчас больше пяти. Хо никогда не задерживается на работе после пяти. — Молья потянул за ручку двери. Заперто. — Черт! И дверь он тоже никогда не запирает.
Он перепрыгнул через перила и побежал по подъездной дорожке. Слоун захромал ему вслед, стараясь не отставать. Распахнув одну за другой две стеклянные двери с фасада здания, он устремился вниз по коридору к двери с матовой стеклянной табличкой. Выполненная по трафарету надпись на табличке указывала, что это кабинет Питера Хо, медицинского судебного эксперта округа Джефферсон.
— Я первый.
Молья вытащил «Зиг» и открыл дверь в пустую приемную, потом открыл вторую дверь, внутреннюю, из которой на них пахнуло тошнотворным запахом формальдегида. Прокравшись по темному коридору, сопровождаемые все усиливающимся запахом, они очутились в помещении, уставленном столами, столешницы которых сильно смахивали на большие металлические противни. Яркий свет освещал темно-зеленый чехол с трупом на одном из столов. Слоун различал механическое жужжание — возможно, кондиционер. Не считая этого звука, все было мертвенно тихо.
Молья предостерегающе поднял руку, сделав знак остановиться. Он скрылся в двери, за которой, как рассудил Слоун, должен был находиться личный кабинет Хо, потом появился опять, отрицательно покачал головой и указал пальцем в глубь комнаты. Они прошли туда, миновав большой стальной контейнер с многочисленными выдвижными ящиками, и заняли позиции возле задней двери. Слоун сжал дверную ручку, вспоминая безжизненное тело Мельды и ожидая кивка Мольи. Потом он рванул дверь. Молья ворвался туда, держа наготове пистолет.
Ванная. Пустая.
На секунду они замерли в нерешительности. Молья оглядывал помещение, теребя щетину на подбородке, потом взгляд его остановился на лежавшем на металлическом противне теле в зеленом чехле. Слоун сразу же понял, о чем он думает. Если коронер отбыл домой, разве мог он оставить тело на столе? Они прокрались обратно через комнату, не сводя глаз с зачехленного тела. Периферическим зрением они уловили тень, расползавшуюся на полу, как пролитые чернила. Дверца стального контейнера с шумом открылась, и оттуда как выстрелило металлическим поддоном, похожим на внезапно высунутый язык какого-то неведомого гигантского хищника; движением этим их обоих сбило с ног, и тело на поддоне, сев, испустило крик.
Простыня упала, и крик превратился в хохот.
— Сукин сын! Наконец-то я тебя уел! После стольких... — Лицо человека на поддоне стало белым как мел.
Молья присел, изготовившись, целя в лоб человеку на поддоне.
— Том?
Молья опустил свой «Зиг» и, ухватив человека за ворот рубашки, стащил его с поддона. Ноги у него дрожали и подгибались.
— Черт побери, Питер, я тебя чуть не ухлопал! О чем ты только думал!
Питер Хо выглядел испуганным, оторопелым.
— Я просто пошутил, Том!
Не глядя на него, Молья кружил по комнате, как зверь, запертый в клетке зоосада, он еле выговаривал слова, то и дело осеняя себя крестным знамением:
— Господи Иисусе, Питер! Господи Иисусе! Пропади ты пропадом! Черт тебя возьми!
Хо перевел взгляд на Слоуна, но и Слоун не мог найти слов: сердце его билось где-то в горле.
Молья рухнул в кресло на колесиках, как боксер по окончании раунда, уничтоженный физически и морально.
— Прости, Питер... Черт... Прости меня...
— Да что такого случилось, Том?
Молья отъехал в своем кресле, встал.
— Мне надо выпить. У тебя еще сохранилась та бутылка «Столичной»?
Хо достал из шкафчика стерильные мензурки, а из отделения холодильника — бутылку водки и налил каждому по порции. Они выпили залпом. Хо дважды наполнял мензурки, пока Молья рассказывал ему о двух незнакомцах в лесу и соображениях Слоуна о том, что за многими из произошедших событий стоит Паркер Медсен.
— Бенто сказал, что ты звонил насчет того, что Риверс Джонс узнал про вскрытие. Я уж думал, что найду тебя на одном из твоих столов.
Слова эти сильно расстроили Хо.
— Угу, — только и вымолвил он.
— Что в точности сказал Джонс?
Хо покачал головой.
— Бушевал и орал. Грозился, что лишит меня лицензии, требовал ответить, почему я не выполнил его прямого указания прекратить работу и воспротивился ему.
— Он сказал, каким образом узнал это?
— Видимо, их коронер обнаружил следы произведенной биопсии. Я отрицал, но потом мне надоело слушать крики этого мерзавца. И я послал его. Может подтереться этой лицензией. Я вернусь к частной практике — это куда выгоднее.
— Ладно, Питер, ладно, — сказал Молья, стараясь его успокоить.
— Господи, Том, ты и вправду думаешь, что они попытаются меня убить?
После того что произошло в лесу, Слоун был абсолютно уверен, что ответом на этот вопрос служит недвусмысленное «да».
— Никто не собирается тебя убивать, Питер. Но я все-таки посоветовал бы тебе взять, не откладывая, пару деньков отпуска. Съездишь куда-нибудь с женой и детьми, встряхнешься.
— Я уже думал об этом после звонка сестры.
— Какой сестры?
— Сестры Джо Браника.
— Эйлин Блер? — удивился Слоун.
Хо повернулся к нему.
— Да, она так назвалась.
— И что ей было надо? — спросил Слоун.
— Интересовалась результатами вскрытия. Может быть, я был еще на взводе после разговора с этим кретином Джонсоном, но факт тот, что я сказал ей кое-что из того, чего не должен был говорить. Сказал, что любые результаты вскрытия, о которых ей сообщит правительство, она может подвергнуть сомнению. Что я имею основания считать, что ее брат — не самоубийца. А уже повесив трубку и успокоившись, я решил, что, может быть, совершил глупость.
— Ну, что сделано, то сделано, — сказал Молья.
— Они хотят меня убить.
— Никто не собирается тебя убивать, Питер. Куда ты хочешь поехать?
— Ребята совсем меня замучили — просят отвезти их в «Диснейленд», с прошлого года просят, когда ты сорвал мне летний отпуск.
— Место оживленное — хорошо!
На лице Хо вдруг отразился испуг.
— Позвоню-ка я домой!
Молья положил руку ему на плечо.
— Все в порядке, Питер. Я послал к твоему дому наблюдение.
— Лиза с ума сойдет от страха. Лучше я домой поеду. Должно быть, она трясется там.
Они помогли ему обратно загрузить тело в холодильник. Потом Хо прошел к себе в кабинет и вернулся уже в голубой ветровке. Слоун и Молья прошли за ним к задней двери и спустились по двум пролетам лестницы, не прерывая разговора.
— А чего ты, собственно говоря, сегодня так задержался? — осведомился Молья. — Ты же никогда не остаешься после пяти.
— Писанину кое-какую надо до конца месяца представить. Я вечно откладываю это до последней минуты, а потом три вечера — у меня аврал. А тут со всей этой кутерьмой я запоздал, поэтому и музыку не включил и мог расслышать, как вы подъехали. Я выглянул в окно и увидел, как ты вылезаешь и бежишь к задней двери. Я решил, что ты опять хочешь пугнуть меня. — Хо был уже на нижней площадке. — Я обещал тебе, что велю Бетти эту дверь запирать.
— Ты говоришь это уже который год, и я не думал, что обещание будет выполнено.
Они вышли на парковку. Повернувшись, Хо запер замок на ключ.
— Как и я не думал. Но вот что я тебе скажу: побывав в этом холодильнике, я склоняюсь к мысли о кремации.
— Ты чуть не получил такую возможность.
— Но ведь я тебя уел, разве не так?
— Верно, уел, да так, что и сказать невозможно.
— Расплата — она того стоит.
Молья улыбнулся.
— Я это попомню.
Хо двинулся по площадке к своему «блейзеру». Молья скользнул за руль джипа Бенто. Слоун потянул за ручку двери, противоположной водительской. Внезапно его посетила некая мысль, и он повернулся к Питеру Хо, отпиравшему свою машину:
— Я ведь ей не сказал.
Молья перегнулся через сиденье.
— В чем дело?
Слоун наклонился к нему.
— Я не сказал Эйлин Блер, что Хо делал вскрытие.
— Что?
— Эйлин Блер, сестра Джо Браника... Я ей не говорил, что Хо произвел вскрытие. Она думала, что этого не было. Думала, что вмешалось Министерство юстиции. Ей незачем было звонить и интересоваться результатами...
Но Молья уже отстегнул ремень безопасности и торопливо вылезал из машины, громко зовя Хо, однако коронер округа Джефферсон успел скользнуть на сиденье «блейзера» и захлопнуть дверцу.
— Хо!
77
Брюер перечитал газетные статьи, те самые, которые навечно остались с Чарльзом Дженкинсом, остались, как остается раковая опухоль — ее можно вылечить, но до конца она не исчезнет. С годами газетные страницы пожелтели и выцвели, под пальцами они рвались, но Дженкинс хорошо помнил содержание статей, особенно двух из них.
МЕКСИКАНСКАЯ БОЙНЯ
«Ассошиэйтед пресс»
Оахака, Мексика. — Не меньше 48 человек — мужчин, женщин и детей, жителей горной деревушки, затерянной в джунглях Оахаки, Мексика, стали жертвами того, что мексиканские власти именуют «кровавой баней» — они были замучены, изнасилованы и убиты.
Называя это событие самой ужасной резней, когда-либо случавшейся в Мексике на всем протяжении ее бурной и исполненной жестокостей истории, мексиканская газета «Ла Журнада» винит в нем все усиливающуюся войну между беднейшими слоями населения, борющимися за улучшение условий существования, и проправительственными военизированными формированиями.
Командующие мексиканских вооруженных сил решительно отвергают как свою причастность к этой расправе, так и планирование ими каких-либо операций с целью сломить сопротивление революционно настроенных банд в южной части Мексики, где эти банды, как предполагается, используют гористый рельеф местности и труднопроходимые джунгли, чтобы уходить от преследования правительственных и проправительственных войск.
Как сообщается, в живых из подвергшихся нападению не остался никто.
Дженкинс пролистнул окончание статьи и, перевернув страницу подшивки, указал на другую, такую же вырезку — статью, появившуюся двумя неделями позже первой.
МЕКСИКАНСКАЯ БОЙНЯ, ВИДИМО, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ РУК ВОЕННЫХ
«Ассошиэйтед пресс»
Оахака, Мексика. — Мексиканские властные источники ссылаются на имеющиеся у них доказательства того, что нападение на деревню в джунглях Южной Мексики, штат Оахака, вопреки распространенному мнению, не было совершено отрядами правительственных войск, но было организовано настроенной самым жестким образом организацией, известной как Фронт освобождения Мексики (ФОМ).
Считающаяся самой радикальной из революционных группировок, ФОМ и ее руководитель, так называемый Эль Профета (Пророк), не так давно взяли на себя ответственность за серию нападений на правительственные войска и официальных лиц в южных штатах Мексики. Мексиканская военная разведка — аналог ЦРУ — пока что не очень успешна в своих попытках прекратить насилие и выявить главарей организации.
Официальный, близкий к правительству источник сообщил, что нападение осуществляли члены ФОМ, хорошо вооруженные и одетые в черно-серую форму, которую обычно носит военизированное формирование «Los Halcones».[7] Мотивы этого преступления ФОМ не совсем ясны, но официальные лица утверждают, что их целью было возбудить страсти в среде мексиканской буржуазии и девятимиллионной армии мексиканских бедняков и заставить их обратить оружие против правительства и армии.
Если верить сообщениям, нападение это будет иметь далеко идущие и неприятные последствия. Мексиканские официальные источники утверждают, что событие это укрепило решимость мексиканского правительства выследить преступников в гористой и труднопроходимой местности и что здешние обитатели, еще недавно поддерживавшие главарей ФОМ, уже выдали властям нескольких подозреваемых.
— Это довольно обычная тактика, — сказал Дженкинс. — Не можешь отыскать человека, постарайся возбудить против него гнев его ближайшего друга. Это и израильтяне делали, и мы в Афганистане.
Брюер снял очки для чтения, но продолжал держать их в руке. Казалось, он был потрясен.
— Так это Пик устроил?
— Пик отдал приказ. А устроило подразделение, которое называется «Когти».
— Наши?
— Наши.
Брюер потер себе подбородок.
— Господи! Зачем?
— Второй войны, мистер Брюер, американцы бы не выдержали, и Роберт Пик не собирался позволять коммунистическим идеям укореняться у себя на задворках, особенно когда у президента возникло намерение использовать мексиканскую нефть. Пик всегда имел политические амбиции. И отец его учил всегда и во всем добиваться наивысшей награды. И мешать ему в его поползновениях не должен был никто — и уж, конечно, не какие-то там радикалы из захолустья, провоцирующие беспорядки в горных районах. Пик должен был обеспечить стабильность в стране на случай, если бы арабы проявили прозорливость и заставили президента раскрыть карты.
— Но деревня? При чем тут женщины и дети?
— Вы совершаете нечто, повергающее в ужас и страну, и мир в целом, а затем обвиняете в этом организацию, которую вы пытаетесь уничтожить, и тогда защищавшие главаря сдают его. В какой-то степени это увенчалось успехом, но проблема заключалась в том, что никто, кроме, может быть, нескольких приближенных, не знал, кто же он, Эль Профета. В этом отношении он был весьма хитер.
— И Эль Профета собирается убить Роберта Пика — отомстить ему за резню?
— Да.
— Каким образом? Объясните мне, как он сможет приблизиться к нему, чтобы это сделать?
— Я же говорил — мы его пригласили.
У Брюера вытянулось лицо.
— На саммит?
— Неужели вы полагаете, что он вот уже тридцать лет скрывается в подполье, мистер Брюер? Алекс сказала, что переговоры велись в строжайшей тайне. Следовательно, чтобы добиться того, чего он добился, Эль Профета должен быть видным деятелем — либо вооруженных сил Мексики, либо ее правительства. И в том, и в другом случае он войдет в состав делегации. Он будет присутствовать на церемонии. Тридцать лет Эль Профета ждал такой возможности. Он ее не упустит.
— Но он должен знать, что охрана будет крайне озабочена проблемой безопасности и глаз не спустит даже с делегатов. Как он собирается пронести оружие?
Дженкинс покачал головой.
— Этого я не знаю. И поэтому, думаю, Джо пытался разведать не то, как он это сделает, а кто он есть.
— Но это же против всякой логики: если Джо пытался установить личность этого человека и тем, вероятно, спасти жизнь Роберту Пику, зачем Пику его убивать?
— Потому что Пик не знал. То, что составляет силу таких людей, как Роберт Пик, есть одновременно и самая существенная из их слабостей. В них все подчинено одному интересу — эгоистическому. Когда Пику стало известно, что Браник имеет досье и предпринимает поиски, он сделал вывод, что Джо хочет его разоблачить, раскрыв его преступление в той деревне. Иной причины хранить досье, кроме как использовать его против него, Пик представить себе не мог. И я полагаю, что поэтому-то Пик и пригласил Браника опять работать на него. Не из дружеских чувств, а потому, что Пик боялся осведомленности Браника.
— Привлекай к себе друзей, а врагов привлекай еще ближе, — сказал Брюер.
— Именно. Одного не мог понять Пик, не мог, потому что его собственному сознанию это было совершенно чуждо, — что Джо Браник никогда не предал бы его, не нарушил кодекс молчания. Джо верил в нерушимость клятв и всегда поступал как должно.
— Тогда зачем понадобилось ему после стольких лет откопать это досье? — удивился Брюер.
— Я и сам задавался этим вопросом.
— Ну и каков ответ?
— Он в папке, которую завещал мне Джо. Устройте мне встречу с Робертом Пиком, и я предоставлю этот ответ вам обоим.
78
Сильнейший взрыв сотряс парковочную площадку, разнеся асфальт подобно землетрясению, сбив с ног Слоуна и бросив его назад, на спину. С неба посыпались куски металла и осколки стекла, языки пламени, как щупальца гигантского спрута, со всех сторон охватили «блейзер». В воздух взметнулись облака черного дыма, запахло жженой резиной, потянуло жаром.
Сев, Слоун увидел, как Том Молья, прикрыв курткой голову, ковыляет к останкам «блейзера». Он с трудом поднялся, пытаясь преградить ему дорогу, но Молья оттолкнул его и продолжал идти, потом низко пригнулся и исчез в черном дыму. Вынырнул он оттуда, волоча тело Питера Хо. Слоун ринулся к нему, подхватил руку, и они потащили через площадку совершенно безжизненное тело. Выбравшись на тротуар, они упали на асфальт, заходясь в приступе кашля, выплевывая черную мокроту, судорожно глотая воздух. От огня и дыма лицо Хо почернело, но кое-где заметны были розовые пятна содранной кожи. Лицо было мокрым от пота. Взрывом его ногу буквально вырвало из коричневого мокасина.
Молья, прижав к себе бездыханное тело друга, горестно раскачивался, грудь его сотрясалась от беззвучных рыданий. А Слоуна, как толчок в грудь, прошибло сознание вины. В голове его сверкнула молния, и он, как в темную дыру, полетел в бездну. Но на этот раз его приняла в свои объятия женщина. Теплая и живая, она качала его, тихонько напевая что-то, гладя его волосы. Он ощущал тепло ее груди, рук, ласкающих, успокаивающих его, он ощущал нечто, до сих пор неведомое, то, чего он был лишен всю свою жизнь, чего он так жаждал и не находил, — любовь. Чистую, беззаветную и неподдельную любовь.
Он узнал ее.
— Не знаю, кто они, — сказал Молья, подняв на него взгляд, — и не знаю, как я их разыщу, но я это сделаю. А сделав, подвешу за яйца!
Слоун стоял на переднем крыльце дома Тома Мольи вместе с тремя полицейскими в форме — юноши неловко толклись рядом и переминались с ноги на ногу, не зная, что делать и что сказать, как дальние родственники на похоронах. Патрульные машины ждали на улице с включенными моторами и зажженными фарами. Мигалки и воющие сирены, заставившие соседей вылезти на улицу, теперь бездействовали.
Молья присел на корточки и обнял дочь. Она была в синей курточке с надписью «Диснейленд» на спине и держала в руке розовый чемоданчик. Детектив прижимал ее к себе, вдыхая запах ее волос и целуя девочку. Потом он схватил в охапку Тиджея, настоявшего на том, чтобы надеть черную с серебром отцовскую куртку — форму команды «Оуклэнд рейдерc», хотя куртка эта была ему ниже колен. Он тоже был с чемоданчиком, из молнии которого торчала лапа какого-то игрушечного зверя. По щекам мальчика струились слезы — обоим детям было непривычно видеть мать и отца такими встревоженными.
— Слушайся маму, а я приеду к вам, как только смогу, — сказал Молья, стараясь успокоить сына.
— Почему ты сейчас не можешь поехать, а, папа? Я хочу, чтобы ты поехал с нами прямо сейчас!
— Но я обязательно приеду. Приеду попозже.
— Я хочу сейчас! — упрямился мальчик.
Молья прижал сына к груди.
— Мне надо работать. Я же должен оплатить колледж вам обоим.
— Не хочу я ни в какой колледж! Колледж — это глупость.
— Это ты говоришь глупости. Сейчас не хочешь — потом захочешь. В колледже хорошенькие девочки.
— Терпеть не могу девочек!
— Я там встретился с твоей мамой.
Тиджей озадаченно потер нос. Похоже, понятие «хорошенькая девочка» он никак не связывал с матерью.
— Поцелуй за меня бабушку, — сказал Молья.
Мальчик поморщился, словно пососал лимон, вскинул глаза на мать, которая стояла, ожидая его, скрестив руки и тиская в ладонях салфетку-«клинен», потом он наклонился к отцу:
— У нее изо рта плохо пахнет, — шепнул он на ухо Молье.
— Поцелуй ее в щеку, — шепнул ему в ответ Молья, — и не играй с дедушкиными паровозиками. Ты знаешь, что он сердится за это.
Он крепко, с чувством сжал в объятиях обоих детей, потом встал и повернулся к жене. Мэгги потерла себе плечи, словно пытаясь их согреть.
— Я тебе позвоню.
Она кивнула и повела детей вниз по ступенькам.
— Эй! — негромко окликнул ее Молья.
Мэгги передала детей Бенто, стоявшему внизу на дорожке.
— Можно будет включить сирену, а, Бенто? — спросил Тиджей.
— Что за патрульная машина без сирены! — отвечал Бенто, ведя детей к машинам.
Мэгги повернулась и ринулась вверх по лестнице; она порывисто обняла мужа, как если б он был моряком, вернувшимся с войны.
— Не делай так, чтобы мне пришлось растить детей одной, Том Молья! Слышишь? Не смей! И даже не думай!
— Я и не думаю, — шепнул он.
— Если ты меня оставишь, клянусь, я тебя просто убью!
Он разжал руки; его щеки были мокрыми от своих и ее слез.
— Я и не оставлю. Разве я не люблю тебя, детка?
Она зажмурилась, словно от внезапной боли.
— Нет, это я разве тебя не люблю?
Он обвил рукой ее плечи и повел вниз по ступенькам крыльца. Полицейские шли следом на почтительном расстоянии, а Слоун, стоя на крыльце, мог наблюдать всю картину. Бенто помог Мэгги сесть на заднее сиденье, потом пожал руку своему товарищу.
— Ты уверен, что тебе не требуется моя помощь? — спросил Бенто.
— Я доверяю тебе свою семью, Марти. Пусть с ними ничего не случится.
— С ними ничего не случится. Ты порядком меня мучишь, но остаться с Франклином без тебя — это уж увольте!
Бенто прыгнул в машину и захлопнул дверцу.
Стоя на тротуаре, детектив смотрел, как двинулась по улице вереница машин; отъезд сопроводили два коротких сигнала сирены — это было сделано, чтобы успокоить мальчика.
Том Молья помедлил — казалось, ему надо было справиться с эмоциями, потом он резко повернулся и, быстрым шагом пройдя по дорожке, одним прыжком одолел ступеньки. Он распахнул сетчатую дверь. Слоун последовал за ним и стал смотреть, как детектив отпер шкаф в гостиной и, вытащив оттуда бронежилет, кинул его на кресло; вслед за этим он достал целый арсенал ружей и пистолетов. Это смахивало на инвентаризацию небольшого склада боеприпасов.
— Вначале мы навестим Риверса Джонса.
Раскладывая оружие, он излагал свой план, как доказать прямое соучастие во всем Паркера Медсена. Имея в качестве доказательства одинаковые татуировки на трех трупах, они могли обращаться к федеральным властям, но этого в данный момент Молье делать не хотелось.
— Обратиться к властям — все равно что громко свистнуть в свисток в переполненном зале, — объяснял Молья. — Мы привлечем всеобщее внимание, но тем все и кончится. Единственное, к чему это приведет, — то, что Медсен, или кто там еще в это дело был впутан, получит возможность хитрее выстроить оборону.
Слоун знал, что такой план был бы эффективным ходом, эффективным и для его собственного расследования, который сразу бы снял все вопросы о его происхождении. Но он знал также, что план детектива порожден эмоциями, а не разумом. План этот не сработает. Медсен слишком хорошо защищен. А Риверс Джонс, вполне вероятно, просто пешка, козел отпущения. На случай, если кто-то подойдет слишком близко к сути. Министерство юстиции им нужно для поддержки, для того чтобы было сказано, что Джо Браник сам лишил себя жизни. И Джонс это сделал. Слоун знал единственный способ приблизиться к Пику или Медсену — с помощью досье. Досье им требуется больше, чем что бы то ни было другое. Это козырь. Только так можно прийти к финалу, каким бы он ни был. Необходимо остановить кровопролитие.
Рассуждения Мольи и его инвентаризацию оружия внезапно прервал некий звук — звук привычный, но сейчас такой неожиданный, что они оба не сразу поняли, откуда он исходит. Звонил мобильник на поясе Слоуна. Он схватил аппарат, раскрыл его, ожидая, что на освещенном экранчике дисплея появится номер Тины. Но определитель был заблокирован.
— Алло?
— Мистер Слоун?
Мужской голос, смутно знакомый, но не такой, чтоб сразу узнать.
— Кто это?
Молья шагнул к нему, и Слоун нажал сбоку кнопку громкости.
— Кто это, не столь важно, мистер Слоун. Вы оказались серьезным противником. Двое, с которыми вы разделались, в высшей степени опытные и умелые бойцы. Как и тот человек в Сан-Франциско. Хвалю.
Слоун покосился на Молью и произнес одними губами: «Медсен».
— Какими бы они там ни были, сейчас они мертвы, генерал.
Звонивший не стал прятаться и скрывать свою личность.
— Да, я понимаю. — Это был Медсен.
— Что вам нужно?
— У меня есть к вам предложение, мистер Слоун, — урегулирование или своего рода соглашение сторон. Думаю, вы оцените мое знание юридической терминологии.
— Слушаю вас.
— Предлагаю встречу один на один. Только вы и я.
— С чего бы я стал это делать? — сказал Слоун первое, что пришло ему в голову.
— Потому что у вас имеется некий пакет, а мне он нужен.
— Я спросил, с чего бы я стал с вами встречаться, генерал, а не с чего бы этого захотели вы. Ваше желание и так очевидно.
— Очень хорошо. От признанного короля судейских подмостков я и не ожидал иного ответа, кроме как четкого и обоснованного. — Медсен сделал паузу. — Для того чтобы вести переговоры, каждая сторона должна обладать неким рычагом, чем-то, что можно поставить на кон, чем-то, что получить противнику весьма желательно. Я прав? Вы к этому клоните?
— Уверяю вас, мистер Медсен, что вы не обладаете абсолютно ничем, что я мог бы пожелать получить.
— Такой ответ меня разочаровывает, мистер Слоун. Должен признаться, что я не без удовольствия думал о встрече с вами, вернее будет сказать, второй встрече. Проникнуть в Западное крыло Белого дома можно считать большим достижением. Этот неслыханный поступок ясно свидетельствует о незаурядном уме, хитрости и самообладании. Но если вы думаете, что я выступил со своим предложением, не имея ничего, чем можно было бы его подкрепить, то я могу лишь констатировать, что, возможно, переоценил вас или же что вы недооценили мою решимость.
— Я и не думал недооценивать вас, мистер Медсен.
— О, позволю себе не согласиться.
— Дэвид?
Неожиданный звук этого голоса заставил Молью отстраниться. Слоун закрыл глаза и уронил голову на грудь.
— Тина... — прошептал он.
— Вы сможете убедиться, мистер Слоун, что я не из тех, кто делает заявления, чтобы потом отступиться от них.
— Ты сукин сын, Медсен! Ей-богу...
— Рад слышать, что она вам так дорога, как я, собственно, и подозревал.
— Слушай меня, Медсен...
Голос Медсена стал жестче:
— В вашем положении, мистер Слоун, вы не можете ни угрожать, ни требовать. И не стоит переходить на личности. Отнеситесь к этому как к сделке. У вас имеется пакет. Он мне нужен. Вы предоставляете мне его, и я отдаю женщину вам в руки. Просто, четко и ясно.
— Куда ехать?
— Эту информацию вы получите позже. Приедете вы один, мистер Слоун. Без детектива. И без полиции. Если вы меня слушаете, детектив Молья, — а я полагаю, что слушаете, — так знайте: чтоб вашего духу не было в радиусе пяти миль, иначе женщину я убью. А вам, мистер Слоун, я позвоню. Попытка самому связаться со мной или узнать мой номер будет, уверяю вас, тщетна. Все ваши звонки прослушиваются. Если с дороги вы кому-то позвоните, мне это станет известно. Понятно?
— Понятно.
— И еще — советую поторопиться. В вашем распоряжении две минуты до следующего моего звонка с дальнейшими инструкциями. Сто двадцать секунд. Если сейчас же вы не тронетесь с места, причем один, женщина умрет.
— Медсен...
— Время пошло. Ровно две минуты... отсчет начался.
— Медсен! — выкрикнул Слоун.
79
Том Молья мерил шагами паркет возле входной двери, крепко сжимая в руке ключи от джипа Бенто.
— Это исключается. Я не пущу тебя, Дэвид.
Слоун взглянул на часы. У него оставалась минута и сорок пять секунд, прежде чем тронуться в путь.
— Ты же слышал. Он убьет ее.
— Он убьет ее так или иначе. И тебя убьет. Медсен — опытный убийца, Дэвид. Тягаться с ним невозможно, и нет гарантий, что он будет один.
— Он будет один. Ему гордость не позволит думать, что он нуждается в чьей-то помощи, чтобы выполнить задуманное. Я бросил ему вызов. И он хочет его принять.
— И именно поэтому один ты не поедешь, и брось строить из себя мачо.
Слоун посмотрел на часы. Оставалось меньше полутора минут.
— Мачо тут ни при чем. Не в этом дело.
— Тогда в чем дело?
— Ты не понимаешь, Том, а у меня нет времени тебе объяснить, но смерть ее я не могу допустить. Не могу оставаться в стороне и наблюдать, как погибнет еще одна женщина, которую я люблю. Я уже пережил это дважды. И если есть единственный способ, который может сохранить ей жизнь, я должен им воспользоваться.
— Мы можем...
— Времени нет! — рявкнул Слоун. Он был тверд как скала. — Времени нет строить планы! И помощь звать нет времени! Давай ключи!
— Я поеду следом на безопасном...
— Дай мне ключи от машины! — Он протянул руку.
— Я спрячусь в багажнике.
— У джипа нет багажника.
— Я спрячусь за задним сиденьем, черт возьми!
— А ты не думаешь, что он это предусмотрел? Не думаешь, что и сейчас за нами уже кто-то следит? — Слоун взглянул на часы. Осталось меньше минуты. — Время на исходе.
— Я тут тоже не посторонний, Дэвид. Они убили Купермана и Питера Хо. Это не только твоя схватка.
— Тогда позволь мне драться за нас обоих. Не позволишь — Тина погибнет, и мы проиграем оба. У тебя есть семья, о которой ты должен думать. У тебя двое маленьких ребятишек, которым нужен отец, и жена, которая ждет своего мужа. А у меня нет в мире никого, кроме Тины. Она — и все. Если он убьет ее, мне будет все равно, жить или умереть.
Молья покачал головой.
— Прости меня, Дэвид, но совершить самоубийство я тебе не позволю.
И, повернувшись, детектив направился к двери. Слоун схватил с углового столика лампу и запустил ею, как битой, в Молью; удар пришелся тому в затылок, и он упал. Встав на колено, Слоун приложил руку к шее Мольи справа под подбородком и почувствовал ровное биение пульса.
— Я не был бы тебе другом, если б допустил, чтобы жена твоя осталась вдовой, а дети росли без отца.
Он вынул из руки Мольи ключи от джипа, быстро собрал необходимое и распахнул сетчатую дверь под звонок мобильника у себя в руке.
80
Спустя сорок минут Том Молья, приложив лед к затылку, сидел на диване в своей гостиной. Над ним склонялись люди, но внимание его было приковано к одному — огромному афроамериканцу, выглядевшему так, словно он только что выдержал двенадцать раундов с Джорджем Форманом времен его расцвета и проиграл. Рядом с ним стояла женщина — тоже высокая и красивая.
— Откуда это вы узнали мою фамилию, детектив? — спросил Чарльз Дженкинс.
— Слоун говорил, что разыскивает вас. Он говорил, что вы в свое время работали с Джо Браником и можете оказаться тем ключом, который раскроет нам, что происходит.
— Он запомнил меня, — сказал Дженкинс, обращаясь к женщине.
— Он говорил, что видел вас во сне, — сказал Молья. — И не расспрашивайте меня больше ни о чем. У меня так раскалывается голова, что можно только поражаться, как это я не забыл вашу фамилию.
Молья очнулся на полу без ключей от джипа, среди осколков любимой лампы Мэгги и с головной болью, снять которую не смогли даже четыре таблетки тайленола. Он дал распоряжение всем постам выследить джип Марти Бенто, строго-настрого приказав нашедшим сообщить его местонахождение, но больше ничего не предпринимать. А потом он сделал единственное, что ему оставалось: набрал номер Лэнгли, отрекомендовался и сказал, что обладает некой информацией насчет гибели Джо Браника. Услышав, что его соединили с низшим куратором, он назвал тому имя Чарльза Дженкинса. Последовал ряд звонков и распоряжений, задействовавших цепь соответствующих приказаний, соединявших его с чинами все более высокими, пока он не удостоился разговора с самим Уильямом Брюером, директором ЦРУ. Через полчаса после того как, переговорив с Брюером, Молья повесил трубку, его соседи были второй раз за этот вечер захвачены увлекательным и невиданным зрелищем: в их тупичке приземлился вертолет, доставивший двух людей, которые и стояли сейчас в гостиной Мольи.
Дженкинс рассказал Молье о деревушке, затерянной в горах Оахаки, и кровопролитии, произошедшем там тридцать лет назад.
— И вы спасли его? — спросил Молья, имея в виду Слоуна.
— Не я его спас, детектив. Тогда так распорядилась судьба.
— Это, конечно, прекрасно, мистер Дженкинс, но сейчас в роли судьбы выступаем мы. Если мы не найдем Слоуна, он погиб. Медсен убьет его.
Раздался телефонный звонок. Том Молья быстро схватил трубку, ответил, секунду послушал, после чего передал трубку Дженкинсу.
Дженкинс слушал. Повесив трубку, он сказал Алекс Харт, что Брюер сообщает о том, что обнаружить Паркера им не удалось.
Опять зазвонил телефон. На этот раз звонили Тому Молье.
— Вы уверены? — спросил Молья. — Нет. Никому и ничего не делать, — сказал он и повесил трубку. — У нас мало времени.
— Что там такое? — спросил Дженкинс.
— Только что видели джип. Я знаю, куда они направляются, — сказал Молья, хватая «Зиг». — Похоже, наш милый мистер Медсен имеет склонность к театральным эффектам. И хочет дорисовать круг.
— Круг?
— Местом, где мы нашли тело Джо Браника.
— А мы далеко оттуда? — спросил Дженкинс.
— Боюсь, что слишком далеко, — ответил Молья.
81
Национальный парк «Медвежий ручей», Западная Виргиния
Слоун стоял, глядя на лунный серп, перечеркнутый инверсионным следом реактивного самолета. Вечернее небо буравили звезды, и это было похоже на задник декорации в детском театре, но света эти звезды давали немного. Глухо шумела река, и ей вторил хор насекомых, воздух был тяжелым, насыщенным дневной сыростью. Густой кустарник и высокие гибкие стволы деревьев стояли по краю поляны, как солдаты на часах, ожидая событий, свидетелями которых они должны были стать. Из газетных статей Слоун знал, что парк этот был местом, где обнаружили тело Джо Браника, однако он не думал, что Паркер Медсен назначил их встречу именно здесь из сентиментальных соображений. Нет, место это он выбрал сейчас по той же причине, что и раньше, для того чтобы прикончить Браника: место было отдаленным, глухим, лесистым, что вносило элемент неожиданности, а звук выстрела в окружающей тишине должен был разнестись далеко и во все стороны, так что будет невозможно точно определить, откуда он исходит.
Второй звонок Медсена застал Слоуна торопливо сбегавшим с крыльца Тома Мольи, ровно через две минуты после первого. Генерал велел ему ехать к муниципальной автозаправке, где из темноты вынырнул человек и, приблизившись к машине, бегло осмотрел салон, дабы убедиться, что Слоун едет один и что конверт при нем. Человек не взял у него конверта, лишний раз подтвердив то, что уже и раньше успел понять Слоун: они перешли на личности. Слоун, видимо, помешал генералу. И тот хотел взять дело в свои руки — закончить противостояние, поставив все точки над i, и не желал ни с кем делиться победой. Во время их короткой встречи в Овальном кабинете Слоун раскусил характер Медсена. Этот коротконогий питбуль, чье высокомерие не позволило Слоуну проникнуть за темные и пустые, как дырки от булавочных уколов, кружки его зрачков, не остался для него тайной. Люди, подобные Паркеру Медсену, не допускают даже возможности неудачи. Самомнение их настолько велико, что для них совершенно непостижима даже вероятность иного исхода того или другого предприятия, чем подготовленный и ожидаемый ими. Гордость возносит их на вершины могущества и власти, но иногда она же становится причиной их крушения и гибели. Слоун встречал таких людей в армии, а американцам примеры такой гордости наглядно демонстрирует Белый дом. На ум немедленно приходят Ричард Никсон и Билл Клинтон.
А вдобавок Слоун чувствовал и другое — он чувствовал страх: при мысли о близком поединке с Паркером Медсеном у него слабели ноги и сводило желудок. И к страху смерти это не имело отношения. Тут было нечто другое — твердое знание, что этот хищник Медсен крался за ним и выследил его, и поединок, от которого он старался уйти, теперь неизбежен. Они с Медсеном были как бы двумя линиями, издалека устремившимися друг к другу, чтобы теперь пересечься, пересечься здесь, в том самом месте, где протекли последние мгновения жизни Джо Браника.
После начальной проверки Слоун получил ряд указаний, видимая цель которых состояла в том, чтобы убедиться, что за ним нет хвоста, указаний, в конечном итоге и приведших его на эту поляну. Прошло уже двадцать минут, и можно было заключить, что Медсену приятно заставлять его ждать, получая тем самым некое психологическое преимущество и следя за ним откуда-то из темноты.
— Вас хорошо вышколили, и учение пошло вам на пользу.
До того как прозвучали эти отрывочные слова, разорвав мирную красоту пейзажа, Слоун не слышал ни звука. Он поворачивался то туда, то сюда, просеивая взглядом тьму направо-налево, сзади и снова прямо перед собой. Никого не было. Потом постепенно на фоне темных стволов и кустарника глаза различили туманный силуэт фигуры. Паркер Медсен вышел из зарослей, как бенгальский тигр из джунглей. Он стоял на краю поляны шагах в пятнадцати от Слоуна, одетый в камуфляж, какой носят в тропиках, и словно парил над землей, видимо, потому что форменные его брюки были заправлены в черные сапоги наподобие пехотных. Черты лица были четко очерчены, будто нарисованные углем — черные на белом.
В мозгу Слоуна ярко вспыхнул свет, сопровождаемый громовым ударом. Он услышал, как протопали в комнату тяжелые сапоги, и ощутил дрожь во всем теле. Всеми силами он боролся за то, чтобы остаться в настоящем — жизнь Тины зависела от этого.
— Вы ведь были в морской пехоте, не так ли?
Слоун открыл глаза. Он избег падения в черную пропасть, но, в отличие от прошлого, сейчас его властно тянуло в эту пропасть, он чувствовал настоятельную потребность в ней очутиться.
— Зачем вы задаете вопросы, генерал, ответы на которые вам известны? — Он догадывался о том, что Медсен знает гораздо больше, чем род войск, в которых он служил. — Я приехал сюда не беседовать с вами о моем прошлом. Где она?
Медсен двинулся вперед и остановился шагах в десяти от Слоуна. В темноте трудно было что-нибудь разглядеть, но генерала, судя по всему, и не заботило, имеет ли Слоун при себе оружие — какую бы хитрую игру Медсен ни задумал, это входило в замысел: так гангстер кружит по пыльным улочкам старого города, дразня противника, вынуждая его сделать первый шаг.
— Вы поступили на военную службу в семнадцать лет, не имея на то согласия родителей, но при этом верно указав свой возраст.
— Я купился на рекламу, на призывы типа «Для немногих избранных... лишь настоящие мужчины»... и все такое... Ну, вам это знакомо.
— Вы каким-то образом обломали вербовщика. А к тому времени как был выяснен ваш возраст, вы уже успели получить высший балл на ежегодных испытаниях частей морской пехоты, что и неудивительно, учитывая ваш ай-кью. Командование повысило вас в звании, назначив взводным радиолокационной роты второго батальона Первой дивизии морской пехоты. Вы удостаивались благодарностей за меткую стрельбу, принимали участие в операции в Гренаде, получили Серебряную звезду за храбрость, а также рану в плечо от кубинской пули — по причине, для меня весьма загадочной.
Слоун знал, что причина, которую он указал, после того как в бою снял тогда бронежилет, должна интриговать Медсена как человека военного, и столь же непостижимым покажется ему и заключение армейского врача-психиатра, к которому Слоун был направлен на освидетельствование.
— Я был молод и глуп, — сказал он, все еще пытаясь удержаться в настоящем. Его мозг и тело, словно окутанные тяжелой цепью, влеклись в бездну. Цепь тянула его туда, где находились Джо Браник, Чарльз Дженкинс и женщина, которая, как он теперь узнал, была его матерью. Но, в отличие от прошлого, желание броситься в эту бездну было сопряжено не с опасностью, а с врожденным стремлением к самосохранению.
— Вы скромничаете, мистер Слоун. Но мне всегда любопытны случаи, когда солдат отбрасывает то, чему его учили, как это произошло с вами. Вы сняли бронежилет во время боя. Что толкнуло вас на это?
— Подозреваю, что и этот ответ вы уже знаете, генерал.
Слоун напрягал мускулы ног, потому что чувствовал: не делай он этого, и вот сейчас его потащит в темную глубь. Но он не мог погрузиться туда. Он должен был спасти Тину. Он не мог позволить ей умереть.
— Мне известно и то, что вы говорили военному врачу на освидетельствовании, и сделанный им вывод, что поступок этот изобличает в вас человека с суицидальными наклонностями, — такая характеристика, конечно, вам подходит: сирота, который ищет свое место в мире и испытывает разочарование, не находя его. Ведь именно так он это сформулировал?
— Вам лучше знать, генерал.
— Но при этом вы смогли ускользнуть от прекрасно подготовленных солдат, лучших в нашем отечестве. Я говорю со знанием дела — ведь готовил их я. — Казалось, Медсен искренне удивлялся этому. — Зачем человеку, видимо, лишенному стремления жить, избегать смерти? За что вы яростно сражаетесь, солдат?
— Я не солдат, генерал, и не хочу вновь им стать. И сюда я приехал не для философского диспута на тему странностей человеческой психики.
— Тогда ответьте на вопрос более существенный: как могло случиться, что вы пересеклись с Джо Браником? Признаюсь, я не могу обнаружить между вами связи, благодаря которой он послал вам конверт, о котором вы ничего не знали.
— Вам стоило бы спросить его самого до того, как вы его убили.
— О, я спрашивал, но он, как и вы, проявил упорство. — Медсен вздохнул. — Оставим это. Полагаю, что мы очень скоро доберемся до корней всей этой истории. Конверт у вас?
— Где она?
— Если меня удовлетворит его содержание...
— Нет. Я покажу вам конверт только после того, как мне будет показана Тина. Тогда мы детально обсудим с вами процедуру обмена. Я доверяю вам не больше, чем вы доверяете мне.
Медсен улыбнулся.
— Вы умелый переговорщик. Справедливо.
Он сделал шаг назад, и его поглотила тьма. Потом он появился, держась вытянутой рукой за плечо Тины. Ее рот был плотно заклеен, руки связаны впереди, волосы растрепаны. Хотя лицо ее в темноте и было трудно разглядеть, но на нем были заметны синяки и царапины. При виде ее у Слоуна подкосились ноги, и он опустился на землю, не в силах сопротивляться долее тяжкому грузу, тащившему его в бездну. Он был сброшен на самое дно темной дыры, вновь очутившись под кроватью, в щели между нею и стенкой, стиснутый, не способный пошевелиться. Его мать сидела на полу, и теперь он с еще большей мукой видел ее, избитую, в синяках, изнасилованную. Над нею стоял мужчина, выкрикивая слова, которые до этой секунды Слоун отказывался слышать.
«Dоnde esta el nino? Donde esta el nino?»[8]
Они пришли за ним. А там, снаружи, происходила бойня — они убивали всех... из-за него.
Слова звенели у него в ушах, отдаваясь во всем его существе, в глубине его, такой же темной и пустынной, как та бездна, в которую он провалился. Из-под кровати он разглядывал это лицо, эти черты, четко очерченные, будто нарисованные углем — черные на белом. Чернота ночи, угольная грязь поглощали все на этом лице. Но глаза поглотить было невозможно — белое раскаленное сверкание в кругах алого адского пламени, а в середине — черная бездна пустоты, глаза хищника, готовящегося убить и не ведающего раскаяния. Слоун видел это лицо в своих кошмарах, видел в Овальном кабинете, и теперь оно стояло перед ним. Ошибки быть не могло. Такое не забывается.
Глаза Паркера Медсена.
Он убьет Тину.
Он вынырнул на поверхность, необходимость сделать это разрушила все преграды, все, что тянуло его в прошлое или сковывало в настоящем, и он мог теперь свободно перемещаться из одного мира в другой, вспоминать без боли и видеть. Это был Медсен.
— Это вы убили ее!
Зрачки сощурились.
— Вы пришли той ночью. Пришли в горы, пришли в деревню. Вы и ваши люди. Вы убили их. Всех убили.
Медсен молча разглядывал его.
— Вы ее били и насиловали. Вы перерезали ей горло. Я видел все в то утро. Я видел, как наступила тьма. Это были вы.
— Как это вы могли?..
Медсен осекся, голос его упал до шепота, недоверчивый, потерявший всякую браваду. Медсен наклонил голову и подался вперед, словно заинтересованный тем, что может увидеть, но в то же время сомневающийся. И в этот миг прошлое и настоящее Паркера Медсена тоже столкнулись и соединились воедино, как соединились они и у Слоуна, и сознание его получило ответ на самые жгучие из вопросов: почему у Слоуна не осталось никого из родных, почему он возник словно ниоткуда, зачем Джо Браник послал ему конверт с описанием событий, к которым Слоун не имел никакого касательства.
Потому что он имел к ним касательство. Потому что он был там.
Медсен засмеялся, но смех был нервным, неуверенным и невеселым.
— Так вы тот мальчишка, — сказал он. — Он спас вас. Джо Браник вас спас.
— Джо Браник смог вывезти меня из деревни, но он не спас меня от того, что я видел в то утро. Я видел, как вы это делали. Видел, как вы били ее и насиловали. Видел, как вы схватили ее за волосы и перерезали ей горло. Я видел, как вы убили мою мать.
Он вспомнил это теперь ясно и четко, как будто приподняли брезент, прикрывавший все произошедшее. Он вспомнил, как лежал под кроватью в тишине раннего утра, вспомнил рассветные лучи, ворвавшиеся в комнату и принесшие с собой весь ужас того, что они освещали. Он говорил себе, что это неправда, что это лишь сон и что, стоит только открыть глаза, все исчезнет, улетучится. Он вспомнил, как услышал шаги вошедших в комнату мужчин, как его охватила новая волна ужаса. Он вспомнил, как старался не дышать, не произвести ни звука, пока, не удержавшись, не издал тихий, сдавленный плач. Он вспомнил, как на него повеяло ветерком, грудь внезапно отпустило, и укрывавшее его одеяло было сдернуто. Чарльз Дженкинс и Джо Браник стояли над ним и молчали, потрясенные.
В руке Медсена материализовался пистолет — так возникает кролик из шляпы фокусника. Хорошо натренированный солдат больше не думал о неожиданном повороте событий и вернулся к своей непосредственной задаче.
— Конверт, мистер Слоун.
Слоун расстегнул молнию куртки, взятой из шкафа Тома Мольи, куртки объемистой, слишком широкой для его фигуры, и вытащил спрятанный на груди конверт.
— Отпустите ее.
— Бросьте на землю.
Слоун уронил конверт на землю.
— Кто это говорит, что жизнь нельзя повернуть вспять? — пожал плечами Медсен.
Затем улыбка его исчезла, и он взвел курок.
82
Это был крик, полный отчаяния и муки, — так кричат, когда разбиваются в прах все надежды на будущее. Он вырвался у Тины с такой силой, что пластырь отклеился от ее щеки и сейчас болтался в воздухе, как соскочивший бинт.
— Нет!
Ее крик соединился со звуком выстрела, и эхо насилия прокатилось, наполнив собой мирную тишину, как взрыв в металлической бочке, гулко и страшно. Она увидела, как Слоун упал навзничь. У нее подкосились ноги, как будто при падении с большой высоты, и она опустилась на землю, безжизненная, вялая. Она истерически рыдала и не могла двигаться — не могла и не хотела.
Затем она почувствовала, как рука Медсена схватила ее за волосы, и ощутила дикую боль, когда сильным рывком он приподнял ее и, поставив на колени, вытащил из чехла у себя на поясе нож.
Слоун лежал на земле, ощущая пульсирующую боль, расходившуюся из центра в груди по всему телу. В ушах громыхало. Во рту он чувствовал привкус крови. Тело жгло как огнем, и невозможно было двинуть ни рукой, ни ногой. Под ним была влажная роса, камешки впивались в спину. Тьма, подобной которой он еще не знал, окутывала его. Если бы не звон в ушах и не горечь во рту, он бы решил, что выстрелом Медсена ему снесло голову.
Он моргал, то открывая, то закрывая глаза, борясь с желанием погрузиться в беспамятство. Он повернул голову, вгляделся. Женщина лежала на земле, истерически рыдая и содрогаясь всем телом в мучительных конвульсиях. Ее палач наклонился к ней и, ухватив за пучок волос, заставил встать на колени, одновременно вынимая из чехла на поясе нож.
«Твой бред может оказаться не бредом. Возможно, это явь».
Тина.
Не бред.
Явь.
Медсен.
В этот миг исчезло все, что оставалось от заботливо созданного и выпестованного им образа крупного политика, и вырвался на свободу тот, кого Медсен упрятывал под замок, — человек, который за тридцать и более лет своей военной карьеры превратился в закоренелого и жестокого убийцу. Человек этот вырвался наружу, и лицо его было маской злобы и извращенного наслаждения сознанием своей абсолютной власти и неограниченного могущества. Вот почему генерал Паркер Медсен никогда не покидал поля битвы. Вот почему не оставлял он своих людей, солдат, которых обучал. Вот почему не оставил он подразделения «Когти». Причина не имела ничего общего ни с преданностью своим солдатам, ни с чувством долга и офицерской чести. Это было лишь эгоистическим следованием собственным извращенным желаниям, ни с чем не сравнимым удовольствием, которое доставляли ему война, возможность убивать, ощущение своей власти над жизнью и смертью, которые он держал в своих руках. Это было неодолимо — ощущение всемогущества, всесилия почти божественного. И оно опьяняло, становилось наркотиком, его слабостью.
Правой рукой он ухватил женщину за волосы и рывком заставил ее подняться. Левой рукой он потянулся и обнажил нож. Сегодня он довершит дело, оставшееся незаконченным тогда, в горах, тридцать лет назад. История повторится. И в конце Паркер Медсен победит, как всегда вознесясь на пьедестал.
Женщина прекратила борьбу и больше не сопротивлялась, потрясенная или примирившаяся со своей участью. Медсен поднял нож.
Он услышал звук, который ни один солдат, прошедший Вьетнам, ни с чем не спутает и никогда не забудет, звук, который нес спасение в самые страшные минуты, — доносившиеся издалека, но быстро приближавшиеся треск и жужжание вертолета, летящего на полной скорости. Он взглянул в ночное небо, и его натренированный глаз различил среди неподвижных звезд движущиеся белые огоньки.
— Слишком поздно! — громко воскликнул он; он почти кричал, и в этом крике был вызов. — Опоздали!
83
Том Молья сосредоточил все внимание на приборной доске, стараясь не смотреть в иллюминатор и не думать о том, как высоко они над землей. Его до костей пробирал озноб, тело немело, как в тот день, когда он, подняв трубку, услышал голос матери, сказавшей, что умер отец. По вискам и под мышками ручьями тек пот. Он болтал, стараясь отвлечь себя разговором, оттягивая тот момент, когда, как он узнал, ему все равно придется посмотреть вниз и указать пилоту ту прогалину, где было найдено тело Джо Браника.
Чарльз Дженкинс съежился на заднем сиденье рядом с Алекс Харт; судя по всему, великан испытывал боли. Брюер заверил его, что будет послана подмога, но первыми должны прибыть они с Мольей.
— Сколько еще осталось? — Молья говорил в микрофон рации, закрепленной у него на голове, говорил громко, перекрикивая жужжание лопастей и гудение мотора. Он старался держать себя в руках. Когда Дженкинс сказал ему, что им придется лететь на вертолете, он чуть не упал в обморок.
Пилот посмотрел на свои приборы.
— Минут шесть, наверное.
— А если этого комарика подхлестнуть?
— Тогда минуты четыре.
— Давай.
Молья опять обратился к Дженкинсу:
— Чего я никак не могу понять, это почему ЦРУ так вплотную занялось этим мальчишкой. Что может мальчик? Господи, мой сынишка, так того не заставишь в темноте и собаку вывести.
Ответ Дженкинса прозвучал гулко, как бывает в наглухо закрытой со всех сторон машине:
— Он был не просто мальчик, детектив. Деревенские считали, что он гораздо больше, чем просто мальчик.
— Гораздо больше, это как?
— Наделенный особой силой. Силой, что вырвет мексиканских бедняков из тисков нужды, освободит их от многовекового гнета. Что это мальчик, отмеченный Господом.
— Они верили в ребенка?
— Вы не были там. Вы не знаете, как все происходило. Вы не наблюдали это своими глазами, как наблюдал я. Не пережили этого. Не ощущали всем мозгом, всей душой.
Молья обернулся и во все глаза уставился на великана. Несмотря на свои внушительные габариты, человек этот обладал мягкостью, был добр и искренен.
— Всем мозгом и всей душой? Вы поверили в него?
— Не знаю, во что я в конце концов поверил. — Дженкинс приложил руку к сердцу. По-видимому, жест этот был бессознательным. — Но было похоже, будто погружаешься в теплую ванну, вода омывает тебя, уносит прочь от всех твоих забот, и единственное, чего ты хочешь, это слушать его слова. Поверил ли я? Не знаю. Знаю только, что после всего, чему я был свидетелем во Вьетнаме, мне хотелось поверить. Хотелось ощутить спокойствие и довольство, которые, как казалось, нес этот голос. И именно тогда я пришел к пониманию того, что не так важна истина, как важны вера людей в некую истину и желание их действовать во имя ее. Он умел этого добиваться. Независимо от того, как он это делал, он это делал, у него был этот особый дар. И волновало нас не то, как воспользуется своим даром он сам, а как воспользуются им другие.
— И потому Пик отдал приказ его убить?
Дженкинс кивнул.
— Основываясь на том, что я изложил в моих донесениях. Я уверил его в том, что мальчик и вправду обладает некой силой и угроза того, что другие, особенно Эль Профета, используют это нам во зло, весьма реальна.
— Он посчитал, что если вы поверили в него, то поверят и другие, что может вызвать революционные потрясения там, где для целей политической карьеры Пика нужны спокойствие и мир?
Дженкинс кивнул.
— Именно.
— И потому вы чувствуете себя виновным за то, что случилось с теми людьми.
— Я думаю об этом непрестанно — каждый день в течение последних тридцати лет.
Пилот тронул Молью за колено. Пора было взглянуть в иллюминатор, преодолевая страх совершенно иного свойства. Молья надеялся, что сможет это сделать ради спасения Слоуна.
84
Эхо разнеслось по ущелью, так что определить, откуда шел звук, было невозможно, однако в том, куда он направлен, сомневаться не приходилось. Взгляд Паркера Медсена был устремлен вверх, когда грудь его, как раз под впадиной левой подмышки, пронзила пуля. Выстрел заставил его резко накрениться влево, словно сломав его тело надвое. Он качнулся назад, но устоял на ногах, отказавших ему, но выступивших как подпорки. Пуля «Золотая сабля», ремингтоновский, в медной оболочке, кумулятивный заряд, вошла в тело мягко, но, войдя, продолжила свою смертоносную работу. Она проскользнула между ребер, разорвала грудную клетку и мускулы груди, прошибла легкие и вырвалась с другой стороны.
Правая рука Медсена выпустила волосы Тины, и женщина упала на землю. Левая рука выронила занесенный нож, и он почувствовал, как кровь его, хлынув потоком, промочила камуфляж. На лице его отобразилось то, что уже знало тело, то, что ни один человек в мире, как бы по-солдатски вышколен он ни был, не может с готовностью принять. Он не просто получил пулю, он был смертельно ранен. Он наклонил голову к плечу, ища источник своей погибели с таким видом, словно его даже позабавило это неожиданно возникшее обстоятельство.
Слоун сидел на земле, вытянув перед собой левую ногу и согнув в колене правую, его руки слегка подрагивали, все еще сжимая нацеленный кольт.
— Слишком поздно, — опять шепнул Медсен ртом, из которого теперь текла струйка крови, и потянулся к своему оружию.
— На этот раз — нет, — сказал Слоун и вновь нажал на курок.
85
Он подполз к ней по неровной кочковатой земле, каждой частью своего тела превозмогая боль.
Тина сидела, сгорбившись и накренившись набок, руки ее были стянуты, плечи тряслись от рыданий.
Вторая пуля угодила прямо в грудь генералу Паркеру Медсену, и он был отброшен навзничь, как от удара кувалдой. Он лежал в пяти футах от ее спины, выставив подошвы своих черных сапог, выделявшихся теперь в траве. При приближении Слоуна глаза Тины расширились в радостном смятении. Она щупала его лицо, гладила его, словно одни лишь прикосновения могли убедить ее, что он действительно жив, что это не обман чувств и не игра воображения.
Подняв с земли нож, он осторожно освободил ее руки и, притянув ее к себе, сжал в объятиях, живую и полную жизни.
Жива. Она была жива.
— Все хорошо, — успокаивал он ее, твердя эти слова вновь и вновь не только для нее, но и для себя. — Все хорошо. Все позади. Позади.
Она глядела на него снизу вверх, не веря своим глазам.
— Но как же так? — недоверчиво спросила она. — Я ведь видела, как он застрелил тебя, Дэвид. Я ясно видела это.
Поморщившись, Слоун распахнул куртку Тома Мольи и потом рубашку. Бронежилет детектива остановил пулю, но действие ее оказалось ужасным. Каждый вздох причинял острую боль. Ощущение было такое, словно его переехало грузовиком. Слоуну не удалось проникнуть внутрь сознания Медсена, прочесть его мысли, узнать истинную суть этого человека, но это было и не обязательно. Людей, подобных Паркеру Медсену, он знал. Паркеру Медсену и в голову не пришло, что на Слоуне может оказаться бронежилет, потому что он поверил заключению психиатра в досье Слоуна, тому заключению, где говорилось о суицидальных наклонностях и тенденции к быстрым и опрометчивым решениям. Но в заключении психиатра не было того, что он не мог знать, того, что не знал никто, кроме самого Слоуна и рядового первого класса Эдда Вендитти, — настоящей причины, почему в тот день, в Гренаде, Слоун снял во время боя бронежилет. Причиной была не жара и не желание двигаться побыстрее. И не стремление к смерти было тому причиной. Бронежилет Слоун снял потому, что двадцатилетний солдат Вендитти, женатый и отец двоих детей, забыл свой жилет в вертолете, доставившем их к месту операции. Поняв это, Вендитти посмотрел на Слоуна с тем же ужасом в глазах, с каким смотрели на Слоуна родные Тома Мольи в тот вечер. Это был ужас сознания, что можно больше не увидеть самых близких тебе людей, ужас холодного отчаяния при мысли, что твоя семья, твои дети вынуждены будут остаться одни, без тебя. Слоун увлек Вендитти в скалы и, сняв свой бронежилет, приказал тому надеть его. Слоун не так боялся смерти, потому что у него не было никого на этом свете. И гибель его в тот день не разрушила бы ничью другую жизнь. После того как он был ранен, Слоун узнал, что Вендитти за свою оплошность пошел бы под трибунал — на снисходительность к допущенной ошибке в армии рассчитывать не приходилось. А так как к тому времени Слоун уже решил, что убивать — это не его стезя, то известие, что его не взяли в офицерскую школу, особенного огорчения ему не доставило.
Он поцеловал Тинину макушку, вдохнув нежный запах ее волос, мягко касавшихся его щеки.
— Все позади, Тина. Никто тебя не обидит. Теперь — никто. Никто и никогда.
— Ну а для тебя, Дэвид? — Она говорила шепотом, уткнувшись головой ему в грудь. — Для тебя тоже все позади? Ты разобрался с собой, узнал все, что тебе надо было узнать?
— Не вполне, — сказал он. — Но узнал достаточно. Я узнал, что люблю тебя и что, так или иначе, смогу быть очень счастлив, если буду все время помнить об этом.
— Вот и помни об этом. — И она обняла его. — Просто помни и никогда не забывай.
Они подняли голову, услышав звук приближающегося вертолета. Слоун смотрел на него из-под ладони, заслоняясь рукой от сильного ветра, взметнувшего вверх комья глины и прокатившегося по траве, как надвигающаяся гроза.
На переднем сиденье вертолета с лицом, несмотря на синеватые отблески огней, белым как мел сидел Том Молья.
86
Двое мужчин стояли молча, наслаждаясь возможностью просто глядеть на текущую воду и расслабиться после пережитых кошмаров, страшнее которых они еще не испытывали. Луна и звезды заливали блеском темную поверхность воды, и казалось, что это стремительно несется, мелькая как молния, длинный косяк рыбы. Слоуна поражала красота пейзажа в сравнении с безобразием, которое творят люди. За одну неделю место это запятнали два убийства.
— Он мог тебя убить, — сказал Молья. — Не слишком-то разумное поведение для человека со столь очевидным ай-кью, как у тебя.
Слоун прижал ко рту платок. Получив пулю в грудь, он прикусил язык, и тот до сих пор кровоточил.
— Он выстрелил мне прямо под дых. Сказалась выучка. Медсен и тут остался верен себе и действовал как хороший солдат.
Молья повернулся к нему и хмыкнул.
— Это утешает, правда?
Улыбнувшись, Слоун тронул платком ярко-красный ободок ранки, уже начавшей синеть.
— Прости меня за куртку, — сказал он, щупая дыру в ткани.
Молья пожал плечами.
— Все равно я ее не любил. Ее мне теща подарила. Но раз в год приходилось-таки ее надевать. Я считал, что куртка меня толстит.
Слоун засмеялся. Именно поэтому он и остановил на ней свой выбор.
— И вообще, если тебе есть о чем беспокоиться, так это о Мэгги. Она поднимет жуткий скандал — ведь это была ее любимая лампа.
— Такой же скандал, как из-за передержанного жаркого?
— Это, друг мой, все равно что сравнивать прохладный летний ветерок с ураганом.
Они повернули головы навстречу приближавшимся шагам. Чарльз Дженкинс был таким же, каким он запомнился Слоуну, — огромным и несокрушимым, как скала, хотя сейчас рука его была на перевязи, а лицо в синяках украшали бинты.
— Я буду ждать возле джипа, — сказал Молья. — На этот раз ты от меня не отделаешься, потому что уж куда-куда, а в вертолет меня больше не заманят.
— Но ты ж полетел: сумел преодолеть свой страх, — возразил Слоун.
— Ну да, — сказал Молья, поглядывая на крылатое чудовище. — Как я и говорил, не так страшен черт.
Слоун поднял глаза на Чарльза Дженкинса. Эти двое зрелых мужчин, оба с грузом прожитых лет, были навеки связаны событием, которое Слоун не желал помнить, а Дженкинс был не в силах забыть. Но, может быть, теперь все должно измениться, как для одного, так и для другого. И не так страшен черт, как выразился Том Молья.
— Это здесь его нашли? — спросил Слоун.
Дженкинс кивнул.
— Согласно следствию, здесь.
— Вы его знали?
Дженкинс кивнул:
— Да, я его знал.
— Что он был за человек?
Дженкинс оглянулся назад и, глядя на бегущий водный поток, задумчиво сказал:
— Хороший человек. Семейственный. Порядочный. Человек, который и жизни не пожалеет ради другого, если считает, что так надо поступить. Если вы, Дэвид, мучаетесь, считая себя виноватым, то не стоит: Джо не хотел бы этого. Я уверен, что он долгие годы чувствовал свою вину за то, что с вами произошло. Как и я. Но он, в отличие от меня, нашел в себе достаточно мужества, чтобы действовать. Вот почему он держал у себя папку. Я долго бился над загадкой, зачем ему это было нужно, но теперь я понял. Держать у себя вас он не мог. Это было бы слишком для вас опасно. И по этой же причине он не мог вас навещать. Но он хотел каким-то образом сохранить связь с вами, если бы когда-нибудь ему представился случай вас найти и рассказать, что с вами произошло и кто вы такой на самом деле.
Слоун почувствовал, как по щеке его скатилась слеза. Теперь он понял, что именно это и сделал Джо Браник.
Дженкинс вручил Слоуну толстую папку.
— Вначале там вложена записка. Джо предназначал ее вам. Надеюсь, она ответит на многие ваши вопросы.
Слоун взял папку.
— Вы можете мне рассказать, что произошло?
— А вы уверены, что хотите сейчас это выслушать?
Слоун повернулся и взглянул на Чарльза Дженкинса.
— Не знаю, хватит ли мне когда-либо готовности, мистер Дженкинс. Но у меня нет выбора. Я ведь понятия не имею о том, кто я такой.
Дженкинсу было знакомо это чувство.
— Возможно, мы оба это поймем, — сказал он и начал свой рассказ.
Он прибыл туда, когда уже смеркалось, насквозь промокнув под дождем, потея во влажной жаре в своем тяжелом шерстяном пончо. Он примкнул к группе людей, шедших в деревню с запада, а войдя, увидел там толпу, насчитывавшую, как он быстро определил, человек семьсот, гораздо больше, чем они подозревали. Он высматривал в ней людей с оружием, но если там и были солдаты, он их не видел.
Деревня была затеряна в глуши. В нее вела пешая тропа, выбитая в охристой каменистой почве предгорий. Ближайшая проезжая дорога оканчивалась в двух милях оттуда, а учитывая ее не располагающее к езде состояние — десять миль сплошных камней и колдобин, — путь этот можно было приравнять к двумстам. Маленькие, без внутренних перегородок глинобитные хижины под тростниковой крышей приютились в густых и непроходимых джунглях, обступивших их со всех сторон и грозивших поглотить. По грязным тропкам бродили свиньи, куры и тощие собаки, здесь же играли босоногие ребятишки. Ни водопровода, ни канализации. Ни одна усадьба не имела ни электричества, ни ванной, ни даже раковины. Освещения на улочках тоже не было. Как и телефона. На маленьком, в один акр, участке земли выращивали кукурузу, бобы, перец-чили и разного рода тыквы и кабачки.
Дженкинс устроился в задних рядах толпы, смущаясь своего роста, и, поджав под себя ноги, стал ждать — чего именно, он не знал. Уже через десять минут его колени, колотившиеся на ухабистой дороге о приборную доску джипа, затекли и стали болеть. Даже мысль об обратном пути вызывала тоскливую боль. Тут как назло опять полил дождь, сразу же проникнув в каждую щель и каждую дырочку, в каждый шов его одежды. Он поплотнее надвинул на лицо капюшон, оставив себе для наблюдения лишь маленькую щель. Толпу дождь, казалось, ничуть не обескуражил. По ней как будто пробегал электрический ток предвкушения — так ждут начала спортивных соревнований или разрекламированного бродвейского шоу.
Затем толпа притихла, и в наступившей тишине слышалось только, как где-то вдалеке воет собака. Все повернули голову в одну сторону и вытянули шею. Дженкинс возвышался над всеми сидящими, но вначале он не мог разглядеть, что привлекло внимание толпы. А потом он его увидел.
Его подняли на большой плоский валун, и он стоял там, словно паря в воздухе. Мальчик.
Это был просто мальчик — босоногий, с нежными, ангельскими чертами и темной копной волос.
Дженкинс смотрел, как мальчик прикрыл глаза, простер руки и запрокинул голову так, словно пил дождевые струи, лившиеся с деревьев. Белую рубашку его подхватил ветер, и она раздувалась как парус.
— Levante sus ojos у mire del lugar donde usted es.[9]
Головы поднялись, точно повинуясь приказу.
— Да возликуют селения. Да воспоют жители Мексики, преисполнившись радости. Да разнесется клич с горных вершин. Да явится Господь в величии своем. Подобно мощному воину, тряхнет он оружием и огласит простор, призывая на битву, и сокрушит врагов своих.
Дженкинс стянул с головы капюшон. Сидящие вокруг люди закрыли глаза, застыли подобно молчаливым каменным изваяниям, и только губы их подрагивали. Молитва. Они молились. Это было поразительно.
Слова изливались из уст ребенка и текли потоком, и как ручей влечет за собой камни, так эти слова, увлекая толпу, текли туда, где сидел Чарльз Дженкинс.
— Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать... Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними и кривые пути — прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.[10]
Слова были смутно знакомыми. Откуда он знает их? И, слушая мальчика, он вспомнил. То, что он, посещавший баптистскую церковь, считал давно забытым, оказывается, лишь дремало, дожидаясь своего часа. Мальчик произносил слова Священного Писания, но они казались другими, совсем другими. Мальчик произносил их словно впервые, так, словно это были его собственные слова. Прошло десять минут. Двадцать. В толпе почти не было движения; по лицам слушателей текли слезы.
Господи, думал Дженкинс.
Мальчик сделал паузу и устремил в толпу взгляд такой пристальный, что сидевшие впереди отпрянули, чуть не упав. Голос мальчика окреп. Слова теперь не текли потоком, а врезались в толпу, как острие ножа.
— Мы мексиканцы. Наши предки называли эту землю своей задолго до того, как пришли захватчики, отняв то, что по праву принадлежало мексиканцам. Мы потомки великой расы воинов, потомки гордого народа.
Шепот беспокойства пронесся по рядам.
— Мы ацтеки, толтеки, запотеки и михтеки. Тысячи и тысячи лет мы жили свободные и независимые. Мы создали великие цивилизации. Мы ни от кого не зависели и не искали ничьей помощи. Мы щедро дарили, но они желали все большего. Мы не искали войны, но война сама нашла нас. Слушайте меня ныне. Не может быть Мексики иной, чем свободная Мексика.
Так это была правда. Дженкинс надеялся, что это не так. Однако это была правда. Вот она, пучина мятежа.
— Истинная Мексика возродится только тогда, когда мы перестанем вручать нашу судьбу людям во власти, тем, кто хочет поработить мексиканский народ, чтобы возвыситься самим, чтобы жить в роскошных дворцах. Разрушителям Мексики, угнетателям ее народа не должно быть места на этой земле. Те, кто насилует Мексику, крадет ее земли, богатства ее недр, должны быть изгнаны отсюда навечно. Только независимая нация может процветать. И только добившись истинной независимости, с честью возродится наша гордая раса.
Толпа вдруг как один поднялась и окружила его. Камень захлестнули крики одобрения. Дженкинс потерял мальчика из виду, а потом вдруг увидел его высоко над толпой — люди несли его, а он плясал над их головами, стоя у них на плечах, плясал под рокот барабанов. Картина была фантастической, похожей на сцену из спектакля или кадры кинокартины, снимаемой на студии в Голливуде. Но это не были актеры, и это не был спектакль. Это была правда. И это происходило в действительности.
Гром ударил с разъяренного неба, громовой раскат тряханул джунгли с такой силой, что земля содрогнулась, а небеса разверзлись. Дождь полил сплошной завесой, с деревьев потекло, как из крана. Толпа быстро рассеялась, люди разбежались по хижинам или укрылись в джунглях, откуда они пришли. Чарльз Дженкинс стоял под дождем один.
— После каждой моей поездки я представлял донесение, — сказал Дженкинс. Он покачал головой. — Мне очень жаль. Я не хотел, чтобы это случилось.
Слоун видел страдание в глазах Дженкинса, целая жизнь, полная боли и вины, сейчас промелькнула перед ним. Они были так похожи, он и Дженкинс. Оба прожили много лет, не зная, кто они, и сомневаясь, что хотят это знать.
— В том, что случилось в то утро, виноваты не вы, — сказал Слоун. Он тер подбородок, вспоминая Мельду, молодого полицейского — отца новорожденного сына, дежурного охранника в своем офисе, незадолго перед тем ставшего дедом, и Питера Хо с семьей.
Он думал о Джо Бранике.
Он думал о женщинах и детях из той деревни. Он думал о матери.
Огромность его потери — вкупе с болью, которую она ему принесла, — навалились на него грузом таким тяжелым, что ему было трудно дышать.
— Я убедил их в том, что угроза реальна, что вы — это реальность, — сказал Дженкинс.
— Нет. — Слоун покачал головой. — Это я убедил вас. — Он поднял глаза на Дженкинса. — Я убедил вас, потому что меня так научили, потому что я видел в этом свое предназначение. Ни вы, ни я не были ответственны за то, что произошло. Мы оба были слишком молоды, слишком доверчивы. Одного не могу понять: почему это случилось сейчас? Почему после стольких лет Джо Браник вытащил это все на свет божий? Он хранил папку. Зачем же он ждал тридцать лет, чтобы обличить Роберта Пика?
— Потому что Джо не пытался обличить Роберта Пика, Дэвид. Он пытался его спасти.
— Не понимаю.
— Независимо от того, что он думал о Пике, когда узнал правду, когда раскрылось, что человек, служению которому он посвятил не один год, был убийцей, Джо любил свою страну и не желал, чтобы она понесла урон.
— Тогда зачем ему понадобился я?
— Потому что вы единственный из оставшихся в живых, который знает, кто такой Эль Профета.
87
Солярий на третьем этаже Белого дома раньше служил комнатой для детей президентов. Там же обычно на каникулах собиралась вся семья. Когда Роберт Пик заступил в должность, дети его уже выросли, и часть бюджетных денег, выделяемых обычно президентской чете на обустройство, они потратили в соответствии со своими вкусами, превратив солярий в помещение, отчасти похожее на личный кабинет, отчасти же — на мемориал Роберта Пика. На темных дубовых панелях были развешаны фотографии, запечатлевшие как рабочие будни семьи, так и минуты отдыха, и в центре каждой был Роберт Пик, сын всеми уважаемого государственного деятеля, достигший поста президента Соединенных Штатов. За толстым стеклом стенных шкафов хранились солидные книжные тома, сувениры, памятные мелочи, грамоты и благодарности, скопившиеся за время выдающейся политической карьеры Пика. Все это перемежалось семейными фотографиями и освещалось мягкой подсветкой. Единственным дополнительным источником света служила старинная настольная лампа — казалось, в комнате этой нарочно сохраняется полумрак, чтобы тайны, скрываемые Робертом Пиком, ненароком не разрушили заботливо созданный образ.
Слоун сидел в полумраке, держа на коленях раскрытую папку; он читал собранные в ней донесения Чарльза Дженкинса, те самые, что подвигли Роберта Пика послать в горы подразделение «Когти» и учинить там расправу. За шесть месяцев, в течение которых Дженкинс наведывался в деревню, тон его донесений становился все более пылким и убедительным. Начав с откровенного неприятия, он перешел к осторожным сомнениям и раздумьям, а кончил — твердой уверенностью. Слоун перечитал одно из донесений:
«События, свидетелем которых я стал, нельзя отвергнуть как не заслуживающие внимания. Атмосферу этих сборищ я не могу назвать иначе как наэлектризованной, похожей на ту, что вызывают наблюдения за паранормальными явлениями. Этот ребенок не просто цитирует Библию — текст Священного Писания льется из него, как вода из крана, так, словно он это сочинил... или же сочинили это для него. Толпы, которые собираются, чтобы послушать его, не просто внимают его словам. Они их впитывают, словно загипнотизированные самой личностью этого ребенка».
Слоуну вспоминались присяжные, и он, думая о сходстве, ощущал неодолимое желание читать дальше.
«Выступления этого ребенка, или, как их называют местные, «проповеди», вызывают все большее беспокойство. Хотя проповедует он лишь мексиканские культурные ценности, смысл его речей — явно антиправительственный. Он отстаивает возврат к основополагающим принципам мексиканской революции — требованиям свобод для бедных и неимущих, предоставления земли тем, кто на ней трудится, национализации мексиканских банков и природных богатств, правительственных субсидий для оплаты жилья и медицинского обслуживания. Все явственнее проскальзывает критическое отношение к правительству и исторически сложившемуся вмешательству США в политику Мексики. Не призывая к насилию открыто, он нередко возбуждает присутствующих до горячего сочувствия ему».
«Нельзя не учитывать влияния революционного настроения марксистов, жаждущих превращения Мексики во второй Вьетнам. Возрастающее количество народа, собирающегося на выступлениях мальчика, свидетельствует о том, что идеи эти грозят распространиться за пределы джунглей и найти отклик и сочувствие в более искушенной аудитории — среди студентов, рабочих и мятежно настроенных профсоюзных и иных объединений мексиканских городов. Если это произойдет, идеи эти, доносимые до слушателей так, как я это наблюдал, могут иметь непредсказуемые последствия и истолкования, способные подорвать спокойствие страны и вызвать падение ее правительства».
Дверь в комнату отворилась.
Вошел Роберт Пик, одетый по-домашнему — в синие джинсы, шерстяной свитер и тапочки. Не обращая внимания на Слоуна, он прошел к стоявшему у окна стеклянному столику на колесиках и, вытащив пробку из хрустального графина, плеснул себе бренди в широкий бокал.
— То, что я делал, — сказал он, стоя спиной к Слоуну, — я делал потому, что это как нельзя лучше отвечало интересам моей страны. Наши вооруженные силы по всему миру были настороже ввиду угрозы на Ближнем Востоке, который вот-вот готов был взорваться. Нашим военным кораблям в Индийском океане и Персидском заливе грозила постоянная опасность.
Пик отвернулся от окна и встретился взглядом со Слоуном. Его небрежно-высокомерная манера не могла скрыть того, что изобличало тело. Синие глаза его казались усталыми, и знаменитая лучезарность его взгляда словно потускнела, под глазами обозначились темные мешки. Кожа обвисла, и щеки горели румянцем, какой бывает от повышенного кровяного давления.
Гнев и горечь, гнездившиеся в глубине души Слоуна, при виде этого гордого высокомерия вспыхнули, он ощутил язвящую боль. Отложив папку, он встал.
— То, что вы делали, — сказал он голосом не громче шепота, — называется убийством — убийством ни в чем не повинных женщин и детей.
Пик закусил губу, но продолжал:
— Я отдал приказ, потому что последствия в случае, если б я воздержался от этого, перевесили бы последствия моего приказа.
— Вы отдали приказ, чтобы спасти свою политическую карьеру.
— Если б разразилась революция, то ни в чем не повинные женщины и дети могли бы пострадать.
— Они и так пострадали.
— Бывают времена, когда ради блага страны, ради многих надо пожертвовать несколькими. Как правило, я этому не следую. И не я это выдумал. Но моей задачей было не допустить никаких препон на нашем пути к мексиканской нефти. Я только исполнял свою работу, свой служебный долг.
В голове Слоуна пронеслись слова, сказанные им матери Эмили Скотт, и он почувствовал стыд.
Пик обошел массивное кресло, опираясь на его спинку, словно удерживая тем равновесие.
— Я не могу изменить того, что было сделано тридцать лет назад, мистер Слоун.
— Разумеется. Но что случилось неделю назад, изменить вы могли.
— Вы не знаете того, что знаю я, того, что я знал и раньше. Вы не сидите в моем кресле. Вы не имеете права меня судить.
— Ошибаетесь, — сказал Слоун. — Сегодня вечером я как раз сижу в вашем кресле. И потому сужу вас.
Пик поднес ладони к губам и наклонил голову, словно в беззвучной молитве.
— Эти переговоры важнее наших разногласий. У нас есть возможность уменьшить, а в перспективе и искоренить нашу зависимость от ближневосточной нефти и покончить со всеми сопряженными с этим проблемами.
— Не выйдет, мистер Пик. Ваше прошлое в конце концов нагнало вас, и на сей раз вам не убежать, и отец ваш вас не спасет. И отдать спасительный приказ вы тоже не сможете. Вы в западне. Вы рассердили ОПЕК, и если вы не вернете нефтяным компаниям мексиканский рынок, они вас изничтожат. Пути к отступлению у вас нет. Вам надо присутствовать на саммите, иначе вы лишитесь своего поста. Но в данный момент это наименьшая из ваших трудностей.
Пик допил бренди, сделав последний глоток.
— Охраны там будет больше, чем когда-либо. Этому человеку и на милю не приблизиться к Белому дому.
— Если б вы и вправду так считали, я сейчас не вел бы с вами беседу.
Кадык Пика дернулся как поплавок.
— И вам известно, кто он, этот Эль Профета?
Слоун не ответил.
— Вы что-то хотите за это?
— Право, не много. По сравнению с тем, что поставлено на карту. Вы разрушили мою жизнь. Я собираюсь разрушить вашу. Бывают времена, когда ради блага страны, ради многих надо пожертвовать несколькими. Я тоже, как правило, этому не следую, мистер Пик. Условия я вам изложил.
Пик покачал головой.
— Я этого не сделаю.
Слоун повернулся и направился к двери.
— В таком случае завтра к полудню вас не будет в живых.
88
В десять утра Розовый сад согрело теплое солнечное сияние. Сотрудники секретной службы заняли свои места на крышах окрестных зданий и на всей территории Белого дома; с ними были собаки, натасканные на то, чтобы чуять взрывчатку. Служащие расставляли стулья и наводили последние штрихи в убранстве трибуны, на которую должны были подняться важные сановники. Машины, припаркованные в радиусе шести кварталов, были отбуксированы; все люки задраены. Аккредитации двухсот пятидесяти виднейших журналистов подверглись скрупулезной проверке.
На другом конце города из хорошо охраняемого вестибюля закрытого отеля вышел и заковылял по бетонной дорожке Мигель Ибарон, идя к ожидавшему его автомобилю. Несмотря на бессонную ночь, он чувствовал спокойствие и бодрость. Он откинулся на кожаное сиденье, и на него нахлынули воспоминания — вся его жизнь проносилась мимо. Вспомнилась минута — уже тридцать лет пронеслось с тех пор, — когда он раздвинул заросли и, выйдя, обнаружил одни трупы; он вспомнил, как поклялся в тот день на крови убитых, что не умрет, не отомстив человеку, совершившему это злодеяние.
И вот день настал.
Сегодня Роберт Пик умрет.
Он сдержал слово.
Чувствуя, что пора, Ибарон стряхнул с себя воспоминания и взглянул на часы. Прошло полчаса с тех пор, как они отъехали от отеля, — время достаточное, чтобы прибыть в Белый дом, даже с поправками на ожидаемые проверки. Он посмотрел в окно, но места были незнакомые. Он наклонился вперед и, нажав кнопку внутреннего телефона, сказал в стеклянную перегородку, отделявшую его от водителя:
— Почему так долго?
Водитель не ответил. Ибарон опять нажал кнопку.
— Почему так долго, шофер?
Ответа не последовало.
Он тихонько постучал в перегородку набалдашником трости.
Водитель не реагировал. Лимузин свернул на другую автостраду.
Ибарон отстегнул ремень безопасности и постучал в перегородку уже посильнее. Но ответа по-прежнему не было. Он тронул дверную ручку. Изнутри дверь не открывалась. Он попытался опустить стекло в окне. Стекло не двигалось. Его охватила волна тревоги.
Что это?
Он с силой стукнул золотым набалдашником по стеклу перегородки. Оно чуть подалось, но не разбилось.
— Где мы? — вскричал он. — Ответьте! Меня ждут на церемонии. Меня будут искать.
В переговорном устройстве щелкнуло.
— На церемонии вас не ждут, — произнес голос водителя — спокойный, бесстрастный. — И искать вас никто не будет.
— Я требую, чтоб вы отвезли меня к Белому дому.
— Вы не в том положении, чтобы что-то требовать.
Его грудь сжало болью, стало трудно дышать. Он ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки; мысли неслись, обгоняя друг друга. Он подумал о Руисе и его беспокойстве насчет того, что ЦРУ предпринимает розыски членов Фронта освобождения Мексики. Кто-то искал его. Но кто? Этот тип Джо Браник? Зачем? И кто он был такой? Разве мог он каким-то образом знать, что Ибарон и есть Эль Профета?
Он закашлялся, у него перехватило дыхание; глотая ртом воздух, он дышал со свистом и сплевывал в платок мокроту. Подняв глаза, он перехватил в зеркальце заднего вида взгляд шофера.
— Там станут искать лимузин, — сказал он, спокойно вытирая губы. — Церемония без меня не начнется. А вас разыщут и накажут, кто бы вы ни были.
— Никто вас искать не будет, потому что сообщили о том, что ввиду тяжелой болезни присутствовать на церемонии вы не сможете. И лимузин искать не будут, потому что ваш автомобиль с шофером отменены. А меня они не найдут, потому что я уже мертв.
Ибарон откинулся на спинку кресла; с каждой минутой мозг его работал все лихорадочнее. Уже мертв? Человек этот — сумасшедший, но если он собирается убить Ибарона, он жестоко просчитается. Трость — это орудие, которое Господь вложил ему в руку, дабы облегчить жизнь, когда болезнь превратила его в калеку, — поможет ему проникнуть через посты охраны. Хитро вделанный в набалдашник барабан вмещал три 44-калиберных патрона, там же и крохотный спусковой крючок.
Водитель свернул на грунтовую дорогу, и автомобиль запрыгал вверх-вниз по ухабам, каждый из которых пронзал как ножом разрушенные болезнью кости Ибарона. Потом, так же неожиданно, машина, резко дернувшись, встала, и водитель выключил двигатель. Ибарон наклонился, чтобы взглянуть в окно.
— Где мы? Почему встали здесь?
Водитель щелкнул, разблокировав двери, и, открыв свою дверцу, вышел. Когда задняя дверца открылась, Ибарон сжал набалдашник трости, приготовившись к нападению, но мужчина к дверце не приблизился. Отойдя от машины, он встал на склоне и стоял, засунув руки в карманы, словно любуясь пейзажем. Что он затеял?
Ибарон с трудом открыл тяжелую дверцу. Надавив на нее тростью, он вышел и с помощью той же трости стал пробираться между камней, осторожно ставя ноги. Он остановился за спиной водителя, в шести шагах от него.
— Кто вы? Что за игру вы затеяли? Повернитесь ко мне.
Слоун повернулся. Лицо было не таким, как ему помнилось. Это был уже не тот скуластый красавец с четкими и выразительными чертами и черной шевелюрой. Лицо осунулось, щеки опали, подбородок заострился, волосы поредели и стали седыми — лицо смертельно больного, которому уже недолго осталось. Однако глаза не изменились: эти озера темного расплавленного шоколада излучали прежнюю силу. Его глаза Слоун помнил, и это помогло ему сразу выделить Ибарона из общих снимков мексиканской делегации.
Несмотря на то что горечь и гнев, которые вызывал в нем Роберт Пик, требовали мести и что жажда эта была почти неодолима, он понимал правоту Чарльза Дженкинса. Джо Браник сознавал, что убийством Роберта Пика проблему не решить, и Слоун чувствовал, что не может дать своей ненависти разрушить то, во имя чего отдал жизнь Джо Браник. Требования, которые он изложил Уильяму Брюеру, были скромными. Он желал, чтобы Эйлин Блер прилетела в Вашингтон, округ Колумбия. Желал, чтобы ему предоставили возможность встретиться с Робертом Пиком и чтобы Роберт Пик узнал, что какое бы решение он, Слоун, ни принял, делает он это в память о Джо Бранике, а вовсе не ради спасения Роберта Пика, и он желал встретиться с Эль Профетой один на один.
Когда он оставил Пика в солярии, Эйлин Блер уже сидела в кресле, терпеливо ожидая аудиенции. Ничто не могло спасти Роберта Пика от Эйлин Блер.
— Вы не узнаете меня? — спросил Слоун Ибарона. — Ведь немало лет мы прожили рядом. А в последний раз мы виделись, когда я был ребенком.
Слоун смотрел, как глаза старика снимают наслоения прошедших лет, будто счищая шелуху с луковицы, и с каждым снятым слоем выражение его лица менялось. Как тон донесений Чарльза Дженкинса, оно выражало сначала смятение, потом недоверие и наконец шок.
— Чуй, — прошептал он. Он произнес это слово, как будто был не в силах понять, подошел поближе, вгляделся. — Что за шутки?
Слоун покачал головой.
— Это не шутки, отец.
— Ты же погиб.
Слоун кивнул.
— Да, отец. Мальчик, которого ты помнишь, в тот день погиб.
Секунду старик словно размышлял, прикидывая, как одно согласуется с другим.
— Как же так? Как могло такое случиться?
— Причина того, что случилось, — в тебе, отец. Ты учил меня тому, что следовало говорить. Учил тому, как говорить. Ты посылал меня проповедовать вещи, о которых я тогда и знать не знал. Это ты наслал на нас солдат тогда.
— Нет.
— Ты использовал меня, и именно из-за этого погибла мама, погибли все в деревне в ту ночь, и можно считать, что погиб и я, потому что последующие тридцать лет я как бы и не жил.
— Нет. Ты обладал силой.
— Я был твоим сыном. Ты должен был быть мне отцом, должен был меня защищать, заботиться обо мне. Но ты лишь использовал меня. Использовал для ненависти, для целей своей политики.
— Господь дал тебе дар, наделил силой.
— Да, наделил.
— Он послал тебя твоему народу.
— Это ты послал меня народу.
— Потому что через тебя народ должен был сбросить многовековой гнет, оковы нищеты. Ты был предназначен к тому, чтобы вырвать мексиканцев из тисков бедности, уничтожить их горести, их страдания.
— А вместо этого я лишь умножил эти горести и страдания.
Голос Ибарона стал тверже:
— Как смеешь ты говорить мне такие вещи? Я потратил тридцать лет, готовя этот день, за то, что они сделали с твоей матерью и жителями деревни. Я поклялся отомстить за их гибель и за твою гибель тоже. Я не знал ни минуты покоя. И вот настал час. Отвези меня в Белый дом, и я докажу тебе мою преданность ей и всем погибшим в тот день. Отвези меня в Белый дом, чтобы все было окончено.
— Все окончено. Не так, как ты воображал, но так, как должно. Больше никто не станет гибнуть из-за меня, отец. Сегодня я сделаю то, что ни ты, ни Роберт Пик, ни Паркер Медсен и никто, в это впутанный, не могут и не хотят сделать. Сегодня я покончу с убийством. Оно началось из-за меня. Из-за меня и прекратится.
Слоун вытащил из кармана ключи от лимузина.
— Что ты делаешь?
Слоун отвел руку назад, потом резким рывком выбросил ее вперед.
Ибарон в ужасе пригнулся:
— Нет!
Ключи описали в воздухе дугу и, на секунду застыв на фоне голубизны, как бы паря в восходящем воздушном потоке, сверкнули на солнце, прежде чем упасть и исчезнуть в густых зарослях на склоне. Ибарон стоял не шелохнувшись, словно вся его жизнь пронеслась сейчас перед его глазами.
— Прости, отец, — сказал Слоун. — Мне жаль, что все у нас с тобой так получилось.
Старик встрепенулся, зашевелился, как зверь, стряхивающий с себя спячку, спина его распрямилась, он словно вырос. Мускулы рук и ног, еще недавно искалеченные болезнью, словно вздулись, налившись силой. Он упер кончик трости в грудь Слоуна таким мощным движением, что тот на шаг отступил.
— Нет. Это ты ошибаешься. Все будет так, как я воображал. Ты не мой сын. Я отказываюсь этому верить.
Слоун понял — почему, он и сам точно не знал, но в эту секунду он понял, что трость — это орудие смерти, предназначенное провести Ибарона сквозь посты охраны и убить Роберта Пика. Но страха он не почувствовал. Умирать ему не хотелось: впервые в жизни перед ним открылась перспектива будущего, включавшего Тину и Джейка, открылось нечто, ради чего стоило жить, появились люди, придавшие его жизни смысл. Но все это было недостижимо, пока не окончится эта глава его жизни, и если окончить ее значило умереть во имя того, чтобы поступить как должно, как это решил для себя делать Джо Браник, получается, что так тому и быть. Слоуну необходимо было знать, что он не такой, как Роберт Пик и Паркер Медсен, не из тех, кто выполняет свою работу, не заботясь о последствиях. Ему необходимо было доказать, что он не уподобился своему отцу, преисполненному одной только жаждой мести, ожесточенному на весь мир, пожираемому ненавистью. Он взошел сюда, на эту возвышенность, не для того чтобы спасти Роберта Пика. Он здесь, чтобы разобраться с собой, найти себя. Потому что в результате он понял, что должен не просто узнать свою родословную, но должен понять, что он за человек.
— Ты не можешь убить меня, отец. Тот мальчик уже умер.
Кончик трости задрожал, все сильнее колотясь о грудь Слоуна, будто по телу старика пробегал электрический разряд, он нарастал, пока сильный толчок не отбросил старика назад, заставив потерять равновесие. Тело, больше не крепившееся ненавистью и решимостью, сломалось — он поник там, где стоял, — немощный старик, чей огонь погас.
Слоун не мог не задаваться вопросом, что взял он от этого человека. Ему хотелось знать, что сформировало его как личность, но в то же время он понимал, что с тех пор прошла целая жизнь и что этого не изменишь. Жизнь его и личность не должны определять другие, он сам должен делать себя и свою жизнь своими действиями и поступками. И будущее зависит от него самого.
Он коснулся стариковского плеча, проходя мимо, оставляя Ибарона одного на возвышенности, с глазами, устремленными вверх, в небо, что-то невнятно бормочущего. А когда, миновав машину, он пошел пешком по грунту и щебню дороги, поднялся легкий ветерок, и ветерок этот как будто гнал его прочь, ветерок шевелил листву на деревьях, стоявших подобно часовым вдоль дороги, шедшей по гари, — почетный караул, немые свидетели истории. За его спиной раздавался приглушенный шум — то текла река, — и, как шум прибоя, доносившийся до него сквозь балконную дверь, звуки эти напоминали о быстротечности времени. Он все шел и шел, не оборачиваясь, не замедляя шага, даже когда раздался выстрел, четвертый за эту неделю с лишним, и эхо его разнеслось по ущелью к местам неведомым и запредельным.
Эпилог
Сиэтл, Вашингтон
Слоун открыл свою черную папку, вытащил конверт, который он сунул в передний кармашек, торопясь из дома в суд, и вынул фотографию: Чарльз Дженкинс сидел на корточках, вдали высилась гора Рейньер. Возле Дженкинса, обвив руками его шею и положив голову ему на плечо, стояла Алекс Харт. В ногах у них прилег в позе полного изнеможения, с языком на сторону Сэм, пес Джо Браника.
Узнав о потере, которая постигла Дженкинса, Слоун попросил Эйлин Блер подарить ему эту собаку. Она с радостью согласилась. Для себя Слоун не попросил ничего, но двумя неделями позже заказной почтой ему пришла посылка — вырезанная из картона фигура Ларри Берда, игрока, столь любимого братом Эйлин. Теперь эта фигура стояла у него возле входной двери, встречая и провожая гостей. Тина не возражала.
Многоквартирный дом Слоун продал, чувствуя, что это будет как бы достойными похоронами Мельды. Но он очень тосковал по ней и понимал, что так будет всегда.
В дни, последовавшие за саммитом, Эйлин Блер не раз обсуждала со Слоуном свои личные встречи с Робертом Пиком. В конце концов семейство Браника решило спустить на тормозах расследование обстоятельств его гибели, удовлетворившись своим знанием того, что это не было самоубийством. Эйлин сказала Слоуну, что, несмотря на всю свою ярость и желание добиться наказания для Пика, она тоже понимала, что, любя свою страну, ее брат не желал бы общенационального скандала, который раздирал бы страну на части.
США отправили тело Мигеля Ибарона в Мексику. Официально было заявлено, что причиной смерти видного государственного деятеля стали осложнения в связи с его онкологическим заболеванием, но до последних минут он честно и преданно служил своей родине. Говорили, что он удостоился пышных похорон, как и подобает такому деятелю.
Паркер Медсен оказался менее счастлив. Тело его извлекли из обгоревшей машины. Вскрытие установило, что глава администрации Белого дома, будучи сильно пьян, съехал с трассы и, скатившись с крутого склона, врезался в дерево. Как и машина, лицо его сильно пострадало. Через несколько недель после гибели Медсена «Вашингтон пост», сославшись на конфиденциальные источники, намекнула, что случай этот, возможно, был самоубийством и что погибший сам лишил себя жизни, когда просочилась информация о том, что он командовал особым воинским подразделением, действовавшим в обстановке строгой секретности и подозреваемым в зверских расправах над мирными жителями Вьетнама, а также, не исключено, и других стран. Вскоре после этого сообщения на первой странице газеты появилась сенсационная информация о добровольной отставке президента Роберта Пика ввиду невыясненных домашних обстоятельств. Политические обозреватели утверждали, что такое заявление было лишь простой формальностью, учитывая условия нефтяного договора между США и Мексикой, который он готовил. Самые ярые из сторонников Пика, представлявшие основную его опору, — нефтяные и автомобильные магнаты — были вне себя от ярости. Аналитики назвали договор политическим самоубийством Пика.
Альберто Кастаньеда вернулся в Мексику как национальный герой. Его смелые действия по обеспечению договора сравнивали с политикой Ласаро Карденаса, за шестьдесят лет до этого национализировавшего мексиканскую нефтяную промышленность. Мексиканские газеты писали, что Кастаньеда вернулся с саммита воодушевленный, и предрекали его новые подвиги во славу мексиканского народа, на процветание которого теперь будет потрачено возросшее богатство страны.
Том Молья открыл для себя удобство электронной почты и часто посылал теперь сообщения Слоуну, главным образом шутливые. Он по-прежнему работал детективом и писал Слоуну, что давно помер бы со скуки, если бы Дж. Рэйберн Франклин так не донимал его. Он прислал Слоуну фотографию, которую тот теперь прицепил магнитом к дверце холодильника; на этой фотографии детектив стоял возле зеленого «шевроле» 1969 года выпуска. На обороте было написано: «Без кондиционера».
Слоун сунул фотографию Чарльза Дженкинса и Алекс Харт в карман синего блейзера и встал, потому что пристав призвал аудиторию к тишине. В зал вошел судья Брайен Уилбер, лысоватый, остролицый, с атлетической фигурой члена национальной сборной по баскетболу. Судья Уилбер занял свое место на возвышении под печатью штата Вашингтон, отложил в сторону бумаги и взглянул сверху вниз на Слоуна.
— Готовы к вступительной речи, советник?
— Да, ваша честь.
Слоун отодвинул стул, встал и застегнул свой блейзер. Потом он раскрыл папку, вытащил текст вступительной речи и, улыбнувшись, положил странички обратно. Когда он проходил к трибуне, его клиентка стиснула ему руку. Он приостановился и, наклонившись к ней, ободряюще шепнул ей на ухо:
— Volvera bien.[11]
Затем он повернулся к присяжным:
— Доброе утро, леди и джентльмены. Зовут меня Дэвид Слоун, и я представляю интересы истца.
Примечания
1
Юрисконсульт Белого дома, в 1993 г. покончил с собой.
(обратно)2
Фронт освобождения Мексики (исп.).
(обратно)3
Игра типа бейсбола, проводится на маленькой площадке.
(обратно)4
Нехорошо (исп.).
(обратно)5
Институционно-революционная партия Мексики, основана в 1929 г.
(обратно)6
Если бы они здесь оставались, вас бы здесь не было (исп.).
(обратно)7
«Соколы» (исп.).
(обратно)8
Где мальчишка? (исп.)
(обратно)9
Поднимите глаза и взгляните с места, где вы есть (исп.).
(обратно)10
Исайя 42:14-15.
(обратно)11
Все будет хорошо (исп.).
(обратно)

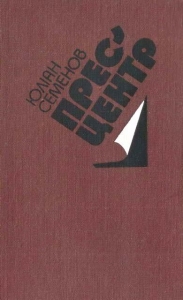

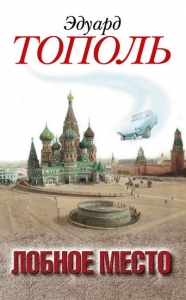

Комментарии к книге «Властелин суда», Роберт Дугони
Всего 0 комментариев