СЛОВО О ПИСАТЕЛЕ
Беседа наша затянулась надолго. Николай Валерианович Волков, человек острого, живого ума, молодо поблескивая глазами, интересно, с увлечением рассказывает о прожитом, и время летит незаметно. А рассказать писателю есть о чем, и не только потому, что за плечами шесть десятков лет, хотя и это само по себе уже немало, но и увидел он, и испытал за эти годы много интересного, такого, о чем можно и нужно рассказать людям. Было, конечно, разное: и беды, и радости, но главное - это книги, это писательский труд, о котором говорит Николай Валерианович особенно увлеченно и взволнованно. Книг в рабочем кабинете писателя много - и в тяжелых старинных переплетах, в нарядных обложках новых изданий, и отдельно - книги самого Николая Валериановича. Одна за другой ложатся они передо мной на стол, изданные в разных странах, на разных языках: в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии, Китае, Германской Демократической Республике, в Чехословакии, да не по одному, а по два, по три издания почти в каждой стране. И немного странно видеть такую знакомую фамилию - Н. Волков, напечатанную на переплетах книг не только славянским шрифтом, но и латинским, и даже древними иероглифами.
Каждый приходит в литературу своим путем. Несколько необычно пришел в нее Николай Валерианович: не робким юношей, впервые пробующим перо, а человеком зрелым, с большим жизненным опытом, хорошо знающим людей. Ему было уже 46 лет, когда появился в печати его первый роман «Наше родное», за ним последовали «Заре навстречу», «Не дрогнет рука», появились в печати несколько рассказов, одноактных пьес. Уже законченный было роман о строителях Красноярской ГЭС пока отложен в сторону. Сейчас писатель работает над новой книгой о жизни наших современников. Все книги Николая Волкова - о Сибири, о нашем крае И это не случайно: потомственный сибиряк (если можно так сказать), он не мыслит себя нигде в другом месте, и герои его книг - это наши земляки, люди так же влюбленные в суровый сибирский край, как и создавший их автор.
Николай Валерианович рассказывает о себе скупо, как бы нехотя, но за короткими сжатыми фразами видишь большую интересную жизнь.
В юности он никогда не думал быть писателем, просто любил читать, читал много, взахлеб - и не меньше любил рассказывать содержание книг своим друзьям, причем в пересказах своих отходил в сторону, увлекался, начинал фантазировать, создавая в своем воображении героям книг новые биографии, ставил на их пути новые преграды. Благо сама сибирская природа способствовала этой склонности будущего писателя: в юности частенько ходили веселой шумной компанией на знаменитые красноярские «Столбы» (куда вела тогда только пешая тропинка, не то что сейчас: можно в машине подъехать), долог и труден был путь, и сдаваясь на просьбы приятелей, сочинял он разные истории - одну по дороге туда, на «Столбы», другую - на обратном пути. Потом попробовал записывать то, что возникало в устных рассказах, но нигде не печатал.
Все казалось, что рано еще, сыровато, надо дорабатывать, а времени не было: ответственная работа в Красноярском крайторг-отделе отнимала все силы, потом Великая Отечественная война, откуда принес Николай Волков три правительственные награды, и снова работа по организации торговли в нелегкие послевоенные годы. Много времени приходилось отдавать и общественным обязанностям: был Николай Валерианович не однажды депутатом и районного и городского Советов, заместителем председателя Красноярского Комитета защиты мира, членом редколлегии альманаха «Енисей», художественного совета краевого драматического театра. И вот в 1950 г. появилась в свет его первая книга, роман «Наше родное». Может, именно то, что автор - сам торговый работник, и позволило ему создать живые, яркие образы советских людей, посвятивших себя торговому делу. Именно эту книгу ждал успех, и успех вполне заслуженный. Писателем была поднята очень важная, интересная тема. Он увидел и по-новому показал труд тех советских людей, которые стоят «по ту сторону прилавка». Не жулики, не проходимцы, втайне мечтающие погреть руки около народного добра, а люди высокого гражданского долга, честные, любящие свое дело, стали главными героями романа. Молодая девушка Лена Байкова в борьбе с трудностями вырастает из робкой уборщицы до директора лучшего в городе магазина. Рядом с ней ее товарищи по работе - и Андрей Чернов, с которым свяжет ее позже любовь, и Женя Смагина, и Калюжный, и опытная продавщица Елизавета Ивановна, и многие другие. Этому сильному, дружному коллективу не страшны никакие невзгоды, а было их немало, особенно во время войны, когда каждый грамм хлеба или масла был на строгом учете и когда особенно нагло начинали действовать хапуги, вроде заведующей магазином Козловой или начальника ОРСа Гронского. Н. Волков удачно показал, как в коллективе, в борьбе с трудностями мужает, растет человек, какой бы, с первого взгляда, маленький пост на службе он ни занимал.
Литературная критика тех лет единодушно отмечала актуальность темы, освещенной в романе «Наше родное». Свидетельством этому - заинтересованность в романе зарубежных издательств ряда социалистических стран. В многочисленных письмах, полученных тогда Николаем Валериановичем от зарубежных читателей, выражается благодарность автору за теплую, задушевную книгу о работниках прилавка. Но роман Н. Волкова «Наше родное» и сейчас не потерял своей актуальности. Ведь не случайно на страницах наших центральных газет то и дело поднимается вопрос о торговле, о людях, занятых в этой важной сфере деятельности общества. С тревогой пишут авторы сегодняшних статей о случаях ухода из торговли молодых, энергичных, честных людей, которые не нашли в себе сил противостоять либо нечестным людишкам, встречающимся еще у нас в торговых предприятиях, либо неверному, обывательскому, оскорбительному представлению о «торгашах». Книга Н. Волкова «Наше родное», несомненно, помогла бы этим людям найти свое место и понять, что не столько важно, что ты делаешь в жизни, а главное - как.
В романе «Заре навстречу» писатель обратился к теме революционного прошлого нашего края. Это большое взволнованное полотно посвящено героической борьбе сибиряков за Советскую власть в 1918-1920 годах. В книге передана напряженная атмосфера тех героических лет, когда не только колчаковцы и другие белобандиты, но и иностранные государства стремились задушить молодую Советскую республику. Происки всех врагов обречены на провал, но победа далась дорогой ценой: в этой суровой битве за новую жизнь гибнут лучшие люди из народа. Без колебаний отдают свои жизни за общее счастье Ольга Рублева, рабочий Петр Огнев, многие большевики, оставшиеся в городе для подпольной работы. И пусть разгромлена подпольная организация, но оставшиеся в живых с еще большим упорством и страстью продолжают дело своих павших в боях товарищей. Революция втягивает в водоворот событий самых разных людей: и старого рабочего Степана Кузьмича Сомова, и подростка Алешку Огнева, и девушку из интеллигентной семьи Машеньку Рогозину. И даже такой далекий вначале от политики человек, как мать Алешки Анна Васильевна, постепенно втягивается в революционную работу, выполняя одно за другим все более ответственные поручения большевиков. Автор убедительно показал, что народ поддерживает большевиков во всех их начинаниях. Подлинными вожаками народа становятся Александр Уяров, Семен Иванович Порезов, Герасим Федорович Лиханов и многие-многие другие. Ни голод, ни холод, ни пытки - ничто не в силах остановить победную поступь революции, говорит своим романом Николай Волков, народ идет навстречу заре новой жизни.
Роман Н. Волкова «Не дрогнет рука» посвящен почетному, кропотливому, а подчас и опасному труду советской милиции. Автору удалось показать не только карающую руку закона, но и ту огромную воспитательную роль, которую призваны играть и играют в жизни нашего общества работники милиции. Честные, смелые, умные люди, подобные главному герою Дмитрию Карачарову, с достоинством носят синие милицейские погоны, охраняя общественный порядок.
«Работа у нас такая, что трусам и нервным людям тут не место, - справедливо говорится в романе. - Бывает, приходится рисковать и жизнью. Большинство работников милиции - люди смелые и самоотверженные, не боящиеся при случае даже с голыми руками пойти на вооруженного бандита».
Все сюжетные линии романа связаны главным героем Дмитрием Петровичем Карачеровым. Это молодой человек, после армии по зову сердца и гражданского долга пришедший работать в милицию. Был он вначале там «желторотым птенцом», но с помощью старших товарищей Дмитрий становится опытным оперативным работником. Шаг за шагом, в острой сюжетной форме раскрывается в книге нелегкий труд милицейских работников, сложный и часто связанный с риском для жизни, но внешне ничем не примечательный, ибо вся работа ведется в особых условиях, не требующих ни афиширования, ни широкой огласки.
Дмитрий Карачароа и его товарищ» часто имеют дело с опасным противником, хитрым, жестоким. изворотливым. 8 книге Н. Волкова - это закоренелый бандит, бор и убийца Литвинов-Иванов, по кличке Король, скрывающийся под видом научного работника, это Бабкин, отвратительная личность, ради корысти готовый на любое убийство, это, может быть, менее жестокие, но не менее опасные пособники убийц Радий Роев, школьный друг Дмитрия, шофер Шандриков. Все они тоже наши современники, они живут с нами на одной земле, но живут, подобно раковой опухоли, чуждой и враждебной здоровому организму советского общество жизнью. И именно милиция прежде всего призвана беспощадно вырезать этот противоестественный нароет, как бы ни было это трудно и опасно.
Но есть и другие преступники, которых еще можно спасти, перевоспитать, вернуть обществу. Главным образом, это молодые люди, подростки, в силу тех или иных обстоятельств попавшие под дурное влияние.
Всем содержанием книги Н. Волков говорит, какой важный наболевший и, увы, еще не до конца решенный вопрос - воспитание подростков. Юности свойственна увлеченность, мечты о необыкновенных поступках, и не всегда эта романтическая мечта находит верное воплощение. Некоторые юноши, увлеченные ложной воровской романтикой, попадают в умело расставленные сети опытных бандитов, и сами становятся преступниками.
С тревогой за таких молодых людей рассказывает нам автор историю трех пареньков - Леньки Зыкова, Георгия Саввина, Семена Филицина, ставших на преступный путь. «Всегда испытываешь тягостное чувство, - читаем мы в романе, - когда ведешь следствие по делам молодых преступников… Всегда начинает казаться, что мы упускаем что-то очень важное в нашей воспитательной работе, если у нас - пусть в незначительном количестве - вырастают подобные типы».
Исследуя судьбу своих героев, писатель подробно и убедительно раскрывает причины морального падения молодых людей. 3 одном случае это семейная драма - развод родителей - надломила душу тонкого, впечатлительного мальчика Гоши Саввина, в другом - в истории с Ленькой Зыковым - безотцовщина, озлобление против всех людей, вызванное недоброй, жадной, жестокой мачехой, в третьем - влияние затхлого мещанского миря семьи Филициных и желание их сына Семена вырваться из этого давящего душу быта, но неумение увидеть действительно достойный подражания образец. А отсюда - увлечение «красивой» жизнью вора Пашки и стремление подражать ему.
Судьба этих ребят тревожит не только Дмитрия Карачарова, но и весь заводской коллектив, куда работники милиции обратились за помощью. В книге Н. Волкова хорошо показана народная поддержка всех добрых начинаний милиции. Старый токарь Василий Лукич Чеканов поднял в тревоге весь рабочий коллектив, узнав о преступлении трех заводских пареньков. Страстно, взволнованно выступают ка собрании рабочие, они чувствуют ответственность за судьбы подростков. «Мне слово дайте! - поднял руку пожилой рабочий в замасленной спецовке. - Вот председатель - товарищ Чеканов - обвинял тут завком и партком, что опять у нас троих ребят за грабеж арестовали, а если правду говорить, то вина не только на завком и партком ложится, а на всех нас. Все мы обязаны по-отцовски присматривать за нашей заводской молодежью, особенно за теми, у которых отца-матери нет. Знать должны, чем каждый из них дышит, к чему душой стремится, на что время и деньги тратит. И не только нужно нам учить, как работать, а на примере своем им показывать, как жизнь строить нужно». Гулом одобрения встречают рабочие слова своего товарища, и несомненно, что сильный, здоровый заводской коллектив вместе с работниками милиции сумеет перевоспитать сбившихся с пути ребят.
Поддержку народа милиция чувствует на каждом шагу. Без нее трудно было бы решать ей те сложные задачи, которые задает то и дело жизнь.
Во имя торжества идей гуманизма нового мира ведут работники милиции борьбу с теми, кто живет по волчьим законам, и нет для них, самоотверженных и смелых бойцов, ничего выше стремления служить своему народу, стоять на страже его интересов.
С уважением и любовью к людям в синей форме написал свою книгу Н. Волков.
Вслед за писателем и ты проникаешься чувством особого уважения к своим верным, хоть и безвестным друзьям, всегда готовым прийти тебе на помощь, и ты можешь спокойно жить, трудиться, любить и радоваться, зная, что у них никогда не дрогнет рука, если этого потребует защита твоих дел, твоих интересов, самой жизни твоей.
Н. В. Волкова, как это видно по трем его большим романам, привлекают темы острые, злободневные, раскрывающие какие-то важные стороны жизни нашего народа.
В мае 1964 года Николаю Валериановичу Волкову исполнилось 60 лет. Он полон творческих планов, новых замыслов. Пожелаем ему долго еще сохранять бодрость духа, душевную молодость, ту деятельную любовь к родному краю, которая диктует ему книги о наших современниках, преображающих Сибирь.
Н. САМОЙЛОВА.
Глава первая ДОВОЛЬНО ОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЛО
Дело об ограблении магазина № 13 Горторга ничем особенно интересным не отличалось и не было более трудным и сложным, чем большинство других уголовных дел, которыми мне приходилось заниматься как старшему оперуполномоченному милиции. Упоминаю же о нем только потому, что оно явилось первым звеном в цепи довольно незаурядных событий, о которых хочу рассказать.
Работал я тогда в небольшом сибирском городке Борске. Магазин, о котором идет речь, стоял на самой окраине городка, завершая длинный ряд розовато-желтых, будто озаренных солнцем, новеньких одноэтажных коттеджей под красными черепичными крышами. Здание магазина было нарядное, с высоким просторным крыльцом, большими зеркальными окнами и затейливой башенкой над входом. Всем своим видом оно чудесно гармонировало с приветливыми, радующими глаз домиками нового рабочего поселка.
Однако, когда в тот день я увидел этот магазин, им уже не пришлось любоваться. Мысли мои были заняты совсем другим. Мне утром сообщили, что ночью в магазине побывала шайка грабителей. Следы их посещения я увидел на крыльце. На заляпанных грязью недавно покрашенных ступенях густо багровели пятна застывшей крови, а в полотне разделанной под дуб двери зияла большая дыра. Тут поработали коловоротом и воровским ломиком - «фомкой».
Внутри магазина царил полнейший разгром. На полу и на прилавках громоздились груды стащенных с полок товаров: ситца, полотна, связок трикотажа, коробок с галантереей. Под ногами валялись испачканные грязью вышитые сорочки и детское белье. В кладовой, куда воры проникли, выломав дверную филенку, возвышался целый ворох обуви, игрушек, шляп и шапок, вываленных из взломанных ящиков.
Страшная злость на виновников этого дикого погрома охватила меня. Я хорошо знал, с каким трудом жителям поселка удалось чуть ли не на год ускорить постройку магазина, не раз видел, как они копали землю для котлована, таскали кирпичи, помогали штукатурить стены. И вот теперь, когда магазин должен был завтра открыть свои гостеприимные двери тем, кто вложил в него столько труда, какие-то негодяи сорвали этот заслуженный людьми праздник, похитили лучшее, что было в магазине, и постарались перепортить то, что не могли унести.
Наш сотрудник, производивший предварительный осмотр места преступления, лейтенант милиции Кубарь, молодцеватый паренек с задорной мальчишеской физиономией, которую он всячески старался сделать серьезной и внушительной, доложил мне, что ограбление было произведено перед рассветом. Преступник, как он считал, подкрался к сторожу, дремавшему на крыльце, ударил его кастетом, а потом, взломав дверь, затащил его внутрь магазина, чтобы лежащее на земле тело не привлекло внимания.
Раненого сторожа Кубарь успел еще до моего приезда отправить в больницу; старик был в таком состоянии, что ожидать от него в ближайшее время каких-либо показаний не приходилось.
Завмаг, пожилая женщина, очень расстроенная случившимся, утирая слезы, заявила, что украдено значительное количество дорогих шерстяных и шелковых тканей, костюмов и белья. Все это, по ее мнению, не смогли бы поднять и трое.
- Почему вы предполагаете, что здесь орудовал только один человек? - спросил я Кубаря.
- Следы так говорят, товарищ капитан, - отвечал он. - Хоть грабитель и постарался затереть за собой пол в магазине и на крыльце, но я все-таки кое-что обнаружил.
Довольный находкой, он показал мне поднятое им за прилавком вафельное полотенце с ясным оттиском мужской галоши.
- Видно, здоровый дядя был. Четырнадцатого размера галоша, - продолжал Кубарь. - По этому следу я определил, что он на машине приезжал. Тут за углом, в грязи, ясные следы от колес «москвича» и в одном месте густо натоптано точно такими же галошами. А на тропке, которая идет к тротуару, я насчитал, что он по меньшей мере шесть раз подходил к своей машине.
Мы прошли к тому месту, о котором говорил Кубарь. Там действительно было много одинаковых следов галош того же размера, что и на полотенце.
- Похоже, что здесь был не один человек, а два, если судить по манере ставить ногу, - сказал я, внимательно всмотревшись в следы.
- И у обоих был одинаковый размер ног? - усомнился Кубарь.
- Не обязательно.
- Положим, что так, - быстро согласился Кубарь. - Они могли нарочно обуться в галоши не своего размера, чтобы сбить нас с толку.
Оживленный и взволнованный (ведь это его первое самостоятельное поручение!), Кубарь начал развертывать передо мной целый ряд своих догадок, но я остановил его, шепнув, что при посторонних, то есть при понятых и служащих магазина, которые небольшой группой стояли у окна, тихо переговариваясь между собой, не следует распространяться о своих предположениях. Кроме того, мне хотелось самому составить мнение о том, как был совершен грабеж.
Я внимательнейшим образом осмотрел все помещение магазина и прилегающий к нему участок, но не нашел ничего существенного, кроме еще одного такого же следа галоши большого размера. След этот был обнаружен на полу, в проходе, под откидной доской прилавка, куда грабитель ступил, затирая за собой следы скомканной женской трикотажной сорочкой, превращенной в грязную тряпку. Вероятно, этой же сорочкой были вытерты и прилавки.
Ставя себя на место преступника, я представил, как он, пятясь к двери, широко расставив ноги, водил тряпкой по полу, оставляя мазки грязи. Сравнительно небольшая ширина размаха рук грабителя заставила меня предположить, что орудовал здесь не такой уж крупный человек, как это можно было заключить по размеру его галош.
Постепенно, отступив к дверям, я обратил внимание на следы грязи, оставшиеся на ручках обеих дверей, выходящих в тамбур, как внутренней, так и наружной.
- Тоже тряпкой вытерты, - сказал следивший за моими действиями Кубарь.
- Нет, - возразил я, - едва ли тряпкой. Ведь ты говорил, что тряпка лежала около прилавка. Как же ею могли вытирать ручку наружной двери? Ведь для того чтобы бросить ее к прилавку, грабителю нужно было снова войти в тамбур. Там бы остались следы. А их нет. Очевидно, ручки дверей вытерли чем-то другим.
Невольно мы оба огляделись вокруг. Грязный комок газетной бумаги, валявшийся в стороне от крыльца, привлек наше внимание. Устремившись к нему, мы так столкнулись, что Кубарь чуть не упал.
Завладев трофеем, я начал его внимательно разглядывать. Судя по его виду, этим комком вытирали не только дверные ручки, но и крыльцо, так как с одной стороны он был сплюснут, истерт и покрыт грязью.
Обращаясь с ним осторожней, чем сапер с миной, я развернул комок на стекле прилавка. Перед нами оказался вчерашний номер областной газеты «Каменский рабочий». По сохранившимся жирным пятнам и крохотному мазку свиного сала с приставшей к нему хлебной крошкой я определил, что в газету были завернуты бутерброды с салом или колбасой. Но больше всего меня заинтересовали какие-то буквы и цифры, очень небрежно написанные плохо очиненным карандашом над названием газеты.
- Пометка письмоносца, - проговорил я, пытаясь разобраться в безобразных каракулях.
- Цифры еще можно прочесть, - прошептал Кубарь, склонившись рядом со мной над жалкими остатками газеты, - не то 28, не то 98, а вот улицу сам черт не разберет. И Лос?… можно прочитать, и Лес… и Леч… Ну, ясно! - вскричал он вдруг. - Чего тут голову ломать? Только и может быть, что улица Ленина. У нас никакой другой улицы на Л и нет.
- Сомнительно, - покачал я головой. - Уж больно не похоже на Лен… Однако попробуй, сходи проверь, но только очень осторожно. Прежде всего нужно взглянуть на почте, кстати, сегодня газеты еще не разносили. Посмотри, такие ли на них крючки наставит почтарь.
Скоропалительные решения, вызванные стремлением принять желаемое за факт, всегда приводят нашего брата к провалу. Так получилось и на этот раз. Вернувшийся вскоре Кубарь со смущенным видом доложил, что письмоносец, доставлявший газеты на улицу Ленина, был человеком аккуратным и его пометки на газетах ничем не напоминали те иероглифы, которые чья-то поспешная рука написала на найденной нами газете.
Нам предстояла нелегкая задача - разыскать девяносто восьмой или двадцать восьмой номер дома на начинающейся на букву Л неизвестной улице, которая могла находиться в любом городе или селе, расположенном в радиусе примерно пятнадцати часов езды от Борска.
В течение нескольких часов междугородная телефонная станция только и успевала соединять все наши телефоны с различными городами и селами, вызывая начальников районных и городских отделений милиции. В розыски неизвестной улицы был включен чуть ли не весь наш аппарат, и в результате этой кропотливой неблагодарной работы передо мной на стол лег небольшой листок бумаги с перечнем улиц на букву Л, в котором наиболее подходящей показалась улица Лассаля в областном нашем городе Каменске.
Удивляюсь, как я раньше не припомнил этого названия! Оно мне было очень знакомо. Ведь все детство и юность я прожил в Каменске, и не раз мать посылала меня на улицу Лассаля за керосином. Во время Отечественной войны там была единственная на весь город керосиновая лавка.
О результатах розысков мы с Кубарем доложили нашему шефу, начальнику борской милиции капитану Нефедову.
- Гастролеры приезжали, - сказал он, подумав. - Газета вчерашняя? Ну, так и есть. Я думаю, дело было так: принесли им эту газету, и валялась она у них где-то на столе, а когда начали собираться в поездку, то завернули в нее хлеб с салом или с колбасой, чтобы подзакусить в дороге. Ведь ехать-то тут не близко, часов двенадцать пути…
- А на машине около десяти.
- А на машине около десяти, - повторил он. - И верней всего, что пожаловали они к нам на своей машине и на ней же отсюда уехали. Ведь не на руках же им было тащить такую массу товара. В пути, надо полагать хлеб с салом они съели, а газету скомкали и сунули в карман. Магазин был ограблен, товары стащены в машину, следы в магазине затерты тряпкой, тряпка брошена с порога к прилавку. Но когда грабители вышли на крыльцо, то спохватились, что и здесь им нужно затереть за собой следы. Возвращаться за тряпкой они не стали, и тут пригодилась газета, торчавшая у одного из них из кармана. Он потер ею сперва крыльцо, потом ручку двери, потом ступени крыльца, когда спускался по ним. Но тут, очутившись на виду, грабитель, затиравший следы, начал страшно трусить и торопиться, осторожность изменила ему, и он, стремясь скорей смыться, машинально отбросил измазанную газету в сторону.
Нефедов, конечно, не считал, что он открывает что-то новое. Но такова была его манера: выслушав товарищей по работе, он как бы обобщал высказанные ими предположения, создавая стройную, логически продуманную версию. Это у него подчас получалось так убедительно, точно он, где-то спрятавшись, сам наблюдал за всеми действиями преступника.
Делом об ограблении магазина, как всегда у нас водится, были заняты не только мы с Кубарем, но и все более или менее свободные работники. Пока мы занимались осмотром магазина и определяли название улицы, другие тоже не теряли времени. Не буду перечислять, какие меры они принимали, но в результате все пришли к одному общему мнению, что магазин, видимо, ограбили не местные воры. Однако пока еще твердо никто не мог за это поручиться.
Нефедов решил, что мне следует немедленно выехать в Каменск и там с помощью местных работников по свежим следам разыскать и грабителей и похищенные ими товары. Чтобы согласовать этот вопрос с начальником Областного управления полковником Егоровым, он тут же позвонил ему по телефону.
Видимо, полковник соглашался с ним, так как Нефедов с довольным видом уже подмигнул мне одним глазом, как вдруг что-то сказанное полковником озадачило его. Лицо Нефедова налилось кровью. Чувствовалось, что он вот-вот взорвется от негодования. Но привычка к дисциплине взяла верх, и, вместо возражений, Нефедов только проговорил:
- Слушаю, товарищ полковник. Будет выполнено.
- Черт его знает, какая скверная история получилась, - сказал он наконец, закончив разговор с Каменском. - Что-то полковник задумал насчет тебя, чтоб ему ни дна ни покрышки. Знаю я его повадку. Определенно заберет тебя к себе в управление. И черт меня дернул ему позвонить. Может, он про тебя и не вспомнил бы. Впрочем, нет, он давно тобой интересуется. Я не раз это замечал. Вот так всегда. Дадут тебе какого-нибудь желторотого птенца, маешься с ним, маешься, учишь уму-разуму, а как только он на ноги встанет, его у тебя самым милым образом из-под носа выдернут, и нянчишься ты опять с новым птенцом. А дело кто делать будет?
- Конечно, за желторотого я тебе премного благодарен, - обиделся я.
- Да нет, Дмитрий, ты не обижайся. Как раз ты-то очень недолго пыл желторотым. Лучшего товарища по работе и желать не надо. И тем более мне обидно, что тебя от нас хотят забрать. Мы и так зашиваемся с работой, а если еще тебя возьмут, то мне вовсе труба будет.
Приятельские отношения с капитаном Нефедовым у меня установились еще с тех пор, как я неоперившимся птенцом попал в Борск под его начальство.
Помню, как в начале нашего знакомства я побаивался его, каждый раз вскакивал и вытягивался, едва он входил в кабинет, по-военному докладывал ему о происшествиях, случившихся за время его отсутствия, и краснел, когда он делал мне хотя бы самые незначительные замечания. Но вскоре эта служебная подтянутость в отношениях с ним отпала сама собой, потому что Нефедов не терпел «формалистики», как он называл строгое соблюдение уставов.
Наружностью он обладал довольно своеобразной: был невысок, плечист, на ходу слегка сутулился и косолапил. Руки держал постоянно в карманах и иногда даже в теплую погоду поднимал ворот пальто. Лицо его, белое, всегда гладко выбритое, без малейшего румянца, слегка напоминало лицо Наполеона Бонапарта. Сходство это увеличивала прядь прямых каштановых волос, падавшая на красивый чистый лоб, прочеркнутый одной единственной тонкой морщинкой. Глаза Нефедова, небольшие, желтовато-серые, с чисто белыми, точно фарфоровыми белками, смотрели по-соколиному зорко, но не гордо, а с веселой хитринкой, маленький приятный рот постоянно кривила добродушно-насмешливая ленивая улыбка. Говорил он обычно вполголоса, глуховато, точно про себя, и не любил два раза повторять сказанное, поэтому нам, подчиненным, приходилось держать ухо востро. Все мы подчинялись Нефедову беспрекословно, причем не из-за опасения получить взыскание или нарваться на окрик, а потому, что глубоко его уважали за прямой открытый характер и исключительную смелость.
Работа у нас такая, что трусам и нервным людям тут не место. Бывает, приходится рисковать и жизнью. Большинство работников милиции - люди смелые и самоотверженные, не боящиеся при случае даже с голыми руками пойти на вооруженного бандита. Но Нефедов выделялся и среди них чрезвычайным хладнокровием и мужеством. Однажды ночью в притоне на окраине города он задержал двух бандитов, только что застреливших человека, прекрасно зная, что у них есть пистолет и им ничего не стоит пустить его в ход. В другой раз, идя в баню, конечно, без оружия, с портфелем, набитым бельем, он узнал в лицо сбежавшего из лагеря убийцу-рецидивиста, стоявшего с группой своих приятелей в воротах дома, имевшего недобрую славу. Нефедов сунул свой портфель одному из друзей бандита, а его самого мгновенно взял «на прием» и доставил к себе в отделение.
В городе о нем рассказывали целые легенды и, может быть, рассказывали бы еще больше, но он не любил посвящать кого бы то ни было в свои приключения. Даже нам и то говорил о них коротко, а когда его расспрашивали, только похохатывал да жмурился: было, мол, дело, да не стоит о нем говорить, случалось не раз и почище!
Он очень нравился женщинам, которым импонировало своеобразное обаяние, исходившее от этого сильного душой человека. Жена, влюбленная в него до беспамятства, ревновала Нефедова чуть ли не к каждой женщине, появлявшейся на нашем горизонте, потому что он, по ее выражению, любил «помыть с ними зубы». Но, мне кажется, она тревожилась напрасно.
По характеру Нефедов был, что называется, рубаха-парень, добродушный и покладистый, независтливый, но любил подтрунить над слабостями своих приятелей. Ходил он чаще всего в штатском щеголеватом костюме с расстегнутой верхней пуговкой сорочки, обычно без галстука, который называл удавкой. Нефедов, особенно перед нами, любил щеголять блатным жаргоном, которым владел в совершенстве, следя за всеми текущими его изменениями. Знание жаргона значительно помогало ему при допросах, но меня, признаться, коробило, что он злоупотреблял им в служебном и домашнем обиходе. Когда мы стали с Нефедовым на более короткую ногу, я не раз замечал ему, что он совершенно напрасно перенимает у своих подследственных не только их язык, но даже и манеры: смотрит исподлобья, выпячивает нижнюю челюсть.
- Для чего ты тащишь этот сор в нашу жизнь? - спрашивал я. - Ведь посмотри, наши ребята, для которых ты как сыщик - непревзойденный образец, начинают копировать твои блатные ухватки. Куда это годится? Если молодой парень позволяет себе быть внешне расхлябанным, от этого недалеко и до внутренней расхлябанности. А ты их не одергиваешь.
- Поздно, ты, Дима, родился, - смеялся в ответ Нефедов, - тебе бы в самый раз быть классной дамой в женской гимназии. А что я привычки блатные усвоил, это верно. С кем поведешься, от того и наберешься. Не прошло, видно, мне даром, что я по разным «малинам» шатался. Невольно кое-что прилипло. Вначале без этого и нельзя было. Ведь там, если распознают, кто ты таков, недолго и пику в бок получить. Бандиты - народ серьезный, шутить в таких случаях не любят. Вот понемногу и въелись в меня их повадки. Это как в анекдоте про врачей-психиатров: одного врача спросили, правда ли, что они, насмотревшись на сумасшедших, сами чудить начинают? А он в ответ: «Ерунда, ничего подобного. Хотя, положим, мой ассистент иногда поговаривает, что он Иисус Христос, но какой же он ко всем чертям Христос, когда всем известно, что Иисус Христос - это я сам!».
Так Нефедов и отъезжал на шуточках.
Нельзя сказать, что работать с ним было легко, но зато интересно. Как всякий хороший наставник, он ничего не таил от своих учеников, готов был передать им все свои знания, а порой даже незаметно приписать им свою заслугу для поднятия духа и уверенности.
В учениках своих он очень ценил инициативу. Помню, как только я более или менее крепко стал на ноги, у нас с ним часто начали возникать споры по разным версиям разбираемых нами дел. Позже я догадался, что, предлагая ряд довольно фантастических вариантов, он стремился заставить меня мыслить самостоятельно, отыскивая наиболее правильный путь к раскрытию преступлений.
В общем, Нефедов был хороший работник и прекрасный товарищ, всегда готовый помочь, чем только может - и советом, и деньгами, а подчас силой и оружием, рискуя при этом даже жизнью.
После неприятного разговора с полковником Нефедов еще долго бурлил, ворчал и поминутно стучал без надобности ящиками стола. Но при этом он не терял времени: позаботился, чтобы мне выписали командировочное удостоверение, приготовили деньги на дорогу и подобрали материал по тем вопросам, которые я попутно должен был разрешить в областном управлении милиции.
- Может быть, еще пронесет тучу мороком - и ты останешься работать у нас в Борске, - сказал он мне на прощание, с великолепным эгоизмом полагая, что для меня на его прекрасном Борске свет клином сошелся. Впрочем, пожалуй, я напрасно обвинял его в эгоизме. Я подозревал, что Нефедов, дружески заботясь обо мне, уже давно спланировал, как должна сложиться моя жизнь, и в этом его плане никакие отъезды из Борска не были предусмотрены. Мало того, он даже замыслил приковать меня к Борску довольно крепкими цепями. Меня же эти планы и больше всего цепи, которых я страшно боялся, вовсе не устраивали. Хотя я и неплохо жил в Борске, но с радостью уехал бы из него на все четыре стороны, чтобы этим отъездом развязать сложный узелок, завязавшийся в моих отношениях с одним человеком, которого я, однако, не хотел ни обижать, ни огорчать.
Глава вторая ДЕВУШКА С ТВЕРДЫМ ХАРАКТЕРОМ
Последние два года я жил на квартире у Василия Лукича Чеканова - старого токаря, работавшего на механическом заводе. И сам Чеканов, и его супруга - очень симпатичная необъятная толстуха Марфа Никитична, и видом и характером напоминавшая хорошо начищенный кипящий самовар, относились ко мне как к родному. Однако с дочкой их Галей у меня сложились очень тягостные для нас обоих отношения.
Галю по-настоящему звали Анной, но она яркими темно-карими глазами, черными косами и всей статной, тонкой в талии фигурой так походила на украинку, что сначала подруги, а потом и родители стали кликать ее Галей. К тому же она любила наряжаться в вышитые ею самой с большим мастерством украинские кофточки.
Характер у Гали был твердый, упрямый и решительный. Это чувствовалось в смелом взгляде ее умных огневых глаз, частенько загоравшихся гневом, в строгой линии красиво очерченных свежих губ и в энергичной форме небольшого подбородка. Она была уживчивой, рассудительной и доброй, но не дай бог если кто-нибудь осмеливался солгать ей, покривить душой или поспорить с ней в тех случаях, когда она считала себя безусловно правой. Такому человеку нельзя было позавидовать. Эти черты Галя, видимо, унаследовала от родителей. Мне не раз приходилось наблюдать, как в этом семействе происходили на моих глазах нешуточные столкновения трех стальных характеров. Тут бывали и гром и молнии, не хватало только дождя, так как на слезы ни мамаша, ни дочка не были щедры.
Баталии чаще всего происходили, когда Галя, задержавшись на работе или на комсомольском собрании, поздно приходила домой.
Ее мать все беспокоилась, не просиживает ли дочка эти вечера где-нибудь за воротами в компании с одним из тех молодых людей, которых немало крутилось вокруг нее. Галю же оскорбляли подобные подозрения.
- Я сказала, что была на собрании, - говорила она, - и вы должны мне верить, врать мне незачем, потому что если я захочу с кем-нибудь погулять, то у вас спрашиваться не буду.
Познакомились мы с Галей у нас же на работе, когда ее после окончания десятилетки прислал к нам райком комсомола на должность инспектора в комнату привода детей. До нее у нас была пренеприятная, сухая и черствая особа. У той было только одно положительное качество: она старалась ничем нам не докучать. С Галей же мы с первых дней хватили, как говорится, горького до слез. Она, видимо, вообразила, что ее участок работы самый главный и интересам его должно быть подчинено все отделение.
Вначале она мирно попросила нас помочь ей обставить детскую комнату «как следует», то есть превратить ее в уютный домашний уголок. Когда же Нефедов попытался объяснить ей, что на это не отпущено средств, Галя начала настаивать, чтобы мы потребовали их, а потом стала жаловаться всем, вплоть до райкома партии. Надо сказать, что хотя нас тогда и поругали, но кое в чем и помогли: произвели ремонт детской комнаты и дали новую мебель, чего мы долго безуспешно добивались. Галя перетащила в эту комнату многое из своего дома, не обращая внимания на протесты матери. Тогда-то как раз я и имел случай познакомиться с этой почтенной женщиной, разговорился с ней о том, что нуждаюсь в квартире, и она предложила мне занять имевшуюся у них свободную комнатку.
Мы с Галей, несмотря на разгоравшиеся иногда между нами споры, долго были в самых лучших дружеских отношениях. Мы вместе ходили на работу, вместе завтракали в комнате уборщицы, потому что Галя обычно захватывала с собой из дому горшочек с кашей или борщом. В тех случаях, когда я оставался на работе до вечера, она приносила мне и пообедать.
Я пытался протестовать против этих забот, но было трудно спорить с такими людьми, как Галя и ее мать, особенно когда они в один голос начинали меня убеждать, что не собираются даром брать деньги за стол, если я ничего не хочу есть. В то время у нас в городе и магазины и столовые были небогаты продуктами, поэтому порядок, который установили мои хозяйки, меня вполне устраивал.
Конечно, Нефедов не мог не подсмеиваться над нами. Он начал намекать, что из Марфы Никитичны получится типичная теща, и уверял, что такую райскую жизнь мне создают только «пока», а «потом» все будет совершенно иначе. Мне порядком досаждали такие шуточки, но Галю с ее прямой чистой душой ничто не могло задеть, если она полагала, что поступает правильно.
- Я считаю, - возражала она Нефедову, - что лучше пообедать борщом, чем кружкой пива, как некоторые. По крайней мере, это сытнее.
Галя мне очень нравилась и наружностью и душевной прямотой. Я даже был несколько неравнодушен к ней, и, наверное, это чувство могло бы перерасти в более серьезное, если бы я всячески не противился ему. Прежде всего я не допускал и мысли о каком-то легком флирте с такой девушкой, как Галя, а семью заводить мне, я считал, еще рано. Эта мысль всегда пугала меня. Я боялся, что семья свяжет, лишит привычной свободы. К тому же, несмотря на свою как будто бы вполне достаточную (на мой взгляд) дисциплинированность, я и на работе-то не особенно любил, чтобы мною командовали, а уж в личных взаимоотношениях и вовсе не терпел этого. Решительный и даже властный характер Гали мне был известен, и я мог без труда вообразить ту роль, которую она мне отведет под семейным кровом. Поэтому, чтобы не позволить разгореться опасному огоньку и к тому же не давать Нефедову пищи для бесцеремонного зубоскальства, я держался с Галей и на работе и дома очень сдержанно, даже сухо, что, как я позже узнал, очень ее обижало.
У нас в Борске маловато кинотеатров и достать билеты, особенно на интересную картину, очень трудно, тем более для занятого человека. Поэтому мне редко приходилось бывать в кино. Галя же не пропускала ни одного фильма. Как-то у нас с ней зашел разговор о шумевшем тогда «Тарзане». Картина эта ей не понравилась, но она была в восторге от игравшей там обезьяны и уверяла, что нужно ее посмотреть. Галя даже предложила купить билеты. Я согласился. После обеда она передала мне два билета и сказала, что будет ждать дома в половине десятого, чтобы идти в кино вместе. Она хоть и видела этот фильм, но решила посмотреть его еще раз со мной.
Однако, как всегда в таких случаях, обязательно что-нибудь должно случиться. Едва я в девять часов взялся за шапку, как прибежала с плачем женщина, у которой только что начисто обокрали квартиру, пока она сидела у соседки. Нужно было произвести розыск по свежим следам. Я, конечно, помнил о билетах, но решил, что раз Галя уже видела эту картину, то ничего не потеряет, если не пойдет на нее второй раз, а моя уж, видно, такая судьба.
Утром я извинился перед Галей, и чтобы загладить свою вину, сам купил два билета на вторую серию того же злосчастного «Тарзана», причем, передавая их ей, сказал, что если неожиданно задержусь, то пусть она берет с собою мать и отправляется в кино без меня. Я рассчитывал уйти домой пораньше, но задержался с Нефедовым, заканчивавшим материалы к докладу, который он должен был делать в заводском клубе. А как только Нефедов ушел, позвонил из Каменска полковник Егоров, и мне пришлось с ним говорить минут двадцать. Несколько раз я многозначительно замолкал, ожидая, что полковник последует моему примеру, но на него это не действовало. Понятно, начальству не скажешь, что ты торопишься в кино с девушкой. Пришлось дослушать его до конца, а когда он положил трубку, было уже поздно идти за Галей. Я хоть и досадовал на новую неудачу, но был спокоен за Галю, предполагая, что она посмотрит картину в компании матери.
Встретившись со мной утром на кухне, Галя даже не взглянула в мою сторону и не ответила на приветствие.
- Неужели можно сердиться из-за таких пустяков? - спросил я. - Пойми, что я не виноват. Меня задержал полковник.
- Для тебя это пустяки, а для меня нет! - выкрикнула Галя. И сообразив, что сказала лишнее, растерялась и очень смутилась. Я тоже почувствовал себя неловко и не знал, куда девать глаза.
Чтобы как-то затушевать значение своих слов, Галя, торопясь и сердясь, начала объяснять, что даже совершенно посторонний человек, который дважды ее обманул, для нее уже больше не существует, а обман со стороны товарища по работе она расценивает не иначе, как умышленную обиду.
Я не терплю вздорных и напрасных обвинений и потому не стал с ней объясняться, а сказал только, что она вольна думать обо мне все, что захочет, и ушел к себе. С этого дня мы говорили только по делу и на «вы». Прекратились, конечно, и наши совместные завтраки, и с тех пор Марфа Никитична сама стала по утрам засовывать мне в карман шинели сверток с чем-нибудь съестным.
И нужно же было так случиться, что как раз в эти дни мне пришлось косвенным образом очень серьезно повлиять на Галину судьбу.
Дело в том, что райком партии по моим материалам решил заслушать доклад секретаря партийной организации и директора механического завода о работе с молодыми рабочими и о состоянии общежития. Положение в общежитии было скверное, материалы я представил убийственные, и обоим влетело, как говорится, по первое число. Записали им по выговору и предупредили, что если они не выправят положения, то к ним применят более суровые меры, а про комсорга завода секретарь райкома прямо сказал, что такому формалисту, сухому, безынициативному человеку нельзя доверять работу с молодежью. Он посоветовал секретарю райкома комсомола выдвинуть на этот боевой пост живого, энергичного товарища и спросил, имеется ли такой на примете.
Парень замялся, заявил, что подумает, посоветуется… Тогда секретарь обратился с тем же вопросом ко мне.
Я и раньше думал над этим, потому что положение с воспитанием молодежи на механическом заводе давно уже беспокоило нас с Нефедовым. Мы оба считали, что лучшим кандидатом на нелегкую должность комсорга завода была бы Галя Чеканова. У нас она чудесно справлялась со своей работой и так поставила дело, что к нам стали присылать инспекторов из других городов перенимать ее опыт. Галя умела подойти не только к заблудившимся на улице малышам и к задержанным на вокзале мальчишкам, удравшим из дому, чтобы путешествовать по неведомым странам, но и к закоснелым беспризорникам, которые, хотя и редко, но все же появлялись в нашем городке. Она не боялась ни их ругани, ни угроз, ни нахальных выходок и обладала замечательной способностью быстро завоевывать доверие подчас даже у глубоко испорченных, исковерканных жизнью подростков. С помощью комсомольцев и депутатов райсовета Галя сколотила небольшую дружную группу активистов. Они знакомились с семьями сбившихся с пути ребят, стараясь определить причины, толкнувшие этих мальчишек на дурную дорогу, а потом устраивали их в школу или на завод.
Много значило и то, что в работе этой группы не было и намека на принуждение и казенщину. Все работали с увлечением и интересом, вербуя среди своих друзей и товарищей новых активистов. Им удалось вырвать из-под дурного влияния немало бездельничавших годами ребят, привить им интерес к учению и труду.
Главным образом, эти-то организационные способности, которыми обладала Галя, и дали мне право выставить ее кандидатуру. Конечно, нужно было бы прежде поговорить об этом с нею самой, но не мог же я, идя в райком, предполагать, что дело примет такой оборот. Теперь, когда Галина фамилия попала в решение райкома, я не стал начинать с ней разговор об этом. Поступил я так не из-за боязни, что она рассердится за непрошеное вмешательство в ее дела. Просто мне не хотелось, чтобы она вообразила, будто я нарочно сплавляю ее подальше от себя.
На первых порах Гале пришлось на заводе очень тяжело, так как среди молодежи, прибывающей на завод со всех сторон в порядке организованного набора, были и такие, которые вербовались уже не первый раз и не на первый завод, сделав себе из этого нечто вроде профессии. Работать они не собирались, выжидая только подходящего случая, чтобы удрать с этого завода, как они удирали и с предыдущих. Пока что они бездельничали, скандалили по каждому поводу и без повода, предъявляли разные, чаще всего вздорные, претензии и сбивали с толку других молодых рабочих, живших вместе с ними в общежитии.
Мне приходилось не раз встречаться с такими ребятами, я знал, как нужно обуздывать их неукротимый нрав, и поэтому предложил Гале свою помощь. Но она очень резко отклонила протянутую мною руку, заявив, что как-нибудь обойдется и без посторонних.
Разобравшись в обстановке и видя, что одной не справиться, Галя обратилась к парторгу завода. Тот не отказался ей помочь и честно постарался сделать все, что от него зависело, но дал понять, что и ей самой нужно быть более оперативной, ведь о ней говорили, как об опытном и энергичном работнике. Эти слова были восприняты Галей как намек на ее неспособность справиться с новой работой. Самолюбие девушки было больно задето. Каждый день выдвигал перед нею новые трудные вопросы, но обращаться с ними к парторгу она уже не хотела. Вспомнив старых друзей, так охотно помогавших ей советом, она бросилась к Нефедову и выложила перед ним свои затруднения.
Нефедов, конечно, мог бы и сам во многом помочь ей, но решил воспользоваться случаем и помирить нас.
- Вот уж насчет молодежи ты лучше к Дмитрию обращайся, - сказал он ей. - Это его специальность, да и кроме того, ты же сама знаешь, он шефствует над вашим заводом. Пусть уж он им и занимается. - И тут черт дернул его добавить: - Да и вообще Карачарову нужно было бы взять и над тобой шефство, раз он рекомендовал тебя в комсорги.
Галя искоса взглянула на меня. Но что это был за взгляд!
- Я не знала этого, - произнесла она таким тоном, точно ей сказали, будто я занимаюсь мелкими кражами на базаре.
- Мне кажется, - подал я голос, - что такое почетное поручение, как то, которое получила Галя, обрадовало бы любого комсомольца. Ей оказали большое доверие, а трудностей она, кажется, раньше не боялась.
- Трудностей я не боюсь и сейчас, - резко повернулась ко мне Галя, - я боюсь только двуличия и обмана. Если вы хотели избавиться от меня, то можно было честно сказать мне об этом.
Нефедов, видя, что заварил кашу, вышел из комнаты, сказав, что идет в прокуратуру.
Галя хотела выйти вслед за ним, но я почти насильно удержал ее за руку.
- Оставьте меня! - окончательно рассердилась она, стараясь высвободить руку. - Я ненавижу вас!
- Успокойтесь! - уговаривал я. - Вы не маленькая. Пора вам научиться отличать личное от общественного. Ведь дело не должно страдать оттого, что вы сердитесь на меня. Я уверен, что смогу вам помочь. То есть не вам лично, а комсоргу завода. Нефедов правду сказал, что это я предложил вашу кандидатуру, но, честное слово, я не знал и не знаю никого, кто мог бы наладить там работу, кроме вас. Ведь вы, Галя, умница и очень дельный и энергичный человек. Я говорю совершенно серьезно, что очень высоко ценю ваши способности, да и не только я. Мы с Нефедовым не раз восхищались, как содержательно, просто и глубоко, искренне вы выступаете на собраниях молодежи, как умеете вызвать живой интерес к делу, о котором говорите. Недаром вам удалось быстро сколотить около себя актив.
- Оставьте вы это, - сердито дернула бровями Галя, - вы пытаетесь уговорить меня так же, как я какого-нибудь мальчишку-карманника.
- Не-е-ет! Уговаривать я рас не собираюсь! - холодно возразил я. - Сейчас мы с вами пойдем в райком партии, и я скажу, что глубоко ошибся, выдвигая вашу кандидатуру, что никакая работа не может быть выполнена успешно, если человек, которому ее поручили, не верит в свои способности и с нежеланием берется за дело. Я пообещаю подобрать другого, более смелого и решительного товарища.
- Спасибо вам! - с искренней ненавистью глядя на меня, воскликнула Галя. - Вы хотите осрамить меня перед всеми. Что иное я могла ожидать от такого человека, как вы?
- Бросьте глупить! Давайте оставим наши личные отношения за дверью, - предложил я. - Здесь мы с вами просто два советских человека, решающие серьезный вопрос, и от него, может быть, зависит судьба тех парней, которые никак не могут подчиниться вашим заводским порядкам, да и других сбивают с толку. Давайте выкладывайте, в чем вы встречаете затруднения, а я постараюсь сам помочь вам, чем смогу, и добиться, чтобы вам больше помогали завком и партком.
Правда, крайне сдержанно и сухо, но Галя все же согласилась, и мы с нею еще долго беседовали на заводские темы, которые и интересовали и беспокоили нас обоих. Вернувшийся из прокуратуры Нефедов чуть не нарушил наш с трудом наладившийся контакт. Увидя, что мы мирно беседуем, он брякнул:
- Ну, слава аллаху, помирились враги. Ты, Галя, приходи к нам обедать, как прежде. Опять будешь этого птенчика кашкой с ложечки кормить, Только в райком ему не позволяй ходить, а то как бы он тебя в директора завода не выдвинул. С него станется.
Но Галя не стала его слушать, только сказала мельком, что он напоминает ей один трехструнный народный инструмент, и ушла.
С тех пор она часто наведывалась к нам, и мы усердно ей помогали. После нескольких штурмов директорского кабинета было, наконец, предоставлено помещение для организации клуба, выделены средства на спортинвентарь, сменен спившийся комендант общежития.
Со стороны могло казаться, что наши отношения с Галей наладились. Мы дружелюбно говорили, когда она приходила к нам в отделение, дома при родителях она отвечала на мои вопросы и даже смеялась как прежде, когда я за столом рассказывал что-нибудь забавное. Но наедине со мной Галя неизменно становилась суровой, давая понять, что еще помнит обиду. Она и раньше любила меня покритиковать, теперь же ее критика стала еще более резкой. Однако, честно говоря, я не мог обвинить Галю в несправедливости. Чаще всего она была права.
Помню, как-то я рассказывал Василию Лукичу об одной прошлогодней операции, когда после очень сложного расследования были изобличены и арестованы трое опасных бандитов. Галя слышала мой рассказ из своей комнаты и потом, когда мы остались наедине, сказала:
- Неприятно было слушать, как вы расписывали свои подвиги. Вы как будто и не хвастались, ведь и в самом деле вы и выследили и арестовали их, причем вас даже чуть не подстрелили. Но почему-то, когда вы это рассказывали, получалось так, точно вся заслуга принадлежала вам одному, и не будь вас, бандиты до сих пор разгуливали бы на свободе. По крайней мере, это чувствовалось в вашем тоне. Вы будто забыли, что над разоблачением этих бандитов работали десятки людей. Правда, их работа была невидная, черновая, но только благодаря ей, вам удалось разыскать и взять преступников. А у вас как-то вышло, что пришел, увидел, победил. Нескромно это.
Я, конечно, вспылил, начал возражать, оправдываться, но потом, подумав, решил, что она, пожалуй, права: есть во мне такая жилка.
Но Галю тоже можно было бы при желании покритиковать, хотя бы за то, что у нее часто не хватало выдержки. «Пересолит, но выхлебает», - не раз говорила о ней мать.
Однажды Галя пришла домой от портнихи в новом вишневом креп-сатиновом платье с аппликациями. Я не удержался и сказал, что она в нем очаровательна. Действительно, цвет платья замечательно гармонировал со смугловатым, напоминающим палевую розу, оттенком ее лица. Кажется, ничего дурного в моих словах не было, но Галя вдруг приняла их как жесточайшее оскорбление.
- Не трудитесь расточать ваши фальшивые комплименты тем, кому они вовсе не интересны, - прошипела она со злостью. - Вы забыли, кажется, наш уговор - не касаться некоторых тем. К тому же, что вы можете понимать в женских нарядах? Это платье отвратительно сшито!
- Простите! - развел я руками, пораженный ее внезапной вспышкой. - Я думал, вы все уже забыли и не сердитесь, что из-за меня попали на завод.
- Причем тут завод? - окинув меня уничтожающим взглядом, сказала она и ушла в свою комнату.
С тех пор, как ни уговаривала ее мать, Галя так ни разу и не надела это платье.
Таковы были наши колючие отношения с Галей Чекановой. Они порядочно досаждали мне, и совершенно естественно, что я очень обрадовался, когда представился случай положить им благополучный конец своим отъездом из Борска.
Ближайший поезд, которым я мог выехать в Каменск, проходил через Борск в 10 часов вечера. Торопясь собрать все необходимые материалы, я попал домой только к ужину. Когда я вышел из своей комнаты, семейство Чекановых сидело за столом в кухне, а против моего стула уже стояла тарелка с дымящейся лапшой.
- Садись живей, пока лапша не остыла, - поторопила меня хозяйка, - холодную-то ее хоть выбрось.
Галя испытующе взглянула на меня, и мне показалось, что она хотела спросить о чем-то, но удержалась. Выражение лица у нее было спокойное и дружелюбное.
Василий Лукич встретил меня, как всегда, приветливо и с места в карьер начал хвастать новыми станками, которые только что установили у них в цехе.
- Хоть бы зашли как-нибудь, посмотрели, - говорил он. - Ведь это чудо! Точно сами понимают, что им нужно делать, только что не говорят!
- Едва ли мне придется посмотреть ваши станки, - ответил я. - Завтра еду в Каменск и, возможно, не возвращусь.
Я вовсе не предполагал, что мое сообщение произведет такое впечатление на Галю, иначе сказал бы как-нибудь по-другому. Услышав мои слова, она вздрогнула так сильно, что расплескала молоко из чашки, которую подносила к губам.
- Что с тобой, Анна? - встревожилась Марфа Никитична.
- Голова… что-то… - ответила Галя, поднимаясь. - С утра нездоровится. Я пойду… лягу.
Она вышла, не взглянув на меня. Я почти не слышал, что говорили за столом. Перед глазами стояло бледное, помертвевшее лицо Гали. Я готов был сам себе надавать пощечин за свою медвежью неловкость. Ведь то, что я считал девичьим капризом, оказалось чем-то более серьезным.
Страшно смущенный, я простился с расстроенными стариками, сказав им, что независимо от того, где я буду работать, я еще вернусь в Борск, хотя бы за вещами, и просил их считать комнату за мной.
Они обещали не сдавать ее, пока я не вернусь или не напишу им письма. Марфа Никитична все хотела еще что-то сказать мне, но, видимо, не решалась. Гали тогда я так и не увидел.
Глава третья ПРИХОДИТЕ ЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ!
- Через час Каменск, - предупредил старичок-проводник, подойдя ко мне и вытаскивая из холщового портфеля со множеством карманчиков мой билет.
Я и так знал, что мы подъезжаем к Каменску, однако от этого знакомого, близкого сердцу названия у меня слегка защемило в груди, как бывает, когда вспомнишь о чем-то дорогом, безвозвратно утерянном.
Опять я возвращался в этот старый сибирский город, где родился почти четверть века назад и где на кладбище, под покривившимся тополем, зарастали травой могилы моих отца и матери.
Из близких здесь меня никто не ждал, никто не считал минуты до моего приезда и не торопился на вокзал, боясь опоздать к приходу поезда. Единственный оставшийся из всей моей родни дядюшка, у которого я жил до окончания школы, давно уже укатил на свой разлюбезный Таймыр, бывший для него лучшим местом на всем земном шаре. Товарищи мои за эти годы окончили вузы, стали инженерами, докторами, летчиками и разъехались кто куда.
Когда-то в юности и я мечтал стать летчиком, чтобы воевать с фашистами, но Отечественная война окончилась прежде, чем я подрос. Потом я захотел за компанию с одним приятелем стать авиаконструктором, но и это не получилось. Жизнь часто складывается совсем не так, как ты планируешь.
Уже больше пяти лет прошло с тех пор, как я, не дотянув по конкурсу в авиационный институт одной-разъединственной единички и не успев той же осенью поступить в какой-нибудь другой вуз, был призван на военную службу.
Помню, в тот момент это меня вполне устраивало, так как я надеялся попасть обязательно в авиационную часть. Однако в авиацию меня не зачислили, да и вообще на военной службе мне пришлось пробыть не больше месяца. Судьба в генеральских погонах распорядилась таким образом, что я вдруг стал милиционером. Пожалуй, если бы кто-нибудь в свое время предрек мне, что я не только буду работать в милиции, но даже увлекусь этой работой на всю жизнь, то я послал бы такого пророка ко всем чертям.
Правда, не так-то легко пришлось мне на первых порах, да и теперь частенько бывает туговато. Но я, положа руку на сердце, торжественно заявляю, что трудно найти более увлекательную и интересную профессию. Энергичному, мужественному, сообразительному человеку, любящему решать сложные психологические задачи, здесь широкое поле для приложения своих способностей. И, кроме того, тут постоянно чувствуешь, что ты не зря существуешь, что ты необходим тем, кто нуждается в помощи, что от твоей сметки, предприимчивости и смелости подчас зависит не только благополучие и покой, но и жизнь людей.
За окном вагона бежала расцвеченная яркими осенними красками тайга. В лесу бушевал листопад. Поднимая золотую метель, ветер тучей нес сухие листья над лесом и сеял их щедрой рукой над черными просторами осиротелых осенних пашен.
Поезд, натужно пыхтя, медленно взбирался на подъем, и я мог разглядеть отдельные, трогающие душу своей прощальной красотой детали осенней картины: то подернутое ржавчиной каменистое дно мелкого ручья, все в живых, играющих на солнце пятнах; то великолепный куст краснотала с фиолетовыми листьями на тонких малиновых прутьях.
Порой ветер заносил в открытое окно вагона острый запах умирающей листвы и проникнутый таежной сырью таинственный грибной дух. Печально трепетали окропленные пурпуром листья полуголых осинок, заблудившихся в чуждой им толпе темно-зеленых елей.
Вот поезд, тяжело громыхая, пронесся по небольшому двухарочному мосту. Когда-то на этой речке, вон там, под крутым обрывом, где маслянистую гладь воды рвет в клочья узкая гряда переката, я ловил хариусов. С тех пор здесь, кажется, все осталось по-старому. Так же величественно возвышалась над лесом, похожая на взрезанный арбуз, зеленовато-серая голая вершина горы, пересеченная глубокой красной расщелиной, та же кривая сосенка торчала над обрывом, отчаянно вцепившись в скалу своими обнаженными узловатыми корнями.
Казалось бы, что при виде знакомых мест, напоминавших о днях ранней юности, я должен был испытывать радость, а вместо этого, чем ближе я подъезжал к Каменску, тем сильнее охватывала меня тоска. Я полагаю, всякому бывает тяжело, когда у него на свете не осталось ни одной души, которая обрадовалась бы его приезду в родной город, а меня к тому же еще мучило какое-то неопределенное чувство, не то досады на себя, не то вины перед Галей, хотя я и не считал себя виноватым перед нею. Если же ей казалось, что я чем-то ее обидел, то это уж ее дело.
Занятый своими мыслями, я не сразу заметил, что поезд остановился. Из-за разросшихся в палисаднике тополей я не мог разобрать названия станции.
«Неужели это Диково?» - думал я с сомнением, разглядывая новые заводские корпуса, выросшие по обе стороны железнодорожных путей.
- Скажите, пожалуйста, какая это станция? - обратился я к высокой красивой девушке, только что вошедшей в вагон и расположившейся на свободной скамье напротив меня.
- Диково, - ответила она и, разложив рядом с собой на скамейке целый сноп осенних цветов, трав и веток с яркими листьями, принялась подбирать из них букет.
- Как сильно все тут изменилось, - сказал я, глядя в окно. - Давно ли здесь торчал один этот курятник с закоптелой станционной вывеской да склад заготзерно, а смотрите, сколько понастроили! Каменска, поди, и вовсе теперь не узнать.
Девушка молчала. Занятая букетом, она точно хотела подчеркнуть своим строгим видом, что вовсе не намерена поддерживать разговор.
Я вгляделся в ее лицо. Оно показалось мне очень знакомым.
«Вот те на! Да ведь это же Ирочка Роева», - сообразил я, с удивлением и восхищением глядя на прелестное юное лицо своей спутницы.
Действительно, это была она, сестра моего школьного товарища Радия Роева, того самого, с которым мы так мечтали стать летчиками или, на худой конец, авиаконструкторами. Когда-то я был по-детски отчаянно влюблен в Ирину, но тщательно скрывал от всех эту страшную тайну. Но как она изменилась со школьных лет, как расцвела, похорошела!
Давно забытое чувство мучительного смущения, всегда овладевавшее мною в присутствии Ирины, с годами, оказывается, не совсем еще выветрилось. Мне показалось вдруг, что и теперь я не наберусь смелости заговорить с нею. Да и нужно ли было возобновлять прежнее знакомство, тем более, что мы никогда не были особенно близки, а с ее братом расстались не в очень-то хороших отношениях.
Меня Ирина, видимо, не узнала. Просто забыла, вероятно, так как и раньше, как мне казалось, не обращала на меня никакого внимания. Кроме того, усы, наверное, значительно меняли мою наружность.
Я решил не беспокоить девушку своим вниманием, которое, кажется, ей не нравилось, и старался не смотреть на нее, но проклятые глаза не хотели считаться с этим решением и поминутно возвращались к ее милому лицу.
Думаю, что никто не осмелился бы назвать Ирину только хорошенькой. Она была по-настоящему красива спокойной, неброской красотой. Все черты ее правильного матового, чуть загорелого лица были прекрасны каждая в отдельности, а вместе они в своем гармоническом сочетании могли глубоко взволновать (как мне казалось) всякого. Хороши были у Ирины и волосы, слабо заплетенные в две недлинные косы со свободно распущенными, слегка вьющимися концами. Их цвет и блеск напоминали мягкие глубокие тона хорошо отполированного орехового дерева. Короткие завитки над лбом и маленькими розовыми ушами выгорели на солнце и образовывали вокруг головы подобие легкого светлого сияния.
Я не знаток женской красоты, и часто не совсем правильные, но живо отражающие яркий внутренний мир девичьи лица для меня привлекательней строгих, идеально правильных физиономий, напоминающих классические маски. Но лицо Ирины ничем не походило на маску. Все его подвижные тонкие черты были полны жизни, особенно темно-карие влажные глаза и высокий гладкий лоб с двумя трогательными ямочками у концов тонких черных бровей над переносьем. Глаза ее были безмятежно спокойны, когда она вошла в вагон и уселась против меня, ласково-задумчивы, когда она перебирала цветы, приветливо-внимательны, когда она отвечала на мой вопрос. Потом они сделались холодны и строги и наконец откровенно рассержены, когда она вдруг, обращаясь ко мне, с искренним возмущением, вскричала:
- Что за противная манера разглядывать человека в упор? Ведь я же не картина! Смотрели бы в окно или на потолок. А то уставились на меня, как… не знаю на что..
Она выпалила это так искренне, с таким непосредственным чувством истинного гнева, что я смутился и стал довольно неуклюже оправдываться:
- Не сердитесь. Я потому так пристально на вас глядел, что не мог сразу припомнить, кого вы мне напоминаете. Вы, случайно, не сестра Радия Роева?
- Это мой брат, - уже не так сердито ответила девушка и, вглядевшись в меня внимательней, вдруг удивленно и радостно улыбнулась.
- Дима Карачаров? Вот встреча! - воскликнула она. - Никогда бы не подумала, что вы станете таким….
- Каким таким? - насторожился я.
- Ну как сказать?.. - смущенно засмеялась она, - таким усатым и большим. Я почему-то думала, что из вас обязательно получится ученый, такой, ну знаете, мешковатый, суховатый, в очках, с бородой и очень, очень умный. Ведь вы всегда были ужасным букой, неловким и серьезным, как профессор.
- А может быть, я и действительно готовлюсь в профессора? А бороду еще не поздно отрастить.
- Нет, - все так же смеясь, возразила она. - Несмотря на штатский костюм, вы больше похожи на офицера. Вы, наверное, старший лейтенант в отпуске. Верно, я угадала?
- Ошиблись только в одной звездочке. Я капитан.
Ирина была так приветлива со мной и даже, кажется, взволнована нашей встречей, что я вообразил, будто она рада видеть меня. Невольно отголосок давно забытого юношеского нежного чувства сладко отозвался где-то в глубине моей души.
- Как поживает Радий? - спросил я, чтобы Ирина не подумала, что я все еще сержусь на ее братца. - Где работает, кем?
Лицо Ирины вдруг померкло.
- Ничего, спасибо, - уклончиво ответила она и вдруг, повинуясь какой-то внезапной мысли, быстро спросила: - Вы не в Каменск едете? Ну вот и хорошо. Обязательно приходите к нам. Я уверена, что вы теперь уж перестали сердиться на наших. Они будут очень рады вас видеть.
За разговором я и не заметил, как поезд, миновав огромный мост над великой сибирской рекой, подкатил к Каменскому вокзалу. Я проводил Ирину до автобусной остановки и там, дождавшись, когда подошла очередная машина, попрощался с ней.
«Если она меня окликнет, - внезапно подумал я, провожая ее взглядом, - то я зайду к ним, а если нет, то больше мы не увидимся».
Людей в очереди было много. Ирине удалось втиснуться в автобус одной из последних. Уже поднявшись, она оглянулась и через головы вскочивших вслед за ней мальчишек крикнула мне:
- Приходите же, мы будем ждать!
Глава четвертая БЫВШИЙ ТОВАРИЩ
Радия Роева я знал с детства. Мы учились в одной школе, сидели на одной парте и жили неподалеку друг от друга, так что много лет подряд виделись по нескольку раз на день. Это был высокий, хрупкий, всегда тщательно и нарядно (даже в годы войны) одетый паренек с чубом волнистых черных волос, делавших его похожим на итальянца, с чрезвычайно быстро меняющимся выражением красивого, как у сестры, бледного лица.
В раннем детстве мы были очень дружны. Но когда подросли и лучше разглядели друг друга, то увидели, что общего во взглядах и интересах у нас немного.
Помню, в те годы лучшим удовольствием для меня была рыбалка и связанные с нею ночевки у костра, разноголосое позвякивание колокольчиков на донных удочках, поставленных на налима, путешествия вверх по реке на узкой, верткой долбленке, когда, упираясь в каменистое дно длинным шестом, налегая на него всей тяжестью тела, быстро скользишь вдоль берега, то скалистого, то поросшего лесом, ощущая в груди чувство полета.
Радия же ужасала мысль, ночуя под открытым небом, промокнуть под дождем, а катаясь на лодке, - перевернуться и утонуть. Он даже не научился плавать, что было странно для мальчишки, выросшего на берегу могучей сибирской реки. Радий, однако, ставил себе чуть ли не в заслугу это неумение.
- Что я, лягушка что ли? - говорил он, презрительно надувая губы, когда его звали купаться. У него вообще была манера гордиться тем, чем вовсе не следовало. Он хвастался, что никогда не стоял в очереди в магазинах, ни разу не пришил себе оторвавшейся пуговицы, не подметал в комнате. Все это, по его словам, было «бабским» делом. В этом он копировал своего отца, предоставлявшего своим домашним заботиться о нем вплоть до последней мелочи.
Несмотря на довольно прохладные отношения, установившиеся между нами, мы продолжали вместе готовить уроки. Для этого Радий обычно приходил ко мне. Так было удобней для нас обоих, потому что обстановка в квартире моего приятеля мало располагала к занятиям. Там всегда было шумно: то к ним приходили гости, то между отцом и очередной мачехой Радия (на моей памяти их сменилось три) происходили шумные объяснения.
Кроме того, Радий еще и потому предпочитал заниматься вместе со мной, чтобы не затруднять себя решением особенно каверзных задач, предоставляя обычно мне одному ломать голову над ними. А я со своей стороны использовал его, заставляя спрашивать у меня устные уроки, что он и делал с видом заправского репетитора, придираясь и поправляя меня по мелочам на каждом шагу, глядя, конечно, в учебник.
Этого опроса для него было достаточно, чтобы самому в общих чертах усвоить заданное и ответить на тройку, а если посчастливится, то и на четверку.
Что представлял собой в школьные годы Радий, можно было судить по тому, какие отношения у него сложились с ребятами и с учителями.
Он привык всегда ставить себя выше других и с этой высоты едко высмеивал все наши самодеятельные кружки и так увлекавшие большинство ребят школьные затеи, вроде мичуринского сада, голубятни, живого уголка с кроликами, белками и другим зверьем.
- Чем бы дитя ни тешилось!.. - Этой фразой он неизменно встречал каждое наше новое начинание. Вылазки в лес он называл не иначе, как «на лужайке детский крик», пионерские сборы - игрой в солдатики.
Конечно, у него находились последователи, и эта небольшая группа портила нам немало крови.
Однажды, будучи еще в пятом классе, Радий, на потеху своим приятелям, решил раскрасить «под тигра» нашего общего любимца - маленького белого крольчонка, жившего в кабинете биологии; измазал его чернилами и основательно напугал.
Узнав об этом, мы страшно рассердились. Приятели и последователи Радия струсили и тотчас же выдали его с головой. Весь класс поднялся против него. Было решено в первую же перемену устроить над ним суд. Однако из-за недостатка опыта в таких делах, мы ограничились тем, что просто отколотили его.
Несколько дней с ним никто не разговаривал. Это больно ударило Радия по самолюбию. И хотя в тот памятный день он получил и от меня пару затрещин, однако как-то вечером он, встрепанный, растерянный и надутый, явился ко мне сказать, что думает просить своего отца перевести его в другую школу.
Я посоветовал ему не валять дурака, а держать себя в школе проще, перестать задаваться, и тогда ребята живо про все забудут.
Не знаю, подействовал ли на него мой совет или воспоминание о полученных тумаках, но с тех пор он бросил свои насмешки, а в восьмом классе даже вступил в драмкружок, над которым раньше издевался.
Однако ребятам еще раз, уже в десятом классе, пришлось хорошенько проучить его, хотя тут дело обошлось без рукоприкладства.
Случилось это так. Радий терпеть не мог учителей, видя в них врагов, готовых в любой момент его поймать, подловить, срезать или устроить ему еще какую-нибудь каверзу. Немало был виноват его папаша, Аркадий Вадимович, средней руки номенклатурный работник областного масштаба, тоже не очень-то уважавший свое начальство. Частенько за обеденным столом он разглагольствовал о том, что областное руководство придирается к нему по пустякам, всячески сковывает его инициативу, а руководители главка только и смотрят, как бы подложить ему свинью.
- Вот и у нас тоже, - вклинивался в таких случаях в разговор взрослых Радий. - Наш завуч Евгений Васильевич ужасно любит ребятам пакости устраивать.
- Все учителя одним миром мазаны, - снисходительно соглашался с ним отец, - у нас в гимназии был инспектор, «Жандарм» по прозвищу, так тот часто по вечерам у подъезда оперетки караулил, гимназистов ловил, когда они из театра выходили.
За хорошими отметками Радий не гонялся, удовлетворяясь тройками, но двоек не терпел и, если ему их ставили, то он выходил из себя и пускался на всякие ухищрения, чтобы эти двойки не попали в дневник. В таких случаях он принимался клянчить, чтобы ему не ставили отметку в журнал, обещая назавтра выучить этот урок на пятерку.
Иногда это ему удавалось. Во многом помогала тут очаровательная наружность Радия, да и просить он умел очень убедительно, выдумывая чрезвычайные происшествия, помешавшие ему приготовить урок. Однажды учительница литературы Вера Сергеевна, которую все мы любили за то, что она очень интересно вела свой предмет, сдавшись на его мольбы, переправила двойку на тройку. Однако, как только за ней закрылись двери, он захохотал ей вслед и крикнул на весь класс:
- Раскисла, рыжая дура, распустила слюни. Вот так их и нужно обводить вокруг пальца!
- Ты подлец! - сказал я, проходя мимо него в коридор. - Смазать бы тебе по морде, да руки пачкать не хочется.
- Ты подлец, раз про такого человека, как Вера Сергеевна, гадость сказал, - бросил ему в глаза шедший за мной.
То же самое, только варьируя добавления, повторили и другие, пока Радий не догадался уйти подальше.
Вопрос этот мы хотели разобрать на комсомольском собрании, но сообразили, что тогда Вера Сергеевна обязательно узнает об этой истории и будет оскорблена. Нам этого страшно не хотелось. Мы обошлись тем, что после урока, закрыв двери, поговорили с Радием «по душам». Тут уже ему отпели все, что у нас накопилось против него.
Обычную наглость Радия как рукой сняло. Он пыхтел, краснел, оправдывался, просил прощения и наконец занюнил. Это всех нас так смутило, что желание отчитывать его пропало. Однако и так он получил хороший урок.
Я до сих пор не могу забыть еще один подводный камень, о который стукнулся корабль нашей дружбы, получив при этом изрядную пробоину.
Это было, кажется, в восьмом классе. Учительница литературы, обратив внимание на наши ужасные почерки, заставила завести особые тетради и ежедневно старательно переписывать в них каллиграфическим почерком по нескольку строк из тургеневского рассказа «Му-му». Время от времени она проверяла, выполняем ли мы эти упражнения, причем каждый раз оказывалось, что Радий забыл тетрадь дома.
Учительница эта была пожилая и строгая. Умильные улыбки и ужимки Радия на нее не действовали, и однажды она велела ему принести злополучную тетрадь к следующему своему уроку, грозя поставить ему двойку да еще вызвать родителей.
В субботу, когда мы учили уроки, Радий даже не вспомнил о висевшей над ним угрозе, а в воскресенье прибежал ко мне в полнейшем отчаянии. Оказалось, что тетради своей он никак не смог разыскать, а написать все с самого начала в новую у него нет времени, так как в этот день у них справляют именины отца.
Радий упрашивал меня, чтобы я выручил его и переписал в его новую тетрадку тот кусок рассказа, который мы успели одолеть всем классом. Только этим он мог завтра избавиться от грозившей ему двойки.
Мне вовсе не хотелось терять свободный вечер. Я прекрасно провел бы его на катке, однако я понимал, что для Радия дело могло окончиться скверно. Если бы Аркадий Вадимович был вызван в школу, то ему там, кроме печальной повести о тетрадке, наверное сообщили бы еще целый ворох других неприятных новостей о проделках его сына. Короче говоря, для Радия был бы обеспечен не только выговор, но пара-другая полновесных пощечин от скорого на руку папаши, а я знал, как болезненно переносит его сестра подобные неприятности, время от времени постигавшие ее легкомысленного братца. Тогда я уже вздыхал по Ирине, и стоило мне представить себе ее заплаканное лицо, как я готов был исписать не одну, а сорок тетрадей, только бы все обошлось хорошо.
Чертыхаясь и проклиная своего приятеля, я целый вечер проскрипел над чистописанием, а утром захватил аккуратно исписанную тетрадку в школу. Однако Радий и не вспомнил о ней.
- Ты что же не берешь тетрадь? - спросил я его.
- А мне ее не нужно. Можешь оставить себе, - беззаботно скаля зубы, ответил он. - Я нашел свою и еще вчера успел вписать в нее последние строчки.
- Когда ты ее нашел? - спросил я, закипая от злости.
- Как только от тебя вернулся. Она между учебниками лежала.
- Так отчего же ты мне не сказал? Ведь у меня из-за этого весь вечер пропал.
- А мне это и в голову не пришло. Да и некогда было, гости рано начали сходиться. А ты, бедняга, значит сидел, скрипел пером? - И он весело расхохотался.
Были у Радия и хорошие черты. Никто, например, не мог бы обвинить его в скупости. Все деньги, получаемые от отца, он тратил очень быстро, причем не только на себя. Обычно он покупал билеты в кино и сласти на всю компанию друживших с ним ребят и всегда не на шутку сердился на меня, когда я возвращал ему деньги за билеты.
Ему нравилось раздаривать марки, которые все мы тогда усердно собирали. Не залеживались у него и книги. Он считал, что дважды читать их незачем, и раздавал направо и налево.
Еще более страстно, чем я, Радий мечтал стать и летчиком и авиаконструктором, причем не каким-нибудь рядовым, а непременно знаменитым, подобно Чкалову, Громову или Туполеву.
Нас интересовало все, что имело отношение к авиации. В толстые альбомы мы наклеивали картинки из газет и журналов, изображающие самолеты разных систем, и статьи об авиации; книги добывали главным образом такие, где говорилось о подвигах летчиков, и, пожалуй, из всех праздников наиболее интересным для нас был день авиации; мы первыми являлись на летное поле и последними уходили с него.
До нас доходили слухи, что попасть в авиационный институт не легко, так как там требования к поступающим предъявляются гораздо более высокие, чем в других институтах. Поэтому в последних классах я нажимал изо всех сил главным образом на те предметы, по которым предстояло держать вступительные экзамены. Радий же относился к этому спустя рукава. Он был убежден, что место ему в энском авиационном институте обеспечено, так как у его отца там были влиятельные друзья. Да и сам Аркадий Вадимович, не стесняясь меня (если он вообще какого-нибудь стеснялся), не раз говаривал сыну, похлопывая его по плечу: «Мы не дураки. Мы уже сейчас исподволь готовим почву, чтобы потом не получилось какой-нибудь осечки. Что ни говори, а крепкая заручка, особенно в наше время - великая вещь».
Я помню, что Радий был настолько убежден в силе и могуществе отцовских друзей, что как-то летом, после окончания школы, сказал:
- Ты давай-ка, Дмитрий, подзубри математику. Все-таки мне жалко будет расставаться с тобой, если ты не попадешь в институт. Я к тебе привык, хоть ты меня вечно и пилил, точно второй завуч. А если ты провалишься, то пиши мне в Энск, мне не хочется терять тебя из виду.
- Да ты сам-то еще попади, - рассердился я, - раскаркался, как ворона.
Время показало, что друзья Аркадия Вадимовича не подвели. Несмотря на то, что сумма экзаменационных баллов Радия была ниже пропускного уровня, фамилия Роева каким-то образом попала в списки тех, кто был зачислен в институт. Моей фамилии там не оказалось.
Радий торжествовал. Правда, зная, что я не прошел по конкурсу, хотя и имел отметки лучшие, чем у него, он при мне сдерживался, но ликования по поводу своей удачи скрыть не мог.
Мне пришлось задержаться в Энске, чтобы получить обратно свои документы, и я мог наблюдать, как Радий заводил новые знакомства в общежитии, подыскивая приятелей по своему вкусу. Ко мне он избегал подходить.
Но тут свершилось нечто неожиданное. Список, в котором красовалась фамилия Радия, был снят с доски в вестибюле института и заменен другим, где не было уже ни его фамилии, ни нескольких других, попавших в этот список таким же путем, как и он. Носился слух, что одновременно с этим из списка руководящего состава института была вычеркнута фамилия одного «доброго дяди», готового всегда «порадеть родному человечку».
Откровенно говоря, я искренне обрадовался, что справедливость восторжествовала, но тут же решил немедленно найти Радия и уговорить его, не теряя времени, спешить домой в Каменск и постараться поступить на физико-математический факультет пединститута, чтобы, укрепив за год математические познания, осенью попытаться вновь штурмовать бастионы авиационного института.
Однако я нигде не мог разыскать Радия. Это меня очень встревожило, так как я знал, что при каждой неудаче он вовсе падает духом.
Только поздно вечером, пропустив свой поезд, я доискался, где Радий. Оказалось, в милиции! Видимо, узнав о своем провале, он не нашел ничего более подходящего, чем последовать примеру своего папаши, прибегавшего в случае неприятностей к рюмочке, и отправился в ресторан. Там он напился до беспамятства и вдобавок устроил дебош: разбил посуду, вазы и прекрасное дорогое трюмо. Когда меня пропустили к нему, Радий, жалкий и точно пришибленный, уставился на меня совершенно безумными глазами и заявил, что как только его выпустят, он тотчас же пустит себе пулю в лоб.
Я понимал, что это истерика, что ни о какой пуле не может быть и речи, тем более, что ему не из чего ее пустить, но я опасался, как бы он не натворил каких-нибудь других глупостей.
Во всяком случае, оставлять его одного в таком состоянии было нельзя. Я вызвал к телефону отца Радия и рассказал ему о том, что стряслось.
Аркадий Вадимович прежде всего разразился истошным криком, что мы - мальчишки, щенки, что он так и знал, что нас нельзя никуда отпускать одних, но я довольно резко оборвал его, заявив, что не имею никакого отношения к тому погрому, который учинил в ресторане его сын.
Было плохо слышно, что он отвечал мне на это. Я еле различал, как в трубке дребезжало: «…ради вашей давнишней дружбы не оставляйте его одного… Вы же комсомолец… вы должны понимать, что нельзя бросать товарища в беде…»
- Я никого и не бросаю! - кричал я в ответ. - Скорей посылайте деньги расплатиться с рестораном. Нам надо торопиться домой, чтобы попасть хоть в каменский институт.
- Об этом совершенно не беспокойтесь, - жужжало в ответ. - Я все хлопоты возьму на себя и все, что нужно, устрою. Это мне не трудно…
Я не стал его убеждать, что мне не нужна его помощь. С отметками, полученными мною на экзаменах в авиационный институт, меня, безусловно, приняли бы на физмат, где проходной балл был значительно ниже. Требовалось только не опоздать, но это зависело не от меня, а от Аркадия Вадимовича Роева, а он что-то не особенно торопился. Видимо, ему, и так залезшему по уши в долги, нелегко было наскрести нужную сумму, чтобы выручить своего сынка.
В отчаянии я позвонил дяде Андрею Михайловичу, который опекал меня после смерти матери. Этот милый старый ворчун отругал меня за то, что я застрял в Энске из-за этого слюнтяя Радия и теперь могу не попасть в институт. Но когда я спросил, не хочет ли он сказать, что мне следует бросить Радия, дядя не менее яростно закричал, что подло бросать товарищей в беде.
Противно вспоминать эти дни вынужденного безделья и напряженного ожидания. Радий, которого выпустили из милиции, взяв подписку о невыезде, был зол на весь мир и все порывался сбежать от меня в пивную. На мои уговоры он огрызался, что нянек ему не надо, что он прекрасно обойдется без меня и я могу ехать в Каменск один.
Может быть, после одного из таких разговоров я и уехал бы, но на мою беду Аркадий Вадимович, видимо, не доверяя сыну, сообщил телеграммой, что вышлет деньги на мое имя. Это окончательно связало меня по рукам и ногам.
Под конец мы так переругались с моим приятелем, что, когда пришли деньги, я купил себе билет в другой вагон, чтобы не видеть кислой физиономии Радия. На прощание я сказал ему:
- Теперь мы все равно опоздали, прием в институт, наверное, уже окончен.
- Не ной! - огрызнулся Радий. - Нечего набивать цену своим благодеяниям. Ты прекрасно знаешь, что отец в лепешку разобьется, а устроит нас обоих.
Я послал его ко всем чертям. Мне хотелось попасть в институт по праву, а не по знакомству.
Беспокоился я не напрасно. Мы опоздали. Прием во все каменские вузы был закончен.
Откровенно говоря, я сильно горевал. Ведь совсем не по своей вине я потерпел такую неудачу. После этого я просто видеть не мог Радия, да он и не заходил ко мне.
Дядя меня успокаивал, уверяя, что для меня даже лучше, если я годик-другой поработаю на заводе, прежде чем стану студентом, а учиться на летчика прекрасно можно и в ДОСААФе. Я начал с ним соглашаться и отправился на завод, чтобы разузнать о работе, но по дороге увидел только что расклеенный приказ военкомата об очередном призыве в армию как раз моего года.
Радий был одного возраста со мной, и, следовательно, его тоже касался этот приказ. Забыв свою обиду, я пошел к нему, чтобы договориться вместе атаковать призывную комиссию просьбой о назначении в летную часть.
Дверь мне открыла мачеха Радия - Клара Борисовна. Я терпеть не мог эту жирную, молодящуюся, фальшивую до мозга костей особу с завитыми, выкрашенными в соломенный цвет волосами и ярко намалеванным поперек расплывшихся синеватых губ малиновым сердечком.
Помню, меня всегда бросало в дрожь от омерзения при виде всюду разбросанных по квартире обмусоленных ее губами, точно окровавленных, окурков.
На мой вопрос, где Радий, она, довольно неискусно разыграв недоумение, ответила тоже вопросом:
- Разве вы его не видели в институте? Он же на лекциях. Как, разве вы не учитесь? Не попали? А я слышала, что Аркадий Вадимович очень много хлопотал за вас…
На крыльце меня окликнула Ирина. Она, видимо, слышала наш разговор с Кларой Борисовной и выбежала за мной.
- Они подло поступили с вами, - сказала она с волнением, схватив мою руку. - Я знаю, что отец хлопотал только за Радия. Скажите, можно ли что-нибудь поправить? Я заставлю отца, он должен…. Ведь это бесчестно… Только из-за них вы не попали в институт.
- Ничего не нужно. Не волнуйтесь, пожалуйста, - успокаивал я Ирину, с любовью глядя в ее полные слез глаза, нежно сжимая и поглаживая ее пальцы. В тот момент мне казалось, что ради ее искренних слов, дружеского участия можно было пожертвовать даже чем-нибудь более серьезным, чем поступление в институт.
Я уже говорил, что мое увлечение Ириной я скрывал от всех и больше всего от нее самой, но тут я не смог выдержать и невольно у меня вырвалось:
- Плохо только, что теперь я долго не увижу вас.
Не взглянув даже, какое впечатление произвели на нее мои слова, я в полном замешательстве сбежал по ступенькам крыльца и, не оглядываясь, пошел прочь, ничего не видя перед собой.
С тех пор прошло немало времени, и вот я опять был в Каменске, шел по его ровным прямым улицам и не узнавал их.
За пять лет город очень преобразился: асфальт покрыл главные магистрали, вдоль тротуаров выстроились, как на параде, шеренги нарядных серебряных светильников с двойными матовыми шарами, точно из-под земли, поднялись на пустырях новые многоэтажные здания, появилась масса зелени и цветов. Он расцвел и помолодел, мой город, город моего детства, моей юности, лучший из всех городов, старый милый сибиряк - Каменск. И опять я пожалел, что нет у меня здесь близких. «А няня Саша! - вдруг вспомнил я. - Ведь она, наверное, по-прежнему живет у Роевых».
Няней Сашей я звал с детства давнишнюю приятельницу нашей семьи Александру Ивановну Епанешникову, нянчившую меня в самом раннем детстве, а потом жившую у Роевых сначала в качестве няни, а потом домработницы.
Няня Саша была дружна с моими родителями и во время войны своим дружеским участием очень поддерживала мою мать. Она часто забегала к нам по пути на рынок, попроведать, как мы живем, какие вести получаем от отца с фронта, а потом из госпиталя, куда он попал после тяжелого ранения.
Никогда не забыть мне, как мы с ней стояли над холмиком желтой комковатой земли, под которым было погребено тело моей матери.
Я был бы очень рад повидаться с няней Сашей, но прежде всего следовало подумать о деле, ради которого я приехал в Каменск.
Глава пятая ДЕВИЧЬИ ДУМЫ (Из дневника Ирины Роевой)
Уже давно, давно я не бралась за дневник, который вела несколько лет. Еще когда я училась в девятом классе, у нас вдруг появилась мода вести дневники. Девочки завели себе нарядные тетрадки и стали записывать в них разные, чаще всего выдуманные происшествия, а потом давали читать друг другу. Сколько было смеху при этом на переменах да и на уроках, когда какая-нибудь тетрадка с особенно фантастической записью путешествовала по всему классу. Я тоже завела себе дневник, выпросив у папы для этого большой красивый блокнот в кожаном переплете.
Сперва, подчиняясь общей моде, я заполняла его страницы всяким вздором, о котором теперь и смешно вспоминать, а потом, когда очень решительное вмешательство нашей классной руководительницы положило конец этому увлечению дневниками, я стала время от времени заносить на страницы блокнота те свои думы, которыми не могла бы больше ни с кем поделиться. Это был верный друг, молчаливый и обладавший чудесным качеством: он никогда не спорил со мной я не ругал меня за мои, иногда своевольные поступки, как ругает няня Саша, с самого раннего детства заменяющая мне мать. Она постоянно ворчит из-за каждого пустяка и бранится, но я знаю, что любит она меня больше, чем отец и брат. Им всегда не до меня. Каждый из них занят только собой, своими радостями и неприятностями. Мои заботы они принимают как должное, не замечая, а когда я пытаюсь вмешаться в их жизнь, сердятся. С кем же мне тогда поговорить, как не с дневником? Может быть с подругами? Они у меня есть. С самого детства мы очень дружны с Валентинкой Холодовой, да и кроме нее многие девочки расположены ко мне, и я с радостью сошлась бы ближе с ними, если бы не Валентинка, но она этого не хочет. Я не представляю, себе, как можно быть такой ревнивой. Стоит мне поговорить с кем-нибудь, как она уже начинает дуться. Я бы с радостью делилась с ней своими переживаниями, мыслями, мечтами, но как-то не получается. Едва я начинаю что-нибудь рассказывать, как она прерывает меня и с увлечением, всегда ужасно громко, рассказывает о каком-нибудь своем приключении, а их у нее всегда достаточно. Я не знаю другого человека, с которым происходило бы столько неожиданных и странных случаев. Я слушаю ее с интересом, переживаю и волнуюсь за нее, а когда мы расстаемся, то вспоминаю, что так и не рассказала ей о своем, что лежит на сердце, томит и мучит. Тогда я берусь за дневник.
С ним, раньше чем с кем-либо, я поделилась первым своим увлечением, о котором лучше было и не заикаться отцу или Радию. Они бы не поняли и просмеяли меня. Это увлечение было очень сильным, оно и до сих пор не потеряло своей силы надо мной.
Моими любимыми книжками были: «Охотники за микробами» Поля де Крюи, а вслед за ней «Открытая книга» Каверина. Я плакала, читая, как люди, подчас не щадя своего здоровья и даже жизни, создавали мощные средства борьбы с болезнями, уносившими миллионы жизней. Я думала о том, сколько счастья и радости принесли эти люди тем, кто выздоровел, и всем их близким, и мне страстно хотелось последовать примеру этих великих друзей человечества.
Мало того, что еще в школе я решила обязательно стать врачом, мне уже тогда хотелось быть чем-то полезной людям. Я бы с радостью предложила, чтобы мне в виде опыта сделали любую прививку от какой угодно страшной болезни. Но у нас, в Каменске, как мне сказали, никто не занимался изобретением вакцин ни от тифа, ни от чумы, ни даже от гриппа. Тогда, еле живая от волнения, я явилась в госпиталь и, остановив первого встретившегося человека в белом халате, предложила, чтобы у меня взяли кровь для какого-нибудь опасно больного. Однако это оказался вовсе не доктор, а случайный посетитель, на мое несчастие, знакомый моего отца. Он узнал меня и попытался отговорить, уверяя, что у несовершеннолетних кровь не берут. Кое-как я от него отделалась и, разыскав кабинет главного врача, стала ожидать, когда главврач возвратится с обхода. Наконец, я дождалась. Высокая, костлявая седая женщина с резким голосом и размашистыми мужскими манерами неприветливо спросила меня, что мне нужно, и сразу же наотрез отказала:
- У детей кровь не берем. Подрастете, тогда, пожалуйста, будем рады, а сейчас нельзя.
Огорченная и обиженная, я уже пошла прочь, но она окликнула меня.
- Почему вы вдруг решили стать донором?
- Я хотела быть полезной, - невнятно вымолвила я, готовая расплакаться, - люди мучаются, болеют, умирают, а я здоровая, живу хорошо и… ничего… никому еще не сделала… чтобы помочь.
Суровое лицо старой докторши несколько смягчилось.
- Чтобы быть полезной больным, вовсе не обязательно отдавать им свою кровь. Вот во время войны в этот госпиталь приходило очень много девочек, девушек, женщин, чтобы ухаживать за больными, развлекать их, писать им письма. А теперь, хотя здесь по-прежнему лежат страдающие, беспомощные, часто совершенно одинокие люди, очень редко кто приходит развлечь или поухаживать за ними. А потребность в таких добровольных сестрах милосердия, как их раньше хорошо называли, очень большая. Все-таки у госпитального персонала не всегда бывает время развлекать больных.
- Значит, мне можно было бы приходить сюда? - спросила я с робкой надеждой.
- Не знаю, право, как тебе и ответить, - сказала Мария Дмитриевна Старовская (так звали главного врача), с сомнением глядя на меня. - Может быть, это у тебя просто каприз, хотя и основанный на добром побуждении. Вероятней всего, что он так же быстро погаснет, как внезапно вспыхнул…
- Проверьте меня!
- Ну, что же, давай попробуем, - ответила докторша (спасибо ей!). - Но только смотри, чтобы твоя затея не помешала школьным занятиям. Скажем так, - на минуту задумалась она, приложив палец к кончику носа. - Лучше всего приходи ты к нам два раза в неделю в определенные дни, часика на полтора, на два. Сперва я сама тебе буду говорить, в какую палату идти и с кем там заняться, а потом, когда освоишься, уже сама будешь знать, что делать.
Дома все набросились на меня. Оказывается, папин знакомый наябедничал ему по телефону, и теперь папа, Радий и Клара в один голос кричали, чтобы я не смела ходить по госпиталям. Кстати, Клара больше всего боялась, что я принесу оттуда какую-нибудь болезнь и всех (то есть прежде всего ее) перезаражу.
По обыкновению, я молчала, пока над моей головой бушевала эта буря, прекрасно зная, чем все кончится. Я оказалась права: покричав, все занялись своими делами, а потом, когда я каждую среду и субботу стала уходить по вечерам в госпиталь, никто даже не поинтересовался, где я пропадаю до позднего вечера. Няня, конечно, все знала и одобряла меня. Она сама была бы рада ходить со мной, но не имела для этого ни минуты свободного времени: ведь при такой хозяйке, как Клара, вся работа по дому лежала на ней.
На первых порах мне казалось, что я не выдержу. Невероятно тяжело было видеть живое человеческое горе, зная, что ты не в силах хоть сколько-нибудь помочь. Чувствуешь себя точно виноватой, что ты здорова, молода и можешь надеяться на настоящее счастье в жизни. А они? До сих пор я не могу забыть красивую молодую женщину, юриста, лишившуюся обеих ног и руки. Она мне рассказывала, что собиралась ехать пригородным поездом на правый берег, чтобы посмотреть новую квартиру, где вскоре должна была начаться ее новая жизнь с человеком, которого любила. Опоздав, она вскочила на ходу на подножку вагона, поскользнулась… и вот лежит здесь, зная, что отсюда ее вынесут, чтобы отправить в дом инвалидов, где она и будет жить, пока не придет смерть. О смерти она говорила, как об избавлении. Тому человеку, который ждал ее на пороге нового дома, она, едва придя в себя, велела передать, чтобы он постарался забыть ее. Он не хотел и слышать этого, очень горевал, клялся, что не оставит ее никогда. Я видела его не раз. Сперва он приходил к ней почти каждый день, потом раз в неделю, потом перестал ходить.
Помню девушку моих лет, прелестную, как нежный весенний цветок. Она уже семь лет лежала без движения, врачи говорили, что вылечить ее почти нет надежды. Немало было и других несчастных, исковерканных, обездоленных болезнью людей. Для большинства из них, особенно для тех, кого никто не посещал, малейшее проявление внимания было несказанно дорого.
Я прекрасно понимала, что одна не смогу принести существенной пользы всем этим людям, лежащим в огромном трехэтажном здании. Посоветовавшись со Старовской, я на одном из наших классных комсомольских собраний предложила наладить связь с госпиталем. Желающих вызвалось много, но мы знали, что с таким делом шутить нельзя, и отобрали самых надежных. Тут мы с Валентинкой чуть не рассорились навеки, когда я пошутила, что она своими шумными повадками и голоском, слышным за километр, растревожит всех больных. Валентинка так возмущалась и кричала, что из соседнего класса прибежали девочки узнать, не случилось ли у нас какой беды. Мне же потом пришлось ее уговаривать, успокаивать и просить прощения, хотя она сама в гневе бог знает что мне наговорила.
Мы отобрали четверых самых надежных девочек из нашего класса и, видимо, не ошиблись в них. С тех пор прошло уже несколько лет, все мы окончили школу и поступили, кто в медицинский, кто в педагогический институт, а все-таки продолжаем посещать госпиталь, ставший для нас родным.
Я отвлеклась от того, что хотела вначале записать в дневник. Пишется мне сегодня необыкновенно легко, слова точно сами льются из-под пера. Незаметно бежит время, точно в разговоре со старым, близким другом, которого давно не видела. Хочется рассказать ему все, что произошло за время разлуки, вот и мечешься от одной темы к другой, забывая о главном.
Сейчас уже полпервого ночи. Няня давно спит, мирно посапывая носом. Ночная лампочка с глубоким абажуром освещает только мой стол. От печки веет теплом. Я сижу, закутавшись в мягкий халатик, сунув ноги в меховые туфли, и пишу, пишу, почему-то все откладывая то, ради чего я и взялась сегодня за тетрадь. Верней всего, об этом я и не стану писать. Нужно еще много подумать, проверить временем. Может быть, завтра или через неделю все забудется, и мне даже стыдно будет вспомнить о той встрече, что так внезапно взволновала меня, и о тех чувствах, которые она во мне подняла. Сегодня весь день я ощущаю какой-то прилив сил и неясное чувство надежды, что еще не все потеряно, что жизнь нашей семьи еще может наладиться. По крайней мере, можно будет как-то повлиять на брата.
А в семье у нас плохо, очень плохо. Брат бездельничает, часто где-то пропадает и возвращается домой пьяным. С отцом и мачехой у него постоянные стычки, чаще всего из-за денег. Отец за последнее время стал вовсе не похож на себя, какой-то сумрачный, нервный, раздражительный. Раньше я считала, что в его скверном настроении виновата Клара. Мне казалось, будто отец ревнует ее к Арканову, но теперь я убедилась - ему совершенно безразлично, что она делает, с кем и о чем говорит. Видимо, источник его волнений и неприятностей где-то вне нашего дома, и я не могу ничего сделать, чтобы разогнать тучи, постоянно омрачающие его лицо. Я очень люблю отца, мне больно, что он страдает, но я не знаю, что сделать, как поступить, чтобы он был опять весел, жизнерадостен, как прежде. Его спросить нельзя. Он опять раскричится, а посоветоваться мне не с кем.
Может быть, в наше время это и дико, что у нас могут быть одинокие люди, которым некуда идти, не с кем поделиться горем, но я чувствую себя страшно одинокой. Как-то я сказала об этом Валентинке. Она, конечно, напустилась на меня. «Как это может быть, - кричала она, - что комсомолка, общественница, одна из активнейших, как сказал секретарь райкома комсомола, у которой десятки подруг, готовых за нее в огонь и воду, и вдруг считает себя одинокой?!»
Это был несчастный день, когда я с отчаяния, после страшной домашней сцены, разыгравшейся из-за этого отвратительного Арканова, которого мои родные навязывают мне в мужья, рассказала Валентинке о наших семейных неурядицах. Что тут поднялось! Ужас! В своем искреннем желании помочь мне Валентинка разблаговестила о моих несчастиях чуть ли не всему институту и едва не добилась, чтобы вопрос об отношении ко мне моих родных был поставлен на комсомольском собрании. Она вовсе не задумывалась над тем, какой катастрофой для меня явилось бы такое собрание. После него мне нельзя было бы показаться домой.
К счастью, среди наших комсомольцев нашлись рассудительные люди, и затея с проработкой моих родных была отвергнута. Мне посоветовали уйти из семьи, обещали помочь добиться места в общежитии. Но этому совету я последовать не могла. Это было бы предательством. Как бы я бросила своих в тот момент, когда они глубоко несчастны! Мне кажется, что я еще как-то смогу найти способ помочь им, особенно Радию. Ведь хотя он и старше меня, но иногда, правда, очень редко, прислушивается к моим словам.
С отцом значительно труднее. Раньше он был, хотя и малозаботливым, но ласковым и добрым, теперь же он или старается меня не замечать, или кричит по каждому ничтожному поводу, что я его враг, что я не хочу ему помочь. При этом я не могу добиться у него прямого ответа, в чем должна заключаться моя помощь? Я чувствую, что дело касается Арканова. Но этого они от меня не добьются.
Несколько лет тому назад отец снова женился, на этот раз на одной из своих «приятельниц» - Кларе Борисовне, особе, которая ухитрилась за всю свою долгую жизнь никогда нигде не работать. Для этого в наше время нужно иметь какие-то особенные способности, а ими она наделена с избытком. Я не знаю человека, который бы так умел, как она, заставлять других работать на себя.
Клара ввела в наш дом одного своего знакомого - Ивана Семеновича Арканова, научного работника, метеоролога, человека, способного всех прибирать к своим рукам и подчинять своей воле. Вскоре у него с отцом появились какие-то дела, о которых они подолгу говорили, запершись в кабинете. Наверное, он сделал отцу какое-то одолжение, как-то выручил его, и отец, чувствуя себя в долгу, вынужден теперь, если не подчиняться ему, то, во всяком случае, терпеть его грубые выходки и во многом с ним соглашаться.
Клару Арканов просто-напросто купил своими подачками. Для нее он постоянный поставщик всего, что трудно достать у нас в магазинах. По его словам, у него хорошие связи в Москве, и его приятели всегда готовы прислать все, что нужно. Он подъезжал с подарками и ко мне, но получил отпор.
С братом Арканов сперва держался на дружеской ноге. Они проводили вместе вечера в ресторанах. Но за последнее время я стала замечать, что отношения у них далеко не товарищеские: Арканов покрикивает на Радия, грубо делает ему замечания, дает поручения и не благодарит, когда тот их выполняет. Может быть, это из-за того, что Арканов достает Радию какую-то выгодную работу и потому считает себя его начальником. Хотя я его терпеть не могу, но чувствую себя обязанной ему за то, что Радий теперь не мучится из-за отсутствия денег. Зарабатывает он порядочно, только жаль, что работа непостоянная.
Арканов часто приезжает из района, где живет на своей метеостанции. Останавливается он у нас. В комнате Радия он поставил себе кровать-раскладушку. Клара всегда бывает довольна его приездам, он очень щедро платит за стол и квартиру. Все наши в один голос говорят, что он содержательный, интересный человек, с оригинальными взглядами. Может быть, это и так, но мне становится буквально душно, едва он входит в комнату, а его хищный, постоянно устремленный на меня взгляд вызывает отвращение и страх.
Как-то после одной дерзости, которую Арканов допустил по отношению ко мне, я решила потребовать у отца, чтобы он выгнал его из нашего дома, но совершенно случайно услышав, как Арканов распекал Радия за пьянство, я раздумала жаловаться на него отцу. Не раз и после я слышала, как он ругал брата за то, что тот губит себя, прожигая жизнь. Это единственное, что заставляет меня мириться с присутствием этого неприятного человека в нашем доме.
Проснулась няня, поворчала на меня, что все еще не сплю, и снова заснула. Я уж хотела было послушаться и улечься, но почувствовала, что не успокоюсь, пока не запишу того, ради чего достала из-под семи замков свой дневник, столько времени не появлявшийся на свет.
Если взглянуть на все спокойно и здраво, то, честное слово, ничего особенного не произошло, а то радостное волнение, которое я испытываю с утра, объясняется приятными воспоминаниями, которые навеяла на меня неожиданная встреча с одним давнишним знакомым.
Сегодня рано утром с шестичасовым поездом я поехала на станцию Диково за цветами и листьями для букета на зиму. Я их засушиваю между страницами старых журналов и потом ставлю в вазу к себе на стол. Впрочем, цветы были только предлогом. Когда-то мы жили недалеко от Дикова на даче, и это лето было самым счастливым, беззаботным, радостным за всю мою жизнь. И я люблю те места: покрытые сосняком горы, бегущую среди них говорливую речку Березовку. Люблю вспоминать прозрачные, напоенные ароматом леса вечера у пылающего костра, несмолкаемый треск кобылок в траве, шум поезда, внезапно врывающийся в сонную тишь лесной долины. В лесу я себя чувствую совсем другой, чем в городе. Сразу забываю все житейские дрязги и неприятности, мысли начинают течь ровно и спокойно, а окружающая красота величественной природы точно очищает душу от накипи, порожденной горем и заботами.
Два часа среди природы промелькнули незаметно. Я хотела вернуться в Каменск с девятичасовым пригородным поездом, но опоздала на несколько минут и села на идущий вслед за ним поезд дальнего следования.
В вагоне было мало людей, а в том его конце, где я уселась, расположился у окна всего один пассажир - высокий черноволосый молодой человек в новом синем костюме. Не глядя на него, я принялась разбирать цветы, разложив их рядом с собой на скамье. Однако что-то мешало мне. С каждой минутой я все сильней ощущала досадное стеснение из-за того, что мой сосед не спускал с меня упорного, внимательного взгляда.
Я не отношусь к числу кисейных барышень-недотрог, которых приводит в панику возможность остаться наедине с молодым человеком. Меня совершенно не волнует такое положение. Подруги называют меня ледышкой, потому что я никем еще не увлекалась, в то время как все они уже были влюблены и даже не раз. Конечно, они не правы, я не ледышка и не сухарь. Просто я мало думаю о тех пустяках, которые они принимают за серьезные увлечения. По-моему, любовь - это большое и прекрасное чувство, и играть в нее - это все равно, что кощунствовать над святыней.
У меня много знакомых студентов, с некоторыми из них я дружна, два-три мне очень нравятся. Уж не раз мне говорили о любви, было приятно слушать, не скрою, но сердце у меня ни разу не забилось ответным чувством.
Я сама не знаю, почему об этом пишу. Может быть, для того, чтобы лучше понять и еще раз почувствовать то ощущение, которое я испытала, встретив устремленный на меня взгляд черных блестящих глаз этого человека в вагоне. Тогда меня охватили и робость, и смущение, и чувство какой-то беззащитности. Никогда ничей взгляд не действовал на меня так.
Он сидел передо мной, крепкий, красивый, загорелый, с мальчишеским чубиком волос над умным, добрым лбом, и хотя его глаза смотрели дружески, но узкие губы под черными коротко подстриженными усами улыбались, как мне казалось, насмешливо.
Но вдруг все это наваждение исчезло, и мое смущение рассеялось, как сон. Я даже вздохнула свободней. Передо мной был мой старый знакомый, Дима Карачаров, товарищ Радия по школе. Годы, а главное усы так изменили его, что я не сразу узнала. Теперь я могу признаться, что когда-то он мне очень нравился и только его невероятная застенчивость помешала нам ближе познакомиться. Однако, прощаясь со мной, он сказал несколько таких слов, которые я не раз с нежностью вспоминала.
Мне очень мало пришлось встречаться и говорить с ним, но зато я много слышала о нем от Радия и от няни Саши, которая когда-то нянчила его и после была очень дружна с его родителями. Но не только рассказы няни и брата заставили меня ценить и уважать Дмитрия. Я видела, какое доброе влияние он оказывал на Радия. Только он один был в состоянии усмирять дикие фантазии моего брата, заставлять его учить уроки, читать. Не раз Радий в покаянные минуты признавался, что только Дмитрий умел вовремя одернуть его, сбить с него спесь. Особенно остро почувствовала я это, когда их пути разошлись. Без постоянной, дружески направляющей руки наш слабовольный Радий стал выпивать, бездельничать, и теперь не знаю, чем это может кончиться.
Увидев Дмитрия, я сразу вспомнила, как прекрасно он влиял на Радия, и подумала, что если бы брат мог опять опереться на его твердую руку, то был бы спасен.
Боюсь, что от радостной надежды, которую вдохнула в меня эта мысль, я вела себя с Дмитрием недостаточно сдержанно, много говорила, смеялась. Но я уверена, что если Дмитрий остался хоть чуточку прежним, то не осудит. Мне очень хочется верить, что он поможет нам. Он, наверное, и теперь такой же хороший и добрый. Я, как сейчас, вижу перед собой его глаза. Это глаза настоящего, верного друга.
Глава шестая В ТИХОМ СЕМЕЙНОМ КРУГУ
Сразу же с вокзала я отправился в управление, но там меня постигла неудача: полковник Егоров, с которым мне нужно было увидеться, выехал по срочному делу в район. Пришлось разговаривать с его заместителем. Тот, конечно, сделал все необходимое, чтобы помочь мне выполнить задачу, ради которой я приехал, но ему, видимо, не были знакомы планы полковника Егорова относительно моей личной судьбы, и мне следовало запастись терпением.
О том, как дальше протекало следствие по делу об ограблении тринадцатого магазина, я расскажу в нескольких словах.
Вместе с товарищами из каменской милиции мы познакомились на почте с курносой румяной девушкой-письмоносцем, доставлявшей газеты на улицу Лассаля, и у нее в сумке обнаружили очередной номер «Каменского рабочего» с точной копией той неразборчивой надписи, которая стояла на газете, найденной у крыльца магазина.
Газета оказалась адресованной гражданке Фокиной, занимавшейся, как сообщила ее соседка, шитьем женского платья.
- И как будто без патента, - добавил вполголоса муж соседки, видимо, не одобрявший поведения гражданки Фокиной.
Стук машинки за дверью говорил, что Фокина занята своей беспатентной профессией. Она долго не впускала нас в комнату, а когда мы все-таки попросили ее хотя бы выйти, то дверь внезапно распахнулась - и на пороге перед нами предстала маленькая кругленькая особа с выражением ярости на поношенном, но заново оштукатуренном личике. Видимо, она была готова дать нам сражение, пользуясь тем, что все улики ее незаконного ремесла были припрятаны. Даже машинки и той не было видно.
Однако, узнав, что мы пришли всего-навсего проверить аккуратно ли ей доставляют почту, Фокина отмякла и пригласила в комнату.
На письмоносцев она жаловалась: газеты доставляют поздно, вместо того чтобы заносить в дом, бросают в сенях, а в общем, жалобу ее записывать не нужно, так как она сама знает, как это неприятно, когда на тебя жалуются, потому что работала письмоносцем, испытала, что это за радость.
Будто бы для того, чтобы определить фамилию письмоносца по отметке на газете, мы попросили у нее последние номера. Она с готовностью бросилась исполнять нашу просьбу. Сегодня газету еще не приносили, вчерашний номер она уже истратила, а позавчерашний… Тут она с минуту припоминала, потом воскликнула:
- Да, ведь его Кешка брал! Вот всегда так - возьмут, а нет, чтобы возвратить. Ахламоны проклятые.
Мы просили ее не беспокоиться и отправились к Кешке, полное имя и фамилия которого было Иннокентий Савельевич Шандриков.
Мгновенно по телефону были наведены справки. Шандрикова хорошо знали в милиции. Года два он работал шофером, потом за лихачество лишился прав, запьянствовал, попал в компанию воров, был осужден, отбыл часть срока и после освобождения по амнистии устроился шофером на автобазу.
По словам соседей, Шандриков с работой расстался уже с неделю. Его уволили за пьянство. Позавчера он с утра куда-то запропал, а вернувшись на следующий день часам к пяти вечера, жаловался, что с ним на улице случился припадок и он больше суток пролежал в скорой помощи. Однако по справкам, которые мы навели, там такого пациента не было. Тогда мы решили побеспокоить самого Шандрикова.
Все то время, пока мы были заняты выяснением его биографии и занятий, Шандриков благополучно почивал у себя на квартире под незаметным, но неослабным наблюдением двух наших товарищей.
Он лежал на постели, укрывшись с головой затасканным ватным одеялом, из-под которого были видны только выглядывавшие из рваных носков грязные желтые пятки. В просторной, полупустой, давно не прибиравшейся комнате, на непокрытом столе красовался неприглядный натюрморт в виде полной окурков банки из-под консервов и пустой бутылки из-под коньяка.
Оставив одного из товарищей у окна, мы постучались в дверь. Шандриков горошком соскочил с кровати и отпер нам, точно дожидался нашего прихода. По документам ему было двадцать четыре года, но выглядел он как сорокалетний. Лицо его опухло от постоянного пьянства. Я поймал себя на мысли, что раньше он, наверное, был приятным, даже симпатичным парнем, но теперь его вид вызывал только отвращение.
При обыске у Шандрикова нашли около пятисот рублей, пачку дорогих папирос, две бутылки дорогого коньяка. Галош ни новых, ни старых мы не нашли, но свежий пепел в давно не топленной печке показался нам подозрительным, и товарищ из каменской милиции взял его, чтобы отправить на анализ. Теперь дело Шандрикова переходило в его руки, однако мы договорились, что, когда потребуется, он даст мне весь материал для доклада полковнику.
На первом допросе Шандриков самым решительным образом отрицал, что он на днях куда-нибудь уезжал из города, повторяя ту же сказку о своем припадке. Но мы и не ожидали от него скорого признания.
Заместитель начальника управления сообщил мне, что полковник Егоров звонил из района, сказал, что вернется дня через два, и, узнав о моем приезде, приказал дождаться его.
Нельзя сказать, что я был этим огорчен, да и кто на моем месте не обрадовался бы возможности на законном основании отдохнуть пару дней, всласть побродить по своему родному городу после долгой разлуки с ним.
Я медленно шел по широкому, прямому, как линейка, солнечному и оживленному центральному проспекту в таком чудном настроении, что даже лужи на асфальте, отражающие голубое небо, казались мне красивыми.
Мысли мои все возвращались к недавней встрече с Ириной. В глазах стояло чуть тронутое золотистой краской загара, сияющее еще неосознанной красотой девичье лицо, гладкий высокий лоб, строгая, спокойная линия профиля. С невольным восхищением я думал:
«Какое у нее чудесное лицо! Так и веет от него весенней свежестью, точно от лесного анемона».
Почему-то мне было неприятно, что Ирина приходится сестрой Радию Роеву и дочерью Аркадию Вадимовичу, хотя досада на них у меня давно уже прошла. Но если хорошенько разобраться, какое мне было дело до всего семейства Роевых, включая и Ирину? Встретились мы случайно, и встреча эта, наверное, скоро забудется, хотя в глубине души я сомневался в этом.
Общежитие, куда меня направили из управления, находилось на той же улице, где жили Роевы, только квартала на два дальше их квартиры.
Медленной походкой никуда не спешащего человека я подошел к двухэтажному стандартному дому, где обитал мой бывший приятель. Поравнявшись со знакомым палисадником, засаженным разросшейся за эти годы акацией, я убавил шаги взглянул на окна второго этажа.
- Что засматриваешь, что засматриваешь к нам в окна? - вдруг раздался у меня за спиной женский голос.
Я быстро обернулся с чувством, будто меня поймали на преступлении. Ко мне подходила, широко улыбаясь, моя старая приятельница няня Саша.
- Откуда ты, голубь мой, прилетел? Я тебя сразу, как увидела, так и узнала, хоть и вымахал ты вон какой высокий да широкий, - говорила она, с искренней радостью оглядывая меня. - Волосы-то у тебя и глаза материны - черные, а лицом и всей статью ты больше на отца похож - такой же орел. Девки-то, поди, сохнут по тебе? А у нас Радька хоть и тоже высокий, но худущий, глиста глистой. Бог его знает, чего ему не хватает. Уж, кажется, кормлю их всех как на убой. А тут еще курить начал, пачки на день ему мало. Да что же мы стоим? Давай заходи, поговорим с тобой, ведь столько лет не виделись. Радик дома должен быть, да и Иришка тоже. Выросла она у нас как! Ты, поди, ее теперь и не узнаешь.
С теплым дружеским чувством глядя на некрасивое, смуглое, скуластое и морщинистое лицо старушки, светящееся добротой и лаской, на ее жидкие седоватые волосы, выбившиеся из-под платка, на сухую нескладную фигуру с впавшей грудью, я ругал себя в душе за то, что недавно думал, будто у меня в Каменске нет близких людей. Разве не родной была для меня эта искренняя, добросердечная женщина, со слезами на глазах смотревшая на меня материнским взглядом. Я хотел бы обнять и поцеловать ее, но в первый момент встречи не догадался сделать это, а теперь целоваться, да еще под окнами этого дома, казалось мне неудобным.
Мы расстались с няней Сашей, уговорившись завтра увидеться, и радостное ощущение от этой встречи долго не покидало меня.
До вечера я гулял по городу, заходил в новые здания, заглянул в свою бывшую школу и даже ухитрился пробраться в заново перестроенный драматический театр, где в это время шла репетиция.
Как-то так получилось, что в этот день мне пришлось еще трижды пройти мимо дома Роевых. И каждый раз я ловил себя на том, что пялю глаза на окна второго этажа в надежде увидеть Ирину.
В конце дня, возвращаясь из кино, я опять свернул к этому дому, но сообразил, что пятый раз прохожу мимо этих окон. Я собирался уже повернуть обратно, но тут уж восстал здравый смысл. «Что за идиотство! - рассердился я. - Что может мне помешать хоть сорок раз подряд пройти по любой улице города, если мне это захочется?» Я не узнавал себя. Пора было одуматься и выбросить из головы всю блажь, которая ни с того ни с сего заставляла меня валять дурака. Ведь теперь я уже был не мальчишка и мог совладать со своими чувствами.
С этим похвальным намерением я отправился дальше, решив не обращать больше внимания ни на чьи окна, и уже подходил к дому Роевых, как вдруг неожиданное происшествие привлекло мое внимание. Большой, синий с желтым, автобус, оплеснув край тротуара грязью из широкой лужи, подкатил к выстроившейся на остановке очереди. Дверца его открылась, и в нее, торопясь, но довольно чинно, стали входить пассажиры, как вдруг подбежавшие со стороны два парня, оба в туго натянутых легких сапожках, пиджаках с поднятыми воротами и надвинутых на глаза кепках, стали яростно протискиваться к двери, действуя при этом плечами и локтями.
Пожилой мужчина с обвисшими седыми усами, которого один из парней довольно-таки основательно толкнул, возмутился и стащил парня с подножки уже отходившего автобуса.
- Ты что меня лапаешь? - ощерился парень, надвигаясь на него, втянув голову в плечи и выпятив подбородок. - Тебе что, жить надоело? - и, размахнувшись, сильно толкнул старика в грудь.
Тот пошатнулся и, споткнувшись о подставленную вторым хулиганом ногу, упал навзничь, ударившись затылком о тротуар.
Никто из прохожих и из тех, кто оставался в очереди на автобус, не вступился за старика, хотя тут были и молодые мужчины. Оставлять хулиганов безнаказанными было нельзя, и я бегом пустился догонять их. Они же, не торопясь, вразвалку, удалялись прочь, как будто ничего особенного не произошло.
Выбрав того, который толкнул старика, я схватил его за локоть и так круто повернул к себе, что он едва устоял на ногах.
- Что тебе надо? - окрысился на меня парень.
- Идем в отделение. Да не вырывайся, а то я тебя так скручу, что не поздоровится.
Второй хулиган, сообразив, что дело оборачивается неприятностью, держался в стороне. Нужно было пригласить с собой пострадавшего, но мне сказали, что он уехал на такси. Я попросил, чтобы кто-нибудь из свидетелей происшествия дошел со мной до милиции.
- Ну вот еще! - сказала толстая дама с длинной, похожей на дыню головой и узкими, точно серпом прорезанными, глазами. - Пойди с вами в милицию, а потом по судам затаскают. Да и вам, гражданин, не советую. Вы их приведете, а они потом подкараулят вас да бритвой по глазам. Мало ли случаев рассказывают.
- И вообще, чего вы привязались к этому парню? - услышал я сзади очень знакомый голос. - Его толкнули, он ответил. Только и всего. Придираетесь, сами не знаете к чему.
Я обернулся и к своему удивлению увидел, что говорит это Радий, черт бы его побрал. В зеленой велюровой шляпе, острым шлыком торчавшей на голове, в чудесном коричневом пальто какого-то особенного покроя с широко застроченными рубцами на швах, он походил на артиста столичной оперетты.
- Послушайте! - сказал я, не желая отвечать на его растерянную улыбку, показывающую, что он меня тоже теперь узнал. - Если вы трус и боитесь защитить старика от хулиганов, то не мешайте другим и не путайтесь под ногами.
- Давайте, товарищ, я с вами пойду, - смущенно предложил молодой человек в железнодорожной форме. - Хоть мне и некогда, но так это дело оставлять нельзя. До чего распустились, мерзавцы.
На наше счастье, за углом мы повстречали милиционера, которому вручили сперва нашего пленника, а потом протокол, который я тут же сочинил по всем правилам на листке из блокнота.
От всего этого происшествия в душе у меня остался отвратительный осадок. Разобравшись, я понял, что дело не в неприятном столкновении с бывшим приятелем, так как он для меня был давно уж «бывшим». Меня огорчало, что теперь я не смогу увидеть Ирину. И нечего мне было обманывать самого себя, что мне нет никакого дела до нее. Ведь целый день я только и думал, что о ней. Неужели прежнее чувство вспыхнуло вновь?
Я так углубился в свои мысли, что прошел мимо переулка, в который следовало свернуть. Чертыхнувшись, я круто повернул обратно и вдруг нос к носу столкнулся с Радием, шедшим следом за мной.
- Ты чего это, Димка, всплыл на меня, как медведь? - смущенно смеясь, воскликнул он, загораживая мне дорогу. - Ведь смешно же, ей-богу. Встретились два старых друга и поссорились из-за какого-то блатяги.
- Я не ссорился, - возразил я, чувствуя, что во мне еще живо какое-то теплое чувство к Радию, - но ты, я вижу, совсем охамел за эти годы. Ведь это же последнее дело…
- Ну ладно, ладно, - не дал он мне докончить. - Забудем к чертям всю эту историю и пойдем мириться. Нужно же поговорить после такой долгой разлуки. Ты знаешь, за это время мне часто очень недоставало тебя…
В последних его словах проскользнула искренняя, жалобная нотка, и это окончательно смягчило мой гнев.
Дом Роевых был в нескольких шагах от нас, так что мы не успели ни о чем поговорить. Открыв своим ключом парадную дверь, Радий провел меня в свою комнату, вход в которую был прямо из прихожей. Многозначительно щелкнув себя по вороту, он сказал:
- Сейчас сообразим кое-что, - и скрылся.
«За водкой побежал, - поморщившись, подумал я. - Нужно поскорей отделаться от него. Совсем не хочется с ним выпивать».
Комната Радия очень мало изменилась с тех пор, как я был в ней несколько лет тому назад. Только тонкая переборка, отделявшая ее от столовой, была оклеена новыми обоями под персидский ковер и вместо одной кровати в ней стояла еще раскладушка, покрытая чудесным плюшевым одеялом.
В комнате не было ни книг, ни газет, которыми я мог бы пока заняться, и потому я подошел к окну - естественному прибежищу всякого, кому нечего делать. Оно было открыто настежь. Усевшись на подоконник, я смотрел на знакомую улицу и не узнавал ее. Серые домишки, толпившиеся, раньше на противоположной стороне, исчезли, и на их месте чуть не на полквартала развернулся огромный жилой дом с магазинами в нижнем этаже. В пролете между ним и старым особняком виднелись знакомые купола выходившей на соседнюю улицу небольшой розовой церквушки, когда-то гордо возвышавшейся над окружающими зданиями. Теперь ее едва было видно из-за вымахавшего рядом с нею шестиэтажного корпуса, да и с другой стороны чуть ли не выше ее крестов уже поднималась мощная стрела башенного крана, похожая на занесенную руку.
В соседней комнате, в столовой, у Роевых шло чаепитие, и, как было слышно через тонкую перегородку, Клара Борисовна угощала гостя, какого-то неведомого Ивана Семеновича, не отличавшегося особенной вежливостью. Как обычно, манерничая, она упрашивала его слащавым голоском:
- Иван Семенович, еще чашечку.
- Я же сказал, что не хочу.
- Но вы же всегда пьете две.
- А сегодня одну И оставьте меня в покое.
- Когда вы так мне отвечаете, я всегда вспоминаю, каким милым и любезным вы были на даче, а теперь…
- Что теперь?
- Ничего, - со слезами в голосе произнесла Клара Борисовна и, резко отодвинув стул, поднялась и вышла на балкон. Мне пришлось уйти с подоконника, чтобы она меня не увидела. Но и у стола, где я уселся, были слышны ее всхлипывания и вздохи, видимо, предназначавшиеся для чьих-то, но, во всяком случае, не для моих ушей.
Я думал, что они в столовой только вдвоем, и был поражен, услышав взволнованный голос Аркадия Вадимовича.
- Мне кажется, Иван Семенович, вы могли бы держать себя более вежливо с моей женой.
- Ваша жена сама виновата, что пристала ко мне с этим проклятым чаем.
- Разве дело в чае?
- А в чем же? Или, может быть, вы вообще недовольны моим поведением? Если так, то я могу уйти. И я уйду. Вы этого добьетесь.
- Но зачем же? Мы всегда рады вас видеть. Вы знаете, как глубоко я обязан вам. Но все-таки, хотя бы внешне, нужно же соблюдать известные нормы вежливости. Уверяю вас, что вы часто себе этим вредите. Ирина не раз говорила…
- Ирина… Ирина! - вскричал неведомый мне Иван Семенович с яростью, - что вы вечно прикрываетесь Ириной, как щитом? Вы просто спекулируете на моем отношении к вашей дочери и ведете при этом двойную игру. Мне вы клянетесь, что будете рады, если она станет моей женой, а ее восстанавливаете против меня. Да, да, восстанавливаете. Я в этом убежден, у меня есть глаза, я вижу вас насквозь. Смотрите только, как бы вам здесь не запутаться так же, как вы запутались в другом месте. Только тут уж не найдется такого доброго дяди, как я, который бы вас выручил.
- Ну что вы говорите, Иван Семенович? - с неподдельным страданием произнес Роев. - Я уверен, что вы сами ничему этому не верите. Я вовсе не настраиваю Ирину против вас. К чему мне это? Наоборот, я всегда стараюсь всячески расположить ее к вам, однако вы сами этому мешаете. Посудите сами, где это видно, чтобы высокообразованный человек, научный работник так третировал хозяев дома, где он не только бывает, но даже, можно сказать, живет. Клянусь, если бы я знал, с какими унижениями будут связаны…
- Вам что, не нравятся мои посещения? Пожалуйста! Я освобожу вас от своего присутствия, но помните…
- Иван Семенович! Голубчик, ну ради бога! - бросилась к нему Клара Борисовна. - Перестаньте, умоляю вас. Ну что вы сегодня такой бяка? Я вас просто не узнаю А ты, Арчик, замолчи сейчас же! Не расстраивай Ивана Семеновича. Ты ведь знаешь, какой он нервный. Беда просто с вами. Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь веселом? Ну, садитесь оба и успокойтесь, я вам налью еще по чашечке. Что бы вам рассказать? Да, вспомнила. Ты знаешь, Арчик, Риточку Фукс? Я сегодня встретила ее в магазине. Она развелась со своим бегемотом и вернулась к Степану Петровичу. Говорит, что хотя он и меньше получает, но с ним спокойней. На ней был чудненький шелковый красный дождевик. Просто прелесть! Материя нежная, эластичная и к тому же не промокает. И почему это у нас в нашем проклятом Каменске никогда ничего нельзя купить?
- Ладно, достану я вам такой дождевик, успокойтесь, - ворчливо пробурчал Арканов. - В крайнем случае в Москву закажу.
- Ну, что вы, Иван Семенович! - заюлила обрадованная Клара Борисовна. - Разве я для этого говорила? Я вовсе не хочу вас затруднять.
- Клара, как тебе не совестно? - возмутился Роев.
- Ну что тут особенного? Не стану же я ломаться, как твоя очаровательная дочка? Отчего бы мне и не согласиться, раз Иван Семенович оказывает услугу от чистого сердца? Ведь я же заплачу?, разумеется.
Несколько раз на протяжении этого отвратительного разговора я собирался встать и уйти, но меня удерживала мысль, что теперь-то я обязательно должен добиться встречи с Ириной. Я видел, что ей действительно может потребоваться моя помощь.
Вернулся запыхавшийся Радий, водрузил на стол бутылку коньяка и разложил вокруг нее свертки с колбасой, ветчиной и сыром.
- Напрасно ты беспокоился с угощением, - сказал я, вставая. - Выпить мы с тобой еще успеем. Мне хотелось бы сперва повидаться с твоими родными, если они меня не забыли.
- Пожалуйста, - неохотно ответил Радий, - пойдем, покажу тебя своему предку и вечно юной Кларочке. - Наигрывая губами марш, он торжественно, держа под руку, провел меня в ярко освещенную столовую.
За обеденным столом, украшенным знакомой мне с детства высокой вазой с аляповатыми фарфоровыми фруктами, все еще сидели за вечерним чаем Аркадий Вадимович с супругой и гость - незнакомый мне видный брюнет лет тридцати - тридцати пяти.
Располневшая и еще больше прежнего накрашенная Клара Борисовна поразительно напоминала размалеванное яблоко с ее любимой вазы. Однако я заметил, что одета она была теперь не так неряшливо, как прежде, и даже затянута в корсет. Может быть, из-за этого вид у нее был такой, точно она набрала в себя воздух и не может его выдохнуть.
Аркадий Вадимович в домашнем бархатном пиджачке и хорошо сшитых полосатых «дипломатических» брюках был по-прежнему элегантен, однако на лицо его то и дело набегало озабоченное выражение.
Гость, сидевший у Роевых, был, видимо, своим человеком у них за столом. Когда мы вошли, он рассматривал «Огонек», причем сидел несколько даже спиной к хозяйке. Радия он почти не удостоил внимания, зато пристально посмотрел на меня.
Мое внезапное появление перед этой милой компанией вызвало небольшой переполох. Аркадий Вадимович, поднявшись с места, не торопясь направился ко мне с приветственными возгласами, а Клара Борисовна, хотя и не подняла со стула свою расплывшуюся фигуру, но, следуя примеру мужа, весьма картинно поиграла в воздухе наманикюренными ручками, выражая этим жестом и серией лучезарных улыбок восторг по поводу столь радостной неожиданности.
Меня не обманула приветливость такого приема. Я понимал, что под маской радушия и гостеприимства супруги Роевы стремились скрыть некоторую неловкость. Ведь они еще помнили, как предательски поступили со мной.
Но я давно уже перестал сердиться на Аркадия Вадимовича. С моей стороны было бы величайшей глупостью ожидать от него, чтобы он относился ко мне иначе, чем ко всем остальным людям. Ведь он всегда был закоренелым и, судя по многим его высказываниям, принципиальным эгоистом.
Выглядел Аркадий Вадимович уже далеко не таким жизнерадостным, как раньше. Его прежде такое свежее и румяное лицо стало желтым. Волнистые, откинутые назад темно-каштановые волосы поредели и поседели. Чудесные черные, слегка масляные глаза под густыми, точно углем выведенными бровями, всегда смотревшие как будто бы ласково и доброжелательно, теперь были усталыми и равнодушными. И даже красивые полные губы, постоянно складывавшиеся, бывало, в приятную, чуть ироническую улыбку, теперь поблекли, и концы их брюзгливо опустились книзу.
Самым любезным образом поздоровавшись с хозяевами, я подошел к гостю, который меня гораздо больше интересовал, чем они.
Он обладал незаурядной, бросающейся в глаза наружностью, был ладно скроен, крепко сшит. Резкие, точно топором вырубленные, его черты отличались своеобразной диковатой силой. Синий подбородок с глубокой ямкой посередине выпячивался вперед, черные блестящие, точно лаком смазанные волосы, разделенные прямым пробором, топорщились на затылке и свисали двумя скобками на виски. Отличный сиреневатый костюм щегольски сидел на нем.
«Вполне вероятно, - подумал я, - что такой незаурядный, даже, пожалуй, красивый мужчина может произвести сильное впечатление на молодую девушку, хотя ему уже, наверное, около сорока».
Не спуская с меня внимательного, пытливого взгляда пронзительных черных с желтоватыми белками глаз, гость, вежливо встав и даже шагнув ко мне навстречу, крепко, по-дружески пожал мою руку.
- Арканов, - произнес он приятным баритоном.
Хозяева пригласили меня к столу, но, когда я отказался, не стали особенно уговаривать.
Радий уселся было за стол, потыкал вилкой оставшееся на блюде костлявое крылышко курицы, бросил его вертевшемуся около стола рыжему пойнтеру и принес из своей комнаты только что купленные им закуски и вино.
Между тем Аркадий Вадимович засыпал меня вопросами: где я, кто я. Но едва я, обманутый этим нехитрым приемом всех неискренних людей, пытался ответить, Аркадий Вадимович перебивал меня на полуслове и принимался рассказывать, что Радик, потерпев неудачу уже на двух факультетах - физико-математическом и географическом, перешел на факультет иностранных языков, но и там не удержался.
Я слушал это бархатисто-журчащее повествование, ругая себя, что чуть было не поверил в искренность своего любезного собеседника и не пустился рассказывать ему о своем житье-бытье, работе и прочем.
Время от времени в наш разговор вмешивался Арканов. Если бы я не запомнил очень хорошо его сочный баритон, то никогда бы не подумал, что со мной беседует тот самый хам, который полчаса тому назад так безобразно дерзил хозяевам в этой самой комнате. Сейчас он производил впечатление хорошо воспитанного, интеллигентного человека. В разговоре он предупредительно поддерживал Аркадия Вадимовича, жаловавшегося на распущенность теперешней молодежи, высказывал мнение, что с молодежью следует держаться построже, по-военному, вспоминал, что в дни его молодости молодежь была честной, самоотверженной и боевой. Слегка углубившись в свое комсомольское прошлое, полное опасностей и лишений, он горько посетовал, что теперь молодые люди уже далеко не те.
- Сказывается тлетворное влияние заграницы, - закончил он свою тираду.
«Вот собачий сын, хамелеон», - подумал я и вежливо согласился с ним, рассчитывая услышать еще что-нибудь поинтересней.
Вошла Ирина. Поздоровавшись со мной, она отказалась от чая и села в стороне, у открытой двери на балкон. Приветливая улыбка, обращенная ко мне, быстро исчезла. Ее лицо стало печальным.
Когда Аркадий Вадимович решил, что вполне достаточно обласкал свалившегося как снег на голову старого знакомого, он осторожно дал понять, что на ночлег в этом доме рассчитывать не следует, и оставил меня в покое, а я, предприняв несколько несложных маневров: поиграв с псом, посмотрев картины на стенах, очутился около сидевшей в одиночестве Ирины.
- Я вижу, что из всей вашей семьи больше всего изменились вы, - начал я - Вас просто нельзя узнать, в то время как Радий, кажется, только вытянулся, а Клара Борисовна еще помолодела.
- Вы бы лучше сказали это ей самой, - чуть улыбнулась одними губами Ирина. - Она была бы в восторге от такого комплимента.
Мы заговорили о медицинском институте, где училась Ирина. Но вдруг, прервав себя чуть ли не на полуслове и понизив голос до шепота, она сказала:
- Я очень боялась, что вы не придете. Мне нужно многое вам сказать, только не здесь. Я хотела поговорить о брате. Ведь вы уже не сердитесь на него? Когда-то вы были так дружны.
- Конечно, не сержусь.
- Сейчас нам не удастся поговорить. Вот если бы вы завтра могли зайти. Днем, около двенадцати, дома будем только няня да я. Она тоже обрадуется, что вы придете.
- Пожалуйста, я постараюсь прийти. А почему вас беспокоит Радий?
- Он бездельничает Еще счастье, что вот этот человек, с которым вы только что познакомились, дает ему иногда работу. Но дело даже не в работе. Самое страшное, что он пьет. Мне кажется, что его мучает такое неопределенное положение, поэтому он только и думает, как бы напиться, а пьяный он просто сходит с ума, проклинает жизнь, грозит застрелиться. Прошу вас, Дима, поговорите с ним. Я верю в вашу необыкновенную способность влиять на него. Мне больше некого просить. Отец? Вы же сами прекрасно знаете, он не любит лишний раз волновать себя.
Наш разговор привлек внимание Арканова. Сперва он искоса поглядывал на нас из-за своего «Огонька». Гремевшее радио, которое включила Клара Борисовна, мешало ему расслышать, что мы говорили, и он, поманив к себе Радия, что-то шепнул ему.
Радий, который больше чем кто-либо из присутствовавших оказал внимание коньяку, был уже под изрядным хмельком.
- Вы знаете, товарищи, - громко смеясь, обратился он ко всем, - как мы сегодня встретились с Дмитрием? - И он начал, паясничая и перевирая факты, рассказывать о сцене, разыгравшейся давеча на автобусной остановке.
Аркадий Вадимович, удобно устроившийся с папиросой в глубоком кресле, с рассеянной улыбкой выслушал рассказ Радия, и, как обычно, пространно и авторитетно высказал мнение, что мне следовало вызвать милицию, которая обязана следить за соблюдением порядка и тишины на улицах, хотя, к сожалению, до сих пор осуществляет свои функции недостаточно усердно. Он считал, что сам я ни в коем случае не должен был вмешиваться в уличный скандал, а тем более в драку.
- Почему не должен? - возразил я. - Это как раз и являлось моей прямой обязанностью. Я же милиционер.
Полнейшая растерянность и недоумение выразились на лицах у всех. Клара Борисовна, как наиболее непосредственная натура, всплеснула руками от удивления, Аркадий Вадимович издал губами неопределенный звук и переспросил:
- То есть как милиционер?
- Ты говоришь серьезно? - нахмурился Радий.
Ирина с удивлением смотрела на меня, не понимая, шучу я или нет.
Один только Иван Семенович никак не реагировал на мое заявление. По крайней мере, журнал, за которым скрывалась его физиономия, не дрогнул.
- Не понимаю, - обратился я к обоим Роевым, папаше и сыну, - что особенного вы находите в том, что я работаю в милиции?
- Да нет, конечно, ничего особенного, - замялся Радий, - но я не предполагал…
- Вы не так нас поняли, - прервал его Аркадий Вадимович. - Это, несомненно, крайне нужная и почетная на данном этапе должность. Недаром сказал Маяковский: «Моя милиция меня бережет».
- Позволь! - в свою очередь перебил отца Радий. - Каким образом это получилось? Ведь ты же был призван на военную службу?
- Совершенно верно, - ответил я, - но там мне вместе с другими комсомольцами предложили работать в милиции. Правда, я, как тебе известно, имел другие планы, но иногда приходится поступаться своими желаниями, особенно, когда понимаешь необходимость. Ведь, например, во время войны никто не отказывался идти на фронт…
- Но то была война, - с раздражением выкрикнул Радий. - Она давным-давно кончилась. Теперь мирное время.
- Мирное только для таких, как ты, которые не видят дальше своего носа, - разозлился я. - Вполне возможно, что как раз те самые руки, которые толкнули когда-то на Советский Союз Гитлера, теперь организуют у нас в тылу шайки грабителей.
- Я вижу, ваши политотдельщики не зря едят свой хлеб, - усмехнулся Радий. - Уверяю тебя, что мы тоже не настолько безграмотны, чтобы не понимать таких вещей. Я буду очень рад, если ты найдешь в милицейской службе свое призвание, но, однако, не верю тебе ни на грош, когда ты хочешь уверить нас, что эта работа тебе нравится.
- Это твое дело, - равнодушно пожал я плечами. - Я не собираюсь агитировать тебя идти к нам работать.
- Но ты все-таки расскажи, кем ты работаешь. Не может быть, чтобы простым постовым милиционером.
- Был я и постовым в свое время, и участковым, потом учился в Хабаровске на специальных курсах, ездил в Ленинград, в Москву, а теперь работаю старшим оперативным уполномоченным в одном городке в нашей области довольно далеко от Каменска, так что можешь быть спокоен: тебе не будут грозить визиты бывшего товарища, одетого теперь в синюю шинель с красными выпушками.
- Не глупи, пожалуйста, - возразил Радий. - С чего ты решил, что мне неприятна твоя профессия? Просто я удивился, почему ты выбрал именно ее. Ведь это, наверное, даже непрактично с твоей стороны. Если бы ты стал авиаконструктором…
- Уж не тебе, Радик, говорить о практичности, - перебила его Ирина. - Вы не представляете, до чего он сам непрактичный, - обратилась она ко мне. - Не может ничего себе ни сделать, ни купить. Тут недавно прибиралась у него в комнате, смотрю, - покупка, развертываю, и что же? Две пары…
- Молчи! - вдруг, как бешеный, заорал на нее Радий, схватив за плечи.
Боясь, как бы он не сделал ей больно, я взял его сзади за руки, и пальцы его разжались. Он не сопротивлялся, а только, тяжело дыша, не сводил с Ирины глаз, бормоча:
- Замолчи, убью…
- Радий, милый, что ты? Успокойся, что с тобой? - испуганно уговаривала его Ирина. - Что я ужасного сказала?
- А то ужасное, - закричал Радий, как в истерике. - что ты вечно меня высмеиваешь. Имей в виду, если ты еще хоть полслова… я уйду, уйду из дому. Довольно с меня.
- Я молчу, молчу, - чуть не плача, успокаивала его Ирина.
- Ну перестань, дружище, что ты ни с того, ни с сего разошелся? - дружески обняв его за плечи, сказал Арканов. - Видишь, что с тобой делает вино, - и с усмешкой, укоризненно покачивая головой, повел его из комнаты.
Настало самое удобное время распрощаться. Я подошел к Кларе Борисовне и пожелал ей всех благ.
- Вы уже ухо-о-дите? - с неопределенным выражением лица протяжно пропела Клара Борисовна, подавая мне руку. Чувствовалось, что она растерялась и не знает, задерживать ли ей дольше такого необычного гостя или поскорее распрощаться с ним.
Зато Аркадий Вадимович ни за что не хотел, чтобы последнее слово осталось за мной. Он заставил меня опуститься на стул, подсел вплотную, подвернув одну ногу калачиком под себя, явно желая подчеркнуть этой непринужденной позой дружеский, интимный характер нашей беседы, и начал расспрашивать о работе, о связанных с нею опасностях и неудобствах, и тут же, перебив меня, привел несколько известных ему случаев замечательного героизма, проявленного рядовыми милиционерами при выполнении служебных обязанностей. Словом, он так об этом говорил, точно сам готов был хоть завтра встать на милицейский пост.
Но я знал манеру милейшего Аркадия Вадимовича очаровывать своим обращением доверчивых собеседников и потому, послушав его немного, окончательно поднялся и стал прощаться. Меня, конечно, приглашали бывать, не забывать и так далее, но я, благодаря за эти приглашения, думал о том, сколько неискреннего и фальшивого еще осталось в отношениях между людьми.
Однако уйти так скоро из этого дома мне не удалось. В прихожей меня перехватила няня Саша. Она подкарауливала, когда я распрощаюсь с хозяевами, чтобы увести к себе.
- Нет, нет, не отпущу, - теребила она меня теперь за рукав, приплясывая при этом. - У них погостил, теперь давай заходи ко мне. Ты, я слышу, гость-то больше для кухонной администрации подходящий, чем для чистых господ, вроде наших расфуфыр. Мы, брат, милиционерами не гнушаемся, если бы не они, так нам, старым бабам, на рынок и носу не сунуть.
Еще раз поклонившись вышедшему провожать меня Аркадию Вадимовичу, который только кисло улыбался, слушая непочтительные выражения своей строптивой домработницы, я пошел за няней Сашей, продолжавшей держать меня за рукав, точно я и впрямь собирался сбежать от нее.
Глава седьмая У СТАРОГО ДРУГА
Комната няни Саши была почти такая же большая и удобная, как столовая Роевых. Вдоль стен в ней стояли две одинаково скромно и чисто убранные кровати, а между окнами - стол со стопками книг. У стола, склонившись над тетрадью, сидела Ирина. Она не оглянулась, когда мы вошли.
- Мы не помешаем? - спросил я няню Сашу.
- Нет, нет! - замахала она руками. - Ничего мы ей не помешаем. И так все с книжкой, когда-то и отдохнуть нужно. А потом, это же свой человечишко, захочет, так найдет себе другое место.
- Может быть, это я вам помешаю? - обернулась к нам Ирина. - Так я могу уйти.
- Сиди! У нас с ним секретов нет, - ответила няня, расстилая скатерть.
Ирина осталась и начала помогать няне Саше хлопотать у стола.
- Ты что оглядываешь мои хоромы? - спросила няня Саша, ставя на стол тарелку с пряниками и вазочку с клубничным вареньем. - Видишь, все еще я здесь живу, хотя и выживали. Принцесса-то наша, Клара Борисовна, выгнать меня хотела, придралась к тому, что я ее за неряшество отчитала. Заявила, что могу отправляться на все четыре стороны. Это после двадцати-то с лишним лет, как я здесь работаю! Ну, я ей и посоветовала самой отправляться, куда ее душенька желает, а я из своей комнаты никуда не пойду. У меня на нее ордер есть. А потом, уже при Аркадии Вадимовиче, я им обоим заявила, что дураки они, если меня гонят. Ведь им на меня почти никакого расхода нет: есть я ничего путного не ем, от жирного у меня живот болит, а ту сотню, которую они мне платят, я все равно на них же трачу, потому что денег на хозяйство они дают скупо. И шью на них, что они попросят, да еще Иришку у себя в комнате держу.
Я уж из-за одного того отсюда не пойду, что не могу я девчонку бросить им на растерзание. Ведь это ироды! Каждый только о себе и думает, а на нее им наплевать. А я ее соской выкормила, когда мать умерла, воспитала вон до каких лет, и даже когда она замуж выскочит, я все равно за ней увяжусь, хоть она и гнать меня будет.
- Не возьму я тебя, - не оборачиваясь, сказала Ирина, - запилила ты меня совсем.
- А как не пилить, как не пилить, - подскочила к ней няня Саша, - когда ты со своим Радием совсем с ума сходишь. По ресторанам за ним таскаешься. Виданное ли это дело, чтобы приличная девушка по кабакам ходила?
- И буду ходить, если нужно! И тебя не спрошу, - упрямо ответила Ирина, повернувшись к ней. - Пускай говорят, что хотят. Я знаю, что ко мне ничто не прилипнет. А все-таки, когда я с ним бываю, он так не напивается.
- Ну и делай, как знаешь! - совсем раскипятилась няня Саша. - Наплевать мне на вас на всех. Помереть бы скорее, чтобы глаза мои вас не видели. Но вот тебе мое слово: если еще раз в ресторан за ним побежишь, я тебя за руку оттуда вытащу!
Ирина промолчала.
- С чего это Радий так напустился на вас? - спросил я ее.
- Не могу себе представить. Правда, у него бывали и раньше такие вспышки, но всегда по какому-то серьезному поводу. А нынче он взорвался из-за совершеннейших пустяков. Дело в том, что он купил себе… - Тут Ирина вдруг запнулась и, дружески глядя мне в глаза, сказала: - Знаете, а все-таки я лучше не буду говорить вам об этой покупке, раз он так болезненно к этому отнесся, точно с ним могло случиться что-то ужасное, если бы я произнесла это слово…
На столе появился кипящий самовар, и няня Саша, не внимая моим уверениям, что я только что выпил два стакана, налила мне какую-то особенную, старинную разлатую чашку с букетами незабудок по голубому полю.
- Два стакана - разве это чай? - приговаривала она при этом. - Помнишь, бывало, как мы с тобой и с твоим отцом за ягодой в тайгу пойдем, так всю ночь до бела у костра сидим, чай пьем. Сколько котелков перекипятим - не сосчитать.
Няня Саша была большая охотница ходить в лес. Помню, как мы с отцом и с нею забирались в непроходимые дебри, ища новых ягодных мест, вязли в болотах, попадали под проливной дождь, однако все это было ей нипочем. Я не встречал другого такого покладистого спутника, так любившего и понимавшего тайгу, как она. Все в лесу ее радовало и занимало: невнятное бормотанье тетерева, доносившееся на зорьке из березового леска, розовый отблеск солнечных лучей, проникающий сквозь редкую пелену тумана в темный сосновый лог, косой полет белки-летяги, похожей на скользящий по воздуху пушистый платочек.
Ягоды, грибы, черемша были для нее предлогом, чтобы пойти в лес. Она не горевала, если мы ничего не находили, однако, чтобы чем-то оправдать перед домашними свои отлучки, приносила домой то веников, то бересты на растопку, то сухих шишек для самовара.
Мне кажется, что именно няня Саша научила меня видеть в природе то, что не всякому бросается в глаза. Зимой ей не приходилось ходить в лес, но как только наступала весна, она начинала нас тормошить. Отца иногда не пускала работа, а я тогда еще был мал и глуп, чтобы понимать всю прелесть весеннего леса.
- Ну чего там хорошего, - спорил я с ней. - Голо и пусто. Еще и трава не поднялась. - В глубине души я считал, что гораздо интересней проводить время в городе, шляться с ребятами по улицам и базарам, играть в чеку, зоску, пристенок.
Я помню, как в середине мая няня Саша вытащила-таки меня с собой за город, в густой, еще голый березняк.
- Ну вот, чего же тут особенного? - больше для того чтобы подразнить ее, бубнил я, шагая по растрескавшейся голой черной дорожке среди березовых стволов. - Лучше бы к дому отдыха пошли, там сосновый бор, зелено, по крайней мере. А здесь какая радость?
- Ты что, слепой? - остановилась возмущенная до крайности таким отношением к ее святыне няня Саша. - Такой благодати не чувствовать, значит души не иметь. Ты разуй глаза и смотри. Да смотри, чтобы душой видеть, как оно все на самом деле, а не так, как тебе показалось.
Она стала у меня за спиной, положила руки мне на плечи и еще раз повторила:
- Смотри и слушай!
И я стал смотреть и слушать.
Пронизанный дымно-желтыми лучами солнца, стоял вокруг меня березовый лес. Обнаженные деревья толпились перед глазами, то стройные, как мачты, то причудливо изогнутые, двойные и тройные, как гигантские канделябры. Черные полосы их теней, змеясь по неровной почве, лежали на буром, прибитом к земле слое прошлогодней листвы, сплошь усеянном золотыми звездочками разлетевшихся семян. В глубине леса березы сливались в сплошную, непроницаемую для глаз, бело-черную стену. Их коричневые вершины казались слегка фиолетовыми на фоне голубого неба. Да и небо-то, оказывается, было не чисто голубым, оно переливалось нежнейшими тонами от чисто лазурного в вышине до желтовато-зеленого с фисташковым оттенком у горизонта.
Деревья точно оживали на моих глазах. Ни одно из них, как оказалось, не было, похоже на другое, каждое имело свой собственный неповторимый облик. Тут были и статные красавицы во цвете лет, и могучие старцы, украшенные, как медалями, зеленоватыми бляшками лишайников, и хилые, болезненные инвалиды с заросшими следами от топора бездушного человека, который ради глотка березового сока не постыдился погубить дерево.
Раньше я не замечал, что березы бывают разные, и теперь залюбовался похожей на неутешную вдову плакучей березой, в скорбном величии опустившей к земле густые пасмы своих тончайших веток.
На глаза мне попалась затерявшаяся между берез стройная осина в пушистом наряде из серо-дымчатых сережек. И тут, тоже первый раз в жизни, я заметил, что весь низ ее матово-зеленого ствола, точно цоколь нарядного здания, выложен аккуратными, как бы гранеными серыми выступами. И вся она, как девушка в новом платье, гордясь своими кожистыми, красноватыми, готовыми лопнуть почками, гляделась в зеркальце снеговой воды, окруженное бледно-зеленой щеткой молодой травы, поднимавшей на своих острых шильцах полуистлевшие прошлогодние листья.
Эта неяркая весенняя картина, вольный, тревожащий душу шум ветра в вершинах деревьев, серебряный молоточек синицы, звонко кующий в ветвях, глубоко запали мне в память и в сердце и были началом той нежной и страстной любви к природе, которой я многим обязан в жизни. Что греха таить, я так же, как Радий и многие другие мои сверстники, росшие в больших домах с тесными грязными дворами, в которых негде было развернуться, чтобы с толком потратить излишек сил и энергии, был не прочь в свое время похулиганить. Как только мы ни изощрялись в этом искусстве! Привязывали жестянки к хвостам соседских кошек, звонили у чужих подъездов, подпирали колами двери. Возможно, что, совершенствуя с годами такие «таланты», я далеко ушел бы по бесславному пути, если бы родители не спохватились и не начали всячески отвлекать меня от образовавшейся на нашей улице «теплой» компании, в которой активным участником и зачинщиком многих каверз являлся Радий.
Я помню, отец был не согласен с Аркадием Вадимовичем, всегда заявлявшим, что в наше время воспитывать детей должны прежде всего школа и коллектив. Не знаю, считал ли Роев коллективом ораву сорванцов, с которой носился по базарам и пристаням его сын. Вернее всего, он просто, прикрывшись позаимствованной где-то фразой, меньше всего думал о том, как и где его сын проводит время.
Мои родители считали, что главная ответственность за воспитание их сына лежит прежде всего на них самих. Зимой они частенько, несмотря на мои отчаянные протесты и даже вопли, наведывались в школу, а летом, если им не удавалось устроить меня в пионерский лагерь, неизменно приглядывали за тем, что я делаю.
Я часто, наверное, даже каждый день, вспоминаю отца и думаю, что самым главным в моем воспитании он считал поддержание тесной, но не навязчивой дружбы, существовавшей между нами. Он никогда не кричал на меня, но, когда нужно, был строг; не перегружал меня работой по дому, но следил, чтобы свои обязанности я аккуратно выполнял. Мама поддерживала его в этом. Помню, раз мы все остались без обеда, потому что я, уходя в школу, забыл принести в кухню дров. Больше со мной этого уже не случалось.
Отец рано заметил во мне любовь к природе и был очень рад этой зарождавшейся страсти. По общему согласию каждый выходной день мы независимо от погоды уходили в тайгу или отправлялись на лодке вниз по реке. Зимой охотились с собакой на зайцев или ходили на лыжах до ближайшей деревушки, где и ночевали.
С нами ходили в тайгу не только няня Саша, но и три-четыре моих школьных товарища. Компания получалась дружная, веселая. Не обходилось, конечно, и без приключений: то кто-нибудь прожжет свои штаны, повешенные для просушки у костра, то, перебредая с тяжелым рюкзаком за спиной бурную речку, поскользнется на камнях и с головой нырнет в воду.
Теперь, глядя на суетившуюся у столе няню Сашу, я напомнил ей наши прогулки, ночевки в лесу, возвращения домой под проливным дождем.
Однако стол был накрыт.
- Садись, Иришка, будем гостя потчевать, - сказала няня Саша.
- Ты напрасно, няня Саша, беспокоишь Ирину Аркадьевну, - в шутку сказал я. - Еще будет ли она пить чай с милиционером. Ты бы посмотрела, как давеча в столовой все переполошились, когда узнали, с кем имеют дело.
Ирина поднялась и, сев рядом со мной на придвинутый няней Сашей стул, сказала:
- Уверяю вас, меня нисколько не удивило, что вы выбрали себе такую профессию. Она не хуже всякой другой. Впрочем, давайте переменим тему. Расскажите, как вы живете в Борске. Няне, наверное, будет интересно узнать, как вы устроились с хозяйством, женаты ли, сколько у вас ребят.
- Да, да. Выкладывай, как на духу, - потребовала няня Саша, подсаживаясь ко мне с другой стороны.
- Нечего выкладывать-то, - признался я. - Живу бобылем, снимаю комнату в доме одного рабочего. Его жена меня кормит, поит, а случается и поругивает. От нее нам всем достается.
- Кому это всем? - спросила няня Саша.
- Ну мне, ее старику и их дочке Гале. Эта Галя раньше у нас работала в комнате привода малолетних.
- Я как-то дежурила здесь в такой комнате, - сказала вдруг Ирина. И, встретив мой удивленный взгляд, добавила: - Мне комсомольский комитет поручал. И представьте себе, мне даже понравилось.
- Вот это здорово! - вырвалось у меня. - Да вы совсем молодец! Я с первого взгляда и не подумал бы.
- А со второго? - насмешливо спросила она. - Сколько вы взглядов потратили на меня в поезде? Я просто возненавидела вас тогда. Тем более, что совершенно не узнала. Вы сильно возмужали. Вижу, сидит человек и таращит глаза на меня. Терпеть не могу!
При этом воспоминании краска густо выступила у нее на щеках, и лицо стало еще милей. Я с трудом отвел глаза, чтобы опять не вызвать ее гнев, и попытался оправдаться:
- Я же вам объяснял, почему так получилось. Смотрю - лицо знакомое, а глазам не верю, что вас опять вижу.
- Ладно уж, нечего теперь напускать тень на плетень, - вмешалась няня Саша. - Знаем мы вашего брата, молодых парней, только завидите хорошенькую, так и начнете глаза пялить. Ты, поди, там у себя в Борске тоже не даешь девкам спуску? Чего глаза-то отводишь, давай признавайся. Небось и за хозяйской дочкой ухлестываешь?
Горячая краска внезапно прилила мне к лицу. А краснею я глупейшим образом, весь, до кончиков ушей, причем чаще всего совершенно напрасно. Здесь же няня Саша, сама того не подозревая, задела меня за больное место. Однако я постарался изобразить на лице полнейшее равнодушие и спокойно ответил:
- Некогда, няня, мне этим заниматься. И работы много и на работе нам ведь больше не с бумагами дело иметь приходится, а с людскими бедами, их в стол не сунешь, в сейф не запрешь. Приходится не считаться со своим временем. Иной раз соберешься в театр или в кино, а к тебе прибегает вдруг ревущая девчушка и кричит, что какой-то дядька ее мамку убивает. Мало ли бывает разных случаев.
- Трудная у вас работа, неприятная, - сказала сочувственно Ирина.
- Почему неприятная? Разве может быть неприятно помогать людям?
- Но все-таки, - поморщилась она. - Приходится иметь дело со всяким сбродом, с пьяными, с хулиганами, грабителями… Ходить с обысками, арестовывать. Наверно, это довольно противно.
- Н-не знаю, - покачал я головой. - Что касается меня, то я не нахожу ничего неприятного в том, когда мне после долгих поисков удается разыскать и арестовать преступника, хотя бы, например, такого мерзавца, как тот, который недавно у нас в Борске убил просто так, без всякой причины, почтенного человека - отца троих детей. Вы бы посмотрели, с какими жалобами к нам идут. Там обворовали до последней нитки целую семью, тут человека сшибла машина и скрылась, ребенок залез на дерево и не может слезть, убийства, драки, валяющиеся на улице в мороз пьяные, супружеские ссоры, квартирные склоки… Да всего и не перечислишь. Каждый раз, когда приходит человек или звонит телефон, знаешь, что случилась беда, с которой люди сами справиться не могут. У меня есть приятель, начальник милиции, так он всегда говорит в таких случаях: «Небось на свадьбу не позовут». Недаром, если вы заметили, номер телефона милиции в справочнике стоит рядом с номером пожарной части. О пожаре звонят по номеру первому, а о всяком другом несчастии по второму.
Тут я спохватился, что, наверное, наскучил своим собеседницам, и замолк, но обе они в один голос стали просить, чтобы я продолжал рассказывать о своей службе.
Стук в дверь прервал нашу беседу. Радий, не заглянув даже в комнату, сердито вызвал Ирину в коридор. Она вышла. Сквозь неплотно притворенную дверь было слышно, как он возбужденным шепотом что-то говорил ей. Она как будто возражала.
Когда Ирина возвратилась к нам, по ее виду я понял, что разговор с братом был неприятный. Лицо ее стало бледными и угрюмым, от прежней приветливости не осталось и следа. Молча, в тяжелой задумчивости, сидела она, водя ложкой по скатерти.
Между тем няня все допытывалась у меня, почему это в наше время все еще существуют преступники.
- И чего им, дьяволам, нужно? - возмущалась она. - Ведь теперь всякий может честным путем себе сладкий кусок заработать.
Я говорил ей о живучих пережитках прошлого, о некотором влиянии из-за рубежа, но больше всего остановился на том, что давно волновало меня самого.
- Не знаю, как в других местах, - сказал я, - но у нас в Борске еще как-то формально подходят к воспитанию молодежи. Считают, что ребят школьного возраста должны воспитывать родители и школа, а имеют ли они эту возможность, мало кто задумывается. Если в учебные часы педагоги еще более или менее приглядывают за ребятами, то во внешкольное время им, при их загрузке, некогда этим заниматься. Родители же у нас, как правило, заняты на работе, следовательно, если дома нет деда или бабки, ребята, придя из школы, предоставлены сами себе. Да и по вечерам отцу с матерью часто бывает не до них. Правда, есть у нас и лекции, и кружки, и физкультурные мероприятия, но ими охвачены только те, кто сам хочет заниматься, а о тех, кого ими не сумели заинтересовать, мало кто думает. Этим и пользуются всякие подонки, вербуя таких ребят в свои преступные шайки.
- Но ведь есть же специальные организации, которые должны заниматься вопросом воспитания детей, - возразила Ирина, не глядя на меня. - Не слишком ли вы сгущаете краски?
- Разве они одни могут справиться с таким большим делом? Коллективы всех заводов, фабрик, учреждений должны интересоваться тем, как воспитываются дети у каждого из их работников и, если потребуется, оказывать нужную помощь. Нужно добиваться такого положения, что если у кого в семье вырос мерзавец, то чтоб позор ощущал на себе весь коллектив, допустивший возможность такого явления. И милиции нужно, когда какой-нибудь мальчишка нахулиганит, вызвать к себе не только родителей, но и председателя месткома.
- Вам бы только вызывать, штрафовать, арестовывать, - вдруг явно недружелюбно сказала Ирина.
- Почему у вас такой тон? - удивился я. - Чем вам не угодила милиция?
- А с чего я должна ею восторгаться? Далеко не все, даже как будто и солидные люди, относятся с симпатией к милиции.
- А кто относится? Кто относится-то? - налетела на Ирину со своим обычным пылом няня Саша. - Только те, у кого есть причина бояться милиции. Зачем, скажи ты мне, путный человек начнет всякие зубоскальные шутки про них рассказывать да на смех их при народе поднимать? Тут Радька давно ли рассказывал, будто один нашелся, три рубля на копейки в банке разменял, а потом нарочно посередь улицы милиционеру подвернулся. А когда тот его отштрафовал, начал ему эти копейки отсчитывать, да еще, для смеха, нарочно со счета сбивается. А какой тут смех, когда человек для его же безопасности на улице поставлен. Да что далеко ходить, возьми хоть наших…
- Няня! - вдруг резко оборвала ее Ирина.
- Что - няня? Уж слова сказать мне не даешь? Все боишься, что я Раденьку - божка твоего затрону?
- Няня, я тебя прошу! - гневно проговорила Ирина, пристукнув ладонью по столу. Лицо у нее пошло красными пятнами.
Конечно, после такой сцены разговор у нас больше не клеился, и я поднялся с места, сославшись на неотложные дела. Ирина не сказала ни слова при прощании, даже не напомнив о своем намерении завтра посоветоваться со мной. Я недоумевал, что могло так резко изменить ее настроение.
Няня Саша вышла меня проводить. Мы дошли до угла. Я поинтересовался, что это за странного гостя я встретил у Роевых.
- А, этот черный-то? - переспросила няня Саша. - Не люблю я его, противный он. Еще когда трезвый, тогда ничего, вежливый такой, полированный, а как выпьет, то только держись, так из него грубость и лезет. Называется научный работник, а сам хам хамом! И вечно своими черными глазищами на Иришку зыркает, точно съесть хочет. Ты думаешь, чего он к нам ездит? Только из-за нее. Клара-то воображает, будто это она его приворожила. Мажется, рядится, в корсет свою тушу затягивает, а он на нее и смотреть не хочет. На черта ему эта старая рожа? Он все к Иришке льнет.
- Да кто он такой, - добивался я. - Где работает?
- Ветродуй какой-то. Как их там называют… ме-те-ри-олог, что ли? Ученые книжки пишет и большие деньги за это получает.
- Метеоролог? - догадался я.
- Ну да! Натощак и не выговоришь. Станция у него своя в Амелине. Избу у колхоза снял и на огороде у него там домики какие-то игрушечные на столбиках понастроены, будочки, лесенки беленькие. Я сама видела, когда мимо ехали. Ведь мы летом в Сосновке на даче живем. Из-за этой дачи мы и познакомились с этим черным идолом, чтобы его язвило, а теперь он пристал к нам, как репей к собачьему хвосту, не оторвешь.
Ему уж не шибко и рады. Ирка его терпеть не может, отец тоже, видно, раскусил, что это за фрукт такой, да только слова поперек ему сказать не смеет, какие-то у них там счеты-расчеты между собой есть, дьявол их знает, но только побаивается наш Аркадий Вадимович этого Арканова и лебезит перед ним всяко Зато фря эта рыжая, Клара Борисовна, так и тает, когда он с ней балясы точит. Ну, а Радьку, того с ним и вовсе водой не разольешь. Как Арканов приедет в город из своего Амелина, так они, что ни вечер, обязательно до утра где-то с ним пропадают. И чего только отец смотрит? Парень вовсе от учения и от работы отбился.
Мы долго стояли с няней Сашей на углу. Из ее взволнованного, пересыпанного далекими отступлениями рассказа я понял, что знакомство Роевых с Аркановым произошло этой весной, как только они поселились на даче в Сосновке. Я хорошо помнил эту таежную деревушку, бывал в ней не раз, купался в мельничном пруду, заросшем по берегам осокой, брал клубнику на залежах, рыжики по мелким соснячкам.
Няня Саша рассказала, что Аркадий Вадимович, связанный службой, не мог постоянно жить в деревне, и потому Радий приезжал за ним в город каждую субботу на «москвиче», специально купленном для этой цели. Кстати, с покупкой «москвича» была связана какая-то серьезная неприятность для Роева, из которой его будто бы выручил Арканов, но о ней няня Саша не стала рассказывать, торопясь выложить все, что знала про Арканова, который стоял ей как кость поперек горла.
В дом Роевых ввел его Радий. Проезжая через Амелино в город, он увидел Арканова, «голосовавшего» у края дороги, и подвез его до города. В дороге Арканов забавлял Радия анекдотами и так сумел ему понравиться, что несколько дней после этой встречи у парня только и было разговоров, что о новом знакомом. Вскоре Арканов сам приехал в Сосновку на велосипеде и, узнав, что Роевы пошли в лес, разыскал их там и присоединился к компании. Оказалось, что он и раньше был знаком с Кларой Борисовной, а тут и вовсе стал с ней на короткую ногу. Она будто бы чуть на шею ему не вешалась. «И что у них там по кустам было, - добавила няня Саша, поджав губы, - уж я и не знаю и знать не хочу».
Эту часть ее рассказа я оставлял целиком на ее совести, зная, что если одна женщина ненавидит другую, то всегда готова раскрасить ее биографию какой-нибудь пикантной подробностью, основываясь только на собственных домыслах.
Познакомившись ближе, Арканов зачастил на дачу к Роевым, привозя с собой вина и закуски. Чтобы провести время, играли в дурачка, в акульку, потом Арканов научил всех игре в девятку и в двадцать одно. Игра шла на спички, но когда дамы уходили купаться или отдыхать и мужчины оставались одни, то в банке вместо спичек появлялись деньги - и довольно крупные, а на выигрыш покупалось вино. Арканов пил много и делался при этом злым и нахальным. Весь его лоск, вежливость и внимательность испарялись. Радий же, напившись, хворал весь следующий день, клялся больше не брать в рот и капли, а вечером, если приезжал его приятель, забывал о своем обещании.
- Сколько с ним Иришка мучений приняла, - жаловалась няня Саша. - Ведь она хоть и моложе, а разумней и, точно мать, о нем заботится. Уж она и стыдила, и просила его, а он пообещает, даже заплачет, бывало, когда она его шибко проберет, но только чего стоят эти пьяные слезы! Стала она как-то отцу говорить, чтобы тот выгнал из дому этого гостенька дорогого, так ведь знаешь нашего отца, какой он? Мотылек! Ему бы на сцене играть да перед бабами, как петуху, крылом по пыли чертить. Разве он о своем доме думает? А тут у него какая-то новенькая на стороне завелась. Он, может, и рад был, что есть кому его Кларочку забавлять. Да только не в Кларочке тут дело.
Мы постояли с няней, поговорили, но вечер был довольно прохладный, и я, опасаясь, что старушка простудится в своем платке, поторопился распроститься, пообещав, что еще зайду к ней.
Перед сном, лежа на довольно жесткой койке общежития, я перебирал в уме события этого дня, думая, отчего мне не спится, почему я поминутно вздыхаю и чувствую сладкое стеснение в груди. Нечего было искать этому причин. Так сильно меня взволновала, конечно, неожиданная встреча с Ириной. Однако то тревожное чувство, которое все больше охватывало меня, было неизмеримо сильней прежнего робкого, полудетского обожания, и ничем оно не напоминало те кратковременные увлечения, которые, признаюсь, по временам довольно крепко овладевали мной. Чистое, как родник, это чувство было лишено страстных грез и томлений. Оно было скорей преклонением, чем влюбленностью, стремлением защитить, спасти от бед это юное, чистое, прекрасное существо, с которым судьба меня столкнула, наверное, не зря. Мне хотелось любыми жертвами преодолеть все трудности и помочь Ирине, спасти от угрожавшей ей опасности, чтобы выражение тоски и муки больше не появлялось на ее милом лице, которое так четко стояло перед моими глазами, точно я видел его наяву. Но временами другое лицо заслоняло эти черты, и другие глаза смотрели на меня с немым укором. Но они напрасно так на меня смотрели. Я не виноват был перед ними, поймите меня: не ви-но-ват!
Глава восьмая КАК Я МОГЛА ЕМУ ПОВЕРИТЬ? (Из дневника Ирины Роевой)
Какой позор и стыд! Как я могла поверить такому человеку? Что у меня глаз не было, чтобы разглядеть, кто он такой? Никто никогда не обманывал меня так, как обманул Дмитрий Карачаров.
Вчера, когда он сидел у няни, меня вызвал в коридор страшно взволнованный Радий. Он отвел меня подальше от двери и торопливо прошептал:
- Знаешь, зачем к нам явился Дмитрий? Оказывается, его подослали шпионить за нами. Мне сейчас под большим секретом сказали об этом.
- Кто сказал?
- Не все ли равно. Ты слушай, что я тебе говорю. Чтобы отомстить мне, он сам, подлец, оказывается, вызвался на это. Имей в виду, что каждое даже самое простое слово, которое ты ему скажешь о ком-либо из нас, может погубить отца.
- Почему отца?! - воскликнула я в ужасе. - Что он такое сделал, чтобы за ним стали следить?
- Молчи, если ничего не понимаешь! - прикрикнул на меня Радий. - На него донесли, и ему грозит чертовская неприятность. А сейчас иди, сиди там с ними и не подавай вида, что знаешь о нем, но молчи, ради бога молчи. Я боюсь, что ты и так наболтала слишком много.
Что такое произошло? Я и мысли не допускала, что отец мог совершить преступление. Наверное на него наклеветали его сослуживцы. Отец часто жаловался на них. Почему-то на работе его не любили. Положим, характер у него такой, что сам он готов обидеть любого, но преступником он не мог стать. Против этой мысли восставало все мое существо и я готова была на что угодно, только бы защитить его от клеветы.
Вернувшись в комнату няни, я постаралась выполнить просьбу Радия и, не подавая вида, молча сидела и с ненавистью слушала, что с самым невинным выражением лица говорил этот отвратительный человек, который всего несколько минут тому назад казался мне добрым, умным, хорошим.
Когда он ушел, я бросилась к Радию, чтобы узнать от него всю правду, но его не было дома.
Сейчас уже ночь, но он еще не возвратился. Я буду его ожидать. Все равно мне не заснуть. Тоска и отчаяние…
Радий вернулся только на рассвете злой и навеселе.
- Что тебе? - буркнул он, когда я вошла к нему в комнату.
- Мне нужно знать правду. Признайся, ты все налгал вчера, чтобы очернить в моих глазах Дмитрия. Это тебе Арканов велел? Ты не постыдился даже оклеветать отца.
- Оклеветать? Ха-ха! Дура ты слепая. Разве ты ничего не видишь? Скажи, почему он ходит теперь как в воду опущенный? Почему пляшет перед Аркановым на задних лапках? То-то и оно! Так и быть, я тебе открою его секрет, только ты помалкивай. Когда отец купил машину, то залез в долги. Это ему было не по шерсти, и он, чтобы разделаться с ними, уговорил своего бухгалтера состряпать какой-то денежный документик, по которому они получили крупный куш. Однако кто-то что-то пронюхал и начал раскапывать это дело. Отец с бухгалтером чуть не забрякали под суд. Хорошо, что Арканов выручил - дал отцу денег внести в кассу. Но, видно, все-таки хвосты остались.
- А причем здесь Дмитрий?
- Как причем? Я же тебе говорил, что его подослали разнюхать про нас. Нашлись у папаши дружки, которые хотят спихнуть его, вот и раскапывают старые грешки. А для него сейчас разоблачение - смерть. Он спит и видит себя директором. А если вокруг него поднимут эту муть, то разговор пойдет не о директорском кресле, а о скамье подсудимых. Поняла? И как тебе не стыдно, любимой его дочке, добиваться для него такого конца?
- Ты с ума сошел, Радий! Чем же я этого добиваюсь?
- А тем, что шепчешься вместе с нянькой у нас за спиной с разными подосланными шпионами. Плетете им про нас неизвестно что. Не зря же ты нынче заявила отцу, что не хочешь, чтобы его повышали.
Слова Радия об отце так потрясли меня, что я была не в силах спорить. Невольно мне припомнилось, что действительно у отца была какая-то неприятность, связанная с покупкой машины, но в чем она заключалась, я не знала.
«Пойти прямо к отцу и спросить?» - думала я. Но из этого ничего хорошего не могло выйти. Страшно подумать, но за всю жизнь мне ни разу не удалось ни о чем поговорить с отцом серьезно. Сколько раз я заводила с ним разговор о Радии или о том, как отец относится к нам с няней, но всегда такие разговоры заканчивались с его стороны или милыми шуточками, или диким криком.
Недавно отец обмолвился за столом про кого-то из своих сослуживцев: «Еще смеет мне дерзить! Ох и запоет же он у меня, когда я стану директором».
Я тогда, не удержавшись, сказала ему:
- Хоть бы тебя не назначали директором.
Противно вспомнить, что тут поднялось. Я убежала, чтобы не слышать сыпавшихся на мою голову упреков и оскорблений. Теперь Радий припомнил мне эти слова. Он такой же, как отец. Вечно кричит, если ему противоречат.
Сегодня он тоже начал было кричать, возводя на меня всякие невероятные обвинения, и вдруг, обняв меня, заплакал и стал называть сквозь слезы, как когда-то в детстве, тем именем, которое он сам придумал:
- Гуленька, - шептал он, - пощади отца. Неужели этот шпион дороже тебе нас всех? Прости, что я часто тебя обижаю. Ведь я люблю тебя, как прежде. Если ты выполнишь мою просьбу и выгонишь от нас Дмитрия, то я стану совсем другим. У тебя не будет больше причин ругать меня. Мне самому страшно тяжело так жить.
Решимость моя пошатнулась. Эта ласка, которой я столько лет не видела от брата, заставила меня сдаться и согласиться поступить так, как он хочет. Это будет невероятно тяжело для меня. Я ведь ничего не знаю… А вдруг Радий мне все налгал про Дмитрия?
Глава девятая И НЕУДАЧА, И ОБИДА
Девушка - секретарь полковника, которой я уже, наверное, надоел телефонными звонками, интересуясь, не приехал ли начальник, наконец ответила: «Только что явился и прежде всего спросил о вас». Пулей вылетев из телефонной будки, я чуть не бегом помчался в управление. Когда я вошел в приемную, раздался как раз звонок из кабинета - это полковник опять справлялся, не пришел ли я.
«Хоть бы оставил меня работать в Каменске», - подумал я, входя в кабинет и рапортуя о своем прибытии.
Полковник, невысокий, широкоплечий, с гладко выбритой блестящей головой, собрал гармошкой свой иссеченный вдоль и поперек морщинами лоб, вглядываясь в меня зоркими, острыми, как иглы, глазами, которые казались еще более острыми из-за того, что их маленький черный зрачок резко выделялся на светло-серой радужной оболочке.
- В нашем распоряжении ровно четверть часа, - сказал он, сдвинув край рукава с квадратных часов в стальном браслете, - но это немалое время, если умело им распорядиться. Прежде всего доложите обстоятельства дела, ради которого вы приехали, и какие меры вами приняты.
Я чувствовал, что сейчас придется держать нечто вроде экзамена, и приободрился. Стараясь не торопиться (есть у меня этот грех), я коротко, в сжатых фразах, обрисовал картину преступления, совершенного в магазине № 13, продемонстрировал фотоснимки, слепок одного из обнаруженных следов и развернул на столе газету, явившуюся для нас путеводной нитью. Затем я рассказал о ходе дальнейшего расследования, аресте Шандрикова и закончил кратким изложением его показаний, взятых мною из протокола допросов.
Времени мне хватило в обрез, и как только стрелка стенных часов проползла отведенные пятнадцать минутных делений, я окончил доклад.
Полковник, слушая меня, потушил окурок о пепельницу, плавным, размеренным движением придвинул полупустую коробку «Казбека», достал и закурил новую папиросу, а обгорелую спичку и окурок аккуратно упрятал в коробок. Во время этой процедуры его глаза то и дело останавливались на мне, внимательно и придирчиво изучая мое лицо, выправку, каждое движение. Под его оценивающим взглядом я невольно вытянулся еще прямей, расправил плечи и стал внимательно следить за каждым своим словом.
Полковник задал несколько вопросов и, как бы завершая эту часть нашего разговора, сказал:
- Это не случайное преступление, как можно предположить на первый взгляд. Здесь чувствуется рука крупного преступника. Конечно, Шандриков - не больше как пешка, и другие участники или участник тоже, может быть, пешки, но что ими руководил опытный стреляный волк, организовавший уже не одно такое преступление, это несомненно. В этом деле чувствуется определенный почерк и, мало того, знакомый почерк. Эта проделка с галошами нам уже попадалась, если не ошибаюсь, в Енаевске. Трое громил, чтобы скрыть свои следы, нарядились в новенькие галоши одного и того же большого размера. Но это им не помогло - все они сели за решетку. Вероятно, то же самое ждет Шандрикова с приятелями. Но дело не только в них. Нужно разыскать их вдохновителя, того самого, который подготовил преступление, разузнал, когда в магазин будет завезена партия дорогих товаров, направил их на машине в Борск, а сам в укромном местечке спокойно ожидал результатов. Явно, что тут кто-то ведет большую игру, оперируя несколькими преступными группами, которые он перебрасывает из города в город. Ведь и в Енаевске тогда орудовали не местные, а приезжие бандиты, да и не только в Енаевске…
У нас уже сложилась в отношении подобных дел кое-какая версия, и теперь для работы в этом направлении мы подбираем группу товарищей. Собственно, я и вызвал вас сюда для того, чтобы включить в эту группу. Как вы на это смотрите?
- Буду очень рад, - ответил я, чувствуя, что желание мое сбывается.
Между тем полковник продолжал:
- Я полагаю, что капитану Нефедову можно будет дать другого старшего уполномоченного. Вас он уже порядочно поднатаскал. Кстати, давайте, пользуясь случаем, потолкуем о некоторых ваших особенностях. Когда я был последний раз в Борске, некоторые районные работники жаловались, что вы кое-кому, как говорится, не взирая на лица, не даете покоя: будто бы в недопустимо резкой форме требуете, чтобы больше обращалось внимания на воспитание молодежи, на работу клубов, стадионов и катков. На мой взгляд, вы это правильно делаете. Если некоторые люди глухи, то волей-неволей приходится кричать, чтобы они услышали. Молодежи нужно дать возможность культурно и весело отдыхать и развлекаться. Хорошо и то, что вы наладили тесную связь с комсомолом. Однако это пока и все, за что вас можно похвалить, хотя Нефедов пишет, что очень доволен вами. Дело в том, что в своей работе вы слишком полагаетесь на интуицию и допускаете серьезные технические ошибки. Только по счастливой случайности они вам удачно сходили с рук.
- Разрешите узнать, в чем заключаются мои ошибки? - спросил я, задетый за живое.
- Могу сказать. Помните дело Гаркуши? Правда, вам удалось завершить его, однако в той части, которая была связана непосредственно с розыском, вы проявили недостаточно выдержки, пренебрегли детальным изучением места и обстоятельства преступления. Опытный преступник мог вас обвести вокруг пальца.
Я видел, что полковнику известны такие детали проведенных мною дел, на которые я в свое время не обратил внимания. Видимо, этот старый сыскной асс внимательно следил за тем, как работает каждый винтик сложной машины, которой он руководил. Невольно приходили на память другие мои промахи и ошибки. «Знает ли он о них?» - думал я. Оказалось, что о некоторых знал.
Довольно долго продолжалась наша интересная беседа. Не раз за это время я вырастал на целый вершок, когда полковник - правда, довольно скупо - отмечал мои удачи, но частенько приходилось мне поникать головой, когда он упоминал о моих промахах. В заключение, перейдя на дружеский тон, полковник сказал:
- На прежнее место ты уже не вернешься. Туда мы пошлем другого, а тебе я поручу пока одно дело, в котором, мне кажется, наши товарищи порядочно напортачили. Если тебе пошел впрок наш разговор, то, я думаю, ты не только сможешь найти и исправить чужую ошибку, но и сумеешь определить, не относится ли это дело к числу тех, о которых мы с тобой сегодня толковали. Что-то оно мне кажется подозрительным.
Вкратце он изложил суть преступления, которое недавно было совершено в селе Озерном, расположенном в четырех часах езды по железной дороге от города Борска.
Неделю тому назад там был убит одиноко живший после смерти своей жены старик, пенсионер Глотов. Знакомств он почти ни с кем не водил, жил замкнуто, и никто из соседей не замечал, чтобы в последнее время к нему хотя бы кто-нибудь заходил.
Убийство, как считают, было произведено с целью грабежа. Преступник, явившийся к старику, тут же, в кухне, у порога, разрубил ему голову и тем же топором взломал сундук, а затем удалился, забрав с собой сапоги, выходной костюм и облигации займов, принадлежащие Глотову.
Об убийстве Глотова заявил в милицию фельдшер Пальмин, который зашел забрать свои газеты, взятые Глотовым для проверки таблицы выигрышей по займу. Обычно старик аккуратно возвращал их сам, а на этот раз что-то не принес.
Дверь дома Глотова фельдшер нашел приоткрытой, а старика лежавшим на полу с разрубленной головой. Листок со списком номеров облигаций валялся под столом.
Сотрудники милиции, немедленно явившиеся на место, приняли меры к розыску преступника и похищенных вещей. В тот же день они задержали на рынке женщину, продававшую костюм и сапоги Глотова. Это была жена некоего Семина, несколько лет тому назад осужденного за ограбление квартиры и недавно освобожденного по амнистии.
Семин был тотчас же арестован. На допросе он совершенно отвергал свою причастность к преступлению, заявляя, что узел с вещами нашел утром у себя во дворе, возле забора. Но такое объяснение показалось неправдоподобным, и ему предъявили обвинение в убийстве Глотова. Между тем по имеющимся данным видно, что Семин, вернувшись из лагеря, усердно работал и вел честную жизнь. Неясно, почему он пошел на убийство. Это и нужно выяснить.
Закончив изложение дела, полковник замолк, склонив в сторону голову и испытующе глядя на меня, точно ожидая какого-то заключения. Материал был очень уж скудный, однако, вспомнив наш разговор о моих промахах, я сказал:
- Мне не пришлось быть на месте преступления и изучить как следует обстоятельства убийства, но, припоминая, как вы ругали меня за поспешные выводы, думаю, вы и здесь опасаетесь, что следствие пошло по наиболее легкому пути, может быть даже подсказанному самим преступником, который нам пока еще неизвестен.
Полковник усмехнулся:
- Видно, мое замечание пошло впрок. Что ж, неплохо, если так! Я тоже не был в Озерном за эти дни и не могу судить, насколько правильно было произведено расследование, но считаю, что нужно поглубже разобраться в этом деле. Нельзя забывать, что ошибки в нашей работе всегда влекут за собой тяжелые последствия. Может пострадать ни в чем не повинный человек, а действительный преступник, которого нам не удалось обнаружить, ободренный своим успехом, может пойти на еще более дерзкие и опасные преступления. Поэтому, какое бы дело ты ни вел, старайся докопаться до самых его корней. Это особенно важно в данный момент, когда мы подчас имеем дело не с обычными уголовными преступниками, действующими на свой риск и страх, а с бандитами, которыми руководят опытные главари.
Поднимаясь из-за стола и давая этим понять, что разговор окончен, полковник добавил:
- Я думаю, что ты с этим делом справишься. Смекалка у тебя есть, только нужно, понимаешь… глубже пахать.
Я вышел из управления, размышляя: «Что же в конце концов получилось? Мое желание навсегда расстаться с Борском и некоторыми его обитателями как будто бы сбылось, но как ни странно, это не доставило мне радости, даже наоборот, что-то тоскливо защемило на сердце. Также оставалось неизвестным, буду ли я жить в Каменске. Об этом полковник сказал неопределенно, что-то вроде: «Посмотрим как у тебя пойдут дела…».
Не замечая чудесного осеннего дня, сиявшего солнцем и золотом тополей, я медленно шел по улице, сам не зная куда, обдумывая свое положение и еще кое-что, и вдруг поймал себя на том, что покусываю ногти на пальцах. Вот уже разодолжил! Вообще у меня никогда не было такой отвратительной привычки, и уж если я дошел до этого, то значит вовсе потерял контроль над собой, что нашему брату не к лицу. Пришлось взять себя в руки, подтянуться и постараться выбросить из головы кое-какие беспокойные мысли. Но это плохо мне удавалось.
Два голоса спорили во мне. Один - рассудительный, говорил, что нужно пойти попрощаться перед отъездом с няней Сашей. Другой - насмешливый, язвил: «Скажи уж лучше честно, что хочешь повидать Ирину. Но ты ей совсем не нужен. Вчера, под конец разговора, она держалась с тобой так недружелюбно, что после этого лезть к ней на глаза просто неловко».
- Все равно пойду! Я обязан, раз она сказала, что хочет говорить со мной, и наконец я не могу уехать, не взглянув на нее последний раз.
«Значит, платоническое увлечение? Понятно! - издевался насмешливый голос. - Тогда иди, вздыхай, томись».
- Я и так иду!
Чтобы не встречаться с Кларой Борисовной или Радием, я постучал в дверь с черного хода, рассчитывая, что застану няню Сашу в кухне. Чей-то голос ответил мне:
- Открыто, входите!
В кухне, у плиты, с ложкой в руке стояла Ирина. Помня, как холодно она простилась со мной вчера, я сказал только:
- Здравствуйте! Сегодня, значит, вы на кухне за главного? А где няня Саша?
Я полагал, что она протянет мне руку или хоть даст понять, что я могу первым подать ей свою, но ошибся. Не глядя на меня, машинально помешивая ложкой мелко нарезанный лук, кипевший в масле на сковородке, Ирина явно недружелюбно проговорила:
- Няни нет дома, и придет она очень нескоро. Вам нет смысла ее ждать.
- Ясно! - громко вырвалось у меня. До боли крепко закусив губу, я стоял, машинально ударяя себя по ладони кепкой. Нужно было повернуться и уйти, может быть, даже не попрощавшись.
Ирина искоса взглянула на меня, и в этом осторожном взгляде я прочел и враждебность и опасение.
- Пожалуйста, когда выйдете, закройте за собой покрепче дверь, - глухо, точно через силу сказала она.
Это уже было оскорбление. Она выгоняла меня. Обида клокотала во мне, и я еле сдерживался, чтобы не ответить слишком резко. Но что могло заставить ее так перемениться ко мне? Верней всего, что Радий, вызвав ее вчера во время нашей беседы, заставил ее так держаться со мной, чтобы я больше никогда не перешагнул их порога. Но ведь он же сам затащил меня к себе. Или он боится, что я смогу помешать их затее выдать Ирину за Арканова? Но здесь не место было раздумывать.
- Прощайте, Ирина Аркадьевна, - сказал я, кланяясь. - Я не сержусь на вас за ваш умышленно обидный тон. Я понимаю, вы хотите, чтобы я ушел и больше не появлялся. Пожалуйста, это нетрудно сделать.
Она пожала плечами и, не оборачиваясь, ответила:
- Вы ошибаетесь. Меня не интересует, где вы находитесь, здесь или за порогом.
- Видимо, это неправда, иначе вы не меняли бы так быстро своего отношения ко мне. Это Радий запретил вам продолжать знакомство со мной.
- Мне никто ничего не запрещал! - с отчаянием выкрикнула она, круто повернувшись ко мне. - Просто я решила не расширять круг своих знакомых за счет людей вашей профессии. Вы сами должны понимать, в чем тут дело. - И, вновь отвернувшись к плитке, она стала усердно мешать зарумянившийся докрасна лук.
- Вы правы, я знаю, в чем тут дело. Радий опасается, что, посещая ваш дом, я могу заинтересоваться, почему и он и ваш отец против вашей воли толкают вас в объятия человека, который вам противен. Что заставляет их подчиняться ему, лебезить перед ним? Чем он их купил? Что же вы молчите?
Ирина стояла бледная, без кровинки в лице, однако у нее еще нашлись силы рассмеяться, хотя смех этот был больше похож на рыдание.
- Вы смешите меня, - сказала она, по-прежнему избегая моего взгляда. - У вас, вероятно, выработалась мания преследования, вы готовы подозревать всех, кто попадется вам на глаза. Кстати, - тут она, прищурившись, взглянула на меня, - не бывает ли так, что когда вы идете по улице со знакомой девушкой, то прохожим кажется, будто вы ведете в милицию задержанную воровку?
Это уж была провокация, но я не поддался на нее.
- Смейтесь, если вам весело, - сказал я ей, - но когда вам потребуется настоящий друг, который мог бы помочь вам, то позовите меня.
Ирина сделала вид, точно не слышит моих слов. С каменным выражением лица она продолжала мешать ложкой на чадившей сковородке уже почти черные кусочки лука. И тут в наступившей тишине вдруг явственно послышался легкий скрип, и дверь, ведущая в комнаты, чуть-чуть приоткрылась. Кто стоял за ней? Кто подслушивал нас? Я хотел это узнать и, шагнув к двери, резким рывком, распахнул ее. За ней стоял Арканов. Вид у него был, как у разъяренного тигра.
- Что вам здесь нужно? - рявкнул он.
- Ничего особенного. Я хотел только закрыть дверь, а то дует в щель. Вы можете простудиться.
- Позаботьтесь-ка лучше о своем здоровье, - выговорил он, еле сдерживая себя. - Что вы ходите сюда, надоедаете людям, которые не хотят вас знать?
- Прекратите этот разговор! - закричала на него Ирина. - Сколько раз я запрещала вам шпионить за мной и вмешиваться в мои дела! Теперь вот назло вам я буду с ним говорить, а вы уходите отсюда! - И она показала ему на дверь.
К моему удивлению, Арканов повиновался и, как побитая собака, вышел прочь.
- А теперь идите и вы, - повернулась ко мне Ирина, но сказала это уже другим, не заносчивым и злым, как прежде, а усталым, измученным тоном. - И не очень сердитесь на меня за то, что я вам наговорила. Я страшно несчастна. Может быть… когда-нибудь я попрошу вас… помочь мне. А впрочем, наверное, никогда!
Глава десятая СЛЕДСТВИЕ
До отъезда из Каменска я успел еще раз повидать следователя, который вел дело об ограблении магазина № 13. Он сказал, что Шандриков продолжает запираться, уверяя, будто газету, взятую им у Фокиной, он потерял на рынке, куда ходил за мясом. Он также категорически отрицает, что жег в печке галоши. Но анализ взятой из печи золы ясно показал, что там был сожжен какой-то резиновый предмет.
- Ничего, не сегодня, так завтра он сознается, - обнадежил меня следователь. - А в крайнем случае обойдемся и без его признания, улик и так достаточно. Оказывается, всю мануфактуру они, то есть Шандриков с каким-то «Пуделем», которого уже разыскивают, завезли по пути из Борска на станцию Озерное и сложили в амбаре у некой Зыриной. Та должна была шить из этого материала платья и костюмы и исподволь их сбывать. А она поторопилась и распродала несколько отрезов, в том числе один своей соседке. Соседка похвасталась подругам по работе. Их разговор случайно слышал экспедитор, бывавший в Борске и знавший, что там недавно ограблен магазин. Он сообщил о подозрительных отрезах в милицию.
На допросе Зырина быстро призналась, откуда у нее в амбаре целый склад мануфактуры, и выдала Шандрикова и «Пуделя». Скоро ее должны были доставить в Каменск, и следователь рассчитывал, что на очной ставке Шандриков сдастся и расскажет, как все было.
Итак, когда я расстался с делом об ограблении магазина № 13, оно было на пути к завершению. Мне больше не пришлось им заниматься, но одна из его, казалось бы, незначительных деталей сыграла свою роль в другом более сложном деле.
Пожелав следователю успеха, я отправился на вокзал, стараясь не думать ни о чем, кроме предстоящего расследования убийства пенсионера Глотова. С вокзала я послал няне Саше открытку, извинился, что не смог проститься с ней лично.
В Озерном меня не ждали, и мой приезд был, видимо, не особенно приятен начальнику районной милиции капитану Коровину.
- Что это полковнику вздумалось послать вас сюда? - недовольно спросил он, болезненно морщась и потирая левую щеку, распухшую от внушительного флюса, перекосившего всю его худую, желтую физиономию с тонким орлиным носом и придававшего страдальческое выражение выпуклым светло-голубым глазам, испещренным красными жилками. - Что мы сами с таким пустяковым делом не можем справиться, что ли? Это я знаю, опять прокурор ему звонил. Кажется, чего бы ему еще нужно: преступник обнаружен, задержан и даже не запирается, что сам отправил жену продавать на рынок украденные тряпки. А если он не сознается в том, что убил Глотова, то вы же сами знаете, что это за публика. Ведь недаром этот самый Семин уже судился и отбыл семь лет в лагерях, значит, немалую школу прошел. От такого типа признания не жди.
Я понимал капитана и сочувствовал ему. Кому, скажите пожалуйста, может понравиться приезд человека, который обязательно начнет копаться в деле, наводить критику, приставать со всякими вопросами. При этом, хотя он и моложе, а иногда и ниже по званию, но в голосе у него будет звучать этакая, если и не начальническая, то, во всяком случае, требовательная нотка только потому, что в кармане у него лежит командировочное удостоверение с подписью высшего начальства.
Я, конечно, не отношу себя полностью к подобным командированным, но должен признаться, проверяя чью-нибудь работу, мало забочусь о том, чтобы оставить о себе приятное воспоминание. Видя чужие ошибки, я не считаю нужным деликатно заминать их, и если с моими выводами не соглашаются, намекая на мою молодость, неопытность и излишнюю пылкость, то я лезу тогда напролом, довожу дело до высших инстанций, а подчас и до партийных организаций.
В данном случае до этого не дошло. Разобравшись с делом, я нашел в нем целую кучу неясностей и, договорившись с прокурором, взял на доследование.
Осмотр дома Глотова мне ничего не дал. Времени уже прошло порядочно, и следы, и оттиски пальцев убийцы, если они и имелись, теперь были уничтожены толпой любопытных, побывавших в этом доме с тех пор, как с него была снята охрана.
Заинтересовавшись списком облигаций, я проверил по тиражным таблицам, не выпало ли на эти номера крупных выигрышей, что могло бы объяснить причину убийства, но ничего не обнаружил. Однако список мог быть важным вещественным доказательством в случае, если бы нам удалось у кого-нибудь обнаружить похищенные облигации.
Я вызвал к себе в кабинет Семина, которого обвиняли в убийстве. Он произвел на меня пренеприятное впечатление. По виду его можно было отнести к такому типу людей, про которых в народе говорят: «сорок два несчастья». Отпечаток приниженности и растерянности лежал не только на его заросшем черной щетиной, оплывшем, грушевидном лице с утиным, расплюснутым на конце носом, печально свисающим к тонким синеватым губам, но и на всей его нескладной фигуре с покатыми плечами и тонкими кривыми ногами в заплатанных грязных штанах. Маленькие, быстрые, как испуганные мыши, глазки Семина бегали по сторонам, веки поминутно моргали.
Держался Семин так же, как и большинство подследственных, не раз уже до этого побывавших под судом и в тюрьме, то есть старался отрицать буквально все. Так, например, он заявлял, что вовсе не знал Глотова, хотя свидетели утверждали, что весной он помогал Глотову садить картошку.
- Разберитесь, гражданин начальник, в моем деле, - канючил он. - Зря меня попутали. Подкинул мне какой-то черт эти тряпки, чтобы засыпать меня, а я, истинный господь, не пришивал Глотова. На черта мне это сдалось? Я и раньше в мокрые дела никогда не ввязывался, а теперь и вовсе. У меня… - Тут он помедлил и продолжал с некоторым смущением, почти шепотом: - Жена у меня на сносях. Конечно, уже и годы немолодые, но вот ребенка ждем. Была у нас девчонка, так померла, пока я в лагерях отбывал. А теперь я зарок себе дал остепениться… Работать начал. Хоть спросите, третий месяц на углярке работаю. А тут… такое вдруг. Черт меня дернул на эти тряпки польститься. Утром вышел, смотрю - лежит узел. Мне бы его выкинуть подальше, а я, дурак этакий, значит, пожадничал, прибрал его.
Мне казалось, что Семин не лжет. Пока он говорил, я смотрел на его руки, черные, мозолистые, похожие на клешни.
- Кем был в лагерях? - спросил я его.
- Да кем, известно, мужиком, работягой. Вкалывал на совесть. Норму выполнял. Надеялся, что срок сократят…
- А кто, по-твоему, мог тебе подкинуть вещи Глотова? Кто такую пакость тебе подстроил?
Семин тут и вовсе отвел глаза в сторону:
- Почем же я знаю, - загнусил он. - Мало ли сволочей на свете?
- Тогда скажи-ка, виделся ли ты недавно с кем-нибудь из тех, с которыми отбывал наказание в тюрьме или в лагерях, и кто из них знает, где ты живешь?
Семин уныло молчал.
- Вот что, - заявил я ему, - вполне возможно, что Глотова и действительно убил не ты, а кто-то другой, но если ты будешь его покрывать, то этим сам поставишь себя в очень тяжелое положение на суде.
- Да вот те крест, ни при чем я тут! - закричал Семин, стуча себя кулаком по узкой, впалой груди.
- Тогда говори чистую правду, кто мог тебя впутать в это дело? Может, враги у тебя были?
Семин опять сник, опустив с безнадежным, подавленным видом свою коротко остриженную, начинающую седеть голову.
- Ну, если не хочешь говорить, твое дело, тогда нам с тобой нечего и время терять, - с этими словами я потянулся к звонку, чтобы вызвать конвой.
Семин вдруг встрепенулся, заволновался, запыхтел. Осмотревшись боязливо по сторонам, он махнул рукой и проговорил сдавленным голосом:
- А, все равно пропадать!.. Скажу уж. Только вы не записывайте. Как бы не дошло… У него ведь везде дружки.
- У кого это, о ком ты?
- Да был у нас в лагерях один, Королем его звали. «Вор в законе» и все такое. Ребята поговаривали, что за ним сроку было больше, чем на сто лет. Но только с нами он сидел по пустяковому делу и не под настоящей своей фамилией - Ивановым звался, и числилось, что это первая его судимость.
Нас всех он в кулаке держал, и мы боялись его страшно. Пикнуть, бывало, не смели. Чуть кто голос супротив его подымет, то быть тому проигранным…
Полагая, что я не знаю, что значило раньше в лагерях «проиграть» человека, Семин пояснил:
- Сядут они в карты играть впятером или вшестером, самые что ни на есть отчаянные, «воры в законе», как у нас называются, оценят чью-нибудь голову рублей в пятьсот или в тысячу и играют на него, будто это лошадь или вещь какая, а он и не чует, что его жизни конец приходит. Потом, кто проиграет, тот должен «пришить» того бедолагу, которого, значит, проиграли, иначе его самого обязательно прикончат. Иному такому человека убить - что раз плюнуть, если у него и так сроков до конца жизни хватит. Ну, присудят ему еще двадцать пять лет - будет у него семьдесят или вся сотня. Тогда ведь к расстрелу не приговаривали, ну и не боялись такие люди хоть кого подколоть.
Для другого, хоть для того же Короля, про которого я говорю, человека прикончить одно только удовольствие было. Ведь он всю свою семью и то порешил.
- Как же это так случилось?
- А очень просто. Уж очень ему хотелось, чтобы его все уважали, боялись и считали настоящим «вором в законе». Вот он как-то всех своих - отца, значит, старую бабку, которая его вырастила, и двух сестренок малолетних - проиграл поодиночке. И как только из тюрьмы вышел, пожил у них денька два, а потом зарезал их всех ночью. С тех пор, куда только он ни попадает, - в тюрьму ли, в лагерь, - все его трепещут, потому что для такого козыря лишить человека жизни ничего не стоит. И к тому же был он мастер своего дела, такой техник, что старые воры, глядя на него, диву давались. Замок открыть без ключа, кошелек вытащить, в карты обыграть - все это он мог так ловко, что комар носу не подточит. И грамотный был, печать любую подделывал. С начальниками всегда держался строго, кричать на себя не давал, законы все почище адвоката назубок знал. Заявление там какое или апелляцию состряпать - все к нему шли, в этом уж он никому не отказывал. Недаром на адвоката, говорят, учился. Но работать в лагерях он никогда не работал. Это уж мы за него отдувались. Начальники сколь раз, бывало, пытались добиться, чтобы он за кайлу взялся, так куда тебе! До голодовки дело доходило. И на допросах стоял камнем - никакой следователь расколоть его не мог.
Я не перебивал Семина и не записывал его слое, чтобы не спугнуть порыва откровенности, который овладел им.
- А когда амнистировали нас, - сказал Семин, - то Король, как только мы в Иркутск приехали, велел мне никуда не уезжать и прийти к нему утром. Я обещать-то обещал, даже землю ел, а как расстались мы с ним, так сразу - ноги в руки да пешедралом по шпалам до первой станции без отдыха и упорол. Потом сел на поезд и - сюда, к жене. Думаю: «На черта я себя мучить буду? Много ли жить-то осталось при моем здоровье? Как-нибудь пробьюсь помаленьку». А тут вон что вышло…
Семин умолк, и мне стоило немалых усилий вновь расшевелить его. Видимо, воспоминания о Короле, боязнь, что тот может узнать об этом признании, снова парализовали его волю.
Мне не особенно верилось, что фамилия, под которой Король отбывал наказание в лагере, была действительно - Иванов. К тому же очень сбивчиво обрисовал Семин его наружность. То, по его словам, это был невысокий, полный пожилой человек, рыжий, с голубыми глазами, то вдруг он начинал упорно утверждать, что Король был значительно выше меня ростом. Значит, особенно верить ему не приходилось. Однако я решил, не откладывая в долгий ящик, сегодня же навести кое-какие справки о Короле.
Особенно ценным из всех показаний Семина было, на мой взгляд, следующее: он заявил, что днем, накануне убийства, когда он колол дрова у себя во дворе, его окликнул через забор, со стороны соседнего пустыря, один из его бывших знакомых по имени Федор Бабкин, отбывавший вместе с ним наказание в лагере, но живший после этого не в Озерном, а где-то в другом месте.
Бабкин будто бы спросил Семина, чей это барак, давно ли он тут живет и почему сбежал от Короля? Семин ему ответил, что барак этот его собственный, достался ему после смерти брата, а с Королем он не хочет больше знаться. На этом якобы и кончился разговор. Однако Семину казалось, что Бабкин приходил неспроста. В лагере он был всегда одним из подручных всесильного Короля, и вполне возможно, что явился по его поручению.
Пока посещение этого Бабкина было единственной зацепкой, за которую я мог ухватиться, чтобы приоткрыть завесу, скрывающую от меня истинную подоплеку убийства Глотова. Внутренним чутьем, редко обманывавшим меня, я чувствовал, что Семин не убийца. Немало мне пришлось перевидать преступников, и я заметил, что обычные карманники или домушники, к которым относился Семин, редко идут на «мокрые дела», то есть дела, связанные с убийством.
Все средства связи - телефон, телеграф, почту и даже радио (применив шифр) я использовал, чтобы скорее получить сведения об убитом Глотове, а главное о Бабкине и Короле, которых мне следовало потревожить в связи с убийством старика.
Это только легко сказать получить сведения, а на деле пришлось пустить в ход очень сложный аппарат. Не один десяток людей занялся различными розысками. Они рылись в архивах, звонили в разные учреждения, посылали запросы, беседовали с людьми, которые лично знали тех, о ком я справлялся.
Начальник лагерей мне сообщил, что у них перебывало немало «Королей» - и рыжих, и черных, и толстых, и худых, но тот, который в то время отбывал наказание с Бабкиным и Семиным, был не рыжий, и фамилия его была не Иванов, а Литвинов. Его освободили одновременно с ними по амнистии, и, по слухам, он вскоре был убит в Иркутске при весьма темных обстоятельствах. Его обезображенный труп опознали по татуировке на груди его бывшие приятели, сидевшие в свое время с ним в лагере.
Бабкин, по словам начальника лагеря, был самым приближенным подручным Короля, а Семин, ничем не выделявшийся из общей массы заключенных, в их компанию не входил.
В телеграмме, полученной из Иркутска, подтверждались сведения о смерти Короля-Литвинова и сообщалось, что в числе свидетелей, опознавших труп Короля, был некий Бабкин, который будто бы вскоре после этого уехал в город Борск.
Опять мне приходилось иметь дело с Борском. Обрадовавшись случаю поговорить с Нефедовым, я тотчас позвонил ему по телефону. Оказалось, что он помнит Бабкина, который когда-то, еще до моего приезда в Борск, судился за ограбление. С год назад он возвратился в Борск после амнистии и поступил на работу.
Нефедов знал и Глотова. Тот работал в свое время в Борске следователем и, кажется, даже вел дело Бабкина и его банды. Во всяком случае, это можно было выяснить. Для этого Нефедов звал меня поскорее приезжать в Борск.
- Приезжай, - говорил он своим добродушно-ехидным баском. - Нечего тебе в Озерном торчать. Кстати, мы тебя тут маленько поучим, как по-настоящему работать нужно, а то уж, поди, зазнался. Как же, нешуточное дело: в область его затребовали как незаменимого специалиста! У кого от этого голова не закружится? Значит, будем ждать, а то Галя совсем засохла тут, с тех пор как ты от нее сбежал.
Я ответил, что скоро приеду, с досадой пропустив мимо ушей последние слова. Терпеть не могу, когда люди, хотя бы даже и друзья, лезут не в свое дело.
Теперь, когда я узнал, что Бабкин и Глотов не только знали друг друга, по даже находились между собой в таких взаимоотношениях, которые могли вызвать у одного из них (конечно, Бабкина) чувство мести, во мне вспыхнуло неудержимое стремление поскорее разыскать дело Бабкина в борском суде и одновременно лично познакомиться с этим, крайне интересовавшим меня субъектом. Мое намерение вести дальнейшее расследование не в Озерном, а в Борске заметно обрадовало начальника озерновской милиции, отношения с которым у меня так и не наладились.
Перед отъездом я еще раз вызвал Семина и попытался пристыдить за то, что он мне наврал, описывая наружность Короля, но он уныло пробормотал:
- Теперь один черт какой он был! - рыжий или черный, все одно какому в могиле гнить, ведь «пришили» его в Иркутске.
- Как же «пришили», если Бабкин приезжал к тебе от него? Сам же ты говорил.
- Ничего я не говорил. Выдумываете вы все, чтобы только запутать, - пробубнил он, угрюмо глядя в сторону.
Кто-то, очевидно, успел его настращать. Мне удалось только узнать, что за эти дни ему дважды приносил передачу неизвестный молодой парень в ватном стеганом костюме, какие обычно носят лесорубы. Передачу, как обычно, просматривали и в одном из пирогов обнаружили записку, в которой была только одна фраза:
«Помни, за тобой ходит колун».
Это означало: «Если предашь, то будешь убит». Вахтер, нашедший записку, по оплошности прочел ее при одном из заключенных, разносившем передачи по камерам. Тот, видимо, передал Семину.
Опасаясь, как бы с Семиным действительно чего-нибудь не произошло, я поручил его особому вниманию и начальника милиции и начальника тюрьмы, а сам отправился в Борск.
И вот мне снова предстояло некоторое время работать рука об руку с Нефедовым, но уже не в качестве его подчиненного. Это мне было приятно, хотя я уже заранее представлял себе, как он начнет подтрунивать над моей поездкой в Каменск. И, конечно, я не ошибся. Стоило мне появиться на пороге его кабинета, как он, не успев поздороваться, «заскулил»:
- Совсем было уехали, да что-то назад быстро приехали? Видно, в управлении думали, золото какое выискали, а оказалось, что такого добра у них у самих хоть пруд пруди!
Но этим он и ограничился, начав расспрашивать и рассказывать о служебных делах. Меня очень обрадовало, что после нашего с ним телефонного разговора он сразу же, с налету, обеими руками вцепился в дело Бабкина, точно у него и без того не было забот, и проделал уже немалую работу.
Прежде всего он установил, где живет и чем занимается Бабкин. Оказывается, тот работал в обозе треста очистки города, но за частые прогулы и беспробудное пьянство недавно был выгнан оттуда. С тех пор он только тем, кажется, и занимался, что сидел часами в закусочной, неподалеку от вокзала, и пил там со своей женой, такой же отвратительной пьянчугой, как и он сам, и в компании с другим таким же сбродом. Однако для такого времяпрепровождения нужны были деньги, а явного источника их у обоих супругов как будто бы не было.
Поговорив с Нефедовым, я оставил свой чемодан пока что у него в кабинете и пошел знакомиться со старым делом Бабкина, которое хранилось в архивах суда.
Развернув пыльную объемистую папку уголовного дела Бабкина, на одной из первых же ее страниц я нашел подпись бывшего следователя Глотова, убийцу которого я разыскивал. Однако теперь, поговорив с Нефедовым и товарищами, я оставлял под большим вопросом версию, что Бабкин расправился с Глотовым из-за мести. Никто из нас не припоминал такого факта, чтобы преступник мстил судье или работникам следственного аппарата. Видимо, мне следовало глубже разобраться в обстоятельствах, прежде чем составлять определенное заключение.
Познакомиться с Бабкиным было нетрудно. От Нефедова я уже знал, где чаще всего Бабкин проводит время с приятелями, и направился в привокзальную закусочную.
Кто бывал в подобного рода забегаловках, как их попросту называют, тот знает, что иногда эти предприятия превращаются в притон пьяниц и жуликов, а это постепенно отпугивает от них других посетителей. То же самое в свое время случилось и с этой закусочной. Я помню, мне пришлось довольно долго воевать с начальником ОРСа, пока я не добился снятия с работы заведующего закусочной, а двух работавших там официанток пришлось даже привлечь к уголовной ответственности за то, что они принимали от воров, конечно, по дешевке, краденые вещи, открывая им за это кредит.
Новый заведующий, видимо, старался навести здесь порядок; по крайней мере, на вид закусочная стала куда приглядней: на столиках появились новые клеенки, на буфетах - цветы, но между посетителями я заметил и прежних завсегдатаев. Среди них восседал Бабкин. Его я сразу узнал по приметам, сообщенным мне Нефедовым. Обрисовывая Бабкина, он сказал:
- Вид у него такой, точно он под дверь к кому-то подглядывал, а ему на физиономию сверху и наступили.
Действительно, низкий, скошенный назад лоб Бабкина и переносье были точно приплюснуты чьей-то тяжелой подошвой, а голова от этого же глубоко втиснулась в плечи. Он был невысокого роста, довольно тщедушный субъект, лет сорока. Дряблую кожу его бороздили ранние глубокие морщины, охватывавшие, точно рядами скобок, углы рта и лоб. Создавалось впечатление, что череп его ссохся, и кожа на лице стала для него велика и потому сморщилась.
Маленькие желтые глазенки Бабкина были окаймлены рубчатыми, почти лишенными ресниц красными веками. Они превращались в узкие щелки, когда он смеялся. А смеялся он отвратительно, широко открывая рот, обнажая при этом не только остатки гнилых, почерневших зубов, но и бледные, дряблые десны. Красноватые прозрачные уши Бабкина обладали способностью двигаться, отчего казалось, что он к чему-то постоянно прислушивается.
Однако, каким бы безобразным и отвратительным ни казался мне Бабкин, это еще ни в какой мере не подтверждало, что именно он, а не кто другой убил Глотова. Правда, преступники, особенно убийцы и насильники, часто обладают отвратительной внешностью, но нередко встречаются и разительные исключения.
Долго разглядывать Бабкина я не стал. Здесь меня знали. Недаром, едва я вошел, как из угла уже донеслось едва слышное: «Мелодия!», а из другого - «Тихарь». Это означало, что пришел милиционер в гражданской одежде и нужно держать ухо востро.
Не подавая вида, что слышал эти слова, я съел пару бутербродов, запив их стаканом чая, и ушел.
Пока что у меня начала складываться следующая версия. Бабкин, пытаясь снова собрать грабительскую шайку, вспомнил старого своего знакомого по лагерям Семина и поехал к нему в Озерное, чтобы уговорить принять в ней участие. Возможно, что Короля он упомянул в разговоре с Семиным больше для острастки, желая припугнуть его этим именем. Ведь если бы в Борске действительно проживал такой крупный бандит, то мы с Нефедовым, наверное, знали бы о нем. Когда же Семин отказался вступать в какие-либо дела с Королем и Бабкиным, то последний в отместку подсунул ему вещи Глотова, которого убил из мести или по другим неизвестным еще мотивам.
Правильность этой версии мне предстояло подтвердить фактами.
Глава одиннадцатая НЕРАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
Изучение судебного дела Бабкина, наблюдение за ним самим в закусочной и опрос хозяина его квартиры, который я успел сделать, пока чета Бабкиных была в отсутствии, заняли у меня почти весь день. Нужно было подумать и о себе. Ведь мы - работники милиции - не бесплотные духи, нам тоже нужно есть, пить и спать.
Полагаясь на приглашение стариков Чекановых, в случае какой-либо неустойки в Каменске, возвращаться к ним, я захватил из кабинета Нефедова свой чемодан и отправился давно знакомым, сотни раз исхоженным путем на свою старую квартиру. На душе у меня было неспокойно. Мне предстояло вновь встретиться с Галей, и перспектива этой встречи меня очень смущала. Совершенно иными глазами смотрел я теперь на наши отношения. Сам испытав едкую горечь незаслуженной обиды и все еще мучаясь от невыносимого оскорбления, нанесенного моим самым искренним чувствам, я видел в Гале товарища по несчастью, страдающего тем же тяжким недугом, как и я сам. В то же время мне было совестно перед нею за то горе, которое я ей невольно причинял. Если бы на квартире Чекановых не оставались мои вещи и я не опасался обидеть стариков, не заглянув к ним, я бы не стал больше тревожить Галю своим появлением.
Сеял мелкий осенний дождик. Крупные прозрачные капли висели на телеграфных проводах и голых ветвях молодых топольков. Ноги разъезжались по липкой глинистой грязи, покрывавшей деревянные тротуары. Черная, точно обгоревшая, стояла корявая черемуха в палисаднике Чекановых, грустя по своему утерянному пышному наряду.
Фунтик, лохматый белый песик Чекановых, не забывший меня за время отсутствия, радостно юля, бросился по своей скверной привычке обнимать передними лапами мои сапоги. Я нагнулся погладить его, но звяканье железной цепи у колодца в глубине двора заставило меня поднять голову. Там стояла Галя, в черной стеганке, грубых сапогах, повязанная серым теплым платком.
- Вернулись? Совсем? - не то с радостью, не то с испугом воскликнула она, не замечая, что вода из косо поставленного на сруб ведра льется ей на ноги. Оставив чемодан, я подбежал к Гале и хотел взять ведро, как бывало раньше, когда я помогал ей носить домой воду, но она не отпустила дужки ведра из своих пальцев. И опять лоб ее нахмурился и в глазах, в упор смотревших на меня, нельзя было прочесть ничего, кроме недоброжелательства.
- Напрасно вы вернулись, - сухо сказала Галя. - Комнату вашу нам бы самим нужно было. Тесно у нас.
- Ну, что же делать, - ответил я покорно. - Я и сам думал, что мне нужно от вас перейти. Вы мне разрешите только свой чемодан пока у вас оставить, оттянул он мне руку, проклятый. Сегодня я смогу у Нефедова переночевать, а завтра что-нибудь подыщу.
- Ба-атюшки мои! - вдруг раздался с крыльца звонкий голос Марфы Никитичны. - Сокол-то наш ясный прилетел! - Она, как всегда стремительно, несмотря на свою тучность, подлетела ко мне с распростертыми объятиями, но взглянув на хмурое лицо Гали, и сама потускнела и вместо объятий ограничилась тем, что со вздохом слегка потрясла меня за плечи.
Несмотря ни на что, я искренне обрадовался, увидев Марфу Никитичну. Симпатичнейшая это была женщина, хотя и шумливая, но очень прямая и искренняя. Характер ее отличался чрезвычайной независимостью. Я помню, когда мы с ней уговаривались о плате за квартиру, она запросила с меня очень умеренную сумму, а когда я сказал, что могу платить и больше, решительно отвергла такое предложение, заявив:
- Знаете, Дмитрий Петрович, пусть уж лучше будет по-моему, а то если я с вас дорого возьму, как бы не пришлось мне потом смотреть на вас как на благодетеля какого. Вдруг захочется, чего доброго, дорогу вам уступить или встать, когда вы войдете. Нет, уж лучше не надо. Так-то спокойней будет.
Все эти годы, пока я жил у них на квартире, Марфа Никитична относилась ко мне по-матерински, заботясь обо мне не меньше, чем о членах своей семьи, и отчитывая меня под злую руку также наравне с ними.
Теперь, разглядывая меня, точно мы не виделись несколько лет, Марфа Никитична говорила:
- Ну вот, я же знала, что ты вернешься. Не могло того быть, чтобы ты не вернулся. Не зря у меня и на картах так получалось.
- Да вы, известно, всегда до тех пор гадаете, пока у вас не получится так, как вам нужно, - невесело пошутил я.
- Ну, ты тоже наскажешь, - махнула она рукой. - Вечно меня на смех поднять готов. - И вдруг захлопотала: - Да ты чего же, батюшка, посреди двора стоишь! Чемодан свой в грязь бросил! В хату иди. Поди, проголодался?
- Да ведь вы, кажется, я слышал… - начал было я, но осекся, увидев, что Галя за спиной матери ожесточенно трясет головой, показывая, чтобы я не продолжал. - Может быть, вы уже сдали кому-нибудь мою комнату, - неуклюже поправился я.
- Ты чего это мелешь? - даже отшатнулась от меня Марфа Никитична, точно я взводил на нее невесть какое ужасное обвинение, - как это можно? Ведь мы же с тобой обо всем договорились. Вот если бы ты написал, что не приедешь, тогда бы пустили кого-нибудь. Без этого нам никак нельзя.
Положение получалось нелепейшее. Я видел, что Галя не хочет, чтобы я у них жил, но мне было очень неприятно обижать Марфу Никитичну. Но так или иначе, я твердо решил сегодня же под благовидным предлогом уйти от них и теперь ждал только случая сказать об этом Гале, чтобы она не считала меня слишком толстокожим.
Василий Лукич, мастеривший в кухне рамку для улья, тоже обрадовался, увидев меня.
- Хо-хо! - взмахнул он приветственно руками, в которых держал рубанок и тонкую планку. - Ведь говорил же я вам, что он вернется, а вы все свое, - и веселые морщинки разбежались по всему его смуглому, точно продубленному, довольно еще красивому лицу с крупными чертами цыганского типа.
Василий Лукич невысок ростом, но благодаря широким плечам и еще прямому стану не выглядел маленьким. Выражение лица у него было обычно суровым, а подчас и сердитым. Дома он любил поворчать на домашних, считая, будто их нужно держать в строгости (что, однако, плохо ему удавалось), а при ближайшем знакомстве оказывался хотя и вспыльчивым, и упрямым, но добрейшим человеком. Доброта эта так и светилась в его таких же темно-карих, как у дочки, часто вспыхивающих огнем глазах, и только нахмуренные густые брови мешали сразу разглядеть ее.
- Ничего ты не говорил, что он вернется, - затараторила всегда прекословившая ему жена, - наоборот, все пророчил, что его там, в Каменске, большим начальником поставят. Вот всегда так. Никогда по-твоему не получается.
- Это от него еще не уйдет, - спокойно возразил Василий Лукич. - Совсем вернулись, - спросил он меня, - или на побывку?
- В командировку, - ответил я. - Возможно, что всего на день-два. Как дела покажут.
- Эх ты! Неохота с вами расставаться, - причмокнул он с сожалением, - привыкли уже, как к своему.
Позже, когда я вышел из своей комнаты, чтобы умыться перед сном, я застал в кухне Галю, сидевшую у стола, ничего не делая, что было вовсе не похоже на нее. Может быть, она ожидала меня? Едва я шагнул через порог, она очнулась от дум и встала, точно желая что-то сказать, но не решаясь.
- Вы не беспокойтесь, - прошептал я. - Завтра утром меня здесь не будет. Почву я, как видите, подготовил.
- Оставайтесь уж здесь, - тоже шепотом ответила она, - не стоит из-за нескольких дней переезжать. Но может быть, вы нарочно так отцу сказали?
- Нет, я только по делу сюда приехал.
- Жалко, - едва слышно произнесла она.
- Чего жалеть? Не буду больше вам глаза мозолить. Я же вижу, что лучше нам не встречаться.
Она посмотрела на меня с укором и вдруг, нахмурившись, громко возразила:
- Вы меня не поняли. Мне жалко, что не придется больше с вами советоваться. А у нас как раз случилась беда на заводе, и я не знаю, как теперь поступить. Помните, я вам рассказывала про трех наших ребят, которые на работу пьяные являлись. Вы еще фамилии их записывали: Филицин, Саввин и Зыков. Теперь я боюсь, что они совсем худыми делами занялись. У двоих часы откуда-то вдруг появились, а у третьего рубаха шелковая с чужого плеча. Других ребят они сторонятся, связались с каким-то прощелыгой. Я хотела было с Нефедовым поговорить, но боюсь, что он их сразу заберет, а это, может быть, пока не нужно. Получится скандал, зря опозорим ребят. Они и так какие-то издерганные, особенно Гоша Саввин. У него большие неприятности в семье. Да и Ленька Зыков тоже ненормальный какой-то ходит.
- Ненормальный… Ненормальный! - послышался вдруг из-за переборки сердитый голос Василия Лукича. - Много ты понимаешь в ребячьей душе?!
И он в туфлях на босу ногу и в нижней рубахе, заправленной в брюки, показался в дверях.
- Ты про этого Леньку худо не говори, - обратился он к дочери, - и не выставляй его преступником каким-то. Разобраться прежде нужно, а потом уж в милицию бежать. Этот Ленька - несчастный парнишка, хуже чем сирота. Отца его фашисты убили, а мачеха у него - стерва. Сама на его пенсию жила, да его же куском хлеба еще попрекала. Из-за нее он и школу бросил. Некогда ему было уроки учить, потому что заместо прислуги он у ней был: и полы мыл, и за ребятами ходил, как нянька. Теперь он в общежитие от нее ушел, но и тут ему житье оказалось не малина. Приглядеть некому, ходит грязный, оборванный, деньги куда-то между пальцев текут. Я его сколько раз к себе звал, чтобы потолковать по душам, жизнь ему помочь наладить, но он ни в какую. Завтра хоть силком, да притащу, может, не поздно еще. А ты, мать, - обернулся он к дверям, - накормишь его да рубахи ему постираешь, а то зарос он совсем.
- Ну вот, нашел еще постирушку, - отозвалась из-за перегородки Марфа Никитична, - мало у меня с вами хлопот.
Но Василий Лукич не обратил внимания на ее реплику, зная, что она не откажется помочь парнишке, и продолжал, обращаясь к дочери:
- Еще неизвестно, чья вина, что такие мальчишки с пути сбиваются. Много ли мы думаем о том, что их не только кормить да учить требуется. Ведь из каждого из них еще настоящего человека вылепить нужно. Они в этом возрасте, как глина. Беда, если в плохие руки попадут.
- Мы и воспитываем их! - запальчиво возразила Галя. - Мало ли мы разных мероприятий с ними проводим.
- Каких мероприятий? Может, про лекции скажешь, которыми вы чуть не каждый выходной нас пичкаете? «Сон и сновидения»! - выкрикнул он, разводя руками. - «Вулканы на луне»! Подумаешь! Интересна молодым ребятам эта музыка! Им живое дайте, чтобы захватило до самых кишок. Чтобы пример они могли взять, чтобы смелость, умение, сметку свою могли потешить и попрактиковать. Вот это другое дело.
Ты посмотри, кто на ваши лекции ходит?! Как раз тех-то, кого особенно нужно воспитывать, вы вулканами на луне к себе в клубы не заманите. Им бы скорей охотничий или рыболовный кружок подошел.
- И вообще, - обратился он ко мне, - злость меня подчас разбирает, когда присмотрюсь, как у нас на заводе к человеку относятся. Если запорет парень ценную деталь, так шуму об этом на цельную неделю. Его и в партком, и в завком, и к директору таскают, и в газетке изобразят, будто это не человек, а чудище морское. А коли свихнется парень, запьянствует или еще хуже - подколет или ограбит кого, так об этом молчок. Пусть, мол, милиция с ним разбирается, а наше дело - сторона! А выпустят его из тюрьмы, так он, как герой какой, своими подвигами хвастает, а ребята стоят вокруг, уши развеся, интересуются, вопросы разные задают, будто невесть какой знатный мореплаватель из путешествия прибыл… И если не вернется он, так тоже как будто все в порядке: поговорят о нем маленько, что арестован, мол, такой-то, и забудут.
- Я вам вот что скажу, - вымолвил Василий Лукич просительным тоном, - в ваши дела я не мешаюсь, делайте все, как вам положено по закону, но и над тем подумайте, что я вам о Леньке сказал. Если можно, то я на поруки его возьму. Не думаю, что нельзя его выправить. Не так уж, поди, глубоко в нем эта зараза засела. Я над ним шефство возьму, приглядывать, как за своим, буду. Стыдно мне и за себя и за всех, кто его отца, Ефима Зыкова, знал: не присмотрели мы за его сынишкой, а ведь Ефим за нас на фронте жизнь отдал.
Было уже поздно - пора спать, и старик, сказав Гале, чтобы она не забыла, как в прошлый раз, выключить свет в кухне, ушел к себе.
- Приходите завтра утром к Нефедову, - сказал я Гале, чтобы закончить прерванный разговор. - Я буду там, и мы договоримся, как поступить с вашими парнями. - И уже шепотом добавил: - А насчет меня не беспокойтесь, я сделаю так, как обещал.
- И причините мне большую неприятность, - тоже шепотом ответила она. - Я вам никогда не прощу, если вы переедете от нас. Ведь вы же сами говорили, что пробудете в Борске всего несколько дней.
Она вдруг подошла ко мне и, коснувшись кончиками пальцев моих щек, заставила повернуться к свету. Потом она слегка оттолкнула меня и быстро ушла, опустив голову. Лицо ее, на котором отражалось глубокое страдание, так четко запечатлелось в моем воображении, что когда я улегся в постель и перед сном хотел воскресить в памяти первую встречу с Ириной, Галино лицо заслонило передо мной все, заглядывая мне в душу глазами, полными невысказанной тоски.
Глава двенадцатая ПО ЧУТЬ ЗАМЕТНОМУ СЛЕДУ
Я должен был выяснить, зачем Бабкин приезжал в Озерное, где он был в ночь убийства Глотова, и не ему ли принадлежит тот топор, который весь в крови был найден около трупа старика.
И фельдшер Пальмин, и женщина, ухаживавшая за больной женой Глотова до самой ее смерти, не видели в доме Глотовых такого топора.
Это был настоящий плотничий топор, старинной «кондратовской» стали с клеймом, умело и с правильным расчетом насаженный на березовое, залоснившееся от долгого употребления топорище.
Я уже упоминал, что мне удалось поговорить с квартирохозяином Бабкина. Из разговора с ним я убедился, что в таком хозяйстве, где единственной посудой служила продырявленная, заткнутая тряпкой кастрюля, а постелью - ворох рваного, грязного тряпья, не могла бы задержаться даже на сутки такая дельная, исправная вещь, как топор, за который любой плотник, не глядя, дал бы Бабкину на литр водки. Ясно, что топор этот был где-то украден. Но где?
Я выписал в тресте очистки адреса всех учреждений и лиц, где Бабкин за последнее время чистил помойки, и мы с Нефедовым разослали по этим адресам людей, которые обошли все эти места, расспрашивая всюду, не пропал ли у кого топор. Занятие было трудоемкое, кропотливое, неприятное и длительное. Но в нашей работе не приходится с этим считаться. Я помню: найдя подле убитого в лесу человека пыж, сделанный из исписанного детским почерком листка школьной тетради, мы мобилизовали более сорока человек для того, чтобы пересмотреть во всех школах города тысячи тетрадей и найти ту, из которой был вырван этот листок. А когда тетрадь была найдена у одного ученика, то нам вскоре удалось изобличить его отца в убийстве своего старого знакомого, ссудившего ему деньги на постройку дома.
На этот раз нам тоже повезло. Завхоз школы-семилетки припомнил, что у столяра, ремонтировавшего у них во дворе парты, пропал топор, и он очень горевал по такому печальному поводу.
Не знаю, всякому ли может быть понятно то чувство подъема духа и даже азарта, которое охватывает меня каждый раз, когда среди сумбура недостоверных показаний и путаницы ошибочных версий вдруг блеснет живой огонек надежды на то, что найден правильный след. Так было и на этот раз. Чуть ли не бегом я пустился на розыски столяра, адрес которого услужливый завхоз записал нам на бумажке.
В дверях исправного, по-хозяйски построенного бревенчатого домика меня встретил саженного роста благообразный седой старик, похожий своей окладистой серебряной бородой и волнистыми, ничуть не поредевшими волосами на известный портрет Ивана Сергеевича Тургенева.
Он очень обрадовался, что его «драгоценный» топор нашелся. Но я долго не мог от нею добиться, чтобы он припомнил, кого можно подозревать в краже топора.
- Как на людей грешить? - сказал он наконец. - Не пойман - не вор. Правда, вертелся тогда около меня с разными пустыми разговорами мусорщик, что щепу из двора вывозил, так опять-таки не видел я, чтобы он брал топор.
Я связался по телефону с озерненской милицией и попросил, чтобы доставили топор в Борск. На утро его привезли, и я уложил его в компании с другими топорами на красной скатерти стола в кабинете Нефедова, тоже не менее меня заинтересованного в исходе «очной ставки» старого столяра с его инструментом.
Старик вошел, снял шапку, поздоровался, обведя взглядом всех собравшихся у стола, и вдруг, увидев свой топор, лежащий четвертым с краю, так устремился к нему, точно это был, по меньшей мере, его потерянный ребенок.
- Вот он! Вот он, голубчик. Нашелся, значит, - торжествующе забасил он. - Да неужели бы я его не узнал? Сколько лет им работаю. Как с родным сжился.
Пришлось огорчить старика, что пока мы не сможем вернуть ему его сокровище, так как оно еще нам нужно.
По словам старика, топор пропал в тот день, когда он получил окончательный расчет в школе за произведенную работу. Проверив в школе эту дату, я с увлечением зарылся в пыльную груду документов треста очистки, просидел над ними двое суток и в результате выудил из этого бумажного моря чрезвычайно важный документ - корешок наряда, из которого следовало, что в день пропажи топора Бабкин вывозил мусор со школьного двора. Теперь мне требовалось установить факт поездки Бабкина в Озерное. Это была трудная задача. С тех пор как он, уйдя из треста, стал вольной птицей, никто не знал, где он бывает и что делает. Кассирши на железнодорожной станции не помнили, чтобы билет до Озерного покупал человек, похожий на Бабкина. На вокзале его тоже никто не приметил.
Я поговорил с бывшими сослуживцами Бабкина о том, о сем, постепенно наводя о нем справки.
Многие знали его, и большинство из тех, кто имел с ним дело, жаловались: взял рукавицы и не отдал, занял денег - и поминай как звали, выпросил дождевик всего на одни сутки, измазал, изорвал да еще сколько времени не возвращал.
Говорили и так:
- Шалый мужик. Ему бы только водка была. Никто путный с ним не водится, только такие же прощелыги, как он сам, так он за последнее время к молодым заводским ребятам льнет, что в общежитии живут, водкой их поит, папиросами угощает. Что ему надо от них - неизвестно, но доброго от него не жди.
Как и прежде, я всеми своими удачами и неудачами делился с Нефедовым и с другими товарищами по отделению, потому что такие дела, как у нас, одному не осилить.
Нефедов, конечно, оговаривался, что не ему бы давать советы работникам областного масштаба, но каждый раз внимательно выслушивал меня и намечал вместе со мной дальнейшие шаги, которые следовало предпринять в этом запутанном и, что было хуже всего, испорченном с первых шагов деле.
Бабкин, как всякий пьющий не по средствам, нигде не работающий и вдобавок ко всему судившийся раньше за грабеж, был на примете у милиции, но не было никаких данных, подтверждающих, что он вернулся к своим прежним занятиям. В городе оставались нераскрытыми еще два грабежа, к которым он мог быть причастен.
Была ограблена продавец продтоварного магазина Языкова, возвращавшаяся домой с работы уже затемно. Ей нанесли удар по затылку тупым предметом, а когда она упала, сняли дошку, пуховый платок, часы «Победа» и отобрали сумку с деньгами. Пролежав два часа на снегу, Языкова простудилась и заболела воспалением легких. От нее нам удалось добиться только, что грабителей было двое. Во втором случае грабители отобрали кошелек и часы у неизвестного гражданина, который сообщил об этом по телефону, не пожелав ни явиться лично, ни назвать свою фамилию.
- Все равно, - сказал он, - не найдете никого. Это я так, формы ради сообщаю, чтобы вы знали, какие безобразия творятся у нас в городе из-за вашей нерасторопности.
Такие замечания нам не раз приходилось слышать, и не только по телефону. Бывает, что ограбленный гражданин, прибежавший в милицию, прежде всего обрушивается на нас с градом обвинений, что мы чуть ли не потворствуем бандитам, и требует, чтобы его вещи были немедленно разысканы и возвращены, а сам он не только не помнит ни малейшей приметы грабителей, но еще, для того чтобы оправдать себя, - почему он без сопротивления подчинился грабителям, - сбивает нас с толку, начинает выдумывать, что на него напала целая банда рослых парней, в то время как позже выясняется, что он сдался двум подросткам.
На наше счастье, такие встречаются не так уж часто, наоборот, люди самых различных профессий, возрастов и положений всячески стараются помочь нам в розыске преступников. Без их неоценимой помощи нам было бы трудно работать.
Не обошлось без содействия со стороны и при розыске виновных в ограблении Языковой и неизвестного гражданина. Едва только Нефедов со своим аппаратом приступил к расследованию этих дел, как Галя Чеканова и еще двое товарищей из механического завода сообщили, что трое ребят из заводского общежития ведут себя подозрительно: где-то гуляют по ночам, возвращаются пьяными, причем у двоих из них, а именно у Семена Филицина и Георгия Саввина, на этих днях появились откуда-то на руках часы, а на Леониде Зыкове - шелковая рубаха, дорогая и не по росту большая.
Придя к нам в отделение, Галя более подробно рассказала, что эти трое ребят водили компанию с каким-то препротивным пьяницей. Не раз люди видели, как они играли с ним в карты во дворе общежития и даже пили водку. Этого субъекта выгоняли со двора, но он опять появлялся.
Я показал Гале фотографию Бабкина, которого незаметно снял один из наших сотрудников в тот момент, когда Бабкин пьяный выходил из закусочной, и Галя сразу признала, что это именно тот человек, о котором шла речь.
Тотчас же у Бабкина был произведен обыск, под предлогом, что он прячет у себя пистолет, однако ничего подозрительного не нашли. Его оставили на свободе, а ребят Филицина, Зыкова и Саввина забрали.
На следующий день в закусочной среди завсегдатаев только и было разговора, что об обыске у Бабкина. Подогревал этот разговор сам Бабкин, громогласно возмущавшийся, что его посмели в чем-то заподозрить.
- Уж, кажется, в Борске меня все знают, - куражился он спьяна. - Ни у кого я ничего не крал, а тут, здрасте, обыск! Ну и ушли, ясное дело, с носом. Я хотел было метлой их со двора помести, мусор этот, да только жена меня уняла.
- Что и говорить, напрасно человека обидели, - поддерживал Бабкина изрядно захмелевший пожилой железнодорожник в замасленной форменной шинели, перед которым на столе выстроилась уже солидная батарея пустых пивных бутылок. - Это определенно тебя заподозрили, что ты с теми заводскими ребятами, которых арестовали, вместе орудовал. А тебя же в эту ночь и в Борске-то не было. Я же знаю, могу подтвердить.
- Вяжутся без толку к каждому, - бормотал Бабкин, ободренный поддержкой. - Да не на такого нарвались. У кого я что украл? Нет, ты скажи, разве я кого ограбил? - приставал он к железнодорожнику.
- Разве я говорю, что это ты грабил? Тот, кого ограбили, сам сволочь преизрядная. Его, мерзавца, не то, что ограбить, ему, гаду, ноги бы переломать нужно, чтобы не ходил, куда не следует.
Нашему сотруднику, наблюдавшему за Бабкиным по поручению Нефедова, показались любопытными последние слова железнодорожника, и несколько позже он привел его к нам.
Мы расспросили этого пьяного бабкинского защитника о том, что он знает о происшедших в городе грабежах и почему именно считает, что Бабкин не принимал в них участия.
Перед нами - потертого вида высокий, узкоплечий, лысый мужчина с впалой грудью. На его простодушном лице можно было прочесть печальную историю о том, до чего доводит пристрастие к спиртным напиткам.
Расхлябанной, неуверенной походкой он подошел к столу, сел и попросил разрешения закурить. Руки его дрожали, а пальцы, достававшие папиросу из коробки, плохо повиновались. В течение разговора на глазах нашего гостя постоянно появлялись слезы, которые он старался незаметно стереть, поминутно сморкаясь в большой пестрый платок. Видимо, нервы у него были никуда не годны.
Начал Анохин (так звали этого железнодорожника) с того, что ни о чем он не знает, ничего не видел и не слышал, а если ненароком сболтнул что в закусочной, то это исключительно по пьяному делу и теперь ровно ничего не помнит.
- С чего это выпивать-то стали, товарищ Анохин? - спросил его Нефедов. - Ведь каким вы были, я помню, основательным, солидным человеком. А теперь, говорят, что и на работе будто за воротничок закладываете.
Анохин отвел глаза к порогу и смущенно пробурчал:
- И рад бы не пить… горе принуждает… неприятности разные семейные.
Путем нескольких деликатных наводящих вопросов, задаваемых ненавязчивым, дружеским тоном, Нефедову удалось добиться у Анохина, что молодая его жена ведет себя не так, как следовало бы замужней женщине. Постепенно стало выясняться, что тот самый пострадавший, с которого ночью грабители сняли зеленую шелковую рубаху, и является неизвестным гражданином, имеющим некоторое близкое отношение к жене Анохина. Однако фамилии его Анохин не говорил. Но стоило Нефедову намекнуть, что у милиции имеется основание предполагать, будто ограбление, при котором у потерпевшего отобрали часы, деньги и рубаху, было произведено из личной мести, как Анохин страшно заволновался. Он даже встал и прошелся несколько раз по комнате, бросая при этом:
- Ерунда!.. Пустяки все это… Выдумают же люди!.. Наверное, сам же он со страху сочинил. Его бы вздуть нужно было пакостника, а не рубаху с него снимать.
- Не-ет! - настаивал Нефедов - Мы имеем довольно веские основания так предполагать.
- Никаких вы оснований не можете иметь, - закричал выведенный из себя Анохин. - Что вы мне заправляете? Я же знаю, что ночью обснимали нашего помощника машиниста Пашку Морозова, он сам своему отцу об этом рассказал, а тот - мой приятель. Остановили его какие-то парни с ножами, а он струсил и отдал все, что при нем было. Оки хотели и пиджак забрать, да увидели, что форменный, и бросили обратно.
- Почему же он в милицию не сообщил?
- А черт его знает. Может, стыдно было признаться, что сдрейфил. Ведь он вон какой верзила. А может быть…
- Что может быть?
Анохин нахмурился и нехотя проговорил:
- Верней всего, не хотел он, чтобы узнали, откуда он выходил. Ведь его как раз у моих ворот прищучили. Я-то в поездке был. Ну вот он узнал об этом и того… припожаловал.
- А почему вы говорили, что Бабкина в эту ночь не было в Борске? - вмешался я.
- А как же он мог быть в Борске? - оживился Анохин, обрадованный, что вопрос отошел от щекотливой темы, - когда я своими глазами видел в тот вечер, как он выходил из нашего поезда на станции Озерной.
- Какого числа это было? Постарайтесь ответить точно.
- Да чего уж точнее. Было это в ночь на семнадцатое сентября.
Внутренне торжествуя, я мысленно отметил, что дата эта совпадала с датой убийства Глотова. От радости я готов был расцеловать Анохина в небритые щеки, но вспомнил спокойные, бесстрастные манеры полковника Егорова, которому всегда собирался подражать, и ограничился тем, что с невозмутимым видом оформил последнее показание Анохина отдельным протоколом.
Теперь у меня имелись уже две косвенные улики против Бабкина, но их было слишком мало, чтобы прокурор дал санкцию на арест его. Для этого требовались более веские основания. Вместе с Нефедовым мы решили всеми силами ускорить раскрытие дел об ограблении Морозова и Языковой, рассчитывая, что, может быть, нам удастся установить отношение Бабкина к этим грабежам. Ведь не зря же он столько времени хороводился с теми заводскими ребятами, которых мы арестовали. Вполне возможно, именно он их и подговорил заняться, грабежом.
Теперь мы знали фамилию второго пострадавшего, и вскоре Пашка Морозов, как его непочтительно называл смертельно обиженный им Анохин, сидел перед нами, теребя свой пшеничный чуб, вьющийся из кольца в кольцо, благодаря усердию парикмахера. Его бело-розовое, сытое, с золотой щетинкой на пухлых щеках лицо выражало обиду.
Вежливостью он не отличался.
- С чего это вам взбрело в голову, будто я прикрываю бандитов? - ершился он. - Вы тоже не очень-то разбрасывайтесь такими словами. Думаете, что если на вас капитанские погоны, то вы можете всякого оскорблять? В Конституции этого не записано, что можно так с людьми обращаться.
- Что вы! - удивился Нефедов. - Да кто же это вас оскорбляет? Просто, я хочу вам разъяснить, что такое странное поведение, как ваше, недостойно советского человека. У вас на глазах было совершено тягчайшее преступление, вы были единственным свидетелем его и, видимо, даже пострадавшей стороной. Во всяком случае, вы, наверное, разглядели наружность преступников и могли бы при случае помочь их разыскать, а вместо этого вы из каких-то своих личных побуждений скрываете от властей, что вас ограбили, даже не желаете узнавать свою собственную рубаху. Этим вы предоставляете преступникам возможность продолжать свою преступную деятельность. Почему вы не хотите признаться, что на вас напали?
- Никто на меня не нападал, - упорствовал Морозов. - А если бы даже и напали, то это только меня бы касалось.
- Значит, вы считаете правильным оставить грабителей безнаказанными? Но ведь это как раз и есть не что иное, как укрывательство преступников.
Морозов молчал, надув свои красные полные губы. В этот момент он был удивительно похож на обиженного упрямого мальчишку, хотя ему было лет двадцать восемь.
- Ну, как бы вы поступили, если бы узнали, что какой-то известный вам человек занимается шпионажем или готовит диверсию? Вы бы тоже промолчали? - задал я ему вопрос.
- Ну, это совсем другое дело, - обернулся он ко мне. - Ясно, что тут бы я живо приволок его куда следует.
- А какая же разница, - подхватил мою мысль Нефедов, - между диверсией и бандитизмом?
- Ну, а как же? - все еще готов был спорить Морозов. - Очень большая разница. Одно дело - политическое преступление, а другое - уголовное.
- Чем же, по-вашему, бандит лучше диверсанта? - не отставал от него Нефедов. - Ведь это тоже опаснейший преступник. Еще неизвестно, ради чего он совершает преступления, только ли ради наживы или чтобы терроризировать население, запугать его, вызвать недовольство. Мы еще не знаем, кто стоит за спиной тех двух пареньков, которые на вас напали.
- Не двух, а четырех, - запальчиво поправил Нефедова Морозов, - иначе разве я им поддался бы?
- Ах, значит, вы признаете-таки, что вас ограбили? - мягко улыбнулся Нефедов. - Давайте, товарищ Морозов, бросьте упрямиться и расскажите, как было дело.
Видя, что запираться дальше глупо, Морозов рассказал, как его ограбили, но настаивал, что напали на него четыре человека.
- Кто же был четвертым? - говорил Нефедов, когда мы советовались с ним наедине. - Не Бабкин ли? Хотя Анохину как будто бы можно верить, что он видел его в Озерном, но не плохо бы сделать проверку.
Мы показали Морозову поодиночке всех трех парней, а также и Бабкина, которого для этого пришлось доставить в милицию.
Морозов сразу признал Филицина и Саввина.
- Черт бы вас взял, сопляки вы этакие, - с досадой говорил он, оглядывая щуплого Филицина, - как это я перед вами спасовал? Сам не пойму. Ночью-то вы мне здоровенными показались.
- Это тебе ножи наши здоровенными показались, вот тебя и сперло! - нагло выкрикнул ему Филицин.
Относительно Бабкина и Зыкова Морозов заявил:
- Может, они и были там, точно сказать не могу.
- Тюха ты! - закричал на него Бабкин в исступлении. - Как это я мог там быть, когда меня в это время в Борске и не было вовсе.
- А где же вы были? - спросил я.
- Уезжал! Хоть жену спросите, она скажет, хоть часовщика Абрушкина. Мы в одном вагоне ехали.
Вызвали Абрушкина. Он подтвердил, что вечером шестнадцатого сентября видел Бабкина в вагоне, и вышел тот будто бы в Озерном.
- Ничего не в Озерном! Чего врешь? - заволновался Бабкин, поняв, что сам себе надевает петлю на шею. - Я до самого Каракуша ехал и там слез.
Еще больше ожесточился он, когда Анохин, которого опять пришлось потревожить, подтвердил, что видел, как Бабкин вышел именно в Озерном.
- Зачем вы ездили в Каракуш? - спросил я.
- Нужно было, вот и ездил.
- Может ли кто-нибудь подтвердить, что видел вас там?
- А то нет? Конечно могут. Только я пьян был, никого не помню.
Я попросил его перечислить, кого он вообще знает на станциях Каракуш, Диково, в селе Озерном и еще двух соседних поселках. Он назвал немало фамилий, но фамилии Семина между ними не было. Тогда мы свели его с тремя парнями: Саввиным, Филициным и Зыковым и спросили, знает ли он их. Бабкин поступил осторожно: сказал, что с ними знаком, встречал их во дворе общежития, куда заходил «отдохнуть». Но он наотрез отрицал, что когда-нибудь угощал их водкой и папиросами и играл в карты.
Когда он не мог подыскать удовлетворительного ответа, у него была всегда наготове стереотипная фраза: «Был пьян и ничего не помню».
Теперь, когда Бабкин знал, что нам известно, где он был в ночь на семнадцатое сентября, стало опасно выпускать его из наших рук: он мог скрыться. Поэтому мы с Нефедовым изложили прокурору обстоятельства дела и получили санкцию на арест Бабкина.
Глава тринадцатая ПО СТОПАМ ПАПАШИ
Все трое молодых ребят, задержанных нами по подозрению в грабеже, ничем не походили один на другого: ни наружностью, ни характером, ни судьбой. И вначале для нас было загадкой, что могло их связать между собой?
Начну с самого старшего - Семена Филицина. Узкоплечий, жидкий, кособоко сутулившийся, он напоминал вытянувшуюся от недостатка света, захиревшую помидорную рассаду. Серое лицо Филицина с низким лбом, заросшим чуть ли не до бровей буроватой щеткой густых жестких волос, с маленькими равнодушными глазами, выглядело тупым и крайне несимпатичным. Его нездоровый цвет и темные круги вокруг глаз говорили о скрытых пороках. Держался Филицин всегда боком к тому, кто с ним говорил, смотрел исподлобья. Во всем его облике, движениях, манере говорить проглядывало полнейшее безразличие к своей судьбе. По-видимому, он совершенно примирился с грозящим ему заключением, ничего страшного в нем не находил и только ждал, когда, наконец, окончится скучная процедура допросов, очных ставок, а потом и суда.
Сперва, как бы для порядка, он пытался выкрутиться, упорно повторяя, что никого не грабил, а часы нашел на улице, но после очной ставки с Саввиным, который сразу же сознался в грабеже, он не стал больше запираться.
- Что тебя толкнуло на преступление? - спросил я. - Ведь ты и так был сыт, одет, обут.
- Подумаешь, одет! - с наглым хохотком противно прогнусил он и потеребил за угол отложной ворот своей синей рубахи. - Разве это одежда? Я, может, из «метро» хочу носить костюм.
Всегда испытываешь тягостное чувство, когда ведешь следствие по делам молодых преступников, особенно же, когда видишь такого бездельника, как Филицин. Всегда начинает казаться, что мы упускаем что-то очень важное в нашей воспитательной работе, если у нас - пусть даже в незначительном количестве - вырастают подобные типы.
Я всегда старался разобраться в причинах, приведших таких ребят к преступлению. Допросив Филицина, я отправился разыскивать его родителей, чтобы посмотреть, что представляла собой семья, из которой он вышел.
Филицины - отец, мать и две сестры Семена - жили в недавно выстроенном на деревенский манер пятистенном добротном домике на краю города. Их двор, окруженный частоколом из поставленного стоймя заостренного горбыля, с двумя рядами колючей проволоки поверху, напомнил мне те крепостцы, которые, как я читал у Купера, строились переселенцами на дальнем западе Северной Америки для охраны от нападения диких индейцев.
Мне пришлось довольно долго стучать в запертую калитку, пока появилась хозяйка и впустила меня во двор, посадив предварительно на цепь здоровенного пса.
- Крепко живете, - сказал я, здороваясь.
- Нельзя иначе, - объяснила хозяйка, - корова у нас, поросенок, куры, а народ здесь кругом, сами знаете какой, - охальники, заберутся - и не заметишь.
Мне бросилось в глаза обилие разнообразных запоров на дверях, ведущих в дом. Среди них особенно обращал на себя внимание замок от купе пассажирского вагона. В кухне, дальше которой меня, видимо, не собирались пускать, на стене подле умывальника, висело вагонное зеркало без рамы, да и умывальник был тоже железнодорожный. Тут мои глаза невольно начали искать и находить другие предметы того же происхождения: пепельницу, плевательницу, кусок бархатной дорожки.
- И не знаю, что вам сказать про нашего Сеню, - запричитала хозяйка, едва я сказал, что пришел поговорить о ее сыне. - Уж, кажется, мы ли с отцом не учили его уму-разуму, мы ли не выговаривали ему, чтобы жил честно, чтобы добрых людей слушал, с худыми ребятами не водился, да, видно, не впрок ему наше ученье пошло. А все - дурные приятели!
- А почему он жил в последнее время не дома, а в заводском общежитии? - спросил я.
- Да мы думали, что на заводе его лучше воспитают. Ведь у них там и комсомол, и профсоюз, - отвечала хозяйка масляным тоном. - Так нет, видно, некогда им было нашим Сенечкой заняться.
- А я слышал, что вы его из дому выгнали, когда он у вас деньги украл. Верно это?
- Ну уж наскажут люди! - смутилась Филицина. - Постращал его маленько отец. Мало ли что в семье бывает…
- А он у вас часто крал?
- Да нет, что вы, только вот деньги эти, три сотни, у отца из сундука вытащил.
Круглое, с застывшей глуповатой улыбкой лицо Филициной при этих словах было так безмятежно, точно она сообщала мне о самом обычном, естественном поступке, только в глубине глаз пряталось хитрое настороженное выражение.
- А разве он сапоги отцовские не продавал?
- Да разве это сапоги были? Рвань одна. Их бы выкинуть в пору.
- А сукна отрез? А полушубок?
Безмятежное выражение соскользнуло с лица женщины, точно его стерли губкой. Резче проступили горькие складки у губ, углубились морщины. Она помолчала, стиснув зубы, потом через силу проговорила:
- Что же вы спрашиваете, коли вам все известно? Крал он у нас все, что только под руку попадало. Измучились мы с ним совсем. Только, бывало, и гляди, чтобы не утащил что-нибудь. В детстве по шкафам да кладовкам лазил. То варенье выхлебает, то закуску, что для гостей оставлена, сожрет, а как подрос, то вовсе мы с ним замаялись. Бывало, идет со двора, а я уж по походке вижу, что украл. Отец его поймает, обыщет, а у него за пазухой то шаль моя, то туфли сестренкины. Слезами кровавыми мы от него плакали. А уж как вовсе сил не стало, выгнал его отец на все четыре стороны и запретил на глаза показываться.
- А отец где сейчас? На работе?
- Да что спрашиваете? Ведь тоже, поди, знаете, что уволили его.
Она была права. Я знал, что старшего Филицина уволили с железной дороги за мелкие кражи. Он редко уходил с работы с пустыми руками: то краски себе нальет, то гвоздей в карман сунет. Работал он уже давно, с двадцать девятого года, когда пошел в мастерские, сбежав из деревни, где у него, по слухам, было крепкое кулацкое хозяйство. Начальство полиберальничало и не отдало его под суд, а ведь сколько перетаскал он государственного добра в свое опутанное колючей проволокой гнездо.
Мне стало понятно, какие причины возбудили в младшем Филицине стремление к воровству. Пример отца не прошел для него даром, только сынок шагнул дальше своего папаши.
Я говорил и со школьными товарищами Филицина. Они рассказали, что в школе его сторонились, как неисправимого воришки. Естественно, что он искал себе подходящую компанию и нашел ее среди уличных хулиганов. На заводе комсомольцы тоже не сочли нужным хорошенько заняться им. Они больше интересовались передовыми ребятами, тянущимися к учению, к спорту, к хорошим производственникам. Мастера, видя, что Семен не интересуется работой и толку от него добиться трудно, махнули на него рукой, поручали только несложную и потому неинтересную работу. В стенной газете одно время почти не сходили с полос карикатуры на Филицина, но они на него не производили никакого впечатления: ведь его с детства все без исключения только ругали. Это ему давно приелось.
Выходило так, что с кем бы я только ни говорил о Филицине, все в один голос рассказывали о нем только дурное - и родные, и товарищи, и комсомольские руководители.
- А вы хоть раз пытались поговорить с ним как с человеком, не срамя его? - спрашивал я заводских ребят. - Может быть, он откликнулся бы на доброе слово.
Но это никому не приходило в голову. Слишком он всем насолил.
- Шляпы вы все, милые мои, - сказал я им. - Ведь этим-то и пользуются темные силы, чтобы вербовать таких парней в свой лагерь… Вы думаете, они действуют на молодежь только с помощью водки, денег и угроз? Ничего подобного. Они тоже разбираются в человеческих чувствах и знают, как много значит для такого человека, который со всех сторон слышит только ругань, если его пожалеют, посочувствуют ему и скажут, пусть даже и в грубой форме, но все же приветливое, ласковое слово. Ласка - великое дело, а у нас об этом иногда забывают.
Я спросил как-то у Филицина, был ли он с кем-нибудь дружен? В ответ он только помотал головой.
- Ну, когда-нибудь, в детстве, может быть, - настаивал я. - Ведь кто-нибудь да относился же к тебе хорошо?
- Помню вот, Пашка Шкет пироги мне покупал, когда я еще пацаном был, не давал ребятам бить меня, говорил со мной ласково.
Пашка этот был вор, карманщик, которого мы несколько лет тому назад изолировали; Филицину он годился, по меньшей мере, в отцы. Этот Пашка для Семена, насколько я понял, до сих пор оставался идеалом. По его словам, он был всегда шикарно одет, сыт, пьян и носил в кармане «пушку», из-за чего все его боялись.
Вот так иногда складываются представления об идеале, если никто не позаботится дать детским мыслям иное направление, увлечь их толковым и доходчивым рассказом о людях, пример которых действительно достоин подражания.
Я уже упоминал, что Филицин, как и Саввин, признал предъявленное ему обвинение в ограблении Морозова и Языковой, но так же, как и Саввин, он упорно отвергал, что в грабеже вместе с ними принимал участие Бабкин. Мало того, они решительно заявили, что даже не знакомы с ним и никогда в жизни его не видели.
Мне казалось, что оба они чем-то запуганы. Я знал, какими страшными карами грозят новичкам прожженные бандиты, чтобы те не нарушали данную ими клятву никого не выдавать на допросах.
Очевидно, и с Филицина была взята такая клятва. Я имел возможность в этом убедиться. Задавая ему быстро, один за другим, короткие незначительные вопросы, на которые он легко, без задержки отвечал, я вдруг спросил:
- А зачем землю выплюнул?
- Я не выплевывал, - возразил он, - я проглотил… - И тут, помяв, что проговорился, начал ожесточенно отказываться от своих слов: - Не ел я никакой земли! Чего ловите? На черта мне землю есть?
- Как же не ел? А когда клятву воровскую давал? Ведь нам все порядки ваши известны. Гляди, вон и коронку на здоровый зуб поставил, чтобы на заправского вора походить. Зуб-то здоровый? Признайся!
Филицин молчал, и мне было понятно: он боится ужасной расправы, неминуемой смерти, которые его ожидают, если главарь шайки узнает, что он «раскололся», то есть рассказал на допросе всю правду. Кто же был этот главарь? Уж во всяком случае не Гоша Саввин, как хотели нас уверить оба парня. Где-то за кулисами находился опытный бандит, знавший, чем можно повлиять на воображение этих ребят.
Нам не раз приходилось сталкиваться с такими случаями, когда прошедшие огонь и воду уголовники, образовав шайку грабителей из юнцов, подобных Саввину и Филицину, принуждали их давать клятву в том что они не «расколются» и не будут «темнить», то есть утаивать добычу от главаря шайки. В подтверждение и как бы в скрепление подобной клятвы, обставленной соответствующим мрачным ритуалом, их заставляли пить друг у друга кровь из глубоких порезов и есть землю. Позже, когда новички принимали участие в нескольких налетах и сами полагали, что навсегда отрезали себе путь к честной жизни, их вдобавок начинали стращать рассказами о пытках, которым подвергнется всякий, кто попытается изменить. В этих рассказах было немало пустой болтовни и нелепых выдумок, рассчитанных на слабодушных, но многие ребята, по легкомыслию попавшие в банду, наслушавшись этих сказок, начинали считать себя окончательно обреченными и принимались заливать водкой отчаяние и страх, неразрывно связанные с их новой «профессией».
Глава четырнадцатая РАНЕНАЯ ДУША
Более сложными оказались причины, приведшие в тюрьму второго участника грабежа - Георгия Саввина. Сам он долго не хотел говорить нам об этих причинах, а только когда я окольными путями лучше узнал об его печальной истории и сумел затронуть его больное место, он не выдержал и проговорился.
Когда я впервые увидел Гошу, я подумал, что этот паренек попал к нам по недоразумению. Глядя на его полудетское милое лицо с мягкими, еще не вполне сформировавшимися чертами, на широко открытые, прозрачные серые глаза, в которых читалась то боль, то какая-то отчаянная решимость, я сомневался, что этот белоголовый юнец пошел на грабеж из корыстных соображений или из-за хулиганства. Он выглядел явно потрясенным тем, что с ним произошло. И хоть с лица его почти не сходило напряженное озлобленное выражение и отвечал он подчеркнуто грубо и резко, но его мягкие губы, имевшие еще совершенно детский рисунок, поминутно кривились от тяжелых, с трудом сдерживаемых вздохов.
Я постарался по-дружески подойти к Саввину, когда беседовал с ним после того, как Нефедов снял с него допрос, называл его на «ты» и просто Гошей, как его звали на заводе. Это получилось у меня само собой, без всякой задней мысли, так как мне было жалко этого паренька.
Держался Саввин твердо и вызывающе. Всю вину в ограблении Морозова и Языковой брал на себя, заявляя, что Филицин только помогал ему, а Бабкин и Зыков будто бы вовсе никакого участия в грабеже не принимали.
- Я все сам придумал и выполнил, - твердил он упрямо. - И ножи сам раздобыл и штопорил я.
В том, что Гоша всячески старался подчеркнуть свою вину, чувствовалось что-то нарочитое и даже истерическое. Воровским жаргоном Саввин тоже козырял, стремясь представить себя завзятым преступником. Постепенно у меня создалось впечатление, что потрясен он вовсе не арестом и не только не боится попасть в тюрьму, но, наоборот, всячески стремится туда. Это заставило нас с Нефедовым призадуматься.
Бабушка Гоши Саввина, вместе с которой он жил, пока не ушел на завод, старушка в сильно увеличивающих очках, похожая на добрую совушку из детской сказки, рассказала нам, проливая мелкие старческие слезы, что вскоре после того, как родители Гоши внезапно уехали, мальчик вовсе отбился от рук. Он перестал слушаться ее, учиться, связался с какими-то скверными парнишками, которые, приходя к нему, тащили из квартиры все, что подвертывалось под руку, и, наконец, вовсе ушел от нее и поселился в заводском общежитии. Она сначала даже обрадовалась этому, надеясь, что на заводе его научат уму-разуму, ходила к нему, приносила поесть и кое-что из белья, но он вскоре запретил ей приходить. Когда же она, не смея ослушаться, перестала его посещать и начала расспрашивать о нем рабочих, то ей говорили, что внучек ее работает неважно и сторонится хороших ребят, а водится с разными хулиганами.
О Гошиных родителях старушка сказала немного. Они, как видно, не очень-то посвящали ее в свои личные дела. Из ее рассказа я понял, что жили они между собой неплохо, но потом появился какой-то Константин Павлович - красавец-мужчина, как она выразилась. Он увез ее дочку с ребенком в Москву, а Гошин отец Степан Сергеевич бросился за ними. Так они с тех пор все в Москве, и что там между ними творится - неизвестно.
Гоша ничего не хотел рассказать нам о своей прежней жизни и о родных. Он только упрямо твердил:
- Раз поймали, так судите, а в душе у меня нечего копаться. Одно только скажу: если выпустите меня, я все равно стану грабить и даже убивать.
- Да как тебе не стыдно, свиненок этакий! - вырвалось у меня. - Как тебе не стыдно думать так! Смотри, какая прекрасная жизнь кругом строится. Гляди, как другие ребята живут, учатся, чтобы настоящими людьми стать, дружат, спортом занимаются, в театрах бывают, сами на сцене играют, на танцы ходят. А ты? К чему ты себя готовишь? Кем хочешь ты стать? Отщепенцем, паршивой овцой? Ведь люди тебя, как бешеной собаки, сторониться будут. Уж если ты себя не жалеешь, так пожалел бы родителей, ведь они тебя любили, ласкали. Бабушка твоя говорит, что с отцом ты был очень дружен, на охоту с ним ходил, на рыбалку, фотографией с ним занимался, и ничего он для тебя не жалел. А когда ты хворал, он ночей не спал. Ведь ты представить себе не можешь, какой будет ужас для твоей матери, когда она узнает, кем ты стал. Да она с ума сойти может.
- И пусть сходит! - закричал Гоша, весь дрожа, как в припадке. - Так ей и надо! И отцу тоже… Уехали… бросили, как щенка… - Он упал грудью на стол, захлебываясь от рыданий. Я мог только расслышать: - Они думают, что если деньги посылают, то это все… Откупились… Семьи себе другие завели… Бабка сказала, что и отец не вернется… Вот теперь пусть и они немного помучаются, когда узнают. А мне один конец! Обратно ходу нет!
- Глупости ты мелешь, парень, - уговаривал я его, поглаживая по вздрагивающим плечам. - Я не знаю, что за люди твои родители, но чувствую, что они тебя жестоко обидели. Однако уж очень глупо ты решил им отомстить. Это что же у тебя вышло: назло мамке обморозил палец? Чудак ты, милый мой! И себе жизнь испортил, и людям, неповинным в твоем горе, вред принес, и родителям - несчастье и позор.
- Я ненавижу их! - выкрикнул Гоша истерично.
- Ну, предположим даже, что ненавидишь, предположим, что они дурные люди, эгоисты, забывшие о тебе, своем сыне, но в таком случае ты своей дурацкой выходкой только играешь им на руку. Ведь они теперь, узнав, что ты свихнулся, могут сказать, что и раньше чувствовали, какая ты дрянь, а потому тебя и бросили. Другое дело, если бы ты после такой обиды порвал с ними, отказался от их денег и начал так работать и учиться, чтобы о тебе заговорили, как о лучшем из лучших, и чтобы это до них дошло. Тогда бы они пришли к тебе и сказали, что гордятся тобой, а ты, если бы все еще на них сердился, сказал: «Напрасно вы ко мне пришли, я без вашей помощи в люди вышел и знать вас не знаю». Но верней всего, что к тому времени ты бы простил их.
- Нет! - упрямо мотал он головой. - Никогда я им не прощу. Да и нечего теперь со мной говорить, я конченый человек.
- Что ты заладил одно и то же, - возразил я ему. - Все это чушь! Подняться всегда можно. Не такие преступники, как ты, на честный путь возвращались.
- Что вы мне говорите! - махнул он безнадежно рукой. - Зря все это. Ведь вы ничего не знаете.
- Напрасно ты так думаешь. Не тебя первого так околпачили и запугали. Я даже знаю, чем тебе грозили. Только все это ерунда, сказки для маленьких ребят. Ты не верь, что они смогут с тобой рассчитаться, если ты захочешь их бросить. Мы неизмеримо сильнее их. Я тебе обещаю, даю слово коммуниста: если ты порвешь с этой шайкой и честно признаешься в своих делах, то я сделаю все, что смогу, чтобы облегчить твою судьбу, а потом помогу тебе устроиться на работу и выйти на верную дорогу.
В ответ Гоша только прерывисто вздохнул, покачал головой и опять застыл в удрученной понурой позе. Я понимал - только нечто более сильное, чем уговоры постороннего человека, могло подействовать на него и заживить раны, нанесенные его душе. Вот если бы его родители вернулись и признали свою вину перед ним, то лед, сковавший его душу, мог бы растаять. В этом со мной был согласен и Нефедов, который тоже со своей стороны потратил немало труда, чтобы убедить Гошу отказаться от сумасбродной затеи отомстить своим родным таким нелепым путем. Однако Гоша не слушал и его убеждений.
Показания Гоши на допросах походили на раз навсегда затверженный урок, который он повторял, не сбиваясь. Он упрямо настаивал на том, что первый остановил Морозова и, пригрозив ножом, потребовал деньги и часы. Морозов же говорил, что первым к нему подбежал Филицин, а Саввин - уже вслед за ним, причем он не вымолвил ни слова, только стоял с поднятым ножом, пока Филицин шарил по карманам.
Гоша не раз повторял на допросах, что ударил Языкову кирпичом по голове, а кирпич этот будто бы взял из кучи в том же дворе, где было совершено нападение. Однако там мы не обнаружили ни кучи, ни отдельных валяющихся на земле кирпичей. Кроме того, на пуховом платке Языковой при самом тщательном исследовании не было обнаружено даже ничтожных следов кирпичной пыли.
Я с головой влез в следствие по делу трех парней, предполагая, что главарем их шайки окажется Бабкин, с которым их не раз видели вместе. Если бы это предположение подтвердилось, оно значительно подкрепило бы мою версию о том, что Бабкин, подбирая шайку, хотел втянуть в нее Семина, а когда же тот отказался, то из опасения, что Семин предаст, а может быть и из-за мести, Бабкин решил подвести его под расстрел.
Однако время шло, и если бы моя версия не подтвердилась, то я попал бы в глупейшее положение. Мне могли бы поставить в вину, что я, забросив порученное мне дело, занялся другим, которое могли провести и без моей помощи работники борской милиции. Нефедов разделял мое предположение, что именно Бабкин являлся организатором шайки, и как ни пытались ребята выгородить Бабкина, принимая всю вину на себя, упорно продолжал следствие.
По указанию Нефедова, всем троим ребятам была дана возможность как бы по неосторожности конвоя не только увидеться, но и поговорить с Бабкиным. Почти полчаса они сидели рядом с ним в пустом коридоре, причем конвоиры болтали в стороне между собой. Однако ни ребята, ни Бабкин не показали и виду, что знают друг друга.
- Успели раньше сговориться, как себя держать, - сказал Нефедов и распорядился, чтобы Саввина и Бабкина посадили в одну камеру.
Эта мера принесла двойные результаты. С одной стороны Бабкин, потеряв осторожность, стал вести с Гошей такие разговоры, из которых стало ясно, что они были раньше хорошо знакомы между собой, но, с другой стороны, Саввин принялся с еще большим упорством утверждать, что именно он являлся зачинщиком и главным выполнителем совершенных грабежей, а Филицин только помогал ему. Я опасался, что если он и на суде будет придерживаться такой линии, то может добиться весьма печальных для себя последствий, и решил, не откладывая, написать обо всем его родителям. Это довольно-таки нескладное письмо я отстукал на машинке в двух экземплярах, чтобы послать его и отцу и матери Гоши. Писал я так:
«Я должен сообщить вам очень неприятное известие о вашем сыне. Из лежащего передо мной уголовного дела видно, что Георгий Саввин вместе с двумя сверстниками неоднократно занимался вооруженным грабежом, причем одна из пострадавших, которой, по словам вашего сына, именно он нанес удар по голове, находится теперь в тяжелом состоянии, на грани между жизнью и смертью.
Ваш сын настойчиво заявляет, что занимался грабежом из чисто корыстных соображений, и выставляет себя главным зачинщиком преступлений, что до некоторой степени не вяжется с фактами.
Каждое преступление, конечно, должно быть наказано по заслугам, но нам кажется, что Георгием руководит желание всячески усугубить свою вину, с чем мы не можем согласиться.
Должен сказать, что во время одного из допросов, в ответ на мои уговоры не брать на себя чужую вину, ваш сын в совершенном исступлении закричал: «Пусть мои родители узнают, кем я из-за них стал!».
Я имею основание предполагать, что эта фраза и является разгадкой того печального явления, что неплохой в прошлом юноша, никогда раньше не замеченный в дурных поступках, внезапно бросил учиться и оказался в грабительской шайке.
По словам его бабушки Агнии Ивановны, я мог заключить, что между вами, супругами произошла семейная драма, вмешиваться в которую я не собираюсь. Эта область вашей жизни касается лично вас, но ваше отношение к сыну затрагивает уже не только личные, но и общественные интересы. Для советского человека нет выше обязанности, как вырастить своих детей полезными членами социалистического общества. А вы этот величайший долг не выполнили. Правда, вы посылали бабушке деньги на содержание сына, но в то же время ни один из вас не удосужился написать своему сыну хотя бы строчку, чтобы ободрить и успокоить его, забывая, что это не годовалый несмышленыш, а юноша, к тому же очень впечатлительный и нервный.
Вам, Анна Максимовна, бабушка не раз писала, что Георгий отбивается от рук, но получала в ответ только короткие строки на почтовых переводах о том, что с ним нужно строже обращаться. И даже, когда из последнего письма вашей матери вы узнали, что Гоша на краю гибели, вы и тогда не нашли в себе мужества написать ему хоть несколько искренних человеческих слов, чтобы он мог понять то неодолимое, что заставило вас разрушить семью, и не поддавался бы ни отчаянию, ни мстительному чувству.
Не ответили вы и на его письмо. По словам Агнии Ивановны, Гоша долгое время после вашего отъезда ходил совершенно убитый, машинально выполняя все требования строго установленного вами распорядка. Однажды она услышала среди ночи из его комнаты горькие рыдания. Обычно Гоша редко плакал, и это поразило ее. Она постучала к нему, хотела утешить, но он не ответил.
Утром она видела, как он вышел из дому с конвертом в руках, видимо, чтобы опустить письмо в почтовый ящик. После этого он каждый день, вернувшись из школы, прежде всего спрашивал, не было ли письма. Он даже ходил на почту, справлялся, не затерялось ли оно там, не представляя себе, что на такое ею письмо вы могли не ответить. Но письма от вас он так и не получил. Вам за вашими личными переживаниями, за хлопотами по устройству нового гнезда некогда было ответить на письмо брошенного вами сына. С этого и началось.
Убедившись, что ответа не будет, Гоша впервые не пошел в школу, а когда бабушка спросила его, почему он лежит в постели, не болен ли, он ответил: «Не твое дело!». Раньше он никогда так грубо с ней не говорил, Потом он ушел и вернулся только ночью…
Сейчас, когда я пишу это письмо, Гоша сидит передо мною около топящейся печки, зажав между коленями грязные руки. На лице его, побледневшем и уже приобретшем грязновато-серый, тюремный оттенок, залегло выражение тяжелого, недетского раздумья, пухлый ребячий рот полуоткрыт, в глазах тоска. Уж поздно, нужно кончать разговор с ним, но мне жалко его тревожить. В комнате тепло, а на дворе холод и слякоть. Одет он плохо: в грязном рваном пиджаке с чужого плеча и плохих ботинках. Свое пальто и сапоги он будто бы проиграл в камере, где он сидит с другими ворами, грабителями, жуликами. Возможно, что в такой компании ему придется пробыть несколько лет. Это решит суд, на который вы должны явиться в качестве свидетелей.
Многое зависит и от того, будете ли вы только свидетелями или, собрав крохи своей прежней родительской любви, сможете полным признанием своей вины перед сыном разбить ненависть, сковывающую его душу. Очень важно, чтобы он из чувства болезненной обиды не взваливал на себя чужих преступлений, в то время как у него немало и своих грехов».
Я подписался под письмом и задумался. Может быть, письмо получилось у меня слишком резким, но уж во всяком случае оно было написано искренне, хотя я и сдерживал себя, чтобы не слишком высказывать свое возмущение поведением этих сбежавших родителей.
Гоша заметил, что я перестал писать, и вопросительно посмотрел на меня.
Я спросил, кому он проиграл пальто.
- Так, одному парню… - неопределенно ответил он.
- Зачем ты врешь? Ведь твое пальто у Бабкина.
Он промолчал.
Я уже упоминал, что у Бабкина ненадолго хватило выдержки и он довольно быстро выказал свое знакомство с Саввиным. Прежде всего он начал интересоваться, о чем того спрашивали на допросах, учил, как нужно держаться со следователями. При этом он всячески помыкал Гошей, отобрал у него пальто и сапоги. Мы знали об этом, но не считали нужным вмешиваться. Гоше было полезно уже сейчас узнать все прелести той участи, которой он так добивался.
- Во что играли? - продолжал я спрашивать.
- В карты.
- Да что ты все сочиняешь? У вас в камере нет карт. Скажи лучше, что Бабкин отобрал у тебя пальто. Я велю ему вернуть.
- Нет, не говорите ему ничего, - забеспокоился Гоша. - Я все равно не возьму пальто обратно. Мне и в этом хорошо.
- Тебя, может быть, Бабкин бил?
- Нет, не бил. Наоборот, он мне вчера еще совсем хорошие портянки отдал.
- За что отдал. Ведь так, даром, он никому ничего не дал бы.
- Он ко мне приставал, чтобы я ему про фотографию рассказал.
- Про какую фотографию? - спросил я, довольный тем, что Гоша сегодня хоть немножко разговорился.
- Ну, как снимок получается и отчего бывает, что когда человека убьют, то в его глазах остается тоже вроде фотографии того, кто его убил.
- Что же ты ему объяснил? - задал я Гоше вопрос, чувствуя, что Бабкин неспроста заинтересовался отпечатками в глазах убитого.
- Я сказал, что слышал об этом, но думаю, что, может быть, это вранье. А про фотографию рассказал все, что знал. Мы с отцом часто снимали. Иногда и у меня хорошо получалось.
- А хотел бы ты, как прежде, ходить со своим отцом в поле, рыбачить, снимать виды?
Гоша понурился. Искреннее детское выражение сбежало с его оживившегося на минуту лица, сменившись прежним - мрачным, насупленным. Так бывает, когда в светлой, солнечной комнате порывом ветра внезапно захлопнет ставни.
Оставшись один, я долго думал о нашем разговоре с Гошей. Я припомнил даже случай, который, вероятно, и натолкнул Бабкина на мысль об изобличающей его фотографии. Несколько дней тому назад, когда я допрашивал Бабкина, зашел Нефедов. Слушая, что мямлит Бабкин в ответ на мои вопросы, он, по привычке вечно крутить что-нибудь в руках, стал опускать и поднимать на штативе стоявший у меня на столе фотоувеличитель.
Совершенно неожиданно это испугало Бабкина. Он задвигался на стуле, закрылся рукой, точно у него заболели зубы, и, наконец, вовсе отказался отвечать на мои вопросы, так что мне пришлось его отослать.
Мысль о том, что заблуждение Бабкина можно было бы использовать, чтобы заставить признаться, неотступно преследовала меня, но я не знал, как это сделать.
Глава пятнадцатая ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ТРЕХ
Что я знал о последнем пареньке, замешанном в грабеже? Помимо того, что рассказал Василий Лукич, очень мало, почти ничего.
Мне было известно, что в ночь ограбления Морозова Ленька Зыков вернулся в общежитие совершенно пьяным вместе с Филициным и Саввиным и поднял там скандал, а когда на следующий день он с больной головой пришел на завод с опозданием на час, его не допустили к станку. Но это как будто и не огорчило Леньку, так как вечером он как ни в чем не бывало явился в клуб на танцы, причем на нем была зеленая шелковая рубаха с ушитым сзади крупными неумелыми стежками воротом, слишком широким для его цыплячьей шеи, и с подвернутыми рукавами.
Когда Зыкова ввели в мой кабинет, вид у него был крайне жалкий. Он и вообще-то не блистал красотой, был невелик ростом, худ, белобрыс, курнос и веснушчат. Не красил его и костюм - старый пиджачишко и заплатанные, не по росту короткие, вытянувшиеся пузырями на коленях старые штаны. Он стоял передо мной и нещадно мял свою кепку, окончательно доламывая и так уж измятый козырек.
В обычном состоянии, судя по довольно-таки озорным чертам лица, Ленька, наверное, был веселый, жизнерадостный парнишка, но сейчас на его бледном растерянном лице можно было прочесть только испуг. Однако этот испуг не помешал ему врать и запираться не меньше, чем это проделывали его товарищи. Он клялся, что ничего худого не делал, ни о каком грабеже даже не слыхал, а Бабкина не видел и в лицо. Отрицание он доводил до нелепости, заявляя, например, что не знает даже, каким образом попала к нему злополучная шелковая рубаха. Время от времени на него находило какое-то истерическое ухарство, тогда он начинал дерзить, паясничать и говорить глупости. Нефедов решил применить к нему одно «сильно действующее средство», как он выразился. Он освободил Зыкова из-под стражи, взял с него подписку о невыезде и отправил домой.
- Ему завтра на заводе пропишут ижицу, - сказал он мне. - Там с ним рабочие собираются крепко поговорить. Может быть, сходишь, посмотришь, а я бы другими делами занялся.
На завод я пришел, когда смена, в которой работал Ленька, уже пошабашила. Знакомый вахтер сказал мне, что рабочие еще не разошлись, так как у них внезапно объявлено общее собрание.
- Это Чеканов, Василий Лукич, со своими приятелями шум поднял на весь завод, что у нас опять ребята на грабеже попались. Чего он расшумелся, не знаю, точно это у нас впервые. Помните: в прошлом году сами же вы Калявкина и Немцева прямо от станка у нас забрали, и все тихо обошлось, а нынче чего-то шумят. Хотя оно, конечно, непорядок, когда грабят. Давно пора с этим покончить!
Я прошел в цех, где шло собрание. По всему было видно, что оно организовано наспех. Кроме председателя и секретаря, устроившихся за маленьким столиком, все стояли, тесно сгрудившись возле них. Вероятно, там стоял и Ленька, больше нигде его не было видно. Я не стал пробираться вперед, а, прислонившись к железной колонне, поддерживавшей застекленный потолок, стал слушать, о чем идет речь.
- Как же не будут ребятишки расти беспризорниками, - кричала высоким звонким голосом полная женщина с широким веснушчатым лицом, - когда они полдня по улице бегают и некому за ними присмотреть, пока отец с матерью с работы не придут.
Вот и растут шалыганы, ругаются всяко, курят. А что им хулиганье на улице в головенку ихнюю вколачивает, один бог знает. Ужас берет, как подумаешь. Ведь известно: что в ребенка в детстве вложено, то у него на всю жизнь след оставляет. Пока мой младшенький в детский сад ходил, я, по крайней мере, спокойна за него была, а теперь, как в школу пошел, так вся душа у меня изболела, что остается он после уроков без присмотра. Да разве он один!..
- Вот во время войны, я помню, - сказала немолодая женщина с густой сединой в выбившихся из-под платка волосах, - ребят в школе до вечера оставляли, пока родители с работы не придут. Их там и кормили, и уроки с ними готовили, и на экскурсии с ними ходили, а как война кончилась, сразу же и порядки эти прикончили. Будто бы каких-то там штатных единиц в школах не стало. Так разве в единицах дело, когда вопрос касается судьбы наших детей?
- У нас тоже ребятишки ходили в такую школу…
- У меня тоже, и очень хорошо им там было! - раздались голоса из группы работниц, стоявших у дверей.
- Если бы они и теперь при школах оставались, мы бы не мучились с ними так.
- Мне слово дайте! - поднял руку пожилой рабочий в замасленной спецовке. - Вот председатель - товарищ Чеканов, обвинял тут завком и партком, что опять у нас троих ребят за грабеж арестовали, - начал он сердито, - а если правду говорить, то вина не только на завком и партком ложится, а на всех нас. Все мы обязаны по-отцовски присматривать за нашей заводской молодежью, особенно за теми, у которых отца-матери нет. Знать должны, чем каждый из них дышит, к чему душой стремится, на что время и деньги тратит. И не только нужно нам учить, как работать, а на примере своем им показывать, как жизнь строить нужно. А то ведь бывает, что мальчонка от горшка два вершка, а смотришь, едва только у него деньжата завелись, он прежде всего покупает бутылку водки. Мы все это видим, но молчим, чтобы на ругань не нарваться, авторитет сбой этим не подорвать. А есть среди нас и такие, которые, вместо того чтобы одернуть пария, сами же норовят на его деньги нахлестаться.
И еще насчет клуба хотел я сказать. Скучища у нас там такая, что рот разорвешь зевая. Ребята - ведь это ребята, им повеселиться охота, а у нас если и поставят какую-нибудь комедию, то в ней одни нравоучения гольные, так что и улыбнуться нечему. А молодежи без смеха и радости жить нельзя. Вот она и ищет себе веселья на улице да у пивного ларька…
Не все были согласны с выступавшим.
- Не в веселье дело! - кричали ему. - Энергии у них много, а тратить ее некуда. Спортом их нужно занять!
- Спортом ли, чем ли, не в этом дело! - раздались голоса. - Слишком много мы о людях говорим, а до каждого отдельного человека нам дела мало. Забываем мы, что люди не гайки. Одного, может, спортом нужно увлечь, а другого - наукой…
Ко мне протискалась Галя. Щеки ее пылали, чувствовалось, что она сильно взбудоражена.
- Ох и влетело же нам! - сказала она, не здороваясь. - Все ругали. Отец начал, а за ним и другие. Досталось и завкому, и парткому, и дирекции, а особенно нам, комсомольцам.
Не успел я ей ответить, как она спросила:
- Вы видели, как Ленька Зыков сбежал?
- Очень просто. Все в один голос напустились на него, а он в двери. Но за ним уже пошли.
В это время в дверях раздался гул голосов. Все повернулись в ту сторону. Два парня скорее втащили, чем ввели упиравшегося, заплаканного Леньку.
- Пустите! Я вам говорю, пустите! - вырывался он. - Я сам пойду, оставьте меня!
Но добровольные конвоиры, не доверяя ему, провели парнишку сквозь расступившуюся толпу к самому столу председателя.
Шум улегся не сразу. Чуть ли не каждый считал нужным выразить свое мнение о нем:
- Паршивец этакий, людей послушать не хочет… Блудлив, как кошка, труслив, как заяц!
Леньку поставили у стола лицом к народу. Жалкий, несчастный, стоял он, понурив голову и опустив руки, как плети. В лице его не было ни кровинки, и от этого веснушки казались грязными брызгами.
- Ну, скажи людям, рабочему классу, растящему тебя, какими ты подлыми делами занялся? С кем ты пил, с кем грабил? - обратился к нему Василий Лукич.
- Ничего я не гра-а-бил, - всхлипнул Ленька. - Выпил только с ребятами. Они меня просили дверь им открыть, когда они вернутся, ну я и открыл. Потом мы с ними выпили, вот и все.
- Как все, а рубаха? - загремел Василий Лукич.
- Рубаху… это не я… Это мне Сенька Филицин дал.
- За что дал?
- Чтобы я Бабкину не говорил, что они одни в эту ночь, без него, ходили, - весь дрожа, ответил Ленька, потрясенный таким необычным допросом.
«Бабкин! Вот, наконец, где он попался!» - обрадовался я. Чутье и на этот раз не обмануло меня: ребята действительно грабили под руководством этого бандита.
Я не дал времени Леньке опомниться и, как только рабочие, крепко поругав его и взяв обещание исправиться, разошлись, снял с него формальный допрос, пригласив в свидетели Чеканова и предзавкома. Все еще шмыгая носом и утирая слезы, Ленька признался, что больше полугода знаком с Бабкиным. Сначала ребята, и он в том числе, считали Бабкина просто чудаком, который от нечего делать липнет к ним и рассказывает всякую ерунду. Они не гнали его от себя потому, что он угощал их конфетами, папиросами, а потом и водкой. Он научил их играть в девятку и, проигрывая, всегда аккуратно расплачивался. Однажды Ленька проиграл ему порядочную сумму. Сначала он не хотел платить, но Бабкин пригрозил, что прирежет его, как теленка, тогда испуганный мальчишка украл ценный инструмент, чтобы расплатиться. Однако вырученные за эту вещь деньги Бабкин не взял себе, а пустил на пропой, купив ребятам ликеру и пряников на закуску.
Как-то во время очередной выпивки он сговорил ребят заняться грабежом, уверяя, что это совершенно безопасное дело, а денег они могут таким путем добыть горы. Ленька будто бы ни разу с ним не ходил, но другие ребята - Саввин с Филициным (тут Ленька выразился по-воровски) «залепили два скачка» с Бабкиным, и после этого так осмелели, что во время его отсутствия нарушили запрещение и отправились на промысел одни. Вот тогда-то они и добыли зеленую рубаху, которую им пришлось отдать Леньке, чтобы он не выдал их Бабкину.
Когда я окончил допрос, Василий Лукич отвел меня в сторону и смущенно спросил:
- Заберете парня с собой или как?
- А в чем дело?
- Да я бы хотел его к себе пока взять, пускай у нас поживет. Все-таки передряга для парня немалая, да и боится он, как бы с ним не рассчитались за откровенность его.
- Это вы хорошо придумали, - ответил я. - У вас под крылом ему будет спокойней.
Вечером я слышал, как они разговаривали в кухне. Я думал, что старик будет ругать или поучать парня, но он ни словом не упомянул о случившемся, а расспрашивал Леньку о деревне Кондрашкиной, откуда оба они были родом, и вспоминал, как в детстве ловил пескарей в тамошней речке.
Ленька оживился, забыл на время свои неприятности и рассказал в свою очередь необыкновенный случай, когда зимой эта самая речка промерзла на перекатах до дна и в проруби, где женщины обычно полоскали белье, вдруг появились налимы, о которых здесь никто и не слыхивал. Смотреть на такое диво сбежалась вся деревня, а Ленька, догадавшийся принести сачок, наловил тогда целое ведро рыбы.
Я прислушивался к их мирному разговору, думая о судьбе тех мальчишек, которым не с кем было поговорить так дружески.
Глава шестнадцатая ОН ВОР! (Из дневника Ирины Роевой)
Вчера мы рассорились с няней. Это уже навсегда. Я никогда не прощу ей того, что она сказала про Радия. Вот до чего может довести человека ненависть! Она всегда не любила его, но подчас хоть жалела, а тут вдруг унизилась до такой клеветы на него, что хуже и быть не может.
Я не помню, о чем у нас зашла речь, но в конце концов, как это часто бывало, разговор свелся к поведению Радия. Я сказала, что он еще больше стал пить, каждый вечер пропадает из дому, и выразила удивление, откуда у него берутся на это деньги.
- Известно откуда, - вдруг зло бросила няня, продолжая стирать. - Оберут кого-нибудь в темном переулке или ларек ограбят, вот тебе и пей сколько хочешь.
- Что ты выдумываешь! - в ужасе воскликнула я. - Откуда ты это знаешь?
- Сама своими глазами не видела, но думаю, что это так. Ты посмотри, с какой он шушерой водится. Ведь уж из самых что ни на есть подонков последняя слякоть. Самостоятельный человек с таким отребьем и говорить бы не стал, а он шепчется с ними по закоулкам. Для чего, скажи, они то и дело по вечерам к нему в гараж ныряют?
- Замолчи! - закричала я, не помня себя. - Это ты из-за ненависти так клевещешь на него. Что он тебе сделал? - Я так разрыдалась, что няня принуждена была замолкнуть. Теперь мы почти не говорим.
Будет ли конец моим мучениям? Вчера стала искать у себя в шкатулке кнопки для новой кофточки (до нее ли мне теперь?), как вдруг заметила, что исчез всегда лежавший там браслет, оставшийся мне на память от матери. Куда он мог деться, я не могла представить. Шкатулка обычно хранилась в комоде под замком, никого постороннего у нас давно уже не бывало, а браслет я видела несколько дней назад. Пусть бы даже он потерялся, бог с ним, но мысль, что его взял Радий (больше некому), угнетала меня. Уже был случай, когда он взял из стола у отца двести рублей, а теперь украл браслет… Ведь это настоящее воровство! Неужели няня была права?
Вся пылая от возмущения, я бросилась в комнату к Радию, чтобы потребовать от него объяснения, однако он, несмотря на то, что только откуда-то приехал, уже успел снова уйти из дому. Перевернув все в ящиках его незапертого стола и не найдя там ничего, я вытащила у него из-под кровати чемодан и, сломав ножницами замок, открыла его. Почему-то я считала, что браслет еще у Радия, хотя дело было вовсе не в том, найду я его или нет. Но то, что я увидела в чемодане, заставило меня забыть о браслете. Передо мной были деньги… много денег… пачками… Столько я никогда не видывала.
Как оглушенная, я опустилась на пол рядом с чемоданом. Откуда у Радия могли быть эти деньги? Кто мог дать ему столько? - Вот страшные вопросы, которые стали передо мной.
Бросив чемодан незапертым, я ушла к себе и целый час просидела, чутко прислушиваясь к каждому звуку в прихожей. Наконец Радий вернулся. Задыхаясь от волнения, я ждала, что он придет ко мне и попытается оправдаться, если еще как-то можно оправдываться в таких случаях. Но он не пришел. Вечером мы встретились в коридоре. Он прошел мимо меня чернее тучи, но даже не взглянул в мою сторону, подтвердив этим самое худшее, что я могла про него подумать. У меня же точно отнялся язык. Ничего не видя перед собой, я ощупью добралась до постели и упала на нее…
Только сейчас, под утро, я встала и вот сижу, стараясь собраться с мыслями и решить, что мне делать? Бежать, кричать, что брат мой вор? Или молчать, покрывая его преступления? Я жду, скоро он должен вернуться с ночной попойки (а может быть, как знать, с грабежа?). Тогда я пойду и спрошу его напрямик. Что он мне ответит? А после поступлю так, как подскажет совесть.
Только вечером мне удалось застать его одного, так как утром он вернулся с некстати приехавшим Аркановым. На мой вопрос, откуда эти деньги, он деланно расхохотался и заявил, что выиграл их, но ему пришлось отдать их обратно, потому что он «пожалел» проигравшего. При этом он для чего-то вытащил и показал мне пустой чемодан. Я не поверила ни одному его слову и хотела молча выйти из комнаты, но он грубо схватил меня за руку и пригрозил, чтобы я «не наделала глупостей», а потом путанно и невнятно начал жаловаться, что все ему осточертело, так жить больше нельзя, нервы у него вконец издерганы и он подчас едва удерживается, чтобы не пустить себе пулю в лоб.
Раньше меня страшно пугали такие его признания. Теперь же я видела только, что он хочет застращать меня, чтобы я не посмела кому-либо сказать о своем страшном открытии, опасаясь довести его до самоубийства.
Что мне делать? Куда идти? С кем посоветоваться? Робкий, подленький голос подсказывает мне предоставить все своему течению, поверить Радию, что деньги действительно им выиграны. Однако разве я, советская гражданка, могу так поступить? Я должна кому-то рассказать о своих подозрениях. Но едва я начинаю думать об этом, как решимость покидает меня. Ведь это мой брат, любимый брат, мой Радик, которым я когда-то так гордилась. Всю жизнь я заботилась и болела за него душой и как сестра, и как мать. И вот что получилось…
Один человек, о котором я напрасно стараюсь не думать, мне сказал, чтобы я позвала его на помощь, если со мной случится беда. Тогда он думал совсем о другой беде, но эта беда еще страшнее. Я жестоко оскорбила и оттолкнула этого человека. Но если бы он опять… Впрочем, нет, этого не может быть. Зачем ему вспоминать обо мне? И мне незачем постоянно думать о нем. Только лишнее мучение.
А тут еще этот проклятый Арканов. Из-за него я чувствую себя точно в плену. Он следит за каждым моим шагом и даже тогда, когда уезжает из города, потом как-то узнает, где и с кем я была. Наверное, для него шпионят и Клара, и Радий, и даже, как мне кажется, мальчишки из нашего двора. Но, может быть, я ошибаюсь. Я стала такая подозрительная, никому не верю, никому…
Глава семнадцатая ПОЕДИНОК
Бабкин доставлял мне множество хлопот и неприятностей. Постигший сложную лагерную науку всевозможных уверток и запирательств, скользкий, как уж, он широко пользовался тем преимуществом передо мной, что мог, когда я припирал его к стенке, тупо молчать или все отрицать, в то время как я должен был доказывать ему бесспорность найденных мной улик.
Однако, когда улики против него начали накапливаться, он забеспокоился и заметался, как лисица в капкане.
Ему было предъявлено два обвинения. Первое - в организации бандитской шайки - солидно подкреплялось показанием Лени Зыкова и заявлением выздоравливавшей Языковой, признавшей в Бабкине того человека, который ударил ее по голове. Второе обвинение - в убийстве Глотова - было обосновано слабее. Мы установили только, что топор, которым был убит Глотов, украл у плотника Бабкин. Это подтверждал квартирохозяин Бабкина, видевший у него этот топор. Кроме того, мы знали, что в ночь, когда произошло убийство, Бабкин находился в Озерном.
Бабкин, конечно, понимал, что этих двух улик недостаточно, чтобы осудить его, но опасался, что будут найдены другие, более веские доказательства его вины. Он сообразил, что кара за грабеж неизмеримо легче, чем смертная казнь, грозившая ему за убийство, и решился на ловкий фортель. Чтобы разом опровергнуть наши обе улики, он заявил, что действительно украл у плотника топор, но этот топор у него вскоре же кто-то утащил, а в Озерном в ночь на семнадцатое сентября он быть не мог, так как ездил туда только «для отвода глаз», нисколько там не задержался и сразу же вернулся в Борск с товарным поездом.
- Кому же это вам нужно было отвести глаза? - спросил я его.
- Милиции, известное дело, - отвечал Бабкин с сокрушенным видом. - Ничего не попишешь, придется мне сознаваться. Ведь я в ту ночь залепил скачок с ребятами - Гошкой Саввиным и Сенькой Филициным. Сговорили меня стервецы. Такие, ей-богу, отчаянные, особенно Гошка. Пристал, как банный лист, - не отвяжешься: «Сходи, дядя Федя, хоть разок!». Ну я и согласился с пьяных-то глаз, однако все же, думаю, на всякий случай съезжу хоть до Озерной, покручусь на народе, чтобы, если ребята засыплются, мне в стороне быть.
Записывая это вранье, я подбадривал Бабкина:
- Вот хорошо, что сознались… давно бы так. А кого еще, кроме Морозова и Языковой, вы с ребятами останавливали?
- Какой такой Языковой? - встал на дыбы Бабкин (он еще не знал, что Языкова дала против него показания). - Никакой Языковой я знать не знаю!
- Как же не знаете, когда она вас хорошо разглядела, да и ребята подтвердили, что вы вместе с ними ее грабили. Даже главарь ваш - Саввин дал показание, что, когда он ударил, то вы рядом стояли.
Услышав, что Саввина мы считаем главарем шайки (это было ему на руку), Бабкин, еще немного поломавшись, подписал протокол, в котором признавал свое соучастие в ограблении Морозова и Языковой.
Если такое показание Бабкина почти завершало следствие по делу об ограблении Морозова, то оно ставило под вопрос виновность Бабкина в убийстве Глотова. Я опасался, что суд, толкующий все невыясненные обстоятельства в пользу подсудимого, мог принять объяснение Бабкина за чистую монету и согласиться, будто в момент убийства Глотова Бабкина в Озерном не было.
Неудача с озерненским делом так меня мучила, что я даже похудел. Об этом мне сказала и Галя, заметившая, что у меня заострился нос, и еще один более беспристрастный свидетель - мой солдатский пояс, на котором пришлось проделать одну за другой две дополнительные дырки. Но как же мне было не беспокоиться, когда от исхода этого дела зависели две человеческие судьбы. Прежде всего, судьба и даже жизнь Семина, а также благополучие Ирины. Ведь я не терял надежды, что, в случае удачного окончания данного мне поручения, меня назначат на работу в Каменск, и там я так или иначе постараюсь разрушить замыслы, которые строят в отношении Ирины ее милые родственники и «очаровательный» Арканов. Еще хорошо, что полковник, который не раз по телефону осведомлялся у меня, как идет дело, не отказывал в продлении командировки.
В таком положении я находился, когда полковник позвонил Нефедову и сообщил, что вечером будет проезжать мимо Борска, возвращаясь в Каменск из дальней поездки. Он просил нас явиться к поезду доложить о неотложных вопросах.
На вокзал мы пришли минут за двадцать до прихода поезда и, зайдя в буфет, заказали по бутылке пива, чтобы скоротать время.
Ресторан быстро наполнялся отъезжающими. Большинство из них торопливо, с озабоченным видом, свойственным людям, пустившимся в дальний путь, входили и занимали места за столиками. От нечего делать я разглядывал их, потягивая щиплющее за язык пивко, как вдруг странное поведение одного пассажира привлекло мое внимание.
Высокий худощавый парень в черном ватном стеганом костюме, войдя в зал и взглянув на нас с Нефедовым, вдруг круто повернул обратно и, растолкав в дверях людей, протискался вон из ресторана.
«Чего это он испугался? - подумал я. - Это неспроста. И как здорово он похож на Радия Роева. Только у того нет усов. Уж не приехал ли Радий сюда по каким-нибудь секретным делам, налепив фальшивые усы? Хотя, какие у него могут быть дела?». Все же я поднялся и вышел, чтобы поближе посмотреть на этого парня, но нигде его не нашел.
Показались огни приближающегося поезда, и народ повалил из дверей вокзала на перрон. Ко мне подошел Нефедов, спрашивая, что заставило меня сорваться с места. Я хотел объяснить, но в это время в тамбуре одного из пробегавших мимо нас вагонов мы разглядели плечистую фигуру нашего начальника.
После того как Нефедов доложил о своих делах, полковник в двух словах рассказал, что выявило пока следствие по делу Шандрикова. Под давлением улик и особенно после очной ставки со своей сообщницей из Озерного, Шандриков сознался в ограблении магазина № 13, но заявил, что сторожа ударил по голове не он, а его сообщник Пудель, которого вскоре же арестовали.
- Считаете ли вы, товарищ полковник, - спросил я, - что дело Шандрикова относится к той группе дел, о которой мы с вами говорили?
- Трудно пока сказать. Оба преступника заявляют, что орудовали одни и ни с кем, кроме портнихи из Озерного, не были связаны. Но верить им не приходится. Ведь кто-то сообщил же им из Борска, когда именно будут завезены товары в магазин. Кроме того, отвечая на вопрос о том, где и когда Шандриков и его связчик купили себе одинаковые галоши, Шандриков заявил, что каждый покупал галоши для себя, а его связчик сказал, что для них обоих галоши купил Шандриков. Обе пары будто бы были завернуты вместе, и распаковали они сверток с галошами только приехав в Борск. Видимо, галоши доставил им кто-то со стороны. Были опрошены продавцы всех промтоварных магазинов, одна из продавщиц универмага смутно припомнила, что какой-то хорошо одетый молодой человек купил сразу две пары больших галош, причем для чего-то пояснял, что у него с отцом ботинки одного размера.
Для моего доклада времени осталось мало, и я едва успел доложить о том тупике, в который зашло дело об убийстве Глотова.
Только я закончил, как вдруг увидел бегущую через перрон долговязую фигуру в ватнике. Это был человек, которого я только что принял за Радия. Вынырнув из-за газетного ларька, он пересек платформу и с ходу вскочил в последний вагон.
Занятый им, я отвлекся и пропустил мимо ушей то, что говорил мне полковник, за что и получил замечание. В памяти у меня остались только следующие его слова:
- Что же ты хочешь, чтобы Бабкин тебе сразу и сдался? Этак очень редко бывает. Нужно самому напрячь все способности, обезоружить преступника бесспорным доказательством его вины и так припереть его этим к стене, чтобы он понял, что деться ему некуда. Рецепта для каждого отдельного случая тут не дашь. К каждому новому делу приходится подходить творчески. Вот тут-то и проявляется настоящее искусство и даже талант.
«Неужели же я такая безнадежная бездарность?» - думал я, возвращаясь с вокзала. Слова полковника об искусстве и таланте я обдумывал и так и сяк, и все у меня выходило, что он хотел этой фразой намекнуть на мою неспособность справиться со сложным делом.
Было уже поздно, но спать не хотелось. Чтобы не беспокоить своим поздним приходом хозяев, которые, наверное, давно уж мирно спали, я направился к себе в отделение. Там я, признаться, чувствовал себя теперь лучше, чем на квартире, где тяжелые вздохи Гали, долетавшие до моих ушей из-за тонкой перегородки, угнетали меня.
- Что тебе, дня не будет? - крикнул мне вслед Нефедов. - Неужели работать будешь? Или Галю боишься потревожить? Тогда идем ко мне, место на диване найдется.
Но я даже не обернулся. На душе было сумрачно. Все соединилось вместе - и личные обиды и служебные неприятности.
Привычная деловая обстановка кабинета подействовала успокаивающе. От недавнего уныния не осталось и следа. Я достал из сейфа дело Бабкина и начал внимательно перелистывать его, возобновляя в памяти весь ход следствия, раздумывая, не упущена ли мною какая-либо деталь, которая могла бы пролить свет на темную историю зверского убийства старика-пенсионера.
Перевернув один из листов, я вновь вернулся к нему. Это была беглая запись Гошиного рассказа о том, что Бабкин заинтересовался, может ли у убитого запечатлеться в глазах лицо убийцы. И тут вдруг меня охватило чувство, похожее на то смутное увлекательное ощущение, которое остается от внезапно прерванного сна. Кажется, что его уже не вспомнишь, что он безвозвратно потерян для тебя, так как от него осталось лишь нечто неясное, не имеющее образа, но стоит напрячь память и восстановить в уме хотя бы одну деталь, как перед тобой, точно свиток, развернется и все сновидение.
Если бы кто-нибудь взглянул на меня в этот момент со стороны, то, наверное, решил бы, что я сошел с ума. Я то быстро ходил по комнате, то останавливался, покусывая пальцы, то бормотал что-то, чертя на листке бумаги. Видимо, так мне и не суждено было перенять невозмутимой манеры полковника Егорова.
Утром я разыскал старинный медицинский атлас и сделал несколько снимков с помещенных в нем рисунков человеческого глаза. Затем велел привести к себе Бабкина. При этом предупрежденные мною конвойные задержались с ним на крыльце, а я через щель в заборе несколько раз сфотографировал его довольно близко. Затем я еще раз допросил его, но тут Бабкин задал мне новую задачу: его точно подменили. Если раньше под давлением неопровержимых улик он занимал оборонительную позицию, пытаясь всячески вывернуться, а кое в чем и признаваясь, то теперь вел себя крайне агрессивно, требовал немедленного освобождения, грозил, что будет жаловаться на то, что его чуть ли не побоями вынудили подписаться под протоколом предыдущего допроса. Словом, ни о каком признании с его стороны как будто бы не могло быть и речи.
Интересно, что Нефедов, вызвавший к себе на допрос Саввина и Филицина, столкнулся с тем же: они, точно сговорившись сорвать все достигнутые следствием результаты, наотрез отказывались от своих прежних показаний и заявляли, что никого не грабили, а Бабкина и знать не знали.
Было ясно, что на всех троих произвели давление одни и те же силы, действовавшие со стороны. В довершение всего утром ко мне в отделение пришла Галя и сообщила, что, когда вечером она с отцом и Ленькой шла с работы домой, Леньку подозвал к себе какой-то парень. Он сказал ему всего несколько слов, но после этого Ленька не спал всю ночь, стал совсем зеленый, ничего не ел и, идя утром на работу, все жался к Василию Лукичу и оглядывался по сторонам. Сколько они его ни расспрашивали, Ленька ничего не хотел сказать, а городил всякую чушь.
- Вы заметили, как выглядел тот парень, который говорил с Ленькой, и как он был одет? - спросил я.
- Он, по-моему, не здешний, я такого здесь не видела. Ростом повыше вас, красивый, с черными усиками, похож на итальянца, очень худой и бледный, точно больной, а одет в черную ватную стеганку, как рабочий.
«Уж не тот ли это парень, которого я видел на вокзале? - подумал я. - А может быть, даже и тот самый, который приносил передачу Семину. Уж не он ли подействовал так устрашающе на Бабкина и ребят?». Я тотчас же позвонил в тюрьму и вызвал к себе дежурившего накануне вахтера. Тот припомнил, что действительно принимал передачу для Бабкина от высокого молодого человека, одетого по-рабочему - в стеганке и ватных брюках, заправленных в сапоги.
Кто это мог быть? Думая об этом парне я каждый раз вспоминал Радия, на которого он был чрезвычайно похож, и невольно зарождалось предположение, что это был именно он, сперва это предположение казалось мне совершенно фантастическим, но, когда я припоминал частые отлучки Радия из дома, иногда на несколько суток, его пьянство, неопределенные, но крупные заработки, постоянное нервное состояние, - мои подозрения укреплялись.
Я вспомнил разъяренное и испуганное лицо Радия, когда он, тряся Ирину за плечи, кричал ей, чтобы она не смела говорить о том, что такое он купил. Ирина тогда успела только произнести, что Радий купил две пары…, но чего именно, не договорила. Не шла ли тогда речь о галошах, которые кто-то купил для Шандрикова и его связчика?
Под наплывом этих предположений я сидел, уставившись в одну точку, совершенно позабыв о Гале, которая, видя, что мне не до нее, отошла к этажерке и шелестела там газетами.
«Нужно немедленно проверить, где сейчас находится Радий, - думал я. - Если он дома, то все подозрения против него сами собой отпадут, так как поезд, которым уехал из Борска похожий на него парень, еще в пути». Не теряя времени, я заказал по телефону срочный разговор с Каменском, попросив междугородную станцию вызвать Александру Ивановну Епанешникову, то есть няню Сашу. Она могла вернее, чем кто-нибудь другой, сказать, где находится Радий.
Меня немедленно соединили.
- Няня Саша, это вы? - спросил я, ожидая услышать в ответ ее знакомый глуховатый голос. Но в трубке прозвучал совсем другой голос, заставивший мое сердце учащенно забиться.
- Это вы, Ирина Аркадьевна? А где же няня? - спросил я.
- Она ушла на рынок. - ответила Ирина. - Может быть, нужно ей что-нибудь передать?
- А вы знаете, кто говорит?
- Догадываюсь. Со станции сказали, с каким городом соединяют, и я поняла, что звоните вы, и обрадовалась.
- Обрадовались? - воскликнул я с радостным удивлением. - Чему же?
- Что смогу попросить вас простить меня за ту отвратительную сцену.
Ирина говорила таким искренним, дружеским тоном, что я понял: она уже не сердится, перестала ненавидеть и опасаться меня, а ведь наш последний разговор был сплошным недоразумением. И мне стало тяжело от мысли, что сейчас придется спрашивать у нее о Радии, но отступать от своего намерения я не думал.
- Передайте, пожалуйста, няне, что я просто хотел узнать, как она поживает. Как ваши здравствуют? Что поделывает Радий? - сказал я.
- Ничего, спасибо, все здоровы. Радий еще не вернулся, он уехал в Сосновку на охоту.
- Ирочка! - воскликнул я, охваченный глубоким сердечным сочувствием к бедной девушке, не подозревающей, какой удар готовит ей судьба. - Помните, о чем я вам сказал при прощании…
Едва я договорил эту фразу, как дверь кабинета с силой захлопнулась. Я поднял глаза, вспомнив о Гале, но ее уже не было в комнате.
- О чем вы говорили? - тихо спросила меня Ирина.
- Если вам или вашей семье будет грозить беда, если вам когда-нибудь понадобится верный друг, чтобы вы вспомнили обо мне.
- Я не раз думала об этих словах и верю, что… - Тут она осеклась и сердито крикнула кому-то: - Уйдите и закройте дверь! Будет ли когда-нибудь этому конец?
- Кто это? - спросил я.
- В этом доме невозможно ни с кем поговорить без того, чтобы не подслушивали, - с сердцем ответила она. - Надоело до смерти. А в театр я сегодня не пойду, увидимся завтра на лекциях.
Я понял, что последние слова сказаны для отвода глаз. Боясь, как бы она не бросила трубку, недослушав, я крикнул: «Позвоните мне, когда найдете нужным!» - и назвал номер своего телефона. В ответ послышался только металлический звук опускаемого рычага.
Долго я сидел у стола, глубоко задумавшись и перебирая в мыслях происшедшее. Меня не на шутку взволновало косвенное подтверждение моей догадки, что человек в стеганке мог быть действительно Радием Роевым, обрадовало примирение с Ириной, но я был очень смущен тем, что из-за моей бестактности Галя оказалась невольной свидетельницей такого разговора. Все произошло так, точно я умышленно хотел показать ей, что сердце мое принадлежит другой девушке. Каким бессердечным человеком она должна была считать меня после этого! Ощущение страшнейшей досады и неловкости не оставляло меня весь день, заслоняя ту радость, которую принес разговор с Ириной.
Боюсь, что наука этого не подтверждает и я могу навлечь на себя подозрение в идеализме, но мне иногда кажется, что даже на далеком расстоянии человек может ощущать, когда о нем кто-то вспоминает недобрым словом. Не зря в народе говорят, что если кого ругают, то у него уши горят. И хотя у меня уши не горели, но на душе было тяжело.
Но это не мешало мне заниматься работой. Я посоветовался с Нефедовым относительно появления в Борске и Озерном неизвестного молодого человека в ватном стеганом костюме, опустив, конечно, все то, что имело отношение к моим чувствам.
- Интересная получается чертовщина, - задумавшись, сказал Нефедов. - Только не фантазия ли это? Ты сам говоришь, что на вокзале не успел разглядеть, действительно ли это твой бывший приятель или незнакомый человек. Тех людей, которые приносили передачу Семину и Бабкину, ты вовсе не видел, а то, что они были в ватниках, еще не доказывает, будто это был один и тот же человек. Попробуй-ка найди в наших магазинах другую подходящую для работы одежду. Волей-неволей тысячи людей в стеганках ходят. В управление звонить о твоем Радии я считаю пока рановато, а здесь мы возьмем его на заметку и, как только этот парень опять появится, - посмотрим, что это за птица.
Я послушался совета моего более опытного товарища и решил, прежде всего, закончить дело самого Бабкина, а потом уж разыскивать его сообщников.
В течение двух суток я упорно готовился к решающему поединку с Бабкиным, намереваясь преподнести ему неожиданный сюрприз.
Я уже упоминал, что сфотографировал изображение человеческого глаза из медицинского атласа. Затем я сильно увеличил этот снимок и вмонтировал на место зрачка вырезанное из фотоснимка лицо Бабкина. Потом этот монтаж переснял на открытку. Когда все было подготовлено, пригласил к себе в кабинет прокурора и велел привести Бабкина.
Прокурор, Николай Северьянович Осетров, грузный, седоватый, лет под пятьдесят мужчина с порядочным брюшком, был, несмотря на суровые черты лица, человеком в высшей степени мягким, деликатным, но крайне осторожным в тех случаях, когда вопрос касался закона.
Чтобы не заводить излишних споров, я не стал пока посвящать его в свой замысел.
Осетров был хорошо знаком с делом Бабкина и нисколько не сомневался, что этот фрукт не только участвовал в грабежах вместе с Саввиным и Филициным, но и был организатором этой шайки. Он также допускал, что Бабкин убил Глотова, но считал, что при тех незначительных уликах, которые до сих пор были добыты, мне ни за что не удастся заставить Бабкина признаться. Однако он знал, что я добиваюсь признания Бабкина главным образом для того, чтобы попутно выявить дополнительные улики, которые могли бы оказаться решающими.
- Садитесь вот сюда, Николай Северьянович, - сказал я прокурору, заботливо усаживая его подальше от стола, на диван рядом с Нефедовым. - Сейчас мы начнем. Я давно хотел, чтобы вы лично убедились, как ведет себя на допросах этот Бабкин.
Стул для Бабкина я поставил не поодаль, как обычно, а вплотную к своему столу. Это тоже входило в мой план.
Нужно сказать, что я имею обыкновение говорить с подследственными очень просто и спокойно и даже, если это не претит, то и дружелюбным тоном, но на этот раз я обращался к Бабкину подчеркнуто сухо и строго официально. Говорил сжато и от него требовал ясных и коротких ответов, которые тотчас же заносил в протокол. Бабкин заметил это и с беспокойством обернулся к сидящим на диване прокурору и Нефедову, почувствовав, что они сидят тут неспроста. Время от времени он начинал кричать, что все ему надоело, что это неслыханное безобразие морить человека в тюрьме ни за что ни про что, и если мы его не освободим, то он будет жаловаться в Москву. Каждый раз я давал ему «выкричаться», а потом так же методично продолжал допрос.
Прокурор с Нефедовым сначала внимательно нас слушали, а потом отвлеклись разговором о другом деле. Между тем Бабкин опять разволновался и наотрез отказался отвечать на мои вопросы.
- Напрасно, - сказал я ему, - это вам не поможет. Вот раньше, когда у нас не было еще бесспорных улик, полностью изобличающих вас как убийцу Глотова, вы могли отпираться, лгать, отказываться по нескольку раз от своих показаний, а теперь, когда эти улики у нас в руках (при этом я хлопнул ладонью по лежащей передо мной папке), вам остается только чистосердечно рассказать, как было дело.
- Ты меня на пушку не бери, - злобно ощерился Бабкин. - Это ты своей бабушке расскажи, а не мне. Никаких улик у вас нет и быть не может. В Озерном я не был и никого я там…
- Позвольте, позвольте, - перебил я. - Так вы, значит, говорите, что не бывали в Озерном? Но ведь вы же сами показывали, что в ту ночь, когда здесь, в Борске, был ограблен гражданин Морозов, вы ездили на поезде в Озерное.
- Мало ли что я говорил! - закричал он. - Тут у вас и не то на себя наскажешь, как начнете путать.
- Так вы, может быть, и от этой своей подписи откажетесь? - спросил я, открывая лежащую передо мной папку.
- Какой такой подписи? - буркнул Бабкин, но тут вдруг взгляд его, скользнув по раскрытым перед ним бумагам, остановился, как притянутый магнитом, на одной точке. Нижняя челюсть его отвисла, а лицо приобрело синеватый оттенок. Из-под последнего листка протокола, скрепленного корявой подписью Бабкина, выглядывал уголок фотоснимка. Даже по той небольшой части его, которая виднелась из-под бумаг, можно было судить о том, что на нем изображено.
- Вы что же, подпись свою не признаете, что ли? - спрашивал я Бабкина, как будто не замечая его волнения. - Если вы не можете ее разглядеть, то взгляните поближе.
Медленно, точно в кадре из замедленной съемки, поднялся Бабкин с места и склонился над столом тяжело, с натугою дыша.
- Знаете что, Бабкин, - сказал я, прикрывая рукой фотографию. - Будем говорить прямо. Даю вам последнюю возможность признаться самому, через минуту будет поздно. Вы сами знаете, что теперь нам все известно.
- Покажи! - хрипло прошептал Бабкин, продолжая смотреть на мою руку, прикрывавшую карточку, точно стремясь пробуравить ее своим взглядом.
Я приподнял руку и сдвинул в сторону бумаги. Бабкин нагнулся еще ниже и, увидев, что изображено на карточке, со свистом втянул в себя воздух.
- Отпечатался! Так и знал! - просипел он. Лицо его стало страшным: каждая жилка напряглась. Я побоялся, как бы его не хватил удар.
- Сядьте! - приказал я. - И рассказывайте, как было дело. Когда вы убили Глотова - вечером или под утро?
- Вечером, едва только стемнело, - ответил он, тяжело опускаясь на стул.
- Куда дели облигации, взятые у Глотова?
- У бабы спрятаны под печкой. Она покажет, где нужно кирпич вынуть.
Мое перо быстро забегало по бумаге, записывая отрывочные показания Бабкина. Если он не врал насчет облигаций, то теперь в наших руках была неопровержимая улика, полностью изобличающая Бабкина в убийстве Глотова. А Бабкин тем временем продолжал:
- …да, манатки Глотова я подкинул Семину, чтобы подумали на него. А топор я привез с собой из Борска…
Прокурор и Нефедов, не ожидавшие, судя по результатам прежних допросов, никаких признаний со стороны Бабкина, были поражены. Они разом поднялись и подошли к столу, полагая, что увидят ту несомненную улику, которая заставила закоснелого бандита, наконец, полностью признаться. Но ничего интересного они не увидели. На столе, кроме старых, уже известных им протоколов, ничего не было, а карточка лежала у меня в столе. Нужно признаться, что выглядела она, по крайней мере для Бабкина, вполне убедительно.
Снимок получился не особенно четким, но, как видно, Бабкин хорошо узнал свою физиономию, раз мой монтаж произвел на него такое потрясающее впечатление.
Бабкин, убедившись в полном своем поражении, рассказал, что ездил в Озерное специально для того, чтобы повидать Семина и предложить ему «работать» вместе. Предвидя, что Семин может отказаться, он вез с собой топор, чтобы сразу «рассчитаться» с ним. Он знал, что Семин живет по улице Культуры, в доме № 15, и сунулся по этому адресу. Но оказалось, что номера усадеб недавно передвинули, чтобы включить в нумерацию несколько вновь выстроенных домов, поэтому Бабкин попал в чужую квартиру, а именно к бывшему следователю Глотову, который его узнал.
Проклиная такую случайность, Бабкин все-таки разыскал Семина и имел с ним крупный разговор, но убить его теперь он не рискнул, так как боялся, что Глотов обязательно разоблачит его, узнав об убийстве соседа, которого разыскивал Бабкин. Тогда он решился на другой маневр, который, по его мнению, приводил Семина к тому же роковому концу и избавлял самого Бабкина от преследования за убийство. Он убил Глотова, а вещи его подкинул Семину, чтобы того приняли за убийцу.
Мне оставался неясным еще ряд моментов в этом деле, в частности, почему Бабкин должен был обязательно убить Семина, в случае если тот откажется к нему присоединиться, но в этот день я уже ничего больше не мог добиться от Бабкина. Однако, уходя, уже в дверях Бабкин успел задать мне еще одну загадку. Обернувшись на пороге, он со злобой оглядел всех нас и процедил сквозь зубы:
- Подумаешь… сыщики… Обрадовались, что попутали человека. Со мной-то еле справились, а вот попробуйте справиться… - тут он вдруг замолчал и вышел.
Когда Бабкина увели, товарищи в свою очередь устроили мне допрос, требуя, чтобы я им открыл, какими путями добился признания от Бабкина. Я не стал запираться, вытащил из стола свой «монтаж» и предоставил им решать, правильно ли я поступил или нет. Главная цель моя была достигнута. Мне удалось добиться разоблачения крупного преступника. Теперь он уже не мог наносить вред нашему народу.
Однако наш милый прокурор вдруг поднялся на дыбы и возмущенно заявил, что такой метод ведения следствия считает неприемлемым. Но дело было уже сделано - опасный преступник полностью изобличен.
Глава восемнадцатая РЕШИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Не раз мне и прежде случалось, когда выпадала особенно срочная работа, не бывать дома по нескольку суток, спать урывками на диване у себя в кабинете, есть всухомятку. В таких случаях, возвращаясь домой, я испытывал приятное чувство, предвкушая возможность хорошенько отоспаться, раздевшись, как полагается, вкусно поесть и вообще отдохнуть в уютной обстановке. Теперь же, после сцены, произошедшей в моем кабинете с Галей во время телефонного разговора с Каменском, я шел к себе на квартиру вовсе не мечтая об отдыхе, а размышляя о том, что хватит с меня, наконец, этих сцен и нужно как можно скорее, под каким угодно предлогом покинуть дом Чекановых и перестать дергать нервы Гале и себе.
Чем больше я об этом раздумывал, тем сильней росла у меня решимость провести эту операцию, не откладывая. Прийти домой, собрать вещи, распрощаться с хозяевами и переехать хотя бы к Нефедову. Он, конечно, никогда не отказал бы мне в приюте на несколько дней.
С такими благими и очень твердыми намерениями я вошел в ворота, поднялся на крыльцо и в сенях нос к носу столкнулся с Галей. Она, наверное, увидела меня в окно и вышла навстречу, чтобы сказать что-то, не предназначенное для посторонних ушей. Так оно и оказалось.
- Дмитрий Петрович! - начала она решительным тоном, не глядя, однако, мне в глаза. - Я бы хотела, если, конечно, у вас есть время, поговорить с вами несколько минут, когда вы найдете возможным.
- Пожалуйста! - отрубил я довольно резко. - Хоть сию минуту. Но предупреждаю вас, я и так хотел сейчас сложить вещи и распрощаться с вами, так что вам, может быть, не стоит трудиться просить меня об этом.
- Нет, нет, - испугалась она, - дело совсем не в том. Я эти дни все думаю, что у нас с вами установились какие-то странные отношения и вы, наверное, может быть, частью по моей вине, думаете обо мне бог знает что. Вот я и решила поговорить с вами откровенно.
Галя была в одном платье и без платка. Боясь, что она простудится, я потянулся к дверной скобе, но она удержала мою руку и спросила:
- Так где же и когда нам поговорить? У нас нельзя, сами знаете, везде слышно. Вот разве выйти куда нибудь после ужина…
- Хорошо! - согласился я и, чтобы прекратить этот разговор, открыл перед нею дверь.
- Мамы дома нет, - сказала Галя, когда я вышел в кухню умываться. - Отец с Ленькой уже поели, а вас я сейчас накормлю.
Я молча наблюдал, как она быстро и ловко набросила скатерть на стол, поставила тарелки, умело орудуя ухватом, добыла из русской печи глиняный горшок и налила полную до краев тарелку горячих ароматных щей, сдобрив их полной ложкой плотной, как масло, сметаны.
«Для кого-то будет завидная хозяйка», - подумал я с невольной завистью и принялся за еду. Галя между тем, присев на край табуретки тут же, у стола, принялась неестественно оживленно рассказывать, как у них на заводе решили, наконец, перестроить клубный зал, чтобы можно было показывать в нем кинофильмы.
За щами последовали сочные, докрасна протомленные в сметане, голубцы, стакан молока, и на этом ужин был закончен. Я встал, чинно поблагодарил хозяйку и, поправляя пояс на гимнастерке, сказал, что полностью поступаю в ее распоряжение.
- Да, да, - ответила она торопливо и засуетилась, точно не зная, куда деть мою тарелку, которую держала в руках. - Вы идите, а я сейчас…
Слегка, как и полагалось у нас в ноябре, подмораживало, больно прихватывая нос и уши. Черные четкие тени лежали на зеленоватом снегу, яркий месяц на темно-синем, почти черном небе напоминал толстую дольку мандарина.
Я прошелся до конца квартала и вернулся обратно до половины его, когда увидел стройную фигурку в коротком полушубке, вышедшую из калитки.
- Куда пойдем? - спросил я Галю.
- Все равно, - ответила она рассеянно, - хоть к обрыву.
Дом Чекановых стоял высоко на подъеме в гору, по подножью которого раскинулся Борск. С обрыва, начинавшегося неподалеку от их дома, был виден светящийся окнами вокзал, яркие зеленые и красные огни светофоров и темные здания железнодорожных пакгаузов.
Не перемолвившись ни единым словом, мы дошли до обрыва, точно только там можно было говорить. Я был взволнован не меньше Гали и молчал, с тревогой ожидая, что скажет Галя. Не она никак не могла начать. Несколько раз губы ее слегка приоткрывались, но ей точно не хватало дыхания произнести первое слово, хотя видно было, что она хочет сказать что-то важное. Лицо ее побледнело, несмотря на мороз, тонкие ломанные линии бровей сдвинулись.
- Смелей! - подбодрил я, не в силах смотреть на ее волнение. - Говорите, что вы надумали. И если я в чем виноват, не щадите меня. Я готов терпеливо выслушать все, что вы мне скажете, пусть даже это будут обидные и неприятные для меня слова. Это мне по заслугам. Я чувствую, что виноват перед вами, но поверьте мне, если это и так, то не по моей воле. Я всегда искренне, по-дружески относился к вам.
- По-дружески? - возмущенно переспросила она. - Но я почему-то не видела этого дружеского отношения. Если бы вы действительно чувствовали ко мне дружбу, то не поступили бы со мной так, как давеча. Меня страшно возмутила ваша бестактность. Зачем вы нарочно при мне стали разговаривать по телефону с девушкой, которую любите. Не возражайте! Я уверена, что вы ее любите. Если бы вы сами видели ваше лицо, когда говорили с ней… Ну пусть это так. Это - ваше дело, и касается оно только вас одного, но я не понимаю, для чего вы решили посвятить меня в ваши сердечные дела? Мне они совершенно не интересны.
Начав говорить тихо, она с каждой фразой все больше и больше горячилась.
- Правда, может быть, во многом виновата я сама, раз навела вас своими взбалмошными выходками на мысль, что я была… как вам сказать… ну… увлечена, что ли, вами, даже… влюблена. - Она через силу вымолвила это слово. - Ничего подобного нет и не было! Просто одно время у меня появилось желание - из шалости, что ли, или от досады, что вы никакого внимания на меня не обращаете, - расшевелить вас, заставить хоть немножко думать обо мне как о человеке, а не как о мебели какой-то, и вообще… не проходить мимо меня так, как будто я козявка на вашем пути. Я знаю, что это было глупо и непростительно. Я уж не маленькая, не девчонка, должна понимать, что делаю. Тем более, что вы серьезный, вечно занятый делом человек. Но эта серьезность меня больше всего и раздражала. Мне казалось, что вы презираете меня, считаете недостойной вашего внимания. Я хотела проучить вас, но… ничего не получилось. И вот теперь, когда вы скоро уедете, мне хочется одного, чтобы вы простили меня и были уверены, что больше у меня к вам ни-и-чего такого нет и никогда даже не было. И чтобы вы не думали, что я… что мне… В общем, знайте, что мне абсолютно все равно (тут голос ее сорвался) - любите ли вы кого или нет.
Договорив уже почти шепотом последние слова, она резко отвернулась и стала смотреть вдаль, за линию железной дороги, туда, где далеко-далеко, как летящая искра, бежал огонек идущей машины. Не знаю, видела ли она его, вероятно, нет. В очертаниях ее приподнятых плеч и склоненной головы я прочел невероятное напряжение, с которым она пыталась сдержать рвущиеся из груди рыдания.
Я уже давно забыл, когда плакал, но тут горло у меня точно кто сдавил рукой, глаза защипало, и я, забыв, что так, пожалуй, поступать не годится, обнял Галю за плечи и сказал ей, как самому близкому другу:
- Неужели мы обязательно должны лгать друг другу? Неужели между девушкой и мужчиной, если они оба не влюблены взаимно не может быть чистых, честных человеческих отношений, а обязательно их должно разъединять что-то настороженное, притворное, лживое? Ведь бывает же полное доверие между братом и сестрой, между друзьями? Не сегодня, так завтра мы с вами расстанемся, наверное, навсегда, и мне хотелось бы, чтобы вы поняли меня, поверили мне. Да я и не смогу соврать. Сейчас было бы грешно и подло обманывать вас. Вы мне дороги, как хороший товарищ, как друг, как сестра. Мало того, вы мне всегда нравились, ведь вы красивая, умная, обаятельная девушка. Зная вас близко, невозможно остаться равнодушным к вам. Если бы я всячески не боролся с этим, то давно полюбил бы вас. Но к чему это привело бы? Мы никогда не могли бы составить дружную пару. Вы знаете мой скверный, вспыльчивый характер, стремление всегда оставлять за собой в споре последнее слово. Вы тоже иногда бываете резки… Что за жизнь у нас получилась бы? А главное… между нами стал один человек. - Тут что-то случилось с моим голосом, и я мог продолжать только очень тихо: - Я встретил другую…
Галя вздрогнула и попыталась отстраниться от меня, но я ее удержал. Минуту назад я не думал, что решусь сказать Гале про Ирину, и теперь говорил, кажется, не столько ей, сколько самому себе:
- Я даже не знаю путем, люблю ли я ее. Но с тех пор, как мы встретились, я не могу не думать о ней постоянно. Может быть, потому, что она сейчас в большой беде. Я не простил бы себе никогда, если бы оставил ее в такой момент. Но она не хочет моей помощи и скоро, наверное, вовсе меня возненавидит. Это неизбежно, я чувствую. И все-таки я не могу не думать о ней, хотя и без всякой надежды на счастье.
- Так же, как и я, - прошептала Галя, утирая украдкой слезы.
- Когда я уеду, у вас все войдет в свою колею. Вы забудете меня и постепенно успокоитесь.
Вместо ответа Галя уткнулась лицом мне в грудь и, уже не сдерживаясь, заплакала. Я осторожно гладил ее по голове, закутанной в пушистую шаль, по судорожно вздрагивающим плечам. Сейчас я готов был сделать для Гали все, чего бы только она ни потребовала от меня, лишь бы успокоить ее.
- Лучше мне сегодня же уйти от вас, Галочка, - сказал я, но она отрицательно потрясла головой и еще крепче прильнула ко мне.
Некоторое время, пока Галя не успокоилась, мы стояли молча. Слышались только ее прерывистое дыхание и всхлипывания. Искреннее признание облегчило меня и рассеяло гнетущее чувство недовольства и раздражения, которое я испытывал последнее время.
- Я пойду, - тихо сказал Галя, освобождаясь из моих рук. - Не смейтесь надо мной.
- Что вы! - возмутился я. Над чем тут смеяться? - И попросил: - Будем эти дни опять на «ты», как раньше, когда ты на меня еще не сердилась?
- Лучше скажи: пока я тебя не любила, - горько сказала она и быстро пошла прочь.
Я двинулся за нею, до глубины души взволнованный нашим взаимным невеселым признанием.
В этот вечер я не мог думать ни о чем и ни о ком, кроме Гали. Мне было больно, что я причиняю ей столько горя, но вместе с тем в груди моей росло чувство гордости, что меня любит такая чудесная девушка и любит не на шутку. Волнующее сознание этой любви долго не давало мне заснуть.
Утром я проснулся бодрым и веселым, с таким ощущением, точно в моей жизни произошло что-то значительное. Мне не терпелось увидеть Галю. После вчерашней нашей встречи я испытывал к ней совершенно иное чувство, чем прежде. Я не задумывался над тем, что это за чувство, что оно означает, а только ощущал, что оно светлое и радостное.
Услышав, что Галя вышла в кухню и говорила что-то матери, уходившей за хлебом, я открыл дверь и, поздоровавшись с обеими, спросил Галю:
- Ты не помнишь, какое сегодня число?
- Разве у вас нет календаря? - как водой, окатила она меня холодным ответом на «вы», давая понять, что ничего между нами не изменилось. Но едва дверь за матерью захлопнулась, Галя, подняв на меня запавшие от бессонной ночи глаза, промолвила со слабой болезненной улыбкой:
- Так уж и быть, если хочешь, я подарю тебе свой календарь.
Конечно, никакого календаря она не собиралась мне дарить, а фраза эта была сказана ею только ради одного маленького заветного слова «ты», которое теперь приобрело между нами совсем другой, чем раньше, смысл, и поэтому произносить его следовало не при всех, а только когда мы оставались одни.
Глава девятнадцатая ЧЬЯ-ТО ТЕНЬ
Судьба Бабкина была решена. У меня имелось вполне достаточно неопровержимых улик, доказывающих его вину. Казалось бы, мне следовало, не теряя времени, передать дело прокурору и отрапортовать начальству об успешном выполнении задания. Я не сомневался, что если я при этом намекну полковнику Егорову о своем желании остаться на работе именно в Каменске, то он пойдет навстречу. Порой меня подмывало поступить именно таким образом, однако вместо этого я торчал в Борске и продолжал каждый день беседовать с опротивевшим мне до чертиков Бабкиным, роясь в его неблаговидном прошлом.
Что заставило меня поступать таким образом? Частью тот самый упрек («мелко пашешь»), который бросил мне полковник, частью же все более крепнущее убеждение, что за спиной Бабкина стояла, руководя им, гораздо более крупная, чем он, преступная фигура Мне все припоминался долговязый человек в ватной стеганке, так напугавший Семина, Бабкина и трех юнцов. Этот парень, если бы мне удалось его разыскать, мог, наверное, рассказать немало интересного.
Полковник Егоров, с которым я опять поговорил по телефону, без колебания разрешил мне остаться еще на несколько дней в Борске, и я использовал их на продолжение бесед с Бабкиным. На какие только темы мы с ним ни рассуждали! Я расспрашивал его о том, каковы его взгляды на жизнь, как он понимает такие чувства, как любовь к Родине, к своей семье, к детям, как расценивает товарищеские отношения, был ли он доволен своей жизнью.
Я не сразу добился, чтобы Бабкин заговорил со мной откровенно, однако, когда он разобрался в том, что вреда ему такой разговор не принесет и вообще-то ему терять больше нечего, то заговорил дерзко, со злобой. Как я и предполагал, его идеалами были пьянство и самый отвратительный разврат. Ничего святого для него давно не существовало. Он ненавидел все, что было дорого нам, советским людям.
Я спросил, что бы он сделал, если бы во всем была его воля. В ответ он захохотал:
- Милицию всю перевешал бы, чтобы не путала добрых людей, эти ваши штучки-дрючки - клубы разные и школы - позакрывал, а настроил бы вместо них кабачков с девочками, и чтобы везде для меня было все бесплатно…
Вглядываясь таким образом глубже в душу Бабкина, я все больше убеждался, что это был слишком мелкий человечишко, чтобы замыслить и тем более осуществить организацию широко разветвленной банды, да еще не в одном городе. Вернее всего, этим делом руководил не Бабкин, а тот самый Король, именем которого Бабкин, а потом и парень в стеганке, стращали Семина.
Бабкин яростно отвергал утверждение, что Король жив, и уже по этой ярости я мог судить, что подошел близко к истине. Можно было голову прозакладывать, что в Иркутске вместо Короля и убили, и похоронили другого. Вероятно, и убили-то кого-то специально для того, чтобы с его останками похоронить жуткое прошлое Короля. Кто-то был очень заинтересован уничтожить всякую память о Короле, я в этом убедился, когда узнал, что из лагерного архива таинственно исчезло его дело, в то время как остальные дела находились на месте.
Я хорошо помнил, как Бабкин в минуту крайнего душевного расстройства обмолвился, что если мы справились с ним, то не так-то легко нам будет справиться с кем-то другим, чьего имени он не захотел назвать. Так же он проговорился еще раз. У него была татуировка на руке в виде якоря, и я поинтересовался:
- Вы что, на флоте служили?
- Нет, так это, баловались в лагерях от нечего делать.
- Видно, что баловались, уж очень неумело наколото, - сказал я. - Вот мне в Батойских лагерях пришлось видеть у одного «вора в законе» на груди китайского дракона в три краски, так это целая картина была.
- Это у кого же? - спросил Бабкин. - Я ведь тоже в Батойских лагерях срок отбывал, всех там знал.
- У Литвинова Владимира, - ответил я, нарочно назвав фамилию «Короля».
- Брехня-я! - протянул Бабкин, довольный, что ему удалось уличить меня в ошибке или во лжи. - У Литвинова луна на груди наколота, а на ней он сам с чертом сидит и водку пьет.
- Вы, значит, не того Литвинова знаете, - возразил я. - Его еще Королем звали… Какой, по-вашему, Литвинов из себя?
- Какой? Обыкновенный - две руки, две ноги, - ответил недоверчиво Бабкин, прячась, как улитка, в свою раковину.
Однако не столько из тех слов, которые он сказал о Короле, сколько по тому тону, которым были сказаны эти слова, мне стало ясно, что говорил он не о мертвом, а о живом человеке. Притом, если бы Король был мертв, то Бабкину нечего было бы опасаться говорить о нем. Я не терял надежды, что Семин, недавно выпущенный из тюрьмы, теперь мог более свободно дать сведения о Короле, и попросил по телефону начальника озерненской милиции, чтобы тот как можно осторожней поговорил с ним на эту тему.
Со свойственной некоторым даже хорошим людям манерой говорить друзьям неприятности, называя это дружеской критикой, Нефедов не раз намекал мне, что у меня в характере будто бы есть постоянное стремление выслужиться. Бывало, слушая, как я рапортую полковнику по телефону о проделанной работе, он вечно иронически бурчал себе под нос:
- Вот землю роем!.. Аж пыль столбом… Ну, давай, давай!
Однако в данном случае он глубоко разделял мое стремление докопаться до самых глубоких корней в деле об убийстве Глотова, понимая, что здесь мною руководят вовсе не соображения о возможности выдвинуться на этом деле, так как задача, которую я себе поставил, была не из легких и быстрого решения ее не предвиделось. Нефедов так загорелся моей идеей разыскать во что бы то ни стало Короля, что даже простил мне стремление уехать из Борска.
Дни бежали, наступали первые числа декабря, а Бабкин оставался по-прежнему неподатливым, и длинный парень не появлялся на нашем горизонте. По моей просьбе в Каменске наблюдали за поведением Радия Роева, но пока ничего подозрительного за ним не находили. Это, однако, вовсе не убедило меня в том, что я напрасно заподозрил своего бывшего приятеля.
«Самому проверить нужно, - думал я. - Ведь у меня есть возможность многое выяснить о Радии». Но даже одна мысль об этой возможности заставляла морщиться от мучительного чувства. Ведь для этого мне пришлось бы выпытывать у Ирины о ее брате. Как мне ни было неприятно, но иного выхода я не видел.
Мне еще оставалось съездить в Озерное, чтобы самому подробнее расспросить у освобожденного Семина все, что он знает о Короле, а затем спешить в Каменск. Полковник, которому я доложил по телефону о своем намерении выехать завтра в Озерное, не возражал. Он только сказал:
- Я уж думал, что ты со своим Борском никак не сможешь расстаться. Может, тебя там кто приворожил? Как же ты теперь будешь в Каменске жить?
Зная полковника уже не первый год, я рассматривал его намек на то, что я буду жить в Каменске, как уже подписанный приказ.
Итак, моя мечта сбывалась: я покидаю Борск и начинаю новую страницу жизни в Каменске. Но вдруг с удивлением почувствовал, что не испытываю по этому поводу ни малейшей радости. После нашего решительного объяснения с Галей на краю обрыва очень сложное, но неясное чувство привязывало меня к ней. В нем были и глубокая симпатия, и уважение, и сознание своей вины, и… Но ведь чувство не какое-нибудь вещество, которое можно подвергнуть точному анализу. А это чувство было так сильно, что мысль о разлуке с Галей приводила меня в смятение.
Я не знал, как мне поступить, что сказать Гале перед отъездом. В одном только я был твердо убежден, что мой первый долг - помочь Ирине, а уж потом я мог размышлять о своей судьбе.
Все меньше и меньше я думал об Ирине как о любимой, желанной… Эту сторону моих чувств к ней постепенно вытесняли более прозаические мысли о том, как и чем я могу быть ей полезен. Как я ни прикидывал, но каждый раз выходило, что для освобождения Ирины я должен прежде всего выяснить, что из себя представляет ее брат. Если он действительно преступник, то, возможно, и Арканов, который будто бы находил ему работу, того же поля ягода. Их придется арестовать, и тогда Ирина, хотя и ценой страшного горя, которое принесет ей арест брата, будет освобождена. Но едва ли она будет благодарна мне за такую свободу. Я старался не думать о том, что она мне скажет после того, как ее брат будет арестован.
Все эти тяжелые мысли невольно набрасывали оттенок безнадежности на мое чувство к Ирине, расхолаживали его, и подчас я с презрением думал о себе: «Неужели это опять было мимолетным увлечением? Неужели я не способен на серьезное чувство? Тогда не нужно мучить и других. Зачем я сегодня сказал Гале, что мне страшно подумать об отъезде? Ведь это могло вызвать у нее напрасные надежды. Напрасные потому, что я по-прежнему ни за что не хочу лишаться своей независимости».
Однако я не лгал Гале, что мне нелегко было уезжать. Тоска невыносимо теснила сердце, и ничто меня не радовало.
- Ты что все вздыхаешь? - посмеивался надо мной Нефедов. - Не вздыхай глубоко, не отдам далеко. Хоть за курицу, да на свою улицу.
- Оставь меня в покое! - злился я.
Глава двадцатая БЫВАЮТ И ТАКИЕ МАТЕРИ
Меня по-прежнему тревожила, судьба Гоши Саввина. Со своей стороны мы с Нефедовым сделали все, чтобы доказать суду, что Саввин действительно совершил преступление, в котором мы его обвиняем, но в то же время постарались в представленных нами материалах разъяснить суду причины, которые заставили этого паренька пойти на преступление. Теперь единственно, кто мог сбить с толку суд, это сам Гоша, который, нисколько не сдавая своих прежних нелепых позиций, упрямо твердил, что он является главным зачинщиком грабежа и его нужно как можно строже наказать. А тут, как на грех, его папаша и мамаша, присутствие которых на суде могло бы образумить Гошу, не подавали признаков жизни, хотя, как мне сообщили, повестки о явке в суд и мои письма были им вручены.
Теперь, когда дело было в суде, я не мог ничем повлиять на его исход, но я был убежден, что главное даже не в том, будет ли осужден Гоша, а в том, чтобы даже осужденный он не унес с собою то страшное ожесточение и обиду, которые толкнули его на такой ужасный путь. Об этом я и намеревался сказать его родителям до начала судебного заседания, надеясь, что признание ими своей вины перед сыном заставит его одуматься.
Наконец, накануне дня суда приехала мать Гоши Анна Максимовна. Когда она явилась ко мне, - изящная, красивая, в очень идущем ей зимнем пальто из пушистой красивой материи с узким собольим воротом и обшлагами, - я даже удивился, что у этой молодой женщины может быть такой взрослый сын. Но приглядевшись, я заметил, что время уже сплело паутину тонких морщинок вокруг ее красивых, но очень холодных серых глаз, белая полная шея слегка одрябла, и понял, что она уже не молода, но пока еще с честью выходит из нелегкой борьбы с проклятым временем, покушающимся на ее незаурядную красоту.
Анна Максимовна, видимо, уделяла немало внимания своей наружности. Ее соболиные, под стать отделке пальто, брови были чуть подбриты, волосы красиво убраны, служа как бы дополнением к меховой шапочке «менингитке», прикрывавшей только темя. Однако у нее хватило такта, явившись сюда по такому печальному случаю, не красить губы ярко, они были только слегка, для придания им утраченной свежести, тронуты алой помадой. Ее сытое, надменное лицо своими утомительно правильными чертами напоминало мраморное изваяние супруги Зевса богини Геры и так же, как оно, было неподвижно и холодно, особенно в начале нашего разговора.
Держалась Анна Максимовна с большим достоинством.
- Мой сын, - сказала она, - видимо, попал в дурную компанию. Это просто недоразумение, что его арестовали. Мальчики в его возрасте часто не знают, куда направить излишек своей энергии, шалят, безобразничают, но нельзя же рассматривать ребяческую шалость как преступление. Я не допускаю даже мысли, что он участвовал в этих гадких делах из-за денег: ведь я каждый месяц посылала ему вполне достаточно на жизнь, я могу показать вам все почтовые квитанции, они со мной.
- А пользовался он вашими деньгами? - спросил я сухо, негодуя в душе на эту особу, которая в этот момент заботится прежде всего о том, чтобы выгородить себя.
- В том-то и ужас, что он не хотел ими пользоваться, - страдальчески приподняв концы бровей, ответила Анна Максимовна. - Бабушка мне как-то писала об этом, но я не придала значения, думала пройдет, и продолжала переводить деньги, чтобы она тратила их на Жорика. Я не могла понять, почему он так поступал. Ведь он же знал, что это мой долг содержать его, пока он не станет на ноги.
- А вы не спрашивали его хотя бы в письмах, почему он не хочет брать у вас деньги? Может, ему действительно легче было украсть, чем прикоснуться к тем деньгам, которые вы ему присылали?
- Какое основание вы имеете так предполагать? - подняв на меня негодующий взгляд, спросила Анна Максимовна. - Я всегда сама следила за воспитанием моего сына и могу со спокойной совестью заявить, что он никогда ни у кого ничего не брал без разрешения.
- Тем печальней, что его толкнули не только на воровство, но даже на грабеж, - ответил я и поинтересовался: - Вы где-нибудь работаете? Мне хотелось бы знать, откуда вы брали деньги, которые посылали сыну?
- Как, то есть, брала? - Тут тонкие дугообразные брови Анны Максимовны возмущенно взлетели кверху, и яркий румянец, как сок малины, пропитывающий белую ткань, разлился по всему ее вспыхнувшему искренним негодованием лицу. - Странный вопрос! Не воровала же я их!
- Я в этом не сомневаюсь. Но все-таки, как вы их доставали? Ведь вы же, как я знаю, сами не работаете.
- Мне давал их мой муж, - ответила она гордо.
- Почему же, разрешите узнать, он сам не посылал их своему сыну?
- Вы меня не поняли, - опустила глаза Анна Максимовна, - Жорик вовсе не его сын. Я говорила вам не про Степана Сергеевича - мы с ним разошлись, - а про Константина Павловича, которого я имею право считать своим мужем, и этого права у меня никто не отнимет.
- Простите, что я ошибся, - извинился я. - Следовательно, ваш сын знал, что деньги были взяты у чужого, может быть, даже ненавистного ему человека, нанесшего страшное оскорбление его отцу. Как вы думаете, легко ли было мальчику брать эти деньги?
Самые противоречивые ощущения отразились на лишившемся своей каменной неподвижности лице Анны Максимовны, но она быстро справилась со своими чувствами, и, отпив глоток воды из стакана, который я ей подал, сказала подавленным голосом:
- Лучше будет, если я вам все расскажу, тогда вы, я уверена, поймете меня. Вы не можете себе представить, как я страдала, сколько вынесла непомерного, буквально нечеловеческого горя. Впрочем, мужчине никогда не понять, какие муки обречена переносить подчас женщина. Мой первый муж, Степан Сергеевич, был, в сущности, хороший человек, но он слишком, в ущерб семейным отношениям, увлекался работой, вечно задерживался допоздна в учреждении, постоянно подолгу пропадал в командировках. Правда, он агроном, значит связан с землей, но надо же знать меру. Мы его почти не видели дома. Но я не могу пожаловаться, что он плохо ко мне относился. Он буквально обожал меня, баловал, ухаживал за мной, как в первый день знакомства, носил бы на руках, если бы я позволяла.
Кроме Жорика, который всегда рос папиным сыном (по характеру он копия отца, такой же упрямый), у нас была девочка - Нетточка, прелестный ребенок. Отец ее тоже обожал.
Мы жили как будто бы счастливо, так что нам все завидовали. Но к сожалению, хотя теперь, честно признаться, я вовсе об этом не жалею, это наше призрачное счастье оказалось далеко не прочным.
Как вы знаете, в нашем захолустье началась стройка огромного завода, приехало много интересных людей и среди них один обаятельнейший человек. Женскому сердцу не прикажешь. Он покорил меня с первого взгляда. Увидев его, я сразу почувствовала, что это именно тот, кого я, сама не понимая этого, ждала всю жизнь В общем, какой-то совершенно необычайный вихрь яркого чувства захватил меня, и я не нашла в себе сил противиться этому.
Короче говоря, когда через два года Константину Павловичу нужно было возвращаться в Москву, я с ужасом поняла, что жить без него не смогу. Кроме того, нужно сказать, муж уже начал кое о чем подозревать, хотя я делала все, чтобы не затрагивать его самолюбия. Но провинция, вы понимаете, - это все-таки провинция, от людей не убережешься, и кое-какие слухи стали до него доходить. Это было невыносимо. Я просто ночей не спала в страхе, что он обо всем узнает. Жизнь моя превратилась в ад. Я не имела ни минуты покоя, я места себе не находила, пока не решила, что со всем этим нужно кончить. Щадя спокойствие мужа и желая избавить его от невероятных мучений, связанных с подобным расставанием, я устроила так, что мы уехали, когда он был в командировке, а Жорик находился в школе. Правда, я лишила себя возможности проститься с сыном и в последний раз взглянуть на человека, которому была многим обязана. Мне так хотелось пожать ему на прощание руку и поблагодарить за все… за все! Но, рассудив благоразумно, я решила, что нужно иногда жертвовать своими желаниями ради душевного спокойствия других.
Я утешала себя тем, что в эти минуты, когда я, собрав свои вещи, обливалась горькими слезами и чуть не умирала от горя, он там у себя, в МТС, безмятежно занимается делами.
Правда, я понимала, что, когда он вернется, будет ужасная сцена, тем более, что Нетточку я, конечно, взяла с собой, хотя Константин Павлович и не выражал по этому поводу особенной радости. Но я настояла на своем, не могла же я взвалить на Степана Сергеевича хлопоты о ребенке, да и, наконец, я как мать имела право…
В общем, когда Степан Сергеевич вернулся, он не застал нас дома. Как мама мне писала, он вначале не хотел верить ей, что я ушла навсегда, и даже с ним что-то такое случилось. Несомненно, тут сыграло роль страшное переутомление: он всегда так много работал. Но едва только он поднялся с постели, как бросился вслед за нами. Вот тут-то и началось самое ужасное. Разыскав нас в Москве, он ни минуты не подумал о том, что, посещая меня в отсутствие Константина Павловича, он может вызвать бог знает какие разговоры у соседей по квартире, и начал являться чуть ли не каждый день, умоляя вернуться домой.
Как он меня мучил! Этого я не смогу вам описать. Нет, нет, не подумайте, что он был груб, что он кричал или бранился. Этого я не смею о нем сказать. Нужно отдать ему справедливость, вначале он держал себя прилично. Но для тонко организованного человека есть муки в тысячу раз более страшные, чем муки физические. Мое сердце буквально обливалось кровью, когда я видела, что Нетточка еще помнит отца и скучает по нему, тем более, что она слышала, как он просил меня вернуться в семью или хотя бы отдать ему дочь.
Как все-таки толстокожи бывают мужчины! Неужели он, знавший меня так близко, не мог понять моей души и сообразить, что я не переживу разлуки с ребенком?
Я была в отчаянии. Его устремленные на меня с упреком глаза, его напрасные попытки скрыть слезы, когда он обнимал Нетточку, доводили меня чуть ли не до нервного припадка. Я поражалась, как это человек, которого я привыкла видеть таким тактичным и деликатным, не чувствовал, что с его стороны прямо-таки бессердечно так терзать меня. Неужели он не мог после первой же нашей встречи в Москве сообразить, что между нами все кончено? Я решила, что для нас обоих будет лучше не видеть друг друга, и запретила своей домработнице пускать его в дом. Тогда он выдумал новую пытку для меня. Он подкарауливал, когда Нетточку выводили гулять, и своими ласками доводил бедную девчурку до слез. Вы знаете, я была принуждена уволить домработницу, которая демонстративно встала на его сторону. Не знаю уж, чем он ее подкупил, так как денег у него не было иногда даже на еду.
Что я пережила за эти дни! А тут еще эта ужасная история с Жориком. Правда, может быть, я несколько виновата, что так и не могла заставить себя написать мальчику, ответить на его письма, но ведь сложилось крайне деликатное положение. Не знаю, сможете ли вы меня как следует понять. Я всегда считала, что детей нужно воспитывать в разумной строгости. Степан Сергеевич со мной в этом вечно не соглашался, но я настаивала на своем. Чтобы родители имели авторитет в глазах детей, особенно мальчиков, нельзя допускать, чтобы дети могли обсуждать их поступки. В семье мы смотрели на Жорика еще как на ребенка, да он и был по сути дела еще ребенком. И вдруг создалось такое положение, что я, которая всю жизнь являлась для сына непререкаемым, безусловным авторитетом, должна была вынести на его суд свои поступки. Да что он мог понять в моих переживаниях? Эта мысль останавливала меня. Я надеялась, что со временем все утрясется и мне удастся уговорить Степана Сергеевича отпустить мальчика учиться в Москву. Ведь Константин Павлович мог бы устроить его в любой вуз.
- Но, как видите, ничего не утряслось, - прервал я посетительницу. - Ваше бегство и особенно ваше необъяснимое молчание в ответ на письма так оскорбили вашего чрезмерно впечатлительного сына, что он пошел черт знает на что, только бы отомстить вам. Вот результат вашего прекрасного воспитания.
- Причем тут воспитание? - возмутилась Анна Максимовна. - Не хотите ли вы сказать, что во всем виновата только я? Не думайте, я прекрасно понимаю, для какой цели вы меня вызвали сюда из Москвы. Мало того, что вы бросили в тюрьму моего ребенка, которого там бог знает чему научат, так вы еще хотите опозорить меня на суде за то, что я будто бы плохо его воспитала. Но не забывайте: пока я воспитывала, не спуская с него глаз, не позволяя якшаться бог знает с кем, он был прекрасным ребенком, но стоило мне уехать, как все пошло прахом. Спрашивается, что делала школа? Куда смотрели учителя? И потом, когда он сбежал из дому на завод, то как воспитывал его профком, комсомол и где была общественность?
Чувствуя, что Анна Максимовна в своем стремлении всячески выгородить себя что-то уж очень входит в роль прокурора, я спросил:
- Вы не знаете, приедет Степан Сергеевич?
- Не могу сказать, - резко ответила она, сделав невольно такую гримасу, точно ей напомнили о чем-то неприятном.
- Вы видели его перед отъездом?
- Да, видела. Он, как обычно, подкараулил меня в подъезде. С тех пор, как он в пьяном виде устроил нам с Константином Павловичем ужасную сцену, я запретила ему приходить ко мне.
- Разве Степан Сергеевич пил? - удивился я. - Что-то не было слышно.
- Раньше он никогда не пил, разве только по праздникам немного, да я бы и не позволила. А там, в Москве, видимо, избаловался от нечего делать.
- Он что-нибудь сказал вам о том, приедет или нет?
- Он просил денег. У него не было на билет.
- И вы ему дали?
- Странный вопрос! Конечно, нет! Вы же сами знаете, что у меня не было своих денег, а дать ему деньги Константина Павловича я считала, по меньшей мере, неудобным. Я и так была до крайности поражена, что Степан Сергеевич, всегда так высоко ставивший вопросы личного достоинства, мог опуститься до того, чтобы просить у меня денег, прекрасно зная, чьи они. Правда, он обещал отдать их в Борске, но это мало меняет дело. Тут вопрос в принципе.
- Значит, он не приедет? - продолжал добиваться я.
- Не могу сказать! - с нескрываемым раздражением ответила Анна Максимовна. - Я знаю, что мама получила от него телеграмму, что-то там продавала из его вещей, но я ее об этом не расспрашивала. Этот человек после неприятностей, которые он мне причинил, для меня не существует!
Глава двадцать первая МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ С ТОБОЙ
И вот наступил, наконец, день, когда я должен был покинуть Борск. Ничто больше не могло оправдать моей задержки здесь. Даже билет на поезд был куплен и вещи сложены.
С тягостным чувством я думал о предстоящем прощании с Галей. Уехать не попрощавшись было бессовестно, прощаться с ней при родителях - значило подвергнуть ее риску выдать им свою сердечную тайну.
Еще с вечера я простился с Василием Лукичом, и при этом мне показалось, что в его серьезном, пристально устремленном на меня взгляде кроется невысказанный упрек. Утром, когда Галя вышла открыть ставни, я обождал ее в сенях и сказал, что уезжаю.
Она вздрогнула, точно я ее ударил, и ее губы почти беззвучно прошептали:
- И не вернешься?
Столько отчаяния и укора было в этих словах, что я готов был провалиться сквозь землю. В этот момент мне самому показалась дикой мысль, что мы больше никогда не увидимся. Однако я ответил довольно твердо:
- Верней всего, что не вернусь. У меня здесь уже все закончено.
- Нет, не все! - горячо вырвалось у нее. - Не все, - повторила она уже менее уверенно и, прижав ко лбу кончики пальцев, точно что-то припоминая, заговорила быстро и невнятно: - Погоди, погоди… сейчас… только не уходи, дай собраться с мыслями. Как это внезапно!.. Впрочем, я давно этого ждала. - Потом, как бы очнувшись, она решительно спросила:
- Можешь ты мне уделить полчаса? Всего полчаса. Я сейчас, в одну минуту буду готова. - И она исчезла за дверью.
Когда, немного обождав в сенях, я вошел в кухню, Галя уже успела уложить на голове косы, набросить пуховый платок и снимала с вешалки пальто. Я помог ей надеть его.
- Это в первый раз, - подчеркнула она с печальным упреком.
- И в последний, - неуклюже пошутил я и покраснел от досады на сказанные невпопад слова.
- Неизвестно. Ничего неизвестно! - с ударением произнесла Галя.
Мы вышли. Видя, что Галя спешит, я удержал ее за локоть:
- Куда ты бежишь, ведь до начала работы, по крайней мере, еще час.
- Только пойдем куда-нибудь, где мы будем одни, - попросила она. - Чтобы никого вокруг… Ты не бойся, я плакать не буду, я только посмотрю на тебя. Ты вот говоришь: навсегда… в последний раз… а вдруг и верно в последний? - Губы ее искривила судорога рыдания, но она прикусила их.
Солнце вставало, золотя легкую морозную дымку, стоявшую в воздухе, но день обещал быть опять теплым. Вчера, несмотря на декабрь, даже таяло.
Мы вышли за город. У того обрыва, где мы недавно стояли с ней, виднелась машина с лежащим под нею шофером. Галя умоляюще взглянула на меня, и мы пошли дальше по черной, обтаявшей за последние дни дороге, бегущей вкось по склону высокой, увенчанной шапкой кудрявого леса, горы. Внизу, под нами, теснились желтые пристанционные постройки с бурыми вениками голых тополей и новые нарядные дома заводского поселка.
- Поднимемся к лесу? - предложил я Гале. - Хоть на город взгляну… (Тут я опять чуть не сказал: «В последний раз», - но вовремя спохватился). Шутка ли, ведь столько лет я здесь прожил. Теперь, как кусок сердца, отрывать придется.
- Это зарастет! - с трагической ноткой, точно про себя, промолвила Галя.
Снег на склоне горы подтаял как бы длинными ступенями, и под каждой такой ступенью образовались ячейки, выложенные изнутри ледяными хрусталиками. Лыжный след причудливым белым зигзагом, наискось перечеркнувший гору, тоже подтаял с боков и стоял как на подпорках, унизанных прозрачным бисером.
Подъем нам дался нелегко. Ноги скользили и по снегу, и особенно по обледеневшей траве, торчавшей из-под него пучками желтой мочалы. Хватаясь за вершинки крохотных сосенок и за обгорелые пеньки, мы поднялись высоко, к самой опушке соснового бора. Еще на моей памяти он был густым и могучим, его сильно повырубили, но он все еще напоминал чудесный храм с высокими стройными колоннами. Глубокая тишина стояла вокруг, и едва доносившийся сюда далекий шум города только подчеркивал полный величия покой зимнего леса.
Налетел порыв ветра, и точно чьи-то пальцы коснулись невидимых струн - лес заговорил, зашумел, с широких лапчатых ветвей посыпался снег.
- Так что же, значит, навсегда? - спросила Галя, глядя на меня со все еще теплящейся в глазах надеждой.
- Вернее всего, что так, - ответил я, невольно опуская глаза. - Да и зачем мне оставаться, зря мучить тебя и мучиться самому?
- Да тебе-то какое мучение?
- Неужели ты думаешь, что мне все равно, если больно тебе?
- Не понимаю. Что тебе до меня, если ты меня не любишь.
- Ты все равно мне дорога. Раньше я как-то этого не замечал, но вот сейчас, когда нужно расставаться, сам не знаю, что со мной: точно потерял что-то. А ехать нужно.
- Почему нужно? Из-за твоей работы или больше из-за нее? - допытывалась Галя.
- И из-за того и из-за другого, - жестко ответил я, чувствуя, что воля моя слабеет, и мне уже не так хочется уехать из Борска, как раньше. - И из-за тебя тоже. Нам нужно расстаться.
- Неужели я так тебе надоела?
- Нет, не надоела… скорее наоборот: я все больше и больше думаю о тебе, а добра от этого не будет. Только мучение одно для обоих.
- Ты уверен в этом? - и не дав ответить, точно боясь получить горький для себя ответ, Галя быстро заговорила: - Ну скажи мне, Дима, почему в мире такая ужасная несправедливость? Ведь даже у нас, где, кажется, женщина во всем уравнена с мужчиной - и в труде, и в правах, и в почете, а вот в любви этого равенства для нее нет. Например: полюбит парень девушку, а она его знать не хочет, но он не теряет надежды, ходит и ходит за ней, как привязанный, поет и поет ей о своей любви на разные лады. Вот она сперва прислушиваться к нему начнет, потом приглядываться - смотришь, и поженились, да еще и живут как счастливо - загляденье! И все вокруг за такое поведение хвалят его: «Уж такой-то он постоянный, такой верный, видно, хорошей души человек!». А полюбит девушка парня, тут уж совсем другое получается: она ему и слова сказать о своей любви не посмеет, чтобы ее не просмеяли. А если которая и осмелится, то сам же парень ее бесстыдной назовет, и для людей она будет настоящим посмешищем.
Вот сейчас сколько осталось после войны вдов? Страшно подумать. И сколько девушек за это время так и не вышли замуж, потому что не за кого было, и живут они теперь одинокими. И вовсе не потому, что они чем-то плохи. Может, некоторые из них и нашли бы себе по сердцу человека, но выбор у нас по какому-то старому обычаю предоставлен только мужчинам. Вот им и остается сидеть дожидаться, пока какой-нибудь холостяк высмотрит которую-нибудь из них за машинкой в учреждении или за станком на заводе. А ведь каждой из них семью хочется иметь, детей…
- Во многом ты, конечно, права, - согласился я, - но ведь тебе лично вовсе не грозит такая судьба. Скорее, ты сама можешь выбирать из целой обоймы претендентов на твое сердце. Ты не подумай, что я следил за тобой, но мне хорошо известно, что один инженер на заводе даже…
- Что мне этот инженер! - воскликнула Галя. - Пускай хоть с ума сходит. Я на него и смотреть не хочу, и никого другого мне не нужно. Я выбрала тебя одного, и это уж на всю жизнь. Я буду или твоей женой или ничьей. Ты не бойся, - успокоила она меня, заметив мое смущение, - я не намерена навязываться тебе. Даже видеться с тобой я не буду, если ты этого не захочешь, но я не верю, что ты будешь счастлив с той, понимаешь, не верю! Никакая другая девушка не сможет любить тебя так крепко, как я, это просто невозможно. Я выстрадала эту любовь. Она, как жизнь, со мною неразлучна, и если уйдет, то только с жизнью.
- Трудно судить сейчас об этом, - пробормотал я, подавленный ее признанием. - Вот расстанемся, перестану я тебе глаза мозолить - и пройдет твоя любовь.
- Нет! - покачала она головой. - Такая любовь пройти не может. Она все во мне выжгла: гордость мою ужасную, самолюбие, упрямство, стыд! Смотри, я говорю, что люблю тебя, и не стыжусь, а ведь это ужасно, ведь ты можешь подумать обо мне очень плохо.
Я хотел возразить, что она ошибается, что я никогда так не ценил и не уважал ее, как теперь, но она не дала мне говорить:
- Нет-нет, не спорь, я знаю, ты любишь подсмеяться, у тебя это в натуре. Я ведь все твои недостатки знаю. Ты упрям и бываешь резок до грубости, но это у тебя от прямоты характера. Мне даже нравятся эти качества, без них ты не был бы таким, каким я тебя люблю. Про тебя говорят, что ты карьерист, любишь показать себя, стремишься выдвинуться, а я считаю, что это не так. Просто ты хочешь, чтобы поле для работы у тебя было шире, раз ты в себе силу чувствуешь. Ведь ты не по спинам шагаешь, не подсиживаешь других. Знаю я и то, что по-настоящему ты любишь только себя да свою работу и ради нее будешь забывать и о семье и о тех, кто тебя любит. Но, по-моему, мужчина и должен быть прежде всего бойцом, хотя и на мирном фронте, а ведь ты воюешь не с бумагами, а с настоящими живыми врагами. Плохо только, что ты очень самонадеян, но это от молодости, жизнь еще пообломает тебя.
Она говорила с такой страстью, точно отстаивала, желая оправдать передо мною другого, бесконечно дорогого ей человека. Глаза ее блестели, лицо как будто светилось. Никогда прежде она не казалась мне такой побеждающе красивой. Я был ослеплен сиянием ее лица. Прижав ее руку к своей груди, я сказал, напрасно стараясь подавить дрожь в голосе:
- Клянусь тебе всем для меня дорогим, что я…
- Не клянись! - воскликнула она, закрывая другой рукой мне рот. - Я не хочу ничем тебя связывать. Ты свободен, как птица, лети, куда хочешь, люби, кого вздумаешь. Пусть у тебя не останется тягостного чувства, будто ты что-то мне обещал, что-то должен сделать. За любовь, мой ненаглядный, ничем, кроме любви, заплатить нельзя. Уезжай, но помни: я не из тех, что остаются, проливая слезы. За свою любовь я буду бороться! Где бы ты ни был, но рано или поздно я буду там же. Ты можешь меня не замечать, я не обижусь, а пойму, что для тебя так нужно. Я не стану пытаться разбивать твое счастье… если оно будет. Но я не допущу, чтобы ты был несчастен. Я не знаю еще, что предприму, как буду держаться с тобой, чувствую только одно, что твое счастье будет для меня всегда самым главным в жизни.
- Родная моя, - сказал я, глубоко потрясенный этой исповедью, - прости, что я причиняю тебе столько горя! - И, не думая, что делаю, я крепко, крепко-прижался губами к ее нежным влажным губам. Она не оттолкнула меня и ответила таким крепким, полным отчаяния и страсти поцелуем, что хмель его ударил мне в голову. За одним поцелуем последовали другие, я осыпал ими губы, лоб, глаза… но Галя вырвалась из моих объятий и, задыхаясь, крикнула:
- Уйди, прошу тебя! Это все не то. Умоляю тебя, уйди! Я никогда не прощу тебе, если ты останешься здесь хоть на миг.
- Но дай хоть проститься с тобой, - тяжело дыша, взмолился я.
- Нет! - ответила она, уже овладев собой. - Иди, мы простимся на вокзале.
Глава двадцать вторая СУД ИДЕТ
Я был так погружен в свои мысли, что даже прошел мимо здания суда. Пришлось возвращаться. Как раз в тот момент, когда я поднимался на крыльцо, к тротуару подкатил автобус с аэродрома, и из него торопливо вышел худой, среднего роста мужчина в легком не по сезону пальто. Он был давно не брит. Во всем его облике и движениях чувствовалась какая-то суетливая растерянность.
«Не Саввин ли это?» - подумал я, тем более, что и лицом и, в особенности, серыми слегка навыкате глазами он напоминал Гошу.
Судя по шепоту, сразу раздавшемуся при его появлении в толпе, теснившейся у дверей зала, и по тому, как перед ним расступились, я понял, что не ошибся.
Пройдя быстрыми неверными шагами к столу, за которым уже сидели судья и народные заседатели - две немолодые женщины, Саввин (это был он) хотел что-то им сказать, но вдруг остановился в какой-то нелепой позе, расставив ноги, весь взъерошенный, нескладный, держа на отлете свой тощий рюкзак. С невыразимым отчаянием он смотрел туда, где за покрашенной в голубой цвет невысокой загородкой виднелась стриженая голова Гоши - его сына, отчужденно и со злобой смотревшего на него.
Судья сообразил, кто это такой, и спросил:
- Вас что, гражданин, вызывали в суд?
Точно очнувшись, Саввин начал торопливо шарить по карманам, кивая головой:
- Да, да, меня вызывали, вот только повестка… где-то… запропастилась… Я вас прошу, нельзя ли до суда… Я бы объяснил вам все. Это недоразумение, быть не может, чтобы он… Нужно глубже взглянуть. Мальчик не виноват, что у него такие родители, которые довели его… Виновник, по сути дела, даже я один…
- Подождите, гражданин, - остановил его судья. - Так нельзя, существует известный порядок. Мы вас вызовем, и вы тогда все объясните.
Саввин хотел еще что-то сказать, но судья попросил его сесть. Все места были заняты, и только рядом с Анной Максимовной на скамье свидетелей оставался свободный промежуток. Сунув свои пожитки под ближайшую скамью, Саввин протиснулся между рядов и сел рядом с женой.
Она резко отодвинулась, причем, однако, на ее напряженном, пылавшем румянцем лице не дрогнула ни одна черта. Но Саввин словно не заметил ее. Он по-прежнему отчаянным взглядом смотрел в сторону сына, вытягивая шею, чтобы разглядеть его лицо, которое то и дело загораживала от него фигура конвоира.
Началась обычная, много раз виденная мною процедура суда. Свидетелей удалили из зала, я вышел вместе с ними, хотя мне теперь уже незачем было говорить с Саввиным. Из его слов, обращенных к судье, я понял, что он и так собирается сказать то самое, на мой взгляд, нужное и важное, что может залечить израненную душу его сына.
Все же я, наверно, заговорил бы с ним, но он сразу же подошел к своей жене. Прихожая, где ожидали свидетели, была так тесна, что мне волей-неволей пришлось услышать весь их разговор.
- Вот, хоть ты и не хотела этого, а мне все-таки удалось приехать, - сказал Саввин Анне Максимовне.
- Значит, у вас была-таки возможность достать деньги, не клянча у меня, - злобно, почти не разжимая губ, проговорила она, не глядя на мужа.
- Если бы ты только знала, у кого я их взял, - зажмурившись, потряс головой Саввин.
- Неужели у него?! - с возмущением воскликнула Анна Максимовна, окидывая мужа взглядом, полным гадливого презрения. Он только кивнул в ответ головой.
- Боже мой! Какой позор! - почти шепотом произнесла она. - Как вы могли? Я вас не узнаю.
- Я сам не узнаю себя, - склонил голову Саввин, - но теперь для меня все это не имеет значения. Теперь только Жорик… Как ты хочешь, а я все скажу. Это советский суд, он должен понять…
- Я знаю, что вы хотите все свалить на меня, - с гневным рыданием в голосе проговорила Анна Максимовна. - Как это подло!
Свидетели по одному исчезали в дверях. Ушла Языкова, вслед за ней Морозов, потом комендант общежития. Я тоже вернулся в зал.
Вскоре вызвали Анну Максимовну. Когда она с величественным видом, высоко подняв свою красивую голову, подошла к столу, можно было подумать, что она явилась сюда, если не для того чтобы обвинять, то, по меньшей мере, предъявлять кому-то крупные претензии. Но она долго не могла собраться с мыслями. Судье пришлось чуть ли не клещами тащить из нее каждое слово. Наконец, выведенный из себя ее попытками уклониться от ясных ответов, он пристыдил ее:
- Ведь вы же мать. На ком, как не на вас, лежит ответственность перед обществом за то, как вы воспитали сына? Мы, советский суд, требуем, чтобы вы объяснили, как могло получиться, что вы вырастили не полезного члена общества, а преступника? Дайте нам ответ.
Только после этого Анна Максимовна начала говорить. Она повторила примерно то же самое, что говорила мне, только еще сильнее напирая на перенесенные ею моральные страдания. Однако шум возмущения, поднявшийся в зале, принудил ее больше говорить и о сыне. Тут она старалась всячески оправдать себя и свой метод строгого воспитания, обвиняя во всем происшедшем с ее сыном его новых приятелей:
- Это они, негодяи, научили его гадостям. Недаром я запрещала ему дружить со всякими оборвышами. Мало ли было мальчиков из приличных семей!
Пока Анна Максимовна говорила, судье несколько раз приходилось унимать шум в зале, но, несмотря на его предупреждения, что он удалит публику, то и дело слышались выкрики:
- Тоже, мать называется! Укатила с любовником, а сына бросила, живи как хоть! Что он тебе - котенок паршивый? Подумаешь, страдалица, совесть иметь надо!
Под градом таких реплик с места Анна Максимовна красная, как свекла, со слезами на глазах, но все еще из последних сил старающаяся сохранить на лице маску невозмутимости, проследовала на свое место.
- Позовите свидетеля Саввина, - приказал судья, и в дверях появился Степан Сергеевич. Он вошел на этот раз твердой походкой, с лицом озабоченным, но решительным. На Гошу он взглянул только мельком и чуть кивнул ему ободряюще.
- Что вы можете сказать по настоящему делу? - спросил его судья после обычного опроса.
- Я очень много должен объяснить суду… - заторопился Саввин. - Прошу вас дать мне возможность изложить перед судом подробно, так, чтобы все стало ясно. Я уже вам говорил, что тут недоразумение, ужасное недоразумение.
- Не волнуйтесь, - успокоил его судья, - мы не ограничиваем ваше время.
- И я буду говорить! - почти выкрикнул Саввин, вызывающе взглянув через плечо на Анну Максимовну. - Буду! Довольно мы прятались от людей, боялись, как бы кто-нибудь не заглянул в недра нашей семьи, не осудил, не сказал бы чего. Если бы мы раньше не замыкались от них, может быть, не случился бы этот… ужас.
Саввин был вне себя, ворот рубашки душил его, и он расстегнул пуговицу.
- Вот сюда, перед вами я кладу свою жизнь! - ударил он ладонью по красной скатерти стола. - Смотрите на нее! Осуждайте, любопытствуйте, как я дошел до жизни такой, как загубил свою семью. Я много за это время думал и решил, что виноват во всем я один, меня и нужно судить.
- Может, вы скажите, почему вы не отвечали на письма вашего сына? - спросил судья, чтобы подтолкнуть Саввина ближе к делу.
- Все скажу, все скажу, - точно в каком-то исступлении продолжал Степан Сергеевич и вдруг остановился. - Письма? Какие письма? Я не получал никаких писем. Ты разве писал мне, Жорик? - обернулся он к сыну, но тот не ответил и еще ниже опустил голову, так что из-за голубой загородки был виден только его стриженый затылок.
- Ваш сын посылал вам письма на адрес вашей жены, - пояснил судья. - Получали вы их?
- На ее адрес? - переспросил Саввин и покачал головой. - Нет, она мне о них ничего не говорила. Но это меня не оправдывает. Я и без этого обязан был помнить, что у меня есть сын, а я вместо этого думал только о ней и о себе, о том, смогу ли я жить, когда все рухнуло.
Жадными глотками он опорожнил пододвинутый судьей стакан и, еще раз взглянув на жену, продолжал:
- Я вам расскажу о нашей жизни. Семнадцать лет назад мы встретились с ней. Я был тогда директором совхоза, она работала на ферме. Была тогда совсем еще юная, красивая, очень красивая. Эта красота и закружила мне голову. Полюбил я ее, она тоже говорила, что любит. Женились мы, появился Жорик, и были они у меня как два ребенка - обоих приходилось воспитывать и учить.
Она тогда окончила только четыре класса, жизни не знала, была совсем наивной. Сначала я сам принялся учить ее. Но вы не знаете, что такое работа директора совхоза. С рассвета до заката ни на минуту не принадлежишь себе - все время в поле, на фермах, с народом.
Даже если, бывало, ночью проснешься, то не заснешь без того, чтобы не выйти и не пройтись по усадьбе, проверить, все ли в порядке, не спят ли сторожа, не горит ли где.
Ходить в школу моей директорше показалось зазорным, пригласил я учителя на дом. Был такой старичок-пенсионер. Кое-как дотянул он ее до седьмого класса, и тут она забастовала.
Я всегда считал, что неудобно молодой женщине не работать, она тоже на словах соглашалась со мной, но вначале было у нее оправдание - малютка на руках. К тому же она довольно резонно рассуждала, что если будет работать, то придется брать домработницу, то есть все равно изымать человека из государственного хозяйства. Я с ней в этом соглашался, как и во всем, что бы она ни говорила.
Нужно вам сказать, что никогда она у меня ничего не просила, а как-то так умела подойти, что я сам же предлагал все, что ей только захочется. Советовал я ей побольше читать. Но ведь для этою требовалось свободное время, и взяли мы поэтому в дом сперва старушку-няньку, чтобы за Жориком приглядывала, пока жена с книжкой на диване лежит, а потом и девушку, чтобы обед готовила, да еще мамашу свою жена к нам перевезла. И стала она у меня жить, как барыня: «Няня, подай, Маня, приготовь, мама, принеси». А я ничего этого не замечал, жил да радовался, что в доме у нас порядок, все прибрано, ребенок чистенький, здоровенький, словом, тишь да гладь.
Вдруг начала жена поговаривать, что хотелось бы ей учиться на курсах или в техникуме, и даже книг набрала и начала готовиться. Я обрадовался, предлагаю помочь ей, разъяснить что непонятно, но она мне говорит, что сама все прекрасно понимает, но только просит, чтобы скорей мы переехали в город, где она будет учиться.
Переезд этот для меня был тяжелым. С совхозом я душой сросся. Ведь я же его строил. Сколько было в нем моего пота и крови вложено, сколько из-за него нервов потрепано, даже два выговора получено. Зато и вырос он за последние годы неузнаваемо, в полном смысле на ноги поднялся. И тут все это мне предстояло бросить!
Страшная это штука - расставаться с любимым делом. Я не захотел переезжать, но жена и тут нашлась: «Хорошо, говорит, не езди, я одна в город перееду. Живут же другие в общежитиях, вот и я устроюсь. Мне там даже веселее будет, чем с тобой».
Характер ее я прекрасно знал. Она, как говорится, и пересолит, да выхлебает, и поехал к в Борск просить о переводе в город.
Не хотели меня сперва отпускать, а потом учли мое положение и перевели в райзо.
Приехали мы в город, огляделись.
«Прежде всего, - говорит жена, - нужно квартиру отремонтировать, кухоньку пристроить, сарайчик поставить, побелить, покрасить, словом, устроиться по-человечески, так, чтобы и людей принять было бы не стыдно». Кстати сказать - о людях. Ведь это был только один разговор, что людей принять. Никого мы не принимали, и сами от всех людей каменной стеной отгородились.
Товарищей моих и их жен супруга моя не жаловала, все ей глупыми да неотесанными казались, а те, кого бы она сама хотела пригласить, ею не интересовались. Так и жили мы одни, как бирюки. Мне это было не так заметно, потому что я все время в разъездах, на людях, а она скучала.
Все деньги, что у нас были, она истратила на ремонт, но самое главное - за хлопотами пропустила время поступления на курсы, хотя я ей и напоминал не раз, однако ничуть этим не огорчилась: «Подготовлюсь, - говорит, - лучше к будущему году. Тогда уже наверняка поступлю». Но вот и еще год прошел, и другой, и третий, а жена и думать забыла, зачем в город переехала. Теперь у нее была уже другая песня: «Не до учения мне, я должна сына воспитывать. Не хочу я, чтобы из него беспризорник вырос».
Я спорить не стал, потому что со своими поездками не мог уделять сынишке много времени, бабка у нас древняя. Пусть, думаю, Анна Максимовна Жориком занимается.
Воспитывала она его строго. Приучила поздороваться, попрощаться, поблагодарить, уступить старшим место. Все это он умел, но душу его она не сумела к себе привлечь, скорее, наоборот, ожесточила. Ласки он от нее не видел, а все выговоры, замечания да наказания разные за всякие пустяки, прямо иная мачеха лучше. А если я ей что скажу поперек, то у нее один ответ: «Ты ничего не понимаешь».
Денег она ему никогда не давала, боялась, что курить начнет, и все от него запирала, хотя он и так ничего не взял бы. Не такой он был.
К работе по дому жена не только не приучила Жорика, но даже сердилась, когда он колол дрова или выносил помои из кухни.
«Зачем тогда прислугу держать? - кричала она на него. - Ведь деньги ей платим, а не щепки! Твое дело - учиться, и больше мы от тебя ничего не требуем». Ребят чужих она к нам в дом не пускала, и ему запрещала к ним ходить, чтобы он дурному от них не научился. Так и рос он у нас, отгороженный от всего мира, занятый только ничтожными событиями, касавшимися нашей семьи. И видно было, что это ему и скучно, и тягостно, но роптать он не смел. А я всему этому издевательству над ребенком потворствовал, хотя и претило оно мне ужасно, но я знал, что возражать бесполезно, тем более, что я был в своей семье каким-то гостем. Часто месяцами не виделись.
Зато, бывало, когда я возвращался домой из командировки, Жорик от меня ни на шаг не отходил - так наскучается без меня. Ласковый он был, хороший мальчишка…
Тут голос у Саввина точно перехватило, он замолк, судорожно сгорбился, стиснув что было сил зубы, и закрыл лицо рукавом пальто.
Мертвая тишина водворилась в зале.
- Вечером, бывало, - продолжал он прерывающимся голосом, - когда мать уснет, проберется он ко мне на кровать, прижмется и шепчет на ухо: «Летом мы с тобой путешествовать поедем, ружье возьмем, удочки…» Я его гоню спать, ведь в школу утром рано нужно идти, а он заплачет: «И ты меня гонишь…».
Виноват я перед ним, страшно виноват. Детское сердце ласки требует, а он ее у нас не видел. Да и сами посудите, с работы приду измочаленный, издерганный (не ладилось у меня с начальством), и, вместо того чтобы с ним поговорить, хоть маленько его делами поинтересоваться, завалюсь с газетой на диван. Иди, скажу, учи уроки. А он только посмотрит на меня жалобно. Э-эх!
Потом родилась у нас дочка. Сколько радости было для нас с женой! Жорик тоже полюбил сестренку, но только Анна Максимовна даже подойти поближе к ней ему не позволяла, боялась, что он может испугать или уронить ребенка.
Тут, надо признаться, жить сынишке стало хуже: внимания меньше, попреков больше. Теперь и я все часы, которые удавалось выкраивать для семьи, проводил с дочуркой, но не помню, чтобы хоть раз тогда Жорик пожаловался, что о нем совсем забыли. Стал только более замкнут и не так уж льнул ко мне, как раньше.
Прошел, примерно, год после рождения малютки, как вдруг начал я замечать перемену в Анне Максимовне. Положим, она и всегда очень следила за своей внешностью, а тут что-то уж особенно тщательно стала одеваться, тон у нее появился какой-то сдержанный и холодный, даже - вы поверите? - походка другая стала.
По натуре я человек правдивый, других обманывать не умею и сам всегда вижу, когда мне лгут. Однако у себя дома не разглядел обмана. Слишком я любил свою жену, слишком верил ей. «Пойду пройдусь», «Схожу к портнихе», «У нас сегодня кружок вышивания». Ну и сделай милость, иди, если нужно! И она ходила! Уж если при мне за последнее время почти ни одного вечера нельзя было удержать ее дома, то что же делалось, когда я уезжал?
Потом уж я понял, что большую тут роль безделье сыграло. Ведь делать-то ей дома было нечего. Все за нее чужие руки исполняли. Не знаю, подозревал ли о чем Жорик. По-видимому, догадывался - ходил мрачный, неразговорчивый и даже меня стал избегать.
И тут вдруг грянул над моей головой гром! Вернулся я как-то из МТС и застал дом пустым. Одна только старуха на кухне. Жена уехала, забрав с собой дочку, сын был в школе.
Поняв, в чем дело, я чуть с ума не сошел. Плохо со мной стало, а когда отводились, я только об одном и думал: догнать и убить! Спешно продал я библиотеку - единственную мою страсть, добыл деньжонок и, как очумелый, бросился покупать билет на поезд. С трудом купил его и мечусь по комнате, что с собой взять, а Жорик спрашивает:
- Ты скоро вернешься, папа?
А я ему:
- Отстань, и без тебя тошно!
Вижу, отвернулся он, втянул голову в плечи и пошел к себе. Что же я сделал тогда? Ведь в душу сыну плюнул! Поверите ли, в этом чаду я даже не попрощался с ним. Уже на улицу вышел с вещами, когда вспомнил. Вернуться хотел, но побоялся опоздать на поезд.
И началось мое хождение по мукам.
В Москве я жены не нашел. Окольными путями узнал, что Константин Павлович - тот самый, с которым уехала Анна Максимовна - взял отпуск и находится в Сочи. Стал я их ждать. Снял угол, заполз в него и там, почти не выходя, просидел месяц… один, с глазу на глаз со своей бедой.
Признаюсь пить начал. До тех пор этим не занимался, даже отвращение питал к вину, а тут… запил! Думал, заглушу тоску свою, а она вместо этого еще злее вгрызалась в сердце. И жил я только тем, что отчеркивал по утрам дни в календаре до того числа, когда должна была приехать в Москву Анна Максимовна.
Ни о каком убийстве я уже не помышлял, это только в первом пылу затмение на меня нашло. За этот месяц я много передумал и понял, что сам во всем виноват: не сумел воспитать жену, человеком ее сделать, а потом еще позволил в барыню превратиться - вот и результаты. Но я все предполагал еще, что мне удастся уговорить ее вернуться домой. Ведь чуть не полжизни мы с ней прожили. Шутка ли? Неужели можно так, вдруг разойтись, стать чужими?
Прошел месяц. Хожу я каждый день, справляюсь, не приехали ли они, и вдруг узнаю, что отпуск у Константина Павловича двухмесячный. Вот еще напасть! Деньги кончаются, а тут мысль начинает грызть, что сынишку дома бросил и с работы, точно дезертировал. Едва представлю себе, как буду потом людям в глаза смотреть, так даже зубами заскрежещу, но сразу отталкиваю от себя эти мысли. Вот, думаю, решится моя судьба, тогда уж семь бед - один ответ, вернусь с повинной головой. Но с сыном-то, с Жориком, как поступить? Ведь он там, поди вовсе растерялся без нас. Не раз, не два брался я за перо, чтобы написать ему, объяснить все, но рука не поднималась. Ведь, думаю, может вернется еще мать, что же я ее перед ним позорить буду! Вот выяснится все, тогда и напишу. Однако время шло, но ничего не выяснилось.
Вернулись они с курорта. Пришел я к ней, когда его дома не было. С первого взгляда даже не узнал - так она помолодела и похорошела.
Дальше прихожей Анна Максимовна меня не пустила и сразу наотрез заявила:
- Все, что между нами было, кончено! Теперь у меня новая жизнь. Мы оба должны быть свободны. Дайте мне развод, я за все уплачу.
- Аня! - говорю ей. - Неужели только в том дело, кто за что заплатит? Ведь у нас же дети. Подумала ли ты о них?
Но она только одно и твердит: «Дай мне развод, я к тебе не вернусь» - или стоит, как каменная, точно даже и не слышит, что я ей говорю.
Походил я к ней с неделю, потом вдруг стала мне домработница говорить: «Анны Максимовны дома нет, и не знаю, когда вернется». А сама шепчет: «Не ходите вы, не мучьте себя, все равно вас пускать не велено».
Часами бывало, как нищий, простаивал я у подъезда, ожидая, когда она выйдет, чтобы хоть слово ей сказать, пока она до машины дойдет, но она тут даже вида не подавала, что хоть когда-нибудь раньше меня видела, даже если взглянет, то как будто на столб телеграфный, и все.
Правда, через силу, но побеседовал я с Константином Павловичем. Человек он выдержанный, говорил со мной вежливо, как будто даже с сочувствием, но так у него выходило, что нечего мне в Москве околачиваться, а нужно ехать домой. И чувствовалось, что хоть он и старается показать мне свое сочувствие и предупредительность, но никак не может скрыть откровенного пренебрежения и брезгливости при виде моего мятого пальто и обшарпанных сапог. И хоть было у меня нестерпимое желание ударить его, но терпел я, потому что из первых же его слов, которыми он, как щитом, прикрылся от меня, я понял, что если уж жена для меня потеряна, то дочь мою он бы с радостью вернул мне. Этим он меня сразу же обезоружил. Я уже думал, как о счастье, если бы мне удалось увезти с собой свою дочурку. Ведь это же была моя кровь! Кто посмеет сказать, что отцу его дети менее дороги, чем матери?
Константин Павлович помог мне поговорить по этому поводу с женой, но она сразу отказала.
Тогда и заявил мне Константин Павлович: «Ничего не поделаешь, придется вам, уважаемый Степан Сергеевич, уступить». И так он кривенько усмехнулся при этом, так руками развел, ну ни дать, ни взять, как будто мы при покупке лошади в цене не сошлись. И смотрел он на меня с видом этакого снисходительного превосходства, что взяла меня тут злость.
Как вам не стыдно, говорю, мне в глаза смотреть? Жил я, семью имел, работал, сколько было сил и разума. А вы явились, сбили от скуки женщину и все, что я имел, разрушили. Уж лучше бы просто убили меня из-за угла, по крайней мере, не мучили бы. Где это видано, чтобы отнять ребенка у отца только из-за того, что жене его приглянулся другой мужчина? Это же все равно, что кусок сердца у него вырвать. Если хочет жена уйти от меня, пусть уходит, насильно мил не будешь, но ребенка я не отдам! Лучше вы мне его добром верните!
Шум у нас тут поднялся. Я кричу, жена кричит, один Константин Павлович спокоен. Что для него чужое горе? Привык человек через такие мелочи перешагивать, ведь слышал я, что он из-за Анны свою семью бросил. Однако шум ему не понравился. Могли соседи через стенку услышать. Поморщился он и заявил, что раз стороны не пришли к соглашению, то разговор окончен, и он просит меня уйти. Я было сгоряча рванулся к нему, но жена между нами стала.
Вот тут с горя, с оскорбления я совсем опустился. Стыдно признаться, у спекулянтов деньги зарабатывал. В очередях для них ночами простаивал только ради того, чтобы днем хоть издали дочку повидать, когда ее гулять выведут, или жену встретить у дверей. О сыне я тогда старался и не вспоминать. Думал, что он сыт, одет, обут, учится.
Был я у юристов, все совета просил, как поступить. Но что толку. Говорят: «Обратитесь в суд, - и тут же добавляют: - Она мать и тоже право имеет. У вас же остался один ребенок». Точно детей можно делить, как цыплят: одному пара, другому пара - и квиты.
Конечно, мог я большие неприятности Константину Павловичу причинить, если бы пожаловался на него, но разве я мести добивался? Мне ребенка моего нужно было вернуть. Ребенка! Вы можете это понять?..
С минуту длилось напряженное молчание, потом тяжело, с надрывом вздохнув, Саввин продолжал:
- И вдруг разыскивает меня милиционер. Я сначала подумал, что Константин Павлович жалобу подал, но оказалось, что нет. Письмо он мне принес от товарища Карачарова, спасибо ему, написал, а то ведь я ничего не знал о Жорике. Думал, живут они с бабкой тихо, мирно. Но прочел я письмо и вовсе света не взвидел. Я полагал, что уже до дна горя хлебнул, но нет! Оказалось, что есть горе еще горше.
Нет хуже, нет страшнее позора. Сын - грабитель! Чей сын? Мой!
Родной мой! Ты ли это? Кто тебя подменил? Ведь каким ты был хорошим, честным… Милый мой сын! Эта я тебя бросил, оскорбил невниманием, душой твоей детской пренебрег.
Не утирая слез, Саввин протянул руки в сторону сына, который, уткнувшись лицом в согнутую в локте руку, содрогался от рыданий.
Судья прервал Степана Сергеевича и попросил придерживаться фактической стороны в своих показаниях. Тот закивал головой и извинился:
- Простите, что сбиваюсь. Трудно очень… ведь это не доклад какой-нибудь, - но уже более спокойно продолжал: - Понял я тогда все. Ради чего, думаю я, здесь, в Москве торчу, чего добиваюсь? Разбитого все равно не склеишь, с женой из-за дочки тягаться нет возможности, а там сын гибнет. Метнулся я ехать, а на что? Было у меня в кармане несколько рублей, послал я на них молнию старухе, чтобы скорей продала что-нибудь и деньги мне выслала телеграфом. И уже когда отправил телеграмму, то сообразил, что пока она там соберется, я же опоздаю на суд.
Так оно и вышло бы, время идет, а перевода все нет. К Анне Максимовне пошел, хотел у нее занять, но она отказала, а больше никого у меня в Москве не было.
Пошел к Константину Павловичу.
Клянусь вам, не испытали вы такой муки. Ноги у меня к земле прилипали, когда я поднимался по лестнице в его учреждение. Сколько раз обратно поворачивал, но возвращался и опять шел к нему.
Помню: на медвежьей облаве видел я, как ползла по снегу раненная медведем собака, таща за собой свои внутренности. Вот так полз и я, обливаясь потом: шаг шагну вперед да два - назад.
Видно, уж очень я был измучен и страшен, когда вошел в кабинет Константина Павловича. Он даже вздрогнул, увидев меня, и сразу за телефон рукой, но я, чтобы не пугать его, тут же у двери на стул сел и сразу сказал, зачем пришел.
Десяти минут не прошло, как деньги были передо мной. Он даже расписки брать не хотел и - есть ли совесть у таких людей? - намекнул, что легко без этих денег может обойтись. Да разве чувствуют что-нибудь такие люди, когда топчут человеческое достоинство?
И вот теперь я здесь, стою перед вами, товарищи судьи, и прошу вас: не сына моего судите, а меня. Не преступник он в своей душе, клянусь вам.
Я понимаю, что нет у меня фактов, чтобы доказать вам это убедительно и неоспоримо, но вы должны поверить моим словам. Вы советские люди, вас мне не стыдно и попросить, вы поймете чувства отца. Душа моя истерзана, все втоптано в грязь. Я потерял очень многое, так не отнимайте же у меня последнее - мою надежду исправить сына.
Клянусь вам своей труженической жизнью, я сделаю из него человека, и сам вместе с ним стану опять на прямой путь. А она… - тут Саввин указал на Анну Максимовну. - А она пусть уходит. Нам она ненужна!
- Пусть она уходит, папа! - раздался голос Гоши. Заплаканный, бледный, с красными глазами, он стоял, держась за край барьера. - Пусть уходит!
При этих словах сына Анна Максимовна вскочила с места, протянула к нему руки, крикнула что-то невнятное и вдруг, точно убитая наповал, упала.
Никто из сидевших рядом не сделал даже попытки ни поддержать, ни поднять ее, и дежурному милиционеру пришлось просить двух мужчин помочь ему вынести ее из зала.
Очень хотелось узнать, какой приговор вынесет суд, но времени до отхода поезда оставалось в обрез.
С порога я еще раз взглянул на Гошу. Он был потрясен тем, что ему пришлось только что услышать, и в его светлом, а не мрачном, как раньше, взгляде, устремленном на отца, виднелась уже не ненависть, а мольба и надежда. И я понял, что тот поворот в его душе, которого мы с Нефедовым так долго и безуспешно добивались, наконец, произошел.
Глава двадцать третья ГДЕ ЖЕ ОНА? ЧТО С НЕЙ?
Из суда я вызвал машину и заехал на минутку домой, чтобы проститься с Марфой Никитичной и забрать свои вещи.
Когда я вошел в дом, хозяйка сидела у стола в кухне, подперев голову руками, перед нею в беспорядке громоздилась немытая посуда. Это было совершенно необычным явлением в доме, где чистота и порядок возводились чуть ли не в культ.
- Галя не заходила? - спросил я.
- Нет! - удивилась моему вопросу Марфа Никитична. - Зачем ей заходить, она же на работе. - И с затаенным укором взглянув на меня, спросила: - Неужто вы так и не попрощались с ней?
- Нет, как же, попрощался. - ответил я, чувствуя, что мой голос звучит отвратительно фальшиво. - А сейчас я зашел попрощаться с вами. Спасибо вам за доброе отношение ко мне, я его никогда не забуду.
- Хотелось бы мне спросить вас, Дмитрий Петрович, если не обидитесь, - сказала Марфа Никитична, разглаживая на коленях складки фартука.
- Пожалуйста, спрашивайте, - ответил я, предчувствуя, что вопрос будет серьезный.
- Вы что же, так больше к нам и не приедете никогда?
- Трудно сказать, ведь я буду работать в другом городе.
- А чего же тут трудного? Жизнь ведь не из одной только работы состоит. Захотели бы, так могли бы и не по работе приехать.
- Вы это верно говорите, - согласился я, но, не желая лгать этой славной женщине и подавать ей какие-то напрасные надежды, добавил: - Однако я едва ли когда-нибудь вернусь сюда.
Марфа Никитична посмотрела на меня с глубоким укором.
- Неужели вы думаете, Дмитрий Петрович, - горько промолвила она, покачав головой, - будто мы с отцом такие глупые и слепые, что так ничего и не замечали из того, что между вами и Галей было? Хоть теперь и новые порядки в семьях и родительского совета никому не нужно, но ведь мы же ей не чужие. Как же нам не болеть сердцем за свое дитя? А дитя у нас, вы сами знаете, какое нравное, ей, бывает, и слово не скажи. Все сама лучше нас, стариков, знает и ни во что не позволяет вмешиваться. Ведь стены у нас тонкие, и слышим мы, что, может, и не для наших ушей назначено, да и глаза у нас есть.
Конечно, винить мы вас ни в чем не можем. С пути вы ее не сбивали, держали себя строго, но как ни говори, а голову нашей девке закружили.
Я уж ей говорю: «Чего ты на него молишься, когда он гордец, такой-сякой, и смотреть на тебя не хочет». А она мне в ответ: «Вовсе я на него не молюсь, и не нужен он мне, но ругать его тоже не за что, потому что лучше его нет на свете». Вот и возьми ее! Я, конечно, понимаю, что вам нужно девушку с положением, докторшу, к примеру сказать, или адвокатшу какую, а что она из себя представляет со своими десятью классами?
- Причем тут классы? - сердито возразил я.
- А что же тогда - «причем»?
- Не могу я вам сказать.
- Почему не скажешь? Ты не подумай, что я со своей дочкой тебе навязываюсь. Она и так, если - оборони бог! - узнает, о чем мы с тобой толковали, то голову мне с плеч снимет. Но, пойми, обидно мне за нее. Мать ведь я ей, не мачеха. Вся душа у меня изныла, когда вижу я, что она сама не своя ходит. Ты скажи мне прямо, что между вами приключилось и почему ты уезжаешь?
Я молчал, не зная, что ответить.
- Ну, что же ты молчишь? Не меня ли, старуху, испугался? А сколько раз я слышала от людей, что смелый ты такой, каких мало. Как же это так?
- Не вас я боюсь, Марфа Никитична.
- А кого же тогда?
- Видно, самого себя. Все у меня сейчас в голове и в сердце смешалось. Стою, как на перепутье, и не знаю, какой дорогой пойти.
- Это бывает, - вздохнула Марфа Никитична. - Жизнь - дело не шуточное. Ничего больше я тебе говорить не буду, пожелаю только счастья и успеха, какой бы путь себе ни выбрал… А ты ведь знаешь, что мы со стариком лучшего сына себе не хотели бы.
Она поднялась и, отведя жесткий вихор, упрямо спускавшийся мне на правую бровь, поцеловала меня в лоб.
В отделении милиции, куда я заехал, чтобы, может быть, навсегда распроститься со своими товарищами по работе, я не застал Нефедова. Мне сказали, что он скоро придет. В последний раз я обвел глазами свой кабинет: закапанный чернилами стол с облупившейся дубовой фанерой, портрет Дзержинского, сурово и проницательно смотрящий на меня, пишущую машинку, на которой я самоучкой научился печатать не хуже заправской машинистки, и, наконец, телефон - источник внезапных, в большинстве своем тревожных сообщений.
Вид телефона напомнил мне, что я дал его номер Ирине. Сколько раз я останавливал на нем взгляд с надеждой, что он, наконец, зазвонит, и я услышу ее желанный голос. Как же быть теперь? Ведь если я ей понадоблюсь, то она не найдет меня.
Я снял трубку и вызвал междугородную телефонную станцию. Как обычно, меня соединили с Каменском очень быстро. К телефону, по счастью, подошла сама Ирина. Я сразу узнал ее напоминающий журчание ручья голос.
- Это вы, Дима?! - к моему удивлению, радостно воскликнула Ирина. - Я только что о вас думала. Вы не скоро будете в Каменске?
- Возможно, через несколько дней я приеду, - быстро ответил я, взволнованный ее вопросом.
- Через несколько дней? - переспросила она, и в ее голосе послышалось уныние.
- Может быть, дня через два-три, не больше. При нашей работе трудно назначать сроки.
Она промолчала. Я представил себе ее озабоченное лицо, печальные глаза.
Я понимал, что раз она собиралась обратиться ко мне, то, значит, ее к этому принудили серьезные обстоятельства.
Чтобы убедиться, так ли это, я спросил:
- А вам нужно, чтобы я приехал скорей?
- Очень нужно! - как-то по-детски вырвалось у нее. - Мне крайне необходимо посоветоваться с вами.
Слова эти прозвучали как отчаянный призыв о помощи, и я готов был, вместо того чтобы спешить в Озерное, кинуться сломя голову в Каменск. Но это заняло бы минимум трое суток, а работа не допускала-таких отлучек. Однако и отказать Ирине в помощи я не мог. К тому же (хоть об этом мне было тяжело думать) я был обязан повидать Ирину.
В этот момент я явственно услышал в телефонную трубку звук дверного звонка. Видимо, кто-то пришел к Роевым, и разговор наш мог сейчас оборваться.
- Ну что же… - донеслись до меня слова Ирины, которая, наверное, расценила мое минутное молчание, как отказ. - Раз вы не можете…
- Погодите! - крикнул я. - Слушайте внимательно: если вам очень нужно видеть меня, это легко устроить. Я еду сейчас в сторону Каменска на станцию Озерная, но могу проехать и дальше, хотя бы до станции Каракуш, и подождать вас там. А вы сегодня в десять вечера сядете на последний пригородный поезд и приедете в Каракуш. Там мы с вами и поговорим. Я постараюсь сделать все, чтобы уладить ваши неприятности. Возвратиться в Каменск вы сможете утром с шестичасовым поездом. Поговорите с няней, скажите ей, зачем вы едете, и она устроит так, что никто в доме не будет знать, что вы отлучились.
Звонок в прихожей Роевых прозвучал еще более настойчиво. Кто-то явно злился, что ему не открывают так долго. Может быть, это и заставило Ирину так быстро решиться на ответ.
- Хорошо! - сказала она. - Я обязательно приеду. Только ждите меня. - И я услышал звук опускаемой на рычаг трубки.
Появление Нефедова вывело меня из задумчивости.
- Куда ты запропал? - сердито спросил он, входя к кабинет. - Я обзвонил все телефоны, разыскивал тебя Ездил даже на вокзал, думая, что ты удрал, даже не простившись со старыми приятелями. Только потом уже я понял, что это ты с Галей столько времени прощаешься.
- Причем тут Галя?
- Как причем? Мне ее до зарезу нужно было, а ее нигде нет.
- Она в райком с утра должна была пойти.
- И в райком звонил только что, нету ее там. Уж лучше сознайся, где ты ее оставил?
- Да не валяй дурака! Надоело, право. У нас с ней вовсе не такие отношения…
- И очень плохо, что не такие! Нужно быть форменным идиотом, чтобы, будучи холостым бобылем, как ты, пройти мимо такой дивчины. Если бы у меня не было моей Марии, которую я ни с кем не сравню, я бы женился только на Гале.
- Прежде всего, она за тебя не пошла бы…
- Как-нибудь уж уговорил бы… Но слушай, Дмитрий, - уже совершенно серьезно сказал Нефедов, - неужели ты и действительно не питаешь к Гале никаких чувств?
Это был вопрос, на который я даже сам себе не мог дать ясного ответа, поэтому я только невнятно промямлил, что с Галей мы были лишь добрыми друзьями, а дружить можно и живя в разных городах. Нефедов с сомнением пожал плечами и больше не досаждал мне подобными вопросами.
На прощание мы с ним обнялись.
- Позвони, когда устроишься с работой, - сказал он. - Писем, конечно, от тебя не дождешься, да я и сам терпеть не могу писать, но мне не хотелось бы терять тебя из виду. Я к тебе привык, и работать с тобой было хорошо. Котелок у тебя варит неплохо.
Он хотел поехать со мной на вокзал, но я постарался отговорить его, и он понял, что там могут быть другие, более интересные, чем он, провожатые.
- Ага! Значит, не все еще потеряно? - захохотал он и снова по-медвежьи крепко облапил меня.
На станцию я приехал вовремя. Оставив чемоданы в машине, прошелся по почти пустому перрону, заглянул в зал ожидания, но Гали нигде не нашел. «Еще рано!» - успокоил я себя и отправился сдавать вещи в багаж. Пришлось долго ожидать, пока дойдет моя очередь. Приемщик, точно задавшись целью испытать мои нервы, еле шевелился.
- Успеете еще, - успокоил он меня, видя, что я поглядываю на часы, - поезд целых семь минут стоит.
Я едва не сказал ему, что черепаха и та живей бы поворачивалась на его месте.
Подошел поезд. Все бросились к вагонам. Один я метался по перрону, вглядываясь в каждую женскую фигуру.
«В чем дело? - с нарастающим беспокойством спрашивал я себя. - Почему она не пришла? Оттого ли, что не захотела больше меня видеть или что-то ее задержало? А вдруг с нею что-нибудь приключилось там, в лесу? Ведь Нефедов говорил, что ее не было ни в райкоме, ни на работе».
Уже на ходу вскочив в вагон, я, держась за поручни, все еще смотрел на опустевший перрон с напрасной надеждой, что вот-вот на нем появится девушка в синем пальто.
Была минута, когда я готов был спрыгнуть на землю и остаться, чтобы выяснить, где же Галя и что с ней приключилось. Только мысль о том, что она десятки раз ходила одна на лыжах гораздо дальше того места, где мы с ней были, и никогда с ней ничего не случалось, остановила меня. Но беспокойство не проходило. Картины одна другой страшней и несообразней лезли в голову, как я их ни гнал, и даже сознание, что я еду, чтобы встретиться с Ириной, не могло рассеять тягостного состояния.
Глава двадцать четвертая НА МАЛЕНЬКОЙ СТАНЦИИ
Каракуш - небольшая станция, где поезда останавливаются всего на две минуты, имела довольно жалкий вид. Здесь не было ни ресторана, ни буфета. Маленький полутемный зал ожидания выглядел еще темнее из-за того, что его потолок и стены, по приказу какого-то начальника, очевидно, обладавшего мрачным характером, были покрашены желто-бурой охрой, а панели темно-зеленой краской. Круглая, обшитая железом монументальная печь, стоявшая в углу, была не топлена. Помятый оцинкованный бачок и неудобные узкие диванчики составляли всю обстановку этого негостеприимного помещения, в котором мне с Ириной предстояло пробыть несколько часов.
«Да она замерзнет здесь!» - испугался я и пошел разыскивать кого-нибудь, кто мог бы подмести пол и затопить печку.
Мне удалось найти старушку уборщицу, но она, приняв мою просьбу за личное оскорбление, басовито заворчала:
- Выдумали что, на ночь глядя, мести! Где это видано? Да с этим народом хоть круглые сутки мети и то не наметешься. И откуда они столько грязи таскают. И топить к ночи тоже не к чему. Все равно пассажиров бывает мало.
Я понял, что эту крепость взять нелегко, и начал атаку с других позиций. Прежде всего, я во всем согласился с Аграфеной Даниловной - так, оказывается, величали уборщицу, пожалел ее, посочувствовал, что труд у нее, действительно, крайне неблагодарный и тяжелый, причем никто его не замечает и не ценит.
Стены «крепости» слегка подались:
- Да разве кто смотрит, что день-деньской на ногах, моешь, метешь, убираешь, - стала жаловаться она, - наплюют, насорят, окурков понабросают, точно здесь бог знает что, а не станция.
Потом без заметного перехода и без видимой связи она рассказала о своей племяннице, с которой была не в ладах, о ее муже и ребятишках и перешла к описанию жизни своих сестер. Но вдруг, чуть ли не на полуслове, повернулась и решительно направилась к двери. Я уже думал, что больше ее не увижу, и загоревал, но она возвратилась, таща ведро с углем и щепки на растопку.
Разговор с Аграфеной Даниловной помог мне скоротать время до прихода каменского поезда. Еще за полчаса до его прибытия я, не находя больше сил сдерживать волнение, вышел на платформу и принялся расхаживать по ней.
Ни малейшей радости не появлялось у меня при мысли, что я увижу Ирину. Мне предстояла нелегкая задача установить, наконец, есть ли хоть какое-то основание подозревать Радия в связи с Бабкиным и прочими. Эта перспектива заслоняла все другое и, признаться, очень мучила меня. Напрасно я в сотый раз твердил себе, что так велит служебный долг, что я действую для пользы самой Ирины, но от этого не становилось легче.
Меня познабливало, одолевала нервная зевота. Начинало все больше казаться, что я приехал попусту. «С чего, - думал я, - Ирина поедет в ночь-полночь, чтобы только посоветоваться с человеком, с которым она не так давно стремилась порвать всякие отношения? И, наконец, верней всего, что ее просто не отпустят из дому».
Эти размышления так охладили мое нетерпение, что, когда поезд прибыл, я почти без всякой надежды пошел вдоль вагонов, глядя, не выходит ли из которого-нибудь Ирина. Вдруг сердце усиленно забилось, и я даже остановился. Навстречу мне, смущенно улыбаясь, быстро шла Ирина в широком, свободном пальто с пушистым серым воротом и в эстонской вязаной шапочке.
- Вы все-таки приехали? - сказал я, не сознавая, что глупо задавать такой вопрос, раз она уже тут, передо мной.
- Приехала! - торопливо проговорила она, не глядя мне в глаза. - Но только для того, чтобы извиниться, что совершенно напрасно затруднила вас. Все прошло, все улажено. Может быть, вы еще успеете уехать с этим поездом? Мне страшно совестно перед вами. За последнее время я стала такой сумасшедшей. Заберу вдруг в голову какую-нибудь ерунду, мне покажется что-то ужасное. Очень жаль, что я зря вас побеспокоила. Я прошу вас, уезжайте с этим поездом обратно. Ну, не теряйте же времени! Слышите, уже дали сигнал к отправлению.
Бедняжка! Она вся трепетала от сдерживаемого волнения. Видимо, опасение, которое она все еще питала ко мне, взяло вдруг верх над желанием посоветоваться.
- Успокойтесь, пожалуйста. Никуда я не поеду, - уговаривал я ее. - Я приехал увидеть вас, узнать, что с вами и чем я могу вам помочь. Зачем же мне уезжать? Сейчас вы расскажете, что вас мучит, и мы вместе решим, что нужно предпринять. Может быть, мне и удастся избавить вас от тревог.
- Мне ничего не нужно, - упрямо ответила она, все еще не глядя на меня.
- Как не нужно, когда я вижу, что с вами стряслась беда. Посмотрите на себя, вы похудели, побледнели, стали похожи на больную. Скажите, в чем дело? И потом, почему вы не смотрите на меня? Или вы боитесь, что глаза вас выдадут?
Она отрицательно покачала головой и спрятала лицо в мех ворота.
- Идемте! - сказал я. - Здесь холодно, ветер.
- Я никуда не пойду, - отстранилась она от меня, - а вы идите. Я вовсе не хочу, чтобы вы испытывали из-за меня неудобства. Получилось так глупо!.. Не знаю, простите ли вы меня, но больше я уж никогда не затрудню вас. Я ужасно себя ругаю, что поддалась минутному настроению.
- Мне не трудно было приехать, - возразил я, - не стоит об этом говорить. Но идемте же отсюда. Здесь вы вовсе замерзнете.
- Я же сказала, что никуда не пойду! - повторила Ирина решительно. - И, пожалуйста, оставьте меня, не заботьтесь обо мне.
- Чего вы боитесь? - вскипел я. - Я вас зову всего-навсего пройти в вокзал, там хоть ветра нет. Уж на столько-то вы можете, я думаю, мне довериться.
В зале вокзала было пусто. Все, кто ожидал поезда, уехали, а новых пассажиров еще не накопилось.
- Здесь даже тепло! - сказала с удивлением Ирина, оглядываясь по сторонам, и я с благодарностью вспомнил Аграфену Даниловну.
- Садитесь поближе к печке, - предложил я, не зная, как бы лучше ее усадить. Чего бы я ни сделал, чтобы сейчас ей было тепло, уютно и спокойно. - Как там няня Саша поживает?
- Не знаю. Я с ней почти не разговариваю.
- Что так?
- Поссорились.
- Не может быть!
- А вот, представьте себе, может.
- Удивляюсь, как это случилось. Она ведь любит вас больше, чем родную.
- Не нужна мне такая любовь!
- Сомневаюсь, что вовсе не нужна. Конечно, я не знаю, из-за чего у вас получилась ссора, но уверен, что правы были, во всяком случае, не вы.
- Если вы так обо мне судите, зачем вы здесь со мной сидите? - рассердилась Ирина. - Напрасно все же вы не уехали.
- Не сердитесь! Я вовсе не думал вас обижать, но уверен, что няня Саша не может желать вам ничего, кроме добра.
- Но она хочет зла тем, кого я люблю! - почти крикнула Ирина в гневе.
- Во всяком случае, вашим родным няня Саша зла не пожелает, - возразил я. - Может быть, вы имели в виду этого очаровательного Ивана Семеныча Арканова, который так вами интересуется, что позволяет себе даже подслушивать и подглядывать за вами.
Ирина передернула плечами от омерзения:
- Не напоминайте мне о нем. Я его ненавижу.
- Почему же вы не добьетесь, чтобы его выгнали из вашего дома?
- Они не послушаются! Наоборот! Они хотят… - тут голос ее понизился до шепота. - Они хотят, чтобы он был… чтобы я вышла за него замуж.
- А вы?
- Лучше умереть!
- Но чем же он их так очаровал?
- Не знаю, я ничего не знаю! Не спрашивайте меня. - И чуть не со слезами она выкрикнула: - Неужели нельзя ни о чем не спрашивать, не выпытывать, не выведывать всякими способами? С вами нельзя ни о чем говорить без боязни сказать лишнее. То есть не лишнее, - поправилась она, - а что-нибудь такое, что вы можете не так понять, а потом использовать в своих целях.
- Интересно, в каких же таких «своих» целях? - спросил я, смутившись, но не показывая этого.
- А разве вы без всякой цели хотели меня видеть? - спросила она в упор. - Вы думаете, я не вижу, что в каждом вашем слове, взгляде, даже движении есть что-то затаенное. Вот признайтесь честно, что именно заставляет вас интересоваться моей судьбой, иначе я не буду считать вас порядочным человеком.
- Напрасно вы мне грозите. Конечно, я не говорю вам всего того, что думаю.
- Вот видите, - подхватила она, - как же я могу быть с вами откровенной? Какую глупость я сделала, приехав сюда. Что подумают дома? Теперь мне вовсе жизни не будет.
- Вы говорили кому-нибудь, куда едете?
- Нет, только попросила няню, если отец спросит, сказать, что пошла на ночное дежурство. Потом придумаю - на какое. Но если бы вы знали, что она мне на это выпалила. Такую гадость, что я век буду жить, но этого ей не забуду. Конечно, она и сама не верила своим словам, но все-таки…
- Жалко мне вас, - сказал я от всего сердца. - Разве можно так жить? Выходит, что теперь вы совсем одиноки? Хотя, может быть, у вас есть…
Она догадалась, о чем я хотел сказать, и простодушно ответила:
- Нет, никого нет, буквально никого. Раньше хоть подруги были… няня. А теперь я совершенно одна. Не знаю, как дальше… ужасно!
- Ира! Скажите мне, что вас так мучит? Не бойтесь меня, я, как друг, спрашиваю. Для меня очень дорого ваше счастье и ваш покой. И потом я опытнее вас в житейских делах. Может быть, вдвоем мы что-нибудь и придумаем. Если дело только в том, что родители хотят, чтобы вы вышли замуж за этого Арканова, то это в наше время сущие пустяки. Никто вас не может принудить. Наконец, вы же можете уйти в общежитие института.
Ирина печально улыбнулась.
- Конечно, дело вовсе не в этом, но больше я вам ничего не скажу. Я не могу вам верить.
- Я это заметил еще тогда, у няни Саши, когда мы с вами разговаривали. Вы побоялись сказать мне даже о таком пустяке, что Радий по ошибке купил себе две пары галош неподходящего размера.
- Откуда вы про это узнали? - встревожилась Ирина. - Я не говорила про галоши. Вы расспрашивали потом у няни?
- С чего бы я стал расспрашивать о такой ерунде? Вы и сами сказали это так, что было понятно, о чем шла речь.
Я старался не показывать вида, что слова Ирины взволновали меня. Она сейчас невольно для себя подтвердила мои самые худшие предположения относительно ее брата. Вот кто, оказывается, занимался снаряжением отправлявшихся на промысел бандитов. Теперь оставалось узнать, был ли у Радия черный ватный костюм, и в нем ли он совершал свои дальние поездки.
Некоторое время Ирина испытующе смотрела мне в глаза, точно желая прочитать мои мысли, а потом, не отводя от меня своего серьезного, недоверчивого взгляда, спросила:
- Скажите мне, зачем вы так упорно хотите разузнать о жизни нашей семьи: расспрашиваете няню, вызываете меня на откровенность? Неужели у вас мало других дел? Или вы не можете еще забыть, что отец и брат причинили вам в свое время большую неприятность? Я согласна, что поступили они тогда очень нехорошо, но можно ли так долго хранить ненависть?
- Какой сумасшедший вздор! - воскликнул я, прямо-таки ошарашенный ее словами. - Вы бредите! Какой негодяй старался убедить вас в такой нелепости? Клянусь вам, что ни о какой ненависти и мести не может быть и речи, тем более, что я не чувствую себя пострадавшим. К Радию я отношусь по-прежнему. Если же он имеет против меня что-нибудь, то это уже его дело, мне с ним ребят не крестить. Но признаюсь, что после встречи с ним в Каменске, мне показалось, что он на дурном пути. Эти постоянные посещения ресторанов, на которые вы жаловались, не доведут его до добра. Если бы я был на вашем месте, я бы не примирился с таким положением и не посмотрел на то, нравится ли ему это или нет, а принял меры, чтобы вытащить его из трясины, пока не поздно.
Некоторое время Ирина молчала. По выражению глубоко озабоченного лица было видно, что она обдумывает, можно ли спросить меня о чем-то. Встретив мой взгляд и прочитав в нем нечто укрепившее ее уверенность, она решилась:
- А вы могли бы сохранить чужую тайну? Вообразите (конечно, я говорю это в шутку), что я вдруг открыла бы вам что-то ужасное, сначала взяв с вас слово, что вы никому ничего не расскажете.
- Я бы никогда не дал такого слова, - возразил я, - как бы я к вам ни относился. Давайте перестанем играть в прятки и будем говорить начистоту. Я знаю, в чем заключается ваше горе, и повторяю, что готов сделать все, чтобы вырвать Радия из той компании, в которую он попал. Я не думаю, чтобы он успел натворить большие глупости, но если бы он совершил преступление, у меня не дрогнула бы рука схватить его и отдать в руки правосудия, несмотря на то, что он ваш брат. Мало того, я считал бы, что это единственный верный путь к его спасению.
- Спасибо за правду, - сказала, подумав над моими словами, Ирина, - после этих слов мне легче вам верить. Ведь если бы вы действительно хотели что-то выпытать у меня, вам ничего не стоило бы дать мне какое угодно обещание. Наверное, у вас так и поступают?
- Нет, никогда! Опять кто-то налгал вам. Мы поступаем просто и честно, и стараемся доказать, что признание может облегчить участь тех, кто нарушил закон. Ведь всякое преступление рано или поздно откроется. При этом часто страх перед наказанием, боязнь разоблачений и угрызения совести бывают страшней и тягостней самого наказания.
- Вы так и объясняете это преступникам?
- Не только преступникам, но и тем людям, которые пытаются покрывать их преступления. Эти люди часто мучаются больше, чем сами преступники, особенно если честные люди, которые сознают, что, пряча от руки закона преступников, они подвергают этим подчас смертельной опасности ни в чем неповинных людей.
- Почему смертельной? - едва слышно прошептала Ирина. - Ведь убийство… это так редко…
- Не так уж и редко. Не всегда ведь убивают ножом или пулей. Достаточно в такой мороз, как сегодня, отобрать у человека шубу и костюм - вот вам и верное воспаление легких. А сколько тяжелых психических заболеваний бывает среди пострадавших, ведь это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Ирина отодвинулась от меня, тесней запахнула свое пальто.
- Вы говорите это так, точно мой отец или брат ходят ночью и грабят людей, а я их покрываю.
- Если бы я так думал, - возразил я, - то не стал бы с вами говорить об этом. Я знаю только одно, что в вашем доме поселилась беда и вы сами не в силах справиться с ней, но боитесь признаться другим, опасаясь неприятностей и для родных, и для себя лично.
- О себе я думаю очень мало, - быстро ответила она, не замечая, что этим подтверждает в остальном мою догадку.
Тут к нам внезапно вторглась Аграфена Даниловна, посланная судьбой, чтобы дать нам отдохнуть от тяжелого, напряженного разговора. Шаркая по полу своими растоптанными валенками, она подошла вплотную и, хлопнув себя по бедрам, хриповато рассмеялась:
- Так вот из-за кого он так хлопотал! Понимаю. А мне-то и невдомек было. Печку ему, на ночь глядя, топи, полы мети. Так бы раньше и сказал, что зазнобу свою встречаешь. А то: «Непорядки! Народ мерзнет!».
Ирина с недоумением смотрела на старуху.
- Что смотришь-то? - спросила Аграфена Даниловна. - На мне узоров нет. Дай-ка лучше я посмотрю, какая ты из себя.
И Даниловна, нагнувшись к Ирине, стала пресерьезно разглядывать ее во всех подробностях.
- Ничего себе, хороша, только худовата. Ну, да жир - это дело наживное. Ротик вот тоже большеват, да и бледненькая. Зато парень у тебя - чисто картина. Всем взял - и ростом, и румянцем, одни брови чего стоят, вон какие расписные.
- Я плохого не выбрала бы, - улыбнулась Ирина, входя в игру.
Старухе только и надобно было, чтобы поддержали ее добродушную болтовню.
- Поди, и любишь ты его? - сладко прищурилась она.
- Ну как же, конечно, - наигранным тоном подтвердила Ирина. - Сами же вы находите, что он хорош. Как же мне такого не любить?
- Что же вы здесь сидите? Или квартира у вас далеко?
- Нет у нас здесь квартиры, - объяснил я. - Вот съехались с разных сторон повидаться. А поезд придет - опять разъедемся.
- Ах вы, бедные мои голубки! - умилялась старуха. - Так вы идите тогда ко мне в сторожку. Там хоть теплее будет. Я вам и чайку вскипячу.
Но Ирина, испугавшись, что игра заходит слишком далеко, наотрез отказалась воспользоваться гостеприимством старухи. Еще раз напрасно попытавшись уговорить нас, Даниловна ушла, посоветовав на прощание как-нибудь уж устраиваться на житье в одном городе.
Когда она удалилась, Ирина, точно боясь, как бы я не принял всерьез ее шутливых слов, сказанных Даниловне, сухо проговорила:
- На этом, думаю, можно и кончить наш разговор. Теперь вы со спокойной совестью можете оставить меня и идти пить чай к вашей знакомой, а я с удовольствием посижу одна.
- Не лучше ли вам самой пройти к ней, если вам надоело говорить со мной.
- Не то, чтобы надоело, но давайте говорить о чем-нибудь другом, только не о моей жизни. Я так от нее устала, что готова закрыть глаза и бежать. - И, не замечая, что опять сама же возвращается к прежней теме, продолжала: - Иногда я думаю, почему мои подруги живут совершенно другой жизнью, чем я, - интересной, содержательной, а я точно в паутину какую-то попала, бьюсь в ней, а вырваться не могу. То у отца были разные семейные неурядицы (ведь Клара у него уже третья жена после мамы), а теперь брат из головы не выходит - пьет, бездельничает, грубит всем. В последнее время он к охоте пристрастился: постоянно уезжает в деревню, но очень редко что-нибудь убивает. Мне кажется, что там он больше пьет, чем охотится. Я хотя и младше Радия, но всегда чувствовала на себе ответственность за его судьбу. Я очень люблю брата, больше всех на свете, и мне ужасно страшно, что с ним может случиться худое. Раньше он хоть немного меня слушался, а теперь, точно назло, все поперек делает. Мне невыносимо тяжело и обидно. Кругом люди к чему-то стремятся, что-то создают, а мы с ним как отверженные. Он всех сторонится, и невольно я - тоже. С какой бы радостью я все бросила, уехала хоть на край света, стала бы работать, но едва подумаю, как он тут останется… и махну рукой на свои мечты.
Я много раз собиралась поговорить с кем-нибудь об этом, но не решалась… и только вот с вами… Может быть, потому, что вы так хорошо и искренне предложили тогда свою помощь, точно угадали, как она мне нужна.
- Я и сейчас готов вам помочь, - сказал я. - Через несколько дней, как только приеду в Каменск, я позвоню вам, мы встретимся и договоримся. Пока что не рассказывайте дома о нашей встрече. И помните, что слепой любовью к брату, своим постоянным стремлением оправдать его поступки, вы только делаете ему хуже.
- Почему вы считаете, что он в чем-то виноват? - спросила Ирина. - Пока его единственная вина, что он постоянно кутит и страшно груб с нами.
- На чьи деньги он кутит? - спросил я резко. - Неужели он так много зарабатывает у Арканова?
- Не знаю, - призналась она сокрушенно. - Это меня и мучит больше всего. Отец теперь ему совсем не дает денег. Однажды… - тут она запнулась, но решив сказать все, продолжала: - Однажды из-за одного неприятного случая, стоившего мне много слез, я отомкнула его чемодан и увидела там деньги. Такой большой суммы ему никто не мог бы дать.
- А незадолго перед этим, - как бы продолжая ее рассказ, тихо сказал я, - он вернулся с этим самым чемоданом из поездки, куда отправился, как обычно, в своем черном ватном костюме…
- Откуда вы это знаете? - воскликнула Ирина, вскочив. - Раз вы видели, в чем он был одет, то значит шпионили за ним, а теперь заманили меня сюда, чтобы выпытать остальное и посадить его в тюрьму? - Вне себя от волнения она вся сотрясалась от мелкой дрожи. - Он был прав, говоря, что вы ненавидите его, что вы шпион, которого нужно бояться. Ведь это же подло так использовать свое положение…
- Вы не сознаете, что говорите, я не могу сердиться на вас за это, - возразил я, тоже поднимаясь с места. - Ясно, что Радий наговорил вам всякой ерунды про меня, боясь, что я могу его разоблачить. Но дело не во мне, попробуйте ответить хотя бы самой себе на такой вопрос: откуда у Радия эти деньги, кто их ему дал и для какой цели?
С минуту, точно не понимая вопроса, Ирина смотрела на меня, потом глаза ее расширились от ужаса.
- Неужели вы предполагаете, что из-за границы? - едва слышно прошептала она. - Какой ужас! Возможно ли, чтобы Радий?..
- Почему же нет? - жестко произнес я, хотя, признаться, не думал этого.
- Никогда не поверю! - воскликнула она яростно. - Все, что угодно, но не это! Он не предатель. Вы клевещете на него!
- Он мог и не знать, откуда эти деньги. Возможно, они предназначались для других. Это уж нужно спросить Арканова. Ведь это он посылал Радия в командировки, как вы мне говорили.
- Нет! Арканов тут не при чем. Не стал бы он этим заниматься. Он солидный ученый, связан с Академией наук. Я сама видела его документы. У него есть ордена, не зря же его награждали. И, наконец, деньги еще не обязательно указывают на связь брата с заграницей. Он сказал, что выиграл их, а потом, пожалев проигравшего, вернул ему деньги обратно. Может быть, так в действительности и было? Когда я сказала, что не верю ему, он показал мне пустой чемодан.
- Возможно, он передал деньги Арканову. Ведь они по-прежнему дружны?
- Нет. Арканов часто бывает груб и резок с ним, хотя Радий готов для него на все. Недавно, чтобы ему угодить, он застрелил свою собаку. Цезарь положительно не выносил Арканова.
- Так почему Арканов так часто навещает Радия?
- Ведь я же вам уже говорила, - страдальчески поморщилась Ирина. - Он приезжает к нам вовсе не из-за него.
Мы еще долго говорили с Ириной, и я обещал ей, что по приезде в Каменск постараюсь свести Радия с полковником Егоровым, которому, как я знал, не раз удавалось исправлять сбившихся с пути.
От бессонной ночи и волнения Ирина устала. Ее лицо осунулось еще больше, щеки ввалились. Мучительно было смотреть на нее.
Я упросил начальника станции продать мне один билет на проходящий скорый поезд в сторону Каменска, на который обычно здесь билеты не продавались. Ирина обрадовалась, что может уехать раньше, чем предполагала, и немного оживилась. Разговорившись, мы чуть не пропустили поезд. Только когда стекла в окнах зала задрожали, как от налетевшего вихря, мы поняли, в чем дело, и выбежали на платформу.
Забыв даже попрощаться, я подсадил Ирину на подножку вагона и остался тут же в ожидании отхода поезда, погруженный в сумбурные, еще не устоявшиеся впечатления этой ночи.
Вот поезд тронулся, вагон со стоящим на его подножке проводником пополз мимо меня, и вдруг я увидел Ирину. Отстранив проводника, она спрыгнула на платформу. Тяжело дыша, крепко держась за меня, она с ужасом проговорила:
- Он здесь, в вагоне! Я вхожу, а он лежит на нижней полке и курит.
- Радий?
- Да, он!
- Может быть, вы ошиблись? В чем он был одет?
- Как всегда, когда едет на охоту, в своем ватном костюме. Ведь он же уехал в Сосновку охотиться. Как он мог здесь оказаться?
- Он узнал вас?
- Не знаю. Дима, дорогой! Спасите меня! Помогите мне попасть в Каменск раньше, чем придет этот поезд. Вы не представляете, что за ужас получится, если дома узнают, что я уезжала ночью. Радий меня просто убьет.
- Не бойтесь. Мы попробуем найти машину.
Опять пришлось прибегнуть к помощи Даниловны.
- А зачем тебе искать машину? - сказала она. - Выйди на тракт да и голосуй себе на здоровье. Какая-нибудь да подберет, мало ли машин в город бежит.
Мы перешли через пути, перебрались прямиком через покрытое снегом вспаханное поле и вышли на тракт. Перед нами, уходя во мрак, расстилалась покрытая снегом равнина с торчащими кое-где кривыми деревцами. Над головой низко нависло свинцовое небо без единой блесточки, а там, откуда мы пришли, за линией железной дороги, как угли костра, разметенного ветром по степи, мигали огоньки пристанционного поселка, и легкий багровый отблеск, точно от далекого пожара, лежал на темной завесе небосклона. Время от времени вдали появлялись два ярких глаза. Они, точно гонимые ветром огненные шары, неслись в нашу сторону, покачиваясь, как на волнах, а перед ними, кружась в буйном танце, бежали по блестевшему, как сталь, укатанному снежному пути веселые вихорки поземки.
Нам долго не везло Во всех машинах кабины были заняты, а не мог же я отправить Ирину в город на мешках с зерном или на ящиках, хотя она готова была ехать на чем угодно, только бы скорее. Она вовсе упала духом и истомилась. Ощущая на своей руке тяжесть ее локтя, я чувствовал, что она едва стоит на ногах. Жалость к ней и нежность охватывали меня, точно это была моя младшая сестренка, попавшая в беду.
- Потерпите еще минуточку, сейчас поедете домой, к няне под крылышко.
- Ох, уж эта няня! - содрогнулась Ирина. - Страшно подумать, как она меня встретит.
- Это можно уладить, - сказал я и быстро набросал на листке из блокнота при свете карманного фонарика:
«Няня Саша! Пусть никто не узнает, что Ира уезжала из дому. Не сердитесь на нее, а поддержите своей любовью и заботой. Дмитрий».
Ирина, не читая, сунула записку за обшлаг пальто и сказала:
- У нас ведь с ней из-за чего ссоры: она думает про Радия то же самое, что и вы, и грозит, что пойдет в милицию и все расскажет. А любит она меня по-прежнему. Теперь, после всего, что вы мне сказали, я верю и вам и ей. Только как это ужасно больно… Но все равно я очень благодарна вам, Дима.
Несколько минут мы стояли молча. Потом подошла машина. На этот раз - ЗИС-150, в ее широкой вместительной кабине сидело только двое. Я быстро сговорился с шофером. Судя по виду (и той сумме, какую он заломил за проезд), это был человек основательный. Я уплатил шоферу вперед, взяв обещание, что он подвезет Ирину прямо к дому, и записал при нем номер машины. После этого он стал любезней и даже предложил свою доху.
Прощаясь, Ирина прошептала, взяв мою руку:
- Не сердитесь, Дима, что я наговорила вам столько дерзостей. Я знаю, что вам обидно, но в сердце у меня одно отчаяние…
Мне показалось, что она при этом потянулась губами к моей щеке, и я невольно отстранился. Ни подачки, ни платы я не хотел. Но, прочтя обиду на сразу затуманившемся лице Ирины, я отогнул край ее варежки и прикоснулся губами с захолодевшей руке, ничего не сказав. И так уж было сказано слишком много.
Глава двадцать пятая УБИТ? НО КЕМ ЖЕ?
Я рассчитывал хоть немного отдохнуть в поезде до Озерного. Но не тут-то было. Не успело еще улечься в душе волнение, вызванное нелегким разговором с Ириной, тысячи мыслей роились в голове и не давали уснуть. Теперь я был совершенно убежден, что это Радий появлялся в Борске и Озерном, наводя панику на Бабкина, Семина и других подследственных. Как только я добрался до телефона, стоявшего на столе начальника озерненской милиции, я прежде всего сообщил в областное управление о том, что мои подозрения в отношении Радия Роева подтверждаются, и просил наблюдать не только за ним, но и за Аркановым.
Было еще рано. Закончив разговор с Каменском, я сидел, дремля в кресле, ожидая, когда пробьет, наконец, девять часов и можно будет вызвать к себе Семина, выведать у него все, что он еще утаил от меня о Короле, а потом мчаться в Каменск, чтобы там по горячим следам установить, какая связь существует между Бабкиным и Радием.
У меня был заказан на междугородной станции разговор с Борском, и ровно в девять раздался звонок - спрашивали, с кем меня соединить в Борске. Мне хотелось узнать у Нефедова, чем кончился суд над Гошей Саввиным, и незаметным образом справиться, не случилось ли чего с Галей.
Нефедова на месте не оказалось - он ушел в прокуратуру. Тогда я попросил соединить меня с прокурором.
Это был тот самый Николай Северьянович Осетров, при котором я допрашивал Бабкина. На мой вопрос, как прошел суд и чем он окончился, Николай Северьянович, со свойственной ему пунктуальностью, начал обстоятельно рассказывать чуть ли не все с самого начала судебного заседания. Из его слов я понял, что Гоша, потрясенный горячей исповедью отца, забыл все клятвы, которые давал Бабкину, и откровенно рассказал, как Бабкин исподволь втягивал ребят в шайку, прельщая их развеселой жизнью, кучей денег и полной безнаказанностью.
Гоша, которого не прельщали ни деньги, ни развеселая жизнь, поддался уговорам Бабкина по другим, уже известным нам мотивам, зато у Сеньки Филицина глаза разгорелись от жадности, и он живо согласился пойти на грабеж. В первый выход они оба только караулили на углу и даже не знали, удалось ли Бабкину получить что-либо от двух женщин, которых он останавливал, но он дал ребятам по десятке и угостил наливкой. Потом Бабкин вместе с ними ограбил Языкову, причем ударил ее по голове вовсе не Саввин, который стоял на карауле, а сам Бабкин. И не кирпичом, как заявлял на допросах Гоша, а кастетом. Когда же Бабкин уехал в Озерное, Филицин в тот же вечер уговорил Саввина отправиться грабить на свой риск и страх. Тогда-то Морозов, возвращавшийся от жены Анохина, и лишился своей шелковой рубахи, кошелька и часов. Добычу парни разделили между собой, чем нарушили данную Бабкину клятву отдавать ему львиную долю, и потом трепетали, боясь, что он прирежет их за это.
- Ты подумай, - сказал прокурор, - когда я на суде спросил этого сопляка Филицина, неужели он действительно считает, что за утаенные полторы сотни рублей следует убивать человека, то он с самым серьезным видом ответил: «А как же иначе? Всегда так делают, чтобы не темнили, сперва проиграют, а потом пришьют!». Он даже добавил, что виновный не должен ни сопротивляться, ни убегать. Это же изуверство какое-то! Как глубоко вошла зараза в этого поросенка!
- Однако к чему же их приговорили? - спросил я, теряя терпение.
- Бабкину дали шестнадцать лет, Филицину - пятнадцать, Саввину - десять.
- Неужели Саввину - десять? - переспросил я, пораженный таким суровым приговором, вынесенным Гоше. - Что это вы так круто подошли? Неужели не поняли…
- Да ты успокойся, - перебил меня прокурор, - это ему условно дали. Можно быть твердо уверенным, что такой урок не пройдет бесследно ни для него, ни для его родителей. Кстати говоря, судья закатил им, особенно мамаше, строжайшее внушение, будут они его помнить.
Дальше я слушал уже невнимательно, задумавшись о Гоше и его отце. Я был убежден, что теперь, крепко держась друг за друга, они найдут себе достойное место в жизни.
Прокурор заметил, что я притих и крикнул:
- Ты у телефона? Что-то тебя не слышно. Все-таки я считаю, что дело прошло неплохо. Это ты удачно придумал, что разыскал отца. Его шикарная супруга ни за что не передала бы ему повестки, предполагая, как он ее осрамит на суде. А его показания и явились решающими. Они сильно повлияли и на судью, и на заседателей, а главное - на сына. Без них он ни за что не сознался бы в том, что напрасно брал всю вину на себя. Даже и у меня в носу защекотало, когда Гоша, после того как его освободили, кинулся в объятия к отцу. А уходя, они так крепко прижались друг к другу, точно боялись, что их могут еще разлучить.
- А мамаша?
- Она ушла одна. Сначала хотела выждать, пока народ разойдется, чтобы потом уйти незаметно, но наши борские гражданочки не дали ей отсидеться. Они такого наговорили, что ей чуть не бегом пришлось спасаться от них. Даже вслед кричали: «Беги к своему любовнику, сына-то чуть не погубила!».
Теперь я знал о Гоше все, что хотел. Нужно было как-то свести разговор на другую, беспокоившую меня тему.
- Все ли у вас в Борске благополучно? - поинтересовался я.
- На этот вопрос тебе лучше ответит начальник милиции, - сказал прокурор и, попрощавшись, передал трубку Нефедову.
- Ты что о нас беспокоишься? - спросил Нефедов. - Думаешь, поди, что как только ты от нас уехал, так без тебя тут все прахом пошло? Не бойся, все в порядке. Правда, было происшествие: одна девушка, видно, от несчастной любви… Да ты меня слушаешь?
- Да! Слушаю! Чего ты там городишь?
- Ничего не горожу, а докладываю, что одна девица, после того как ее милый задал стрекача… повесилась… на шее у инженера.
- Ну тебя к черту, шут гороховый! - проговорил я с облегчением. Видно, ничего страшного не произошло.
Пришел хозяин кабинета - начальник озерненской милиции, и мне пришлось освободить ему кресло. Поздоровавшись, я прежде всего поинтересовался: удалось ли ему получить от Семена дополнительные сведения о Короле.
- И что вам дался этот Король? - с досадой спросил капитан. - Его же давным-давно на свете нет. Правда, я поговорил с Семиным о нем, но ничего нового он мне не сказал.
- Очень жаль, - сухо промолвил я, действительно от души жалея, что поручил этому равнодушному товарищу дело, требующее тонкого, осторожного подхода. - Тогда, будьте добры, пошлите кого-нибудь к Семину, пусть ему передадут, что я прошу его зайти ко мне сейчас.
- Куда же я за ним пошлю? На тот свет, что ли? - не скрывая своего раздражения, сказал начальник милиции. - Его сегодня ночью убили. Я только что оттуда.
- Не может быть! - воскликнул я невольно.
- Почему не может? Раз случилось, значит, может. Жена Семина рассказывает, что в двенадцатом часу ночи к ним постучались. Семин пошел в сени отворить - и тотчас же раздался выстрел. Когда она набралась смелости выглянуть в сени, то нашла мужа мертвым.
- Что дал осмотр?
- Ничего существенного. Убит Семин из пистолета «ТТ». Пулю извлекли. В общем, видимо, обычная история с бывшими лагерниками - старые счеты. Или не поделили чего-нибудь между собой.
- Я возьму пулю в Каменск в научно-технический отдел, - сказал я. - Приготовьте нужные документы. Обнаружены ли какие-нибудь следы? Есть ли подозрения?
- Следов никаких. Убийца замел их за собой веником до самых ворот.
- Собаку приводили?
- Не имело смысла. Когда мы пришли, там уже все было истоптано. Чуть не весь квартал сбежался, так эта Семина кричала и убивалась по мужу.
«Опять напортачил с самого начала», - подумал я и пошел поговорить с женой Семина.
Скудная, но опрятная обстановка комнаты, штопаные половички, приготовленная заранее люлька для ребенка, сооруженная, видимо, самим Семиным, говорили о стремлении этих уже немолодых, крепко потрепанных жизнью людей хоть под старость пожить спокойно, по-человечески. Я охотно поверил жене Семина, что если бы она знала или хотя бы подозревала, кто и за что убил ее мужа, она с радостью рассказала бы нам все, но, к сожалению, Семин не посвящал ее в свои тайны.
Остальное время дня я потратил совместно с начальником милиции и другими сотрудниками на то, чтобы нащупать следы убийцы, который, по моим предположениям, был высок, худощав, красив, молод, черноволос и одет в черный стеганый на вате костюм.
- Видела я такого красивенького брюнетика, - припомнила железнодорожная кассирша, - только одет он был в летний синий дождевик. Я еще подумала, как это такой приличный парень шубы себе не завел. А билет он брал куда-то за Каменск, дай бог памяти, кажется, до Краснореченской. Да-да, именно до Краснореченской, теперь я хорошо помню.
- А вы могли бы его узнать, если бы вам его показали?
- Пожалуй, что и узнала бы, - засмеялась кассирша, - особенно, если бы он опять улыбнулся мне так же. Зубы у него красивые - белые-белые.
- Вот уж улыбку я едва ли смогу вам гарантировать, - ответил я, думая, что во время очной ставки Радию будет вовсе не до улыбок. Все-таки я был совершенно убежден, что Семина убил именно Радий. Меня не смущало, что пассажир, о котором говорила кассирша, был в дождевике и ехал не в Каменск. Дождевик Радий мог нарочно взять с собой, чтобы скрыть под ним ватный костюм, а билет он наверняка взял до другой станции с целью замести следы. Такие увертки были нам давно известны.
«Но неужели же, - думал я, - Радий и есть тот самый Король, который замыслил дерзкий план создать широко разветвленную сеть грабительских шаек с целью терроризировать население целой области? Не жидковат ли он для такой роли? А может, он - только подручный? Так или иначе, несмотря ни на что, я должен его изобличить и обезвредить».
Глава двадцать шестая ЧТО ЖЕ БУДЕТ? (Из дневника Ирины Роевой)
Только что вернулась домой. Радий еще не приехал. Боже мой, как мы с ним встретимся? У меня дух захватывает от мысли, что он мог меня узнать тогда в вагоне. Няня не спала и, открыв дверь, сразу же набросилась на меня, но записка Дмитрия успокоила ее. Она даже вдруг что-то вообразила о наших отношениях, прослезилась и стала ко мне приставать с расспросами. Мой ответ, что я ездила, чтобы посоветоваться с Дмитрием относительно Радия, не убедил ее, и она, довольная и умиленная, что-то шепча про себя, улеглась в постель и скоро заснула. Я тоже прилегла, но, чувствуя, что все равно не засну, села за дневник.
Всего, что произошло, не описать. Скажу только о главном. Не знаю, как это я решилась поехать ночью одна, тайком от родных и даже от няни куда-то за десятки километров, чтобы встретиться с человеком, которому, как убеждал меня брат нельзя доверять.
Рассудок решительно восставал против этой поездки, но какое-то чувство, в тысячу раз более сильное, которому я не могла противиться, толкнуло меня на этот шаг. Оно таилось где-то в глубине души. Но едва в тяжелый для меня момент я услышала голос Дмитрия, это чувство властно овладело мною. Я поняла, что ко мне приходит помощь. Дмитрий - сильный, умный, уверенный в себе, казался мне мощным утесом, за которым я, слабая пичужка, могла бы укрыться от разразившейся надо мной грозы.
Он ничем меня не утешил во время нашего свидания, ничем не обрадовал, но я благодарна ему за ужасную правду, которую он мне открыл с беспощадной прямотой. То, что я раньше только предполагала, теперь для меня кажется бесспорным. Болезнь определена, нужно ее лечить. Брат мой милый, дорогой мой Радик! Что тебя сделало таким? Может, даже я в том виновата, что вовремя не остановила тебя? Сперва все боялась тебя огорчить, потом опасалась твоего крика и угроз.
Дмитрий сказал, что еще не поздно спасти Радия, но для этого брату придется признаться во всем и даже, вероятно, понести наказание. Я знаю, что это тяжело, но тогда у него хоть будет надежда, искупив вину, стать человеком. В этом, я верю, поможет ему Дмитрий. Какое счастье, что в такой ужасный момент я встретила его. Он словно брат мне теперь, искренний, добрый, любящий.
Я написала последнее слово и задумалась над ним. Не в нем ли разгадка того нежного внимания и заботливости, которые я вижу со стороны Дмитрия? Какое было бы счастье, если бы меня полюбил такой человек!
Слезы не дают мне писать, застилают глаза, капают на тетрадь. Первый раз в жизни я плачу не от горя, хотя, может быть, мне нечему пока радоваться. Возможно, что Дмитрий так добр ко мне только в память хорошего юношеского чувства, которое питал когда-то. Как бы там ни было, я счастлива, что он существует на свете. Я точно предчувствовала, встретив его в вагоне, что эта встреча не пройдет для меня бесследно. И чувство, которое тогда охватило меня, такое странное, непривычное смущение, все еще не забывается, хотя теперь я уже ничуть не робею при Дмитрии. Не знаю почему, но все это время после нашей встречи я постоянно думаю о нем, представляю себе его румяное, свежее лицо, слегка самонадеянную улыбку, смешную манеру теребить себя за ухо в минуту затруднения.
В детстве я видела кинокартину из эпохи гражданской войны. В ней молодой партизанский командир, жертвуя собой ради спасения отряда, попадает в плен, и его ведут на расстрел. Я как сейчас помню, он был такой сильный, мужественный, красивый, что мне стало его невыразимо жаль. Я расплакалась на весь зал и так кричала, чтобы его не расстреливали, что рассерженная няня принуждена была увести меня, и мы так и не узнали дальнейшей судьбы партизана. Но образ его крепко врезался мне в память. Почему-то теперь он ассоциируется в моем воображении с образом Дмитрия. Может быть, оттого, что оба они мужественны, смелы и готовы жертвовать собой ради других. Я с восхищением вспоминаю простой, незатейливый рассказ Дмитрия о его работе. Действительно, сколько незаметного героизма в их повседневном труде, и как обидно, что не все еще справедливо к ним относятся и помогают. Меня первую нужно было бы презирать за то, что, поддавшись просьбам и угрозам Радия, я разыграла тогда позорную сцену, чтобы преградить Дмитрию вход в наш дом. Правда, Дмитрий сразу понял, что я так говорила с ним по принуждению, и не оскорбился.
Страшные дни предстоят нашей семье. О себе я не думаю. Если бы можно было, пожертвовав своим покоем и счастьем, искупить вину брата, я бы, не рассуждая, пошла на это. Но что толку, ведь он все равно не бросил бы тогда своих привычек. Продолжал бы пить, бездельничать и опять попал бы под чье-нибудь плохое влияние. Только сильная моральная встряска может, как мне кажется, исправить его.
Мне страшно и за отца. Он сейчас как слишком туго натянутая струна. Малейшее лишнее напряжение может стать для него роковым. Докторам он не верит. Пьет какие-то капли, которые сам себе прописывает. Часто лежит на диване у себя в кабинете с мокрой салфеткой на сердце. На днях решается вопрос о его назначении. Сбывается его давнишняя мечта: он будет директором. Сколько лет, не разбирая средств, он пробивался к этому креслу! Сейчас малейшая тень может свести на нет его планы. Что же будет, если разразится катастрофа с братом? Что же будет? Что же будет?
Глава двадцать седьмая КАТАСТРОФА
Опять я ехал в Каменск. Много ли времени прошло с тех пор, как я в последний раз проезжал по этим местам, но мне казалось, что минули годы: столько было пережито и перечувствовано за эти месяцы. Я уже не ощущал себя таким молодым и беззаботным, как раньше, и не испытывал прежней радости при мысли, что скоро увижу родные места. Сейчас мне было не до этого. Меня мучила мысль о том, как воспримет Ирина арест Радия, что она подумает обо мне. Я представлял себе ужас, отчаяние и ненависть ко мне, которые охватят ее в тот страшный момент. Прежде всего она вообразит, что виновна в аресте брата, так как сама доверчиво рассказала мне о нем.
Я хмуро смотрел в окно вагона. Невеселые картины зимней природы как нельзя лучше перекликались с моим угнетенным настроением. Теперь уж и в помине не было буйных ярких красок, так радовавших в прошлый раз мой взор. Спящая тайга, поля и долины были покрыты рябым снегом. Вдали на бледном небосклоне едва виднелась чуть различимая дымная цепь зубчатых гор.
За мутным запыленным стеклом пролетали, подрагивая и подпрыгивая в такт покачиваниям вагона, серые столбы с белыми голубками изоляторов. Параллельные линии бегущих проводов вкривь и вкось расчерчивали затянутую рваной кисеей облаков выцветшую голубизну зимнего неба. Печальный хоровод голых корявых березок сменялся унылыми группами комлистых (точно отекших книзу) лиственниц, махавших вслед холодному ветру спутанной канителью своих шишковатых ветвей. Красный уголь негреющего солнца тускло проглядывал сквозь пепельные клубы паровозного дыма, зажигая их края яркими бликами.
Я машинально следил, как темная тень дыма, скользя по снегу, гналась за нами, клубясь, извиваясь и постепенно тая. Думы, одна печальней другой, так же, как эти черные тени, рождались и таяли в моей голове.
Соседи по купе еще спали, а рядом, за стенкой, уже слышалось:
- Бью!
- Перебиваю! Мне хватит. Открываю два!
- Стой! Подо что же я тогда, дурья башка, хвалился? Поди ты к черту, не буду я с тобой больше играть.
…Было воскресенье. Не рассчитывая в выходной день застать половника в управлении, тем более в такой ранний час, я отправился к дому Роевых, надеясь увидеть няню Сашу. С ее помощью я хотел выяснить одно как будто незначительное, но теперь становившееся очень важным обстоятельство. Мне нужно было знать, где и с помощью какого оружия Радий убил свою собаку.
Во дворе Роевых, где все, до последней щели в заборе, напоминало мне о детстве, хромой мужичок, заросший чуть ли не до глаз седой щетиной, возился со старыми досками и ящиками, налаживая катушку для ребят. Он оказался дворником, обслуживающим несколько смежных усадеб. Я немного помог ему и за это получил приглашение привадить своих ребят на катушку, когда она будет готова.
- Только ребята у меня еще не готовы, - ответил я.
Тут во двор вышла за дровами няня Саша. Едва она скрылась в дровянике, я проскользнул туда вслед за нею.
- Фу, как ты меня напугал! - воскликнула она. - Точно из-под земли выскочил. Хоть бы окликнул раньше. Надолго ли приехал?
Я ответил что-то неопределенное и стал расспрашивать старушку о здоровье, а потом, будто невзначай, сказал:
- Это не ваш Цезарь без ошейника по улице бегает? Смотрите, поймают собачники.
- Эка хватился! Да нашего Цезаря давно и в помине нет. Укусил он этого мордастого дьявола Арканова, чтоб его холера взяла, ну а Радий не стерпел, что его другу такую неприятность причинили, и в тот же день ухлопал бедного пса. Я, правда, не шибко этого Цезаря терпела - уж очень от него псиной несло, а потом вечно он по утрам скулил и хвостищем своим о стулья колотил, спать не давал. Но все же - живая тварь, за что же его убивать? Ведь тот дьявол сам же раздразнил собаку, а как Цезарь его цапнул за руку, так он же и рассердился: «У тебя, говорит, Радий в доме все, далее собаки, меня ненавидят». Ну, Радий, чтобы угодить ему, и застрелил пса.
- Где застрелил, неужели в доме?
- Зачем в доме? Здесь вот, в дровянике. Поставил его вот тут, у чурки, дал кусок колбасы в зубы, а сам в ухо и выстрелил. Видишь, чурка в крови.
Я скользнул глазами по коричневым пятнам, покрывшим чурку с одной стороны, и сразу нашел характерное, уходящее наискось в глубь дерева пулевое отверстие.
- А пистолет он где взял? - спросил я.
- Кто его знает, - уклонилась няня от ответа. - Ты уж не думаешь ли к нему из-за этого прискребаться? Сделай милость - не надо! И так они про тебя бог знает что говорят. Все перед Иришкой тебя чернят. Да! Ты мне скажи, что это вы с ней придумали свидания на станциях устраивать? Когда она мне призналась, я было обрадовалась, пытать ее начала, как это ты так быстро ее окрутил, а она отнекиваться стала. Говорит: «Не надейся. Ничего между нами нет».
Не отвечая няне, я позвал дворника.
- Вот что, друзья мои, - сказал я им обоим, - видите, вот в эту чурку попала пуля, когда около нее застрелили собаку. Мне нужно эту пулю добыть, а вас я попрошу присмотреться к этой пуле, чтобы потом, в случае надобности, ее узнать. Но пока что говорить об этом никому нельзя, иначе будете за это отвечать.
Дворник оказался расторопным и понятливым. Он притащил кованый клин и колотушку, с помощью которых мы добыли пулю. Няня Саша вслед за дворником с крайним неудовлетворением подписала протокол и, когда дворник ушел, сказала мне, с обидой поджав губы:
- Нашел, к чему придраться. Собаку убили. Ну, заплатят они штраф за стрельбу, а сколько сраму мне из-за этого будет. Скажут: кто нафискалил? А я моргай глазами. Уж мог бы ты хоть меня пожалеть.
Нелегко мне было выслушивать от нее эти упреки, но не мог же я объяснить ей, зачем мне понадобилась эта пуля.
На счастье, полковник был уже у себя в кабинете, когда я приехал в управление.
- Как успехи? - спросил он меня таким тоном, точно мы с ним расстались полчаса тому назад.
Я доложил обо всем, что произошло. В ту же минуту были вызваны сотрудники научно-технического отдела, и обе доставленные мною пули были сфотографированы специальным аппаратом.
- Дело ясное, - сказал лейтенант, принесший готовые фотоснимки, - пули выпущены из одного и того же пистолета. Сомнений быть не может.
Полковник одобрительно похлопал меня по плечу и, опять собрав на лице тысячу морщинок, сказал:
- Вижу, что не зря посылал тебя в Озерное.
Однако его косвенная похвала не обрадовала меня. До сих пор я еще надеялся, что Радий не окажется убийцей, теперь же эта надежда исчезла.
- Пойди к майору Девятову, - сказал полковник, - подбери вместе с ним людей посолидней и поопытней и арестуй этого франта. Только имей в виду, будь начеку, ведь у парня есть оружие, не подстрелил бы он кого. Санкция прокурора на его арест уже есть. Кстати, этого Арканова, о котором ты просил позаботиться, сейчас в городе нет. Он у себя в Амелиной. Но о нем позже поговорим.
Как на грех, майора Девятова я не застал. Он должен был скоро прийти, но ожидать его я не мог. Признаюсь, причиной этому была мысль об Ирине. Я знал, что в эти часы она бывает в госпитале и хотел закончить операцию ареста Радия без нее.
В дежурной комнате сидели два милиционера - крепко сшитый, но на вид довольно неповоротливый сержант Баскаков и невысокий, щупленький, однако, видимо, бойкий Шариков. Я решил, что мы втроем свободно справимся с таким несложным заданием, как арест одного человека, и попросил, чтобы этих двух товарищей предоставили в мое распоряжение.
«Застанем ли мы Радия дома?» - беспокоился я. Однако дворник, с которым мы были знакомы, успокоил, что парень из третьей квартиры недавно выходил в гараж к своей машине и теперь, наверное, дома.
Баскакова я поставил у парадного входа, поручив ему наблюдать за окнами, а сам с дворником и Шариковым вошел в дом с черного хода.
В кухне няня Саша жарила котлеты. Увидев нас, она сразу же заступила мне дорогу и, чуть не плача, запричитала громким шепотом:
- Зачем ты это делаешь? И не стыдно тебе меня, старуху, подводить? Ирина-то что скажет? И хоть бы серьезное дело, а то, подумаешь, велико кушанье - собаку убили…
- Тут вовсе не в собаке дело, няня, - перебил я ее, - оставь свои котлеты и иди за мной. Будешь нужна.
В темном коридорчике с нами столкнулась Клара Борисовна. От неожиданности она вскрикнула:
- Кто вы такие? Как вы сюда попали? Что вам нужно? - Но, разглядев меня, стала извиняться за свой небрежный туалет.
Мне было не до ее туалетов. Мы прошли прямо к комнате Радия и постучали в дверь. Никто не отозвался. Я дернул за ручку. Дверь оказалась запертой. Было слышно, как в комнате ходят, шуршат бумагой, двигают что-то по полу.
- Откройте! - крикнул я и вновь дернул дверь. Она была двустворчатая, довольно тонкая. Держали ее только верхний шпингалет и задвижка.
Опять никто не откликнулся, тогда мы вдвоем взялись за ручку и разом дернули. Дверь распахнулась - и мы увидели Радия, который, нагнувшись, задвигал под кровать чемодан. Увидев меня с милиционером, он побледнел, и злобная гримаса исказила его лицо.
- С чем пожаловали? - спросил он с насмешкой. - Помойка не в порядке или двор не подмели? Штрафовать, поди, будешь, старый приятель, так хоть скидку по знакомству сделай. Ведь ты, небось, проценты с каждого рубля получаешь?
- Сдайте оружие, - приказал я.
- Оружие? - Радий удивленно поднял брови. - Нет у меня никакого оружия!
Я кивнул Шарикову, и он, подскочив к Радию, быстро ощупал его карманы.
- Что за вторжение? - раздался у меня за спиной голос Аркадия Вадимовича. Разгневанный, и от этого еще более эффектный, он быстро вошел в комнату.
- Кто вам дал право врываться в частный дом, как бандитам, ломать двери, срывать замки? - налетел он на меня с яростью. - Я буду жаловаться, я этого так не оставлю. Если каждый милиционер, которому не понравится моя физиономия, или просто желающий свести со мной личные счеты, будет по каждому пустяку…
- Не трудитесь продолжать, - прервал я, протягивая ордер на арест его сына.
Не помню, чтобы мне когда-либо приходилось видеть, такое мгновенное разительное изменение в человеческом, лице, как то, которое произошло с лицом Роева, едва он бросил взгляд на поданную ему бумагу. В один миг оно стало зеленовато-серым и старым, губа отвисла, глаза сделались безумными.
- Это недоразумение! - едва выговорил он слово, которое произносили уже многие отцы, слишком поздно узнавшие правду о своих детях. - Это недоразумение! - повторил он уже более энергично, приходя в себя после первого потрясения. - Я немедленно выясню, в чем дело. Прошу вас дать мне срок хотя бы до завтра. В крайнем случае, я пойду к Виталию Ксенофонтовичу, я не сомневаюсь, что он не позволит напрасно дискредитировать мое имя. Я даже предполагаю, чьи это происки. В общем, вам позвонят… Все будет улажено. Но сейчас…
- Сейчас мы приступим к обыску, - опять прервал я его, - и никакие Виталии Ксенофонтовичи не смогут помешать нам выполнить требование закона. А вас я попрошу пока присесть и дать нам возможность заняться делом.
Аркадий Вадимович отступил, но не сел, как ему предлагали, а встал у стены. По лицу его, за выражением которого он уже не следил, было видно, что он мучительно ищет выход из создавшегося положения.
Шариков и вызванный мною с улицы Баскаков приступили к обыску. В чемодане, вытащенном из-под кровати Радия, лежали: скомканный черный ватный костюм, две пары грязного белья и початая бутылка коньяка. На вешалке нашелся и синий плащ, в котором Радия видели в Озерном, а в столе под разными, уже теперь ненужными тетрадками с записями лекций - около трех тысяч рублей и нож - финка с наборной рукояткой.
- Это мой охотничий нож, - рванулся вперед Аркадий Вадимович, - прошу так и записать.
Когда Шариков взялся за другой чемодан, стоящий у стены, подле складной кровати, аккуратно застеленной чудесным плюшевым одеялом, Роев опять заволновался.
- Это чемодан не наш. Он принадлежит постороннему лицу. В этой комнате проживает известный научный работник Арканов, это его вещи.
- Давно он здесь проживает?
- Уже несколько месяцев. Раньше он постоянно находился в районе, а теперь, в связи с научными изысканиями большой важности, часто приезжает в город и живет здесь.
- А прописан он в домовой книге?
- Вот, говорил я вам, Аркадий Вадимович, - плачущим голосом заныл дворник. - Давно нужно было этого Арканова прописать, а теперь неприятностей из-за него не оберешься.
Шарикову пришлось немало повозиться, пока удалось справиться с замком чемодана. Наконец, замок поддался, и нашим взорам представилось содержимое чемодана. Поверх аккуратно уложенных мужских сорочек лежала пухлая пачка сторублевок. Я подсчитал, что тут было двенадцать тысяч рублей.
- В этом нет ничего удивительного, - с вернувшимся к нему апломбом, заявил Роев, хотя никто ничему и не удивлялся. - Товарищ Арканов получает за свои ученые труды очень крупные суммы.
Когда обыск был закончен, я сказал Радию.
- Теперь дайте мне ваш пистолет.
- Какой еще пистолет? - злобно огрызнулся Радий. - Никакого пистолета у меня нет и не было. И нечего волынку тянуть: арестовали, так ведите!
- Уведем, когда нужно будет, а сейчас отдайте пистолет, из которого вы застрелили собаку.
- Вот оно что! - высоким фальцетом яростно взвизгнул Аркадий Вадимович, поворачиваясь к няне Саше, сидевшей в углу, сжавшись в комок. - Теперь мне все понятно. Милейшая нянюшка нафискалила на нас. А мы еще считали ее чуть ли не членом нашей семьи. Какая подлость! Какой позор!
- Никакого позора нет! - возразил я. - Она действовала заодно с представителями закона против бандитов, убийц и тех, кто их прикрывает.
- Кто здесь убийца, кто бандиты? Вы еще ответите за такие слова! - закричал Роев.
- С превеликим удовольствием, но прежде вы сами извольте ответить: из какого пистолета была убита у вас в дровянике собака Цезарь.
- Пожалуйста, из моего собственного. Я имею на него законное разрешение и не нахожу ничего ужасного в том, что мой сын использовал этот пистолет, чтобы пристрелить взбесившегося пса.
- Если бы только пса! Немедленно сдайте пистолет, из него ваш сын убил человека!
- Не может быть, вы лжете!
- К сожалению, нет.
- Но он мог сделать это нечаянно. Ведь мало ли бывает…
- Нет, он убил с преступным умыслом.
- Боже мой, Радик! Я не могу поверить, чтобы ты, мой сын, дошел до этого. Что ты со мной сделал! Полное крушение. Теперь все… все пропало…
- Что ты разнюнился, как старая баба? - с дикой злобой заорал на отца Радий. - Все я да я! О себе одном только и думаешь. Чем я виноват, раз сорвалось?
- Значит, это правда? Негодяй! Мерзавец! Ты погубил мое честное имя! - С этими словами Роев кинулся с кулаками на Радия, но Шариков схватил его в охапку и удержал.
- Не тебе вспоминать о чести, - кричал в свою очередь разъяренный нападками отца Радий. - Вспомни лучше, как вы с бухгалтером погубили беднягу Званцева, свалив на него свою вину. Это вам нужно было сидеть в тюрьме, а не ему. И потом, ты думаешь, я не знаю, на какие деньги ты купил машину и ездил в Крым? Это, глядя на тебя, я стал вором! Вот теперь и плати за фишки!
Дикие выкрики Радия, в которых была, видимо, жестокая правда, вдруг точно отрезвили Аркадия Вадимовича. Он как будто даже успокоился, но его, ставшее опять благообразным мертвенно бледное лицо походило на трагическую маску.
- Хорошо! - сказал он, поворачиваясь ко мне. - Кончайте вашу миссию. Я не задержу вас и сейчас принесу то, что вы требуете.
Сопровождаемый по пятам Шариковым он вышел из комнаты.
- Ну что, Димочка, доволен? - зло оскалился Радий, уставив руки в бока - Посадишь бывшего товарища за решетку и рассчитаешься с ним за прежнее. Как это я раньше не замечал, что у тебя такая шпионская натуришка? А я еще, дурак, сам тебя к себе затащил в прошлый раз. Вот и налетел.
- Злитесь теперь, - ответил я сквозь зубы, дописывая протокол обыска, - раз больше ничего не остается. Теперь вам с Королем пришел черед отвечать за свои дела.
- С каким Королем? - нахмурился Радий и вдруг деланно захохотал. - Ты вон про что! Так ведь я же и есть этот самый Король, которого ты ищешь! Чем плох псевдоним? По крайней мере, звучный! Пиши теперь это в протокол, строчи, канцелярская клякса, тащи бывшего друга под расстрел, зарабатывай лычки!
Не слушая его истерического крика, я торопился дописать протокол и закончить тягостную сцену, пока не вернулась домой Ирина. Когда в коридоре послышался шум шагов, я подумал, что это она, и сердце у меня упало. Но это возвратился Роев. Он быстро вошел, почти вбежал, отталкивая от себя Шарикова.
- Пустите меня! - кричал он сердито. - Мальчишка! Как вы смеете меня хватать! Я сам отдам Карачарову пистолет. Я жаловаться буду!
- Чего там жаловаться, папаша? - захохотал Радий. - Вместе на скамеечку присядем!
- Подлец! - пронзительно крикнул Роев и вдруг, испустив жалобный, болезненный стон, повалился ничком.
Сорвавшись с места, я едва успел подхватить его И в этот момент случилось непоправимое: пистолет, вылетев из ослабевших пальцев Роева, упал на пол к ногам Радия. Баскаков и Шариков с двух сторон бросились к нему и, столкнувшись, только помешали друг другу. Этим моментом воспользовался Радий. Нагнувшись со стула, он хватил пистолет и выстрелил себе в грудь.
Все произошло настолько стремительно, и главное неожиданно, что несколько мгновений мы, как оглушенные, стояли над двумя распростертыми телами. Только дикий вопль ворвавшейся в комнату Клары Борисовны привел нас в себя. Она кинулась было к трупу мужа, но ужасный вид его посиневшего лица отпугнул ее. Она в страхе уцепилась за подошедшую няню Сашу и забилась в истерике у нее на плече.
Меня так потрясла произошедшая катастрофа, точно я был ее виновником. Приехал врач скорой помощи, и мне пришлось вместе с ним составлять протокол о смерти обоих Роевых. За этим меня и застала Ирина Она вошла в комнату, еще не зная, что здесь произошло, но увидев ужасную картину, оттолкнула стоявшего на ее пути дворника и с отчаянным криком бросилась на колени перед мертвыми, ощупывая их лица, грудь руки, ища и не находя хотя бы слабых признаков жизни.
Поняв, что надежды нет, она поднялась с колеи, приблизилась ко мне и, не сводя с меня горящего взора произнесла почти шепотом, показывая рукой на трупы:
- Так вот какую помощь вы мне предлагали? Вы так хотели меня освободить? Это вы убили их!
- Это не он! - не выдержал Шариков.
Но Ирина даже не повела глазом в его сторону.
- Не-на-ви-жу! - проговорила она сквозь стиснутые зубы, все с той же испепеляющей злобой глядя на меня в упор. - Выпытал… выведал… Радуйтесь теперь! Вы отомстили! Мелкий, злобный человечишка! А я еще так верила вам!
Глава двадцать восьмая РАСПЛАТА
Если бы меня спросили, что вдохновляет меня в работе, что заставляет подчас рискнуть жизнью, забывать об элементарных жизненных удобствах, жить, как на тычке, недосыпать, недоедать, то я, конечно, совершенно искренне бы ответил, что мною руководит стремление быть полезным своей Родине, так как пока нельзя обойтись без людей, которые охраняли бы покой и труд советских граждан. Я даже думаю, что и при коммунизме будет милиция, только функции ее изменятся. Ведь как бы ни были сознательны граждане грядущей эпохи, они все же останутся людьми, со свойственными людям чувствами и слабостями. Нефедов всегда убеждал меня, что и при коммунизме женщины, особенно перед дождем, будут переходить улицу в неположенных местах, стараясь обязательно попасть при этом под машину, а болельщики перелезать через забор стадиона, если билеты на матч уже распределены.
Однако обычно мало раздумываешь о полезности твоей профессии, а отдаешься работе весь, с головой, потому что любишь ее и находишь в ней удовлетворение. И поэтому нестерпимо обидно, когда в этой своей любимой работе совершишь непростительную ошибку или такой промах, из-за которого может провалиться важное дело. Ведь это не деталь какую-нибудь запороть на станке. Там размеры ошибки можно измерить стоимостью потерянного времени и металла и возместить ущерб, а чем возместить ущерб за те несчастья, которые сможет причинить людям ушедший от рук закона по твоей вине преступник.
Таким печальным размышлениям я предавался, стоя навытяжку перед полковником Егоровым в его кабинете. Вероятно, никому еще не доставляла удовольствия беседа с рассерженным начальником. Мне же она была неприятна вдвойне, так как я попал в такое положение впервые.
Я уже упоминал, что, когда полковник бывал недоволен, он умел показать это своему собеседнику без лишних слов, но на этот раз он не пренебрег и словами. Много неприятных истин, произнесенных каким-то особенно скрипучим голосом, пришлось мне от него выслушать. Под его всегда невозмутимым видом скрывалась страстная, увлекающаяся натура. Мой проект разоблачения главаря шайки, орудовавшей в различных пунктах области, несомненно, увлек его. И теперь, когда по моей оплошности были уничтожены следы, ведущие к Королю, полковник не мог мне этого простить. Однако и тут полнейшее внешнее спокойствие не изменило ему. Ни одна черточка не дрогнула на его лице, когда я, вернувшись из квартиры Роевых, доложил ему о том, что там произошло. Не торопясь он закурил новую папиросу, тщательно упрятав, по своей привычке, окурок старой в спичечный коробок.
- Вы говорите, - сказал он спокойно, - что Радий Роев заявил, будто он сам и есть тот Король, которого вы разыскивали. Каково ваше мнение, лгал он или нет?
Если бы я сказал, что Радий не врал, это могло бы избавить меня от ответственности за то, что теперь по моей нерасторопности были порваны нити, ведущие к Королю. Выходило бы так: раз Король покончил с собой, то этим положен конец надобности в дальнейших расследованиях. Но у меня и в мыслях не было кривить душой, чтобы избавить себя от неприятностей. И я ответил:
- Мало ли Роев мог наговорить. Я уверен, что он нарочно хотел привлечь огонь на себя, чтобы выгородить главаря шайки.
- Какой же ему был смысл так поступать?
- Смысл явный. Радий Роев понимал, что за убийство Семина он и так получит высшую меру наказания, так что хуже ему быть уже не может, между тем как оставшиеся на свободе его сообщники могут еще позаботиться о нем. Будут приносить передачи и - чем черт не шутит! - даже попытаются устроить побег.
- Значит, вы полагаете, что главарь шайки остался на свободе? - вновь задал мне полковник щекотливый вопрос.
- Верней всего, что так. Во всяком случае, необходимо считаться с такой возможностью.
- Однако из вашего доклада я вижу, что вы почему-то не посчитались с этим и сделали все от вас зависящее, чтобы лишить следственных работников возможности успешно продолжать начатое дело. Из-за вашей халатности оба важнейших свидетеля - Семин и Радий Роев мертвы, причем один из них застрелился у вас на глазах.
Обвинение было справедливо, и мне ничего не оставалось, как молчать и кусать губы, переминаясь с ноги на ногу.
- Где были сотрудники, которых вам должен был подобрать майор Девятов? Почему они не выбили пистолета из рук Роева, если уж сами вы бездействовали в этот момент. Что это за растяпы такие? Неужели Девятов не мог дать более расторопных ребят?
Я объяснил, что, к сожалению, майора Девятова я не нашел и взял из дежурной двух находившихся там сотрудников.
- Выражать сожаление теперь поздно! Это мне следует сожалеть, что я доверил вам эту несложную операцию, с которой мог справиться любой рядовой милиционер. Нужно признаться, что вы ее провалили с исключительным блеском. Как же теперь, по вашему мнению, следует продолжать поиски Короля? Что вы можете нам посоветовать?
Кажется, мне было бы легче, если бы полковник возмущался, негодовал, даже кричал, но такое спокойное распиливание вдоль и поперек было положительно невыносимо.
- Видимо, вы не можете подыскать слов для ответа? - все тем же ровным скрипучим тоном осведомился полковник. - Я могу вам помочь. Дело Короля нужно продолжать, поиски его всячески форсировать, но поручить это дело не какому-нибудь самонадеянному юнцу с авантюристическим душком, а солидному, опытному работнику с достаточной выдержкой.
- В чем же выразился мой авантюризм? - совершенно ошарашенный новым обвинением, спросил я.
- А как вы назовете ваш метод, с помощью которого вы добились признания у Бабкина? Прокурор Осетров сообщил нам о вашем фотомонтаже. Он крайне не одобряет подобных действий. Я не скрою, выдумка была не лишена остроумия, но это не наш метод, и так поступать вам не следовало. Вообще вы показали себя в последнем деле не с блестящей стороны. Я начинаю сомневаться, что вам можно давать серьезные поручения.
- Пока я не провалил еще ни одного дела, - тихо, но уверенно возразил я.
- А дело Короля?
- Оно еще не провалено. Я уверен, что смогу довести его до конца, если останусь в Каменске.
- Едва ли вам удастся остаться здесь, - покачал головой полковник. - Вероятно, мы пошлем вас в район и, видимо, со значительным понижением в должности. Такой проступок, как ваш, не может остаться безнаказанным.
- Я сам чувствую, что заслужил наказание, - ответил я покорно, - и согласен с любым взысканием, но прошу вас учесть, что никто не знаком с делом Короля так, как я. Многое в этом деле основано на очень неопределенных догадках…
- А что, если этот Король только плод вашей буйной фантазии?
- Тем лучше, - подхватил я. - Тогда окажется, что моя оплошность не причинила серьезного ущерба общественной безопасности.
Но полковника не так-то легко было сбить с позиции.
- Все равно это не оправдает вас и не улучшит вашего положения, - возразил он, - только вдобавок к остальным вашим качествам мы получим доказательство того, что вы еще и пустой фантазер.
Эти слова задели меня за живое, и я, забыв о соблюдении субординации, принятой в нашем учреждении, с жаром заявил:
- Знаете, товарищ полковник, если бы вы были на моем месте и так же, как я сейчас, чувствовали, что идете по верному следу, вы бы не смирились с тем, что не дают закончить начатое дело. Беда только в том, что сейчас я не могу представить вам доказательств, но след не упущен. Я уверен, что многое мог бы рассказать Арканов. Он, несомненно, был связан с Роевым. Но, независимо от того, как вы решите поступить со мной, я вас прошу принять меры к охране Ирины Роевой. Если Арканов действительно бандит, то ей может грозить с его стороны серьезная опасность.
- Арканов исчез. Его не могут найти ни в Амелиной, ни в городе.
- Это только доказывает, что он причастен к делу Роева. Но найти его можно. При всех условиях он будет пытаться говорить с Ириной Аркадьевной. Без этого он не уедет.
Пожалуй, с минуту полковник, не мигая, смотрел мне в глаза.
- Хорошо! - сказал он наконец. - Об Ирине Роевой я позабочусь. Вы же останетесь пока в Каменске, но из этого не следует, что дело Короля будет поручено вам.
Глава двадцать девятая ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ
Итак, я остался в Каменске, но родной город принял меня очень неприветливо. Погода стояла прескверная - холодная и ветреная, найти квартиру оказалось очень трудно, а когда няня Саша через своих знакомых нашла мне на первое время приют, то он оказался очень неудобным. Это была крохотная холодная каморка, отгороженная тонкой перегородкой от комнаты, в которой жила хозяйка - больная хромоногая старуха-пенсионерка, Татьяна Леонтьевна, работавшая в кооперативной артели швеей-надомницей. Она была, наверное, альбиноска: по крайней мере, раньше мне не приходилось видеть ни у кого таких белых волос, бровей и ресниц и таких светлых, желтовато-белых глаз, как у нее. Однако Татьяна Леонтьевна даже гордилась этой своей особенностью и не раз повторяла при мне с чувством удовлетворения, что, несмотря на свои семьдесят два года, она еще не поседела и сохранила природный цвет волос, хотя я никаких не мог понять, чем этот цвет отличается от седины.
Вторым предметом гордости моей хозяйки было то, что в дни своей молодости она работала в Петербурге мастерицей у закройщика, который был учеником «самого Ворта». Для меня этот Ворт был пустым звуком, я раньше не слышал этого имени, но, когда Татьяна Леонтьевна с многозначительным видом сообщила мне, кем она была, я сделал понимающее лицо и произнес: «Ого!». Этим я настолько возвысил себя в ее глазах, что она согласилась пустить меня на квартиру, хотя ей больше бы хотелось сдать комнату одинокой женщине, потому что будто бы от женщин меньше шуму, если, конечно, не попадется какая-нибудь с фанаберией.
Я постарался уверить Татьяну Леонтьевну в том, что от меня она не увидит никаких фанаберии, и мы с ней поладили. Но прежде она перечислила правила, которым должен неукоснительно следовать ее квартирант. Основными из них были: не пить вина, не курить, не шуметь, не петь и не приглашать к себе в гости девушек, так как она не хотела, чтобы ее внучка, которую она воспитывает, нагляделась на разные безобразия. Внучка эта - темно-рыженькая кудрявая девочка, с розовым острым носиком, сплошь усеянным крупными коричневыми веснушками, присутствовала при нашем разговоре, притаившись, как мышка, за ворохом готовых разноцветных рубашек, занимавшим полстола. Она, как я потом увидел, была для больной старухи незаменимой помощницей, так как сама Татьяна Леонтьевна едва передвигалась на своих согнутых калачом толстых, отекших ногах и почти не выходила из дому. Внучку свою моя хозяйка воспитывала в чрезвычайной строгости: целыми часами читала ей нотации, учила правилам хорошего тона и житейской мудрости. На первых порах она попыталась начать таким же методом воспитывать и меня, но, к счастью, я мало бывал дома, проводя все время на работе.
С первых дней мне показалось в Каменске скучновато и тоскливо. Здесь у меня не было знакомых, не то что в Борске, где чуть ли не каждый встречный здоровался со мной. В Каменске же я часами мог ходить по городу, не поднимая глаз, с полной уверенностью, что никого не обижу своим невниманием. Единственный человек, который здесь сердечно относился ко мне, была няня Саша, но и она теперь уже не радовалась встречам со мной: ее угнетало горе Ирины, невольным виновником которого она считала меня. Няня не раз говорила, что ни в чем меня не обвиняет, так как понимает, что я только выполнял свой долг, и даже считает, что смерть была самым лучшим исходом и для отца и для сына Роевых, так как «мертвые сраму не имут», но все же чувствовалось, что какая-то тень легла на наши ранее простые и ясные отношения. Время от времени няня Саша заходила ко мне и, несмотря на мои протесты, производила уборку - мыла пол, стирала белье, перетирала книги. С величайшим трудом после шумных споров, которые можно было со стороны принять за ссору, мне удалось, наконец, уговорить ее брать за свои заботы о моем хозяйстве определенную сумму денег, которую я все равно платил бы другим. Пользоваться ее услугами бесплатно я не мог, так как знал, что живут они с Ириной скудновато: только на стипендию Ирины да на то, что няня Саша заработает стиркой белья и побелкой квартир.
Про Ирину няня Саша говорила:
- Высохла вся! Я боялась, как бы она с ума не сошла, но теперь вижу - маленько отходить стала. Занимается целыми днями. Как ни посмотришь - все за книжкой. Я уж ей не говорю, что к тебе хожу, - выгонит. Как-то к слову пришлось - помянула тебя, так не возрадовалась: такой сердитой я ее еще не видывала. Даже затряслась вся. «Не поминай, - кричит, - при мне это подлое имя! Он так меня обманул, так обманул, нет на свете человека хуже его. В душу, как змея, вполз, обещал Радия спасти, другом представился. Я ему и поверила, душу свою открыла, а он, оказывается, только лгал, чтобы выпытать у меня все. Не прощу я ему этой лжи никогда». Я уж и спорить с ней и уговаривать ее не стала, пусть, думаю, заживет рана, зарубцуется. Чего ее зря тревожить. А тебя я тоже понимаю: раз уж так по службе требовалось, чтобы разведать, то ты и представился ей другом.
- Няня! - закричал я в отчаянии. - За что вы обе на меня так? Разве я обманывал? Я же хотел спасти Ирину от той петли, в которую ее толкали. Я и Радия смог бы спасти, если бы не оказалось, поздно. И стыдно обвинять меня во лжи и притворстве. Я всей душой хотел ей помочь и вырвать ее из рук Арканова, которому отец и брат готовы были ее продать, а она… Как это несправедливо и гадко!
- Вот ведь незадача! - пригорюнилась няня. - А ведь как могло славно получиться. Помню, как вернулась она тогда ночью, повидавшись с тобой, потом наутро только и разговоров было, что о тебе: «Умный, говорит, и сердечный человек. Я таких не встречала». Расспрашивала, что я о тебе помню. А теперь все прахом пошло. Ненавидит так, что хуже и нельзя.
После этого разговора по душам няня стал меньше хмуриться, а потом, уже несколько дней спустя, призналась:
- Камень ты у меня с души снял!
Таким образом, понемногу вовсе оттаяв, няня Саша начала, как и прежде, делиться со мной всеми событиями и новостями своей жизни, начиная с того, почем она брала сегодня мясо на базаре, и кончая тем, куда именно они с Ириной собираются поехать, когда Ирина окончит институт.
- Теперь у меня есть кому комнату оставить, - радовалась няня Саша. - Тогда ты в ней поселишься, а то обидно так просто бросать.
Няня Саша рассказала, что Клара Борисовна, быстро оправившись после постигшего ее несчастья, заявила Ирине, что уезжает к своим родственникам. Она быстренько распродала всю мебель и вещи Аркадия Вадимовича и Радия и получила порядочную сумму от приехавших геологов за то, что уступила им свои комнаты. Затем, сунув Ирине «ее долю» в виде тощей пачечки денег, уехала, прося не забывать ее, писать и так далее…
Я спросил у няни Саши об Арканове. Он у них не появлялся. Я пробовал наводить о нем справки. Оказалось, что ученого метеоролога Арканова в каменских научных учреждениях никто не знал, и мало того, его не существовало вообще. Так же никто в городе даже не слыхал о существовании метеостанции в Амелине.
Тогда я обратился в наше управление к майору Девятову, которому было передано злополучное дело о Короле.
Это был опытный милицейский работник, человек саженного роста, с лицом вдумчивого и строгого учителя. Мы с ним уже были знакомы в связи с делом Шандрикова, а в последние дни он дважды приглашал меня, чтобы снова расспросить обо всем, что я знаю по делу Короля. Когда я предложил ему свои услуги съездить в Амелино и проверить на месте, чем занимался Арканов на своей метеостанции, Девятов сказал, что это уже сделано. Метеостанция оказалась бутафорской, а те удостоверения, которые Арканов предъявлял местным властям, были просто-напросто хорошо сфабрикованной «липой».
- Так кто же он такой? - невольно спросил я.
- Вот это мы сейчас и выясняем, - дружески улыбаясь, ответил Девятов. - Если случайно что-либо узнаете или вспомните по этому вопросу, обязательно сообщите нам.
Он и не думал подчеркивать слово «случайно», однако для моего уха оно прозвучало очень резко и больно задело. Видимо, мне в деле Короля отводилась только скромная роль свидетеля. Заниматься же им на свой риск и страх я не мог, так как, работая в одном из городских отделений милиции, был по горло погружен в кучу дел о разных мелких происшествиях и не имел ни минуты свободного времени.
Новая должность всегда требует немало усилий, чтобы с нею хорошенько освоиться. Как бы ты ни знал теорию и практику своей работы, одного этого недостаточно. Нужно примениться к новой обстановке, изучить район действия, узнать людей - и хороших и плохих, лично познакомиться кое с кем из них. Специального времени для этого не дается, а начальство, знай себе, наваливает на тебя поручение за поручением. Немудрено, что, чувствуя, как работа не только подхлестывает, но и захлестывает меня, я не мог заниматься розысками Короля. Несколько успокаивало, что о нем не забывали другие. Не только Девятов, но полковник не раз говорил со мной по поводу этой темной личности.
Невесело жилось мне в эти дни, невольно вспоминался Борск, Галя, Нефедов с женой, старики Чекановы, товарищи по работе, с которыми у меня были хорошие, дружеские отношения. Вспоминалась и интересная, увлекательная работа. Там я мог проявлять инициативу, а не глядеть, как здесь, из чужих рук.
Однажды дежурный по отделению сообщил, что поздно вечером мне звонили по телефону. Голос был женский, но фамилии своей эта женщина не сказала, спросила только, в какие часы я бываю на работе.
«Кто бы это мог быть? - ломал я голову. - Может быть, Галя? Ведь говорила же она, что обязательно приедет туда, где я буду жить». При мысли о ней у меня на душе стало теплее. Я чувствовал, как необходимо для каждого человека, чтобы кто-то любил его, и тут в сердце леденящей струйкой просочился страх, что я прошел мимо большого, настоящего чувства, грубо пренебрег им и навсегда упустил свое счастье.
Мне до боли захотелось опять увидеть Галю, поговорить с ней, заглянуть в глаза. Тут только я понял, что по-настоящему люблю ее, так сильно и страстно, как никого еще не любил. Много бы я отдал в тот момент, чтобы это именно она звонила мне.
Глава тридцатая ОНА ГОВОРИТ, ЧТО ВСЕ ЗАБЫТО
Обычно после работы я обедал в столовой, которая находилась неподалеку от нашего отделения, а потом, не торопясь, возвращался за свой стол, если только не нужно было куда-нибудь идти. Так и в этот знаменательный день, ровно в 18.00 я поднялся со своего стула (кресла мне уже не полагалось), натянул шинель и вышел на улицу, в синеватую морозную муть, с которой напрасно пытался бороться тусклый свет фонарей.
Вдруг сердце у меня дрогнуло. Невдалеке я увидел девушку, фигура которой и особенно походка были мне чрезвычайно знакомы.
«Неужели это Галя?» - подумал я и чуть не бегом устремился за ней. Я уже почти догнал девушку, когда она вдруг повернулась и пошла обратно, мне навстречу.
- Галочка! - радостно воскликнул я, заступая ей дорогу. - Как ты сюда попала?
- Очень просто! - ответила она поразительно спокойно, таким тоном, точно мы с ней виделись всего час тому назад. - Я уже довольно давно живу в Каменске. Я здесь учусь.
- Значит, это ты звонила мне на днях?
- Нет, не я. Зачем мне было звонить тебе?
И опять ответ ее прозвучал так равнодушно, точно она говорила с малознакомым человеком.
- Ты, случайно, не меня здесь поджидала? - продолжал я расспрашивать, помня ее неторопливую походку и то, что она, не видя меня, сама повернула обратно, чтобы еще раз пройти по этой стороне квартала.
- С чего ты взял? Я и не знала, что ты работаешь где-то здесь поблизости. Просто я гуляла после обеда, нужно же хоть немного подышать свежим воздухом. Но я рада, что мы встретились: мне хочется с тобой кое-чем поделиться. Прежде всего, могу тебя успокоить: все, что было… ну, ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю… окончательно и бесповоротно прошло. Стоило тебе уехать, как мне сразу стало легче. Теперь просто смешно вспомнить, какую дуру я перед тобой разыграла. Хорошо, что ты не принял этого всерьез. Что ты на меня так смотришь? Не веришь?
- Не верю!
- Напрасно! Просто ты очень много о себе воображаешь, если считаешь, что по тебе можно бесконечно вздыхать.
И слова Гали и особенно неприятный, вызывающий тон, которыми они были сказаны, оскорбляли меня.
- Хорошо! - сказал я. - Не будем больше говорить об этом. Расскажи, где ты учишься, как устроилась, каким образом тебя отпустили с завода?
Оказалось, что она поступила на курсы товароведов. «Наверное, - подумал я, - ни на какие другие курсы в Каменске поступить среди зимы было невозможно». Я не представлял себе, что Галя с ее пылким характером могла увлечься такой спокойной специальностью. С завода ее отпустили только потому, что она уезжала для продолжения образования. Жила она недалеко от вокзала, квартиру нашла необычайно легко и сравнительно недорогую. Будто бы сама хозяйка остановила ее у ворот торговой школы, где помещались курсы, расспросила, где она учится, кем будет, когда окончит курсы, и предложила ей койку в комнате, где жила уже одна девушка с курсов заведующих магазинами. Правда, Галя была недовольна. Хозяйка казалась ей несимпатичной и хитрой. И особенно неприятно - по воскресеньям у нее собирались гости, много пили, шумели, причем хозяйка очень обижалась, когда девушки отказывались составить им компанию. Поэтому обе они по воскресеньям уходят с половины дня из дому, бывают в кино, театре и стараются вернуться домой как можно позже.
- Ты одна ходишь в театр или с кем-нибудь? - спросил я непринужденно, стараясь копировать ее ледяное спокойствие.
- Как тебе сказать, - промолвила равнодушно Галя. - Пробовала я как-то найти себе провожатого…
- Ну и с каким успехом? - поинтересовался я, почувствовав болезненный укол. Галя рассмеялась:
- Получилось неудачно. Я ему купила билеты на «Тарзана», а он не явился, и билеты пропали.
«Теперь она смеется над этим, - подумал я с горечью, - а давно ли плакала. Может быть, действительно все перегорело у нее в сердце?»
- Если хочешь, пойдем вместе в театр в воскресенье, - предложил я небрежно. - Идут, кажется «Волки и овцы».
- Пойдем, - согласилась она. - Нужно же мне куда-то деваться из дому. Там опять попойка намечается. Приходи к восьми часам прямо к театру. Имей в виду, билеты для нас я куплю сама: на тебя надежда плохая, а если хоть на минуту опоздаешь, я ждать не буду. Теперь мне не страшно. Я не соскучусь и без тебя.
- Ты это так подчеркиваешь, что невольно задумаешься, стоит ли приходить.
- Нет, отчего же, приходи, если не найдешь ничего более интересного. Кстати, как твои отношения с девушкой? Ее, кажется, Ирочкой зовут, насколько я помню? Она не будет против того, что ты пойдешь в театр со мной? А то, может быть, ты и ее пригласишь, чтобы веселее было?
- У меня нет никакой девушки!
- Ну, это уж нечестно! - с неожиданным жаром воскликнула Галя. - Ведь я же от тебя ничего не скрываю. Когда любила, то так прямо и сказала. Теперь, когда ты мне совершенно безразличен, я также искренне признаюсь тебе в этом, а ты почему-то лжешь и увертываешься от честного ответа.
- Я не лгу, - глухо ответил я. - Между мной и Ириной и раньше ничего не было, а теперь - и вовсе. Она меня ненавидит.
Я почувствовал, что Гале нестерпимо хочется расспросить меня о причинах разрыва с Ириной, но у нее хватило такта и выдержки не упоминать об этом. Чтобы вознаградить себя за такой подвиг, она тоном дружеского признания сказала:
- А я, представь себе, переписываюсь с тем инженером, которым вы с Нефедовым постоянно кололи мне глаза. Думала, что уеду и позабуду его, но не получается, тем более, что он часто пишет.
- Не сочиняй, пожалуйста, - попросил я угрюмо. - Все равно я не поверю ни в каких инженеров и во все то, в чем ты так старательно пыталась меня сегодня убедить.
- Не-ет, Дима, довольно с меня! - покачала Галя головой. - Посходила с ума и - хватит! Теперь я всю эту блажь из сердца выбросила. Да едва ли там и было что-нибудь серьезное. И чувствую я себя прекрасно. Вот жила здесь столько времени и не испытывала ни малейшего желания встретиться с тобой. И если бы мы случайно не столкнулись на улице, то так бы и не увиделись никогда.
Хотя я не особенно верил в искренность этих слов, мне было смертельно обидно слышать их, и я пошел в наступление:
- Где ты обедала?
- Дома, - ответила она, удивленно подняв брови, - а что?
- Сколько сегодня градусов мороза?
- Двадцать семь утром было.
- Так вот, послушай. От твоей квартиры до нашего отделения не меньше девяти кварталов. Не кажется ли тебе, что для послеобеденной прогулки ты выбрала довольно отдаленное место и мало подходящую погоду? И потом, я же прекрасно видел, что ты не просто прошла мимо, а прохаживалась, кого-то поджидая.
- Я совершенно забыла, с кем имею дело, - смущенно засмеялась Галя, пойманная с поличным. - Ну, так и быть, признаюсь: сегодня мне с чего-то пришел в голову каприз повидаться с тобой, поговорить о Борске. Я страшно скучаю по нему. Тут мне все как-то непривычно.
- А как ты думаешь: часто на тебя будут нападать такие капризы?
- Об этом поговорим в воскресенье в театре… если ты, конечно, явишься, в чем я очень сомневаюсь. А сейчас я замерзла. Проводи меня до автобуса.
Наступило воскресенье. Я ждал его с нетерпением и в театр явился задолго до назначенного срока. Вскоре пришла и Галя, но, к моему возмущению, не одна, а с подружкой и двумя пареньками - товарищами по курсу.
Откровенно говоря, я едва удержался, так мне хотелось повернуться и уйти. Но сообразил, что у меня нет никаких прав требовать у Гали, чтобы она проводила время только со мной.
По выражению моего лица Галя поняла, что я чувствую, и постаралась подсахарить пилюлю. Взяв меня под руку, она представила мне своих друзей, видимо, как старшему. Я чинно поздоровался со всеми. Подружка Гали Зина, кругленькая и румяная, как яблочко, хохотушка, не удержавшись, прыснула от смеха, глядя на мою недовольную мину.
- Вам смешно? - спросил я. - Тогда давайте посмеемся. Я ужасно люблю веселых людей.
С этой минуты я не отходил от нее, занимая пустейшим разговором, и даже устроился рядом с нею в кресле. На мое счастье, чтобы рассмешить мою новую знакомую, кажется, достаточно было показать ей палец.
Злость и досада помогали мне, Зина то и дело хохотала, зажимая рот платком, чтобы не мешать соседям. После второго действия один из пареньков, похожий на белого барашка с детской картинки, отозвал мою хохотушку в сторону и сделал ей, судя по его взволнованным жестам и взъерошенному виду, сцену, после чего демонстративно удалился. Зина же вернулась к нам вся красная, как пион, со слезами на своих голубеньких глазках. Впрочем, через пару минут она уже опять смеялась.
Галя смотрела на меня неодобрительно, ее знакомый (симпатичный, но очень молчаливый юноша) хмурился, а я, делая вид, что ничего не замечаю, продолжал смешить Зиночку, улыбаясь Гале, хотя отнюдь не рассчитывал получить ответную улыбку.
Выйдя из театра после спектакля, мы остановились. Девушки жили в разных сторонах города. Я предложил Зине довести ее до дома, так как она из-за меня лишилась своего провожатого, но Галя решила иначе.
- Георгий тогда вовсе с ума сойдет, - сказала она своему знакомому, неприязненно поглядывавшему на меня, - и они с Зинкой могут вовсе рассориться. Лучше ты проводишь Зину, а я пойду с Дмитрием Петровичем.
Я торжествовал (конечно, только в душе). Мы долго шли молча. Потом Галя спросила:
- Зачем ты это сделал? Теперь они поссорятся. Георгий такой самолюбивый, он ей не простит.
- Ну и пусть не прощает. Мне-то что? Помирятся как-нибудь. Это ты виновата: зачем их привела? Что ты хотела этим доказать? Что тебе безразличны встречи со мной? Или еще раз хотела подчеркнуть, что больше не любишь меня?
- А неужели ты смеешь думать, что люблю? - буквально с яростью выкрикнула Галя, даже остановившись. - Зачем мне эти пустые напрасные страдания? Довольно я помучилась из-за тебя. Теперь все это в прошлом!
- Не может быть! - стоял я на своем, сам в глубине души вовсе не уверенный в своих словах. - Не такая у тебя натура, чтобы так легко забыть. Помнишь, ты мне сказала, что приедешь туда, где буду я. Теперь ты здесь и хочешь убедить меня, что все забыто. Неужели ты думаешь, что я могу тебе поверить?
- Но это действительно так! Сейчас мне очень легко и спокойно. Сердце точно отдыхает…
- В жизни не бывает так. Большое чувство не проходит бесследно, как пустой каприз. Рана еще долго болит, а ноющий рубец от нее остается навсегда. И как бы ни были тяжелы и горьки воспоминания, невольно гордишься и благодаришь судьбу, что довелось испытать такое светлое, высокое чувство.
- Это, случайно, не цитата? - со злой усмешкой спросила Галя. - Что-то уж очень гладко у тебя получилось, прямо как в книге. А мне вот недоступны такие высокие переживания. Уж, во всяком случае, никакой благодарности при воспоминании о прошлом я не испытываю. Да и что мне вспоминать? Жгучий, нестерпимый стыд и обиду? Стоит ли? Лучше забыть и само чувство и того кто его вызвал.
- Перестань! - умоляюще сказал я, сжимая ее пальцы в своих. - Не шути с этим. У тебя иногда получается так правдиво, что у меня сердце падает.
- С чего ему падать? - засмеялась она. - Да если оно и упадет, то не разобьется. Я знаю, что это за камень - его и молотам не расшибешь.
Глава тридцать первая НУЖНО СМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА (Из дневника Ирины Роевой)
Сегодня утром их похоронили. Няня и какие-то чужие люди сделали все, что было нужно. За машиной с гробами шли только мы с няней. Да и кто пошел бы провожать до могилы уголовного преступника и его отца? Отца, который вырастил такого сына. Даже Клары с нами не было. Она собиралась, но в последний момент, уже на пороге, изобразила обморок и осталась дома.
У крыльца стояла целая толпа зевак, и на улице все оборачивались, смотрели нам вслед, переговариваясь между собою так громко, что отдельные слова долетали до нас. Мне было все равно. Я точно окостенела от горя. Теперь часами хожу из угла в угол, затаив дыхание, точно боясь, что грудь разорвется от теснящихся в ней рыданий.
Пусто и холодно вокруг. Судьба отняла у меня всех, кого я любила, о ком заботилась, за кого страдала. Иногда я точно схожу с ума. Вдруг спохватываюсь: где же Радий, что он делает? И вспомнив, что его нет и больше он уже не сможет ничего сделать - ни плохого, ни хорошего, - чувствую полное изнеможение и страшную, томительную тоску.
Няня, успокаивая меня, как-то сказала: «Так даже лучше. Меньше мучений они приняли». Я рассердилась на нее, оттолкнула, разрыдалась, а теперь нет-нет да и подумаю, не была ли она права? Что доброе могло их ожидать?
Без конца бегут слезы. Я уж не утираю их и пишу, пишу… Хоть кому-то мне нужно высказать то, что огнем жжет мое сердце. Я обвиняю себя в страшном, непоправимом проступке. Это я виновата в смерти моих родных. Я предала их. Зачем, доверившись чужому, лживому человеку, я рассказала ему все о Радии? Может быть, если бы я этого не сделала, то брата можно было еще спасти. Не знаю как, но спасти.
Презрение мое к Карачарову безмерно. Настолько гадко обмануть мог только человек без чести и совести. Он так ловко и правдиво, как опытный актер, сыграл роль чуткого, ласкового друга, так хитро вкрался мне в доверие, что я поверила ему и выдала все, что знала. А этот подлый человек вместо того, чтобы помочь, как обещал, сразу же сам явился схватить Радия. Не знаю, чего тут было больше - ненависти к брату или стремления выслужиться. Впрочем, не все ли равно?
Няня пыталась было оправдать своего любимца, говорила, что иначе он не мог поступить. Но я не стала ее слушать. Когда-нибудь, встретившись с этим человеком, втоптавшим в грязь самое лучшее, самое чистое, что было в моем представлении о людях, я выскажу ему все прямо в его лживые глаза. Раньше из всех людей в мире я ненавидела только Арканова, но Карачарова я ненавижу в тысячу раз сильней, ненавижу всем сердцем, всем существом.
Дни идут, а боль не унимается. Я все думаю и думаю о том, что случилось. Ко мне приходил из управления милиции майор по фамилии, кажется, Девятов. Я встретила его враждебно, но потом, когда он мне открыл глаза на многое, о чем я и не подозревала, я стала внимательно слушать его. Он долго говорил со мной, стараясь утешить и приободрить, но что за этим кроется - не знаю. Может быть, опять у меня хотят что-то выпытать? Впрочем, Девятов сразу же откровенно сказал, что ему нужно узнать, все об Арканове. Ведь этот негодяй оказался вовсе не научным работником, а самым настоящим аферистом. Вот кто, оказывается, был виновником наших бед, вот кто погубил отца и Радия. А я, как слепая, ничего этого не видела. Сердцем чувствовала, что здесь что-то неладно, но умом постичь не смогла.
Ну, а как же теперь с Дмитрием Карачаровым? Давно ли я во всем винила его? Приходится смотреть правде в глаза. Я вновь была крайне несправедлива к нему. Теперь, когда, благодаря Девятову, я узнала многое, я сознаю, что Дмитрий Карачаров не виноват передо мной. Он только выполнял свой долг. Сознание моей вины перед ним не дает покоя. Днем, занятая всякими делами, я еще не так сильно это ощущаю, но по ночам, когда сон не идет ко мне, мысль о том, что я жестоко оскорбила человека, желавшего мне добра, жжет меня. Сейчас я поднялась с постели, чтобы вычеркнуть те несправедливые строки, написанные в порыве отчаяния несколько дней назад, но, прочтя, оставила их. Пусть они напоминают, до какой крайности я могу доходить.
Не знаю, хватит ли у меня смелости найти Карачарова и попросить, чтобы он простил меня. Сейчас я пока не могу его видеть. Может быть, как-нибудь потом… Возможно, что я напрасно так забочусь об этом. Едва ли он близко к сердцу принял мои слова, если я сама для него ничего не значила. Ведь он старался встречаться со мной и прикидывался другом только для того, чтобы добыть нужные сведения.
Но почему опять злоба? Почему я пишу «прикидывался»? Ведь, может быть, он и действительно сердечно относился ко мне? Не знаю. Ничего не знаю. Теперь это безразлично. Все разбито, на душе пусто и холодно.
Опять этот Арканов! Когда, наконец, я избавлюсь от него? Вчера вечером я забежала на минутку к Валентинке Холодовой, чтобы взять у нее записи лекций. Последние дни я вплотную взялась за зубрежку. Нужно наверстывать пропущенное. Валентинка была так ласкова со мной, как, пожалуй, никогда, и я незаметно пробыла у нее почти до одиннадцати часов вечера, а потом, выходя, ругала себя за это. Терпеть не могу ее двор. Он длинный и темный. Идти приходится мимо каких-то амбарушек, поленниц, мусорных ящиков. Так и кажется, что в каждом темном углу кто-то стоит, подкарауливает тебя.
Втянув голову в плечи, я быстро шла, стремясь скорее выйти на освещенную улицу, как вдруг услышала, что кто-то окликает меня по имени. Я оглянулась. Из-за угла амбарушки ко мне бежал мужчина.
У меня потемнело в глазах и так ослабли колени, что я чуть не упала, но мужчина поддержал меня. Это был Арканов.
- Ради бога, - прошептал он, запыхавшись, - умоляю вас, не бойтесь. Я должен сказать вам несколько слов, очень важных для вас. Вы не подозреваете, какая страшная опасность вам грозит.
- Какая опасность? - едва пролепетала я, еще не очнувшись от страха, вызванного внезапным появлением Арканова, которого приняла за грабителя.
- Я вам скажу, только вы не должны говорить об этом никому, чтобы не погубить себя окончательно. Даже няне ни слова, понимаете! Сегодня мне под строжайшим секретом сообщил один друг, что хотя теперь ваши отец и брат не подсудны человеческому суду, но их все еще не хотят оставить в покое. Дело в том, что установлено, будто Аркадий Вадимович был замешан в чрезвычайно крупном преступлении, и вот теперь собираются организовать громкий процесс над его сообщниками.
- Но чем это может коснуться меня?
- Они придумали… Впрочем, я не решаюсь вам это сказать…
- Говорите уж, если начали, - в тревоге торопила я его.
- Они решили привлечь к суду и вас как сообщницу отца и брата, прекрасно знавшую о всех их преступлениях и помогавшую им.
От ужаса у меня занялось дыхание. Но здравый смысл еще не совсем оставил меня.
- Не может быть, - прошептала я. - Какая же я сообщница? Что я могла знать?
- Для них это не важно. Был бы человек, а преступление ему долго ли придумать.
- Но кто эти «они»? Кому я могла помешать?
- Об этом уж вам нужно было бы спросить вашего приятеля Карачарова. Он у них в большой чести и, пользуясь своим положением, хочет вам кое-что припомнить.
Я хотела решительно возразить, но, не дав мне вымолвить слова, Арканов быстро заговорил, заглядывая в лицо и крепко держа за плечи:
- Я хочу вас спасти, хотя бы даже против вашей воли, иначе вы погибнете. Вас замучат в лагерях, сгноят в тюрьме. Вам нужно немедленно бежать, сейчас же, пока вас не схватили. Я уже все подготовил. Машина вас ждет. Идемте скорее, пока не поздно.
Если в первое мгновение я в панике готова была поверить Арканову, то едва он произнес имя Дмитрия Карачарова, приписывая ему какой-то враждебный замысел против меня, как все это наваждение рассеялось, и я поняла, что Арканов обманывает меня. Нет, Дмитрий не таков, чтобы сводить счеты с несчастной осиротевшей девушкой, хотя бы даже она и обидела его несправедливо и жестоко.
- Вы колеблетесь? - шептал мне на ухо Арканов, увлекая меня чуть ли не силой в глубь двора, где у забора виднелась машина. - Напрасно! Послушайтесь меня, если вам дорога свобода и жизнь. Единственный шанс к спасению - это уехать сейчас. Боюсь, что завтра будет уже поздно. Наверное, нынче ночью вас арестуют. А если вы уедете, тогда ищи ветра в поле. Долго ли изменить фамилию? Мы уедем далеко. Через несколько дней будем у моря. Там у меня много знакомых, они приютят нас…
- Как, - воскликнула я, - вы хотите, чтобы я ехала с вами? Никогда! - и, вырвавшись из его рук, я что было сил побежала к воротам.
Арканов догнал меня, загородил дорогу и вне себя от волнения стал умолять:
- Уезжайте хоть одна, но бегите отсюда, из этого проклятого города! Клянусь вам, вы пожалеете, что не послушали меня.
- Уйдите, оставьте меня! - оттолкнула я его и быстро пошла прочь. У калитки он опять задержал меня и прошептал на ухо:
- За ночь вы обязательно решитесь. Иного выхода у вас нет. Завтра в восемь выходите на угол к аптеке. Вас проводят к машине, она будет неподалеку.
Я хотела вырваться, но он, грубо притянув меня к себе, проговорил задыхаясь:
- Если хоть полслова кому-нибудь скажешь, то жива не будешь.
Как безумная, почти бегом неслась я домой и, влетев к себе в комнату, разрыдалась на груди у няни.
- Да что ты, дурочка, слушаешь этого прохвоста? - стала успокаивать меня няня. - Ведь теперь же известно, что он жулик, вот и хочет он тебя обдурить, как отца твоего обдуривал. Пойду сейчас позвоню Дмитрию, он ему пропишет…
Но я не позволила ей звонить. Во-первых, было уже поздно, а потом, признаюсь, угроза Арканова страшила меня. Я намеревалась завтра днем позвонить из института Девятову и посоветоваться с ним.
Утром няня ушла на рынок, обещав вернуться часам к девяти, но пробило уже десять, а ее все не было. Сидя над раскрытыми тетрадками, я от волнения ничего в них не понимала и все время поглядывала на часы, ожидая возвращения няни, чтобы посоветоваться с ней, как же мне идти в институт - одной или вызвать хотя бы Валентинку.
В двери постучались. Думая, что это няня, я отодвинула задвижку - и, оттеснив меня, в комнату решительно шагнул высокий рыжеватый немолодой мужчина в черном зимнем пальто с каракулевым воротником. Сейчас я не могу даже припомнить его лицо, помню только, что все черты его выражали крайнюю суровость.
- Гражданка Роева Ирина Аркадьевна? - спросил он таким тоном, будто обвинял меня в том, что я ношу такую фамилию. Его тяжелый взгляд точно пронизывал насквозь. Я почувствовала, что в груди будто что-то упало, колени подогнулись, и я без сил опустилась на стул, ожидая, что сейчас свершится то ужасное, чем пугал меня Арканов.
- Я из уголовного розыска, - сказал посетитель многозначительно, вынув из нагрудного кармана коричневую книжечку удостоверения и слегка тряхнув его.
- Пожалуйста, - сказала я и не узнала сама своего голоса, так он дребезжал. - Что вам от меня нужно?
- Снимем прежде всего допрос, - озабоченно морща суровые черты своего лица сказал страшный гость и, разгладив рукой, разложил перед собой лист с печатным заголовком: «Протокол допроса». Точно загипнотизированная этой надписью, сулившей мне всякие беды, я машинально отвечала на трафаретные анкетные вопросы, думая только о том, чтобы скорее пришла няня, хотя и не знала, чем она может мне помочь. Однако постепенно вопросы становились все каверзней, и, судя по тому, каким чудовищным извращениям подвергал мои ответы агент перед тем как записать, я понимала, что визит этот должен был окончиться арестом.
В ту минуту я была на пороге обморока и уже едва понимала обращенные ко мне слова.. Но все же меня и тогда не оставляла надежда, что этот кошмар рассеется, как только мне удастся увидеть Дмитрия или Девятова. Оба они, как небо от земли, отличались от мерзкого субъекта, так бесчеловечно, мучившего меня.
Между тем допрос продолжался:
- Итак, из ваших показаний, можно заключить, - слышала я, точно сквозь сон, - что вы, будучи в курсе преступных действий ваших брата и отца, не сочли нужным сообщить об этом соответствующим органам? Так ли это?
Упорный взгляд холодных глаз моего мучителя пронизывал, его перо, упертое в недописанную строку, ожидало ответа.
Мне вспомнился издевательский рассказ Радия о следователях, и я почувствовала, что попала в когти одного из таких.
В этот момент вошла няня.
- Кто такой? - спросила она меня, подозрительно оглядывая посетителя с ног до головы.
- Агент, - чуть не плача, проговорила я.
- Агент? Какой агент? - грозно переспросила няня, подходя к нему вплотную, как была с полной кошелкой и новым веником под мышкой.
Но тот, не обращая на нее ни малейшего внимания, сунул мне свое вечное перо и, пододвинув протокол, приказал:
- Подпишите!
- Не буду подписывать! - осмелев, воспротивилась я. - Вы бог знает что там написали, чего я вовсе и не говорила.
- Отказываетесь? - угрожающе спросил агент, подымаясь. - Тем хуже будет для вас.
- Не подписывай! - авторитетно заявила няня. - В каком это законе сказано, чтобы всякую филькину грамоту подписывать?! Вот я сейчас позвоню Дмитрию, пускай он разберется.
- Предупреждаю, - проскрипел агент, поочередно посмотрев на обеих, - всякое сообщение постороннему лицу о произведенном мною допросе будет рассматриваться как разглашение тайны, что является уголовно наказуемым действием. Предлагаю до девяти часов вечера не выходить из дому и ни с кем не связываться ни лично, ни по телефону. Имейте в виду, мы проследим за этим.
- Что же теперь делать? - растерянно спросила я няню, едва он ушел. - Неужели серьезно меня хотят судить? Ведь этого же быть не может. Ведь должны же понять…
- Да ты у него хоть документ-то спросила?
- Он показывал, но я не посмотрела.
- Дура ты, дура! - рассердилась няня. - Вот теперь сиди и думай, кто это такой был, настоящий или поддельный. - Забрав кошелку, она пошла в кухню, но на пороге обернулась.
- Сейчас сгоношу на скорую руку чего-нибудь поесть и побегу к Дмитрию. Пусть он как знает, так и разбирается с этим агентом. В случае чего я в обком пойду, а правды добьюсь. Виданное ли это дело, чтобы девчонку ни за что ни про что…
Голос ее не успел затихнуть за дверями, а у меня точно отлегло от сердца. Страх перед ужасным неизвестным начал проходить. «Ведь на советской же я земле живу, - думала я, - не может быть, чтобы со мной поступили так несправедливо. Я сейчас же, немедля побегу в институт. Меня защитят. Ведь там мне по-прежнему верят. Или, впрочем, сначала я пойду к Дмитрию Карачарову - вот к кому мне нужно обратиться.. Если я в чем виновата, он прямо, скажет мне об этом, если не виновата, то защитит».
Няня помнила номер телефона Дмитрия. Оказывается, она, тайком от меня, не раз звонила ему.
Не успела я взять трубку, как послышался звонок. По голосу я узнала Арканова.
- Это вы, Ирина? - торопливо спросил он. - Говорите тише, чтобы не подслушали. За вашим домом следят. Сейчас же, не теряя времени, уложите самое необходимое и спускайтесь во двор. За вашим гаражом в заборе выломана доска. Там я вас буду ждать. В вашем распоряжении не больше четверти часа. Ясно?
- Ничего не ясно! - крикнула я. - Оставьте меня в покое. Это вы прислали ко мне этого инквизитора, который меня измучил? Как вам не стыдно! Не смейте больше мне звонить и встречаться со мной.
Он что-то говорил, но я положила трубку.
Немного успокоившись, я позвонила Карачарову.
- Дмитрий Петрович, - сказала я ему. - Верно ли, что меня собираются арестовать и судить за отца и брата?
- Что вы! - возмутился он. - Это кто-то напрасно пугает. Я вчера был у товарища, который сказал бы мне, если бы был такой разговор. Вас никто не собирается тревожить, да и нет к тому оснований. Я бы хотел знать, кто вам это сказал.
- По телефону неудобно, и я боюсь. Нам нужно встретиться, но так, чтобы об этом никто не знал, - ответила я, чувствуя огромное облегчение.
Мы условились, где увидимся. Теперь почему-то перспектива этой встречи волнует меня, волнует даже больше, чем встреча с Аркановым, которой мне, как я думаю, не избежать.
Глава тридцать вторая ВАМ Я СОВЕРШЕННО ДОВЕРЯЮ
Мало ли самых разнообразных людей звонит мне по всевозможным вопросам. Но когда однажды, часов в двенадцать дня, прозвучал этот телефонный звонок, я почему-то подумал об Ирине. И оказалось, что звонила именно она. От неожиданности я ответил так невнятно, что ей дважды пришлось переспрашивать, кто с нею говорит.
Она сразу же задала мне крайне странный вопрос: верно ли, что ее собираются арестовать и судить за преступления отца и брата? Конечно, это какая-то ерунда. Не раз, говоря о ней с полковником и Девятовым, я хорошо видел, что она не вызывает у них ни малейших подозрений, и потому постарался успокоить ее, как мог. Ее кто-то, видимо, сильно напугал. Первой моей мыслью было бежать к ней, уверить ее, что никто не покушается на ее спокойствие, но, помня нашу последнюю встречу, я не посмел так поступить. Однако она сама сказала, что хочет поговорить со мной, но так, чтобы об этом никто не знал. Мне стало ясно, что она боится Арканова. Значит, я был прав, уверяя Девятова, что Арканов никуда не уедет от Ирины.
- Где вы бываете? - спросил я.
- Только в институте, в библиотеке и дома.
- Устроит вас, если сегодня в перерыве между лекциями вас вызовут в кабинет секретаря партийной организации института? Там мы сможем поговорить наедине. До института и обратно можете идти спокойно. Я присмотрю, чтобы вас никто не потревожил.
- Хорошо! - сказала она. - Я буду ждать.
«Ни здравствуй, ни прощай, - подумал я. - Хоть и обращается за помощью, но по-прежнему ненавидит».
Мне не составило труда договориться с секретарем партийной организации института, и он, позвав Ирину, сам ушел, предоставив в мое распоряжение кабинет. Первая минута свидания была тяжела для нас обоих.
Ирина, испытывая смущение, старалась не глядеть на меня. Я же, еще не забыв ее оскорблений, не мог побороть естественного чувства обиды, но оно быстро исчезло, едва я вгляделся в ее лицо. Глубокое сожаление проснулось во мне при виде тех следов, которые горе оставило на этом милом лице. Мне казалось, что я смотрю на Ирину сквозь тусклое запыленное стекло, - так поблекли и выцвели краски ее лица. Черты его заострились и стали суше, между бровями и в углах губ пролегли, точно иглой прочерченные, морщинки. Исчез теперь и напоминавший сияние пушистый ореол, окружавший ее голову. Волосы были гладко причесаны и казались от этого темней.
Ирина начала первой.
- Я должна извиниться перед вами, - сказала она сдержанно. - В прошлый раз, в порыве горя, я наговорила вам много несправедливого. Потом, когда няня меня пристыдила, а майор Девятов помог разобраться в том, что главным виновником моих несчастий был Арканов, я поняла, что вы ни в чем передо мной не виноваты. Вы только выполнили свой долг.
Тут она подняла на меня свои, прекрасные, полные неизбывного горя глаза. Взгляд их сказал мне в тысячу раз больше, чем ее слова, заставив мое сердце забиться. Оно еще помнило…
Я первый отвел глаза и молча наклонил голову в знак того, что принимаю извинение.
- Я опять обращаюсь к вам, - сказала после минутной паузы Ирина, - но не подумайте, что за помощью для себя лично. После всего, что произошло, я не посмела бы побеспокоить вас ради этого. Но я хочу отомстить за отца и брата тому, кто их погубил. Вы же, я думаю, хотели бы разыскать его и наказать за прошлые преступления. Я была бы рада помочь вам в этом.
Яркая краска румянца, вызванная возбуждением, разлилась, как отблеск пожара на снегу, по ее бледным щекам, глаза загорелись ненавистью.
- Я не успокоюсь, пока не отомщу ему, - продолжала она. - Он здесь, в Каменске, сегодня утром звонил мне, и я убеждена, что он во что бы то ни стало постарается увидеть меня.
Она рассказала, как встретилась с Аркановым во дворе своей подруги, а также о посещении мнимого агента.
- Как он может надеяться уговорить вас уехать с ним, - спросил я, - раз он знает, что противен вам?
- Арканов рассчитывает убедить меня, что я такая же отверженная, как и он.
Я постарался уговорить Ирину, чтобы она не вздумала поверить Арканову.
- Да я и так уверена, что меня не тронут, - возразила она. - Ведь я виновата только в том, что моя слепая любовь к Радию помешала остановить его вовремя, когда он начал сбиваться с пути. Я должна была сразу обратиться к кому-нибудь, кто убеждением, а может быть, даже и угрозой, заставил бы его одуматься. Но я этого не сделала. Вместо того чтобы спасти брата, я поступила как злейший враг. Эта мысль угнетает меня гораздо сильней, чем те унижения, которые приходится теперь испытывать. Правда, я не могу пожаловаться на подруг, они ко мне относятся по-прежнему, но некоторые из знакомых… Это очень нелегко - быть предметом неприязненного любопытства и замечать, как тебя сторонятся.
Я спросил Ирину, как она думает нам помочь.
- Я помогу вам найти Арканова. Он обязательно даст мне еще о себе знать и пока не увидится со мной ни за что не уедет, хотя, как он говорит, ему опасно оставаться здесь. Но он вообще ни с чем не считается. Это какая-то дикая, безрассудная натура.
- Он лжет, говоря, что очень рискует. Ему прекрасно известно, что, пока у нас нет никаких доказательств его участия в каком-либо серьезном преступлении, мы его арестовать не можем. То, что он выдавал себя за научного работника, не такой уж большой проступок, если он не получал от этого никаких материальных выгод, а то, что он являлся сообщником, если не руководителем Радия, будет нелегко доказать.
- Так что же, по-вашему, он должен оставаться на свободе? - возмутилась чуть не до слез Ирина. - Это же ни на что не похоже!
- Вы правы, его нужно схватить. Но для этого мы должны сначала установить подлинное лицо этого негодяя, узнать, на какие средства он существует, с кем общается, что делает. Вот тогда - я в этом не сомневаюсь - за ним откроется немало таких «подвигов», которыми заинтересуется прокуратура. Но это трудное дело - помогать нам изобличать преступника. Не знаю, под силу ли оно вам будет?
- Я готова! - воскликнула Ирина, оживившись. - Скажите, что я должна делать, и я буду строго выполнять ваши указания.
Я задумался. Представлялась интереснейшая возможность разоблачить опасного преступника. План действий мгновенно созрел у меня в голове.
- Вам придется притвориться перед Аркановым, что поверили, будто у вас нет иного выхода, как следовать за ним, но с отъездом должны всячески тянуть, давая понять Арканову, что вы постепенно меняете свое мнение о нем к лучшему.
- Я согласна на это, хотя и чувствую, что будет тяжело и противно, но я выдержу… постараюсь выдержать…
- Учтите опасность, которой вы себя подвергнете. Хотя мы и примем меры, чтобы с вами не случилось ничего худого, но всего не предусмотришь, а люди, подобные Арканову, бывают подчас опаснее тигра.
- Я понимаю, - бледнея, прошептала Ирина. - Тем необходимее его уничтожить. Только нельзя ли, чтобы, кроме вас, никто не знал, о чем мы с вами сегодня говорили? Вам я совершенно, абсолютно доверяю, а другие… кто же их знает!? Они могут быть неосторожны, а ведь Арканов уже предупреждал меня…
- О чем?
- Что тогда мне не жить.
- Мерзавец! - вырвалось у меня. - Не бойтесь, я отвечаю за вашу безопасность!
Но тут я вспомнил, что нахожусь не в Борске, где каждое мое слово подкреплялось служебным положением и поддержкой всех товарищей во главе с Нефедовым. Здесь же я всего только рядовой работник районного отделения, к которому дело Арканова ни с какой стороны не относилось.
Однако это было только минутное сомнение. Ведь за мной стоял весь мощный аппарат советской милиции. Суть дела не могла измениться от того - я или кто-нибудь другой из моих товарищей окажет Ирине помощь. Но в глубине души я считал, что лучше будет, если это сделаю именно я.
«Интересно, что скажет полковник, когда я расскажу ему о предложении Ирины? - думал я, торопясь в управление. - Теперь он не должен отстранять меня от дела Короля». Я уже успел переговорить с ним по телефону - просил принять меня. Он сказал: «Приходи через полчаса, я пока вызову майора».
Когда я вошел к полковнику, Девятов уже сидел у него.
- Что скажете нового о вашем Короле? - спросил иронически полковник.
- Он сейчас в Каменске.
- Для нас с майором это не новость. Вы что, видели его?
- Не видел, но он встречается с Ириной Роевой и угрожает ей.
- Сомнительно, - покачал головой майор. - Я дважды беседовал с Ириной Аркадьевной и думаю, что если бы Арканов докучал ей, то она сообщила бы мне, тем более, что я просил ее позвонить мне, если он появится на горизонте.
- Возможно, что она предпочитает иметь дело не с вами, а с Карачаровым, - прищурился полковник. - В таких случаях симпатии тоже играют роль.
- Как раз тут-то, как мне кажется, налицо самая решительная антипатия, - возразил Девятов. - Роева при первой же нашей встрече мне заявила, что ненавидит капитана Карачарова и считает его виновником смерти ее родных. Из-за этого мы, как вы помните, и решили отстранить Карачарова от участия в деле.
- Эх, майор, не знаете вы женского сердца, - ответил полковник. - Если они говорят, что ненавидят, то часто это еще далеко не так на самом деле. - При этом полковник перевел на меня свой вопрошающий взгляд.
- Между, нами были недоразумения, - пояснил я, - Ирина Аркадьевна разобралась теперь в том, что произошло, и видит, что виновником ее несчастий является Арканов. - И я вкратце изложил наш разговор с Ириной в кабинете парторга института.
- Вот видите, майор, - обратился к Девятову полковник, - я как в воду глядел: без Карачарова нам не обойтись, тем более, что он, кажется, лично заинтересован в успехе этого дела.
- Я не возражаю против его участия, - пожал плечами Девятов, - но полагаю, что мы все не менее его заинтересованы.
- Все-таки некоторая разница есть. В этой шахматной партии вы заинтересованы судьбой короля, а Карачаров - также и судьбой дамы, - неудачно скаламбурил полковник, хитро взглянув на меня. Однако тотчас же, приняв, свой обычный бесстрастный вид, он принялся за разбор предстоящей операции.
Насколько я понял, оба они не теряли до этого времени, уже нашли в Каменске людей, знавших по лагерям Короля - Литвинова, и установили, что его приметы полностью сходятся с приметами Арканова. Найти Арканова, как я и предполагал, не представляло бы особенных затруднений, но арестовывать его пока не собирались. У нас не было для этого достаточных улик, изобличающих Арканова в преступлении, а затем Девятов рассчитывал, наблюдая за Королем, выявить других, связанных с ними членов шайки.
Полковник поручил мне поддерживать связь с Ириной, но все свои действия согласовывать с майором, за которым оставалось руководство операцией, наблюдение за Аркановым и охрана Ирины.
- Но как мне совместить ваше поручение с работой? - спросил я. - Мой начальник едва ли позволит мне постоянно отлучаться.
- Я скажу ему, - успокоил меня полковник, понимая, что я неспроста задал такой вопрос. - Говорят, что он действительно смотрит на тебя, как на штрафного, и дает только всякую пустяковую работенку.
И вот я почувствовал, что вновь живу полной жизнью. Полоса неудач миновала, в руках у меня было интереснейшее дело. Теперь я только хотел, чтобы наши отношения с Галей хоть немного улучшились, однако они все еще находились на точке замерзания.
В эти дни я, по выражению Татьяны Леонтьевны, вовсе отбился от дома, иногда даже ночевал у себя в канцелярии, неподалеку от телефона, в ожидании звонка Ирины. Ведь она могла позвонить в любой момент. Из-за этих дежурств мне пришлось даже отказаться от удовольствия сходить с Галей в цирк. Если у меня появлялась возможность отлучиться от телефона, я подходил к концу учебного дня к воротам торговой школы и провожал Галю до дому. Чаще всего она теперь была задумчива и рассеянна, жаловалась на плохое настроение.
Одно время мне начало казаться, что, вопреки уверениям, будто я ей вовсе безразличен, это все не так, но она постаралась рассеять мое заблуждение.
- Ты, может быть, думаешь, что я встречаюсь с тобой ради того, чтобы видеть тебя? - сказала она как-то. - Вовсе нет! Просто мне приятно с кем-то поговорить о Борске.
Но Борск занимал очень небольшое место в наших беседах. О чем мы только с ней ни говорили: о книгах, пьесах, кинокартинах, ее учении, товарищах, планах будущей жизни, но невидимой канвой, на которой, как узоры, развертывались эти темы, являлась основная, больше всего занимавшая нас обоих тема о человеческих взаимоотношениях, то есть о дружбе, ненависти, любви, ревности, зависти.
Неизменно Галя высказывала самые мрачные взгляды на жизнь и людей, так что мне приходилось изо всех сил защищать род человеческий от ее нападок. Например, она заявляла, что если хорошенько разобраться, то никакой любви, в сущности говоря, и нет совсем.
- Все это мимолетные увлечения или привычка, - говорила она таким убежденным тоном что мне становилось не по себе. - Вот, например, пока ты был в Борске, у меня на глазах, я по тебе с ума сходила, а как уехал, то все увлечение как рукой сняло, и следов от него не осталось. Теперь я даже понять не могу, что это за дурман такой на меня тогда нашел?
- Но ведь сейчас я опять у тебя на глазах? - невесело шутил я.
- Сейчас другое дело, - наставительным тоном отвечала она. - Такие ошибки дважды не повторяются.
Я и верил и не верил словам Гали. Мне казалось, что Галя нарочно дразнит меня, но тревога, проникшая в сердце, все прочнее укреплялась там и порой очень больно жалила меня своим ядовитым язычком, нашептывая: «Мимо какой любви ты прошел! Каким бесценным сокровищем пренебрег!».
«Вот протяну таким образом до весны, - пугал я себя, - окончит Галя свои курсы и уедет из Каменска, а я останусь со своей гордостью один на один. Нужно решаться…»
Но тут как раз и захлестнули меня вплотную мои служебные дела. И вместо того, чтобы окончательно объясниться с Галей в воскресенье после театра, куда я обещался прийти хоть к последнему действию, мне не удалось вовсе туда явиться, так как пришлось опять так же тайно повидаться с Ириной.
Слушая, как Ирина описывает свою новую встречу с Аркановым, я подумал: «Что, если бы Галя, которая сейчас по моей вине принуждена идти одна из театра, увидела бы меня, сидящего наедине с Ириной в чьем-то уютном кабинете?».
Глава тридцать третья В КОГТЯХ У ЗВЕРЯ (Из дневника Ирины Роевой)
Тороплюсь скорее записать то, что сегодня случилось, ведь я должна буду рассказать обо всем Дмитрию, и важно не пропустить какую-нибудь мелочь, которая могла бы ему понадобиться. А когда запишешь, то и запомнишь лучше.
После вечерних занятий в институте я пошла в госпиталь, куда опять стала ходить после некоторого перерыва. Вот уж там я была спокойна, не боялась косых взглядов, неискреннего участия. Работа с больными отвлекала меня от тяжелых мыслей о себе. Вокруг было столько чужого горя, что о своем я невольно забывала.
С тех пор как я перешла на пятый курс института, Старовская кое-что поручала мне делать самостоятельно, и это было мне полезно.
На этот раз я задержалась в госпитале допоздна и изрядно трусила, возвращаясь одна по пустынным улицам. Едва я свернула в переулок, идущий к нашему дому, как лицом к лицу столкнулась с Аркановым, который поджидал меня здесь.
- Молчи, ни слова! - прошипел он, заталкивая меня в калитку чужих ворот - Не вздумай закричать.
Но если бы я даже пыталась закричать, то не смогла бы. От страха язык у меня точно отнялся и в глазах потемнело. Видя, что я в полуобмороке, Арканов потер мне снегом виски, и я почувствовала себя лучше. В этот момент откуда-то, точно из-под земли, появился крупный мужчина в тулупе.
- Что это у вас происходит? - сердито спросил он.
Арканов, загородив меня собой, сунул руку в карман и прорычал:
- Проходи, нечего тут у нас свои дела.
- Он что, обижает вас? - спросил меня мужчина.
Я чуть не бросилась к нему просить о помощи, но вдруг вспомнила, как нужна мне встреча с Аркановым, и еле живая от страха проговорила дрожащим голосом:
- Нет, ничего… Не беспокойтесь, пожалуйста. Это мы так… разговариваем.
- Хороши разговорчики, - буркнул мужчина и вышел в калитку.
- Молодец! - шепнул мне на ухо Арканов. - Ты смелая. Только уйдем отсюда живей. Мне этот тип не нравится.
Кто бы знал, как мне не хотелось уходить далеко от человека в тулупе, в котором я предполагала одного из людей Карачарова, но Арканов вел меня в сторону реки.
- Молчи! - сказал он мне, когда я спросила, куда мы идем.
- Почему вы говорите мне «ты»? - сердито сказала я, стараясь унять нервную дрожь.
- А как еще тебя называть прикажешь? Надоели мне эти дурацкие церемонии. Если у тебя есть голова на плечах, то должна понять, что теперь ты моя. Среди тех, с кем ты водилась, тебе теперь не место. Ведь каждый, с кем ты говоришь, думает, что ты была заодно с отцом и братом, а потом, будь уверена, рано или поздно тебя заберут.
Несмотря на страх, его слова разозлили меня.
- Уж не тот ли агент меня заберет, которого вы подослали? - спросила я. - Мне сразу стало понятно, что он от вас пришел.
- Потому понятно, что это дурак был. Не сумел себя как следует держать. А ты брось эти разговорчики, давай признавайся: бегала в милицию? Ведь я все равно узнаю. У меня связи всюду есть.
- Никуда я не бегала, - ответила я уже спокойно, овладев собой. - Зачем мне было бегать? Хватит того, что они меня сиротой сделали. Я им этого не прощу.
- А ходят они к тебе?
- Два раза был тот майор, который ваши вещи забрал. Кстати, вы не ходили за вашим чемоданом? Майор мне велел сказать вам, если мы увидимся, чтобы вы приходили, они вам выдадут. Но я бы вам не советовала, мне кажется, что они устраивают ловушку.
- Тоже, нашли дурака! - засмеялся Арканов.
- А почему вы их боитесь? - забросила я первую удочку. - Ведь в ваших вещах они ничего особенного не нашли.
- Дело не в вещах, - недовольно поморщился он.
- А в чем же? Почему вы не хотите сказать? Ведь это же глупо. Вы добиваетесь, чтобы я уехала с вами, была вашей женой, а я даже не знаю, кто вы такой. Какой дурочкой вы меня считаете? Я не требую, чтобы вы открывали мне ваши секреты, если они у вас есть, но должна же я знать, с кем имею дело. - Постепенно входя в роль, я говорила, как мне кажется, довольно естественно, со сдержанным волнением в голосе: - У меня в жизни все перевернулось. Тех, кого я любила, теперь нет в живых, кому верила, тот меня обманул и погубил моих родных, тот, кого я отталкивала, стал единственным человеком, который думает и заботится обо мне. Так должна же я хоть немного знать о нем.
Мы вышли на Береговую улицу, совершенно пустую в этот поздний час. Тысячи огней мигали нам с противоположного берега. Через закованную в лед реку по ярко освещенной трассе катились навстречу друг другу, похожие на детские игрушки, автобусы. В огромном темно-синем пространстве среди равнодушно плывущих облаков, как будто летя к ним, сияла луна, а под ней, точно нежнейший султан ковыля, таял серебристый след пролетевшего самолета.
- Дальше я не пойду, - решительно заявила я и села на первую попавшуюся скамью у ворот. Арканов опустился рядом со мной, не сводя с моего лица тяжелого недоверчивого взгляда.
- А как ты думаешь, кто я? - спросил он наконец, тяжело выговаривая каждое слово.
- Я вижу только, что вы не в ладах с законом, раз скрываетесь от властей.
- Но кто же именно: вор, грабитель, убийца?
- Думаю, что нет. Но вы выдавали себя за научного работника и, видимо, извлекали из этого какую-то выгоду. Возможно, что вы даже не Арканов.
- Ничего подобного, - возразил он. - Я всегда был Иваном Аркановым. Правда, я не научный работник, но такая вывеска мне нравилась и была удобна, так как, благодаря ей, никто не лез в мои дела и не интересовался, откуда у меня деньги.
- А откуда они у вас? Скажите мне правду.
- Зачем задавать детские вопросы? Впрочем, тебе я могу признаться: мой отец в первые дни революции успел спрятать большую сумму денег и золотых монет. Мне удалось найти этот клад, и теперь единственной моей заботой является превращать золото в советские бумажки и тратить их как мне заблагорассудится. Ясно это тебе?
- Не особенно. Я помню, вы говорили, что отца своего почти не знали, потому что он бросил семью, когда вы были ребенком. Как же вы могли узнать, что он спрятал деньги?
- Что ты меня ловишь, как следователь? Я вовсе не говорил, что отец рассказал мне, где он хранил деньги. Он бы мне ломаного гроша не дал. Это бабка, у которой я воспитывался, разнюхала как-то, где отец закопал свои червончики. Она деньги больше жизни любила, скупущая была невероятно. Бабка мне и помогла найти деньги. Теперь они твои. Нам их хватит до конца жизни. Ты будешь вечно жалеть, если откажешься. Мы бросим Сибирь с ее проклятыми морозами и уедем далеко-далеко, туда, где никто не спросит, где мы были и что делали. На все вопросы будут отвечать наши деньги. Ты полюбишь то местечко, куда я тебя увезу. Это недалеко от большого портового города, так что если нам захочется повеселиться, то найдется где и как неплохо провести время. А в самом местечке тихо, шумит лишь море и ветер. Под соснами - дачи, как сказочные теремки. Вот где можно отдохнуть, пока не надоест. Тебе будет весело. Там многие говорят по-русски, заведем друзей…
- О чем вы говорите? Вы хотите увезти меня за границу?! - нашла я нужным возмутиться.
- Почему за границу? - замялся он. - С чего ты взяла? Я говорю об Эстонии, Латвии. Да и мало ли других мест, где русскую речь редко слышишь. Вообще, я тебя не неволю. Куда хочешь, туда и поедем. Я хочу только одного, чтобы тебе было хорошо. Я ведь с ума схожу по тебе. Ни одна женщина не имела надо мной такой власти, как ты. Подчас я ненавижу тебя за это. Ты связала меня по рукам и ногам. Мне давно нужно было уехать отсюда, а я не могу тебя бросить. Я знаю, это кончится скверно. Так скверно, что хуже не бывает. Не доводи меня до крайности. Ты пойми ведь я тоже человек, я тоже хочу любви и ласки, хочу иметь жену, друга, хоть одного человека во всем мире, которому можно было бы говорить все, не боясь, что он продаст. Ты единственная смогла разбудить мое сердце. Я уж думал, что у меня его нет. Со всеми я груб, даже жесток, а перед тобой - ребенок без воли, без силы, без рассудка. Тебя я не могу принуждать, могу только умолять на коленях.
Он и действительно соскользнул со скамьи, прижался щекой к моим коленям, стал просить:
- Уедем, Ирина, нам здесь нельзя оставаться и дня. Неужели ты хочешь, чтобы тебя арестовали, судили…
- Зачем вы пытаетесь запугать меня? - презрительно перебила я, отталкивая его. - И сядьте. У нас с вами слишком серьезный разговор, чтобы пускаться на мелкий обман, запугивание, шантаж.
- Ну, если хочешь правды, - сказал он с угрозой, поднимаясь с колен, - то получи ее: или ты уедешь со мной, или… В общем, другому ты не достанешься.
От этих его слов мороз пронизал меня до костей. Я не сразу набралась сил ответить так, чтобы мой голос не дрожал…
- Вы знаете меня не первый день, - сказала я. - Неужели вы считаете меня трусихой? Если хотите знать, то я не очень боюсь смерти. За последние годы я так мало видела хорошего, что иногда думала: смерть - это еще не самое худшее. Так что смертью вы меня не пугайте. Гораздо страшней был бы для меня позор суда и тюрьмы, но и его я не боюсь. Меня судить не за что. Также нечего вам сорок раз повторять мне, что я могу вас предать. Если вы этого боитесь, то вам проще всего сбежать от меня подальше. Я никогда не предполагала, что вы такой трус.
Увлекшись своей импровизацией, я не щадила его, чувствуя свою власть над этим человеком. Но зарываться было опасно, следовало чем-то успокоить его.
- Подумайте серьезно, - сказала я, - к кому бы я пошла с доносом на вас? Уж не к Карачарову ли, который так жестоко меня обманул? Или к его товарищам, которые арестовали бы моего отца, если бы он не умер? Да и что я могла бы им сказать о вас? Разве только эту сказку о червонцах, которую вы мне рассказали? Так они бы только посмеялись надо мной.
- Это не сказка! - хмуро сказал Арканов.
- Пусть будет не сказка, мне все равно. Дело не в ней. Вот чему я безусловно верю, так это вашей любви, и ради нее я вам скажу тоже правду. До того несчастья, которое случилось с нашей семьей, я всей душой ненавидела вас за то, что вы самым наглым образом пытались купить меня у моих родных. Теперь же, оставшись одна во всем мире, униженная, презираемая всеми, я невольно забыла эту ненависть, видя, что только вы не бросили меня в несчастье и заботитесь обо мне.
Тут мне пришлось прервать свой монолог, потому что Арканов, кажется, вообразил, что я собираюсь признаться ему в любви, и мне надо было очень решительно обороняться.
- Уходите! - сказала я, сердито отталкивая его. - Уходите, раз не можете понять настоящих человеческих отношений. Своими дикими выходками вы, наверное, затушите тот слабый огонек симпатии, который теплится в моей душе. Вы же знаете, я не выношу принуждения.
- Не сердись, не буду, - невнятно сказал он, грея дыханием и целуя по одному мои замерзшие пальцы. - Если бы я мог тебе доверять!.. - со стоном вырвалось у него. - Но не могу! И берегись, если ты…
- Опять! - воскликнула я с отчаянием. - Знаете что, Иван Семенович, у вас, наверное, есть с собой оружие? Нас никто не видит. Так давайте, убейте меня, если вы так опасаетесь, что я вас выдам, и дело с концом. А то мне уже надоело слушать одно и то же. Всему есть предел. Только зверь может так мучить и без того убитую горем девушку. Это нечестно и неумно. Вы только отталкиваете меня этим.
- А ты могла бы когда-нибудь полюбить меня? - спросил он.
- Как знать, - вздохнула я, с трудом избегая его рук. - Может быть, если бы вы не мучили меня, не пугали и не приставали со своими медвежьими ласками. Но даже и теперь, оттого что я так одинока, я чувствую, что вы для меня не совсем чужой.
Тут уж мне пришлось напрячь все свои силы, отталкивая его разгоряченное лицо.
- Поцелуй меня хоть один раз, - умолял он, обдавая меня жарким дыханием, - я буду рабом твоим.
- Не нужно мне ни рабов, ни господ! - крикнула я, вырвавшись и отбежав в сторону. - Мне холодно и пора домой. Можете меня не провожать, но все же хоть издали присмотрите, чтобы меня не обидели.
- Мы еще встретимся, - сказал он как будто с угрозой.
- Но только, ради бога, не так ужасно, как сегодня, - сказала я.
Глава тридцать четвертая ПОКА ВПУСТУЮ
- Вы не думаете, что он послушается ваших уговоров, оставит вас в покое и уедет? - спросил я Ирину, когда она рассказала мне о встрече с Аркановым.
Она отрицательно покачала головой.
- Вы его не знаете. Он жизни не пожалеет, только бы добиться своего. И никуда не уедет, пока будет иметь хоть малейшую надежду, что я соглашусь ехать с ним. Он ни за что не отступит… и я тоже! Тут с обеих сторон многое поставлено на карту. Я уверена, что благополучно мы не разойдемся, кто-то должен будет пострадать… только очень не хотелось бы, чтобы это была я. Все-таки страшно хочется жить. Ведь я еще, можно сказать, и не жила. Но пока я боюсь и мечтать о настоящей жизни. Ведь если Арканов останется на свободе, разве это будет жизнь? В одном я ему верю - он меня может убить.
- Мы примем все меры, чтобы вас не коснулась опасность, - заверил я Ирину.
- Какие там меры? - усмехнулась она. - Конечно, я вам очень благодарна. Вчера ваш товарищ подоспел в самый опасный момент, но не может же он ходить всюду за мной по пятам, и, вообще, много ли Арканову нужно времени для внезапного удара ножом? Кто тут успеет удержать его руку?
- Если вы опасаетесь…
- Нет, я говорю это не к тому, чтобы отказаться от нашего плана. Наоборот, я считаю, что начало положено удачно. Кажется, я нашла верный тон. Только это ужасно противно.
Рассказ Арканова о его прошлом, переданный Ириной, навел меня на размышления. Конечно, его уверения, что он все еще живет только на «папашино наследство», были, на мой взгляд, чистейшим враньем, но упоминание о воспитавшей его бабке косвенно подтвердило, что Арканов и Король-Литвинов - одно и то же лицо. Ведь и Литвинова воспитывала бабка, которую он потом проиграл и убил.
Я представил себе молодого бездельника, воспитанного злой и жадной старухой, задумавшей выкрасть спрятанные сыном деньги. С помощью бабки внучек находит эти деньги, но забирает их себе и убегает из семьи. Необходимость как-то реализовать украденное золото сблизила его с уголовным миром, а когда деньги оказались прокученными, то ему и в голову не пришло заняться честным трудом, раз есть другие, более близкие для него способы добывать себе на жизнь.
Он стал вором, взломщиком, аферистом, постоянно совершенствовал свои «таланты». Попадая в тюрьмы или лагеря, он встречал там немало главарей разных шаек, «воров в законе», перед которыми лебезила и трепетала вся воровская братия. Желая встать с ними на одну доску, он совершал одно дерзкое преступление за другим и наконец, чтобы приобрести известную репутацию в преступном мире, проиграл в карты и затем зверски убил своих родных.
Заинтересовал меня и брошенный Аркановым намек, что он увезет Ирину в какой-то райский уголок на берегу моря, где многие знают русский язык. Уж не собирался ли он уехать с нею за границу? Если так, то у него, видимо, есть какие-то связи за рубежом. Но возможно, что Арканов просто врал, обольщая Ирину на свой довольно неуклюжий лад.
Чтобы проверить правильность этой версии, я попросил Ирину задать Арканову при встрече несколько наводящих вопросов. Она выполнила мою просьбу, но Арканов был хитер и осторожен. Он твердо стоял на своем, уверяя, что всегда сторонился преступного мира, никогда не ездил дальше наших границ и был бы примерным гражданином, если бы не «проклятое золото», которое избавляет его от необходимости работать. Однако ради Ирины он обещал изменить свою жизнь и взяться за работу, уверяя, что уже начал писать какую-то монографию, которая доставит ему славу и деньги.
Ирина говорила, что Арканов начал верить ее словам, будто она видит в нем своего друга и защитника и собирается уехать весной, по окончании института, если не вместе, то одновременно с ним. Все с большим трудом ей приходилось удерживать его на почтительном расстоянии. Спасало ее то, что встречи их стали очень кратковременными из-за наступивших морозов. Арканов настаивал на встрече не на улице, а где-то у него, но Ирина наотрез отказывалась. Арканов умолял ее не дожидаться весны, а ехать немедленно, обещая создать сказочную жизнь.
- О какой сказочной жизни говорите вы, - смеялась она, - когда вынуждены опасаться каждого милиционера?
- Это только из-за вас я терплю такое положение, - злился он. - Если бы не моя любовь, не потребность видеть вас, то я давно бы жил припеваючи где-нибудь а юге, а не ютился здесь, черт знает в каких условиях, боясь, что того и гляди получится какая-нибудь неприятность.
Однако в целом дела наши шли неважно, и Ирина начинала волноваться.
- Я боюсь, - говорила она, - что вам надоест возиться с Аркановым, и вы бросите меня ему на растерзание.
Я уверял, что этого не может случиться, и всячески старался ее успокоить. И вот тут наши беседы часто выходили далеко за рамки связывавшего нас дела. В словах Ирины постепенно начинали проскальзывать дружеские нотки, да и я уже не придерживался в разговорах с ней сухого официального тона. Прекрасная душа умной, серьезной девушки открывалась передо мной.
Как-то раз, печально усмехнувшись, Ирина сказала:
- Помните, как я, чтобы больнее обидеть вас, старалась очернить вашу профессию? А теперь сама действую с вами, как настоящий сыщик.
Я ничего не ответил, показывая этим, что совершенно не к чему ворошить старое, принесшее нам обоим так мало хорошего. Она же иначе истолковала мое молчание и промолвила:
- Вы, наверное, никогда не простите мне той обиды, которую я вам нанесла? Но зато теперь я верю, что вы всегда хотели мне только добра.
- Что было, то прошло, зачем об этом вспоминать? - ответил я сдержанно и, увидев, как вдруг померкло ее лицо, понял, что причинил ей боль.
С нетерпением ждал я того момента, когда нам с майором удастся благополучно закончить дело Арканова и освободить Ирину от тяготевшего над ней груза. Немалую надежду в этом отношении я возлагал и на полковника Егорова, который с группой товарищей тоже работал над раскрытием тайных связей Арканова. Изучая материалы преступлений, совершенных в нашей области за последнее время, он находил в некоторых из них следы косвенного участия и направляющей руки какого-то крупного преступника, приметы которого в ряде случаев как будто сходились с приметами Арканова.
Теперь полковник уже не сомневался, что Арканов представляет значительную фигуру в преступном мире. Он как-то при мне предупредил Девятова, что тот головой ответит, если Арканову удастся скрыться, и дал нам понять, что вскоре, как только подтвердится одна версия, выдвинутая лично им, Арканова можно будет арестовать.
- Значит, на соревнование нас вызываете, товарищ полковник? - спросил Девятов.
- Какое там соревнование, - ответил недовольно полковник. - На буксир вас беру. Вижу, что вы с Карачаровым не можете справиться одни, вот мне и приходится впрягаться.
Глава тридцать пятая ПРОВЕРКА ЧУВСТВ
Я уже привык к тому, что, когда кончался рабочий день и два товарища, занимавшиеся в одном кабинете со мной, поднимались со своих мест и отправлялись домой, на моем столе раздавался телефонный звонок. Это звонила Ирина. Если были важные новости, то мы договаривались с нею о встрече, если же она сообщала, что день v нее прошел зря, то мы обычно еще немного разговаривали.
- Мне совершенно необходимо говорить с вами каждый день, хотя бы по нескольку минут, - как-то сказала мне по телефону Ирина. - Нервы так страшно напряжены, а ваш голос меня всегда успокаивает и придает уверенность, что я под надежной охраной.
Однажды она не позвонила в назначенный час. Просидев около часа в ожидании ее звонка, я решил, что ей было некогда и она, как обычно в таких случаях, позвонит мне часов в десять вечера. Однако едва я поднялся из-за стола и вышел, как дребезжащий звонок телефона заставил меня бегом вернуться обратно к столу.
- Что вы так долго не звонили, Ирочка? - спросил я, услышав, в трубке женский голос, называвший мою фамилию. - Я чуть было не ушел.
- Это вовсе не Ирочка, - послышалось в ответ. - Вы ошиблись.
- Это ты, Галя? - крикнул я, чувствуя, что меня даже в жар бросило и от непростительной ошибки, которую я допустил, назвав по телефону имя Ирины, и от того двусмысленного положения, в которое попал из-за этой неосторожности. Ответа не было, но мне показалось, что я различаю тяжелое, прерывистое дыхание в телефонную трубку, и повторил вопрос:
- Галя, это ты?
- Да, я! - донеслось в ответ. - Мне очень нужно было вас, но… раз вы заняты…
- Ничем я не занят! - закричал я в неподдельном отчаянии. - Послушай, Галя! Не смей думать ни о чем плохом, пока не увидишь меня. Я сейчас приду. Откуда ты звонишь?
- Из углового «Гастронома», - послышался слабый ответ.
Чтобы не заставлять Галю долго ожидать, я чуть не бегом устремился к указанному ею месту и хорошо сделал, что поторопился. Не дождавшись меня, она уже вышла из магазина, и я лишь случайно разглядел при свете фар проезжавшей машины ее удалявшуюся фигуру. По ее усталой походке, понуро опущенным плечам и склоненной голове я понял, что она или сильно расстроена, или больна.
- Почему ты не дождалась меня? - спросил я, взяв ее под руку и останавливая.
- Пусти! - скорее устало, чем сердито, сказала она, высвобождая руку. - Мне ничего от тебя не нужно, оставь меня.
- Галя!.. - простонал я. - Поверь мне хоть раз в жизни. С Ириной у меня нет никаких отношений, кроме деловых. Я люблю только тебя одну и буду любить всегда, всю жизнь, хоть ты меня и разлюбила.
Галя не ответила. Она стояла все такая же съежившаяся, с опущенной головой, однако пальцы ее, чуть погладив мой рукав, пробежали к локтю, и она прижалась лбом к моему плечу.
- Что с тобой? - спросил я в тревоге.
- Хозяйка выгнала с квартиры, - ответила она странно безучастным тоном.
- То есть как выгнала? Как она смела? - возмутился я.
- Она уж давно приставала ко мне, чтобы я ушла с квартиры, раз не хочу узнавать для нее в магазинах, какие товары будут выпускать в продажу. Ведь она меня и не прописывала из-за этого в домовой книге, чтобы выгнать, если я не буду помогать ей спекулировать, а я, конечно, на это не пошла. Когда я сегодня вернулась из школы, она мне не открыла дверь и крикнула в форточку, что вещи мои выкинуты в амбарушку.
- Ну, с ней я, конечно, разделаюсь за такие проделки, - пообещал я, - но нужно прежде всего как-то тебя устроить.
- Да, нужно бы, - прошептала Галя. - Я что-то со вчерашнего дня совсем расклеилась: голова болит, в груди колет и всю ломает. - Она болезненно потянулась и сильней оперлась на мою руку. - Я хотела в школу пойти, сказать директору, но там сейчас никого нет.
Все это она говорила, точно рассказывала о злоключениях постороннего, неинтересного ей человека. Я коснулся ладонью ее лба и почувствовал, что от него пышет жаром.
- Да ты серьезно больная, голубушка моя! - воскликнул я. - Тебе же нужно в постель. Идем, я тебя отведу домой.
Но как только я вообразил, что привезу больную Галю к той самой подлой бабе, которая только что оскорбила и выгнала ее, все во мне запротестовало. Ведь остаться с ней, чтобы защищать ее от обид, я бы не смог. «А что, если отвезти Галю прямо в больницу? - подумал я. - Но ведь, если у нее просто грипп, ее там не примут. И вообще, кажется, для помещения в больницу необходимо направление районного врача».
- Галя! А что, если я отвезу тебя сейчас пока к себе и вызову врача?
- Ну вот, выдумал тоже! - сказала она в изнеможении. - Нет! Глупости, я пойду домой. Должна же она мне открыть. В крайнем случае, просижу ночь на вокзале, а завтра директор…
Не слушая ее, я остановил проезжавшее такси. Она ни за что не соглашалась в него садиться, но увидев, что вокруг начал собираться народ, глазевший, как капитан милиции, видимо, задержавший девушку, не может заставить ее сесть в машину, она, наконец, повиновалась. В машине Галя забилась в угол, спрятав лицо в поднятом воротнике пальто и засунув кисти рук в рукава. Я не мог без боли смотреть, как все ее тело содрогается от бившего ее озноба, и, придвинувшись к ней, обнял ее, стараясь согреть. Все мое существо было в этот момент полно тем извечным, инстинктивным, присущим каждому настоящему мужчине стремлением защитить, заслонить грудью от опасности, согреть в своих объятиях, успокоить и приласкать, как ребенка, ту, которую любишь.
Галя молчала, доверчиво прижавшись ко мне.
«Где найти врача? - между тем раздумывал я. - В поликлинике они бывают только днем. Придется вызывать «скорую помощь».
Беспокоило меня и то, как воспримет моя строгая хозяйка появление девушки в моей комнате. Я опасался, как бы по своей чрезмерной прямоте, возведенной ею в ранг добродетели, Татьяна Леонтьевна не наговорила Гале дерзостей. Опасения мои были не напрасны. Едва мы переступили порог, как Татьяна Леонтьевна поднялась, точно пена на молоке:
- Это что за безобразие? Ведь я же вас специально предупреждала, чтобы вы не водили к себе всяких женщин! Я не потерплю, чтобы в моей квартире творилось бог знает что!
Поднявшись на свои больные ноги, она так решительно заковыляла прямо на нас, точно собиралась тут же своими руками вышвырнуть за порог обоих, но я заслонил собою Галю и сказал:
- Случилось несчастье! Это дочь моих прежних квартирных хозяев, у которых я жил в Борске. Она приехала сюда учиться и вдруг заболела. Нужно сейчас же найти врача.
- Врача? - недоверчиво переспросила хозяйка. - Какого врача? Где его сейчас найдешь?
- Я лучше пойду… - сказала Галя, испуганная такой встречей.
- Никуда ты не пойдешь! - сердито сказал я. - Я тебя не пущу. Вот сейчас приведу доктора, он тебя посмотрит и скажет, что делать.
Между тем старуха, раскачиваясь, как лодка в бурю, приблизилась к Гале, бесцеремонно сдвинула платок с ее лба и прикоснулась к нему.
- Куда тут идти! - воскликнула она, возмущенно глядя на меня, точно это я только что выгонял Галю из дому. - У нее же невозможный жар! Лилька знает, где живет наша районная врачиха, и может сбегать. А лучше вы сами сходите, все равно вам нечего здесь делать, пока я уложу ее в постель. Скажите только, где у вас постельное белье?
Врача, молодую востроносенькую женщину с необычно резким голосом и энергичными манерами, я застал за обедом. Она только что возвратилась с обхода больных. Муж ее, молодой лейтенант авиации, посмотрел на меня с искренним недоброжелательством и невнятно пробормотал, что нужно же человеку дать спокойно поесть хоть один раз в день, но докторша укорила его:
- А если бы я захворала, ты что сделал бы? Небось целую роту докторов поднял бы на ноги, а товарищ пока довольствуется одним районным врачом, хотя у него тоже заболела жена. (Это, верно, я назвал Галю своей женой, так как иначе не смог бы объяснить врачу, почему молодая девушка находится у меня в комнате).
Докторша наскоро доела, что у нее было на тарелке, и, дожевывая последний кусочек, стала с моей помощью надевать шубку. По дороге она непрерывно расспрашивала меня, когда заболела моя жена, какая у нее температура и так далее.
Я отвечал довольно неопределенно, и докторша обвинила меня в невнимательности к жене, приведя в пример своего мужа.
- Вы, видимо, недавно приехали? - спросила она, обводя взглядом пустые углы моей комнаты и нераскупоренные ящики с книгами, на которых стояла немытая со вчерашнего дня посуда. Я буркнул что-то и скорее вышел из комнаты, пока она не начала еще осматривать и выслушивать Галю.
- Однако я думала, что эта девушка - ваша невеста, - спросила, выйдя за мной, Татьяна Леонтьевна.
- Причем тут это? - раздраженно возразил я (терпеть не могу, когда люди суют нос не в свое дело). - Я же вам сказал, что она дочь моих квартирных хозяев.
- Ну и что же? - резонно рассудила Татьяна Леонтьевна. - Это не мешает ей стать когда-нибудь вашей женой, а не только невестой.
- Она мне совершенно посторонний человек. Понятно? - сказал я резко, чтобы прекратить этот глупый разговор. Тут из моей комнаты вышла докторша. Вид у нее был профессионально невозмутимый, но мне показалось, что она встревожена.
- Скажите, положение опасное? - бросился я к ней.
- Как вам сказать, - промолвила она, глядя перед собой в одну точку. - Я опасаюсь, как бы не было воспаления легких. Пока нужно поставить баночки, и я кое-что выпишу. Постарайтесь немедленно добыть в аптеке и давайте аккуратно через каждые четыре часа, а утречком я забегу навестить больную. Тогда посмотрим, что делать дальше.
- Пожалуйста, доктор, - попросил я, - не забудьте завтра пораньше зайти. Я страшно беспокоюсь.
- Что ж, вполне естественно, - сказала докторша тоном старшей. - Как же вам не беспокоиться о ней? Ведь жена - это самый близкий человек на всем свете. (Я почувствовал, что в эти слова она невольно вложила глубокий личный смысл).
Забыв одеться, несмотря на мороз, я проводил врача до калитки, расспрашивая, чем поить и кормить больную, а когда вернулся, хозяйка встретила меня ироническим вопросом:
- Значит, совершенно чужая и посторонняя?
- Нужно же было как-то назвать, - пожал я плечами и спросил: - Вы умеете ставить банки?
Оказалось, что ставить банки Татьяну Леонтьевну учил какой-то знаменитый фельдшер, и вскоре Татьяна Леонтьевна превзошла его в этом сложном мастерстве. Пока старушка разыскивала и перетирала банки, я отправил Лилю в аптеку и зашел к больной. Галя лежала на спине, положив руки поверх одеяла. Косы черными змеями свисали с подушки, лицо казалось темным от сильного жара, губы запеклись, глаза смотрели жалобно, точно просили о помощи.
- Я тебе наделала хлопот, - сказала она. - Ты, наверное, ругаешь меня. Я не думала, что свалюсь. Ты и представить не можешь, как мне было страшно, когда я осталась на улице больная. Вот тогда подумала, что ты не оставишь меня… Нет, ты подожди, - торопилась, она, хотя я не перебивал ее, а только нежно поглаживал ее пальцы. - Я не хочу тебя стеснять. Я попросила доктора, чтобы она положила меня в больницу. Она мне обещала, так что утром меня увезут.
Я успокаивал ее, как мог, говорил, что грипп пройдет через пару дней, что я найду ей другую квартиру, а с ее бывшей хозяйкой так поговорю, что она долго будет меня помнить. Потом я намочил полотенце и положил ей на голову. Хотел дать чаю с печеньем, но она отказалась. Жар все усиливался, и Галя иногда начинала говорить несвязно, даже как-то сказала:
- Мама, перемени полотенце. Оно совсем горячее.
Девочка принесла лекарство. Я дал Гале порошок, а хозяйка напоила ее чаем с малиной.
- Где вы нынче ляжете? - спросила она. - Разве на сундуке у нас? Табуретки можно подставить.
Тут я вспомнил, что уже поздно, а ведь мне обязательно в десять вечера нужно быть на своем посту у телефона.
- Татьяна Леонтьевна, дорогая, - обратился я к старушке, - выручите меня, голубушка, поглядите за Галей сегодня ночью. Ей в два часа обязательно, необходимо дать лекарство. Пожалуйста, не откажите. Мне нужно на дежурство. А к шести часам я прибегу.
- Да неужели же в такой просьбе можно отказать? - возмутилась хозяйка. - Бывало, люди мне тоже помогали.
Уже надев полушубок, я наклонился над Галей, чтобы еще раз сменить компресс и, не удержавшись, коснулся губами ее лба. Его палящий жар испугал меня.
- Я вызову «скорую помощь», - сказал я. - Тебе нужно сейчас же в больницу.
- Нет, не смей! - воспротивилась Галя. - Мне здесь лучше. Скажи только: ты сейчас идешь не к ней?
Глава тридцать шестая ЛИЦО ВРАГА
Дежурный по отделению встретил меня сообщением, что ко мне дважды звонила женщина и справлялась, когда я приду. Было полчаса десятого. Если это Ирина звонила мне раньше условленного времени, то значит произошло что-то необычное.
Для разговора со мной Ирина никогда не пользовалась своим домашним телефоном, не доверяя жильцам, поселившимся в бывшей квартире Роевых, а бегала на почтамт к автомату. Сейчас мне было необходимо вызвать ее, и я рискнул позвонить на дом. Через минуту она откликнулась, очевидно, ожидая моего звонка. Убедившись, что говорю я, Ирина ответила:
- Вы ошиблись, это частная квартира. Вам нужно пройти прямо на междугородную станцию.
Я понял, что она назначает место встречи, и поспешил на почтамт. В зале ожидания Ирины не было. Я вышел в полутемный вестибюль и там через дверное стекло одной из телефонных кабинок увидел ее бледное лицо. С расширенными от волнения глазами она манила меня рукой. Я заметил, что на ней была шаль и старое пальто няни Саши.
Нельзя сказать, чтобы она выбрала удобное место для нашего свидания. Пользуясь тем, что вокруг никого не было, я нашел выключатель и погрузил вестибюль в темноту. Несколько минут нас никто не мог видеть.
Ухватив отвороты моего полушубка, Ирина быстро зашептала мне на ухо:
- Сегодня в три часа ночи я должна быть на вокзале. Он упросил меня встретить владивостокский поезд и получить чемодан с какими-то материалами, которые ему посылает приятель.
- С какими материалами?
- Я же вам говорила, он уверяет, что пишет книгу, которая сделает его знаменитым, так вот будто бы для этой книги ему шлют с Востока материалы. Но сам он опасается идти за ними на вокзал и просит меня. Больше ему некого послать.
Ирина ушла, чуть не забыв сказать, что пассажир с чемоданом едет в пятом вагоне. Я остался еще на некоторое время в кабине, чтобы позвонить Девятову. Конечно, если бы я сейчас сообщил полковнику о том, что мне рассказала Ирина, он наверняка принял бы на себя руководство операцией, но мне казалось неудобным обходить майора. Поэтому я позвонил только ему, чтобы он немедленно приезжал в управление. Через четверть часа мы встретились.
- Вопрос ясен! - сказал Девятов, выслушав меня. - Конечно, есть риск, что Арканов просто проверяет Ирину Аркадьевну, не вздумает ли она его предать, но, может быть, он и действительно ожидает важную посылку, которую не рискует доверить никому из своих. Во всяком случае, нам нужно проверить, что за «материалы» ему посылают, причем необходимо захватить их у него в руках. Сегодня мы должны будем арестовать его, я уже имею на это санкцию прокурора.
С интересом я наблюдал, как майор проводил подготовку предстоящей операции по наблюдению за автомобилем, в котором Ирина повезет посылку. Он инструктировал сотрудников, размечал по карте города пункты, где должны стоять снабженные радиопередатчиками машины с наблюдателями, и принимал другие меры, чтобы машина, присланная Аркановым, не могла исчезнуть. Мы с Нефедовым в Борске не располагали такой техникой.
За полчаса до прибытия поезда мы с майором, изменив наружность, одетые в штатское, появились на вокзальном перроне.
Вскоре пришла Ирина. Не узнавая нас, она прогуливалась по платформе. Из ее кожаной сумочки, висевшей у локтя, виднелся край оранжевого шелкового платка с лазоревым павлиньим глазком. Это был условный знак, по нему ее должен был узнать человек, который привезет посылку.
Ярко-зеленый новенький тепловоз, плавно замедляя ход, прокатил мимо нас живую цепь цельнометаллических вагонов и остановился. Мы устремились к пятому вагону и стали наперебой расспрашивать проводника, не едет ли тут больная старушка из Владивостока. Между тем из вагона вышли два пассажира. Первый из них - толстяк в форме водника с потускневшей эмблемой на каракулевой шапке, легко нес на своем богатырском плече стиральную машину, в то время как встречавший его хилый родственник, отдуваясь, тащил за ним его чемодан. Водник нас не интересовал. Зато второй пассажир - сухощавый, неопределенного возраста субъект, одетый в прекрасное драп-велюровое пальто с широченными плечами, сразу привлек наше внимание. В руках его был небольшой простенький чемоданчик.
Расспрашивая проводника, я незаметно наблюдал за круглым скуластым лицом пассажира, напоминающим кошачью мордочку, и вдруг заметил, что его желтые прозрачные глаза кого-то высмотрели. Как хорек, преследующий лакомую добычу, он не без изящества в два прыжка догнал проходившую мимо Ирину. Нам не было слышно, о чем они говорили, но когда через минуту пассажир вернулся, то чемоданчика у него в руках не было. Бросив на нас осторожный взгляд, он юркнул в дверь вагона, а вслед за ним, обменявшись быстрыми, но многозначительными взглядами с Девятовым, прошел незаметно появившийся, точно возникший из ночного сумрака, скромно одетый представительный мужчина.
Я наизусть помнил инструкцию, данную Ирине Аркановым: «Сядьте в серую «победу», в дверке которой будет зажата газета, а номер оканчивается на десятку. Она отвезет вас к вашему дому, у которого я буду вас ожидать…».
Машину с такими приметами мы с Девятовым увидели, как только вышли вслед за Ириной на площадь перед вокзалом. Быстро пройдя мимо нее, я разглядел, что Арканова в ней нет. Один только шофер - здоровенный парень, наверное, чуть ли не на голову выше меня, сидел за рулем. При виде подошедшей Ирины он открыл перед нею переднюю дверцу. Не теряя времени, я разыскал свою машину и, сев рядом с шофером, надел наушники радио.
Мы дали «десятке» отъехать и последовали невдалеке за ней. Машина майора шла за нами. Скоро я услышал его голос:
- Куда вы несетесь, как угорелые? Сбавьте ход!
Едва мы выехали на центральную площадь, «десятка» захотела проверить, не преследуют ли ее, и несколько раз объехала вокруг фонтана, стоящего в центре площади.
- Следуйте прямо! - приказал Девятов. - Направление вдоль квадрата семь.
Минуту спустя голос одного из наших наблюдателей сообщил:
- Машина 78-10, прошла западной стороной восьмого квадрата и свернула к востоку.
- Карачаров! - крикнул Девятов. - Замедли ход! Пускай они пересекут тебе дорогу, тогда сверни за ними.
«Десятка» еще не раз меняла свой курс, кружа по городу, но всюду нам при помощи наших постепенно перемещавшихся наблюдателей удавалось не упускать ее из виду.
Обещание Арканова подвезти Ирину прямо к дому оказалось, как я и предполагал, обманом. Машина шла совершенно в противоположном направлении, миновала центральную часть города и неслась теперь на предельной скорости по окраинным улицам, застроенным стандартными домиками, во дворах которых сохранились кое-где столетние березы - остатки недавно красовавшегося здесь леса.
Голоса в наушниках замолкли. Наших наблюдателей Девятов частью отпустил, частью направил вперед, в объезд.
В этом районе города, где дома вытянулись только в две параллельно расположенные улицы, появление каждой лишней машины могло насторожить шофера «десятки». Он и так нервничал, виляя из одной улицы в другую, поочередно попадая под наблюдение то мое, то Девятова. Каждый раз, когда майор предупреждал меня, что «десятка» свернула в мою сторону, мы круто сворачивали к ближайшим воротам, прятались за палисадник или киоск и, выждав, когда из переулка вывернет знакомая машина, давали ей отойти на значительное расстояние, а потом опять следовали за ней с потушенными фарами.
До конца города оставалось всего три-четыре квартала.
«Что это они, уж не в Амелино ли едут?» - подумал я, как вдруг в наушниках загремел залп крепко просоленных выражений.
- На борону напоролись, так ее растак! - кричал Девятов. - Она была снегом замаскирована. Сами-то они знали, как проехать, а мы напрямик врюхались. Давай, Карачаров, гони за ними. Они сейчас опять к тебе вильнули. Когда заедут куда-нибудь, указывай место и давай сигнал всем, чтобы спешили к тебе на подмогу.
Едва мы успели свернуть за штабель бревен, наваленных у забора, как из переулка вылетела «десятка» и, свернув в улицу, остановилась. С минуту, показавшуюся мне часом, она стояла на месте. Видимо, шофер прислушивался, нет ли за ними погони. Потом машина рванулась вперед и, свернув, исчезла в воротах небольшого барака, двор которого выходил задами в занесенный снегом березняк. Ворота за ней тотчас же закрылись.
Я дал по радио условный сигнал, сообщил, куда заехала «десятка», и послал шофера на машине разыскивать майора, а сам осторожно подкрался к бараку. В окнах его было темно, и сколько я ни прислушивался - не смог уловить ни малейшего звука.
«Скорей бы подъезжал Девятов, - с нетерпением подумал я, - ведь там Ирина с этим зверем…».
Вдруг в доме раздались шаги, говор, шум, хлопнула дверь, и уже во дворе послышался крик… отчаянный женский крик. Я толкнул калитку. Она оказалась запертой. В один прием я перемахнул через невысокий забор и увидел Арканова, тащившего к дому сопротивлявшуюся Ирину, зажимая ей рот Увидев меня, он отшвырнул ее и сунул руку за пазуху. Ирина вскочила и стремглав бросилась в глубь двора. С крыльца за ней вдогонку кинулся долговязый шофер.
- Сто-ой! - крикнул я. - Стрелять буду! - И выпалил вверх.
Ирина упала в снег, шофер, круто свернув, спрятался за перевернутой кошевой. Тут раздался выстрел Арканова, и что-то тупо ударило меня в бок.
«Ранен! - подумал я. - Неужели сильно? А что будет с Ириной?». Затаив дыхание от острой боли, вдруг обжегшей меня, я прицелился в плечо Арканова и нажал спуск.
Бандит не успел выстрелить вторично: пистолет вывалился из его простреленной руки. Однако Арканов, зажав рукой рану, нагнулся, чтобы разыскать в снегу свое оружие, но я пнул его, свалил на землю и наставил на него свой «ТТ». Но, даже лежа под дулом пистолета, Арканов не хотел сдаваться.
- Сенька, стерва! - кричал он шоферу. - Стреляй в него, чертов сын, а то рассчитаюсь с тобой, как бог свят!
- Вста-ать! - приказал я шоферу, направляя на него пистолет. - Поднять руки!
Шум машины, подкатившей к воротам, живо образумил его. Весь в снегу, громадный и неуклюжий, он вылез из-за кошевы и вытянулся с поднятыми кверху руками, похожий на кривое дерево. Майор Девятов и оба наши шофера тем же путем, что и я, перепрыгнули через забор и, живо управившись с бандитами, увели их в дом. Туда же, немного погодя, пришли и мы с Ириной. Она быстро оправилась от испуга и теперь заботилась обо мне. С ее помощью я стянул полушубок и мокрые от крови гимнастерку и рубаху. Рана оказалась сквозной. Пуля, пробив навылет кожу и мышцы на боку, вероятно, задела ребра, потому что мне было больно дышать, и при каждом движении меня точно прижигало раскаленным железом.
Майор был недоволен и не скрывал этого.
- Не зря полковник говорил, что ты не дружишь с дисциплиной, - сказал он с заметным холодком в голосе, помогая Ирине перевязать мне рану. - Слишком ты тороплив, все хочешь сам, один сделать. Вот видишь - и нарвался на пулю. Нет, чтобы минутку обождать, пока мы подъедем. Ничего от этого не пострадало бы.
- Конечно, ничего не случилось бы, - возмущенно повторила его слова Ирина, - кроме того, что за это время меня успели бы убить. Арканов заподозрил, что это я выдала их. Я хотела убежать, но они оба погнались за мной, и бог знает, что случилось бы, если бы Карачаров не пришел на выручку.
- Почему ты не сказал мне об этом? - упрекнул меня майор.
- Ты меня не спрашивал. А потом не все ли равно, как было дело, раз мы с тобой в конце концов задержали преступников. Я очень вам троим обязан, что вовремя подоспели.
Я не сердился на майора за его замечания. Будь я на его месте, мне тоже было бы обидно попасть к шапочному разбору.
Один из шоферов стал перевязывать плечо Арканову, который все это время с невыразимой ненавистью смотрел на Ирину. Видимо, он проклинал себя, что доверился ей. Чтобы он не позволил себе какой-нибудь выпад против нее, я попросил Ирину уйти в другую комнату.
Когда с Арканова сняли пиджак и сорочку, то перед нами во всей красе открылся вытатуированный на его груди месяц с двумя фигурками, сидящими на одном из его рогов. Я вспомнил слова Бабкина о татуировке на груди Короля и сказал Девятову:
- Вот, познакомься: перед тобой «вор в законе» Литвинов-Иванов, по кличке Король, а это его клеймо.
- И почему я тебя не прикончил с первого раза, лягаш проклятый, - скрипнув зубами, проговорил сдавленным голосом Арканов. - Ну, походи еще маленько по земле, будет время - встретимся! Ирины я тебе не забуду.
- Нет, - ответил я, - не встретимся! В загробные встречи не верю. - Я сказал так не зря. Теперь для меня не было сомнений, что Арканов и есть Король, организатор ряда убийств и грабежей. Высшая мера наказания для него была обеспечена.
В чемодане, который привезла с вокзала Ирина, оказались аккуратно уложенные пачки советских денег. При виде их майор Девятов высоко поднял брови.
- Ого! - сказал он и отвел меня в сторону. - Укупорочка знакомая. Мне уже встречалось кое-что похожее. Очевидно, этим голубчиком займемся не только мы, ведь денежки-то эти присланы из-за рубежа.
Глава тридцать седьмая КАКОЕ ЭТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ
Приехал вызванный по радио наш ведомственный врач. Он перевязал как следует мою рану и успокоил меня, сказав, что и не такие ранения заживают благополучно, если в них не попадает инфекция и больной дисциплинирован и соблюдает все предписания врача.
Но как раз в тот момент, когда врач мне это говорил, я думал, что мне нужно каким-то образом ускользнуть от выполнения его предписаний. Он настаивал, чтобы я немедленно ехал в госпиталь, а меня это не устраивало, ведь в шесть часов утра я должен был давать лекарство Гале. Пришлось слегка приврать, что я обязан дождаться полковника, который скоро приедет. Я обещал после этого немедленно отправиться в госпиталь на своей машине. Врач, видя, что меня не переспоришь, посмотрел, как я улегся на постель Арканова, и уехал.
После благополучного выполнения операции я бы с удовольствием повидался здесь с полковником, хотя бы для того, чтобы намекнуть ему, что мы с Девятовым обошлись без «буксира». Но он меня мог задержать или, вернее, отправить немедленно в госпиталь, в то время как стрелка часов приближалась к половине шестого.
Мой шофер тоже поторапливал меня. Ему хотелось отдохнуть до работы часок-другой. Я сказал ему, что мы едем в госпиталь, но просил перед этим завезти на минутку домой.
- Долго придется дожидаться? - спросил он, но я его успокоил, что не задержусь. Однако, когда я увидел пунцовое, пылающее жаром лицо Гали, услышал ее хриплое дыхание и несвязные слова, срывающиеся с пересохших губ, я забыл про шофера и про госпиталь.
Татьяна Леонтьевна, просидевшая у постели Гали всю ночь, тоже была в панике:
- Я уже думала, если к шести часам не приедете, то Лильку за «скорой помощью» пошлю. Как бы не кончилась ваша Галя! Жар у нее ужасный. Ведь бывали случаи, что и у молодых сердце не выдерживало высокой температуры.
С трудом мы вдвоем с нею заставили Галю проглотить разболтанный в воде порошок. Вспомнив о шофере, я отправил его за врачом, объяснив, в чем дело, и попросив извиниться перед докторшей и ее мужем, которому, наверное, неприятно, что его жене не дают ни есть, ни спать спокойно.
- А если нам с вами ни днем, ни ночью нет покоя, так это ничего по-вашему? - спросил шофер. - Будьте уверены, я ее мигом доставлю.
Он выполнил свое обещание и вскоре привез невыспавшуюся и, может быть, от этого казавшуюся сердитой докторшу. В награду за это я отпустил его отдыхать, не подумав, как попаду теперь в госпиталь В этот момент мне было не до себя. Скорчившись и прижимая руку к болевшему боку, я сидел на табурете у закрытых дверей своей комнаты, с трепетом ожидая, какой приговор вынесет врач, осмотрев Галю.
- Двустороннее воспаление легких, - объявила докторша, выходя из комнаты. - Сейчас я дойду до аптеки, вызову по телефону нашу санитарную машину и свезу вашу жену в больницу.
- А нет опасности для жизни? - спросил я хрипло, чувствуя неимоверный страх, что эта маленькая женщина скажет что-то ужасное.
- Случай серьезный, скрывать от вас не буду, - озабоченно произнесла докторша, - но организм молодой, я думаю, справится.
Эти слова не только не обнадежили, но, наоборот, окончательно сразили меня. «Значит, есть угроза, что Галя умрет!».
Докторша между тем, энергично намыливая руки под умывальником, стыдила меня за то, что я простудил жену в такой холодной, неудобной квартире.
Не слушая ее, я направился к двери своей комнаты, чтобы сейчас же убедиться, что Галя жива, сказать ей, как я ее люблю, как я был ужасно виноват перед нею, но докторша остановила меня.
- Кстати, - сказала она с обидой, - я должна вам заметить, что вы могли меня вызвать к больной, не прибегая к таким нелепым выдумкам, которые нагородил мне ваш не в меру болтливый шофер. Я и так никогда не отказываюсь посещать больных в любое время, особенно в таких тяжелых случаях.
- Что такое он вам наговорил? - испугался я.
- Он заявил, что вас подстрелили бандиты и вы сами, чуть ли не умирая, просите меня скорее приехать к вашей больной жене, с которой тоже очень плохо.
- Он не соврал, а только преувеличил, - сказал я, отнимая измазанную кровью ладонь от своего бока, где на гимнастерке расплылось мокрое темное пятно.
- Так что же вы разгуливаете? - напустилась на меня докторша. - Давайте я вас сейчас же перевяжу, а как только придет машина за вашей женой, то отвезу и вас в госпиталь.
Она даже не разрешила мне зайти еще раз к Гале и, поправив сбившийся бинт, уложила на кровать Татьяны Леонтьевны не только с разрешения, но даже по настоянию этой милой старухи. (Вот уж не подумал бы я сутки назад, что моя строгая и сверхпринципиальная хозяйка когда-нибудь окажется милой и симпатичной).
Машина за нами пришла не скоро. Я успел крепко заснуть. А когда меня разбудили, Галю уже унесли на носилках, закутанную во все теплое, что только у меня нашлось, кроме полушубка, который я, скрежеща зубами от боли, с трудом надел на себя.
Сперва заехали в городскую больницу и сдали там Галю. Проститься с ней мне не удалось, так как я не рискнул открывать на морозе ее лицо. Затем повезли в госпиталь и меня, чему я был рад, потому что чувствовал себя неважно. На пороге госпиталя, верней, на его крыльце, произошла неожиданная сцена.
Полковник Егоров, узнав от Девятова, что я ранен, как говорится, при выполнении служебного долга, поехал в госпиталь, чтобы навестить меня, но, к своему возмущению, не застал меня там. Распушив по телефону нашего ведомственного врача за то, что тот не присмотрел, чтобы я попал на больничную койку, он выходил из дверей в тот самый момент, когда я осторожно поднимался по ступенькам ему навстречу.
- Где вы бродите, капитан, вместо того чтобы находиться в госпитале? - строго спросил он, не ответив на мое приветствие.
- Никак нет, товарищ полковник, - возразил я, - я вовсе не брожу, а нахожусь под строгим врачебным надзором. - При этом я кивнул на докторшу, смотревшую мне вслед из приоткрытой двери кабины. Однако она, приняв мои слова за шутку, заявила тоже полушутя:
- Я бы на вашем месте, товарищ полковник, посадила капитана Карачарова под арест. Это же невозможно с такой раной разгуливать по городу столько времени.
- Я вижу, вы неисправимы, - сурово промолвил Егоров, глядя на меня через плечо. - Идите, я вас не задерживаю.
- Простите, товарищ полковник, - сказала решительно докторша, поняв, что тут шуткой и не пахнет. - Я должна внести ясность в это положение, У капитана были серьезные основания побывать дома: у него очень тяжело больна жена.
- Жена? (Тут все морщинки на лбу полковника взметнулись кверху). - Первый раз слышу, что он женат. - С этими словами полковник повернулся ко мне.
Но я не особенно стремился принять участие в их разговоре, тем более, что услужливый шофер уже распахнул передо мной дверь госпиталя.
В госпитале меня уложили в постель, запретили подниматься, резко двигаться и, главное, выходить из палаты, так что я не мог добраться до телефона, позвонить в больницу и узнать о здоровье Гали.
Няни и фельдшерицы, которых я упрашивал навести по телефону справки, выполняли мою просьбу, но всегда неизменно сообщали, что состояние больной Чекановой удовлетворительное. Однако я не верил им. Ведь в больницах всегда избегают волновать температурящих больных. А у меня в эти дни держался порядочный жарок.
Несколько раз я собирался попросить няню Сашу, приносившую мне чуть не каждый день что-нибудь вкусное, зайти в больницу навестить Галю, но язык не поворачивался, хотя Татьяна Леонтьевна, наверное, доложила ей о больной девушке, которую я привозил. Но няня об этом молчала, молчал и я.
Дважды в открытую дверь я видел, как по коридору проходила Ирина в белом халате. Я думал, что она зайдет ко мне, но ошибся.
В одной из передач, которую мне принесла няня Саша, я нашел письмо от Ирины. В нем было:
«Сегодня я проснулась с мыслью, что совершенно свободна. Ничто мне не грозит, ничто не лежит тяжелым бременем на моей душе. Такое ощущение совершенно непривычно для меня. Я чувствую, что, наконец, и я, как и все окружающие, имею право на свою долю в протекающей до сих пор мимо меня умной, честной и увлекательной жизни. И этим я обязана главным образом Вам. Мне горько и стыдно, что в благодарность за все, что Вы для меня сделали, я принесла Вам только обиды и разочарование.
Помните, Вы отвергли когда-то мой поцелуй. Примите его теперь без злобы, гордости и боязни, что он служит платой, подарком или подачкой.
То, чем я могла бы хоть отчасти отблагодарить Вас, то есть мое глубокое уважение к Вам и Вашей любимой профессии и моя искренняя дружба, останутся в моем сердце навсегда, но теперь я знаю, они Вам уже не нужны. Лучшее, что я могу сделать и для Вас и для себя, - это как можно скорее уехать из Каменска и никогда, никогда не встречаться с Вами.
Прощайте и будьте счастливы!
И р и н а».Это письмо подняло целую бурю в моей душе. В нем было что-то печальное, недоговоренное. Я понял, о чем Ирина хотела сказать своим намеком, но… уже не нашлось в моей душе ответа на ее слова. Чувство, несравненно более сильное, чем то, которое я испытывал когда-либо к ней, заслонило от меня ее образ. Теперь я думал: «Любил ли я Ирину, которой ведь почти не знал, или любил в ней свой надуманный идеал девушки, женщины, жены, друга, который наделил в своих мечтах ее наружностью?». Но в одном я был уверен: если бы Ирина в тот первый мой приезд в Каменск не оскорбила меня, то жизнь моя, возможно, потекла бы вовсе по другому руслу. Но сейчас… Взяв у соседа по койке спички, я смял в комок и поджег тонкий листок письма. Он вспыхнул, объятый пламенем, обжигая мне пальцы, почернел, легкий дымок поднялся от него к потолку и растаял.
Долго еще лежал я, закрыв глаза, и думал, но в этих думах уже не было места Ирине. Я думал о моей любви к Гале. В ней не было того преклонения, как в моем чувстве к Ирине, это было земное, горячее и в то же время нежное чувство, которое нисколько не оскорбила бы такая мысль, что когда-нибудь я увижу Галю, стирающей пеленки нашего сынишки.
Прошло несколько дней, пока, наконец, я узнал правду о состоянии здоровья Гали. Сказал мне ее человек, которому я привык доверять во всем - полковник Егоров. Сменив гнев на милость, он пришел навестить меня с традиционным в таких случаях кульком яблок. Оказывается, прежде чем прийти ко мне, он справился в больнице о здоровье Гали, которую с легкой руки востроносенькой докторши считал моей женой.
- Скрывать от тебя не буду, ты человек взрослый, - сказал полковник. - Врачи находят, что положение серьезное, но организм молодой, крепкий - должен вынести.
- Это они сами говорят, что должен вынести? - допытывался я. - Или это вы так предполагаете?
- Врачи, врачи! - успокоил меня полковник. - Мне сам главврач так сказал, а уж он, да еще нашему брату, врать не будет. Однако немудрено, что твоя жена так простудилась: не бережешь ты ее. Эта докторша, которая тебя сюда привезла, сказала, что живете вы в нечеловеческих условиях - комната холодная, из всех щелей дует, вместо мебели - ящики. Мог бы, кажется, сказать мне, как-нибудь уж помогли бы. Тем более семью завел. Но сейчас, кстати, в нашем доме на днях освободится небольшая квартирка, можно будет о тебе подумать. Так что за одно придется вспрыскивать и новую квартиру, и новую должность.
Я молчал. Сказать, что у меня нет жены - значило поставить Галю в ложное положение, а спросить, какую должность он мне пророчит, мешала гордость. В душе я все еще переживал горечь понесенного наказания, хотя и знал, что со мной могли поступить и более круто. Чтобы перевести разговор на другую тему, я спросил, что нового узнали об Арканове.
- Предположение Девятова о связи с заграницей, видимо, подтвердилось. Теперь на очной ставке с Бабкиным и другими он волей-неволей заговорит. Не любят уголовники этих продажных шкур. Вот, кажется, в ином ничего человеческого не осталось, а все же где-то в глубине теплится чувство к Родине.
Полковник ушел, сказав, чтобы я долго не залеживался, тем более, что меня ждет чертовски интересное и трудное дело; и я остался один со своими мыслями, однако они стали еще темней. Если раньше я только предполагал, что жизнь Гали в опасности, то теперь это стало действительностью.
На миг я представил себе Галю, бледную, холодную, с потемневшими веками, которые уже никогда не откроются, и невольно громко застонал, как от боли, а глаза (видно, нервы у меня ослабли в этом проклятом госпитале) сразу наполнились слезами. Пришлось прикрыться одеялом, чтобы незаметно вытереть их.
- Что с вами, больной? - вдруг услышал я голос дежурного врача, случайно оказавшегося неподалеку.
- Доктор! - взмолился я, увидев над собой его симпатичное озабоченное лицо. - У меня к вам огромная просьба! Умоляю вас, позвоните сами в горбольницу, спросите, как чувствует себя больная Чеканова из шестнадцатой палаты.
Врач строго велел мне лежать спокойно, посмотрел на температурный лист и ушел. Вернувшись, он, как и все другие, попытался уверить меня, что состояние больной в общем не так уж опасно, но я не сомневался, что это очередная ложь. Об этом говорили его смущенный вид и бегающие глаза. Да и можно ли было от кого-либо из наших врачей требовать иного? Всех их, как в ежовых рукавицах, держала наш главврач, доктор медицины Старовская, сухая, как щепа, и по наружности и по характеру особа, необычайно похожая лицом на рассерженного попугая. Она не очень-то была вежлива и с подчиненными ей врачами и с нами - больными. Мне уже через полчаса после моего появления в госпитале она успела сделать несколько замечаний и, между прочим, спросила, где я шлялся, вместо того, чтобы немедленно явиться после первой перевязки в госпиталь. Она так и сказала «шлялся», более подходящего выражения у нее не нашлось.
Дисциплину в госпитале доктор Старовская завела строжайшую. Нечего было и думать пройтись по палатам, собраться поболтать в укромном уголке. Прием посетителей был ограничен минутами, а прогуливаться ходячим больным разрешалось только по дорожкам госпитального сада. Но меня не остановил бы забор, окружавший этот жалкий садик. «Пусть только на воздух выпустят, а я, хоть через забор, да удеру к Гале», - думал я.
Однако до таких крайностей не дошло. И как только я получил разрешение на получасовую прогулку и вышел из дверей госпиталя, то начал сразу изучать обстановку, и вскоре, пристроившись за кузовом выезжавшей из ворот трехтонки, благополучно выскользнул на улицу не замеченный вахтером.
Мне в жизни редко везет в тех случаях, когда я чего-нибудь очень добиваюсь. Это мне живо припомнилось, когда в вестибюле больницы мне объявили, что я опоздал: час свидания с больными уже прошел. Но я решил не уходить, пока не увижу Галю. Все, кто только ни появлялся в вестибюле - няни, сестры, фельдшерицы, доктора, - по очереди отказывали мне в этом. Я просил разрешения поговорить с главным врачом, но он отлучился куда-то. Минуты бежали, стрелка часов давно перевалила за тот час, когда я должен был уже находиться у себя в палате. Назревала реальная угроза крупного разговора со Старовской. И вдруг - о ужас! Я увидел Старовскую. Ни с кем другим невозможно было спутать ее, несущуюся по коридору, в белом халате с развевающимися полами, стремительно, как корабль на всех парусах. Я слышал, что она здесь консультирует, но никак не ожидал, что наткнусь на нее.
Может, она и не узнала бы меня, но я сам ее остановил.
- Каким образом вы здесь? - налетела она на меня, точно собираясь клюнуть в лоб своим острым крючковатым носом. - Кто вам разрешил выйти из госпиталя? Немедленно возвращайтесь обратно. Мы еще с вами поговорим.
- Елена Петровна! - сказал я умоляюще, каким-то чудом вспомнив ее имя и отчество. - Выслушайте меня, как человек человека. У меня здесь лежит жена. Я знаю, что она в тяжелом состоянии, а мне врут, будто с ней все в порядке. Помогите мне увидеть ее и узнать правду, а потом делайте со мной что хотите. Ведь случалось же и вам когда-нибудь беспокоиться за жизнь любимого человека.
Улыбка скользнула по тонким бесцветным губам доктора.
- Неужели вы думаете, что я всегда была такой сушеной воблой, - сказала она с подавленным смешком. - А за жизнь людей, милый мой, не только любимых, но и совсем незнакомых, мне приходится беспокоиться многие годы и притом каждый день и час. Как зовут вашу жену?
- Галина Чеканова. Она лежит в шестнадцатой палате.
- Припоминаю! Двустороннее крупозное воспаление легких, упадок сердечной деятельности.
Озабоченное выражение ее лица сказало мне больше, чем эти не вполне понятные, но грозные слова. Страх за Галю с новой силой сжал мне сердце.
- Не тревожьтесь особенно, - сказала Старовская. - Могу вас порадовать, кризис миновал благополучно, но она еще слаба. Должна сказать, очень помог благополучному повороту болезни прекрасный уход. Ведь за ней почти неотлучно весь тяжелый период ходила, как за родной сестрой, одна студентка-медичка. Вы ее знаете, наверное, Ирина Роева.
Превозмогая судорогу, сжавшую горло, я молчал, низко опустив голову, чтобы доктор не видела в эту минуту моих глаз. Не хотел я, чтобы она знала, что я испытывал в этот момент.
- Идемте, - решила вдруг Старовская. - Раз уж вы пришли, то я устрою, чтобы вы увиделись с нею. Но только на одну минуту, не более! - И опять, точно корабль под парусами, она понеслась по коридору, увлекая меня за собой, как на буксире.
Вот мелькнула передо мной дверная табличка с цифрой шестнадцать. Затаив дыхание, на цыпочках переступил я порог вслед за Старовской и прямо перед собой увидел на ближайшей койке остриженную под кружок головку, совершенно равнодушно смотревшую на меня до боли знакомыми черными запавшими глазами. И вдруг эти глаза ожили, засияли радостью, и Галя обеими руками, как ребенок к матери, потянулась ко мне.
Я присел на корточки у ее кровати не в силах промолвить ни слова, а она, водя кончиками горячих пальцев по моей щеке, шептала:
- Вот ты и пришел. Я ждала тебя… очень ждала… Боялась, что ты так и не узнаешь… Ведь это все неправда, что я тебе говорила. Я, как и прежде… даже, может быть, сильнее, чем прежде…
- Я это знал, - шептал я в ответ. - Я был уверен, что ты не могла забыть. Если бы ты только знала, как я…
- Ну, милый мой, - тронула меня за плечо Старовская, - хорошенького понемножку. Больной вредно много говорить.
Я поднялся, все еще не отрывая глаз от Галиного лица.
- Кстати, - улыбнулась докторша, - вы, кажется, меня обманули, что это ваша жена. Больная Чеканова говорила, что она не замужем.
- Какое это может иметь значение, - сказал я, нагибаясь к Гале, - когда у нас уже все решено…



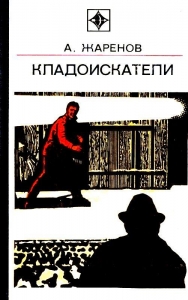


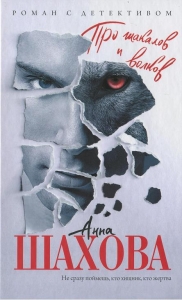

Комментарии к книге «Не дрогнет рука.», Николай Валерианович Волков
Всего 0 комментариев