Глава 1
Для других, для всех, кто был здесь, кроме Малыша Луи, ни на небе, ни на земле не происходило ничего исключительного: просто наступал тот лучезарный час, какие бывают вечерами в Лаванду, когда с похолодавшего неба вдруг спускается покой, затихают звуки и все замирает. Это было как довольно живописный сувенир, который хранят среди почтовых открыток и поделок из ракушек, не больше.
В конце улицы, ведущей вниз, к порту, тенистая площадь еще хранила украшения, оставшиеся от праздника 14 июля. Великолепные пальмы торжественно зеленели в лучах заходящего солнца, а знамена свешивались, словно нарисованные на декоративном заднике сцены.
Никто не подозревал, что этот час, когда пурпур охватил уже половину неба, когда синева отливала изумрудом и отблески солнца становились все шире на водной глади бухты, когда звуки возникали внезапно и столь же неожиданно замирали, как бы устыдившись, что пришлись некстати, — никто и не подозревал, что этот обыденный час, который, казалось, принадлежал всем, на самом деле был часом Малыша Луи и что все остальные вокруг него были только статистами.
На пляже, возле казино и вышки для прыжков в воду, лежали на песке запоздалые купальщики, а матери, с полуобнаженными молочного цвета грудями и ляжками в синих прожилках, неторопливо возвращались домой, волоча за собой ребятишек в красных и зеленых купальниках.
Иногда по улице спускалась машина, слышалось резкое хлопанье дверцы, потом белые фигуры присоединялись к другим таким же белым фигурам, сгруппировавшимся вокруг столиков Центрального кафе.
Глаза Малыша Луи смеялись — только глаза, как это бывает в счастливые минуты, когда ты дерзаешь и уверен в успехе. Его глаза смеялись, посматривая на часы у почты (стрелки показывали без двух минут семь), смеялись, когда он окинул взглядом фасад отеля «Провансаль», задержавшись на окне второго этажа. Десятка два любопытных окружили Малыша Луи. Останавливались, чтобы посмотреть на его игру, прохожие: женщины, возвращавшиеся с пляжа в цветастых купальниках, с корзинками для рукоделия в руках, загорелые элегантные мужчины, местные рыбаки в мятой одежде с приспущенными на бедра штанами. Всех восхищала его ловкость.
Это началось четыре дня назад, когда Малыш Луи впервые вошел в Центральное кафе. На нем был тот же, что и сегодня, светло-серый костюм, те же изящные с отделкой из змеиной кожи туфли, он был гладко выбрит, припудрен и ощущал особую легкость, свойственную людям, которые могут наконец в воскресное утро одеться во все чистое. Как и у них, движения его были манерны: он ступал, избегая камней, и ловил свое отражение в зеркальных витринах.
В кафе набралось разного люду — рыбаки, иностранцы. Ни на кого не обращая внимания. Малыш Луи опускал франк за франком в щель игрального автомата, внимательно следя за ним, и наклонялся в тот самый момент, когда выпадал выигрыш. Деньги выскакивали с таким шумом, что на подносе подпрыгивали разменные жетоны.
— Ну вот!
Он воспринимал свое везение как должное. Немного погодя подошел к местным жителям, которые бросали шары неподалеку от разложенных на просушку сетей.
Игроки громко переговаривались, чтобы привлечь внимание иностранцев.
Малыш Луи бросил на ходу одному из игроков:
— Дай-ка мне на минутку твои шары, дружок!
Он поставил один шар в двадцати пяти метрах, прицелился, сделал три прыжка, ударил и попал в шар противника с таким треском, что все игроки обернулись.
Глаза Малыша Луи смеялись. Приключение начиналось. И начиналось так, как он задумал. Полчаса спустя он уже играл партию с другими, окруженный толпой любопытных, которых все прибывало.
— Ты из Марселя? — спросил его кто-то из рыбаков.
— Да, из тех мест.
Мальчишки и парни постарше с завистью поглядывали на его белую фланелевую фуражку, узконосые туфли, кольцо на левой руке. Курортники указывали на него друг другу глазами, а жены их задерживались, чтобы посмотреть, как он играет.
— Кто тут у вас самый сильный игрок? — спросил он на второй день.
Он вызвал его и обыграл. Потом взялся за почтового чиновника Боша и выиграл у того пятьдесят франков.
— В понедельник я отыграюсь на шоссе перед почтой.
— Идет, — ответил Малыш Луи, — только не раньше семи.
Без двух минут семь… Семь без минуты… Чтобы набить руку, Малыш Луи поставил на аперитив с механиком из гаража и поваром отеля «Провансаль». Его партнеры не задумались, почему он, вместо того чтобы воспользоваться тенистым местом на площади, уговорил их перенести игру на дорогу, к самому перекрестку, где им мешали беспрерывно проезжавшие машины.
Одна остановилась неподалеку от них, рядом с витриной курортных товаров, где красовались купальные костюмы, надувные резиновые мячи, круги для плавания и другие предметы.
— А вот и почтарь?
Бош, скинув на ходу пиджак, подбрасывал шары с видом человека, серьезно оценивающего событие, которое сейчас должно произойти.
— Опять ставите сто франков против десяти? — спросил он.
— Сто против десяти!
И глаза Малыша Луи заискрились еще лукавее, тогда как болельщики сообщали друг другу ставку, а наверху какая-то фигура исчезла из окна.
— Вам начинать. Кидайте шары!
Со ступенек отеля «Провансаль» следили за игрой рассыльный, швейцар и администратор. Дверь отеля открылась. Малыш Луи делал вид, что ни на кого не обращает внимания, а между тем заметил, как подошла женщина и, зачарованная, остановилась близко от него.
Словно желая отблагодарить ее за проявленный интерес, он широко размахнулся и сбил шар с двадцати метров. Потом взглянул на нее, словно говоря: «Ну что, довольны?»
Видит бог, сейчас ему нужно сосредоточиться на другом, каждая минута заполнена до предела. Малыш Луи замечал все: большую машину у края тротуара, вторую, стоявшую справа от дороги, дух мужчин, покуривавших сигареты в толпе болельщиков, особенно стрелки часов и багровое лицо почтового чиновника, который не переставая чертыхался: не оттого, что партнер оказался так ловок, а потому, что мешали камни на дороге.
— Три — ноль! Даю вам фору еще на десять ударов, господин Бош.
Женщина была слишком уж восторженна, прямо-таки приторна. Ее назойливо блаженная улыбка сбивала Луи, но он не мог удержаться и после каждого удара смотрел на нее, ожидая одобрения.
Он знал о ней лишь то, что она живет в «Провансале» — лучшем отеле города, проводит все дни в одиночестве, ходит полуобнаженная, с солнечными ожогами на рыхлых, жирных плечах. Накануне он крикнул ей, смеясь:
— Посторонитесь немного, мамаша!
Но, увидев ее огорчение, тут же наградил ослепительной улыбкой.
Женщине было под пятьдесят, а может быть, и больше, но это не мешало ей выказывать влюбленность. Она мигом появлялась невесть откуда, как только Малыш Луи брал в руки шары. Рядом с ним она замирала, покоренная до такой степени, что ее приходилось отталкивать, чтобы она не попала под машину.
— Дайте-ка я забью еще!
Три неподражаемых прыжка… Железный шар описал длинную параболу и с размаху ударился о тар противника.
Почта находилась в небольшом здании с двумя дверями, выходившими на обе улицы. Окна были зарешечены, на розовой стене зеленел почтовый ящик.
Из здания почты вышла старшая из двух помощниц заведующего, ездившая недавно в Париж навестить мать: старушка жила в семейном пансионе. Значит, ее сменила теперь косоглазенькая, та, за которой Малыш Луи приударил накануне.
— Знай я, что вы профессионал… — ворчал почтарь, с безнадежным видом ставя шары.
Все шло как по маслу, и забавно было видеть азарт и отчаяние простака, в то время как за спинами зрителей двое мужчин вошли в здание почты.
Малыш Луи все-таки отвлекся на минутку, закурил для бодрости сигарету и с наигранным безразличием пошел взглянуть на позицию.
— Тут можно выиграть, — сказал он, но промазал и нахмурился, так как его почитательница сочла необходимым принять огорченный вид.
— Отыграюсь на втором.
Он снова промахнулся, и Бош, торжествуя, вытер пот с лица и, посмеиваясь, подошел к нему с шарами в руках:
— Раз уж вы смазали черными…
Поглядывая на почту. Малыш Луи одновременно окидывал взглядом и темные деревья на площади, и флаги, развешанные по случаю 14 июня, и заходящее солнце.
Стрелки показывали восемь минут восьмого. Он еще раз дал маху и грубо оттолкнул парнишку, который осмелился над ним потешаться.
— Мой черед! — крикнул Бош.
Но это уже не имело значения. Малыш Луи все понял, услышав шум мотора. Болельщики расступились, чтобы пропустить машину, потом другую, и снова окружили играющих. Шар Боша только что остановился меньше чем в трех сантиметрах от цели.
Теперь Малышу Луи не терпелось что-нибудь сказать или сделать. Он поискал глазами свою поклонницу.
— Ставлю на аперитив, что попаду с первого раза, — промолвил он, бросая на нее ласкающий взгляд.
Слишком взволнованная, чтобы говорить, она кивнула.
— Вы не возьмете больше ни одного очка, господин Беш, — крикнул он, принимая позу стрелка.
— Это еще посмотрим!
— Смотрите!
Звук удара одного железного шара о другой был первым ответом.
— Сколько у вас очков?
— Три.
— Если наберете еще одно, только одно-единственное, я сдам вам партию. Сдам, слышите!
Сейчас он мог это себе позволить. Он был уверен в себе. Шары повиновались, и он даже не прицеливался перед тем, как сделать свои три прыжка.
— Тринадцать… Четырнадцать… Вот и…
— Ну уж этот-то мимо!
— Погодите, еще не остановился… Ну? Что я вам говорил?
Как только был брошен последний шар, люди стали расходиться, словно со стадиона, и каждый становился самим собой, каждый возвращался к собственной жизни.
— Пойду за деньгами, — сказал Бош.
— Не горит. Можно и потом.
— Ну нет! Уж коли проиграл…
Наконец наблюдавшие за игрой женщины вошли в лавку, другие уселись на террасе.
Возле Малыша Луи оставалась только его воздыхательница, чья пышная грудь колыхалась под завязанной узлом цветастой косынкой.
— Ну как? — спросил он.
— Я проиграла вам аперитив.
— Пошли!
Ей все еще не верилось, что это правда: она идет рядом с ним, на террасе с неожиданной галантностью он придвигает ей стул…
— Садитесь! Почтарь не заставит себя долго ждать. — Это было сильнее его. Это и вправду было внутренней потребностью, и он, не удержавшись, добавил:
— Представляю, как у него вытянется рожа!
— Отчего?
К ним подошел официант.
— Газированную с мятным ликером! — заказал Малыш Луи. — А для вас, мадам?
— То же самое. Мне все равно. Так что вы сказали?
— Да ничего. Давно вы живете в Лаванду?
— Нет. Только неделю. И уже скучаю. Мне здесь не нравится.
Она протянула ему портсигар, потом красивую золотую зажигалку, а он не утерпел и, словно взвешивая, задержал ее на секунду в руке.
— Да, сюда ездят семьями, — заметил он, оборачиваясь и указывая на стол, за которым сидел бородач, окруженный четырьмя детьми.
— Здесь полно продавщиц, — сказала она.
Он коснулся ее руки:
— Смотрите!
— На что смотреть?
Почты отсюда не было видно, но она разглядела Боша, который, жестикулируя, направлялся туда в сопровождении полицейского. Значит, он уже сбегал за ним на площадь.
— Что там произошло?
Он бесцеремонно прижал тонкой подошвой башмака ногу своей дамы. Он мог сейчас позволить себе все.
Несколько человек вскочили с мест и бросились в сторону почты, еще не зная точно, что случилось.
— Вы что-нибудь натворили? — прошептала она.
В ответ он только подмигнул.
— Вам не опасно оставаться здесь?
Он оглянулся вокруг и сказал, облизывая губы:
— Ничто не помешает мне здесь остаться, если вы пригласите меня пообедать.
— Вы прекрасно знаете, что я с радостью… Но все-таки, что там произошло?
— Пройдемся немного. Не возражаете?
Они пересекали площадь. Луи сунул руки в карманы, зажал в зубах сигарету.
— Вы что-то натворили, да?
— Да бросьте вы! Все видели, как я играл в шары. Не мог же я одновременно играть с почтарем и очищать его кассу.
— Значит, почту огра…
Еще немного, и она стала бы его журить: «Господи!
Какой вы неосторожный!»
А он наслаждался тишиной, небом, затянутым зеленоватой дымкой, потом остановил взор на красном купальнике, который казался на опустелом пляже последним отблеском солнечного дня.
— Вы у них главарем? — спросила спутница.
— Пока еще нет.
— Это сделали ваши друзья?
— Да, мои дружки… А не лучше ли нам сесть где-нибудь за столик?
— Где бы вы хотели пообедать?
— Если вам удобно, можно у вас в отеле. Или вернемся в кафе.
На площади поднимался шум. Возле почты собрались зеваки, и, когда обед подходил к концу, в Лаванду прибыли полицейские из Йера и заперлись на почте.
Малышу Луи стало явно не по себе. Он ничего не пил, скулы у него покраснели, и пальцы вздрагивали.
— Расскажите же мне, — умоляла его спутница.
А он хорохорился:
— Сперва назовите свое имя.
— Констанс д'Орваль. Вдова.
— Я так и думал.
— Почему?
— Да так. Живете в Париже?
— Нет, в Ницце. Сюда приехала от скуки, обстановку переменить.
— Вы живете в отеле?
— Не понимаю.
— Вы и в Ницце живете в отеле?
— В меблированных комнатах, пока не прибудет мебель, которую я выписала из своего поместья.
— А у вас есть поместье?
— Да, на Луаре. Но одинокой женщине жить там скучно.
Она изнемогала от нежности, любви и покорности.
Она просто таяла. Глаза у нее стали влажными:
— Ну, скажите же мне, что вы натворили.
— Да почти ничего. Одно дельце, которое должно принести мне сотни две кусков.
— Как-как?
— В Лаванду нет банка. А тут как раз четырнадцатое июля. Хозяева ресторанов и торговцы за день огребли монету, а деньги им нужно куда-то сдавать. Вот они и относят на почту.
Все приводило ее в восхищение.
— Поезд отходит в семь тридцать две. Почту закрывают в семь. А к семи все письма, бандероли и деньги уже упакованы в мешки и запечатаны. На почте остается только старый Макань, зимний почтальон, который ждет, чтобы свезти это в своей тарахтелке на вокзал.
— И его убили? — пролепетала она.
— Что вы! Просто кляп в рот, а на руки и ноги веревочку.
— Потому вы и играли тут в шары?
— То-то и оно.
— И это вы придумали такой план?
Он скромно улыбнулся в ответ.
Из казино донеслась музыка. Констанс вздохнула:
— А вы не боитесь, что вас могут заподозрить?
— Ну и что с того?
— А если вас арестуют?
Он сидел все с тем же развязным видом, вертел в руках ее золотую зажигалку и машинально чуть не сунул ее в карман.
— Когда вы встретитесь со своими друзьями?
— Когда дадут знать.
— Как! Разве они еще здесь?
— Да что вы! В эту минуту двое или трое поди уже в Марселе, а остальные дуют в Канн или в Ниццу.
— А что, машины у них тоже краденые?
— Сразу видно, вы читаете отдел происшествий!
— Они такие же.., такие же молодые, как вы?
— Титену… Я хочу сказать, одному из них тридцать пять.
— А вам?
— Двадцать четыре.
— Не женаты?
На столике горела маленькая лампа в форме свечи под крошечным абажуром из розового шелка. Люди на террасе обсуждали происшествие на почте, но Малыш Луи не прислушивался к разговорам.
Часов в одиннадцать он сказал:
— А не пойти ли поспать?
Она вздрогнула и невольно огляделась, чтобы удостовериться, что его никто не слышал.
— Куда? — прошептала она.
— Ну.., к вам в отель…
— Но ведь увидят…
— А вас это пугает? Тогда идите одна. Скажите только, какой номер.
— Семнадцатый.
— Ждите меня через четверть часа.
Он встал и прошелся под деревьями, пока она платила по счету. Затем она прошла мимо, подмигнула ему: подойти близко она не решилась — ей слишком хотелось выказать свою нежность.
На тротуаре возле почты осталось с полдюжины любопытных, не больше. Все окна были освещены, а у входа дежурил полицейский.
Малыш Луи зашел в Центральное кафе и, направляясь к стойке, бросил на ходу:
— Газированную с мятой!
И тут же добавил:
— Да неужто почтарь затеял всю эту возню, чтобы не заплатить мне мои десять франков?
Шутка не имела успеха, и он пожал плечами:
— Вот будет пожива для газет — гангстеры из Лаванду!
Луи с вызывающим видом оглядел стоявших вокруг, прекрасно понимая, что ни один не рискнет даже пошевелиться, щелчком поправил на голове фуражку и бросил на прилавок пять франков.
Несколько минут спустя он не спеша вошел в холл отеля «Провансаль». Администратор, занятый какими-то подсчетами, поднял голову. Швейцар тоже.
Луи остановился, закурил сигарету и бросил:
— Мне к госпоже Орваль, в семнадцатый. Она меня ждет. — Он уже занес ногу на первую ступеньку, но передумал и снова подошел к конторке:
— В восемь утра принесите мне черный кофе с рогаликами.
Глава 2
С видом человека, который собирается поразить собеседника, Баттйсти произнес:
— А ты знаешь, что старый Макань в больнице? Если он загнется, это может подпортить заведенное на тебя дело.
Малыш Луи, в чьих глазах все еще сверкали лукавые искорки, отмахнулся:
— Бросьте трепаться!
Это тянулось, как деревенские праздники, которым нет конца. Утром просыпаешься с тяжелой головой, но, еще не открыв глаза, вспоминаешь, что праздник не кончился, что можно поваляться в постели, пока деревянные лошадки поджидают малышей у выхода из церкви после службы.
Полиция появилась в гостинице как раз в ту минуту, когда Малыш Луи раскуривал первую сигарету и завязывал перед зеркалом галстук.
— Вас просят спуститься вниз.
— Скажите, что сейчас приду. — И крикнул Констанс, все еще лежащей в постели с подносом от завтрака на животе:
— Одевайтесь поживее!
— Опять «вы»!
— Ладно, ладно — одевайся.
Она умоляла его обращаться к ней на «ты», но это было ему невмоготу, и он все время сбивался.
— Ты уверен, что тебя отпустят?
Малыш Луи перешел улицу с домами, окрашенными светлой краской, похожими на базарные игрушки, и оказался лицом к лицу с Баттйсти из оперативной бригады, которого знал еще по Марселю. Баттйсти, ясное дело, захотел наложить на него лапу из-за старого Маканя, но Малыш Луи, попыхивая сигаретой, ухмыльнулся:
— Бросьте трепаться!
— А скажи-ка мне, Луи, где это ты ночуешь целых пять дней, с тех пор как приехал в Лаванду? Ведь ты не зарегистрирован ни в одном отеле.
— А если каждую ночь, как нынешнюю? — посмеивался парень.
И, делая вид, что снова зажигает сигарету, которая и так не потухла, он повертел в руках золотую зажигалку.
Баттйсти, видимо, заметил это, но ничего не сказал.
— Давно ты не видел своих марсельских дружков?
Дай-ка мне бумажник.
Там оказались банковский билет в пятьдесят франков, проездной билет на автобус Йер — Тулон, фотография голой женщины и прядь темных волос.
— И это все, что у тебя осталось?
— Все.
— Что же ты будешь делать?
— Да нашел работенку.
— Со старухой?
— Я ее личный секретарь.
На тротуарчике вертелись несколько человек, надеясь присутствовать при аресте. Они и не предполагали, что там, в комнате, двое мужчин разговаривают весело, почти сердечно.
— Я должен сообщить тебе приятную новость, — сказал наконец полицейский. — До сих пор насчет тебя нет никакого шума… А за что ты привлекался в первый раз?
— Оскорбление полицейского словом и действием.
— А во второй?
— Сцапали во время мордобоя в баре «Модерн» и нашли в кармане пушку.
— Так вот тебе дружеский совет: не попадайся в третий раз. Чует мое сердце, тут уж гладко не обойдется…
Ты слишком зарвался. Слишком бахвалишься.
Малыш Луи вежливо приложил руку к кепке, которой не снимал, и, выйдя, постоял секунду на пороге, чтобы посмотреть на бездельников и посмеяться над ними.
Полчаса спустя Луи уже сидел в автобусе рядом с Констанс. Это он, решив уехать, предложил:
— А не вернуться ли в Ниццу?
Потом спросил, глядя в сторону:
— У вас нет машины?
— Была. Но приходилось держать шофера…
Ладно! Учтем и запишем. Про машину можно будет и после. А пока надо ехать в автобусе вместе с кучей иностранцев, которые пялят глаза в окна и восторгаются по любому поводу.
Было жарко. В воздухе пахло эвкалиптами и пылью.
Укачиваемая машиной, Констанс мечтательно улыбалась, словно видела прекрасные сны, но вдруг пробуждалась, оглядывалась вокруг, как бы желая удостовериться, что Малыш Луи и в самом деле рядом с ней.
Когда они приехали в Ниццу и вышли из автобуса на площади Массена, он пробормотал:
— Надо бы взять такси…
Она возразила:
— Но это же совсем рядом!
Он не настаивал. Мысли его сейчас были заняты совсем другим. Однако, когда пришлось тащиться несколько кварталов с тяжелым чемоданом и дурацкой картонкой для шляп, он невольно подумал, уж не скупа ли она.
Но, не побывав у нее в доме, рано судить. А дом и вправду оказался неподалеку: нужно было пересечь площадь Альберта I, пройти по Французской улице и свернуть направо, на тихую улочку с большими желтыми домами, как две капли воды похожими друг на друга.
— Не забыла ли я ключ в чемодане? — жеманясь, охнула запыхавшаяся Констанс. Она едва поспевала за ним. — Я ужасно беспамятная.
Он ничего не ответил, но поглядел на нее с отвращением. Она этого не заметила. Она была счастлива. Излучала счастье, поглядывая на окна домов по обеим сторонам улицы в надежде, что кто-нибудь увидит, как она идет вместе со своей добычей.
— Вот и пришли. Подожди.
На прикрепленной к дому мраморной доске значилось: «Вилла Карно», и с первого взгляда можно было понять, что здесь сдают меблированные комнаты. Возле входной двери на указателе были обозначены имена по крайней мере тридцати жильцов, и среди них акушерка, врач с русской фамилией, массажистка, учитель пения.
Лестница была тоже мраморная. Констанс поднялась на третий этаж, свернула влево по коридору, облицованному уже искусственным мрамором, и, остановившись у одной из дверей, стала искать ключ.
Дверь из соседней квартиры приоткрылась, и Малыш Луи разглядел растрепанную девушку в накинутом на плечи халатике. Ее темные глаза встретились с ее глазами.
— Кто это? — спросил он, как только они вошли в квартиру.
— Да ну, форменная цыганка… Послушай, Луи!
— Что?
— Ты ведь не станешь бегать за соседками, не правда ли?
Она сказала это шутливо, но он почувствовал в ее голосе ревнивые нотки. Поставив на пол чемодан и картонку со шляпами, он пошел к окну поднять шторы и бросил на ходу:
— Запомните раз и навсегда: я не выношу вопросов насчет того, что я делаю.
— Ты опять сказал «вы»!
— Ну ладно, пусть будет «ты», если это тебе приятно.
— Злюка!
К черту! Никакого сюсюканья! Никаких слез и слюнявых поцелуев, на которые она не скупилась, тогда как он задыхался, прижатый к ее пышному бюсту. У него есть дела поважнее. Малыш Луи глядел по сторонам, еще не понимая, доволен он или нет.
— Это гостиная?
— Здесь только три комнаты и прихожая… Если уедет Нюта, можно будет занять и ее квартиру.
— Это та соседка?
— Да. Погоди… Не обращай внимания на беспорядок… Когда я уезжала, мне и в голову не приходило, что я вернусь не одна.
Она боялась, как бы у него не сложилось дурное впечатление, все время суетилась, то переставляла безделушки, то взбивала подушку в кресле.
— Не заходи пока в спальню. Я сначала посмотрю…
Ей-богу, все это было и не хорошо и не плохо! Все это было в духе дома и его владельца, чье имя значилось на мраморной доске. Стиль, распространенный в Ницце в начале двадцатого века: много плюша и подделки под бронзу, повсюду темные ткани, безделушки из перламутра и узорчатые стекла.
Над камином висел портрет мужчины с квадратным лицом, седыми волосами и розеткой ордена Почетного легиона в петлице.
— Можешь войти. Завтра везде будет убрано.
Спальня в стиле рококо, довольно приятная, обита голубым шелком. Посредине комнаты его уже ожидала Констанс. Она успела набросить на себя пеньюар.
— Дорого платишь? — спросил Малыш Луи, внимательно осматриваясь вокруг.
— Шестьсот франков в месяц. Плюс налоги…
— А третья комната?
— Там еще нужно устроить. До сих пор она служила кладовой.
Это была тоже спальня, но окнами во двор, предназначенная, должно быть, для прислуги. Вся меблировка состояла из железной кровати, хромоногого умывальника и шкафа с маленьким зеркалом. Повсюду валялись чемоданы, безделушки, ломаные стулья, рамки с портретами и акварелями.
— Мебель можно будет сменить, — заторопилась Констанс. — Если сделать со вкусом, получится прекрасная мужская спальня…
Малыш Луи не ответил ни «да» ни «нет». Он раздумывал, взвешивал и наконец спросил:
— А кухни здесь нет?
— Есть, но совсем крошечная.
Он увидел нечто вроде стенного шкафа с плиткой и стоящими рядом плохо вымытыми кастрюлями.
— А кто этот тип, что висит в гостиной?
— Какой?
— Не строй из себя дурочку. Тот, с волосами бобриком и с орденом.
— Сейчас объясню.
Он снял пиджак и продолжал осмотр.
— Ты слушаешь?
— Конечно.
— Я ведь говорила тебе, что была замужем. Я не солгала. Я вышла замуж, когда мне едва исполнилось семнадцать лет…
Все это было ему до лампочки, и он продолжал открывать шкафы, чтобы посмотреть, что есть внутри.
— Позднее я познакомилась с одним человеком, лицом значительным. Он был женат, и я стала его любовницей. Тогда-то я и поселилась в Ницце, имела виллу, машину, дворецкого… Что ты сказал?
— Я? Ничего.
— Он умер.
Ей хотелось, чтобы Малыш Луи хоть минутку постоял спокойно, но он не мог удержаться на месте и переходил из комнаты в комнату.
— Один из его друзей…
— Ладно. Короче. Сколько их у тебя было?
— Трое. Все очень хорошие, солидные люди. Последний — из дипломатического мира.
— Часто он приходит?
— Два раза в месяц. В первую и третью пятницу.
— И остается здесь ночевать?
— Да, — призналась она, краснея.
— А как с хозяйством?
— Не понимаю.
— Я спрашиваю: кто занимался хозяйством?
Казалось, это сбило ее с толку, а он был уверен, что она тут же солжет.
— Недавно я отказала горничной: обнаружила, что она ворует. Другую найти еще не успела. А пока по утрам мне помогает привратница.
Ясно. Он все понял и представил себе ее утром, в комнате с открытыми окнами, когда она проветривает постельное белье, суетится в пыли, волосы повязаны платком, на ногах шлепанцы.
— А ешь ты дома?
— Только в полдень. По вечерам я ухожу. На углу есть ресторанчик, где обедают только завсегдатаи, чаще всего русские. Люди очень порядочные.
Он вдруг схватил с постели свой пиджак, кинул его на руку и буркнул:
— До скорого!
— Ты уходишь?
— Да, пока ты немного приберешь в моей комнате.
— Вернешься?
Он пожал плечами. Ну конечно, вернется! Он позволил проводить себя до площадки, запечатлеть на щеке влажный поцелуй, посмотрел на дверь соседки и, посвистывая, направился к лестнице.
Прочитав фамилии всех жильцов, вывешенные на доске в коридоре первого этажа, Луи вышел на улицу, поискал ближайший ресторанчик и как бы невзначай задал несколько вопросов хозяину.
Затем за круглым столом на террасе бара, стены которого были выкрашены в бледно-голубой цвет, он с трудом нацарапал плохим пером, поминутно сажая кляксы и дырявя бумагу:
«Дорогая Люлю!
Не удивляйся, что пишу тебе с Ниццы. Я здесь совсем не потому, как может тебе показаться. Я познакомился с очень приличной дамой, которая устроила мне комнату у себя в квартире.
Так вот, когда я пишу «очень приличной дамой»… Прежде всего, она сказала мне, что зовут ее Констанс д'Орваль, но когда я невзначай глянул в документы, то увидел, что по-настоящему ее звать Констанс Ропике. Усекла?
Посмотрим, что это даст. У нее, бьюсь об заклад, не все дома, и я подозреваю, что она прижимистая.
Все же сходи ко мне, возьми мой костюм, рубашки, носки, сложи в чемодан и перешли на вокзал в Ниццу, а я схожу и получу.
Пока никаких сведений от друзей нету. Если чего-нибудь узнаешь, напиши мне сразу до востребования. Я буду заходить туда каждый день. Заодно пришли мне деньжат, так как не знаю, когда получу, что мне причитается…
Надеюсь, что Жэн у тебя не был. А если придет, скажи ему от меня, что ему не поздоровится.
Передай привет мадам Адель.
Целую».
Он отправил письмо, завернул в парикмахерскую, побрился, постригся и вышел, распространяя приятный запах лосьона.
Газеты писали об ограблении почты в Лаванду и утверждали, что воры похитили около двухсот десяти тысяч франков. Одну из машин удалось обнаружить на перевале Эстерель в Трейа. Другую опознал ее владелец в Тулоне. Она стояла неподалеку от того места, откуда была украдена.
«Г-н Баттисти, известный полицейский комиссар, допросил многих и, кажется, напал на след…»
Воздух был сладкий, как в кондитерской, а город пестрел, как конфетные обертки. Малыш Луи улыбнулся при мысли, что сейчас Констанс, с помощью консьержки разумеется, готовит ему комнату.
Потом вспомнил о такси, которое она не захотела брать, о реплике, брошенной ею, когда соседка приоткрыла дверь, и взгляд его стал суровым.
— Надо будет ее вышколить, — буркнул он.
Малыш Луи хорошо знал Ниццу, бывал здесь много раз, но чувствовал себя в этом городе не так свободно, как в Марселе или Тулоне. Он недоверчиво оглядел террасы кафе, заполненные посетителями — мужчинами в белых брюках и панамах, пожилыми женщинами вроде Констанс, — и чуть было не зашел в казино на молу, но вовремя обнаружил, что в кармане у него всего 50 франков.
Он покинул виллу Карно в четыре часа, а теперь было уже шесть. Английская набережная кишела гуляющими, маленький гидроплан то и дело поднимался и опускался с оглушительным шумом.
«А не позвонить ли сестре?» — подумал он. Такое желание возникало у него, когда было муторно на душе.
Нужно дать Констанс время хорошенько убрать комнату, а заодно показать ей, что у него в городе есть дела.
Он вошел в телефонную кабину и попросил соединить его с «Баром друзей» в Ласене.
Сестра Луи, на три года старше его, вышла замуж за хозяина бара. Дела шли хорошо. Бар был расположен как раз напротив судоверфи.
— Это кто?.. Маргарита?.. Да, это я, Луи… Что ты сказала?.. Нет, из Ниццы… Объясню после… Фернандома?..
Скажи ему, что все идет хорошо… Да… Баттисти попытался взять меня на крючок, да ничего не вышло… Алло!
Послушай! Если ты увидишь одного из тех… Поняла?.. Я не хочу, чтобы меня дурачили. Вот и все… До свидания, Рита!
Всего ничего проехал в автобусе, каких-то несколько километров, а все равно как в чужой стране. В Тулоне не меньше пяти десятков баров, куда он может зайти и где каждый подаст ему руку. В Марселе достаточно прогуляться пять минут, чтобы встретить знакомых. И во всех этих местах, вплоть до Лаванду, везде, где можно найти кабачок и партнеров по игре в шары, он чувствовал себя как дома.
Он решил зайти в кино, потом отыскал ресторанчик, где отведал равиоли, а в одиннадцать часов еще прогуливался по проспекту Победы. Засунув руку в карман, он вертел зажигалку, а когда увидел тесную лавчонку ювелира, еще открытую в такой поздний час для неудачливых игроков, не удержался и зашел.
— Сколько может стоить эта вещица? — спросил он.
Женщина за прилавком, еврейка лет сорока, оглядела его с ног до головы:
— Хотите продать?
— Если дадите подходящую цену.
— А у вас есть удостоверение личности?
Он улыбнулся, сообразив, в чем дело:
— Не бойтесь, я ее не украл.
— А я ничего и не говорю…
— Если бы и сказали, я все равно бы не обиделся.
Сколько дадите?
— Могу предложить триста франков.
— Значит, стоит тысячу.
— Может быть, если покупать. Но когда продаешь…
— Давайте!
— Наличными не имею права. Оставьте ваш адрес, и вам перешлют по почте. Так полагается.
Он подумал и сказал:
— Нет, так не пойдет.
Если бы ему дали эти триста франков здесь, на месте, он бы решился, но раз нужно ждать…
Самое забавное, что ему все время приходила на ум та смуглянка, которая, приоткрыв дверь, встретилась с ним взглядом. Нужно будет в ближайшее время рассмотреть ее поближе…
Ладно. Хватит шататься по городу. Он направился к вилле Карно и, добравшись до третьего этажа, увидел Констанс, которая дожидалась его у приоткрытой двери.
— Входи быстрее! А я уж думала, что ты не вернешься, — прошептала она. — Где ты пропадал так долго?
Констанс успела переодеться. Теперь на ней был лиловый пеньюар, отороченный белым пухом, что придавало ей отдаленное сходство с епископом.
— Ты где-нибудь поел?
— Черт возьми, а как же!
— А я тебе здесь приготовила.
Она и вправду все приготовила. На лампы были надеты шелковые абажуры, на круглом столике его дожидался ужин — холодный цыпленок, салат, половина лангуста, бутылка вина.
— Ты в самом деле не голоден?
Она улыбнулась, все еще надеясь увидеть жест благодарности или умиления.
Но он, бог весть с чего, захандрил и только пробурчал:
— А чем занимается твой кормилец?
— Мой?..
— Да, тот старик, что на портрете.
— Я же тебе говорила: он на дипломатической службе.
Малыш Луи не прочь был разузнать поточнее, но в эту минуту он уже открыл дверь своей комнаты, где произвели генеральную уборку и даже поставили на стол цветы.
— Спать охота, — сказал он, стоя на пороге.
— Уже?
— Да. Кстати, мне нужен ключ от квартиры.
— Я закажу второй.
— Хорошо. Спокойной ночи.
Он обернулся, подумал и задал вопрос, который пришел ему в голову:
— Интересно, сколько стоила зажигалка?
— Не знаю. Мне ее подарили.
— Кто? Тот, что на портрете?
Почему это ее смутило?
— Вернее…
— Так все-таки тебе ее подарили или ты сама купила?
— Я ее купила, когда однажды выиграла в казино.
— А ты играешь?
— Немного… То есть почти каждый вечер…
— Сколько?
— Что сколько?
— Сколько ты за нее заплатила?
— Тысячу четыреста франков. Она стоила полторы, но я поторговалась.
Тут он внезапно отрезал:
— Спокойной ночи!
И, не глядя на нее, закрыл дверь, уселся на железную кровать и стал снимать туфли.
Он прекрасно знал, что она здесь, стоит за дверью, прислушиваясь к малейшему шороху, надеясь, что он передумает, но слишком многое было ему здесь не по душе, и он, сердитый, предпочел лечь, погасил свет и долго не закрывал глаза, рассматривая тени двух толстых ступней на яркой полоске, просачивавшейся из-под двери.
Глава 3
Когда он вышел из автобуса на Рыночной площади в Йере, с виду это был прежний Малыш Луи — в той же белой кепке, в тех же узконосых туфлях, которые, казалось, едва касаются земли. С обычным для него позерством он окидывал людей небрежным взглядом. Так смотрит кинозвезда на толпу, встречающую ее восторженными взглядами.
Проходя мимо пивной, он заметил там за круглым столиком двух парней, с которыми был немного знаком, но не остановился, а только помахал им рукой и пошел дальше, по направлению к улице Рампар.
Было два часа дня. Улица, мощенная крупным булыжником, тянулась в гору. Нещадно палило солнце, и Малыш Луи, который не выносил пота, через каждые несколько шагов останавливался. Прохожие теперь попадались все реже, и он уже не старался согнать с лица суровое, недоверчивое, быть может, даже тревожное выражение.
Прежде всего, почему Луиза целую неделю не отвечала на его письмо? Кроме того, почему в газете «Пти Марсейе» не появилось условленного объявления: «Продаются красивые голуби. Обращаться…»?
Потеряв терпение, он однажды утром позвонил Луизе: в это время она спит и ее можно застать дома. Ему пришлось долго ждать, наконец она сняла трубку, и он с трудом узнал ее голос:
— Это ты?.. Какой ты неосторожный! Я тебе напишу.
Больше она ничего не сказала, но через несколько дней он получил от нее письмо:
«Приходил Жэн и, кажется, был недоволен. Он велел сказать, чтобы ты сидел и не рыпался, пока не позовут.
Приезжать сюда не нужно».
На улице Рампар вообще не было прохожих. В тени мастерской с синими стеклами что-то строгал столяр.
Наконец Малыш Луи подошел к большому дому на углу, ставни в доме были закрыты.
Город здесь уже кончался. Палисадники были окружены старыми каменными стенками, а метрах в двухстах уже начинались поля.
Малыш Луи увидел трех женщин, лежащих в шезлонгах. Четвертая сидела на пороге. Был час отдыха, сиеста.
Из-под их пестрых пеньюаров выглядывали голые ляжки и кружевные сорочки — профессиональная примета. Чуть дальше на тротуаре играли дети.
Четыре женщины разом оглядели Малыша Луи; та, что сидела на пороге, вскочила и сказала:
— Ты что, разве не получил от меня письма?
Он пожал плечами, не вынимая рук из карманов и сигареты изо рта, не поздоровался, хотя был знаком со всеми присутствующими, и приказал:
— Пошли!
Он увлек ее в полутемную залу, где возвышалось огромное механическое пианино и где играла в куклы шестилетняя девочка, дочь хозяйки.
— Сядь!
— Да что с тобой? — Луиза прикрыла бледно-голубую рубашку полами пеньюара.
Это была брюнетка с очень светлой, тонкой и гладкой кожей, покрытой легким пушком. Она села за столик, а Малыш Луи поместился напротив нее.
— Я же тебе писала, чтобы ты не приезжая.
— Писала.
Он не улыбался и даже не пробовал пустить в ход свое обаяние. Напротив, глядел на Луизу сурово и упорно молчал, дожидаясь, чтобы она смутилась.
Так и вышло. Она попыталась улыбнуться и снова спросила:
— Да что с тобой?
Они сидели у открытого окна. Шторы были опущены, но все-таки пропускали свежий воздух и свет. Девочка время от времени бросала игру и внимательно разглядывала обоих.
— Объяснений — вот чего я от тебя жду.
— Я же тебе писала: приезжал Жэн.
— Ну и что?
— Он в ярости.
Из-под пеньюара снова показалось голубое кружево, выделявшееся на матовой коже молодой женщины, от волос ее приятно пахло вербеной.
— С чего бы это?
— Говорят, ты натворил много глупостей. Прежде всего, после окончания дела оставался в Лаванду и там выпендривался, а потом нахально держался с комиссаром Баттисти. Он считает, что самая пора упрятать тебя за решетку.
— А еще в чем я виноват?
— А еще ты наговорил лишнего. По словам Жэна, иначе быть не может… Позавчера полиция устроила облаву в баре «Экспресс» и все там перерыла.
Он вздрогнул от волнения, но постарался не выказать своих чувств.
— Баттисти признал, что был донос. Вроде бы хозяин казино, возле мола в Ницце, посоветовал хорошенько пошарить в районе бара «Экспресс».
— Что-нибудь нашли?
— Нет. Но все равно Жэн, Чарли и Лионец на тебя обозлились. Это правда, что ты проболтался?
Он грубо оборвал ее:
— Будь любезна, не суйся не в свое дело.
Луи был скорее унижен, чем рассержен. Он понял, что произошло. Однажды вечером, просмотрев газету «Эклерер», он сказал Констанс — просто так, чтобы показать, что все знает:
— Как подумаешь, что денежки спокойно лежат в маленьком баре у старого порта в Марселе…
Он не помнил, упомянул ли название бара, но очень может быть, что и упомянул. А Констанс, проводившая почти все вечера за рулеткой, возможно, сказала хозяину казино, чтобы его удивить:
— Поискали бы хорошенько в старом порту в Марселе!
Вот ниточка и потянулась…
Девочка подошла к ним совсем близко и во все глаза смотрела на Малыша Луи, словно он был каким-то заморским чудом.
— Ты не могла бы отойти? — бросил он и, обращаясь к Луизе, добавил:
— Когда они собираются отвалить мне мою долю?
— И не надейся получить скоро! Решили ничего не трогать до тех пор, пока полиция не перестанет заниматься этим делом.
— А скажи-ка мне…
— Что?
— Ты уверена, что они не хотят оставить меня на бобах?
— Видишь ли…
Женщины на улице продолжали дремать, и редкие прохожие оглядывали их с иронической улыбкой.
На лестнице послышались тяжелые шаги. Огромная толстуха просунула голову в дверь и позвала:
— Одетта! Сейчас же иди сюда!
Это была хозяйка заведения. Сначала она отправила девчонку наверх, потом вернулась и с грозным видом накинулась на Луизу, даже не поздоровавшись с Малышом Луи:
— Я тебе что говорила?
— Но ведь я написала ему, чтобы не приезжал.
— Что это значит? — возмутился Малыш Луи, вставая. — Выходит, я больше не имею права навестить жену?
Хозяйка пробормотала сквозь зубы несколько слов.
Малыш Луи схватил ее за плечи:
— Повтори! А ну-ка посмей повторить!
— И посмею! Я сказала, что еще неизвестно, твоя ли это жена.
— Как это так?
— По крайней мере, поместил ее сюда Жэн. Пусти, Малыш, я не хочу шума! Со мной у тебя номер не пройдет. Через несколько минут начнут собираться клиенты, и мне очень хочется, чтобы ты отсюда выкатился.
— Что она сказала? — прошипел Малыш Луи минутой позже, наклоняясь к лицу Луизы.
— Не знаю.
— Лжешь! Она говорила про Жэна. Это правда?
— Да, ведь я жила с Жэном, до того как…
— А теперь?
До него дошло. Жэн заявлял свои прежние права на Луизу. Впрочем, Жэн никогда не принимал Малыша Луи всерьез и в насмешку называл его «артистом».
— Одевайся! — приказал Малыш Луи. — И живо забирай отсюда свои манатки!
— Но…
— Послушай! Я терпелив, но в меру. Если через пять минут тебя не будет на улице, я вернусь, и тогда ты пожалеешь! Поняла?
Он вышел из дворика, не удостоив взглядом лежащих в шезлонгах женщин, быстро прошагал метров сто, остановился напротив какого-то дома и стал ждать.
Малыш Луи не посмотрел на часы — и поступил правильно. Только минут через пятнадцать открылась маленькая дверь и крадучись вышла встревоженная Луиза в коричневом шерстяном костюме, с фибровым чемоданчиком в руке.
Она шла рядом с ним, еле поспевая и тревожно оглядываясь через каждые десять шагов, потом взяла его под руку и с горечью сказала:
— Мне кажется, ты делаешь глупости.
В автобусе они ехали молча. В Ницце вышли на площади у «Калифорнии», и Малыш Луи, по-прежнему не говоря ни слова, выбрал захудалую трехэтажную гостиницу и снял номер на неделю.
В комнате не было умывальника. На кровати лежало дешевое грубое покрывало. На треножнике из бамбука стоял умывальный таз.
— Я знаю, что делаю, — вдруг прервал молчание Малыш Луи. — И не Жэну, как он ни хитер, меня учить.
В окно вливалась тихая прохладная ночь. С улицы доносился шум проезжавших машин.
— Должен сказать тебе, мне всегда претило, что ты находишься в таком заведении.
Видно, несколько часов, проведенных в автобусе, его разморили. По крайней мере, он был внимателен, даже нежен.
— Ну что ж ты стоишь! Будь как дома. Или не довольна, что я тебя оттуда увез?
— Я думаю только о том, что теперь будет.
И тут его прорвало. Малыш Луи редко в своей жизни так много говорил. Он ежеминутно подходил к окну и выглядывал на улицу, словно его воодушевляли мерцавшие вдали огоньки.
— Вот увидишь, я обделаю все почище, чем Жэн. На, возьми для начала! — И он вынул из кармана недорогое гранатовое колечко, украшенное потускневшими жемчужинами.
— Она подарила мне его вчера. Она дарит мне все, что я хочу. В бумагах у нее я нашел квитанцию на норковую шубу, сданную на лето на хранение.
— А кто она такая?
— Прежде всего, фамилия ее не д'Орваль, как она утверждает. По документам она вдова Ропике, урожденная Сальмон. Ясно одно: живет как живется, ничего не делая, и пишет письма нотариусу в Орлеан.
— Зачем?
— А я почем знаю? Завтра или послезавтра ты случайно окажешься в казино, когда мы с ней будем там, и я представлю ей тебя как родственницу.
Луиза покорно слушала, не выказывая ни малейшей заинтересованности. Чтобы хоть чем-то заняться, она привела в порядок белье и одежду, которые успела с собой захватить, и перестелила по своему вкусу постель.
— Вчера я ее первый раз отлупил. Стою я себе в коридоре, болтаю с соседкой — есть там одна цыганка. Она всегда приоткрывает дверь, как только заслышит мои шаги.
Вдруг, как на грех, появляется старуха и поднимает шум.
— А что она потом сказала?
— Когда?
— Когда ты ее поколотил.
— Просила прощения. Упрашивала, чтоб я ее не бросал. Клялась, что покончит с собой, если я уйду. Знаешь что, давай прошвырнемся! Еще нет двенадцати.
Они прошлись по молу. Луиза повисла на руке Малыша Луи, а он, сунув руки в карманы, нарочно делал большие шаги, чтобы заставить ее семенить, — пусть помнит о его превосходстве.
Они шли молча, сталкиваясь с людьми, чьи лица с трудом можно было различить во мраке, иногда останавливаясь, чтобы посмотреть на освещенную виллу или затормозившую машину. И вдруг ни с того ни с сего Малыш Луи выпалил:
— Жэн и вся его бражка — круглые идиоты.
У него накипело, и это прорывалось постепенно, в сумбурных фразах:
— Всегда у них так будет… А все оттого, что ума не хватает… Из них всех стоящий парень один Лионец, потому что у него есть опыт. Но и этот думает о себе, что он пуп земли.
— Как тебе кажется, мы на нее не нарвемся?
— На кого это?
— Да на твою старуху.
— Можешь не беспокоиться. В эти часы она всегда торчит в казино, но ставит редко и только по сто су…
Мне кажется, она скуповата.
Он отвечал на ее вопросы, а сам думал о Жэне, Чарли, Лионце, Титеве — обо всех тех, кого называли «марсельцами», об этих парнях, которые никогда не принимали его всерьез.
«Оставался бы ты лучше краснодеревщиком», — частенько твердили они ему.
Это и было его ремеслом, настоящим ремеслом.
Когда в начале войны мать его бежала из Лилля от немецкой оккупации, она осела, бог весть почему, в деревушке Ле-Фарле, между Тулоном и Каркераном. У нее на руках было двое малышей, муж еще на родине умер от чахотки, и пришлось наниматься поденщицей.
Потом старый Дютто, владелец виноградников, взял ее к себе на работу, она выполняла обязанности служанки, а заодно и другие. По крайней мере, так говорили.
Малыша Луи сначала определили в Ле-Фарле учеником к столяру, потом в один прекрасный день он сбежал в Тулон и, перебираясь с места на место, добрался в конце концов до Лиона.
Там он проработал до той поры, пока не пришлось отбывать воинскую повинность, и даже после армии какое-то время еще столярничал то в Марселе, то в Сен-Тропезе, то полгода в Сете, потом снова в Тулоне.
— Занимался бы лучше своим ремеслом, — посмеивались «марсельцы».
Даже теперь, когда он был женат и Луиза мытарилась в этом заведении, а он при случае помогал им в разных делишках, они называли его «артистом».
— Посмотрим еще, буду ли я ждать, пока они отвалят мне мою долю, — сказал он с угрозой в голосе, когда они миновали казино.
Потом его мысли перескочили на другое:
— Хочешь на нее взглянуть? Слушай! Я сейчас войду первый, сяду возле нее…
— Но я не одета…
— Это не беда. Хватит у тебя на входной билет?
Он прошел мимо контроля с видом завсегдатая, оглядел столы, за которыми шла игра, и отыскал глазами Констанс, сидевшую, как обычно, возле крупье в первом ряду у стола с рулеткой.
Она всегда дожидалась, пока освободится место слева от крупье, и только тогда вынимала из сумки маленький серебряный карандаш, стофранковый билет и карточки для рулетки, на которых отмечают ходы.
Не прошло и минуты, как вошла Луиза. Малыш Луи чуть заметно улыбнулся ей и подсел к Констанс, по которой словно пробежал электрический ток, когда она почувствовала, что он рядом.
— Тс-с! — прошептала она, прикладывая палец к губам и указывая на лежащую перед ней на столе порядочную кучку фишек. — Подожди меня в баре.
Потом материнским жестом сунула ему в руку пригоршню жетонов, повернулась к крупье и спросила:
— Есть еще время?
— Ставьте быстрее! Ставок больше нет! Семерка…
Констанс поискала глазами Малыша Луи, показала на семерку, потом на свои фишки, и глаза ее повлажнели от радости и гордости.
— И часто она выигрывает?
Они сидели в баре. Луиза, не привыкшая обедать в одно время, к полуночи всегда чувствовала голод и потому заказала себе сандвич. Со своих высоких табуретов они разглядывали игорный зал. В этом казино редко попадались люди в вечерних туалетах. Среди игроков было немало женщин, и почти все — в возрасте Констанс Ропике.
— Делайте игру! Ставок больше нет!
— И часто она выигрывает? — переспросила Луиза.
— Случается. Но ведь она ставит не больше чем по сто су.
— Ты не знаешь, откуда у нее деньги?
— Нет еще. Пока только знаю, что у нее есть старикан, который навещает ее два раза в месяц. Она божится, что он важная птица, дипломат. Я его еще не видал.
— Ты думаешь, она не приревнует, когда увидит меня?
— А я ей скажу, что ты моя сестра.
— Какая у тебя в галстуке шикарная булавка! — заметила вдруг Луиза.
А Малыш Луи, в свою очередь, испытывал чувство облегчения оттого, что находится здесь, с нею рядом, и от сознания, что ему удалось так ловко обставить Жэна.
— Я не хочу наседать на нее сразу, понимаешь? Сначала нужно пронюхать про ее дела. Она ленива, уже два раза просила меня написать за нее письма, но ничего такого в них не было.
— Смотри, — прошептала Луиза, дожевывая сандвич.
К ним приближалась Констанс, робкая и смущенная, а Малыш Луи, будто не замечая ее волнения, повернулся к ней и сказал:
— Познакомьтесь! Моя сестра Луиза. Моя приятельница Констанс.
— Очень приятно.
— Луиза сегодня вечером приехала в Ниццу и пробудет здесь несколько дней.
— Вы остановились в отеле? — с видом светской дамы спросила Констанс Ропике.
— Нет, — вмешался Малыш Луи. — Она поселилась у друзей. У сестры много друзей на Юге. Ее муж родом из Ниццы.
— Так вы замужем?
Малыш Луи не смог скрыть насмешливого выражения глаз и, чтобы покончить с этой сценой, сказал:
— А не пойти ли нам куда-нибудь выпить?
Он невольно бросил взгляд на руки Констанс, та сразу поняла и грустно призналась:
— Опять все проиграла. Семерка выходила три раза, и я решила на нее поставить…
Издалека с профессиональным безразличием на них поглядывал администратор зала. В углу на диванчике сидел инспектор полиции, терпеливо дожидаясь окончания дежурства.
Луиза пыталась быть любезной, но иногда в ее глазах мелькал затаенный страх. Ей не давала покоя мысль о том, что Жэну уже, наверное, успели позвонить в бар «Экспресс», и она терялась в догадках, как он поступит, высчитывала, сколько времени ему понадобится, чтобы приехать поездом из Марселя.
— Эта девчонка тоже здесь, — тихо прошептала Малышу Констанс.
— Какая девчонка?
— Наша соседка. Если это будет продолжаться, я подниму скандал. Нечего липнуть к мужчинам! Тем более что она еще несовершеннолетняя…
Речь шла о Нюте, сидевшей в зале в обществе какого-то молодого человека. Казалось, она совсем не проявляет интереса к Малышу Луи.
В зале уже никого не было, сцена опустела, в витринах погасили свет. Перед казино выстроились вереницы такси. Слышалось равномерное дыхание моря, иногда нарушаемое криком чаек.
— Куда же мы пойдем? — спросила Констанс.
— В «Калифорнию», — предложил Малыш Луи, которому совсем не хотелось спать.
Они втиснулись в такси. Колени Малыша Луи прижимались к коленям Луизы, а Констанс держала его за руку.
В трех маленьких ночных забегаловках Луи заказывал себе мятный ликер, а женщины пили шампанское. Констанс завела долгий разговор с Луизой:
— Вы живете в Париже?
— Часть года.
— А я при жизни мужа…
В четыре часа утра они все трое вышли на площадь Массена, и Констанс стала уговаривать Луизу:
— Но раз я вам говорю, что меня это не стеснит… Не правда ли, Луи? Я твержу твоей сестре, что не стоит в такую пору будить ее друзей. Я дам ей ночную рубашку, и она будет спать в моей комнате.
Малыш Луи и Луиза еле удержались, чтобы не прыснуть.
Констанс не знала, как им угодить. Она приготовила всем по чашечке кофе, добавив в него выдержанного коньяку.
— Выйди-ка на минутку, пока Луиза переоденется!
Они еще долго болтали, уже в ночных рубашках, в комнате с выцветшей обивкой на мебели и мягкими подушками, в то время как по городу проезжали последние такси.
Глава 4
Теперь для Малыш Луи началась роскошная жизнь.
Такой он ее, по крайней мере, представлял, когда из окна столярной мастерской следил за компанией «марсельцев», которые целые дни проводили за столиками бара, и завидовал их холеным рукам и изящной обуви.
С его рук давно уже сошли мозоли, и не нужно было тереть их пемзой. А не далее как вчера он первый раз в жизни даже сделал себе маникюр в самой фешенебельной парикмахерской на площади Альберта I.
И теперь сквозь полуопущенные густые ресницы он разглядывал свои пальцы, ногти, покрытые розовым лаком, настороженно прислушиваясь к каждому звуку в доме.
Он валялся в постели до полудня не столько от лени, сколько из принципа, как бы беря реванш за те годы, когда должен был вставать с петухами по сверлившему уши звонку будильника.
Газеты лежали рядом. Констанс принесла ему в постель кофе и дала закурить, потом приоткрыла жалюзи, совсем немножко, ровно настолько, чтобы в комнату мог проникнуть и коснуться его постели косой луч света, совсем тоненький, такой, какие можно видеть на картинках с изображением Благовещения.
Луиза занималась уборкой квартиры. Ну и потеха! А потешней всего, что это взбрело в голову самой Констанс.
— Зачем вам ночевать у чужих людей, когда вы можете жить вместе с братом? — сказала она однажды.
Первую ночь обе женщины проспали в одной постели, и утром Луиза Мадзони шепнула Малышу Луи:
— До чего ж от нее воняет! Ума не приложу, как ты это выдерживаешь!
Затем ей поставили в гостиной диван, и вскоре она стала в доме настолько своей, что все даже забыли, когда она приехала, и больше не заговаривали об ее отъезде.
Надо сказать, что Луиза обладала большим терпением и, по словам Констанс, оказалась славной женщиной.
Она могла часами выслушивать истории, которые ей шепотом рассказывала старуха, когда они, сидя у окна, вязали крючком или на спицах. Луиза поддакивала и с серьезным видом одобряла:
— И правильно!
А иногда восклицала:
— Как я вас понимаю!
По утрам Констанс и Луиза, в халатах, повязавшись косынками, убирали комнаты. Затем по очереди шли на Французскую улицу за покупками.
А Малыш Луи, нежась в постели, прислушивался к звукам, доносившимся с улицы, которые по утрам кажутся звонкими и свежими, к звукам в доме, а особенно — за стеной, которых он ждал с нетерпением: голосу Нюты в соседней комнате.
Девушка брала уроки пения. Он узнал об этом от консьержки. И оказалось, что она вовсе не цыганка. Мать ее, известная актриса, жила теперь в Америке, отец, кажется, был русским.
Нюте шел только семнадцатый год, и, чтобы отделаться от девчонки, ее отправили в Ниццу, где каждый месяц она получала в банке положенную ей на содержание сумму.
Малыш Луи был твердо уверен, что Нюта влюбилась в него по уши. Девушка, должно быть, часами поджидала его, потому что всегда открывала дверь как раз в ту минуту, когда он проходил.
И все же, когда Малыш Луи с уверенным видом, сдвинув набок кепку, попытался однажды к ней войти, она убежала к себе и заперлась на ключ.
С тех пор он все чаще думал о ней и по утрам, лежа в постели, слушал ее пение, забывая читать газету, Он был счастлив! Этого нельзя отрицать. И был бы счастлив вдвойне, если бы мог лежать рядом с Нютой, чувствовать, как она пугливо прижимается к нему, прильнуть губами к ее губам так, чтобы дух захватило.
Он даже не сомневался, что рано или поздно это случится. Только не следовало сразу лезть напролом — нельзя же забывать, что она еще совсем девчонка.
И теперь он только улыбался ей, как умел это делать, игривой, ребячливой, обескураживающей улыбкой.
Да, он был счастлив. И при этом — неясное, но почти физическое ощущение страха. Это логично и неизбежно: когда человек счастлив, он всегда боится, что может все потерять…
Он не видел с тех пор ни Жэна, ни его дружков. Не получал от них никаких вестей. Но Луизе пришло из Йера письмо, где говорилось, что хозяйка вынуждена была из-за нее съездить в Марсель, а это наводило на размышления.
Наверху стучала пишущая машинка. Так было ежедневно с девяти утра. Пожилая дама, вдова чиновника, брала работу на дом.
Малыш Луи уже успел навести справки обо всех жильцах. Прежде всего из любопытства. А еще — на всякий случай: мало ли для чего может понадобиться.
Было около одиннадцати, когда раздался звонок в дверь.
Не иначе как посторонний! Ведь люди, заходившие к ним постоянно, например сборщик денег за газ или поставщики, знали, что дверь не заперта, и, войдя, окликали с порога:
— Мадам Констанс!
Не шевелясь, с сигаретой во рту, Малыш Луи навострил уши. Послышался мужской голос, но он не мог понять, что происходит, пока в его комнату с испуганным лицом не влетела Луиза. Она была чем-то расстроена и, приложив палец к губам, шепнула:
— Инспектор полиции.
— Какой?
— Я его не знаю. Он попросил меня выйти.
Тогда Луи встал и босиком, в своей удобной полосатой шелковой пижаме, подошел к двери и прильнул к ней ухом. Луиза тоже стала прислушиваться.
— Садитесь! — услышали они за стенкой голос Констанс. — Извините за беспорядок и мой туалет: по утрам я всегда занимаюсь уборкой…
По утрам у нее всегда были мешки под глазами, а щеки бледные, как луна.
— Мне хотелось бы выяснить — не ваша ли это вещица? — спросил полицейский, протягивая что-то Констанс, но что именно, Малыш Луи разглядеть никак не мог.
— Да, моя. Это еще от моей покойной матери… Но как она у вас очутилась? Кто-нибудь нашел на улице?
— К сожалению, нет. Этот золотой крестик был продан позавчера ювелиру на проспекте Победы. Вор…
Констанс тихо вскрикнула, а Малыш Луи увидел совсем близко от себя нахмуренные брови Луизы.
— Почему вы говорите — вор? — упавшим голосом произнесла Констанс.
— Есть все основания предполагать, что эта драгоценность была у вас украдена.
— А если я сама ее кому-нибудь дала?
— Кому же?
— А если я поручила своему секретарю Луи Берту продать ее?
— И это кольцо вы тоже поручили ему продать?
— Ну да. Мне надоели эти старые побрякушки. Я попросила его избавить меня от них.
Один глаз Малыша Луи закрылся, а нахмуренные брови Луизы стали распрямляться.
— В таком случае, мне нечего сказать. Раз вы сами утверждаете…
— Но…
— Тем не менее мне поручили поставить вас в известность относительно некоторых обстоятельств. Известно ли вам, что этот Луи, которого вы называете своим секретарем, дважды сидел в тюрьме?
— Да, он мне говорил.
— Знаете ли вы, что, весьма вероятно, он рано или поздно будет вызван по делу ограбления почты в Лаванду?
— Ну и что? Разве у вас есть какие-нибудь улики?
Молодчина старуха! Малыш Луи не мог сдержать улыбки и подумал, не открыть ли ему внезапно дверь, чтобы, напустив на себя иронический вид, поздороваться с этим кретином инспектором.
— Дело ваше. Вы поселили его у себя, и это касается только вас, хотя из осторожности… Ладно! Моя обязанность вас предостеречь, а уж там пеняйте на себя, если что случится.
На этот раз Малыш Луи пожал плечами, а потом по-мальчишески изобразил, будто нокаутирует противника.
— А что со мной может случиться?
— Как сказать! Вы уже не очень молоды… Допустим, что ваше имущество могло привлечь мужчину, у которого нет средств к существованию…
— Я попрошу вас!.. — сказала Констанс с достоинством.
— Ладно, не сердитесь! Теперь последний вопрос: говорил ли вам Малыш Луи, что за женщина живет в настоящее время под вашей крышей? Та, с которой я столкнулся, когда вошел?
— Это его сестра.
Тут уж было не до смеха. Ошеломленный Малыш Луи слушал, затаив дыхание, а Луиза вздохнула:
— Ну, что я говорила!
Инспектор продолжал дальше, довольный тем, что ему удалось взять верх:
— Мне не хочется причинять вам огорчение, мадам, но мой долг поставить вас также в известность, что женщина, о которой идет речь, Луиза Мадзони, тысяча девятьсот двенадцатого года рождения, уроженка Авиньона, с тысяча девятьсот тридцать второго года находится под наблюдением полиции. Она приехала к вам десять дней назад из дома терпимости в Йере, куда ее поместил Малыш Луи, живший за ее счет. Вот и все. Так что если у вас возникнут неприятности или вы захотите получить какие-нибудь дополнительные сведения, мы всегда к вашим услугам. Достаточно будет обратиться в уголовную полицию и спросить меня.
Тишина. Тишина тем более зловещая, что никак не угадаешь, что делается в соседней комнате. Потом внезапно хлопнула дверь, послышались шаги по лестнице.
Малыш Луи и Луиза растерянно глядели друг на друга. Через минуту Малыш Луи расхрабрился, почесал затылок и скорчил гримасу.
— Что же нам делать? — прошептала Луиза.
Прежде всего он бесшумно подошел к зеркалу и причесался. Потом закурил сигарету и еще несколько мгновений прислушивался. Ему показалось, что за стеной слышатся прерывистые рыдания; вздохнув, он повернул ручку двери и вошел в спальню.
Малыш Луи не сразу заметил Констанс, лежащую на неприбранной кровати так, что виден был только отороченный пухом край пеньюара.
Она прямо-таки растворилась, иначе не скажешь: живот погрузился в перину, лицо скрылось в простынях и одеяле, и вся эта масса колыхалась в медленном ритме, время от времени резко вздрагивая:
— У-у-у… У-у-у…
Она испускала звуки таким пронзительным голосом, что трудно было поверить, что он принадлежит толстой пятидесятилетней женщине. А Малыш Луи бесшумно ходил вокруг кровати, как человек, не умеющий ухаживать за больным, не зная, с какой стороны к нему подойти.
— У-у-у… У-у-у…
Догадывалась ли она, что он здесь? Слышала ли, как вошел? Констанс продолжала плакать в том же безнадежно размеренном ритме, и, как будто нарочно, то немногое, что мог видеть Малыш Луи, было у нее самым некрасивым: мертвенно-бледные, белые ноги, иссеченные синими венами.
— У-у-у… У-у-у…
Оба настежь распахнутых окна были на одном уровне с окнами дома напротив, и возле одного из этих окон старый паралитик курил трубку и смотрел в спальню Констанс таким неподвижным взглядом, словно был восковой фигурой.
— У-у-у…
Малыш Луи хотел что-то сказать, но так и не произнес ни звука. Воздух, вливавшийся в окна с улицы, отгонял к постели табачный дым, который не могла не почувствовать Констанс. И вдруг вместо «у-у-у…» она тем же голосом, словно жалуясь кому-то, пролепетала:
— Злой мальчишка!
И еще сильней зарыдала, как будто слова, которые она только что произнесла, довели ее до изнеможения.
Тогда Малыш Луи присел на край постели. То, что она на него не смотрела, облегчало задачу: ему не нужно было следить за выражением своего лица. Он тихонько Положил руку на плечо Констанс. Потом, откашлявшись и обдумывая каждое слово, сказал:
— Я все слышал. Я был за дверью. Я так и знал, что это рано или поздно случится.
Молчание. Констанс продолжала плакать, но теперь бесшумно, чтобы не пропустить ни слова.
— Во-первых, я вправду отсидел два раза в тюрьме, но никогда не делал ничего бесчестного. Такое с каждым может случиться — вмазать кому-нибудь в драке или лягнуть постового в бедро, когда он размахивает у тебя под носом дубинкой.
Он прекрасно знал, что ее интересует не это, но начал издалека, чтобы выиграть время и завестись.
— Дело в Лаванду — об этом не спорю. Но ведь мы обворовали только правительство, а лично никому не причинили вреда. Пускай получше берегут деньги налогоплательщиков!
Она пошевелилась, должно быть, с нетерпением ожидая, что он скажет дальше.
— Теперь про Луизу. Те, кто так говорит про женщин, лучше бы спросили, откуда берутся такие женщины и что их до этого доводит. У Луизиной матери было семеро ребят, ее все хорошо знали в Авиньоне. Она таскалась там с кем попало за гроши.
Он на мгновение отвлекся, услышав голос Нюты.
Девушка начала «Колыбельную» Шопена, которую пела почти каждый день, быть может, именно для него. Эта песня волновала Луи, как романс.
— Когда я сошелся с Луизой, она уже работала в публичном доме в Марселе. Я попробовал вытащить ее оттуда, но она была в руках у некоего Жэна, и все, что я мог сделать…
Он вдруг заметил, что на него смотрит глаз, только один, но уже без слез.
— Я устроил так, чтобы она перешла в такой же дом в Йере, а потом, когда с твоей помощью у меня завелась монета, я съездил за ней…
Констанс все глядела на него одним глазом, и это мешало сосредоточиться. Приходилось менять выражение лица. А на третьем этаже в доме напротив все так же торчало деревянное лицо паралитика.
— Когда я представил ее как свою сестру, то почти не соврал. Ведь мы и в самом деле с Луизой все равно что брат и сестра.
И тут Констанс заговорила, или, вернее, из аморфной массы, состоявшей из тела и белья, донесся разобиженный голос:
— И вы не были имеете?
— Случалось. Но только вначале, года три назад, когда я захаживал как клиент в то самое марсельское заведение, где она жила. Потом мало-помалу это почти сошло на нет…
— Почти?
— Слишком уж хорошо мы друг друга знали, чтобы…
И снова раздался голос, более ясный, более подозрительный:
— А здесь, у меня, вы никогда не…
— Никогда!
— А по утрам, когда я уходила за покупками?
Она зашевелилась. Из бесформенной массы показалась голова, потом обозначилось тело, она села на кровати, с опухшим лицом, растрепанными волосами, мокрой щекой.
— И ты мог так со мной поступить?
— Нет! Клянусь тебе, что с тех пор, как мы здесь, мы с Луизой ни разу не переспали.
— И даже не целовались?
Она произнесла это трагическим голосом, и Малыш Луи еле удержался, чтобы не прыснуть в кулак.
— В губы — нет!
— И вы не ласкали друг друга?
— Да я же говорю тебе — нет, глупая ты толстуха!
Ничего не поделаешь! Ему остается только это. Он наклонился, обнял ее, прижался щекой к ее мокрой щеке и теперь, когда она смотрела на него, говорил, говорил своим низким, слегка надтреснутым голосом, зная, как звук его волнует женщин:
— Я, сама понимаешь, не святой, но такого никогда бы не сделал… И уж лучше мне быть таким, как я есть, чем заниматься ремеслом того господина, который сейчас приходил сюда. Легко судить других, когда в жизни тебе отказу не бывало. А я… Когда я был мальчишкой, меня все называли беженцем. «Не выбрасывай старые штаны, — говорили они. — Оставь их для маленького беженца…» И меня одевали в обноски со всех мальчишек в Ле-Фарле…
А моя мать делала всю черную работу у старика Дютто и так уставала, что и на женщину стала не похожа.
— Замолчи! — прошептала Констанс.
Но он не хотел молчать. Он чувствовал, что задел ее слабую струну. Слыша музыку Шопена и голос Нюты за стеной, он совсем расчувствовался. Он мог бы вот так же прижаться к ней, плакать, толковать ей, что они оба всего лишь бедные ребятишки, и, целуясь сквозь слезы, жаловаться на судьбу.
— А Дютто даже не стеснялся, — продолжал он. — Когда ему хотелось, просто звал мою мать к себе в комнату, запирая у меня перед носом дверь. Он такой уродливый. Это итальянец и, хотя он живет во Франции вот уже сорок лет, так и не научился по-французски. Он ни с кем не разговаривает, всех ненавидит, всех презирает, уверен, что ему завидуют из-за денег. Однажды я застал его, когда он учил разным мерзостям мою сестру, а той было четырнадцать. Я сказал про это матери. А вышло так, что он ее же и поколотил… Разве это детство?
— Тс-с!.. Перестань думать об этом.
— Да разве это была жизнь? Гнешь хребет, когда столько парней, которые тебе и в подметки не годятся, по целым дням ничего не делают? Вот она, правда-то… Ну, я и не захотел оставаться в дураках…
Теперь она сама немного отстранила лицо Малыша Луи, чтобы посмотреть на него. И вдруг в порыве нежности бросилась к нему на шею, повторяя:
— Злой! Злой!
— Послушайте, Луиза…
— Да, мадам.
Луиза никогда не называла Констанс по имени, хотя та много раз просила об этом.
— Я все знаю.
— Да, мадам.
И Луиза, не такая ловкая, как Малыш Луи, слишком виновато опустила голову — с видом служанки, которую рассчитывают.
— Я знаю вашу жизнь и жизнь Малыша Луи. Знаю, что вы были любовниками, а теперь любите друг друга как брат и сестра.
Вокруг нее плыл запах недавних объятий, и на влажной постели была глубокая вмятина.
Констанс успела попудриться и подмазать губы. Она отнюдь не огорчилась, что Луиза видит ее томность и догадывается о причинах таковой.
— Не допущу, чтобы эти дряни из полиции торжествовали. Они хотели навредить вам обоим.
Видимо, в глубине души она была даже довольна, что может теперь относиться к ним немного свысока и принимать вид благодетельницы. Она попросила Малыша Луи выйти, и он бродил теперь вокруг соседней квартиры, как никогда терзаемый желанием сжать в своих объятиях Нюту.
— Между нами ничего не изменится, нет!.. Не возражайте! Так я решила… Если вы уйдете, это будет равносильно признанию, что вы насмехались надо мною за моей спиной. А я, напротив, уверена, что вы не посмеете злоупотребить моим доверием. Только сегодня я разрешаю вам обоим переночевать в отеле, потому что я должна принять своего друга-дипломата. Или нет. Вы пойдете одна. Малыш Луи останется здесь.
Этажом выше стрекотала пишущая машинка. У старика напротив, должно быть, давно потухла трубка в зубах, потому что он ни разу не шевельнулся. В клетке, слева от него, прыгала канарейка.
— А теперь помогите мне немного убраться. Мы пойдем завтракать в ресторан. Мой друг приедет только в три, и мы до этого времени успеем поесть на берегу. моря, в Жюан-ле-Пен. Возьмем такси.
— А мне можно войти? — спросил Малыш Луи, который так и не повидал соседку.
— Входи, негодник! Да собирайся побыстрее!.. Надень выходной костюм. Мы сейчас поедем на такси завтракать в Жюан-ле-Пен.
Малыш Луи переглянулся с Луизой и направился к себе.
— Не надо, — остановила его Констанс. — Теперь, когда я знаю, что Луиза тебе все равно как сестра, она может одеваться и при тебе. Не так ли, Луиза?
— Да, мадам.
— Вот и хорошо. Снимай пеньюар.
Малыш Луи отвернулся, подавил улыбку и подумал, уж не страдает ли Констанс неким пороком.
Часом позже они все трое появились на освещенной солнцем улице, разряженные во все новое, да так, что шофер такси сам остановился, почуяв, что имеет дело с выгодными клиентами.
— В Жюан-ле-Пен… Не слишком быстро… И нельзя ли поднять верх у машины?
Несмотря ни на что, Констанс уселась между ними.
Три различных запаха духов смешивались и мало-помалу улетучивались от движения воздуха.
Впервые в жизни Малыш Луи надел соломенную шляпу, купленную накануне, которая, как ему казалось, была, словно пропитана солнцем.
Глава 5
К середине августа, точнее — в первую пятницу после 5-го, карьера Малыша Луи достигла, можно сказать, апогея.
Несмотря на жару, в Ниццу отовсюду прибывала публика, и возникла такая толчея, что это походило скорее на ярмарочную толпу, чем на курортников. Английская набережная напоминала всемирную выставку, и все, даже чертово колесо за пониженную плату, создавало особую атмосферу, присущую парку с аттракционами.
Гардероб Малыша Луи был теперь в полном порядке.
И расцветка и покрой его вполне соответствовали сезону.
Его давнишняя мечта осуществилась: теперь он ходил чистенький, как рабочий в воскресное утро, когда после парикмахерской ему остается лишь надеть воротничок, чтобы быть при полном параде.
Констанс казалась счастливой. Правда, порой ее мучила ревность, но вовсе не из-за Луизы, которая по-прежнему жила вместе с ними, хотя время от времени и отлучалась.
Напротив! Уж не Малыш ли Луи, сам того не сознавая, а просто так, забавы ради, привил Констанс еще один порок?
Да и в отношении денег она оказалась совсем не скупой.
Правда, она не давала Малышу Луи крупных сумм, предпочитая каждый раз совать ему стофранковый билет.
Луиза уходила одна. Что ей было делать с утра до обеда и целый вечер? Если она не возвращалась до часа ночи, это означало, что она уже не вернется. Но ей приходилось соблюдать осторожность. Последнее время она стала замечать, что за ней следит инспектор, тот самый, что приходил на виллу Карно.
А Малышу Луи плевать было на полицию! Он не делал ничего недозволенного. Все у него шло без сучка без задоринки. Больше того, один почти незнакомый парень дал ему рекламный проспект какой-то фирмы шампанских вин, и Малыш Луи показывал его в барах, иронически предлагая принять заказ.
И все-таки по непонятной причине и вопреки здравому смыслу он испытывал в глубине души беспокойство, а иногда его даже одолевали дурные предчувствия. Перед тем как в одиннадцать лет перенести менингит, он еще за месяц почувствовал, что заболеет, но когда говорил, что скоро свалится, все над ним потешались.
Разве ему чего-нибудь не хватало? Нет! А если и не хватало, то очень немногого. Однажды он обошел бары, расположенные близ казино, где собирались главари крупных шаек из Ниццы, занятые не только женщинами, но и предвыборными махинациями, покупкой земельных участков, карточными играми.
Конечно, он не решился сказать: «Я Малыш Луи из Ле-Фарле, и неплохо бы мне получить от вас какую-нибудь работенку».
Он заходил туда разок-другой, приклеивался к бару, как муха к липкой бумаге, издали наблюдая за картежниками и робко предлагая партию в занзи или покер.
Путного, однако, ничего не получалось. На него смотрели с любопытством или безразличием, но никто с ним не заговаривал.
Тогда он переметнулся в другие бары, где по крайней мере им не пренебрегали подростки: многие из них были даже из хороших семей и считали себя самостоятельными людьми, потому что могли нанять на часок девку или по Всем правилам сыграть в белот.
И все-таки его не покидала смутная тревога. Недоставало только столкнуться нос к носу с Жэном, Чарли либо еще с кем-нибудь из «марсельцев»! Утешало его одно — эти молодчики не любят ездить в Ниццу, где не очень-то разживешься, да и в гости их никто не ждет.
Роковой вечер с Парпеном в первую пятницу после 15 августа, как и большинство злоключений Малыша Луи, начался с опрометчивой фразы.
Парпеном звали покровителя Констанс. И подобно тому как Констанс д'Орваль числилась по документам Констанс Ропике, так и этот «дипломат» никогда не был дипломатом, а занимал в былое время должность начальника таможни на севере Франции. Малыш Луи все это выведал. В Ницце у старика жила замужняя дочь, а сам он обретался в Арле, у другого зятя.
И вот, приезжая два раза в месяц к дочери в Ниццу, он пользовался случаем, чтобы переночевать у Констанс, с которой познакомился на Английской набережной.
Парпену было семьдесят два. Старик никогда не расставался с шелковым зонтиком, которым укрывался летом от солнца. При имени его Малыш Луи с трудом удерживался от смеха — он два раза оставался у себя в комнате во время свиданий бывшего таможенника с Констанс, подглядывая через замочную скважину и подслушивая через дверь.
В ту пятницу Констанс со вздохом сказала:
— Подумать только, сегодня мы не сможем спокойно провести вечер! Ведь это папочкин день.
Она называла Парпена папочкой. Называла, однако, непроизвольно, не понимая, что этим выставляет себя в невыгодном свете.
Чуть-чуть подумав, она добавила:
— Интересно, вспомнит ли он, что сегодня у меня день рождения?
Папочка дарил ей подарки и оказывал знаки внимания. Он никогда не приходил с пустыми руками. Для Констанс он был таким же добрым дедушкой, как, должно быть, и для своих внуков.
— День рождения? — удивился Малыш Луи. — А сколько тебе стукнуло?
— Злюка!
— Скажи, пожалуйста, а почему бы нам не отпраздновать это всем вместе?
Озорные мысли приходили ему в голову, когда он бывал в хорошем настроении, и он не скупился на выдумки, которые обычно тут же лопались, как мыльные пузыри.
— Да ты спятил!
— Чепуха! Что, собственно, может нам помешать провести вечер со стариком и даже пообедать в «Регентстве»?
— А как это сделать?
— Нет ничего проще. Как только старикан заявится, мы с Луизой войдем в комнату и начнем тебя целовать и обнимать, величая тетенькой, а ты скажешь, что мы твои племянники из Невера. Мы принесем с собой кремовый торт…
По привычке он посмотрел на неподвижного старца с каменным лицом, походившего на мертвеца, который целые дни проводил у своего окна в доме напротив. Вот что случается, когда человека разбивает паралич!
Заодно он подкарауливал Нюту. В этот час девушка уходила на урок пения, и он решил заговорить с ней на улице.
— И взбредет же тебе в голову!.. — пролепетала Констанс, поддавшись искушению.
— Да это же, черт возьми, совсем просто!
Нет, это было далеко не просто, но Малыша словно кто-то подзуживал. Порочный, он резвился как рыба в воде среди этих сложностей и ловушек. Он любил чувствовать себя так, будто люди — марионетки, а он дергает за веревочки, которые держит в руке.
Он и в самом деле отправился за тортом, и Луиза нехотя пошла с ним, не скрывая дурного настроения.
— Ну и веселье! — возражала она. — А еще, глядишь, старик за мной приволокнется.
Ив самом деле, Луи чуть было не вошел в комнату Констанс в самую неподходящую минуту, но вовремя сдержался. Даже до него дошло, что это было бы уж слишком. Спустя некоторое время они с Луизой поздравили «тетушку». Была разыграна сценка с объятиями и слезами умиления на глазах у Констанс. Старик был представлен «племянникам из Невера».
— Господин Парпен, мой добрый друг, который иногда навещает меня, и мы с ним вспоминаем былое.
Поначалу все шло не слишком гладко. Чтобы как-то заполнить время — обедать было еще рано, — Малыш Луи предложил сыграть в бело г. Потом все вместе отправились в ресторан «Регентство»: впереди Луиза с Парпеном, за ними Малыш Луи под руку с Констанс:
— Боюсь, как бы он чего-нибудь не заподозрил.
Но у Парпена мысли были заняты другим — больше всего он опасался, как бы ненароком не встретиться с дочерью или зятем, и потому выбрал укромный уголок в глубине зала.
Меню действительно было роскошным: икра (Луиза ее, кстати, терпеть не могла), лангуст по-американски, цыпленок, мороженое. Но сначала выпили шампанского, потому что Малыш Луи сразу заявил:
— В день рождения всегда начинают с шампанского.
Констанс, любившая выпить, хотя алкоголь действовал на нее плохо, сидела совсем разморенная, с умилением на лице, а Парпен с явным беспокойством ожидал, когда ему придется платить по счету.
— Итак, вы живете в Невере? Прекрасный город!
В свое время я отбывал там воинскую службу…
Луиза казалась озабоченной и посреди обеда многозначительно взглянула на Малыша Луи. Он не сразу понял, в чем дело, а может быть, и не хотел понимать, но потом встал, извинился и пошел к умывальнику. Луиза последовала за ним.
— Что случилось?
— Не знаю. Что-то мне неспокойно. С моего места видно в зеркало почти все кафе. Как только мы сели за столик, я увидела в другом конце зала инспектора полиции. Должно быть, он за нами следит.
— Ну и что?
— Не поручусь, но я почти уверена, что на тротуаре мелькнул Жэн.
Малыш Луи даже не вздрогнул. Он был поражен, но не подал вида, что испугался, и, чтобы немного прийти в себя, притворился, что поправляет перед зеркалом волосы.
— Это точно?
— Да, кажется, это был Жэн. Он стоял у дверей ресторана и разговаривал с какими-то парнями, сидевшими за столиком на террасе.
— Думаешь, он еще здесь?
— Не знаю. Будь осторожен!
Привычным жестом он нащупал в кармане пистолет и подтянул ремень на брюках.
— Иди к столу!.. И сразу же скажи, что тебе нужно выйти. Придумай что-нибудь. Обойди вокруг и посмотри, стоит ли Жэн еще на террасе.
— А если он меня задержит?
Луи только пожал плечами и добавил:
— Делай, что тебе говорят. Остальное тебя не касается.
Оставшись один, он вытер руки и лицо, потом посмотрел на себя в зеркало. Он давно предчувствовал, что рано или поздно это должно случиться, но старался отгонять от себя подобные мысли.
Он не имел права забирать Луизу из публичного дома в Йере, ведь она еще принадлежала Жэну, Да и в Лаванду он вел себя не по правилам — не смог удержаться, чтобы не пофорсить. И наконец, наговорил лишнего Констанс, а та, в свою очередь, проболталась хозяину казино на молу.
Да, если уж говорить начистоту. Малыш Луи должен был признаться, что Жэн не зря считал его любителем или, как он выражался, «артистом».
Но ведь с тех пор, как Малыш жил в Марселе, утекло немало воды.
— Позвольте, тетушка, я выйду на минутку подышать свежим воздухом, — попросила Луиза, когда Малыш Луи вернулся на свое место. — Меня что-то мутит…
Видимо, лангуст…
И с этой минуты судьба Малыша Луи резко изменилась. В последний раз — а кстати, и в первый — он сидел в большом ресторане за столиком, покрытым белой скатертью, уставленным изысканными блюдами, потягивая шампанское из бокала.
Он передвинул стул, чтобы тоже видеть в зеркале, что происходит у него за спиной, и узнал инспектора, сидевшего за чашечкой кофе.
Луиза поднялась, вышла на террасу, и Малышу Луи показалось, что она сделала ему едва заметный знак, означавший: «Да, это Жэн».
Но она была далеко. Между нею и зеркалом сверкали огни ламп, клубился табачный дым, сновали люди.
— Вы что-то рассеянны, — заметил Парпен с сочувственной улыбкой. — Я сейчас говорил госпоже Констанс, что ваша жена очень мила. У вас есть ребятишки?
Малыш Луи на какое-то время настолько отключился от всей это комедии, что сначала посмотрел на старика непонимающим взглядом и чуть было не буркнул: «Какую чушь вы мелете! Рехнулись, что ли?»
Но он этого не сказал, а только рассеянно проронил:
— Пока нет.
Теперь он уже наслаждался комизмом ситуации. Он видел их, Констанс и Парпена, совсем иными глазами — при резком освещении, со всеми бородавочками, с мутными глазами искателей сильных ощущений, со смущением и робостью, присущей людям, которые знают свою вину и заранее улыбаются, как бы выпрашивая прощения.
У Констанс кровь прилила к лицу, щеки еще больше побагровели. Парпен — волосы ежиком и квадратная челюсть — был, как видно, в свое время одним из тех ретивых служак, которые обращаются с подчиненными грубовато, хитро делая вид, будто этого требует дисциплина.
Луиза не возвращалась. Если Жэн и вправду там, он, должно быть, подошел к ней на проспекте Победы и потребовал объяснений. А может быть, он пришел не один?
Не в его правилах ходить в одиночку — он почти всегда таскает с собой толстяка Чарли.
Что могла сказать ему Луиза? Не струхнула ли она?
Ведь она и раньше была влюблена в Малыша Луи, а теперь наверняка любит его не меньше прежнего. Это ясно как дважды два. Безропотно уходя за ним из публичного дома в Йере, она не могла не знать, чем ей это грозит.
Но ей недоставало ума и самостоятельности. К тому же она привыкла к прежнему образу жизни. Она нуждалась в покое и, с тех пор как очутилась в Ницце, заметно скучала по размеренной жизни в публичном доме, с часами отдыха в шезлонге на тротуаре и бульварными романами, которые почитывала в перерыве между клиентами.
Должно быть, Малыш Луи ее немного пугал. Он вел себя не так, как другие, и никто не относился к нему одобрительно.
Не вернется ли она к Жэну, которому Малыш Луи так и не заплатил пяти тысяч, которые тот требовал за Луизу?
Теперь никто уже не старался поддерживать оживленный разговор, и Констанс с Парпеном заскучали. А Малыш Луи по-прежнему был начеку, немного успокоенный тем, что в зале сидит инспектор.
Если они его заметят и если Луиза скажет им, что он здесь, они все равно ничего не посмеют сделать. Иначе только докажут, что причастны к делу в Лаванду.
Если они струсят, тем хуже! Но ведь кто их знает! Во всяком случае. Малышу Луи вовсе не хотелось столкнуться на тротуаре с Жэном и его ребятами, которым, конечно, ничего не стоит уволочь его в какое-нибудь укромное местечко на берегу.
— Ваша жена что-то не возвращается, — заметил Парпен.
— Ничего. С ней это бывает.
— Господин Парпен устал, — сказала вдруг Констанс. — Ведь мы с ним уже не молоды. Что, если мы вас оставим?
— Пожалуйста. Не стесняйтесь.
Парпен уплатил по счету, сказал несколько любезных слов и дал свой адрес в Арле на тот случай, если Малыш Луи окажется там.
Констанс и Парпен удалились. Луи снова вытер пот со лба. Решив не оставаться за этим столиком, а устроиться где-нибудь неподалеку от инспектора, он бросил взгляд на террасу, но не увидел там ни одного знакомого лица.
Смешнее всего, что ему было не по себе из-за лангуста, а в такой момент это совсем некстати.
Малыша Луи душили злость и тревога. Ему казалось, что судьба к нему явно несправедлива.
Почему всегда кто-то становится на его пути? Он дорвался наконец до хорошей жизни и никому не вредил.
Даже чуть было не влюбился.
Этим утром он подошел к Нюте на улице, поздоровался, приподняв шляпу, и самым серьезным тоном осведомился:
— Надеюсь, вы разрешите немножко проводить вас?
— Если хотите…
Она произнесла это не без лукавства, обнажив в улыбке ровные зубы и сверкая темными глазами.
В руках у девушки была папка с нотами, и он вызвался нести ее.
— И вы не боитесь жить в Ницце совсем одна?
— А чего мне бояться?
— У вас нет ни родных, ни друзей?
— Мама поет в Нью-Йорке, в «Метрополитен-Опера». Один раз она приезжала на три месяца во Францию..»
— А почему вы заперлись на ключ, когда я хотел зайти поздороваться с вами?
— Не знаю.
Всего за четверть часа до этой встречи он обсуждал с Констанс злополучный обед в ознаменование дня ее рождения, а теперь, как робкий юнец, шел слева от молодой спутницы, которая остановилась вдруг раньше, чем он ожидал:
— Вот я и пришла. Мне сюда.
И вот сейчас в ресторане «Регентство», сидя поблизости от инспектора, он думал о том, что это единственная настоящая девушка, какую он когда-либо знал, если не считать дочери кровельщика в Фарле, которую огулял в винограднике, когда и сам был ненамного больше ее просвещен в вопросах любви.
Но почему он снова вспомнил Нюту? Ему казалось, что, если он выйдет сейчас из ресторана, покинет место, где он как бы под защитой инспектора полиции, его безопасности наступит конец, и ощущение это было так назойливо, что он невольно поднялся и сел напротив инспектора:
— Разрешите?
— Прошу вас. Что, плохи дела?
Некоторое время они сидели молча. Подошел официант.
— Мне ничего. Я уже обедал.
Опять молчание. Потом инспектор буркнул:
— Ну что?
Малыш Луи закинул удочку, чтобы выведать правду:
— Вы их видели?
— Они были здесь еще десять минут назад, — ответил инспектор, указывая на террасу.
Значит, их было много: полицейский употребил множественное число.
— Вы думаете, они ищут меня?
— Во всяком случае, не меня, — пошутил собеседник. — Да ведь я им ничего не сделал! — возмутился Малыш Луи.
Его нетерпение стало уже переходить в панику. Луиза все еще не возвращается, а это плохой признак. Он был почти уверен, что «марсельцы» поджидают его на углу.
— Почему вы на меня так смотрите? — сердито спросил он инспектора.
— Потому что чувствую: я не ошибся. Ты сейчас наделаешь глупостей.
— Каких?
— Почем я знаю!
— Тогда помолчите! — огрызнулся Луи и, возмущенный, выбежал в гардероб за своей соломенной шляпой.
Малыш Луи подумал, что полицейский наверняка последует за ним, значит, ему нечего бояться. Но вдогонку за ним бросился официант. Оказывается, он забыл уплатить по счету. На улице он осмотрелся и, не увидев знакомых лиц, направился к площади Массена.
Лучше всего отсидеться несколько дней в деревне — подсказывал ему инстинкт.
Если он и раздумывал, то лишь насчет одного — куда ехать. Жэн и его дружки никогда надолго из Марселя не отлучаются. Дел там у них хватает. У Малыша Луи при себе было триста франков, из которых двести он вытащил из сумочки Луизы накануне вечером.
Еще ничего не решив, он начал действовать. В сторону Английской набережной шел автобус. Не успев прочитать на табличке обозначенный маршрут, Малыш Луи вскочил на подножку, поспешно пробрался в салон, открыл бумажник и успокоился, убедившись, что деньги целы.
Кондуктор стоял перед ним в ожидании. Малыш Луи поднял голову.
— Куда идет автобус? — спросил он. А затем, поймав удивленный взгляд кондуктора, повторил:
— Я тебя спрашиваю: куда идет автобус?
Он инстинктивно вновь обрел свой наглый тон и манеру всем «тыкать».
— В Грасс.
— Так что же ты вылупился на меня и не даешь мне билет до Грасса?
У него все еще не было никакого плана, но вдруг он подумал, что кто-нибудь мог видеть, как он садился в автобус, и запомнить маршрут.
Ни минуты не колеблясь, он направился к выходу.
— Это еще не Гpacc, — предупредил кондуктор.
А он увидел огни и крикнул в ответ, соскакивая на ходу:
— Заткнись!
И только пройдя метров сто, прочел на дорожном указателе надпись «Кань-сюр-Мер». Была половина первого ночи. Заметив на большой дороге какой-то странный бар и стоящие у входа две большие машины, он толкнул дверь и очутился в наполненной табачным дымом узкой комнате, разделенной высокой стойкой, перед которой стояло три табурета. Слышался громкий разговор. По одну сторону стойки — до предела возбужденные англичане, по другую — две женщины, одна из них очень толстая, которые старались, как умели, отвечать на вопросы иностранцев, мешая французские слова с английскими, Когда им было непонятно, что у них спрашивают, они по-идиотски хихикали.
Малыш Луи проскользнул в угол и заказал мятного ликера.
Глава 6
Он не подозревал, что отныне все мельчайшие его действия приобретут значение и что в течение года ему придется объяснять причины поступков, над которыми он не задумывался даже в те минуты, когда их совершал.
Например, когда он переступил порог этого бара, на него напала такая хандра, что ему и разговаривать ни с кем не хотелось. Малыш Луи вообще не любил англичан. Значит, у него была причина сидеть в уголке, тем более что глупый смех одной из женщин за стойкой вызывал у него отвращение.
А потом, когда англичане здорово нализались и все еще продолжали пить, они стали друг перед другом выхваляться — кто из них сильнее и ловчей. К тому времени они уже так упились, что море им было по колено, и после каждого дурацкого фокуса раздавались взрывы истерического смеха.
Малыш Луи с развязным и презрительным видом потребовал вдруг колоду карт, привычным жестом распечатал ее, подвалил к компании и стал вместе с ними пить, а они безуспешно пытались подражать его манипуляциям. Прошел час, а он все еще показывал фокусы, коверкая английские слова и жестикулируя.
Одному из англичан, рыжему парню, не терпелось отсюда уехать, и он дважды шепнул на ухо Малышу Луи:
— Кино?
Послышался шум моторов. Женщинам удалось получить с клиентов чаевые. Свежий воздух ворвался в зал, и Малыш Луи вдруг услышал, как кто-то из компании, стоя в машине с откидным верхом, крикнул ему:
— Come in! [1]
Он понял, что его приглашают, а когда рыжий еще раз повторил слово «кино». Малыш Луи решил отвезти их на одну известную виллу в верхней части Канна.
Конечно, он не забыл о Жэне и его дружках, но ему казалось, что он от них ускользнул, к тому же добрая порция виски помогла ему быть довольным собой.
Сложилось так, что в Канне они потеряли время на ожидание второй машины, которая неизвестно почему прибыла только через полчаса. Потом искали дорогу на виллу. Добравшись, позвонили в дверь и долго галдели перед домом, глядя на закрытые окна. Наконец одно из них отворилось, и старая неряшливая женщина заорала:
— Да вы что, рехнулись? Не видите — закрыто!
— А мадам Розы нет? — спросил Малыш Луи.
Ему хотелось, чтобы англичане по крайней мере убедились, что это заведение ему знакомо.
— Говорят вам, закрыто! Если не прекратите шум, вызову полицию.
Машины покатили дальше. Малыш Луи не знал, куда они едут. Спутники его дремали, а когда добрались до Эстереля, стало уже светать.
Остановились в Сен-Рафаэле. Небо на востоке порозовело. Малышу Луи что-то сказали, но он не понял. Тогда англичане открыли дверцу и указали ему на тротуар.
Он очутился у вокзала. Стрелки больших тусклых часов показывали половину пятого. На улицах, казавшихся слишком широкими, — ни малейшего признака жизни.
Машины отъехали, а англичане, ухмыляясь, махали ему. Неужели они посмеялись над ним?
Он подумал, что будить хозяина гостиницы не стоит.
Спать все равно оставалось не много. Потом ему это припомнят: «Значит, вы прогуливались по улицам в полном одиночестве?»
Видит бог, было именно так. Он обогнул газетный киоск, разглядывая маленькие рыбачьи лодки с трескучими моторами, скользившие по сверкающей глади.
Малыш Луи размышлял, насколько это было возможно после бессонной ночи и выпитого виски, к которому он не привык. Лучше всего на несколько дней исчезнуть, подумал он, чтобы Жэн с компанией потеряли его из виду.
Узнав, что на Ле-Фарле скоро пойдет «мишленка»[2], он решил съездить к матери, с которой не виделся полгода.
Для него, как и для многих других, побережье от Марселя до Ниццы и Монте-Карло представлялось огромным бульваром, изъезженным машинами, автобусами и «мишленками», в которые порой садятся бог весь зачем.
Он выпил кофе с двумя рогаликами, но потом так никогда и не вспомнил, в каком это было баре. Он сумел только ответить на вопрос присяжных, что из внутреннего помещения несло столярным клеем и что хозяин был насупленный коренастый брюнет.
Почему бы ему не дать телеграмму Констанс? Он подошел к вокзальному телеграфу и стал прилежно выводить буквы, делая немало ошибок: ведь Малыш Луи не окончил школы.
«Вынужден ненадолго уехать делам вернусь через три дня Луи».
Когда его потом, на суде, спросили, не заметил ли он чего-нибудь необычного, и он ответил, что нет, председатель торжествующе заявил: странно, что подсудимый не обратил внимания на непредвиденную восьмиминутную остановку, происшедшую из-за аварии за первым поворотом после Сент-Максима.
Его это ничуть не поразило. Как раз в те минуты он зачитался в газете продолжением романа, начала которого не знал и никогда не узнал конца. Он и не глядя в окна инстинктивно почувствовал, что находится в Каркеране.
Ла-Фарле был отсюда недалеко, на полпути между Каркераном и Ле-Праде, по правую руку, там, где, проходя по засушливой равнине, видишь только темную зелень виноградников на красноватой земле да еще время от времени попадается хибарка, которая в раскаленном зноем воздухе кажется мухой, попавшей в сироп.
Дом старого Дютто, иначе говоря — дом его матери, стоял на отшибе, и он пошел кратчайшим путем, по тропинке, окаймленной тростником, где трещали цикады. Он издали узнал человека, с которым когда-то был знаком по школе: кряжистый малый, уже располневший, проехал мимо него на телеге. Малыш Луи не поздоровался с ним, а тот либо его не заметил, либо, задремав под стук колес, принял за обычного прохожего.
Нужно было пересечь еще один виноградник. Как всегда, он подошел к дому со двора. Следовало соблюдать осторожность: перед тем как войти — разведать, в каком настроении Дютто. Над лоханью склонилась знакомая фигура. Черная крестьянская юбка с подоткнутым подолом.
Ниже колен красные тесемки, которыми подвязаны чулки.
— Ма… — окликнул он.
Женщина обернулась, прищурив от солнца глаза, и сразу спросила:
— Зачем явился?
— Ни за чем. Просто так. Пришел проведать тебя.
— Подумать только, в такой час…
Она позволила сыну поцеловать себя в лоб, но по-прежнему смотрела на него недоверчиво:
— Бьюсь об заклад, ты опять что-то натворил.
— Да нет же! Просто был поблизости и подумал…
— Ты, верно, подумал, что можно будет перехватить у меня сотню. Самое времечко! Дютто, кажись, вот-вот отдаст богу душу, а я так и не узнала, составил ли он завещание. Такой подлюга…
— А где он?
— В доме. Можешь заглянуть в окно.
— А он не разорется?
— Да что ты! Ему нынче и рта не раскрыть.
Луи приоткрыл окно. Как раз напротив на высокой деревенской кровати лежал старик с открытыми глазами и слюнявым ртом, а вокруг его головы вился рой синих мух. В комнате стоял отвратительный запах, как от прокисшего молока.
— Не бойсь! Он тебя даже не узнает. Он уже десять дней все равно как живой труп.
У нее всегда был визгливый голос, и будь Дютто в сознании, он все бы услышал.
— Ма, а ты врача звала?
— В первый день. Он спросил, хочу ли я отправить его в больницу. Я не захотела. Никогда ведь не знаешь…
Малыша Луи окружили куры, такие же длинноногие, как те, которые копошились в этом дворе, когда он еще был малышом. Старуха отжала тряпки и, насилу выпрямившись, похожая на изношенный механизм, направилась к дому.
— Ты сытый? — спросила она.
— Нет.
— Где лежит хлеб, ты знаешь. А в шкафу соленая рыбешка.
Нигде с такой остротой не ощущаешь бедность, как в этой хибаре, хотя она и была окружена виноградниками с набухшими гроздьями. Все ставни были закрыты, некоторые даже заколочены — так здесь боялись света. Котята, смахивающие на больших крыс, разбежались при появлении Малыша.
— Сестру-то хоть видел?
— Давненько.
— Чем ты занимаешься, я не спрашиваю. Путного от тебя не дождешься.
Малыш Луи ничего не ответил, но ему сразу стало не по себе. Еду он приготовил сам. Он не помнил, чтобы здесь, как у других, садились за стол вместе; в этом доме, где каждый гнул свое, так ненавидели друг друга, что, слушая скандалы, можно было принять его обитателей за умалишенных.
Ссоры и сейчас было не избежать. А из-за чего?
Это даже трудно объяснить. Старуха бросила такую фразу:
— Подумать только, как это ты унюхал!
— Что унюхал?
— Да что Дютто помирает. Тебя сразу же принесло, да только ты прикидываешься, что денег тебе не надо.
— Поверь, я…
— А я знаю тебя как облупленного. Как заведутся у меня гроши, так ты тут как тут и станешь мне опять грозить, как делывал в четырнадцать лет.
У нее была удивительная память на такого рода вещи.
Она не забывала ни одного проступка сына, помнила даже, когда это произошло, дату, погоду, все мелочи.
История, о которой она вспомнила, могла показаться и драматической и забавной. В то время в Тулоне начали крутить первые американские фильмы, и Малыш Луи добирался в город, цепляясь за кузов грузовиков. Он и его товарищи только и знали, что играть в бандитов, и каждый таскал в кармане черную тряпку, которая могла сойти за маску.
И вот однажды Луи полусерьезно-полушутя появился в такой маске у матери в комнате, когда та одевалась, и приказал:
— Гони пять франков! Пять франков, или стрелять буду.
У него был всего лишь игрушечный пистолет «Эврика». А она ему припомнила эту историю десять лет спустя.
— Как только подумаю, что твой бедный отец отгрохает, бывало, девять или десять часов в шахте, а потом даже в кабачок не зайдет… Просто диву даюсь, как от него пошло такое семя!
Луи засвистел. Мать рассвирепела. Через открытую дверь виден был Дютто на кровати, с глазами, устремленными в потолок, и такими же застывшими чертами, как у старика с каменным лицом в Ницце.
Может быть, ему что-нибудь нужно? Вполне вероятно. Но как это узнать? Он же не в силах ни двигаться, ни говорить.
— До чего вредный, сволочь! — продолжала она. — Двадцать лет держал меня в служанках, да еще такое вытворял, что и сказать срамно. А теперь вот собрался на тот свет, а мне ни гроша не оставил. И как мне теперь жить, такой старой? Ведь я еле-еле из колодца ведро вытягиваю. А от такого сыночка, как ты, какой прок, коли никогда не знаешь, в тюрьме он или на свободе. Да и дочка, твоя сестрица, тоже хороша! Как стала хозяйкой бара, так и за мать не признает. Помню, на рынке притворилась, что меня не узнала. Ей, видите ли, зазорно, что мать фасолью торгует, покупателей скликает!..
Бьюсь об заклад, меня даже в богадельню не возьмут.
Она плакала, не переставая говорить, снова распаляясь. Такой он ее знал всегда. Знал также, что мать настрадалась в жизни. Быть может, в Лилле, когда пришли немцы, у нее было нервное потрясение?
С годами она все переносила тяжелее, и можно было представить ее жизнь вдвоем со старым Дютто, который слыл за самого подлого человека во всем Ле-Фарле и о котором еще тридцать лет назад говорили, что он «не такой, как другие».
— Послушай, ма!
— С чего это ты стал носить кольца? — На левой руке у него было кольцо, и это не ускользнуло от холодного взгляда матери. — Ты носишь кольца, как девчонка, и ты…
Должно быть, у него сорвалась с языка грубость. Она ответила тем же. Потом невозможно было вспомнить слова, слишком они бессвязные. Трудно найти последовательность в этой перебранке, где каждый старался посильнее обидеть другого. А перед глазами у них все время был старый Дютто в его ужасной неподвижности.
Наконец терпение Малыша Луи лопнуло. С него хватит! Лишнего мамаша наговорила! Он ухватил стул за ножку и начал колотить по окнам, по кастрюлям, упиваясь грохотом и дребезгом осколков.
— вдавиться мне, если я когда-нибудь еще приду сюда!
— Не удавку тебе, а…
Он выскочил, задыхаясь от гнева и забыл свою соломенную шляпу; в пятидесяти метрах от дома столкнулся со своим старым разжиревшим товарищем, который, вероятно, все слышал. Луи с ним не поздоровался, а тот обернулся ему вслед.
Кстати, какой это был день? Малыш Луи даже этого не знал. Все смешалось, он не спал ночь, часы бежали один за другим. Он прошел через поселок, ни с кем не здороваясь, дошагал до Прадс и решил выпить рюмку в трактирчике со стенами, выкрашенными светло-зеленой краской. Похоже, там его знали, но ему совсем не хотелось разговаривать.
Вскочив в первый проходящий автобус. Малыш Луи доехал до Тулона, а там от нечего делать пошел в кино.
Что еще он делал в эти два дня, о которых у него потом потребуют отчета с точностью до минуты? Ссора с матерью вконец испортила ему настроение. Она всегда мечтал иметь мать, как у всех, исполненную снисходительности, прощавшую своему сыну все и готовую прийти ему на помощь в любых обстоятельствах. У него всегда было по-другому. Мать судила его, быть может, даже суровее, чем нужно.
Конечно, у него были поползновения вернуться в Марсель, в бар «Экспресс», где он обязательно встретит Жэна и других, и объясниться с ними начистоту.
А пока он купил новую кепку на Кронштадской набережной у одного бывшего чемпиона по регби, который его узнал и подумал, что Луи до сих пор живет в Авиньоне.
Теперь у него в кармане оставалось уже только сто пятьдесят франков, и он решил попроситься на ночлег к сестре.
— Что с тобой? — спросила она, увидев Луи.
— А что со мной должно быть?
— Не знаю. Что-то ты не в себе.
— Чего тебе чудится? У меня все в порядке.
Зять не любил его, но это не помешало им до часа ночи играть в белот. Переночевал он на матраце в баре, как уже бывало не раз. Утром помог отправить пустые бутылки, около одиннадцати перекусил, сел в автобус на Тулон, а там, напротив вокзала, сыграл партию в занзи с каким-то арабом.
Он томился. Ему очень хотелось знать, что слышно в Ницце, и, дотянув до трех часов, он, не в силах больше выдержать, вскочил в автобус, который шел только до Сен-Рафаэля. На бульваре ему показалось, что он узнал машину одного из англичан, но не обратил на нее внимания и запомнил только, что над номером стояли буквы «G. В.».
Он мог бы в тот же вечер вернуться в Ниццу, но попал на праздник, танцевал, познакомился с молоденькой гостиничной горничной, от которой пахло чесноком, и не расставался с ней до двух ночи, так и не добившись того, на что рассчитывал.
На этот раз Луи заночевал в гостинице. Утром побрился и в одиннадцать, оказавшись в Ницце, бодрым шагом, с напускным спокойствием направился к вилле Карно.
Ключ от квартиры был у него. Войдя в парадную, он не заметил консьержки, которая редко сидела у себя.
Поднялся наверх, не встретив никого из жильцов, услышал знакомый голос Нюты, разучивающей «Колыбельную» Шопена.
И тут же, едва открыв дверь, он почувствовал страшный запах и с беспокойством остановился, обнаружив в комнате полный беспорядок: выдвинутые ящики, кучу разных вещей, валяющихся на ковре.
Войдя в спальню, он еле сдержал крик. На неубранной постели лежала Констанс в короткой рубашке, с перерезанным горлом и пятнами крови от груди до бедер.
Первым его побуждением было открыть окно, потому что запах был невыносимым, но он тут же передумал и решил бежать. Поспешно вышел, забыв запереть дверь на ключ, кубарем слетел с лестницы и очутился на улице, стараясь овладеть собой, идти как все, дышать нормально.
Шел он долго. Прежде всего нужно было покинуть опасную зону. Ему очень хотелось пить. В горле пересохло. Но только в конце проспекта Победы он осмелился зайти в бар и заказать аперитив.
Малыш Луи видел себя в зеркале между бутылками. Он пока ни о чем не думал, только пил, и аперитив показался ему таким же мерзким, как воздух в комнате. Он не удержался от гримасы. Хозяин удивился:
— Невкусно?
— Дайте чего-нибудь другого. Коньяку или рому.
— Что же все-таки дать, ром или коньяк?
Ему удалось улыбнуться. Очень глупо выдать себя эксцентричным поведением в баре, где хозяин тоже малость соображает.
— Я чуть было не угодил под трамвай, — объяснил он. — Меня здорово стукнуло.
— Такое же случилось на прошлой неделе как раз у нашего дома. Старуха попала под трамвай, ей отрезало голову.
Он так нервничал, что тут же подумал, не сказал ли хозяин это с умыслом. Может быть, все уже знают об убийстве Констанс.
Выйдя из дома, он даже забыл оглядеться, чтоб проверить, нет ли ловушки. А ведь выслеживать его могли.
Он встал и выглянул на улицу, но причин для беспокойства не обнаружил.
— Ну, как ром, хорош?
— Очень. Спасибо. Налейте еще. — Луи выпил залпом и вытер рот. — Сколько с меня?
Он пошел в направлении, противоположном вилле Карно, и вздрогнул, очутившись напротив Дворца правосудия, такого же безлюдного, как на открытке.
Добравшись наконец до тенистой улочки, он уселся за круглым столиком на террасе кафе, рядом с зеленщиком, и попытался собраться с мыслями.
Преступление, конечно, совершил Жэн! В этом он не сомневался. Не сомневался и в том, что это заранее рассчитанная месть. Очевидно, что, как только труп Констанс обнаружат, все улики падут на него. Малыша Луи, который с ней жил.
Он совершил ошибку, убежав сразу. Следовало осмотреться, удостовериться, не оставил ли он следов, и подумать, как быть.
Вдруг он вздрогнул и резко выпрямился. Ощупал карманы и понял, что оставил ключ в дверях. Сможет войти любая соседка. Установят, что ключ принадлежит ему, обнаружат отпечатки пальцев…
Первым порывом его было мчаться на виллу Карно, но следовало еще расплатиться.
Потянулись ужасные часы. Пробираясь вдоль стен, невольно оглядываясь, а иногда идя обычной походкой, он обошел все бары, где можно было встретить Луизу, но спрашивать о ней не решился. Несколько раз подходил метров на сто к вилле Карно и был почти уверен, что слежки за домом нет.
Впрочем, если бы преступление было раскрыто, кто стал бы держать труп в комнате в такую жару?
Он все думал, пока дико не разболелась голова. Приходил к различным заключениям, из которых самым существенным было одно: в кармане у него осталось всего-навсего девяносто два с половиной франка!
Малыш Луи не мог понять, то ли на улице очень знойно, то ли его просто бросает в жар. В городе отмечали какой-то праздник. Кое-где в окнах вывесили флаги, по улице прошел духовой оркестр. А может быть, сегодня просто воскресенье?
Раза три, не меньше, он порывался пойти в уголовку и выложить все начистоту или, скорее, уверял себя в том, что решится это сделать. Но в последнюю минуту что-то его останавливало.
Сквозь зубы он твердил, что волен это сделать, что ему никто не в силах помешать, воображал, что бросает эти фразы в лицо Жэну и Чарли, и ему казалось, что он видит, как они улыбаются, беспощадно и презрительно.
Нет, в уголовку он не пойдет. Теперь ему это ясно как дважды два. Не пойдет потому, что не может пойти — что-то мешает ему так поступить, какое-то чувство, похожее одновременно на восхищение и на страх, а еще на уважение к самому себе.
Но как они рассчитались с ним! Отомстили жестоко Я хладнокровно.
А теперь, быть может, наблюдая издали, видят, как он ходит вокруг дома, постепенно приближаясь к нему, как бродит по барам и пьет ром, рюмку за рюмкой, отчего взгляд его становится обреченным и саркастическим.
— Прежде всего, — проворчал он сквозь зубы, — мне не поверят. Никто мне не поверит.
И он бродил, перепуганный и озлобленный, преследуемый мыслью, что сам же подвел себя отпечатками пальцев, раздавленный сознанием всемогущества «марсельцев».
Так или иначе, нужно дождаться ночи, а значит, ему предстоят новые рюмки рома и хождение по тротуарам.
Глава 7
Со временем люди, чья компетентность засвидетельствована дипломами, будут серьезно рассуждать о предумышленности, как если бы она имела хоть какое-то отношение к делу. Обвинение в предумышленности вызвали перчатки. А он-то случайно подумал о них около восьми вечера, когда большинство магазинов уже закрылось, а в лавчонке, принадлежащей двум старым девам, которые торговали и зонтиками, резиновых перчаток не нашлось, и он купил по дешевке кожаные, да к тому же еще желтого цвета.
Перепалку на суде вызовет умозаключение адвоката:
— Если бы Луи Берт, — (ему возвратили имя и фамилию, которыми он почти никогда не пользовался: уже в школе его звали Малыш Луи), — не оказался в полку единственным человеком, способным таскать говяжьи туши, если бы из-за такой физической силы его не использовали на бойне, хотя по профессии он столяр-краснодеревщик, Берт не научился бы рубить мясо и, следовательно, не сумел бы…
А розовощекий коротышка прокурор с шелковистыми седыми волосами и тонкими, закрученными кверху усиками подпрыгнет, как чертик из коробочки, и выкрикнет с искренним негодованием:
— Вы уж скажите прямо, что за это ужасное убийство ответственна французская армия!
И эти люди, как и многие другие, будут спорить о степени его вменяемости. Но разве можно ее определить, находясь в зале суда, а не там, где все это случилось? Ведь и сам Малыш Луи не мог разобраться в своем тогдашнем состоянии и рассказать, о чем он думал в течение последних двух суток. Чего только не приходило ему в голову, хотя бы в первые часы того злополучного дня, когда он вернулся после полудня на виллу Карно.
А тут еще ром, который не опьянил его, но понемногу превратил в беспомощную жертву, обезумевшее от страха насекомое, зажатое в огромном кулаке.
И в конце концов, все эти люди никогда ничего не поймут. Не поймут и его реакции или, скорее, отсутствия реакции: ведь, обнаружив труп Констанс, он сперва был лишь раздосадован, а потом убежал, гонимый страхом ареста, сожалея, что рядом с ним нет Луизы.
Его мучило одиночество. Признавшись в этом, он рассмешил бы присяжных. Но это была правда. Одиночество было ему нестерпимо, а он всегда был одинок!
Конечно, не по вине этой бедной женщины, его матери, не похожей на других матерей. Малыш Луи прекрасно помнил — ему не было пяти, и что он мог тогда натворить? — как она с отчаяньем закричала на него:
— Навязался ты на мою голову!
Мэр селения Ле-Фарле терпеть не мог Малыша Луи и всякий раз напоминал полевому сторожу[3], чтобы тот получше приглядывал за сорванцом. И все они так. А уж парни из Марселя, Жэн и его дружки, и вовсе ничего не понимали. Они не сомневались, что Малыш Луи для того и связался с ними, чтобы стать членом шайки.
Да ведь и любовь была для Луи не увлечением женщиной, а просто жизнью вдвоем, избавлявшей от одиночества.
«Баста!» — говаривал он себе, чтобы избавиться от неприятных мыслей. Он и нынче с утра до вечера мог повторять «баста».
Но вот что раздражало больше всего — не успевал он прогнать одну мысль, как появлялась другая, не менее мрачная, тогда как все окружающие жили своей повседневной дурацкой жизнью, ни о чем не догадываясь и с безразличными лицами слоняясь по улицам.
Смекни он сразу, как все получится, — удалось бы ему вовремя удрать в Италию или нет? Уж так ли необходимо было возвращаться за ключом, на котором остались отпечатки его пальцев? Позарились ли «марсельцы» на. старухины деньги и нашли ли их? А может быть, просто хотели ему отомстить? Сумели ли они увезли Луизу?
А если…
Факты утрачивали реальность, а он с больной головой, как после кошмарного сна, все думал, беспрерывно возвращаясь к исходному пункту, стараясь обрести ясность мысли, ни на что не обращать внимания.
Он невольно пожимал плечами, заметив вдруг чье-то безмятежное лицо, бог весть зачем промелькнувшее в людском потоке.
А причиной всему — ключ в двери, труп, кровь…
Он находил решения, отбрасывал их и вдруг спохватился, что совершенно забыл о перчатках и остром ноже на кухонном столе.
В комнате на зеркальном шкафу он видел вместительный чемодан. Констанс говорила, что купила его еще в прошлом году к лыжному сезону.
Таких подробностей громоздилось сотни и тысячи. Они путались в сознании, и Луи пытался привести их в порядок.
Кстати, на месте ли квитанция на норковое манто?
Он-то знал, где она хранилась, и подумал: а знала ли об этом Луиза? Если знала, то, конечно, должна была прихватить ее.
В тот день Луи не обедал. Дождавшись половины десятого, он вошел в виллу Карно и поднялся по лестнице с видом возвращающегося к себе жильца. Его тут не раз видели, и никто на него не обратил внимания.
Полиция могла находиться в доме, устроить засаду, но никого там не было, и коридор тоже был пуст.
Луи надел перчатки, дотронулся до ключа, и в то же мгновение соседняя дверь отворилась и выглянула Нюта, освещенная сзади так, что он лишь смутно различал ее лицо.
— Это вы? — спросила Нюта.
Он не сразу нашелся, что ответить, и она пробормотала, притворяя дверь:
— А я думала, что после такой ссоры вы больше сюда не вернетесь.
Час от часу не легче! Может быть, Констанс отбивалась от убийцы, а соседям послышался шум ссоры?
Наступит день, когда ему начнут перемывать косточки, с возмущением разглагольствовать о его чудовищном хладнокровии. А что он сможет возразить? Он сделал то, что требовалось. И ведь в самом деле Малыш Луи все предусмотрел, ничего не оставил на волю случая, даже бессознательно поступая так, как нужно.
Например, когда он относил в чемодане верхнюю часть туловища убитой, тщательно завернув ее в одеяло, он с полчаса дожидался, пока разойдется публика после киносеанса.
Первым делом Луи подумал, что лучше всего отделаться от ноши, бросив ее поскорее в море где-нибудь на другом конце Английской набережной. Но как назло не было ни ветра, ни волн — значит, сообразил он, чемодан будет завтра же обнаружен.
Вот почему Луи предпочел дойти до порта: он знал, что там глубоко — пароходы причаливают прямо к набережной.
У него был один большой чемодан, и нужно было освободить его для следующего раза. Дважды он привязывал тяжелый камень к свертку, как делают, когда топят собак.
На виллу Карно он возвратился около четырех утра.
Войдя в квартиру, просидел там довольно долго, совершенно обессиленный. Машинально закурил сигарету, налил себе вина и подумал: «Только бы не заснуть». Открыл окно, чтобы глотнуть свежего воздуха.
А затем так усердно принялся за уборку, что сверху постучали, чтобы он перестал шуметь.
Он вымыл пол, обтер мебель, привел все в порядок, старательно уничтожил малейшие следы и ни минуты не переставал думать о «марсельцах», не сомневаясь, что это дело их рук. Не обнаружив ни денег, ни драгоценностей, Луи нашел бумаги Констанс, сложил их в собственный чемодан вместе с бельем, костюмами и галстуками.
Больше всего его злило исчезновение Луизы. В такие минуты он мог еще злиться! Ему казалось, что исчезновение Луизы входило в дьявольский умысел Жэна: бросить его одного, совсем одного, не оставив иного выхода, кроме постыдного бегства. Ведь после покупки перчаток у него осталось пятьдесят франков.
Луи сел у окна, нетерпеливо поглядывал на наручные часы — подарок Констанс. Ровно в шесть утра, когда в квартале раскрылись первые окна, он вышел на улицу, нашел на ближайшем перекрестке такси и, подъехав к дому, распорядился:
— Подождите здесь минуту, я сбегаю за вещами!
Весь план был продуман заранее; он поднялся по лестнице, затем вскоре спустился, нарочно грохоча чемоданом, распахнул парадную дверь и потом постучал консьержке:
— Мадам Сольти! Садам Сольти! Выгляньте, пожалуйста, на минутку.
Малыш Луи знал, что она еще спит и появится заспанная, с мутным взглядом, плохо соображая. Открыв застекленное дверное окошко, консьержка не могла не услышать шум мотора и, увидев Малыша Луи с чемоданом в руке, спросила:
— Уезжаете?
— Да, вместе с госпожой д'Орваль. Она уже в машине. Сначала поедем в Париж, потом, скорее всего, в Голландию. Квартира заперта. Если не вернемся к сроку, вышлем вам квартирную плату.
Выслушав все это, консьержка и не подумала выйти на улицу. Она не усомнилась, что квартирантка сидит в машине.
— На вокзал! — бросил Луи шоферу, затем, наклонившись к нему, вежливо попросил:
— Пожалуйста, побыстрее! Моя приятельница уехала раньше, чтобы успеть сдать крупные вещи в багаж.
На вокзале он протянул шоферу последний пятидесятифранковый билет, но у того, как на грех, не оказалось сдачи. Шоферу пришлось идти в кафе менять деньги.
Малыш Луи дожидался его на тротуаре.
Ярко светило солнце. На вокзале было людно, сразу прибыло два поезда. Малыш Луи минут десять потолкался среди пассажиров, потом спустился в туннель и вышел в город.
Первым делом он занес чемодан в кафе, чтобы развязать себе руки, но оставил при себе некоторые документы, принадлежавшие Констанс, и среди них — квитанцию на норковое манто, которую час спустя предъявил хозяину ателье, где оно было сдано на хранение.
Луи опасался, что возникнут трудности, но ему тут же вручили бланк на выдачу, который он подписал первой пришедшей на ум фамилией — Мариани.
Он не чувствовал ни усталости, ни угрызений совести, ни страха, ровно ничего, загипнотизированный необходимостью срочно раздобыть деньги, чтобы поскорее уехать из Ниццы, где полиция и прежде не теряла его из виду.
В начале двенадцатого, держа в руке картонку с меховым манто, он направился в ломбард, как вдруг на углу чуть было не столкнулся с шедшей на урок Нютой.
Малыш Луи был так ошеломлен, что не знал, как держаться, и лишь потом сообразил, что его смущенный поклон и поспешный уход могли показаться ей подозрительными.
А может быть, стоило попросить девушку в случае надобности подтвердить, что она встретила его в тот день?
Надо было предусмотреть все до последней мелочи!
В ломбарде перед ним стояло в очереди человек шесть, и он чуть было не потерял сознание от страшной слабости и внезапной головной боли.
— Я принес меховое манто.
Он следил за собой, потому что его мрачный из-за недомогания вид мог насторожить приемщика.
— Документы при вас?
— Вот документы моей знакомой, которой принадлежит манто.
Он дал маху. Так и есть. Оценив манто и предложив за него десять тысяч франков залога, служащий, записав фамилию и адрес, сказал:
— Ей пришлют чек на дом.
Луи не удержался и спросил:
— По почте?
— Да, по почте.
Малыш Луи так расстроился, что решил пойти выспаться и машинально выбрал ту самую маленькую гостиницу «Калифорния», где он поместил Луизу, когда она приехала в Ниццу.
В гостинице его узнали и спросили:
— А где же ваша приятельница?
— Уехала на несколько дней.
Снова Малыш Луи увидел железную кровать, черный блестящий таз и старую баночку из-под горчицы, заменявшую стакан для зубной щетки.
Он уснул со страшной головной болью, проснулся посреди ночи и больше часа не мог заснуть.
Придет день, когда высокопоставленные чиновники сурово спросят его:
— Неужели, пока вы занимались всем этим, вас не преследовали воспоминания о покойной?
— Нет. По совести говоря, нет!
Он даже не думал о ней, не до того ему было. Позвонив консьержке на виллу Карно, он заговорил приглушенным голосом, как бы издалека:
— Это вы, мадам Сольти?.. Говорит Луи… Звоню из Лиона… Да, мы с госпожой д'Орваль доехали хорошо…
Завтра или послезавтра вы получите на ее имя важное письмо, возможно заказное. Распишитесь, пожалуйста, как обычно. Я заеду за ним через несколько дней.
Малыш Луи решил задержаться в гостинице и перенес туда свой чемодан. У него оставалось тридцать франков, а после скудного завтрака — всего пятнадцать. Он знал, что даже если захочет продать часы, то деньги за них получит не сразу, а, согласно правилам, по почте. Именно все эти правила, все эти денежные нелады осложняли ему жизнь и целиком поглощали его внимание. В номере гостиницы он целых два дня изучал документы Констанс.
Ему, как школьнику, пришлось попотеть: он не шибко разбирался во всей этой муре — ценных бумагах, акциях, пожизненной ренте и прочем.
Но тут Луи вспомнил, что Констанс получала ежемесячно пять тысяч франков от нотариуса из Орлеана, и написал ему длинное письмо.
«Мсье!
Вы, возможно, удивитесь, не узнав моего почерка, но по дороге в Монте-Карло я попала в автомобильную катастрофу, повредила правую руку и теперь вынуждена согласиться на довольно дорогую операцию. Под мою диктовку Вам пишет больничный санитар. Прошу перевести мне телеграфом сумму за два месяца, то есть десять тысяч франков.
Перевод отправьте, пожалуйста, до востребования в Ментону. Пока еще я не решила, в какую из местных клиник лягу на операцию. Заранее благодарю Вас. Прошу…» и т. д.
Он трижды начинал письмо, сморщив лоб, высунув кончик языка. Ему хотелось, чтобы рядом была Луиза и проверила, нет ли у него ошибок. Она была грамотнее его.
В номере не нашлось почтовой бумаги. Он пошел и купил целую пачку, выбрав светло-голубые листки с серебряной каемкой. Он колебался, не написать ли сразу второе письмо, и подумал, что если не воспользоваться создавшимся положением сейчас, то потом будет поздно. К тому же достаточно скопировать первое письмо почти дословно.
«Вы удивитесь, не узнав моего почерка, но…»
В письме, адресованном г-ну Парпену, также содержалась просьба о присылке десяти тысяч франков на расходы, связанные с операцией.
«…Только не навещайте меня сейчас, за мной ухаживают родственники мужа, и я вовсе не хочу, чтобы у них возникли подозрения насчет нашей связи. Это письмо я диктую санитару, он честный малый…» и т. д.
Цифра «десять тысяч» дважды выскользнула из-под его пера совершенно случайно. Ему дали в ломбарде десять тысяч за манто, и он продолжал называть эту же цифру, сообразив, что, если все сойдет гладко, у него будет кругленькая сумма в тридцать тысяч.
И тогда он уедет за границу, скорее всего в Южную Америку, о которой давно мечтал.
Жаль только, что с ним не будет Луизы.
Вечером, отправив письма и пообедав, он прогуливался по молу с оставшимися пятью франками в кармане и вдруг заметил двух женщин средних лет, возвращавшихся, должно быть, из театра или казино. Они медленно шли под руку, и едва мысль успела созреть в уме Малыша Луи, как он тут же осуществил ее. Прошмыгнув мимо женщин, он вырвал у одной из них сумочку и пустился наутек. Десять минут спустя, покружив по малолюдным улочкам, он наконец остановился под газовым фонарем и осмотрел содержимое сумочки.
Не жирно! Три бумажки по сто франков, медаль с изображением святого Христофора, губная помада и носовой платок с зеленой каемкой. Письмо, написанное очень мелким почерком и начинавшееся: «Моя дорогая Анжела…»
Он не полюбопытствовал прочесть его и, сунув в карман триста франков и медаль, швырнул сумочку в море.
Об этой медали в дальнейшем будут упоминать, и в зале суда возникнет оживление, когда прокурор заметит с иронией:
— Вы, несомненно, рассчитывали на покровительство святого Христофора, дабы избежать заслуженной кары.
Вот уж брехня! Он ни на кого не рассчитывал — ни на святых, ни на людей. Но Малыш Луи был достаточно суеверен и не мог выбросить святого в воду.
А бедам не было конца. На другой день, когда он явился на виллу Карно, консьержка уже получила письмо с чеком из ломбарда. Но чек был перекрещен[4]. Напрасно Луи предъявлял его в двух магазинах, чтобы получить наличные. С отчаяния он зашел к ювелиру, выбрал перстень с печаткой и бриллиантом ценою в пять тысяч франков и вместо денег протянул чек.
У владельца магазина вытянулось лицо, но Луи заявил:
— Позвоните в банк или пошлите кого-нибудь. Вы убедитесь, что чек будет оплачен.
Он начал испытывать великолепное презрение к многочисленным формальностям в денежных операциях.
Лишь в три часа дня ему вручили кольцо и четыре тысячи пятьсот франков. Понятно, что расписался он в получении денег именем Констанс Ропике, чью подпись научился подделывать. Кстати, подпись эта свидетельствовала, что школьные успехи Констанс были не лучше, чем у Луи.
В Ментоне все тоже оказалось непросто. Он и сам не знал, почему выбрал Ментону. Скорее всего, этот город втемяшился ему из-за одного вечера, проведенного там в публичном доме. А ему как раз нужно было…
На почте с трудом согласились сообщать ему о поступлениях на имя г-жи Ропике, но уж получать она должна была явиться лично.
Луи отправился в вышеупомянутый дом и пошел наверх с женщиной, показавшейся ему наиболее покладистой. Велел принести шампанского. Они разговорились.
— Тебе охота заработать пятьсот франков?
Она клюнула. Утром, дав ей удостоверение личности Констанс, он проводил ее на почту. Хотя на документе имелась фотография, затруднений это не вызвало, поскольку карточка была многолетней давности.
Нотариус из Орлеана, как и служащий ломбарда, попался на обман. Он прислал десять тысяч франков с пожеланием скорейшего выздоровления и сообщил, что, вероятно, в будущем месяце приедет в Ниццу. Луи заплатил женщине пятьсот франков.
— А ты не втянул меня в грязное дело? — спросила она в последнюю минуту.
Вместо ответа он, пожав плечами, показал женщине письма.
«Бедненькая моя!
Со слезами на глазах я прочел ужасное известие.
(Целая страница нежных излияний и советов.) В нашем возрасте, когда суставы…»
И наконец:
«…Вы знаете, каким вниманием окружают меня дети.
Они стремятся избавить меня от заботы о деньгах. Мой зять самолично получает мою пенсию и сразу же вкладывает ее в свое предприятие, в котором и я принимаю участие. Вот почему я, совсем как студент, получаю от него сто — двести франков на расходы. К счастью, я заранее сообразил и приберег без ведома детей небольшую сумму. Из этого запаса я беру пять тысяч франков и посылаю их Вам…»
Еще две страницы подробнейших советов: нужно получше есть и пить, не следует много читать лежа, слишком доверять хирургам, постараться оградить себя от вторжения родственников мужа, которые…
И в заключение:
«…Надеюсь, Ваши славные племянник с племянницей не покинут Вас в беде…»
Впервые в жизни у Луи лежало в кармане около двадцати тысяч франков!
Глава 8
Откуда ему было знать, что все его поступки, все переезды не имеют никакого значения и что судьба, занятая другими людьми, ненадолго позабыла о нем, оставив его с петлей на шее и уверенная, что в любой момент сможет ее затянуть.
А он ни о чем не догадывался, но, как ни старался, не мог освободиться от смутного ощущения, которое не было ни укорами совести, ни страхом, ни чем-то иным, чему можно было бы найти определение, но его хватило, чтобы поминутно омрачать ему настроение, лишать вкуса к жизни, отравлять маленькие повседневные радости, которые он себе доставлял.
А он баловал себя, как балуют ребенка или больного, и твердил себе: «Хватит носить чужие обноски и мечтать о хорошей одежде. Можешь купить себе новый костюм».
И он купил его проездом в Канне, не такой, какие носят парни на побережье, а курортный, из тех, что продаются только в роскошных магазинах на набережной Круазет.
К нему подобрал подходящие носки, рубашки, галстуки.
Однажды утром Луи нанял белоснежную лодку возле Тур-Фондю, чтобы поехать на остров Поркероль, и уселся на носу, украшенном деревянным Нептуном. В то время как двое подростков в темных куртках бросали на него завистливые взгляды, он повторял себе: «Когда первый раз приехал на побережье, сразу же захотелось на Поркероль, да не выходило. А сейчас вот еду туда, денег куча, на пальце бриллиантовое кольцо, одет по последней моде».
Луи рассматривал утопавшую в зелени маленькую желтую церковь и розовые крыши городка, видел водоросли сквозь прозрачную толщу моря, но не испытывал долгожданной радости.
Вначале это, возможно, объяснялось тем, что в нем пробудился азарт игрока. Он собрал двадцать пять тысяч франков, мог воспользоваться ими, сесть на первый же пароход в Южную Америку, где хватит времени спокойно обдумать, что делать дальше. Но именно безропотность, с которой деньги пришли на его зов, помешала ему удовлетвориться ими. Раз уж Констанс отдала концы, он не дурак, чтобы хлопать ушами.
У него есть еще добрых два месяца. Теперь консьержка и не подумает тревожиться о квартирантке, которая, как и все люди, имеет право попутешествовать.
Сперва ему захотелось в Париж. Но он нигде не бывал дальше Лиона и всякий раз, проезжая Авиньон, даже Монтелимар, чувствовал себя на чужбине.
Вот он и выбрал Поркероль, где он не рисковал встретиться с дружками Жэна и где полиции не было до него дела.
Он высадился на берег. Смешавшись с туристами, прошел по площади, окруженной пестрыми домиками.
Постояв перед слишком роскошным отелем, куда входили англичане, он выбрал наконец небольшую гостиницу из тех, что ему нравились, — оцинкованная стойка, игральный аппарат в углу, механическое пианино, под которое вечером можно потанцевать с местными девушками. На первый взгляд Луи выглядел таким же независимым и самоуверенным, как в тот день, когда у почты в Лаванду изумлял Констанс Ропике.
Но это была лишь видимость. Легкость того дня, небывалое ощущение того, что он, как молодой бог, может все, уверенность в поступках и ясность мысли — никогда это к нему не вернется. Тот час остался неповторимым, и Малыш Луи бессознательно сохранил о нем такое яркое воспоминание, что сейчас мог бы точно сказать, где висели трехцветные флажки и как были посажены пальмы у музыкального киоска. Особенно горькой теперь была окружающая его пустота. А может, пустота, таившаяся в нем самом?.. Он делал все, что положено, а получалось так, словно он ничего не делал, или то, что делал, не имело никакого значения.
К примеру, он прочел все письма, найденные в комнате Констанс, и, пораскинув умом, решился сыграть по большой. Он нашел письмо нотариуса из Орлеана, который сообщал:
«Г-н Ровен, владелец фирмы в Лу-Пандо, снова просит, чтобы Вы продали ему дом в Энгране, и на этой неделе предложил мне за него 150 тысяч франков. Полагаю, что сумма…»
Потом, в другом письме нотариус удивлялся:
«Вы ничего не ответили на предложение г-на Робена, хотя…»
В течение двух дней Луи всячески обдумывал этот вопрос, когда в светлом костюме и в соломенной шляпе разгуливал по площади, наблюдая за игрой в шары, пил аперитив на террасе или опускал десять су в щель музыкального автомата.
В конце концов он спросил у хозяина:
— А не найдется ли у вас пишущей машинки?
— У нас нет, но есть в «Мирамаре».
— А они одолжат ее?
«Мирамар» оказался тем самым окруженным пальмами отелем, где Луи не осмелился остановиться, и теперь он сочинил запутанную историю, чтоб на полчаса получить машинку. Но времени ему понадобилось больше, потому что он печатал одним пальцем, медленно отыскивая буквы, забывая об интервалах или делая два подряд.
«Мсье!
После несчастного случая я решила в ближайшие дни поехать в Италию, на поездку мне понадобятся деньги, и я вспомнила о предложении г-на Робена. Можете продать ему дом за сто пятьдесят тысяч франков, только пусть заплатит сполна наличными. Попрошу Вас сразу же переслать чек в Поркероль, где я сейчас живу. Это письмо я диктую, потому что до полного выздоровления еще далеко, но я понемногу уже начинаю пользоваться правой рукой. В ожидании сообщения от Вас прошу верить…»
И он подписал: «Констанс Ропике».
Все выглядело очень просто, но Луи и понятия не имел, как Констанс писала своему поверенному и как принято договариваться о продаже дома. Он перечитал письмо несколько раз, поколебался и, подержав его на весу, опустил в почтовый ящик. Он указал на конверте адрес своей гостиницы и предупредил хозяйку:
— Я ожидаю свою двоюродную сестру, Констансу Ропике, она приедет через несколько дней. Если придут письма на ее имя, можете передать их мне.
Больше делать было нечего. Оставалось ждать, не отказывая себе в маленьких удовольствиях. Малыш Луи был в силах сразиться с любым игроком в домино или в белот, у него водились деньги, чтобы угостить партнера дорогим вином, он мог не спеша прогуливаться по площади, чтобы жители Поркероля любовались его элегантностью.
Он знал, что ему завидуют, что местные парни стараются перенимать его походку и подражают его манере играть в шары. Курортники часто смотрели ему вслед, особенно женщины возраста Констанс.
Он танцевал и считался лучшим исполнителем вальса.
Чего же больше? Он даже ухищрялся потакать своим давним юношеским желаниям, иной раз просто смешным и глупым. Например курить сигареты только с золотым ободком.
Иногда самые жаркие часы он проводил полулежа на обитом клеенкой диванчике возле оцинкованной стойки, а когда оставался наедине со служанкой, лениво болтал с ней, томно закатывая глаза.
Она так восхищалась его галстуками, что он подарил ей три штуки, потом пообещал такой же, как у него, пояс из кожи ящерицы, который купил в Канне.
— У тебя ведь, поди, никого нет?
И она с довольной улыбкой позволяла за собой ухаживать.
Но вопреки всему в сердце Малыша Луи нет-нет да и появлялось неприятное ощущение униженности, в котором он не признался бы даже самому себе.
Он лукавил. Фасонил, форсил. Выставлял себя напоказ, ошарашивая рыбаков и местных мальчишек, и все же не мог забыть, что сдрейфил. И не потому, что должен был пойти в полицию и донести на Жэна. Откровенно говоря, об этом он ни на секунду всерьез не помышлял.
По многим причинам и потому еще, что так не поступают. Это не по правилам, да и без толку: такие, как Жэн, с которым заодно не только сутенеры Марселя, но даже полицейские и кое-кто из начальства, не замедлят отомстить за себя.
Нет! Вот что он должен был сделать и сделал бы, если бы оказался настоящим мужчиной: отправился бы в Марсель к Жэну, с независимым видом зашел бы в бар «Экспресс» и, глядя на Жэна в упор, спокойно, но грозно сказал: «А ну выкладывай, что и как». Одну руку он, ясное дело, держал бы в правом кармане пиджака, и от дула пистолета топорщилась бы материя.
Жэн, конечно, станет отшучиваться.
А те, за столиками, сразу унюхают, что здесь сводятся счеты между своими.
Одну за Луизу… Одну за старуху… Одну за…
Шесть патронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть…
Вся обойма выпущена через карман. Потом одним прыжком за дверь и мчаться во весь дух по улочкам и проулкам.
Но его не хватило на это. Все свелось к тому, что он пижонил перед здешними сопляками и обхаживал служанку, которая ухитрялась всегда с любезной улыбкой держать его на взводе, не подпуская к себе.
«…Получив Ваше письмо, я известил г-на Робена, что Вы готовы рассмотреть его предложение, и попросил зайти ко мне в контору. Жду от него ответа…»
Луи беспрепятственно вручили письмо, адресованное Констанс Ропике, и при виде ее имени на конверте у него защемило сердце. В тени кофейни, откуда видны были площадь и желтая церковь, на него пахнуло Ниццей, душным воздухом квартиры, сонную жизнь которой нарушал доносившийся через оклеенную цветастыми обоями стену голос Нюты, в то время как в доме напротив старик с каменным лицом сосал всегда пустую трубку.
Луи стискивал зубы, испытывая жгучую ненависть к Жэну, еще более мучительную от сознания, что никогда не сможет ее утолить, никогда не осмелится — ведь они сильнее, и он их боится.
Каждое утро в десять, когда прибывал пароход, Малыш Луи завтракал на террасе кафе. Прервав завтрак, он небрежной походкой пересекал площадь и пристраивался к приезжим в очереди у газетного киоска.
Он неизменно покупал «Эклерер»: там печатались новости из Ниццы, но до сих пор не было ничего, что имело бы отношение к нему.
И вдруг… Надо же было случиться, чтобы якорь парохода случайно подцепил один из свертков!
Ну и что с того? Он знал наверняка, что труп никогда не удастся опознать, это просто невозможно. Лучше и не вспоминать об этом. Констанс мертва, значит, нужно выкинуть все из головы. Хотя… Когда он искал в комнате какой-нибудь тяжелый предмет и ему подвернулся утюг…
Мог ли он поступить иначе? Разве он не должен был пойти на все, раз уж попал в такой переплет? Неужто стоило дать себя по-дурацки арестовать за преступление, которого он не совершал, да еще мучиться от мысли, что тебя все равно засудят?
Нет, лучше об этом не думать. Такие воспоминания не шутка, это тебе не больной зуб, задевать который нарочно может только человек извращенный. А когда натворишь такого, так и сам диву даешься, как ты на это пошел.
Ему почти всегда удавалось отгонять от себя омерзительные картины. Легче, чем забыть Жэна и Луизу, от которой по-прежнему он не имел сведений. Должно быть, она снова вернулась в заведение.
Он прочитывал рубрику происшествий и допивал остывший кофе. Затем, насвистывая, шел одеваться, и весь день, один из прозрачных и теплых дней вселенной, сведенной к маленькому островку, пока принадлежал ему.
Малыш Луи не считал ни дней, ни часов, он забывал, что отпуск его не вечен, и с нетерпением ждал ста пятидесяти тысяч франков, которые позволят ему избрать жизнь, какую он захочет. А пока, не строя планов на будущее, он присаживался за столик, пропускал стаканчик-другой, присоединялся к игрокам, включал радиолу иди прогуливался по площади.
Как-то вечером он попытался войти в комнату к служанке; та не рассердилась, но и не впустила его. И Луи было обидно — главным образом оттого, что он потратил на нее пятьсот франков. В тот день он долго оставался на солнце и на следующее утро проснулся с сильной головной болью. У него не было дурных предчувствий.
Он не учел, что на видневшемся вдали материке газеты продавались с четырех утра. На остров их привозили неразобранными на белом пароходике, который неторопливо причаливал к берегу.
— Ну как, хорошо выспались? — лукаво спросила служанка.
Он нахмурился и отвернулся. Он смотрел на людей, только что сошедших с парохода, ожидая, пока продавец рассортирует газеты, и минут через пятнадцать прочел первую и вторую полосы «Эклерер», а затем дошел до рубрики происшествий в Ницце:
«Таинственное исчезновение на вилле Карно. Полиция предполагает зверское убийство».
Почему Малыш Луи машинально подумал об утюге?
Он ведь мог вспомнить о чем угодно, только не об этой мелочи. Впрочем, ему не требовалось дочитывать статью, чтобы представить себе, какое место в ней отведено утюгу.
Но он же принял все возможные меры предосторожности.
Раз десять, перед тем как в шесть утра покинуть квартиру, он осмотрел все, чтобы удостовериться, что не осталось никаких следов. Часто впоследствии, восстанавливая в памяти мельчайшие подробности, он задавал себе один и тот же вопрос. И внезапно Луи вспомнил, что забыл утюг.
Утюг представился ему словно наяву, на нижней полке ночного столика, куда он его поставил, с тем чтобы потом унести. Это случилось в самый ужасный момент, когда Малыша Луи чуть не вырвало и ему пришлось подойти к окну, чтобы подышать свежим воздухом.
Он продолжал сидеть, держа в руке газету, не читая, смотрел на белые и черные строки, и внезапно перед ним снова появился утюг. А в это время за соседним столиком молодая женщина в шортах макала хлеб с маслом в чашку шоколада.
Самое занятное, что виноватой во всем оказалась Нюта. Как обычно, она вышла накануне из дому около одиннадцати утра. Минут тридцать спустя врач-швейцарец, живший через три двери от квартиры Нюты, позвал консьержку:
— Где-то утечка газа. Надо бы проверить.
Консьержка поднялась наверх, постучала в две-три квартиры. Несколько жильцов собралось в коридоре, и кто-то заметил:
— Скорее всего это у госпожи д'Орваль. Она все еще в отъезде?
— И вернется не раньше чем через месяц, а то и два, — ответила консьержка.
Пустячный случай, но от нечего делать жильцы не расходились.
— У вас нет второго ключа от квартиры?
— Нет, его забрал молодой человек.
— Понятно: секретарь, — съязвила толстая дама с вытравленными белыми волосами.
— Не позвать ли слесаря?
Но врач-швейцарец осмотрел замок:
— Погодите. Похож на мой… Я попробую, не подойдет ли мой ключ.
Ключ подошел. До тех пор никто не замечал, что у доброй дюжины дверей в доме одинаковые замки.
Несколько человек вошли в квартиру.
— Странный запах.
— Пахнет затхлостью, а не газом.
Они не упустили случая осмотреть всю квартиру.
— Вам не кажется, что она просторнее нашей? А я думал, что все квартиры здесь одинаковые.
— Не совсем. Из-за лоджий.
— Они спали в одной комнате?
— Да нет, за этой комнатой есть еще каморка.
Жильцы собрались уже выйти и искать утечку газа в другом месте, но консьержка задела ногой шнур и нагнулась. Это был шнур от электрического утюга. Она подняла утюг, чтобы поставить его на место.
— Вроде бы волосы, — воскликнула она, и на лице ее появилось брезгливое выражение.
Утюг был запачкан какой-то темной массой, к которой прилипли волосы.
— Что вы говорите?
— Говорю, похоже на…
Врач, не менее любопытный, чем все остальные, нагнулся над утюгом и немедленно объявил:
— Это, без сомнения, волосы госпожи д'Орваль — она как-то была у меня. А это…
— Вы утверждаете…
— Да, утверждаю: тут кровь, а утюгом воспользовались, чтобы…
Пять минут спустя явился вызванный консьержкой полицейский. Он ничего не стал делать до прибытия комиссара полиции, только запер квартиру. Комиссар задал несколько вопросов и позвонил в уголовную полицию.
Суматоха продолжалась весь день. Сначала приехал судебный врач вместе с инспектором, потом, около пяти вечера, собрались сотрудники прокуратуры, согласно требованиям закона: товарищ прокурора, судебный следователь и письмоводители. Никто больше не вспоминал о запахе газа, и Нюта, возвратившаяся в половине первого, обнаружила, что у нее открыта газовая конфорка.
Все время в коридорах и на лестницах толпились люди. Раз десять консьержку вызывали наверх, чтобы задать ей одни и те же вопросы. В конце концов она не выдержала:
— Я ведь уже все сказала. Уезжали утром, в шесть, на такси, я слышала шум мотора.
— Вы их видели?
— Я же толкую вам, что молодой человек разбудил меня и сказал, что они уезжают.
— Значит, вы его видели?
— Вот как вас вижу.
— Вы видели госпожу д'Орваль, я хотел сказать — госпожу Ропике?
— Можете называть ее д'Орваль, тут все ее так называли.
— Ее вы тоже видели?
— Да.
Она не лгала, но на мгновение заколебалась, словно уличенная в дурном намерении. Да, по правде говоря, она не была уверена в своих словах.
— Это очень важный вопрос, прошу вас, подумайте.
Вы подтверждаете, что в то утро видели госпожу д'Орваль?
— Да, видела.
Ну и что? Пусть будет так, она не станет отрекаться от своих слов.
— Как была одета госпожа д'Орваль?
— Этого я не заметила.
— Она говорила с вами?
— Не помню… Нет.
— Она простилась с вами?
— Да где мне все это упомнить? Вы с вашими вопросами совсем меня затуркали, а у меня ребенок один.
«Эклерер» печатал не все подробности, а лишь часть их вместе со старой фотографией Констанс Ропике, обнаруженной в одном из ящиков комода. В конце заметки сообщалось:
«Полиция усиленно разыскивает секретаря потерпевшей Луи Берта, известного под кличкой Малыш Луи, ранее уже привлекавшегося к ответственности».
Сидя на террасе. Малыш Луи с невозмутимым видом читал газету. Он поднялся и направился к киоску.
— Есть у вас «Ле Пти Вар» или «Ле Провансаль»?
Он просмотрел их, чтобы убедиться, пишут ли о нем, но там ничего не оказалось. Очевидно, корреспондент из Ниццы не успел продиктовать свое сообщение по телефону.
— У вас больше не осталось «Эклерер»?
— Один, последний, для повара из «Гранд-отеля».
— А сколько вы их получаете?
— Восемь.
Луи сохранял спокойствие. Увидев его на площади в тени эвкалиптов, когда на церковных часах пробило одиннадцать, никто не заподозрил бы…
Пароход на Тур-Фондю уже отходил, на него не успеть. Другой отправится через два часа. Правда, он мог бы нанять моторку, в порту их полно.
— Вчера вечером ты была недобрая, — грустным голосом сказал он служанке, вернувшись в кафе.
Он и в самом деле был огорчен ее неуступчивостью.
— Принеси мне счет.
— Вы уезжаете?
Он чуть было не ответил: «Если не помешают» — и поднялся в номер уложить чемодан.
Глава 9
Окна номера выходили на площадь и были открыты.
Вот почему, бросая как попало в чемодан свои вещи, Луи увидел по ту сторону большого ослепительного квадрата, окаймленного тенью эвкалиптов, открывшуюся дверь почтового отделения.
Вскоре на возвышенности возле церкви показался не высокий суетливый человек, быстро спустился по ступенькам, не обращая внимания на палящее солнце, пересек площадь и пошел напрямик к расположенному возле отеля домику, где помещалась мэрия.
Луи не понадобилось вглядываться в газету, которую почтовый служащий держал в руке. Даже уменьшенная расстоянием, фигура человека была настолько выразительна, что Луи перестал упаковывать чемодан. Он готов был поклясться, что этот человек громко разговаривает сам с собой, и представил себе, как тот пронзительно закричит, схватив полицейского за пуговицу мундира:
«Знаете, кто к вам приехал? Убийца рантьерши в Ницце!»
И все же Луи не двинулся с места. Он продолжал смотреть на площадь, потом скользнул равнодушным взглядом по раскрытому чемодану, где были небрежно сложены костюмы.
Вот и попался! Прежде чем он доберется до парохода, полиция схватит его, а если ему случайно удастся отплыть с острова, все, даже самые маленькие, причалы на берегу уже будут оповещены.
Луи посмотрел в зеркало и остался доволен собой, своей выдержкой и горькой усмешкой, искривившей рот. Затем, спускаясь по темной лестнице, пожал плечами и вздохнул:
— Эх, Малыш Луи, Малыш Луи!
Это была единственная минута, когда он расчувствовался. Придя в кафе, он недрогнувшей рукой зажег сигарету и вспомнил, как восхищалась служанка его зажигалкой.
— Возьми! — сказал он ей. — Это тебе на память. Может, глядя на нее, пожалеешь, что была вчера такой недотрогой.
— Вы опять за свое!
Конечно, ей было невдомек, какое для него все это приобретало значение. Зал был почти пуст. Двое матросов с яхты дремали за столиком, но вскоре на площади появился полицейский, шедший с такой же решимостью, как и почтовый служащий.
— Принеси мне томатного сока.
Не заказать ли перно с каплей гренадина? В эти дни он почти не употреблял спиртного, но сейчас ему захотелось еще разок вдохнуть запах перно.
— На что это вы засмотрелись? — спросила служанка.
— Это мэр разговаривает там с полицейским?
— Да, а что?
У мэра, местного бакалейщика, были густые черные усы и серый, как у торговца скобяными товарами или наборщика, халат. Двое мужчин о чем-то спорили на самом солнцепеке.
Луи оставалось только ждать. Он задал себе вопрос, осмелятся ли они, и невольно улыбнулся, когда полицейский оставил наконец собеседника и подошел к двери, держа правую руку на кобуре.
— Входите, Боннэ! — сказал Луи. Ему случалось несколько раз угощать полицейского аперитивом.
Но тот, смущенный, нерешительно спросил:
— Вы и в самом деле Луи Берт?
— Да, он самый.
— Луи Берт, прошу вас облегчить мои обязанности и не устраивать скандала. Предупреждаю: при первой же попытке к сопротивлению я вынужден буду стрелять. Дайте руки.
Луи с улыбкой протянул обе руки и подмигнул служанке.
— Так уж сразу и наручники, — сказал он с добродушным упреком.
На площади с десяток человек обступили мэра, покуда Боннэ вел задержанного к домику с двумя тесными комнатушками, увенчанному флагом в знак того, что тут находится мэрия.
Боннэ держал себя очень прилично. Положение его было затруднительным. Ведь завтра вся печать заговорит об этом аресте.
— Проходите, — вежливо сказал он Луи, открыв перед ним дверь кабинета, где в углу лежали свернутые знамена, подготовленные к 14 июля, заряженные ракетницы и несколько венецианских фонариков. — Садитесь.
Он запер дверь на ключ и, так как к окну прильнули чьи-то физиономии, опустил занавески, оставшись с Луи в полумраке.
— Ясное дело, у меня нет еще постановления на арест, потому что сперва мне надо было удостовериться в вашей личности. А теперь я позвоню в Йер и получу инструкции.
— Валяйте! — согласился Луи.
— Дело-то сложнее, чем вы думаете. Тут ведь не скажешь — пойман на месте преступления.
Казалось, Боннэ рад получить собеседника, способного понять все эти формальности. Кроме того, он не мог заставить себя обращаться с Малышом Луи, как с заурядным арестантом, и, соединяясь по телефону, бросал на него скорее восхищенные, чем осуждающие взгляды.
— Йер?.. Комиссар полиции?.. Алло! Я хотел бы поговорить с комиссаром… Да… Это Боннэ из Поркероля…
Это вы, господин комиссар? — Он подмигнул Луи. — Имею честь доложить важную новость… По поводу преступления в Ницце… Вы в курсе?.. Так вот, убийца у меня в кабинете. Скажите, пожалуйста, что я должен делать дальше?.. Ах, так. Прекрасно. Буду на месте.
Он повесил трубку и, в замешательстве посмотрев на арестованного, произнес:
— Думаю, в мои обязанности не входит допрашивать вас официально. Комиссар должен мне позвонить с минуты на минуту. Ему нужно только получить указания из Ниццы.
В комнатке, украшенной литографией президента республики и покрытой пылью и чернильными пятнами статуэткой Марианны[5], было прохладно. Внезапно подойдя к окну и раздвинув занавески, Боннэ заорал:
— Если вы немедленно не разойдетесь, я прикажу очистить площадь!
Итак, до трех часов все шло по-хорошему и казалось Луи даже занятным. Но в три часа двое полицейских, которым поручили доставить задержанного, сошли с парохода. Один был молодой, свежевыбритый, подтянутый.
На него Луи нечего было жаловаться. Другой, толстый, уже под мухой, одно плечо выше другого, вялый и болезненный с виду, сразу подошел к арестованному и злобно гаркнул:
— Так вот он, паршивый кот, который убивает старух!
При этом он нарочно наступил Луи на ногу, но тот даже не шелохнулся и выдержал его взгляд.
— Уж не собираешься ли ты задирать передо мной нос, подонок!
Бац! — и он влепил Луи пощечину, но тот только сплюнул на пол.
— Так ты еще плюешься! Может, посмеешь мне ответить?
Заводить толстяка не приходилось, он заводился сам.
Не спеша сбросил китель и начал избивать задержанного.
Ни один мускул не дрогнул на лице Луи. Когда процедура закончилась, у него оказалась распухшей верхняя губа и огромный синяк на левом виске. Полицейский сорвал с него галстук, разодрал воротничок рубашки.
— Погоди, я подправлю твою смазливую харю!
В пять часов полицейские препроводили Луи на пароход, до которого нужно было пройти лишь двести метров. Любопытные стояли группами, молчаливые и потрясенные, и в конечном счете вся церемония прошла довольно торжественно.
Опасаясь, как бы Луи не бросился в море, его сразу поместили в каюту, пропахшую мазутом. Пассажирам пришлось остаться на палубе.
В Тур-Фондю представителей власти ожидало подкрепление — лейтенант полиции и бригадир с машиной.
Через полчаса прибыли в Тулон. Арестанта быстро доставили на вокзал и не замедлили посадить в экспресс Париж — Ницца.
Луи ничего не ел и не пил с одиннадцати утра, но разозлился бы на себя, если бы ему изменила выдержка.
На вокзале в Ницце дежурили десятка полтора журналистов и фотографов. Арестанта поспешно затолкнули в машину и несколько минут спустя доставили в уголовку.
Около часа он просидел в помещении, где работали инспекторы. Они звонили по телефону, беспрерывно входили и выходили, причем каждый вновь входящий бросал на него любопытный взгляд. Давно уже включили настольные лампы. Двое полицейских в штатском велели принести для себя кружки с пивом, но и не подумали угостить Луи.
Наконец раздался звонок, и один из мужчин, поднявшись, подал ему знак:
— Заходи!
Открылась обитая дерматином дверь. За ней стоял совершенно круглый человек, с круглым туловищем, круглым лицом, круглыми глазами, носом и тремя маленькими подбородками, слоившимися под обрюзглым ртом.
— Оставь нас, Жанвье! Закрой дверь. Скажи, чтоб никто мне не мешал.
И тут Луи заметил в углу второго человека, того самого инспектора, который однажды побывал на квартире у Констанс. Он молча держался в сторонке, словно ни во что не желал вмешиваться и находился здесь как простой наблюдатель.
Его звали Плюга. Малыш Луи его знал. Он знал также, что сотрудники прозвали его Плюгавик, так как весь он был какой-то тусклый и серый, бедно одетый, неряшливый и плохо выбритый. Говоря, он брызгал слюной, обнажая желтые гнилые зубы, и у него скверно пахло изо рта.
— Садись, Малыш Луи. Вот сюда. Хочешь сигарету?
Начальник уголовной полиции г-н Балестра шагал по кабинету, обдумывая, с чего начать. Он помог прикурить Малышу Луи, с которого все еще не сняли наручники, потом коснулся лежащего на письменном столе бланка:
— Это постановление на арест. Показываю тебе на всякий случай. Знаю, как любят адвокаты искать блох.
Учитывая это, постановление уже в три часа передали по телеграфу в Поркероль, так что все в порядке.
Плюгавик сидел в углу, притворяясь, что внимательно просматривает записки в засаленной, растрепанной записной книжке, стянутой резинкой.
Луи мучила жажда, но он скорей дал бы отрезать себе палец, чем признался бы в этом. Насупясь, он смотрел то на начальника, то на инспектора, словно подчеркивая всем своим видом, что не боится их.
Держаться настороженно он стал не сразу. Конечно, он не позволил Балестра обмануть себя добродушной простотой — его ведь не впервые допрашивали в полиции, и он наперед знал всю эту волынку. После каждого вопроса он на минутку задумывался и не мог удержаться, чтобы не бросить на Плюгавика взгляд, как будто между ними было что-то общее.
Было слышно, как в соседнем кабинете выражали свое нетерпение и спорили журналисты. Один из них диктовал свое сообщение по телефону в Париж и кричал так громко, что в комнату доносилось каждое слово:
— Сейчас, когда я звоню, негодяя искусно допрашивает господин Балестра, деятельный начальник уголовной полиции в Ницце. Балестра: Берта-Аргюр-Леон…
Луи чуть улыбнулся, постарался это сделать и Балестра, Потом начальник спохватился, открыл дверь и гаркнул, вращая глазами:
— Эй, вы там, потише!
Все головы повернулись к двери, чтобы посмотреть на Луи, сидевшего перед столом. Но дверь снова закрылась.
— Итак, я спрашиваю: сколько она тебе давала в месяц?
Луи нахмурился. В третий и четвертый раз ему задают все тот же вопрос. И видно, не случайно. Он чуял ловушку, но не мог угадать, где она.
— Я не на жалованье был, — усмехнулся он.
— Может, на сдельщине? — пошутил шеф. — Скажи, а когда она тебе подарила бриллиантовое кольцо, что у тебя на пальце?
— А я почем знаю? Наверное, с выигрыша.
— Играла она по крупной, не так ли?
Луи медлил с ответом. Он знал, что Констанс не делала больших ставок. Не все ли равно — по крупной или по маленькой? Однако полицейский настаивал:
— Играла она по крупной?
— Может, и по крупной. Не вечно же я у нее за спиной торчал.
— Понятно, ты ведь ведал ее перепиской и счетами.
Значит, был ее любовником, но прежде всего — секретарем.
Луи не нравилось решительно все. Уже половина одиннадцатого вечера, а ему не задают ни одного из ожидаемых им вопросов. Даже самого главного. И не подумали спросить: «Ты убил госпожу Ропике?» Или:
«Чем ты кокнул старушенцию?»
И ни малейшего намека на историю в Лаванду и его связь с бандой «марсельцев». Ни слова об обеде в день рождения Констанс в ресторане, где был и Плюга, хотя сидел он поодаль.
Можно было подумать, что инспектор не ввел своего начальника в курс дела. Да нет, раз уж он находится здесь, значит, явился неспроста. Чего же они все-таки добиваются?
— Я хотел бы дать показания, — буркнул Луи, бросив недобрый взгляд на инспектора. — Впрочем, вот он скажет, если…
— Постой! — прервал его Балестра. — У тебя будет сколько угодно времени для дачи показаний. А сейчас допрашиваю я и не желаю меняться с тобой ролями.
В бумажнике, который у тебя изъяли, я нашел квитанцию из ломбарда. Она датирована двадцать первым августа и выписана на имя госпожи Ропике. Стало быть, двадцать первого августа она была еще жива, раз отнесла свое норковое манто в залог.
Молчание. Луи хотел попросить бумагу и карандаш, чтобы уточнить даты. Сколько дней он провел, бездельничая на Поркероле, и не удосужился на всякий случай подготовить ответы на такие вопросы.
— Ты внимательно меня слушаешь? Итак, двадцать первого она сдает свое манто в залог и поручает тебе хранить квитанцию, опасаясь, должно быть, свойственной ей неаккуратности. Тебе она доверяет свои важные документы, что вполне понятно, раз ты ее секретарь.
Лицо арестованного изменилось. Он втянул голову в плечи, насторожился, и выражение глаз его сделалось неискренним, скрытным.
— Так как же? Она отдала тебе квитанцию?
— Ну и что с того?
— Признаешь этот факт?
— Допустим, признаю.
Заговорит ли с ним наконец начальник об убийстве и трупе? Чего он волынит?
— Значит, в тот день, двадцать первого, вы были вдвоем в Ницце и пробыли там до полудня? А вот консьержка показывает, что уже в шесть утра ты взял такси, чтобы ехать на вокзал.
Луи не шелохнулся. Балестра время от времени ходил по кабинету, помахивая маленькой коробочкой, из которой доставал таблетку и осторожно клал на свой толстый язык.
— Учти, следователь-то уж будет копаться во всех этих подробностях. А я выясняю их только для себя самого, в общих чертах, так сказать. Вы ведь могли уехать и другим поездом, к примеру, во второй половине дня или вечером.
Верхняя губа Луи покрылась бисеринками пота. Он сознавал, что все данные им сегодня вечером показания окажутся окончательными и ими-то впоследствии и попытаются его доконать.
— Каким поездом ты уехал?
— Не помню.
— Кое-кто узнал госпожу Ропике в десятичасовой электричке, на ней было голубое платье.
Явная ложь. В этот час Констанс, разрубленная надвое, уже лежала на дне бухты. Тем не менее каждую фразу начальник произносил не без причины, и эту причину следовало разгадать.
— Ты позвонил из Лиона консьержке. Из какого отеля ты звонил?
— Из телефонной будки.
— С почты?
— Нет, с вокзала.
— С какого вокзала?
— С большого.
Малыш только раз был в Лиане и забыл название вокзала Лион-Перраш.
— Это был телефон-автомат?
— Да.
Инспектор Плюга, сидя в углу, продолжал изучать свою записную книжку, как если бы она содержала свод законов.
— Ты не очень устал? Может, кончим на сегодня?
— Как вам угодно, — быстро ответил Малыш Луи, которому как никогда хотелось пить.
— Тебя хоть накормили?
— Досыта! Вот как! — пошутил Малыш Луи, указывая на избитое лицо.
— Ты чего-нибудь хочешь?
Он знает, что делает. Он не желает, чтобы его задабривали сандвичами или кружкой пива. Балестра вышел. Послышались голоса журналистов. Луи надеялся, что инспектор Плюга сейчас обратится к нему, но тот по-прежнему молча сидел в углу. Стало быть, они надеялись, что, когда Балестра выйдет, воспользуется его уходом и сам заговорит с инспектором.
Вернулся Балестра:
— Тебе принесут пива… На чем мы остановились?
Кстати, что тебе взбрело в голову прятаться на Поркероле? Оттого, что там красиво? Да, ведь от Поркероля совсем близко до дома матери. Она и теперь живет в Ле-Фарле, не так ли?
Луи утомляли внезапные переходы от одного вопроса к другому. Ну при чем тут его мать? Что им известно и что они хотят выяснить?
— Старый Дютто еще жив?
— Не знаю.
— Когда ты в последний раз навещал ее?
— Довольно давно.
— Месяц назад?
— Не помню.
— Я велел позвонить в Ле-Фарле и передать твоей матери, что, если она захочет тебя повидать, пусть приезжает сюда.
— Мать приехать не сможет.
— Почему?
— Она должна ходить за Дютто.
Вошел официант из соседнего кафе с двумя кружками пива. Наконец Луи напился. А мог бы осушить и три кружки — такая его томила жажда. От холодной жидкости он тут же покрылся испариной.
— Что ты должен был купить для нее?
— Для кого?
— Для Констанс.
— Я вас не понимаю.
Уже половина двенадцатого, а в кабинете, где начальник, не выдержав духоты, снял пиджак, ни малейшего сквознячка.
— Не зря же она рассталась с норковым манто. Ей, наверно, срочно понадобились деньги. Она их отдала тебе. И не менее двадцати пяти тысяч франков! Эту сумму обнаружили при обыске.
— А если даже так?
— Может, она хотела купить дачку на Поркероле?
— Это ее дело.
Он не хотел отвечать ни «да» ни «нет». Он пытался лавировать среди расставленных капканов, и от затрачиваемых на это усилий черты его лица заострились, приняли жесткое выражение, изменив весь облик.
Красивый, атлетического сложения молодой человек в белой набекрень кепке, с неизменной иронической усмешкой и засунутыми в карманы руками, небрежной походкой прогуливавшийся по площади Поркероля, — этого молодого человека больше не существовало.
Вместо него появился парень с Севера, коренастый и выносливый сын шахтера, сын рабочего поселка, способный долгими часами сохранять выдержку, ни на мгновение не выказывая слабости.
— Мы еще побеседуем об этом завтра. Впрочем, вероятнее всего, с тобой будет говорить следователь.
Дело простое, и думаю, следствие закончится быстро.
Над кем он смеется? Какое следствие, если даже не упомянули о смерти Констанс? А если упоминали о Констанс, то так, что ее можно было считать и живой и мертвой. К чему здесь тогда инспектор, который занимается делом в Лаванду и за несколько часов допроса не проронил ни слова?
— Отдохни немного. Эту ночь поспишь в каталажке, место в тюрьме тебе отведут завтра. Дать еще сигарету?
Затем около получаса Балестра просматривал папки с делами, несколько раз звонил по телефону, но вовсе не по поводу Луи. Между прочим, позвонил и к себе домой.
Сообщил, что вернется не раньше двух-трех часов ночи.
— Ну вот, я опять к твоим услугам, — промолвил он, вздыхая. — Нужно все-таки с этим разобраться. Как всегда, сразу наваливается куча дел. Так вот, по поводу денег…
В половине третьего допрос все еще продолжался.
По-прежнему Луи не задавали вопросов ни об убийстве, ни о трупе, ни об утюге.
Его расспрашивали только о ничего не значащих мелочах: о времени отправления поезда, о назначении такой-то суммы денег, о дате, которая у Луи и начальника уголовной полиции не совпадала.
— До завтра. Впрочем, не знаю, до завтра ли. Ведь продолжать будет следователь. Во всяком случае, твой адвокат не сможет заявить, что в полиции с тобой обращались грубо. Выкуришь еще одну?
Балестра вызвал двух инспекторов, и они увели арестованного. На сей раз и впрямь все было закончено.
Глава 10
Может быть, именно тогда у Луи началась его подлинная жизнь — жизнь, уготованная ему судьбой.
Прежде он ничем не отличался от других, был неухоженным ребенком, всегда покрытым коростой, что, впрочем, не имело значения, поскольку никому и в голову не приходило приласкать его. Пребывание в лефарлеской школе на нем никак не сказалось. Все тот же подозрительный, обидчивый подросток, не слишком способный, но и не бездарный ученик столяра. А потом…
Теперь все это приобрело совсем иной смысл. Забытые проступки, на которые прежде не обращали внимания и которых никто не опасался, были тщательно выисканы, как отыскивают отдельные части ребуса для восстановления картины в целом, и по-новому оценены.
В течение месяца Луи не ведал об этих поисках. Его только раз привели к следователю, и свидание оказалось кратким.
Следователя звали Моннервиль, точнее — де Моннервиль. Это был сухой, исполнительный чиновник, настолько усердный, что даже не нашел времени поднять глаза на Луи.
— Я вызвал вас, чтобы официально объявить вам о предварительном заключении по обвинению в убийстве, краже, подлоге, использовании поддельных документов и мошенничестве.
Он читал. Он боялся что-либо упустить.
— Согласно закону, отныне вы можете давать показания в присутствии вашего адвоката.
Луи не отвечал. Де Моннервиль поднял наконец голову и мельком, без всякого интереса, взглянул на него, как будто хорошо знал прежде, хотя и видел впервые.
— Прошу назвать фамилию вашего адвоката, — повторил он скучным голосом.
— А кто ему заплатит?
— Вы, разумеется.
— А мне вернут деньги, которые забрали при аресте?
Даже для ответа на такой простой вопрос де Моннервилю понадобилось заглянуть в свои папки.
— Деньги возвратят, если будет доказано, что они принадлежат вам.
Луи вызывающе передернул плечами.
— Итак?
— Я не буду нанимать адвоката.
— Тогда я обращусь в совет корпорации адвокатов, и вам назначат его официально.
При последних словах он подал знак конвоиру, сидевшему рядом с арестованным, и Луи был выведен из кабинета, так и не разглядев, какого цвета глаза у следователя.
С тех пор, стоило открыть дверь его камеры, Луи спрашивал:
— Опять следователь вызывает?
В конце концов надзиратель сказал ему:
— Вот ты все жалуешься, что следствие затянулось, а для тебя лучше, чтобы оно тянулось подольше.
— Почему?
— Да уж потому. — И подмигнул заключенному, разделявшему камеру с Луи арабу, который беспрерывно тараторил, смеялся, балагурил, рассказывал всякие истории и неуклюже прикидывался дурачком.
На что намекал надзиратель?
Все объяснялось очень просто. Одному Луи было неизвестно, что каждый день по крайней мере две полосы в газетах посвящались ему. Более полутора десятков репортеров одновременно с полицией вели расследование и непрерывно печатали сенсационные разоблачения, показания свидетелей, внезапно появившихся в разных местах. Их фотографии помещали на первых страницах.
А тем временем Луи ломал себе голову, почему его все не допрашивают. И отчего его не спросили, признает ли он себя убийцей Констанс Ропике.
К пребыванию в тюрьме он относился с философским спокойствием, даже добродушно, и не проходило дня, чтобы он не пошутил с тюремщиками.
Иногда по утрам он ложился ничком на пол, где солнечный луч очерчивал треугольник всегда на одном и том же месте, и, закрыв глаза, вспоминал виллу Карно, пение Нюты, мужчину с каменным лицом в доме напротив и его канарейку.
О Поркероле у него тоже сохранились, как о празднике, светлые и веселые воспоминания.
В остальные часы он размышлял над тем, что будет говорить на суде, и старался привести в порядок свои мысли.
Его арестовали 13 сентября. 13-го же вечером допрашивали в кабинете начальника уголовной полиции в присутствии инспектора Плюга, а 16-го его вызвал судебный следователь де Моннервиль.
И вот лишь 15 октября, месяц спустя, в день, когда дождь лил как из ведра, за ним приехали на тюремной машине и отвезли во Дворец правосудия. Он так и не понял, почему его провели через маленькую дверь, почему четверо полицейских сопровождали его по пустынным лестницам и коридорам, а потом без всякого промедления ввели в кабинет следователя.
Он не знал, что в центральном коридоре усиленная охрана с трудом сдерживала журналистов и фотографов и на улицах, по которым, предположительно, его должны были везти, в течение двух часов сотни любопытных мокли под дождем.
В пути Малыш Луи пыжился, подбадривал себя, чтобы спокойно держаться перед следователем. Он вошел в кабинет с видом боксера, поднимающегося на ринг. В комнате был полумрак, она плохо освещалась. Луи заметил высокого молодого человека в мантии и, поняв, что это его адвокат, окинул незнакомца критическим взглядом.
Ясно. Невелика птица. Конечно, для защиты по назначению корпорации не пригласят кого-либо из светил адвокатуры. Можно даже побиться об заклад, что молодой человек робеет перед своим подзащитным.
— Ваш адвокат мэтр Бутейль будет теперь присутствовать при допросах и сможет ознакомиться с делом.
Луи нахмурился, глядя на педантичного, чопорного следователя, который перебирал бумаги в папке, содержащей не менее сотни документов.
А через десять минут Малыш Луи уже сомневался, он ли находится в этой комнате и о его ли жизни, воспроизводимой с такой сбивавшей с толку точностью, идет речь.
— В возрасте девяти лет, — бесстрастным голосом излагал следователь, — вас исключили из школы в Ле-Фарле, и только по просьбе мэра вы были впоследствии! восстановлены.
Можно было предвидеть все, кроме этого, и Луи застыл, устремив глаза на де Моннервиля, которого как бы гипнотизировал белый лист бумаги.
— Вы прочтете показания, данные по этому поводу Эрнестом Сесальди, вашим бывшим воспитателем, полицейскому комиссару Мерлену, который по поручению следствия…
Малыш Луи был вынужден утереть лицо. От изумления и страха его прошиб пот.
— С другой стороны, — продолжал голос, — господин Гримо, торговец скобяным товаром, показывает: «Я никогда не доверял молодому Луи Берту. Когда ему было тринадцать лет, я задержал его на площади с двумя украденными у меня неделей раньше шарами. Я не подал в суд лишь потому, что подумал о его матери и…»
Внезапно следователь переменил тон:
— Признаете кражу тех двух шаров?
Сквозь зубы Малыш Луи процедил:
— Ну силен!
— Что вы сказали?
— Ничего, господин следователь, продолжайте. Все это мне интересно.
Он иронизировал, насмешливо скривив рот, дожидался самых высокопарных слов, чтобы достойно оценить их.
А следователь продолжал читать, откладывая прочитанные листки в сторону. Папка его постепенно пустела.
Он изучил ее, как прилежный ученик изучает программу экзамена на бакалавра. И ни разу, хотя бы из любопытства, не посмотрел, какова реакция обвиняемого.
Адвокат, стоя лицом к окну, делал позолоченным карандашом какие-то пометки в маленькой записной книжке.
— Как установлено, вашим первым хозяином был столяр Морзанти. Не скажете ли, почему вы от него ушли?
Луи молчал.
— Повторяю вопрос. Не скажете ли…
— А вы сами мне про это скажите, — дерзко ответил Луи. — У вас все, поди, записано.
— Морзанти показывает: «Луи работал у меня полгода, у него довольно ловкие руки. Но он плохо влиял на моего сына, таскал его на все праздники в округе. Когда я заметил, что у меня из дома пропадают мелкие деньги…»
И так тянулось битых три часа. Из прошлого возникала вереница лиц, гримасничающих и непременно обвиняющих. Можно было подумать, что на земле они знали одного Малыша Луи — так подробно припоминали малейшие его проступки.
Находились и такие, кто спустя восемь лет указывал даты и даже часы того или иного происшествия.
— В шестнадцать лет вы стали любовником замужней женщины, которую заставили забыть о ее долге.
Тут Малыша Луи прорвало. Было непонятно, плачет он или смеется.
— Господин следователь… — произнес он умоляющим голосом, каким увещевают человека, явно потерявшего чувство меры.
— Вы отрицаете?
— Но, господин следователь, этой курортнице, которая всегда снимала одну и ту же квартиру в ста метрах От нашего дома, было тогда тридцать пять.
— Не вижу, какое это имеет…
— Мне же, вы сами сказали, только минуло шестнадцать. Скорее уж следовало бы привлечь ее за совращение несовершеннолетнего.
— Оставьте при себе ваши замечания!
— Позвольте… — начал было адвокат.
— Мэтр, — оборвал его следователь тоном, не терпящим возражений, — должен просить вас не мешать мне вести допрос так, как я считаю нужным. Вам будет предоставлена возможность выступить перед судом присяжных, и я не сомневаюсь, что это выступление будет, как всегда, иметь успех.
Мэтр Бутейль поперхнулся от смущения. Он отлично понял причины этого выпада: два дня назад его подзащитного приговорили к смертной казни.
— Госпожа Патрель, — продолжал невозмутимый голос, — подруга вашей матери…
— Вы что, издеваетесь?!
Старуха Патрель! Самая кляузная баба в Ле-Фарле, которая всю жизнь только тем и занималась, что рассылала анонимные письма.
— Молчать! Госпожа Патрель, повторяю, показывает следующее: «Бедная мадам Берт, у нее и так хватало горя из-за того, что она беженка. Так вот, она часто повторяла мне, как тяжело иметь такого непутевого сына и что она его побаивается. Однажды она даже добавила, что когда-нибудь он еще натворит дел».
Комната, казалось, уже не могла вместить столько людей. Это походило на шутовской спектакль, в котором участвовал весь поселок: старые, молодые и даже один придурковатый парень, с которым Луи, когда им обоим было по семнадцать, ездил в Тулон к девочкам.
— Батистен Ланж свидетельствует: «Луи один согрешил там и вел себя как завсегдатай, всем женщинам говорил „ты“, а они называли его по имени. Пока он был в номере, я дожидался в зале».
Вот как оно оборачивалось. Он жил так же, как и другие, но никогда не думал, что все это снова всплывет.
А теперь его заставляют заново прожить всю жизнь. Но не так, как было в действительности. И все, что он делал в жизни, обсуждали посторонние люди.
Да еще эта несносная формулировка: «По поручению де Моннервиля, кавалера ордена Почетного легиона, судебного следователя при прокуратуре Ниццы, мы, Огюстен Грегуар, комиссар полиции в Авиньоне…»
Похоже, фараоны по предписанию следователя с трудом собирали, где можно, клочки и обрывки его жизни, чтобы включить их в официальные донесения.
Конца подробностям не предвиделось, но чиновник не решался пропустить даже самую малость и читал все подряд, вплоть до того, что подписи дающих показания засвидетельствованы согласно закону.
Подумать только, целый месяц следователь, как муравей, по крохам собирал весь этот урожай, а он, Луи, сидя в тюрьме, об этом даже не догадывался! Он-то думал, что они разыскивают труп Констанс, и больше всего боялся услышать заданный в упор вопрос: «Зачем вы бросили части тела, в воду?»
Малыш Луи был подавлен. В голове пустота. В глотке пересохло.
Но здесь нечего было и надеяться, что ему принесут кружку пива, как на допросе у начальника полиции.
Дождь не прекращался. Из коридора едва доносился приглушенный шум шагов. Должно быть, следователь распорядился не беспокоить его даже по телефону.
— Продолжаю. Установлено, что до двадцати двух лет вы были клиентом дома терпимости. У вас выявлена определенная склонность к подобного рода заведениям, и ваши постоянно менявшиеся хозяева показывают, что вы проводили там все свободное время.
— Подумаешь, я и не такое видел, — пробурчал Луи.
— Что вы сказали?
— Ничего, валяйте дальше.
Следователь, с трудом сдержав раздражение от такой выходки подсудимого, невозмутимо продолжал:
— В двадцать два года вас снова встречают в Авиньоне, и там, в одном заведении, вы знакомитесь с девицей по имени Леа.
Уму непостижимо! Правосудие представлялось теперь Малышу Луи какой-то чудовищной машиной для перемалывания костей. Даже Леа всплыла на поверхность! Леа, с которой он разыгрывал начинающего, робкого сутенера, потому что в ту пору он еще не работал, а Леа давала ему немного денег на карманные расходы за то, что Луи умел забавлять ее. Та самая Леа, добродушная, доверчивая и смешливая девушка, которой он часами рассказывал разные байки. А она была благодарной слушательницей: «Расскажи еще раз про Мариюса, который…»
— Привожу показания этой девицы, находящейся сейчас в Алжире, — сказал следователь.
У Луи чуть не вырвалось: «Ну и дерьмо!» Но он стиснул зубы. Его обуяла ярость и пронизывал страх.
У него уплывала почва из-под ног, все казалось шатким и зыбким, все теряло устойчивость: следователь, сидящий напротив него, стены этой камеры, адвокат по фамилии Бутейль…[6]
— Придя в гости к вышеупомянутой Леа, вы познакомились с девицей Луизой Мадзони и стали ее любовником. Женщины подрались, и Луиза Мадзони предпочла улизнуть в Марсель, где продолжала заниматься своим ремеслом.
Он ничего не мог поделать. Все было так — и совсем не так. Слова коробили, придавали реальным поступкам искаженный, превратный смысл.
— Вы стали любовником этой девицы…
Да ведь в жизни все это, черт побери, было совсем иначе. И уж никак не из-за оплеухи, которую Леа влепила ей при гостях в зале, Луиза улизнула в Марсель.
— Вы меня прервете, если будете с чем-нибудь не согласны.
— Ладно, ладно, господин следователь!
Допрос начался в самом начале третьего, а к пяти они добрались лишь до Йера и затем до Ниццы. Выходило, будто следователю хотелось говорить обо всем, кроме Констанс Ропике и ее смерти.
— В июле полиция находит вас уже в Ницце, поселившимся на квартире некоей госпожи Ропике, которая жила на ренту и часто посещала казино на молу, где выдавала себя за графиню д'Орваль.
Луи вздрогнул. Он хотел было что-то сказать, но смолчал. А вздрогнул потому, что почуял западню. Подозрительная перестановка событий, несомненно опасная, хотя бы потому, что внезапно оказались пропущенными несколько недель из его жизни.
— В июле полиция находит вас уже в Ницце…
Раз уж все время ищут, к чему придраться, и для этого копаются даже в его детстве, почему они не заикнулись о происшествии в Лаванду? А ведь полиция занималась этим делом. Его самого допрашивали, и замечательную папку господина следователя вполне можно было украсить протоколом того допроса! Но нет, никто и не подумал узнать, каким образом он повстречался с Констанс. Их встречу считали просто-напросто установленным фактом.
— Полиция находит вас поселившимся…
А между тем им особенно интересовался инспектор Плюга, зная что только через него можно добраться до банды «марсельцев».
— Вы забираете свою любовницу из заведения в Йере, где она работала. Вы заставляете госпожу Ропике согласиться на это унизительное сожительство. И некоторые соседи утверждают…
Малыш Луи усмехнулся. Стоит ли из-за этого портить себе кровь? Все это так глупо, к тому же заранее подтасовано. Это видно хотя бы потому, что о Парпене даже не заикнулась.
— Госпожа Ропике, рантьерша…
Что ж, отчасти, пожалуй, так. Но она ежемесячно получала субсидию от старого таможенника, ушедшего на пенсию. Выходит, промышляла тем же, чем и Луиза Мадзони.
Не может быть, чтобы консьержка не упомянула о посетителе по пятницам.
— В пятницу девятнадцатого августа госпожу Ропике последний раз видели с вами и вашей любовницей в ресторане «Регентство»…
— Позвольте!
Удивленный следователь поднял голову.
— Кто вам это сказал? — спросил Луи.
— Вот у меня перед глазами донесение инспектора.
— Инспектора Плюга?
— Не важно. Инспектор случайно находился в ресторане «Регентство» и видел вас.
— А больше он никого не видел?
Следователь притворился, что перечитывает донесение:
— Он никого больше не называет.
— А мне охота узнать, по какой такой причине тут не названо имя четвертого человека. Ведь нас-то за столом было четверо, когда мы справляли день рождения Констанс.
— Прошу вас называть потерпевшую «госпожа Ропике».
— Как хотите. Так вот, с нами обедал некий господин Парпен, который прежде был большим начальником…
— Прошу вас замолчать!
Адвокат поднялся с места. Стычка казалась неизбежной.
— Повезло же мне узнать этакое! — сокрушенно вздохнул Луи, усаживаясь на место. — Старый развратник.
— Еще раз повторяю: либо вы замолчите, либо я вызову конвой.
— Если вы думаете меня запугать… — закусил удила Луи.
Следователь промямлил:
— Я запишу, что с вами находилось четвертое лицо, и затем определю, необходимо ли заслушать его показания.
— Против правды не попрешь, — ехидно согласился Малыш Луи.
— Продолжаю допрос с того пункта, на котором остановился. В последний раз, когда…
Теперь Малыш Луи должен был напрягать всю силу воли, чтобы следить за тем, что говорит следователь.
Кровь стучала у него в висках, рубашка прилипла к спине.
— Итак, в ту ночь ваше присутствие нигде не обнаружено, на следующий день, в субботу утром, вы приходите к вашей матери, а точнее говоря, к господину Дютто, у которого она в услужении. Сейчас я оглашу показания госпожи Берт.
Луи задрожал и посмотрел на адвоката, словно хотел спросить, по закону ли все это делается.
«Вопрос. Вы ждали посещения вашего сына?
Ответ. Нет.
Вопрос. Часто он приезжал к вам неожиданно?
Ответ. Случалось, когда нуждался в деньгах.
Вопрос. Вы заметили сына на дороге, когда он шел к дому?
Ответ. Нет.
Вопрос. Где вы тогда находились — дома или на улице?
Ответ. Во дворе.
Вопрос. А мог ли ваш сын нарочно подойти к дому так, чтобы вы его не заметили?
Ответ. Это похоже на него.
Вопрос. Может, у него был тяжелый чемодан и он сначала хотел его спрятать?
Ответ. Чемодана я не видела.
Вопрос. Но вы же не заметили, как подходил к дому ваш сын? И вы сказали соседке, что приехал он сам не свой?
Ответ. Может, и говорила.
Вопрос. Что вы имели в виду? Не говорили ли вы о дурном деле? Подумайте. Помните, что и ваша соседка давала показания под присягой.
Ответ. Не припомню, что я ей говорила, может, и сказала: «Луи, наверно, опять задурил».
Вопрос. Простите, соседка с ваших слов сказала про «дурное дело». Что же все-таки было сказано: «дурное дело» или «задурил»?
Ответ. Так ведь это все одно.
Вопрос. Допустим. Сын попросил у вас денег?
Ответ. Не просил.
Вопрос. Короче говоря, вам неизвестно, для чего он приезжал в Ле-Фарле?
Ответ. Не знаю.
Вопрос. Мог ли он что-либо спрятать у вас так, чтобы вы про это не знали?
Ответ. Мог, но я в это не верю.
Вопрос. Почему?
Ответ. Потому что не верю, что он мог убить эту женщину. Если бы вы оставили меня с ним на пять минут… Теперь, когда Дютто умер, я могу поехать в Ниццу.
Видит Бог, я первая бы призналась, если бы что-то было».
При этих словах де Моннервиль поднял голову и, обратившись к конвоиру, сидевшему у дверей, скороговоркой произнес:
— Введите свидетельницу.
Малыша Луи передернуло от этих слов. Неужели они могли это сделать? Он посмотрел на следователя, на конвоира, на открывшуюся дверь, на адвоката и, сжав кулаки, устремил пристальный взгляд на входящую фигуру в трауре.
Глава 11
Она села, и чувствовалось, что под всеми этими юбками и бельем, под всей этой черной одеждой, которая полнила ее, скрывается тощее старческое тело. Вуаль была такая плотная, что невозможно было определить, видит ли она что-нибудь сквозь нее, и Моннервиль ободряющим голосом начал:
— Я вынужден, мадам, просить вас открыть лицо.
Рука в черной митенке приподняла вуаль, и открылось сморщенное желтое лицо; выцветшие глаза всматривались в Луи, стараясь в то же время избежать его взгляда.
Казалось, свидетельница боялась своего сына, как некоторые люди боятся умирающих. Она рассматривала его украдкой, словно он уже принадлежал к иному миру, таинственному и страшному; потом, убедясь, что сын не изменился, что это по-прежнему все тот же Луи, вынула из сумочки платок и заплакала.
— Прошу прощения, мадам, что подвергаю вас такому испытанию, но это необходимо в интересах правосудия.
Луи, весь подобравшись, застыл в неприступной и угрожающей позе. Лишь едва заметно вздрагивали крылья носа, а взгляд неотрывно следил за маленьким следователем.
— Если он такое сделал, я умру, — запричитала, шмыгая носом, старая женщина. — Не верю, что ко всем моим бедам Господь Бог уготовил мне еще и эту. Если б вы только знали, господин следователь!..
Она хныкала с ужимками, придававшими ее лицу детское выражение. Трудно было представить, что это жалкое существо — женщина, прожившая долгую сознательную жизнь. Это было беспомощное создание, тупо взиравшее на новые обрушившиеся на нее беды.
— Успокойтесь, сударыня. Я ограничусь одним-двумя вопросами, на которые, впрочем, вы уже ответили, когда вас допрашивал господин комиссар. Смотрите мне в лицо.
Она подняла голову и попыталась из уважения к чиновнику изобразить некое подобие улыбки.
— Вспомните последний приезд вашего сына. Что на следующий день вы сообщили соседке?
Г-жа Берт испуганно оглядела Луи, как бы желая сказать: «Тем хуже для тебя, но это правда». И проговорила:
— Кажется, я сказала, что у него был чудной вид.
— Вы не говорили о дурном деле?
— По правде сказать, я о таком и не думала. Думала, может, с кем-то подрался. Он всегда был задирой. Маленьким то и дело приходил расцарапанный да с шишками. — Слезы снова навернулись ей на глаза. — Если б вы только знали, господин следователь, как я измучилась за всю-то жизнь.
Луи не хотел больше смотреть на нее и пытался не отрывать глаз от письменного стола из красного дерева, обитого зеленым перкалем.
— Если вы так страдали, то прежде всего по вине сына, который всегда был никчемным человеком.
Она утвердительно кивнула.
— После двадцатого августа вы не находили в доме или в виноградниках чего-либо, что мог принести и припрятать ваш сын? Вы нигде не заметили свежевскопанной земли?
— Нет, не заметила, господин следователь.
И она внимательно поглядела на сына, а потом заплакала еще громче. Луи сделал чуть заметное движение, словно хотел развести руки, но ему удалось развести их не больше чем на дюйм — мешали наручники. Губы его дрожали. Адвокат кашлянул от смущения.
— Вы несколько раз говорили соседкам, что Луи вам угрожал. Значит, вы считали его способным на дурное дело. Чего вы опасались с его стороны?
Весь драматизм происходящего отражался на лице Луи. Такой недоуменный взгляд бывает у страдающих от боли и ничего не понимающих собак, подвергнутых вивисекции, веривших человеку, чей скальпель внезапно перерезает им сухожилия.
— Так чего же вы опасались с его стороны?
Старуха не знала, что отвечать. Ей хотелось быть вежливой со следователем, но ее стесняло присутствие сына.
— Мало ли чего скажешь в сердцах.
— А он никогда не угрожал вам?
— Только пугачом, в шутку. И был тогда слишком мал, чтоб понимать.
— Тем не менее он непрерывно требовал у вас денег, хотя у вас их совсем не было.
Г-жа Берт опустила голову и всхлипнула. Потом завела монотонным голосом, словно читала псалтырь:
— Всю-то жизнь я не знала счастья. Даже когда мой бедный муж был жив, он работал на шахте, а ему нужно было лечиться в санатории. А теперь, господин следователь, в поселке в меня тычут пальцами, мальчишки камнями швыряют. Дютто помер, и знаете, что случилось?
Из Италии приехал его племянник, поселился в доме выгнал меня и даже вещи не позволил забрать. Что же я теперь буду делать? Газетчики прямо извели меня, пристают, чтобы я рассказала им о том, чего не знаю.
У меня всего-то и есть что военная вдовья пенсия, и никто не хочет теперь нанимать меня даже прислугой.
Это была жалоба ребенка, несмышленыша, не способного отвлечься от личного горя. Она бросала беглые взгляды на следователя, на адвоката, на сына, чтобы убедиться, что разжалобила их.
— Не знаю, что со мной теперь станется. Вот все, что у меня осталось…
Она лихорадочно рылась в своем ридикюле, а тем временем смущенный следователь подал знак конвоиру.
— Благодарю вас, мадам, и прошу извинить, что вынужден был побеспокоить вас. Пока вы нам больше не нужны.
Человек воспитанный, он поднялся и поклонился старухе, которая суетливо подбирала юбки.
— Прошу вас подписать протокол очной ставки.
Она наклонилась над бумагой, которую протянул ей секретарь. Когда г-жа Берт выпрямилась, Луи приподнялся со стула и окликнул ее:
— Ма…
Несколько секунд они плакали, стоя друг против друга, йотом Луи повернул голову и внятно произнес:
— Клянусь, я не делал этого, не убивал я ее!
Матери он больше не увидел. Конвоир увел ее, и в коридоре на нее налетели репортеры и фотографы.
Следователь невозмутимо обратился к письмоводителю:
— Прочтите протокол и дайте подписать обвиняемому. Может быть, он еще примет наилучшее для себя решение и сознается.
Что касается самого де Моннервиля, то он уже закончил свой день, трудный день, и отправился мыть руки к умывальнику, установленному в одном из шкафов.
Малыш Луи переменился, и никогда в дальнейшем его взгляд не утрачивал того скрытного неискреннего выражения, которое он приобрел в общении со следователем.
На другой день араб, которого ему навязали в сокамерники, принялся по привычке валять дурака, и тогда Луи хладнокровно решил набить ему морду. Единственным способом избавиться от несносного соседа было отправить его в больницу.
Как всегда, по утрам Луи лежал на полу. Араб, у которого не хватало трех передних зубов, смеялся гаденьким смехом, и тут Луи спокойно поднялся, схватил его за горло и стал дубасить по лицу кулаком. Вид крови, брызнувшей из рассеченной губы, не остановил его, и он даже не думал о том, что делает: думал он о другом — о следователе и о том, что не в состоянии был выразить и объяснить. На крики сбежались надзиратели. Растащив дерущихся, они вчетвером принялись избивать Малыша Луи, предварительно надев на него смирительную рубашку. А ему ничего не оставалось, как молча терпеть. К тумакам он привык, зато добился, чего хотел, — араба увели из камеры.
Луи стремился к одиночеству. Мрачный и озлобленный, он, как раненое животное, затаил свою ненависть.
Из головы у него не выходило чудовищное досье на столе у следователя, заполненное бесчисленными листами со свидетельскими показаниями мужчин и женщин, показаниями, которые исподволь собирали, роясь, как в дерьме, в его прошлом, и всякий раз находили какую-нибудь отягчающую подробность. Но некоторых подробностей все еще не хватало, и Луи думал о них, ухмыляясь. С ним еще не говорили ни о Нюте, ни о консьержке, ни об уйме людей, с которыми он сталкивался в Ницце, и в особенности о Луизе Мадзони.
Правда, следователь еще не касался самой драмы. Он добросовестно выполнял свою кропотливую работу.
Это было нетрудно предположить. День тянулся за днем, а Луи не вызывали на допрос. Но и в камере одного не оставили, как он надеялся, а подселили к нему югослава, ни слова не знавшего по-французски, колосса или, скорее, чудовище, мускулистого и волосатого, как обезьяна, с ладанкой, висящей на груди, прямо на порнографической татуировке.
Малыш Луи сообразил: этот находится здесь, чтобы усмирить его, если он снова вздумает психовать. И двое мужчин сидели по своим углам, ничего друг о друге не зная и живя в одной камере так отчужденно, словно она была разгорожена каменной стеной.
Заметно изменилось и отношение к Луи надзирателей, которые становились все грубее по мере того, как газеты — о чем он, конечно, не подозревал — настраивали против него общественное мнение.
К нему относились неприязненно. До сих пор, кроме фальшивых подписей и мошенничества, ничего не удалось обнаружить — ни тела Констанс Ропике, ни других улик, которые прямо навели бы на след преступника.
«Можно сказать, что мы имеем дело с преступлением, совершенным мастерски», — писал один журналист. Таким образом, Луи представлялся публике человеком незаурядного ума и редкостного хладнокровия.
Парпен умер. До сих пор имя его нигде не фигурировало, но одна из газет в весьма туманных выражениях намекнула на старого приятеля Констанс, и этого оказалось достаточно, чтобы сложилась версия, будто бедняга но ошибке принял большую дозу веронала.
Луи ничего об этом не знал. Он не получал никаких известий от своего адвоката. В его распоряжении были целые дни, и он заполнял их тем, что неизменно возвращался к одним и тем же мыслям. И — удивительное дело! — он вдруг начал полнеть. Полнота придавала ему какой-то двусмысленный вид.
Прошло две недели, прежде чем тюремная машина снова отвезла его во Дворец правосудия, и как нарочно опять был дождливый день. Малыш Луи сам, без приглашения, уселся на прежнее место и холодно посмотрел на следователя, перед которым теперь лежали две папки — прежняя, желтая, и новая, красная. Адвокат, похожий на аккуратного и безучастного конторщика, также присутствовал при допросе. Луи заметил в комнате двух конвоиров вместо одного и презрительно усмехнулся.
— Я хотел бы, чтобы вы объяснили ваши отношения с Луизой Мадзони, которую полиция разыскала в одном из заведений в Безье и смогла допросить.
Луи настороженно молчал.
— Слушаю вас.
Тогда он дерзко спросил:
— А что она вам наплела?
И поскольку следователь ответил не сразу, успел добавить:
— Она, видать, тоже стоит за дверью, и вы собираетесь повторить трюк с мамашей.
— Прошу выбирать выражения, иначе я отправлю вас в камеру.
— Сделайте одолжение.
— Я просил вас осветить ваши отношения с девицей Мадзони.
— Они вам не совсем понятны, да? Может, вам их нарисовать?
— Я полагаю, что они не так просты, как вам хотелось бы изобразить. Конвоир, введите девицу Мадзони.
Черт побери! Он это предвидел. Не нашли ничего умнее, как повторить тот же трюк, только теперь с Луизой.
Она появилась в таком скромном зимнем пальто, что походила на простую работницу. Ею все было заранее предусмотрено — и манера держаться, и поклоны следователю и адвокату.
— Садитесь, пожалуйста. Передо мной протокол вашего допроса полицейским комиссаром в Безье. Мне хотелось бы, чтобы вы подтвердили некоторые пункты в присутствии обвиняемого.
Она наклонила голову в знак согласия, а Луи притворился, что думает о чем-то другом.
— Вы показали, что первое время Луи Берт был для вас таким же гостем, как и все остальные. Но постепенно он привязался к вам.
— Да, это так.
— Значит, он тогда еще не принадлежал к той среде, которую в газетах называют преступной?
— Он никогда с ними не путался.
— Вот именно — никогда не путался. Точнее говоря, члены шайки не принимали его за своего и относились к нему как к любителю?
— Они ему не доверяли.
— Вы и раньше это утверждали. Со своей стороны, вы также привязались к нему?
— Да, ведь он хотел вытащить меня оттуда — так он говорил. Убеждал меня, что я несчастная и что он поможет мне начать новую жизнь.
— Он тогда работал?
— Временно.
— Временно! Обращаю на это внимание. Ну-с, а что случилось потом?
— Я ушла из заведения в Марселе, чтобы жить с ним, но вскоре увидела, что денег у него нет, и опять пошла в заведение — в Йере.
— Вы отдавали ему свой заработок?
— Нет. Когда он приходил ко мне, я давала ему понемногу, он ведь часто сидел на бобах, но у меня был другой любовник, который…
— Я не спрашиваю вас о таких подробностях, — поторопился перебить ее следователь. — Правосудия это не касается.
Малыш Луи поднял на него глаза и улыбнулся, вложив в улыбку все свое презрение.
Луиза ни разу не обернулась в его сторону, и он видел только ее профиль.
— Что же произошло дальше?
— Он все настаивал, чтоб я жила с ним и бросила заведение. Как-то раз он пришел ко мне и сказал, что его тетка поселилась в Ницце, что она богатая и помогает ему и что я могу приехать к ним.
— Он сказал — тетка?
— Иначе бы я туда не поехала. А когда я раскусила, в чем дело, то решила смыться: я подозревала, что вся эта канитель добром не кончится.
— Вы уже тогда предвидели» то, что случилось?
— Может, не очень ясно.
— Что вы этим хотите сказать?
— Малыш Луи — парень с заскоками. Никогда не знаешь, что он выкинет. Я чувствовала, что он впутывает меня в какие-то непонятные дела — заставил, например, обедать со старикашкой…
— Прошу вас — повежливее о мертвых.
— Извините, — поспешно проговорила она.
Луи удивленно взглянул на следователя, потому что впервые услышал о смерти Парпена.
— Луи и его мнимая тетушка часто ссорились?
— Случалось.
— Полагаю, из-за денег?
— Наверное. Она не всегда была настолько щедра, как ему бы хотелось.
— Короче говоря, вы предпочли вернуться в заведение, чем оказаться замешанной в делах, которые казались вам подозрительными?
— Вроде бы так.
— Благодарю. Больше вопросов у меня к вам нет.
Подпишите протокол. Надеюсь, Луи Берт, вам нечего возразить на четкие и ясные показания свидетельницы?
Лишь для того, чтобы увидеть лицо Луизы, Луи проворчал:
— Хотелось бы знать, как она могла верить, что это была моя тетка, когда мы спали втроем.
Луиза вздрогнула и, обратившись к следователю, растерянно пролепетала:
— Не понимаю, что он такое говорит.
А чиновник строго отчеканил:
— Не смейте придавать следствию более неприличный характер, нежели это необходимо.
Так. Выходит, все сфабриковано. Луи давно это подозревал, а теперь уж никаких сомнений. Он даже не обернулся, чтобы посмотреть вслед Луизе, которая шла мелкими шажками, подражая приличным барышням.
— Финиш? — спросил Малыш Луи пренебрежительно. — Мне тоже подписывать?
Следователь побагровел и воскликнул:
— Только один человек вправе задавать здесь вопросы! Это я!
— Тогда вы могли бы спросить меня, убил ли я Констанс, потому как я не убивал ее, а вы все время тычете пальцем в небо.
— Молчать!
— Дадут ли мне наконец говорить? В тюрьме держат, а до сих пор сказать не могут, в чем обвиняют.
Следователь стукнул кулаком по столу. Вмешался адвокат:
— Господин следователь, нельзя ли в самом деле спросить моего подзащитного, он ли…
— Простите, мэтр, на суде вы будете спрашивать все, что пожелаете. Здесь же дознание производится мною, и я намерен вести его по своему усмотрению, не обращая внимания на неподобающее поведение этого субъекта.
Луи расхохотался. Он снова сел, всем своим видом говоря: мели сколько влезет, у тебя одна забота — тянуть волынку. В наказание его промытарили еще полчаса:
Моннервиль пошел выпить стакан воды и был перехвачен журналистом.
Тем временем в маленьком баре, неподалеку от Дворца правосудия, Луиза Мадзони встретила Жэна и Чарли, которые поджидали ее и сразу увезли на машине.
Вернувшись, следователь с достоинством произнес:
— Смею надеяться, вы дадите мне закончить допрос как положено. Нам предстоит еще очная ставка обвиняемого с двумя свидетелями. Сначала Лаура Монески, девица легкого поведения из Ментоны, которая двадцать четвертого августа по настоянию Луи Берта отправилась с ним на почту, где с помощью удостоверения личности покойной…
На этот раз адвокат посмел вмешаться и мягко заметил:
— Простите, но еще не доказано, что Констанс умерла, и до сих пор, господин следователь, мы не располагаем свидетельством о ее смерти.
Луи с иронией глянул на молодого человека, у которого не нашлось других возражений.
Ввели девицу Монески. В отличие от Луизы, она вырядилась в ярко-фиолетовый костюм. Толстая и добродушная, Лаура Монески сюсюкала и пускалась в подробности.
— Как увидела я в номере, что он не раздевается, так сразу спросила, зачем пришел. А он мне говорит, что ему охота поболтать со мной. А потом спросил, не хочу ли я заработать пятьсот франков. Если по-честному, говорю, то почему бы нет. И тут он мне поклялся жизнью своей матери.
— Простите, — прервал ее следователь.
— Да правда же! Он поклялся, и я не могла не поверить. У меня дочурка в пансионе в Пьемонте. О ней я и подумала, когда соглашалась.
— Луи Берт, вы признаете эти факты?
— Верно, она помогла мне получить перевод на десять тысяч франков, но я не убивал Констанс Ропике.
— Подпишите, мадмуазель. Вы свободны.
— Так, значит, это не правда?
— О чем вы?
— Мне сказали, что меня засудят, потому как…
— Ваша невиновность установлена. Подпишите еще здесь своим именем. Благодарю.
— Значит, мне можно ехать в Ментону? Потому как надо вам сказать…
— Можете ехать в Ментону. Конвоир, проводите свидетельницу и пригласите мадмуазель.., погодите…
Он поискал имя в своих папках.
— Мадмуазель Нюту Ропичек. Передайте остальным ожидающим свидетелям, что сегодня я их не приму и вызову в ближайшие дни.
Глава 12
Уже по тому, как она вошла, легко было догадаться, что Нюта долго ожидала в приемной и что ей не терпелось встретиться с Луи, поговорить с ним, узнать правду.
На мгновение она задержалась в дверях, увидав, как он изменился: обрюзгший, небритый, в рубашке без воротничка — словом, другой человек. Услышав фамилию девушки, Луи сделался еще угрюмей.
Она пришла с воли, принесла с собой запах улицы, как напоминание о движении трамваев, машин, о толпе, проходящей через перекрестки. На воле было прохладно — уже наступила осень, и Нюта была такая чистая, такая непосредственная. Она решительно приблизилась к арестованному:
— Мсье Луи, я должна сказать вам…
Моннервиль тут же призвал ее к порядку, постучав линейкой по столу:
— Пожалуйста, мадмуазель, я попросил бы вас повернуться ко мне и не обращаться к обвиняемому.
— Но почему вы…
— Будете отвечать, когда я задам вопрос, Следователь, который так благосклонно отнесся к болтливой девице из Ментоны, инстинктивно взъелся на эту взволнованную девочку.
— В полиции вы показали…
— Господин следователь, клянусь вам…
— Спокойней! Вы показали в полиции, что встретили Луи Берта во вторник, двадцать третьего августа, немногим раньше полудня. Он нес большой чемодан и смутился, когда увидел вас.
Пальчики Нюты вздрагивали от нетерпения. Губы раскрылись, она попыталась заговорить:
— Но меня спрашивали…
— Неважно, о чем вас спрашивали. Подтверждаете ли вы свои слова? Вы встретили его двадцать третьего августа?
— Не помню.
И она посмотрела на Луи, как бы прося у него совета, — Прошу вас, подумайте и отдайте себе отчет в важности того, что вы сейчас говорите. Не забывайте, речь идет об убийстве. Есть жертва. Ваши показания…
— Ничего не помню.
— Однако инспектору вы отвечали более определенно.
— Он сам задавал вопросы и сам на них отвечал.
— Вы показали, что в ночь с двадцатого на двадцать первое августа слышали, как ссорились в квартире, занимаемой госпожой Ропике и ее любовником.
Удивленный Луи встрепенулся. Теперь все даты восстановились в памяти. А упомянутая ночь была именно той, которую он провел в Тулоне, в баре сестры.
— Признаете ли вы ваши прежние показания?
— Нет.
— Мадмуазель, еще раз настоятельно прошу подумать о том, что вы делаете.
— Полицейский спросил меня, слышала ли я шум. Но он задавал столько вопросов, что под конец я совсем сбилась с толку.
Каждый раз она поворачивалась к Луи, стараясь уловить малейший знак одобрения.
— Тогда я спрошу вас о другом. Убеждены ли вы, что ваши отношения с обвиняемым были чисто соседские?
Луи презрительно хмыкнул. А Нюта изумленно раскрыла глаза и, когда до нее дошел смысл вопроса, чуть не разрыдалась.
— Скажите, вы живете в Ницце одна, без всякого присмотра? С вами нет никого, кто мог бы следить за вашим поведением? Верно ли, что ваша матушка именно теперь путешествует по Америке? — И, не давая ей времени опомниться, следователь добавил:
— Я вас вызову позже, когда вы образумитесь.
Малыш Луи начал прямо-таки восхищаться следователем. Изо дня в день досье росло и пухло, обогащаясь мельчайшими подробностями. Внезапно появились люди, о существовании которых Луи давно позабыл. Их выуживали бог весть где ради сущей ерунды, еще одного незначительного штриха в портрете обвиняемого, чтобы кто-нибудь из них показал: «Он ушел в субботу вечером, не заплатив по счету».
Такое заявление сделал хозяин одного бистро, которого ради этого привезли из Авиньона, хотя счет был всего на 42 или 43 франка!
Почти ежедневно тюремная машина с постоянно меняющимися конвоирами приезжала за Луи, в тюрьму.
Теперь его не сразу вводили в кабинет следователя. Рядом с кабинетом была плохо освещенная комнатушка, бывшая гардеробная. Там он просиживал на скамье несколько минут, а иногда и битый час. Потом открывалась дверь, его вталкивали в кабинет, и он замечал на стуле какой-нибудь новый призрак: кондуктора автобуса, официанта из Прадс, клиента, с которым он играл в белот у своего зятя.
— Это он? — спрашивал Моннервиль, указывая на стоявшего Луи.
— Да, он. Может, тогда был чуть худее, но это точно он.
И Луи снова уводили за кулисы: ему ведь досталась роль статиста. Он мог лишь догадываться, что еще наклепает на него тот или иной человек, вызванный в качестве свидетеля.
Так, однажды он очутился лицом к лицу со своим бывшим фельдфебелем, который стал теперь крупье в Жюан-ле-Пене. В другой раз это были неизвестные ему мужчина и женщина, крестьяне, которых он тщетно пытался вспомнить. Он не знал, что в пруду в То, возле Сета, выловили человеческую ногу. И вот этим двум честным людям — лавочнику и его супруге — показалось, что они по фотографии, напечатанной в газете, узнали в Луи клиента, который в один из вечеров зашел к ним в лавочку с большим свертком и выглядел как-то чудно. о Газеты посвятили этому сообщению целые колонки.
Лавочник и его жена приехали утром, и Луи был предъявлен для опознания вместе с тремя мужчинами.
— Есть ли среди этих людей человек, которого вы видели?
Муж вопросительно смотрел на жену и качал головой, наконец она указала на полицейского инспектора и невнятно пробормотала:
— Будь этот повыше, я подумала бы на него. Но у того, помнится, были маленькие усики, как у Чарли Чаплина.
Так прибавлялись новые свидетельские показания.
Моннервиль и его письмоводитель трудились не покладая рук по 12—13 часов в сутки, рассылали по всей Франции поручения о проведении допросов.
Однажды Луи имел очную ставку с обеими толстухами, которые держали придорожный бар, где он пил с англичанами.
— Вы можете подтвердить, — спросил следователь, — что этот человек вышел вместе с вашими клиентами и сел в машину?
Обе, похожие на каракатиц, такие болтливые за стойкой, здесь оробели. Они тупо переглядывались, как лавочник со своей супругой:
— Ты его видела?
— Что-то не помню.
— Прошу отвечать, не переговариваясь. Можете подтвердить?..
— Подтвердить? Нет. Знаете, как оно бывает: торопишься закрывать…
Впору было завыть от ярости! Разыскивали всех и вся.
И все все подтверждали. Даже когда речь шла о явной ошибке или поклепе. Но в данном случае факт был налицо. Луи ведь и в самом деле уехал с англичанами. Это было сейчас самое важное, поскольку следователь хотел доказать, что преступление совершилось именно в ту ночь. А эти толстомясые тетки никак не решатся вспомнить, только трясутся от страха при виде чиновника.
Полиция, которая сумела доставить к следователю и фельдфебеля, и товарищей детства Луи, до сих пор не разыскала машину с литерами «G.B.» и ее владельцев, хотя те, как легко было догадаться, постоянно ездили на Лазурный берег.
Луи свыкся со всем этим, и его уже ничто не возмущало. С утра он ожидал полудня, чтобы узнать, предстоит ли очередная канитель во Дворце, как он называл очную ставку. Он позволял себе даже подшучивать над щеголеватыми, упитанными конвоирами. Шутил он грубо и зло, потому что было тяжело на сердце, а потом один в тесной комнатушке пытался услышать, что замышлялось против него в кабинете следователя.
Однажды он чуть было опять не сорвался, когда неожиданно ему устроили очную ставку с двумя старыми девами. Одна из них держала перед глазами лорнет. Луи узнал их. Он был уверен, что где-то сталкивался с ними.
В то же время он чувствовал, что присутствие их в этом помещении означает для него катастрофу, но довольно долго не мог припомнить, где же он с ними встречался.
— Это он? Вы подтверждаете? — спрашивал Моннервиль, уже механически повторяя все те же вопросы.
— А что ты скажешь, Тереза? — обратилась одна из старушек к сестре.
— Скажу, что это точно он. Если б я посмотрела на его руки, то и вовсе уверилась бы: ведь я…
И тут Луи вспомнил. Эти старые девы держали галантерейную лавчонку, куда он зашел в тот памятный вечер около восьми часов за резиновыми перчатками, но купил кожаные, так как резиновых не было.
— Покажите руки, Берт.
— Размер шесть с половиной. Узнаю по большому пальцу, он тогда поразил меня.
И старушка попятилась, испуганная тем, что стоит возле убийцы.
Был еще один начисто забытый свидетель, официант из бара, который, надо сказать, долго не решался опознать его.
— Он заказал выпить — все равно что, лишь бы покрепче, и я был несколько удивлен. Но он тут же объяснил, что только что видел, как на человека наехал трамвай. А я рассказал ему, как на прошлой неделе…
И весь этот мир держал на своих плечах хрупкий, болезненный Моннервиль. Целый мир, создаваемый постепенно, с исполнителями главных ролей и со статистами, с трагиками и комиками, молоденькими служанками, старыми девами и даже инвалидом с каменным лицом, которого вызвали лишь затем, чтобы он сказал, что сидит у окна целые дни, но не видел ничего особенного.
Старик был глух, вопросы ему задавали письменно, и он непонятно почему орал в ответ.
В некоторые дни коридоры Дворца правосудия были забиты людьми, привлеченными сюда делом Луи. Должно быть, в газетах поместили специальное объявление, после чего разразилась эпидемия свидетельских показаний.
Какой-то коммивояжер слал письма из Буржа, молочнику из Па-де-Кале оплатили дорогу только для того, чтобы он заявил, что сроду не видел Луи, а у человека, которого он имел в виду, на левой щеке был шрам.
Целых три дня только и делали, что сверяли часы и даты. И под конец все запутались — и следователь, и Луи, и свидетели, которых пришлось вызывать по второму разу, когда обнаружилось, что их показания не совпадают с графиком, составленным Моннервилем.
А график-то оказывался неточным. Одни свидетели ошибались на день, другие на неделю.
И вдруг полное затишье. Неделю Малыш Луи оставался в своей камере, где осужденный на десять лет югослав уступил место подозрительному счетоводу, который при разговоре брызгал слюной. Луи в первый же день приказал ему «закрыть плевательницу».
Наконец как-то утром его известили о приходе адвоката, и счетовода удалили из камеры. Мэтр Бутейль, чуть ли не поселившийся в кабинете Моннервиля, казалось, приобщился к лихорадочной деятельности следователя. Бессознательно он высказывал законную удовлетворенность человека, который только что завершил титанический труд. Едва ли не радостно он объявил:
— Кончено! Наше дело отправляют в суд присяжных департамента Приморских Альп по обвинению вас в предумышленном убийстве с сокрытием трупа, в краже, злоупотреблении доверием, подлоге и использовании фальшивых документов. — Он положил на стол битком набитый портфель и с гордостью продолжал:
— Дело содержит восемьсот двадцать три листа. По нему было заслушано двести тридцать семь свидетелей. Теперь нам надо серьезно все обсудить. Наше дело станет крупным событием на ближайшей сессии. Без ложной скромности могу сказать: я чувствую, что теперь способен защищать вас сам, а раньше думал обратиться к одному из светил парижской адвокатуры.
— Вы ведь, слава богу, знаете, что у меня нет денег, — возразил Луи, не желая, чтобы ему морочили голову.
— Можете не сомневаться, что теперь любой адвокат охотно взялся бы защищать вас бесплатно. Меня посетили иностранные журналисты, они уже писали о вашем деле и будут присутствовать на суде. Если я отказался от мысли привлечь парижского коллегу, то лишь потому, что присяжные в Ницце не очень-то любят, когда их делами занимаются посторонние. Я мог бы привести совсем недавние примеры…
Луи наблюдал за его суетливой взволнованностью, как наблюдают за поведением существа из другого мира.
Послушать мэтра Бутейля — так это его жизнь поставлена на карту и зависит от исхода дела.
— Вчера я договорился с двумя опытными адвокатами из Ниццы, по моему мнению, лучшими, и оба согласились оказывать мне содействие.
— Коли так положено, пусть содействуют, — равнодушно согласился Луи. — А когда суд?
— Наверное, в июне.
— Вон как? Не раньше?
— Поверьте, нам уже сейчас надо готовить защиту.
Теперь, когда следствие закончено и руки у нас развязаны, только и начнется настоящая работа. Вы наметили какую-либо линию?
— Какую еще линию?
— Полагаю, вы отдаете себе отчет, насколько неопровержимы материалы дела. Моннервиль — самый дотошный из судебных следователей, к тому же он слывет человеком безукоризненной честности. Надо решить, будем ли мы признавать убийство, отвергая предумышленность, и ссылаться на смягчающие вину обстоятельства или упорно, несмотря на смягчающие обстоятельства, будем все отрицать.
— Черта с два!
— Послушайте, Луи, между нами, я могу сказать вам…
Нет! Не надо! Луи ни в чем ни признается ни своему адвокату, ни дополнительным защитникам, ни кому бы то ни было. Он давно уже понял, что надеяться ему не на кого, и потому едва ли прислушивался к болтовне мэтра Бутейля, который под конец разговора выбился из сил, как сплетничающая старая консьержка.
— Разве вы не понимаете, что ваша линия не выдерживает критики?
— Да никакая это не линия.
— Но поскольку при вас нашли…
— Послушайте, — прервал его Луи, — нельзя ли мне дать какую-нибудь работенку? Мастерить чего-нибудь — игрушки, дудки, все равно что.
Он не мог больше выносить пустомель. Они его утомляли. При одном виде взволнованного, возбужденного адвоката ему делалось тошно.
— Нужно же все-таки нам…
— Ладно. Как-нибудь в другой раз. Вы не знаете, где моя мать?
— Один журналист из Ниццы встретился с ней во Дворце правосудия и был так растроган ее бедственным положением, что взял к себе в прислуги.
Луи неприязненно взглянул на адвоката. Он терпеть не мог журналистов, так же как следователей и адвокатов, и спрашивал себя, что еще они постараются выпытать у матери.
— Значит, я приду, когда…
— Ладно, не забудьте про работенку.
И он стал работать. Он делал все старательно, ловко, с удивительным спокойствием. С утра до вечера, не поднимая глаз, не обращаясь ни с единым словом к соседу по камере, он упорно мастерил легкие игрушки из некрашеного дерева, как будто от этого зависела его судьба.
Но работа не мешала ему полнеть. Взгляд его становился все мрачнее, тяжелее, отрешеннее. Казалось, он боялся прямо смотреть на людей и окружающие предметы. Он бросал беглый взгляд и быстро отводил глаза.
Несколько раз начальник тюрьмы, удивленный столь образцовым поведением, приходил посмотреть на заключенного, потом прислал священника, который пришел в восторг от мастерства Луи. Заключенный молчал. Он смотрел на человека в сутане, как и на всех остальных, ни для кого не делая исключения, утратив всякое доверие к людям.
— Не считаете ли вы, Луи, что откровенная и искренняя беседа между нами принесет вам облегчение, а возможно, и утешит вас?
Молчание. Быстрый взгляд. Только руки ловко орудуют крошечными инструментами.
— Я видел вашу матушку. За годы жизни в Ле-Фарле она забыла о религии, но теперь вновь черпает в ней силы, чтобы перенести тяжкие испытания.
Еще один недовольный взгляд. Священнику, как и адвокату, ничего не оставалось, как пробормотать перед дверью:
— Я еще вернусь. Не теряю надежды, что милость Божья…
— Они обращаются к тебе, как к смертнику, — проскрипел, брызгая слюной, счетовод, лютой ненавистью возненавидевший сокамерника.
И никто, никто в мире не мог бы сказать, что происходило в упрямой голове Луи, пока его руки были заняты нехитрой работой.
Если он ни от кого не хотел принять помощи, то лишь потому, что убедился, как безгранично он одинок. Но это сознание, вместо того чтобы обескуражить его, придавало ему отчаянную решимость. Пусть не надеется мэтр Бутейль, что он признается: «Да, я убил Констанс Ропике.
Спасите меня! Сделайте невозможное, но сохраните мне жизнь!» Ни признания, ни просьб о пощаде. Он имел возможность оценить их всех. И пришел к выводу, что лишь сам может спасти себя.
Проходили недели. Он ел все, что ему подавали, ничего не требуя, не жалуясь. Иногда отпускал шуточку по адресу одного из надзирателей, гнусавого рыжего детины с более симпатичным, чем у остальных, лицом.
Он принял двух светил адвокатуры Ниццы, но не позаботился о том, чтобы показать себя в выгодном свете, и даже не поблагодарил за внимание.
Под конец стал даже подтрунивать:
— Нечего переживать за Малыша Луи. В этот раз ему еще не отрубят голову.
Мысль о смертной казни он читал в глазах у всех, кто к нему приходил. Это становилось все очевиднее по мере того, как приближалась сессия суда присяжных. Рыжий надзиратель делал ему кое-какие поблажки. Адвокаты приносили сласти. Казалось, все они недоумевают: неужели он не представляет себе своего положения?
А Луи смотрел на них с упрямством, и по глазам его ничего нельзя было понять.
Он размышлял, часами что-то обдумывая, пока его руки непрерывно работали. По мере того как всех охватывало волнение, Малыш Луи испытывал все большее спокойствие, какого никогда еще не ощущал, — разве что в течение тех нескольких утренних часов, когда в Ницце, лежа на кровати перед открытыми окнами, курил и слушал, как в соседней квартире пели «Колыбельную» Шопена.
Моннервиль потратил более двух месяцев, чтобы воздвигнуть себе памятник — дело, которое в осведомленных кругах признавалось образцом произведений подобного жанра. Адвокаты тщательно, пункт за пунктом изучали его, чтобы отыскать какие-либо изъяны, а Луи знал их и так. Он единственный знал всю правду. Он один знал, какую банальную схему прикрывают хитроумные конструкции следователя. Он один отдавал себе отчет, что все это — вранье от начала до конца, что следователь и его помощники подтасовывали даты для устранения неувязок в показаниях свидетелей, оказывали на них давление, и те в итоге терялись, путали воскресенье с понедельником, одну неделю с другой. Но, худо или хорошо, все было собрано воедино Моннервилем, который действовал так, может быть, и с благими намерениями, но обязан был хоть раз спросить себя по совести, не развертывались ли события иначе, чем он предполагал.
В итоге Моннервиль воссоздал преступление по своему замыслу. Именно это выдуманное преступление, а не подлинное он и расследовал в мельчайших подробностях.
— Если ты и дальше будешь так жиреть, свидетели тебя не узнают, — шутил рыжий надзиратель.
Луи не улыбнулся. Он лишь скорчил гримасу в знак добродушного настроения.
— В газетах снова пишут о твоем деле. Пожалуй, понадобятся специальные пропуска на суд. Журналистов собирается приехать такая уйма, что надо будет переоборудовать зал и поставить во Дворце дополнительные телефоны.
Дважды адвокаты грозились отказаться от защиты, если он им не поможет.
— Да идите вы!.. — цинично ответил Луи.
И за пять, и за четыре дня до процесса он не утратил спокойствия. Он был озабочен бытовыми мелочами: велел отнести костюм в чистку, купить новый галстук и три сорочки — ему сказали, что процесс продлится дня три, а уже становилось жарко.
Накануне он позвал тюремного парикмахера и договорился, что завтра с утра пораньше тот подстрижет его и побреет.
Когда адвокаты показали ему многочисленные газетные вырезки, он проявил любопытство не к тексту, а к фотографиям.
— На этой я совсем не похож, — говорил он пренебрежительно.
Или:
— Любопытно, когда они успели меня щелкнуть; даже не знаю, где это было, И вдруг без всякого перехода спросил:
— А мать моя там будет?
— Она вызвана свидетельницей.
— А Нюта?
— Тоже.
— А Луиза?
— Ей послали повестку, но она еще не приехала.
— Ну и ладно, — произнес он, наводя порядок на подоконнике, заменявшем ему стол.
Глава 13
Парикмахер, отбывавший наказание за то, что всадил полдюжины пуль в свою невесту, появился в шесть утра, освещенный солнцем и в игривом настроении.
— Знаешь, сколько понаехало газетчиков? — возбужденно крикнул он, словно предстоял его собственный процесс или большой праздник. — Пятьдесят три!
Он преувеличивал. И все же набралось сорок девять репортеров, из которых двадцать накануне прибыли из Парижа. В роскошных белоснежных отелях на Английской набережной обслуживающий персонал поражался — отчего многие постояльцы поднялись в такой ранний час.
Луи не мог видеть Бухту Ангелов, а в то утро она была цвета лаванды, без единой морщинки, без единого пароходика, куда ни глянь — незамутненная водная гладь.
Парижане восторгались красотой природы и, направляясь во Дворец правосудия, делали крюк, чтобы пройти через цветочный рынок, пестреющий разноцветными гвоздиками.
В маленьких бистро пахло ранним кофе, и поливальная машина медленно лавировала по улицам, когда сорок полицейских в касках и высоких сапогах, шагая в ногу, вышли на площадь и образовали живой коридор на величественной лестнице Дворца правосудия.
Малыш Луи, закончивший свой тщательный туалет, уже трясся в тесном кузове тюремной машины. Самый молодой из конвоиров с любопытством следил за ним через зарешеченное оконце.
Луи провели во Дворец через маленькую дверь, и, пока кругом, как на ярмарке, галдела толпа, он опустился на скамью в комнате, выкрашенной в серый цвет, — что-то вроде полутемного чулана, где ему предстояло ждать начала.
Какие-то люди с нарукавными повязками суетились, словно распорядители на празднике. Другие стояли группами на ступеньках лестницы. Внизу, среди застывших машин, толпа любопытных глазела на полицейских. Приезжали красивые женщины с пропусками и без пропусков.
Те, у кого их не было, атаковали знакомых — журналистов или адвокатов.
На столах для прессы какой-то оборотистый ресторатор приколол фирменные карточки, обещающие журналистам наилучший прием по самым дешевым ценам.
До Луи доносился лишь смутный гул голосов и хлопанье дверей. Иногда он с интересом поглядывал на молодого конвоира, удивительно похожего на него самого, особенно теперь, когда Луи раздался в плечах и кожа у него стала гладкой, как у упитанного поросенка.
Разве не мог бы он очутиться на месте этого охранника, а тот — на его! У обоих была широкая и тяжелая челюсть, такие же выступающие скулы, похожие глаза и лоб.
Наконец вошел один из адвокатов, уже в мантии. Он был не менее возбужден, чем парикмахер утром.
— Ну как, к бою готов? Не оробел? — воскликнул он, буравя Луи испытующим взглядом.
— Чего там робеть.
— А зал видел?
И он приоткрыл дверь, ведущую к скамье подсудимых.
В щель Малыш Луи разглядел толпу, особенно плотную в глубине зала, там, где не было стульев. Взгляд его встретился с чужими взглядами, но он и бровью не повел.
— Луиза приехала? — спросил он у адвоката.
— Ее еще не видели.
Он зло усмехнулся:
— А сестра?
— Прислала справку о болезни.
Несмотря на внезапные болезни и отказ некоторых свидетелей от своих показаний, предстояло выслушать не менее 67 человек. Члены суда нервничали, так как опоздание одного из присяжных не позволяло начать заседание.
Наконец все расселись по местам. Журналисты сбежались из соседних кабачков и вели себя как дома — спорили, курили.
Суд появился в полном составе. Малыш Луи сел на скамью за барьером, и все взоры обратились к нему, а фотографы с расстояния менее метра расстреливали его из своих аппаратов.
Он улыбнулся. Его взгляд медленно и спокойно обошел всех присутствующих, задерживаясь на знакомых лицах. Пальцы машинально поправили узел галстука-бабочки — он выбрал голубой в белый горошек. Потом Луи вытащил платок, потому что у него вспотели ладони.
Суд приступил к жеребьевке присяжных. Никто этим не интересовался, даже адвокаты, которые время от времени бросали наугад:
— Подлежит отводу!
Раз уж предстояло провести в этом зале три дня, надо было приспособиться к обстановке. В памяти Луи запечатлелось несколько мелочей: например, висевшие над секретарем часы, поза сидящего справа члена суда, толстого весельчака, который, откинувшись назад, полулежал в своем кресле и, казалось, был в восторге от того, что находится здесь, на этом месте, может видеть и переживать все, что тут происходит.
Пока оглашали обвинительное заключение, один из адвокатов пальцем указывал Малышу Луи на самых известных журналистов, и тот с любопытством рассматривал их, кивая головой при каждой фамилии. Председательствующий болтал в это время с членом суда слева, а прокурор на своем месте не спеша наводил порядок в бумагах.
Воздух, пьянящий утренней свежестью, проникал через высокие окна, которые старый зябнувший хроникер еще не успел попросить закрыть.
— Подсудимый, встаньте!
Прошло больше часа, а процесс еще только начался.
Луи нехотя встал, опираясь потными ладонями о барьер из светлого дуба. Судья откашливался, подбирая подобающий тон. Подозрительный и настороженный, он словно опасался, что зал вдруг разразится смехом или свистом.
— Вас зовут Луи Берт и вы родились в Лилле?
— Да, господин судья.
Голос его услышали впервые. Всем хотелось получше рассмотреть Малыша Луи.
— Ваш отец был шахтером и, когда началась война, его мобилизовали?
— Да, господин судья.
Голос был чуть-чуть приглушенный. Луи держался очень естественно, без всякой заносчивости, пристально глядя в глаза тому, кто задавал вопросы.
— Война заставила вашу мать бежать с вами и вашей сестрой на юг Франции?
— Да, господин судья.
— Там несчастная женщина делала все, чтобы прилично воспитать вас, и в детские годы перед вами были только хорошие примеры.
Луи раскрыл было рот, но запнулся и закрыл его.
К несчастью, судья заметил это и спросил:
— Вы хотели что-то сказать?
Луи упорно смотрел ему в глаза. Все ждали, а он не знал еще, что делать. Заметно выступил кадык, побелели впившиеся в барьер пальцы.
— Да, господин судья.
— Вас слушают господа присяжные. Повернитесь к ним, пожалуйста.
Луи повиновался, но взгляд его все же был устремлен на судью.
— Я хотел лишь сказать, что в детстве мы с сестренкой спали в одной комнате с матерью и старым Дютто.
Он живо обернулся к залу, потому что послышалось перешептывание, и властным взглядом окинул лица сидящих. Судья постучал линейкой по столу:
— Я намерен сразу предупредить, что не потерплю каких бы то ни было нарушений порядка.
Журналисты лихорадочно застрочили, а Луи, сочтя инцидент исчерпанным, снова замкнулся в себе.
— Сожалею, что вы сочли необходимым говорить подобные вещи о несчастной женщине, которую мы скоро увидим в этом зале. Свидетели, в порядочности которых, надеюсь, вы не сомневаетесь, подтвердят, что всегда считали госпожу Берт святой женщиной и что вы в детстве проявляли самые дурные наклонности…
Губы Луи искривила ироническая усмешка, и судья на мгновение запнулся, готовый рассердиться и заспорить с ним, как спорят мужчины на улице или в кафе.
— Вы, вероятно, признаете, что мальчишкой совершили несколько мелких краж?
Луи снисходительно подтвердил:
— Да, господин судья.
— Стало быть, признаете?
— А как же не признать, господин судья?
— Вы признаете и то, что были исключены из школы в Ле-Фарле?
— Да, господин судья.
— И что еще подростком вступали в любовные связи.
Вы посещали всякие злачные места в том возрасте, когда обычно…
— По мере сил, господин судья.
Послышались смешки, и судья еще раз пригрозил очистить зал. И тут же с пафосом добавил:
— Прошу не забывать, что тень погибшей незримо присутствует на суде…
Адвокат номер один воспользовался его словами и присовокупил:
— …а мой подзащитный рискует головой.
Луи удивленно взглянул на него, слегка пожал плечами и снова повернулся к судье, ожидая очередной атаки.
Красные мантии не производили на него впечатления.
Его лишь нервировал машинальный жест прокурора, который непрерывно подкручивал седые усики. Малышу Луи хотелось попросить его держаться поспокойнее, потому что это движение поминутно отвлекает его.
— Тем не менее я отмечаю, что уже с давних пор вы стали завсегдатаем домов терпимости…
А адвокат заметил вполголоса:
— …как и добрая половина французов.
Луи рассмеялся, но судья не решился призвать его к порядку.
— Позднее вы избрали себе иную роль — предпочли быть не просто посетителем, но и жить на содержании у женщин, точнее говоря, за счет их проституции.
— Господин судья, — возразил Луи, — я вижу в этом зале не менее десятка лиц, не имеющих другой профессии, однако их не обвиняют в убийстве Констанс Ропике.
Все заволновались. Люди стали оборачиваться, смотреть на соседей, и прокурор поспешил прийти на помощь коллеге.
— Я прослужил много лет, но впервые сталкиваюсь с подобным цинизмом! — воскликнул он негодующе.
— Если бы вас обвинили в убийстве вашей любовницы…
— Подсудимый, замолчите! Прошу публику соблюдать спокойствие, или я немедленно велю освободить зал.
Охрана, выведите первого, кто нарушит тишину. В конце концов это нестерпимо. На суде мы или на ярмарке?
Вспотевший судья, теряя выдержку, пытался восстановить ход мыслей, тогда как Луи оставался неподвижен и спокоен. Взгляд его напоминал тяжелый и печальный взгляд быка, ожидающего бандерильи.
— Я поражен, что вы в вашем положении еще пытаетесь острить. Впрочем, дело ваше, но господа присяжные учтут…
А Луи вовсе и не пытался острить. Он был очень одинок. Сила была на стороне тех, кто нападал на него.
Почти целый год они держали его в изоляции от людей и вели дознание по своему усмотрению. Особенное отвращение вызывало у него то, как они повсюду собирали ничтожные улики и использовали их, прибегая к нечистоплотным приемам.
Как можно говорить о том, что в детстве у него перед глазами были только добрые примеры, когда в поселке все знали, какой развратник Дютто, и несколько раз его заставали, когда он заголялся перед маленькими девочками, а также и перед сестренкой Луи? Разве не нарочно Дютто оставлял в комнате зажженную лампу по вечерам?..
Луи хотел бы задать еще один вопрос, раз уж здесь так охотно рассуждают о домах терпимости. Чтобы попасть на суд, требовались специальные пропуска, распределяемые судебными властями. Как же так вышло, что в первом ряду сидело не менее трех содержателей подобных заведений и среди них владелец публичного дома в Йере, не считая дюжины известных сутенеров? И отчего рядом с ними находятся жены и дочери судебных чиновников?
Но он, конечно, не задал этого вопроса. Он раз и навсегда принял решение не раздражаться. Только пальцы крепче сжимали перила барьера да кадык судорожно двигался вверх и вниз.
— Когда вы встретили госпожу Ропике, то сразу сообразили, какую пользу сможете извлечь из злополучной страсти этой зажиточной женщины?
— Госпожа Ропике сама была содержанкой, — уточнил Луи.
— Госпожа Ропике была честной вдовой, и ее единственный грешок заключался в пристрастии в звучным фамилиям. Но, согласитесь, это весьма невинная причуда.
— Как и получение тысячи франков в месяц от старика, который недавно покончил с собой?
Со своего места Луи через головы журналистов смог прочесть фразу, которая тут же появилась их блокнотах:
».невероятный цинизм подсудимого, который…»
Какого черта всех делают святыми, кроме него? Разве не слышал он из своей комнаты, какие сцены, гнусные и забавные одновременно, разыгрывались в часы визитов отставного чиновника?
И это называется судебным разбирательством!..
— Советую подсудимому выбирать выражения и не припутывать к делу лиц, которые не могут себя защитить.
Время тянулось медленно. После часового допроса Луи взмок, черты его лица заострились от усталости.
Журналисты, подгоняемые сроком выпуска газет, спешили передать по телефону свои отчеты, они входили и выходили из зала, угощали друг друга конфетами, заряжали ручки.
— Признаете ли вы, что восемнадцатого августа около полуночи оставили госпожу Ропике в ресторане «Регентство», где обедали вместе с ней?
— Она была не одна!
— Я не о том вас спрашиваю. Отвечайте на вопрос.
— Она была не одна, — упорствовал Малыш Луи. — Инспектор, который неспроста сидел в ресторане, почему-то забыл упомянуть о присутствии других лиц. Но коли это вам так неприятно, я не стану говорить о господине Парпене. Однако я хотел бы спросить у инспектора Плюга, кто еще был на улице и подстерегал…
— Вопрос будет задан свидетелю, когда тот предстанет перед судом. Почему вы вскочили на ходу в автобус и вдруг вышли из него, не ожидая остановки?
Луи насупился и не ответил. В этот момент произошло едва заметное движение среди подозрительных типов, присланных Жэном и его бандой из Марселя.
— Вас видели ночью в кабаре, пользующемся дурной славой, где вы, показывая фокусы, развлекали посетителей до трех часов. Что вы делали после? Молчите? Ну так я вам скажу. Вы вернулись в Ниццу, проникли в квартиру госпожи Ропике — у вас был ключ…
— Я уехал в Сен-Рафаэль на машине с англичанами.
— Не прерывайте! Будете говорить, когда я дам вам слово. Итак, вы вернулись в Ниццу, и так как в последнее время госпожа Ропике не очень-то раскошеливалась, поскольку, быть может, ей надоела слишком заметная связь, вы стали ей угрожать, а потом убили ее, чтобы завладеть…
— Концы с концами не сходятся, господин судья, — огорченно заметил Луи. — Видать, вы не знаете, как такие дела делаются. Прежде всего, Констанс я не надоел, наоборот, она еще пуще привязалась ко мне и даже выставила племянником перед своим старым любовником. Мы обедали все вместе, и Луиза Мадзони с нами празднуя день рождения госпожи Ропике.
— Настоящий семейный праздник, — сострил судья.
— Захоти я чего-нибудь взять, я мог бы и так: ведь ключи-то были у меня и я часто оставался один в квартире. Зачем мне было убивать ее?
— И тем не менее факт налицо. Вы убили ее. А если нет, то объясните нам, каким же образом несколько дней спустя вы завладели не только норковым манто, но и всеми ее документами, в том числе удостоверением личности?
Недолгое молчание. Потом, подняв голову, Луи резко спросил:
— А как насчет драгоценностей?
— Каких драгоценностей? — удивился судья.
— У нее была не только норковая шуба, но и драгоценности. Держала она их в квартире. Так что же, я, по-вашему, сделал с драгоценностями? Раз вы разыскали столько ее вещей, то как же вы не нашли бриллиантов?
Каждый дурак знает, что все ювелиры связаны с полицией.
— Попрошу вас…
Луи махнул рукой, как бы говоря: «Бросьте! Сами знаете, что это правда», — и продолжал:
— В квартире были и деньги. Луиза Мадзони может подтвердить. Ежели бы я убил госпожу Ропике, то уж наверняка прихватил бы их и мне не понадобилось бы на другой день красть сумочку на Английской набережной.
Все вытаращили глаза. Судья заволновался:
— Вы хвастаетесь кражей, о которой даже не было речи!
— Да, потому что меня ни о чем не спрашивали, ни о чем, кроме того, что я делал в детстве, и обо всяких ерундовых встречах да переездах.
Адвокат неодобрительно покачал головой. Луи порылся в карманах и вытащил крошечную медаль с изображением святого Христофора.
— Глядите, вот медаль из сумочки, которую я потом выбросил в море, а денег в ней было всего-навсего триста франков. Если напечатаете объявление в газетах, как пить дать отыщется хозяйка, она-то уж скажет, что я…
Зал оживился в ожидании новых стычек между Луи и судьей, явно начинавшим терять почву под ногами.
— Суд не может допустить, чтобы так непристойно и по пустякам отвлекали его внимание, — снова изрек, приходя судье на помощь, прокурор с шелковистыми усами. — У обвиняемого было время сообщить на следствии…
— Мне не давали говорить.
— Тише, С этим пунктом покончено. Допрос продолжается.
Но судья все еще не пришел в себя. Рассеянно полистав свои записи, он предпочел объявить перерыв на десять минут, что позволило публике освежиться в соседних барах.
Кое-кто, выходя из зала, нарочно сделал крюк, чтобы оказаться поближе к Луи, а хозяин заведения в Йере, проходя мимо, даже подмигнул ему.
После вечернего заседания один из наиболее известных судебных хроникеров объявил, собирая свои разбросанные листки:
— Схватит двадцатку.
Люди расходились шумно, поспешно. Малыш Луи снова сел в тюремную машину и вернулся к себе в камеру, где подозрительный счетовод явно завидовал его популярности.
На другой день в суде оказалось вдвое больше народу.
Сидя между двумя полицейскими в выкрашенной в серый цвет комнатушке. Малыш Луи посматривал переданные ему адвокатом газеты.
«…Обвиняемый с возмутительным цинизмом отвечает на вопросы судьи…»
— Я же предупреждал. Общественное мнение против вас, — сказал адвокат.
— Луизу все еще не нашли? — спросил Луи.
— Во многие места разосланы телеграммы. Ее теперешний адрес не известен.
Как будто полиции не известен адрес зарегистрированной проститутки! Будто было так трудно обеспечить ее приезд в Ниццу еще до суда! Почему откровенно не признать, что они просто не хотят, чтобы Луиза была вызвана в суд, потому что она может оказаться вынужденной дать показания об иных фактах, которые предпочитают замалчивать? Видно, лучше выслушать массу бестолковых свидетелей, которые подробно рассказывает, как однажды, десять лет назад, мать Луи пожаловалась, что сын угрожает ей…
Луи не догадался, он только прямо смотрел в глаза судье.
— Повторяйте: «Я клянусь…» Поднимите правую руку.
— Клянусь…
Нашлась даже бакалейщика, которой привиделось, что Луи крался по Ле-Фарле с огромным свертком.
— Повторяйте: «Я клянусь…»
Она поклялась. Лишь под конец сбилась в датах, и, когда адвокат задал ей точные вопросы, выяснилось, что встреча, на которую она ссылалась, произошла накануне местного праздника, то есть за добрый месяц до смерти г-жи Ропике.
Таксист тоже перепутал числа. Он утверждал, что посадил Луи у виллы Карно, а также погрузил тяжелый чемодан необычной формы. Шофер был русский и говорил с сильным акцентом. Луи внимательно разглядывал его и был уверен, что никогда с ним не встречался.
— Что заставляет вас год спустя утверждать, что факт, о котором вы сообщаете, имел место двадцать первого августа?
— Была суббота, а в воскресенье я поехал в Монте-Карло, где у меня случилась авария. Я нашел накладную из гаража.
— Вы уверены, что это случилось в субботу?
— Уверен.
Но 21 августа был понедельник.
Процесс затягивался. Старые девы, которые продали Малышу Луи перчатки, злились на фотографов и хотели запретить им их фотографировать. Публика потешалась.
Журналисты от скуки что-то рисовали в блокнотах. Только у подсудимого не было ни минуты передышки, он часто наклонялся к адвокатам и шептал, какой вопрос задавать свидетелю.
Когда пришел черед инспектора Плюга, Луи весь подался вперед.
— Вы клянетесь говорить правду, только правду, ничего, кроме правды?
— Клянусь.
И Плюгавик бросил единственный взгляд на Малыша Луи.
— Что вам известно по делу Ропике?
— Я не должен был специально заниматься этим делом. Просто вышло так, что в пятницу, восемнадцатого августа, после службы, я находился в ресторане «Регентство» и заметил там подсудимого в обществе нескольких человек.
— Сколько их было? — спросил адвокат.
Судья тотчас же призвал его к порядку:
— Прошу вас, мэтр, обращаться к свидетелю не прямо, а через меня, как того требует закон. Итак, я спрашиваю свидетеля: сколько человек сопровождало подсудимого?
У Луи на лбу вздулись вены. Он положил локти на барьер, подбородок на руки и стал похож на готовое к прыжку животное.
— Трое.
Малыш Луи что-то тихо сказал адвокату. Тот поднялся:
— Господин судья, я хотел бы, чтобы вы спросили свидетеля, откуда он знает Луи Берта.
— Свидетель может ответить.
— Мне приходилось заниматься им во время предыдущего расследования.
— Свидетель может сказать, о каком расследовании идет речь?
— Думаю, что… Полагаю, мне придется сослаться на профессиональную тайну, так как следствие еще не закончено.
— Если только это расследование не имеет отношения к делу Ропике.
Луи вытянул шею и впился в Плюга глазами так, словно хотел вынудить его сказать правду.
— Не думаю. Нет, не думаю.
— Значит, вы не совсем уверены? — спросил адвокат.
— Свидетель по своей должности может ссылаться на профессиональную тайну, — вмешался судья.
Луи стремительно сорвался с места.
— Прошу подсудимого сесть.
— Но…
— Прошу сесть!
Те, кто находился вблизи Луи, вдруг увидели на его глазах слезы. Первые и последние слезы бессильной ярости.
Единственный человек, который мог его спасти, находился здесь, в нескольких метрах от него, среди журналистов и фотографов, он стоял в своем лучшем темном костюме, со шляпой в руке, стыдливо отводя взгляд подлеца.
Судья, предчувствуя опасность, поспешил спросить:
— Вопросов больше нет?
Луи вцепился в плечо своего адвоката и что-то горячо зашептал ему, глядя на инспектора полиции глазами, которые, казалось, вот-вот выскочат из орбит.
— Позвольте один вопрос. Может ли свидетель сказать нам, что в тот вечер заявил ему обвиняемый?
— Точно не припомню. Повторяю, что я ни тогда, ни позже специально подсудимым не интересовался. Кажется, он говорил мне о людях, которые злы на него, и что он боится встретиться с ними на проспекте Победы.
— Он не назвал их имен?
— Не помню.
— А не те ли это люди, что являются подозреваемыми в предыдущем деле, о котором вы только что упоминали?
— Прошу разрешения на отвечать и на этот вопрос: дознание еще не закончено.
— Согласен, — одобрил прокурор.
— Есть ли вопросы у господ присяжных? Нет? Свидетель может удалиться. Суд благодарит вас, господин Плюга, за проявленную выдержку и профессиональную дисциплинированность.
Луи расхохотался. Он громко, издевательски смеялся над всем и всеми. Потом, обхватив голову руками, добрых десять минут не шевелился и, должно быть, ни о чем не думал.
Затем он опять поднял голову, но выражение его глаз изменилось: казалось, происходящее в зале заседаний его больше не занимает. Порой, как в школьные времена, он следил за полетом мухи или смотрел на фигурки, начертанные в блокноте одним из журналистов, которому сейчас нечего было записывать.
Когда принесли утюг и зал дрогнул, Луи бросил беглый взгляд на это вещественное доказательство, которое еще более отягчит его участь. И в наступившей тишине он вновь рассмеялся, потому что даже это доказательство было ложным. Ведь именно из-за принятых им. Малышом Луи, чрезвычайных мер предосторожности утюг оказался здесь.
Эксперты, сменяя один другого, осматривали утюг.
Малыш Луи не слушал их, он утратил всякий интерес к происходящему.
— Признает ли свидетель, что этот утюг мог служить…
Луи горько было видеть, с какой нелепой торжественностью они идут по ложному пути и терпеливо пытаются восстановить события в том виде, в каком они никогда не происходили.
Не утратившие чувства юмора острословы, присутствовавшие на суде, даже здесь умудрялись смешить публику.
— Не забывайте, господа, что тень убитой…
Присутствия тени убитой никто не ощущал. По правде говоря, никто ничего не чувствовал. С той минуты, как между судьей и подсудимым прекратились стычки, процесс стал однообразным, и Луи услышал, как один из репортеров сказал адвокатам — Постарайтесь состряпать хорошенький скандальчик к трем часам, чтоб у меня был подходящий заголовок для вечернего выпуска.
Мамашу Берт встретили с лицемерной заботливостью.
Пример подал судья своим сентиментальным сетованием:
— Простите меня, мадам, что я вынужден причинить вам лишние мучения, но, к сожалению…
Ей подали стул, попросили фотографов вести себя скромнее. Она еще не видела Малыша Луи. Она даже не знала в какую сторону повернуться, а он смотрел на нее в упор сухими горящими глазами.
— Прошу вас собраться с силами и сообщить господам присяжным — повернитесь, пожалуйста, направо, — что вам известно по этому прискорбному делу.
— Господин судья!
— Обращайтесь к господам присяжным.
— А что я могу сказать? Я несчастная женщина и не знаю, что я сделала Господу Богу, что он так карает меня.
Кабы господин журналист не взял меня к себе в прислуги, хотя меня еле ноги носят… И что теперь сделают с моим сыном?
— Господам присяжным угодно знать, не произвел ли сын на вас плохое впечатление, когда был у вас в субботу, девятнадцатого августа.
— А я почем знаю! Тут как раз Дютто, сволочь такая, отдавал богу душу. Может, тогда мы и поругались. — Она говорила тонким, жалобным, старческим голосом. — А где он? И думать не хочу, чтобы он натворил такое. Ни отец, ни мать дурному его не учили. — Она всхлипнула и расплакалась, не осмеливаясь вынуть из сумочки платок. — Нет, не верю! Не мог он пойти на такое…
Вся ее фигура походила на большой узел черных юбок, от которых пахло затхлостью и нафталином. Из-под шали высовывалось сморщенное лицо.
Судья вопросительно посмотрел на прокурора:
— Думается, бесполезно продолжать эту мучительную сцену. Вы свободны, госпожа Берт. Конвойный, помогите свидетельнице выйти.
Пока она не очутилась на расстоянии метра от выхода, Луи не пошевелился. Но тут он поднялся, вызывающе смерил взглядом весь зал и ясным голосом отчеканил:
— Ма, клянусь тебе, не убивал я ее.
Она обернулась, хотела подойти к нему, но проход был забит людьми. Ей пришлось выйти в коридор. Судья разъяснил:
— Во время перерыва ей будет предоставлено свидание с сыном.
Ну а дальше!.. Один из адвокатов принес леденцы и время от времени угощал Луи. После перерыва на папке у судьи лежало два таких же леденца в розовой обертке.
— Двадцать лет,. — повторил парижский хроникер. — Вот увидите!
Заключились даже пари.
Но еще предстояло выслушать показания нотариуса из Орлеана, девицы из Ментоны, почтовой служащей, а потом консьержки с виллы Карно.
Нюта на суд не явилась. Была оглашена ее телеграмма из Зальцбурга, где она находилась с матерью.
Несколько раз из омерзения ко всему здесь происходящему Малыш Луи чуть было не сказал правду. Он собирался указать место в бухте, где… Что будет потом?
Ну, отложат суд и передадут дело на дополнительное расследование. Это расследование ни к чему не приведет, разве что сделает картину убийства еще ужаснее, изобразит Луи чудовищем, расчленяющим труп.
Адвокат уверял его:
— Возможно, мы добьемся отрицательного ответа на вопрос об убийстве за отсутствием каких-либо доказательств. Но они отыграются на краже, злоупотреблении доверием, подлоге и использовании фальшивых документов. От пяти до десяти лет.
Как же случилось, что под конец Луи присутствовал на этой комедии как бы в роли зрителя? Он с трудом мог поверить, что все это было пережито им самим. Особенно когда упоминали о событиях минувшего года, о Конетанс, Луизе, вилле Карно.
И теперь он никак не мот понять, — как и почему все это совершилось.
Однажды, жалуясь на следователя, он заметил одному из своих адвокатов:
— Мне от него худо.
В устах дожаяина это означало; «Меня от него тошнит».
Вот именно. Все ему омерзительны. А пуще всего прокурор с закрученными усиками, который иногда отпускал остроту, следя за реакцией дам, и произносил цветистые фразы об обществе и долге, не спуская глаз с журналистов.
Чем занимались все эти люди дома и вне дома?
Свидетели шли непрерывно, как текущая из крана вода. Под конец их оставалось еще тридцать, и никто не знал, что с ними делать. Наступил третий день суда.
А назавтра было воскресенье. Решили, что пора кончать.
Все заспешили. Свидетелей лишь приводили к присяге, ничего у них не спрашивая. Суд завершался наспех.
Среди всей этой сумятицы только один Малыш Луи оставался спокоен, глядя на все с презрением. В какие-то минуты он мысленно был так далек от зала суда, что даже пожалел, что в Поркероле не отдал служанке кольцо: по крайней мере, его не передали бы после обыска в канцелярию суда.
Малышу Луи было всего двадцать пять. Он изредка поглядывал на присяжных и хмурился, потому что в глубине души у него таился страх перед смертной казнью.
Разве адвокаты не врали, как и все остальные, когда говорили ему о пяти или десяти годах? Все врали. А теперь все поздравляют друг друга. В присутствии Малыша Луи, которого обвиняли во всех смертных грехах, они испытывали потребность восхищаться неподкупностью, профессиональным долгом и проницательностью друг Друга.
А ведь они знали, что дело липовое, что по главному вопросу, единственному, с которым следовало считаться — вопросу об убийстве жалкой Констанс Ропике, — них не было доказательств, не было даже трупа.
И тогда они стали нагромождать предположения, накапливать версии о кражах, домах терпимости, подозрительных связях и порочных наклонностях.
— Не считаете ли вы, что хорошо бы…
Но Малыш Луи резко оборвал и адвоката:
— Мне от вас худо.
Когда прокурор произносил обвинительную речь, у него был такой вид, словно после каждой фразы он ждал аплодисментов. Потребовав для Малыша Луи смертной казни, он весь побагровел, и на его лысине выступили капельки пота. Закончив, прокурор выпил стакан воды.
Выступил адвокат. За ним второй. Малыш Луи смотрел на толпу, заметно погустевшую за счет неизвестно откуда появившихся людей, толпу, которая образовала плотную, склеенную потом массу.
Когда присяжным были поставлены вопросы, пробило восемь, и пришлось зажечь лампы. У адвокатов не хватило времени для своего подзащитного. Они бегали в разные стороны, от журналиста к журналисту, и о процессе речь уже не заходила.
— Когда вы едете?
— Не сейчас. Пообедаем вместе?
— Надо прежде передать по телефону заметку.
— Двадцать лет. Я предсказывал это уже в первый день.
— Вы уверены?
Стоило ли в течение года заставлять работать весь этот сложный механизм, вызывать отовсюду людей, приводить их к присяге, заполнять бисерным почерком восемьсот листов дела и бланки с удостоверенными подписями, чтобы в итоге прийти к такому обману?
— Ты тоже с Севера? — спросил Малыш Луи одного из конвоиров.
— Из Валансьена.
— Я родился на Севере, но никогда туда не возвращался. А ездил не дальше Лиона.
Малыш Луи старался не думать о том, что именно в эти минуты совещаются присяжные. К чему ломать голову? Разве все не состряпано заранее?
Потому Плюгавик так ничего и не сказал.
Через непрерывно открывавшиеся и закрывавшиеся двери до Малыша Луи иногда доносилось биение жизни, струя свежего воздуха, который он жадно вдыхал, а потом снова съеживался на своей скамье.
Несмотря на отсутствие улик, все утверждали: «Это подонок, значит, убил он».
— Нет ли у тебя сигаретки? — спросил Малыш Луи у конвоира из Валансьена. Если бы ему позволили, он растянулся бы на скамье и не пошел бы в зал заслушивать приговор. — Кабы ты знал, до чего мне от них худо.
Он нашел лишь эти слова, чтобы выразить все, что перечувствовал. Он не держал зла ни на Жэна, ни на других, которые, должно быть, в ожидании приговора пьют аперитив в соседних барах. Вряд ли сердился он и на Луизу: она же потаскуха, уж это-то он должен был знать.
Его выводили из себя эти чудаки, которые говорили без конца, зная, что говорят вздор, и обвиняли других, прощая себе все. И вот теперь эти люди поздравляли друг друга с успехом, жонглируя готовыми формулами из боязни войти в противоречие с законом.
— Все, — сказал конвоир, услышав звонок.
Публика не торопилась занять места. Все стояли, в том числе и журналисты. Чувствовалась спешка, нетерпение передать приговор по телефону, с трудом сдерживаемое желание поскорее выпить и закусить.
— Ответ на первый вопрос — да. Ответ на второй вопрос — да. Ответ на…
Никогда, пожалуй. Малыш Луи не был так спокоен и равнодушен. Он даже разглядел у судьи бельмо на правом глазу.
Адвокат повернулся к нему:
— Присяжные ответили «нет» на вопрос о предумышленном преступлении. Вам сохраняется жизнь.
— Да?
Теперь это ему преподносилось так, как если бы приговор оказался для всех неожиданным, как если бы заранее было решено, что его приговорят к смертной казни.
— Как же я мог порешить ее без предумышленности? — заметил он, когда все лица обернулись к нему.
Он вновь обрел свой уличный тон и дерзкий вид.
— Суд, после обсуждения, приговаривает…
Журналисты, улыбаясь, смотрели на коллегу, который предсказал двадцать лет.
— …к двадцати годам каторжных работ, к двадцати годам ограничения в выборе местожительства, а также поражению в гражданских правах.
У адвокатов был вид счастливых людей, которым удалось выиграть трудное дело.
— Желает ли осужденный что-нибудь заявить?
Малыш Луи внимательно осмотрел всех присутствующих, освещенных люстрами старого образца, оставлявшими часть помещения в тени. Кое-кто из уходящих задержался у двери, чтобы услышать его последнее слово.
Тогда вежливо, со странной улыбкой он ответил:
— Нет, господин судья.
И произнес он эти слова так, что роли мгновенно переменились. Все, кто присутствовал в зале — судьи, присяжные, журналисты, — вдруг испытали настоятельную потребность что-то срочно сделать, куда-то бежать, с кем-то немедленно встретиться, поскорее пробраться к выходу, ибо среди них не нашлось ни одного, кто имел бы право гордиться тем, что здесь только что произошло.
Кроме двух конвоиров, никто не занимался больше Малышом Луи, и уроженец Валансьена философски заметил:
— Вот оно как. Ну, ты еще молодой… Когда отбудешь срок, тебе стукнет всего сорок пять. Не горюй, парень!
1
Влезай! (англ.)
(обратно)2
Безрельсовый поезд на колесах с пневматическими шинами фирмы «Мишлен».
(обратно)3
Низший административный чин во французских деревнях, исполняющий также обязанности полицейского.
(обратно)4
То есть мог быть оплачен только банком или биржевым маклером.
(обратно)5
Символ Французской революции.
(обратно)6
Бутылка (фр.).
(обратно)
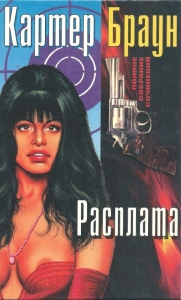


Комментарии к книге «Суд присяжных», Жорж Сименон
Всего 0 комментариев