Анатолий Афанасьев Реквием по братве
Мы — дети страшных лет России.
Александр БлокВ золото и мрамор оделись пацаны…
Мика Чирей («Пермская группировка»)ЧАСТЬ ПЕРВАЯ УТРО
ГЛАВА 1
У Санька семь пятниц на неделе. Говорили ему, не суйся в «Ласточку», пропадешь — он сперва согласился: да, опасно, а потом сунулся. Под утро приполз домой в свой скворечник на Зацепе, в квартиру вошел, а дальше никак. Упал в прихожей, зацепясь ногой за ящик для обуви.
Галка-сожительница вышла на грохот, зажгла свет, присела рядом на корточки.
— Санек, ты чего? Опять туда ходил?
— Ага, — отозвался Санек с некоторым самодовольством. — Отдубасили за милую душу. Принеси водки, Галь, встать не могу.
— Когда-нибудь совсем убьют.
— Не-е, Галь, не убьют. Не имеют права.
— Почему это?
— Мне ихнего не нужно, в натуре. За своим хожу.
Упрямству у Санька мог поучиться осел. Месяц назад его «обули» в «Ласточке», причем по-подлому. Конечно, «Ласточка» не на его территории, вообще другой район, но его пригласил знакомый шкет на небольшой покерок. Санек приперся из любопытства, для расширения кругозора. У них с тамошними пацанами свары не было, хотя частенько пересекались, чтобы спокойно обсудить какие-то пограничные проблемы. Телками менялись, ханку жрали, совместно оттягивались, и никогда не случалось, чтобы кто-то залупался по-пустому. Прошли те времена, когда на соседней улице тебе могли запросто башку оторвать. Пусть ценой больших жертв, но постепенно Москва усилиями многочисленных паханов превратилась наконец в цивилизованный город. Теперь братва хоть днем, хоть ночью разгуливала по улицам с легкой душой, не опасаясь получить пулю из-за угла. Если в какой-то кодле возникали отморозки, недовольные культурными отношениями, их свои же быстро укорачивали. У кого Голова на плечах, отлично понимали, что по старинке качать права больше не стоит. При нынешней всеобщей оружности, да еще учитывая засилье черноты, бесконечные междоусобные дрязги могли привести лишь к тому, что братва переколотит друг друга к чертовой матери.
В «Ласточке» сели метать в задней комнате, куда даже звуки музыки из ресторана едва долетали. Шкет, который Санька привел, сразу куда-то исчез, но Санек не заподозрил неладного. Игра как игра, ставки крупные, партнеры учтивые — сначала трое, потом еще двое добавились. Все как родные братья, только что из смежных банд. Сидели без малого часов пять, и всю дорогу Сане шла такая пруха, что денег набралась гора. Попутно, как водится, тянули водяру, но в меру, чтобы не сбиться на азарт. Никто никого не уговаривал, сколько пить. И закусь была отменной: ветчина, семга, огурчики маринованные. Все-таки ближе к ночи башка у Сани как-то нехорошо разбухла, будто воздуху туда накачали. Он собрался отлить, рассовав на всякий случай башли по карманам. Ему вежливо объяснили, как пройти к сортиру. Один из игроков спросил:
— Не свалишь, братишка?
— От удачи не убегаю, — сказал Санек.
В кабинке прикинул выигрыш: в пересчете на «зелень» в карманах было близко к одиннадцати штукам. Если вычесть те три, что принес с собой, восемь чистого привара. Неплохо. Приличная тачка-пятилетка с неба свалилась.
Решил, что пора линять. Больше нагребешь, могут не отпустить, а с такими бабками, пожалуй, дадут уйти. Не «лимон» же уносит.
Вернулся в игровую комнату, бодро объявил:
— Давай еще по кону, и я, парни, сваливаю.
— Почему так? — поинтересовался один. — Вроде только начали.
— Завтра продолжим, если хотите. Сегодня не могу, у меня встреча.
Немного нагло прозвучало, но вроде проглотили. Санек был уверен: деньги отобрать могут, но мочить не станут. Не тот расклад.
Пацаны действительно заскучали, но не обиделись.
— По кону так по кону, — сказал тот же самый, белобрысый, в плечах пошире Саниного. — Налей, Витюха, на посошок.
Витюха открыл непочатую бутылку, Сане из уважения плеснул чуть больше, чем другим. Белобрысый сказал:
— Давай в открытую, по крупной? Раз спешишь.
— Давай, — согласился Санек. Играли против него только белобрысый с Витюхой, остальные наблюдали. Поставили каждый по три штуки, и Витюха раздал по три карты, лицом вверх. У него мелочевка, зато у Санька и белобрысого — Толян, кажется, — выпало по две картинки. Свара.
— Поделим? — предложил Санек без особой надежды.
— Ну зачем, — удивился Толян. — Добавляй пятерик.
Саня покрыл. Теперь на кону громоздилась целая клумба «зелени». Любо дорого посмотреть. Потянули, кому сдавать. Выпало Сане. Но он знал, если нарвался на кидалу, это не поможет. Он и сам неплохо владел некоторыми карточными приколами, но в такой компании нечего и пробовать. Раздавая, следил за пальцами партнера, почти уверенный, что оттуда выпрыгнут минимум три тузяка. А следить бы надо за тем, кто водку разливал. Белобрысый сыграл честно, у него набежало пятнадцать очков против Саниной двадцатки. По комнате пронесся будто вздох разочарования, и Саня простонал вместе со всеми. Такого фарта ему еще не выпадало, а вот догола раздевали часто. Естественно, он маленько размяк и не обратил внимания, кто подал пойло в чашке. Махнул залпом, чтобы освежить пересохшую глотку.
Вырубился мигом, только искры в глазах полыхнули. Он после гадал, что за отрава? На клофелин не похоже. Кло-фелином его уже травили, там другие ощущения. У двадцатитрехлетнего Сани Голубева жизнь в последние годы задалась насыщенная, в ней всякие случались напасти, но недаром он носил гордую кликуху «Маньяк». Любые трудности, выпавшие на его долю, он преодолевал и всегда шел к цели с уверенной улыбкой.
Очухался среди ночи, в стороне от цивилизации, в диком подмосковном лесу. На теле ни царапины, но в душе муть. В карманах ни шиша, даже водительскую ксиву забрали босяки. Обидно еще и потому, что колонулся, как фраер. Надо было, конечно, отчаливать прямо из сортира. Другой вопрос, не пасли ли на выходе? Но без яда в крови, может, отмахнулся бы как-нибудь. Во всяком случае шанс уйти с бабками был, и он им не воспользовался. Спеленали, как новорожденного.
Прямо из леса, кое-как добравшись до родного Замоскворечья, Санек наведался к Мареку Зинчуку, который в их маленькой кодле был за центрового. Интеллигентный человек по кличке «Протезист». Под его началом семеро пацанов второй год держали под прицелом несколько торговых точек в районе вокзала и один фирменный магазин с загадочным названием «Гамаюн-шоп», напротив музея Бахрушина. Музей тоже пытались взять под свою опеку, но тут не обломилось. Директор музея показал им ведомость зарплаты, по которой выходило, что общий у всех сотрудников месячный достаток едва переваливал за шесть тысяч. Однако и без музея шайка не бедствовала, на хлеб с маслом хватало. Тем более, Марек хотел в ближайшее время провести несколько крупных акций совместно с Каширскими ребятами, что, по его словам, выведет их на качественно новый уровень.
Марек не обрадовался его чересчур раннему приходу, но принял как всегда по-братски. Пустил в душ, угостил завтраком, водочки налил, но, выслушав рассказ о Саниных злоключениях, помрачнел и насупился.
— Нет, брат, так не пойдет, — обронил наконец.
— Чего не пойдет? — удивился Санек.
— На мою помощь не рассчитывай.
— Почему? Они же козлы сраные…
— Они, может, и козлы, но ты со мной советовался, когда в «Ласточку» полез?
— Почему я должен советоваться?
— Хорошо, и что ты реально предлагаешь?
— Как что? Вечерком грянем, разнесем к черту заведение. Башли вернем с процентами. А как иначе?
Марек смотрел на него, как на убогого, эту его улыбочку Саня на дух не выносил. Но не время было ссориться.
— Объясни, в чем дело? Чего-то до меня не доходит.
— Вижу, что не доходит, — Марек подставил ему пепельницу, чтобы не тряс пепел на пол. — Хорошо, объясню. Тут, Санек, одно из двух: или мы шпана замоскворецкая, ножиками друг дружку тыкаем, или бизнес делаем. Как ты считаешь?
— Ну? — сказал Саня.
— Я с ихними ребятами, с Ванькой Столяром два месяца переговоры веду насчет Пятницкой, а теперь что? Мы с ним бочку водки ужрали, обо всем столковались, и теперь как? По твоей милости глотки рвать? А ты в курсе, сколько у Столяра людей? И кто за ним стоит?
Санек давно не видел «Протезиста» таким взволнованным и почувствовал себя виноватым. В его словах было много правды, но не вся правда.
— Прощать все равно нельзя, — сказал он убежденно. — Иначе обнаглеют.
— Ах, нельзя? — Марек психанул. — Ну так бери своего Климушку малохольного — и валяйте на пару. Он ради тебя, придурка, лоб расшибет, а я пас. Притом учти, если Столяр претензию предъявит, я от вас откажусь. Честно предупреждаю.
Взгляд Марека запылал зеленым огнем, но Саню это только рассмешило. Он уважал главаря за ум и изворотливость, но слабые его стороны ему тоже были хорошо известны. Марек трус, каких свет не видел, и хорошо бил только исподтишка.
— За придурка можно схлопотать, — пробурчал беззлобно.
— Ты? Мне?!.. Ну-ка, попробуй! — Марек невзначай положил руку на тумбочку, где у него в ящике лежал «Макаров».
— Не дергайся, — предупредил Санек. — Ты же меня знаешь, начну молотить, остановиться не смогу. Раздавлю, как клопа.
Марек убрал руку с тумбочки, вздохнул даже вроде с облегчением.
— Вот и ладно, вот и объяснились. Вопросов больше нет.
— Да, — признал Саня. — Славно потолковали. Хотя немного ты меня удивил.
— А ты не удивляйся, ступай с Богом. Игрок…
— Извини, что разбудил.
— Ничего, отосплюсь.
Тем же вечером Санек наладился обратно в «Ласточку» и действительно на пару с Климом Осадчим. Клим не особо расспрашивал, что к чему, видел, кореша обидели: это был вполне достаточный мотив, чтобы шкурой рискнуть. И наоборот, если бы Клим был обиженной стороной, вышло бы то же самое, Санек бы не подвел. Они со школы шагали по жизни рука об руку, с пятого класса. Кровью не раз вязались. Сперва после школы вместе бардачили, потом в рынок вписывались, культурки поднабрали. У них и телки иногда бывали общие, обоим это нравилось. Таких слиянных друганов среди самой продвинутой столичной братвы еще днем с огнем поискать. Уютным островком была их дружба в жестоком мире чистогана. У них и вкусы были одинаковые: оба преклонялись перед поэтом Есениным, между собой называя его запросто Серегой, а также из всех многочисленных музыкальных групп выделяли «Любэ» и Машу Распутину. «Шикарная телка!» — балдел от Маши Санек, и Климушка согласно вторил: «Оприходовать бы ее разок, а там хоть трава не расти!»
В «Ласточку» явились, ни на что особенно не надеясь, просто чтобы обозначиться и провести разведку. Главное, как считал Санек, разыскать белобрысого Толяна, а дальше действовать по обстановке. В «Ласточке» задержались ненадолго. Пропустили по рюмочке в баре, подступили к бармену с расспросами, но толку не добились. Лупоглазый хачик заявил, что никакого Толяна он никогда не видел, но если у гостей есть желание развлечься, то он к их услугам. Дескать, есть свежий бабец как раз для таких ребят, как они с Климом.
— Какой бабец, ты о чем, друг? — полюбопытствовал Клим.
— Пальчики оближешь, — охотно пояснил бармен, — Залетная из Махачкалы. Кличут Кармен. Специально выписали по контракту, чтобы наших Марусек поучила восточному обхождению. Не пожалеете, парни. Причем может обслужить в кредит.
У Санька после ночевки в лесу и тяжелого разговора с Протезистом нервы были напряжены до предела, он издевки не стерпел. Плеснул хачику в харю из недопитого бокала. Бармен спокойно утерся, нажал на кнопку под стойкой — и тут же в бар влетели вышибалы, числом не меньше пяти. Сопротивлявшихся друганов затащили в какую-то подсобку и там метелили около часа. После чего выкинули на улицу.
Санек отделался ушибами и отбитыми почками (мочился кровью три дня), у Клима повреждения были более значительные. Ему выбили левый глаз и ногу переломили сразу в двух местах: из голени торчали белые, сахарные осколки. Санек поймал такси и доставил друга в ближайшую больницу. По дороге обсудили сложившееся положение.
— Не переживай, Климентий, — посочувствовал Сага. — Нога срастется, глаз в крайнем случае вставим стеклянный. Сейчас такие делают, нипочем не отличишь от настоящего.
— Из-за глаза я не переживаю, — возразил Клим, — хотя цвет трудно подобрать идентичный. Но не в этом дело. Как ты теперь управишься? Меня ведь, считай, месяца на полтора вырубили.
— Ничего, — успокоил Саня. — Как-нибудь выкручусь. Не оставлять же им, паскудам, стоко бабок задаром.
— Само собой, — согласился Клим. — Но с другой стороны, ни за какие деньги здоровья не купишь.
С того дня Санек начал ходить в «Ласточку», как на службу. Сходит, получит свою порцию колотушек, отлежится пару-тройку дней — и снова туда. Постепенно процедура визитов упростилась до крайности. Приходил он обычно в одно и то же время, около десяти, его встречали в предбаннике и, едва он успевал изложить свои требования: «Белобрысый Толян! Верните деньги, козлы!» — принимали на рога и минут через десять вышвыривали вон. Но били все же в щадящем режиме, не доводя до серьезных увечий.
Пораженный неслыханным упорством Маньяка, с ним решил побеседовать сам Ванька Столяр, владелец «Ласточки». Санька приволокли в кабинет на втором этаже уже помятого, но не до конца обработанного: на ногах он стоял самостоятельно, хотя и кровил.
Столяру было около тридцати, рэкетом он лично не занимался, но район, вплоть до Новокузнецкой, в своей клешне держал цепко, не случайно Марек к нему клеился. За Столяром, безусловно, маячил кто-то из авторитетов покруче, иначе откуда бы у него взялась «Ласточка» и еще несколько точек с игровыми автоматами. Скорее всего он стакнулся с грузинами или армянами, но Санька это не волновало. У него свой интерес.
Его усадили на стул посредине комнаты, Столяр устроился напротив на воздушном канапе со стаканом в руке.
— Выпить не предлагаю, — сказал строго. — Ведешь себя неправильно, Санек. У нас приличное заведение, большие люди захаживают, а ты что? Дерешься, хулиганишь — это как понять? Я у Протезиста спрашивал, он говорит, у тебя характер тяжелый. Но ведь характером, Саня, надо управлять, иначе можно далеко зайти. Мои хлопцы на тебя обижаются. Как бы беды не вышло, а, Сань?
Санек сплюнул кровяной сгусток на пол, сунул в пасть сигарету.
— Пусть Толян бабки вернет.
— Мне говорили, что ты какими-то все бабками интересуешься. Тебе, что ли, задолжал кто-то из наших?
— Восемнадцать штук, как минимум.
— Ого! — Столяр изобразил удивление, поставил стакан на столик. — Восемнадцать тысяч зеленых? Это не шутка. Целый капитал. Но у меня совсем другие сведения, Сань. Будто ты чего-то там химичил, мухлевал. Ты, часом, не кидала, Сань? У нас ведь с этим строго.
Двое качков, которые привели Санька и стояли по бокам, подхохатывали, гримасничали, восхищаясь остроумием хозяина, но Санек не обращал на них внимания.
— Пусть бабки вернут, Столяр. Другого базара не будет.
— Ах вот как, — Столяр стал предельно серьезным. — Выходит, ты свою шкуру, Сань, оцениваешь именно в восемнадцать тысяч? Не продешевил?
— Плюс пять штук за Клима. Ему на лечение нужно. Всего получается двадцать три.
В глазах Столяра удивление смешалось с уважением.
— Сань, а ты не шизанутый? Ты ничего не перепутал?
— Проблема не в деньгах, — сказал Санек. — Хочу, чтобы было по справедливости. Я не лох.
— Но ведь, если по справедливости, Сань, ты давно должен покойником быть. За наглость.
— Нет, — убежденно возразил Санек. — Тебе любой пацан скажет, что ты не прав.
— Почему?
— Нельзя чистить своих. Если своих чистить, с кем останешься? Мы же люди, а не звери.
Столяр не нашелся с ответом, да и видно было, что все, что ему было нужно узнать о Саньке, он уже узнал. Раздраженно махнул рукой:
— Выкиньте это дерьмо на улицу, — и когда Саню подтащили к двери, добавил вдогонку: — Еще раз сунешься, тебе каюк, правдолюбец. Достал ты меня…
Сожительнице Галке Санек сказал:
— Я кое-чего придумал, но нужна твоя помощь.
— Еще чего, — ответила Галка недружелюбно. Они лежали рядышком в постели. Помытый и почищенный, с заклеенными ссадинами, Санек уже немного покемарил, но ни к каким действиям, на которые рассчитывала тесно прилепившаяся к нему подружка, не был готов. Этим отчасти объяснялась хмурость избалованной девушки. Но не только этим. Она в самом деле не одобряла Санины похождения. Жила с ним третий месяц и половину из них только и занималась выхаживанием строптивого возлюбленного. Была вроде медсестры. Какой столичной красотке это понравится. Молодость не воротишь, а ей было уже за двадцать.
Санек осторожно покашлял, проверяя, есть ли трещины в ребрах. Покалывало во всем теле, трудно сразу определить.
— Слышь, Галь, ты не злись, скоро я свои бабки получу, тогда погуляем. В Европу смотаемся. Тачку новую куплю.
— Не верю я тебе.
— Почему, Галь?
— Ты же отмороженный. Из тебя все равно не сегодня-завтра жмурика слепят.
— Я больше в «Ласточку» не пойду.
От удивления девушка приподнялась на локте, пытливо глядела в радостные глаза сожителя.
— Ну да? А деньги? Им оставишь?
— Говорю же, помощь нужна.
— Какая, Сань?
— Живец нужен.
— Какой живец? Бредишь, что ли?
Санек самодовольно улыбался. Задумка у него была хитрая. Послать в «Ласточку» какую-нибудь отчаянную, смазливую деваху, чтобы выманила Толяна из норы и привела к себе. А уж в укромном месте, тет-а-тет Санек сумеет с ним договориться. Все упиралось именно в наживку. Девица должна быть непростая, со сноровкой. Чтобы Толян обязательно клюнул.
Галка выслушала его со вниманием.
— Сам придумал?
— А чего, плохо?
— Я не пойду, хоть убей.
Санек отвернулся, чтобы не увидела его глаз. Галка, конечно, телка клевая, и все при ней: ноги, грудяки, личико, характер к тому же мягкий, но не годится, не убойная.
— Что ты, Галь, разве я стал бы тобой рисковать. До этого еще не дошло.
Растроганная, девушка чмокнула его за ухом.
— У тебя же подруг полно, пораскинь умишком. Заплачу нормально, штуки не пожалею.
Галя поднялась и, как была, голая, пошлепала на кухню за питьем. Принесла початую бутылку, чашки. Налила водочки себе и ему. Это правильно, под беленькую мысли шустрее бегут.
Выпили, покурили. Санек подругу не торопил. Прислушивался, как отступает боль под ласковым водочным компрессом. Он знал, в «Ласточку» ему дорога действительно заказана. Столяр не тот человек, который бросает слова на ветер.
— Есть одна, — родила наконец Галка, — Черта заманит, но…
— Кто такая?
— Таиной зовут… Но она, Сань, извини, пожалуйста, с такими, как ты, не водится.
— Интеллигентка?
— Вроде того… Гордячка несусветная… — в выражении Галкиного лица мелькнуло что-то похожее на зависть.
— Откуда ее знаешь?
— Соседка…
— Чем занимается?
— Да чем и все, чем еще.
— Мужиков любит?
— У нее не мужики, у нее кавалеры.
— Почему про нее подумала, что подойдет?
— Ох, Сань, да трудно объяснить… Когда с ней разговариваешь, как-то, знаешь, холодно становится. Что-то в ней такое… опасное. Как в змеюке.
— Вы подруги?
— Какая я ей подруга? Так, трепемся иногда. Девичьи секреты, то да се. Но однажды я ей помогла.
— Расскажи.
— Нет, не расскажу.
Санек решил, что выяснил достаточно. Выпил еще водки. Попробовал приласкать подружку, видел, что мается. Кое-как, хоть и со скрипом, но удовлетворил. Он считал, что это первое дело в любви, когда дама сытая. Сперва накорми, потом требуй работы.
— Галь, я сейчас вздремну минуточек шестьсот, а ты ступай, приведи эту… Таину.
— Как приведи? Ты что? Прямо сюда?
— Ну а куда же?
— Да она не пойдет, Сань.
— Заинтересуй чем-нибудь. Говоришь же, помогла ей. Услуга за услугу.
— А если откажется? Или дома нету?
Санек поглядел на нее пристально. Этого взгляда Галка боялась как огня. Маньяк, чего тут скажешь.
— Если откажешься, Галь, обижусь на тебя.
Отвернулся к стене — и уснул.
ГЛАВА 2
Вечером пришла Таина. Санек в ванной отмякал: после восьми часов чугунного сна превратился в деревянную чушку, ни рук, ни ног не чуял, все отбито, выворочено, разбухло — вот что значит месяц выступать боксерской грушей. Услышал щелчок замка, шаги в коридоре, шушуканье. Неужто привела?
Вышел в плавках, с полотенцем на шее. Стесняться нечего, статью природа не обидела. Девицы сидели на кухне. Санек представился:
— Саня. Добрый вечер.
Гостья не ответила, зато Галка смешливо фыркнула:
— Санечка, как не стыдно… Иди, оденься.
Санек с первого взгляда понял: товар первоклассный. Тоненькая, но не худая, сидит с прямой спиной, грудь вызывающе торчит, но не это главное. Морда — вот в чем штука. Нежный овал, обрамленный золотыми тяжелыми прядями волос, золотисто-матовая кожа, неуловимо прелестный поворот шеи и — тихое сияние глаз, подобных двум озерцам. Черт возьми! От ее слепящего взгляда Санька немного повело, как от легкого толчка в грудь. Такого с ним прежде не случалось. Всегда помнил: телка она и есть телка, как бы ни нарисовалась.
Извинился, ушел в комнату. Пока одевался, прикидывал, как себя вести. Да, такую на понт не возьмешь, у ней цена на лбу отпечатана несмываемой краской. Кто слепой, не увидит, а Санек сразу прочитал: все отдай — и мало. Но другой не надо. На эту не то что Толян, вся «Ласточка» во главе со Столяровым кинется, как воронье на падаль. Словечка не проронила, только зенками обожгла — и он почти спекся. Точно Галка определила: опасная. Не только для мужиков, в первую очередь для бабья. Поди, потягайся с этой Таиной. Таина! И имечко какое-то вроде не наше. Монголка, что ли, или еврейка.
Санек накачивал себя, разжигал, и без того уже черным огнем подожженный, и жалел единственно о том, что Кли-мушки нет рядом. Друган ой бы как сейчас пригодился, с его быстрым умишкой и острым, как жало, языком. Клим умел осаживать заносчивых, образованных курочек, для него не проблема, а для Санька туговато, может, и не в подъем. Ничего, не на койку валить, а бизнес есть бизнес, — это она должна понять.
Оделся поприличнее, штаны, рубаха — все парадное, выплыл вальяжно на кухню, улыбающийся, как юбилейный червонец. Подсел к дамам.
— Скучаете, девочки?.. Галь, чего на стол не собрала? Погляди, в холодильнике шампани бутылец вроде остался.
— У меня полчаса, — сказала гостья. — Не мельтеши, парень. Говори дело.
От ее голоса Санька вторично закосило. Вообще странно, чтобы голос звучал так, будто в ухо дышат: хочешь меня?
Он посуровел, напрягся.
— Галя разве не просветила?
— Говори сам, чего надо?
В ее тоне прозвучали повелительные нотки, и это Санька задело. Кто угодно будет им командовать, но только не раскрашенная кукла, каких бы она ни была кровей.
— Мне надо, чтобы ты немного на меня поработала, девочка.
— Конкретнее, мальчик.
Санек рассказал. Сходить в «Ласточку» и заарканить одного хорька по имени Толян. Дельце при ее внешности плевое, а заплатит он хорошо — тысячу баксов. Девушка слушала внимательно, не перебивала, но, еще не договорив, Санек понял: пустой номер. Не для нее игрушки. Слишком высоко летает, где-то на уровне банка «Империал». И то чудно, что пришла потолковать. Зачем ей? Видно, в самом деле, крепко услужила Галка. Интересно, чем? Ничего, после узнает. Галка расколется, никуда не денется.
— Что за «Ласточка»? — спросила гостья.
— Культурное заведение. Рулетка, иіры разные, массажные кабинеты. В общем, для нормальных клиентов, не для шушеры.
— Кому принадлежит?
— Ваньке Столяру с Пятницкой. Слыхала про такого?
Девушка не ответила, задумалась как-то рассеянно. Будто осталась одна на кухне. Достала из сумочки пачку необычных сигарет с намалеванной на ней танцующей негритоской, бросила на Санька требовательный взгляд. Засуетясь, он щелкнул зажигалкой. Да что за наваждение такое? Обернулся к Галке, которая в их беседе никак не участвовала, словно воды в рот набрала, но улыбалась многозначительно.
— Галь, ну ты чего? Ставь шампанюгу, кофейку завари. Чего-то плохо гостью принимаем.
Таина спросила:
— Толян этот, он кто? Бычара, как ты?
Санек и тут сдержался.
— Можно и так сказать.
— Сколько он тебе задолжал?
— Неважно. Прилично.
— И куда его доставить?
— К себе не можешь?
— Шутишь, парень?
— Ну тогда прямо сюда.
Санек поймал себя на том, что ему нравится отвечать на ее вопросы и видеть, как она после каждого ответа опускает ресницы, заслоняя жгучий блеск глаз. Ничего лишнего она не сказала, никакого намека не дала, но Санек почувствовал, что между ними искрит. А что такого? Или он не кобель?
Галка накрыла на стол: кофе, вазочка с конфетами, фрукты, бутылка шампанского. Все как у людей.
— Может, чего покрепче, Таина? — выговорил ее имя, и в горле запершило.
— Скажи, о какой сумме речь, или расстаемся.
— Скажи, Сань, — вякнула Галка, и это были ее первые слова на посиделке.
— Двадцать штук, как минимум, — сказал Саня. — Ничего, да?
Аккуратно открыл шампанское, разлил по высоким хрустальным бокалам. Таина затянулась сигаретой, выпустила ему в лицо ароматную струю. А ведь это травка — во, бля!
— В половине — сделаю.
Санек вспыхнул.
— Ты в своем уме? За что половину?
Девушка, продолжая загадочно улыбаться, потушила сигарету в пепельнице, перекинула сумочку через плечо. На Санька больше не смотрела.
— Извини, Галочка, мне пора. Рада была повидаться. Если что, звони.
Галка сидела с таким видом, будто готова расплакаться.
— Тиночка, ну чего ты! Даже не выпили.
— Некогда, подружка. Хороший у тебя парень, поздравляю. На всю башку одна извилина.
И встала. И когда встала — белая юбка в обтяжку, черные туфли на каблуках, загорелые сильные ноги, — Санек увидел, что знаменитая модель Найоми, кажется, ей в подметки не годится. Он мог, конечно, завалить ее прямо на кухне или оттрахать в комнате, ему ничего не стоило, да и вообще в их кругах это обыденка, раз пришла своими ножками, получи горяченького, но не сделал даже попытки. Уткнулся носом в стол, хмуро бросил:
— Согласен. Получишь десять штук.
Помешкала мгновение, уселась обратно на стул. Подняла бокал, глядя ему прямо в глаза.
— За знакомство, парень. Видно, не все тебе мозги отбили в «Ласточке».
— Называй меня Саней. Мне так привычнее.
— За твою удачу, Саня. Будь здоров.
Выпили, а Галки словно и не было с ними.
…Условились, что Санек подстрахует ее на своей тачке в переулке за углом. На тот случай, если в «Ласточке» произойдет что-то непредвиденное и Тайне придется бежать.
Мысль принадлежала Саньку, девушка была против. Она не видела, что бы такое могло случиться сверхъестественное, чтобы она понеслась мимо собственной «Скорпио-14» к Саньку в переулок.
— Хуже будет, когда тебя засекут.
— Ничего страшного, — гордо ответил Санек. — Меня бьют только внутри… Когда выведешь эту сволочь, я потихоньку за вами поеду. Тебе же будет спокойнее.
— За меня не волнуйся, — уверила Таина. — Мне провожатые не нужны.
Они договорились, что, если Толяна в заведении не окажется, она поболтается там полчасика и уйдет. Чтобы вернуться на другой день. Ей не хотелось чересчур засвечиваться.
Санек ждал с девяти вечера, когда она нырнула в «Ласточку», и до половины первого ночи — три с половиной часа. Нельзя сказать, чтобы мандражил, но пачку сигарет высадил. Большую часть времени провел в телефонной будке наискосок от «Ласточки», метрах в тридцати, — отсюда отлично просматривался вход и прилегающая улица. Наружной охраны у заведения не было, в своем районе Столяру нечего бояться.
В половине первого парочка выкатилась из дверей, Таина висела у парня на руке, и оба хохотали. Потом взялись лизаться прямо посередине улицы, причем так усердно, что Санек начал опасаться, как бы они не зашли слишком далеко. Все-таки ночная улица, хотя бы и в Москве, не самое удобное место для случки. Наконец расцепились — и заспорили, в чьей машине ехать. Сели в Тинкину «скорпию».
Санек проследил, не увяжется ли кто за ними, потом сел в свой потасканный «жигуленок» и коротким путем, по набережной, первый прикатил за Зацепу. Не заходя в квартиру, у окна в подъезде дождался, пока подъехали гости. Из «скорпии» минут десять никто не вылезал, наконец вытряхнулись оба и, пока шли к подъезду, еще раза три останавливались и присасывались друг к другу. Видно, жор какой-то на них нашел. Санек не удивлялся: на месте Толяна он вел бы себя точно так же. Но сердце екало, злость разбухала.
Таина открыла дверь своим ключом, и, когда вошли, Санек зажег свет в прихожей и, не мешкая, врезал Толяну в лоб облегченной, килограммовой, гантелиной. Не в полную силу, конечно. Подхватил обмякшую тушу под микитки, перетащил в комнату. Там усадил спиной к батарее и за обе руки, за кисти туго примотал к железной стойке. Таина наблюдала за его манипуляциями из дверей.
— Ну как? — спросил Санек. — Все нормально прошло?
— Ты же видишь, — ответила равнодушно.
— Сходи в ванную, — посоветовал Санек. — Размазалась вся. Вообще-то ты мне больше не нужна. Можешь ехать домой.
— Ну уж нет. Досмотрю ваш цирк до конца.
Санек пожал плечами, сходил на кухню, принес кастрюлю с холодной водой. Снизу, с размаху выплеснул Толя-ну в лицо, не жалея обоев. Парень задергался, заперхал, зафыркал, как морж. Поднял голову, уперевшись затылком в батарею. Видок у него был нетоварный. Переносица вспухла синеватой шишкой, кровь из носа вытекала на подбородок.
— На вампира похож, — сказал Санек дружелюбно.
Несколько минут ушло у Толяна на то, чтобы оценить ситуацию, в которой он очутился. Мог бы и быстрее соображать, видно, гантелина повредила мозги.
Наконец все понял, но до конца не поверил. С чудной гримасой смотрел на Таину.
— Выходит, наколола, сучка?
Девушка не сочла нужным отвечать, уселась в единственное в комнате кресло, достала свои сигареты с травкой. Толян уныло продолжал, словно чревовещатель:
— Думаешь, не найду тебя? Да я же тебя из-под земли выкопаю, неужто не сечешь?
— Отвлекаешься, — укорил Санек и для профилактики съездил по уху открытой ладонью.
Отдышавшись, Толян спросил:
— И что дальше? Чего ты хочешь?
— Двадцать штук как минимум. Плюс еще десять за моральный ущерб.
— Только и всего? — Толян нагло ухмыльнулся, но вышло неубедительно. — Почему не все сто?
Санек подошел к платяному шкафу, открыл, достал из коробки электрическую дрель. Насадил десятимиллиметровое сверло, включил дрель в розетку. Пояснил Толяну:
— Зря ерепенишься. Я мудрить не буду. Насверлю дырок, сколько организм выдержит. Потом свезу на свалку в Бескудниково. Если до снега не найдут, пролежишь до весны.
После вряд ли кто опознает. Подумай, Толян, я не тороплю. Минутка у тебя есть.
— У тебя крыша поехала. Тебя же вычислят в два счета.
— Ничего, — сказал Санек. — Я свое прошу. Все по закону, приятель.
Подала голос Таина:
— Всю ночь я тут не собираюсь рассиживаться.
Санек обернулся.
— Пойди на кухню, там водка на столе. Налей по стаканчику.
— Еще чего? Сам сходишь.
— Отвяжи, падла, — попросил Толян.
— Зачем?
— Руки затекли. Чего я сижу с такой рожей. Дай хоть умоюсь.
Санек щелкнул кнопкой, дрель ласково зажужжала.
— Японская насадка, — сообщил девушке. — В сталь, как в масло, входит. Сейчас увидишь. Кореш подарил. Они ему глаз выбили и ногу сломали. Он сейчас в больнице. Единственный мой друг.
— Не тяни, Саша. Я спать хочу. А мне еще ехать.
Отозвался Толян:
— Откуда у меня деньги, сам подумай? Я же не банк. Те бабки мы на четверых поделили.
— Скоко у тебя есть?
— Около четырех штук наскребу.
— Ты с кем живешь?
— Какое твое дело?
Санек махнул рукой с зажатой дрелью, но малость не рассчитал. Парень опять вырубился, свесил голову на грудь, будто пьяный. Санек воспользовался передышкой, сходил на кухню, принес водки в двух стаканах. Один отдал Тайне.
— Кайф ловишь? — полюбопытствовал.
— Я со зверьем пятый год тусуюсь. Какой уж тут кайф. Мерзко все это.
— Не понял.
— Чего не понял?
— При чем тут зверье? Он мои бабки заначил, по-твоему, простить?
Таина пригубила водки. Улыбалась отрешенно. Санек знал, не скоро в его берлогу залетит такая птичка. Может, никогда не залетит. Может, и не надо, чтобы залетала. Сердце вещало, что не надо.
Свой стакан выпил залпом. На этот раз Толян сам очухался, без воды.
— Ну? — сказал Санек. — Повторяю вопрос. С кем живешь? Только больше не груби. Убью.
Толян ответил, что живет с родителями, с отцом и матерью, а также со старшей сестрой.
— Сестра где работает?
— На какой-то фирме. Я с ней не контачу.
— Батюшка кто?
— В натуре, Маньяк, чего ты добиваешься?! — Толян задергался, чем причинил себе лишнюю боль, — и длинно, матерно выругался.
— Это в мой адрес? — уточнил Санек.
— Нет, не в твой. От обиды. Отвяжи, прошу. Потолкуем, как люди.
Санек отложил дрель и обыскал страдальца. Ничего не нашел, кроме кожаного портмоне, тесака с кнопкой и мобильной трубки — непременный атрибут каждого уважающего себя пацана. Подержанная иномарка, мобильная трубка и пистоль — вот и весь притягательный портрет молодого московского рыночника. В портмоне лежало около полтораста баксов в мелких купюрах и сколько-то наших деревянных. Деньги Санек забрал, присовокупив: «Тебе вряд ли теперь понадобятся», — портмоне сунул обратно в карман пиджака. Потом развязал ему правую руку.
— Звони, приятель.
— Куда?
— Папаше. Объясни, что и как. Дескать, срочная проплата. Пусть поскребут по сусекам. Не хватит бабок, могу взять ценными вещами по курсу. Золотишко, камни. Давай, Толя. Это твой последний шанс.
— Зачем вмешивать стариков, ты что?
— А зачем Климу глаз выбили?
— Са-ань, — окликнула Таина. — Спать охота. Давай заканчивай. Все равно его надо мочить.
— Почему? — удивился Санек.
— Какой-то он говнистый. Отпустим, впрямь рыскать начнет, искать. Ну его на хрен!
— А как же бабки, Тин?
— Обойдемся. Он же пустой.
Толян, обтерев освобожденной рукой харю, заметил:
— Она чокнутая, Санек. Ты что, не видишь? С чокнутой спелся. Сегодня я, завтра тебя подставит.
Таина слезла с кресла, подошла к ним, грациозно покачивая бедрами, и выплеснула водку Толяну в глаза. Потом молча, спокойно вернулась на свое место.
— Разберемся, — сказал Санек. — Будешь звонить?
— Буду, — буркнул Толян, заливаясь горючим водочным рассолом.
Санек помог ему набрать номер, и следующие пять минут тот базланил в трубку, уговаривал сперва папашу, потом сеструху. Санек за это время еще раз сходил на кухню, принес три порции водки, чем несказанно удивил Таину.
— Эту срань будешь поить?
— За хорошее поведение положено, — смутился Санек.
Выколачивание денег из родичей далось Толяну с трудом, он побагровел, пересыпал речь матерком и срывался на крик. Что-то у него не заладилось с сеструхой, и он несколько раз повторил на истерической ноте:
— Только до четверга! Пойми, я в цейтноте, блядь!
Санек чокнулся с Таиной, на что она не обратила внимания.
— Некультурный человек, правда, Тая? Родную сестру каким словом называет.
В черных, с синеватым отливом, удивительных глазах промелькнул намек на улыбку: оценила его натужное остроумие.
— Да, сейчас, — непререкаемо бухтел в трубку Толян. — Именно среди ночи… Пойми, цейтнот… Куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь, тебе ходить никуда не надо. Да, представь, знаю… Не зли меня, сестричка, я ведь не всегда добрый…
Наконец уломал, щелкнул телефонной кнопкой.
— Все, — бросил с облегчением. — Можешь ехать, Маньяк. Сегодня твой день.
— Сейчас ночь, — поправил Санек. — Не-е, ну если ты угрожаешь…
— Я не угрожаю.
— А почему ты о каких-то двадцати штуках балабонил, когда должен тридцать? Как минимум.
Толяна из багрянца кинуло в бледноту, но он сдержал себя.
— Все, что есть в доме, все до копейки. Падлой буду.
Санек обернулся к девушке.
— Как считаешь? Взять двадцатник, остальные в запись?
— Боже мой, — сказала Таина. — Когда же кончится этот балаган?
— Не понял. Что советуешь?
— Не будь малахольным. Гадину надо приколоть. Она же не успокоится.
Санек не улавливал, говорит она всерьез или блефует.
— Ребята, — осторожно вмешался привязанный. — Вы это, не зарывайтесь. Я же рогом не упираюсь.
— У тебя рога больше нет, — сказал Санек. — Я его отпилил, — опять обратился к девушке: — Посидишь с ним полчасика? Смотаюсь туда-сюда. Он на Яузской живет. Это мигом.
— С какой стати? Вдруг он меня изнасилует?
— Как он тебя изнасилует? Он же связанный.
— Тогда Галке позвони, пусть приедет. Одна с ним не останусь.
— Ну чего ты, Тая, заводишься? Шарахну его по башке — и все дела.
— Эй, Маньяк, — опять встрял Толян. — Не суетись. Куда я денусь? Мне бы только отлить.
— Перебьешься.
— Тогда дай водки.
— Не называй меня Маньяком.
— Ладно. Дай стакан, чего-то тяжко внутри.
— Не давай, — сказала Таина.
— Почему? Пусть выпьет. Он же сотрудничает.
— Нет, — Санек встретился с ней глазами и поразился выражению мертвящей, ледяной скуки на ее лице. Не лицо, а маска презрения. Он не был уверен, что это выражение относится к одному только Толяну. Может, и к нему тоже.
— Он что, сильно тебя обидел?
— Не говори о том, чего не понимаешь, дружок. Как может обидеть животное?
Задела самолюбие Толяна.
— Ах ты, сучка порченая! Ты же кончила, пока я тебя мял. Скажешь, нет?
Ответа не услышал, потому что Санек обрушил ему на череп металлическую дрель. Толян слабо дернулся и в беспамятстве свесил голову на грудь.
— Ну чего? Побежал за бабками?
— Беги, — разрешила Таина.
ГЛАВА 3
На другой день вечером Санек навестил в больнице изувеченного другана. Клим передвигался на костылях, но выздоравливал потихоньку. Через неделю обещали снять гипс. Главная новость: глаз у него оказался целым, хотя чуток перекосился к носу. Врач сказал, что, возможно, со временем какой-то процент зрения в нем восстановится. По этому поводу они с Саньком выпили на лестничном переходе, где кучковались курильщики. Санек принес с собой буты-лец коньяка и кое-какую закусь в пластиковых упаковках. Впрочем, и без того в больничной тумбочке Клима был продовольственный склад. Мать таскала жратву с утра до ночи. Клим не успевал поедать. Выпивать на лестнице приходилось с опаской: мог застукать кто-нибудь из больничного персонала.
— Здесь с этим строго, — объяснил Клим, — засекут, сразу коленом под зад. А куда я на костылях? Вот рядом коммерческое отделение, там, конечно, повольнее. Ханку хоть вместе с супом дадут. Медсестры услужливые, масса-жик сделать и все такое.
— И скоко там за постой?
— По стольнику в сутки.
— Могу ссудить.
— Не-е, не надо. Я привык. У нас народец попроще и отношение более человеческое. Другое дело, лекарств никаких нет, кроме марганцовки. Но мне лекарства ни к чему.
— Как знаешь, — Санек украдкой отпил из глиняной больничной чашки с обколотыми краями. — А то можно устроить. Будешь болеть, как белый человек.
— Сань, — оживился Клим, — чего тебе скажу. Я тут застолбил одну врачиху. Ну, блин, веришь ли, бабак как лошадь. Стати ядреные, глазищи горят. Я ей намекнул, что костыли для любви не помеха.
— А она что?
— Хохочет. Сделала вид, что не поняла. А сама вся дрожит. Не-е, Сань, я на нее без слез глядеть не могу. Но немного в возрасте. Наверное, лет за пятьдесят. Седая вся, Сань, и при походке колышется, как волна. Я, Сань, гадом буду, если ее не уделаю.
Саньку не нравилось настроение друга. Он уже рассказал вкратце, как отбил бабки, но его рассказ почему-то не произвел на Клима сильного впечатления. Санек подозревал, что вместе с ногой и глазом у кореша что-то повредилось в черепушке. Про эту врачиху, Дору Викторовну, он третий раз принимался заново говорить. При этом со все более живописными подробностями. Саньку надоело его слушать, и он сообщил, что хочет месячишко покантоваться за городом, на даче у стариков, пока все не уляжется. Там его вряд ли достанут. У отца шесть соток в глуши, аж за Волоколамском. Туда нормальные пацаны не заглядывают, а местных он всех знает как облупленных. Есть у него там агентура. Если появятся чужаки, обязательно предупредят.
— Тебе тоже, Клим, надо бы остеречься. На тебя Толян первым дело выйдет.
— Плевать, — беззаботно отмахнулся кореш. — У нас внизу ОМОН дежурит. Полный, блин, отпад. Этих не купишь. Чугунная отливка. Я к ним сходил покурить, ну, так, познакомиться на всякий пожарный, — чуть вторую ногу не сломали.
— За что?
— Да ни за что. Чтобы не маячил… Слышь, Сань, может, познакомить тебя с врачихой?
— Зачем?
— Как зачем? Свой человек в реанимации, всегда пригодится.
Допили сосуд — и Санек проводил друга в палату. Кроме него, там лежали еще трое — старик с переломом шейки бедра, пожилой дядька со сломанной рукой и черноусый молодой хачик по имени Зундан. У хачика дела были плачевные. Он ночью куда-то спешил на станции Москва-Сорти-ровочная и, видно, был под балдой, неаккуратно спрыгнул с платформы и сломал обе пятки. Это само по себе неприятно, так вдобавок, пока валялся на путях без сознания, обчистили под ноль: не осталось ни документов, ни копейки денег. В Москве он был проездом, похоже, с разведкой, и за помощью ему обратиться было не к кому. Но и это не все. В отделении кончились казенные костыли, хачика поставили на очередь (если кто выпишется или помрет), и вот уже третью неделю, загипсованный на обе ноги, он лежал в постели, как прикованный, не мог даже добраться до туалета. По национальности Зундан был турок, хотя зачем-то выдавал себя за таджика. Саньку стало неловко, когда увидел печально сияющие глаза несчастливца: он уже который раз обещал купить костыли в аптеке и опять запамятовал.
— Извини, старина, — повинился перед хачиком. — Соображал ка совсем развинтилась. Был рядом с аптекой, из башки выдуло.
— Ничего, — трагически улыбнулся Зундан. — Не волнуйся, Саша. Скоро Климушку выпишут, он свои оставит.
— Не раньше, чем через две недели, — уточнил Клим. — Ты за это время весь провоняешь.
— Не провоняю. Меня Оленька спиртом протирала.
Хачик держался мужественно, вся палата его жалела.
Подкармливали, поддерживали морально. Но с костылями надежда, действительно, только на Санька с Климом. У стариков откуда деньги? Они каждый день подсчитывали, сколько сэкономили на больничной жратве. Сумма набегала немалая, но на костыли не скопишь. «В прежние времена, — вспоминал Иван Иванович, который сломал бедро, осту-пясь в подъезде, — когда я работал на кафедре, я бы тебе, сынок, целую инвалидную коляску справил, а нынче сам знаешь, чего у нас в России творится. Радуйся, пока живой».
— «Реформа, — солидно поддерживал слесарь Фомин, поломавший руку, когда пьяный разгружал машину с кирпичом. — Надо терпеть».
— Может, коньячку примешь? — спросил Санек. — Тут осталось на полпальца.
— Приму, — обрадовался турок. — Коньяк боль снимает.
— Только не ори среди ночи, что срать хочешь, — предупредил Клим.
— Не буду орать, — уверил турок, — Я все дела уже сделал.
Вскоре Санек распрощался с друганом, пообещав навестить денька через три-четыре. Вышел из больницы в теплый, августовский вечер. Был не пьяный и не трезвый, но на душе кошки скребли. Уселся в «жигуленок», закурил, оста-вя дверцу открытой. Хорошо думалось в вечерней тишине.
Он так и не рассказал другу о главном, о Тайне. Как-то язык не повернулся. А рассказать было о чем. Накануне все получилось слишком гладко. Сеструха Толяна четко выдала бабки, ровно двадцать штук «зеленых» сотенными купюрами, упакованных в бумажный пакет, словно специально приготовленных. Вела себя как бухгалтерша. «Пересчитай», — сказала сухо. Они стояли возле лифта. «Я тебе, детка, и так верю», — ответил Санек. Пересчитал уже в машине. Без обмана, точно.
Когда приехал домой, Толян был еще в отключке. Таина ждала на кухне полусонная. Он без промедления выдал ей оговоренную долю. Пересчитывать при нем она тоже не стала. Любезно предложила обмыть акцию. Пили не водку, а массандровский портвейн, который подействовал на нее благотворно. Девушка расслабилась, ее глаза потеплели. Но в этом потеплении не было ничего личного, ничего такого, что предполагало бы возможность любовных утех. Хотя обстоятельства сложились возбуждающие: кухня, ночь, вино, крупные бабки, свалившиеся с неба. Однако Таина смотрела на него, как строгая учительница на школьника-недоум-ка, который неожиданно для всех решил трудную задачку.
— Герой, да? — спросила она.
— В каком смысле?
— Ну как же, такое дельце провернул. Ничего не боишься, да?
— Так ты тем же самым промышляешь, если я правильно понял.
— Да нет, парень, я вообще не промышляю. Я живу.
— Я тоже живу, не сдох пока. Не понимаю, в натуре, к чему ты клонишь?
Таина подлила ему вина, и этот простой жест тронул Санька до глубины души. Королевский жест. Все в ней было чудно. Самые обычные слова, которые она произносила, звучали то ли как ласка, то ли как издевка. Он не мог разобрать. Одно знал: если бы им с Толяном поменяться ролями и за ним явилась в клуб эта красотка, он бы тоже потянулся за ней, как бык на веревочке. Дамским вниманием Санек не был обделен, о чем говорить, телки иной раз прямо-таки на него вешались, но впервые он столкнулся с железной волей, которая выше человеческого разумения. Ему хотелось чем-нибудь ей угодить, заслужить ее расположение. Когда отстегивал десять кусков, даже сердце не екнуло, а ведь действительно большие деньги, но, похоже, не для Таины.
— Мне нравятся независимые ребята, — сказала она. — Но ты же вроде на Марека работаешь, на Протезиста?
— Галка просветила?
— Какая разница… Так работаешь или нет?
— Отработался. Поцапались мы. Сукой он оказался.
— У него шайка большая?
— Тебе зачем? Записаться хочешь?
— Много у него парней?
— Козел он.
— Это я поняла.
— Не советую с ним дело иметь. Продаст.
— Да я и не собираюсь… Саша, но ведь это все мелочь, чем вы занимаетесь. Рэкет, травка, что там еще у вас? Все это дешевка. Никакой перспективы.
— А что делать, все так живут, — Санек почти блаженствовал. После ночных треволнений ему хотелось спать, и чтобы Таина была под боком. Он не особенно вдумывался в ее слова, хотя чувствовал, что не так просто она треплет языком, что-то пытается ему внушить или что-то выведать. Наплевать. Скрывать ему нечего, ни от нее, ни от братвы. Он сердцем чист перед обществом.
— Чего-то имеешь предложить, Тая? Не крути, говори прямо.
— И ты не так уж глуп, — сказала она с уважением.
— Никто пока не жаловался, — Санек с сожалением глядел на пустую бутылку. Отменный был портвешок.
— Тай, поможешь с этим чучелом?
— Каким образом?
— До тачки дотащить.
— Что собираешься с ним делать?
— Как что? Довезу до дома и отпущу.
— Шутишь?
— Почему?
— Они же из тебя душу вытрясут.
— Вряд ли, — усомнился Санек. — Я закона не нарушал. Не я их кинул, они меня.
Девушка отрешенно улыбалась.
— Замочить, выходит, слабо?
Санек понял, это не простой вопрос, беседа дошла до крайней точки, и решил, что пора кое-какие вещи прояснить. Чтобы после не было кривотолков.
— Ты, возможно, крутая женщина, Таина Батьковна, возможно, очень крутая, но и я ведь не вчера родился. Я в бизнесе, считай, с пеленок. Много чего нагляделся, не меньше тебя. Трупака слепить легко, но у каждого трупака должен быть свой резон. Иначе он обратно вернется. Спроси у любого пацана, есть у него на меня зуб? Не найдешь такого… И знаешь, почему? Я живу по справедливости, все правила соблюдаю. Вижу, проверяешь меня, только не пойму — зачем? Если я Толяна кокну, братва не поймет. Я и сам себе не смогу объяснить, для чего это сделал. Он бабки вернул, больше с него спроса нет. Захочет дальше тягаться, пожалуйста, тогда я отвечу, но не раньше. Убивать за здорово живешь, Таечка, — это западло. Во всяком случае я в такие игры не играю. Себе дороже выйдет.
— За что же тебя прозвали Маньяком?
— Молодой был, залупался иногда на старших. Вот и прозвали.
— Сейчас тебе сколько?
— Двадцать три. Почти старость. Сама знаешь, пацаны долго не живут.
— И тебе не жалко?
— Чего?
— Да головушку свою бесшабашную.
— Жалеть не о чем. Я хорошо прожил. Все имел, что хотел. Я доволен.
Вот так душевно потолковали, вроде ни о чем, а на самом деле о самом сокровенном. Ему и с Климушкой редко доводилось так беседовать, разве что после третьей банки. Оно и понятно. Женщины иной раз чувствуют тоньше, деликатнее, так их природа устроила.
Таина помогла отбуксировать Толяна до тачки. Оживили его опять ушатом ледяной воды, вывели на двор, спотыкающегося, снулого. Москва опустела, прикорнула тяжким сном перед рассветом. Стоял редкий час городской противоестественной тишины. В «жигуленке» Толян окончательно пришел в себя, сообразовался с местностью. Спросил слабым голосом:
— Куда везете, братцы?
— В морг, — важно ответил Санек, надеясь увидеть улыбку девушки. Увидел: словно два черных тюльпана распустились в предутреннем мареве.
— Наверное, я тебе позвоню, — сказала она.
— Позвони. А когда?
— Наверное, завтра.
Он проводил ее до «Скорпии» — десять шагов.
— Может, останешься? Я туда и обратно.
— Говорю же, позвоню.
— Меня в городе не будет, в отсидку пойду. Давай, сам тебе позвоню.
Таина помешкала мгновение, продиктовала телефон, который в памяти у Санька осел намертво, впился в мозг, как паук.
— Надолго удерешь?
— Пока рассосется. На месячишко как минимум.
— Двадцать штук не рассосутся. Зря надеешься. Это хвост. За него обязательно потянут.
— Это мои проблемы.
Она нырнула в машину, оттуда сделала ручкой.
— Чао, приятель. Галке привет.
— Спасибо, передам. Только ты ее первая увидишь.
Хлопнула дверца, зашуршал движок, серебристая торпеда уплыла со двора. У Санька в груди образовалась трещина, будто по сердцу провели иглой. Это понятно: недосып, водка, побои, но деньги в кармане, а это главное.
Толяна высадил возле его дома. Попрощались по-хорошему.
— Не журись, братан, — повинился Санек. — Я всего лишь свое вернул. На моем месте так поступил бы каждый.
— Ничего, Санечка. Сегодня ты, завтра я.
— Намек понял, — засмеялся Санек, угостив его сигаретой. Толян еще до конца не поверил, что остался живой. Раскачивался возле машины, как привидение, рожа измусоленная, похожая на географическую карту, залитую чернилами. Но постепенно до него дошло, что жизнь продолжается. Он жадно затянулся. Сипло прогудел сверху:
— Все же ты не совсем прав, Маньяк.
— Будущее покажет, — уверил Санек — и с открытой дверцей рванул «жигуля» с места, зацепил привидение левым бортом. Толян, роняя сигаретные искры, кубарем покатился к мусорному баку. Сам виноват, скотина. Санек предупреждал насчет угроз и кликухи.
Теперь ему оставалось всего несколько дел: заскочить домой, переодеться, собрать манатки, может, поспать пару часиков, навестить Климушку в больнице, позвонить старикам и Галке — и поминай, как звали. Все в порядке, если бы не рыжая. Стояла перед глазами сучка — в черных туфлях, с черным болотом в очах, стройная, как тысяча фотомоделей. Она ему не даст, и говорить не о чем. Он ей не пара. Или даст украдкой, из любопытства, как милостыню на паперти кидают. Она сказала: двадцать кусков — это хвост. Деньги — не хвост, Таечка. Это крылья. Вот сама ты хвост, это точно. Да еще какой. На километр как минимум. Санек не знал, что с ним происходит, прикосновение любви застало его врасплох. Но чувствовал себя погано, может быть, как человек, которому подали яду в вине.
ГЛАВА 4
За десять лет свободы, дарованной россиянам, городское население превратилось в густую биологическую массу, в которой с трудом можно было выделить две-три самостоятельные социальные прослойки. Самая заметная среди них — так называемая «братва», глухо ненавидимая остальными москвичами. Братва состояла из представителей двухтрех подросших на рыночных дрожжах поколений, в ходе уникального эксперимента лишенных каких-либо установочных, общечеловеческих моральных признаков. С научной точки зрения явление братвы давало пищу для размышлений о неизбежном, скором закате человеческой цивилизации, во всяком случае в том ее виде, в каком она сложилась от Рождества Христова. Однако на фоне массового городского обывателя, превращенного в серую плесень, братва выделялась ярким праздничным пятном. Она процветала, благоденствовала и радовалась солнечному свету, точно так же, как радуется ему сорняк, пробившийся наверх сквозь убитую радиацией почву. Рыночная чума, обрушившаяся на некогда великую страну, пошла братве только на пользу, да она же ее и взрастила. Ублюдочное представление о мире, как о большой воровской малине, пропитавшее все поры смертельно занедужившего государства, являлось сокровенной сутью братвы, ее единственным духовным постулатом. И не было для нее лучше места, чем древняя православная столица, обернувшаяся вселенским притоном. Былой городской труженик и заботник, уныло прокрадывающийся по уірам к мусорным бакам или по особым дням скапливающийся у избирательных урн, чтобы в экзальтации проголосовать за очередного мучителя, или приторговывающий на шумных перекрестках, с тихим ужасом взирал на проносящиеся мимо роскошные иномарки, набитые молодыми парнями и их полуголыми девицами, сплевывающими на асфальт черную табачную смолу; чутко прислушивался к ночным выстрелам, как прежде прислушивался к музыке, льющейся из окон, — и мучительно гадал, каким же матерям удалось породить на свет эту нечисть.
Но правды о братве не знал никго. Кроме нее самой.
Старик Ходженков, получив на почте пенсию, исчисляемую в 320 рублей, зашел в магазин и купил пластиковую упаковку севрюги, бутылку монастырского кагора с черной сургучной головкой и свежую булку по цене четыре рубля восемьдесят копеек за штуку. Вернулся в свою двухкомнатную квартиру, обеднев на половину пенсии, разложил аппетитную снедь на столе, добавив сочную, хрусткую луковицу и помидор, и, прежде чем погрузиться в чревоугодие, закурил полноценную «Золотую Яву» из заметно похудевшей пачки: табачку при самом бережном курении все равно не хватит до завтрашнего дня. Взгляд старика был рассеян и тускл. Вид разложенного на клеенке богатства хотя и радовал, но одновременно навевал грустные мысли. Маленький праздник он приурочил ко дню поминовения Дарьи Игнатовны, Царство ей Небесное. На протяжении долгих сорока с лишним лет она была его верной спутницей, наперсницей всех тайн, любовницей и умной собеседницей, утешительницей скорбей и в бесконечных хлопотах о нем, любезном муже, успела первой помереть. Он не испытывал чувства вины за ее смерть, только горькое сожаление, неизбывное, как могильная сырость. Пока Дарья Игнатовна была живая, у них была одна душа на двоих, дети и внуки не в счет, да и где теперь эти дети и внуки, а жена осталась с ним, даже отбыв в иную обитель. Как всегда, его угнетало не ее исчезновение, это как раз ненадолго, скоро они встретятся, а то, что она не может разделить с ним случайно выпавшую радость — бутылку красного вина, белую рыбу с ледяной слезой и ароматную сигарету, — милая Дарьюшка была так охоча до невинных застолий, и не слишком часто они ей выпадали. Нет, Бога гневить нечего, в бедности они никогда не жили, бедность пришла потом, при нашествии ошалелой рати ворья, совпав с унизительными старческими хворобами; прежде жили нормально, по-людски, хотя, конечно, не пировали с утра до ночи, да это им вроде было и не нужно. Работали, рожали детей, выводили их в люди, твердо зная, что каждый грошик дается с трудом, а не дубьем, и тем он и хорош. Облитая потом горбушка в сто раз слаще, чем вырванное у соседа изо рта пирожное, и только недавно им всем растолковали, что такие представления свойственны рабам, а первые свободные люди объявились на Руси не далее как с девяносто первого года. Они с Дарьей Игнатовной сперва посмеивались над этой чепухой, но вскоре убедились, что это не розыгрыш одесских юмористов, а самое натуральное «новое мышление», единственно верное и непогрешимое. Весь мир узнал об этом «новом мышлении» из уст лучшего друга немцев, меченого комбайнера из Ставрополя, который страдал недержанием речи и сумел, долбя изо дня в день в одну точку, заморочить голову россиянам, подготовя их к приходу грозного, несокрушимого преемника, такого же непримиримого борца за общечеловеческие ценности, но, в отличие от мягкотелого, сладкоречивого повелителя, обладающего норовом Кудеяра-молодца из народных сказаний. При новом царе Егор Серафимович, как и прочие его сверстники, разом осознал, что шутить с ними никто больше не собирается, а их буквально сживают со свету, косят, как сорную траву, и помощи ждать неоткуда. Известные политики с высоких трибун, сокрушенно вздыхая, один за другим объявляли, что никак не удастся построить светлое будущее капитализма, пока не вымрет ущербное предыдущее поколение, несущее в своих жилах дурную, коммунячью кровь. Старики повели себя каждый сообразно характеру: некоторые обижались, плакали тайком, прятали в подпол боевые награды и почетные грамоты за ударный труд — и потихоньку, никому не вредя, быстренько убывали от недолеченных болезней и старых ран; другие пытались сопротивляться, митинговали, по до-режимным праздникам выходили на демонстрации, умоляли вернуть их гробовые накопления, короче, хулиганили до тех пор, пока не исчерпали терпение демократических властей. По требованию творческих интеллигентов пришлось напустить на неугомонное старичье веселых омоновцев с резиновыми дубинками, но надо заметить — российский феномен! — и после двух-трех массовых акций вразумления старики так и не усмирились окончательно и в разных местах высовывали свои траченные молью физиономии, продолжая нагло просить пенсий, жратвы и лекарств.
Когда пришла беда, Ходженкову еще семидесяти не было, он был бодрым, сильным мужчиной с далеко идущими планами, но ничему из того, что задумывал — писать мемуары, завести пяток ульев на даче, селекционировать для Дарьюшки голубую розу, — не суждено было сбыться. Дарья Игнатовна померла от свирепого мозгового удара прямо на клубничной грядке и, может быть, ее счастье, что не дожила до позорища, когда могучую державу подточили черные, двуногие жучки-скороеды.
Егор Серафимович был не из тех, кто причитает или выклянчивает подачки: немного помыкавшись и уразумев, что вместе со сверстниками сомнут и его, он, не долго думая, снял с себя старинный, дедовский зарок и дал объявление в газету, которое гласило: «Знаменитый колдун Архип. Снимает порчу и сглаз. Корректирует бизнес. Предсказывает будущее». Таких объявлений на ту пору появилось великое множество, колдунов и вещих бабок наросло в Москве, как дурной травы, но Ходженков знал, что на его гудок откликнутся непременно, потому что приложил к пустым словам заветную родовую можжевеловую печать, долгие годы томившуюся в сундуке без всякого дела. Родом с Урала, оттуда, где тайга смыкается с небом, старик Ходженков хранил в себе наследственное знание, истоки которого были неведомы ему самому. Смышленый мальчонка, он рано покинул родные места, порвав все путы, наговорив дерзких слов родителям, чем чуть не навлек на себя неотмолимое проклятие, — так сильно манил его большой мир, где он надеялся самостоятельно, без помощи духов обрести свое счастье. Тайный дар он унес с собой, как уносят краюху хлеба за пазухой, отправляясь в дальнюю дорогу. В городе Уджинске поступил в ФЗУ, через год, проявив недюжинные математические способности, рванул в Москву, подал документы в Университет, — а дальше пошло-поеха-ло. Будто по велению Конька-Горбунка у него все складывалось, и к двадцати пяти годам, аккурат после великой Победы, его взяли на работу в один из секретнейших институтов — и вот здесь застопорило. Словно в голову ему, пока спал, напихали соломы. За пятнадцать следующих лет так и не поднялся выше старшего научного сотрудника, хотя многие менее талантливые коллеги за это же время взлетели к звездам. Кандидатскую диссертацию и ту рубили четыре раза, пока с горем пополам ее защитил. Он особо не тужил, понимал, откуда ветер дует. По молодости лет, по легкомыслию иногда пользовался тайным даром ради личных прихотей: девушек завораживал, золотишко, когда тошно приходилось, подманивал, двух дураков, нарвавшихся на него на улице с финягами, свалил в эпилептический припадок — и еще всякая мелочевка, всего не упомнишь. Когда повстречал Дарьюшку, чуть сгоряча не поломал обоим судьбу, подмешав к любви потустороннюю силу, хотя это вовсе не требовалось: они узнали друг дружку с первого взгляда. Но он решил закрепить девушку за собой так, чтобы ворохнуться не могла, и для этого применил родовую власть. Никогда не забудет Егор Ходженков, похоронивший жену, как однажды, ощутив невыносимый зуд плоти, помимо воли, как бы механически послал в доверчивые очи расторопный приказ-установку: покорись, стань моей рабыней! — и как девушка внезапно потухла, сомлела, и в нежных чертах проступил облик дряхлой старухи, улегшейся на смертном одре. Его собственный испуг был сильнее ее потрясения: он увидел впервые, как ломается человеческая душа, как иссякает свет, зажженный по воле Господней. Падающую, подхватил на руки, растормошил, нашептал в ухо веселой чепухи, — но ужас, испытанный им, остался навеки, как заноза в сердце…
После реформы стало нечего терять: Дарья Игнатовна померла, дети рассеялись по свету, а досмотреть, чем кончится беда на Руси, жуть как хотелось. Но как досмотришь, когда на зубок положить нечего, на триста рублей и пес не протянет долго… Что ж, семь бед — один ответ. Вот и дал объявление в газете.
Принимал не всякого, а лишь того, кто поглянется. Брал недорого, сколько дадут, но с иных запрашивал непомерную цену. Обычно с тех, кому корректировал бизнес. Это были люди пропащие, при них дышать было трудно, и Егор Серафимович заметно истощался, пока направлял их на путь истинный. Недавно один такой недотепа лет сорока, бывший министерский чиновник, озабоченный тем, что его со дня на день должны были пристрелить, проникся к старику трогательным доверием, попросился ночевать, и Егор Серафимович, тронутый какой-то матерой, прилипчивой, как смола, слезой несчастного бизнесмена, уступил, пустил на кухню на раскладушку, видел, что не доберется горемыка живым до дома, а после проклинал себя за минутную слабость. Из кухни по квартире потекли окаянные лучи, наподобие сернистых испарений, и, чтобы загородиться от них, Ходженков потратил недельный запас энергии, сбросил за несколько часов восемь килограмм живого веса. Правда, окупилось это тем, что приговоренный ворюга, чуя близкий конец, оставил на помин души золотую карточку, которой Егор Серафимович вволю попользовался (тысяч на шесть нарыл «зеленых»), пока ее не заклинило намертво в банкомате.
Обыкновенно он утешал заполошных бабок с их маленькими горестями, а также молоденьких озабоченных девиц с вывернутыми набекрень мозгами. Захаживали к нему и солидные люди, нагруженные деньгами, как секачи жирком, но все же чем-то обескураженные, раз уж явились по объявлению к деду Архипу. Этих роднило общее выражение лица, наивное и опрокинутое, как бы вопрошающее: за что она меня так? Под словом «она» могла подразумеваться непутевая бабенка-возлюбленная, загулявшая жена, партнер по коммерции, а то и глубже — злодейка судьба. Ходженков отметил любопытный момент: у этих вполне обеспеченных мужчин, нарубивших золотишка лет на десять вперед, когда с ними приключалась беда, все характерные признаки — страсть к наживе, наглость, уверенность в своем превосходстве над голодранцами — отступали на второй план, а вперед неожиданно выдвигались простые человеческие чувства: растерянность, обида, тяга к душевной беседе. Им не совет был нужен, не пророчество, а доброе слово, сказанное к месту. Получив утешение, они с благодарностью расстегивали кошельки, не тяготясь несуразной ценой за вроде бы пустяковую услугу. Бывали, конечно, исключения. Попадались гордецы, чьи сердца не поддавались увещеванию, как приходили с пустой душой, размытой грехом до слизи, так и уходили, кривясь в презрительной усмешке, дескать, ладно, наколол ты меня, старче, да что поделаешь, сам виноват, в другой раз буду умнее. Таким Егор Серафимович говорил правду, какою бы страшной она ни была. Испуг — вот единственное, что могло встряхнуть их задубевшую совесть. Хлопот с ними было немного, в их ущербном сознании пульсировало только два цвета, белый и черный, но от общения с выродками старик сильно уставал. Недавно заявился мужик в енотовой шубе, как вскоре выяснилось, залетный фальшивомонетчик из Таганрога, уже ополоумевший настолько, что зачем-то решил баллотироваться в Думу. К колдуну он заглянул по оказии, кто-то из московских подельщиков посоветовал, что есть, мол, крутой дед, который сечет в бизнесе похлеще всяких Джун с Кашпировскими, а берет намного дешевле. Новые хозяева жизни, как правило, люди все поголовно суеверные, как летчики, вот типчик с фальшивой мошной и приперся, чтобы по дешевке подстраховаться. Мощный телесно, с пьяными глазами — и сразу поставил условие: «Давай так договоримся, дедуль. Подмогнешь на выборах, выхлопочу пожизненную пенсию как герою войны. А коли провал, не обессудь, за тобой останется должок».
Старик поглядел с укоризной, понял, что буйно помешанный, но уже на последней точке выкипания. Выдал как на духу:
— Не годится твое условие, сынок.
— Почему не годится, — загрохотал фальшивомонетчик. — Знаешь, какая пенсия у героев? Не твои триста деревянных. Плюс бесплатная путевка раз в год. Куда хочешь езжай, хоть на Колыму.
— Условие хорошее, — согласился Егор Серафимович, — да ты выполнить не сможешь.
— Не доверяешь слову купца?
— Какой ты купец, — бесстрашно возразил старик. — Обыкновенный жулик. Но проблема не в этом. У тебя, сынок, вся печень в раке. Не дотянешь до выборов, вот в чем беда.
Он и раньше видел, как сникают раздухарившиеся упыри, насосавшиеся крови, увидя впереди призрак неминучей расплаты, но в тот раз было что-то особенное. Из могучего, занозистого дядьки будто воздух спустили через дырку в брюхе. Он осел в кресле, так что пол заскрипел. Но не пот отчаяния проступил в надутом лице, а черная злоба.
— Пугаешь, старая развалина?
— Зачем пугать. Сходи к врачу, подтвердит.
— Врешь. Я недавно обследовался. На японской УЗИ.
— Вся электроника от лукавого, — благодушно объяснил пенсионер-оборонщик. — К обыкновенному врачу сходи, в районную поликлинику… — Протянул растопыренную пятерню. — Чуешь тяжесть справа?
Гостя повело к полу, и он ухватился за бок, будто придерживая гирю.
— С тебя, сынок, двести баксов. За консультацию.
Немного подумав, фальшивомонетчик сполз с кресла и встал перед Егором Серафимовичем на колени. Вытаращил глазищи.
— Вылечи, дед! Озолочу!
— К лечению ты пока не готов. Попостись, в церковь сходи. Покайся за содеянное. Через месячишко возвращайся.
— Издеваешься, гад?! — в последний раз взбрыкнул бедолага, после окончательно рассопливился. Пока Егор Серафимович провожал его до дверей, только и слышно было: — Помоги, отец! Вылечи! Падлой буду, озолочу!
Не спеша вытянув половину стакана рубинового густого кагора, Егор Серафимович включил телевизор, чтобы поглядеть семичасовые новости. Это было вредное занятие, вреднее, чем принимать рыночников на дому, но он к нему пристрастился, как к наркотику. И честно признавал, что его собственный дар, переданный по наследству, по сравнению с колдовской мощью поганого экрана был все равно что комариный писк против рычания турбореактивного двигателя. Год за годом на телевидении все меньше оставалось человеческих лиц, их постепенно вытеснили гримасничающие биороботы; все реже можно было услышать нормальную звуковую интонацию (без яда, без подковырки) и уж тем более слово правды, сказанное без подвоха, без тайного умысла; зато в калейдоскопе сюжетов, в мельтешне голого тела и льющейся потоками крови, в бесконечно красующихся, скалящих зубы молодчиках неопределенного пола и возраста, в умничающих политиках, в изуверской рекламе, подобной пыточному инструменту средневекового инквизитора, — во всем этом кошмарном водопаде, обрушивающемся на головы доверчивого зрителя, все явственнее проступали звериные черты вселенского Управителя. Зрелище завораживающее и поучительное, как черная месса. Сжавшись в кресле, открыв рот от восторга, Егор Серафимович следил за коварными, тонко просчитанными телодвижениями многоликого существа и все ждал, когда же с экрана прозвучит весть об окончательном торжестве лютого пришельца. Судя по многим приметам, ждать оставалось совсем недолго.
В этот раз ему не удалось насладиться новостями. В дверь позвонили, это его удивило. Он установил железное правило: никогда никого не принимал без предварительной телефонной договоренности. И в объявлении указал только номер телефона, без адреса. Это значительно облегчало жизнь. Нежелательных клиентов он выявлял в телефонном разговоре и безжалостно отсекал. Мог, разумеется, заявиться кто-нибудь из тех, кто бывал прежде, но в этом случае его ожидал неласковый прием. После ухода Дарьи Игнатовны, нарушив зарок, Ходженков вообще стал жесток к людям. Связано это было, в частности, с тем, что он утратил любопытство к ним, уже не ожидал от них ничего — ни хорошего, ни нового. Давно пришел к выводу, что это не слишком удачное, хотя по замыслу и вызывающее изумление творение Господне.
В «глазок» не смотрел, открыл — а там красивая девушка в строгом наряде — серый брючный костюм и кожаная сумка через плечо. Огненные волосы — или парик?
— Да? — сказал Егор Серафимович, спиной зябко прислушиваясь к бодрому, безунывному тенорку одного из главных сатанистов-реформаторов: уходя, включил телек погромче.
— Дедушка Архип? — лучезарно улыбнулась незваная визитерша.
— Он самый. А вы кто будете?
— Тина Зарубина, репортер. Можно войти?
— Зачем? Не надо входить. Я же тебя не звал, девушка.
Красота гостьи произвела на него впечатление, но старик злился оттого, что ускользал смысл новостей, доносящихся из телевизора.
Девушка переминалась с ноги на ногу — но не смутилась.
— Я звонила, дедушка Архип. Никто не ответил. Рискнула приехать без предупреждения. Простите, пожалуйста. Но если не возьму интервью, мне завтра дадут пинка под зад.
— Чего же так строго?
— Я с главным поцапалась. У него на меня зуб. Ему только повод нужен.
Сзади зазывно заквохтала реклама: прокладки, «Стиморол», «Снежная королева» — и прочая издевательская галиматья. Все, конец. Спортивные новости и погода старика не интересовали.
— Заходи, дитя, — пригласил по-доброму. — Винца вместе выпьем.
Пока вел ее в гостиную, вдохнул густой запах французских духов и птичьего молока — так всегда пахло от новорусских красавиц. Этот запах был их верной приметой, как пакетики с презервативами в сумочках.
— Садись, девочка, садись, милая, — от его хмурости не осталось следа. — Телевизор хочешь поглядеть?
— Дедушка, я же не за этим пришла.
— Ага, не за этим, — он выключил смрадный ящик с помощью пульта. — А я, грешный, люблю взглянуть одним глазком на богатую жизнь… Вот вино, милая, рыбки возьми кусочек…
Обласканная, девушка достала из сумочки сигареты — яркая пачка с соблазнительно изогнувшейся негритянкой.
— Закурить позволите?
— Позволю, почему нет. И я покурю за компанию. Они у тебя, видать, не простые?
— С травкой, — потупилась прелестница, — Очень легкие.
— О-о! — обрадовался Егор Серафимович. — Отродясь не пробовал, а всегда мечтал… Ну, рассказывай, какое интервью тебе надобно, тем более я никаких интервью никому не даю.
— Знаю, дедушка. Я много про вас знаю. Такая слава, что — ой-ой-ой. От страха помирала, пока к вам ехала.
— Веришь в это?
— Во что?
— В мою славу?
— Как не верить, дедушка, — щелкнула золотой зажигалкой, поднесла ему огонька и сама прикурила. — Вы же вон про травку сразу догадались.
— Про травку любой догадается, кто на тебя, стрекоза, внимательно посмотрит. Больше скажу, никакого интервью тебе не надо. Ай-яй, нехорошо врать старому колдуну.
В иссиня-черных глазах метнулась смешливая искорка, изящная рука протянулась за вином, разлитым в бокалы. Она нравилась старику. Может быть, такую гостью он давно поджидал. Из самого пекла.
— Как вы это делаете, дедушка? Обо всем узнаете. Вы, наверное, цыган? Хотя с виду не похожи.
— Об этом не думай. Все мы цыгане.
Таина выпила вино, облизнула полные губы. Не сводя с него ясного взгляда, порылась в сумочке и показала красную книжечку с черным ободком по краям.
— Что это?
— Удостоверение. Я ведь с телевидения.
Егор Серафимович с любопытством раскрыл ксиву: фотография, печать, фамилия — все на месте. Вот, значит, как выглядит пропуск, с каким они проникают, куда душа пожелает.
— Важный документ. С таким не пропадешь. Платют много за него?
Красавица усмехнулась.
— Дедушка, почему вы так разговариваете — стрекоза, платют, — как деревенский пенек? За дурочку меня принимаете?
— В деревне, девочка, не пеньки, люди живут. Но насчет лексики ты права — это профессиональное. Ежели колдун маленько мхом не порос, кто же ему поверит?
После еще одной рюмки атмосфера между ними сложилась совсем доверительная, и Егор Серафимович исподтишка с доброй усмешкой наблюдал, как негаданная гостья умело его подманивает. Чисто по-женски: коленки, пухлая грудка напоказ, невинная, простодушная улыбка — и прочие штучки. Это ему льстило: некоторые дамы, которые узнавали судьбу, по малому уму вовсе не видели в нем мужика, С такими он не любил общаться. А эта кокетничала напропалую. К тому же не приходилось напрягаться, чтобы понять ее суть: хищный, опасный зверек, даром, что молодка.
— Будущее трудно увидеть? — спросила она.
— Смотря чье. Твое — как на ладони. Хочешь, открою?
— Что вы, дедушка! — в деланном испуге замахала руками. — Упаси Бог! Разве можно туда заглядывать? Потом жить не захочется.
— Верно. Однако у будущего много дорог. Есть из чего выбирать.
Окутанные дымом травки они все больше сближались, как изредка случается между людьми. Это называется — соприкосновением душ. Егору Серафимовичу девушка теперь казалась кем-то из потерянных внучек или молодой женщиной, которую ласкал в незапамятные времена и давно позабыл ее облик, а она, оказывается, ничуть не состарилась. А уж кем он представлялся девушке — добрым старым колдуном или выжившим из ума прохиндеем — оставалось только гадать, но она тоже расслабилась, в глазах все реже вспыхивали хищные огоньки. Наверное, пришла за добычей, настраивалась на утомительную схватку и успокоилась, увидя, что совладать с жертвой не составит труда. Что уж по-настоящему умел Егор Серафимович, так это внушать сизокрылым голубкам чувство полной безопасности. Для этого и дар ему был не нужен.
— Чего же ты хочешь от меня, — спросил, когда бутылка кагора опустела и он подумывал о том, чтобы сходить к холодильнику за подкреплением. — Говори, Тиночка, как на исповеди. Твоя маленькая тайна здесь и умрет.
— Тайны никакой нету, дедушка Архип, — светло улыбнулась девица. — Хочу напроситься в ученицы.
— Чем платить будешь?
— Чем хотите. Хоть деньгами, хоть любовью.
Старик важно кивнул. Она предлагала хорошую сделку. Не то чтобы он тяготился своим одиночеством, но соблазнительно иметь под рукой шалунью, готовую в любой момент вонзить острые зубки в горло.
— Есть затруднение, — сказал он. — Ты ведьма и любую науку употребишь во зло. Грех-то ведь будет на мне.
— Никакого греха, — девушка облизнула губы, и Егор Серафимович помолодел лет на десять. — Ведовство — такой же бизнес, как любой другой. Разве не так?
Она думала, что уже заколдовала его, что он у нее на веревочке, осталось снять шкурку, а потом слопать, но она ошибалась.
— Как же работа? — поинтересовался он.
— О-о, это несерьезно. Там большой куш не сорвешь. То есть, можно сорвать, но для этого надо продаться с потрохами. Я не умею. Не хочу.
— Надеешься на большой куш?
— Да… С вами на пару.
— Посиди немного, детка, принесу выпить.
Ему было так грустно, как давно не бывало. Залетная, неоперившаяся ведьмочка была не первой, кому пришла в голову мысль прижимать богатеньких клиентов и облегчать их кошельки с помощью ведовства. Так делали почти все так называемые экстрасенсы на Москве и жили припеваючи, да и сам Егор Серафимович, честно говоря, занимался именно этим, но бедняжка не знала, какая бывает расплата. Она не знала об этом потому, что не доросла умишком и сердцем до человеческого состояния и теперь уж, наверное, не дорастет никогда. Сегодня те, кто грабил, и те, кого грабили, мало чем отличались друг от друга. Оттого и грустил старик, что видел, как Москва, а может, вся страна, за короткий срок превратилась в гигантскую помойку, где матери рожали уродцев, старались сделать их похожими на двуногих чистеньких, веселеньких обезьянок из американских сериалов, — и казалось, этому не будет конца. В безумном городском гноище иногда еще мелькали, вспыхивали кое-где чистые, пытливые детские глазенки, но какой-нибудь озорной прохожий мимоходом обязательно швырял в них грязью, чтобы полюбоваться, как потухнут никому не нужные светлячки.
С бутылкой коньяка Егор Серафимович вернулся в гостиную. Девушка сидела в той же позе, в какой ее оставил — чуть раздвинув ноги, остро выпятив грудь, — но он почувствовал, что, пока его не было, она заглянула во все углы.
— Карты, — сказала с обворожительной гримаской. — Я умею гадать. Вам понравится. Хотите прямо сейчас погадаю?
— Ничего не выйдет. — Старик разлил коньяк в те же рюмки, где на донышке чернело вино.
— Думаете, не получится?
— Ничего у нас не выйдет, девочка. Мне нечему тебя учить.
— Вы меня прогоняете?
— Конечно. Как же иначе?
Ее улыбка изменилась: она не поверила. Еще бы! Такие старые налимы, как он, вряд ли прежде срывались у нее с крючка. Репортерша.
— Дедушка Архип, скажите, чем я провинилась?
— Ничем не провинилась. Славно посидели, выпили. Спасибо, развлекла дедушку. Пора и честь знать.
Бесенок скакнул ей в очи.
— Боитесь меня?
— Не тебя. Твоего вранья. Ты вся скроена из вранья. Зачем мне лишние хлопоты?
Она поддержала серьезный тон.
— В чем же я соврала?
— Миленькая, да лучше вспомни, когда правду последний раз говорила. И знаешь ли ее про себя?
— Может, вы скажете? Откроете глаза?
— Что толку. Лучше выпьем на посошок — и ступай себе с Богом.
— Нет!
— Что — нет? Не хочешь выпить?
— Вы ничего не поняли, дедушка Архип. Вы плохой колдун.
— Я хороший колдун, — усмехнулся он одними глазами. — Но нам с тобой не нужно колдовства. Колдовства ищут слабые люди, а ты вон какая — как летящий шмель.
Таина поникла, будто в глубокой усталости, прошептала:
— Дедушка, они отняли у меня все, а вы лишаете надежды. Почему?
— Кто — они?
— У нас общий враг, вот чего вы не поняли.
Егор Серафимович ощутил, как у него засосало под ложечкой. Быстро ответил:
— У меня нет врагов, с чего ты взяла? Я старый человек, обхожусь без них.
— Неправда! — в ее глазах полыхнул победительный огонек. — Вы ненавидите их точно так же, как я. Они и вас ограбили.
— Заблуждаешься, Тина. У меня нечего грабить. Я всегда был нищим.
— Не кривите душой, маэстро. Они забрали у вас жену, детей и бессмертие. Этого мало?
— Ты немного сумасшедшая, да? — он чувствовал, что угодил в ловушку. Он недооценил гостью. Поразительно.
— Конечно, сумасшедшая, — ответила она с такой страстью, что у старика зарябило в глазах. — Как и вы. Как все, кто надеется, что чуму можно одолеть прививками.
— Чем же еще ее одолеть?
— Чуму выжигают встречным огнем.
Старик задумался, став на некоторое время совершенно беззащитным, каким был до обретения дара. После долгой паузы, которую девушка не нарушала, уважительно уста-вясь в рюмку, спросил:
— Видно, крепко тебе насолили?
— Не больше, чем тебе, дедушка Архип, — спокойно ответила Таина…
ГЛАВА 5
Поздний ребенок в интеллигентной семье, Боря по кличке «Интернет» до двадцати лет как сыр в масле катался. Балованное дитя. Кладезь ума и талантов. До двадцати лет, до третьего курса МФТИ — счастливое детство. Путешествие по жизни в прямом и переносном смысле. Без соприкосновения с ней. Опекуны, нянечки, врачи, репетиторы. Редкое желание маленького Бореньки оставалось невыполненным — разве что по недосмотру отца. Анапа, Евпатория, Минводы; позже, уже в школе, — весь мир на ладони: Анталия, Франция, Англия, наконец, Сейшельские острова. При таком раскладе из мальчика скорее всего мог выпестоваться какой-нибудь самовлюбленный невротик — на смену чикагским младореформаторам, но ничего подобного не случилось. Напротив, чем больше с Боренькой нянчились, тем глубже он погружался в свой собственный мир, как бы стыдясь своего привилегированного положения в обществе. Уже в институте, заполняя различные анкеты, в графе «родители» всегда вписывал скромное: «служащие» — и ни одному из товарищей не признался, что на самом деле его отец — известный банкир. Да что там банкир — олигарх! столп общества! кумир подрастающего поколения интеллектуалов! — знаменитый Венедикт Шувалов. Разумеется, шила в мешке не утаишь, как не спрячешь в карман, к примеру, бронированный джип с охраной, ежедневно доставляющий мальчика в институт и встречающий после занятий. Можно уговорить отца, чтобы телохранители пересели в «Жигули», но что это изменит? Очень рано юноша узнал, что такое заискивающая дружба сверстников и раболепная преданность девочек, готовых по движению его бровей посрывать с себя одежду. Узнал и цену немотивированной ненависти, когда вдруг ловил на себе испепеляющие взгляды вроде бы добрых приятелей, подобные кинжальным ударам. В аудитории рядом с ним всегда оказывалась парочка незанятых мест, а когда проходил по институтским коридорам, то у него иногда возникало ощущение, что за спиной, если резко оглянуться, каждый раз падает свинцовый занавес, отсекающий его от суматошной вузовской круговерти. Вероятно, изгоями можно считать не только тех, кого общество по каким-то смутным признакам отторгает от себя, но и тех, в ком оно видит, тоже инстинктивно, своих будущих пастухов. Кому-то подобная ноша тяжела, кому-то приятна, иной душу прозакладывает, чтобы очутиться в завидном положении наследственного фаворита; Боренька Шувалов относился ко всему философски и почти не обращал внимания на кипящие вокруг его персоны страсти. Природа наделила его действительно незаурядными способностями, собственного воображения ему вполне хватало, чтобы чувствовать себя независимым и счастливым. Ум и фантазия выше реальности, и то, чего мальчик был лишен, или, наоборот, что мог приобрести с помощью папиного влияния, лежало, как сказал бы Спиноза, вне сущности его бытия. Аура избранности, песнопение поклонниц и уколы завистников доставляли ему некоторые неудобства, но не больше тех, которые испытывает бедняк, озабоченный постоянным голодным урчанием желудка. Тем более, жить в России ему оставалось недолго. Совместными усилиями мать и отец уговорили мальчика для продолжения образования перебраться наконец в Англию, в один из престижных колледжей, поставлявших всему миру политиков и бизнесменов. Боренька долго упорствовал, ему нравилась Москва, его устраивала профессура и научный потенциал МФТИ, но он был не слепой и видел, в какую бездонную воронку затянули страну. Статус сырьевой колонии, где, вероятно, до конца света суждено теперь прозябать деградировавшему россиянскому населению, никак не предполагал наличие самостоятельной научной базы, иными словами, у человека, помышляющего о лаврах ученого, в этой несчастной стране не было никакой перспективы, — вот реальность, с которой приходилось считаться. Условились, что мальчик досидит последний семестр, а там…
Увы, человек, как известно, только предполагает… В одночасье переменились обстоятельства счастливой Боренькиной жизни. Его отца, шестидесятилетнего Венедикта Шувалова, великого комбинатора, сколотившего за несколько лет баснословное состояние неизвестно на чем, в один чудесный майский денек размазали по стенке из двух гранатометов вместе со всеми телохранителями и сопровождающей свитой, обвалив при этом угол старинного помпезного здания, в котором располагался центральный офис финансовой корпорации «Медиум и К.». Как всегда в таких случаях, злоумышленники благополучно скрылись с места преступления (их никто и не собирался ловить), но гнусное преступление взбудоражило российский бомонд. Оно казалось необъяснимым. Венечку Шувалова любили все, кто его знал. Он не лез в публичную политику, чурался пышных чествований, даже на экране телевизора появлялся нечасто: тихо-мирно ковал миллион за миллионом и слыл добрейшим из банкиров, покровителем сирот, искусств и животных. Вдобавок был известен тем, что инкогнито открыл несколько бесплатных столовых для вымирающих пенсионеров и первый в Москве шикарный «хоспис» на улице Ибрагима Кончаловского. Но вот же помешал кому-то. Пресса сперва, как водится, грешила на коммунистов, обуянных маниакальной идеей переделить награбленное, кроме них вряд ли у кого могла подняться рука на такого человека; демократы выступили с гневными обличениями, в который раз требуя выноса из мавзолея тела Ильича; бессменный лидер коммунистов выразил не менее гневный и убедительный протест, — и вскоре единственная версия убийства заглохла сама собой. Похоронили Шувалова на Новодевичьем кладбище, и половина Москвы провожала знаменитого банкира и спонсора в последний путь. Во избежание несанкционированных народных волнений в Москву передислоцировалась дивизия имени Дзержинского, телеграммами соболезнования, поступающими со всего мира, завалили прихожую в родовом особняке Шуваловых, а на роскошной могиле среди сотен поминальных венков выделялись скромные розы от россиянского президента и его заокеанского наставника Билла.
Несчастья, обрушившиеся на семью Шуваловых, на этом отнюдь не закончились. Не успели обсохнуть слезы на щеках безутешной вдовы Маргариты Тихоновны, как стало известно, что в Швейцарии арестованы банковские счета Венечки Шувалова, а еще через какой-то срок к ним на квартиру явились трое мужчин неопределенной внешности, с траурными ленточками в петлицах и с кожаным кейсом в руках одного из них. Маргариту Тихоновну попросили подписать несколько платежных документов и деликатно предупредили, что если она этого не сделает, то следующей жертвой безжалостных наемников может стать ее единственный сын и наследник уже призрачных капиталов — Боренька Шувалов. Через полчаса они покинули дом, получив необходимые подписи и выразив свое искреннее, глубокое соболезнование.
Ни им, ни другим мародерам мать Бореньки не пыталась оказать никакого сопротивления. Это было бесполезно. Она достаточно повертелась возле мужа в российском бизнесе, чтобы понять его глубинную суть. Ее муж был крупной фигурой, и наезд на него осуществляли по-крупному, по тактике «выжженной земли». Именно поэтому начали с устранения главного объекта. Если бы Венедикт был живой, тогда другое дело. На любой ход противника у него нашлось бы пять встречных, но без него всякая защита — пустой номер. И обратиться за помощью не к кому. Ближайшие соратники банкира, кому он особенно доверял, безусловно, были в доле с бандитами, иначе откуда бы взялись все эти купчии, переводные счета и хитроумные депозиты. Хорошо хоть ее гениальный муж предусмотрел самый плачевный ход событий и оставил небольшой капиталец в таком законспирированном виде, что к нему вряд ли кто-то сумеет подобраться.
В выходной день, сразу после сороковин, Маргарита Тихоновна пришла в спальню к сыну и объявила, что они разорены. В буквальном смысле, подчистую. Даже особняк, в котором они сейчас находятся, через полгода (срок аренды) придется освободить. Боренька был готов к печальному известию.
— Я догадывался, мамочка. Но ты не расстраивайся, беда-то небольшая. Пожили барами, поживем как все люди.
Мать смотрела на него с сочувственной улыбкой: он не понимал, о чем говорил, ему не с чем было сравнивать. А ей было. До своего богатства она добиралась издалека. Родилась в подмосковных Люберцах в бедной семье и хорошо знала, сколько стоит кусок хлеба с маслом, намазанный сверху черной икрой. Цена ему измеряется далеко не в рублях.
— Не так все плохо, сыночка. Кое-что у нас осталось. Сберег отец, Царство ему Небесное. Денег хватит, чтобы в Англии доучиться. Так что езжай спокойно, уж я тут одна как-нибудь перебедую.
Боренька поплотнее натянул пуховое одеяльце: телом был хиловат, зябок, но никаких гимнастик, никакого спорта не признавал, ничего не признавал, кроме силы человеческого ума.
— Нет, мама, никуда я не поеду. Чушь все это. Помнишь, бабушка говорила: где родился, там и пригодился. Я и раньше никуда не собирался. Отец настаивал.
— Вот и выполни его волю.
— Он не осудит, — улыбнулся Боренька нежной белозубой улыбкой. — Он поймет. Тебя одну оставлять нельзя. Ты же к жизни неприспособленная.
У Маргариты Тихоновны к глазам подступили слезы, казалось, все уже выплаканные за эти дни, но она их переборола.
— Как хочешь, тебе решать. Ты у нас теперь глава семьи, Борис Венедиктович.
Через три месяца они оставили роскошный особняк, сумев продать кое-что из обстановки, и переехали в двухкомнатную квартиру в Замоскворечье, оформленную на Бориса еще отцом, тоже с соблюдением строжайшей тайны.
В институте после смерти отца он почувствовал себя вольнее, отныне над ним не сияла аура будущего властителя жизни, он стал обыкновенным студентом, как все, разве что с блестящими способностями, что само по себе не мало, если этим умело распорядиться. Толпа прихлебателей растаяла, как летнее облачко, а те, кто раньше его ненавидел, дружески пожимали руку и угощали сигаретами. Девочки перестали активно трясти перед ним титьками, они теперь оценивали его исключительно по мужским достоинствам, а в этом смысле он не представлял собой ничего исключительного, хотя был не плох на вид — невысокий, худенький, стройный, с большими, темными, внимательными глазами и с хорошо подвешенным языком. Но — не герой, не певун и не извращенец. Мальчик не бросовый, в житейском ключе, возможно, даже перспективный (передалось же что-то от великого отца), но не такой, чтобы ложиться под него без всяких предварительных условий.
Как на грех, на ту пору приключилась с ним первая любовь, довольно унизительная. В ней был некий психологический изъян. Предмет любви девица Кэтрин (Катя Смирнова), вольная птаха, радостная, как тысяча мотыльков, и доступная, как бутылка пепси, сама его клеила целый семестр, энергично набивалась на близость, суля неслыханные авансы, но отпугивала застенчивого и, откровенно говоря, нераспечатанного юношу своей повышенной и общеизвестной сексуальностью, а когда он спохватился и готов был пасть перед ней на колени, оказалось, поздно — упорхнула пташка. Нет, девушка никуда не делась, училась с ним в одной группе, но после обрушившейся на него беды как-то перестала его замечать. Куда подевались милые ужимки, случайные, горячие прикосновения в тесных углах, бестолковые, волнующие нашептывания и записки, — теперь она смотрела на него будто сквозь окно и едва приподнимала пухленькую верхнюю губешку, здороваясь по утрам.
На него навалилось тяжелое любовное помешательство, чего и следовало ожидать, учитывая его столь долгое и необычное для нынешних молодых людей воздержание. Но он и не был современным продвинутым юношей, презирал сленг, на котором изъяснялись студенты, их фантастическая зацикленность на двух вещах — баксах и девках — внушала ему отвращение. Он был обыкновенным талантливым парнем, увлеченным наукой и по вечерам тайком сочинявшим музыку. Прежде такие встречались на каждом углу, сегодня стали редкостью и в компаниях ровесников воспринимались как шизанутые. И все же одно дело быть шизанутым наследником миллионера и совсем другое слыть чернокнижником, не имея гроша за душой. Первому прощалось все, любая несуразность характера лишь добавляла блеска в его невидимую корону, второй автоматически становился посмешищем, объектом постоянных и далеко не всегда безобидных шуток. Для девицы Кэтрин, воспитанной в рамках программы планирования семьи, почерпнувшей основные представления о жизни из видака и иллюстрированных журналов, он вообще выглядел допотопным монстром, кем-то вроде тех очумелых инвалидов, выклянчивающих милостыню в метро и, чтобы разжалобить прохожих, уныло позвякивающих наградными жестянками на груди. В ее американизированной головке расслоение произошло мгновенно и безболезненно: прежний смуглоликий красавчик с задумчивыми глазами, мечта утренних грез, сын крутого банкира-миллионщика, и нынешний желторотик в потрепанных джинсах, роняющий слюнки на бороду от томного вожделения, никак не совмещались в одной плоскости. И речи не могло быть о том, чтобы появиться на людях с парнем, который вместо того, чтобы, нарубив бабок и угостив как положено приглянувшуюся ему даму, затащить ее в тачку и насадить на шампур, шатается за ней с унылым видом, волоча на боку сумку, набитую учебниками и конспектами. Такое позорище в страшном сне не приснится. Но сердечко у Кэтрин было доброе, доставшееся от любящих матери с отцом, и когда Боренька в очередной раз достал ее своим нытьем («Кэт, ты меня избегаешь? Что ты делаешь сегодня вечером? Может, сходим в кино?»), дала ему дельный, чисто женский совет:
— Погляди на себя, в кого ты превратился, урод. От тебя же воняет портянками. Надо же следить за собой.
— Тебе не нравится, как я одет?
— Боренька, умоляю! Если тебе нужна девочка, запиши адресок. Деревня Расторгуево, сто километров от Москвы. Спросишь Матрену. Тебе любой покажет. Захвати бутылку спирта — и все будет тип-топ.
Побледнев, Боря спросил:
— Значит, не хочешь встречаться? Это правда?
Кэтрин изобразила сложную гамму чувств, которые накатывают на американских девушек, когда они узнают, что подцепили заразную болезнь от случайного партнера.
— Борька, ты чокнутый! Да я лучше пьяному водопроводчику дам.
После этого разговора любовные страдания Бореньки стали невыносимыми. Ее спелые груди, покачивающиеся бедра, затуманенные глаза — чарующий облик доступной молодой самки проступал со страниц любимых монографий, спускался в горячечные сны, мешал сосредоточиться на чем-либо путном. Он превратился в мокрого от похоти мышонка, но ничего поделать не мог. Чувствовал, что если не получит разрядки, то в один прекрасный момент взорвется, как перезрелый плод фаната. Сумрачная тяжелая истома, разлившаяся по жилам, придавала его лицу задумчивое, сосредоточенное выражение лунатика. Так жить дальше было невозможно.
Выручил Герка Слепой, с которым корешились с первого курса. Герку прозвали Слепым не в честь знаменитого героя криминальных романов, а потому, что фамилия у него была Семиглазов. Удрученный муками друга, он предложил напрямик:
— Чего маешься, Бориска? Давай с ней поговорю.
— О чем? — удивился страдалец. — Ты же видишь, я ей противен физиологически.
Не желая обидеть товарища, Герка подавил смешок. Он тоже не считал Интернета нормальным, но друзей, как говорится, не выбирают.
— Ты ей тугрики предлагал?
— О чем ты, Герасим?
— Извини, брат, ты, конечно, умнее меня, но иногда как ребенок. Она же платная, разве не знаешь?
— Что значит — платная?
— То и значит, что за деньги ложится, как и все. Тебе что надо — трахнуть ее или жениться?
— Не знаю, — сказал Борис.
— Сто баксов наскребешь? Или одолжить?
— Наскребу… По-моему, ты бредишь…
— Готовь бабки к вечеру.
Гер ка Слепой не страдал никакими комплексами, у него не было ни богатой родни, ни дядьки за океаном. Не сказать, чтобы он из-за этого убивался. Ему было все равно, где работать или учиться. В МФТИ он поступил по той простой причине, что его батяня, ныне полуспившийся, когда-то работал в оборонке и вел курс на кафедре механики: кое-какие связи сохранил в институте и с трудом, но протолкнул сына по заниженному тарифу. Когда Герка задумывался о смысле жизни, то приходил к мысли, что рожцен для счастья, как птица для полета. По натуре он был лентяй, каких свет не видел, и единственное, во что вкладывал всю душу, так это в ублажение многочисленных подружек, с коими всегда находил полное взаимопонимание. Внешность, возраст, социальный статус женщины для него не имели никакого значения, они все были как одна прекрасная незнакомка, обделенная судьбой, которая жаждет отдохновения в его неутомимых объятиях. К двадцати одному году он накопил такой опыт общения со слабым полом, на какой иному мужику, озабоченному житейскими хлопотами, не хватило бы трех жизней, но надо отдать ему должное, никогда не вытягивал из женщин деньги, хотя при его хватке мог бы уже, наверное, озолотиться. Особенно имея дело с пожилыми дамами, женами, матерями и любовницами новых русских, скучающими от материального переизбытка.
В перерыве между лекциями Герка отвел Кэтрин в курилку, на широкий подоконник между этажами, о чем-то с ней потолковал, размахивая руками и громко хохоча (Боренька наблюдал за ними сверху через перила), потом вернулся к другу и деловито доложил:
— Все, Бориска, она твоя. Сбил цену до полтинника. С тебя комиссионные.
— Что ты ей сказал? — Боренька покраснел.
— Все как есть. Влюблен, чешется, готов отстегнуть полтинник не глядя. Но не больше. Сперва уперлась: давай полтораста. Уломал кое-как. Откуда, говорю, у него сейчас деньги, когда они с маманей квартиру снимают.
— Врешь!
— Что — вру?
— Она не такая.
Герка курил, глядел сычом.
— Вру я или нет, сегодня как раз проверишь. У меня хата пустая, старики на даче. Вот ключ. Она придет к восьми. До полуночи управишься? В принципе я могу и на всю ночь слинять.
Щадя самолюбие приятеля, он скрыл от него правду. На самом деле Герка девицу элементарно припугнул. Это было несложно. Как и с большинством курочек на факультете, он переспал с ней пару раз и убедился, что она фригидная, как валенок. Какая девушка захочет про себя такой огласки. Он сказал Кэтрин: будешь издеваться над Бориской, вывешу дацзыбао. Пусть все знают, какая ты нимфоманка в кавычках. Чего тогда заработаешь? Красавица попробовала взбрыкнуть: «Негодяй, кто тебе поверит? А я скажу, что ты импотент». Герка ее вразумил: «Суть в том, дорогая, что мне совершенно неважно, что ты натрепешь блудливым язычком, а твоему маленькому бизнесу уж точно капут…» После некоторого раздумья Кэтрин изрекла: «Не знала, что ты такая сволочь, Слепой!» — «Я не сволочь, — возразил Герка. — Я за кореша переживаю. А сволочи те, кто протухший товарец выдают за свежачка».
Когда надо, он умел говорить с дамами резко, но всегда справедливо.
Боренька взял ключ и ушел на лекцию.
В начале восьмого он уже сидел в Теркиной квартире, приготовясь к нелегкому испытанию. Не совсем верил, что возлюбленная придет, но чувствовал себя так, будто ему предстояла полостная операция и, возможно, без наркоза.
В десять минут девятого раздался звонок в дверь.
Кэтрин явилась немного под балдой, то ли накуренная, то ли напитая, но Боренька не сразу заметил: лишний раз боялся глаза поднять.
— Где ванная? — спросила девушка строго и, не дождавшись ответа от сомлевшего отрока, гордо прошествовала куда хотела, плотно затворив за собой дверь. Вышла минут через двадцать — с распущенными влажными волосами, в Геркином халате, туго перепоясанном, но каким-то таким образом, что большие груди почти вываливались наружу. Боренька за это время собрал на стол немудреную закуску, поставил вино и (Господи, как он позже стыдился!) зажег свечи в красивых бронзовых подсвечниках. Кэтрин на стол взглянула мельком, требовательно распорядилась.
— Пойдем. У меня времени мало. Сорок минут.
— Куда пойдем? — опешил Боренька.
— В спальню, наверное… Или предпочитаешь в кресле? Кстати, у тебя есть презерватив?
— Нет.
— Ладно, воспользуемся моим… Пошли, чего ждешь, любовничек?
— Может быть, немного вина?
— Я на работе не пью, — с тем удалилась в спальню, на сей раз оставя дверь открытой.
Боренька выпил стакан красного вина, давясь и прихлебывая. Какой-то портвейн в узкой длинногорлой бутылке. До этого он пил спиртное раз или два в жизни, да и то шампанское. Вряд ли кто поверит, но это так. Вдобавок он не курил… Видение прыгающих в проеме халата коричневых сосков его почти ослепило. Больше всего он, конечно, боялся опозориться в самую неподходящую минуту. Он вообще сомневался в себе как в мужчине. Где-то читал, что многолетнее мастурбирование никого не доводит до добра. Зато в другой статье, кажется, в том же номере медицинского журнала, попавшего ему в руки, было сказано, что усиленные занятия онанизмом, напротив, способствуют оттоку крови из паховой области и повышают потенцию. Сейчас ему представился хороший случай проверить, кто из авторов прав.
— Эй! — насмешливо позвала Кэтрин. — Тебя долго ждать? Или ты напиться решил?
По-стариковски шаркая, Боренька приплелся в спальню. Кэтрин сидела на двуспальной кровати Теркиных родителей в позе «лотоса», совершенно голая, с распущенными по плечам смоляными прядями. Шторы опущены, и единственный в комнате голубоватый торшер окутывал ее призрачным светом, словно вытягивая из золотистой кожи ответные лучи. Ничего более прекрасного Боренька не видел в своей жизни и смотрел на нее, открыв рот. В висках началась бешеная пульсация. Будто издалека, откуда-то сверху он услышал собственный голос:
— Немного прохладно, нет, Кать?
Красавица возмущенно фыркнула:
— Тебя раздеть? Или сделаешь это сам?
— Раздеть? — переспросил он. — А зачем?
Видимо, что-то в его вопросе насторожило Кэтрин. Из позы «лотоса» она изящно переместилась в положение, знакомое ему по картине Гойи «Маха обнаженная».
— Боря, ты здоров?
— В каком смысле? — Боренька добрался до ближайшего стула и плюхнулся на него. В башке противно звенело, но на душе он почувствовал умиротворение. Позже, вспоминая этот вечер, он понял, что был в те минуты счастлив так, как никогда не бывал счастлив потом. До полного блаженства оставался один шаг, а это и есть счастье, другого не бывает.
— Ты зачем меня позвал?
— Я?
— Борька, перестань паясничать или я сейчас встану и набью тебе морду.
— Почему ты злишься, Кэт?
— Иди сюда, говорят тебе!
— Не хочу.
— Не хочешь меня?
— Так — не хочу. Лучше оденься. Удобнее будет разговаривать.
— Удобнее разговаривать? — Кэтрин свесила ноги с кровати и села, сверкнув коричневым лобком. Боренька едва слышно застонал, теряя последнее соображение.
— Ты сволочь, Борька, — произнесла она зловеще, — как и твой поганый дружок. Вы оба садисты, импотенты и сволочи.
— Герасим не импотент, — автоматически возразил Боренька. — Он классный мужик.
— Последний раз говорю: иди сюда!
— Я боюсь, — признался Боренька.
— Чего боишься, засранец?
— Вдруг тебе не понравится?
— Какая тебе разница, понравится или нет?
— Очень большая. Я же люблю тебя.
Несколько мгновений она разглядывала его с таким выражением, будто увидела паука.
— Это все?
— Еще я не хочу, чтобы ты делала это за деньги. Ты же не проститутка.
Очень медленно Кэтрин перетянула к себе халат, брошенный на спинку кровати, укуталась в него — и прошла мимо Бореньки с таким независимым видом, словно его и не было.
Следом за ней он переместился в гостиную, уселся за стол и выпил еще стакан вина. Кэтрин вернулась из ванной одетая — в чулках, в юбке и свитере, причесанная и с подкрашенными губами. Прилегла напротив.
— Скажи честно, денег не достал?
— Не в этом дело.
— Если хочешь, можно в кредит. Не зря же я ехала?
— Спасибо, не надо. Вот деньги, возьми, пожалуйста, — на его лице блуждала пьяненькая, мечтательная улыбка.
Кэтрин приняла стодолларовую купюру, но не спрятала сразу в сумочку. Что-то ее смущало, что-то смутно припомнилось из тех лет, когда травку не курила и водку не пила. Забавной была девчушкой, помешанной на вышивании. В технический вуз поперлась в надежде встретить суженого, в институте соотношение парней и девушек было пять к одной, и уж только пообтершись на московских тусовках наконец поняла, что семья — такой же предрассудок, как добродетель.
— Боря, в долг беру, ладно? Бабки нужны до зарезу.
— Возьми просто так, по-дружески, сделай одолжение.
Совсем ей стало смурно.
— Все-таки ты чокнутый, Борька. Тебе лечиться надо.
— Лекарств пока нет от моей болезни.
— Неужто СПИД?
— Ступай, Кэт. Сорок минут давно прошли.
— В принципе я могу остаться. Только позвоню кое-куда.
— Пожалуй, не стоит.
— Как хочешь, но деньги верну, честное слово.
Не ответил, глядел куда-то за ее спину, продолжая блаженно улыбаться…
На другой день, возвращаясь с занятий, Боренька наткнулся на знакомого парня из соседнего подъезда, с которым уже с полгода поддерживали видимость приятельства: раскланивались, обменивались парой-другой ничего не значащих фраз. Парня звали Санек и кличка у него была чудная — Маньяк. Эту породу молодых людей Боренька считал наполовину животными, старался обходить стороной, но в Москве их становилось все больше и практически невозможно было совсем уйти от контакта. Знакомство началось с того, что однажды Санек его крепко выручил. Они с матерью только что переехали в этот дом, никого здесь не знали — и местная шпана, естественно, решила выяснить, что за фрукт объявился на их территории. Верховодил на дворе некий коротышка лет пятнадцати по имени Жека. Он ходил в лужковской кепочке на льняных кудрях и почему-то всегда с гаечным ключом. Ближе к ночи вокруг него сбивалось десять — пятнадцать подростков разного пола, шарили по машинам на стоянках, кучковались в скверике, откуда пугали прохожих истошным ором и крепкой матершиной. Пили водку, передавая бутылку из рук в руки, короче, веселились, как умели. Авторитет Жеки распространялся на три соседних двора, где он пользовался почти неограниченным влиянием, даже распределял среди бомжей очередь к мусорным бакам. Взрослых шпана не трогала, исключая, разумеется, запоздалых пьянчужек, которых иной раз забивали до смерти. Трупы обыкновенно отволакивали на соседнюю территорию. Жека солидно растолковывал подрастающей рыночной смене: «Нельзя сорить, где живешь. Западло, пацаны».
Как раз они зацепили Бореньку, когда, сопя от усердия, среди ночи буксировали какого-то отяжелевшего фраера с проломленной башкой. Настроение у ребят было добродушное, в карманах бродяги надыбали около пятисот монет, да еще сняли часы «Сейка» с серебряным браслетом. Боренька засиделся в институтской библиотеке до закрытия, что часто с ним случалось, и спешил домой за полночь. Подходя к подъезду, услышал в кустах какое-то копошение, звуки ударов и хриплый, девичий матерок. Ему бы прибавить шагу, а он замешкался. Недооценил обстановку, полюбопытствовал. И тут же на свет вышла парочка: Жека в кепке и с гаечным ключом, и еще один, похожий на длинного, черного глиста. Следом насыпалось еще человек пять — мальчики и девочки. Диспозиция такая: пустой двор, рядом скверик, погашенные окна и единственный фонарь шагах в двадцати.
— А-а, это ты, студент, — узнал его Жека. — Чего по ночам шатаешься? Хорошие студенты давно бай-бай.
Не отвечая, Боренька хотел его обойти, но ребятня, умело сдвинувшись, заступила дорогу.
— Не спеши, студент, уже опоздал. Лучше подмогни-ка немного.
— Что там у вас?
— Да видишь, ханыга один споткнулся, упал, разбил головку. Жалко человека. Надо проводить. Или ты без сочувствия?
Боренька испугался до рези в желудке, сообразив, что отал невольным свидетелем грабежа. Теперь его хотели повязать трупаком.
— Сами разбирайтесь, — буркнул глухо. — Я в ваши дела не лезу.
— Ах, не лезешь? — удивился Жека. — Девочки-малолетки надрываются, тащут пьяную тушу, тебе наплевать? И не стыдно, студент?
Одна из девочек-малолеток повисла у него на руке, подпрыгнула и больно укусила за ухо. Остальные плотно окружили — и подталкивали в кусты. Действовали ребятишки, как слаженный механизм, и хотя все они были намного моложе его, но крепенькие, накачанные. Он это сразу почувствовал, когда попытался рвануть. Получил болезненный удар по коленке (похоже, железкой) и перестал брыкаться. Подумал: все, кранты, влип. Про этих детишек он был наслышан, такие стайки в каждом дворе живут — опасные, как осиный рой. Уложат рядом с ограбленным — и точка. Драться Боренька не умел и принципиально осуждал насилие. В кустах действительно его ловко повалили на землю и начали потихоньку пинать и пощипывать, заведя какой-то ритуальный хоровод. Девочки возбужденно повизгивали, мальчики деловито покряхтывали, хвалясь друг перед дружкой точностью ударов: по почкам его, по почкам! А в печень не хошь! А по зубам разок, чтобы не вертелся! Бореньку удручала не столько боль и собственное бессилие, сколько какая-то зловещая бессмысленность избиения. Ну что это за пещерное развлечение в конце двадцатого века?
Кодла постепенно входила в раж, кто-то уже, смеясь, предложил воткнуть в студента пику, и неизвестно, чем бы закончилась забава, если бы во двор из арки не скользнула легковуха и на мгновение не высветила мистическую сцену прицельным светом фар. Пацанва на миг оцепенела — и бесшумно рассыпалась по кустам. И что поразительно — утянула за собой изувеченного пьяницу, волоком, как мешок с опилками. В машине заглох движок, хлопнула дверца — и к Бореньке приблизился высокий (или так казалось снизу) парень. Лица Боренька не видел, а это и был Санек.
— Вставай, — сказал он добродушно. — За что тебя так? — и тут же узнал. — А, новенький, из пятого подъезда?
Помог подняться, заботливо отряхнул костюмчик. Выше Бореньки был головы на три. Повторил:
— За что они тебя? Денег просили?
— Вроде нет, — от потрясения, смешанного со стыдом, Боренька еле ворочал языком. — Ни с того ни с сего налетели, как собаки.
— Чего же ты хочешь? Молодняк. Ума нет, зато дури полно, — и вдруг гаркнул в темноту: — Жека! А ну, двигай сюда!
В ту же секунду из кустов нарисовался коротышка с гаечным ключом. Но держался на расстоянии.
— Звали, Сан Иваныч?
— Подойди ближе.
Жека неохотно переступил на шаг вперед — и схлопотал мощный удар в грудь, зашатался, выронил ключ, но на ногах устоял.
— За что, Сан Иваныч?
— Еще раз его тронете, в землю вколочу, — миролюбиво пообещал Санек. — Беспределыцики хреновы. Вам что, других мест мало? Или не предупреждал?
— Откуда я знал, — гнусаво прогудел Жека. — На нем таблички нету. Студент и студент. Поразмялись маленько. Живой же.
— Брысь отсюда, сявка! — распорядился Санек — и Жеку как ветром сдуло, еле успел ключ поднять.
Вот так познакомились, хотя Боренька, как ни ломал себе голову, не мог понять, по какой причине Санек взял его под свое покровительство. И чего потребует взамен, каких услуг.
В этот раз Санек явно его поджидал, курил на скамейке напротив подъезда. Он присел рядом. Санек предложил ему сигарету, и Боренька, как всегда, отказался.
— «Без баб, без курева, житья культурного», — процитировал Санек.
— Именно, — улыбнулся Боренька, чувствуя себя, тоже как обычно, не в своей тарелке. Исподтишка разглядывал Санька, его чистое, грубо сработанное лицо с мощными надбровьями и крупным ртом, и не находил в нем ничего порочного. Нипочем не скажешь, что бандит. Красивый парень. Рядом с ним Боренька казался себе невзрачным, невзрослым.
— Слышь, Интернет, ты, говорят, в компьютерах сечешь?
— Есть маленько, а что?
— Не скромничай. Не зря ведь прозвали.
Борису хотелось спросить, откуда Санек узнал про кличку, но не сделал этого. В разговорах с опасным соседом он вообще избегал задавать вопросы.
— Прозвали… — ответил туманно. — Я больше в теории, чем на практике.
— Не темни, Борь… Ты на каком курсе?
— На пятом.
— Круглый отличник?
— По-всякому бывает, — Борис старался держаться на равных, но это ему плохо удавалось. Ловил себя на том, что, небрежно цедя слова, все равно как бы заискивал. Они, вероятно, ровесники, но невольно складывалась ситуация, что он младший и немного дураковатый, а Санек старший, точно знающий, что к чему в любом вопросе. Санек подавлял его своим тайным превосходством, не предпринимая при этом никаких усилий. В чем же заключалось превосходство? Да в очень простой вещи. Он мог вызвать Жеку из кустов и без всяких околичностей врезать гаду по ушам. Только и всего. Пустяк, конечно. Но за этим пустяком целые миры: его, Борискин, интеллигентный, книжный, и мир Санька — со скрежетом ломаемых костей, с дурными башлями, с горьковатым запахом крови и спермы. Мир мужской и реальный и мир, слепленный из виртуальных фрагментов, осточертевший Бореньке до тошноты.
— Я к чему веду-то, Борь. Тут одна дамочка желает с тобой потолковать.
Боренька насторожился, представив себе почему-то голую Кэтрин.
— Что за дамочка?
— Телка в отпаде, но не по нашим зубам.
— Чего ей надо?
Санек учтиво раскланялся с каким-то пожилым дядькой, вышедшим из подъезда. Дядька рябой и прилично одетый.
— Тут такое дело, Борь, я ведь временно в бегах. Пасет кое-кто. Светиться в городе не могу. Дам телефончик, позвонишь ей вечерком, лады? Она сама скажет, чего ей надо.
Телефон, записанный на бумажке, Боренька взял. Помешкал немного.
— Сань, не обижайся, но я к вашему бизнесу касательства не имею. Никаких данных. Я же, во-первых, трус. А во-вторых…
— Все мы трусы, — успокоил его Санек. — Пока зеленью не запахнет. Верно, а?
— Верно, конечно… Ее как зовут?
— Таина… Попросту Тайка или Инка.
— И чего ей сказать?
— Скажи, что от меня… Ну я потопал, ладно? Торчу тут уже битый час. Опасно, Борь…
ГЛАВА 6
У Клима под гипсом нога чесалась так, словно туда забрался целый муравейник. Дора Викторовна, костоправ, просверлила в гипсе дырки, чтобы кожа дышала, но это мало помогло. Клим терпел три дня и три ночи, не спал, ел без аппетита, приставал к медсестрам, чтобы сгоняли за водярой, но девушки только отшучивались. На четвертый день объявил Доре Викторовне ультиматум. На утреннем обходе.
— Я молчаливый герой, Дора Викторовна, но терпение на исходе. Или снимайте гипс, или выписывайте.
Его поддержал Иван Иванович с дальней койки:
— Действительно, доктор, мучается паренек, по ночам ревет, как бык в стойле.
— Страшно, да, — подтвердил хачик Зундам. — Как волк в ущелье. Мы сочувствуем. Вдруг помрет.
— Чего не надо, не говори, — упрекнул хачика Клим. — Почему я должен помирать? Выпишусь к чертовой матери — на воле полегчает.
— Нет, брат, — возразил Зундам. — Выписываться нельзя без разрешения. Надо лечиться.
Горец-сиротка вторую неделю пребывал в восторженном состоянии: ходить он по-прежнему не мог, для малых и больших дел пользовался судном, но Клим раздобыл ему старый пластмассовый костыль с короткой рукояткой в виде ракушки. Костыль замыкал одну из дверей в подвале, оттуда Клим его и выдернул. Получив подарок, Зундам пришел в неописуемое волнение. Он рассуждал так: если есть один костыль, вскоре обязательно объявится второй. В этой мысли его поддерживала вся палата, и особенно слесарь Зиновий, мужик с переломанной рукой. Руку он сломал, когда с похмелья полез в домашний погреб за рассолом. Все свои суждения Зиновий высказывал в виде коротких притч. К примеру, он так утешал Зундама: «Ты, земеля, при одном костыле все равно что пахарь без плуга. Вот со мной в прошлом году похожий случай был. Пошел я по грибы, прямо скажу, с сильного бодуна. И грех попутал, наклал в корзину преимущественно поганок. Ну то исть, что бросалось в глаза, то и клал. Принес домой, а баба моя сослепу все грибы и уварила в котле. При этом картошки нажарила. Славно с ней закусили, похмелились, конечно, бабу мою к вечеру в больницу свезли, а мне — хоть бы хны. Понял, земеля, к чему я это рассказал?»
Последний вопрос Зиновий непременно задавал каждому собеседнику, потому что привык к тому, что мало кто улавливал смысл его присказок. В тот раз только Иван Иванович, профессор с переломом шейки бедра, хмуро поинтересовался:
— И что же, померла ваша супруга, Зиновий?
— Почему померла? — засмеялся слесарь. — Натуральную бабу грибами не убьешь. И надеяться нечего. К примеру…
Дора Викторовна на ультиматум Клима не ответила, не хотела дискутировать в палате, попросила зайти через час в ординаторскую. Когда ушла, Зундам приподнялся на локтях (у него это ловко получалось, как у гимнаста), с жаром заговорил:
— Чего делаешь, Клим? Зачем нарываешься? Возьмут и выпишут. Нога сломана, глаз худой — куда пойдешь? Кто кормить будет?
— Много ты понимаешь, — подмигнул Клим. — Захотела бы, давно выписала. Чего меня держать? Вон в коридоре десять человек покалеченных, некуда класть. И каждую ночь новеньких подвозят.
— Я тебя прошу, как брата, — сказал Зундам, — не обижай Дору Викторовну. Она хорошая. Второй костыль обещала дать. Телеграмму послала мне в аул. Нельзя на нее кричать.
— У вас в ауле почта есть? — поинтересовался Клим.
— У нас все есть. Приедешь в гости, увидишь, как живем, с ума сойдешь. Получше вашего.
— Зачем же в Москву приперся?
Когда Клим об этом спрашивал (в десятый раз), горец смущенно отводил глаза.
— Ошибку сделал. Шайтан попутал.
— Ага, шайтан. Думал, тут бабки на улице валяются? Травкой думал торгануть?
Зундам испуганно оглянулся на Ивана Ивановича, читающего газету «Московский комсомолец» (других в больницу не приносили).
— Не надо так, Клим. Думаешь, мы дикари, только травкой торгуем?
— Да шучу, не обижайся.
Он действительно не хотел задеть самолюбие простодушного абрека, привык к нему. Как и к остальным соседям по палате. Клим вообще легко сходился с людьми, но это ничего не значило. Он так же быстро с ними расставался, не помня ни зла, ни добра.
Дора Викторовна была в ординаторской одна. Клим, гремя костылями, вошел, развалился на стуле. Трагически произнес:
— Знаю, что вас смущает, дорогая Дора Викторовна.
— О чем вы, Клим? — пожилая женщина смотрела на него со странным, растерянным выражением, появлявшимся у нее, когда они разговаривали наедине.
— Разница в возрасте.
— Что — разница в возрасте?
— Разница в возрасте не бывает помехой в любви. Как и инвалидность.
— Клим, или ты издеваешься надо мной, или тебе надо показаться психиатру.
Клим выдержал ее разгневанный взгляд. Седая, темноволосая, с худеньким торсом, с крепкими ногами — жен-цщна-врач-костоправ… Он не хитрил, он по ней с ума сходил, который день только о ней думал. Блажь, конечно, пройдет скоро, но Клим давным-давно пришел к мысли, что все хорошее случается с человеком именно тогда, когда на него накатывает блажь.
— Вы замужем, Дора Викторовна?
— Зачем тебе знать?
— У вас нет мужа. Но вы боитесь.
— Чего боюсь?
— Многого. Что люди подумают. Что сама о себе подумаете. Боитесь быть смешной. А ведь все так просто, Дора. Я мужчина, хотя временно на костылях. Вы женщина, хотя и в белом халате. Вон удобная кушетка. Запрем дверь и посмотрим, что из этого получится. Слабо, Дора Викторовна?
Дора Викторовна закурила.
— Глупый, самоуверенный мальчик, ты, наверное, кажешься себе героем… А у меня сын постарше тебя.
— Я же не в сыновья набиваюсь.
— Откуда вы только такие народились?
— Если вы обо мне, то я московский озорной гуляка. Что на уме, то на языке. Никаких хитростей.
— Вот тебе ноги и переломали за твой язык.
— Нет, не за язык. Совсем другая история. Чисто мужская. Женщины сюда не замешаны.
— Хочешь выписаться?
— Не знаю… Тошно как-то.
— Завтра сделаем рентген, посмотрим, как срослось.
— Вы сегодня дежурите?
— Да, а что?
— Спите здесь, в ординаторской?
— Прекрати, дурачок.
— Или — или, — сказал Клим. — Или сегодня, или никогда.
В ее глазах возникло выражение, которое его завораживало: словно все кости, какие она вправила за свою жизнь, встали перед ней непреодолимым частоколом. Тьма египетская. Во всем ее облике было что-то безумно дразнящее. Из-за нее он рисковал башкой — это чистая правда. По-хорошему ему давно пора слинять, в больнице опасно.
В тяжком раздумье побрел к себе в палату. Санек не наведывался уже неделю, глубоко залег, на связи оставил Галку, но и она куда-то пропала. Что это значит? Повязали ее? Санек отбил большие бабки, такую сумму ему не простят. И скрываться долго не имеет смысла. Всю жизнь в ухо-роне не просидишь. Ситуация, конечно, хреновая. Как ни крути, получается маленькая война. И в ней они с Саней вдвоем против всех. Какая-то безысходность, а помирать неохота. Когда-нибудь все равно придется, но лучше не сегодня. Столько хороших дел не переделано, взять хотя бы Дору Викторовну.
Приближаясь к палате, как сердце вещало, наткнулся на незнакомого парнишку с испитым, искуренным лицом. Климу одного взгляда хватило, чтобы догадаться — вот он, гонец.
— Вы Клим Стрелок? — обратился к нему паренек, отвалясь от стены и затравленно косясь по сторонам. Шестерки всегда боятся собственной тени.
— Ну? — сказал Клим.
— Может, отойдем? Потолковать надо.
Клим молча развернулся и, стуча костылями, повел гостя на лестничный переход, в курилку возле телефонного автомата. Сейчас здесь никого не было — время процедур и обходов.
— Ну? — хмуро повторил Клим, устроившись на подоконнике.
— Дело такое… Один человек разыскивает Саню Маньяка. Но его нигде нету.
— И чего?
— Этот человек надеется, вы поможете.
— Что за человек?
— Давайте без имен, — паренек закурил, ручонки тонкие и дрожат. Видно, с утра не хватило на дозу.
— Передай этому человеку, — сказал Клим, — что Маньяк мне больше не друг.
— Не друг?
— Скурвился он. Будь я на ходу, сам бы его придавил. А ты случайно не химичишь?
— Как это?
— Тебя не Маньяк прислал, чтобы вынюхивать? В таком раз'е передай ему, за Стрелком не заржавеет. Выйду отсюда, по всем кочкам разнесу.
Паренек переминался с ноги на ногу, сипло, по-стариковски затягивал.
— Мое дело маленькое… Просили передать, если назовешь адрес, оставят в покое. Понятно, да? Иначе не отвяжутся.
— Ты давно в кодле?
— Я всегда в ней, — гордо ответил гонец.
— Тогда послушай моего совета. Никогда не задирай ногу выше головы.
Паренек отшатнулся, увидя, как удобно Клим перехватил костыль.
— Не надо, Стрелок. Я на рожон не лезу. Передал — и все.
— Ну и катись отсюда, пока цел, придурок!
— Это ваш ответ?
— Это мой ответ.
— Тогда скорейшего выздоровления.
Клим не успел зацепить его костылем, паренек запрыгал по ступенькам, как резиновый шарик.
Перед обедом Клим выпросил у дежурной сеструхи укол анальгина и до четырех покемарил. Потом, как обычно, пошел бродить по коридорам, где на раскладушках лежали раненые. В большинстве те, кого привозили ночью с московских улиц, наскоро штопали в хирургии — и сваливали куда попало. Участь у них незавидная. Иногда о них забывали, особенно о тех, кто без сознания, и они отбывали на тот свет, не успев никому рассказать, что с ними приключилось и кто они такие. Графа — неопознанные трупы. Обнаружив в коридоре покойника, санитары спускали его на цокольный этаж, на промежуточную стоянку. За сутки там иногда накапливалось до десятка трупов, сваленных как попало (мужчин-санитаров не хватало в больнице). Клим иногда из любопытства, как и прочие постояльцы, спускался туда покурить и однажды обнаружил среди усопших вполне живого братка с отрезанными ушами, сообщил о нем медсестре, а потом из чисто гуманных соображений помог транспортировать бедолагу обратно на этаж, на раскладушку. Утром зашел навестить, но того отправили в морг.
…Гуляя, наткнулся на Дору Викторовну, с мученическим видом поинтересовался, готова ли она к ночному свиданию, и, неловко повернувшись, выронил из-под полы чугунную трубку, расщепленную с двух сторон. Грозное оружие, принесенное Саньком в одно из посещений. Клим умел с ним управляться, но практически бесполезное, если человек на костылях. В том-то и вся штука, что у Клима не было маневра. Сопротивляться он мог только на ограниченном пространстве, как мушка с оторванными лапками.
— Что это у вас, Клим? — удивилась докторша. — Какой-то инструмент?
— Не совсем так, — солидно ответил Клим, подняв тяжелую игрушку. — Скорее кистевой эспандер. Для упражнений. Чтобы не залеживаться. Если парень вроде меня залежится, он ведь ни на что хорошее не годен, Дора Викторовна.
— А-а, — не очень заинтересованно протянула она и двинулась дальше, но Клим ухватил ее за рукав шелестящего халата.
— Минуточку, доктор!
— Только, пожалуйста, без глупостей, Клим.
Ох, так ему нравилось, как она произносила его имя! Не фамилию, не кличку — имя.
— Вы не могли бы перевести меня в другую палату?
_?
— Старики храпят, как ненормальные, турок во сне костыли у кого-то выклянчивает. Я не сплю три ночи.
— Вы же видите, что творится, — Дора Викторовна повела глазами на раскладушки с обычной своей укоризненной усмешкой, выглядевшей как укор всем мужчинам за их человеческую несостоятельность.
— Но я-то в палате лежу, — сказал Клим. — Могу с кем-нибудь поменяться. Шило на мыло.
— После рентгена.
— Что — после рентгена?
— Завтра все решим. Сегодня уж потерпите.
— Понял. Еще маленький вопрос. Почему вы ко мне обращаетесь то на «ты», то на «вы»?
Задумчиво склонила голову набок. Клим любил ее за то, что она седая, с крепкими, стройными ногами, ломит мужскую работу, и еще за то, что каждое слово принимает всерьез.
…Пришли они после одиннадцати: белобрысый Толян и двое качков. Особенно не понравился Климу коротышка с золотой серьгой в ухе: глаза вытаращенные, пустые, как два перископа. Натуральный отморозок. Сам Толян вел себя культурно, присел на краешек кровати, похлопал Клима по гипсовой чушке.
— Давай по-быстрому, Стрелок. Ты — нам, мы — тебе, и расходимся по-доброму. Или хочешь свое получить?
— Свое я уже вроде получил, — буркнул Клим.
— Что ты, — оскалился Толян. — Нога и глаз — это семечки. Погляди на моих ребяток, погляди.
— Что же я козлов не видел, что ли?
— Настоящие профи, Стрелок. За пять минут сделают из тебя котлету, никакой доктор после не склеит. Тебе это надо?
— Мне вообще ничего от вас не надо. Мое дело — сторона.
— Правильно, — Толян придвинулся ближе. — Ну, давай рассудим. Ты же понимаешь, твой кореш накрылся. По любому раскладу. У Маньяка давно крыша поехала, ему не отвертеться. А ты сам выбирай, жить или подохнуть. Можешь еще вполне пожить. Покажи ему фотку, Сеня.
Спутник Толяна, не коротышка, а битюг под два метра ростом с наивным личиком олигофрена, сунул Климу под нос фотографию. На слайде — какой-то подвал и подвешенная на железном крюке за одну ноту голая Галка Скокина, сожительница Санька. Лица не видно, залито кровью, просто по некоторым признакам Клим догадался, что это Галка висит.
— Впечатляет, да? — спросил Толян. — Тоже упиралась, и видишь, что вышло.
— Ну и напрасно, — сказал Клим. — Откуда она знает, где Санек?
— Может быть. Но ты-то уж точно знаешь, верно?
Профессрр Иван Иванович к этому времени, напившись элениума, цидел третьи сны, а слесарь Зиновий и турок Зундам не спали, но лежали тихо, будто их и не было в палате. Так бы им и лежать, но Зиновий, будучи человеком справедливым, не выдержал, прогудел из-под одеяла:
— Чего, в самом деле, хулиганите, ребята? Можно ведь и милицию шумнуть.
— Шумни, отец, шумни, — засмеялся Толян и сделал знак коротышке. Тот подошел к кровати слесаря и сверху пару раз опустил ему на лоб здоровенный кулачище, будто два гвоздя вбил. Потом, балуясь, ухватил за сломанную руку и резко рванул на себя. Рука отвратительно хрустнула, и Зиновий наполовину свесился с кровати, но был уже в отключке.
— Рожай, Стрелок, рожай, — поторопил Толян. — Нам тут некогда рассиживаться. Апельсины в другой раз принесем. Адрес — и точка. Куда он зарылся с бабками?
— Скажу, все равно грохнете. Вон с тобой какие псы. Удержу нет.
— Правильно рассуждаешь… Гарантий дать не могу, кроме честного слова бизнесмена. Но все-таки шанс.
— Со Столяром у тебя какие отношения?
— Нормальные, а что?
— Похлопочешь, чтобы в вашу банду перейти? Свои меня вряд ли поймут.
— Блядью буду, — искренне пообещал Толян.
— Достань там в тумбочке, записная книжка…
Толян открыл дверцу, доверчиво нагнулся — и тут Клим, вытянув из-под подушки чугунную трубку, ошарашил его по затылку. Еще успел сбоку рубануть по коленкам коротышку. Хорошего замаха не получилось, но нацелил точно: коротышка завопил благим матом и волчком завертелся по палате.
— Ах ты, поганка! — в тон коротышке заревел битюг Сеня — и ботинком врезал в грудь Климу с такой силой, что у того дыхание заклинило. Потом приподнял за плечи и швырнул на кровать, спиной о стену. Клим трубку не выронил: спокойно ждал развития событий. Однако битюг не кинулся на него вслепую, на что он надеялся, обернулся к коротышке.
— Ты как, Паша?
— Ничего, терпимо… Будем мочить? — с безумной гримасой в пустых глазах коротышка толкнул «раскладухой» — выскочило длинное, узкое лезвие.
— Надо бы это… — замешкался битюг. Понятно, что он имел в виду. Надо посоветоваться с Толяном, а тот лежал в отключке.
Впоследствии Клим больше всего удивлялся поведению турка. Зундама никто не принимал во внимание, и даже Клим не заметил, как он дотянулся до любимого костыля.
В те роковые минуты, которые стоили Зундаму жизни, он проявил себя безупречным бойцом. Когда битюг опустился на корточки, чтобы посмотреть, в каком состоянии главарь, Зундам, по-кошачьи привскочив, махнул ему по роже гипсовым набалдашником.
Битюг схватился за щеку, из-под пальцев брызнула кровь, а турок издал победный вопль, что-то вроде утиного клича: «Уа-уа-уа!»
Коротышка первым опомнился, обогнул, прихрамывая, кровать и ударил Зундама ножом в грудь, держа его обеими руками. И продолжал, как заведенный, поднимать и опускать нож, словно рубил лунку во льду. При каждом проколе турок выгибался дугой и ликующе вскрикивал все то же — уа-уа-уа!
— Остынь, мразь, — вмешался Клим. — Он уже мертвый.
Встретился взглядом с пустыми глазницами и увидел в них жуткую радость.
— Теперь твоя очередь… Дождался, сучонок.
Вдвоем с окровавленным приятелем они подступили к кровати, но нападать не решались. У Клима получилась удобная позиция. Он сидел спиной к стене и вертел в пальцах чугунную трубку.
— Подумайте, козлы, — предупредил. — Если убьете, кто скажет, где Маньяк? Толян обидится.
— Да, может, он помер, — усомнился битюг.
— Смешные вы ребята, — сказал Клим. — Чушки нажрали, а ума нету. Проверьте, дыхалка у него работает или как.
Немного времени он отыграл, но коротышка, возбужденный расправой над турком, не утерпел, молча кинулся на него, целя ножом в горло. Трубкой Клим выбил у него нож, размозжив пальцы. И тут же всей тушей навалился стопудовый Сеня-битюг и сразу начал душить. Клим колотил трубкой по бугристой спине — никакого толку. Косорукая близко глянула в очи. Обмирая от нехватки воздуха, увидел, как открылась дверь и вбежала медсестра и еще какие-то люди в белых халатах…
ГЛАВА 7
Октябрь подкатил, похолодало. На ночь Саня Голубев раскочегаривал печку, тепло стояло до утра. Ему сладко спалось в садовой избушке, как прежде нигде не спалось. Пока не начались дожди, бродил по лесам, собирал грибы и ягоды, часами сидел с удочкой на озере. Заново обретал тихую радость первобытного бытия. Время летело незаметно, сыпалось, как песок, сквозь пальцы. В Москву наведывался раз или два в неделю, но к себе на квартиру больше не заглядывал. После того, как исчезла Галка и наехали в больнице на Клима, это было равносильно самоубийству. Он чувствовал, что круг почти замкнулся, но ни о чем не жалел. Как вся братва, Санек не умел заглядывать в будущее, а в прошлом есть что вспомнить. Пожил хорошо, нечего Бога гневить. Деньги, девки, любовь, красивые вещи, жратвы и питья навалом — все было. Так о чем жалеть?
Своих родителей, благо, что оба, и отец и мать, безработные, переправил в Вязьму, к материной сестре. Связь теперь поддерживал только с Таиной. Причем отношения у них складывались любопытные.
Она водила его на длинном поводке, и ему это было приятно. Санек впервые узнал, что такое непререкаемая женская власть. Таина так и сказала: будешь моим рабом — выручу. Не хочешь — подыхай. Он ей поверил. Смешные, нелепые слова в ее устах звучали убедительно. В ее повадке, в манерах, в мерцании глаз таилась неведомая сила, перед которой он пасовал. Она умела повелевать покруче иного пахана — о, да! Санек подозревал, что у нее сдвиг по фазе, но в чем заключалось ее сумасшествие, догадаться не мог. Рассуждала девица вполне здраво. Санек согласился работать на нее вслепую, толком не выяснив, чего она хочет. Торговать зельем? потрошить ларьки? взорвать город? — ничему бы не удивился. Таина расспрашивала о его знакомых пацанах, о Протезисте, но никем не заинтересовалась. Зато когда упомянул Борьку Интернета, так, для смеха, дескать, бывают же у капиталистов приколы, проявила непонятное любопытство и попросила свести ее с ним. Из чего Санек сделал вывод, что она преследует какую-то определенную цель. На вопрос: «Зачем тебе этот дохляк?» получил презрительный ответ: «Почаще смотри на себя в зеркало, супермен».
Он побывал в больнице на другой день после того, как едва не укокошили Клима, поглядел на кореша через стеклянную дверь в реанимации, потом в расстроенных чувствах позвонил Тайне. Коротко изложил суть дела, пробурчал: «Помоги, если можешь, Тая. Отработаю…» Она спросила: «В какой больнице?» — и Санек мгновенно успокоился, почувствовав, что жизнь друга в надежных девичьих руках.
Утром отправился в деревню, чтобы сделать контрольный звонок. Его фирменная мобильная трубка почему-то не доставала до Москвы, накануне он в раздражении расколотил ее о пенек, что удалось ему только с третьей попытки. Из бывшего сельсовета, где теперь находился коммерческий магазин деревенского предпринимателя Жоржа Сундукова, приходилось звонить по телефонной карточке — пятьдесят деревянных за звонок. Это было не столько накладно, сколько обидно. Жорж Сундуков, здоровенный малый с простецкой рожей наемного убийцы, завидя Санька в дверях, кинулся к нему с распростертыми объятиями. Жорж Сундуков, пока сколачивал первоначальный каптал, повидал большой свет и деловых узнавал по походке. Саньку благоволил с первого дня, хотя тот не давал никакого повода для сближения. На постоянные приглашения «раздавить по банке», мотивированные тем, что их на всю округу лишь двое культурных парней, отвечал неизменным отказом. Его злило, что Жорж Сундуков, набиваясь в друганы, ни разу не предложил хотя бы позвонить на халяву.
— Откуда дровишки? — завопил купец, бешено тряся его руку. — Из лесу вестимо… Ну что, Санек, сегодня, надеюсь, дернем?
Санек вырвал наконец руку.
— Спешу, брат, извини.
Сундуков, нахмурясь, отступил к прилавку, задумчиво произнес:
— А ведь ты меня чураешься, Саня, я же вижу. Надо ли тебе это?
— Ты о чем? — Санек уже подошел к висящему на стене аппарату. Магазин пустой, только продавщица Зина за прилавком. Не сезон, дачники рассосались, а местные жители в шикарном магазине покупали преимущественно хлеб, крупу и дешевый закусон вроде чайной колбасы. Да и то все реже.
— Я к тому, Сань, что ты ведь неспроста в лесу осел.
Не первый раз Сундуков позволял себе намеки, и Саня решил, что пора его одернуть.
— Мимо товара ходишь, Жоржик. Тут тебе не обломится.
— Ты не понял, Сань. Я с доброй душой. Если какая подмога понадобится, есть надежные ребятишки. Токо свистни.
Санек презрительно усмехнулся.
— Лучше скажи, откуда такая дикая цена на твой телефон?
— Западный стандарт, ни цента сверху, — с достоинством ответил Сундуков и, потеряв интерес к разговору, удалился в конторку.
Таина ответила сонным голосом — и это понятно. Раньше одиннадцати она не вставала.
— Тай, это я.
— Привет, селянин. Не замерз в глуши?
— С тобой было бы теплее.
— Это — приглашение?
Чумовая девица была в добром расположении духа, что случалось с ней редко. Саня сказал:
— Бери тачку, приезжай. Тут хорошо. Баньку истопим, водочки попьем.
— Нет, Сашенька, лучше в другой раз. Сегодня у нас другие планы.
Сашенька! Давным-давно его так не называли, разве что матушка обмолвится. А так — Санек и Санек, как пенек, или, на худой конец, Маньяк. Галочка, правда, Царство ей Небесное, иногда величала Шуриком.
— Какие планы, Таечка?
— Адрес запомнишь?
— Чей?
Хмыкнула приглушенно, будто рукой по щеке провела, продиктовала: Щербаковская улица, дом номер такой-то, квартира такая-то.
— К шести часам доберешься?
— Во сколько надо, во столько доберусь.
— Тогда до встречи, — и повесила трубку. Она всегда так делала, обрывала разговор, не дожидаясь его прощальных слов. Это Санька чрезвычайно озадачивало.
Веселый оттого, что жизнь сдвинулась с мертвой точки, зашел за фанерную перегородку, где сидел надутый Жорик Сундуков, деревенский новый русский.
— Извини, Жорж, за грубость. Чего-то нервы последнее время шалят. Кстати, ты каких ребят поминал для подмоги? Деда Савелия?
— Нет, не Савелия, — Сундуков глядел недобро, и только сейчас Санек заметил, что хозяин деревни не так уж и молод, пожалуй, лет сорока — в Москве пацаны до такого возраста редко добираются. Их выбивают заранее.
— А кого еще? Тут вроде молодняка не осталось?
— У вас там в городе, Саня, превратное представление. Будто в деревне одни ваньки, а весь свет идет из банка «Менатеп». Это, Саня, не так. Наоборот, смычку надо налаживать, чтобы кучей стоять против общего врага.
— Кто же у нас общий враг?
— А то не знаешь.
Саня понял, что по уму ему с деревенским воротилой не тягаться, еще раз извинился — и попер через поле в дачную хибару. День выдался отменный: солнце, легкий морозец, но не студено, а как-то бодро. Кажется, птахи над полем поют, хотя откуда им взяться на эту пору.
С того момента, как повесил трубку, Санек думал только об одном: сегодня ее увижу, увижу… Он загадал, что при первом удобном случае трахнет рыжую атаманшу, но счастливая минута все куда-то отдалялась, зато желание становилось навязчивым.
Около шести без всяких приключений докатил на «жигуленке» на Щербаковскую, легко отыскал и дом, и подъезд, но минут двадцать походил кругами, подстраховываясь, изучая обстановку. Он всегда так делал в незнакомом месте, чем выгодно отличался от других пацанов.
Поднялся на третий этаж, нажал кнопку звонка у нужной квартиры. Никаких сюрпризов не ожидал, но все же стоял к двери боком.
Отворила сама Таина, не спрашивая, кто? — разглядела в глазок.
— Здравствуй, заходи.
Протянул три белые розы в целлофановом пакете. Вот умора, до чего докатился. Улыбнулась, легко прикоснулась губами к его щеке. Санек тут же ее обнял, стиснул, и девушка строго сказала:
— Это лишнее, приятель.
Сюрприз его все-таки ждал. В комнате на диване — барин барином — сидел Клим Осадчий, Стрелок. Все как в старые добрые времена. На низеньком столике бутылка коньяка, ваза с фруктами, пепельница, сигареты. И сияющая, как семафор, прожженная морда закадычного друга.
— Не верю, — сказал Санек. — Это мираж.
— Не надейся, — ответил Клим. — Это я, в натуре. И коньяк настоящий.
Санек подошел ближе.
— А я слышал, Толян тебя замочил. Вроде только костыли остались. Вот брешут люди, да?
Обнялись, потрясли друт друга. Похудевший Клим был по-прежнему крепок, как молодой дубок.
Таина разлила коньяк по бокалам.
— За встречу, ребятки, — кажется, радовалась больше, чем они. Чему, интересно?
Плотно уселись. Таина прикатила на передвижном столике целую гору жратвы — и сама никуда не спешила. Да чего там не спешила: первый раз вела себя как гостеприимная хозяйка и добрый товарищ. Клим пустился в рассказы. По его словам, он в одиночку отмахнулся от целой кодлы. Причем на чужой территории. Санек поверил, Таина нет. Девушка пила с ними наравне, хотя пощла уже вторая бутылка. Героические деяния, совершенные Климом, вызвали у нее иронический смешок. Саня укорил:
— Напрасно, рыжая. Стрелок заговоренный, я же тебе говорил. Его одна знаменитая бабка заговорила за сотню баксов.
— Тебя тоже?
— Меня нет, — Саня глядел в ее безумные глаза, испытывая странное глубокое удовлетворение. — Я в чудеса не верю. Хотя случаи всякие бывают. Мы как-то шли — помнишь, Клим, прошлой весной? — и вдруг он говорит: «Стой!» Помнишь, Клим? Ни с того ни с сего. А сверху глыба льда, с крыши — хлоп! Прямо перед мордой. Еще бы шаг — и нам каюк. Заговоренный, точно.
Клим загрустил.
— Что толку. С бабами, Саня, никакой заговор не действует. Запомни на будущее.
— К чему ты это?
Клим рассказал, что с врачихой Дорой Викторовной, которая ему ногу выправляла, у него получился облом. То есть он ее обхаживал целый месяц, и уже вроде склеилась, обговорили свиданку, но в ту же ночь его пришли мочить. Он, правда, из реанимации к ней ночью рванулся, но дальше дверей не дошел, вместе со всеми шлангами рухнул на пол. Утром врачиха его навестила, он пытался оправдаться, дескать, обстоятельства временно сложились против них, на что она заявила, что он, то есть Клим, форменный псих и ему место не у них, а в Кащенко. С тем и расстались. На другое утро Тайка из больницы перевезла его в какую-то другую больницу, потом сюда — короче, облом. Конечно, надежды он не теряет, как только очутится на свободе…
— Это та старуха? — уточнил Санек.
— Не надо, — возмутился Клим. — Старуха! Ты бы ее видел в деле. Думаешь, кости легко ломать голыми руками? Не всякий мужик справится. А Дора Викторовна… Э-э, да что говорить, ты же циник, Саня.
В их застолье была одна забавная особенность: о чем бы ни шла речь, обращались исключительно к Тайне, и она воспринимала это как должное. Но в конце концов ей надоела их трепотня.
— Что ж, молодые люди, не пора ли нам поговорить по существу?.. Как я понимаю, сегодня за вашу жизнь никто больше не даст и ломаного гроша, не правда ли?..
Клим глубокомысленно кивнул, а Санек возразил:
— Не совсем так. Страна большая, можно ломануть куда-нибудь в глушь.
— Можно и в Европу прогуляться, — поддержал Клим. — Однако позвольте спросить, мадам, почему вы принимаете такое участие в нашей горькой судьбе? Или здесь что-то личное?
— Хороший вопрос, — похвалила Таина. — На него я отвечу чуть позже… Пока давайте обсудим ваше положение. Вы, мальчики, какие-то все же инфантильные. Что значит «ломануть в глушь», «прогуляться в Европу»? Это же детский лепет. У вас что, большие счета в банке?
— Да уж не совсем нищие, — сказал Санек. — Откладывали помаленьку на черный день. Вот он и наступил.
— Сколько же у вас денег?
— Коммерческая тайна, — ответил Клим. — У тебя сколько, Сань?
— Штук тридцать могу настричь. Плюс тачка. Можно пару акций по быстрому провернуть. А у тебя сколько?
— Пятьсот рублей, — важно сообщил Клим. — И те ѵ матушки.
Таина спросила:
— Какие акции ты имеешь в виду?
— Пару магазинов подорвать — элементарно. У меня есть на примете. Но это на худой конец. Светиться зря не стоит. Только в случае глубокого нырка.
Таина обвела их светлым взглядом, понюхала черное вино в рюмке.
— Знаете, кого вы мне напоминаете, мальчики?
— Я не всегда был инвалидом, — сказал Клим. — Если ты про это.
— Страусов напоминаете. Помните? Которые головки прячут под крылышки. Еще немного и начну жалеть, что с вами связалась.
— А зачем ты с нами связалась, Таина Михайловна? — вторично полюбопытствовал Клим.
— Наверное, ошиблась.
— Поглядела бы ты на меня, когда я не был инвалидом. Телки гроздьями висли. Подтверди, Сань.
Санек сказал:
— В самом деле, Таечка, у тебя же есть какой-то план? Может, поделишься? Чего нас за лохов держать?
— А вы не лохи?
— Мы не лохи, — сказал Клим. — Мы чайники.
— Столяра придется валить, — Таина отпила глоток. — Другого выхода нет. Хвост надо отрубить.
— Наконец-то, — обрадовался Санек. — Я все гадал, куда ты клонишь. Что ж, Столяра свалить нетрудно. За ним всего человек сорок. Если Климушку разозлить, он их тростью переколотит.
— Боишься? — из прекрасных глаз брызнул темно-синий лед, и Санек действительно испугался. Но не того, о чем она подумала. Он испугался, что это их последнее застолье. Клим тоже расстроился, махнул бокал коньяку и закусывать не стал. Даже не занюхал кусочком черняги по народному обычаю.
— Нам-то с Саней чего бояться? — заметил оскорбленно. — Нам бояться нечего. Сама же говоришь, нас уже списали, и в Европу, конечно, с нашим башлями да с нашими рожами соваться нечего. Только буржуев смешить. Но тебе-то, Таина Михайловна, зачем вмешиваться, вот чего опять же не пойму? Какая корысть? Ведь у Столяра большие связи, он не сам по себе. Или в стороне останешься?
— Как же я останусь в стороне, если вы, мальчики, в моей квартире сидите?
Санек нашел нужным уточнить:
— Квартира не твоя. Квартира — проходняк. Тут тобой и не пахнет.
— Неужто носом чуешь?
— Чую, — признался Санек. — Уже третий месяц чую.
Многозначительная фраза повисла в воздухе, и только Клим взглянул на друга удивленно.
— Значит, так, — подытожила Таина. — Или вы кончаете ваньку валять, или я ухожу. Выпутывайтесь сами.
— А дальше? — спросил Санек.
— Что дальше?
— Допустим, ты знаешь, о чем говоришь, и мы каким-то чудом завалйм Столяра и всех прочих. А потом?
Теперь Клим поглядел на кореша одобрительно: правильный вопрос. Пора узнать, до какой степени эта девица чокнутая. Таина не уклонилась от прямого ответа, хотя тоже поняла скрытый смысл вопроса.
— Дальше, мальчики, возьмем Москву за хобот.
— Как это? — переспросили парни хором.
— В городе полно миллионеров, мы их немного разгрузим.
Клим и Санек смолчали, потупясь. Степень чокнутости девушки-разбойницы зашкалила явно выше нормы. Не то чтобы это их смутило, но обоим стало не по себе. До этой минуты они смутно надеялись, что Таина при ее хватке и, скорее всего, немалых связях действительно их выручит, но какая помощь от беспредельщицы.
— Закручинились, богатыри, — ласково пропела Таина. — Очко играет?
— Не-е, — промямлил Клим, — очко тут ни при чем. Но мне, как инвалиду… Может, все же правда, в Европу податься? Дамы-буржуйки, я слыхал, любят простой, деревянный русский член. Пусть Санек решает, он у нас за старшего. Скажи, Сань, тебе каким представляется наше будущее?
— А чего мудрить? — Санек выглядел немного затравленным, на висках проступила испарина. — Девушка права.
— В чем права, Сань?
— Пока Столяр живой, нам не продохнуть. Ни здесь, ни в другом месте. Он же на принцип пошел. Только я не секу, как это сделать реально. Он без охраны вообще не ходит. Осторожный, сука, как питон.
Клим сказал:
— Столяр — это ерунда, раз плюнуть. Мне интереснее, как после будем миллионеров мочить. Скажи, Таина Михайловна, всех сразу замочим или для начала кого-нибудь одного? Банкирушку какого-нибудь?
Таина наполнила их пустые стаканы и себе подлила вина. В ее взгляде теперь не безумие сквозило, а холодная, черная ярость. Их обоих проняло до печенок, а ведь повидали немало. В банде, считай, со школьной скамьи. Как свободу объявили и работы не стало, так их в омут и затянуло.
— За вас, мальчики, — звенящим голосом провозгласила. — Отчаянные вы мужики, я вас обоих люблю. Сашенька, веришь мне, дорогой?
— Как отцу родному, — кивнул Санек.
— Ага, — добавил Клим, хотя его не спрашивали.
Выпили до дна. Почему не выпить, коли налито?
ГЛАВА 8
Боренька Интернет, пятикурсник МФТИ, претендующий на красный диплом, сын невинно убиенного банкира, и Филя-мастер, бывший минер-пехотинец, мужик стоеросовый, с культяшкой вместо левой руки и с ликом истукана, — на пару управились с работой на три дня раньше, чем обещали Тайне. Получилась не бомба, а конфетка, произведение искусства. Загляденье — взрывать жалко. Все эти скороспелые так называемые взрывные устройства, которыми пользуются группировки для морального устрашения конкурентов, ни в какое сравнение не идут. Центральная часть выполнена в виде большой, зеленой пластиковой черепахи с высунутым алым язычком-детонатором, и у этой черепашки-мамы еще семь деток-черепашек, тоже зелененьких, размером со спичечный коробок. У всех деток крошечные черные головки с усиками — радиоантеннами, для постоянного контакта с черепашкой-мамой. Общая мощность нашпигованной в сложную конструкцию супервзрывчатки (добыча Таины) аналогична 30–40 килограммам тротила, и при желании, как сказал Филя-мастер, таким «механизмом» можно раскурочить половину Москвы. Естественно, Филя в поэтическом восторге призагнул, но штука действительно получилась убийственная. Чтобы ее состряпать, Боренька три недели просидел в библиотеке, изучая специальную литературу, но без Фили-мастера у него ничего бы не вышло. У Фили золотые руки (точнее, одна рука и культяш-ка) и природное чутье на всякого рода механику. Боренька впервые встретил такого необыкновенного человека.
Работали в гараже у Фили — безвылазно шесть дней подряд и больше всего намаялись с электронной начинкой черепахи-мамы, но когда наконец закончили и вышли на двор, на солнечный октябрьский морозец, обоим показалось, что прожили вместе целую жизнь. Филя подслеповато щурил покрасневшие глаза, Боренька поднес зажигалку к его сигарете.
— Даже не верится, — сказал он.
— Дело житейское, — ответил Филя. — Однако надо поглядеть, как сработает. Осечки быть не должно, а все же сомнение есть.
— В чем сомнение, Филя?
— Ну как сказать, вещь новая, неопробованная… Но думаю, обойдется. Хозяйку нельзя огорчать. Большие деньги посулила.
— Сколько? — спросил Борис, хотя деньги не имели для него никакого значения.
— Две тыщи целковых, — гордо доложил Филя. — Считай, пять моих пенсий.
— И на что потратишь?
— Как на что? Лекарств куплю разных, от сердца, от ревматизма. Крупицы, водочки, конечно, в запас. Зима-то впереди длинная. К тому же, есть слух, они наметили пожилых людей вовсе со свету сжить, чтобы не воняли. А тут такая халтурка. Я доволен, о чем говорить. Жаль, Глафира до сроку отбыла, кутнули бы на радостях.
Глафирой была покойная супружница Фили. Померла она вроде бы в молодом возрасте, около пятидесяти, но точно сказать нельзя. Филя в воспоминаниях пугал даты: то она на той неделе еще по дому бродила, а то уж лет пять прошло, как скопытилась. И причины смерти называл разные, но всегда связанные с нашествием: то ее задавили в очереди за водкой еще при Горбатом, то омоновец в 93-м году оглоушил демократизатором до потери пульса, а то на днях инфаркт скрючил, а у него, у Фили, не хватило грошей, чтобы купить валидолу. Вся эта путаница происходила не от помрачения Филиного ума, ум у него был как стеклышко, просто он так развлекался, вспоминать по-разному было веселее.
Таина купила Бореньку не деньгами, но под ее влияние он попал так же легко и радостно, как совсем недавно погружался в виртуальную реальность. Боря был достаточно умен, чтобы понять, что столкнулся с натурой неординарной, а, возможно, исключительной. Это вам не простушка Кэтрин, вчерашняя возлюбленная, готовая на что угодно за наличные. При первой же встрече он почувствовал, что уступает прекрасной даме в чем-то таком, что выше интеллекта. В силе духа? В пророческом даре? Она сразу заговорила с ним как со старым и добрым другом, без всякого выпендрежа, и как раз о том, что больше всего его волновало. Говорила словно вещала: мужчиной становятся не тогда, когда переспят с телкой, а когда отомстят за поруганную честь. Когда хватит мужества воткнуть в сердце врага обыкновенный нож, иногда в буквальном смысле. Она сказала: «Дружок, у тебя убили отца, великого человека, и ты после этого можешь жить спокойно? Можешь радоваться своим пятеркам и бабьим сиськам? Знаешь, какая твоя после этого цена?»
Боренька возразил, что не живет спокойно, но что поделаешь, убийцы неизвестны, да если бы и были известны, у него руки коротки, чтобы до них дотянуться. На этом чаровница его и поймала. Она знала их имена и обещала помочь с ними расквитаться. Боренька спросил: зачем тебе это? Таина ответила: у нас общие враги. Остальное было делом техники, крючок он уже заглотал. И через месяц очутился в гараже у Фили-мастера.
Матушке сочинил глупейшую историю об аспирантской командировке, в которую его послали за особые успехи, в институт представил справку из некоего медицинского учреждения «Кардиофарм», которую выдала ему Таина, мастерица на все руки, и он отнес ее декану, хотя при его положении на факультете мог бы отпроситься на неделю-другую без всякой туфты. Тем более, что в институте давным-давно никто не следил за посещением студентов, достаточно было являться на экзамены. Да и сдача экзаменов упростилась до предела: каждый предмет имел свою цену. Отстегивай — и получай зачет. Некоторые, кто победнее, или гордецы вроде него, по-прежнему сдавали сессию на свой страх и риск, но таких оставалось все меньше.
Разумеется, Борис давал себе отчет, что, согласившись работать на Таину, переступил черту, которую интеллигентному юноше, имеющему определенные планы на будущее, ни в коем случае нельзя переступать, но чудное дело, — дав согласие, он почувствовал себя так, будто заново родился. Вероятно, что-то в нем давно созревало такое, что ждало лишь толчка, чтобы вырваться наружу. Словно морок упал с глаз, кончилась эра добровольного затворничества, и он стал таким, как все молодые люди вокруг, целеустремленным и уверенным в себе. Возможно, это была некая душевная аномалия, но в новом состоянии было столько тайного блаженства и предчувствия еще более блистательных перемен, что он ни за какие коврижки не согласился бы вернуться в прежнюю унылую, однообразную жизнь, когда всеми его поступками руководил разум. Теперь не было дня, чтобы он не испытывал ничем не замутненную радость, напоминавшую школьные времена, когда он начал вдруг побеждать на всех олимпиадах подряд. Но к тому мальчику он теперь ощущал что-то вроде легкого презрения. По утрам с трудом узнавал себя в зеркале: оттуда выглядывал не застенчивый юнец, дитя книг и наивных грез, а суровый мужчина с ироническим блеском в темных, как у Тины, глазах. Не узнала его и Кэтрин, бочком подкатилась к нему в коридоре и с робостью спросила:
— Что с тобой, Борик, ты сам на себя не похож?
— Что дальше? — поторопил он.
— Как что дальше? За мной должок — или не помнишь? — вызывающая улыбка и груди торчком. — Может, пересечемся поближе к вечеру? Я привыкла долги отдавать.
Борис удивлялся, как он мог месяц назад сходить с ума по этой дамочке?
— Поезд уже ушел, — объяснил, дерзко глядя красотке в глаза. — Ваши деньги с дыркой. Ищите клиента на Тверской. Там попадаются богатенькие пузаны.
Прежнему мечтательному ухажеру Кэтрин нашла бы, что ответить на хамство, а этому — новому, неузнаваемому, с опасным прищуром — поостереглась.
Лучший друг Семиглазов, видя, что с Боренькой происходит неладное, попытался его вразумить.
— Борька, черт, ты, похоже, снюхался с братвой? — спросил напрямик.
— Тебе-то какое дело?
— Послушай старого товарища, сынок. Я сам, как ты знаешь, большой искатель приключений, но всему есть мера. Эти игрушки не для тебя. У тебя жила тонка, чтобы вытаскивать каштаны из огня.
— Послушай и ты, Слепой, — зловеще ответил измененный Интернет. — Никогда не суйся с советами, пока тебя не спросят. Рискуешь нарваться на грубость.
Семиглазов укоризненно покачал головой и удалился под ручку с какой-то в три цвета разукрашенной киской. Боренька не жалел о так внезапно вспыхнувшей ссоре. Думал азартно: дружба, любовь, наука — все побоку. Отец знал, что делал, и никогда не разменивался по мелочам. Воровать так миллион. Не он, Боренька, несóстоявшийся Нобелевский лауреат, сошел с ума, а мир вокруг в один прекрасный день, не отмеченный пока в календаре, внезапно перевернулся с ног на голову. И горе тому, кто этого не заметил и продолжал жить по старинке, поклоняясь поверженным богам, уподобясь какому-то подобию вымирающего динозавра.
— Ну давай, парень, — сказал Филя-мастер, когда отдохнули на солнышке, отдышались от угара. — Звони хозяйке, докладай. Пускай работу принимает.
— Вы давно ее знаете, Филя?
— Кого? Хозяйку? — мастер смотрел на него оловянным, навеки заторможенным взглядом. В сущности, подумал Борис, они с мастером не только из разных социальных слоев, а скорее с разных планет.
— Что, хороша девка?
— Краше не бывает, — в тон ответил Борис.
— Не заглядывайся, побереги сердце. Толку не будет.
— Почему не будет?
— Она птица высокого полета, ты для нее по всем статьям мелковат. Хотя ты парень тоже не простой, это ясно.
— Чем же я плох, по-вашему?
— Не плох, мелковат. Не окреп еще. Таюшке надобны обоюдные мужики, чтобы взял и употребил. Не зарься на нее, токо пуп надорвешь. Для тебя больно, ей забава. Годок-два потерпи, укрепись как следует, хозяйство оборудуй, тогда, может, и тебе обломится.
— Не любите вы ее, Филя?
— Как тебе сказать, парень. Красоту нельзя не любить, ежели ты живой человек. Да ее красота чужая, не наша с тобой. Может, вообще не человечья. Вот, к примеру, как солнечный луч. Попробуй его полюби. Враз ослепит. Не знаю, поймешь ли мою аллегорию.
— Филя, вы раньше кем были, до пенсии?
— Обыкновенно, кем. В войсках служил. На заводе работал, пока не прикрыли лавочку. Тебе почему интересно?
— Зачем же вы с ней связались, если она чужая?
Оловянные глаза старика озарились печалью.
— Не связался — и тебе не советую. Кто плотит, тому помогаю. А деньги нынче сам знаешь у кого.
— У кого же?
На это мастер не ответил, его откровенность имела четкие пределы. Старик любил порассуждать вокруг да около, но редко позволял себе неосторожные замечания в чей-то конкретный адрес. Не иначе, сказывалось совковое прошлое. Борис почитывал газеты и в телевизор заглядывал одним глазком. Восемьдесят миллионов в лагерях, остальные в очереди за колбасой: поневоле научишься держать язык за зубами. Выросший в свободном рыночном обществе Бориска относился к людям из прошлого, как и большинство его сверстников, — с сочувственным презрением. Прожили как во сне, так и не поняв, зачем родились. Целых семьдесят лет, десяток поколений, растертых в лагерную пыль. Кладбище неосуществленных желаний и пустых надежд. Понятно, что ослепительная Таина, с ее резкостью в словах, с непомерными амбициями, абсолютно раскрепощенная, — представлялась Филе исчадием ада, хотя он не говорил об этом впрямую.
Дозвонился Боренька с первого раза и, как всегда, с замиранием сердца услышал глуховатый голос, в котором было такое множество оттенков, что перехватывало дух.
— Это Борис.
— Привет, малыш. Какие-то проблемы?
Попробовал бы кто-нибудь другой назвать его «малышом».
— Все готово, Таина Михайловна.
— Ну да? — обрадовалась работодательница. — Молодцы. Ждите. Через час приеду.
Не через час, конечно, но ближе к вечеру прикатила на новеньком «мерсе-600» черного цвета. Привезла две сумки продуктов и питья. Никогда не забывала о хлебе насущном, что трогало Бориску до слез. Его самого спроси, что он ел на завтрак — вряд ли вспомнит.
Прошли сразу в гараж, где работники дали полный отчет. Столько материалов израсходовано, столько затрачено человеко-часов. Вот черепаха-мама, а вот ее детишки. Вся начинка аналогична сорока килограммам тротила, но изюминка не в этом. При правильном расположении черепашек по отношению к маме сила направленного взрыва способна, пожалуй, поднять на воздух пятиэтажное здание, сооруженное из обыкновенных металлобетонных блоков. Все согласно заказу, плюс эстетическая составляющая.
— Фантастика, — скромно заметил Борис. — Сверхмощная взрывучесть обуславливается тем, что…
— Проверим, — перебила Таина с лукавой улыбкой. — Тебе, Интернетушка, как изобретателю, и карты в руки.
— Понадобится соответствующий полигон, это ведь не стендовая игрушка.
— Прикинем на объекте, — сказала Таина. — В рабочем режиме.
У Бориса кольнуло селезенку, но он промолчал. О чем говорить? Отступать поздно, ежу понятно.
Филя-мастер с самого начала не выказывал большого интереса к разговору. Что сделано — то уже прошлое. Хлопотал с привезенными гостинцами: расставил на верстаке угощение — брус ветчины, буханку «Бородинского», бутылку «Смирновской», баночку маринованных помидоров. Минуты не прошло, накрыл стол. Полюбовался, спохватился — достал из тумбочки три видавших виды мутных стеклянных стопки.
— Окончание работы положено отметить, — объявил солидно, но с заискивающей ноткой. — Чтобы не было осечки. Прошу, господа.
Водка показалась Борису кислой, но, может, она такой и должна быть, не с его опытом сравнивать. Зато сразу ударила по мозгам, как колуном. Свет в гараже заиграл, будто на потолке включили дополнительную лампочку. Он вяло жевал ветчину и хлеб, прислушиваясь к разговору Таины с Филей-мастером, который доносился будто издалека. Старик делился видами на урожай: картоха в этом году плохая, лето было засушливое, дай Бог, коли хватит до декабря. Зато помидоры уродились на славу. Полпогреба заставил банками, можно при нужде и поторговать малость. Какие он солит помидоры и огурцы, в магазине не купишь. Таина слушала внимательно и задавала заинтересованные вопросы, вроде того, кладет ли он в огурцы чеснок или обходится смородиновым листом. Потом они всерьез заспорили, как лучше варить сливу: с косточками или без них. Наконец до Бориски дошло, как это все необыкновенно смешно. Он захохотал, роняя изо рта хлебные крошки.
— Что с тобой, малыш? — озабоченно спросила Таина. — Неужто уже набрался?
Перебарывая неуместный смех, Борис закашлялся, и Филя похлопал его ладонью между лопаток.
— Ой, не могу! — простонал Борис.
— Чего не можешь, парень? Пить не можешь? Дак и не пей, никто не неволит.
— Картоха, — заливался Интернет. — Помидоры. Варенье из слив. Ой, не могу!
— Боренька, — ласково молвила Таина. — Может, в дом пойдешь? Поспишь часок?
— Светлая голова, — добавил Филя, — а умишко еще детский. Вот и разобрало.
Борис смотрел на девушку влюбленными, сияющими глазами.
— Таина Михайловна, вы знаете, что я сейчас понял?
— Что, родной?
— Мир прекрасен… В нем все удивительно, сложно, загадочно, а мы живем, как слепые, ничего не видим. Мы, в сущности, одномерные существа, амебы, устрицы, возомнившие себя покорителями Вселенной. Ну, разве не забавно?
— Очень забавно, малыш.
— С одной стопки, — позавидовал Филя, — и такой могучий резонанс…
Все инструкции сводились к одному: никакой самодеятельности. Два часа просидели над планом, который намалевал по памяти Санек, и теперь, если план верен, Боренька знал в «Ласточке» каждый уголок. Таина прорепетировала с ним ряд нештатных ситуаций, которые могут возникнуть при выполнении задания, и осталась довольна его смекалкой. Помогали ей Клим и Санек. К примеру, Таина давала установку: представь, малыш, ты идешь по коридору — и навстречу охранник. Клим, изобрази!
Клим поднимался со стула и, гремя палкой, надвигался на беззащитного Бореньку: «Ты кто такой, падла? Чего-то я тебя раньше не видел?»
Боренька незамедлительно отвечал: «Не подскажешь, брат, где тут сральня?», или: «Сотенную не разменяешь, брат? Не хочу светиться за столом» — и протягивал Климу стодолларовую бумажку. Клим, свирепо пуча глаза, продолжал: «Ну-ка, открой сумку, падла, чего у тебя там?» Борис с готовностью расстегивал молнию, показывал черепашек, смущенно произносил: «На угле в шопе взял, у племяша день рождения. Сколько, думаешь, стоят?» «Ско-ко?!» — рычал Клим. «За всю семейку — двадцать баксов. Обдираловка, да?»
— Ничего, сойдет, — смеялась Таина. — Только не перепутай смотри. Пустышку давай в руки.
Проигрывали и самую щекотливую ситуацию. Клим возникал за спиной у Бориски, рявкал: «Ты чего спрятал, гаденыш?! А ну, покажи!»
Сообща искали выход из пикового положения, но не находили. Среди охранников в «Ласточке», кроме обыкновенных быков, подвизались бывшие сотрудники спецслужб, их на понт не возьмешь. Нарваться на такого все равно, что стукнуться об стену.
— В таком разе суши весла, Интернет, — удрученно заметил Санек, — Считай, провалил задание. Все игрушки отберут.
Клим угрюмо добавил:
— Честные диверсанты в таких случаях глотают яд. Ампулу с ядом лучше всего заранее положить под язык.
Таина урезонила корешей:
— Вам все шуточки, а малыш головой рискует. Не слушай их, Интернетушка. Если попадешься, сдавайся, но с умом.
— Как это — с умом?
— Прикинешься невменяемым.
— Это он сможет, — обрадовался Клим.
— Сумка не твоя, наткнулся на нее, хотел посмотреть, что внутри… Неси что попало, чтобы рты разинули. И не паникуй. Сразу не убьют, отведут к Столяру. Начнут допрашивать, опять придуривайся и придуривайся. Тяни время. Мы чего-нибудь придумаем, вытянем тебя…
— Может, вообще не убьют, наградят. Столяр уважает рисковых, — вставил Клим.
Таина замахнулась на него кулачком.
— Лучше все же не попадаться, Боренька. Да и как можно попасться? Только по неосторожности.
— Я не попадусь, — сказал Борис, пораженный собственным мужеством.
В одиннадцатом часу его подвезли до места на «жигуленке» Санек с Климом. Припарковались в квартале от «Ласточки» и дали последнее напутствие. Оба были неузнаваемо серьезны.
— Мандражишь? — спросил Санек.
— Есть немного.
— Это нормально. Помни, мы рядом. Если чего, хоть в окно выпрыгни и беги куда глаза глядят. Мы тебя перехватим.
— Хорошо.
— Не будь идиотом, — сказал Клим. — Возьми «пушку». В «Ласточке» не обыскивают.
— Я не умею стрелять.
— Заодно научишься.
— Спасибо, нет, — Боренька слабо улыбнулся, пожал протянутые руки. Пока шел темными переулками, пару раз споткнулся на ровном месте и чуть не упал. Чувствовал себя невесомым, зато сумка «Адидас» с гостинцами тянула книзу, как двухпудовая гиря. Ясность в голове стояла необыкновенная. Точно так же он парил, когда вламывался в интернетовские коды. Он давно догадался, что его втянули в историю, которая вряд ли имела хоть косвенное отношение к покойному отцу — все обман, но это не имело значения. Какая разница, сведет ли он счеты с мнимыми или истинными убийцами отца, важно только то, что он способен на такое деяние. Совершив это, он наконец-то встанет вровень с веком и с самим собой — не прилизанным, прыщавым книжным мальчонкой, упивающимся виртуальными бреднями, а человеком поступка, достойным наследником отца — по духу, а не по крови. Победителем жизни, а не ученой тлей, выгрызающей мертвые знания из усохшего древа. Ослепительная Таина с одного взгляда распознала его сущность, и она не могла ошибиться.
У входа в «Ласточку» — трехэтажного особняка в духе раннего абстракционизма — притулились несколько роскошных иномарок, на фасаде всеми цветами радуги струилось голографическое изображение раздевающейся красотки. Улица пустая. Случайные прохожие редко заглядывают в такие места, особенно после наступления темноты. Там, где развлекаются богачи, обывателю делать нечего, если он не хочет остаться без ушей, как прежде остался без кошелька.
На входе двое молодых парней, одетых в черные костюмы и белые рубашки с бабочками, внимательно оглядели Бориса. Его вид не вызывал подозрений, об этом побеспокоилась Таина. Даже какую-то хитрую эмблемку прикрепила к лацкану кожаной куртки. Он выглядел как загулявший сынок какого-нибудь крупного барыги. Мокасы за пятьсот баксов, пестрая рубаха от Версаче, кожаные штаны в обтяжку и на голове забавный хохолок, тоже символизирующий принадлежность к какой-то определенной общности, правда, Таина не объяснила к какой. Зато об этом догадался один из привратников, игриво намекнул:
— У нас, девушка, в основном играют. Публика солидная. Если насчет чего-нибудь остренького, тебе лучше к Петерсону. Через три дома отсюда.
Борис похлопал по своей сумке, процедил сквозь зубы, как учила Таина:
— Не лезь, когда не спрашивают, деревня.
Обоих сторожей ответ вполне удовлетворил, и они потеряли к нему интерес.
Через минуту он очутился в большом зале с баром и со множеством игровых автоматов, расставленных в живописном беспорядке. По инструкции ему следовало подойти к стойке и что-нибудь выпить, но ни в коем случае не спиртное. Таина сказала:
— Если ты, малыш, позволишь себе хоть глоток, тебе конец. Сам знаешь.
Конечно, он знал, как действует на него алкоголь, но вдруг почувствовал приступ веселого азарта, доселе ему неведомого. Состояние было столь приятным, что он и без вина ощутил себя как бы под мухой. Широко улыбнулся бармену.
— Что-то у вас жарковато… Пожалуйста, лимонный сок и туда капельку рома. Кажется, называется «Карацупа»?
— «Кукарача», — поправил бармен, пожилой малый с бритой головой. Он явно не испытывал желания вступать в разговор с незнакомым клиентом, быстро смешал питье, кинув туда три кубика льда, и поставил перед Борисом. Сидя на высоком табурете и помешивая с бокале тонкой пластиковой трубочкой, Интернет с любопытством оглядывал зал. Мужчины и женщины, молодые и средних лет, красивые и с печатью вырождения на испитых лицах, пьяные и трезвые, но одинаково сосредоточенные на игре — они собрались, чтобы приятно скоротать вечерок, в такое место, где все напоминало вожделенные края — Европу и Америку, — где звон металлических жетонов казался единственной реальностью, а все остальное, включая саму жизнь, было таким пустяком, о котором не стоит и говорить. Бореньке пришла в голову мысль, что не пройдет и часа, как это мистическое, недужное веселье обернется очистительным взрывом, рухнет в пучину адского огня и мало кто из беспечных игроков уцелеет… На секунду его замутило, но он тут же сказал: стоп! Какая чепуха! Эти человекоподобные существа ему совершенно чужие, да и люди ли они? Все пришли сюда с раздутыми карманами, но вряд ли хоть один их рубль заработан праведным трудом. Вон те крутые парни в замшевых пиджаках, у которых на рожах написано: подойди — и я тебе тресну! — или вон те аппетитные телки, у которых от нервного тика подергиваются не губы, а ягодицы, — или тот импозантный господин с прилипшей к ненатурально алому рту сигарой, которому прислуживают у автомата два педика в шелковых трико, — это все люди? Умница Таина, будто предвидя, что впечатлительного юношу могут охватить моральные сомнения, предупредила: это вертеп, Интерне-тушка, там сходятся вампиры и сатанисты. Живого человека там не встретишь, не найдется. Начитанный Боренька возразил: а как же сказано, не судите и судимы не будете? И на это у нее нашелся ответ. Грех не в убийстве, сказала она, а в молчаливом и равнодушном пособничестве злодеям. Если уж ты такой грамотный, малыш, это тоже цитата из Писания. И добавила с какой-то угрюмой, поразившей его страстью: каждый сам выбирает, на чьей он стороне. Выбери и ты, дружок, хотя бы в память об отце. Я уже выбрал, радостно ответил Интернет, загипнотизированный тяжелым сиянием ее глаз…
Из игорного зала по центральной лестнице он поднялся на третий этаж. План Санька стоял перед глазами. Вдоль коридора расположены массажные кабинеты, и в самом конце, рядом с туалетом — маленькая комната с противопожарным оборудованием, с железной узкой дверью, которая обыкновенно не запирается. В кладовке, кроме инструмента, куча пластиковых мешков и еще какого-то хлама: самое лучшее пристанище для черепахи-мамы, отсюда она распустит по этажам черепашек-деток. Если же кладовка окажется на запоре, остается туалет, но это хуже. В туалете не так много укромных местечек, разве что приподнять раму на окне или сдвинуть вентиляционную решетку. Для этой цели Бореньку снабдили кое-какими приспособлениями, но он надеялся, что они не пригодятся.
Беспечно покачиваясь, спасибо коктейлю «Кукарача», он одолел половину коридора, как вдруг из одной двери вывалилась растерзанная, с окровавленным лицом девица. Из одежды на ней было только махровое полотенце, обмотанное вокруг бедер. Наткнувшись на Бореньку, тупо на него уставилась.
— Я массажистка, — сказала грозно. — А ты кто?
Обойти ее он не мог, ослепленный покачивающимися сосками.
— Я тоже массажист, — ответил дружелюбно. — Но пока иду пописать.
— Пописать? — удивилась девица. — А ты знаешь, что эта сука придумала?
— Нет, не знаю.
— Старый хрен решил, что он Пикассо. А мы с Манькой два мольберта. Видишь, как извазюкал?
— Так это помада? — догадался Борис.
— А ты думал, сперма? — девица была пьяна и утробно захохотала над своей немудреной шуткой. — Слушай, почему я тебя раньше не видела?
— Я новенький.
Девица придвинулась ближе, обдав его мускусным запахом.
— Новенький, сделай одолжение… Принеси бутылку бурбона. У нас кончился, а он водку не жрет.
— А?.. Но…
— В буфете никто не отвечает. Сачкуют, сволочи. Принеси, сделай милость, одеваться неохота.
Действительно, судя по ее состоянию, одеться было бы для нее проблемой.
— Хорошо, — согласился Борис. — Только сначала пописаю.
Девица разглядывала его с интересом, щуря один глаз.
— А ты ничего мальчоночка, худенький — я таких люблю. Ладно, иди пописай и заодно покакай. Потом присоединяйся к нам. Старый хрен скоро вырубится, побалдеем без него. Поглядим, на что ты способен, новенький, — игриво ухватила его за ухо, прикусила за подбородок и чуть не раздавила мягкими, теплыми грудями. Боренька разомлел, пролепетал:
— Пойду, пожалуй…
Девица и сама некстати возбудилась, скользнула бедовой ручонкой к нему в штаны — еще бы минута и Боренька, пожалуй, распрощался бы со своей невинностью самым неожиданным образом, но вдруг из приоткрытой двери раздался грозный рык, напоминающий скрежет внезапно тормознувшего электровоза. Девица враз опамятовалась, сказала с уважением: «Большой человек! Директор свалки!» — и, сверкнув загорелыми ягодицами, исчезла за дверью.
Отдышавшись, Боренька поспешил дальше к заветной кладовке. В конце коридора оглянулся: пусто, лишь на том месте, где напала распутная баба, от ковровой дорожки струится сизый дымок.
Толкнул обитую железом дверь — не заперто. Но — темень, как в колодце. Раскрыл сумку, нащупал фонарик с длинной черной ручкой — все предусмотрела Таина. Вошел и прикрыл за собой дверь. Так и есть — каморка забита под завязку: мешки, бумажный хлам, инструменты. На стенах шеренга огнетушителей, каких он раньше не видел, вроде гирлянды сталактитов.
Боренька вынул из сумки черепаху-маму, погладил по черной головке с усиками: не подведи, родная. На жестяном брюхе, на мини-усилителе высветил нужный код. Повесил фонарик на гвоздь и, раздвинув мешки, уместил черепаху в уютную норку. Сверху прикрыл ветошью. Все проделал быстро, без суеты, по-прежнему ощущая приятное жжение в паху.
Приоткрыл дверь — никого. В сумке оставалось еще семь маленьких черепашек, их предстояло расположить в определенных местах, причем две в зале с игорными автоматами, где Борис уже побывал. Туда он и направился, чуть ли не насвистывая себе под нос. С каждой минутой чувствовал себя все увереннее, хотя понимал, что такая бесшабашность скорее напоминает некую анестезию чувств, чем самообладание.
В игровой зал вернулся беспрепятственно, правда, на лестнице столкнулся с веселой компанией — двое мужчин и три эффектные девицы поднимались навстречу, но не обратили на него никакого внимания, — добрый знак, означающий, что он вписался в здешнюю атмосферу. В зале снова уселся за стойку на высокий табурет, но теперь рядом с ним оказался светловолосый крепыш лет двадцати семи, типичный плейбой со скучающим взглядом. На Бореньку едва повел глазами, сосредоточенно сосал виски с содовой через пластиковую соломинку.
— Лимонный сок с ромом, — бодро провозгласил Интернет, чувствуя, что, возможно, совершает роковую ошибку, но действуя словно по наитию. Бармен покосился на него с выражением прежнего недружелюбия, намешал питье и толкнул стакан по стойке. И тут же вернулся к разговору со светловолосым, с которым, судя по всему, приятельствовал.
— И что ты ей сделал? — спросил с любопытством.
— А ничего, — раздраженно отозвался крепыш. — Сунул штуку, чтобы не гундела.
— А что Паук?
— Да ему по барабану. Лишь бы сверху не капало.
— Паскуда! — оценил бармен. — Таких надо сразу давить. Они деликатного обращения не понимают.
— Как давить, — возразил крепыш. — Хата его и товар с хвостом.
Боренька решил, что мешкать не стоит. Сунул руку в наполовину расстегнутую сумку, достал одну черепашку и, повернувшись боком, пытаясь охватить взглядом сразу весь зал, приладил ее в углубление под стойкой, намеченное еще в первый заход. Черепашка прилипла к поверхности с легким, едва слышным щелчком.
Наполовину выпитый коктейль зажегся в желудке маленьким костерком. Голова чуть-чуть закружилась, но это не страшно. Он вполне себя контролировал.
— У этого гандона, — с раздражением продолжал крепыш, — такое о себе мнение, будто у него две тыквы вместо одной.
— Я и говорю, — поддержал бармен. — Давить надо прямо в колыбели.
Боренька слез с табурета и подошел к одному из автоматов, на котором играл длинноволосый пижон в нейлоновой куртке. Сливал жетоны в щель горстями, дергал рычаг, нажимал какие-то кнопки, но, видно, ему не очень везло, потому что не прошло минуты, как он, не оборачиваясь, буркнул:
— Не стой за спиной, не люблю.
Борис отошел, пошатался по залу среди публики, изредка бросая взгляды на бар. Там все спокойно: бармен беседовал с крепышом, обсуждая мерзкое поведение гандо-нов, которых надо давить, и черепашка не светилась. Наконец Боренька пристроился к свободному автомату, предварительно его облюбовав. С задней стороны на корпусе достаточно места, чтобы упрятать всех оставшихся черепашек, вопрос только в том, как проделать это незаметно. Он оставил сумку на стуле и сходил к кассе, где наменял жетонов. В зале было так накурено, что у экологически чистого Бореньки начали слезиться глаза. Не успел он прокрутить свои сорок жетонов, выжидая момент, когда можно будет сунуть руку за спину автомату, как сбоку пристроился молодой человек и стал давать советы:
— Грубо играешь, браток. Не дергай резко, это не поможет. Ставь по одной, по одной ставь.
Борис взглянул на него: темные усики, узкий рот, дружелюбные глаза. Поджарый, с сильными плечами. Обыкновенный качок. В другое время Боренька охотно посоветовался бы с ним, как перехитрить примитивное игровое устройство, но как раз время его поджимало. Таина поставила условие: управиться за час.
— Не мешай, а? — попросил он. — Иди лучше сам поиграй.
Молодой человек ухмыльнулся.
— Уже поиграл. Все слил до копейки. Они же у них перепрограммированные. Выигрыш исключен.
Борис удивился:
— Зачем же все играют?
— Такие же придурки, как мы с тобой. Давай покажу, как надо бомбить.
Его предложение вступало в явное противоречие с утверждением, что выиграть на автомате нельзя, но Борис уступил свое место и отдал оставшиеся жетоны. Случайный советчик невольно помог. Став зрителем, он прилепил черепашку в мгновение ока, но когда отстранился — вдруг почудилось, что по губам паренька скользнула понимающая ухмылка. Ужас окатил Бореньку с ног до головы, будто кипятком: он так и застыл с открытым ртом.
— Видишь, — самодовольно заметил парень. — Десять очков вернул.
Слава Богу, померещилось. Борис сказал ненатуральным голосом:
— Слушай, погоняй пока сам, я прошвырнусь немного. Рулетка где?
— Прямо по коридору, белая дверь. Не промахнешься… Только не зарывайся там.
— Колесо тоже программированное?
— Ну а ты как думал, это же Москва.
В зале с рулеткой, расположенном рядом с кабинетом директора, он провел не больше десяти минут. Зарядить там двух черепашек оказалось плевым делом. Публика скопилась возле стола, завороженно следила за манипуляциями крупье. Так, вероятно, первобытные племена внимали заклинаниям шамана. Правда, у дверей дежурил детина в униформе — черный костюм, белая рубашка с бабочкой, — но Боренька опустился в кресло под огромными, бронзовыми часами — и стал невидим. Под бронзовое чудовище он и посадил двух зверьков, подтолкнув их под мраморную плиту.
На первом этаже его целью была бильярдная и предбанник сауны, где, как уверил Санек, вообще никого не бывает. Не в бильярдной, а в предбаннике. Эта комната — что-то вроде перевалочного пункта — грязное белье, банная утварь, ящики с разными припасами, ее Боренька оставил напоследок, сперва зашел в бильярдную — и сразу понял, что здесь придется туго. В просторной комнате с тремя сверкающими лакировкой бильярдными столами гуртовались пятеро пожилых кавказцев, — и все, как на подбор, каких-то непомерных размеров: упитанные, с раздутыми животами, поросшие черными волосами до бровей. Сразу видно, что какая-то элитная компания. У опешившего Бореньки создалось впечатление, что между столов неспешно передвигаются пятеро космонавтов в скафандрах, прилетевших откуда-нибудь из созвездия Кассиопеи. У Бореньки вообще было живое, быстрое воображение, а тут оно еще обострилось благодаря двум коктейлям с ромом. Лучшее, что он мог сделать, это развернуться и уйти, но по его же собственным расчетам двум черепаш-кам-деткам положено было осесть именно в бильярдной, на пересечении трех биссектрис.
— Мальчик пришел, — без энтузиазма отметил один из космонавтов-кавказцев — и еще двое мельком взглянули, тогда как двое других продолжали сосредоточенно целиться киями почему-то в один шар.
— Добрый день, господа! — неуклюже поздоровался Боренька, но ответа не получил. Только первый космонавт, отметивший его появление, продолжал его разглядывать с таким выражением, как добродушный хозяин смотрит на выползшего из щели таракана.
— Тебе чего, мальчик? Мы никого не звали.
— Извините, пожалуйста!
— Чего надо, скажи?
В сиплом голосе ни угрозы, ни раздражения. И тут Боренька доказал, что Таина не ошиблась, доверив ему ответственнейшее поручение.
— Разрешите немного посмотреть?
— Зачем будешь смотреть?
— Сказали, великие мастера… Мечтал увидеть своими глазами.
— Кто сказал?
— Все говорят. Ваня Столяр говорит.
— Сам тоже играешь?
— Только учусь, — Боренька скромно потупился.
Один из космонавтов наконец ударил по шару и с грохотом, четко уложил его в лузу. Поднял с бортика стакан, наполненный темной жидкостью, и, картинно отставя руку с кием, опрокинул спиртное в пасть. Остальные почтительно выжидали. Оказалось, все прислушивались к разговору, но этот, закативший шар, был у них, похоже, центровым. Издали указал на Бореньку пальцем.
— Наглый, да?
В ту же секунду Борис понял, что надо немедленно смываться, какие уж тут черепашки, но взгляд главного космонавта внезапно потеплел. Смуглый, худенький паренек в кожаных штанах в обтяжку чем-то ему приглянулся:
— Сосать умеешь?
Боренька не понял вопроса, но на всякий случай кивнул с готовностью: да, естественно, умею.
— Ладно, сиди, потом скажу, чего делать, — и равнодушно отвернулся, начал нацеливать следующий шар. Первый космонавт дружески подмигнул:
— Проходи, мальчик, отдыхай. Хочешь, выпей вина.
Боренька прошмыгнул в дальний угол и плюхнулся в кожаное кресло. Следующие десять минут провел словно в механическом ступоре. Космонавты больше не обращали на него внимания. Лупили по шарам, обменивались короткими репликами на чужом гортанном языке, куда вкрадывалось лишь одно знакомое словечко «билядь», звучавшее с добродушной укоризной, хлопали друг друга по могучим спинам, поздравляя с удачными ударами. Но в присутствии жутких космических пришельцев Боренька испытывал такой же знобящий, мистический ужас, лишающий всех сил, как в детстве, когда оказывался в темной комнате наедине с наплывающими из подсознания смутными кошмариками.
И все же он сумел, воспользовавшись секундным приливом энергии, прилепить к спинке кресла двух черепашек, и, если оценивать по шкале вечности, для него это был такой же подвиг, как для былинного витязя схватка в одиночку с огнедышащим драконом.
Совершив сие деяние, Боренька сполз с кресла и выпрямился на ватных ногах. Затем осторожно, словно на ощупь, направился к двери.
— Куда спешишь, мальчик? — окликнул его космонавт. — Смотри еще.
Боренька пролепетал:
— Я сейчас вернусь. Мне надо…
К нему подошел старший из игроков и слегка ткнул кием в живот.
— Понравилось, крысенок?
— Очень, господин!
— Хочешь убежать?
— Что вы, — Боренька не поднимал глаз, чтобы от страха не обмочиться. — Я только на минутку. По малой нужде.
— Ты красивый, ничего. Принеси «Мальборо». Потом будешь сосать. Понял, нет?
— Туда и обратно, — сказал Интернет.
В коридоре провел ладонью по лицу и увидел на пальцах серые полоски, следы слез.
ГЛАВА 9
В сауну залетел, не чуя ног под собой. Здесь все было так, как Санек обещал. Небольшая, без окон комната со скамьями вдоль стен, заваленная барахлом — тюки с бельем, перехваченные крест-накрест простынями, какие-то картонные ящики… Боренька пересек комнату и заглянул в смежную дверь: там тоже никого — среднего размера помещение с душевыми кабинками, — но из третьей, полуоткрытой двери доносились мужские голоса и женское повизгивание.
Борис присел на скамью, отодвинув увесистый тюк — сердце мячиком скакало в груди, космонавты все еще стояли перед глазами. «Ты просто мерзкая, трусливая мышь, — признался он себе. — Ведь они тебе ничего не сделали плохого».
Расстегнул молнию на сумке, достал последнего черепа-шонка и в сентиментальном порыве поцеловал черную усатую мордочку. Тут все и случилось. Дверь из коридора, которую он плотно закрыл, отворилась, и вошли двое мужчин в черных костюмах и с бабочками. Один взял у него из рук черепашку, второй усмешливо спросил:
— Чего-то ты, постреленок, много суетишься. Передвигаешься туда-сюда… Ты кто такой?
Борис не успел испугаться, привстал, но мужик пихнул его обратно на скамью.
— Не спеши… встанешь, когда скажем. Так кто ты?
— Я?
— Болванка от х… Отвечай быстро, сопляк!
— Какое вы имеете право? Я пришел отдохнуть, как все… Что, нельзя?
Мужик отобрал у него сумку и вытащил из нее кожаный подсумок с набором инструментов. Обратился к товарищу:
— Интересно, да, Лева? Может, он слесарь?
Борис сделал вторую попытку подняться, получил мощный, резкий удар ногой в грудь, обмяк и застонал. Охранник с любопытством разглядывал пластиковую черепашку, потряс ее над ухом.
— А может, он Дед Мороз? Видишь, с игрушками бродит.
— Ладно, — сказал первый. — Отведем к Мишуне, пусть разбирается, что за ферт. Что ж, пошли, миленочек, на правилку.
Теперь Борису расхотелось вставать, он вцепился руками в скамью — и за это схлопотал пару несильных оплеух.
— Тебя что, мудака, силой тащить?
Тащить никуда не пришлось. В каморку-предбанник, и без того тесный, вломился крепыш, которого Боренька оставил вместо себя играть у автомата, и со словами: «Что за шум, парни?» с ходу боднул одного из охранников башкой в грудь. От неожиданности тот не устоял на ногах, перелетел через комнату и врезался спиной в закрытую дверь, за которой культурно отдыхали неведомые дамы и господа, причем довольно активно, судя по тому, чіго женский визг перемежался истерическими воплями и утробным мужским гоготанием. Светловолосый крепыш на этом не успокоился. Боренька не сразу заметил, что в руке у него нож, а увидел лишь тогда, когда тот снизу, с широкого размаха воткнул его в бок второму охраннику, который с растерянным видом сжимал в руке черепашку-детку. Борис, прожив до двадцати двух лет в Москве, иногда, естественно, попадал в передряги, и ему приходилось участвовать в драках, а также, как любой его сверстник, он проглотил немыслимое количество американских триллеров, на коих воспитались целые поколения духовно стерильной молодежи, но в яви такое видел впервые. Мягкий хруст, с каким сталь входит в упругую плоть, нервический всплеск в изумленных очах и яркая кровь, расплывающаяся по белому полотну рубашки: удручающее — завораживающее зрелище.
— Ой! — сказал Боренька, вжимаясь в стену. Раненый выронил ему на колени черепашку, а сам стал медленно опускаться, ломаясь в позвоночнике, словно раздумывая, как удобнее прилечь. Крепыш выдернул нож и ударил еще раз, кажется, в одно и то же место, в расширяющееся красное пятно. Потом развернулся ко второму охраннику, успевшему встать на ноги и занявшему боевую стойку. Лицо у него было изумленное.
— Ты что же делаешь? — проскрипел он. — Зачем Леви-ка заколол?
В руке у него было что-то зажато, но не нож, а металлическая штуковина вроде маленького блестящего трезубца, который он выставил впереди себя, но Боренькин спаситель и на сей раз оказался проворнее. Он сделал несколько быстрых, обманных движений, задев Бореньку локтем по скуле — тесно в каморке, тесно! — охранник парировал нападение трезубцем, но недостаточно четко. Нож с тонким, комариным свистом преодолел короткое расстояние и вонзился в открытое, раздутое горло. Светловолосый издал хриплый звериный рык, не сумев увернуться от трезубца, разодравшего ему плечо. В сущности, на этом схватка закончилась: охранник зажал ладонью глотку, из-под пальцев брызнули алые фонтанчики — ему нечем стало дышать. Он еще что-то продолжал говорить, еще глаза пылали ненавистью, но он уже умирал. Близко смерть Боренька видел тоже впервые, но ошибиться было невозможно.
Спаситель, тяжело дыша, обернулся к нему:
— Быстро к выходу — и на улицу. Но не бегом. Понял?
— Кто ты?
— После познакомимся… Быстро, говорю тебе…
У Бореньки хватило соображения сунуть черепашку под ближайший тюк, схватить сумку — и он был таков.
Дальше небольшой провал — и вот он уже на улице.
Стояла темная электрическая ночь, иномарок у входа прибавилось. Разгоряченное лицо обдало морозцем, словно массажной салфеткой. Боренька никак не мог сообразить, что теперь делать: бежать в темноту или, напротив, остаться под фонарем, чтобы Санек его увидел. Он забыл, какая была инструкция, но это не значило, что был подавлен или испуган. Хотя и с опозданием, после короткого выпадения из реальности, адреналин в нем взбунтовался, он чувствовал себя легким и бодрым, как теннисный мячик. Казалось, подпрыгни — и повиснешь на проводах. Он сумел: выскочил из пасти чудовища невредимый, оставя позади два трупа. Это он-то, Интернет, дитя библиотек, книг и чистых помышлений. Будь жив отец, наверное, он мог бы сейчас гордиться своим сыном.
Со стороны Боренька выглядел пьяным или обкурившимся — раскачивающийся в такт одному ему слышной музыки, с блаженной, идиотической улыбкой на устах, умиротворенный, — не человек, а млекопитающее неизвестной породы; но и в таком состоянии он каким-то чудом разглядел в ряду машин знакомый «жигуленок», просигналивший ему фарами. Спустился с крыльца и, спотыкаясь, похохатывая, побрел через улицу, доковылял до приоткрытой дверцы и ввалился в салон, подхваченный, как поршнем, крепкой рукой.
— Ты что, Интернетина? Очумел совсем?! — злобно прошипел Санек. — Чего светишься, гад?
— Ре-бя-я-та! — блаженно пропел Боренька. — Я такого навидался, расскажу — не поверите.
Клим потряс его за плечи, он тонко захихикал.
— Не в себе он, в клинче, — определил Клим. — Отваливаем, Саня.
Машина потихоньку выплыла из ряда и на малой скорости докатилась до переулка, куда благополучно свернула. Еще метров сто по узкой улочке, еще поворот — и увязли в темень, как в прорубь. В доме напротив не светилось ни одного окна.
— Где мы? — встревожился Боренька. — Уже приехали?
— Заткнись, — одернул Санек. — Еще слово — и я тебя отключу.
— За что, Саша? — удивился Боренька. — Я ведь все сделал. Всех зверюшек рассовал в норки.
— Сделал и молчи! Сопи в две дырки, пока цел.
Боренька затих и, кажется, сразу уснул. Санек связался с Таиной, доложил обстановку. Интернет вернулся, а что налепил — неясно. Он не в себе. Сделался вроде юродивого. Но там все в сборе. И Столяр, и Толян, и вся основная кодла на месте. Таина уточнила:
— Кныш выходил?
— При нас нет, — ответил Санек. — Мы на точке.
— Что ж, начнем, парни, помолясь, — в ее голосе он не услышал ни тревоги, ни печали. Точно таким тоном она обыкновенно произносила: — Сашенька, привет!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДЕНЬ
ГЛАВА 1
Черный Тагир остался доволен сделкой. Он и судьбой был доволен. Она была к нему милостивой. Две удачи подряд ему улыбнулись. Казанский владыка Лев Иванович Гуринштейн, в просторечье Лева Гороскоп, уступил караванный путь аж за Уральский хребет, в сторону великих рек, а взамен получил несколько доходных мест в столице — казино на Юго-Западе, пару борделей в Марьиной Роще и фирменный магазин итальянской мебели, причем все это с сохранением доли Тагира. Караванный путь к неосвоенным сибирским пространствам сулил заманчивые перспективы, хотя требовал солидных вложений, чего не скажешь о Москве. Проституция, игорные заведения, работорговля — все это пока причиняло больше беспокойства, чем давало прибыли. На московской территории в очередной раз вошли в столкновение политика и бизнес. Мощные взрывы, устроенные какими-то чудовищами, переполошили и без того очумелый город. Московский обыватель теперь пугался собственной тени, тем более с экранов день и ночь не слезал бородатый иорданец, грозя гяурам все новыми карами. Московская чернь вела себя как стадо овец, почуявшее грозную поступь приближающегося льва. Разбушевалась милиция, шарила по чердакам и подвалам, вылавливала подозрительных кавказцев на рынках и в метро. Ей все они были подозрительные, независимо от национальности и внешнего вица. Откупаться от властей приходилось уже в двойном и тройном размере. Проще было отойти в тень и пересидеть смуту. Недвижимость никуда не денется, а Лева Гороскоп пусть немного попирует. Для него прорыв на столичную территорию не менее важен, чем для Тагира продвижение в Сибирь.
Второй удачей был недавний визит знаменитого аравийского моджахеда Кахи Эквадора. У Кахи было множество имен, но Черный Тагир знал его именно как Эквадора. Их знакомство тянулось с незапамятных времен, когда Кавказ еще томился под пятой российского тирана, и оба не жалели сил для святого дела освобождения, но с Кахой Тагиру было не равняться. Героями не становятся, ими рождаются, и бесстрашный Каха всегда был таким, как сейчас, — с пылающим, огненным сердцем, с бестрепетной рукой, поразившей сотни и сотни неверных. Тагир уступал ему во всем, но только не в преданности дружбе и идеалам юности. Каждому свое, сказано у Пророка. Кахе — жар вечного боя, ему, Тагиру, умудренному глубокими размышлениями о сути происходящих в мире перемен, — собирание камней для сражения. Каха не всегда понимал его правильно. При редких встречах высказывал много обид и претензий и иногда делал это в грубой форме, будто разговаривал не с таким же, как он, абреком, а пытался наставить на путь истинный умалишенного. Чистый душой, Каха не понимал значения денег в современном мире, осуждал стремление Тагира к богатству и вообще, на взгляд Тагира, пообтесавшегося в высшем свете, был немного диковат. Он искренне верил, что достаточно сильной воли, мужественного сердца и благородных помыслов, чтобы одолеть вселенское зло. Наивные мысли простодушного воина. Тагир пытался объяснить абреку, что деньги и власть — это сиамские близнецы, на что Каха грозно вопрошал: а зачем тебе власть, бек? Спорить с ним бесполезно, потому что Каха не терпел никаких возражений, мгновенно приходил в неистовство, хватался за кинжал, который пускал в ход так же легко, как иной зажигает спичку.
На сей раз Эквадор приехал с просьбой. Это было настолько необычно, что Тагир в первую минуту не поверил ушам. Фирма, с которой Каха сотрудничал, сговорилась о партии «стингеров», сделала проплату, но потом якобы лопнула. Кто-то крепко нажился на этой поставке. Когда Каха рассказывал об этом, его бешеные глаза вспучились, как два смоляных гейзера, и внезапно в них проступило отчаяние.
— Как можно, бек, объясни? Собаки, наживаются на святом! Попадутся, раздавлю, как клопов.
— Не горячись, брат, — успокоил Тагир. — Это же не люди — гяуры.
Суть просьбы была такова. «Стингеры» еще можно вернуть, если внести немедленно большую сумму — около миллиона баксов. Но, во-первых, у Кахи, естественно, не было таких денег, а во-вторых, он не способен вести хитроумные, сложные переговоры с забугорными поставщиками.
— Помоги сородичам, Тагир, — попросил Каха, для убедительности ткнув себя пальцем в грудь. — Кавказ не забудет эту услугу. И я не забуду, бек.
Тагир опустил глаза, чтобы не выдать радостный блеск. Сделки с оружием были самыми выгодными после наркоты. Он и раньше этим занимался, но на внутреннем рынке и по мелочам. В основном имел дело с перевертышами из крупных российских чиновников, кстати, подлее народишка не встречал даже среди гяуров, подлее и трусливее, — и там речь обыкновенно шла о старом, списанном вооружении с армейских складов, но и то… Выйти на международный уровень, вписаться в законспирированную паутину тайных поставок оружия, охватывающую все континенты, — об этом любой нормальный горец-бизнесмен мог только мечтать. Он делал попытки туда пробиться, но его умело отсекали уже на московском уровне. Сунулся в Прибалтику, но и там наткнулся на знакомые наглые рожи с московской пропиской. И вот Каха принес товар на блюдечке, как тут не обрадоваться? Разумеется, сперва следовало тщательно проверить, что это за «стингеры» и кто за ними стоит. Российский бизнес непредсказуем: вместо ракет могли подсунуть автоматы Калашникова, а Бобби Фишер из Филадельфии мог оказаться каким-нибудь Жориком Зильберштейном из Могилева. Всякое бывало.
— Задумался? — поторопил Каха, начиная раздуваться от гнева. — Не хочешь помочь? Денег жалко?
Тагир поднял голову, по-отечески улыбнулся кунаку.
— Всегда спешишь, брат, а это не всегда хорошо. Миллион — большие деньги, я ведь не сам их печатаю.
— Отказываешься?
— Нет, не отказываюсь. Напрасно обижаешь. Я родину не меньше тебя люблю. Ее страдания рвут мое сердце. Но я не воин, я бизнесмен. Иначе зачем ты пришел ко мне?.. Скажи, Каха, дорогой, когда ты последний раз отдыхал?
— Зачем спрашиваешь?
— Давай сделаем так. Поедешь в отель, отдохнешь, выспишься. Погуляешь по Москве. Чтобы дать ответ, нужно три дня.
— Зачем три дня? Не веришь мне?
— Вера тут ни при чем, брат. Мы уже не раз беседовали с тобой об этом. Бизнес и вера вместе не ходят. Достоверная информация — вот бог коммерции.
— Слушать тебя гнусно, — задумался Каха. — Иногда хочется убить.
— Но за деньгами ты пришел ко мне, — напомнил Тагир. — Если убьешь, не будет «стингеров». Разве не так?
Скрепя сердце Каха согласился с этим аргументом. Дал Тагиру три дня и, недовольный, кривя губы в презрительной гримасе, покинул офис. Отказался и от охраны (он никогда не ходил с охраной), и от маленьких услуг, которые предложил Тагир, чтобы три дня ожидания протекли незаметно…
Через двое суток, наведя справки через своего человека из Росвооружения, Тагир убедился, что дело верное. Труднее оказалось обнаружить Каху Эквадора. Тот как бешеный носился по Москве, разыскивая какого-то майора-неви-димку из спецслужб. Про этого майора знала вся кавказская диаспора, хотя никго не видел его в лицо. Каха подписался на майора лет пять назад и до сих пор его не убил. Его самолюбие страдало. Не было случая, чтобы, появляясь в Москве (всегда проездом), Каха не начинал разыскивать этого майора. В этой истории кое-что Тагира настораживало. Дело в том, что заказчик, у кого Каха взял аванс под майора, давно покоился вечным сном в долине Аргуна. Но и это не все. По некоторым сведениям, Каха не просто не мог разыскать майора, а несколько раз на него натыкался, и тот якобы все еще живой. Вот это никак не укладывалось в сознание тех, кто хоть мало-мальски знал Эквадора. Его слава непревзойденного киллера перевалила вершину Арарата с одной стороны, а с другой пересекла океан и достигла берегов шайтанской страны Америки. Трудно представить, чтобы Каха подстерег свою жертву, повидался с ней — и та весело побежала дальше. Такого быть не могло. Скорее уж весь этот майор был какой-то затейливой выдумкой, нужной Кахе неизвестно для чего. Кахе Эквадору каждый рад был услужить, да что там услужить, редкий соплеменник, у которого сохранилось чувство чести, не пожертвовал бы за него своей жизнью, но как помочь, если непонятно толком, кого он ищет.
Черный Тагир размышлял об этой загадке в своем роскошном офисе на Таганке (фирма «Франсуаза и ее братья»), когда секретарша Наташа по внутренней связи доложила, что пришла журналистка с телевидения.
— Зачем? — удивился Тагир.
— Как же, Тагир Ганидович, — оробела секретарша. — У вас назначено. Еще позавчера.
— А-а, — протянул Тагир, но так и не смог вспомнить, о чем речь. — Ладно, впусти.
Как всякий настоящий мужчина, Тагир чувствовал женскую красоту нервными окончаниями в паховой области, и то, что возникло на пороге, его сразу взбудоражило. Огненно-рыжее существо с безупречной фигурой. В ее коротком платье и замшевом пиджаке выделялись два цвета — черный и алый, — оба неотразимые для Тагира. Он никогда не скрывал радости, увидя прекрасную даму, — будь то на улице, в ресторане, в офисе или на экране телевизора. При этом одна и та же мысль неизменно приходила ему в голову: эх, хорошо бы сейчас!..
Не удержался, поспешил навстречу, забыв, кто он есть. Бывает же так, мелькнет чудесное видение — и ты снова молод, бодр, здоров — и мчишься по родным ущельям на лихом жеребце.
— Слушай, журналистка, да?! — провозгласил он, кидаясь к гостье. — Не верю, нет! Ты не журналистка — богиня! Топ-модель! Назови скорее свое имя, чтобы я уже никогда его не забыл.
Если девушка и была польщена столь неожиданным, неистовым порывом, то никак этого не выказала. Спокойно протянула руку, которую он пылко поцеловал, позволила довести себя до кресла. Улыбалась чуть смущенно. Тагир уже твердо решил, что эту голубку он нынче же оприходует. С женщинами у него осечек не бывало. Да и откуда им быть, если в Москве он король.
Уселся напротив и заговорил вполне деловым тоном, хотя маслянистый блеск глаз выдавал его намерения. Он и не считал нужным скрывать. Женщине лучше сразу дать понять, чего от нее ждут.
— Дел невпроворот, иногда забываешь о главном. Напомни, пожалуйста, девушка, о чем мы договаривались?
— Катя Иванова, — представилась гостья. — Я с шестого канала… Тагир Ганидович, мы готовим новое шоу, условно оно называется «Клуб деловых людей». Это будет что-то вроде такой музыкальной викторины — с танцами, с песнями, но главное не в этом. Мы хотим представить в непринужденной обстановке богатых людей со всеми их заботами, увлечениями. К сожалению, в нашем консервативном обществе до сих пор существует некоторое предубеждение к так называемому среднему классу, к новым русским. Пора его развеять. Пора показать, что богатые люди — такие же, как мы, только, может быть, чуточку удачливее, умнее, талантливее.
Неся всю эту чушь, она не сводила с него иссиня-чер-ных глаз, непроницаемых, как у горянки, и Тагир тихо млел. Ах, хороша, стерва! И грудки, грудки топорщатся, как круглые патиссончики.
— При чем же тут я? Я ведь не совсем русский, — пошутил Тагир. Девушка кивнула, показав, что по достоинству оценила его юмор.
— Тагир Ганидович, новые русские — это понятие скорее философское, чем этническое. Вы согласны со мной?
— Еще бы… Скажи, Катя Иванова, если ты с телевидения, где же все твои помощники… и камеры? Я много раз выступал в телевидении — и всегда ваши ребята приходили целой кучей. А ты почему-то одна.
— Передача будет позже, через неделю. В прямом эфире. Сейчас мы обсудим некоторые детали. И, естественно, я должна получить ваше согласие. Тагир Ганидович, не отказывайтесь, пожалуйста. Вы один из самых известных бизнесменов в Москве, про вас ходят легенды… Москвичи будут счастливы увидеть вас в программе.
— Ты с шестого канала?
— Да, конечно, — девушка торопливо открыла сумочку, готовясь предъявить удостоверение, Тагир протестующе поднял руку.
— У вас кто хозяин, детка? Шалевич или Костяной? Я чего-то их все время путаю. Фамилии похожие, да?
— Вообще-то мы считаемся независимыми, — без тени улыбки ответила Катя. — Тридцать процентов акций принадлежат государству.
— Ага, вспомнил… — обрадовался Тагир. — Вас перекупил Шерстобитов. Хороший человек. Я его знаю. Тоже новый русский. Из Баку приехал.
Вместо удостоверения девушка достала пачку незнакомых ему сигарет с завлекательной полуголой негритянкой на коробке, взглядом спросила разрешения. Тагир подал пепельницу. Он не выносил курящих женщин. Уважающая себя дама никогда не станет курить при мужчине, но сейчас это не имело значения. Сейчас имело значение совсем другое. Мысленно он прикинул встречи, предстоящие на этот день (Каха! Главное повидаться с Кахой!), и решил, что сможет уделить ей внимание только ближе к ночи. Иначе никак не получалось. Конечно, можно устроить маленький праздник прямо здесь, в кабинете, но он чувствовал, что это как раз тот случай, когда не стоит торопиться. Быстрое удовольствие — плохой кайф.
— У меня условие, — сказал он строго. Девушка затянулась тонкой сигаретой, держа ее длинными пальцами посередине (красиво курила, ничего не скажешь), и изобразила полное внимание.
— Я приду на вашу передачу, но вы, Катя, сегодня со мной поужинаете.
Тут он увидел, как краснеют рыжие красотки. Тоже красиво. На щеках проступили крохотные веснушки. Тагир в восхищении поцокал языком. Он был большим ценителем и знал, что обозначают детские пятнышки на ланитах искушенной жрицы любви. В том, что девушка искушенная и любвеобильная, сомнений не было. На телевидении других и не держат.
— Ваше предложение, — сказала Катя, — большая честь для меня, но если вы думаете…
— Ничего не думаю, — весело перебил Тагир, окидывая ее взглядом, который красноречивее слов. Набивает себе цену, это ему нравилось, это входило в правила иіры. Значит, не дешевка.
— Ничего не думаю, Катюша. Покушаем, немного выпьем. В хорошее место пойдем. Шашлык — пальчики оближешь.
— Вы знаете, — прошептала девушка, словно смиряясь с неизбежным, — что вам невозможно отказать. Но что подумают мои родители? Про вас, Тагир Ганидович, идет такая слава…
— Зачем родители, вай? Родителям ничего не скажем. Покушаем, отдохнем. Привезешь им подарок.
Девушка вспыхнула.
— Напрасно вы так, Тагир Ганидович. Я за подарками не гоняюсь.
— Не гоняешься, еще лучше. Будем репетировать твой шоу. Как я там буду петь, плясать, шутки шутить.
— Вы удивительный человек, Тагир, — обронила красавица, с таким томным выражением, что он аж задохнулся. На озорной мордашке прочитал обещание неземных утех.
— Чем же я удивительный? — спросил лукаво, подбадривая ее пылающим взглядом.
— Наши мальчики… все эти качки, интеллектуалы — они вам в подметки не годятся. У вас аура истинного рыцаря.
— Мальчики тоже хорошо, — великодушно возразил Тагир, которого покоробило сравнение с телевизионной швалью. — Только в меру.
Сговорились, что в девять часов он подхватит ее в центре, возле памятника Пушкину — сам заедет или пришлет кого-нибудь.
— Не надо присылать, — попросила Катя. — Сделайте одолжение, мой принц, явитесь лично.
— Лично явлюсь, — согласился Тагир, борясь с паховым зудом. Когда провожал до дверей, все же не удержался, ласково провел широкой ладонью по упругим, отозвавшимся дрожью ягодицам девушки, — она резко повернулась, и Тагира ослепила дикая, завораживающая вспышка в смуглых очах. Вай, что будет! Какая ночь его ждет!
Едва ушла, связался с охраной. Ответил Королек, бывший капитан-мент. Тагир распорядился:
— Сейчас выйдет рыжая курочка, последи за ней. Поводи до вечера. Куда пойдет, с кем встретится. Разговоры послушай. Понял?
— Понял, хозяин. Больше ничего?
Тагир смешливо хмыкнул. Бывший мент, как и все они, на редкость бестолковый малый, но исполнительный — и дело свое знал.
— Больше ничего. После доложишь, не забудь.
— Как можно, хозяин?
Не то чтобы Черный Тагир усомнился в прекрасной гостье или ожидал от нее подвоха, но по привычке всегда принимал некоторые меры предосторожности. В покоренной Москве серьезная опасность ему не угрожала, но конкуренция большая: если не оглядываться, могут устроить пакость, откуда вовсе не ждешь. Причем свои же соплеменники.
Каха Эквадор объявился около шести — злой, раздраженный. В Москве он всегда такой. Уверял, что здесь воздух пропитан ядом, зловонным дыханием гяуров, и нормальный человек долго дышать в Москве не может, обязательно помрет. Тагир соглашался: да, да, в Москве жить нельзя, вонища невыносимая, но про себя посмеивался над пылким абреком. Сам он к Москве относился спокойно и даже с некоторой приязнью. В ней он стал большим человеком, получил власть и деньги. Наверное, и в горах он чувствовал бы себя хозяином, но оттуда трудно повелевать миром, а из Москвы можно. Со временем он надеялся обрести такое могущество, которое позволит ему перешагнуть через океан и нанести удар в сердце самого страшного зверя. Мечта великая, но когда-нибудь она осуществится. Сделка со «стингерами» — всего лишь верстовой столбик на пути к этой мечте.
— Шайтан их всех возьми! — ярился Каха, носясь по ореховому кабинету, как по клетке. — Город тьмы и червей. Хамида просил, Абрамыча просил, все бегают, ищут, а как найти? Как можно разыскать одного человека на вонючей помойке, среди червей?
— Найти можно, — Тагир наблюдал за буйным гостем из угла. — Была бы зацепка.
— Какая зацепка? — прорычал Каха. — Фамилия есть, адрес есть, самого человека нету. Где он? Может, в подвале сидит? Покажи мне этот подвал.
Когда Каха зацикливался на майоре-невидимке, отвлечь его от этой темы было почти невозможно, то есть сперва он должен был обязательно отбушевать. Тагир знал, как вести себя в подобных случаях. Надо сделать вид, что для всех Кахиных побратимов поимка майора — такое же важное дело, как для него самого.
— Ты уверен, что он живой? Он же знает, что ты его ищешь. Может, сдох от страха? С ними это бывает.
Каха прекратил бег, внимательно поглядел на сородича, словно ища подвоха. И вдруг сказал такое, что озадачило Тагира:
— Нет, он сам по себе не сдохнет. Да я не хочу его убивать. Я хочу с ним поговорить.
— О чем, брат? О чем ты будешь говорить с поганцем?
— Ты не все знаешь… Он два раза подарил мне жизнь. А я не отдарился. За ним остался выстрел. Пусть стрельнет.
Тагир смущенно сморгнул.
— Брат, ты разве ищешь смерти?
— Не смерти, справедливости. Никто не должен сказать, что Каха не вернул долг.
— Понимаю, — удрученно заметил Тагир, хотя на самом деле понимал еще меньше, чем до этого разговора. — Майор показал себя благородным существом — и это тебя удивило. Он русский?
— Да, русский.
— Значит, здесь какая-то ошибка, — улыбнулся Тагир. — Животные не бывают благородными. Они верно служат или кусают хозяина за руку. По-другому не может быть. Поговори с любым рабом, они все одинаковые.
Каха опустился в кресло и горестно поник. Он-явно выдохся. Трехдневная беготня по мертвому, призрачному городу высосала из него живые соки. Тагир открыл бутылку красной «хванчкары», любимого напитка Кахи. Пробормотал сочувственно:
— Остынь, абрек… Если угодно Аллаху, рано или поздно найдешь своего майора… Давай вернемся к нашему делу.
— Давай, — согласился Каха, но по лицу его было видно, что мыслями он далеко.
Тагир сообщил, что навел необходимые справки и готов уже сегодня перевести деньги на счет, который оставил Каха. Всеми формальностями займется контора. Через две недели груз прибудет по месту назначения. Каха немного приободрился.
— Ты хороший человек, Тагир. Сам знаешь, Кавказ без оружия, как волк без зубов. Деньги получишь обратно. Не сразу, но получишь.
— Конечно, получу, — усмехнулся Тагир. — У меня есть еще маленькая просьба…
— Все, что хочешь, бек, — Каха картинно прижал руку к груди.
— Дальше я сам буду заниматься поставками. Пусть никто не мешает.
Эквадор насупился.
— Не доверяешь нашим людям?
— Почему не доверяю? Твои братья и мои братья. Это честнейшие, благороднейшие джигиты, но ведь они все передрались. Наша свара на руку гяурам. Иногда мы сами вредим себе больше, чем русские нам вредят. У русских не осталось сил, они вымирают и только тявкают. Зато мы сами кусаем друг друга за ляжки.
Каха задумался, потом сказал:
— Ты мудрый, ата. Никто тебе не помешает. Кто будет мешать, пожалеет об этом. Но немного придется делиться. Мне ничего не надо, но кое-кто захочет получить свою долю. Трудно будет отказать.
— Я хочу только одного, — отозвался Тагир, — чтобы оружие стреляло по врагам.
Туманный ответ вполне удовлетворил Каху, и он стал прощаться, так и не притронувшись к вину. Тагир проводил его до машины — черного БМВ с московскими номерами. В машине сидел незнакомый Тагиру водитель.
— Где остановился, брат? — спросил Тагир.
— У друзей, — Каха прятал глаза — очень странно! Возможно, он умнее, чем думал о нем Тагир.
— Скоро ли возвращаешься в горы?
— Завтра… Сегодня заскочу в пару мест. Там видели человека, похожего на майора. Правда, давно. Прошлым летом.
— Удачи тебе, абрек… Могу ли еще как-нибудь услужить?
— Ничего не надо, спасибо. На днях дам о себе знать.
Обнялись, прижались друг к другу щеками — и Каха канул в круговорот Москвы. Искать свою пропажу.
Возвращаясь в офис, наткнулся на смущенного Королька. Бывший мент, завидя хозяина, юркнул за конторку, но Тагир величественно поманил его пальцем.
— Скажи, Королек, почему ты здесь? Я же тебя послал за девушкой. Чтобы приглядел.
Королек потупился, чуть ли не покраснел.
— Осечка вышла, хозяин.
— Какой осечка, не пойму тебя?
— Соскочила плотвичка.
— Как соскочила? Шутишь, что ли?
— Никак нет, — мент фальшиво лыбился. — Чудно вышло. Сел на хвост — у нее светлая «скорпия», отличная тачка, — никакой подлянки не ожидал, девка же молодая, а она на светофоре оторвалась.
— Как оторвалась? Ты очумел, Славик?
— Сам не пойму. Перекресток пустой, она на красный и ломанула. Я за ней — там грузовик выкатился. Пока объезжал, куда-то в переулок нырнула. Как ящерица, честное слово.
Тагир глядел на мента задумчиво, и под его тяжелым взглядом приземистый капитан еще уменьшился в размере.
— Скажи, Королек, за что тебе деньги плачу? Может, не надо платить? Может, задаром поработаешь?
— Виноват, хозяин. Кто же мог подумать?..
— Тебе думать не надо, за тебя другие думают… У тебя в том месяце тоже была осечка, помнишь?
— В тот раз меня Купол подставил.
— Тогда скажи, она тебя засекла или просто так убежала?
Мент вздохнул с облегчением, распрямился: вроде миновал барский гнев.
— Навряд ли, Тагир Ганидович. Нет, не могла засечь. Я нормально держал дистанцию, через три машины… Нет, не могла. Соплюшка совсем, куда ей.
— Давай так решим, Славик, — ласково заметил Тагир. — Ты человек бывалый, служишь уже год, законы знаешь. Еще раз осечка — и секир башка. Чтобы после не обижался.
Мент побледнел, но ответил по-прежнему смиренно:
— На все ваша хозяйская воля, Тагир Ганидович.
Несмотря на досадный прокол, Черный Тагир испытал приятное удовлетворение от разговора с проштрафившимся капитаном. Помнил, каким тот был, когда он брал его на работу, — заносчивым, самоуверенным, себе на уме. Теперь совсем иное дело — ведет себя учтиво, не кривляется, не дерзит. Все-таки русские свиньи, если держать их в строгости, поддаются дрессировке. Это важно, потому что в некоторых деликатных вопросах без них в Москве не обойтись… Вернувшись в кабинет, хотел дать секретарше поручение, чтобы навела справки на шестом канале — водится ли там такая Катя Иванова, но сам себя урезонил. Стыдно, бек! В каждой девке сидит шайтан, но ему ли бояться? Снова вспыхнула в глазах рыжая телка — высокая, сиськи торчат, в очах тьма первозданная — и больно заломило в паху. Вызвал секретаршу со смутным желанием излить дурь, но увидел — и остыл. Наташка — рослая голубоглазая блондинка, природой слепленная, чтобы на ней скакать, но скучная, пресная, как творог. В принципе Тагир был ею доволен: образованная, знает два языка, безотказная, смышленая, из порядочной семьи — папаша чуть ли не академик, — но без огонька, ох, без огонька!
Брезгливо скривил губы.
— Тебе чего, Наташа?
Зарделась, переступила с ноги на ногу, кинула быстрый, откровенный взгляд на кресло, где он ее пользовал под настроение.
— Звали, Тагир Ганидович?
— Звал, да. Какие у нас срочные дела?
Поглядела с удивлением — и это понятно. В офис редко заглядывали посетители, и никаких сделок здесь не заключалось. Каха Эквадор — это исключение. Но был штат, охрана — все как положено. Он сам здесь ежедневно просиживал штаны три-четыре часа по той единственной причине, что так делали все богатые люди. Как же без офиса? И в Европе есть офисы, и в Америке — и везде. Значит, должен быть и у него. Основная его кипучая деятельность проходила совсем в иных местах: на съемных квартирах, на рынках, в банках, в магазинах, но только не на фирме «Франсуаза и ее братья». Это просто так — красивая этикетка на залежалом товаре.
— Значит, дел нет, Наташа?
— Как скажете, Тагир Ганидович, — позволила себе намек белокурая кобылка. — А я всегда готова.
— Сегодня — нет, — огорчил ее Тагир. — Завтра — да. Я сейчас уеду, но ты не говори, что я уехал. Говори, что скоро опять приеду.
— Слушаю, Тагир Ганидович.
— Скажи, Наташа, вот эта рыжая штучка с телевидения — ты ее раньше видела?
— Кажется, видела.
— Где видела?
— Не помню, в какой передаче. Я редко смотрю телевизор.
— Не любишь телевизор?
— Некогда, Тагир Ганидович. Я же вся в работе.
— Ну и хорошо. Ступай дальше работай.
…Около девяти вечера подъехал в центр. Велел водителю завернуть на платную стоянку возле «Макдоналдса», рядом припарковался джип с охраной. После трудного дня и нескольких важных встреч в городе (стингеры! стингеры! стингеры!) ему хотелось только одного — бабу и вина. Но не просто любую бабу — целый день носил в воображении рыжую журналистку, а это с ним редко бывало. То есть желание иметь женщину возникало в нем в течение дня по нескольку раз, как голод, но обыкновенно не связывалось с определенным лицом. Та или эта — какая разница. Он любил сделать выбор в последний момент по мимолетному настроению. Иногда его выбор обескураживал. Мог взять кривую, хромую, глухую, больную, прыщавую — лишь бы попала под каприз. Он никогда не загадывал с утра, кого насадит на вертел к вечеру. Важно, что голодным не останется. Ублажив себя с очередной самкой, сытно рыгал и напрочь забывал о ее существовании. Поэтому среди дам слыл ветреником и Дон Жуаном, хотя говорили, что в разных районах Москвы и в других городах у него есть и официальные жены, которых он поддерживал материально, и они растили ему наследников. Правда это или нет — точно не знал никто. По некоторым обмолвкам Тагира, когда он пировал с кунаками и находился в добром расположении духа, он и сам об этом не знал.
Рыжая бестия, пробыв в кабинете всего полчаса, заронила в суровое сердце абрека какую-то искру, которую следовало поскорее потушить. Весь день он чувствовал себя словно на пороге простуды — вялость, хриплое дыхание, шум в ушах. Кровь пульсировала по венам тяжелыми толчками.
К памятнику пошел один — и тоже какой-то не своей походкой, грузно припадая на левую ногу. Увидел девушку издали — яркий цветок, обтекаемый вечерней толпой — наркоманы, проститутки, искатели приключений, случайные прохожие, пугливо озирающиеся по сторонам, — московский сброд, который так ненавидел благородный Каха Эквадор.
Подойдя сбоку, тронул за локоть, девушка резко обернулась — и он заново поразился жутковатой, синей черноте ее глаз, сулящих нирвану.
— Напугали, Тагир Ганидович… Разве так можно!
— Скажи, Катя, — сказал он смиренно. — Ты не ведьма?
— Почему вы так подумали?
— Глаз лихой, черный. Откуда такой глаз?
— Это комплимент, Тагир Ганидович?
— Как мальчик, к тебе пришел на площадь. Ты позвала, я пришел. Немного смешно, да?
— Не я позвала, — поправила Катя Иванова. — Вы сами распорядились, чтобы ждала у памятника.
Тагир припомнил, что так оно и было. Но не мог объяснить себе, почему ему в голову пришла такая блажь.
— Где твоя машина, Катя?
— Вон там, — девушка повела рукой в сторону метро. — Хотите на ней покататься?
На чистом девичьем лице — выражение беспечной готовности следовать за мужчиной, выполнять его прихоти и повиноваться. И все же у Тагира мелькнула мысль, что рыжая краля в душе потешается над его неуклюжими манерами и вовсе не чувствует к нему того почтения, какое всячески выказывает. Мысль не такая уж дикая. Он и прежде сталкивался с тайным сопротивлением северных шлюх, с их животным упрямством, ничего удивительного. Женщины гяуров так же двуличны, как их мужчины. Ему нравилось усмирять белых рабынь. Овладевая шлюхой, трепещущей от ненависти и страха, он испытывал двойное удовлетворение — и физическое, и моральное. Однако, страшась, ненавидя и трепеща, они все невольно восхищались им, как сильным, неукротимым самцом.
— Кататься не хочу, нет, — сказал довольно резко. — Дай ключи. Ребята пригонят машину, куда надо.
Девушка молча протянула связку на серебряном увесистом брелке.
Через полчаса они сидели в отдельном кабинете в шалмане на Моховой. Заведение принадлежало Кривому Арса-ну, давнему соратнику по бизнесу, верному кунаку. Арсан занимался в основном валютными спекуляциями, иногда для души баловался работорговлей (сплавлял живой товар в Турцию и на Ближний Восток), их интересы редко сталкивались, они договаривались полюбовно и ко взаимной выгоде. В ночном клубе «Арлекино» Тагир чувствовал себя в полной безопасности, как в родном ущелье. Чужих сюда не пускали. А если по неосторожности залетал какой-нибудь хорек с крутыми бабками, то это, как правило, оказывалась для него последняя гулянка. В шалмане все было устро ено для спокойного полноценного отдыха солидных гостей, знающих цену своему времени и человеческой жизни. Первое, естественно, стоило намного дороже. «Арлекино» — не дешевый притон, каких в Москве натыкано, как иголок на ежике. Никакого распутства, громкой, похабной музыки, дури и игровых комнат. Культурная обстановка, располагающая к дружескому общению, размышлениям и здоровому пищеварению. Кухня в «Арлекино» отменная, таких в городе раз, два — и обчелся. Шеф-повар, пожилой, тучный грек Аристотель, выписанный из Эмиратов, за каждое блюдо отвечал головой, но пока ни разу не навлек на себя неудовольствия гостей. Ему сообщили о прибытии Тагира, и минут через десять после того, как они с Катей уселись за стол, он пришел засвидетельствовать свое уважение. Тагир поднялся ему навстречу, похлопал по плечу, пожал пухлую руку в перстнях, то есть выказал наивысшие почести, какие может хозяин оказать выдающейся прислуге.
Грек порекомендовал на ужин обычную русскую солянку, которая, по его мнению, хорошо сочеталась с седлом барашка, приготовленным по древнему рецепту Тамерлана.
— Про вино молчу, — заметил с почтительной улыбкой, проступившей на толстом лице как масляное пятно. — Тут вы, дорогой Тагир, дадите фору кому угодно.
— Чего мудрить, — ответил бек. — Запьем обычным «Шатобрианом», а для затравки пусть принесут из погребка чего-нибудь позабористее. Катя, хочешь попробовать настоящий пиратский ром из Египта?
— Хочу, — у девушки блестели глаза, словно туда плеснули черного вина. Аристотель на нее косился, насколько позволяли приличия. Опять Тагир удивился. Ему было известно, что повар обожает молоденьких мальчиков — и больше никого. Тучность его обманчива, он едок плохой. В прошлом году бедолага пережил третий инфаркт и, шел слух, по почину президента готовился к шунтированию.
Выпив с ними по бокалу шампанского, он начал откланиваться. Тагир остановил его вопросом:
— Скажи, Ари, когда операция?
Грек мгновенно побледнел.
— Я в затруднении, бек. Может, не надо операции?
— Почему не надо? Все делают — и ничего. Снова будешь молодой, горячий.
— Как получится еще? — капризно протянул грек, складывая жирные губы в пакет. — Вон Юра Никулин помер. И еще кое-кто из наших.
— Про Юру не знаю, а Черная Морда скачет по всему миру, как козел. Не будь мудаком, Ари. Поедешь в Германию или в Штаты, там хорошо умеют.
— Риск большой.
Вмешалась Катя. Спросила с любезной улыбкой:
— Вас сердце беспокоит, господин Аристотель?
Повар перевел на нее плавающий взгляд.
— Страдаю немного, не скрою.
— Совсем необязательно делать операцию. У меня есть знакомый, может помочь.
— Кто такой? — без особой надежды поинтересовался грек.
— Дедушка Архип. Самый настоящий колдун. Без обмана.
— Прелестная дама, я не верю в колдунов. Я к ним уже ходил. Они только пугают.
— Вы были не у тех. Дедушка Архип творит чудеса.
— Сходи, сходи, — поддержал Тагир. — Хуже не будет.
Грек удалился, метнув на девушку странный взгляд, будто пожалев о ее торжествующей красоте.
— С колдунами дружишь? — полюбопытствовал Тагир.
— Только с одним. Хотите, вас к нему отведу?
— Зачем? Мое сердце как мотор.
— Он помогает в бизнесе.
— Острый кинжал, — пошутил Тагир, — самый главный помощник джигиту.
Ужин затянулся часа на полтора — и все это время они были наедине, если не считать мальчика-официанта, наряженного под казачка (символика! везде символика!), который появлялся с новыми блюдами и бутылками и исчезал совершенно бесшумно, как призрак. Для Черного Тагира застолье получилось утомительным. С каждым куском проглоченного мяса, с каждой рюмкой вина похоть его разбухала и в конце концов заполнила все клеточки могучего тела. Он все медленнее двигал челюстями, кривился в угрюмой улыбке и ощущал себя так, будто красавица, делившая с ним трапезу, была первой женщиной, которую он увидел после долгого пребывания на необитаемом острове. Такого сильного любовного потрясения он давно не испытывал.
Катя Иванова, если она была Катей Ивановой, напротив, ела с отменным аппетитом, пробовала все подряд — салаты, приправы, закуски, — не отставала от него в питии, при этом успевала развлекать его неумолчным щебетанием, похожим на любовное цоканье голубки, подманивающей ухаря-партнера. Разгораясь нежным румянцем, светясь веснушками и завораживая бездонной сумрачной чернотой глаз, она, словно доброму дядюшке, подробно рассказала о телепередаче, где ему предстояло выступать. Она не сомневалась, что благодаря своей мужественной, интеллигентной внешности, острому уму и музыкальности Тагир Ганидович легко затмит всех остальных участников, и не скрывала, что это очень для нее важно. Она много сил вложила в передачу, да и вообще, если говорить начистоту, сама ее придумала. Все остальные шоу в этом роде, включая и таких монстров, как «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Любовь с первого взгляда» и даже замечательное «Про это» — в сущности, уже устарели, день ото дня теряли рейтинг, и причина, по ее мнению, была в том, что все они слизаны с одной американской кальки. Чтобы поразить воображение вымирающего россиянина, требовались какие-то более сильные средства, соответствующие уровню его деградации. По замыслу новая передача сохраняла столь прельстительный для россиянина набор: блеск американской мечты о сумасшедшей халяве, звон монет, обнаженная натура, бредовые диалоги, но была в ней изюминка, которая позволяла надеяться, что новое шоу переплюнет все прежние, а возможно, станет вровень с латиноамериканскими сериалами. А именно — возможность личного общения с миллионерами, причем не только для непосредственных участников, приглашенных в студию, но и для зрителей, сидящих у экранов. Победители заочных конкурсов будут вызываться в Москву и принимать подарки прямо из рук членов «Клуба деловых людей», а не от всем опостылевших телеведущих. Но и это не все — внимание, Тагир Ганидович! Девушки-призеры, доказавшие свое право на большое человеческое счастье, получат шанс провести с полюбившимся им героем передачи ночь любви.
Черный Тагир не все понимал из того, что рассказывала Катя Иванова, но в этом месте насторожился.
— Как — ночь любви? Вдруг она уродина, зачем буду с ней спать?
— Дорогой Тагир, — успокоила девушка. — На телепередачах все призеры подбираются заранее. К вашим услугам будут самые красивые девушки страны.
— Если будут мальчики? С ними тоже спать?
— Только по вашему желанию, — уверила Катя, посулив туманным взглядом вовсе запредельную негу. Тагир почувствовал, что терпение его на исходе.
— Еще хочешь чего-нибудь кушать? — спросил одеревеневшим голосом.
— Ой, — сказала Катя, проведя по животу округлым, плавным движением — бедного Тагира кинуло в дрожь. — Больше не влезет. Но ведь мы заказали мороженое. Вы куда-то спешите, дорогой?
— Зачем спешить? Куда спешить? Кушай мороженое, пожалуйста, — обреченно вздохнул бек и потянулся за графинчиком с ромом. Девушка подняла рюмку.
— Можно тост, Тагир Ганидович?
— Говори, зачем спрашиваешь.
Лаская его взглядом, раскрасневшаяся, с растрепанной прической, желанная, как сто тысяч гурий, подвинулась к нему ближе.
— Хочу выпить за вас, милый Тагир. Вы сегодня одарили меня праздником — никогда этого не забуду. Словно в сказке ІНахерезады побывала. Про вас говорят — то, да се, удачливый бизнесмен, покоритель сердец, великий воин, — наверное, это все правда, но я увидела нежного, деликатного рыцаря с сердцем ребенка. Спасибо, мой господин. Живите долго на радость тысячам людей, которых облагодетельствовали…
— Молодец, девочка, хорошо сказала. За тебя тоже пью. Давай скорее поедем продолжать праздник.
Катя поставила на стол пустую рюмку.
— Поехали, витязь. Куда прикажете… Я сама вся горю… Позвольте отлучиться на минуту?
Тагир сидел за столом опустошенный, растроганный. На губах мечтательная улыбка. С досадой взглянул на появившегося Аристотеля. Повар вошел боком, в руке бутылка без этикетки, запечатанная сургучом.
— Тебе чего? — буркнул Тагир, погруженный в мечтания.
— Извини за беспокойство, бек… Вино из Бургундии. Прислали с оказией ящик… А где, простите, ваша прекрасная дама?
— Опять девочками интересуешься, Ари?
Повар топтался в нерешительности.
— Я подумал про колдуна, хотел взять адрес. Может, правда поможет? Под нож ложиться неохота.
— Нож не страшно, — возразил Тагир. — Хуже удавка. Что скажешь про девушку, Ари? Хороша, да?
Грек закатил масляные глаза к потолку.
— Слов нет, бек. Чудо. Только она не наша, чужая. Поостерегись, бек.
— Что хочешь сказать? — удивился Тагир.
— Прости, бек, но она не шлюха.
— Как не шлюха? А кто же? Царица Савская?
Повар присел на краешек стула, что при его весе было трудно.
— Она не из вашего круга, господин Тагир. Возможно, даже не из нашего времени. Я знаю. У моей покойной дочери были такие же глаза, всегда печальные. И когда смеялась — тоже. Девочка не смогла жить в этом мире, потому что была настоящая, а наш мир искусственный. Он весь сделан из полуфабрикатов и электроники. Поэтому я верю, что если у нее знакомый колдун, то это настоящий колдун, а не экстрасенс.
— Что мелешь, Ари? Она же с телевизора. Из самого грязного притона.
— Наверное, она оттуда, но я так не думаю.
Озадаченный странными речами грека, Тагир не сразу заметил, что прошло пять минут и десять минут, а Катя Иванова все не возвращалась. Он ощутил легкое беспокойство.
— Ари, позови кого-нибудь из моих людей.
Повар с поклоном удалился, оставя нераспечатанную бутылку на столе. Через минуту в кабинете возник охранник Махмуд, опытный, надежный парень.
— Махмуд, где девочка? В сортире?
Охранник удивился.
— Почему в сортире, хозяин? Она уехала.
— Как уехала?
— Вы же сами послали.
По сузившимся глазам босса Махмуд уловил, что допустил какую-то промашку, и съежился, отступил к двери.
— Куда я ее послал? — тихо спросил Тагир.
— Переодеться. Вы велели ей переодеться в Красную Шапочку. Я подумал…
— Ты отдал ей ключи от машины?
— Отдал, хозяин.
Тагир медленно налил рома в бокал, медленно выпил. У него не укладывалось в голове, что рыжая, болтливая сорока с медовым языком так нагло, подло его кинула. Но если это так… если это так, она пожалеет, что родилась на белый свет.
— Ты записал номер машины, Махмуд?
— Конечно, хозяин.
— Завтра я должен знать, кто она и где живет. Ты понял, Махмуд?
— Сделаем, это нетрудно, — с облегчением ответил охранник. — Но поверьте, досточтимый, мы же не могли…
— Пошел вон, собака! — распорядился бек.
ГЛАВА 2
Это было семь лет назад…
На перемене ее перехватил Федька Захарчук, отвел к окну. Отвратительный тип: наглый, коварный, рожа сальная, немытая — и глаза слезятся, как у вечно обкуренного. Но — работодатель, распорядитель услуг. Упулился на Тину, точно она голая.
— Ну что, киса, сегодня пойдешь?
У Тины душа обмерла. Готовилась, настраивалась — вот-вот это должно произойти, а когда услышала, когда увидела Федькину скабрезную ухмылку, опять заколебалась. Но отступать нельзя. Сама напросилась.
— Пойду, хорошо.
Подружки с любопытством глазели от соседнего окна: догадывались, зачем ее отозвал центровой. Все трое давно в Федькином списке.
— К пяти сможешь?
— Ага.
Федька пожирал ее глазами, зачем-то ухватил за плечо. Она с негодованием отбросила его руку. Захарчук нагнулся, дыхнул перегаром.
— Киса, только не темни. Ты действительно ни с кем ни разу?
— Феденька, тебе никто не говорил, что ты кретин?
Детина радостно заухал.
— А ты прикольная… Ладно, пиши адрес.
Таина достала блокнот, куда заносила понравившиеся ей словечки и мысли, как великих людей, так и одноклассников, и аккуратно записала под Федькину диктовку: отель «Спорт», Ленинский проспект, номер дома такой-то.
— Федь, он хоть молодой?
— Тебе какая разница, — неожиданно взъярился сводник. — Отработаешь, возьмешь два куска — и канай. Сотню отдашь мне. Еще есть вопросы?
— Нет вопросов, милый.
— Гляди, Тинка, если наколешь…
— Пошел ты!
— Тогда чао, родная.
Двинул прочь по коридору — каланча с тугим, обтянутым джинсами задом. Шелупонь из младших классов рассыпалась перед ним, как орешки. Завуч Иона Андреевич уважительно пожал ему руку, как равному. «Господи, — подумала Таина. — Куда катится человечество?»
Вернулась к подружкам — те ее утешили.
— Когда-то все равно надо начинать, — заметила Лика Терехова, кобылица давно объезженная. — Лучше раньше, чем позже. Ты и так, Таек, заневестилась, вся школа ржет.
— Мазь дам, — поддержала Галка Строева. — Помажешь — и ничего не бойся. Ни капельки больно не будет.
Таина грустно заметила:
— На девственности наварю всего сто баксов. Не продешевить бы.
— Когда я начинала, — мечтательно вспомнила Лика, — цены были совсем другие.
— При чем тут деньги, — возмутилась Галка. — Это нужно в первую очередь ей самой.
Таина лукавила: сто долларов — для нее огромная сумма, если учесть ее положение. Сама пообносилась, и семья бедствовала. Рынок слабых не щадит. У матушки обострилась щитовидка, ей требовались дорогие лекарства; отец не просыхал с тех пор, как его выкинули из строительной фирмы «Райская долина». Точнее, не выкинули — фирма разорилась: после августа с полгода не получала крупных заказов и не могла держать на зарплате постоянных работников. Отец был мастер на все руки, но вынужденное безделье странным образом повлияло на его рассудок: каждое утро он бодро выходил из дома, пообещав супруге, что сегодня обязательно куда-нибудь пристроится, иногда даже называл конкретный адрес (контора, РЭУ, заводоуправление), но часа через два-три приползал на карачках, один или с дружком, и керосинил до глубокой ночи. Не буянил, нет, углублялся в себя и с каждой выпитой рюмкой все дальше отстранялся от нелепой суеты мира. Часами сидел на кухне, между столом и холодильником «ЗИЛ», с мерцающей на устах загадочной улыбкой, словно прозревал внутренним взором что-то необыкновенно-прекрасное, недоступное трезвому взгляду. В контакт с женой и дочерью входил только тогда, когда выпивка заканчивалась, и он срывался в поход за очередной бутылкой. На слабый упрек жены: «Миша, ты же обещал, что сегодня…» — грозно огрызался: «Заткнись, женщина! Чего не понимаешь, о том молчок!»
Таина нежно любила своих незадачливых родителей и, можно сказать, вообще никогда никого не любила, кроме них. Мечтала скупить всю аптеку импортных препаратов, чтобы мамочка избавилась от раздувшегося зоба и перестала реветь, увидя себя в зеркало; и еще представляла со счастливой улыбкой, как однажды поставит на стол перед отцом огромную, пузатую бутыль «смирновской» водки, которую пьют все порядочные люди, вместо той вонючей тульской или азербайджанской отравы, которую отец ежедневно добывал у какой-то Марфы в супермаркете, — от нее потом мучился изжогой, кашлял с кровью, и на лбу у него выскакивали загадочные фиолетовые прыщи, как у прокаженного.
Нужда в деньгах была основательной, но не главной причиной, заставившей Таину, преодолев гордыню, подгрести к Федьке Захарчуку с его немытой рожей и попросить внести ее в список. Главная причина была скорее морального свойства. Или же мировоззренческого, кто как понимает. Ей надоело выглядеть в классе белой вороной. Из нетронутых девиц осталось только двое, она да Елка Кошевая, но той, видно, на роду написано куковать в одиночестве, уж больно страшненькая, тощая, без грудей и без ног, да еще шепелявая и с белесыми, неопределенного цвета, какими-то прижмуренными, как у больной болонки, глазками. При такой незавидной внешности Елка была умным, неробкой души человеком, верной подругой, но в амурных делах это мало ей помогало. Уже два года она делала отчаянные попытки кому-нибудь отдаться невзначай, хотя бы тому же засаленному Федьке, который, всем известно, не брезговал никакой движущейся целью, но пока ей это не удавалось. Единственное, в чем Елка Кошевая преуспела, так это в том, что с первого класса была круглой отличницей, уверенно шла на золотую медаль и в этом отношении у нее не было соперниц. Другой вопрос, куда она по нынешним временам сунется с этой медалью.
Из принципалок — из тех, кто по моральным соображениям не хотел заниматься блудом, дольше всех, кроме самой Таины, держалась Вика Заманская, по кличке «Цыганка», но месяц назад, на дискотеке по случаю Дня Учителя, и ее улестил, подпоил один из Федькиных подельщи-ков, мальчик красивый, взрослый, не из их школы и вроде даже уже рэкетир, — и заносчивая Цыганка лишилась невинности на полу в раздевалке так же быстро, как пчела стряхивает пыльцу. Теперь получалось, что одна Таина Букина выхваляется и что-то хочет кому-то доказать. Это было наивно, нелепо, несовременно — и выглядело, как обыкновенная умственная заморочка. Вдобавок некоторые из одноклассниц, из самых продвинутых, воспринимали это как личный вызов. Подруги вслух ее не осуждали, хотя прохлада в отношениях постепенно нарастала, зато пацаны стыдили в глаза, и она стала предметом множества специфических, иногда грубоватых шуток и розыгрышей. Лидер класса Савик Павленко, балагур, наркоман и бездельник, каждое утро встречал ее одним и тем же трагически-испуганным вопросом: «Ну как, Тинушка, все в порядке? Уберегла?!» И отвечала она одинаково: «Не переживай, милый… Показать?» Озорник отмахивался: «Не надо, что ты, верю, верю!» — и для всех присутствующих поднимал вверх большой палец: дескать, все путем, пацаны, сокровище на месте. Смешно? Наверное. Но не для нее.
Придя из школы, обязательно находила в сумке что-нибудь соответствующее: порнографический журнал, любовные письма, парочку использованных презервативов и прочее такое. Забавно? Наверное. Но ей надоело.
Никто не желал ей зла, никто не собирался травить, но в конце тысячелетия, в Москве, превращенной в гнуснейший из мировых притонов, нормальная девушка с естественным поведением выглядела почти непристойно и раздражала окружающих, как иногда беспокоит крохотная заноза под ногтем, невидимая глазу. У рыжей кошки, как звал ее Савик, хватило ума, чтобы понять: рано или поздно глухое раздражение, пока выплескивающееся лишь в дружеских шутках, обернется непредсказуемыми действиями, возможно, опасными для ее здоровья. Совсем недавно в 7-Б классе трое девочек и двое мальчишек затащили в подвал свою одноклассницу (тоже, наверное, строила из себя цацу) и не просто забили до смерти железными прутами и каблуками, но до такой степени измордовали, что экстренно вызванные родители с трудом опознали родное дитя. Никого в школе это рядовое событие особенно не удивило — се ля ви! — но для Таины послужило толчком для принятия серьезного решения.
В их классе, как и повсеместно, по заведенному доброму обычаю девочки для первого совокупления выбирали кого-нибудь из старшеклассников, что считалось хорошим тоном, но Таина, возмущенная незримым нажимом, предпочла иной путь. Пошла к Федьке и попросила, чтобы записал ее в живую очередь. Федька согласился легко, не оговаривая условий, он давно с прицелом поглядывал на стройную, с огненными волосами, черноглазую (редкое сочетание), смешливую девятиклассницу. Чего говорить, товарец выгодняк. Захарчук занимался прибыльным школьным бизнесом третий год, был десятиклассником-переростком: дважды с треском проваливал выпускные экзамены, а как это ему удавалось, никому не говорил: секрет фирмы. У него был глаз наметан. Он подыскивал школьницам выгодных и, подразумевалось, безопасных клиентов (преимущественно иностранцев), падких на малолеток, и в своем летучем отряде поддерживал железную дисциплину. Обыкновенно перед тем, как внести девочку в список, он лично снимал пробу, проверял кандидатку в отношении ее сексуальной боевитости, но для Таины сделал исключение, переступил через собственное правило. Объяснил, что принципиально никогда не связывается с «целиной», после мороки не оберешься.
— Если блефуешь, — предупредил, — пеняй на себя. После близко не подходи, хоть на коленях стой. Пойми, я между вами и потребителем выступаю как гарант качества.
— Я не блефую, — удивилась Таина. — С чего ты взял?
— Не поверю, чтобы такая прикольщица ни разу не попробовала.
Замечание ей польстило, хотя сам Федька бы настолько отвратен, что она, разговаривая с ним, не поднимала глаз, глядела себе под ноги, чтобы не вырвало. Она с младенчества страдала брезгливостью. Слюнявый недоумок, естественно, расценивал ее поведение как наивную попытку скрыть неодолимую физическую тягу к нему.
— Ничего, киса, — снисходительно потрепал по плечу. — Сделаешь пробную ходку, я с тобой проведу пару сеансов.
Она не блефовала. Когда подходила к отелю «Спорт», у нее поджилки тряслись и в голове крутились какие-то песенные строчки, вроде того что: «Какая свадьба без баяна?», или: «Валенки, валенки, неподшиты, стареньки!»… В метро с ней приключился казус, только усиливший ее страхи. Прийязал-ся кавалер, но в этом как раз не было ничего особенного: редкий день проходил, чтобы к ней не клеились случайные ухажеры, и, как правило, это были мужчины намного старше ее, а иногда и вовсе пожилые, из которых песок сыпался. Таина давно наловчилась их отшивать, и молодых и старых, но с некоторыми, чаще именно с пожилыми, вступала в контакт, невинно флиртовала, заводила тары-бары, оставляла телефон, но не свой, придуманный. Чего им надо было, не могла дать, а динамить скучно. Надинамилась уже досыта.
В этот раз в переходе на станции «Курская» к ней подвалил парень лет двадцати пяти, высокий, в замшевой куртке, с серой «визиткой», из которой торчал какой-то научный журнал. Ничего примечательного в нем не было, кроме того, что на чересчур бледном лице неестественно выделялись круглые, с тонкой оправой очки, словно два перископа. Он вошел за ней в вагон и стал рядом, чуть не прижав к поручню. Таина ждала, когда он заговорит, при этом изображая полнейшее равнодушие к происходящему. Да что значит — изображая. Ей действительно было наплевать сейчас и на парня, и на все остальное: мыслями, чувствами она погрузилась в виртуальную реальность, обозначенную инфернальной величиной — отель «Спорт», где ее подстерегал неведомый, пока безликий мужчина почему-то с каменным, как в индуистских храмах, орудием воспроизводства. Но то, что услышала, повергло ее в изумление.
— Вам не надо туда ходить, — печально прогудел незнакомец ей в ухо. Вздрогнув, она взглянула на него в упор: Боже мой! — да это же маньяк! В глазах под перископами темень, как в ночной пещере, и бледные губы кривятся в изуверской усмешке.
— Не надо, не стоит, — повторил он. — Послушайте меня — не ходите. Будет очень плохо.
— Отвали, — прошипела Таина и выскочила на остановке, даже не посмотрев, какая станция. Маньяк, естественно, не отлип. Они стояли у колонны, обтекаемые толпой. Но у Таины возникло ощущение, что они очутились на необитаемом острове. Вдобавок у парня на лице застыло такое выражение, будто он только что свалился с Луны. Он еще раз повторил:
— Не ходите, девушка. Я вас умоляю.
— Хорошо, — Таина преодолела оторопь. — Никуда не пойду. Буду здесь стоять. Только ты отцепись от меня, пожалуйста.
— Вам туда не надо, поверьте мне.
— А куда мне надо? С тобой потрахаться?
— Зачем же так, — парень мгновенно сник, перископы потухли. — Я увидел вас на эскалаторе… Вы прекрасны, как видение… Но за вами беда следует по пятам, как сиреневое облако. Аура, понимаете?
В голосе, в сморщенном лице истинное страдание. Таина уже ему верила, не могла не верить, но также понимала, что это не тот человек, который ее спасет.
— Ты кто? Ясновидящий?
Парень совсем скис, поправил очки указательным пальцем. Она ошиблась в его возрасте. Ему не двадцать пять, а все тридцать или сорок. Увы, это один из тех старичков, едва удерживающихся на подагрических ножках, к которым ее всегда тянуло. Материнский комплекс, что ли? Когда соберется рожать, то скорее всего у нее вылупится вот такой сморщенный уродец средних лет.
— Чего молчишь?
— Нет, я не ясновидящий… Но иногда что-то просекает… Как сейчас… Вам лучше всего поехать домой.
— Не могу, — неожиданно призналась Таина. — Я же подписалась.
Удивительно, но он все понял. Улыбнулся сочувственно. Порылся в кармане.
— Тогда возьмите это.
Обыкновенный металлический кругляшок, вроде знака Зодиака, с выгравированным блестящим узором. Таина приняла подарок — и с этого мгновения между ними установилась чудесная близость, как между давними знакомыми, тайно влюбленными друг в друга. Молодой-старый человек, его звали Павел, проводил ее до станции «Ленинский проспект», до эскалатора, и, когда прощались, Таина оставила ему свой настоящий телефон. Еще бы секунда, еще маленький толчок и, возможно, ему удалось бы увлечь ее за собой обратно в нормальную жизнь, и ее невероятная судьба совершила бы оборот на сто восемьдесят градусов, но он ничего не сделал. Мог удержать, но отпустил. Его нерешительность объяснялась либо неуверенностью в себе — очкастый, худой, длинный, — либо каким-то соображением, недоступным ее пониманию. Мужчины, несмотря на свое примитивное устройство, порой бывают на удивление загадочны и совершают несообразные поступки, руководствуясь не разумом, а инстинктом, заложенным в них от рождения. Даже в поганом сутенере Федьке Захарчуке сквозь обычное хамство иногда проступали иные черты — наивная улыбка, суматошное бормотание, проблеск ума, — свидетельствующие о том, что на донышке его смрадной души, оккупированной долларом, что-то еще сохранилось от материнских вложений.
— Позвони завтра, — сказала Таина, царственно откинув со лба огненные космы. — Я буду рада.
— Завтра не получится, — у Паши под голубыми перископами восхищение, которое он и не пытался скрыть. — Завтра ты еще не вернешься.
— Если все так ужасно, — вспылила она, — почему же ты меня отпускаешь? Ты же мужчина.
— Сколько тебе лет? Пятнадцать? Шестнадцать?
— Ну.
— Тебя не остановишь. Это слепые годы. Пока в тебе бушует первобытная природа, — разум бессилен. Ты выпьешь чашу до дна.
— Ах, какие мы умные! Ты даже не попробовал.
— Я попробовал, — ей показалось, он готов зарыдать. — У меня не получилось.
На том и расстались.
В вестибюле отеля пожилой швейцар в галунах и позолоте потребовал пропуск, при этом глядел презрительно, будто на залетевшую на огонек мошку. Таина, проинструктированная Федькой, ловко сунула в волосатую лапу пятьдесят рублей, свернутых трубочкой (из собственных накоплений). Швейцар буркнул: «Пропускаю на час!» и демонстративно отвернулся. В роскошном лифте с зеркалами и мягкими сиденьями она поднялась на третий этаж и, никого не встретив, прошла по коридору, устланному ковром, до комнаты с номером «33», выбитым на круглой медной блямбе. В лифте придирчиво себя оглядела, припудрила носик: что ж, щечки атласные, губки алые — французская помада, костюмчик джинсовый, туфли на платформе, фигурка облом, — шебутная юная давалка. Не она первая, не она последняя — обойдется как-нибудь. Лиха беда начало.
Нажимая кнопку звонка, в последний раз обмерла.
Открыл упитанный, средних лет господин в вечернем костюме, с лысиной на всю башку и с пронзительным, зорким взглядом. Целую минуту ее разглядывал, оценивал и, видно, остался доволен.
— Заходи, кошечка, — и отступил в сторону.
«Расслабься, — приказала себе Таина. — Ни о чем не думай и не переживай».
Господин усадил ее за круглый столик с перламутровой крышкой, где стояла бутылка вина, рюмки и ваза с фруктами.
— Угощайся, настраивайся, — он как-то чудно хохотнул, будто икнул. — Будь как дома.
Потянулся к бутылке, наполнил две рюмки. Таина вдруг почувствовала острое желание очутиться подальше от этого стола, может быть, даже на другом конце света. Машинально огляделась: плотные шторы на окнах, телевизор на подставке, два больших стенных шкафа, сервант, кажется, из венгерского гарнитура, такой же точно купили предки ее подруги Лики, диван с квадратными подушками и изогнутыми спинками, где, наверное, все и произойдет. Ох, уж хоть бы поскорее!
— Чего молчишь? Оробела?.. Давай познакомимся. Меня зовут Сергей Сергеевич.
— Таина, — сказала девушка, приняв из его рук рюмку.
— Что же, девица-красавица Таинушка, в первый раз, выходит, решила подкалымить?
Улыбался заговорщицки, как удав.
— Какая разница… Вам разве не все равно?
— Конечно, не все равно, — удивился господин. — Разница в цене, глупенькая… А знаешь, по тебе не скажешь, что новенькая. Хорошо держишься, уверенно. Только в животике, небось, булькает, верно?
— Булькает, — Таина пригубила рюмку, не почувствовав вкуса. — Ничего, пора привыкать.
— Молоток, рыжая, хвалю! — господин захохотал уже открыто, без икоты. — Именно пора привыкать. Причем ко всему. Уж поверь старому пройдохе. Чтобы жить красиво, сперва надо обязательно в дерьмо нырнуть.
Тут Таина с ужасом увидела, как дверь в соседнюю комнату (на нее она как-то не обратила внимания) отворилась, и появился еще один мужчина, тоже в годах, но нерусский, узкоглазый, желтоликий, закутанный в махровый синий халат. Переплыл комнату и расположился в кресле напротив девушки, не сводя с нее пылающего взгляда.
— Вот и дядюшка Джо, — обрадовался Сергей Сергеевич. — А малышку зовут Тиночка. Она целочка. Пришла нас немного развлечь. Верно, Тиночка?
Тина еще не оправилась от шока, но нашла в себе силы улыбнуться.
— Мне не сказали, что вас будет двое.
— Двое? — глубокомысленно переспросил Сергей Сергеевич. — О-о, это только начало. Могут еще охотники подойти. У нас нынче маленький праздник, верно, Джо?
Желтоликий ухватил рюмку, наполненную до краев, подмигнул девушке.
— Говори плохо, понимай хорошо. Красивый девочка, пей вино!
Таина смерила взглядом расстояние до входной двери: преодолимо, — но она помнила, как Сергей Сергеевич провернул ключ в замке и положил его в карман.
— Не пугайся, малышка, — догадался о ее мыслях, сволочь такая. — Я пошутил. Тебя купил дядюшка Джо, его и потешишь. Я по делу заглянул, случайно… Допивай — и в спальню. Разденься пока. Он скоро придет.
Таина послушно выпила и прикурила от поднесенной зажигалки. Сергей Сергеевич смотрел на нее с сочувственной гримасой.
— Ни о чем не думай плохом, деточка. Дядюшка Джо — хороший, добрый человек. Покровитель сироток.
— Очень добрый, — подтвердил китаец (?), оскаля мелкие белые зубки. Его круглое лицо напоминало жирный блин на сковородке.
— Имей в виду, Таина, — строго, будто вспомнив о чем-то важном, заметил Сергей Сергеевич, — он любит, когда немного сопротивляются. Это его возбуждает. Можешь покричать в охотку.
— Очень любит, — эхом отозвался желтоликий. — Хороший девушка всегда сильно орет.
Таина поднялась и с сигаретой в руке направилась в спальню. Увидела разобранную кровать, разбросанную по стульям одежду. В комнате стоял непривычный запах: что-то густое, острое, с привкусом мочи. Так, вероятно, и должно пахнуть в спальне старика или в логове хищного зверя. Таина уселась перед зеркалом. Курила, отметив, что не кашляет и не чувствует обычной, отвратительной табачной рези в горле. Голова чуть-чуть кружилась. Он сказал празден вся. Но как — догола или остаться в нижнем белье? На ней прелестные сексуальные трусики и лифчик: не стыдно показаться не только желтоликому уроду, но и какому-нибудь лощеному французику из Сен-Жермена… Загадочный старый юноша-прорицатель в метро сказал, что сегодня она не вернется домой. Почему он так сказал?.. Увы, ее любовный опыт не давал ответа на этот вопрос, честно говоря, у нее и не было никакого любовного опыта, если не считать скоропалительного романа с Лехой Звонаревым из параллельного класса. Но там что — обжимания в подъездах, поцелуйчики, горячечные прикосновения к укромным местам. Ерунда, пустое, детский секс… Хотя те, кто клеился на улицах, безусловно, видели в ней молодую, искушенную самочку… Они все ошибались, как ошиблась и она, придя в отель. В спальне нет окна, а то бы обернулась птичкой и вылетела в форточку… Смешно. Куда вылетела? Куда лететь?
Таина резко встряхнулась, с удивлением обнаружив, что почти задремала. Сигарета дотлевала, и она поискала, обо что ее затушить. Ага, вот зеленая пепельница из малахита… Невероятно! Такая роковая минута, а она засыпает. Не иначе в сигарете подмешано зелье, но зачем? Она и так на все согласна.
Тайне стало так жалко себя, что она заплакала, но долго пореветь не удалось. Отворилась дверь, и в комнату вошли двое мужчин.
— Ая-яй! — укоризненно заметил Сергей Сергеевич. — Еще не готова. Надо быть собраннее на работе. Мы люди занятые.
Дядюшка Джо тут же сбросил с себя махровый халат и остался в чем мать родила. Голенький, с отвисшим пузом, с женскими грудками, похожий на пухлую, золотистую резиновую обезьянку. Забавно похрюкивая, улегся на кровать, брюхом кверху. Сергей Сергеевич поднял Таину со стула и начал раздевать, приговаривая:
— Что поделаешь, первый раз, мы понимаем… Главное, не рассердить дядюшку Джо. Сердитый, он кусается. Ой, не приведи Господь, прокусывает до кости… Ах, какие у нас сисечки, какие бедрышки, прямо объедение… Потерпи минутку, дорогой Джо, сейчас наладим цыпленочка на твой шампурчик.
Китаец следил за приготовлениями озадаченным взором.
— Помыть надо, да? Вдруг грязный девочка?
Таина стояла истуканом, уже в одних трусиках, вцепившись руками в тяжелые, литые, совсем женские груди, которым все подружки завидовали.
— Видишь, — растерялся Сергей Сергеевич. — Пойдем в ванную, ничего не поделаешь.
— Я не грязная, — обиделась Таина. — Я душ приняла перед тем, как ехать.
— Слышишь, Джо, она душ приняла, — уважительно отозвался Сергей Сергеевич. — Немного с запашком оно и приятнее? Ты как? Бабец, что надо, а?
— Давай с запашком, — согласился купец, почесывая безволосый срам. — Пусть сперва походит… Туда-сюда, туда-сюда. Потрясется пусть.
— Музыку включить?
— Не надо музыку… пусть так.
…Через долгое время, когда Таина вдоволь накричалась, намаялась, когда ее после китайца на скорую руку оприходовал Сергей Сергеевич, снявший брюки, но оставшийся в пиджаке и при галстуке, в спальню явился еще один человек неопределенного пола и возраста — в белом халате и с медицинским саквояжем. Таина его плохо разглядела, потому что лежала на кровати в противоестественной позе: с привязанными к спинке руками, изогнутая на бок. Дядюшка Джо, сидя рядом, макал кисточку в пузырек с тушью и выводил у нее на левой ягодице какой-то иероглиф. От творческого усердия пыхтел и что-то пришептывал себе под нос. Сергей Сергеевич расположился напротив в кресле, курил, прихлебывал пиво из жестянки, разглагольствовал:
— Поймала золотую рыбку, Тиночка, самому дядюшке Джо угодила. Не всем удается. Считай, судьба определилась. Главное, теперь ошибок не наделай, не заносись высоко — и покатишься, как на салазках. Многие позавидуют, кто без присмотра остался. Погляди, сколько таких, как ты, на каждом углу идут по пятаку за пучок. А ты не продешевила. Обрела надежных покровителей. Будь у меня дочь родная, и ей не пожелал бы лучшей доли.
От его сияющей лысины, от лукавых, скользких слов, от неудобной позы у Таины в глазах запрыгали черные мушки, будто на солнце взглянула. В низу живота осела боль, как после полостной операции. Но язык еще ворочался. Еще она была в разуме.
— У таких, как вы, детей не бывает, дяденька.
— Почему, малышка?
— У них рождаются лохматые существа с крысиными мордами.
— Понимаю твою мысль, — злодей закивал головой, словно болванчик на пружинке. — В тебе обида говорит. Тебе кажется, два подлых негодяя тебя изнасиловали. А вот и нет, голубушка. После сама спасибо скажешь. За дядюшкой Джо будешь бегать, как собачка за хозяином. Помяни мое слово.
Китаец отстранился, полюбовался своим художеством. Счастливо заухал:
— Ух, красиво!
Тут и возник незнакомец с медицинским саквояжем. Он сразу, никого ни о чем не спрашивая, приступил к непонятным манипуляциям. Разложил на тумбочке сверкающие щипчики, ножички — целый маникюрный набор, — а также шприцы и какой-то черный прибор, похожий на мобильную трубку, только поменьше, который включил в сеть. Таина следила за его действиями с остановившимся сердцем. Особенно ее пугало, что никак не могла понять, что это за личность: мужчина или женщина, старая или молодая?
— Садисты, что вам еще от меня надо? — простонала она.
Ей никто не ответил. Дядюшка Джо, поцокав языком, нанес кисточкой несколько последних штрихов.
— Господа, я доволен. По-моему, хорошо получилось. Оцените, пожалуйста.
Пришелец неведомого пола и Сергей Сергеевич обошли кровать и уставились на ее голый зад. Ей не было стыдно, она вообще забыла, что это такое — стыд.
— Восхитительно! — оценил Сергей Сергеевич. — Вы истинный художник, Джо. Ваш почерк ни с каким другим не спутаешь. Я бы сравнил вас с Босхом.
Тот, кто в белом халате, пискнул (может быть, это был ребенок?):
— Блеск! Изображу со всеми загогулинами, один к одному. Даже не сомневайтесь. Хотя в цвете было бы лучше.
В девушке проснулось что-то от прежней Таины, прожившей до этого страшного дня пятнадцать спокойных, беззаботных лет.
— Я тоже хочу посмотреть.
Сергей Сергеевич вернулся в кресло к своему пиву, объяснил доверительно:
— Опять тебе повезло, малышка. Янек на халяву сделает тебе татуировку, какая на рынке идет по лимону. Причем не абы как сделает, со смыслом. Тавро! Принадлежность к касте. Надо ценить.
Дядюшка Джо самодовольно хмыкал, потирая ручки, нежно погладил Таину по спине, слегка процарапав кожу ногтями. Похоже, снова собирался пристроиться.
— Не хочу татуировку. Что я скажу родителям?
— Да-а, — задумался Сергей Сергеевич. — Это проблема. Ты им пока не показывай.
Янек (все же, наверное, мужчина) пожужжал аппаратом, пощелкал кнопками, и Таина увидела, как в черном жерле трубки вспыхнула, прокрутилась тысяча серебряных иголок. От ужаса затрепыхалась, пытаясь выдернуть из зажимов опухшие кисти, чем помешала дядюшке Джо, который уже почти вошел в нее сзади. За это получила крепкий подзатыльник от Сергея Сергеевича и жалобно заныла.
— Зачем же так, — укорил Сергей Сергеевич. — Послушные девочки так себя не ведут. Не надо дергаться. Как лежала, так и лежи, руку собьешь… Господин Янек, сделайте-ка ей, пожалуй, уколец. Зачем мучить ребенка.
Бесполый отложил прибор, наполнил шприц голубоватой жидкостью из пузырька. Наклонился — и последнее, что она разглядела, были выпуклые, как у глубоководной рыбы, глаза чудовища. Он воткнул шприц в левое предплечье — и через несколько секунд она уплыла в сказку.
ГЛАВА 3
Володя Кныш вернулся из Чечни измененным. Да и как вернулся: спеленатым в белый кулек загрузили в самолет в Моздоке, а очухался в Ростове, в больничной палате. Там провалялся месяц с лишним, потом поездом, хотя и на костыльках, добрался до Москвы, где еще два месяца его выхаживали, передавали из клиники в клинику, на нем ставили какие-то сложные медицинские опыты, испытывали на прочность, но, в сущности, ему это было безразлично. На ту пору энергия жизни в нем поутихла, и он был озабочен только одним: не вспоминать, выдавить, выплюнуть из себя яд, которым опоили в Чечне. Он чувствовал, в этом спасение: жить с теми воспоминаниями — все равно что выйти на ринг с переломанными руками. Выйти можно, победить нельзя. Он справился, потому что родился везунчиком, и вдобавок природа наделила его сосредоточенным нравом. Помогло и то, что после контузии в башке долго сквозило, там летали тучи мошкары и мешали сосредоточиться на какой-то определенной мысли. Крепче всего засело в памяти желание какого-то последнего, сумасшедшего рывка, да еще постоянно тлел под сердцем будто металлический раскаленный стерженек, временами, правда, особенно на людях, почти остывая. Он знал: от стерженька не избавишься — это ненависть. Она его перековеркала. Кныш теперь с большим интересом смотрел в глубь себя, а не вокруг. Вокруг ничего примечательного: серое пространство, обыденка, скучные разговоры, лекарства, процедуры, пресная жратва, зато там, где светился, кипел стерженек, там по-прежнему дымились горы, шел в атаку десант, и можно было надеяться, если не помешают московские суки, что дотянешься растопыренной пятерней до раздувшейся черной глотки увертливого сатаненка.
Через полгода Кныш совсем успокоился, вышел из больницы, начал привыкать к мирной жизни. Комиссовали его подчистую. Надо было подыскивать какое-нибудь занятие. В двадцать пять лет это не кажется трудным. В обычных обстоятельствах. Но капитан Володя Кныш всю свою сознательную жизнь только и делал, что дрался, а потом других учил драться и, как вскоре выяснилось, ничего другого не умел. Проще всего ему было вернуться в тихий подмосковный городок Егорьевск, под родительский кров, и там, вместе с батюшкой и матушкой определить дальнейшую судьбу. Оба были еще не старые, отцу около шестидесяти и матери так же, но оба сильно бедствовали и нуждались в его помощи. И как он явится к ним, безработный, ни кола ни двора, вдобавок израненный, контуженный и, главное, со злобой в сердце, которая иногда достигала такого накала, когда никакая молитва не помогает. В Москве он зацепился за общагу на Стромынке, успел отхватить уголок, пока Родина помнила, где он пострадал, теперь пристанище у него было, а остальное, он надеялся, приложится. Вот укрепится немного, настругает деньжат, тогда можно к родителям нагрянуть и сеструху повидать, которая вышла замуж за ингуша, чего Володя Кныш не мог не то что простить, но и понять.
Надежды на быстрое устройство с работой оказались шиты белыми нитками. Вариантов было множество, это он узнал из рекламных газет, которыми поначалу обложился, как классический безработный, но когда походил по адресам, сунулся туда-сюда, то убедился, что все это туфта. Выбирать по сути было не из чего. Можно, к примеру, наняться рыть колодцы в Подмосковье, тут и навык у него имелся, и платили неплохо, но Кныш боялся, что не потянет. Хотя вернулся уже к тренировкам и день изо дня методично увеличивал нагрузки, но дыхалка еще слабовата и от длительного напряжения в башке вспыхивали все те же огненные десантные миражи. Он знал, что сила вернется, но когда? Все остальные предложения сводились к тому, чтобы спекулировать чем-нибудь или охранять тех, кто спекулирует. Москва, превратившаяся в огромную барахолку, действительно предоставляла неограниченные возможности для ловкого, смекалистого человека, но ни первое, ни второе Кныша не устраивало. Околпачивать лохов, подсовывая им всякий залежалый западный товар, было для него, заслуженного вояки, не по нраву, но еще подлее прислуживать в овчарочьем чине оборзевшей коммерческой шпане. Как бы солидно ни выглядели и ни звучали названия торговых фирм, банков и корпораций, он ни секунды не сомневался, что все это лишь эффектная вывеска, за которой обязательно прячется мурло пахана. На всех этих новых русских добытчиков он смотреть не мог без слез. Добра нахапали выше крыши, обзавелись иномарками и мобильными трубками, а цена им всем вместе — грош, и, когда придет к ним расплата, никто не замолвит за несчастных доброго словечка. И таким служить — да лучше в петлю!
Однако скудное выходное пособие, как он его ни растягивал, таяло, и недалек был день, когда у него не останется денег, чтобы купить на обед батон хлеба и пакет молока…
С Таиной он познакомился довольно забавно. Надобно заметить, что, выйдя из больницы и малость окрепнув, женщин он продолжал чураться. Не то чтобы сознательно их избегал, но не тянулся к ним душевно, как бывало прежде, когда редкая юбка не приводила его в состояние повышенной боевой готовности. Кныш понимал, что такая холодность к прекрасному полу не могла быть ничем иным, как следствием некоего психического сдвига: иными словами, между железным раскаленным стерженьком под сердцем и постелью, где давно не пахло женскими духами, безусловно, была прямая связь, но ведь и бабником, как многие его побратимы, и живые, и усопшие, он не был никогда. Не кидался без разбору на всех подряд, лишь бы ухватить свое. В своем новом облике Кныш научился любоваться проплывающими мимо красавицами — на улице, на экране, даже в снах — с грустной, старческой улыбкой человека, исчерпавшего свой любовный срок. Конечно, иногда подумывал, что надо бы завести какую-нибудь подружку, возобновить половую практику, глядишь, и дурь от души понемногу оттянет, но все как-то руки не доходили. Хотя времени свободного было хоть отбавляй. Другой раз уже и нацеливался где-нибудь в переходе метро или в очереди за харчем, уже и первые любезные слова вертелись на языке, но так все и кончалось холостым напрягом. Может, удерживало и то, что Москва, новая Москва, которую увидел после трехлетнего перерыва, предлагала доступное, почти дармовое женское мясо на всех углах, наравне с гроздьями бананов. Теперь не то, что прежде, не надо тратить никаких усилий, чтобы залучить забаву на часок, положи в карман зеленую купюру — и ходи, выбирай. Главное — знать места, где подешевле и товар непорченый. Рынок!
Однажды листал старую записную книжку и наткнулся на телефон некой Наденьки Королевой, с которой провел сумасшедший месяц перед тем, как отбыть в командировку, в спецшколу под Ульяновском (собирался на полгода, а растянулось на все три, да еще трахнуло Чечней), и когда наткнулся и вспомнил все, что было, такой вдруг повеяло весной, такая радуга расцвела перед глазами, будто помолодел на десять лет. Поскорее потянулся к телефону, накрутил диск и услышал в трубке осторожный мужской голос с нерусским акцентом. А жила прежде Наденька с мамой и бабушкой, мужчин в той квартире не водилось. Поколебавшись мгновение, Кныш все же вежливо поинтересовался:
— Нельзя ли Надю попросить к телефону?
— А вы, извиняюсь, кто ей будете? — ответил мужчина с той наглой интонацией, которая пуще всяких слов говорила: хозяин! Имеет право выяснить, прежде чем подпускать к своему добру.
Расстроенный, Кныш спросил:
— А ты кто, извиняюсь? — но ждать ответа не стал, повесил трубку. И обругал себя за то, что, возможно, подставил былую подругу.
В общаге на Стромынке, где ютился, тоже дам было навалом — проходной двор. Прямо с общей кухни можно было пригласить кого-нибудь на бутылочку портвейна, и прикидки имелись, и красноречивые намеки: многим здешним обитательницам не давал покоя светлоглазый и явно бесхозный паренек, с приятными манерами, добродушно улыбающийся, но немного диковатый. Но и тут как-то пока не сходилась масть. На кухне дамское общество скоплялось обычно к вечеру, к тому часу, когда Кныш безумной тренировкой и специальными упражнениями изнурял себя до потери пульса и на иные подвиги уже как-то не тянуло.
Он не искал больше счастья и, если бы его спросили, наверное, затруднился бы ответить, что это такое. В каком-то старом, еще советском фильме умный мальчик написал в сочинении, что счастье — это когда тебя понимают. Звучит красиво, но это, конечно, лживые слова. Потом — не бывает общего счастья. Для мужчины — оно одно, для женщины — другое; а сколько их есть, мужчин и женщин, столько и представлений о счастье — миллионы. Был когда-то счастлив и Володя Кныш, вдобавок молод и удал. Он запомнил то давнее лето. Оно было простым, как мычание. Жил у бабки в деревне Пряхино под Воронежем, готовился в институт, куда потом провалился. Провал его не обескуражил, потому что он не знал, зачем ему учиться. Вроде так положено, и родители хотели, чтобы он пошел в институт. И институт для него выбрали — медицинский. Кныш не возражал. Врачом быть хорошо. Профессия необходимая при любом режиме. Он редко с кем-нибудь спорил, чаще соглашался с любым человеком, не считая себя чересчур умным. Где-то прочитал, что женщины дураков избегают, но если это так, то откуда же на Руси столько идиотов?
Никто — ни родители, ни друзья, ни школьные наставники — не могли знать, кем он был на самом деле, а он родился воином, как другие рождаются поэтами, художниками или землепашцами. В этом было его жизненное предназначение и судьба, о чем он догадался лишь в зрелом, четырнадцатилетием возрасте, хотя ему рано начали сниться смутные, грозные сны, значения которых он не умел истолковать. Пожилой сосед по дому, пьяница Мокей, однажды открыл ему глаза. Попросил у мальчика рубль на опохмелку, обычно Кныш ему одалживал, а на этот раз денег у него не было. Мокей почему-то обиделся и зловеще сказал:
— Не дашь рубль, поганец, порчу напущу.
— А как это — порчу? — полюбопытствовал отрок.
— Очень просто, — ответил пьянчуга. — Не желаешь по-хмелить больного человека, нашлю лихоманку. Сгоришь, как спичка, никто не поможет.
Кныш спросил:
— А страшнее порчи что-нибудь бывает?
— Только смерть.
— Так ты, дяденька Мокей, лучше напусти сразу смерть. Вдруг тебе полегчает.
Сошлись глазами — тусклыми, стариковскими, траченными душевной мукой, и юными, улыбающимися — и Мокей оторопел. Даже протрезвел, что с ним случалось чрезвычайно редко.
— Ты что же, сынок, вообще ничего не боишься на свете?
Кныш уточнил:
— Что такое страх, дяденька Мокей?
— Когда по ночам волки воют. Или на кладбище, когда мертвяки под землей зубами скрипят. Вот уж истинно жуть.
— Это же смешно, — улыбнулся Кныш.
И пошел прочь от пустого разговора, но Мокей окликнул вдогонку:
— Ты, похоже, в кольчуге уродился. Это и хорошо, и плохо, с какой стороны поглядеть.
— Почему плохо?
— Воины, брат, своей смертью редко помирают. Зато люди к ним тянутся.
…Счастливое лето запомнилось тишиной и покоем, и крепкой жарой. Даже по ночам так парило, что любая одежда казалась лишней. Кныш за месяц превратился в дикаря. Он, конечно, чтобы бабка (материна мать) не журилась, иногда появлялся в доме с книгой, но это была только видимость. У всякого человека должно быть в жизни хоть одно такое лето, когда все сходится воедино: дикая природа, душевное томление, милая женщина, ожидание чуда, перерастающее в желание быть ничем иным, как зеленым листочком на дереве… Женщина появилась позже, когда Кныш уже обгорел до черноты, истопал окрестные леса, облазил все речные бочаги, теперь его природная худоба производила впечатление почти звериного изящества. Девушку звали Тамарой. Она приехала с родителями на каникулы. Первый раз он увидел ее на деревенской улице в нелепом то ли сарафане, то ли рабочем комбинезоне с длинными тесемками. Она не шла, а как-то чудно, осторожно переплывала от дома к дому с полной корзиной грибов, словно боялась наступить босыми ногами на стекло. Он подумал: надо же! И больше ничего. Правда, за обедом спросил у бабки, кто такая? В комбинезоне и с волосами, как у русалки. Вроде не деревенская. Удивительно, но бабка сразу Поняла, о ком речь. Столетняя старуха была сурова нравом, перекрестилась и сказала: даже не думай!
— Почему? — удивился Кныш.
Но бабка стала сразу глухой, как всегда, если не желала продолжать беседу.
Вечером его понесло на деревенские посиделки, с баяном и танцульками, хотя прежде туда ни разу не заглядывал. А дальше получилось как во сне, какие в молодости всем снятся, да не у всех сбываются.
Студентка Тамара на вечерний бал нарядилась в черную короткую юбку, в ажурные чулки и в какую-то сверхмодную рубашку с открытыми плечами. Сидела в стороне от всех, как чужая. Будто ждала кого-то. Кныш к ней сразу подгреб. Постоял рядом, тоже будто посторонний, потом сказал:
— Пошли к реке?
Девушка подняла на него глаза, сиреневые от луны.
— Ты кто?
— Я Володя Кныш. К бабке приехал. Для занятий.
— Почему я должна с тобой идти к реке?
— Там хорошо. Комаров нет. Можно искупаться.
— А ты не чокнутый?
— Нет.
— Это хорошо. А то в этой деревне полно чокнутых. Тебе сколько лет?
— Семнадцать.
— В городе живешь?
— Ага, в Москве.
— Подружка у тебя там есть?
Кныш хотел соврать, но не умел этого делать и лишь впоследствии с трудом научился.
— У меня никогда не было подружки.
— Почему?
— Не знаю. Я же спортсмен.
После этого она поднялась и, обдав его духами, шагнула в темноту. Он догнал ее в конце улицы, раньше не решался, понимал, что они затеяли что-то такое, что лучше никому в деревне не знать. Внизу, на травяном спуске, она первая разделась и, призрачно сияя сумасшедшей наготой, спокойно опустилась в глубину реки. Кныш тоже недолго колебался. Будучи воином, он изначально относился к женщинам только как к добыче.
Он поймал свою белую рыбицу в черном омуте, где со дна, будто из преисподней, били тугие ледяные струи. Вначале у него не получилось то, чего жаждала возбужденная плоть, но он очень старался. Тамара, хохоча, отбивалась, потом затихла и, сплетясь в нежном объятии, они тихо пошли на дно. Ему стало жалко девушку, которая играла с любовью, как со смертью, и через какое-то время он вытянул ее на поверхность. То, что он испытывал, трудно описать словами. Тамара спросила с какой-то поразившей его надеждой:
— Хочешь меня утопить?
Кныш ответил:
— Нет, просто хочу тебя.
Так оно потом и было, но уже на берегу. Двое дикарей, совокупляющиеся в мокрой траве, не ведающие ни стыда, ни насыщения. Они так долго этим занимались, что, когда угомонились, первые утренние светлячки окрасили в голубоватый свет их распростертые тела. Кныш задремал, уткнувшись носом куда-то ей под коленку. Сквозь сон услышал обиженное:
— Зачем надо было врать?
Он удивился.
— В чем я соврал?
— Сказал, что семнадцать лет, и у тебя никогда не было девушки.
— Но это правда.
— Считаешь меня дурой?
— Никем не считаю.
— Ты чокнутый, Кныш.
После этого они начали кататься по траве, хохотать И кусаться, а потом оделись и пошли в деревню, уже ни от кого не таясь. Бабка Полина ждала внука на крылечке. На сей раз не прикидывалась глухой.
— Ты что же, олух, с ведьмой спутался? Чего матери скажу?
— Почему она ведьма, бабушка?
— Ты что, совсем в городе ума лишился? Почему ведьмами бывают? Да судьба такая. У них, у Поспеловых, вся родня ведьмина по женской линии. А мужики все с колунами. Да ты что, Володечка, жить расхотел? Они же теперь тебя…
Кныш не дослушал, хотя ему было очень интересно. Но он засыпал стоя, как лошадь. Когда проснулся в горнице, солнце стояло над образами — значит, подтекло к вечеру. Бабка зачем-то посыпала солью его голый живот.
— Бабушка, ты чего?
— Того, милый, того самого, — ответила со странной торжественностью. — Готовься ко встрече. Уже приходили за тобой.
— Кто приходил?
— А выдь, погляди. На дворе стоят.
Он вышел, посмеиваясь, неся в сердце ровный жар счастья. Знал, не пройдет и часа, как ее увидит, и они начнут свои игры заново. Отметил одну несуразность: совсем не хотелось есть, а ведь не держал во рту ни крошки со вчерашнего вечера.
Посреди двора топтался хмурый мужик, действительно, с колуном в руке, похожий на оживший древесный сруб. У поленницы маячил второй такой же, тоже с колуном, но еще вдобавок почему-то в черной шляпе.
— Здравствуйте, — поклонился Кныш. — Слушаю вас.
— Чего слушать, — ответил мужик таким тоном, будто ему давным-давно надоела вся житейская канитель. — Спортил девку, придется платить.
— Не понял?
— Чего понимать? Одно из двух. Либо мы тебя порубим к чертовой матери, либо гони откупного. Кому она теперь, порченая, нужна?
От поленницы донеслось, как из леса:
— Говнюки приезжают, а мы тута расхлебывай. Дай ему в рыло, Матюха, и пошли. Магазин закроют.
— Не закроют, — отозвался Матюха. — Зинка товар разгружает, — и уже Кнышу: — Ну чего, гаденыш, жить будешь или помирать решил?
Деревенских обычаев Кныш не знал, да и вряд ли это был какой-то деревенский обычай. Но что нагрянула какая-то родня Тамары, он уразумел, поэтому ответил с предельной любезностью:
— Зачем же убивать, люди добрые? Назовите сумму денег. Смогу — отдам.
— А скоко у тебя есть?
— Сто рублей. Из них еще бабке надо отдать за постой.
— Ты что, парень, придуряешься? За сто рублей таку девку взять? Это, может, у вас в городе…
— Дай ему в харю! — посоветовали от поленницы. Кны-шу было любопытно, почему второй мужик не подходит ближе, ведет беседу издалека, но выяснить не успел. С воплем вылетела на крыльцо бабка Полина.
— Аспиды окаянные, душегубы поспеловские, денег вам надо?! Да ваша Томка сама на каждого вешается, никого не пропускает. Черта вам лысого, а не денег!
— Бабушка, — обиделся Кныш. — Как же вы нехорошо говорите про мою невесту.
— Про невесту?! — ахнула старуха. Мужики тоже засомневались.
— Какая она тебе невеста, — буркнул Матюха. — Недо-рос еще щелкопер.
На том, собственно, разборка закончилась. Мужики ушли, пообещав наведаться попозже, ему велели подготовить деньги, а бедная бабушка Полина, услыша новость про невесту, оглохла на целые сутки.
С Тамарой встретились вечером у реки, как условились, и в эту ночь все было намного лучше, чем в первую. Про своих родичей она посоветовала вообще не думать и денег им не давать ни в коем случае. Все равно пропьют. Да и нет у них на нее никаких прав. Ни у кого нет прав на нее, ни у одного человека. Она свободная душа, и ей никто не указ. Кныш не удержался и спросил, много ли раз до этого, имея свободную душу, она сходилась с другими мужчинами. Тамара воскликнула:
— Ты все-таки совсем еще мальчик, Володенька!
— Почему?
— Настоящий мужчина никогда о таком не спросит. Это не грубый, а глупый вопрос. Ни одна женщина не скажет правды.
— И ты тоже?
— Нет, я скажу. У меня были мужчины. Но это не имеет никакого значения для тебя.
— Немножко имеет, — возразил Кныш.
— Нет, Володечка, не имеет. Женщина, такая, как я, с каждой встречей рождается заново. Можешь считать, ты у меня первый. Это и будет правда.
— А почему говорят, что ты ведьма?
— Бабуля просветила? Что ж, я и есть ведьма. Это не страшно, Володечка. Страшнее, когда святенькая. Святень-кая измучает до смерти, потом даст полакомиться разочек, а после потребует плату непомерную, замуж за тебя пойдет, присосется ротиком к сердцу и высосет до донышка. Погляди на мужиков, которые со святенькими живут. Они же как тени. С ведьмой веселее, Володечка. С ней нет проблем.
— Чем же плохо, если замуж?
Они сидели среди мхов, как два леших, но в одежде — на нем рубашка и полотняные джинсы, на ней что-то невесомое, вроде темной пены.
— Замуж, Володечка, не плохо, а скучно. К тому же у всего свой срок, у замужества тем более. Мой срок еще далеко впереди. Годиков через десять.
— Шутишь?
— Нет. Ведьмы не стареют и никуда не спешат. Но если придется нарожать ведьмачков, если их мало в мире, то я сделаю осознанный выбор.
— Как это?
— Лучше не спрашивай, Володечка…
В этом разговоре, как и во всех других разговорах, было для него что-то завораживающее, как и в их иберийских играх. Сказано же, счастливое лето. Сотканное из тайны, любви, смеха, невероятной жары и лесной истомы, оно понеслось кувырком в бесконечность и еще спустя многие годы иногда вдруг ударяло в голову хмельной волной, дотянулось аж до Чечни, и только после контузии словно отрезало. Вечный холод накрыл его душу. Возврата в прошлое не было даже в воспоминаниях. Воспоминания влекли за собой лишь похмельную дрему. Он словно завершил широкий жизненный круг и окончательно осознал себя просто солдатом, не испытывающим сложных эмоций, не имеющим никаких сильных желаний, кроме одного: обнаружить врага и в нужный момент оказаться умнее, хитрее и беспощаднее его. Раз за разом спокойно наблюдать, как из разъяренных вражьих глаз стекает мутная жижа поражения…
Когда встретил Таину Букину, не совсем нормальную рыжую принцессу, то нашел и работу.
Кружа как-то в очередной раз по Москве, дивясь снова и снова неслыханным переменам, произошедшим в ней (он уж понял, что это не Москва, а пышный туристическо-этнографический буклет), очутился на оптовом рынке возле метро Динамо, одном из десятков раскиданных по городу щедрой рукой мэра. Считалось, что на этих рынках любой товарец, включая и продуктишки, продается чуть-чуть подешевле, чем в магазинах, поэтому даже при очередных рывках россиянского капитализма торговля здесь шла довольно бойко. Естественно, новые русские сюда не заглядывали, в основном здесь отоваривался столичный плебс, избирательный электорат. Но что точно на оптовых точках было дешевле, так это сигареты: Кныш и завернул на огонек, чтобы прикупить блок «Золотой Явы». Пришел за сигаретами, а обрел, возможно, судьбу.
Началось с досадного происшествия. Дело в том, что все рынки контролировали наши братья с Востока, а Кныш был не тем человеком, который мог купить товар у дружелюбного, независимого горца. У него к ним были большие претензии. Поэтому он сперва разыскал точку, где за сигаретным развалом маячила розовощекая, полупьяная славянская бабеха, и только тут достал деньги и попросил свой блок. Но не все углядел. Бабеха развернулась внутрь ларька, а оттуда, из полумрака ей навстречу поднялись сразу двое чернобровых жизнерадостных «азе-ров». Они-то и были хозяевами, а русскую телку подставили для вывески, что было совершенно разумно в торговом отношении. Один из парней забрал у женщины деньги (сто десять рублей), а второй, добродушно улыбаясь, протянул Кнышу золотистую упаковку.
— Держи, дорогой.
Кныш почувствовал себя так, будто ему плюнули в лицо. Он не принял сигареты:
— Извини, мужик, я передумал. Верни стольник.
— Почему передумал? — удивился «азер». — Дешевле нигде нету.
— Я как раз ищу подороже.
Горец мгновенно стер с глаз сальную улыбку, отодвинул побледневшую женщину.
— Обидеть хочешь, да, дорогой?
— Чего тебя обижать, — отозвался Кныш с грустью, — ты и так обиженный. Гони бабки, инвалид.
Его преимущество было в том, что он точно знал, что дальше произойдет, а рыночные хорьки пока ничего о нем не знали. Но уже по какому-то своему секретному семафору передали сигнал тревоги, боковым зрением Кныш определил, что к ним приближаются несколько усачей, но не это его беспокоило. Его смущала спонтанность предстоящего столкновения, его вопиющая нецелесообразность. Это было непрофессионально, но остановиться он уже не мог. То есть он, разумеется, разошелся бы с «азерами» добром, если бы они вернули деньги, но те тоже были не лыком шиты и не собирались отпускать обнаглевшего русачка без наказания. Их ненависть мгновенно стала взаимной.
— Ты сигареты уже купил, друг, — хохотнул «азер». — Они твои.
И швырнул ему блок под ноги. Достать парня через прилавок Кныш не мог, но и кунакам, чтобы приблизиться к нему, понадобилось бы выйти в заднюю дверь палатки. На это у них должно уйти секунд двадцать. Кныш сделал шаг в сторону, одновременно развернувшись к подоспевшему подкреплению, состоявшему из трех совсем еще желторотых, но азартных, мускулистых качков. Молча, сберегая дыхание, он нанес открытой ладонью два страшных прямых удара, вырубив двоих, а третьему засадил пяткой в промежность и добил его согнутым локтем по позвонку. Против ожидания, не почувствовал привычного азарта боя, а только ощутил внезапную усталость от чрезмерно резких движений. Контузия, черт бы ее побрал!
Торгаши уже выламывались из двери — и с правого бока, он видел, спешила троица взрослых мужиков. Стая — она и есть стая. Посыпались крысы на живца. Кныш холодно усмехнулся: предстоял затяжной отходной маневр в толпе — несложный, но требующий повышенной осмотрительности и дополнительных финтов. Его могли одолеть только в том случае, если бы достали стволы, но пока он стволов не видел, а собственный десантный нож с винтовой насечкой, без которого не выходил из дома и который носил в подшитом к внутренней стороне куртки матерчатом чехле, уже удобно разместился в ладони. Он честно предупредил, ни к кому не обращаясь конкретно:
— Ребята, лучше успокойтесь! Буду мочить без разбора. Завалю весь рынок.
И, не оглядываясь, пошел по проходу не очень быстро, но и не медля, обманно уязвимый со всех сторон.
Всего два раза пришлось задержаться. Один раз сверху, с тюков с барахлом на него с гортанным криком обрушился безрассудный удалец, и Кныш, скривясь, нанизал его на свой нож, будто поймал сардельку на лету; но не убил, а лишь остудил пыл озорника месяца на три. Без крайней необходимости он не собирался тащить за собой по рынку смерть. Второй раз прямо перед ним выросла стенка из трех джигитов, и он сразу понял, что это умелые, рассудительные бойцы.
— Брось нож, — сказал один из них. — Давай поговорим.
— О чем, брат?
— Все равно живой не уйдешь.
— Почему?
— Людей обидел… Зачем? Тебя кто трогал? Откуда взялся? Из Солнцева?
Кныш не мог задерживаться — его спасение было в беспрерывном, запутанном движении.
Он взял вбок, перемахнул какой-то прилавок, обрушил за собой несколько стоек с развешанным бельем, куртками, штанами, целый водопад товара, — и уже по другому проходу, по-прежнему обманчиво открытый для удара, неторопливо устремился к близкому выходу.
Тут она и появилась — рыжая принцесса. Схватила за руку неосторожно:
— Живее, парень! У меня тачка у входа.
На мгновение опаленный темно-синей жутью ее глаз, Кныш позвоночником ощутил: подвоха нет. Но девица крепко рискнула. Так нормальные люди не рискуют.
Бежевая иномарка, мелодичный всплеск сигнализации.
— Ключи, — потребовал Кныш, охватывая взглядом ближайшее пространство — ворота, стоянку, толпу ротозеев. В голове гудело от напряжения, счет шел на доли секунды. Рыжая без звука отдала ключи, но по-хорошему все же отъехать не удалось. Он уже занес ногу в салон и ключ вставил в зажигание, и рыжая бухнулась на сиденье, но ситуация сложилась так, что трое абреков, которых он минуту назад обдурил, поспевали к нему раньше, чем он успеет сдернуть машину с места. Это отпечаталось в мозгу так же ясно, как вспыхивает перегоревшая лампочка.
Они мчались как на праздник, не сомневаясь, что птичка в силках. В руках ножи, похожие на тот, который у Кны-ша. Им бы чуть-чуть замедлить бег, но они видели спину склонившегося над ступенькой наглеца, и это чрезвычайно их возбудило. Наверное, они уже ощущали, с каким приятным хрустом войдут в согнутую спину железные тесаки.
Кныш в последний момент отпрыгнул от машины и, сделав обманный пас, ударил ближайшего абрека в висок рукояткой ножа. Именно для такого удара наварена на нее металлическая бляшка с рубчиком, и у того, кто нарывался на этот рубчик, не оставалось ни единого шанса выжить. Второго абрека Кныш полоснул лезвием по щеке, ослепя на один глаз, но третий абрек оказался проворнее своих товарищей и длинной рукой, как пращой, воткнул нож Кны-шу в бок. Тут же откачнулся и, оскалясь, ждал. Кныш не упал. Он знал, что хотя рана приличная, но есть минут пятнадцать в запасе, после чего он начнет слабеть.
— Дай уехать, — попросил миролюбиво, — или я тебя убью, брат.
Абрек засмеялся квакающим смехом.
— Это я тебя убью… уже убил. Сейчас помрешь, собака!
Толпа расступилась, выделив им как бы небольшой подиум для удобства разборки. Кныш сознавал, что положение у него сложное, почти безвыходное. Этот опытный вояка не пойдет на прямой контакт — зачем ему рисковать? Второй абрек с порезанной харей, корчащийся на асфальте, тоже опасен, его следовало добить, прежде чем начинать какие-нибудь действия. Но и это не все. Еще человек шесть «азе-ров», азартно гомоня, выкатились из ворот, и, хотя это была явная шелупонь, масса есть масса. Она кого хочешь задавит, только покачнись. А он уже качался. Бок тяжелел быстрее, чем он рассчитывал. Время работало против него с угрожающей скоростью. Пожалуй, оставалось единственное: метнуть нож, расстаться с любимым другом, но опять же танцующий, хохочущий абрек предельно насторожен, и перед тем, как это сделать, надо отвлечь его внимание, переориентировать. Кныш оперся о капот, словно с трудом удерживаясь на ногах.
— Подыхай скорее, — посоветовал абрек. — Не смеши людей. Пузырь вонючий.
— Хочешь денег? — спросил Кныш.
— Сволочь, — ответил абрек, — За деньги яйца твои продам.
Что ж, подумал Кныш, пора. Большая вероятность, что нож улетит в пустоту, но иного выхода нет. Он повернулся боком, пригнулся, чтобы создалось впечатление, что ему уж совсем невмоготу.
— Давай, давай, — захохотал абрек. — Делай цирк. Кидай нож, я поймаю. Медленно умрешь, сволочь!
С уважением Кныш подумал, что встретился с сильным противником, которого не проведешь на мякине. Значит, нож останется при нем — и то славно.
— Я к тебе с того света приду, — пообещал, совершенно уверенный, что говорит правду.
— Давай, буду ждать, — отозвался абрек — и вдруг начал падать. На груди у него, на белой рубахе вспыхнуло красное пятно. В изумлении Кныш обернулся. Это рыжая учудила: высунулась из дверцы и на весу, будто в акробатическом этюде, пальнула в абрека из пистолета. Всего один раз.
Через минуту они на бешеной скорости мчались по Ленинградскому проспекту.
— Хачиков не любишь? — полюбопытствовала рыжая.
— Почему? — ответил Кныш, надбавя газку. — Я всех люблю. Даже телевизионщиков.
ГЛАВА 4
Таина собирала банду с миру по нитке, с бора по сосенке. Клим, Санек Маньяк, какой-то колдун Егор Серафимович — вряд ли Кныш знал обо всех, но что их немного, в этом был уверен. Каждого она тщательно подбирала по каким-то одной ей известным критериям. Как она однажды выразилась, по мере функциональной необходимости. Ей доставляло удовольствие перетасовывать подельщиков, как карты в пасьянсе.
После заварухи на рынке она привезла Кныша в больницу к своему знакомому хирургу по фамилии Кампертер, и тот быстро, по-дружески его подштопал и уложил в отдельную палату. Возможно, ухватистый докторюга тоже был членом банды.
Наутро Таина его навестила, появилась в палате, как красное солнышко, — одетая в строгий шерстяной костюм, с огромным пакетом в руках. Смущенно улыбающаяся. Прекрасная, как утро. На миг Кныш усомнился: эта ли красотка пальнула в абрека из «вальтера»? Да еще из такой неудобной позы, из какой он сам не влепил бы точнее.
Она учтиво поинтересовалась, как он себя чувствует, в тон ей Кныш ответил, что превосходно, тем более царапина пустяковая, и надеется к вечеру слинять домой. Или, по крайней мере, завтра к обеду. Он не привык разлеживаться в частных клиниках, на это у него нет средств. Таина посоветовала не спешить, подлечиться как следует уверила, что доктор Кампертер не возьмет с него ни гроша, а потом без всякого перехода предложила работу.
Кныш сказал:
— Я тебя пару раз вроде видел по телеку… Туда меня зовешь?
Таина улыбнулась понимающе:
— Нет, не туда… Для телека ты не годишься. Поработаешь на меня лично. По отдельным поручениям. Но сперва расскажи, пожалуйста, немного о себе.
О себе он рассказывать не стал, но и не выкобенивался. Рыжей принцессе он был обязан жизнью, а такие долги солдаты выплачивают сполна. Он сказал:
— Вот что, девушка, я сейчас не совсем в форме, но что тебе понадобится, сделаю, не сомневайся. Без проблем и без всяких авансов.
В ту минуту ему, естественно, в голову не приходило, что девка сколотила банду. Слишком дикая мысль.
— Скажи, Володя, зачем ты затеял на рынке эту бузу? Ты ненормальный?
— Это очень личное.
— Но мне надо знать.
— Я же не спрашиваю, почему ты помогла — и все такое.
— Я сама скажу. Не люблю, когда одного травят кодлой.
Она невинно моргала, вроде строила глазки, но он смотрел на нее без мужского интереса. Вообще не мог определить, какие чувства испытывает. Во всяком случае спать он с ней не собирался. Хотя, наверное, не отказался бы, если бы предложила. Но сердце молчало. Он не верил в ее искренность. Девицы с телевидения, как он представлял, были особым сортом девиц, в которых по определению не могло быть ничего женского. Контуженный в Чечне, он ненавидел телевидение все целиком, со всеми его прибамба-сами. Это было многоликое, стозевное чудовище с миллионом трепещущих алых язычков, с музыкой и плясками, со спортивными программами и латиноамериканскими сериалами, и когда оно взялось со всей своей мощью, ложью и дурью преследовать, позорить и добивать нищую, полуголодную русскую армию, Кнышу и его товарищам стало не на что больше надеяться. Они продолжали свою маленькую войну с маленькими, диковатыми «духами», но никто из них ни разу не заснул спокойным сном. Телевидение каждому впрыснуло под кожу порцию неизвестного яда, оставшегося в крови навсегда.
Было что-то невероятное в том, что рыжая принцесса, чтобы спасти его, явилась именно из гнезда скорпионов.
— Давай условимся, Таина, — сказал он, — я работать на тебя согласен, если желаешь. Но есть просьба: поменьше ври. На меня вранье плохо действует. Любое. Даже женское.
— В чем я соврала?
— У тебя «вальтер» в сумочке, палишь без разбору, на экране кривляешься, а мне лепишь, что вроде ты защитница справедливости. За кого меня принимаешь?
Ошарашенная, она пристально его разглядывала, чернота ее синих очей сравнялась с ночным мраком.
— Володечка, — к ней вернулся дар речи, — а ведь мы с тобой поладим.
Через месяц он сидел в офисе охранной фирмы «Кентавр», где был директором и единственным сотрудником, — с правом подбора кадров. К этому времени он уже знал, что очутился в банде, но еще не избавился от недоумения. Сама по себе новая работа — то есть пребывание в банде — его не смущала. Вся жизнь в России стала бандитской, и у нормального мужика выбор остался небольшой: или стриги других, или дай себя стричь. Пока служил, это все его мало касалось, но когда попал на гражданку, воочию убедился, что старое понятие «заработать деньги» надо теперь понимать как отнять деньги у кого-то другого. Или, опять же, отнимут у тебя. Тем или иным способом. Да и все эти слова — банда, группировка, авторитеты — не имели старого значения и легко сочетались с понятиями — брокеры, корпорации, банки, депутатский корпус и прочее, — а все вместе это составляло сложную многоступенчатую конструкцию, которая называлась «российская демократия». В конечном счете адская машинка, заведенная лет десять назад, вероятно, из-за океана, предназначалась для того, чтобы лишить средств к существованию многомиллионную популяцию очумелых так называемых россиян, сжить их со свету и расчистить огромные территории для какой-то новой, неведомой, счастливой (как на Западе!) жизни. Эта великая, пока недосягаемая цель для простоты понимания примитивных аборигенов на первом этапе была обозначена словом «реформа». После контузии в голове у Кныша наступило странное просветление, и он осознал, что все они — участники грандиозного социального эксперимента, может быть, лишь немного уступающего по масштабу большевистскому в семнадцатом году; и теперь все правила бытования людей переиначены так, что невозможно отличить умом добро от зла, разобраться, кто прав, а кто виноват; и уцелеть в шизофренической реальности можно только благодаря инстинкту выживания. У кого он есть, тот спасется, у кого нет — погибнет. Один высокопоставленный политик очень правильно назвал все это «жизнью по понятиям».
Постепенно он начал думать, что несправедлив к Тайне. Когда она вешала ему лапшу на уши — рыцарство! честь! если не мы возьмем их за жабры, то кто же?! — то лукавила лишь наполовину, а наполовину сама верила во всю эту чепуху. Она действительно носила «вальтер» в сумочке и сколотила банду для того, чтобы расквитаться с какими-то злодеями, пока ему неизвестными. Была ли она в своем уме, это другой вопрос. А он сам был ли в своем уме, особенно после контузии? Часть его ума раскидало мириадами осколков по ущелью, а оставшаяся часть болела и ныла, словно это был не ум, а нагноившийся зуб.
Взрыв в «Ласточке» (первая акция, в которой Кныш участвовал в качестве контролера) произвел на него удручающее впечатление. Он так и не понял, зачем понадобились Тайне все эти нелепые шумовые эффекты. Хотела спасти Маньяка? Допустим. Вытеснить банду Столяра с его территории? Тоже понятно. Но зачем нелепый фейерверк с летящими во все стороны человеческими конечностями? Одно слово: чокнутая. И все же Кныш, испытывая сомнения, пошел у нее на поводу, причем, подчиняясь капризу шальной предводительницы, испытал какое-то непривычное удовольствие, будто стряхнул с ладоней налипшее на них дерьмо.
Боря Интернет, новейшее приобретение Таины, впоследствии ему признался, что тоже чувствовал что-то подобное. Правда, интеллигентный юноша выразился более элегантно. Он сказал:
— Верите ли, Володя, смерть, ужас, да?! Нелепое нагромождение абсурда, а у меня такое ощущение, будто я Ива-нушка-дурачок, который вынырнул из кипящего котла. Обновление! Катарсис!
Кныш напомнил:
— В этом катарсисе, Боренька, откинулись двенадцать человек. И как минимум сорок раненых.
— Ну и что?! — вспылил Интернет. — Какое это имеет значение? Не мы выбираем время, оно выбирает нас. Вы, Володя, видите во мне книжного мальчика, банкирского сыночка, но я не тот, каким был вчера.
— Да я разве спорю, — Кныш улыбался снисходительно. — Братву надо пропалывать. Тогда она в корень идет.
— Дело не в этом, — горячился Интернет. — Возможно, для вас это рядовой эпизод, а для меня взрыв в «Ласточке» — событие мировоззренческого масштаба. Я стал другим человеком. Хуже или лучше — неважно. Я стал самим собой.
— Убийцей? — уточнил Кныш.
— Убийство в сегодняшнем мире такое же архаичное понятие, как любовь. Ни того ни другого больше нет в природе. Человечество поднялось на последнюю ступень эволюции. Очистилось от тысячелетних моральных химер. В Зтом, если угодно, истинный смысл апокалипсиса. Человек подошел к пределу, за которым пустота. Небытие. Или новое существование по новым правилам. И главная примета: он сам берет на себя ответственность за выбор пути. Это право человеком выстрадано на кровавом пути эволюции. Сегодня государство рухнуло. Гомо сапиенс остался наедине со своей сущностью. Никто не сможет удержать его от полной аннигиляции, от распада, но в то же время впервые за всю историю вида у него появилась возможность создать новую, абсолютную модель бытия. Вы согласны со мной, Володя?
— Конечно, согласен, — кивнул Кныш. — Еще немного побегаешь у Тинки на поводке, а потом тебя подлечат, если успеют.
— Кажется, вы ничего не поняли, Володя, — огорчился Интернет. Его серые очи пылали невыносимым вдохновением, и Кныш его жалел. Он много раз видел, как у молодых парней, хлебнувших крови, ехала крыша: почти всегда этот процесс сопровождался горячечным словесным поносом. В мужчине, перед тем, как он озверевал окончательно, происходила какая-то солнечная вспышка, мутация, носившая иногда затяжной характер. В этот опасный период, подобный скарлатине, любой человек был уязвим, словно парящая в воздухе мишень. По прикидкам Кныша, у гениального студента период горячки, сопутствующей превращению в зверя, мог затянуться вообще на годы, по той простой причине, что природа не отпустила ему ни капли сердечной энергии, необходимой для боя. То, что он уцелел в «Ласточке», всего лишь счастливый случай. Кныш сказал об этом принцессе:
— Поберегла бы мальчишку. Он же мягонький, как воск.
Принцесса смиренно ответила:
— Ты прав, я погорячилась. Но мне казалось, ему необходимо через это пройти.
— Это тебе, девочка, необходимо каждого попробовать на зубок. Не понимаю я этого.
На самом деле, понимал. В принципе Таина действовала правильно. Проверяла своих людей на излом, как ветеринар определяет здоровье лошади по зубам. Она затеяла свою маленькую войну в Москве, где ошибиться, как на минном поле, можно было только один раз.
Из болванки, из диктофонной записи с не очень качественным звучанием, сделанной ею во время встречи с Черным Тагиром, Боренька слепил дискету, цена которой была не меньше полумиллиона «зеленых». Кныш по собственному почину помогал ему в работе, с восхищением следя за умными, точными, изобретательными манипуляциями со звукозаписывающей техникой. Вот тут с Интернетом никто не мог сравниться. Упорно, забыв о времени, он подчищал, компоновал, перезаписывал сотни раз, добиваясь такого уровня, что хоть сразу посылай на техническую экспертизу. Таина приехала в «Кентавр» под вечер принимать работу — и тоже осталась довольна.
На пленке было зафиксировано несколько фрагментов якобы подслушанных разговоров (уличные шумы, посторонние детские голоса, придававшие тексту почему-то особую убедительность). По сути, коммерческую ценность представляли только два куска. На первом Черный Тагир, явно чем-то раздраженный и очень немногословный, «заказывал» Рашида-борца, человека легендарного, подмявшего под себя половину московских группировок. Интересы бакинского магната простирались от бензиновых автоколонок до наркотиков, но примечательно не это. Московские воротилы, как правило, действовали с большим разбросом, не утруждая себя узкой специализацией; и когда сталкивались на каком-нибудь спорном пятачке, то обыкновенно забивали друг друга до смерти (чаще всего в буквальном смысле). Этот обычай был в ходу как у мелких хищников, так и у крупных, связанных с правительственными кругами и президентской головкой акул, но Рашид-борец стоял в российском бизнесе особняком, олицетворяя своей персоной как бы возможность благородного поведения даже в таком деликатном деле, как дележка обкусанного со всех сторон российского пирога. Молва приписывала ему необыкновенные нравственные качества, а также глубокий государственный ум: на его счету по самым строгим подсчетам было не больше десяти трупаков, да и то все — его конкуренты, сломавшие шею в столкновении с ним, погибшие на первом этапе реформ, когда на кону стояла государственная собственность и не убивать считалось западло. Пресса и телевидение частенько сравнивали Рашида-борца то с Махатмой Ганди, то со Столыпиным, приводя поразительные примеры его коммерческих озарений и миролюбия. Выдавливая конкурента с игрового поля, Рашид-борец не нанимал киллеров, как другие, не вываливал на экраны горы компромата, а стремился договориться с соперником полюбовно — и чаще всего добивался успеха. Он предлагал побежденным сотрудничество, щедро платил откупное, оставлял капиталец на разживу, то есть искал всякие пути для бескровного разрешения вечных споров между группировками и кланами, к тому времени целиком поделившими россиянские богатства без права возврата. Его авторитет в бизнесе и среди избирательного электората был столь велик, что поверженные в прах новые русские сохраняли к нему чувство глубокого уважения и даже благодарности. У всех на памяти характерный случай, когда некто Прохорович, мелкий финансист, занимающийся поставками оружия на Кавказ, взятый в оборот людьми Рашида-борца, дал обширное интервью для программы «Герой недели». Интервью он давал в больничной палате, с переломанными конечностями, подвешенный к потолку сложной системой грузов и противовесов. Мечтательно улыбаясь, Прохорович на весь мир заявил, что счастлив оттого, что нарвался не на какого-нибудь проходимца и лиходея, а пострадал от благородной руки великого человека и гуманиста. «Рашид Львович Оглы-бек, — сказал он, прослезясь, — вчера навестил меня самолично. Привез полную сумку гостинцев, в натуре. Пообещал, когда вылечусь, взять к себе в аппарат. На хорошую должность… Редкой души человек, такие рождаются раз в столетие. И то не в России».
На фрагменте пленки, который сляпал Боренька Интернет, звучал такой текст:
«Голос Черного Тагира'.
— Месяц сроку даю… чтобы эту жирную свинью урыть… надо уложиться.
Неизвестный:
— На «лимон» потянет, хозяин. К Рашиду подобраться трудно. Охрана сильная. Как у Ельцина.
Черный Тагир:
— Пусть «лимон». Пусть два. Хорошо надо сделать, громко. Бакинская сука совсем оборзела.
Неизвестный:
— Что значит громко? Из гранатомета размазать?
Черный Тагир:
— Хоть из стингера… Пусть кишки до небес летят. Подлюка двуличная: с арабами скорешился. Абрамыча купил. Всех купил. Меня не купит. От меня ему будет харакири. Тянуть нельзя. Через месяц он в Штаты удерет. Оттуда труднее достать.
Неизвестный:
— Уберем Рашидика, хозяин, не сомневайся. За «лимон» шайтана уберем.
Черный Тагир:
— Этот хуже шайтана. Он нас русским продал. С Чириком химичит. Трубу хочет распилить. Я ему хобот распилю…
Не подведи, брат. Каху возьми с собой. Я говорил с Кахой. Он с нами. Все честные уважаемые люди с нами. С Рашидом собаки…»
Дальше неразборчиво, голоса заглушились естественными помехами, как бывает, когда объект удаляется слишком далеко от микрофона.
Второй кусок пленки, представляющий коммерческую ценность, содержал в себе несколько обрывочных фраз, произнесенных Тагиром, судя по всему, в любовной горячке. Фрагмент был произведением чистого компьютерного искусства. У слушателя создавалось ощущение, что он не только присутствует при беседе, но и видит, как Тагир обслуживает свою подружку так, что от нее перья летят. Стоны, звуки ударов, хруст разрываемых тканей. Антураж соответствовал репутации любвеобильного Тагира, склонного к садизму. Кто знал Тагира, тот не удивлялся, когда из его покоев слуги выносили поутру какую-нибудь растерзанную, с перекушенной веной бабенку. Зато Тагир мог не опасаться, что ночная откровенность выйдет ему боком. Для непосвященного фразы на дискете не несли в себе важной информации, но именно для непосвященного. Участникам мистического действа, именуемого российским бизнесом, похвальба пьяного, куражного Тагира давала массу бесценных сведений — имена, прозрачные намеки, мелькнуло даже название банка в Толедо, где, по контексту разговора, Тагир за минувший год намыл не меньше трех «арбузов».
— Наивно, но убедительно, — сказала Таина, внимательно прослушав дискету до конца. — Тебе как кажется, Володечка?
Кныш привычно напрягся от невероятного, вернувшегося из юности обращения — Володечка.
— Боря головастый. Но продать это будет трудно.
— Почему?
— Вслепую Рашид не купит. А когда прослушает, за что платить? Заколдованный круг получается.
— Я могу сделать копию, — вмешался Боренька, разомлевший от похвалы предводительницы. — Полуфабрикат. Компьютерный фантом.
Кныш и Таина смотрели на него в недоумении. Боренька развил мысль:
— Ну, представьте, покупатель услышит только часть записи. Остальное — пш-шик! Ему же захочется получить пленку целиком.
— Очень головастый, — уважительно повторил Кныш. — Но вы не знаете Рашида.
— Объясни, — попросила Таина.
— Он боец, а не мыслитель. Чтобы начать действовать, ему достаточно узнать об опасности. На все остальное ему наплевать. На все пленки.
— Мальчики, — прощебетала Таина. — Как приятно с вами пообщаться! Но неужели вы думаете, что мамочка, заказывая товар, заранее не подумала, как его сбагрить?
…Тем же вечером по ее поручению Кныш отправился побеседовать с Мареком Зинчуком (Протезистом), который после нелепой гибели Столяра основательно укрепился в Замоскворечье. Не по чину укрепился. Как-то быстро установил контакты с префектурой, перекупил оперов из райотдела, которые прежде работали на Столяра, и теперь не только собирал дань со всей розничной торговли в районе, но арендовал несколько помещений под офисы, открыл парочку солидных магазинов под вывеской фирмы «Версаче», короче, расположился на опустевшей территории таким образом, что шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на его метки. Тайне это не нравилось хотя бы по той причине, что двое ее дружков, занимавшихся, кстати, неизвестно чем, во всяком случае Кныш не знал, чем они занимаются, официально считалось, что связями с подмосковными группировками, — так вот эти двое никак не хотели простить Протезисту предательства в истории со Столяром, когда Марек, в сущности, принес Санька и Клима в жертву своим шкурным интересам. Из-за него погибла хорошая, простая девушка Галя Скокина, сожительница Маньяка. Ее замучили на дыбе, а ведь она вдобавок была соседкой Таины. «Дело не в моих амбициях, — объяснила она Кнышу. — Но мы тут живем, это наш район. Зачем каждый день нюхать эту вонь? Разберись с ним, пожалуйста, Володечка».
Именно в такой форме она отдавала распоряжения, но Кныш уже привык к этому. В его сознании стояли рядом две молодые женщины: одна — шлюха из ящика, кривляющаяся в каком-то ублюдочном ток-шоу, роняющая ядовитую пену из ярко накрашенного рта; и вторая — добропорядочная бандитка, по капризу сердца вступившая в неравную схватку с целым миром. Отдаленное внешнее сходство в этих женщинах угадывалось, но они не были даже сестрами. Вот эта, которая с мелодичным горловым клекотом изрекала: — Во-о-ло-одечка! — каким-то чудом избежала мутации, в ее глазах, устремленных на него, светилась обыкновенная человеческая улыбка, хотя и с оттенком шизофрении.
Кныш пошел в бильярдную, расположенную в высотке, неподалеку от Павелецкого вокзала. Сюда Протезист заглядывал каждый вечер на часок-другой, потому что считал себя мастером кия. Он здесь душевно оттягивался с самыми надежными, по его мнению, пацанами. Бильярдная, как выяснил Кныш, принадлежала грузинской группировке, возглавляемой Шато из Подлипок. То есть, можно было считать, что это нейтральная территория.
Когда-то в молодости Кныш и сам неплохо катал шары, но бильярд не был его стихией. В бильярде присутствовала некая заторможенность, которая действовала удручающе на его взрывчатую психику прирожденного рукопашника. Но с другой стороны, он не был глух к магическому смыслу несущегося в лузу костяного кругляша. В бильярдной у Шоты ему понравилось: много укромных уголков, где можно пристроиться с кружечкой пивка, небольшой ресторан и центральный игровой зал с десятью столами, с высоким потолком, паркетными полами и византийскими окнами. Публика спокойная, обстановка чопорная, аристократическая. Служители в смокингах. За вход с него взяли всего лишь две сотни и не потребовали никаких документов. Вот тебе и закрытый клуб.
Когда он пришел, заняты были только два стола, да и то за одним упражнялся сам с собой худой высокий господин с усатым лицом, поглядевший на Кныша с надеждой. Кныш не стал его разочаровывать. Ответил на немой вопрос:
— Если по маленькой, то я не против.
— По маленькой — это по скольку? — оживился усатый, похожий на алкаша с подшитой «торпедой».
— Ну, по сто баксов — годится?
— Почему нет, для разминки… Чего-то я вас раньше не видел?
— Я вас тоже, — любезно ответил Кныш.
До появления Протезиста с компанией (трое пацанов и эффектная блондинка, обкуренная до неприличия) они сыграли две партии — и разошлись по нулям, но Кныш уже угадал в партнере «профи», терпеливо поджидающего «карася». Это было видно и по игре: усатый держался четко вровень с Кнышем, столько же раз мазал, сколько и попадал, а к середине первой партии начал подражать ему и в манере — неуклюже держал кий, избегал сложных комбинаций и ненатурально охал, когда промахивался; но, главное, неуловимые штрихи: подчеркнуто дистанционное отношение обслуги, острые, заинтересованные взгляды с соседних столов, скучающая гримаса на лице, застывшая подобно посмертной маске… Когда усатый — его звали Сергей Леонидович — предложил увеличить ставку хотя бы до пятисот баксов, чтобы стало веселее на душе, Кныш грустно улыбнулся и сказал, что сперва немного передохнет. Уселся в сторонке с рюмкой коньяка, но не пил, только прикасался к ней губами. Он уже настроился на то, что сегодняшний вечер пройдет вхолостую, вероятно, что-то заставило Протезиста изменить своей привычке, и придется тащиться в бильярдную еще раз, но в десятом часу Марек наконец объявился, и Кныш почувствовал облегчение. Ему предстояла несложная, но неприятная работа, не хотелось ее откладывать. Вдобавок он испытывал стойкое внутреннее раздражение оттого, что не сумел, как и всегда, отговорить Таину от очередного безрассудства. За этим раздражением возникал неумолимый вопрос: зачем он вообще связался с этим детским садом?
Протезист прибыл с помпой, занял сразу два стола, расположил хохочущую девицу на диване в позе боевой эротической готовности, шумнул официанта, который тут же прилетел с двумя подносами, короче, гулял купчик, гулял. Хозяин! Катать шары он начал со своими шестерками, на соседей не обращал внимания, ни с кем не поздоровался, и наблюдать всю эту гульбу было, конечно, забавно, потому что на морде у раздухарившегося «ново-рашена» было явственно написано, что на самом деле он никакой не крутняк. Таких маленьких бандюков, смирных в душе, но буйных публично, по Москве развелось немало. Кныш относился к ним с сочувствием. Он представлял, как такому человеку страшно оставаться ночью наедине с собой, но ведь все же были, значит, у него какие-то особые качества, позволявшие ему держаться на плаву посреди озверевшего города.
Кныш, напустив на морду тупость, приблизился к столам и, открыв рот, наблюдал за игрой, а потом позволил себе пару восхищенных возгласов, которые все равно прозвучали непочтительно. Качки насторожились, но, увидев, что гость пожаловал один и ничего опасного в нем нет, успокоились. Только рыжий детина в полутонну весом, проходя мимо, на всякий случай, для проверки пихнул Кны-ша плечом, будто оступился. Кныш извинился. Сам Протезист ткнул ему в грудь кием:
— Чего, пацан, хочешь сыграть?
— Куда мне, — отозвался Кныш. — Мы вот с Сергеем Леонидовичем крутим по соточке. У вас же совсем другой уровень.
— А с форой?
Кныш заинтересовался:
— Какая же будет фора?
— Два шара.
— И на какой ставке?
— Давай на тыще. Меньше нет смысла.
Кныш начал вслух, по какой-то сложной схеме переводить деньги на шары, чем развеселил всю компанию. Рыжий детина ласково обнял его за плечи, шепнул:
— Не зли папочку. Или играй, или проваливай. Папочка придурков не любит.
— При чем тут — придурок я или нет, — заносчиво возразил Кныш. — Лохом тоже неохота быть. При двух шарах форы у меня шанса нету. Лучше бы три шара. И тогда по пятьсот баксов. Для разгону. Так я согласен.
Обкуренная девица поднялась с дивана и поднесла ему рюмку водки. Чем-то он ее заинтересовал, она даже хохотать перестала. Внимательно смотрела ему в глаза. Водку Кныш выпил. Поблагодарил:
— Спасибо, красавица.
Девица обернулась к хозяину:
— Гони его, Марек, это подставной.
— Без тебя разберемся, — цыкнул Протезист. — Ступай на место, Элка… А ты, парень, вот что, не наглей. Сказал по тыще, значит, по тыще. Или канай отсюда.
Кныш почесал в затылке. У него пропала охота развлекаться. Наркоманка его смутила. Он не верил в женскую проницательность, которая якобы заменяет ум. Если на то пошло, принцесса Таина вся соткана из интуиции, пропитана женским колдовством, как ночь луной, но ведь ни разу не прикоснулась к его истинной сути, хотя Кныш на нее пахал. А эта «соска» с марафетом в очах сразу угадала, что он не тот, кого из себя изображает. Плохой знак. По правилам ему следовало немедленно уходить, не испытывать судьбу: известно, и богатыри спотыкаются на арбузной корке: Может быть, до контузии он так бы и сделал, но после Чечни, все эти долгие, тягучие месяцы выздоровления злоба, скопившаяся под сердцем, часто мешала ему принимать адекватные решения. Нет, понапрасну он не рисковал, только иногда совершал поступки, за которые потом стыдился.
— Подумаю, — буркнул себе под нос. — Извините. Тыща для меня большие деньги.
И поплелся к себе в угол, где его поджидал с кием терпеливый Сергей Леонидович.
— Зачем вам это, милый юноша?
— Что? — не понял Кныш.
— Зачем вы к ним ходили? Это плохие ребята, с ними лучше не связываться. И играть с ними не надо.
— Каталы, что ли?
— Скорее уж кидалы, — улыбнулся усатый. — Во всяком случае, Володя, интеллигентным людям, как мы с вами, лучше держаться от них подальше.
— Предложил по тыще сыграть, — пожаловался Кныш. — Откуда у меня такие деньги, верно?
— Деньги в принципе не очень большие, но действительно, откуда они у вас?
Он произнес это с иронией, и Кныш вторично подумал: надо уходить. С Сергеем Леонидовичем, у которого, похоже, выпал пустой вечер, скатали еще по паре ленивых «американок» — и опять разошлись по нулям. Постепенно Кныш успокоился. Несмотря на неожиданно открывшуюся в нем прозрачность для всех окружающих, он не видел особых причин для беспокойства. Он был в хорошей форме. Недельная лежка в клинике у доктора Кампертера заметно его освежила. Может, для того, чтобы окончательно очухаться, ему как раз и не хватало пики в боку. Они с Кам-пертером накануне выписки выпили литровую бутыль виски, и вели философские беседы — и ничего нигде не болело, ни у него, ни у доктора. Кныш сразу просек, зачем гениальный хирург пришел к нему в палату с бутылкой: бедняга был влюблен. При этом был женат и имел двоих детей. Но влюблен он был не в жену, а, естественно, в рыжую принцессу. Об этом не было не сказано ни слова, это было высечено у доктора на лбу. Он пришел выяснить, в каких отношениях находится с принцессой его пациент. Кныш, исполненный благодарности к доктору за умелое лечение, не стал долго его мурыжить, после первого стопаря сам завел речь о волнующем Кампертера предмете.
— Я ее мало знаю, — небрежно обронил. — В сущности, совсем не знаю. Она помогла мне вырубить одного хачика на рынке. Но мне она показалась немного чокнутой. Каково ваше мнение как врача?
Кампертер встрепенулся, как рысак на лугу, услышавший далекий посвист текущей кобылки.
— Ни в коем случае, господин Кныш, ни в коем случае! С чего вы взяли? Она абсолютно вменяемая. Другое дело, что, возможно, родилась не в свой век.
Доктор принял Кныша за бандита — ножевое ранение и все прочее, — поэтому, как положено, обращался к нему исключительно со словом «господин», хотя Кныш просил называть его просто Володей. Разговор у них затянулся до полуночи. Кныш уснул, не дослушав доктора до конца. Опьянев, тот начал рассказывать про жену, про двоих детей, при этом так жалобно глядел, будто хотел попросить взаймы. Кныш искренне ему сочувствовал. Он даже полюбил его в тот вечер. Талантливый, взрослый, умный человек, а зациклился на шальной красотке — и видно, что скоро наделает глупостей. Если принцесса поманит… Мужчина жалок всего лишь в двух случаях: когда трусит в бою и когда не может справиться с тяжелым, унизительным вожделением, называемым любовью. О Тайне они больше не говорили, все и так ясно. Она и пятерых Кампертеров проглотит, не подавится…
Пока Кныш с Сергеем Леонидовичем потихоньку-полегоньку раскатывали свои партии, попивая винцо, за столами у Протезиста шла своя игра. В туалет он пока не собирался, а это было единственное, чего дожидался Кныш. Ему нужно было минуты три-четыре, чтобы перемолвиться с ним парой словечек наедине. Лучше всего именно в сортире. Корешки Протезиста заловили какого-то залетного, сильно пьяного мужичка средних лет, который явился в клуб со своим кием в матерчатом чехле, — втянули в игру и, похоже, раздевали донага. За полтора часа уложились. Понурясь, мужик сидел на диване рядом с девицей, и она заботливо отпаивала его коньяком. При этом белесый амбал втолковывал мужику, что с ним будет, если он не обернется с деньгами до утра. Частично их разговор был слышен всему залу. Сумма плавала сумасшедшая, то ли в десять, то ли в пятнадцать штук.
— Как же они успели? — поразился Кныш.
Сергей Леонидович ответил с грустью:
— Успеть можно и быстрее, если кодлой работать.
— И что с ним теперь будет?
— Да ничего не будет. Найдут утром неопознанный труп где-нибудь в районе Битцы… Я же вас предупреждал, Володя, с ними лучше не связываться. Артисты!
— Спасибо, Сережа… Я и сам вроде как позвонком почувствовал… А девушка эта с ними постоянно ходит?
— Ее первый раз вижу… Но какую-нибудь даму они обязательно с собой приводят. Такой сценарий, — и добавил уже без всякой надежды: — Что ж, может, сделаем разгонную по полтинничку?
Кныш не ответил, потому что в этот момент Протезиста наконец прихватило, и он, погладив по лысеющей голове продувшегося фраера, отправился освежиться. Но не один. Разумеется, за ним поперся для охраны тот самый громила в полутонну весом, сырой, как недожаренный ростбиф. Кныш извинился перед партнером и поспешил за ними.
Возле туалета дежурил пожилой служка в синей униформе, осанистый, с цепким взглядом — явно бывший сотрудник каких-нибудь спецслужб. Зорко следил за входящими и выходящими. Ловил террористов. После двух ужасных взрывов в Москве стало модным, чтобы в частном заведении достаточно высокого ранга обязательно стоял наблюдатель возле сортира. И предпочтительно в звании не ниже майора. Такой пригляд успокаивал клиента, и, садясь на толчок, он чувствовал себя в полной безопасности. С этим, который дежурил, Кныш загодя познакомился, выкурил по сигарете. Задача у сторожа была простая: углядеть, чтобы никто не оставил в сортире подозрительную поклажу. Остальное его не касалось. В туалете возле огромного зеркала, рядом с умывальниками, стояли несколько кресел и высокие бронзовые пепельницы. Здесь в уютной обстановке, в стороне от придирчивых глаз можно было и уколоться, и заключить какую-нибудь сделку, не привлекая ничьего внимания.
Кныш дал Протезисту с конвоиром минуту на обустройство и, дружески кивнув особисту, вошел в сортир следом за ними. Ему повезло: посторонних никого. Протезист уже стоял у писсуара, расстегнув ширинку, а громила-тяжеловес причесывался перед зеркалом, в глубь помещения не пошел, чтобы не смущать патрона своим присутствием при деликатной процедуре. Увидя Кныша, просипел:
— Тебе чего? Не видишь, занято?
Замечание было, конечно, юмористическое, вдоль стены расположено с десяток писсуаров и еще на противоположной стороне — несколько пустых кабинок с распахнутыми дверцами, но Кныш больше не улыбался. В доли секунды он привел себя в состояние атаки.
Протезист, продолжая облегчаться, обернулся, увидел Кныша:
— Передумал, приятель? Сыграем по тыще?
Кныш, не отвечая, поднял за длинную ножку бронзовую пепельницу и, раскрутив над головой, обрушил на сурового телохранителя. Тот лишь в последний миг сообразил, что дело-то неладное, дернулся, попытался отступить, но летящая железяка с хрустом врезалась ему в лоб. Посыпались искры, как при соприкосновении двух металлических изделий, и, обливаясь кровью, детина повалился на пол.
Протезист все это видел, но не успел оборвать вялую струю, как Кныш оказался рядом. Ухватил за шкирку и, слабо упирающегося, затащил в одну из кабинок и защелкнул дверь. В кабинке вдвоем было тесно, но Кныш приспособился, ловко перегнул паханка пополам и макнул мордой в очко. Потом проделал это несколько раз подряд, пока Протезист вволю не нахлебался воды и не посинел. Он пытался что-то прошамкать разбитым ртом, видимо, какое-то возражение, но это ему никак не удавалось. У него был точно такой же вид, как у собаки, которой хозяин ни с того ни с сего треснул палкой по затылку. Глубочайшее недоумение — и больше ничего.
— Ну вот, — самодовольно сказал Кныш, чуть-чуть давая клиенту раздышаться, — и теперь послушай меня внимательно, гнида. Я мог бы замочить тебя прямо сейчас, но добрые люди попросили дать тебе три дня на эвакуацию. Кто-то тебя пожалел… Значит, так. За три дня соберешь вещички, ликвидируешь притоны — и чтобы в районе твоего духу не было. Чтобы больше не воняло. Три дня. Не слышу ответа!
— Кто ты? — прохрипел Протезист.
— Я твоя смерть, — ответил Кныш и для убедительности умакнул Протезиста в толчок на целую минуту, пока у того из ушей не проступили два бледно-голубых пузыря. Недоумение на его лице сменилось выражением потустороннего черного ужаса. Он сломался, как все они ломаются, — от нежного прикосновения вечности. У Кныша он не вызывал никаких чувств, кроме омерзения. Мелкий столичный паха-нок в роковую минуту оказался не способен выказать хотя бы минимальное мужское достоинство.
— Через три дня приду за тобой, — сказал он, когда к Протезисту вернулось поверхностное дыхание. — И после того, что я с тобой сделаю, этот толчок покажется тебе райским местом. Три дня, гнида, ты понял?
Протезист слабо кивнул.
Проходя мимо лежащего под умывальником громилы, Кныш наклонился и потрогал у него яремную вену. Пульс бился, хотя с перебоями. Кныш почувствовал облегчение. В жизни этого барана с накачанной мускулатурой не было никакого смысла, но он не хотел брать на себя окончательный приговор. Не его это дело. Пусть живет, пока не нарвется на точно такого же, но более удачливого барана.
ГЛАВА 5
Громоздкий, тучный, с седым ежиком на голове, будто гора с подснеженной вершиной, Рашид Львович Бен-оглы был из тех людей, про которых уважительно говорят: он сделает. О каком бы дерзком предприятии ни шла речь — он сделает! Коротко и ясно. И так говорят до тех пор, пока в атмосфере вокруг этого человека начинают происходить какие-то
169 странные колебания, и тогда фраза начинает звучать так: надо сделать для него. Этот момент означает, что человек, подобный Рашиду-борцу, достиг жизненной вершины — и это уже навсегда. Теперь отношение к нему окружающих, полное почтительного трепета, может изменить только смерть.
Известие о пропаже любимого племянника Арслана он получил на уик-энде, проводимом в загородном поместье в Петрово-Дальнем. Прибежал запыхавшийся нукер Муса и, пряча стыдливо глаза, доложил, что двое суток назад Арслан ближе к вечеру отправился в казино «Манхэттен», что в Замоскворечье, провел там время до трех часов утра, проигрался немного, оставил около десяти тысяч баксов, сел в свой серебристый, известный половине Москвы «Линкольн-люкс» и отбыл вроде бы на свидание с какой-то дамой. С тех пор о нем ни слуху ни духу.
Рашид-борец поднял на нукера тяжелый, бледно-оранжевый взгляд.
— Почему пропал? Кто сказал, пропал? Гуляет где-то… Кто не знает Арслана?
— Нет, господин, — Муса боялся встретиться глазами с Рашидом и смотрел в пол. — Звонили из офиса. У него была назначена деловая встреча с англичанами, очень важная. Он не мог ее пропустить.
— Почему не мог? Арслан — и не мог? Он же лоботряс.
Бледный оттого, что приходится возражать хозяину, Муса сказал:
— Это не тот случай. Англичане везли ему большой, приятный подарок… Мальчик исчез, господин.
Рашид-борец с любопытством разглядывал Мусу, рискнувшего явиться с дурной вестью, но беспокойства не испытывал. Не верил, что кто-то мог обнаглеть до такой степени, чтобы покуситься на его родича. Коротко бросил:
— Ищите, — и, обойдя несчастного нукера, окостеневшего посреди гостиной, прошествовал к бассейну. Распустил кисти парчового турецкого халата, не спеша, заранее блаженно пофыркивая, погрузился в хрустальную, нагретую до двадцати пяти градусов воду. Около часу бултыхался, как тюлень, выплескивая воду на мраморные плиты. Обычный утренний моцион. При своей огромной мышечной массе Рашид-борец много времени и сил тратил на то, чтобы не ожиреть. Ожирение грозило ему полной неподвижностью, как это случилось когда-то с железным Али; неподвижность хуже смерти. Собственно, это и есть смерть, только перегруженная желаниями, которые не могут осуществиться. Ничего на свете не боялся Рашид-борец, но иногда с тоской размышлял о невероятном положении, в котором находится мужчина, не способный овладеть трепещущей от страсти женщиной, переплыть реку или кулаком сбить с ног врага. За грехи бывают разные наказания, но такое, наверное, одно из самых суровых.
Запыхавшись, он вылез из бассейна и разлегся на поролоновом матрасе, косясь сразу на три, расставленные в необходимом порядке лампы Чижевского. Чтобы спастись от воображаемой беды, Рашид использовал все известные ему достижения науки, ежедневно по два-три часа изнурял себя лечебными гимнастиками, и единственное, что не мог заставить себя сделать, это посидеть на какой-нибудь новомодной диете, на чем настаивал его личный врач профессор Шлессер-зон. Еще ему плохо удавались пятилитровые очистительные клизмы на травяных настоях, хотя тот же Шлессерзон убеждал, что без них современному культурному человеку не обойтись. Рашид ему верил и старался изо всех сил, но могучий организм сопротивлялся проникновению в задний проход резиновой груши, может быть, на подсознательном уровне путая ее с одушевленным предметом. И смех и грех. Даже сразу трем опытным медсестрам не удавалось вогнать в него зараз больше литра настоя, а это, как говорил врач, было то же самое, что для слона дробина. Рашид-борец и сам знал, что лучше ничего не делать, чем делать что-то наполовину…
К нему подлетели две массажистки, турчанка Зузу и хохлушка Галя, и с веселым клекотом взялись охаживать ловкими кулачками его бугристую тушу. Он любил их обеих, но предпочтение все же отдавал турчанке (подарок Наюр-бека из Таджикистана), возможно, потому, что смуглоликая Зузу не понимала по-русски ни бельмеса, да скорее всего вообще не понимала человеческих слов. Беленькая и черненькая, обе пухленькие, со светящимися глазками, неистощимые на озорство, они действовали на него умиротворяюще. После их массажа он впадал в блаженную дрему и несколько минут словно плавал в юных грезах, размягченный, с оттаявшим сердцем. Но сегодня не вышло. Муса испортил утро, все же засадил маленькую занозу в сердце.
Честно говоря, племянник давно беспокоил Рашида. Старший брат Халид перед смертью (он умер от трех пуль в живот) поручил Арслана его заботам, но этого и не требовалось. Без всяких обещаний ни при каких обстоятельствах Рашид не оставил бы сироту. Теперь это был уже не мальчик, а взрослый мужчина двадцати трех лет, сильный, умный и смелый, как все мужчины в их роду; но с течением времени в характере Арслана проявились некоторые черты, непонятные Рашиду. Скорее всего это объяснялось тем, что по материнской линии Арслану подмешали русской крови, а природа, как известно, не терпит противоестественных соединений. Его простодушие и доверчивость граничили с идиотизмом. Сколько ему важных дел поручали, столько он и проваливал. Из осторожности Рашид использовал племянника только для разовых акций. Так хоть убытку меньше. Недавно послал в Баку за товаром, так Арслан вместо вагона травки пригнал две цистерны со спиртом и еще гордился собой, ожидал похвалы от дядюшки. Похвалы не дождался, но и вразумить дурачка, как положено, Рашид никогда не осмеливался: покойный брат стоял перед глазами с тремя пулями в брюхе и с вечным укором в глазах. Когда выяснилось, что в цистернах вдобавок спирт метиловый, мальчик немного смутился, но уже через час бодро похвалялся:
— Какая разница, гяуры жрут и такой!
Допустим, это верно, гяуры пьют и гуталин, но как это оправдывало Арслана? В том месяце отправил родича в Гамбург для налаживания одного солидного европейского транзита, и действительно, кого же еще посылать? Мальчик образованный, говорит на трех или даже пяти языках, Рашид купил ему три диплома о высшем образовании, причем один штатовский, пять штук за него отвалил — ну и что же? Да ничего, пустой прогон получился. В первый же вечер в портовом притоне Арслан подцепил какой-то хитрый триппер, ни с кем не встретился, вернулся через неделю весь синий, зато с красными чирьями на щеках. Ладно, вылечили кое-как, а что дальше? Какая дальше у него будет судьба, если он неприспособленный к бизнесу? В первый раз Рашид-борец поговорил с племянником по-настоящему сурово. Спросил:
— Чего ты хочешь, Ари, скажи? Чего ты ищешь в жизни? Может, чего-то такого, чего я не знаю?
Молодой человек испугался его насмешки и тут же искренне повинился:
— Прости, дядюшка Рашид. Я стараюсь, но, наверное, я просто невезучий. Если хочешь, убей меня.
И в глазах такая преданность, как у пса. Ну как после этого на него сердиться? Он в самом деле был невезучий, как и его покойный отец. Халид ничего путного не добился в жизни, еле-еле перебивался рэкетом, да подторговывал барахлишком на оптовых рынках, зато из трех пуль, пущенных убийцей, все три ухитрился поймать животом. А это не очень легко, если учесть, что стреляли в темноте и с большого расстояния.
Но чего у Арслана не было и не могло быть, так это врагов. Его незлобивость была еще поразительнее, чем доверчивость, и, рожденный в смутное время, когда, по словам древнего поэта, скалы плачут от горя, мальчик ухитрился прожить так, что, наверное, ни разу не прихлопнул и комара у себя на лбу. Правда, молва приписывала юноше расправу над Сашей Зеленым, а также участие еще в двух-трех подобных историях, где он якобы показал себя героем и настоящим горцем, но уж Рашид-борец лучше других знал, что все это если не ложь, то большое преувеличение; он сам старательно поддерживал слухи о тайно-мужественном характере мальчика, как же иначе? Ведь если прослывешь овечкой, то рано или поздно тебя обязательно прирежут на шашлык. Горькая истина была в том, что, видимо, опять же от русской бабки перетекла ему в кровь юродивая склонность к всепрощению, которая заставляла его на самых злейших обидчиков смотреть с миролюбивой улыбкой. Арслан был совершенно не способен, как настоящий мужчина, накопить в сердце ярость, затаиться для того, чтобы однажды подстеречь негодяя на узкой тропинке и, образно говоря, вонзить в поганую грудь меч возмездия. Откуда взяться врагам у такого человека? Именно поэтому сообщение Мусы о том, что мальчик пропал, Рашид-борец сперва воспринял как несерьезное (загулял в очередной раз постреленок), но сейчас, поразмыслив, ощутил внезапный приступ тревоги. Конечно, у Арслана врагов не было, зато у его дядюшки их не счесть. Он удивился, почему эта мысль сразу не пришла ему в голову. Сбросив дрему с глаз, спросил у Гали-хохлуш-ки, усердно выскребавшей его пятки:
— Скажи, девочка, давно ли ты видела Арслана?
— О-о, господин, — у прелестной блондинки вспыхнули щеки. — Если вы упрекаете меня, то…
— Нет, нет, — Рашид поднял руку, — я не упрекаю. Я знаю, мальчик иногда заглядывает к тебе, это нормально. Хочу спросить о другом. Когда ты видела его в последний раз, он ни на что не жаловался?
Теперь девушка покраснела до макушки.
— Нет, господин, Ари остался доволен. Ему немного нужно, он очень нежный.
Рашид в сердцах отпихнул ее ногой, бедняжка опрокинулась на спину. Турчанка Зузу, разминающая его могучее предплечье, увидя, что хозяин чем-то недоволен, замерла, как мышка, и тихонько пискнула от страха. Рашиду это не понравилось. У девочек не было причин его бояться. Он никогда не бил женщин, полагая, что склонность к садизму — признак мужской слабости. Убить можно, без этого бывает не обойтись, но истязать, мучить — зачем? Женщина не является человеком, так отмечено и в сурах, но даже если принимать ее за скотину, то какой нормальный хозяин станет издеваться над домашним животным? Это стыдно и глупо. Хороший хозяин оберегает и любит все, что живет и дышит в его саду — и птицу, и кошек с собаками, и баранов, и коз, и коров — и самый малый цветок, распустившийся на клумбе. А как же иначе? Аллах акбар.
— Галя-джан, — ласковым тоном извинился перед девушкой за свою дерзость. — Немножко подумай головой. Я спрашиваю, не показался ли тебе мальчик странным, непохожим на себя? Может быть, говорил какие-то слова, каких ты раньше не слышала? Или называл какие-то имена?
— О нет, господин. Он вообще со мной редко разговаривает. Быстрее, быстрее, давай-давай — и убегает. Ари очень нетерпеливый.
…Из кабинета Рашид-борец сделал три звонка, которыми поднял на ноги все сложные разветвленные службы охраны, обеспечивающие безопасность клана в Москве. Приказ был всем один: немедленно найти Арслана или его следы. Тому, кто отличится, Рашид, — он всегда так делал в экстренных случаях, — посулил награду — пятьдесят тысяч долларов. Но принятых мер ему показалось мало, и он связался со своим добрым кунаком, полковником Сашей Милюковым из ФСБ. К помощи полковника он прибегал нечасто, не хотел засвечивать по пустякам столь взаимо-полезную дружбу. Сам Милюков был потомственный разведчик и входил в головку некоего особо засекреченного подразделения. Рашид-борец, разумеется, не доверял своему русскому побратиму ни на грош, хотя бы потому, что так и не понял толком, где служит Саша и чем занимается, кроме того, что пьет водку, любит красивых баб и иногда в охотку оказывает Рашиду мелкие услуги в сугубо информационном ключе. К слову сказать, его информация иногда шла на вес золота, но хитроумный полковник не брал за нее ни копейки, чем вызывал у Рашида еще большее недоверие. В новом мире, построенном в России для сильных, независимых мужчин, в основном иностранного происхождения, где все продавалось и покупалось, человек, который что-то отдавал бескорыстно, выглядел не просто подозрительно, а в некотором смысле вызывающе.
Осведомившись, чем занят полковник, и услышав, что ничем не занят, а сидит и чешет себе пузо, Рашид-борец пригласил его в гости, намекнув, что хочет посоветоваться о таком важном деле, о котором нельзя говорить по телефону.
— Почему такая срочность, бек? — удивился Саша Милюков.
— Все узнаешь, дорогой, все узнаешь, — таинственно ответил Рашид. — Посидим у камина, как ты любишь. Вина выпьем. Очень надо, поверь.
— Приеду, бек, — хмуро отозвался полковник. — Через час. Жди.
Сделал как обещал. Через час с небольшим вошел в голубую гостиную — стремительный, в распахнутой кожаной куртке, с загорелым продолговатым лицом, на котором весело светились холодные синие глаза. Обнялись — и в который раз Рашид-борец с уважением отметил, какая опасная сила таится в этом худощавом и с виду совершенно безалаберном человеке. Эта сила передавалась через прикосновение, от кожи к коже, как дыхание ветра с горных вершин. Никому из соплеменников Рашид-борец не признался бы в этом, но про себя думал, что пока у русских еще есть такие бойцы, с ними лучше не сталкиваться лоб в лоб, лучше заключать контракты, вести переговоры и ждать: кто этого не понял, тот рано погибал. Примеров много, не хочется вспоминать.
Расположились у камина, гость с улыбкой спросил:
— Что случилось, бек? Неужто кто-то посмел встать у тебя на дороге?
Рашид ответил серьезно:
— Ничего удивительного, Саша. Люди озверели, кидаются друг на друга, как псы. Раньше так не было. Раньше уважали старших и не продавали душу за горсть серебра. У людей не осталось ничего святого.
— Ты прав, бек, — согласился полковник. — Когда объявили свободу, многие сорвались с цепи и до сих пор не могут остановиться.
В ледяных глазах особиста тлела усмешка, которую Рашид не любил.
— Ты помнишь, Саша, моего племянника Арслана?
Полковник кивнул.
— Он куда-то пропал, и я немного нервничаю. Мальчик неосторожный, вспыльчивый. Далеко ли до беды?
— Расскажи, пожалуйста, подробнее, бек.
Рашид поведал все, что знал. Мальчик развлекался в казино, проиграл немного денег, наверное расстроился, хотя он не жадный. Оттуда поехал на свидание к какой-то даме, но к какой — неизвестно. У него много дам по всей Москве. Больше его никто не видел. Вчера у Арслана была назначена важная деловая встреча с английскими бизнесменами, но он на нее не явился. Это на него не похоже. Если даже предположить, что он напился водки или заболел, то обязательно позвонил бы в офис. Совсем недавно он поклялся дядюшке, что покончит со всеми глупостями и возьмется за ум. Рашид ему поверил. Арслан хороший, добрый юноша, правда, чересчур впечатлительный. Иногда может так увлечься красивой женщиной, что не слезает с нее целую неделю. Но всегда при этом находит минутку, чтобы позвонить. Он не стал бы огорчать дядюшку понапрасну.
— Ты же знаешь, Саша, как я отношусь к Аричеку. Он мне дороже родного сына.
— Знаю, бек… И когда он исчез?
— Два дня назад.
— Никто не звонил насчет выкупа?
— Никто не звонил. Ты можешь его найти?
— Во всяком случае попробую… Но ты же понимаешь, Рашид, какая в Москве обстановка. Надо приготовиться к самому плохому. Если еще денек-другой не подаст весточки, значит, его нет в живых. Статистика — упрямая вещь.
Рашид-борец как будто ощутил сквознячок вечности и печально поник головой. Но быстро взял себя в руки.
— Зачем так говоришь, Саша? Не надо так говорить. У кого поднимется рука?.. Мальчик никому не сделал зла.
— Это понятно… Скажи, бек, кого ты считаешь своим главным врагом?
— Я уже думал об этом, Саша… Хочешь верь, хочешь нет, но у меня нет серьезных врагов. Я все дела веду по закону и никогда ни на кого не нападаю первый. На меня иногда нападали, но те, кто нападал, все куда-то подевались. Из крупных людей в Москве никого не осталось, кто пошел бы на такую подлость. Если остались, то я их не знаю.
— В Москве нет, но есть другие места. Может быть, оттуда дотянулись, бек?
— Ты прав, Саша, шайтан вездесущ, но если кто-то хотел меня ужалить, то почему молчит?
— Прошло слишком мало времени. Может, кто-то хочет, чтобы ты помучился в неведении… Ладно, оставим это. Есть еще тысяча причин, которые объясняют исчезновение Арслана. Он мог попасть под машину, ввязаться в уличную драку… Опять же женщины. Иногда они подмешивают что-то в вино, и человек улетает на небеса.
Рашид-борец криво улыбнулся.
— Утешил, брат, спасибо…
— Ты подключил свои службы?
— Не преувеличивай мои возможности, Саша. Мои люди возьмут штурмом Белый дом, если их послать, но иголку в стоге сена не найдут. Для этого нужны другие мозги. У тебя они есть, Саша. Ты найдешь мальчика, да?
Полковник уверил магната, что сделает все, что возможно. Хотя в розыске не силен, не его специфика. Но связи кое-какие есть, скрывать нечего. Есть специалисты, которые разыщут не только человека, мертвого или живого, но именно иголку.
— Скажи им, Рашид-борец хорошо заплатит за племянника, он не скупой…
— Это мои друзья, — отозвался полковник. — Они берут строго по таксе.
— Это их дело, хоть по таксе, хоть так… Давай будем обедать, Саша-джан. Барашек уже на вертеле. Вино — у-уф! — не хочу говорить, сам попробуешь. Из Стамбула с оказией ящик прислали.
— Как же обедать? — удивился Милюков. — Искать надо.
— Искать надо, спешить не надо, — Рашид-борец просветлел лицом, сбросив с плеч обузу. Знал, если полковник пообещал, толк будет. У таких людей с ледяными глазами и задушевной улыбкой сбоев не бывает. У них сбой бывает только один раз, когда отрывают башку. Но это сделать непросто. Саша очень осторожный. Как снежный барс в горах.
— Спешить не надо, — повторил Рашид вкрадчивым голосом. — Два часа туда-сюда ничего не поменяют. Девочки есть новые, для тебя приберег. Ты ведь ни разу не пробовал моих девочек, — Рашид изобразил на лице недоумение. — В чем дело, Саша? Или ты девочек разлюбил?
— Найду Арслана, тогда погуляем, — усмехнулся полковник, и Рашид понял, что это его последнее слово.
— Возьми немного денег, — застенчиво предложил. — Вдруг придется задаток давать.
— Не придется, бек.
Гость уехал, не прикоснувшись к угощению, и Рашид-борец весь день ждал какого-нибудь сообщения. Но все телефоны молчали. Он сам звонил разным людям, проверял, как идут поиски, но ничего обнадеживающего ни от кого не услышал. Уже половина Москвы стояла на ушах, в том числе и несколько райотделов милиции, но племянник как в воду канул. К ночи у Рашида появилось предчувствие, что добром эта история не кончится. Великое множество двуногих крыс притаилось в каменных джунглях, разве за всеми уследишь? Вместе с беспокойством за родную кровинку в груди Рашида-борца постепенно разбухала злоба. Он знал, что рано или поздно все равно доберется до того, кто это сделал.
Чтобы злоба не обрушилась на чью-нибудь невинную голову, Рашид засветло удалился в спальные покои, сидел в одиночестве, пил водку, слушая, как сердце со стуком ломится в ребра. Подлые! Хотят его запугать. Но он и сам виноват, плохо воспитывал Арчи, жалел сироту. Вот и вырос пустоцвет. Только гулянка и девки на уме. В его годы Рашид стал чемпионом Европы по вольной борьбе, а чем может похвалиться мальчик, какими достижениями и успехами? Своими купленными дипломами — и больше ничем. Ничего, пусть только вернется живой. Посидит месяц под замком, отведает домашнего зиндана — и быстро начнет выздоравливать. Все задатки для того, чтобы стать настоящим мужчиной и прославить свой род, у мальчика есть. У него верная рука, быстрый ум и преданное сердце. Сквозь мерцающую влагу в стакане Рашид увидел милое, с нежными щеками, с блестящими светлыми глазами лицо Арчи и растрогался до слез. Искренне, горячо взмолился: спаси его от гибели, Аллах!
Взглянул на часы: уже ночь. День слетел, как соринка с ладони — и весь режим псу под хвост. Это очень плохо. Культурный человек, который не хочет умереть от ожирения, на уик-энде должен бегать трусцой, париться в бане и отдыхать с женщиной, а не пить водку и не сходить с ума от беспокойства. Рашид, огорченно покачивая головой, кликнул мажордома и велел прислать массажисток, чтобы застелили постель. Пожилой черкес Вагиб, как призрак, возник на пороге и так же мгновенно исчез: в такие дни, когда хозяин бывал не в духе, прислуга старалась не попадаться ему на глаза. Но Рашида и это раздражало. Чего они боятся? Он разве зверь дикий в лесу? Обиженно кривясь, Рашид набулькал себе еще водки, с грустью прикинув, что выпил уже больше двух бутылок и не опьянел, — и тут вдруг резко рассек тишину телефонный звонок, ожил белый аппарат из слоновой кости с золотыми виньетками, с засекреченным номером, который знали лишь очень близкие Рашиду люди, может быть, человек десять, не больше. С дрогнувшим сердцем Рашид поднял трубку. Оказалось, это Саша Милюков, с которым днем расстались. Ему этот номер Рашид никогда не давал, но ничуть не удивился, что тот его знает.
— Еще не спишь, бек? — голос у полковника был веселый.
— Узнал, где мальчик, да, Саша? — робко спросил Рашид.
— Не совсем, бек, не совсем. Но все-таки звоню с хорошей новостью. Арчи живой, его не убили.
— Кто сказал?
— Информация странная, но, пожалуйста, прими ее всерьез. Ты веришь в колдовство?
— Много выпил сегодня, да, Саша?
— Только собираюсь… Так веришь или нет?
— Мальчика заколдовали?
Полковник ответил не сразу, видно, обдумывал что-то, и у Рашида появилось желание швырнуть драгоценный аппарат о стену. Он не хотел ссориться с полковником, но если тот позвонил, чтобы поиздеваться… В комнате возникли две одалиски — Галя и Зузу смущенно мялись у порога. Небрежным движением руки Рашид отправил их обратно за дверь.
— Есть такой человек, — заговорил Милюков, приглушая голос, — зовут его дед Архип. Он известный колдун. Иногда сотрудничает с нами. Помнишь маньяка Алешу из Сокольников?
— Не помню, — пробурчал Рашид.
— Его поймали по наводке старика. Он несколько раз помогал найти похищенных. Я не шучу, бек. Сам участвовал в этих операциях.
— Хорошо, что не шутишь, — уныло заметил Рашид.
— Я только что от него… Со стариком трудно ладить, но я его уговорил. Он провел сеанс. Клянется, что Арчи живой.
— Сказать «живой» я тоже могу. Где же он теперь?
— Дорогой Рашид Львович, ты олигарх или хрен собачий?
— В газетах пишут: олигарх.
— Старик никому не скажет, где Арслан. Только тебе лично.
— Почему так?
— Наверное, потому, что никому, кроме олигархов, не верит. И он по-своему прав.
— Хочешь сказать, Саша?..
— Да, тебе придется поехать к нему.
— К старому колдуну?
— Бек, ты просил помочь?
— Да, просил.
— Хочешь увидеть племянника?
— Саша, дорогой, ты меня знаешь. Если это понт, я могу от обиды убить старика. Потом мне будет стыдно перед тобой.
— Не надо убивать, — засмеялся полковник. — Это хороший дед. По-нашему, по-научному — ясновидящий. Он тебе понравится. Так поедешь или нет?
Рашид-борец почмокал пересохшими от водки губами.
— Поеду, Саша.
— Утром?
— Зачем утром? Сейчас оденусь и поеду. Погляжу, какой он ясновидящий. Говори, пожалуйста, адрес…
ГЛАВА 6
Егор Серафимович, уведомленный полковником Милюковым, открыл дверь на звонок, не спрашивая, кто там. Увидел перед собой огромного мужчину с латунным лицом и выпученными глазами, одетого в черное длинное пальто с меховым воротником. Старик почувствовал, как на него дохнуло холодом ночи.
— Дед Архип? — хмуро улыбнулся гость.
— Он самый. Проходите, прошу вас, — Егор Серафимович попытался заглянуть гостю за спину, удивленный тем, что тот пришел один. В его представлении такие люди всегда запускают впереди себя остроглазых разведчиков. Им иначе нельзя. Егор Серафимович заранее приготовил на кухне чай для челяди, которая явится вместе с паханом. Но, как видно, ошибся. Либо знаменитый миллионщик уже ничего не боялся, либо был уверен, что в жилище колдуна не может быть никакой ловушки.
Войдя в квартиру, он наполовину заполнил своей тушей узкий коридор.
— Раздевайтесь, — предложил Егор Серафимович. — Вон вешалка.
Рашид-борец молча снял пальто и повесил на крючок. Так же молча, следом за стариком прошествовал в гостиную. И без спроса, наугад опустился в самое удобное и дорогое кресло, расположенное напротив телевизора. Вот это как раз нормально. Старик давно убедился, что эти чудовища, играющие с человеческими жизнями, как со спичками, всегда совершенно точно и без всякой примерки выбирают для себя самое лучшее из того, что предоставляет жизнь. И никогда не промахиваются.
Рашиду понравилось скромное жилье колдуна. Чисто, опрятно, недорогая, но крепкая мебель. Икона Божьей Матери в красном углу. Не бедный старик, нет, не бедный. Из предметов, по которым можно догадаться, кто здесь живет, в глаза бросался большой чугунный подсвечник с пятью длинными рожками и наполненный призрачным светом зеленый шар матового стекла, установленный посередине стола на малахитовой подставке. Звериное чутье Рашида дремало, не подавало никаких сигналов. Про худенького старикашку с сумрачным взглядом и с каким-то седеньким, спортивным чубчиком он подумал с жалостью: что ж, старче, будешь гнать порожняк, тут тебе и крышка. Считай, отколдовался. Спросил:
— Правда, можешь найти Арслана?
— Могу, — тихо ответил старик. — Но без ручательства.
Рашид-борец достал из кармана пиджака пачку «зелени».
— Здесь двадцать тысяч, дедушка Архип. Вернешь племянника, они твои.
— Погоди с деньгами, милый человек, — упрекнул Егор Серафимович. — Сперва попробуем дело сделать. Фотку принес?
— Какую фотку?
— Кого ищем, милый. Без фотки нельзя.
Выпученные глаза, устремленные на колдуна, полыхнули алым светом.
— Смеешься, старик?
— Тебя, выходит, не упредили. Что ж, дело житейское, но без фотки никак не получится.
— Почему?
— У каждого проникновения, сынок, есть свои пределы. Сам подумай, как найдешь предмет, не ведая его очертаний. Это будет чистая халтура.
Рашид-борец почувствовал себя как перед выбором: сразу придушить старого мошенника или еще немного ему подыграть. К этому моменту Егор Серафимович уже вошел с ним в контакт и легко догадался о его сомнениях.
— Выбрось из головы дурные мысли, сынок. Меня убьешь, ничего не получишь. Никто тебе мальчика не вернет. Дак и это не все. У тебя, милый человек, впереди большие испытания, об них тоже могу правду открыть, но за отдельную плату. По расходной статье — корректировка бизнеса.
Волевым усилием Рашид-борец смирил гнев, алое зарево в очах притухло. Он достал из кармана мобильную трубку, набрал номер и сию секунду услышал осторожный голос мажордома Вагиба:
— Это вы, хозяин?
— Это я, Вагиб. Сделай вот что, дружок. Возьми на комоде в моем кабинете карточку Арслана, она там в рамке стоит… Отдай ее Мусе, пусть сейчас же привезет ее мне.
— Муса знает — куда?
— Да, он знает. Поторопись, Вагиб. Вы иногда с Мусой ползаете, как две черепахи, но сейчас надо все сделать быстро. Раз, два — и здесь. Иначе я обижусь.
— Понял, хозяин. Уже бегу.
У старика спросил:
— На какие испытания намекаешь, дедушка Архип?
Пришелец держался приветливо, и глаза прятал, чтобы не напугать Егора Серафимовича звериным блеском, но старик видел, какие страсти бушевали в этом человеке. К колдуну и прежде наведывались бандиты, некоторым он помогал, он всегда поражался густому черному облаку, которое они волокли за собой. Вокруг нынешнего ночного гостя облака не было, зато из его затылка прямо в потолок упирался серебристый луч, перевитый мерцающими багряными нитями, казалось, человек передвигается наколотый на невидимую обычному глазу раскаленную небесную спицу. Егор Серафимович пожалел, что не остановил, не убедил рыжую воительницу не связываться с чудовищем, которое «обло, стозевно и лаяй». Однако он не улавливал в пришельце абсолютного зла, как во многих других из этой же компании, а только непомерную силу, направленную на разрушение.
— Не торопись, сынок, — старик дерзко тряхнул белым чубчиком. — Печать испытания на твоем челе, а откуда грозит беда, пока не могу сказать. Лампа откроет.
— Ты что же, в самом деле можешь угадывать будущее?
— Это все могут, но не каждый умеет.
Потихоньку они разговорились по-доброму, почти по-родственному. Рашид закурил сигару, а Егор Серафимович подал ему водки, чтобы уютнее ждать. Сам не пил: для визита в потустороннюю область требовалась ясная голова. Рашид-борец, напротив, выдул бутылку за два приема, и вместе с выпитым прежде получилось очень много. Он погрузился в блаженное состояние то ли сна, то ли сумеречных грез, — и сердце успокоилось, и вечное мучительное нетерпение куда-то отступило. Ночь странно текла, будто в зеркальном отражении повторяя всю его чудную жизнь. Он уже поверил, что старик владеет ведовским даром и видит то, что не дано, не положено видеть большинству смертных.
— Это наследственное, — поведал Егор Серафимович, хотя Рашид ни о чем не спрашивал. — У тебя в роду, сынок, передают из рода в род кинжал с драгоценным камнем, каким зарезали принца Хасана, а мы носим по столетиям третий глаз. Раньше я им не пользовался, а нынче, когда ворон покорил державу, кормлюсь с него помалу. Грех большой, но отмолить можно.
— В Бога веришь, дедушка Архип, а с шайтаном связался. Нехорошо.
— Конечно, нехорошо, — согласился Егор Серафимович. — Однако не так уж и плохо. Штука в том, чтобы меру знать. Не губить людишек, а подымать с колен.
— Кого подымать? — удивился сквозь сон Рашид. — Твои сородичи все уже в лежку лежат, их только зарыть осталось.
— Не совсем так, — возразил старик. — Видимость впрямь такая, что лежат и не кукарекают, но ведь подобное на Руси много раз бывало. Супостаты приходили, чтобы похоронить, а после разочаровывались. Нынче, конечно, случай особенный. Изнутри русича ковырнули, одурачили в родном доме, но и это бывало. Возьми даже семнадцатый год, революцию и гражданскую войну. Ну и что? Перемололи, осталась мука. И нынешнее нашествие народ постепенно перемелет, приведет в разум. В этом даже не сомневайся, милый человек.
Под лукавый дедов говорок, под теплое бульканье водки в желудке Рашид-борец натурально задремал, что само по себе было удивительно. Не в его привычках засыпать в неизвестном месте, в теплом пальто и с сигарой в зубах. Выходит, старик напустил дурманное марево, или он сам так уж измочалил себе нервы за минувшие сутки, что они попросили покоя.
Очнулся, когда дед привел абрека с фотографией, но звонка в дверь тоже не слышал. Фотку забрал, а Мусу выставил вон. Дело щекотливое, ни к чему лишние глаза.
Егор Серафимович, не мешкая, установил фотографию возле зеленого шара, потушил электричество и зажег пять свечей на чугунном подсвечнике. Рашид следил за его действиями с любопытством, старик больше не обращал на него внимания. Он уставился на шар неподвижным взором. Губы его шевелились, будто он запихнул за щеку жвачку. Язычки свечного пламени вдруг, вздрогнув, потянулись к магической лампе, словно на них подуло ветерком. Изумленный Рашид увидел, как зеленый шар оживает, внутри, как рыбки в аквариуме, поплыли разноцветные картинки, свет стал ярче — и уже не только зеленый, но всякий — голубой, алый, серо-буро-малиновый. Старик, тяжко вздохнув, протянул ладони к вспыхивающим светлячкам, как бы маня их к себе; и в то же мгновение Рашид опять ощутил тяжкую, мягкую дрему, обволакивающую мозг, погружающую в небытие, как если бы кто-то нежно надавил пальцами на глазные яблоки. Хотел что-то сказать, спросить — и со страхом понял, что язык ему не повинуется. Прикоснулся горящим концом сигары к ладони, вдохнул запах паленого, но боли не почувствовал. Нечеткая явилась мысль, что старик сумел его парализовать и теперь, если захочет, сделает с ним все что угодно. Мирная до той минуты комната наполнилась жутью и близким дыханием смерти, но, слава Аллаху, это длилось недолго. Шар потух, язычки пламени выпрямились, и дед Архип с заметным облегчением откинулся в кресле.
Рашид моргал глазами, как если бы только что ему довелось неосторожно заглядеться на солнце.
— Что это было, дед?
— Магия, что же еще.
— Ты узнал, где Арчи?
— Узнал, сынок, не волнуйся… Он живой, ты сегодня его увидишь, но сперва послушай о главном. Тебе самому грозит большая опасность.
— Хватит пугать, дед, — с вернувшимся раздражением заметил Рашид. — Говори конкретно.
— Конкретно не могу. Лица не вижу. Кто-то к тебе придет и предупредит. Кто-то синий. Поверь ему и сделай, как он просит. И сколько денег потребует, столько отдай.
— Синий — покойник, что ли?
— Нет, не покойник. Синий — и все. Сам увидишь.
— Скажи, дедушка Архип, почему так заботишься о моей безопасности? Какому-то чуреку башку оторвут, тебе какая жалость?
— Не жалость, — простодушно отозвался Егор Серафимович. — Я же на этом зарабатываю.
Памятуя о недавнем состоянии, когда он напрочь лишился языка, Рашид сдержанно произнес:
— Хорошо, дед, я все понял: придет синий и попросит деньжат. Такое мне не в новинку. Разные приходят — и голубые, и зеленые. Я никому не отказываю. Если есть бабки, почему не дать? Теперь скажи, где племянник. Или тоже лица не видел?
— По Щелковскому шоссе, деревня Нахимовка. Сорок километров от Москвы. Он там в амбаре лежит на соломе. Амбар легко узнать, на нем башенка, как на часовенке.
— Кто же его в амбар положил?
— Про то не ведаю, сынок. Видно, лихой человек.
— Зачем положил?
Егор Серафимович вздохнул:
— Об этом ты больше меня должен понимать. У меня бизнес тихий, надомный. Врагов нету.
— Ты колдун, вижу. Но пойми и меня. Если понапрасну, в насмешку сгоняешь туда-сюда, старости твоей не пожалею.
— Это уж как водится, — важно кивнул Егор Серафимович.
— Если мальчик найдется, деньги тебе к утру доставят.
— Премного вам благодарны.
В деревню Нахимовка влетели под утро, но еще затемно. На трех машинах, с мигалками, с включенным радиоперехватом. На темной улочке не горело ни единого окна. Все же по некоторым признакам жизнь в этой русской деревне еще не до конца угасла: где-то тявкнула собака, за десять лет реформы не околевшая от голода, над одним из домов (по архитектуре — бывшее колхозное правление) протянулась светящаяся неоновая вывеска бистро «В гостях у Брайтон-бич». Ничего более нелепого Рашид не видел даже в Москве, но у него не было охоты ломать голову над вывихами убогого россиянского ума. Расспросить было некого, и они пару раз прокатились по улице из конца в конец, пока мощные фары джипа не выхватили из тьмы расположившийся в отдалении, особняком от деревни, небольшой домик — с остроконечной башенкой на крыше. Это оказался тот самый амбар, и там, как и обещал колдун, на грязной соломе под разбитым окошком, спеленутый веревками и с кляпом во рту лежал любимый беспечный племянник. Радость Рашида была столь велика, что он собственноручно, поддерживая за талию, довел Арчи до машины, усадил, подал пластиковую бутыль с пивом. Тот залпом выпил чуть ли не половину, потом долго икал, стыдливо отворачиваясь.
На обратном пути рассказал свою историю, в которой не все концы сходились. Якобы, когда ночью, выйдя из казино, он подошел к своей тачке, то наткнулся на симпатичную бабенку, которую сперва принял за обыкновенную ночную бабочку, потому что она попросила у него зажигалку. Но выяснилось, что это не бабочка, а иностранка, о чем он догадался по ее произношению. Как ее звали, он не запомнил, кажется что-то вроде Дженни Макбет, мисс Дженни Макбет… У нее случилась неприятность, не заводилась машина, «Опель-рекорд». Как и он, эта самая Дженни играла в казино, собралась ехать домой — и вот такая оказия. Девица спросила, не разбирается ли он в движках. В движках Арслан не разбирался, но, будучи джентльменом, вызвался даму подвезти. Она жила в отеле «Россия», в общем, для него крюк небольшой, хотя он и опаздывал на свидание. Мисс Дженни с благодарностью приняла его помощь, и по дороге, в машине, он, честно говоря, как-то душевно к ней потянулся. Уж очень эта забугорная красотка забавно коверкала слова, ласково дотрагивалась ладошкой до его коленки и вся из себя была такая чистенькая, грудастень-кая, ну просто пальчики оближешь. Вдобавок, когда приехали в отель, она сама, смущенно потупясь, предложила подняться к ней на чашечку кофе. Для мужчины отказаться от такого предложения — значит не уважать ни себя, ни даму. У нее в номере мисс Дженни оставила его на минутку и побежала переодеться, окинув его взглядом, который приятнее всяких слов. Короче, все шло по обычной схеме, и Арслан прикинул, что за час-полтора уложится и еще поспеет к той прелестнице, с которой заранее условился. Как человек слова, он не любил никого обманывать. Мисс Дженни вернулась в ослепительном черном халатике на голое тело, и у впечатлительного, интеллигентного Арслана голова вообще пошла кругом. Девушка разлила виски по хрустальным рюмкам и предложила тост: «Хочу пить за красивый русский мальчик. За благородного витязя».
Арслан проглотил огненную жидкость — и больше, в сущности, ничего не помнил. Очнулся уже на соломе и в путах.
Рашид-борец со вниманием выслушал грустную повесть.
— Чего хотели от тебя?
— Выкуп, дядюшка… Я слышал, болтали между собой: пусть жирный боров понервничает, побольше отстегнет. Непочтительно о вас отзывались… Найду, резать буду. Своей рукой.
Рашид глядел на племянника с нежностью. Глуп, доверчив, с открытым ртом кидается на любой крючок, но сколько в нем искренности, огня, молодой отваги, в конце концов.
— Хоть кормили тебя?
— Два раза. Рыбы кусок дали тухлой. Хлеб давали. Чай давали без сахара.
— Что же, сахарку пожалели?
— Один сказал: ты не жрать сюда пришел. Хохотали собаки! Дядюшка, я жить не смогу, пока не поквитаюсь. И эту суку на кусочки разрежу. Пусть будет американка, хоть кто. Лишь бы разыскать.
— Разыщем, не беспокойся. В Москве куда они денутся? Это наш город…
Нести дискету в логово выпало Климу Осадчему. Таина решила, что у него самый подходящий вид: слегка прихрамывает, и левый глаз, в который зрение не вернулось, сияет убедительным, неподвижным светом, как медная пуговица. Да и язык у него подвешен как надо, не то что у Санька. Прежде чем набрать заветный номер, еще раз прорепетировала с ним возможные варианты телефонного разговора, выступая как бы от имени Рашида Львовича Бен-оглы. В натуре разговор так и сложился — почти по намеченной кальке. Клим представился журналистом из «Огонька», которому по стечению некоторых обстоятельств попал в руки жареный матерьялец, несомненно представляющий интерес для знаменитого магната. Рашид-борец хмуро спросил:
— Откуда знаешь телефон?
Клим, подмигнув Тайне, ответил:
— Уважаемый Рашид Львович, полтора года назад вы давали большое интервью нашему журналу, помните? Оно называлось «Для каждого россиянина свой сад», помните? Огромное количество писем от читателей, широчайший резонанс. Наш журнал сориентирован на либеральную интеллигенцию, чернь мы не обслуживаем. И представьте, девяносто процентов откликнувшихся на публикацию поддерживали ваши идеи. Это было нам очень приятно.
— Интервью помню, — смягчился Рашид-борец. — Чего теперь хочешь? Какой у тебя материал?
— Жареный, — повторил Клим. — Я бы даже сказал: взрывоопасный. Подробности, естественно, не по телефону.
— Хочешь продать?
— Хочу вас спасти, — просто сказал Клим, вторично подмигнув Тайне, слушавшей разговор по отводной трубке. Санек сидел, открыв рот. С Климушкой они, считай, с детских лет корешились, огни и воды вместе прошли, а он и не догадывался, что тот умеет языком чесать, как какой-нибудь жук Кириенок. Истинно говорят: чужая душа потемки. Но не для Таины. Рыжая сразу разобралась, что Стрелок — перспективный хлопец.
— Как тебя зовут, ты сказал? — спросил Рашид-борец.
Клим повторил фамилию, выбрал известную в журналистике, и добавил:
— Я бы попросил, уважаемый Рашид Львович, до нашей встречи не наводить никаких справок. Я рискую. Есть люди, которые могут помешать.
— Уверен, что будет встреча?
Щекотливый момент. Клим, улыбаясь Тайне, веско ответил:
— Вам решать, но медлить нельзя. Кстати, как здоровье вашего драгоценного племянника?
После этого в трубке раздалось тяжелое дыхание, похожее на ворчание разбуженного среди зимы медведя. Наконец последовало повелительное:
— Офис на Трубной знаешь?
— Его все знают.
— Жду через час.
— Через два, — возразил Клим. — За час не обернусь. У нас планерка.
— Хорошо, через два…
Звонили они из комнаты Кныша, из общаги на Стромынке, — и в тишине сразу стало слышно, какой это шебутной, густо заселенный дом, открытый всем ветрам. Музыка изо всех щелей, детский визг, громыхание жести на крыше и снизу, возможно, из подвала — тяжелые, ритмичные, глухие удары, будто там работал кузнечный пресс.
— Что загрустили, генацвале? — засмеялась Таина. — Ставки сделаны, осталось снять кон.
Кныш, вечно недовольный, пробурчал сквозь зубы:
— Авантюра, Тина, чистая авантюра. Вы хоть понимаете, с кем связались? Этот турок Клима живым не отпустит.
— Почему? — заинтересовался Клим. — Он разве турок?
— Володечка любит выражаться иносказаниями, — пояснила Таина. — Мы все для него тоже турки, правда, Володечка?
— Какой ему смысл отпускать человека с деньгами и с такой информацией? Дискета уже будет у него…
— Копия с сюрпризом, — уточнила Таина.
— Ну и что? Все остальное он выжмет из Клима под пыткой, а самого — на свалку. По частям. «Тыква» в Бирюлеве, туловище в Химках.
— Ты не прав, Володечка, и сам это знаешь. Просто очень любишь спорить. Без риска в таком деле нельзя, но у нас он минимальный. Но если Клим боится, я его не принуждаю.
Санек не в первый раз замечал, что Кныш и Таина, ввязываясь в перепалку, а это у них происходило по любому поводу, словно забывали о присутствующих, и у рыжей в глазах плясали синие чертенята, а Кныш больше обычного мрачнел и становился похож на деревянного истукана. Какой-то между ними шел тайный спор, с невнятным для Санька смыслом. Он знал, как называется чувство, которое он при этом испытывал: ревность. Прежде это чувство было ему неведомо. К женщинам он относился ровно, без экзальтации. Западная цивилизация, хлынувшая в Россию на конях перестройки, давным-давно разобралась во взаимоотношениях полов и расставила точные, непререкаемые акценты. Санек, как и все его поколение, добродушно посмеивался над романтическими бреднями, коими тешили себя отцы и деды. Все женщины одинаково доступны, а если какая-то из них начинает артачиться и не хочет ложиться в постель, значит, мужик ей чем-то не угодил. Ничего обидного, это нормально. У животных все устроено точно так же. Санек не раз наблюдал, к примеру, собачьи свадьбы, там тоже сучка не давала кому попало, а старательно выбирала себе дружка.
Ревновать Таину нелепо вдвойне. Во-первых, при ее внешности и манерах она любого мужика могла заставить плясать под свою дудку; а во-вторых, похоже, она вообще ни с кем не спала, как-то обходилась… Санек не мог придумать, как к ней подступиться. Если попытаться прихватить ее по-простому, она, пожалуй, рассмеется ему в рожу, и это будет унизительнее, чем пощечина. А заводить лукавые, нежные, киношные речи язык не поворачивался, да и не было у него таких слов, какие она услышит. Полный тупик. Еще смешнее ревновать именно к Кнышу, который после всех обломов на баб и смотреть не хотел. За «зеленью» он тоже не гнался. Санек имел с ним пару дружеских бесед за рюмкой водки, но так и не понял, что это за человек и чем он дышит. Уразумел только, что они в разных весовых категориях, но это и так понятно. Кныш весь как толовая шашка с тлеющим фитилем. С ним столкнуться, все равно, что под машину лечь. Санек догадывался, что рыжую тянет на остренькое, а что может быть острее мужика, который много лет ходит по колено в крови? Да и Кныш хорошо воспитан, в этом ему не откажешь. Никогда не цепляется по пустякам. Санек прикидывал, что получится, если им вдруг придется однажды сцепиться из-за Таины, и приходил к неутешительному выводу…
Клим сказал:
— Чего толковать, раз уже решили? Ты, Кныш, одного не сечешь. Рашид Бен-оглы — человек солидный, не шавка какая-нибудь. Всемирно известный гуманист и спонсор. Не станет он руки об меня марать. Помучить — другое дело. Но к увечьям я привык. Если с Саньком в одной команде играешь, без них не обойтись.
— Тогда переодевайся — и в поход, — подбила бабки Таина.
Тут Клим заупрямился.
— Не понимаю, мадам, что вам взбрело в голову. Почему я должен напяливать на себя эту педерастическую синюю рубаху?
— Так надо.
— Что значит — так надо? Вы Рашидику пообещали что-то неприличное? Постыдитесь, мадам. Такого уговора не было, чтобы обслуживать клиентов. Пусть тогда Санек со мной едет в красной рубахе.
— Почему в красной? — Санек, как обычно, клюнул на Климову подначку. Тот радостно заржал.;
— Будешь изображать палача. Бен-оглы не устоит, отвалит «лимон» не глядя. Палач привел педика на сеанс — это кого хочешь проймет.
— Хватит паясничать, — беззлобно прикрикнула Таина. — Время, мальчики!
Кныш наблюдал за ними с печальной улыбкой. Дети, чистые школяры! И вряд ли когда-нибудь повзрослеют. Вряд ли успеют.
За дверью офиса (транснациональная компания «Русский лизинг. Любые услуги») в маленькой прихожей Клима сноровисто обыскали двое амбалов и отобрали у него дискету. Заодно конфисковали ключи, бумажник, зажигалку «Ронсон» и любимые часы — позолоченную «Сейку».
— Ну и порядки у вас, ребята, — проворчал Клим, немного ошарашенный. — Может, ботинки снять?
— Не груби, пожалуйста, — попросил один из амбалов. — Мы на службе.
Тесня с боков, его доставили на второй этаж, где за столом с компьютером сидела самая обыкновенная секретарша, девчушка лет двадцати пяти — накрашенная, с распущенными волосами и, видно, бывалая. Она указала Климу на стул возле сейфа, забрала у амбалов дискету и все остальное — и молча нырнула за высокую стальную дверь.
Минуты через три вернулась. Приветливо улыбнулась Климу:
— Пожалуйста! Рашид Львович вас жцет.
Кабинет босса оказался просторным, как стадион, и был уставлен тяжелой офисной мебелью в духе семидесятых годов. К столу, за которым восседал хозяин, вела ковровая дорожка такого яркого первозданно зеленого цвета, что боязно было ступить. Рашид-борец не поднялся гостю навстречу и не пригласил сесть, вообще не сделал ни одного движения, лишь молча его разглядывал — и это продолжалось не меньше минуты. Клим стоял спокойно и тоже молчал, но смущенно покашлял в кулачок. Обыск у входа, вид латунного лица с вытаращенными, как бы заранее разъяренными зенками натолкнули его на мысль, что, пожалуй, Кныш может оказаться прав со своим дурным пророчеством. Он почувствовал себя неуютно, но страха не испытывал. Наконец хозяин открыл рот, но не для того, чтобы поприветствовать гостя.
— А ведь я, парень, не верю, что ты журналист, — сказал он таким тоном, будто поймал Клима на государственной измене.
— Я сам в этом иногда сомневаюсь, — добродушно согласился Клим.
Хозяин повертел в пальцах квадратную дискету.
— Продаешь вот это?
— Продаю.
— За сколько?
— От «лимона» любую половину.
— Неплохо, — в голосе владыки прозвучало одобрение. — И что тут у тебя написано?
— Может быть, вам лучше самому прослушать?
— Хорошо, сейчас прослушаем, — ткнул толстым пальцем в аппаратуру на столе. — Умеешь управляться с этими штуками?
— Конечно… Но сперва, Рашид Львович, разрешите один вопрос?
— Говори.
— Ваши громилы очистили у меня карманы — бумажник, часы, ключи от машины — это как понять? На сохранение, что ли, взяли?
— Перестарались, — усмехнулся босс. — На, забери.
Клим рассовал барахло по карманам, подошел к столу: компьютер, звукозаписывающие и передающие устройства, музыкальный агрегат — все новейших моделей, от лучших фирм. Не любит, ох, не любит дешевки пахан Рашид Бен-оглы. Клим зарядил дискету, пощелкал рычажками настройки, подал звук.
Хозяин дышал у него за спиной.
— Умеешь, да? А документов нету. Журналист — и никакого документа. Так не бывает. У них много документов.
— Обижаете, Рашид Львович, — Клим достал из нагрудного кармана пластиковое удостоверение: эмблема журнала «Огонек», специальный корреспондент, Альтшулер Рахим Иванович. Печать, дата. На немой вопрос Рашида Львовича ответил:
— Я ксиву в руке держал, когда шмонали. Она мне дороже денег.
— Ага, — кивнул Рашид Львович в некоторой растерянности. — Что-то не похож ты на Альтшулера.
— По отцу я хохол, — пояснил Клим. — Но в основном Альтшулер.
— Бывает, — согласился хозяин и вернул удостоверение. — Давай, заводи шарманку.
Клим нажал кнопку пуска. При первых обрывочных фразах, прозвучавших из динамика, Рашид-борец насторожился и окаменел. Латунное лицо заблестело словно в испарине. С особым вниманием прослушал то место, где стороны договаривались о цене за устранение «жирного борова». Запись шла минут десять. Клим успел выкурить сигарету, сочувственно поглядывая на пахана и сокрушенно качая головой: дескать, вот, владыка, водится же такая мразь на земле. Потом в чреве магнитофона что-то щелкнуло — и звук исчез, хотя какое-то шуршание еще доносилось и зеленокрасные огоньки перемигивались. Клим засуетился, воскликнул:
— Ой, что это такое?! — попытался заново наладить звук, но ничего не получилось. Развел руками: — Извините, Рашид Львович, похоже, какая-то техническая накладка.
— Не можешь опять включить?
— Вроде запись стерлась… Сам не пойму, в чем дело. Надо ехать за новой дискетой.
— Что там дальше было, помнишь?
— Очень много всего, досточтимый. Вплоть до конкретных имен.
Рашид-борец вернулся за свой стол, развалился на кожаном вертящемся стуле, вдавив его тушей в пол. Поманил пальцем Клима.
— В игрушки хочешь со мной играть?
— Рашид Львович! — Клим трагически воздел руки к небу, жалея, что в эту минуту его не видят Санек с Таиной. — Если бы это зависело только от меня, я отдал бы эту штуку бесплатно. Я же патриот, в конце концов, и понимаю: от таких, как вы, зависит будущее этой страны. Но поймите и вы меня. Я не один. Люди старались, добывая информацию, рисковали жизнью. Надо же их как-то вознаградить.
— Где купил рубаху? — неожиданно спросил Рашид.
— Вам понравилась? — Клим поправил галстук, расписанный красными гвоздиками по черному полю. — Жена одевает, она у меня модница.
Если бы Клим умел заглядывать в чужие души, то прикусил бы язычок, увидя, какой ад разверзся в душе бизнесмена и гуманиста. Восточные предки поднялись из мертвых со своими сверкающими кривыми клинками и требовали отмщения. Все переплелось в один узелок — похищение племянника, явление «синего», предсказанное колдуном, и, главное, гнусная измена Черного Тагира, которого он сразу узнал по голосу, потому что на этой неделе трижды разговаривал с ним по телефону. Удар был слишком неожиданен. С Тагиром его связывали давние деловые отношения и дружба, и, если между ними возникали проблемы, а это неизбежно при таком щекотливом и сложном деле, как дележка огромного покоренного города, они всегда решали их полюбовно, как говорят политики, находили обоюдовыгодный консенсус. Он не собирался враждовать с Тагиром, признавал в нем крупную личность, соратника и рассчитывал, что и дальше они пойдут рука об руку — в Сибирь, где пока медведь не валялся, на Дальний Восток, на Запад, через океан, — неосвоенных мест еще много, и без попутчиков все равно не обойтись. Больше того, на пару с Тагиром они вели переговоры с известными деятелями из крупных партий, и некоторым знаменитым демократам и реформаторам отстегнули по мешку монет на предвыборные кампании. И вот после всего этого Тагир… Черный Тагир… Что ни говори, кличку зря не дают — черное сердце, черные мысли, черная душа.
Рашид нажал кнопку на панели и, нагнувшись, буркнул в микрофон:
— Ахмета и Валерика ко мне!
Ничего в его тоне не было угрожающего, но у Клима сердце оборвалось.
Пришли Ахмет и Валерик — оба в пятнистой полевой форме, рослые, но Валерик постарше и в очках. Ахмет — обыкновенный волчок с черными усиками и волосатыми кулаками.
— Теперь, господин журналист, — усмехнулся Рашид, — скажу, как дальше будет. Ты тут шутки шутишь, но ведь я занятой человек. У меня времени нет на такие игры. Зато Ахмет с Валериком — специалисты. Они с тобой сейчас поработают немного, и тебе уже не захочется шутить. Помрешь не сразу, не надейся. Валерик врач, у него диплом, он не даст сразу помереть. Сперва кое-что расскажешь.
Какой он сделал знак, Клим не уловил, но в ту же секунду боковым ударом Ахмет сбил его со стула и наступил ногой на грудь. Положение, в котором он оказался, было очень унизительное, и он обратился к Рашиду с претензией:
— Рашид Львович, мы же культурные люди. Зачем эти первобытные приемы? Я и без побоев все скажу, что пожелаете.
Рашид распорядился:
— Валерик, отрежь ему ухо. Пусть у него будет один глаз и одно ухо. Так лучше.
Валерик открыл маленький кожаный чемодан, который принес с собой, и достал инструменты: щипчики, скальпель, а также пачку ваты. Вид у него был озабоченно-серьезный, как у всякого хирурга перед операцией.
— Клееночку бы постелить, — заметил он скрипучим голосом. — Насвинячим на ковре.
— Ничего, — успокоил Рашид. — Ковер старый, давно пора менять.
Если они блефовали, то вполне убедительно. Но они, к огорчению Клима, не блефовали. Врач Валерик набросал ему под голову газет, а Ахмет, выполнявший, видимо, роль медбрата, как-то ловко подломил руки под спину и коленом уперся в горло так, что сделай лишнее движение — и задохнешься. Потом Ахмет ухватил его руками за уши, а врач Валерик точным и быстрым взмахом сделал надрез по верхнему хрящику. Боль была такая, как если бы в висок вонзилась стрела. Клим завизжал, задергался — и ему удалось изогнуться и ногами захватить сидящего на нем Ахмета за шею, перевалить на пол. Держась рукой за кровоточащее, зудящее ухо, он с ужасом смотрел на Рашида, но тот словно забыл про него: с озабоченным лицом перебирал какие-то бумаги на столе. Валерик промокнул Климу шею ватой и раздраженно заметил:
— Что же ты такой нервный, клиент? Работать мешаешь.
Ахмет, сидящий рядом на полу, тоже укорил:
— Вязать надо, да? Потерпеть не можешь? Всего один ухо.
Клим оценил их юмор, но ему было не до смеха.
— Рашид Львович! — натужно воззвал он. — Скажите хоть, чего вам надо? Я же не отказываюсь.
— Сам знаешь чего.
— Клянусь мамой, не знаю.
— Зачем пленку стер? Кто тебя послал?
— Как же иначе, Рашид Львович? Товар летучий — информация. Какая гарантия, что заплатите, если сразу отдать? Я же не хотел вас обидеть. Так все делают. Подстраховка.
— Рашиду не веришь, зачем к нему пришел?
Клим уже понял, что «хирурга» на него напустили скорее всего для острастки, на самом деле пока не собираются мочить, и немного расслабился.
— Вам лично верю как отцу родному, но ведь дельце щекотливое. Большие люди замешаны. Поневоле оробеешь.
— Давно этим занимаешься?
— От случая к случаю… Разрешите закурить, Рашид Львович.
Хозяин махнул рукой, и Ахмет с Валериком в четыре руки переместили его обратно на стул, при этом Ахмет не Удержался, ткнул локтем в печень, а Валерик шаловливо почесал ему скальпелем под подбородком.
— Ну, говори! — с латунного лица насмешливо щурились два черных перископа.
— О чем, досточтимый?
— Кто послал? С кем работаешь?
— А-а… У нас коллектив маленький, в сущности, редакционный. Иногда что-то появляется, что можно продать. А с этой дискетой… — Клим отвечал по инструкции, полученной от Таины, но, естественно, с вариациями. — У меня кореш работает на Тагира. В одном из его офисов. Вот он постарался. Он и цену назначил. Я лично, поверите или нет, хотел сразу к вам бежать, бесплатно отдать. Эго же беспредел! Куда мы катимся? Если на таких, как вы, замахиваются, на столпов общества… Тогда получается, как писал классик, все дозволено?
— Пол-лимона — не подавишься?
Клим смущенно потупился.
— Мне оу этих денег хорошо, если полтинник перепадет.
Рашид-борец уже принял решение. Оно было в пользу Клима. Этот лукавый русачок, понятно, многого не договаривал, вдобавок обосрался от страха, но, если подумать трезво, он действительно принес ценный товар и оказал ему, Рашиду, огромную услугу. Покушение, задуманное Тагиром, — это не шутка. Он мастер зачисток. У него самые лучшие профи в этой области, типа Кахи Эквадора. Не то чтобы Рашид-борец боялся смерти, но глупо погибать от подлой руки убийцы на взлете жизненного пути. А деньги что, деньги этот говорливый ублюдок отработает с лихвой. Далеко не унесет. И сам отработает, и вся его вонючая редакция. Или вернет их вместе с головой. Пол-лимона — это всего лишь куча бумаги, человек живет ради торжества справедливости.
Рашид отправил восвояси пыточных мастеров, несмотря на их робкие возражения. Врач Валерик с сожалением поглядывал на свой скальпель, его товарищ Ахмет взглядом пообещал Климу, что расстаются они ненадолго.
Когда остались одни, Рашид-борец благодушно сказал:
— Ты такой же «Огонек», да, Альтшулер, как я женщина? Только не ври больше.
— Пусть так, — ответил Клим. — Но ведь это к делу не относится, верно?
— Работать будешь на меня?
— Я давно на вас работаю, босс.
Рашид кинул ему через стол зажигалку.
— Вези дискету, получишь гонорар.
Клим прикурил, потрогал ухо, посылавшее в череп импульсы огня.
— Деньги при вас, Рашид Львович?
— Деньги, сынок, всегда при мне.
— Тогда чего ткнуть? Пошлите кого-нибудь на улицу. Там телефонная будка напротив офиса. Пусть пошарит под полочкой.
В глазах бека сверкнуло удивление.
— Уверен был, что заплачу?
— Я и сейчас не уверен, — вздохнул Клим. — Но у вас репутация. По Москве вы самый порядочный бизнесмен. Да и какой смысл меня убивать? В живом виде я вам еще пригожусь.
Клим понимал, что наступил момент истины, и если сейчас все обойдется, если главарь раскошелится и отпустит его с миром, пусть и с «хвостом», то после — ищи ветра в поле.
Рашид-борец еще мгновение разглядывал его, как муху на стекле, потом нажал кнопку на панели, распорядился в микрофон:
— Мусу ко мне! Срочно!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ТАИНА — БИЧ БОЖИЙ
ГЛАВА 1
Санек готов был ей прислуживать, да что там, к этому времени он готов был ей ноги мыть, но то, что она предложила, было попросту выше его понимания. Он не справится. Клим — другое дело. На худой конец — Кныш.
Таина сказала:
— Забудь, что ты бандит и Маньяк. Ты теперь совсем другой.
— Кто же я? — поинтересовался заинтригованный Санек.
— Ты теперь молодой писатель, автор гениального, но пока неизданного романа. Отец у тебя знаменитый ученый, погиб при аварии на атомной станции — это вечная боль вашей семьи, а матушка — известная актриса, но она сейчас в Голливуде.
— Тин, ты не чокнулась, нет?
Она залетела к нему на квартиру с утра, отперла дверь своим ключом и сейчас сидела у него в ногах. Он еще толком не проснулся и маялся с похмелья. Вчера капитально кутнули с Климушкой, к счастью, Санек вернулся домой один, без телки. Как чувствовал. Таина, возбужденная сверх меры, с каким-то прыгающим взглядом, сперва показалась ему продолжением только что снившегося про нее же похмельного сна. Но это был не сон. Она выпустила ему в нос струю дыма, и Санек обиженно чихнул.
— Я вышла наконец на Иноземцева, — счастливым тоном сообщила.
— Кто такой Иноземцев?
— О-о, Санечка… Это, может быть, главная сволочь среди всех сволочей в Москве. Покровитель всех авторитетов и к тому же — фаворит президента. Санечка, он прет к власти как танк.
Когда Таина была в таком настроении и заговаривала о политике, у Санька всегда возникало опасение, что бедняжка не в себе. Но как судить женщину, которую любишь?
— Нам-то какое до него дело?
— Представь себе, Маньяша, есть дело. Он уже десять лет наверху — награбил, скоро пузо развяжется. Миллионер сучий.
— Олигарх, что ли? — Санек тоже иногда почитывает газетки и смотрит телек.
— Что-то вроде того, но это неважно… Ты об этом не думай. Мы сегодня с тобой пойдем на презентацию его книги, она называется «Из Нижнего Новгорода в Москву». Кстати, ты должен ее прочитать. Не бойся, она тоненькая. Вот, смотри…
— Интересная?
— Очень. Исповедь, где нет ни словечка правды. Ни единого. Поверь, Санечка, на такое способны немногие. Конечно, он не сам ее писал, но все равно — труд примечательный.
Оттого, что девушка сидела, прижавшись боком к его полусогнутым коленям, Санька охватила некая мечтательность — и похмельную хмарь выдуло из башки.
— А мне зачем на эту презентацию?
Таина объяснила. Иноземцев человек занятой, и если заглянет, то только на минуту. Гостей будет принимать его супруга Люсьен Ивановна, она всегда этим занимается — ведет приемы, дает интервью, выступает по телевидению, иными словами, создает привлекательный общественный имидж муженьку, и это, надо признать, ей отлично удается. Дамочка хваткая, пробивная, при этом умеет изображать из себя чуть ли не монашку. Вечно крутится с какими-то благотворительными акциями, открыла два приюта для беспризорных детей, посылает эшелоны с гуманитарной помощью куда только можно. Естественно, все за счет бюджета. Говорят, за три-четыре года, пока ее благоверный в фаворе у Государя, Люсьен наклала себе на заграничные счета около двухсот миллионов долларов. То есть у нас шепчутся, а на Западе пишут в открытую. У Люсьен Ивановны всего лишь одна простительная человеческая слабость: на передок. Сегодня Таина представит ей Санька, и он сам в этом убедится.
— Чего?
— Да, Санечка, ты с ней познакомишься, по-быстрому ее оттрахаешь, войдешь в доверие и станешь другом семьи. Вот и все дела. А Люсьен Ивановна поможет тебе издать гениальный роман. Она же меценатка.
— Какой роман?
— Перестань, не строй из себя идиота. Повторяю, ты непризнанный гений… Кстати, Санечка, надеюсь, у тебя с этим все в порядке?
— С чем?
— Люсьен Ивановна — женщина требовательная в любви. Придется постараться, чтобы ее удовлетворить.
Санек потянулся за сигаретами, но на тумбочке их не обнаружил. Пожаловался:
— Чего-то голова кружится. Пойдем на кухню, кофейку попьем.
Таина сама приготовила завтрак. Достала из холодильника колбасу, сыр, масло, порезала хлеб. Чувствовала себя хозяйкой. Санек следил за ней со смешанным чувством тоски и удачи. Если бы она поселилась здесь ненадолго, осмотрелась… Но это пустые мечты. Он догадывался, что, кроме банды, где рыжая верховодила, у нее есть и другой круг общения, где она своя и все ей свои, и туда братве хода нету.
— Почему я, а не Клим хотя бы? — спросил он. — У него язык лучше подвешен. И рожа красивше.
Таина отпила кофе, поморщилась. Щелкнула зажигалкой. Санек уже давно дымил, на бутерброды даже не взглянул.
— Клим чересчур интеллигентный, таких у нее полно. Люсьен Ивановну тянет на натюрель. И потом — он какой-то постоянно увечный. Этот стеклянный глаз… И ухо надорвано. Люсьен Ивановна может насторожиться.
Санек заступился за друга:
— На работе пострадал, не на гулянке… А я, выходит, неинтеллигентный? Дикий, да?
— Маньяша, ну что ты, — девушка ласково прикоснулась пальцами к его щеке. — Ты тоже интеллигентный, но в тебе мужицкого больше, почвенного. Это для Люсьен самый смак. Да ты чего, Сань? Она же красивая телка, молодая. Сорока нет. Оттого и бесится. Муж ее не обеспечивает.
— Импотент, что ли?
— Он сейчас на мальчиков переучивается, по «голубым» тусовкам ходит… Подстраховывается. Государь не вечен и капризен. Сегодня любит, завтра — на свалку. Куда деваться?
Санек прикурил от одной сигареты вторую.
— Зачем тебе Иноземцев? Мало других баранов?
В изумительных темно-синих очах зажегся зловещий огонек.
— Не спрашивай, чего не понимаешь, ладно, Санечка?
Санек отвернулся, достал с полки початую бутылку водки.
— Эй! — насторожилась Таина — Не наберешься до вечера?
— Я не алкаш…
Не поднимая глаз, наплескал в стакан грамм сто, выпил, пожевал колбаски. Вот так всегда с ней: сперва все вроде нормально, смеется, шутит, дразнит — девка как девка. И вдруг что-то накатит, зацепится за какое-то слово — и так глянет, хоть плачь. Как на таракана. Будто она с другой планеты, а он — самец с хвостом. Кныш говорил: принцесса. Хороша принцесса с «вальтером» в сумочке! И где, в каком царстве она царствовала, когда не занималась очередной бандитской проделкой? В прошлое к себе, как и в настоящее, она никого не пускала. Санька уж точно не пускала. Он иногда, в добрую минуту, заикался: дескать, где ты, солнышко, живешь на самом деле? да кто твои родители? — и натыкался на этот презрительно-колющий взгляд. На телеке она иногда мелькала, но Санек в этом сомневался. Она ли? Клим тоже сомневался: не двойник ли? У Бореньки Интернета, ласкового теленка, вообразившего себя суперменом, была такая оригинальная версия. Он полагал, что рядом с ними существует виртуальный мир, созданный технотронной цивилизацией на бессознательном уровне, полная копия нашего реального мира. И мы, как болванчики, то и дело, не сознавая, вслепую, перешагиваем из одного мира в другой. Вот и Тинка появляется то бандиткой, то телезвездой. Интернет не видел в этом ничего особенного и доказывал, что лет через двадцать, когда наладят клонирование человека на конвейерной основе, этих миров образуется не меньше десяти, и у каждого из землян будет столько же воплощений. Кныш, который опекал Интернета, как заботливый дядюшка, во всем ему поддакивал, и Санек готов был поверить, что это не бред, или, во всяком случае, не полный бред. Клим цинично над ними посмеивался. Он был доволен, что под водительством рыжей они так мощно рубят бабки и наконец-то зажили на широкую ногу, на все остальное ему наплевать. Или он делал вид, что наплевать.
— Ты слышал про Тагира? — спросила Таина, прервав затянувшуюся паузу.
— Нет.
— Из гранатомета в него пульнули, когда из банка выходил.
— Ну да?
— Вот так, Санечка… А ты говоришь, зачем тебе Иноземцев? Всю нечисть к стенке поставим и мошну их порастрясем. Разве не весело? А ты вроде скучаешь.
— Я не скучаю, Тина, но зачем тебе все это? Ради бабок, я понимаю, но Тагир тебе что сделал плохого? Он же тебе дорогу не перебегал.
Потухли ее глаза. Поглядела на него с сожалением:
— Эх, Санечка, какой же ты еще пенек пеньком! — и тут же, как всегда с ней бывало, быстро начала собираться. Оставила ему книжку с золотым тиснением: «Из Нижнего Новгорода в Москву». На прощание звонко чмокнула в щеку.
— В шесть часов заеду. Форма одежды — полевая. Не пей больше, пожалуйста. Люсьен вечером угостит.
Когда уехала, улегся обратно в постель, открыл книгу. Попробовал читать, но не смог. От всех страниц тянуло блевотиной, но ведь кто-то же это читает, если книжка вышла. Долго разглядывал титульный портрет Иноземцева — хорош барин! Рожа хитрая, мясистая, как у борова. Такому с колуном стоять на большой дороге, а он вон куда забрался, на самый верх. Сколько же их там нынче окопалось, будто на захваченной территории? Дубы дубами, но правят, охмуряют. Санек политикой не интересовался, еще чего, он же не электорат, но и слепым не был, видел: народишко обнищал до крайности, и вся страна исполосована на лоскуты — скоро ничего не останется. Ничего пригодного для дальнейшей дележки. А этот жирный на портрете — один из тех, кому пофартило, кто среди первых уселся у пировального стола с огромной ложкой.
Санек не испытывал зла к победителям и не жалел побежденных. Обо всем происходящем судил примерно так: силой никто никого никуда не тянул. В коммунизм, может, гнали пинками, этого он не застал, а на рынок все поперлись добровольно, стадом, давя друг друга. Пирамиды, банки, акции, приватизация, доллар и прочее — людишки буквально ошалели от нахлынувшей благодати. Кого же теперь винить? И в избирательные урны бодро бросали бюллетени, выбирая себе в поводыри волков. Разинули пасть на халяву, а ее на всех не хватило. Чего же теперь скулить? Санек тоже свою жизнь сам не выбирал, его мальчишкой ткнули носом в эту помойку, не спросили, нравится ему или нет, посоветовали: радуйся, сволочь, пока живой. Вот он и вертится изо всех сил, чтобы только не затоптали. Ничего, он доволен, все нормально. Спасибо, что младенцем не урыли, дали чуток подрасти. Спасибо, что на солнышке погрелся, водку пил, телок трахал вволю. Чего еще надо? Он знал, что будет дальше. На одном из поворотов, на бегу срежут пулей или ножом, и он спокойно, без соплей, ляжет в гроб. Спасибо и за то, если завалят без лишних мучений. И при чем тут, дорогая подружка, господин Иноземцев с его вонючей книжонкой? Где он, и где Санек с братвой? Они расположились на разных полюсах — и ни при каких условиях вместе им не сойтись. Ан нет. Таина думала иначе.
С ее появлением поселилась в сердце Санька странная, тягучая тоска, какой прежде не ведал. Ее азарт, нетерпение, ее несказанная женская прелесть словно манили куда-то в иные края, где он никогда не был и не чаял побывать. Что это — наваждение или любовь? Таина была сумасшедшая, спятившая от какой-то, наверное, детской обиды, это понятно, но почему она забрала над ним такую власть? И не только над ним. Что увидел в рыжей насмешнице умненький Боренька Интернет, банкирский сыночек? Да что там Боренька, он за любой женской титькой вприпрыжку побежит… А Кныш? Этого на мякине не проведешь. На баб у него взгляд укоризненный. И что же? Бурчит чего-то, качает права, а на самом деле по одному движению наманикю-ренного пальчика готов прыгнуть в огонь. И прыгнет, если пошлет. И Клим прыгнет. А сколько еще мужичков, молодых и старых, копошатся, попискивая, под ее розовой пяткой?
Санек страдал оттого, что понимал: даже если удастся заманить ее в постель, ничего не изменится. Он так и будет снизу вверх заглядывать в сумрачные, иссиня-черные глаза, жадно ловить вспыхивающую, как гроза, ослепительную улыбку одобрения… Положа книжку на пузо, Санек задремал — и во сне опять встретился со своей любовью. Таина обняла его голову, прижала к теплой груди и прошептала в ухо: «Не дрейфь, Санечка! Тряханем эту гадину так, что из нее перья посыпятся!..»
Полевая форма — это толстый свитер, кожаная куртка и джинсы, но Санек не один тут был такой. Среди множества приличных господ в строгих костюмах и прекрасных дам в изысканных вечерних платьях, усыпанных драгоценностями, попадались персонажи вроде паренька с золотыми серьгами в обеих ноздрях, одетого в какое-то подобие женской ночной рубашки с кружевами. Они с Таиной опоздали часа на полтора, официальная часть уже закончилась, и в большом зале, среди накрытых столов царила непринужденная атмосфера на грани группового перепоя. Мелькали знакомые лица — кинозвезды, рок-певцы, депутаты, криминальные авторитеты, правительственные чиновники, не слезающие с экранов телевизора, — но Таина не дала ему толком оглядеться. Силком оттащила от стола, едва он успел хлопнуть пару рюмок и еще дожевывал кусок осетрины, и подвела к высокой, крупнотелой блондинке с белым кукольным личиком, с наивными, как у Мальвины, огромными голубыми глазами. Блондинка стояла в тесном кольце мужчин, преимущественно пожилого и среднего возраста. Увидев Таину, сделала пластичный рывок ей навстречу, выходя из мужского окружения.
— О Боже, Тинуся, ну где ты пропадаешь?! — жеманно залепетала, расцеловав в обе щеки. — Ты же пропустила самое главное. Ты не слышала Чирика. О-о, это было нечто!
— Подумаешь, Чирик, — отмахнулась Таина, светясь ответной радостной улыбкой. — Лучше погляди, кого я привела. Вот Саня Чубукин, помнишь, я рассказывала? Наш маленький гений. Прошу любить и жаловать.
Блондинка перевела на Санька лунный взгляд и протянула ему руку, которую он крепко пожал, предварительно обтерев свою о штаны. Нагло глядя ей в глаза, процедил:
— Очень приятно, мадам!
— Ох, ну и силища у вас, молодой человек, — засмеялась Люсьен Ивановна, тряся как бы раздавленной розовой пухлой ладошкой.
— Извините, — ухмыльнулся Санек. Дамочка ему понравилась, чем-то напомнила покойную Галку Скокину, которая тоже в отношениях с мужчинами не берегла себя и кончала от одного прикосновения, хотя бы и в автобусе. Конечно, по сравнению с этой разнаряженной щукой из бомонда Галочка была разве что мелкой плотвичкой.
Свита Люсьен Ивановны придвинулась ближе и недовольно гудела, но пялились они все не на хозяйку салона, а на рыжую Таину, гляделками раздевая ее донага. Санек, прикинув, сколько их тут охотников до свежего мясца, мрачно подумал, что надо было прихватить с собой на презентацию парочку фанат.
Люсьен Ивановна застенчиво спросила:
— Это правда, Саша? Вы писатель?
Санек ткнул пальцем в подружку.
— Она так считает. А я пишу для души, никому не показываю.
— Мне, надеюсь, покажете?
— Покажет, покажет, — вступила Таина. — Он только с виду такой грозный. В опытных женских руках, дорогая Люсьен, он мягче воска, — и, посерьезнев, добавила: — Вы же знаете, как трудно в наше время пробиться истинному таланту да еще вот с такой славянской мордочкой. Увы! — и пояснила уже Саньку: — Люсьен Ивановна возглавляет фонд помощи молодым художникам. Под патронажем самого президента.
— О, да, — подтвердила супруга фаворита. — Наш дорогой президент чрезвычайно озабочен положением с культурой. Ее как-то незаметно перестали финансировать, а ведь без культуры россиянин окончательно одичает, вы согласны, юноша?
— Куда же дальше дичать, — хмуро отозвался Санек.
— Любопытно, очень любопытно, — загорелась Люсьен Ивановна и как бы машинально ухватила Санька за плечо, наслав на него облако французских ароматов. — Мнение самих художников для нас исключительно важно…
Продолжая беседу, Люсьен Ивановна ненавязчиво увлекла его к отдельному столику, огороженному от зала расписной ширмой. Таина, подмигнув ему на прощание, исчезла, и мужицкая свита, повинуясь какому-то знаку, тоже отстала, отступила — в шумном зале они остались одни.
Стол накрыт с претензией — розы в хрустальной вазе, пять свечей, множество закусок и питья. Однако Санек чувствовал себя не в своей тарелке. Не его это все, чужое — богатая тусовка, мерцание хрусталя, лики государственных деятелей вперемежку с блатными харями, ломящиеся от халявной жратвы столы и эта элитная потаскуха с васильковыми глазами, бесящаяся с жиру. Век бы сюда не заглядывал, но если рыжая колдунья надумала, ее не переломишь.
— Ничего, если я буду просто называть вас Сашей? — вкрадчиво спросила Люсьен Ивановна.
— Ничего, Люсь, называй как хочешь… Тебе чего налить?
— Того же, что и себе.
— Я водку пью.
— Тогда и мне водки, — красавица бесшабашно махнула рукой. Санек не знал, чего уж такого особенного наплела ей про него Таина, может, сказала, что он двужильный, но в голубых плошках Люсьен Ивановны все явственнее проблескивал огонек нетерпения, словно она недоумевала, почему он медлит. Интересно, сколько ей надо? Он свои возможности оценивал трезво. Часа два-три он ее, конечно, погоняет, но не больше. Он же не эфиоп, который ничем другим заниматься не может. Говорят, у всех чернокожих повальный сухостой, сутками с бабы не слезают. Кто-то ему даже объяснял про особенное устройство ихнего мужицкого приспособления. Будто оно всегда наготове, как у племенного жеребца. Может, врут? Санек не проверял.
Люсьен Ивановна аккуратно опрокинула рюмку, двусмысленно облизала губы, не сводя с него красноречивого взгляда. В расстройстве Санек маханул чуть ли не полный стакан.
— Много можешь выпить, да, Саша?
— Сколько нальют, столько и выпью.
Красавица, улыбаясь, накрыла его руку пухлой ладошкой.
— Настоящий мужчина, да?
— Зависит от закуси, — уточнил Санек.
— Ах, вот оно что! — с лукавой гримасой Люсьен Ивановна наложила на фарфоровое блюдо всего понемногу — ветчины, икры, маринованных мелких огурчиков, красной рыбы, салата, холодечика, красной капусты, буженины, глазастых мидий, сверху опрыснула рубиновым гранатовым соусом, — живописная гора получилась, любо-дорого посмотреть.
— Кушай, Саша, набирайся сил.
Он не стал привередничать, взял вилку, начал методично отправлять в пасть кусок за куском. Жевал сосредоточенно, угрюмо, пару раз солидно отрыгнул. Промежду делом осушил еще грамм двести. Чувствовал, как тоска помаленьку уходит прочь.
Супруга Иноземцева следила за ним с восхищением.
— Саша, ты же настоящий зверюга.
— Люблю поесть, чего скрывать. Особенно на халяву.
— Пожалуйста, расскажи о своем романе.
Вопрос застал его врасплох, хотя Таина научила, как держаться, если речь зайдет о творчестве.
— Чего говорить… будет охота, сама почитаешь.
— Никогда бы не подумала, что ты писатель.
— Почему?
Люсьен Ивановна смутилась.
— Ну, во-первых, такой молоденький… Тебе сколько лет?
— При чем тут это… — Санек вспомнил наставление. — Шолохов моложе меня был. И Лермонтов тоже. Дело же не в возрасте.
— А в чем?
— В таланте, — отрубил Санек. — Или он есть, или нет.
— У тебя он есть?
— Да уж надеюсь.
Люсьен Ивановна поплыла, он хорошо знал это полусонное выражение в женских очах.
— Мне нравится, что ты такой откровенный, даже грубый. Признаюсь, Саша, мне так надоели все эти ломаные, лощеные светские хлыщи… У тебя много было женщин?
— Было несколько штук… Под водочку — самое оно.
— Саша, ты говоришь об этом, как… Разве можно сравнивать?.. Любовь — это высокое чувство. Разве нет?
Санек уже наелся, напился и решил, что больше ждать нечего, все равно ничего хорошего не дождешься.
— Люсь, чего хочу предложить.
— Да, Саша? — голубые очи пылали все ярче.
’ — Давай слиняем из этого бардака.
— Куда?
— Можно ко мне или к тебе. Куда хочешь.
Не отказалась, не загородилась возмущенно руками. В глазах установилось заторможенное, остолбенелое выражение, смысл которого Саньку был понятен. Женщина прислушивалась к себе. Кокетливо прощебетала:
— Конечно, я бы с удовольствием посмотрела, как живут молодые гении, но ведь это не очень удобно. Как мы уйдем? Я же здесь хозяйка.
— Никто внимания не обратит. Все уже ужрались.
— Боже мой, — она опять плотоядно облизнулась, поднесла к губам рюмку. — Как мне нравится с тобой разговаривать. Откуда ты такой взялся?
Он припомнил наставления Таины: особенно не напрягайся, но чем будешь дебилистее, тем лучше. Она любит, чтобы портянками подванивало.
— Я простой парень, Люсьен Ивановна, — сказал он, набычась. — Может, мне тоже культурки не хватает, зато у меня есть красивая мечта.
— Какая, Саша?
— А вот такую классную телку, как ты, хоть разок в руках подержать.
— Сашка, ты пошляк! — не выдержала, расхохоталась: алый язычок так и выныривал изо рта, как жало. Она еще колебалась, но внутренне уже настроилась на маленькую, лихую авантюру. Что ж, он свои бабки у Таины честно отрабатывает.
— Я всегда чего думаю, то и говорю.
— Но как же мы выйдем, дурачок? Вокруг столько глаз.
— Я тебя на улице подожду. У меня тачка возле спортивного шопа. Белый «жигуль»-пикап.
— Как же ты в таком виде сядешь за руль?
— О, правильно, — спохватился Санек. — Винца надо с собой прихватить. И чего-нибудь на закусь. У меня в хате шаром покати.
— Ты сумасшедший — и меня подбиваешь на преступление.
— Брось, Люсьен… Охота тебе с этим дерьмом целый вечер тусоваться? Скука смертная.
— Что ты такое говоришь? — удивилась и надулась. — Какое же это дерьмо? Посмотри, сколько знаменитостей… Саша, это же сливки общества! Ну, ты даешь!
— Сливки? Да у твоих гостей у каждого на лбу по десятку статей из уголовного кодекса.
— Извини, Саша, ты рассуждаешь как самый последний обыватель. Хуже того, как коммунист. Про эти якобы уголовные статьи они как раз и пишут в своих мерзких газетенках, не могут простить. Как не стыдно, Саша! Ты же писатель, интеллигент.
Она порозовела, начинала злиться, это было Саньку ни к чему, но сразу остановиться он не смог.
— При чем тут коммуняки? Ты телек, что ли, не смотришь? Скоро все твои тусовщики сядут на нары. Вместе с президентом. И правильно. Какой-нибудь мужичок с голодухи ломанет ларек, ему тут же десятерик отвесят на полную катушку. А эти всю страну в карман сунули — и вроде ни при чем.
— Ах, даже так? — в ее голосе хрустнул лед, глаза потемнели, и Санек понял, что перегнул палку, мимо дела завелся. Дал задний ход.
— Да ладно, Люсь, шуток, что ли, не понимаешь? Туфта все это.
— Не так уж ты прост, молодое дарование.
— Ладно, проехали… Так мотаем отсюда или нет?
Думал, теперь наверняка откажется, испортил песню, дурак, но Люсьен Ивановна, о чем-то глубоко задумавшись, вдруг стряхнула с себя оцепенение, как тушь с ресниц. Расцвела в прежней, манящей улыбке.
— Что ж, так даже интереснее…
Он не понял, что она имеет в виду.
— Значит, едем, Люсь?
— А охрана? Что им скажу? Муж не разрешает одной на улицу выходить.
— Пошли их на хрен вместе с мужем. Ты же не рабыня. Имеешь право маленько оттянуться.
Она смотрела на него чуть ли не влюбленными глазами.
— Ты всегда такой нахрапистый?
— У меня, когда женщина нравится, все тормоза заклинивает. Сам собой не владею.
— Часто это бывает?
— Раз в неделю обязательно. Но такого, как сегодня, еще не было.
— Я же старовата для тебя?
Вместо ответа он достал из кармана пластиковый пакет, развернул и начал засовывать туда бутылки. Пару тарелок с копченостями упаковал в салфетки — и тоже туда.
— Что ты делаешь, Саша?
— Говорю же, холодильник пустой.
Прежде чем уйти, наклонился и поцеловал ее в губы, слегка прикусив. Мгновенно почувствовал мощную встречную конвульсию. Точно, Галка Скокина. Та от поцелуя заводилась с пол-оборота. Где-то она теперь, бедняжка?
— Миленький, покажи мне свой роман, — капризно попросила Люсьен Ивановна среди ночи.
Санек лежал навзничь, выжатый как лимон, высосанный и распятый. Чего она только с ним не вытворяла за эту ночь, у него сил не осталось сигарету прикурить, зато Люсьен Ивановна — свежая, радостная, как утренний мотылек, и сна ни в одном глазу.
— Какой тебе роман, спятила совсем? Давай покемарим полчасика.
— Ах, утомился бедненький! Так уж старался, теперь ему хочется баиньки. Но нельзя баиньки, мне ехать пора.
На улице ее ждали два джипа с головорезами, так и торчали всю ночь под окнами.
— Ну, дай я прочитаю хоть пару страниц.
— К чему такая спешка?
— Дурачок мой миленький, я же сгорю от любопытства. Что ты там в своей книжечке написал?
— Рукопись у стариков, понятно тебе?
— Почему ты сердишься, Саша?
— Спать не даешь, а я на режиме.
— На каком режиме, драгоценный мой?
— На спортивном… И не сюсюкай, тебе не подходит. Держись построже.
— Так ты еще и спортсмен, скажите пожалуйста… То-то я смотрю… Хорошо, хорошо, отдыхай, я не мешаю… Но как же так, Саша?
— Что?
— Неужто на посошок еще разик не попробуем? — игриво, острым ногтем прочертила на нем линию — от плеча до пупка. — Напоследок слаще всего.
Санек жалобно заморгал.
— Люся, умоляю тебя!
— Не бойся, родненький, у тебя получится, — она уже придвинулась к нему, возбужденно лепетала: — Ничего, ничего, я помогу, не шевелись, лежи спокойно, я сама тебя изнасилую…
Самолюбие не позволило ему уклониться и — невероятно! — у него действительно получилось, но под конец все же опозорился: на ее чудовищном вопле, будто ее пронзили насквозь, вырубился, как младенец, буквально ушел в бес-сознанку.
Очнулся — один в квартире и в постели один. Солнце желтым глазом осветило штору. Значит, время к полудню. По тыкве будто катком проехали. А ведь выпил за вчера немного, не больше литра. Да еще при такой жратве.
Сходил в ванную, в туалет, заглянул на кухню, проверил, не затаилась ли где-нибудь Люсьен Ивановна. Нет, исчезла. И записочки не оставила. Фу ты, черт! Куда ты смотришь, Саня? Протри зенки-то. На холодильнике, на белой эмали, крупно алели семь цифр, выведенные, наверное, бруском французской помады, — номер телефона. Любовный поклон.
Он сидел напротив холодильника и тупо, бессмысленно улыбался. Из заторможенности его вывел резкий телефонный звонок. Снял трубку. Таина.
— Привет, любовничек. Докладывай.
— Задание выполнено, гражданин начальник. Ежели по совести, ей нужно пять Саньков. Одного мало.
— Ничего, справишься как-нибудь, — засмеялась предводительша — и сразу отключилась.
ГЛАВА 2
Поселковый мальчонка Феденька Иноземцев, шалун, острослов и затейник, склонный к мистификациям, — разве мечтал он подняться на такую высоту? Упаси Бог! Все вышло как бы само собой и в довольно короткие сроки: скажем так, уместилось в треть жизни. От бодрого, улыбчивого, контактного комсомольского вожачка в пединституте до государева фаворита — дистанция пролегла в неполных тридцать лет, и пробежал он ее, считай, на одном дыхании, ничуть не надорвался. Теперь впереди, в сиянии золотых лучей, последняя вершина — и Федор Герасимович чувствовал в себе силы для завершающего рывка.
К своим пятидесяти четырем годам он пришел к мысли, что прожил славную жизнь, и если ее описать в назидание потомкам, то не исключено, что в историческом смысле его имя встанет в один ряд с такими личностями, как Петр Столыпин и, чего уж лукавить, Иосиф Виссарионович — хитроумный и блистательный тиран. Все великие владыки на Руси так или иначе были тиранами, по-другому, наверное, не могло и быть. Управлять русским народом, строптивым и простодушным, одинаково приверженным и бунту, и рабскому послушанию, да еще вдобавок разбросанному на огромных территориях, возможно лишь с помощью строго установленных и для всех единых правил, поддерживаемых железной волей верховного жреца: неважно, как его называть, — монархом, секретарем ЦК или, как нынче, президентом. В том и заключалась роковая ошибка нынешних ре-форматоров-пустомель, что они попытались навязать этой стране совершенно чуждые ей ценности, какие-то мифические свободы, права человека и демократию, которые мгновенно скукожились, вываренные в крепком уксусе русского быта. Коренной народец, лишенный доброжелательной, направляющей монаршей опеки, попросту начал околевать — от нищеты, от скуки, от тоски, оттого, что вместо обещанного рая его опять столкнули в бездонную долговую яму. Те, которые руководили умерщвлением целой нации, конечно, надеялись, что так называемый россиянин больше не поднимется из этой ямы, а тихо, безропотно в ней истлеет, не принося цивилизованному миру лишних хлопот, но Федор Герасимович вовсе не был в этом уверен. Будучи сам русским, хотя по необходимости все последние годы и косил под инородца, намекая на какие-то скрытые тюркско-греческие корни, нутром ощущал, что в глубинах самого упрямого в мире народа, перед его вечным упокоением, может еще напоследок так рвануть, что мало никому не покажется. О том же предупреждали и самые дальновидные из западных политологов, но мало кто им внимал. Упоенным великой победой удальцам реформаторам мысль о том, что бомжеватый россиянин, перемещенный из гуманных соображений ближе к мусорным бакам, пьяный и косноязычный, уповающий единственно на милость Господню, способен взбрыкнуть, казалась потешной. Независимое телевидение ежедневно запускало в массы свои аналитические щупы: дразнило, унижало, оскорбляло, плевало в сонную рожу — и что же? Как говорится, ни звука протеста из гущи народной. Нет, разумеется, недобитое коммунячье старичье кое-где жалобно попискивало, даже собиралось на забавные демонстрации со своими уморительными плакатиками, но для их усмирения теперь уже не требовались бравые омоновцы, достаточно было пообещать копеечную добавку к пенсии, и все они веселым гуртом устремлялись к избирательным урнам, чтобы дружно проголосовать за подсказанного им кем-нибудь кандидата. Продвинутая демократическая молодежь, зомбированная, как в Америке, уже со школьной скамьи, любые оскорбления встречала оголтелым ржанием, принимая плевки за радужные брызги халявной жвачки. Прежде, еще года три назад, казалось, что определенную опасность режиму представляет партия лобастого лидера, но после последних выборов стало очевидно, что КПРФ, как и все остальные оппозиционные кружки и тусовки, благополучно вписалась во власть и участвует в жутковатой дележке наравне со своими лютыми классовыми врагами, разве что маршируя под собственными знаменами. Поди теперь, разберись без пол-литра, кто круче патриот и кто искреннее желает подыхающему народу добра.
И все же Федор Герасимович не сомневался, что социальный взрыв неизбежен. Не имея никаких прямых доказательств, он знал это так же твердо, как если бы прочитал роковую весть на страницах «Коммерсанта». Возможно, слепая мистическая уверенность объяснялась тем, что в нем самом давно зрел бунт — против царя, у которого многочисленные болезни, инфаркты и операции плюс водка повредили что-то в мозгу, сделав его похожим на дворового хулигана, вооруженного атомной бомбой; против его ополоумевшей администрации, где персонажей хватило бы для постановки грандиозного шоу в Лужниках, под названием «Шабаш ведьм»; да, наконец, против самого балалаечного россиянина, только прикидывающегося трупом, а на самом деле давно приготовившегося достать из-за пояса свой извечный разбойничий топор.
Уберечь проворовавшийся, свихнувшийся режим от неминуемого возмездия могла только новая власть, которая сумеет почистить авгиевы конюшни демократии и успокоит народ утешительным призом в виде нескольких отрубленных голов особенно ненавистных ему злодеев. Федор Герасимович не видел причин, по которым сам не смог бы стать этой властью.
У него все было готово, чтобы перехватить монарший жезл из слабеющей руки Бориса — и люди, и капиталы, и пропагандистское обеспечение, и очень надежные связи за бугром… Оставалось не зевнуть и оказаться в нужное время в нужном месте, памятуя о том, что таких перехватчиков, как он, накопилось вкруг трона немало…
Утром за завтраком жена просюсюкала:
— Федор, у меня к тебе деликатная просьба.
— Какая? — Федор Герасимович с неохотой оторвался от свежего номера «Московского комсомольца»: в течение дня у него не будет времени просмотреть прессу. А те выжимки, которые готовил аппарат, гроша ломаного не стоят.
— Помнишь, я тебе рассказывала о писателе Чубукине?
— Да ты мне все уши о нем прожужжала.
К увлечениям супруги молодыми дарованиями он относился снисходительно. Чем бы дитя не тешилось. Для него не было секретом, что его прелестная половина, вступившая в опасный сорокалетний возраст, наставляет ему рога с кем попало, с первым встречным-поперечным. Что за беда? Ему даже льстило, что Люсьен пользуется повышенным спросом. Это современно и отвечает западным стандартам. Его жена не какая-нибудь разжиревшая, тупая деревенская корова, какими в прежние времена обзаводились партийные боссы. Красивая, культурная женщина с тонкими чувствами — и язык подвешен, дай Бог каждой. Чешет и по-английски, и по-немецки так, что не отличишь от иностранки. Не спальный мешок, не домохозяйка — соратник и друг. И лишнего себе никогда не позволит. Федор Герасимович не раз ее предупреждал: гляди, милочка, только не подцепи чего-нибудь. Но Люсьен и без его предупреждений принимала все меры предосторожности, потому что была трусихой, каких мало. Однако на всякий случай уже года три-четыре, как Федор Герасимович перестал с ней спать. Это ничего не изменило в их отношениях, напротив, привнесло в них элементы романтической добрачной влюбленности. Обычно ее увлечения мужчинами длились от одной до двух встреч, от силы до трех: так уж она была устроена. Собрав пыльцу с одного, она, как трудолюбивая пчелка, быстро перепархивала на другого, и Федор Герасимович понимал, что для нее это как добрая затяжка для заядлого курильщика — повышает тонус и больше ничего. Но вот с этим самым писателем Чубукиным схема несколько изменилась: уже месяц он не сходил у нее с языка. Больше того, в его отсутствие она приводила этого хмыря домой и один раз увозила на уик-энд в Петербург, что совершенно не в ее стиле. Федор Герасимович был немного заинтригован. Ситуация требовала ответных адекватных мер. Глядя в восторженно-бессмысленные голубенькие глаза жены, Федор Герасимович решил, что сегодня же отдаст распоряжение, чтобы немедленно представили полное досье на этого фрукта.
— Напрасно так улыбаешься, суслик, — укорила Люсьен, подвинув ему блюдце с горячими гренками, которые собственноручно намазала маслом и медом. — Это действительно необыкновенный юноша. Он написал роман.
— Сейчас все пишут.
— Я читала всю ночь, это что-то сверхъестественное. Столько блеска, ума, дерзости — и в таком возрасте! Чудо, Федя, честное слово, просто чудо! Знаешь, как называется?
_ Как?
— «Моя мамочка — блядь». Чувствуешь, сколько силы, экспрессии уже в самом названии?
— Что ж, рад за него.
— Федор, ты должен помочь.
— Каким образом, любовь моя?
Люсьен ему не понравилась. Неужто он ошибался, и она способна на нечто большее, чем обыкновенная случка?
— Конечно, я могла бы все сделать сама, но лучше, если это сделаешь ты.
— Что именно?
— Позвонишь издателю…
— Пожалуйста, хоть сейчас.
— Но это не все. Надо, чтобы ему сразу дали «Букера». Это поддержит мальчика морально.
— Можно и «Букера». Это все?
— Мне кажется, — она глядела на него испытующе, — ты не совсем понимаешь, о чем мы говорим.
— Как не понимаю? Тебе приглянулся молодой кобелек… сколько ему — двадцать, двадцать пять?
— Двадцать три.
— Вот видишь… Чего тут еще понимать, — Федор Герасимович уткнулся в газету, потеряв интерес к разговору.
— Федя!
— Да, милая?
— Послушай, это не то, что ты думаешь.
— Не надо, Люся… Я же тебя не осуждаю, хотя… То, что ты нянчишься с ним, приобщаешь — меня не касается. Но объясни, зачем ты водишь его в дом? Раньше ты так не делала.
Она чуть покраснела и поспешно потянулась за сигаретой, но Федор Герасимович сделал вид, что ничего не заметил.
— Хочешь сказать, я не имею права привести в дом гостя? Это что-то новенькое.
Он уже пожалел, что затронул щекотливую тему: не хватало еще, чтобы она с утра закатила ему истерику. С нее станется. За последнее время нервишки у нее поизносились. Он предполагал ранний климакс, связанный с половой распущенностью, но, возможно, на нее действовала неопределенность будущего, ощущение невнятной опасности, висящее в воздухе, подобно комариному облаку. Он и сам не раз испытывал внезапные, как инфаркт, кинжальные приступы страха. Хотя, казалось бы, ему-то чего бояться? В октябре 93-го года, когда президент, неизвестно до сих пор по чьей наводке, затеял бессмысленную бойню, Иноземцева вообще не было в Москве, он, как сердце вещало, укатил в Вену полечиться от застарелой язвы, да и должностишка у него была тогда не ахги какая, не нынешней чета. И после, в бездарной чеченской кампании он если и участвовал, то косвенно, нигде не засветился и никакого навару, как многие из челяди, от той войны не имел. Он всегда был за Россию заступник — невинной крови на нем нет. Он это в два счета докажет на любом, самом пристрастном суде, хоть и на том, который неподвластен земной воле.
Но страх иногда накатывал, липкий, дремучий, похожий на неодолимые приступы похмельной депрессии. Тут, видно, все дело в общей эпидемии, возможно, вирусного происхождения, охватившей поголовно всех обитателей Кремля. Даже прислуга это чувствовала. К примеру, третьего дня к нему явился Сан Саныч, преданный как собака дворецкий из поместья на Рублевке, и со слезами на глазах стал проситься на волю. Федор Герасимович был поражен: старик прослужил у него почти двадцать лет, он вывез его из Оренбурга, когда сам перебирался в Москву, и за все эти годы верный слуга ни на что не жаловался, да и на что жаловаться, если Федор Герасимович относился к нему, как к родственнику. Не говоря уж о том, что жалованье у старика было выше министерского. «Объясни, Сан Саныч, — потребовал он. — Тебе чего не хватает?» Старик что-то мыкал в ответ, переминался с ноги на ногу, прятал глаза, а потом вдруг жалобно проревел: «Не могу, хозяин! Отпусти Христа ради!»
Что же еще, если не эпидемия?
— Можешь, конечно, приводить кого угодно, но не забывай, какое нынче время, сколько кругом негодяев. Между прочим, ты водила его в кабинет — это-то зачем? Там же важные документы, бланки. Ловкий человек может всем этим очень хорошо воспользоваться. Да и потом — что ему там делать? Полагаю, его больше интересует твоя спальня.
Люсьен Ивановна выглядела смущенной.
— Извини, папочка, ты прав. Но он попросил показать ему кабинет великого человека. Он же писатель.
— Он так сказал — великий человек? Или сама придумала?
Нет, она не придумала, только изменила интонацию.
Как он сказал, повторить нельзя. Многое из того, что Санек говорил или делал, было неповторимо, и это завораживало женщину. Кажется, она увлеклась им не на шутку, хотя, как и ее муж, не предполагала, что способна на такое. И самое удивительное, в постели он не представлял из себя ничего особенного, не был суперменом, встречала она кобелей позадористей, но старался изо всех сил, и это ей было приятно. Она балдела от его хриплого, какого-то сверхци-ничного голоса, от его грубоватых шуток, — когда разговаривала с ним по телефону, могла испытать подряд два-три мимолетных оргазма, а что же это такое, если не любовь?
Сперва Люсьен Ивановна думала, что телевизионная подружка над ней подшутила, вместо писателя подсунула обыкновенного братка, но и тут не была в обиде. У нее и прежде водились любовнички из «золотой» московской молодежи, причем из самых колоритных, с «ролексами», с массивными цепями на шее, в малиновых пиджаках и со всеми прочими прибамбасами; и все они были хороши тем, что были одноклеточными, словно рожденными для того, чтобы доставить женщине удовольствие и сгинуть. Почти биороботы, предназначенные для наливания в них горючего (водки) и совокупления. Бабочки-однодневки. Утомленную, измученную высоколобыми поклонниками Люсьен Ивановну, как знаменитого поэта, все чаще тянуло в неслыханную простоту. Но с Саньком она ошиблась. Он на самом деле оказался писателем, да еще каким! После недельных подначек Санек, как-то криво ухмыляясь, передал ей довольно толстую, в триста печатных страниц, рукопись. Читая ее, Люсьен Ивановна временами приходила в такое бешеное возбуждение, будто ее ублажали сразу несколько распаленных горцев или негров. То и дело бегала в душ ополоснуться. Роман «Моя мама — блядь» был написан почему-то от лица молодой девушки, сюжета в привычном понимании там не было. Просто героиня описывала одну оргию за другой, перемежая их сценами каких-то непонятных кровавых разборок, но все это с такими умопомрачительными подробностями, что волосы вставали дыбом и в паху сладко щипало. При этом автор демонстрировал удивительное знание извращенной женской психологии, на некоторых страницах у Люсьен Ивановны возникало ощущение, что она смотрится в зеркало. Почти невозможно было соотнести эту книгу с образом Санька Чубукина, вечно хмурого, немногословного и малость заторможенного. Люсьен Ивановна сразу поняла, что если книгу издать, она улетит бешеными тиражами и принесет ее создателю мировую славу. Но Саньку она об этом пока не сказала, чтобы он не зазнался. Зато дозвонилась до Тинки Букиной и поделилась своими впечатлениями. К ее удивлению, Тинка сама роман не читала, малыш ее не удостоил, но все равно, как и Люсьен Ивановна, считала мальчика настоящим гением, ничуть не уступающим всем этим хваленым Пелевиным, Марининым, Незнанским и Тополям, а в чем-то даже превосходящим. По мнению Тинки, он стоит по таланту где-то между Кафкой и Толстым и, может быть, только чуток не дотягивает до Жванецкого и Искандера. Она лукаво поинтересовалась:
— Ну а как он, Люсечка, во всем остальном?
— Знаешь, миленькая, — серьезно и с благодарностью ответила Люсьен Ивановна, — вполне на уровне. Я даже поражаюсь. В творчестве он такой непредсказуемый, тонкий, а по жизни, реально, — крепенький такой, старательный бычок. Я твоя должница, Тиночка, проси, что хочешь.
— Сочтемся славою, — пошутила Таина. — Ведь мы свои же люди.
— Где ты только таких находишь?
— Секрет фирмы.
…Иноземцев и в машине находился под смутным впечатлением разговора с супругой. Что-то с ней творилось явно неладное. Дело даже не в этой ее новой игрушке — писателе, хе-хе! — а в какой-то несобранности ее поведения в последние дни. Дважды она забывала выполнить его поручения, хотя речь шла о пустяковых деловых звонках, а третьего дня на приеме в американском посольстве прокололась с Сергеем Сергеевичем Пустельгой, помощником президента, злейшим врагом Иноземцева. Пообещала таможенную протекцию российско-бразильскому концерну «Ориноко», который в черном списке отмывалыциков денег, спущенном недавно в Интерпол, занимал одну из первых строчек. Дутая, фиктивная компания, чьим руководителям, кажется, уже предъявлены обвинения сразу в четырех странах Старого Света. Ни Иноземцев, ни Пустельга не имели к этому концерну прямого отношения, это был голый крючок, закинутый интриганом наобум, — и вот на тебе! Рожа паскудная подошел к нему на приеме под руку с Люсьен и, расплываясь в омерзительной лягушачьей улыбке, радостно объявил:
— Короче, Федор Герасимович, с женщинами иметь дело проще, чем с такими истуканами, как мы с тобой. У них ум свежее.
— Чего ты хочешь? — заранее нахмурился Иноземцев, не выдерживая ликующего взгляда подковерного бойца.
— Чего хотел, то уже в кармане, — хохотнул негодяй и, оглянувшись по сторонам, заговорщицки добавил: — «Ориноко», брат, «Ориноко»!
— Не юродствуй, Сергей Сергеевич, — попросил Иноземцев. — Что — «Ориноко»?
— С твоего высокого соизволения даем ему зеленую улицу на российском рынке.
При этих словах пышнотелая Люсьен Ивановна, которую мерзавец нежно обнимал за талию, задергалась, как лисичка в капкане. Кровь бросилась Иноземцеву в лицо. Он сразу понял, что этот шутовской разговор сегодня же будет передан монарху. И несомненно, с добавлением самых невероятных подробностей.
— Мелко понтуешь, Сережа, — сухо сказал он. — Выдыхаешься, что ли?.. Я с подставными дел никогда не имел и тебе не советую.
— Нет, почему же… — торжествующе гудел подонок. — Эти парни веников не вяжут. За «Ориноко» большие капиталы, я тебя понимаю, дружище. Но все же… осторожность, конечно, не помешает.
Иноземцев счел за лучшее повернуться спиной и таким образом прервать похабный разговор.
Так, по пустякам, она его прежде не подставляла… Были и другие неприятные шероховатости чисто бытового свойства. К примеру, ни с того ни с сего надавала оплеух своей любимой горничной Машеньке Тюриной, которая якобы пролила кофе на туалетный столик. Или вдруг потребовала уволить конюха Дему, который на загородной конюшне обихаживал четырех рысаков Иноземцева и ни в чем дурном никогда замечен не был. Дюжий деревенский малый, немного сонный на вид, но за лошадьми ухаживал, как за родными. Допустим, с конюхом понятно, чем-то, вероятно, не угодил по мужицкой части, а с Машенькой?.. У прекрасной Люсьен Ивановны шалили нервишки, а это для жены политика такого ранга, как Иноземцев, непозволительная роскошь. Никто не отрицает, она была ему хорошим другом, но слишком много сил уходило у нее на проблемы, связанные с мужскими гениталиями. До эталона она не дотягивала. За Люсьен Ивановной, при всех ее достоинствах — образованность, внешние данные и прочее — необходим постоянный пригляд. Теперь еще этот мальчишка. Писатель! Знаем мы этих писателей, которые присасываются к богатым и влиятельным дамочкам.
Иноземцев через переговорное устройство связался с водителем и велел остановиться. Они были почти в Центре, а Федор Герасимович так и не решил, куда ехать дальше. Ощущение легкой утренней паники было для него обычным. Кроме министерского поста, на нем висело столько важных государственных должностей и обязанностей — фонды, советы, комитеты, комиссии, — что каждый день начинался, как шарада. Он не мог разорваться, чтобы попасть во все места, приходилось лавировать, выбирать из важного наиважнейшее, и день ото дня, учитывая сложную политическую ситуацию (выборы на носу, экономическая разруха, война в Чечне, коррупция, спятивший монарх), делать это становилось все труднее. Незаменимым помощником была Элла Владимировна Гейтцель, его бессменная, уже в течение пятнадцати лет, секретарша, можно без преувеличения сказать, правая рука. При ней как-то незаметно сколотилась небольшая группа толковых ребятишек, кажется, ее ближайшая родня, которая только тем и занималась, что просеивала его рабочий график, убирая лишнее, ненужное, тасуя встречи, планерки, совещания, даже заграничные поездки, как карты в пасьянсе. С одной стороны, зависимость от подсказок Эллы Владимировны его тяготила, с другой стороны, он уже не представлял, как без нее обойтись, тем более, реальность показывала, что мадам Гейтцель никогда не ошибалась. Она была гениальным координатором и еще ухитрялась во всем этом бедламе раза три в неделю выкраивать для Иноземцева по несколько часов для вольного досуга. К слову сказать, он не особенно в этом нуждался, но ничего не поделаешь, с волками, как говорится, жить… Если бы за ним не водилось таинственных отлучек, он выглядел бы подозрительно для своих соратников, денно и нощно занятых рыночным обустройством России.
Он связался с Эллой Владимировной по радиотелефону. Как всегда, мадам отозвалась с первого сигнала.
— Элеонор, дорогая, я возле Крымского моста… Куда мне дальше?
Элла Владимировна четко, сухо, без всяких эмоций перечислила три маршрута, наложенные друг на друга с паузой в тридцать — сорок минут. Все — до обеда, до двух часов.
— Милочка моя, — озадачился Федор Герасимович. — Я же не метеор… И потом, какая такая острая необходимость, чтобы мне присутствовать в Минобороне? Это же рутинное совещание…
— Вы обещали встретиться с господином Казакевичем, — напомнила секретарша. — На нейтральной территории. Он специально туда приедет. Это очень важно.
Иноземцев потер переносицу. Казакевич Иерарх Тихонович. Из министерства финансов. Да, это нельзя откладывать.
— Хорошо, а что это за мистер Шульц-Гремячий из Фонда мира? Что это за чертов брифинг, о котором я вообще не слышал?
— Вы слышали, Федор Герасимович… Мы подавали справку. Это личная просьба… сами знаете кого.
— Ага, — буркнул Иноземцев, почувствовав привкус желчи во рту, что всегда случалось, когда речь заходила о «семейных» проблемах. — Тему встречи уточни, пожалуйста.
— Предположительно: координация контрмер против разнузданной кампании якобы по отмывке грязных денег.
— Кто такой Шульц-Гремячий?
Ответ последовал без заминки:
— Доверенное лицо. Абсолютно надежное.
— Почему именно — Фонд мира?
— Это инициатива… казначея… Но мы дали согласие.
— Ладно… — Федор Герасимович уже понял, что от встречи с загадочным Шульцем не отвертеться. То есть, как раз следовало отвертеться, чтобы не дать втянуть себя в международную разборку, но делать это придется с помощью хитроумных дипломатических уловок, в которых Иноземцев не считал себя великим мастером. Что ж, выбирать не приходится…
— Элеонор, ради всего святого, давайте хотя бы перенесем интервью на телевидении.
— Нельзя, — мягко, но строго возразила секретарша.
— Что значит нельзя? — Иноземцев повысил голос. — Эта небритая нечисть… я вообще не хочу с ним говорить. От него воняет! У него изо рта брызги летят! В прошлый раз после эфира у меня на щеке чирей вскочил. Ты же помнишь.
— Федор Герасимович! Вы не появлялись на экране уже четыре дня. В предвыборный период это критический срок. Вам не о чем волноваться. Передача пойдет в записи, монтаж мы проконтролируем. Вопросы и ответы у вас на столе.
Тяжко вздохнув, Федор Герасимович выглянул из-за занавески. Утро сырое, туманное. Редкие прохожие старательно, пугливо огибали выскочивший на асфальт черный БМВ с тонированными стеклами. Двое охранников, кажется, Фоняков и Захаров, покинули машину сопровождения и мирно курили возле киоска. Хорошие, опытные офицеры: мимо них мышь не проскочит.
— Элеонор, ты слушаешь?
— Да, Федор Герасимович.
— У меня к тебе приватная просьбишка. Надо проверить одного человечка, некоего Александра Чубукина. Выдает себя за писателя. Возьми это на себя, подключи, кого надо.
Элла Владимировна проявила себя в полном профессиональном блеске, в очередной раз доказав, что ей нет цены.
— Федор Герасимович, вынуждена буду вас огорчить.
— Давай, огорчай, — смиренно отозвался Иноземцев. — А то раньше все радовала.
— Мы уже проверили.
— Что — проверили?
— Извините, мы навели справки по собственной инициативе.
— Да?.
— По адресу, который есть у вашей супруги, никакой Чубукин не проживает. Хозяева квартиры уже год как в Америке. Их фамилия — Бронштейны. Муж и жена. Оба сотрудники торгпредства.
— Что такое? Но этот самый Чубукин…
— Он не Чубукин. Его фамилия Голубев.
— Как Голубев? — Иноземцев сглотнул подкативший под горло комок. — Но он же писатель?
— Увы, Федор Герасимович, он не писатель.
В сочувственном тоне легкий привкус насмешки. Иноземцев как будто увидел ее породистое, с темными миндалинами глаз лицо.
— Кто же он?
— Сейчас мы это выясняем. Но…
— Да говори же, Элка, чего резину жуешь!
— Похоже, Федор Герасимович, этот мальчик из Павелецкой группировки. Обыкновенный мелкий бандючок.
— Врешь, кукла!
Отозвалась холодно:
— Сегодня к вечеру у вас будет полная информация.
Иноземцев прервал связь, распорядился в переговорное устройство:
— Митя, домой, быстро! Разворачивай!
Через пятнадцать минут вернулись туда, откуда приехали, — к шестиэтажному особняку, где Иноземцев занимал верхний этаж — семейство, обслуга, охрана… Район пыльный, зачумленный, но Федор Герасимович так и не удосужился переехать из когда-то считавшегося престижным це-ковского дома. Он был из тех, кто быстро привыкает и к хорошему, и к плохому. Истинно русская натура.
На лифте взлетел как на крыльях. Промчался по коридору, не обращая внимания на мордочки домашних, на веселое дочуркино: «Папочка, папочка вернулся!» — туда, в кабинет, к заветному сейфу.
Чудище японской электроники и дизайна, вделанное в стену, с тройной защитой и суверенной сигнализацией. По уверению фирмы-изготовителя «Якудза-интернейшн», открыть сейф, не будучи знакомым с входным шифром, практически невозможно. Не поддается ни взрыву, ни взлому. Да и при чем тут взрыв, когда вот он, целенький, сверкающий полированными боками, привычно щурится тремя колпаками электронных табло. Слава Всевышнему! Нет, это, разумеется, нервы — и больше ничего. Помрачение сознания от неприятного известия: писатель, который оказался бандюком. Код знал лишь один Иноземцев. Даже преданной супруге не доверил роковой секрет. И правильно, что не доверил… Какая ни будь, а баба есть баба.
На всякий случай разомкнул блоки защиты, нажал красную кнопку, ввел в щель пластиковый ключ. Дверца сейфа отворилась с тихим, приятным шорохом. Заглянул внутрь и машинально ухватился за сердце. В сейфе были всего две хромированные полки: на верхней хранилось несколько пачек валюты — бытовой НЗ, на нижней — одна аккуратная пластиковая папка. Сейчас обе полки были стерильно пусты: ни пылинки, ни соринки.
Синея, хватая ртом воздух, Федор Герасимович переместился к креслу и плюхнулся в него. Тут же на пороге возникла призрачная фигура жены, облаченная во что-то переливающееся, будто в серебристый хитон. Они с изумлением глядели друг на друга, и оба молчали. Слишком велико было потрясение, чтобы сразу нашлись слова. Наконец, будто ломая себя, Федор Герасимович процедил:
— Ну что, похотливая сучка? Ты хоть знаешь, что тут было?
— Денежки? — с робкой надеждой спросила Люсьен Ивановна.
— Нет, не денежки… Смерть тут наша лежала!
Произнеся трагическую фразу, Федор Герасимович проявил свою склонность к художественной метафоре, скорее всего он имел в виду угрозу своей карьере, возможно, крупные финансовые потрясения, и это было правдой, но Люсьен Ивановна поняла его буквально. Приблизилась к мужу и опустилась рядом с креслом на колени.
— Феденька, родненький, ну стоит ли так переживать? Даже если смерть… Разве плохо мы пожили? Когда-то все равно надо расплачиваться.
С ужасом глядел он в ее глаза, подернутые голым туманом.
— Женщина, ты хоть понимаешь, о чем говоришь?
— Понимаю, конечно… Но ты же не думаешь, что писатель… Федя, это несерьезно!
Вместо ответа Федор Герасимович резко двинул коленом, и бедняжка, охнув, опрокинулась на ковер, рассыпая вокруг серебристые искры.
ГЛАВА 3
Когда Таина сказала Бореньке Интернету, что считает его гением, тот принял это как должное. Он и сам это знал. Просто теперь, когда он работал в банде, у него стало больше возможностей проявить свою гениальность. На Шаболовской, неподалеку от радиоцентра Таина сняла для него мастерскую со всем необходимым оборудованием, а если чего-то не хватало, отстегивала деньги без звука, даже не спрашивая, зачем ему нужно то-то и то-то. В мастерской Боренька чувствовал себя абсолютно счастливым, уходили прочь сомнения и тревоги, прошлое мягко смыкалось с будущим, и он с недоумением оглядывался на себя вчерашнего — закомплексованного юношу, озабоченного какими-то нелепыми проблемами. Про институт он и думать забыл, хотя матушке, чтобы успокоить, говорил, что собирается экстерном сдать выпускные экзамены и уже застолбил место в аспирантуре. Маргарита Тихоновна ему верила, потому что видела, как он повзрослел.
В мастерскую, в свои заповедные владения он с неохотой допускал посторонних, делая исключение, естественно, для Таины (она и не спрашивала разрешения) и для Кныша, своего старшего друга и наставника, великого воина. Еще несколько раз приводил сюда Кэтрин Смирнову, когда чувствовал, что похоть начинает отвлекать от изумительной интеллектуальной свободы. Девушка тоже изменилась с той поры, когда он так наивно, по-телячьи ее домогался, полагая, что томительное зудение в чреслах, перемешанное с романтическими видениями, и есть то, что люди называют любовью. Стыдно вспоминать… Можно сказать, Кэтрин сама ему навязалась. Звонила домой, плела какие-то небылицы о внезапно вспыхнувших нежных чувствах, на что он всегда с одинаковой строгостью отвечал, что у него нет денег на баловство. Девушка кокетливо возражала, что это ничего, что можно для разнообразия попробовать бесплатно.
Он попробовал. Из принципа.
Привел в мастерскую, налил вина и, не мешкая, как учила Таина, не дав толком закусить, вступил с ней в половые отношения. Причем блузку на ней, чтобы не возиться с пуговицами, рывком разорвал до пупа (по совету Кны-ша). Пока они барахтались на ковре, телек, включенный на полную мощность, жалостливо рассказывал о несчастных чеченских беженцах, измордованных россиянами.
Сделав дело, он все же сунул ей в кармашек юбки сотенную зеленую купюру и выпроводил вон, не вникая в счастливый щебет о том, что если бы, дескать, она знала, что он такой, да если бы, да разве бы…
— Ступай, ступай, — он легонько подтолкнул Кэтрин под зад, от чего она затейливо верещала. — Некогда мне. Когда надо, сам позвоню.
Признаться, после этого свидания он почувствовал такое же удовлетворение, как после замечательного взрыва в «Ласточке», где он доказал себе, что родился мужчиной, достойным своего отца.
…Чтобы смонтировать электронную отмычку для сейфа, ему понадобились фотографии, сделанные Саньком, и опытный образец, который сотрудники фирмы «Якудза-интернейшн» доставили прямо в мастерскую. На работу ушло десять дней, и все это время он ни разу не ночевал дома. Боренька не сомневался, что черная пластиковая коробочка, напичканная микросхемами, похожая на краба с растопыренными клешнями, сработает, но в тот день, когда Санек отправился за добычей, у Бореньки ни с того ни с сего поднялась температура до тридцати девяти градусов, и Кныш, навестивший его ближе к вечеру, заставил выпить стакан водки с перцем.
Наконец, уже почти в полночь позвонила Таина и сказала серьезно и с уважением:
— Ты гений, малыш. Ты самый настоящий гений. Я горжусь тобой.
На что Боренька, испытывая огромное облегчение, только и смог ответить:
— Всегда к вашим услугам, сэр!
…Кныш впервые был в доме, где она жила. Странная это была Квартирка, не менее странная, чем ее хозяйка. Спартанская обстановка, ничего лишнего. В гостиной вдоль одной из стен сплошь книжные стеллажи, заставленные плотно, без просвета, на противоположной стене, на ковре с искусным, затейливым орнаментом — такие он видел в Афгане — длинный, старинный меч с двуручной рукоятью, подвешенный острием вниз. В спальне — узкая монашеская кровать с резными спинками, пузатый комод с бронзовыми купидонами, образца двадцатых годов, туалетный столик с овальным зеркалом, пуфик и колченогий низкий стул с гнутой спинкой — больше ничего. На кухне, прямо на моечном столе — компьютер, а на подоконнике — маленький телевизор «Грюндик». Он ожидал чего-то другого, может быть, хором, заставленных изысканными, дорогими вещами, более соответствующими его представлению о Тайне, чем это простое убранство.
Кныш долго разглядывал меч с черным широким лезвием, снял его со стены и подержал в руках, попытался прочитать полустершуюся надпись, выбитую на рукояти, но не смог.
— Нравится? — спросила Таина.
— Вещь неплохая, — согласился Кныш. — А что тут написано?
— Честь в сердце, душа во Господе, примерно так. Это меч дружинника.
Кныш покачал головой, вернул оружие на место.
— Зачем звала, командирша?
— Сейчас позвонят, то есть я думаю, что позвонят, и, наверное, придется съездить в гости.
— В гости?
— У тебя какие-то дела?
Она прекрасно знала, что у него нет и не может быть никаких дел, это была насмешка. Кныш не возражал. Она всегда его поддразнивала. Она его подманивала.
— Хочешь, покажу, что нам Саня надыбал?
— Не нам, а тебе. Лучше скажи, как ему это удалось?
— Пустяк. Подсыпал красавице порошку в вино, полчасика она поспала, потом ничего не помнила. С этим, Володечка, и ты бы справился. Но ведь ты не охотник до красавиц, не правда ли?
Она усадила его в единственное в гостиной плюшевой кресло, положила на колени пластиковую папку с перламутровыми кнопками-застежками. У него голова закружилась от ее близости, и это уже не в первый раз. Он остерегал себя: осторожнее, парень, не наделай глупостей.
Они и так слишком тесно соприкасались, дальше, он чувствовал, — бездна. Шагнешь, назад не вернешься. У них был недавно путаный разговор, застрявший у него в башке, как гвоздь. Тинка вот так же его подначивала на предмет отношений с прекрасным полом, и Кныш не выдержал, ляпнул: «Я-то ладно, весь израненный, с оторванными яйцами, а ты-то что за морячка? Сама-то с кем живешь?» Принцесса побледнела, будто собралась в обморок, и тихо, спокойно ответила: «Я, Володечка, клейменая, порченая. Мне суженого не дождаться».
Бумаги он лениво просмотрел: конечно, это товар. Несколько личных писем членов «семьи», отправленных, как говорится, в разные концы земли, разным адресатам, включая Билла Клинтона, но почему-то осевших в неприметной папочке Иноземцева. Тут же копии служебных записок — в МВД, в ФСК — опять же частная переписка с двумя могущественными олигархами, распечатки телефонных и радиоперехватов и даже с пяток фотографий чрезвычайно легкомысленного содержания, но тоже с известными, уважаемыми в России персонажами. Солидная папка. Возьмешь в руки — и сразу хочется куда-нибудь спрятаться.
Вчитываться Кныш не стал: определить стоимость компромата не в его возможностях. Лишь поинтересовался:
— Почему ты за Иноземцева ухватилась? Чем он тебе не угодил? Они же все одинаковые.
Таина простодушно объяснила:
— Я с ихней супругой накоротке. Кое-какие общие дела.
— Грабили, что ли, вместе?
— Нет, Володечка, не грабили. Богадельню открыли в Сокольниках. Приют для сироток в Мытищах. Тебя это устраивает?
Перепалка не успела разгореться, зазвонил телефон.
— Легка на помине, — усмехнулась Таина и сняла трубку. Мгновенно преобразилась, с первых же слов превратилась в светскую даму, общающуюся с подругой из высшего общества. В начале знакомства Кныша развлекали подобные метаморфозы, теперь он испытывал чувство неловкости, будто в щелку подсматривал за интимным туалетом рыжей принцессы.
Таина виновато произнесла:
— Да, да, Люсечка, это ужасно! Я сама поражена… Он звонил сегодня, я просто не успела с тобой связаться…
Потом она минуты три внимательно слушала, не глядя на Кныша. Пыталась прервать возмущенный поток, летящий по проводу, наконец ей это удалось.
— Послушай меня, Люсечка, послушай, не перебивай. Да, мы обе жутко ошиблись в нем… Я не снимаю с себя вины. Нет, не снимаю. Но кто мог подумать, такой талантливый, необыкновенный юноша…
Опять ей пришлось сделать большую паузу, и, накрыв трубку ладонью, она попросила:
— Володечка, принеси вина, в холодильнике бутылка — монастырский кагор.
Когда вернулся с чашкой, Таина говорила:
— …Я до сих пор в это не верю. Давай подождем делать окончательные выводы. Вполне возможно, он сам стал чьей-то жертвой. Ты же понимаешь, какое подлое время. На него могли надавить… Конечно, конечно, приеду прямо сейчас… Успокой своего благоверного… Надеюсь, мы решим эту проблему полюбовно… Сейчас выезжаю, жди…
Повесив трубку, взяла у Кныша чашку и большими глотками осушила до дна. Глядела ликующим взглядом.
— Завертелся хорек вонючий… Что ж, Володечка, поехали, милый…
— К Иноземцеву?
— Как ты догадался?
— Тина, это не мое дело, но может быть…
— Никаких «может быть». Не беспокойся, Володечка, нам с тобой ничего не грозит. Это приличный дом. Никаких перестрелок, которые ты так любишь. Он, бедненький крысенок, сейчас сидит и дрожит от страха. Он весь мокренький. Я хочу это видеть.
— Тина, ты ведь немного сумасшедшая, да?
— Не больше, чем ты, Володечка.
Ее глаза привычно потемнели, и она будто никуда не спешила. Вкрадчиво спросила:
— Скажи, Володечка, ты за себя боишься или за меня?
От вроде бы простого вопроса его передернуло. Еще бы понять, какой в нем заложен смысл.
— Ни то и ни другое, — сказал он. — Просто противно.
— Ах противно?.. Что же тебе противно, дружок, если не секрет?
— Не по мне все эти игры, ты же знаешь.
— Ах да, ты же чистенький, воин православный, — теперь она выдавливала слова с яростью. — А когда ты был для них пушечным мясом, тебе не было противно? А жопу за них подставлять тебе нравилось?
— Успокойся, Тинка.
— Я успокоюсь, Володечка, когда их развесят по фонарям по всей Москве. Не раньше того. И заруби себе на носу, дружок, или ты со мной до конца, или проваливай прямо сейчас. Скатертью дорога. Забейся в свой вонючий чулан и не дыши. Но на глаза мне не попадайся.
Кныш беспомощно провел ладонью по лицу, прогоняя наваждение. Унимать разбушевавшуюся принцессу — пустое занятие. В этом он уже убеждался много раз. Хуже другое. Он не мог с ней расстаться, это было выше его сил.
— Ладно, чего там, поехали, — пробормотал, отворачиваясь.
Когда выходили, в дверях случилось чудное. Таина вдруг обернулась, почти одного роста была с Кнышем, обвила его шею руками и крепко поцеловала в губы. Вытерла ему губы ладошкой.
— Помада.
— Ага, — сказал Кныш. — Французская.
Таина представила его как коллегу, и по тому, как Люсьен Ивановна лишь бегло мазнула по нему взглядом, можно было догадаться, что она не в себе. Обычно на нового мужчину она реагировала резко: как-то вся вспыхивала призывным светом, а тут — полное равнодушие. Похоже, крепко ее шарахнуло.
Хозяин вот-вот должен был подъехать.
Уселись за маленький, орехового дерева стол в гостиной — вино, водка, легкие закуски, — и Таина сказала:
— Володя в курсе. Можешь его не стесняться. Он нам при определенных обстоятельствах поможет.
Тут Люсьен Ивановну и прорвало. Едва справляясь с рыданиями, она поведала, что после того, что произошло, она, наверное, никогда не сможет доверять людям. Но это даже не главное. Она опасалась за рассудок мужа. Он целый день не выходил из кабинета, ничего не ел, кому-то без конца названивал, потом вдруг молча собрался и укатил неизвестно куда. При этом — представляешь, Тина? — вырядился в джинсы и старую лыжную куртку, которую она собиралась отдать садовнику. Когда же она попыталась его остановить, он так сильно толкнул ее в грудь, что остался синяк. Люсьен Ивановна собралась продемонстрировать синяк, взялась за ворот кофты, но вовремя спохватилась, ожгла Кныша на сей раз более заинтересованным взглядом.
— Тина, дорогая, у меня просто не укладывается в голове! Ограбить такого человека! Который столько сделал добра для этой страны. Боже мой, где же были наши глаза?!
Таина сочувственно моргала:
— Много взял денег?
— Деньги, да… Там еще что-то было, сама не знаю. Какой негодяй!.. Нет, не могу поверить… Что он тебе сказал, Тинуля?
— А тебе он разве не звонил?
— Прячется… — Люсьен Ивановна вдруг светло улыбнулась Кнышу. — Натворил дел — и скрылся… Тина, объясни хоть, зачем ему это понадобилось? Деньги — я понимаю. Он человек творческий, у него повышенные запросы… Но зачем брать документы? Он что же, собирается шантажировать мужа?
— Не так все просто, Люся. Как я поняла из его путаных речей, он и сам не рад, что так получилось.
— Еще бы! — иронически воскликнула хозяйка, невзначай положив руку на колено Кнышу. Тот сидел истуканом, с чашкой кофе в руке. Холодно покосился на сверкнувшую в проеме кофты пышную грудь. Подумал: азартная баба.
— Мы не так дружны с ним, — сказала Таина, — чтобы откровенничать. Чисто литературное знакомство. Но мне кажется, на него на самого наехали и чего-то требуют.
— Кто наехал?
— Наверное, очень плохие люди, раз он так испугался.
— Испугался?
— Конечно, он это сделал со страху. Что еще может подтолкнуть влюбленного молодого человека на такой поступок?
— Он влюблен?
— Люсечка, ты же сама все прекрасно понимаешь. Он от тебя совершенно обалдел.
В задумчивости поглаживая колено Кныша, Люсьен Ивановна мечтательно заулыбалась.
— Действительно, мне казалось, между нами есть какая-то духовная близость. Он мне, в сущности, как младший брат… Но неужто несчастный воришка не понимает, что не сможет долго скрываться? Муж его найдет. Он уже поднял на ноги всех своих друзей из органов. Ты ведь представляешь, Тина, какие у него связи?
— Его-то найдут, но живого или мертвого? И будут ли при нем бумаги — вот в чем вопрос.
— Типун тебе на язык, дорогая… А что вы думаете по этому поводу, Володя?
Кныш снял с колена шаловливую ручонку, поцеловал и положил рядом с пепельницей.
— Меня Таисья попросила поучаствовать, но на самом деле я в ваших бандитских делах — ни бум-бум.
— А с Александром вы знакомы?
Кныш ответил так, как научила Таина:
— Шапочно. Талантливый мальчонка, ничего не скажешь. Но я таких не люблю.
— Почему?
— Им слишком легко все дается. Женщины, деньги — все к их услугам. Гений! А вот ты попробуй добиться чего-нибудь собственным трудом, тогда увидим, что ты за человек и какая тебе цена.
В этот момент в гостиную ворвался запыхавшийся Иноземцев. В распахнутой лыжной куртке, тучный, с распаренным, как после бани, розовым лицом. Казалось, никого не увидел, кроме Таины. К ней кинулся.
— Ну, что?! Говорите, Таина Михайловна. Я слушаю.
Кныш поразился выражению ее лица: холодок презрения будто окутал ее щеки нежным румянцем, она не собиралась скрывать своего отношения к государственному борову. Больно кольнуло сердце. Где-то совсем рядом маячила беда, которую он не сумеет отвести. Никто не сможет спасти заигравшуюся, сумасшедшую рыжую принцессу.
— У вас какие-то неприятности, Федор Герасимович? — спросила Таина. — Вы даже не поздоровались.
Иноземцев тряхнул башкой, будто отгоняя слепня.
— Извините, господа, я действительно немного того… То да се… Того гляди, кондрашка схватит. Да-с.
— Может быть, пропустишь глоточек? — предложила Люсьен Ивановна с каким-то неловким смешком. Но Федор Герасимович уже исчерпал ресурсы светского поведения. Опять уставился на Таину, буравил ее маленькими глазками из-под лохматых, а-ля Брежнев, бровей.
— Таина Михайловна, могу я с вами побеседовать тет-а-тет, по-русски говоря?
— Нет проблем, — Таина поднялась. — В сущности, я ведь для того и приехала. Люсечка, пойдем с нами.
Люсьен Ивановна вроде потянулась, но супруг так на нее глянул, что злосчастная покровительница молодых дарований со вздохом повалилась обратно в кресло.
— Идите, мы уж тут с Володей поскучаем.
В кабинете, бросив куртку на стул, Иноземцев развернулся громоздким туловищем, чуть ли не прорычал:
— Кто он такой? Что ему нужно?!
Таина, не отвечая, прошагала к сейфу. С любопытством заглянула в мерцающие хрустальные глаза.
— Такого красавца взломали? Надо же! Специалисты.
Федор Герасимович начал закипать. Он эту рыжую шлюшку с телевидения видел иногда в компании жены, не остался равнодушен к ее женским прелестям, но не подозревал, что она такая наглая. Хотя чего там, на телевидении других не держат. Наглость — как фирменный знак. Профессиональное отличие. Но пора ее осадить.
— Таина Михайловна, хочу вас предупредить, если вы играете с этим подонком в одной команде…
— Разве похоже?
— Очень, знаете ли, очень похоже.
— И что тогда будет?
Ошарашенный Федор Герасимович наткнулся на сочувственно-презрительную гримаску, точно такую же, какая появлялась у Люсьен Ивановны, когда он примерно раз в месяц напивался до потери пульса, снимал стресс. Самое ужасное, подлая девка имела основания так ухмыляться. Пока взрывные бумаги к-нему не вернулись и находятся в неизвестно чьих руках, он бессилен что-либо предпринять. Ну ничего, зато потом… Взяв себя в руки, любезно пригласил присесть.
— Прошу вас, Таина Михайловна. Давайте не будем нервничать.
Рыжая профурсетка благосклонно кивнула, опустилась в кресло, скрестила ноги, достала из яркой пачки длинную сигарету, прикурила и выпустила дым ему в нос.
— Так что вы хотели узнать, уважаемый Федор Герасимович?
— Чего требует этот негодяй?
— Он не негодяй, такой же человек, как мы с вами. Самый натуральный рыночник. Разумеется, пониже рангом.
Иноземцев проглотил и это.
— Сколько ему нужно?
— Три миллиона, — просто ответила Таина.
— Три миллиона — чего?
Таина улыбалась, но глаза оставались ледяными.
— Я сама решила, что ослышалась. Три миллиона долларов. Он сказал, там целая организация. Меньше ему не позволят взять. Придется со многими делиться. Все же знают, что вы, Федор Герасимович, человек далеко не бедный. Пятый год у корыта.
Иноземцев выдержал удар молодецки.
— Какие у меня могут быть гарантии, что они не сделали копии?
— Верно, — согласилась Таина. — Гарантий нет никаких. Копии они наверняка сделали, это же серьезные люди. Им надо подстраховаться. Но это не страшно.
— Что значит — не страшно?
— Копии в суде не имеют силы улики.
— Милая дама, — у Иноземцева задергалось левое веко, и он прижал его ладонью. — Какие суды? Кто в наше время боится судов? Достаточно переслать эти бумаги по двум-трем адресам…
— Нет, — перебила Таина. — На это они не пойдут.
— Почему вы так уверены?
— Как я поняла, лично вам они не желают зла. Напротив, рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество в будущем. Сейчас им нужны только деньги.
— Три миллиона?
— Ничего не поделаешь, такса.
— Небось, наличными?
— Нет, они дадут номер счета, куда перевести.
— В какой стране?
— Пока не сказали.
— Как же так получается, — Федор Герасимович изобразил удивление, хотя больше всего на свете ему хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы красивая стервочка завопила от боли. Но он не мог себе этого позволить, и не только из-за непредсказуемости последствий. Сумрачное мерцание ее глаз парализовало его волю. Может быть, впервые в жизни он, старый ходок, в конце концов, второе лицо в государстве российском, постыдно, по-мальчишески робел перед женщиной. Странно, но это было именно так. Он почти не сомневался, что она никакой не посредник, а одна из действующих лиц драмы. Не исключено, что главное действующее лицо. Поэтому с ней нужно было быть особенно осмотрительным и все расчеты перенести на тот момент, когда документы окажутся в сейфе.
— Получается игра в одни ворота. Выходит, я отправлю деньги и буду ждать, соизволят ли ваши знакомые сдержать свое слово. Как-то несерьезно.
— Они не мои знакомые, — поправила Таина. — Но вы правы, Федор Герасимович. Я тоже заметила эту шероховатость. И указала на это другу вашей семьи.
— И что же он?
— А что он? От него ничего не зависит. Условия диктуют другие. Он просто исполнитель.
— Кстати, — Федор Герасимович прикрыл ладонью правое веко, которое тоже задергалось. — Откуда он вам звонил?
— Какое это имеет значение? Мальчик — обыкновенная пешка, мавр. Документы давно от него уплыли.
— Вы так думаете?
— Он сам сказал… Федор Герасимович, а какой вариант предлагаете вы?
— Нормальный. Деньги против бумаг. Обмен.
— Не смешите меня, — изящным жестом Таина раздавила окурок в пепельнице. — Почему бы сразу не послать преступникам повестку в прокуратуру? Вместе со взводом ОМОНа.
— Вы понимаете, что такое три миллиона долларов?
— Не мелочитесь, Федор Герасимович. Вам ли считать копейки? Репутация дороже.
Иноземцев чувствовал себя совершенно опустошенным, словно его измолотили дубьем. В кишках беспрерывно лопались пузырьки, и за веками не уследить: складывалось мерзкое ощущение, что он озорно подмигивает собеседнице то одним, то другим глазом. Да уж, выдался денек!
— Если, допустим, я откажусь платить, что они, по-вашему, предпримут?
— Я бы не рисковала, Федор Герасимович. Если замахнулись на такого могущественного человека, значит, отморозки, беспределыцики. Пойдут до конца.
— Вы знаете, что в этих бумагах?
Таина потянулась в кресле, как сытая кошка, демонстрируя его удрученному взору, как сладко дышит горячая девичья грудь.
— Дорогой Федор Герасимович, вы напрасно подозреваете меня Бог весть в чем. Я замешана в эту историю случайно и поражена не меньше вашего. Очень жаль нашу милую, простодушную Люсечку. Ее вина только в том, что у нее доверчивое сердце. Вы уж не ругайте ее. Она так переживает, больно смотреть.
Иноземцев понял, что толку от дальнейшего разговора не будет: у шлюшки все козыри на руках, она его переигрывает.
— Когда надо дать ответ?
— Лучше сегодня.
— Почему бы им не связаться со мной напрямую?
— Боятся. Я их понимаю. Вы грозный мужчина. У вас огромные возможности — и вам доверяет государь.
— Мне нужен час, чтобы принять решение.
— Пожалуйста, — Таина милостиво кивнула. — Буду ждать вашего звонка.
— Может быть, останетесь поужинать?
— В другой раз, — окинула его циничным взглядом, не оставляющим места для двойного толкования. — Но я бы предпочла встретиться на теннисном корте.
— Почему бы нет, — слабо встрепенулся Иноземцев, не поверивший ни единому ее слову…
Кныш сел за баранку бежевой «скорпии», через пять минут вырулил на проспект. Убедившись, что за ними никто не увязался, спросил:
— Ну что, уломала кабана?
— Куда он денется… Признайся, удалось Люсечку оприходовать?
— Нет.
— Что так? У вас было целых полчаса, столько бедняжка наедине с мужиком не выдерживает.
— Она пыталась, да я не дался.
— Не понравилась?
— Почему? Красивая, умная женщина, но не в моем вкусе.
— А кто в твоем вкусе, Володечка? Я?
На крутом вираже их занесло, задом чуть не врубились в каменный бордюр.
— Гололед, — сообщил Кныш. — Надо резину поменять.
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Пустой разговор… Куда тебя отвезти?
— Давай куда-нибудь заскочим… Жрать охота.
— Босячку изображаешь?
— Я и есть босячка… Знаешь, кто у меня родители?
— Наверное, новые русские?
— Нет, Володечка… Папа — бывший строитель, давно спился. Мама — вообще никто, домохозяйка. Распухла вся. У нее щитовидка. Никакое лечение не помогает.
— Поэтому с ними и не живешь?
Таина придвинулась ближе, положила руку на колено, как недавно Люсьен Ивановна, но ее ладонь прожгла его ногу насквозь.
— Не надо меня дразнить, Володечка. Я немного устала.
— Это понятно. Работаешь много.
Сняла руку и закурила.
— Иногда ты бываешь удивительно злой, и, наверное, сам этого не замечаешь. Да, работаю. Кстати, кроме того, что мы потрошим, как ты заметил, кабанчиков, я еще на телевидении кручусь как белка в колесе.
— А зачем?
— Что — зачем?
— Зачем крутишься? Чего тебе не хватает? Думаю, бабок уже намяла на три жизни вперед. Пора успокоиться.
Проехали целую улицу, пока Таина наконец ответила:
— Ты не только злой, но еще и туповатый.
— Я солдат, — в профиль было видно, что Кныш чему-то радуется. — Чего не понимаю, всегда спрошу. Так положено по уставу.
Вскоре он припарковался возле какого-то ярко иллюминированного трехэтажного дома. Пылающие, меняющие накал и цвет электрические буквы выкидывали на проезжую часть загадочное слово: «САЗЕРЛЕНД». В Москве, оборудованной под рай для богатеньких буратино, таких странных заведений хоть пруд пруди. Кто в них захаживал, тот знает, что там всего навалом: питья, музыки, горячей еды, девочек, мальчиков, дури, игральных автоматов, — только отстегивай монеты. Но если кто-то из разборчивых клиентов желает удовольствий более изысканных, к примеру, испить крови младенцев, то ему не сюда, а ближе к окраинам, ближе к Юго-Западному округу. В десяти минутах езды. Новая Москва тем и хороша, что в ней все под рукой и все имеет строгий прейскурант: и любовь, и жизнь, и вечная разлука.
К машине подскочил ферт в черной курточке и черных брючках, видно, закодированный по методу Довженко, потому что не чувствовал холода. Кныш отдал ему ключи со словами: «Далеко не загоняй. Мы ненадолго».
Уже когда сидели за столиком в уютном ресторанном зале с искусственными пальмами, Таина заметила:
— Ну ты и жучара, Володечка! Кто бы мог подумать?
— А что такое?
— Да все-то ты знаешь. И держишься гоголем, мне нравится. Но при этом других осуждаешь — и меня в первую очередь.
Кныш понял ее укор. Дескать, изображает из себя простачка, а на самом деле барин. Она шутила. Она знала, что это не так.
В теплом помещении, под музыку Вивальди он расслабился, с каким-то слезливым умилением вспомнил: как же давно он не хаживал в рестораны. И вот довелось — да еще с кем! С рыжей принцессой, чей поцелуй уже несколько часов горел у него на губах. В своих прежних странствиях он и помыслить не мог, что встретит такую женщину. Он думал, что таких женщин не бывает. С кем ее можно сравнить отдаленно, так это с Ганночкой Мирошниченко, молоденькой медсестричкой, с которой у него был короткий — с неделю, — но бурный роман. Они познакомились, когда Кныш отлеживался в лазарете, в Моздоке, и расстались после его выписки, другого и не было уговора. Между ними вообще не было никакого уговора. Да что там, за все время Ганночка не обронила и десяти слов, только делала уколы, перевязки и взглядом печальных, бездонных глаз сулила ему вечное наслаждение. Кульминацией романа было прощальное совокупление под танковой броней, где, кажется, не поместился бы и ребенок, но они оба втиснулись и с такой страстью ублажали друг дружку, что, когда все кончилось, могучий танк раскачивался из стороны в сторону, как пьяный. Будто у рыжей принцессы, у безответной медсестры светились в глазах иные таинственные миры…
Похоже, Таина догадалась, что он вспомнил о чем-то заветном.
— Володечка, ты никогда ничего о себе не рассказываешь, скажи хотя бы, сколько тебе лет? Тридцать пять? Сорок?
Он взглянул на нее с удивлением.
— С чего ты взяла? Двадцать шесть.
У девушки округлились глаза.
— Врешь?
— Ничего не вру. А тебе сколько? Сорок? Пятьдесят?
Таина не обратила внимания на колкость.
— У нас всего два года разницы… И кто ты по званию?
— Капитан.
— Это считается, хорошая карьера?
Он попытался понять, в чем подвох, но ничего в ее глазах не обнаружил, кроме наивного любопытства.
— Теперь в армии хороших карьер не бывает.
— Почему?
— Я же не спрашиваю, почему ты крыс ловишь, вместо того, чтобы детей рожать.
— Да, — важно согласилась атаманша. — Ты прав, Володечка. У всех наших бед ноги из одной задницы растут.
Официант принес заказ — мясо в горшочках, салаты, бутылку красного вина и коньяк в хрустальном графинчике. Молодой парень в нарядной курточке, с чистым бесхитростным лицом, неуместным в вертепе.
— Что-нибудь еще, господа?
— Пока ничего, — Кныш уже огляделся и пришел к выводу, что место для трапезы они выбрали не слишком удачное. Большинство столов пустуют, зато за остальными сплошь отборное жулье: мужики парами, тройками, сосут водочку, шушукаются. Женщин — ни одной. Никто не ше-буршится — и пьяных нет. Значит, угодили в один из тех притонов, где собираются деловые, чтобы в затишке обсудить свои проблемы, которые в этих кругах, как известно, сводятся к одной — кого следующего придавить.
Принцесса привычно угадала направление его мыслей.
— Ничего, мы же только покушаем — и айда. Мясо вку-усное, ешь.
Она уже уплетала за обе щеки и бокал вина осушила в одиночку. Потом вдруг предложила тост:
— Давай выпьем, чтобы тебе опять стать молодым, Володечка.
Он поднял рюмку с коньяком.
— Тебе-то зачем это надо?
— Ты что же, совсем слепой?
Знакомое пламя в очах, приоткрытые в загадочной улыбке пухлые губы — и Кныш с ужасом почувствовал, что порозовел. Чокнулся с ней, выпил, уткнулся в тарелку. Мясо действительно таяло во рту — острое, в меру прожаренное. Так и расправился со своей порцией, не поднимая глаз, правда, сдобрил еду рюмкой коньяка. Услышал спокойный вопрос:
— Почему ты боишься меня, капитан?
Кныш не стал делать вид, что не понял.
— Нет мотивов, — сказал он. — У тебя нет мотивов, чтобы свирепствовать. В рынок вписалась, телевидение и прочее. Что надо, у тебя по жизни есть, а ты все равно ищешь приключений. Это ненормально. Если тебя кто-то обидел, то уж никак не Иноземцев.
— Разговорился, — удовлетворенно заметила принцесса, глядя на него сквозь сигаретный дым. — Но ты же хочешь меня, почему бы в этом не признаться?
— Как женщину, да. Как человека, нет.
— Объясни, в чем разница?
— Женщина — это физиология, человек — это навсегда.
— Ого! — За все месяцы их знакомства он всего раз, может, два видел вот такую ее улыбку — детскую, восхищенную, без дури, без обмана — и разомлел окончательно. — Ты прямо философ, капитан. А хочешь, правду скажу?
— Давай, если сумеешь.
— Только не смейся, ладно?
— Когда это я смеялся?
— Однажды, много лет назад я познакомилась с чудесным мальчиком… в метро. Он был ясновидящий или прорицатель. Я в него сразу влюбилась и дала ему телефон. Но он не позвонил. Обещал, но не позвонил. Не знаю почему. А я ждала. Каждый день ждала его звонка, семь, нет, восемь лет подряд. Можешь ты такое представить?
— Почему нет, бывает, — глубокомысленно кивнул Кныш, вызвав у нее этим замечанием нервный смешок.
— Спроси, когда я перестала ждать?
— Когда?
— Когда увидела тебя на рынке, как ты от азеров отбивался. Я бы раньше тебе сказала, но сама только вчера поняла. Проснулась утром, подсчитала: точно. С того самого дня не жду больше ничьего звонка. Свобода, капитан.
— Что же из этого следует? — насупился Кныш.
— Теперь только без дураков… Ты любил кого-нибудь? Честно.
Кныш напряг память, попытался вспомнить — и вдруг загорелся.
— Тина, а ведь было дело… Тоже давно, летом. С молодой ведьмочкой спутался… Чудно, да? У тебя колдун, у меня — ведьма. Выходит, мы стоим друг друга?
— Еще как стоим, Володя!
На минуту они словно выпали из душного, пронизанного музыкой зала, очарованно сплетясь взглядами. Стол покачнулся, и Кныш придержал его рукой.
Договорить им не дали. Подошел высокий, прилично одетый господин с утомленным лицом морфиниста. Вежливо обратился к Кнышу:
— Вы не могли бы уделить мне минутку, молодой человек?
Кныш, погруженный в романтическое раздумье, все же заметил, откуда его принесло — из-за дальнего стола, за которым расположились четверо мужчин средних лет. Среди них выделялся один бритоголовый, с резкими, как у покойника, чертами лица.
Таина капризно протянула:
— Еще чего! Не ходи никуда, Володечка.
Однако Кныш, встретясь глазами с незнакомцем, решил, что приличия требуют откликнуться на приглашение. Поднялся — и они отошли к бару, уселись на высокие кожаные седалища.
— Две порции виски, — распорядился господин, не спрашивая согласия Кныша. Бармен с эфиопской внешностью азартно зазвенел склянками, разбавил виски содовой, бросил в стаканы кубики льда. Все как на Западе.
— Слушаю вас, — сказал Кныш.
— Видите ли, — морфинист как бы немного смущался, — хозяин заинтересовался вашей дамой.
— С бритой черепушкой? — уточнил Кныш.
— Он самый.
— Это его заведение?
— Можно сказать и так… Еще раз извините, она кем вам приходится?
— А в чем, собственно, дело?
— Нет, нет, — заспешил господин, прикуривая. — Не подумайте ничего плохого. Мы не бандиты. Просто ваша дама напомнила Гаграму Осиповичу одну особу, к которой он был долгое время привязан, то есть покровительствовал ей.
— И что дальше? — к виски Кныш не притронулся.
— Его пассия месяц назад погибла в автомобильной катастрофе.
— Передайте мои соболезнования.
— Непременно… Так вот, хозяин послал узнать, не может ли он ангажировать вашу даму на сегодняшний вечер. За хорошее вознаграждение, разумеется.
— Ничего не выйдет, — огорчил просителя Кныш. — Я бы рад угодить, но она не послушается. Дама самостоятельная.
— Не понял?
— Чего тут понимать? Пошлет меня на хрен — и точка. В настоящий период она этим не занимается.
В глазах морфиниста мелькнула еле заметная усмешка.
— Нет так нет. Гаграм Осипович не настаивает. Вы первый раз в наших краях?
— Я вообще в Москве проездом.
— Тогда позвольте вас просветить. В Москве больше нет женщин, которые этим не занимаются. Во всяком случае среди тех, кто заглядывает в подобные клубы. Вопрос всегда в цене. Гаграм Осипович, уверяю вас, очень щедрый человек, когда речь идет о его прихотях. С другой стороны, он не любит, когда ему отказывают. Особенно на его территории. Вы понимаете, что я имею в виду?
— Конечно, — Кныш потупился. — Мне-то не жалко, я передам. Но думаю, бесполезно. Говорю же, дама с норовом.
— Тем более, — господин улыбался проникновенно и печально. — Та особа, которая угодила под машину, тоже любила выкидывать разные фортели. Увы!
— Сделаю все, что смогу, — пообещал Кныш.
Озадаченный, вернулся к Тайне.
— Надо смываться, пока целы.
_ Что?
— Ты такая красивая, опасно с тобой появляться на людях.
_Что?
— Нечего хихикать. Здешний пахан на тебя глаз положил.
— Я заметила… Ревнуешь?
— Ну почему… Хорошие бабки предлагает.
— Да он и с виду неплох. Такой курчавый весь.
— Знаешь, как его зовут? Гаграм Осипович!
— Это финиш. Если Гаграм Осипович, то это финиш.
Ее искристый смех коснулся его глаз, и Кныш почувствовал, что и сам расплывается в какой-то дурацкой ухмылке. Он уже понял, что этот день один из главных в его жизни, и сколько лет ему ни пофартит прожить, таким и останется. Как луч света в темном царстве.
Приблизился юноша-официант.
— Что-нибудь еще, господа?
— Мороженое и кофе, — сказала Таина.
Кныш добавил:
— Я оставлю деньги на столе.
Официант едва заметно покосился на дальний стол: похоже, был в курсе происходящего.
— У вас есть запасной выход? — спросил Кныш.
Парень ответил тихо, почти не шевеля губами и повернувшись спиной к залу:
— На второй этаж — там возле грузового лифта лесенка вниз. Белая дверь. Ее надо посильнее толкнуть. Попадете в переулок.
— Я тебя не забуду, генацвале.
Кныш подумал, что, может, вернее было бы вызвать подмогу из «Кентавра», не рыпаться в одиночку. За это время он оформил в свою фирму четверых ребятишек. Братья по прежним походам.
— Да ладно тебе, Володя, — укорила Таина. — Сами, что ли, не оторвемся?
К тому, что она читала его мысли, он успел привыкнуть, но его смущала ее неженская лихость. Она так и искала повода пустить в ход свой безотказный «вальтер». Это ведь тоже признак безумия, хотя и объяснимого. В перекроенном под американскую копирку мире выживал либо тот, кто наглухо притаился под камушком, либо у кого мозги набекрень.
Официант принес мороженое, кофе. Ставя на стол, наклонился, пробормотал:
— Вам лучше поторопиться, господа.
Таина поковырялась в вазочке, с серебряной ложечки слизнула сливочную прохладу. Отпила кофе.
— Иди первая, — сказал Кныш. — Жди у белой двери. Но на улицу не лезь.
— Не засланный ли казачок? — выказала сомнение Таина, имея в виду официанта.
— Нет, он их ненавидит.
— Психолог, — улыбнулась принцесса. — Прямо растешь в моих глазах.
Поднялась на ноги — высока, я, стройная, с летящим телом, с огненными вихрами. На прощание игриво запечатлела палец на его губах, оставя крохотное желанное пятнышко. Беззаботно прошагала через зал, соблазнительная, как сто тысяч вакханок. Как тут не обалдеть пожилому пахану, если он вдобавок в трауре?
Кныш выждал минуту, стукнул себя кулаком по лбу. Проходя мимо бара, громко бросил бармену-эфиопу:
— Набулькай пару фирменных, старина. Чтобы продрало.
На стол с бритым Гаграмом даже не покосился.
Лестница на второй этаж — вот она, рядом с игровыми автоматами. Покрытая красным ковром. По бокам два ряженых гренадера с бердышами, в киверах. Шик и блеск. На Кныша гренадеры внимания не обратили.
От лифта на втором этаже, как и обещал официант, узкая пожарная лестница вниз — уже без ковров. По ней Кныш скатился кубарем. Белая дверь на месте, но принцесса исчезла. Он не успел удивиться, вынырнула откуда-то сзади, ткнула пальчиком в бок.
— Вы арестованы, сударь!
Поймал ее в охапку, прижал к себе. Таина не вырывалась. Так бы и стоять здесь целый век.
— Что же это такое, — вслух задумалась принцесса. — Моя дубленка, твоя куртка — так и останутся в гардеробе?
Он ее отпустил.
— Завтра пришлю кого-нибудь за ними. Ты готова?
— К чему, сынок?
Дверь поддалась его усилиям не сразу, но поддалась. Открылся темный переулок — с единственным фонарем на углу дома. Туда им и нужно. Знать бы еще, где машина. Об этом он вспомнил только сейчас. Может, и «скорпию» оставить пахану в залог? Ну нет, это уж слишком.
— Пушка с тобой, Тин?
— Попрошу без хамства.
— Держи наготове — и стой здесь. Я сбегаю за машиной.
— Слушаюсь, генерал.
— Зря веселишься. Эти ребята обычно не шутят.
— Володя!
— А?
— Поцелуй меня.
Вытянула губы проказница, хохочет. Чертовщина какая-то! Погрозил ей пальцем, скользнул в переулок. Через секунду очутился на освещенной площадке перед входом в клуб. Через двойные стеклянные двери разглядел тщедушную фигурку паренька, разгонщика машин, поманил к себе. Пока вроде ничего угрожающего вокруг, никаких посторонних. Кныш подумал, что, может, они вообще напрасно страхуются. Может, Гаграм Осипович — добрейшей души человек, одурманенный сентиментальной думкой о погибшей возлюбленной. Всякие бывают чудеса на свете.
Паренек выскочил на крыльцо — ошарашенный.
— Веди к машине, быстро, — распорядился Кныш.
— Но как же… вы же…
— Некогда сопли жевать, поворачивайся!
— Как угодно, господин, но…
Для вразумления Кныш слегка ткнул ему в печень согнутым пальцем — и паренек, понятливо тряхнув головой, засеменил по ступенькам. Кныш — за ним. Стоянка оказалась аж в конце дома на другой стороне улицы, огороженная забором, со сторожевой будкой у входа. Из этой будки навстречу им уже спешил бычара в зимнем десантном обмундировании, прижимая к уху мобильную трубку.
Кныш не стал ждать, чего ему там напоют. Едва поравнялись, сбил охранника с ног подсечкой, что сделать было совсем не трудно, потому что тот не приготовился к нападению, он еще только получал инструкцию. Вдогонку двумя ударами каблуком по черепушке отключил его часа на полтора. Сдернул с его плеча короткоствольный «АК-17» — надежная боевая машинка. Из будки еще двое бойцов спрыгнули на снег, но и тут Кныш не дал маху. Не медля открыл огонь на поражение, но лупил по ногам. Не из жалости, какая, к черту, жалость, на кону не деньги — свобода, бля! Принцесса мерзнет в дверях, на охране супержилеты, их по тулову не завалишь.
— Дяденька! — жалобно возопил паренек под боком. — Ты чего, дяденька?!
— Учебные стрельбы, — ответил Кныш. — Полминуты, чтобы тачку подогнать. Иначе и тебе хана.
Служка нырнул на стоянку, как пушинка с ладони. Кныш подошел к ворочающимся на снегу двум тушам, забрал у них оружие, отвернул к забору.
— Извините, ребята. Вы тут ни при чем. Оклемаетесь, даст Бог.
Один из охранников, уцепясь ладонями за перебитое колено, пообещал:
— Ну ты, гад, считай уже покойник.
— На твоем месте я бы тоже так сказал, — похвалил его Кныш. В принципе ему все это нравилось — ночная пальба, схватка на снегу, — какие-то воспоминания нахлынули, лишь одного он не понимал: зачем он здесь оказался? Что же все-таки за дрянной характер у этой девчонки?
Он внимательно следил, чтобы посыльный не махнул от страха через забор, но тому это не пришло в голову — или не решился. Через минуту, как было велено, подогнал «скорпию» к воротам. Но выходить почему-то не спешил. Пришлось Кнышу выдернуть его из-за баранки за шиворот. У него тоже попросил прощения.
— Так обстоятельства сложились, брат. Все претензии к Гаграму Осиповичу.
Еще через минуту принял на борт рыжую принцессу. Но уходили шумно. Сначала он сунулся в переулок, но уткнулся в тупик. Кое-как развернулся на скорости, на форсаже промчался мимо парадного подъезда «Сазерленда», а там целая рать стрелков — и уже начали перегораживать улицу двумя микроавтобусами, но не успели. В узкую щель, ободрав бока, Кныш вырвался на волю, осыпанный вдогонку роем железных стрекоз. Дырок наделали в корпусе, как в сите, — чудом не задели седоков. Принцесса хохотала, как полоумная.
— И главное — из-за чего? — огорченно заметил Кныш. — Кому-то твоя задница приглянулась!
— Фу, как пошло, — важно отозвалась принцесса. — Почему именно задница? Почему не весь прелестный облик?
Когда запутали следы и сами, кажется, заблудились, Кныш спросил:
— Куда теперь?
— Поехали к тебе, Володечка.
— Зачем? — не понял Кныш.
— Когда приедем, я тебе расскажу, — ответила принцесса.
ГЛАВА 4
Рашид-борец утратил душевный покой. В своей жизни он достиг всего, на что может рассчитывать сильный человек, рожденный повелевать, много одержал блестящих побед, никогда не уступал врагу, на долгом пути иногда терпел поражения, но такого не бывало, чтобы его провели на мякине, как воробышка.
Третьего дня позвонил непутевый племянник Арчи, из-за которого весь сыр-бор разгорелся, нес околесицу, извинялся. Рашид-борец был в благодушном настроении, пошутил:
— Почему у тебя голос как из ваты? Тебя опять похитили, малыш?
Племянник ответил наконец членораздельно:
— Один хороший человек хочет с вами встретиться, дядюшка, чтобы никто не знал.
— Кто такой?
Опять Арчи начал хмыкать, мыкать — и Рашид понял, что мальчик не хочет по телефону называть имен. Это было странно. Если в чем можно упрекнуть племянника, то уж никак не в излишней осторожности. Рашид-борец подумал, что, наверное, тот человек, о котором мальчик хлопочет, стоит у него за спиной. Интересно, кто мог так запугать Арслана, что у него язык еле ворочался?
— Привози сюда своего человека, а? На Фрунзенскую.
— Нельзя, дядюшка Рашид. В другом месте лучше встретиться.
— Где — в другом?
— Он говорит, в «Президент-отеле», ата. Он подойдет, если вы приедете один.
— Ты много выпил, Арчи?
— Совсем не пил, только две бутылки вина.
— Скажи хорошему человеку, буду через два часа.
Когда увидел, кто искал с ним встречи, мгновенно все понял. Каха Эквадор, снайпер века, кунак покойного Тагира. Пока тот приближался, неумолимый и грозный, как меч Аллаха, сто разных мыслей пронеслось в голове Рашида, и среди них была такая: сразу будет стрелять или потом?
Прежде Рашид-борец не имел с Кахой дел и не пользовался его услугами, но, разумеется, хорошо представлял, на что способен этот человек. Больше того, если толковать вопрос в философском смысле, они с Кахой были одной крови, как все воины на земле во все времена. Но Рашид-борец постарел, обрюзг, давным-давно и успешно занимался бизнесом, и теперь воевал только в случае крайней необходимости, а Каха Эквадор, серый волк предгорий, навсегда остался на том пути, где истину добывают кинжалом, а не размышлением. Поэтому неожиданная встреча была для Рашида, мягко говоря, нежелательной.
Каха издали дружелюбно развел руки с открытыми ладонями, показывая, что у него нет дурных намерений, и Рашид-борец почувствовал облегчение, сравнимое с тем, какое испытывает человек, удачно приземлившийся с нераскрыв-шимся парашютом. Они обнялись, не обращая внимания на гомонивший вокруг бестолковый столичный люд. От их соприкосновения по паркету рассыпались белые искры, как при соединении двух оголенных электрических проводов.
Отстранясь и приветливо глядя в жуткие глаза снайпера, Рашид-борец мягко укорил:
— Зачем такие хитрости, Каха? Разве мы чужие? Почему не приехал прямо ко мне?
— Значит, не мог, бек. Наверное, догадываешься — почему.
Рашид-борец, конечно, догадывался, но сделал недоуменное лицо.
— Объясни, буду знать.
— Лучше не здесь… Давай спустимся вниз, там есть тихое местечко.
— Давай спустимся, — согласился Рашид, которого немного смущала спортивная сумка с раздутым брюхом, висящая у Кахи на боку. Что в ней могло быть?
Каха привел его в маленький бар, где, кроме стойки с накрашенной девкой-барменшей и нескольких пластиковых столиков с хрустальными пепельницами, никого и ничего не было. Со стен стекала негромкая музыка. Действительно, удобное место для беседы.
Каха по обязанности младшего по возрасту принес от стойки тарелку с солеными орешками и две круж-ки пива. Рашид слышал, как он обменялся любезностями с накрашенной девкой, будто со старой знакомой, и это было непонятно. Неужто Каха изменил своим привычкам и остановился в этой мышеловке, контролируемой кем угодно, но только не братьями по вере? Обычно, наезжая на Москву, и это все знали, Каха кочевал с квартиры на квартиру, нигде не задерживаясь дольше, чем на сутки, и это было разумно. Еще шесть лет назад за его голову гяуры объявили награду в сто тысяч долларов, деньги немалые. Кто поручится, что даже среди соплеменников, особенно среди тех, кто долго ошивался в Москве и пропитался ее гнилью, не найдется продажная, алчная сволочь… да и личных врагов у Кахи немало, затаившихся, опасных… Кажется, «Президент-отель» совсем не то место, где Каха мог беспечно расхаживать, как по родному аулу.
— Напомни, брат, — лучезарно улыбнулся Рашид, — когда мы виделись в последний раз?
— Три года назад… В Махачкале.
— Да, верно… На съезде старейшин… Ты был в черкеске с голубыми галунами… Помню, Каха. Три года, а будто целая жизнь прошла. Столько ужасных потерь… Но ты все такой же, молодой, сильный, неукротимый. Это прекрасно.
Каха едва заметно поморщился, поднося кружку к губам. Он не улыбался. И сумку не снял с плеча.
— Извини, досточтимый бек, у нас не так много времени…
— Слушаю тебя, сынок.
Каха в задумчивости пожевал яркими губами, подыскивая слова, чтобы начать разговор, что было на него не похоже. Он и сам это понял и рубанул напрямик:
— Ты наказал Черного Тагира, бек… — Рашид-борец протестующе поднял руку, но Каха спокойно продолжал: — Нет, нет, я не имею к тебе претензий. Тагир не мой родич, хотя у нас были общие дела. Он остался мне должен… Мы были, как у вас говорят, партнерами.
— Хочешь, чтобы я уплатил его долг? — высказал предположение Рашид, надеясь, что этим все и кончится. Заплатить Кахе он готов был немедленно — и по многим причинам.
— Пей пиво, ата, — усмехнулся снайпер. — Вкусное, английское. Я раньше пил немецкое, теперь пью английское. У них вода лучше… Тагир должен мне не деньги.
— Что же тогда?
— Он всегда играл две игры, и одну игру играл против меня. Я хотел забрать его жизнь, но ты опередил меня.
— Вон как. Прости, я не знал.
— Тагир всех обманывал, он был предатель. У него денег полные штаны, а его земляки помирают от голода. Он был плохой человек. Только одного из всех нас он никогда не подводил, это тебя, ата. Он тебя уважал. Поэтому я удивился, когда узнал, что ты его наказал Рашид-борец нахмурился, почувствовав в словах абрека насмешку.
— Это пустые слова, Каха-джан, если ты не можешь доказать.
— Конечно, могу, — грозный абрек чему-то радовался, но за хитрыми движениями его ума трудно уследить. Однако, подумал Рашид, ты ошибаешься, парень, если хочешь со мной шутки шутить. Еще не родился человек, которому это сойдет с рук. Вслух пробурчал:
— Докажи, пожалуйста.
— Я понимаю, тебе обидно слышать такое, — сочувственно заметил Каха. — Не принимай близко к сердцу. Самый лучший охотник иногда стреляет в молоко. Мудр лишь тот, кто вовремя признает свои ошибки.
Рашид-борец побледнел: давным-давно никто не смел читать ему поучения.
— Что ты хочешь, Каха?
— Немного денег за услугу. Деньги нужны не мне, братьям в горах, — угольные глаза абрека словно задымились. — Вы все, ата, богатые московские бизнесмены, иногда забываете о своих братьях, которые воюют за вашу свободу.
Огромным усилием воли Рашид подавил подступающий к горлу гнев.
— За что я должен платить?
Оглянувшись по сторонам — в баре появилось еще двое мужчин, но они пили водку за стойкой, — Каха поставил на стол свою сумку, расстегнул лямки, хрустнул молнией — и выложил перед Рашидом матерчатый сверток. Продолжая загадочно улыбаться, распутал узел — и на пластиковую поверхность вынырнула человеческая голова — с выпученными в последнем крике безумными очами, с окровавленными, почерневшими тесемками кожи, свисающими с неровного среза.
— Ну и что? — спокойно спросил Рашид.
— Погляди внимательно, досточтимый.
Рашид вдруг прозрел: это же старый колдун, к которому он недавно наведывался. Лукавый дед открыл ему, где находится племянник. И предупредил о приходе синего человека с дурным известием. Рашид-борец запомнил озорную белую прядку на лбу, сейчас похожую на приклеенное птичье перо.
— Каха, зачем ты убил старика? Он тебе мешал?
— Нет, не мешал. Я хотел узнать, на кого он работает.
— Убери, — брезгливо сказал Рашид. — Люди смотрят, нехорошо. Тут кушают, пьют. Надо иметь уважение, Каха.
Джигит завязал мертвую голову в узелок и спрятал в сумку.
Рашид-борец внезапно почувствовал острую жажду и отпил сразу полкружки пива. Он не очень удивился бы, если бы Каха достал из сумки голову Арчи. Его гнев утих, но сердце ныло.
— Я сразу понял, что тебя обманули, — Каха потер висок рукой с короткими, толстыми, будто обрубленными пальцами. — Но за Тагира кто-то должен ответить, да? Я выследил этих собак. Колдун один из них. Остальных я тоже знаю, но пока не трогал. Я подумал, ты сам захочешь с ними поговорить. Они посмеялись над тобой, досточтимый, и, наверное, до сих пор смеются. Русские свиньи очень смешливые, пока их не посадишь на кол.
— У меня есть пленка… Тагир нанял кого-то, чтобы меня убить.
— Пленка есть у всех, — согласился Каха. — Но на пленках нет правды. Пленка — это наживка, блесна. Ты тоже можешь сделать такую пленку, если захочешь.
— Я не смогу, — Рашид возражал ехидному абреку по инерции, он ему уже поверил. Все это походило на бред, но, увы, не было бредом. Каха был не из тех, кто унижает себя ложью. Боевые уловки — совсем другое дело. Конечно, Каха мог ошибаться, но чутье подсказывало Рашиду, что его провели — подло, нагло. Перед глазами возник русоволосый парнишка в синей рубахе, какой-то весь побитый, одноглазый — ну как можно было довериться такому? У него все было написано на поганой слащавой морде. Кто-то наслал на Рашида морок, может быть, вот этот старый колдун, чья отрубленная башка в сумке у доблестного Кахи.
Судорога бешенства, как укол, пронизала его от затылка до копчика.
— Отдай мне их, Каха. Я заплачу.
Каха видел, в каком он состоянии, но еще добавил перчика:
— Сейчас будешь улыбаться, ата, но у них главарь — женщина. Рыжая, красивая блядь. На, посмотри.
Протянул цветную фотографию, на которой молодая красотка с распущенными огненными волосами стояла в изящной позе у входа в магазин «Саламандра». У Рашида защемило в груди. Что-то знакомое померещилось ему.
— Кто такая?
— Не поверишь, ата. Она с телевидения. Кривляется на экране и плюется ядом. Съедобная штучка, да? Я хотел просто подарить ее тебе, но братьям нужно оружие.
— Врешь!
Абрек мгновенно изменился в лице.
— Не говори, пожалуйста, так… Я уважаю твои седины и твою славу, но со мной нельзя так говорить.
— Сорвалось, прости… Но сам подумай. Телевидение. Я знаю девочек с телевидения. Помочиться — и забыть. Они не способны на такое.
— Говорил тебе, будешь улыбаться…
У Рашида-борца осталось много вопросов, но он задал только один:
— Почему ты пришел с этим ко мне?
В ответ услышал убедительное:
— К кому еще идти?
На том, в сущности, и расстались. Голову старика, которую насуливал Каха в подарок, Рашид-борец не взял, и сумму проплаты за ценные сведения конкретно не обговорили. Рашид сказал, что, если все подтвердится, Каха в обиде не будет.
— Подтвердиться не может, — загадочно возразил Каха. — Тагира обратно не вернешь.
И сейчас, три дня спустя, Рашид-борец пребывал в душевном разладе. Он так и не решил, что ему делать. Тагира, действительно, не вернешь, но такие люди, как он, не уходят из жизни бесследно. Это не какой-нибудь московский барыга-предприниматель, которых можно истреблять десятками и сотнями без всяких последствий. Черный Тагир был большой человек — и у него остались родичи, которые постараются отомстить. К этому Рашид-борец, конечно, был готов с самого начала, и этого не боялся, знал свою силу; но Кахино появление все перевернуло с ног на голову. Выходит, Тагир — невинная жертва чьих-то мерзких козней, и даже не чьих-то, а смазливой сучки с экрана. Получается, какая-то кукушка нагрела его на половину «лимона» — и как с ней теперь? По-тихому придавить — неубедительно, никто не поймет. Устроить показательную казнь — позорно, все равно, что испачкаться в дерьме. С одной стороны — она и ее поделыцики, полулюди-полузверьки, без роду, без племени, с пузырями американской жвачки на губах, поколение россиянчиков, выбравшее пепси, вроде того одноглазого вошика… И с другой стороны, он, Рашид-борец-Бен-оглы, признанный мировой авторитет, глашатай справедливости, чья слава шагнула далеко за пределы родного дома. Да что там родного дома, еще немного усилий, еще год, два, три — и весь мир, признавая в нем хозяина, ляжет к его ногам, как сворачивается на коврике турчанка Зузу, утомленная его могучими ласками. Как совместить каменную гору и зеленую соплю, вылетевшую из ноздри? Как может великан сводить счеты с пигмеями, не умаляя своего человеческого достоинства? Но оставлять мелких пакостников безнаказанными тоже нельзя. К сожалению, он живет в окружении существ, которые судят о величии властелина не только по крупным деяниям, но и по множеству повседневных проявлений, и случается порой, что маленький промах, недосмотр влечет за собой большие неприятности, точно так же как иногда песчинка, сорванная ветром со скалы, вызывает обвал, сметающий с лица земли селения.
Вдобавок — Каха Эквадор. Рашид его понял. Каха отдал ему девку и предлагает сотрудничество, но на том условии, что Рашид-борец переступит через свое самолюбие, лично разберется с московской шпаной — и тем самым частично покается, оправдает жертвенную кровь несчастного Тагира. Другими словами, Рашид должен поклониться Кахе, а это ему не по нутру. Каха — герой, дружбой с героями не бросаются, но ведь вопрос всегда в том, какую цену за нее платить.
Ближе к обеду приехал Арслан, вошел в кабинет боком, согнулся у двери в поклоне, как бедный проситель. Рашид поманил его пальцем, Арчи послушно засеменил по ковру и целомудренно прикоснулся губами к руке влиятельного дядюшки. Это не понравилось Рашиду. Арчи хитрил, он не мог быть таким униженным, а если был, то какой он, к шайтану, племянник? Молча указал ему на стул.
— Ты звал, дядюшка, — смиренно произнес Арслан, — и вот я здесь.
— Пил сегодня?
— Как можно, ата! Всего одну бутылку красного на завтрак.
Рашид, невольно начав улыбаться, смотрел на свежее, красивое лицо непутевого родственника и, как всегда, узнавал черты любимого брата, столь поспешно покинувшего земную обитель, что Рашид считал это постыдным бегством.
— Скажи, Арчи, как ты связался с Кахой? Ты знал его раньше?
— Только понаслышке, как и все.
— Он сам приехал к тебе в офис?
Арслан обескураженно пучил глаза: этот разговор дядюшка начинал заново уже третий день.
— Да, приехал… Хорошо со мной говорил, по-дружески. Попросил, чтобы я устроил встречу, но его имени не называл. Я выполнил его просьбу. Вы осуждаете меня за это?
— Что ты думаешь о Кахе?
Арслан попросил разрешения закурить — и получил его.
— Каха — великий воин, — сказал искренне. — Я ему в подметки не гожусь.
— Ты хотел бы стать таким, как он?
— Каждому свое, — уклонился племянник от прямого ответа. — Отец хотел, чтобы я получил образование… Вы же помните, он хотел, чтобы я стал дипломатом, послом в какой-нибудь стране. Он говорил: времена изменились. Теперь мир завоевывают чековой книжкой, а не кинжалом. Я рос в окружении наставников с французскими именами. А Каха никогда не сворачивал с волчьей тропы. В двенадцать лет зарезал своего первого русака.
— Он сам тебе сказал?
— Об этом все знают.
— Когда тебя похитили, там была женщина?
— Нет, никаких женщин. Почему спросили?
Рашид показал фотографию.
— Вот эту знаешь?
Арслан вгляделся, облизнул губы.
— Красивая… Нет, никогда не видел… Познакомь, дядюшка.
Рашид убрал фотографию, горестно вздохнул. Правильно сказал Каха, мальчик никогда не повзрослеет. На него и сердиться нельзя. Таким уж уродился. Ни в отца, ни в мать — вообще ни в какую родню. И в бизнесе ему, конечно, делать нечего. Однако на днях Рашид-борец все-таки придумал, куда пристроить мальчика, чтобы всем было хорошо. Он и позвал его сегодня, чтобы объявить свое решение.
— Что же, Арчи, пора тебе браться за ум, как думаешь?
— Думаю, пора, дядюшка. Как скажете.
Арслан сидел на стуле, курил, но казалось, опять согнулся в поклоне. Он уже догадался, что грозный дядюшка приготовил какой-то сюрприз — и ничего хорошего не жцал. Но заранее был готов ко всему. С тех пор, как его кинули на солому в сарае, точно он русский раб, а потом освободили, заплатили выкуп, Арслан жил с ощущением вины, мучительным, как непроходящая зубная боль. Лучше перенести любое наказание, чем ловить на себе косые взгляды сородичей и чувствовать глубокое неудовольствие великого человека, к которому он испытывал нечто большее, чем сыновнее почтение. Он отдал бы все на свете, даже свою молодую, цветущую жизнь, лишь бы не видеть на латунном лике, в умных, выпученных, как у краба, глазах печально-ироническую улыбку, с какой рачительный хозяин смотрит на безнадежно потравленную виноградную лозу, еще совсем недавно обещавшую богатый урожай. Арчи часто задумывался, отчего так происходит, что одному человеку, в сущности, невежественному, дикому, не прочитавшему за всю жизнь ни одной книжки, Аллах отпускает столько силы, что люди покорно склоняются перед ним, как перед высшим существом, а другим, может быть, более достойным и утонченным, не дает ничего. В чем причина такого странного выбора, который трудно назвать справедливым? Ответа Арчи не находил — и иногда на него накатывало злое чувство, которого он стыдился: ему хотелось взять в руки шило и выколоть дядюшке глаз — просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
— Скоро выборы в парламент, ты что-нибудь слышал об этом?
Арчи в изумлении поднял брови.
— Слышал, ата, и что из этого?
— Я подумал, почему бы тебе не стать депутатом?
— Мне?
— Да, Арчи, тебе, тебе — и никому другому, — в дядюшкином голосе зазвучали незнакомые торжественные нотки. — Ты сам сказал, времена изменились. И это сущая правда. Не будем обманывать друг друга, к настоящему мужскому делу ты пока непригоден, но заметь, я не виню тебя за это. У тебя нежный, доверчивый характер, что ж, видно, так угодно Пророку. Зато в этом ихнем парламенте ты принесешь много пользы своим близким. Поверь, это не такое уж унизительное занятие. Будешь с важным видом сидеть в кресле, давать интервью журналистам, а когда понадобится… Там уже сегодня много наших, слава царю Борису, а завт-ра будет еще больше. Как ты смотришь на это?
Арслан испытал легкое душевное потрясение, но дядюшке не так уж и требовался его ответ, это была всего лишь учтивая форма наставления. С добродушно-самодовольным видом он нажал кнопку селектора, распорядился:
— Позови Иван Иваныча, Марютка!
Через пару минут в кабинет вкатился большой, грузный черногривый человек лет шестидесяти, обряженный в старорежимный лапсердак сиреневого цвета, бородатый, с острыми маленькими глазками, похожий на выкуренного из берлоги косолапого. Это был знаменитый Иван Иванович Розенталь, главный адвокат компании «Русский лизинг. Любые услуги». Он работал на Рашида Львовича больше десяти лет, и не было такого судебного процесса, который он не выиграл, как не было темного дела, где он не был бы главным закулисным советником. Рашид-борец чрезвычайно им дорожил и платил ему огромный, даже по меркам россиянского бизнеса, гонорар. Накануне они уже обсудили этот вопрос.
— Ванюша-джан, — ласково обратился к нему Рашид, — Сколько нужно времени, чтобы сделать из мальчика депутата?
Адвокат выпучил толстые губы, привычным движением стряхнул с плеча перхоть и озорно подмигнул Арслану, отчего тот почувствовал болезненный приступ тошноты.
— Два месяца, Рашид Львович, не больше. Но смета еще не готова.
— К черту твою смету, Иван. Забирай мальчишку — и все ему растолкуй. Завтра утром жду обоих с докладом… Арчи, малыш, ты вроде чем-то недоволен?
— Почему недоволен, очень доволен, дядюшка. Спасибо большое.
— Ванюшку Розентальчика слушайся во всем, он плохому не научит.
При этих словах волосатый адвокат зычно захохотал — и за руку потянул Арслана из кабинета. Оставшись один, Рашид-борец вольно раскинулся в кресле, расслабился. Тело отдыхало, ум дремал. Не так уж все плохо. Арчи будет сперва депутатом, потом спикером, как блистательный Руслан, потом можно двинуть его в президенты. Постепенно из гадкого утенка вырастет лебедь. И все те, кто сейчас посмеивается над доверчивым мальчиком, станут изо всех сил добиваться его расположения. Разумеется, Арчи понадобится мудрый опекун, чтобы помочь управлять россиянским стадом…
Теплые, приятные мысли убаюкали магната, затуманили усталые очи — и важное решение, как часто с ним бывало, он принял на грани яви и сна…
У Таины — премьера. Первый раз она выходила в прямой эфир со своей собственной пятнадцатиминутной передачей «Новый русский на рандеву». Давно об этом мечтала — и вот сбылось. Полгода пробивала свою идею через всевозможные инстанции, убеждала, уговаривала, рассыпалась мелким бесом, — и наконец случилось чудо. Вернее, просто сложилась благоприятная обстановка. Телевидение на ту пору напоминало кипящий котел, где в мясном бульоне, перед тем, как свариться, сцепились в смертельной схватке головастики всех видов. Атмосфера зеркально отражала то, что происходило во всем российском, самом демократичном в мире обществе, охваченном массовой шизофренией: хаос, взаимное недоверие, борьба всех со всеми — и подспудно — тупое, смутное ожидание скорого апокалипсиса. Среди шальной телевизионной братии первыми, как водится, ломались те, кто неудачно продался, чьи покровители загодя драпанули из России или у чьих роскошных хором уже маячил судебный исполнитель с наручниками. Тех, кто неудачно продался, их более умные коллеги пожирали между утренней рюмкой коньяку и вечерними новостями как бы для разминки, не ощущая вкуса перемалываемых костей; но и среди тех, у кого пока все было в порядке, вряд ли нашелся бы хоть один самый захудалый репортеришка, который в здравом рассудке мог сказать, что он уверен в завтрашнем дне. Даже неприкасаемые, элита из элит, те, кому платили по двадцать, тридцать штук за один выход, после эфира выглядели так, будто вылетели из парной, где их вдобавок прямо в одежде окунули в бассейн. Кроме внутренних разборок (в них так или иначе участвовали все каналы), втягивающих в свой водоворот всех чистых и нечистых, обитателей «Останкино» по-прежнему донимали призраки 93-го года, когда обезумевшая чернь подступила вплотную к родному гнездовью, грозя разнести его по кирпичику своими измазанными в крови и мазуте клешнями. Тогда их спасли от расправы благородные омоновцы, бескорыстные защитники прав человека, но где гарантия, что, повторись история на новом витке, все опять кончится благополучно. Страна уже не та, любимый президент умственно занедужил, да и лихие спецназовцы после чеченской бойни стали как-то недобро, блудливо коситься на независимых журналистов…
Преимущество Таины Букиной было в том, что она не принадлежала ни к какой определенной тусовке. Никто толком не мог сказать, у кого она на содержании. Недавно ее вызвал на собеседование директор информационных программ, некто Туеросов Халим Олегович, личность необыкновенная во всех отношениях. Известен он был прежде всего тем, что сумел продать себя практически всем без исключения враждующим между собой финансовым группировкам и никого ни разу не подвел. При этом продолжал пользоваться полным доверием царской семьи, которой клялся в верности с 91-го года. Сверхъестественную изворотливость Халима Олеговича многие объясняли покровительством высших сил, а именно самого Князя Тьмы, другие намекали на его родственные связи с Папой Римским, но Таина полагала, что причины непотопляемости телемагната заключаются в нем самом, в его фантастическом умении менять взгляды, убеждения и пристрастия не ежеквартально, в зависимости от направления политических ветров, на что способен каждый порядочный демократ, а практически ежечасно, в процессе любого разговора, на глазах у собеседника, причем новым убеждениям Туеросов отдавался с таким восторгом и ликованием, с каким рано созревший юноша впивается в губы своей первой возлюбленной. Как бы то ни было, при любых потрясениях, когда рушились самые прочные репутации, когда пушинкой слетали с плеч забубенные журналистские головы (часто в буквальном смысле), Халим Олегович, пылкий и непреклонный, оставался на самом верху, разве что иногда перемещался с канала на канал, да изредка, раз в год, отбывал в Штаты на очередную стажировку. В последний месяц из Туеросова неожиданно вылупился крутой патриот, который мог дать фору любому. В одном из недавних выступлений Халим Олегович, бешено сверля глазами какого-то приглашенного на передачу замухрышку нацмена, яростно возвестил, что намерен самолично организовать фонд для возведения крепостной стены по всему периметру Северного Кавказа, через который, по его словам, не просочится ни один террорист-инородец. Также он первый на телевидении употребил слово «русский» в нейтральном смысле, без привычного ругательного оттенка (русский фашизм, русская мафия, русские рабы и т. д.), что, однако, далось ему нелегко: после знаковой передачи Халима Олеговича отвезли в загородную резиденцию с сердечным приступом.
Попасть к Туеросову на прием для рядового сотрудника было либо невероятным везением, либо означало конец карьеры. Внешне Халим Олегович не представлял из себя ничего выдающегося: невзрачный пухлый мужичок с козлиной бородкой а-ля дедушка Калинин и с миндалевидными, печальными глазами, как у человека, который вечно удручен неведомым для большинства замогильным знанием. Во время публичных выступлений эти чудесные глаза начинали фосфоресцировать, словно желто-алые угольки из разворошенного пепла. Говорили, что в отношениях с дамами Ту-еросов неукротим, как инквизитор, и не терпит никаких компромиссов. Если на глаза ему попадалась новенькая сотрудница студии не старше семидесяти лет, он попросту хватал ее за волосы и тащил к себе в кабинет. Своей секретарше, привыкшей к его причудам, на ходу бросал всегда одну и ту же фразу: «Надо проверить, какая у ней дикция». Про его любовные подвиги складывали легенды, и обожествлявшие Туеросова телевизионные дивы наградили его ласковыми прозвищами «Гинеколог» и «Сортир-бой». Последнее прозвище было связано с тем, что однажды Халим Олегович погнался по коридору за молоденькой, шустрой практиканткой, а та спряталась от него в туалете, где он и оприходовал ее прямо на толчке, в присутствии знаменитой, всенародно любимой еще с советских времен дикторши Л. С дикторшей случился нервический припадок, и вскоре она подала на Халима Олеговича в суд, требуя возмещения морального убытка. Суд Туеросов выиграл, выступив с блестящей речью, в которой доказал как дважды два, что дело, затеянное против него, является сугубо политическим и инспирировано в недрах либо «Отечества», либо КПРФ. Оказалось, что дикторшу Л. выкинули со студии лет десять назад за связь с гэкачепистами, и на телевидение она проникала, пользуясь поддельным пропуском, лишь для того, чтобы попрошайничать. Несколько раз Халим Олегович из гуманитарного сострадания подкидывал ей мелочишку на пропитание, но предупреждал, чтобы она не шаталась по коридорам со своей коммунячьей рожей, потому что на студию нередко заглядывали иностранцы, а то и представители администрации президента, люди, как известно, чрезвычайно щепетильные в нравственных вопросах. Гнусное обвинение, которое обрушила на него неблагодарная дикторша Л., есть не что иное, как попытка взять идеологический реванш, но, сказал Халим Олегович, он вполне понимает сумеречное состояние умственно неполноценной женщины и не питает к ней зла, лишь просит высокий суд направить ее на лечение в одну из благотворительных психушек. В качестве свидетельницы вызвали практикантку, которая почему-то явилась для дачи показаний в разорванной юбке и с забинтованной головой. Девушка взволнованно, обливаясь слезами, рассказала, что если что-то и было между ней и Халимом Олеговичем, то она этого не помнит, а самого Халима Олеговича почитает выше чем отца родного, и вот эту замечательную юбку со следами любви отныне будет хранить как святую реликвию.
Естественно, суд удовлетворил благородную просьбу телемагната, и безумно хохочущую дикторшу Л. увезли из зала суда в черном воронке, но куда — неизвестно. На другой день демократическая пресса отозвалась на политический процесс восторженными откликами, в которых Туе-росова сравнивали с врагом Карфагена непримиримым Катоном и одновременно с совестью нации, великим чеченским правозащитником Сергеем Ковалевым.
Три года назад, когда Таина только появилась на телевидении, она отделалась от неумолимых ухаживаний «Гинеколога» довольно примитивным трюком: сунула ему заранее приготовленную справку, где было написано, что она с десятилетнего возраста страдает особо острой формой ВИЧ-инфекции. Туеросов в справке усомнился, но все же не рискнул удостовериться. При встречах Халим Олегович всегда ехидно спрашивал: «Думаешь, провела старика, стрекоза?!» На что Таина застенчиво отвечала: «Я не против, господин Туеросов, но поручиться ни за что не могу».
В кабинете у него она очутилась в первый раз. Халим Олегович не предложил ей сесть, несколько минут хмуро ее разглядывал. Потом сказал:
— Ну что, девочка, дать тебе шанс?
Таина зарделась смущенно.
— Век буду благодарна, Халим Олегович.
— При одном условии.
Сияющей улыбкой и выпячиванием груди Таина изобразила полную готовность соответствовать.
— Признайся, справка у тебя липовая?
Девушка покраснела пуще прежнего.
— Откуда же мне знать, Халим Олегович. Диспансер выдал, а уж как они их там шлепают…
— Когда последний раз проверялась?
— В прошлом году.
— Я почему интересуюсь, Букина, как-то чудно получается… Выходит, ты с десяти лет любовью не занималась?
— Я вообще этим не занималась, — Таина стала пунцовая, как роза Каира. — Меня заразили у стоматолога.
Туеросов недоверчиво следил за ее гримасами.
— Хорошо, дам телефон, проверишься у моего специалиста. Не возражаешь?
— Как вам будет угодно.
— Теперь второе. Напомни, кто тебя рекомендовал на студию?
— Господин Хмелевский звонил тогдашнему директору.
— Сам Александр Давыдович?
— Да.
— За что же тебе такая честь?
— Родственные связи, Халим Олегович. Дальние.
— Его ты тоже динамила?
— Если не верите, зачем спрашивать? — слегка надерзила Таина.
Туеросов поманил ее к себе, усадил на колени, потискал груди, ущипнув за сосок.
— Ах, черт! Верно говорят, близок локоть, а не укусишь… Я бы, может, и рискнул, но у меня обязанности — перед семьей, перед государством.
— Очень жаль, — млея, шепнула Таина.
— Ладно, оставим до выяснения… Значит, так, учитывая некоторые обстоятельства, которые тебе знать необязательно, дам тебе пятнадцать минут в прямом эфире. Пойдешь в самостоятельное плавание. Дальнейшее зависит только от тебя. Рада?
— Ой!
— То-то же… Ну-ка, расскажи, что там у тебя намечается в этом «рандеву»?
— Можно я пересяду?
— Что, жжет?
— Еще бы, Халим Олегович!
— Садись вон на тот стул, только не кури.
Таина коротко изложила свой замысел, хотя все было подробно описано в заявках, которые она подавала в дирекцию ежемесячно. Суть передачи «Новый русский на рандеву» заключалась в том, чтобы, избегая голливудских штампов, дать россиянину объективное представление о тех, кто им управляет в новых рыночных условиях. Показать, что это не монстры и не дебилы, как в многочисленных анекдотах, а на самом деле лучшие из лучших граждан обновленной рос-сиянской нации. Для первой живой, летучей бесе-ды она уже наметила троих участников: преуспевающего банкира Арнольда Несмеякина, известного тем, что его банк «Невада» расплачивался с клиентами исключительно облигациями третьего государственного займа, выпущенными при советской власти (ежедневно телевидение показывало толпу возмущенных вкладчиков, митингующих у его дверей и уже совершивших несколько эффектных актов самосожжения); Гария Константиновича Купидонова, крупного чиновника из Госкомимущества, которому приписывали авторство знаменитой байки о процветающем «среднем классе»; и Эльвиру Карловну Финютину, бывшую светскую львицу и законодательницу мод, а ныне хозяйку самого престижного в Москве ночного салона «Невинные малютки», куда можно было попасть лишь по пропуску, подписанному лично генеральным прокурором. По мысли Букиной, непринужденный обмен мнениями по злободневным вопросам между такими замечательными людьми, сопровождаемый (на втором плане) исполнением модных хитов и небольшим, приличным стриптизом, произведет благоприятное впечатление на самую взыскательную публику.
— Может быть, — согласился Туеросов. — Но в чем изюминка этого шоу? В чем его, говоря словами Станиславского, сверхзадача?
— Как же, Халим Олегович, — оживилась Таина, чувствуя, что приближается ее звездный час. — Посудите сами. Несмеякин — гений финансов, мешок с деньгами. Купидонов — государственная мудрость, патриотизм, забота о маленьком человеке. Эльвира Карловна — это красота, духовность, поэзия половых отношений. Все вместе они как бы дают оригинальный срез общества во всем его многоцветий. Новая Россия! Конечно, очень важна атмосфера, форма общения. Острые реплики, шутки, смех — во всем полная раскованность, никаких комплексов. Думаю, у такой передачи есть все шансы сразу очутиться в первой десятке. Попытка ведь не пытка… А уж как я вам буду благодарна, Халим Олегович! Да если бы не СПИД…
— А стриптиз зачем? Шоу вроде бы получается политическое?
— Конечно, политическое. Но без стриптиза обыватель не проглотит.
— Почему? Объясни на милость. Почему у нас в каждой программе обязательно должен бьггь стриптиз? Это не я тебя спрашиваю, Букина, это меня самого недавно в правительстве спросили. Представь себе, я не знал, что ответить.
— Наверное, вы шутите?
— Нет, не шучу.
— Но это же очевидно. Стриптиз — один из символов свободы для россиянина. Как те же заказные убийства. При большевиках ничего этого ведь не было. Секса не было, наркотиков не было. Убил кого-нибудь — ступай в тюрьму. Демократия дала ему все, чего он был принудительно лишен. Естественно, россиянин наверстывает, хочет пожить, как все белые люди. Иногда с перебором, но это пройдет. Главное, насытить первый голод, чтобы он не чувствовал себя обездоленным. Что касается моего шоу, там же не будет порнухи. Отнюдь. На втором плане, как бы в лазоревой дымке, под хитовую музыку, в западном интерьере юные девушки и мальчики красиво, без пошлости, совокупляются… Просто для того, чтобы зритель, приученный к этому фону, не начал щелкать кнопками по другим программам.
— Что-то у меня такое подозрение, Букина, что ты говоришь не совсем то, что думаешь.
— Господь с вами, Халим Олегович, я вообще не думаю. Я же профессионалка.
— Хорошо, ступай, готовь передачу… Но помни: первый блин комом — это не про тебя сказано. Провалишься — пинка под зад, потом не плачь.
— Спасибо, Халим Олегович.
— Возьми телефон. Завтра же сдай анализы.
— Слушаюсь, Халим Олегович.
…И вот настал долгожданный день. Ночевала она у Кныша (пятая ночь подряд!) — и поспала от силы два-три часа, но чувствовала себя превосходно. На студии весь день ловила на себе завистливые взгляды коллег. По этим взглядам, как по открытой книге, читала, кто как к ней относится. Друзей на телевидении она так и не завела: женской половины избегала сама, мужчины давно обходили ее стороной, как прокаженную: редко какой удалец, обыкновенно из новеньких, сунется с заманчивым предложением, получит отлуп — и отвалится, буркнув себе под нос что-нибудь про поганых лесбиянок. Зато была искренне тронута, когда Валерий Дмитриевич, осветитель, ветеран студии, оглянувшись по сторонам, сунул ей в руку букетик невесть откуда взявшихся среди зимы незабудок.
— Не дрейфь, Тинуля, — вяло подбодрил. — У тебя все будет хорошо.
В порыве благодарности Таина притянула его к себе и звонко чмокнула в плешивую голову. Валерий Дмитриевич был один из тех немногих, кто, кажется, догадывался о ее двойной жизни и даже о том, что она меченая.
Режиссер Витя Хабибулин и оператор Жека Сидоркин — оба молодые, крепкоголовые пентюхи — затеяли играть с ней в кошки-мышки, прятались целый день, резвились, как дети, пока Таина не застукала их в монтажной кабинке, где на двери висела лаконичная табличка: «Не входить. Убьет током». Там они освежались «Кристаллом», и каждый держал в руке по огромному гамбургеру. При виде холодного теста, облитого ярко-алым кетчупом, Таину натурально затошнило. Она с утра ничего не ела.
— Мальчики! — взмолилась. — Пожалейте несчастную сироту. Не подведите. Обещаю после передачи каждому по ящику шампанского.
— Коньяку, — воспламенился Жека Сидоркин. Хабибулин, рыжий, как она сама, отозвался мрачно:
— Думай, что говоришь, Букина. Передача моя, а не твоя. Я главный, а не ты. И нечего выпендриваться.
— Миленький, конечно, ты главный, разве кто спорит? Но у меня премьера. Я от волнения ночь не спала.
Хабибулин откусил от гамбургера огромный кусок, измазав рот кетчупом, как кровью. Прошамкал с набитым ртом:
— Про тебя известно, какая ты штучка.
— Какая же?
— Выскочка. Особняком стоишь. Ни с кем, в натуре, не общаешься. Таких нигде не любят.
— Гордая очень, — поддакнул оператор, отхлебнув «Кристалла». — На гордых воду возят.
Таина пригорюнилась.
— Именно, что возят, Жекочка. Запрягли — и возят. А я не хочу. Какая же моя вина? Вы у нас не очень давно, даже не представляете, какие тут плетут интриги. Им человека слопать, все равно, что пирожок проглотить. А у меня на воле поддержки нету, я сама по себе.
— Врешь! — Хабибулин наконец справился с гамбургером и послал вдогонку стопарь беленькой. — С такими данными — и у тебя поддержки нету? Кому вола крутишь?
— В том-то и дело, мальчики, — серьезно ответила Таина, — что западло мне с пузанами в постели валяться.
Парни переглянулись многозначительно.
— Если ты такая честная, — сказал Хабибулин, — может, водочки с нами выпьешь?
— Не вижу связи, — заметила Таина. — Наливай.
Засуетясь, Жека Сидоркин набухал полную чайную чашку, и Таина, не моргнув глазом, ее осушила. Закусила ломтиком соленого огурца. После этого ребята подобрели. Вернее сказать, были немного ошарашены.
— Ладно, — усмехнулся Хабибулин. — Поддержим тебя морально, премьерша. Чего реально хочешь?
Таина объяснила про паузы, про крупные планы, про спецэффекты в нужных местах — и еще всякие мелочи.
— Сечешь, рыжая, — уважительно заметил Хабибулин. — Но признайся, неужго этому бобику Халиму не дала?
— Падлой буду, — поклялась Таина.
— Как же он тебе разрешил передачу?
— Сама не знаю.
— Это бывает, — вступил Жека Сидоркин, все еще с изумлением поглядывающий на опустошенную ею чашку. — На них иногда находит затмение. Помнишь, как к Светке хмырь из «Мост-банка» клеился? Ну и что? Обломилось ему?
— Это совсем другой случай, — сказал Хабибулин. — Не равняй божий дар с яичницей.
— Мальчики, — прервала начавшиеся воспоминания Таина. — У меня к вам еще личная просьба. Возьмите на себя эту сучку Эльвиру. С мужиками я справлюсь, а с ней…
— Кто такая? — насторожился Сидоркин. Хабибулин ему объяснил:
— Элитная. Обслуживает весь бомонд. Самые изысканные утехи. Там у нее ручная шимпанзе минет делает — пять кусков за сеанс.
— Откуда знаешь? — не поверил пораженный Сидоркин.
— Возил раза два Хозяина.
— Мальчики, — вторично вернула их на землю Таина. — Прошу вас. Если она заблажит… Жекочка, ты как раз в ее вкусе — чистенький, беленький, глазенки голубенькие…
— Сколько ей лет?
— Она нормально выглядит, пластику недавно делала.
— Ящик коньяку точно гарантируешь?
— Даже не сомневайся.
Как и предполагала Таина, сразу по прибытии Эльвира Карловна устроила ей нервотрепку. Она привезла с собой личного гримера, сморщенного пожилого дядьку в смешных буклях, похожего на подгнившую еловую шишку на двух тоненьких ножках, который потребовал отдельную комнату с туалетом и с ванной.
— Почему же с ванной? — не поняла Таина. — Вы разве собираетесь мыться?
— А уж вот это, милочка, — одернула ее Эльвира Карловна, — позвольте нам решать самим. Раз Джордж говорит, что ему нужна ванна, значит, вы уж постарайтесь.
Наряженная под юную курсистку, в короткой юбке, с обнаженными толстыми руками, с розовым, словно гуттаперчевым лицом, она выглядела столь внушительно и непреклонно, что у Таины поджилки тряслись. «Ах ты, старая ведьма!» — подумала она с восхищением. Тут же мадам предъявила второе требование: она будет выступать только в маске, как у Познера. Оказывается, ей очень нравилось, когда в его передачах какая-нибудь соплюшка, поведав о себе кучу гадостей и уведомив зрителей, что ей ни в коем случае нельзя показываться людям на глаза, иначе ее убьют (зарежут, поставят на кон и прочее), вдруг эффектно сбрасывала маску.
— Кстати, — обиженно прошепелявила мадам. — Почему я не вижу Володю? Он где?
— В Америке, в гостях у Донахью, — соврала Таина.
— Вот оно что, — с сомнением заметила Эльвира Карловна. — И поэтому вам, милочка, доверили такое ответственное шоу?
— Временно, — Таина начинала злиться, но выручил Жека Сидоркин, не подвел. Появился в нужный момент, галантно поклонился:
— Разрешите, синьора, проводить вас в комнату, где вы сможете отдохнуть. Ваш гример уже там.
— А ты кто? — недоверчиво воззрилась на него Финюти-на. Таина представила Жеку:
— Лучший на студии оператор. Евгений Александрович. Прошу любить и жаловать.
— Что-то больно молоденький. Не намудрил бы чего.
Сидоркин счастливо заухал, сверкнул ослепительной улыбкой.
— Мудрить не обучены, добрая госпожа. Умеем только красивым дамам во всем угождать.
Подхватил ее под руку и увел. Мысленно Таина послала ему воздушный поцелуй.
С банкиром Несмеякиным и госслужащим Купидоновым тоже все было не так просто. Недавно итальянская «Делла-Монстро» привела список самых богатых людей Европы, где эта парочка занимала шестнадцатое и восемнадцатое места; и в сделках с недвижимостью, и в играх с ценными бумагами они держались плотным тандемом, даже беломраморные виллы на Адриатике у них стояли рядом, но сегодня они почему-то решили сделать вид, что незнакомы, церемонно раскланялись, и Купидонов переспросил: «Извините, не расслышал, как вас по имени-отчеству?..» Неуместная конспирация позабавила Таину, но не прибавила уверенности. Еще ее беспокоила охрана банкира, пять человек в наколках, в масках, с автоматами и двумя гранатометами, причем оружие они приводили в боевую готовность при появлении любого нового лица, вплоть до уборщицы тети Насти, делая это со свирепыми гримасами и гортанными окликами. Уговорить Несмеякина, ссылаясь на правила, оставить охрану внизу, в вестибюле, Тайне не удалось. Он поставил ультиматум: или так, или никак. «Вы же знаете, Тусечка, — сообщил ей доверительно, — какая сейчас идет охота на порядочных людей?»
Замминистра Купидонов, похожий, даже в состоянии покоя, на упорно пробивающего земляной пласт крота, интересовался только одним: согласована ли передача с Самим. Таина так и не уяснила, кого он имел в виду, но уверила, что согласована со всеми, включая Господа Бога.
Когда же наконец уселись в креслах в студийном интерьере и пошел сигнал эфира, Таина отбросила все страхи и почувствовала себя так, будто воспарила в небеса. За это ощущение пьяной, немыслимой свободы она и любила свою грязную репортерскую работу. Полчаса промелькнули, словно пробежка лунатика по крышам, она ничего почти не запомнила, кроме кинжального, пафосного телефонного звонка (Клим постарался по ее поручению, родимый!): «За что вы так ненавидите эту страну, господа?!» После этого вопроса Эльвира Карловна сорвала унылую маску с лиловыми разводами и прогудела басом: «Похоже на провокацию, милочка».
В общем, передача прошла гладко и весело. Вопросы Таина задавала незатейливые, с демократическим приятным душком: «Что для вас значат деньги? какой секс вы предпочитаете? можно ли спать спокойно, украв миллион? как вы поступите, если станете президентом? что лучше, быть американской колонией или сидеть в тюрьме?» — и прочее в том же духе. Гости оказались хорошо подкованными собеседниками, отзывчивыми на шутку и острое словцо, и отлично дополняли друг друга. На передаче все как-то даже немного породнились. Банкир Несмеякин вдохновенно рассуждал о финансовых потоках как о кровеносной системе государства, при этом раз пять упомянул про бесплатную столовую для афганских ветеранов, которую он недавно открыл в Химках. Купидонов вслух размышлял о великих достоинствах нынешнего государя, давшего россиянам все, о чем может мечтать человек, вплоть до свободы передвижения, не забыв, естественно, пнуть коммуняк, которые только и мечтают, чтобы отобрать у россиян частную собственность. Мадам Финютина, о чем бы ни шла речь, жеманно вещала, что, по ее глубокому убеждению, мир спасут только красота и духовность, приводя в доказательство тот факт, что в заведении «Невинные малютки» цены на услуги снизились на десять процентов, а это значит, что все больше наших граждан смогут приобщиться к прекрасному. На фоне неутомимо совокупляющихся на заднем плане ангелочков полемика выглядела, наверное, впечатляюще, судя хотя бы по тому, что оператор Жека Сидоркин посередине передачи не выдержал, согнулся от смеха пополам — и кго-то заменил его у камеры.
Участники шоу, как ни странно, остались довольны. Банкир Несмеякин со словами: «Передашь там, кому положено» — сунул Тайне в руку тоненькую пачку долларов и, ни с кем не прощаясь, удалился в сопровождении гранатометчиков. Купидонов отозвал в сторонку и, смущаясь, вручил ей визитку.
— Звони в любое время от часу до двух. Полагаю, домик в деревне тебе не помешает?
— Завтра же позвоню, — пообещала Таина.
Эльвиру Карловну увел к себе в закуток бледный, все еще трясущийся от смеха Жека Сидоркин. Через несколько минут из-за фанерной перегородки донеслись истошные женские вопли: Жека на совесть отрабатывал обещанный коньяк. Итог подвел режиссер Хабибулин:
— Передача первая — она же последняя. Тебе капут, красотка. Водки хочешь?
Таина не успела сообразить, чего хочет, как примчался взъерошенный курьер с золотыми сережками в ушах, по кличке «Вадик — честная давалка», и объявил, что Халим Олегович требует ее к себе немедленно.
— Видишь, — сочувственно заметил Хабибулин, — хорошо хоть ждать не пришлось. Хуже нет, ждать и догонять.
Не похожий сам на себя, с распушенной бороденкой, с адской тьмой в очах, Халим Олегович бегал по кабинету, натыкаясь на мебель, будто сослепу, похожий на Чапаева в знаменитом фильме братьев Васильевых. Успокоился внезапно, колобком закатился в кресло. Выпучил глаза-миндалины на Таину, спросил почти благодушно:
— И чего добилась, девочка? Выставила уважаемых людей полудурками? Или у тебя был замысел пошире?
Таина, не спрашивая разрешения, закурила. Она была готова к увольнению, но не собиралась сдаваться без борьбы.
— А по-моему, неплохо, Халим Олегович. Давайте подождем реакции зрителей.
— Реакция уже была, — Туеросов со значением ткнул пальцем в потолок.
— Неужто оттуда? — поразилась Таина.
— Оттуда, но не те. И знаешь, чем интересовались?
— Размером моего лифчика?
— Не дерзи, Букина. Ты уже доигралась. Просили узнать, чей заказ выполняешь. Но ты этого не скажешь, да?
— Вы же умный человек, Халим Олегович.
— И что дальше?
— Разве вы не чувствуете, что пора менять флаги? Посмотрите, какая-то пустяковая, развлекательная хреновина, причем персонально никого не задевали, а они сразу задергались. Выходит, земля под ними горит.
— Как это — не задевали? Ты дура, Букина, или прикидываешься? Этот говенный банкиришка и тот вонючий приватизатор, по-твоему, чья креатура? Над ними теперь будут потешаться все кому не лень, а на самом деле о ком подумают?
— Но вам же понравилось? — полуутвердительно спросила Таина. Туеросов не выдержал ослепительного сияния ее глаз. Поднялся, сходил к бару, чего-то там выпил, оборо-тясь к ней спиной. Вернулся в кресло.
— Ох, Букина, не по чину берешь, ох, не по чину. Откуда ты такая взялась?
Таина улыбалась застенчиво.
— Посудите сами, Халим Олегович, какая уж такая беда? Ну, выгоните меня. Скажите, не доглядел, а колышек забили. Маленький колышек, авось, пригодится.
Туеросов смотрел обескураженно. Вдруг в печальных глазах мелькнула задорная усмешка.
— Вроде в сговор втягиваешь, а, Букина? Ну и дела. Век живи — век учись.
— Где уж мне, недотепе, — пригорюнилась Таина.
— Ладно, ступай. Завтра решу, что с тобой делать.
Когда уже стояла в дверях, окликнул:
— Специалисту звонила?
— Забегалась, Халим Олегович. С утра позвоню.
Как только очутилась в коридоре, почувствовала лютую скуку. Так и спускалась на лифте с девятого этажа, потупя голову, чтобы не наткнуться взглядом на кого-нибудь из знакомых. Хотелось одного: поскорее добраться до уютной комнаты Кныша, до общаги, где по коридору дети гоняют мяч. Володечка!
По позднему времени на автостоянке было пусто. Ее «скорпию» загораживал белый пикап с урчащим мотором. За баранкой кто-то сидел, но в сумерках через стекло лица не увидать, лишь блуждающая алая точка сигареты указывала, что водила на месте. Согнутым пальцем Таина постучала в окно. Стекло опустилось, высунулась будка кавказской национальности. Добродушно ухмыляющаяся.
— Тэбе чего, красавица?
— Откати, пожалуйста, тачку, я выеду.
— Твой машина, да?
— Ага, мой.
— Где покупала, а? Сколько отдала?
Таина не успела удовлетворить нормальное любопытство горца: задняя дверца пикапа приоткрылась, оттуда вытянулась длинная, как хобот, рука, ухватила девушку за рукав — и как-то ловко, не причинив боли, втащила в салон. От удивления Таина пискнула, как мышка. Дверца захлопнулась.
Рука принадлежала мужчине в кожаной куртке, с невнятным в полутьме лицом. Он забрал у нее сумочку и быстро, умело обшарил ее бока, спину, бедра, разве что не нырнул в заповедное место.
— Что же это такое? — спросила Таина. — Похищение, что ли?
Мужчина ответил надтреснутым, словно простуженным баритоном, без всякого акцента:
— Какая тебе разница, телочка. Сиди тихо — и останешься живой.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА
ГЛАВА 1
Володя Кныш сидел в офисе «Кентавра», а чувствовал себя так, будто очутился на Луне. Или в каком-то другом нездешнем измерении. Это странное чувство преследовало его всю неделю. Изменились очертания предметов, улицы города, лица знакомых людей. Все было то же самое, но узнавалось с трудом. Новое состояние было похоже на предутреннюю дрему, когда отдохнувшее за ночь тело, убаюканное истомными желаниями, сопротивляется возвращению в осточертевшую реальность. Кныш догадывался, что немного спятил. Причина тоже очевидна: рыжая принцесса.
Надо же было прожить двадцать шесть лет, воевать, подыхать в госпиталях, размышлять о смысле жизни, строить наполеоновские планы — и все лишь для того, чтобы однажды раствориться в женском естестве, как в штофе спирта.
Кныш не сомневался, что навалилось то, что люди называют любовью, но не жалел об этом. С его осунувшегося лица не сходила туманная усмешка, отпугивающая прохожих. О рыжей он знал теперь все, что может вообще знать один человек о другом. То есть немного больше, чем о самом себе. Она была существом не от мира сего. Ее земная хрупкость сравнима с зыбкостью вечернего света, и у Кныша замирало сердце при каждом прикосновении к ней. В томительной неге, когда лежали на жестком матрасе, переплетясь руками и ногами, она шепнула: «Как хорошо, как славно, мы можем вместе умереть… А то я все была одна да одна…»
От чудовищной нежности, пребывающей теперь в нем постоянно, он ослабел, поглупел, измучился — и подозревал, что если так пойдет и дальше, то им обоим недолго ждать загаданного принцессой события. Вечером она не пришла, но Кныш обнаружил это только под утро, словно она никуда и не уходила. Обнимал ее во сне, наговаривал какие-то нелепые признания, а когда, наконец, понял, что ее нет, ничуть не обеспокоился. Честно говоря, даже немного обрадовался: пусть отдохнет от него, от его настойчивой силы, от воспаленного дыхания, от ненасытного, не уменьшающегося ни во сне, ни наяву стремления погружаться в сладостную, мягкую, лишающую разума женскую глубину.
Из шизофренического плавания его вывел телефон. Звонил Миша Иваньков, сержант, дежуривший на выходе.
— Командир, к тебе посетитель… Пропустить?
— Кто такой?
— По личному делу говорит.
— Давай.
Задумался об Иванькове. Утром он сидел внизу у пульта или нет? Вот оно — помрачение любовью. Все, что не касалось рыжей, мгновенно улетучивалось из памяти.
Вошел крепкий малый — лет около сорока. В кабинете подуло холодком, как из проруби. Кныш с первого взгляда угадал в пришельце вояку. Да еще, похоже, матерого. Известно, рыбак рыбака видит издалека. Вор — вора. Проститутка — проститутку. Воин — воина.
— Присаживайтесь… Чем могу служить? — любезно улыбнулся гостю. Тот сел на стул, руки безвольно бросил между колен.
— В этой комнате, — характерным жестом очертил круг перед собой, — все чисто?
— Надеюсь… Вы, извините, кто?
— Это как раз неважно. Беда у нас случилась.
— Поможем, — бодро пообещал Кныш. — Расскажите по порядку.
— Таину Михайловну похитили.
Чего-то плохого Кныш ожидал, уж больно обтекаем, опасен гостек, но все равно сразу не врубился.
— Какую Таину Михайловну?
— Рыжую. Подружку вашу.
Кныш, не сводя с посетителя взгляда, поднялся из-за стола, прошел к двери и замкнул ее на ключ. Ключ положил в карман. Он был спокоен, но рубец в животе заныл.
— Теперь так, — сказал невозмутимо. — Сперва скажите, кто вы такой, и покажите документы. Потом продолжим разговор.
— Ух ты, — восхитился гость. — Сурово. Вам какой документ — настоящий или на предьявителя?
Не отвечая, Кныш поочередно набрал три номера Таины: домашний, рабочий и еще один домашний. Дома — глухо, а на работе сказали, что Таину Букину раньше двух не ждут.
— Успокойся, капитан, — подал голос посетитель, с любопытством следивший за его действиями. — Я Тайку знал, когда ты еще по Кандагару за «духами» гонялся.
— Кто ты?
— Тебя интересует звание? Полковник, с вашего разрешения.
— Полковник?.. Тогда я тебе вот что скажу, полковник…
— Нет, — гость наставительно поднял вверх указательный палец. — Лучше я скажу, а ты послушай.
— Хорошо, — мгновенно согласился Кныш.
Сообщение полковника было коротким: принцессу повязали люди Рашида-борца, но куда повезли и с какой целью взяли, он пока не в курсе. После паузы полковник добавил:
— Всегда боялся, что кончится чем-то подобным. Она заигралась.
— Как тебя зовут? — спросил Кныш.
— Александр Иванович. Саша, если угодно.
— Саша, это серьезно?
— Серьезнее не бывает. Если она жива, то не думаю, что это надолго. Сколько у тебя людей?
Кныш прикинул: четверо его парней — плюс Санек с Климом. Боренька, разумеется, не в счет.
— Сколько понадобится, столько и будет. Почему я должен тебе верить?
— Можешь не верить, но спасать Тинку придется. Или нет?
Внезапно Кныш ощутил легкое головокружение, как перед падением с высоты. Скрипнув зубами, опустился в кресло.
— Что с тобой, капитан? Дать водички?
— Она не выдержит, — сказал Кныш. — Пыток не выдержит.
— Не паникуй. К вечеру узнаю, где она. Твое дело — собрать группу. Людьми, к сожалению, помочь не смогу.
— А оружием?
— Это реально. Все зависит от того, куда ее упрятали.
— Работаешь на Рашида?
— Какая разница?
— Есть разница… Почему помогаешь?..
Ледяные глаза полковника потеплели.
— А то не знаешь, капитан.
— Любишь, что ли, ее?
— Любишь — это ты, Кныш. Я жалею. Такие, как Тинка, одна рождается на миллион. Как же ее отдать зверю? Нехорошо. Даже паскудно… Что касается, на кого работаю… Да на того же, на кого и ты, Кныш. Если не забыл, кому присягу давал.
Кныш обдумал его слова, прозвучавшие не слишком естественно, если учитывать остальные обстоятельства.
— Александр Иванович, это все туфта. Я так скажу. Спасем Тинку, и я твой слуга навеки. Тебе буду служить до самой смерти. Что прикажешь, то и сделаю.
Полковник не удивился. Откуда-то, Кныш не заметил, в руках у него появились сигареты и зажигалка.
— Похоже, капитан, по уши влип?
— Смотря что иметь в виду, — глубокомысленно отозвался Кныш.
Когда выехали за окружную, Тайне завязали глаза — и вдобавок что-то вкололи в руку, от чего она сладко уснула. Пробуждение было ужасным. Она корчилась на пластиковых плитках, пытаясь увернуться от стремительных водопадов ледяной воды, обрушившихся со всех сторон. Мелькнула спасительная мысль, что это всего лишь кошмар, но жгучая пена, лед и пламень быстро вернули ей ощущение реальности, предельно отчетливое. Двое или трое бугаев, гогоча и перекликаясь, как в лесу, поливали ее из пожарных брандспойтов, из длинных резиновых кишок с блестящими наконечниками. Голенькая и раскоряченная, распятая мощными струями, она, наверное, представляла собой забавное зрелище и доставила много неподдельной радости весельчакам. Когда же они, наконец, угомонились и отключили шланги, Таина сжалась в комочек, выдувая на пол большие белые пузыри.
— Что, помылась, сучка? Или еще сполоснуть? — услышала озорной оклик, и чей-то голос ответил за нее:
— Хватит, Леха, а то всю кожу сдерем.
Ее подхватили на руки и перенесли, довольно бережно, в какое-то помещение, где бросили на лежак, обитый черной клеенкой. Там она опять попыталась сжаться, но сильные руки раздвинули ее бедра, и жесткая, шершавая, литая пятерня придавила лицо.
— Давай в очередь, братва, — прогремело над ухом. — Не боись, не заразная. Минздрав дает гарантию.
— Пусть Леха начинает, — тоненький, ехидный голосок, — у него еддак железный. Пусть разработает гнездышко.
Пошла потеха, в которой Таина не принимала никакого участия, только подсчитывала про себя: один, два, три, четыре… Кажется, на шестом сбилась — и завыла истошно, дико, как кошка с отдавленными лапами. К этому моменту боли она уже не чувствовала: лишь одно желание — отключиться, отключиться, отключиться… Ей удалось вырубиться, потому что дальше она обнаружила себя лежащей на кровати, по-прежнему голяком, но укрытая тоненьким шерстяным пледом. Пошевелила пальцами — и по телу прокатился колотун, словно сунула руку в розетку.
Напротив на стуле сидел мужчина средних лет, восточной наружности, с тонким, изящно очерченным лицом, с красивыми темно-вишневыми глазами. Встретясь с ней взглядом, сочувственно спросил:
— Плохо тебе, да? А это только начало.
— Кто вы такие? Что вам надо?
Мужчина дурашливо захрюкал.
— Ничего не надо. Будем мучить, пока не подохнешь.
Таина прикрыла глаза. Нет сомнения, это сумасшедший.
Она с ним уже встречалась — давным-давно — и вот опять довелось. Это такой сумасшедший, который в обычной жизни кажется нормальным. Его сумасшествие проявляется только тогда, когда он остается наедине с жертвой и может себе позволить все, что душа пожелает. Их теперь много развелось, иногда они сами не знают, чего хотят. Эти, которые не знают, самые опасные. Крушат все подряд. Таина давно научилась угадывать их по малозаметным, характерным признакам — по ехидной усмешке, по дрожанию век, по заносчивым речам. Наверное, наблюдая, как взрывается жилой дом, или как из рвов крючьями вытаскивают обезображенные тела, или как тают, превращаясь в слюду, голодные детишки, похожие на зверушек неведомой породы, государь и его придворные испытывают жуткий, многократный, коллективный оргазм. С ними со всеми Таина хотела свести счеты, да вот силенок не хватило.
В комнате произошло шевеление, она нехотя открыла глаза. Худенький юноша с бледным лицом наркомана принес поднос с едой, поставил на тумбочку. Таина увидела устремленный на себя какой-то выцветший, старческий взгляд и брезгливо отвернулась. Еще один прокаженный, а ведь совсем ребенок. Лет пятнадцать, не больше.
— Кушать надо, — распорядился мужчина восточного вида. — Помоги ей, Гарик.
Юноша неловко ухватил ее за плечи и попытался прислонить к спинке кровати. Обдал нечистым дыханием.
— Убери лапы, — сказала Таина. — Сама сяду.
Поднос юноша переставил ей на колени. Чашка чая и на блюдечке — кусок черного хлеба, намазанный чем-то желтым.
— Кушай, — поторопил мужчина. — Подкрепляйся. Потом Гарика обслужишь. Ему давно пора.
Таина откусила хлеб — и задохнулась. Желтое — это горчица. Быстро запила теплым несладким чаем.
— Не нравится? — полюбопытствовал мужчина. — Другой еды нету. Кушай, пожалуйста.
Таина переборола тошноту и съела хлеб. Улыбнулась Гарику.
— Что, сынок, хочешь попробовать женского мясца?
Излучение ее страшных глаз подействовало так сильно, что юноша съежился и покрылся розовыми пятнами. Беспомощно обернулся к наставнику.
— Дядюшка Гасан, может быть…
— Ничего не может быть, — нахмурился мужчина. — Сопли не распускай.
— Он прав, — подтвердила Таина. — Настоящий мужчина должен уметь изнасиловать женщину. Не бойся, я помогу.
Скинула плед, заодно и сама поглядела: грудь в укусах и ожогах от сигарет, ниже пупка сплошной синеватый отек. На бедрах неровные полосы запекшейся крови. Картинка не для слабонервных. Но боли по-прежнему не чувствовала.
— Гасан-бек, — заскулил юнец. — Она грязная вся. Ее помыть надо.
— Уже мыли, — загрохотал Гасан, — Не хочешь так, сунь в рот.
Паренек колебался, как стебелек на ветру. Но все же начал расстегивать ремень, стараясь не глядеть на изуродованную девушку. Таина предупредила:
— Моя грязь перейдет в твое сердце, мальчик. Будешь хуже свиньи.
Гасан взбесился мгновенно. Отпихнув замешкавшегося юнца, подскочил и обрушил на рыжие космы железный кулак.
…Очнувшись, увидела над собой сморщенного пожилого человечка, обряженного в черный халат, только что сделавшего ей укол, он сокрушенно покачивал головой, ощупывал живот, крепкими кулачками проминал до кишок.
— Здесь болит? — спросил он, поймав ее оживший взгляд. — А здесь? А здесь?
— Нигде не болит, — уверила Таина. — Вы врач?
— Конечно, врач. А кто же еще?
Таина чуть приподняла голову: в комнате, кроме них, никого не было: ни Гарика, ни Гасана. Возможно, они ей только привиделись.
— Доктор, вы можете сказать, где я?
Старичок, как леший, зыркнул глазами во все стороны. Будь у Таины силы, улыбнулась бы. Очень смешной.
— Так ли уж это важно, девушка? Рассуждая здраво, мы все собрались в одном месте.
— Понимаю… Но меня сюда силком привезли. Чтобы убить.
— Однако в философском смысле…
— Перестаньте меня щупать, — Таина отпихнула его руку, сбросила с живота. — Если вы действительно врач, то должны оказать мне маленькую услугу.
У доктора глазенки опять озорно забегали по стенам, но Таина и без его ужимок не сомневалась, что за ними наблюдают.
— Принесите яду, — попросила она. Леший возмущенно вскинулся:
— Да вы что? В своем уме?
— Вы же давали клятву Гиппократа.
— В клятве, девочка, ничего не сказано про яд.
— Но в ней нет и того, что врач обязан помогать палачам. Как вам не стыдно? Пожилой человек — и чем занимаетесь?
— Меня позвали, чтобы я вас освидетельствовал. Что же тут плохого?
— Ага. Не хотят, чтобы козочка сразу окочурилась. Чтобы ее подольше пытать. У вас есть дети, доктор? Вижу, вижу, есть. Я им всем желаю моей участи. Будь ты проклят, старый дурак, вместе со своими хозяевами.
Пораженный ее вспышкой и яростным блеском глаз, леший открыл рот неизвестно зачем, но в эту минуту в комнате появилось новое действующее лицо: женщина средних лет, с умным, властным лицом, в очках, с элегантной прической. Она сразу напомнила Тайне директора школы, где она когда-то училась.
— Ну, как наша больная? — обратилась женщина к доктору. Тот резко вскочил на ноги.
— Больших повреждений, кажется, нет… Но… Покой, уход, наблюдение, что еще можно порекомендовать?.. Хорошо бы сделать рентген.
— Спасибо, доктор. Я вас не задерживаю. Будет ей и покой, и уход.
Старичок попятился к двери, там на секунду задержался. Издалека пробубнил:
— Ах, как вы не правы, девушка, как не правы… И откуда столько злобы в молодом существе?
— Канай отсюда, погань, — проводила его Таина.
Женщина присела на стул, разглядывала ее с холодным любопытством.
— Встать сможешь?
Таина отвернулась.
— Я к тебе обращаюсь, Букина.
Таина молчала — и это молчание затянулось на целую вечность: она начала засыпать.
— Тебя ждет хозяин, — сказала женщина. — Только сначала надо привести себя в порядок. Он не любит распустех.
Таина открыла глаза.
— Кто вы?
Они мерялись взглядами — и вдруг женщина светло улыбнулась, сразу помолодев.
— Господи, какая же ты чумовая девица… Но порода есть, чувствуется. Мужики таких любят. Земфира Викторовна меня зовут. Что еще? Будем вставать?
— Где я?
— В надежном месте. Надежнее не бывает. И не строй из себя звезду экрана. Это все в прошлом. Шансов у тебя никаких. Хочешь уцелеть, слушайся беспрекословно. Стань, как трава под пяткой. У владыки доброе сердце, авось, помилует. Хотя вряд ли. Видно, крепко набедокурила.
— Гладко излагаете, Земфира… Что я должна делать?
Женщина подошла к платяному шкафу, достала махровый халатик голубого цвета, бросила на кровать.
— Одевайся. Пойдем в ванную.
Ванная — вроде дворца, как у всех новых русских. Мрамор, зеркала, джакузи в виде прелестной розовой раковины… Впервые с той минуты, как ее втащили в пикап, Таина получила возможность взглянуть на свое отражение — отвратительное зрелище! Опухшая, в синяках, с обожженной грудью, со слипшимися рыжими прядями, торчащими во все стороны, с подбитым левым глазом (она и не заметила), с безумным блеском в очах, — хоть показывай на ТВ, где любят посмаковать какое-нибудь уродство. А в общем, ничего страшного, могло быть хуже, наверняка будет хуже… Под пристальным взглядом надзирательницы, усевшейся в пластиковое кресло, Таина поплескалась в теплой воде, умылась, причесалась, низ живота густо смазала йодом, отчего ее сверкающая голизна приобрела и вовсе вызывающий вид.
Надзирательница поторопила:
— Хватит красоваться, одевайся.
В ванной не было никакой одежды, кроме халата, в котором она пришла.
— Это все?
— В доме не холодно. Да и не позволят тебе замерзнуть, милочка.
— Хоть на ноги что-нибудь.
— Пойдешь босиком. Может, разжалобишь владыку.
Таина вытерлась одним из огромных, пушистых полотенец, висящих на стене, на крючках, слегка помассировала болевые точки. С каждым движением чувствовала, что силы прибывают. Земфира Викторовна тоже это заметила:
— Живучая ты девка, это хорошо. Джигитам в радость.
По винтовой лестнице, миновав большую гостиную с камином, поднялись на второй этаж и подошли к высокой дубовой двери с массивной позолоченной ручкой в виде оскаленной волчьей головы. Повсюду, пока шли, бросались в глаза вычурные предметы роскоши, какой обычно окружают себя отечественные буржуины в загородных замках. Особенно поразили Таину картины, развешанные где попало, явно без всякой общей мысли. Возле лунного пейзажа Левитана на лестничном переходе будто споткнулась:
— Неужто подлинник, госпожа Земфира?
Надзирательница слегка толкнула ее в бок.
— Давай, двигай… Тебе ли об этом думать, несчастная?
Но Таина, однако, подумала: вот бы им с Володечкой поселиться в такой избушке на курьих ножках — и в ус не дуть. Смешная, нелепая мысль промелькнула, как солнечное пятнышко в глубине колодца.
В дубовую дверь надзирательница постучала согнутыми пальчиками, немного подождала. Не получив ответа, приоткрыла дверь и заглянула. Потом распахнула дверь пошире и за руку втянула за собой Таину.
Девушка очутилась в кабинете, каких нагляделась за свою жизнь немало. Огромный письменный стол с массивными гнутыми ножками, компьютер, просторный диван, занимающий почти целиком одну из стен, мягкая мебель, хрустальная люстра на бронзовых цепях, темно-зеленый ковер на полу, в котором босые ноги утонули по щиколотку. В комнате двое — Рашид-борец за столом, занятый какими-то, наверное, очень важными бумагами, и смуглый молодой человек на диване, с жестянкой пива в руке.
Узнав владыку, Таина поняла, что дела ее совсем плохи, хуже не бывает. Этот человек умен, свиреп и беспощаден и, насколько она знала, всегда идет к цели напролом, не обращая внимания на производимые разрушения. Человеческая жизнь представляет для него такую же ценность, как послереформенный деревянный рубль. По совести, Таина никогда не считала его врагом, хотя и «обула» на половину «лимона». Но это так, забава. В глубине души она его уважала, как нормального завоевателя, потомка Чингисхана, пришедшего на чужую землю с огнем и мечом, а не с болтовней об общечеловеческих ценностях и с другими фарисейскими уловками.
— Спасибо, Земфира, — Рашид-борец махнул рукой. — Погуляй пока, после позову.
Женщина, низко поклонясь, исчезла, притворив за собой дверь.
— Подойди ближе, — повелел владыка. Таина сделала несколько шагов и замерла, когда он поднял палец вверх. Молодой человек поднялся с дивана, обошел ее со всех сторон, разглядывая, как диковину. Ухватил за грудь, погладил ягодицы. На всякий случай Таина пригрозила:
— Остынь, парень. Яйца оторву.
Молодой человек засмеялся приятным смехом, обернулся к владыке:
— Дядюшка, подари ее мне.
Рашид-борец не обратил внимания на его слова, молча ее разглядывал.
— Вон ты какая — красна девица… Кто же тебя надоумил укусить старого Рашида?
Таина переступила с ноги на ногу, опасаясь резких действий со стороны молодого человека, хотя он не казался ей чересчур опасным.
— Не понимаю, чем вас прогневала… Никто ничего не объясняет. Терзают только, насилуют, очень неприятно.
— Меня знаешь, кто такой?
— Конечно, Рашид Львович, кто же вас не знает? Мечтала у вас интервью взять, да вон оно как обернулось. Может, какое-то недоразумение?
— Сядь на место, Арчи, не мельтеши. Успеешь натешиться.
— Неужто, дядюшка, из-за нее меня в сарай кинули?
— Не веришь?
— Как не верить, раз вы говорите?
Молодой человек ущипнул ее за бок и, посмеиваясь, качая головой, вернулся на диван.
— Она, дружок, она самая… Мне тоже не верится. Молоденькая стерва, в чем душа держится, а погляди, на кого хвост задрала…
Таина сказала:
— Все же, Рашид Львович, здесь какая-то роковая ошибка. В чем вы меня подозреваете?
Владыка, продолжая ее разглядывать, достал из коробки сигару, обрезал серебряными щипчиками, сунул в рот. Начал раскуривать, но не довел дело до конца.
— Дело не в бабках, какие ты, стерва, зажулила. Деньги — тьфу! Я из-за твоих шалостей, козявка рыжая, друга на тот свет отправил. Вот беда так беда.
— Меня вы тоже — на тот свет? — поинтересовалась Таина.
— Слишком просто хочешь отделаться. За твое преступление это не наказание, а награда… Одного не пойму, зачем так сделала, что Тагира убил? Он тебе мешал? Обидел тебя? Где он и где ты, козявка? Даже сравнить нельзя. Если кто-то подучил, признайся сразу, потом поздно будет.
— Если бы я еще знала, Рашид Львович, о чем вы говорите. Кто такой Тагир?
С третьей попытки Рашиду удалось раскурить черную толстую сигару. Он сделал затяжку и закрыл глаза, наслаждаясь. По бронзовой коже словно пробежала серебряная рябь. В его расслабленной позе, в выражении породистого лица с опущенными тяжелыми веками проступило нечто величественное, роковое, недоступное человеческому пониманию. Таина вмиг озябла.
Не размыкая век, владыка произнес:
— Кликни Акимыча, дружок.
Молодой человек послушно метнулся к двери и через несколько минут вернулся со странным существом. По виду — человеческого происхождения, но с длинными, до колен руками, с такой походкой, будто при каждом шаге оно пыталось что-то поднять с земли, с заросшим щетиной лицом, как у знаменитого вещуна со второго канала, но при этом взгляд осмысленный и, Таина поклясться могла, выражающий цинично-насмешливое отношение к происходящему.
Существо подбежало к ней и азартно, со свистом из маленьких, приплюснутых ноздрей обнюхало ее со всех сторон. Девушка с ужасом увидела, как на его короткой, толстой шее взбугрился кадык, величиной с кулак, а из черногубого, круглого рта высунулись изогнутые, заостренные, как у бобра, желтоватые клыки. По кабинету распространился острый запах сырого, земляного подвала.
— Что, Акимыч, нравится? — весело окликнул из-за стола Рашид-борец.
— Угу, — проскрипело существо.
— За сколько управишься с ней?
Волосатик с глубокомысленной гримасой поднял вверх растопыренную пятерню.
— Нет, Акимыч, это долго… Может, лучше крысок твоих подкормить?
— Зачем крысок? Я сам, — обиженно хрюкнул Акимыч и нежно погладил ее колено. От горячего, липкого прикосновения Таину замутило.
— Рашид Львович, — пролепетала она. — Что это такое вы придумали?
— Ничего не придумал. Акимыч тебя съест, хулиганку.
— Он разве людоед?
— Самый натуральный. Чикатило ему в подметки не годится. Он тебя съест живьем, но постепенно, по кусочкам. Как думаешь, Арчи, подходящее для стервы наказание?
— Зачем товар портить, дядюшка? У меня покупатель есть. Отвалит сто кусков.
— Ах, Арчи, Арчи… — Рашид-борец вылез из-за стола, разминаясь, прошел по ковру. У Таины появилось ощущение, что вся эти троица кружит вокруг нее, как жирные навозные мухи возле падали.
— Что-нибудь не так, дядюшка?
— Все не так, дружок. За обиду деньги кто берет? Только слабый человек, ишак. Сильный обиду кровью смывает. Это закон. Его нельзя нарушать. Один раз нарушишь, будешь сам скотиной. Плохо, раз до сих пор не понял.
— Как может обидеть великого хана обыкновенная шлюха?
— Ох, хитришь, Арчи… Пожалел ведьму, да? Приворожила тебя, да?
— Прости, ата! Ты прав, как всегда. Я просто не подумал как следует. Прости.
Рашид-борец с близкого расстояния уставился на Таину. В выпученных глазах тусклый огонек любопытства.
— Страшно тебе, сучка?
— Нет, Рашид Львович, не страшно. Не верю, что вы на такое способны.
— Почему не веришь?
— Вы благородный человек, у вас репутация гуманиста. Я про вас много читала. Больше скажу, вы идеал моей мечты. Если бы все бандиты были похожи на вас, мы давно бы жили как в Америке. Вам надо обязательно баллотироваться в президенты. Рашид Первый — неплохо звучит. Народ за вами пойдет, я уверена…
Слушая нелепую болтовню, ловя издевку ярких, темносиних очей, Рашид-борец почувствовал странное недомогание, словно зрение замутилось катарактой. С ним такое редко случалось. От дерзкой девицы тянулся морок, и он хорошо понимал племянника, который сидел на диване и, отрешившись от всего, вливал в себя подряд третью жестянку пива. Рашид-борец немало встречал мужественных людей, которые умели преодолевать страх и продолжали оказывать сопротивление даже тогда, когда это становилось бессмысленным, но все-таки это были мужчины. Он представить себе не мог, что встретит женщину, которая будет веселиться в присутствии допотопного чудовища, но это было так. В рыжей ведьме таилась какая-то загадка, которую следовало разгадать, чтобы не попасть впросак.
Он поднял насмешницу на руки, перевернул и положил на пол, ощутив ответное трепетание упругой плоти. Сел рядом, не отрывая от нее глаз.
— Почему ненавидишь? — спросил он. — Ты же меня раньше не знала.
— Господь с вами, господин Рашид. Как я могу вас ненавидеть, если мы из разных миров?
— Из какого же мира ты?
— Там вам никогда не бывать, так что и говорить не о чем.
Рашид-борец сделал знак, и Акимыч, в нетерпении облизывающийся и урчащий, как закипающий чайник, подполз к девушке, захватил в волосатые лапищи ее тонкую кисть и, утробно, сладко вздохнув, сунул себе в пасть.
— Медленнее! — повелел Рашид, утирая рукой внезапно вспотевший лоб. Он жадно вглядывался в прекрасное женское лицо, надеясь увидеть, как под натиском боли и жути потухнет лукавая улыбка и на ее место явятся отчаяние и мольба, которые успокоят его душу. Акимыч осторожно зачавкал, хрустнули хрупкие фаланги, но девица не издала ни звука, лишь по зрачкам промелькнула смертная тень, и она мгновенно уплыла туда, откуда он уже не мог ее достать.
— Выплюнь, сволочь! — грозно взревел хан — и наотмашь врезал Акимычу в ухо. Волосатик от мощного удара отлетел аж к самой двери и там успокоился, поскуливая, слизывая кровь с губ.
Рашид взглянул на племянника: тот, побледневший, с безразличным видом откупоривал четвертую банку.
ГЛАВА 2
Очнулась в прежней комнате, под тем же самым пледом. Левая рука спеленута бинтом, похожа на белый кулек. Таина с удивлением поднесла ее к глазам. Неужто это был не сон: настоящий каннибал, отгрызающий конечность? Значит, жизнь еще забавнее, чем она о ней раньше думала. Жаль, что там не было Володечки, ему полезно посмотреть. В его характере слишком много романтического, он верит в сказки с хорошим концом, когда-нибудь это выйдет ему боком.
Тут она заметила, что в комнате не одна. Бледный племянник Рашида-борца сидел на стуле и смотрел на нее так печально, словно провожал в последний путь.
— Я тебя презираю, — сразу сообщила ему Таина. — Тоже мне рыцарь! На его глазах красивую девушку чуть не слопали, а он даже пальцем не пошевельнул. Знаешь, как больно?
— С дядюшкой не поспоришь.
— «Подари мне ее, дядюшка», — передразнила Таина. — А если бы подарил, что бы ты со мной сделал? Тоже съел бы?
— Не съел бы, — насупился Арслан. — Не о том думаешь, девушка.
— О чем же я должна думать?
— Зачем дядюшку ограбила? Зачем меня в сарай посадила?
Таина подняла глаза к потолку.
— Нас слушают, Арчи?
— Нет. Не слушают. Я отключил.
— Сейчас ночь или день?
— Ночь. Половина ночи.
— Так чего мы ждем? Давай вместе убежим. Не убьет же он тебя за это? В ресторан поедем, гулять будем. Не пожалеешь, Арчи. За добро я добром плачу.
Молодой человек скривился в усмешке.
— Пустой разговор. Отсюда не убежишь.
Таина покачала ноющую, пульсирующую кисть. Убедилась, что халатик по-прежнему на ней.
— Значит, мне крышка? Никакой надежды?
— Не знаю. Ты дядюшку смутила. Я его таким раньше не видел.
— Что значит — смутила?
— Он ничего не боится, а тебя испугался. Ты же ведьма, да? Он так думает.
— Нет, Арчи, я не ведьма. Ты влюбился в меня, что ли?
— Не надо так, девушка. Я не идиот. Я тоже думаю, что ты ведьма.
— Хватит причитать. Мыслитель. Они думают. Послушай, но нет же такого места, откуда нельзя сбежать.
— Это как раз такое место. Охрана. Сигнализация. Все на виду… Покушать могу дать. Хочешь покушать?
— Хлеба с горчицей?
— Зачем горчица? Хорошей еды дам. Вина принесу. Это можно. Дядюшка разрешил.
— Чего же сидишь? Неси. Прихвати еще пару таблеток анальгина.
Его долго не было — или так ей показалось. Она успела задремать — и увидела во сне матушку с раздутым зобом, пьяного отца и еще кого-то из подруг, и со всеми, кого видела, попрощалась. В ответ слышала ласковые слова, утешительные речи. Она была виновата перед родителями, потому что, умирая, оставляла их без присмотра, но что поделаешь? Она так и не успела понять, откуда в ней, столичной штучке, у которой все было для нормальной жизни, вдруг родилась эта лютая ненависть ко всем богатеньким, сытеньким, вороватеньким, к их ухмыляющимся рожам, к загребущим рукам, к бесчувственным душам — откуда? Жила бы как все, рубила бабки, снималась на журнальные обложки, завела кучу любовников, потом выбрала себе мужа, нарожала детей, а что теперь? Чего добилась со своим игрушечным пистолетиком? И вот уже пора собираться… От жалости к себе Таина заплакала во сне — и тут издалека ей улыбнулся Володечка, угрюмый и непогрешимый. «Продержись немного, — попросил он. — Скоро я приеду за тобой».
Испугавшись, что его услышат, дернулась, проснулась, прижала к груди больную руку. То был не сон, любимый подал ей весточку, она не сомневалась в этом. Лежала тихо, как мышка, вслушивалась в волшебное слово — лю-би-мый!
Арслан застал ее улыбающейся, насторожился:
— Не чокнулась, нет?
Таина отрицательно помотала головой.
— Чего тогда лыбишься?
— Акимыча вспомнила. Какой он все-таки смешной — маленький, несчастный людоедик. Как ему одиноко. Никто не пожалеет, не приголубит. Где вы его взяли такого?
— Из камеры смертников. Казнить теперь нельзя, Европа запретила. Камеры переполнены, маньяков сажать некуда. Вот дядюшка и купил по случаю для забавы. Многим гостям нравится. Особенно оттуда, из-за границы. Говорят, у них там такого нету. Там их газом травят, на стул сажают. А у нас нельзя. Дядюшка за него десять штук отвалил.
— Он действительно может меня съесть?
— Вряд ли. Бахвалится. Пожует немного и выплюнет. Но мыша живого на моих глазах проглотил.
Арслан расставил на тумбочке припасы, которые принес в пластиковом пакете: бутылка водки, батон колбасы, хлеб, кисти винограда, сыр. Водка — запотевшая, из холодильника. Поставил серебряные стопки.
— О-о! — обрадовалась Таина. — То, что надо. Какой же ты молодец, Арчи. Сейчас выпьем — и рука пройдет.
— Болит?
— Дергает очень. Не знаешь, пальцы целы?
Арслан смутился.
— Не совсем. Мизинец он отгрыз.
— Ну это пустяки…
Выпили — и Таина положила в рот виноградину. Потом еще выпили. Потом закурили. Уютно мерцал торшер в углу, плавно текла ночь. Может быть, последняя, думала Таина. Но водка уже подействовала, и мысль показалась потешной. О чем горевать? Пусть ничего не добилась, зато ни в чем не уступила насильникам и мучителям.
От третьей чарки и Арслан разомлел, придвинулся ближе, заговорил с каким-то тяжелым придыханием, словно больной:
— Я тебе не враг, нет, так не думай. Я вообще не злой человек, музыку люблю, даже стихи люблю. Не поверишь, да?
— Сам пишешь? — догадалась Таина.
— Писал когда-то, никому не говори. Дядюшка — великий человек, великий воин, и отец такой же был, я в матушку пошел, в другой корень. Она мягкая была, тихая женщина, животных любила, сад любила. Ничего не знала, кроме дома. Мы хорошо жили, не надо было в Москву ехать. Отец поехал, погнался за капиталом. А я думаю, зачем капитал, если кровь, если страх? Ты как думаешь сама?
Таина облизнула губы. На этого смуглого парня у нее теперь вся надежда. Он поддался ее чарам и был в ее власти, но рискнет ли помочь?
Подняла серебряную стопку. Напустила в глаза туману.
— Ты хороший, Арчи. Простить можешь?
— За что?
— Сам знаешь.
— А-а, — махнул рукой. — Ничего страшного. Твои ребята меня не обижали. Жизнь такая. Сегодня я в сарае, завтра они. Ерунда.
От прозрачного намека у Таины сердце обмерло.
— За тебя, Арчи. Жаль, что мы раньше не встретились.
— У тебя, наверно, жених есть?
— Был, теперь нету.
Арслан выпил водку залпом, и она выпила. Рука под наркозом успокоилась, и глаза слипались. Ей нравился смуглый восточный мальчик с печальными глазами. В нем совершенно не было зла, а это поразительно по нашим временам. Он мог быть ей сыном, если бы успел родиться и вырасти, а она успела состариться.
— Хочешь лечь со мной, Арчи?
— А ты хочешь?
— Конечно, хочу, но не сегодня, не сейчас.
Он не стал спрашивать, почему не сегодня, в этом тоже проявилось их отдаленное родство.
— Не обиделся, Арчи?
— Ты правильно сказала.
Таина помедлила, пытаясь угадать, о чем он думает, и все же решилась. У нее выхода не было.
— Арчи, милый, окажи маленькую услугу… Если нет, скажи «нет», я пойму.
— Какую услугу?
— Дам телефон, позвони одному человеку. Просто передай привет.
Словно толкнула его в ірудь. Арслан помрачнел, опустил глаза. Она уж подумала — отпугнула, но после паузы он нехотя ответил:
— Могу позвонить, только зря не надейся. Против дядюшки у твоих силы нету. Погубишь их.
Пристыдил ее, но он не знал, кто такой Володя Кныш. Печальный странник из солнечных миров, он вообще, как все они, не понимал, чью землю они покорили. Вот общая беда всех завоевателей, от Батыя до сегодняшней орды.
— Сможешь запомнить семь цифр? Или запиши на бумажке.
— Запомню, — сказал Арслан.
…Кныш обезумел, носился по Москве как угорелый. Ему жег пятки промерзлый асфальт.
Первым делом связался с Саней Маньяком и велел ему, вместе с Климом и Боренькой Интернетом, немедленно убираться из своих нор. Если Тинку повязали, то у них у всех очередь следующая. Санек стал расспрашивать, что да почему? Кныш сказал:
— Заткнись, братан. Заройтесь где-нибудь кучей — и сразу дашь сигнал. Три часа у тебя на все про все. Есть куда спрятаться?
Санек уловил, что положение серьезное.
— Найдется… А Тинка где?
Кныш молча положил трубку.
Помчался к себе в общагу, оставив в конторе Иванькова. Сержанту дал инструкцию: никому не открывать, если кто полезет, палить на убой и отходить по чердаку. Иваньков, в отличие от Санька, почти не удивился. Только уточнил:
— Началось, командир?
Кныш ответил поэтично:
— Началось, сержант, когда мы с тобой по дурости родились.
Кроме того, дал Иванькову поручение — собрать к пяти часам в пивном баре у Соломона остальных бойцов «Кентавра» — Леню Смоляного, Вадика Прошкина и старшину Петрова по кличке «Жаба». Кличку тот получил при забавных обстоятельствах. В Гудермесе его однажды зацепило, но не пулей, а жутчайшим поносом. Трое суток старшина не вылезал из кустов, никакие лекарства не помогали. Ситуация усугублялась тем, что как раз в те дни Петрову крупно пофартило, у него шел бурный роман с Галкой из медсанбата, и он стеснялся предстать перед ней в таком виде, хотя понимал, что Галка не выдержит разлуки и мигом переметнется к другому, он даже догадывался — к кому. Старшина впал в отчаяние и уже подумывал о том, чтобы свести счеты с жизнью. Товарищи ему сочувствовали, но не знали, как помочь беде. Пока кто-то не додумался пригласить из аула знахаря, древнего старика в белой чалме. Самым трудным оказалось объяснить старику, какая с Петровым приключилась хворь. Наконец тот понял, радостно что-то забулькал по-бусурмански, достал из-за пояса кожаный мешочек, а солдатикам, тоже знаками, велел принести спирт. В стакан насыпал из мешочка горсть зеленоватого порошка, залил спиртом, долго размешивал грязным пальцем, потом долго разглядывал мутную, вспенившуюся жидкость на свет — и с самодовольной улыбкой протянул Петрову. Под внимательными взглядами очарованных сослуживцев старшина перекрестился и со словами: «Аллах акбар!» — залпом проглотил отраву.
А к вечеру, исцеленный и бодрый, поспешил на свидание к возлюбленной, которую, к сожалению, в медсанбате не застал, но это уже другая история…
Рядовой эпизод так бы и ушел бесследно в область преданий, если бы один из пытливых сослуживцев не удосужился каким-то образом вызнать секрет чудодейственного снадобья. Оказалось, знахарь напоил старшину растолченной с корнем мандрагора высушенной лягушкой, да еще с добавкой каменной крошки. В этом тоже не было ничего примечательного, заброшенным в чужие края солдатикам приходилось едать не только лягушек, но и песчаных гадюк, и разных неведомых зверушек, а уж что пивали, про то лучше не вспоминать. Однако на чуткий вопрос друга, как он себя в натуре чувствует после лягушачьего эликсира, Петрова угораздило пошутить: «Ква-ква, ребятушки, ква-ква!» С того дня и прилипло — Жаба. Старшина не обижался, бывают кликухи похлеще.
…К общаге Кныш подбирался осторожно, с оглядкой, будучи уже как бы нелегалом. Он был почти уверен, что его пасут, но в комнате, в горшке с геранью лежали в пластиковом пакете две пачки долларов по десять тысяч в каждой — грешно оставлять неизвестно кому. Не такой он богач, чтобы швыряться такими суммами, но и нарываться, конечно, не хотелось. Его жизнь теперь не принадлежала ему самому, он должен избегать контакта с противником до последней минуты…
На улице чисто, и в длинном коридоре общаги — то же самое. Все очень подозрительно. Почему Тинку взяли, а его не трогают? Если противник тот, о котором сказал полковник, то вряд ли это возможно. Кныш прогулялся мимо своей двери, потом, бесшумно войдя, приложил ухо к замочной скважине. Тишина. Такая же тишина, как в болоте, где прячется крокодил.
Он спустился на первый этаж и заглянул в каморку к бабе Маше, уборщице. К обеденному часу трудящаяся женщина успела похмелиться.
— Кого я вижу, — пропела задорно. — Князь Володимир пожаловал собственной персоной. Неужто гостинец бабке принес?
Грузная женщина лет шестидесяти с растрепанными, поседелыми волосами, с отечным, как у утопленницы, лицом, но с живыми, отчаянными глазами. Кто не знает, нипочем не догадается, что всего лишь пять лет назад Мария Васильевна работала на кафедре, вела курс по квантовой физике, а вот нынче, после некоторых, случившихся со всей страной счастливых изменений, одичавшая, в одиночестве пропивает оставшийся по жизни срок. Ни заботников у нее, ни жилья, кроме этой каморки с метлами, тряпками, помойными ведрами да с узким топчаном вдоль стены. У Кныша с ней деликатные отношения, он всю ее печальную историю не раз выслушал за этим самым, устеленным чистой клеенкой столом. В ней, в общем, не было ничего выдающегося: обычная судьба россиянской интеллигентки, попавшей под каток истории. Сперва долгое, относительно спокойное существование в советском мирке с его незатейливым бытом, с пресловутой дешевой колбасой и очередями, партийным присмотром, с восторженными кухонными диспутами и толстыми журналами, — золотое время, нервно, на пределе сил устремленное в будущее, — затем внезапное явление демократии — и первые радости обретенной на западный манер свободы; чуть позже сокрушительный, как землетрясение, обвал всех житейских и мировоззренческих укреп: дочь на панели, сын на игле и любимый муж, тоже интеллигент-романтик, рухнувший на первом же инфаркте. Еще дальше — чистка на кафедре после событий 93-го года, унизительная пенсия, конвульсивные попытки удержаться на плаву — и вот наконец она здесь, в своем последнем пристанище, при метлах и помойном ведре, в полном недоумении перед собственной участью. И зовут ее теперь баба Маша. Многие так зовут, но не Кныш.
Он сказал улыбаясь:
— Гостинец чуть позже, Мария Васильевна. Хочу попросить о маленьком одолжении.
— Интересно, чем может помочь старая пьянчужка герою трех войн.
— Кстати, вы не видели сегодня посторонних? Не шастали по коридорам?
Женщина стряхнула с глаз пьяную улыбку, уразумев, что любезный постоялец заглянул к ней не шутки шутить.
— Погоди, Володя, как раз по твоему этажу бродили двое.
— Как выглядели?
Мария Васильевна описала: молодые, в длинных пальто, с пустыми глазами, с бритыми затылками, ну, из тех, которые ездят в иномарках, они же все на одно лицо.
— К тебе приходили, да?
— Может быть, — он-то был уверен, что к нему.
— Кто такие? Бандюки?
— Необязательно… Может, просто гонцы.
— И что я должна сделать?
— Откроете дверь, как будто пришли убираться.
— А если они там, они меня пристукнут?
— Не успеют. Я же буду рядом.
— Володя, ты ведь не хочешь втянуть меня во что-то дурное?
— Можете отказаться, Мария Васильевна. Я не обижусь.
— Тебе это очень нужно?
— Как сказать… Там деньги, боюсь, украдут.
— Хорошо, пошли… — Она взяла ведро с водой, тряпку и веник, но по дороге Кныш усомнился: стоит ли рисковать? То, что он затеял, в сущности, подлое дело — «живой щит». Но деньги нужны позарез. Траты, возможно, предстояли большие.
— Мария Васильевна!
— Да, Володя.
— Я передумал. Давайте вернемся.
— Нет уж, — наставительно заметила женщина. — Если это воры, нельзя уступать. Мы всегда уступаем, поэтому нас и грабят.
— Это верно, — согласился Кныш. — Но не только поэтому.
У двери Мария Васильевна поставила ведро на пол и начала ковыряться ключом в замке, производя много шума. Трясущимися руками никак не могла попасть железкой в дырку. Кныш стоял сзади и чуть справа: с этого места, когда распахнется дверь, открывался нормальный обзор. Пятизарядный «смит-вессон», подарок принцессы, держал наготове, но так, чтобы Мария Васильевна не видела.
Наконец женщина справилась с замком, подняла ведро, веник под мышкой, — и ногой толкнула дверь изо всех сил, как Кныш проинструктировал. Пыхтя, перевалила через порог — и тут же сбоку на ее растрепанную, пьяненькую голову обрушился кулак с зажатым в нем пистолетом. Пока падала, сперва опустясь на колени, а потом вытянувшись на боку, Кныш поверх нее произвел два выстрела — и оба удачные. Два лба пробил не переводя дыхания. Лиц не разглядел. Темная фигура у окна качнулась в сторону, но уже после того, как пуля впиявилась в мозг; а тот, который свалил Марию Васильевну, вообще не понял, что произошло, встретил смерть с неопущенной торжествующей рукой.
Кныш перешагнул через женщину, поднял ее на руки и отнес на кровать. Потом притворил дверь и удостоверился, что оба гостя мертвы. Взял с тумбочки графин с водой, смочил носовой платок и начал приводить Марию Васильевну в чувство. На это ушло у него минут пять. В который раз убедился, как живучи россиянские женщины. Мария Васильевна судорожно вздохнула, на бледный лоб выкатилась испарина, и открыла глаза — с таким выражением, будто сослепу взглянула на яркий свет.
— Я живая? — спросила еле слышно.
— Конечно, Мария Васильевна, конечно, — обрадовался Кныш. — Даже шишка небольшая.
Дал ей напиться и велел пока полежать. Да она вроде никуда и не стремилась.
Кныш собрал в кожаный чемоданчик самое необходимое: пару рубашек, туалетные принадлежности, кое-какие бумаги, лимонку, привезенную из Югославии как сувенир. Напоследок вынул из цветочного горшка, из ухоронки, заветный пластиковый пакет. Присел на кровать к Марии Васильевне.
— Уезжаешь? — спросила она вполне здраво.
— Командировка… Вы не вставайте, пожалуйста, я вызову врача. Хорошо?
Женщина с опаской покосилась на покойников.
— А эти что же?
— Тоже полежат — и за ними приедут. Вы их не бойтесь, они теперь безобидные.
— Но как же, Володя? Ты их убил?
Кныш достал из пакета одну из двух пачек, положил ей на живот.
— Поаккуратнее, Мария Васильевна. Деньги большие.
— Да ты что?! Мне не надо, не надо!
— Пригодятся… Главное, никому не показывайте.
— Не возьму, — твердо сказала женщина. Кныш мягко перехватил ее руку.
— Не обижайте, Мария Васильевна… Вы мне жизнь спасли.
— Но я…
— Никаких «но»… Деньги — тьфу! Бумажки. Разве в них счастье?
— Да мне же ничего не нужно… — в синих глазах заблестела влага. — Володя, как ты не понимаешь? Забери, тебе понадобятся. Ты в бега уходишь.
— Все мы давно в бегах, Мария Васильевна. Все, прощайте. Спасибо за дружбу.
Нагнулся и поцеловал влажный лоб.
— Дай хоть знать о себе, Володечка.
— Обязательно.
…К пяти вечера подкатил к бару у Соломона, неподалеку от стадиона «Динамо». Возможно, это было для него сейчас самое безопасное место в Москве. Бар принадлежал «афганскому братству», и весь прилегающий квартал был у них под наблюдением. Залетным сюда лучше не соваться, если только с надежной рекомендацией.
Полковник Александр Иванович сдержал слово. Час назад передал вызов на пейджер, и когда Кныш отзвонился, сообщил, куда запрятали принцессу, а также еще кое-какую информацию, очень неутешительную. Поместье Рашида-Бен-оглы в Петрово-Дальнем охранялось не намного хуже, чем резиденция царя. Бетонный забор, сигнализация, часовые у ворот, паспортный режим — это само собой. Плюс к этому в доме постоянный дозор — человек десять — пятнадцать из самых отборных, в основном черкесская гвардия.
— Что будешь делать?
— Зачем спрашиваешь, — Кныш говорил спокойно, но это давалось ему с трудом. — Сколько у меня времени?
— Гарантировать ничего нельзя. Рашид в бешенстве. В таких случаях он непредсказуем.
— Ты обещал помочь с оружием, Александр Иванович.
— С этим нет проблем… — Полковник назвал адрес: железнодорожные склады на Яузе, описал бункер, сказал, кого спросить. Его будут ждать.
— Назовешь пароль… Все дадут, что захочешь. Капитан, ты в мое положение вникаешь?
— Жена, детишки, да?
— Если бы только это, умник, — вздохнула трубка.
…В баре за отдельным столиком сидели трое — Леня Смоляной, Вадик Прошкин и старшина Петров. Перед каждым по кружке пива и по тарелке с раками. Горка с шелухой высокая, давно сидят. Смоляной и Прошкин — худые, длиннорукие, с одинаковыми бобриками пшеничных волос, со смуглыми лицами, словно на коже навеки запеклась пороховая гарь, — оба первоклассные снайперы; старшина Петров резко от них отличался внешне — крупнотелый, с могучими плечами, с ранней лысиной во весь череп, с младенческой удивленной улыбкой — рукопашник и егерь, каких на весь полк было только двое, он да Гаврюша Каримов, но того уже нет на свете.
Только Кныш опустился за стол, как к ним приблизился дядька Соломон собственной персоной, с двумя полными кружками в правой руке: подошел поприветствовать Кныша. Обнялись, соприкоснулись щеками, при этом Кныш, как всегда, поймал себя на том, что старается не потревожить пустой рукав майора. Кроме того, что у Соломона не было левой руки, ему еще отчикали обе ноги повыше колена, но об этом, кто не знал, нипочем бы не догадался. Он на своих немецких протезах двигался непринужденно, как балерина, хотя на привыкание и тренировки у него ушло больше года. С Кнышем они были знакомы с первой ходки в Чечню.
— Редко заходишь, паренек, — укорил Соломон. — Да и сейчас, вижу, спешишь?
— По морде видно?
— По походке… И ребята у тебя какие-то смурные. Может, нужно чего? Деньги, девочки, марафет?
— В полку ты был серьезнее, Соломоша, — сказал Кныш.
— Когда это было, — усмехнулся майор, залпом осушив половину кружки. — В ту пору и небо было голубым.
Ребята действительно сидели притихшие, насупившиеся. Они с Соломоном дружбу не водили, им наплевать на его командирские ужимки. Только Петров в силу благодушного нрава не удержался, съязвил:
— Девочки почем, гражданин майор?
— Тебе бесплатно, старшина… Ладно, братцы, секретничайте. Когда заглянешь, Володя, по-доброму посидеть?
— На днях постараюсь, — прилгнул Кныш.
В баре по раннему времени было почти пусто, разговаривать удобно. Кныш коротко объяснил бойцам, чего от них хочет. Небольшой компактный штурм загородной виллы. В случае удачи — каждому по десять тысяч баксов. Подумав, добавил:
— Честно скажу, задницу нам никто прикрывать не будет.
Оторвал у рака клешню, ждал. Парни заскучали еще больше, никто не смотрел ему в глаза. Ответил за всех Петров, и его слова угодили Кнышу как обухом по голове:
— Знаешь, Володя, мы тут до тебя уже советовались… Не обижайся, но ребята — пас.
Кныш чуть раком не подавился.
— Что так? Очко играет?
— Нет, не очко, — старшина посуровел. — И деньги хорошие, понятно. Но тут такое дело…
Первый раз открыл рот Леня Смоляной:
— Да чего, Жаба, темнить, в натуре… Навоевались — и точка. Досыта. Ты нам работу дал, спасибо, капитан. Но об мочиловке уговору не было.
— Да чего ты злишься, Ленчик? Никто же не заставляет. Набор добровольный.
— Он не злится, — пояснил Прошкин. — У него малец родился на той неделе. Тоже понять надо.
— Поздравляю, — сказал Кныш. — А у тебя, Прошень-ка, какие причины?
— Никаких, капитан, — худое лицо снайпера скривилось в пренебрежительной ухмылке. — Не пойду — и все. Пожить охота. По совести сказать, мы ведьжить-то еще не начинали.
— Достойный ответ, — признался Кныш, — Ну, с тобой, Петров, и так все ясно. К соревнованиям готовишься, да? На первенство Московской области? Или баллотируешься в депутаты?
Широкоскулое лицо богатыря расплылось в добродушнейшей улыбке.
— Не совсем ты понял, капитан. Я с тобой пойду. А на хлопцев не сердись. Молодые еще. В мечтах парят.
Парящие в мечтах снайперы дружно прильнули к кружкам, не поднимая глаз. У Кныша от сердца отлегло.
— Спасибо, старшина, — пробормотал растроганно. — Родина тебя не забудет… А вам, ребятки, приятного аппетита… Пошли, Петров.
…Спешил на Яузу, оттуда собирался махнуть в Петрово-Дальнее — на ночную разведку. Еще предстояло решить проблему с транспортом и разработать план. Еще — успеть забрать Санька с Климом. Еще… Дел невпроворот, тем более если учесть, что операцию следовало начать не позже пяти утра, в потемках. Но это хорошо: больше забот, меньше беспокойства. Иначе принцесса сведет с ума. Из памяти не уходило ее хрупкое, теплое, податливое тельце, тающее в руках, ее ошеломляющий шепот: «Как легко, как спокойно с тобой, Володечка. Вместе умрем».
Потерпи, сестричка, не сдавайся. Еще немного потерпи…
ГЛАВА 3
Рашид-борец не знал, как быть с племянником. Тот стоял перед ним, покачивался, осунувшийся, какой-то полу-спящий. Чья в нем кровь — шакалья? Он попался на месте преступления, но словно даже не осознал, что произошло.
— Арчи, мальчик мой, ты хоть понимаешь, как низко пал?
— Нет, дядюшка. Я ничего плохого не сделал.
— Ты позвонил врагам. Если бы не Муса… Арчи, ты предал семью, покойного отца… Ты кто такой, Арчи? Объясни словами, если можешь?
Арслан переминался с ноги на ногу, глядел в пол. Рашид-борец понимал, какая беда приключилась с племянником. Страшная беда, хуже не бывает. Рыжая ведьма опутала его сердце ядовитыми нитями. Силу ее чар почувствовал и сам Рашид, когда разговаривал с ней. В ее очах — ночь, в каждом слове, в каждом движении гибкого, змеиного тела — удавка для слабого мужчины. Арчи не устоял, она отравила его своим ядом, но как ему помочь?
— Арчи, ты знаешь, что такое женщина?
— Да, дядюшка, конечно.
— И что же?
— Дух преисподней в ней. Ты об этом спрашиваешь?
— Не надо преувеличивать. Дух преисподней — слишком красиво сказано. Женщина — такое же домашнее животное, как собака, свинья или коза. Ты мог бы полюбить козу?
— Наверное, нет, дядюшка-джан.
— Плохо, что ты в этом сомневаешься. И все-таки ты влюбился в красивую стерву… Это так, Арчи?
Страдалец поднял глаза, и на Рашида повеяло безумием.
— Отдай ее мне, дядюшка. Навеки останусь твоим рабом.
Рашид поморщился, разговаривать дальше бессмысленно.
— Ступай к себе, Арчи, — и жди.
Арслан сделал попытку поцеловать его руку, но дядюшка резко спрятал ее за спину.
Он вызвал Мусу и отдал необходимые распоряжения.
— Я вернусь завтра, у меня много дел в городе. Надеюсь, ты все сделаешь правильно.
Муса низко поклонился.
— Я все понял, бек.
— Сильно не повреди, — уточнил Рашид. — Завтра хочу увидеть ее еще живую.
— Не сомневайтесь, господин.
Через час в комнату Арслана, где он пригорюнился над бутылкой красного вина, заглянул посыльный от Мусы и попросил следовать за собой. Они спустились в подвальный этаж, где были расположены несколько камер, а также сауна и бильярдная. Посыльный привел Арслана в комнату для допросов, разбитую на два отсека: один для наблюдателей — с мягкой мебелью, баром, пультом связи, телевизором и смотровой стеной, и второй — собственно пыточная, со множеством современных приспособлений, предназначенных для того, чтобы очутившаяся там жертва была послушной и разговорчивой. Все на уровне последних достижений западной криминалистики.
— Сиди, смотри кино… Хозяин велел, — осклабился посыльный, и у Арслана не хватило сил отвесить ему оплеуху за наглость. Он чувствовал себя так, будто упал с горы и лежит на дне пропасти с отбитыми внутренностями. Уходя, посыльный запер дверь снаружи.
В соседнем, пыточном отсеке обнаженная пленница была уже приготовлена для истязаний. Распятая в высоком железном кресле, как цыпленок в гриль-баре, с задранными к потолку ногами, с заведенными за спину и сомкнутыми на затылке руками, с неестественно выгнутой спиной, она вряд ли могла сделать хоть одно движение без того, чтобы не причинить себе боль. Лишь почерневшие глаза, как две антрацитовые полоски, ненавидяще светились сквозь рыжие космы. Перед ней стояла Земфира Викторовна, наперсница владыки во многих секретных затеях, и тоненькой кисточкой, макая ее в пузырек с краской, наносила на голый живот какие-то знаки, вроде витиеватой арабской вязи. В углу за столиком читал газету старенький доктор Голубнячий, неизменный участник всех мало-мальски важных допросов.
— Чего там вычитал, Голубочек? — окликнула Земфира, отступив от кресла и любуясь своей работой.
— Ничего хорошего, матушка моя. Борис Абрамыч нового премьера назначил, а при нем, полагаю, бедным росси-янчикам окончательный будет капутец. Что ж, туда, как говорится, и дорога.
— Умный ты очень, Голубочек… Охота тебе во всякую чепуху вникать?
В отсеке появились два новых действующих лица: Джура Мелитопольский по кличке «Хирург» и Гарик Малохоль-ный, недавнее приобретение хозяина, уже успевший зарекомендовать себя беспощадным дознавателем. Арслан судорожно отпил из бутылки, которую принес с собой.
Земфира Викторовна, нанеся последний штрих на разукрашенный живот, с приятной улыбкой произнесла:
— Прошу, господа. Девочка к вашим услугам.
Оба дознавателя скинули белые борцовские куртки, обнажив могучие торсы, поросшие шерстью, как у горилл, и оставшись в адидасовских черных брюках. Арслану показалось, что он через стену ощутил запах ядреного мужского пота. Гарик подошел к столу с инструментарием, а Джура обогнул кресло, что-то прикидывая, посвистывая сквозь зубы. Подкрутил на кресле колесики, добиваясь какого-то одному ему понятного эффекта.
— Полегоньку начинайте, ребятки, полегоньку, — предупредила Земфира Викторовна. Джура кивнул и со словами: «Внимание! Преждевременные роды!» — глубоко воткнул волосатую руку пленнице между ног и резко развернул локоть. Тело несчастной еще больше изогнулось, хотя минуту назад это казалось невозможным, изо рта, как из трубы, вырвался жуткий, изумленный вой…
Арслан, теряя соображение, убрал на панели звук и уронил голову на ірудь…
К вечеру пошли в деревню за продуктами. Дорогу занесло, брели по колено в снегу. Тачку, на которой приехали, Санек оставил на сохранение Сундукову, здешнему предпринимателю. Ветер с ледяными иглами бил в лицо, и на середине пути Боренька Интернет совсем раскис. Он впервые в жизни очутился зимой на природе, в отрыве от городского комфорта. Пижонскую дубленку продувало насквозь, под ней — тонкий свитер и черные джинсы из какой-то плотной ткани, на морозе мгновенно превратившиеся в две жестяные трубы. Кальсоны он не носил, убежденный почему-то, что напялить их на себя способен лишь какой-нибудь деревенский ванек, но уж никак не супермен. На ногах, естественно, модные чувяки из свиной кожи (триста баксов за пару), зачерпывающие снег, как два ковша. Боренька начал отставать, и Санек на него прикрикнул:
— Тебя что, Интернетище, на руках нести?
Клим сумел прикурить, погрузив башку в черные рукавицы.
— У тебя в сарае, Сань, я тележку видел. Надо было его на ней довезти.
— У печки ему надо было сидеть, я же говорил. Не-ет, «с вами пойду, с вами пойду»! Околеет, что Кнышу скажем?
Бореньке было стыдно, что он задерживает движение, но ноги заплетались, и было такое ощущение, словно бредет по грудь в ледяной воде. Все же он нашел в себе силы пошутить:
— Пристрелите меня, парни. Вместе не дойдем.
— А ведь он дело говорит, — подхватил Клим. — Чего ему зря мучиться? Зароем в снегу, до весны никто не найдет. Кнышу объясним, мол, удрал в Москву — и не вернулся.
Все же добрели кое-как до деревни. По зимней улочке прошли, как по мертвому царству, никого не встретив, с изумлением глядя на редкие, серые дымки из труб. Ввалились в магазин. Там тоже было пусто, только Жорж Сундуков, осанистый и хлопотливый, выступил навстречу, обнял Санька, радостно зажужжал:
— С друзьями пожаловал? Ценю, уважаю… Машина в порядке, не сомневайся. В гараж отогнал. Хочешь, проверь?
Санек сказал:
— Сундук, у тебя валенки есть? И носки шерстяные.
Сундуков посмотрел на взъерошенного, заснеженного, дрожащего Бореньку и все понял.
— Здесь нету, но я сбегаю… Вы пока отдохните, я мигом… Лорка, иди сюда!
На зов из подсобки выплыла дама лет тридцати, в короткой шубке, поверх которой она сумела как-то натянуть белый халат. Дама была на сильном взводе и, увидев сразу так много покупателей, да еще молоденьких, сытно рыгнула.
— Лора, обслужи гостей… Я до хаты сгоняю.
Клим с рюкзаком заступил за прилавок и сразу начал ухаживать: он с почтением относился к солидным женским габаритам. Санек попробовал дозвониться до Кныша, но по всем известным номерам ему никто не ответил. Он оставил сообщение на пейджере, хотя это было необязательно. Кныш знал, где они находятся.
Боренька одиноко трясся у прилавка, отогревался, без любопытства наблюдая, как неугомонный Стрелок пытается вытряхнуть жеманно хихикающую даму из халата. Он так увлекся, что забыл, зачем пришел. Санек ему напомнил:
— Господин Осадчий, прекратите разврат. Займитесь делом.
Клим с неохотой выпустил даму из рук.
— Слышь, Санек, может, возьмем ее с собой? Ужин приготовит. Картохи нажарит. А?
Санек, не отвечая, сам начал набивать рюкзак: колбаса, хлеб, масло, консервные банки, бутылки водки, пива — наталкивал, особенно не разбирая. Женщина едва успевала щелкать калькулятором. На Санька поглядывала с испугом. Наконец, сбилась, достала с полки деревянные старинные счеты.
— Мальчики, не поспеваю… Придется пересчитывать.
— Считай, — Санек пододвинул ей раздувшийся рюкзак.
— Ну как, — Клим нежно поглаживал даму по бугристой спине. — Пойдешь с нами, Лора?
Женщина бедово стрельнула в него накрашенными глазами.
— У меня хозяин есть… Отпустит ли?
— Договоримся… Пойми одно, такая красавица не должна себя раньше времени хоронить. Духовно должна развиваться. Сань, ты как? Не против?
Вернулся Жорик Сундуков с валенками под мышкой. Увидев огромную разношенную обувку, Боренька заартачился, но Санек его окоротил:
— Переодевайся, Интернетище, или в глаз получишь.
В валенках Боренька с ужасом обнаружил толстые, заштопанные на пятках, грязно-белого цвета носки. Но делать нечего, присел на табурет.
— Скажите, добрый хозяин, — высокопарно обратился Клим к Сундукову. — Вы не будете возражать, если мы ангажируем на вечерок Лору Васильевну? За разумную плату, разумеется.
— Озорничают они, — смутилась женщина. — Я, Георгий Иванович, повода не давала.
Сундуков не понял, шутит залетный или нет. За разъяснениями обратился к Саньку, которому уже год намекал о больших перспективах совместного бизнеса: Москва — деревня Грязево.
— Чего, Сань, в самом деле бабцы требуются?
— Нам — нет, ему — да. Они ему всегда требуются.
— Можно устроить.
— Обойдется.
Возвращались уже в темноте. Ветер внезапно стих, на небо высыпали ранние звезды — и два-три дачных огонька далеко впереди создавали впечатление, что небеса соединились с землей. Природа погрузилась будто в глубокий обморок. Клим, всю дорогу уныло выговаривавший другу за его склонность к вождизму, споткнулся на ровном месте и восторженно воскликнул:
— Хлопцы, поглядите, красота-то какая! Разве такое в Москве увидишь?
Осторожно, словно боясь распугать колдовскую тишину, ступали друг за дружкой по узкой колее, маясь от какой-то странной, внезапно подступившей сердечной мути…
В избушке заново раскочегарили печь, уселись за стол, начали пировать. Настроение зимней дороги в ночном лесу не сразу исчезло, томление духа продолжалось до первых стопок. Не сговариваясь, выпили молча, не чокаясь. Что это было? Какое предчувствие их посетило?
Первым освободился от налетевшей хмари Боренька, но тоже как-то по-чудному. Хлюпая носом — и валенки не спасли, — пустился ни с того ни с сего в воспоминания о своем покойном батюшке, знаменитом банкире, и балабонил без умолку с полчаса, оглядывая застолыциков с хмельной любовью. Жаловался, что не ценил отца, пока тот был живой, а теперь кается, рад бы повидаться, да невозможно. По его словам выходило, что покойный банкир был великий человек, олигарх из олигархов, а по многим человеческим качествам не уступал титанам Возрождения. Поэтому его и убрали. Посредственность ревниво относится к явлению гения и при первой возможности от него избавляется. Для России вообще норма, чтобы яркую личность, героя поскорее замочить. Боренька пересказал статью, которую читал в молодости, где приводилась статистика, сколько удавалось прожить на свете великим людям. Очень немного. За тридцатник редко кто переваливал. Их травили ядом, убивали на дуэлях, а кто ускользал от насильственной смерти, того доканывал идиотизм росси-янской жизни. При большевиках эту горькую правду, естественно, скрывали от народа, но теперь-то, слава Богу, все стало известно.
Клим, переглянувшись с Саньком и покрутя пальцем у виска, попытался вернуть Бореньку на землю.
— Скажи-ка лучше, Боря, как же так получилось? Сын титана — и вдруг связался с братвой? При твоих-то перспективах?
Окосевший Боренька не почуял подвоха.
— Я думал об этом… Что значит — связался? Ты умный человек, Клим, я знаю, но мышление у тебя запрограммированное, как у большинства россиян. Человек не может быть счастливым, если его все время куда-то подталкивают. Он должен сам определиться в этом мире, найти свою нишу.
— И ты, выходит, определился? Стал бандитом?
— Какие же мы бандиты? Мы не бандиты.
— Кто же мы?
— Ну, если угодно, санитары леса. Мы призваны очистить общество от многовековой обывательской накипи. Я горжусь, что в этом участвую. И вас я очень люблю, парни. Без вас я бы так и остался на всю жизнь Интернетом.
— А теперь ты кто?
— Теперь я свободный человек, как и вы.
— Это временно, — заверил Клим. — До первой посадки.
Раскрасневшийся Боренька поглядел на него с укоризной.
— Знаешь, в чем твоя беда, Клим? Ты никогда не бываешь серьезным.
— Чем же это плохо?
— Ирония, юмор — это оружие слабых. На самом деле в жизни нет ничего смешного. Только кретины находят в ней повод для веселья. Разные Жванецкие. Вот давай возьмем Володю Кныша. Он непобедимый воин, ты же не будишь с этим спорить?
— Тебе виднее.
— Скажи, ты слышал, чтобы он когда-нибудь смеялся?
— Слышал.
— Когда же?
— На прошлой неделе. Помнишь? Ты полез с отверткой в розетку и тебя тряхануло… Ты был похож на Фредди Крюгера. Все ржали — и Кныш тоже. Он больше всех ржал. Я ему даже сказал: успокойся, Кныш! Кстати, Борь. Почему бы тебе не попробовать себя на телевидении, в какой-нибудь передаче типа «Аншлага»? Давай с Тинкой поговорим. Пусть похлопочет. И придумывать ничего не надо. Перескажешь все, что сейчас говорил — про санитаров леса и все такое, — будет полный отпад.
— Очень остроумно… Александр, — обратился Боренька к Саньку, казалось, задремавшему в уютном печном тепле со стаканом в руке. Глаза открыты, но взгляд блуждал где-то за морями, за лесами. — Ты тоже, как Климушка, не понимаешь, о чем я говорю?
— Я-то понимаю, — нехотя отозвался Санек. — Но я вас не слушаю.
— Напрасно, — расстроился Боренька. — Я важные вещи пытаюсь внушить Климу, а он отшучивается. Только одни женщины у него на уме.
— В моем возрасте это нормально. Больше скажу, тебе надо срочно обратиться к психиатру.
— Почему?
— Ты слишком много думаешь, это опасно. Мне один знакомый врач сказал, половина всех мыслителей рано или поздно попадают в психушку. Научный факт. Даже пьеса есть на эту тему. Называется «Горе от ума».
Санек слез со стула, подкинул в печку березовых полешек. Веселый треск рванул из топки.
Его пьяные мысли были просты, как всякая правда. Он думал всего лишь о двух вещах: что приключилось с Таиной и спит ли она с Кнышем? Ответ на первый вопрос он надеялся получить в ближайшее время, а вот… Если Кныш и Таина спелись, то что ему, Саньку, делать? Ждать? Вмешаться? Если ждать, то чего? Если вмешаться, то как? Против Кныша у него нет ни единого шанса, а романтически страдать он не привык. Он звезд с неба не хватал, но умел постоять за свои интересы. Однако сейчас речь шла не об интересах, а о чем-то таком, что не имело цены, и он предчувствовал, что, если не получит Таину, жизнь вообще потеряет всякий смысл.
К полуночи они втроем уговорили четыре бутылки водки и наконец расползлись по койкам. Но перед тем, как лечь, еще разок вышли на улицу, чтобы полюбоваться звездной ночью и отлить на воле. Стояли, курили, пока уши не прихватило морозом. Клим задушевно сказал:
— И все же есть в этом мире что-то такое, братцы, что непонятно нашим мудрецам. Включая Интернета.
Санек уныло подумал: приехать бы сюда с Тайкой на ночевку… Вот счастье, другого не надо.
Кажется, не успели уснуть, весь дом загрохотал, заходил ходуном, словно на него с небес обрушился валун. Санек, в полусне, побрел, открыл дверь. Кныш! Да еще какой! Мрачнее тучи, и глаза горят, как у рыси.
Заметил на столе остатки пира, хмыкнул:
— Не ко времени… Ладно, подымай пацанов, кончился привал.
Пацаны и без того в изумлении таращились с раскладушек. Боренька что-то радостно заверещал. Кныш, не снимая куртки, сел за стол, сунул в рот сигарету.
— Пять минут на сборы. Все расскажу по дороге. Ты, Борис, остаешься здесь, можешь не вставать.
— Нет, — пискнул Интернет, спуская ноги с кровати прямо в валенки.
— Что значит — нет?
— Я с вами.
Казалось, горящие очи Кныша сожгут Бореньку вместе с кроватью, но, встретясь с наивно-умоляющим взглядом гения, он смягчился.
— Мы не на прогулку, Борис. Должен понимать.
— Вы за Таиной Михайловной. И я с вами.
— Знаешь, что такое приказ?
— Хоть убей, не останусь.
— Хорошая мысль, — поддержал Клим, уже наполовину одетый. — Он сегодня весь день старшим дерзит. Мне четыре раза нахамил. Никого не уважает.
Санек спросил:
— Как ты нас нашел, капитан?
Кныш не ответил, в задумчивости наблюдал за Боренькой, который пытался натянуть джинсы, не снимая валенок.
— Боря, остынь, — произнес мягко. — Не хочу тебя обижать, но ты будешь только помехой. Это серьезное дело. Будь моя воля, я бы и сам за него не взялся.
— Вот и оставайся, — лихо отбарабанил Интернет. — Мы с Саньком и Климом мигом сгоняем. Только скажи куда.
Кныш посмотрел на Санька. Тот сказал:
— Ничего не поделаешь, капитан. Он как банный лист.
— Откуда у тебя эти валенки? — спросил Кныш.
— В деревне умыкнул, — ответил за Бореньку Клим. — Он же теперь санитар леса.
Собрались ребята быстро, хотя от невыветрившейся водки их еще швыряло из стороны в сторону.
— Может, поешь чего-нибудь? — предложил Санек.
— Некогда, — пока они одевались, Кныш прикрыл глаза, дал отдых мышцам и нервам, но ничего не получилось: рыжая принцесса звала откуда-то издалека.
В деревне разделились так: Кныш посадил Бореньку к себе — он приехал на Тайкиной «скорпии», Клим и Санек — в Саньковом «жигуленке». Разбуженный не ко времени Сундуков заинтересовался ночной каруселью.
— Чего там у вас, земеля? Шмон, что ли, какой?
— Об этом лучше не думай.
— Слышь, Сань, если это ваш босс, мне бы с ним словцом перекинуться. Это реально?
— Неподходящий момент.
— Понял. Если чего понадобится, я всегда в магазине.
Через полчаса выехали на окружную: Кныш гнал с такой скоростью, что Санек едва за ним поспевал. К счастью, ночная дорога была пустынной, если не считать возникающих то тут, то там постов ГАИ. В машинах шли разные разговоры. Клим, к примеру, спросил у кореша:
— Сань, тебе не кажется, что Кныш шизанулся?
— Надо ему верить, — Санек с опаской поглядывал на спидометр: меньше ста тридцати там не соскакивало, тачка ревела, как дизель.
— Не-е, сам посуди, об деле — молчок. К каким-то валенкам прицепился. Интернета с собой тащит. Почему я должен ему верить, Сань? Он же чужак, как ни крути. Не наш он, Сань.
— Если Тинка влипла, без него не вытащим.
— Ага. А с ним сами влипнем. Он же бешеный. Я таких знаю. С виду спокойный, а чего в башку втемяшится, колом не вышибешь. Вы с ним, Сань, два сапога пара. Я вообще с вами зря связался. Мне чего, в сущности, надо: музыку я люблю, Сань, зверьков разных домашних. Барышня чтобы красивая под боком. А вот такие прогулки мне не нравятся. С какой стати? Я же мирный, незлобивый парень. Мне больше Интернет по душе, хотя он и стал санитаром леса… Как думаешь, Сань, она Кнышу дала?
— Заткнись, — процедил Санек сквозь зубы с неожиданной злостью.
— Да я так. Без прикола… Но раз разговор зашел… Вижу, как маешься… Напрасно, Сань. Она ни мне, ни тебе не по рылу. Нет, не возражаю, девка классная, но мороки с ней не оберешься. Нам такую даром не надо. Нам бы чего попроще.
— Врешь, — сказал Санек. — Сам знаешь, что врешь.
— Конечно, вру, — легко согласился Клим. — Я ведь тоже к ней пару раз подкатился, получил по зубам, ну и что? Не зачах, как видишь. Продолжаю наслаждаться жизнью. Из-за баб переживать? Да пропади они все пропадом.
Утешает, подумал Санек. Выходит, у меня все на морде написано. От этой мысли ему стало еще горше.
В «скорпии» Боренька запальчиво объяснял наставнику свою жизненную позицию. Он обиделся не потому, что Кныш хотел оставить его в избушке, а потому, что тот не признавал в нем мужчину.
— Думаешь, Володя, раз ты воевал, сражался, а я у батюшки за пазухой сидел, значит, можно мной помыкать?
— Никто тобой не помыкает, — оправдывался Кныш. — Все дело в опыте, которого у тебя нет.
— Опыта нет, да… но кажется, я не давал повода усомниться. Лучше подумал бы, каково мне будет. Таина Михайловна из меня человека сделала, и вот теперь, когда у нее неприятности, я, по-твоему, должен отлеживаться на печке, пока вы ее спасаете?.. Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но такого от тебя не ожидал.
— Чего не ожидал?
— Человеческие отношения определяются поступками, а не словами. Да, на словах ты меня уважаешь, заботишься, многому научил, не спорю, а на деле, как я был для тебя сопляком, так и остался. Для тебя — Санек человек, и Кли-мушка — человек, а я нет.
— Они простые парни, как и я. А ты, Боренька, гений. Гениев надо беречь.
— Вот именно. Ты относишься ко мне, как к экзотическому растению, но не как к живому существу. В этом вся суть. Самое ужасное, все так ко мне относятся. В том числе и Таина Михайловна. Подсовывает разных шлюх, но человека во мне не видит. Ничего, наступит день, когда вы все убедитесь, как глубоко заблуждались.
Кныш глянул в зеркальце: опять Санек отстал, черт бы его побрал, а скоро съезд на Рублевку. Надо было бросить «жигуль» в деревне, все равно вряд ли он понадобится. Кныш сбавил газ. Сказал извиняющимся тоном:
— Никак не могу уловить, Боря, чего ты от меня хочешь?
— Хочу, чтобы ты хоть раз честно сказал, что обо мне думаешь? Кто я такой для тебя? Без выпендрежа, как у Клима.
— Почему именно сейчас?
— Но ведь оттуда, куда мы едем, можно и не вернуться, правильно?
— Я постараюсь, чтобы ты вернулся.
Кныша тяготил бессмысленный разговор, он почувствовал нехорошее желание остановить машину и выкинуть раскудахтавшегося молодца на обочину. Возможно, это было самое лучшее, что он мог для него сделать. Боренька каким-то образом уловил его настроение, мгновенно затих.
На выезде из Жуковки Кныш свернул на боковую улочку и приткнулся носом к припаркованной, с включенными подфарниками «Газели». Не подвел старшина. Через минуту подкатил «жигуленок». А еще через минуту вся компания расположилась в салоне «Газели», представляющем из себя небольшой оружейный склад: автоматы Калашникова, два гранатомета, пистоли, карабин с оптикой, десантные ножи, ящик с гранатами, два ящика со взрывчаткой и дымовыми шашками… Кныш представил старшину, объявив, что это его заместитель, которому они обязаны подчиняться беспрекословно. У Петрова спросил:
— Никто не тормознул?
— Два раза останавливали, трасса дурная.
— Пропуск сработал?
— Как видишь, командир… А это, выходит, и все пополнение?
— Думаешь, мало?
Старшина, широко улыбаясь, оглядел братву, особо задержавшись взглядом на валенках Бореньки. Спросил с уважением:
— Никак ты лыжник, сынок?
Боренька приосанился.
— Почему лыжник? Я как все.
— Круче его у нас никого нету, — не удержался Клим. — Спецназовская кличка «Санитар».
— Отставить, — прикрикнул Кныш. — Торчать долго не можем у всех на виду. Слушай вводную…
Говорил минут десять, а когда закончил, в салоне установилось тягостное молчание. Санек и Клим дымили взасос, Петров жевал булку с маком.
— Что-то неясно? — спросил Кныш.
Клим глухо отозвался:
— Говоришь, пятнадцать человек, ворота, сигнализация… Но это же верный капутец, шеф. К бабке не надо ходить. Порубят, как капусту.
Боренька резво вскинулся, словно по сигналу. Радостно загугукал:
— Вот ты и засветился, Клим Осадчий! Теперь сразу видно, кто есть кто. Это тебе не анекдоты травить. Придется поднатужиться. Или кишка тонка?
— Сейчас в лоб получишь, — предупредил Клим.
— Давай, попробуй. Посмотрим, какой ты герой.
— Кстати, Боря, — сказал Кныш. — Ты лично останешься охранять транспорт. И чтобы я больше твоего писку не слышал… Саня, чего молчишь?
— А чего базарить, Стрелок прав. По всему раскладу выходит, шансов никаких.
— Не совсем так… Если все четко провернуть — ночь, внезапность, много шуму и треску… Думаю, справимся. Но вопрос даже не в этом. Тинку там на куски режут, глумятся над ней. Жалко рыжую. Как же так, она нас кормила, а мы ее сольем? Подлянка получается…
Кныш обвел горящим взглядом одного за другим своих соратников.
— Ну так что, братва?
Санек нехотя пробурчал:
— Ты тоже прав, Кныш. У нас выбора нету. За нас его, как всегда, другие сделали.
— Петров?
— А что я?.. Ты меня знаешь, командир. Разгон взял, остановиться не могу.
— Осадчий?
— Прикуп, конечно, тухлый, но если с нами санитар леса, какие могут быть сомнения? Даешь штурм!
У Кныша в груди потеплело.
— Что еще важно, — сказал он. — Отступать некуда.
ГЛАВА 4
Охранник Гриня Брик сквозь дрему услышал какой-то посторонний звук: будто струна на гитаре лопнула. С трудом продрав глаза, подгреб к оконцу. Пейзаж знакомый: ворота, вырванные из тьмы прожектором, и заснеженная подъездная площадка, раскачивающаяся среди ночи круглым световым пятном. Да и кому там быть в начале пятого утра? И среди дня мало кто рискнет заглянуть без специального допуска. Места заповедные, предназначенные для отдыха больших господ. Разве что забредет пьянь-побирушка из соседней деревни, кому все равно, куда идти, да зайчонок серенький прошмыгнет — ушки на макушке. Побирушке накостыляют ребята в охотку, а зайчонка пожалеют. Зверье грех обижать понапрасну.
— Ты чего, Гриня? — окликнул с топчана Боб Жигулин, бывший надзиратель из «Матросской тишины».
— Померещилось чего-то. Вроде стук какой-то.
— Мозга у тебя стучит, ей в башке просторно… Выйди, погляди, коли сомневаешься.
— Дак я вижу, нет никого.
Недовольно ворча, Жигулин уселся на топчане, ноги в толстых носках опустил на пол. Спать на дежурстве запрещалось строго-настрого, но охрана постоянно нарушала этот запрет. За все лето и осень не было никаких происшествий — это расслабляло.
— Говорю же, пойди глянь. Из-за таких ротозеев, как ты, порядку нигде нет.
— Почему я ротозей? — обиделся Гриня. — Я-то бодрствую, а некоторые по семь часов подряд ухо давят. Из уважения к твоему возрасту, Жигулин…
— Прикуси язычок, — оборвал надзиратель. — Приказано, значит, выполняй.
Чертыхаясь, молодой боец надел ватник, взял автомат со стола. Из тепла в стужу — б-р-р! — но приходилось подчиняться. Старая курва вполне может накляузничать Мусе, а тогда… об этом лучше не думать.
Гриня Брик вышел на двор, прислушался. Тихо, как в морге. Из домика казалось, ветер, а ветра нет, только мороз похрустывает — градусов пятнадцать, не меньше. Неожиданно звук повторился, металлический, — откуда ему взяться? Гриня — черт его толкал под руку — отомкнул засов на калитке, осторожно выдвинулся за ворота. Постоял, потоптался. Естественно, никого. Лишь старые ели подступили черной стеной. Гриня сунул в рот сигарету — и тут сбоку донесся легкий свист, явственный, отчетливый, отчего у Грини враз ослабели коленки. Он резко обернулся, приладив автомат в руку, — и это было его последнее осмысленное движение в жизни. Старшина Петров показался из-за выступа забора и метнул нож. С семи метров он никогда не промахивался: нож с мягким чмоком вошел Грине в незащищенное бронежилетом, открытое горло, проткнул кадык и перерубил шейную вену.
Опережая старшину, Кныш ужом скользнул в отворенную калитку, ворвался в сторожевой домик. Навстречу с топчана поднимался, изумленно пуча глаза, пожилой мужик в армейской робе образца семидесятых годов. Кныш выстрелил с порога из «магнума» сорок восьмого калибра с глушителем, отдача была такая, что чуть не выворотило большой палец. Мужик рухнул на топчан, так и не успев встать на ноги.
От ворот побежали к дому вчетвером — метров тридцать по сосновой аллее, освещенной с двух сторон фонарями. Здесь они были как на ладони, и Кныш полагал, что это самый опасный участок: если удачно проскочат, дальше будет легче.
Проскочили, прокатились по снегу четырьмя самоходками, — и нигде ничего не загрохотало, не заухало. Ни одна собака не кинулась под ноги. Удача пока им сопутствовала — слепая старуха.
У парадного подъезда Кныш сделал знак рукой — и Санек с Климом, не задержавшись ни на секунду, помчались дальше, огибая дом. Как и говорил Кныш, с третьего этажа нависал над землей балкон с каменной балюстрадой в екатерининском стиле — непременный декоративный атрибут новорусских загородных замков. Санек достал из рюкзака эластичный трос с альпинистским трезубцем на конце, размотал — и швырнул наверх. С первого раза — точно. Подергал — крюк зацепился намертво. Клим ухмыльнулся: «Прощай, братан!» — и в мгновение ока взвился на этаж. Через несколько секунд Санек к нему присоединился. Расположились с двух сторон высокой, стеклянной балконной двери, приготовив автоматы, — ждали.
— Сквознячок, — негромко произнес Клим. — Не простудиться бы!
— Ничего, отогреемся, — ответил Санек.
Кныш поднялся на крыльцо, присосками укрепил под низ двери взрывное устройство и спустился к старшине. Отступили, прижались к стене. По рации Кныш вызвал Санька:
— Вы где?
— Наверху. Все в порядке.
Кныш нажал кнопку пульта: рвануло не сильно, но внушительно. Друг за дружкой взлетели по ступенькам: дверь зияла обугленным провалом. Ворвались в дом. Началась потеха…
Когда все идет гладко, жди беды. Двух гавриков на первом этаже срубили легко, те очухаться не успели, свет зажгли — и тут же наглотались свинца. А дальше что? Дом велик, трехэтажный, с пристройками, а внутри вообще лабиринт: коридоры, переходы, лестницы, множество комнат, холлов, кладовок, подсобных помещений. Без карты местности — черт ногу сломит. Трудность двойная: с одной стороны, надо срочно отловить какого-нибудь здешнего обитателя; с другой — медлить нельзя ни секунды. Кныш всем своим существом чувствовал, как дом проснулся, напрягся, ощетинился, готовясь уничтожить наглых пришельцев. Словно в подтверждение, откуда-то сверху мощно рявкнула сирена, заполнив все уголки истошным, дребезжащим воем. Рявкнула — и сразу умолкла, кто-то ее отключил.
Кныш и старшина торкнулись в одну дверь, в другую — заперто. На третий раз повезло: фонарик старшины высветил на кровати человеческую фигуру, прижавшуюся к стене. Кныш щелкнул выключателем: на кровати копошился пожилой мужчина в розовой пижаме.
— Пожалуйста, пожалуйста, — мужчина загородился руками. — Не убивайте меня!
— Ты кто? — спросил Кныш.
— Я повар, больше никто. Просто повар.
— Одна секунда, — сказал Кныш, направив пистолет ему в лоб. — Где прячут девушку?
— Какую девушку? Здесь много девушек… Может быть, Зузу?
— Пленница, где пленница?!
— Не знаю, я не знаю… Может, Федор знает.
— Быстрее, капитан, — поторопил старшина, наблюдавший за коридором. — Что-то слишком тихо.
— Вставай, — приказал Кныш. — Отведешь к Федору.
Только вышли втроем в коридор, освещенный люминесцентными лампами, с другого конца выскочил танцующий ферт с автоматом и послал в их сторону с десяток железных гостинцев. Петров ответил короткой очередью, стрелок шмякнулся на пол лицом вниз. Но и у них не обошлось без повреждений. Повар упал на колени, прижимая руки к животу, у Петрова на левом плече расцвела алая роза.
— Где Федор?! — рявкнул Кныш. — Какая комната?
— Через две двери, вон там, — повар оторвал руку от живота, показал направление и тут же повалился на бок, жалобно скуля.
Федор встретил их посреди комнаты с ножом в руке — здоровенный, мускулистый детина в майке. Кныш, не целясь, навскидку прострелил ему руку с ножом выше локтя. Детина завертелся волчком, его повалило на кровать. Кныш подскочил.
— Где девка, ну?!
— Какая? Террористка? Рыжая?
— Рожай, сука, пристрелю!
Детина оказался сообразительным. Объяснил: в подвале, в камере. Смотрел со злобной ухмылкой. Кныш понял: спиной поворачиваться нельзя.
— Как туда попасть?
— Можно по лесенке, здесь, за углом. Можно на лифте.
— Сколько там охраны?
— Никого там нет.
— Ну, прости, Феденька, — Кныш с размаху опустил ему на череп рукоятку пистолета.
Старшина покачивался в дверях, побледнел до синевы.
— Что, сильно зацепило? Дай посмотрю.
Рана аккуратная, без выходного отверстия. Пуля засела в мышечной ткани, крови немного.
— Потерпишь или перевязать?
— Потерплю, чего уж теперь.
У Санька с Климом свои проблемы. Кое-как раскурочили балконную дверь — разбить стекло не удалось, какой-то хитрый пластик, прострелили замок, — и в комнате застали целую обкуренную компанию: двое чернобровых парней и трое телок. Валялись на полу, на кроватях в живописной композиции, на всех пятерых из одежды — черные высокие сапоги на одной из девиц.
— Надо же, — позавидовал Клим. — И мы с тобой, Саня, могли бы по-человечески отдыхать, а не носиться по ночам с автоматами.
У них с Саньком задача простая — наделать как можно больше шуму. Отвлекающий маневр. Парней, так и не продравших зенки, наскоро приковали к кроватям наручниками, а телок, кое-как растолкав, выволокли на этаж. Раскатали в разные стороны по коридору по «лимонке», устроили классную иллюминацию. Взрывы, вопли обезумевших голых девиц — лучше не придумаешь.
— Знаешь, Санек, — заметил Клим, — а мне нравится. Весело здесь. Напомни только, мы зачем сюда пришли-то?
Санек не успел ответить, за него это сделал спокойный жестяной голос, прозвучавший, казалось, отовсюду:
— Ну-ка, ребята, аккуратно пушки на пол и руки за голову. Вы оба на мушке. Рыпнетесь — и хана!
Непонятно было, откуда голос, а также где эти самые, которые держат их на мушке: по обе стороны пустой коридор, впереди деревянные перила и темный провал. Сверху — плохо различимые балки потолочного перекрытия, смыкающиеся куполом. Вот что значит оказаться в незнакомом месте. Девки притихли у ног, будто получили по очередной дозе. Санек с Климом одновременно нагнулись и положили на пол автоматы.
— Сумку туда же, — приказал голос. Санек снял со спины рюкзак, поставил рядом с автоматом.
— Где они? — спросил тихо. Клим грязно выругался и шагнул к перилам. В ту же секунду сверху из черноты полыхнуло огнем. Вся грудь у Климушки оказалась разворочена, словно он поймал пушечный снаряд. Выплыли наружу голубоватые внутренности, и кровь хлынула рекой. Остолбенело он уставился на друга.
— Чего скажу, Сань… Я ведь больше всего за глаз переживал. Хуже нет слепачом мыкаться.
— Больно, Клим?
— Ничего, терпимо, — это были его последние слова. Слабо пожав руку друга, он прикрыл глаза и отбыл восвояси. С тихим всхлипом устремилась ввысь беззаботная душа, будто серебряный зайчик мелькнул мимо уха Сани.
Санек набрал в легкие побольше воздуху, спружинил-ся, сгруппировался — и покатился по коридору, кувыркаясь и подпрыгивая, как резиновый мячик. Ничего не видел и не слышал, ни пальбы, ни огня, только один раз почувствовал, как по левой ноге словно проехало бревно. Благополучно добрался до лестницы и обрушился вниз, пересчитал сотни ступенек, пока твердо не уселся задом на ковер. Не теряя минуты, отполз вбок, к призрачно мерцающему шкафу, будто к нависшей скале. Втиснулся в простенок, затаился, вытянув раненую ногу. Достал из-за пазухи подвешенный на ремешках пистолет, повредивший ему ребра при падении, взвел предохранитель и попытался отдышаться. Подумал: ладно, еще повоюем, козлы вонючие! А к кому обращался, и сам не знал.
…Кныш легонько постучал в дверь рукояткой пистолета.
— Входи, чего надо? — отозвался мужской голос. Толкнул дверь, вошел. Таина лежала на кровати, прикрытая простынкой. Странно на него посмотрела, словно не узнавая. В хрупком свете единственной лампочки ее лицо казалось выточенным из серого воска, неживым, лишь угольный блеск глаз выдавал, что она в сознании. Рядом стоял высокий молодой кавказец, безоружный. У Кныша по позвоночнику скользнул червячок страха.
— Тина, ты меня видишь? Что с тобой?
— Ничего, Володечка… Ты немного опоздал. Познакомься, это Арчи. Не убивай его, это мой друг.
Кныш стволом пистолета указал парню, чтобы тот отодвинулся в угол, не упуская его из поля зрения, склонился над девушкой.
— Встать сможешь?
— Нет, Володечка. Я пробовала, ножки не держат.
Кныш повернулся к кавказцу:
— Что с ней?
— Пытали, — лаконично ответил Арчи. — Наверно, помрет. Перестарался Муса.
— Не каркай… Помрет — и ты помрешь. Все помрем.
Осторожно стянул с девушки простыню, покачал головой — и опять накрыл до шеи.
— Ужасно, да, Володечка?
— Пустяки… Бывает намного хуже. Кампертер тебя мигом вылечит. Только бы до него поскорее добраться… — опять обернулся к Арчи. — Поможешь уйти, абрек?
— Ты за ней пришел?
— Не за тобой же.
— Кто она тебе?
Что-то удержало Кныша от честного ответа.
— Она мне как сестра, а тебе?
— Мне тоже, — усмехнулся юноша. Кныш не мог понять, что таится в его черной башке, это его беспокоило. Но недолго. За дверью, где остался старшина, загремели выстрелы, раздались гортанные крики, но через секунду все стихло. Кныш выглянул, держа пистолет наготове, и увидел печальную картину: трое бойцов раскинулись на полу в живописных позах, посередине сидел Петров с залитым кровью лицом, похожий на поваленное дерево с разбитой молнией верхушкой. Его единственный уцелевший глаз горел циклопическим светом.
— Куда тебя, куда, Петров? — подлетел Кныш. Но мог и не спрашивать: старшина был весь в дырках, как решето.
— У-у-у, — промычал тупо.
— Сейчас, сейчас, — засуетился Кныш, — сейчас перевяжу…
Старшина поднял руку с зажатым в ней пистолетом. Устремленный на Кныша глаз просиял невыносимой мукой.
— Не вини себя, капитан… Достали духи, мать их!..
Донес пушку до виска и дернул пусковой крючок.
Кныш видел много смертей, эта была не самая страшная, даже благостная, как всякая смерть в бою, но сердце сдавило свинцом.
— Прости, старшина, — прошептал. Петров ничего не ответил.
В комнате Арчи, добывший откуда-то, видно, из шкафа, зимнее мужское пальто, закутывал в него Таину, да так старательно, что слюнки на губах появились.
— Молодец, — похвалил Кныш, — Что дальше предлагаешь?
— Пойдем в гараж. Если повезет, удерешь. Вряд ли повезет.
— Уж это как карты лягут, — согласился Кныш.
Поднял девушку на руки — драгоценная, легкая ноша! — она доверчиво уткнулась носом в его шею.
— Милый Володечка. Мы ведь хорошо пожили, правда?
— Потом еще лучше поживем, — пообещал он.
В коридоре его поразила противоестественная тишина: после взрывов, криков и пальбы дом словно замер. Арчи поднял с пола чей-то автомат. Кныш не знал, хорошо это или плохо.
Выйти из подвала беспрепятственно им не удалось, в конце коридора наткнулись на Бореньку Интернета. С автоматом в руках, изображая крадущегося охотника, он выглядел как мишень в тире. Кныша аж в жар бросило, тем более, что он сослепу, сгоряча чуть не пальнул.
— Борька, ты как тут оказался?!
— Стреляли, — горделиво ответил Боренька, подражая знаменитому герою знаменитого фильма. На этом его бахвальство закончилось. За ним выросла массивная темная фигура, схватила за уши, подняла, потрясла — и из Бореньки посыпались на пол ключи, автомат и еще какая-то мелочь.
— Ое-ей! — завопил он от боли, трясясь в могучих руках.
Фигура опустила его на землю — рядом возникли еще две тени. Лиц Кныш не различал: грань света и тьмы. Но по основательным действиям понял: влип не на шутку. Тут же это подтвердилось. Раздался четкий приказ:
— Арчи, забери у него пистолет… Девку пусть положит на пол.
Нагнувшись, чтобы опустить Таину, Кныш спросил, не разжимая губ:
— Кто это?
Так же шепотом Арслан ответил:
— Муса… Не дергайся, отдай пушку. Я все сам сделаю.
Кныш подчинился, хотя не понял, что именно тот собрался сделать. Положение он оценил как почти безнадежное. Его единственный шанс заключался в том, что абреки захотят взять его живым. Это логично, им торопиться некуда. За поясом у него был еще один пистолет — и две гранаты в карманах. Вполне можно повоевать.
Расстояние между ними было метров семь, и пока Арчи его преодолевал, тот, кого звали Мусой, ухватил Бореньку за череп и резким рывком свернул ему шею. Хруст получился внятный, как будто переломили сухую ветку. Обмякшую худенькую тушку абрек бросил себе под ноги. Таина все это видела.
— Интернетушка, — простонала она, — Вовка, как же это?!
— Бывает, — сказал Кныш. — Ты пока отдыхай.
То, что произошло дальше, привело его в изумление. Молодой кавказец, не дойдя до своих кунаков двух шагов, поднял автомат и открыл огонь. Он продолжал стрелять и после того, как не ожидавшие подлого нападения бойцы, рассеченные на части лобовыми очередями, уже корчились на полу. Кныш подбежал и вырвал у него автомат. Парень был бледен как смерть.
— Как понимать? — строго спросил Кныш, — Ты спятил?
— Не лезь, — Арчи внимательно разглядывал пустые, дрожащие ладони. — Это семейное дело.
— Уважаю… Но что скажет Рашид-бек?
— Откуда он узнает?
— Только не от меня.
Вернулся за принцессой, опять взял ее на руки. Девушка дрожала, глаза увлажнились, в них потух блеск.
— Володя, пожалуйста… захватим с собой Интернетуш-ку! Как же он останется один?
— Я за ним попозже вернусь, не волнуйся.
В подземный гараж попали сложными переходами, в которых Арчи ориентировался, похоже, с закрытыми глазами. Вошли через узкую железную дверь, Арчи зажег свет. В просторном бункере стояли три машины: джип-чероки, шестисотый «Мерседес» и красная спортивная машина с брезентовым верхом — прямо невеста на выданье.
— Чего возьмешь? — спросил Арчи.
— Джип, если позволишь.
— Бери джип, хорошо.
Арчи после разборки в подвале еще не совсем пришел в себя, вид у него был ошалелый. Вдвоем они загрузили принцессу на переднее сиденье. Она ничего не говорила, только крякала, как утка. Арчи смотрел на нее с тоской.
— Не забывай меня, девушка.
За нее ответил Кныш:
— Не забудет, не сомневайся… Скажи лучше, как быть с воротами? Ну с теми, на дворе.
— Я их отсюда открою.
Кныш вдруг почувствовал острую симпатию к загадочному печальному кавказцу, почти любовь. Сказал растроганно:
— Я твой должник, Арчи. В любое время.
Парень рассеянно кивнул.
Ключи в замке зажигания. Кныш сосредоточился на управлении — осмотрел приборы. Такую машину он водил всего раз в жизни, да и то очень давно. Арчи подошел к стене, пощелкал кнопками на черной панели. Створки гаражных ворот медленно разъехались. Кныш поддал газку, тяжелая машина сдвинулась с места неожиданно легко. Двор пустой — с побледневшими от близкого рассвета фонарями. Когда подъехал к въездным воротам, те уже были распахнуты. Через минуту без всяких приключений добрались до брошенной на опушке «Газели». Еще через короткое время выкатились на предутреннюю трассу. Никто их не преследовал.
Долго молчавшая (Кныш думал, уснула) принцесса жалобно прошептала:
— Ой, не могу… Бореньку жалко…
— Не только Бореньку, — жестко заметил Кныш. — Четверо мужиков поклали за нас головы. Большие потери.
— Разве четверо?
— Никак не меньше, — сказал Кныш.
Но Санек был еще живой. В своем ухороне за шкафом он прикидывал, как выбраться на волю. Ногу перетянул шарфом выше колена, она затекла и дергалась, как при нарыве, но, кажется, не кровоточила. Прошло довольно много времени. Услышав откуда-то снизу глухие звуки стрельбы, Санек решил, что Кныш со старшиной скорее всего отправились следом за Климушкой. Затея с самого начала была провальной, но чего теперь сокрушаться. Свою задачу они с Климушкой выполнили, пошумели, побузотерили, теперь хорошо бы смыться. Постепенно он пришел к мысли, что единственный вариант — подняться опять по лестнице и вернуться в комнату с балконом. Конечно, там стрелок-наблюдатель, но это уж как повезет. Зато наверху рюкзак, в котором много полезных вещей, в частности, гранаты и дымовая шашка. С балкона можно спуститься, а там… Правда, он не представлял, как побежит на одной ноге, но попытка не пытка.
Смерти Санек не боялся, вообще не думал о ней. В его мире она всегда была рядом, как соседка по лестничной клетке. Сын рыночной Москвы, он понятия не имел, что можно жить иначе. Да он и не искал другой жизни, вполне был доволен той, какая досталась. Сейчас ему хотелось еще хоть разок повидать принцессу, но он понимал, что это маловероятно.
— Ладно, — сказал он вслух. — Пора, брат!
Но в тот момент, когда он сделал первое движение, под потолком вспыхнула хрустальная люстра и залила беспощадным светом большой зал со множеством книжных шкафов. Санек машинально втиснулся обратно в свою нору. Прямо в уши ему загремел издевательский голос:
— Выползай, крыса, выползай! Ха-ха-ха!
Хохотал не один человек, а двое или больше, но Санек никого не видел. Нападавшие где-то прятались, но где? Беспомощно озираясь, насколько хватало обзора, он судорожно сжимал в руке пистолет с шестью зарядами пятого калибра, свое единственное оружие, кроме ножа. В сущности, детская игрушка, хотя в закрытом помещении при сноровке им можно нанести урон.
Внезапно дверь, расположенная как раз напротив того места, где он прятался, распахнулась, в комнату ворвался детина с автоматом в руках, дико вопя, послал в его сторону короткую очередь — и тут же нырнул обратно. Затем это повторилось несколько раз. Из дверей выскакивали стрелки, иногда по двое, с хохотом и гиканием, не целясь, палили в него — и исчезали. Развлекались, давили на психику. Нарочно брали чуть повыше. Голос, усиленный динамиком, гипнотизировал:
— Не нравится, крысенок? Погоди, счас поджарим… Сдавайся, сволочь!
Санек понял, что его песенка спета. Вот где пришлось сдохнуть, в библиотеке богатого московского хана. Ни одной книги из этих шикарных шкафов он никогда не прочитает, да и много ли вообще он прочитал за всю свою жизнь?
Грустно улыбаясь, Санек поднялся на ноги и вышел на середину комнаты. Простреленная нога послала в мозжечок сокрушительный болевой импульс, но он устоял. Начал стрелять, когда в дверь сунулась очередная лихая парочка, и вызвал на себя бешеный встречный огонь. Он стрелял и падал, падал и стрелял, хотя давно израсходовал обойму. Он пытался зацепить врага уже с того света, и это была такая смерть, о которой нормальный пацан может только мечтать.
ГЛАВА 5
Только на четвертый день Таина начала потихоньку выздоравливать, а до того находилась в глухой спячке от снадобий, которыми ее пичкал Кампертер. Он объяснил Кнышу, что физические повреждения, причиненные принцессе, — это ерунда, все зарубцуется, главное, чтобы прорвался психический нарыв, рассосалась душевная травма, а для этого лучшее лекарство — долгий, безмятежный покой. Кныш не спорил, хотя полагал, что гениальный хирург ошибается. Никакого психического нарыва у принцессы не было и быть не могло. По той простой причине, по которой безумный человек не сходит с ума вторично.
Кныш дневал и ночевал в больнице, в каморке рядом с кухней, отведенной ему Кампертером для временного проживания. Тут у него имелась железная кровать с матрасом и набором постельного белья, два стула, тумбочка, маленький телевизор и платяной шкаф. Чтобы легализовать его положение, Кампертер объявил сотрудникам, что нанял нового санитара, который пока не устроился с жильем. Для частных клиник, наподобие этой, наем младшего персонала из беженцев или даже бомжей был нормальной практикой: такая рабочая сила обходилась вдвое-втрое дешевле.
В первый же день Кныш связался по телефону с полковником Александром Ивановичем, и тот сообщил ему не слишком утешительные новости: Рашид-борец заказал на них всероссийский розыск и за обоих назначил награду — по сто тысяч долларов за голову. Вся московская милиция будет поднята на ноги — это не считая частного розыска, завтра их физиономии покажут по всем программам телевидения. После этого полковник поинтересовался, в надежном ли месте они укрылись, на что Кныш ответил, что в надежном, но адрес не сообщил. Александр Иванович засмеялся.
— Правильно, Володя, никому не доверяй… Только скажи: как она?
— Ничего, живая.
— Хлопцев много положил?
— Четверых.
— Не переживай… В Москве братвы немерено. Все равно придется чистку делать.
— Понимаю, — сказал Кныш.
Из разговора уяснил одно: из больницы надо уходить как можно скорее. Пошел к Кампертеру, чистосердечно рассказал о возникшей проблеме: за Тинку и за него аж по сто кусков дают. Что делать? Кампертер подмигнул Кнышу.
— Приму меры, не переживай.
— Какие?
— К Тайне Михайловне ограничу доступ, а тебе надо изменить внешность.
— Кое-кто нас уже видел.
— Будем надеяться, не продадут. А что ты еще предлагаешь?
Со своей личиной Кныш тем же вечером управился в два счета. Когда стемнело, смотался в ближайший шопик и купил темные очки, закрывавшие пол-лица. Насчет себя он не очень волновался. Чего они там покажут по телевизору? Где возьмут подходящую фотку? На все это понадобится время. А там бородка начнет расти… Хуже с принцессой, она приметная. Первое, что нужно сделать, это обстричь огненные космы и перекрасить ее в черный цвет. Этого будет достаточно, чтобы уйти из города, а пока…
Он часами сидел возле ее кровати и смотрел, как она спит. Это были счастливые часы. От ее спящего лица, изуродованного кровоподтеками, исходило лунное сияние. Изредка она открывала незрячие глаза, переворачивалась на другой бок. Кныш подолгу держал руку на ее животе, на солнечном сплетении, ворожа, пересылая свою силу. В лучшем случае им обоим предстояли долгие скитания, но на сердце у него было спокойно, как никогда прежде. Ушли и злоба, и тоска, и смятение. Он приплыл наконец к родному берегу, к своей суженой, которой никак не удавалось проснуться.
Несколько раз в день в палату заглядывала медсестра Наталья, пожилая, невозмутимая женщина с круглым деревенским лицом. Измеряла принцессе давление, температуру, делала какие-то уколы, но на очкастого Кныша не обращала внимания, словно его тут и не было. Похоже, строго выполняла тайные инструкции врача. В ее уверенных плавных движениях чувствовался большой опыт. Кныш порывался ей помочь, но наталкивался на необидное сопротивление:
— Не надо, не надо, я все сама…
— Давно работаете с Кампертером? — спросил он как-то, не удержался. Сестра Наталья ответила понимающей улыбкой.
— С Геннадием Федоровичем мы вместе десять лет. Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо.
Кныш не стал уточнять, что она имела в виду.
Когда случалась свободная минута, присоединялся к нему и Кампертер. Ему тоже нравилось разглядывать спящую принцессу. По вечерам долго засиживались. Один раз доктор принес бутылку молдавского коньяка, выпили за счастливое избавление девушки из плена. Кампертер поинтересовался, что он собирается делать, когда Таина выздоровеет.
— Увезу из Москвы. Там видно будет.
— Думаете, согласится?
— Думаю, ей деваться некуда.
— Вы любите ее, Володя?
— Возможно. А что такое?
— Нет, ничего… Поразительная вещь… Вы не застали, Володя, а я застал то время, когда люди были другими. На моих глазах мир свихнулся, привычные понятия утратили свой изначальный смысл, человек озверел — деньги, деньги, деньги! — больше ему, кажется, ничего не нужно. А спроси, зачем ему деньги, не всякий толком ответит. Вот вы, Володя, знаете, зачем вам деньги?
— Мне они вообще ни к чему. Так уж, если пожрать да из одежды купить кое-что.
— Ага… Но я не об этом… Врачи, Володя, истинные врачи в чем-то похожи на священников, они способны подмечать в человеческой природе что-то такое, что другим не всегда видно. Болезнь тела всегда ведь связана с болезнью души. В последнее время, буквально в последние месяцы в людях начали происходить перемены к лучшему, есть тому признаки, пусть эфемерные, но для врача убедительные. Осмысленный, просветленный взгляд юноши, больного СПИДом, улыбка всепрощения в глазах умирающего от голода инвалида, невинный лепет ребенка… перед этим бесовщина отступает. Взять хотя бы вас… Как я понимаю, вы прожили не совсем безгрешную жизнь.
— Обыкновенную… Воевал.
— Именно так. Воевали. Нахлебались всякого, а довелось влюбиться и готовы рискнуть жизнью ради нелепого, в сущности, чувства.
Что-то задело Кныша — покровительственный тон, взгляд свысока.
— Ошибаетесь, доктор. Я и раньше рисковал. Это дело привычки.
— Не скажите… Можно рисковать просто так, по стечению обстоятельств, по лихости нрава, а можно — ради кого-то. Или ради чего-то. Из-за женщины, из-за идеи. Тут две большие разницы. Через любовь приходит прозрение, никак иначе. Только на блошином рынке, куда нас всех загнали, для этого чувства нету места. Оно ведь не продается и не покупается. И вот вам главная примета: если любовь возвращается, если люди исчерпали запасы злобы и алчности, значит, вселенский морок скоро развеется.
Кныш не возражал, допил коньяк из чашки. Покосился на принцессу, которая, возможно, слушала их во сне.
— Вы ведь и сами в нее влюблены.
— Увы, — доктор устало улыбнулся. — Все давно перегорело. Я вам не соперник, всего лишь наблюдатель… Полагаете, она отвечает вам взаимностью?
— Вряд ли… Но это не важно, — с удивлением услышал Кныш собственный ответ.
…На четвертые сутки ближе к обеду (через двенадцать часов после последнего укола) Таина очнулась. Бедовые очи прояснились, с них спала пелена, как иней со стекол. Увидела Кныша и слабо, через силу улыбнулась.
— Господи, Володечка, как же долго я спала, целую вечность. И какой страшный мне снился сон, ты не представляешь.
Потом она окончательно проснулась и поняла, что это был не сон. На похудевшую щеку выкатилась серебряная слезинка.
— Значит, правда? Бореньку убили?
— Не только Бореньку, — Кныш солидно покашлял. — И Санька Маньяка, и Климушку. И старшину Петрова, но ты его не знала. Всех положили, кого смогли.
— А мы как же с тобой?
— Что — мы?
— Мы-то как уцелели?
— Фарт такой, — Кныш пересел к ней на кровать, взял ее руку в свою. — Как себя чувствуешь, маленькая?
Она ответила остекленелым взглядом, но руку не отняла.
— Володя, посиди тихо, мне надо подумать, — и прикрыла глаза.
Думала недолго, минут десять. Вернулась к нему постаревшей, с сухими глазами и жестяным голосом:
— Мы сейчас где с тобой?
— У Гены Кампертера в больнице.
— Давно мы тут?
— Четвертый день.
— Нас ищут?
Десять минут назад Кныш, наверное, усомнился бы, говорить ли ей все, как есть, но сейчас перед ним лежала прежняя принцесса, хитроумная и уверенная в себе. Амазонка из московских джунглей. Хотя еще неизвестно, сумеет ли она встать на ноги.
— Рашид-оглы-бек награду назначил. Сто тысяч баксов за твою рыжую голову. Вся милиция на ушах. Надо валить отсюда как можно скорее. Пока не повязали.
— Куда, Володечка, валить?
У Кныша был план, он им поделился.
— Если твой полковник поможет с документами, то пока в Европу. Отсидимся где-нибудь.
— Как ты узнал про Милюкова?
— Он сам на меня вышел. Помог тебя вытащить.
Таина опять задумалась, но глаз не закрывала, бодрствовала.
— Тина!
— Что, Володя?
— Давай сейчас оставим этот разговор… Я позову доктора?
— Позови… Подожди! Поцелуй меня, пожалуйста, если тебе не противно.
Кныш прикоснулся к ее губам, ощутив себя так, будто нырнул в омут.
— Володя, ты сможешь меня простить?
— За что?
— За мальчиков, за все остальное. Что втянула тебя.
Кныш искренне удивился:
— При чем тут ты? Кто в эту игру ввязался, тот сам за себя ответчик.
— Это не игра, Володечка. Это война.
— Пусть война… — он уже был у двери, она снова его окликнула:
— Володя!
— Да, маленькая?
— Ты хочешь удрать? Выходит, вся эта сволочь взяла верх? Будет праздновать победу?
Чего-то подобного он ожидал с самого начала, но не думал, что она так быстро придет в себя. Безумие вернулось к ней с первым осмысленным вздохом.
— Потом, — сказал он. — Потом обсудим, хорошо?
— Хорошо, любимый, — отозвалась с показным смирением, которому он давно знал цену.
В последующие дни она начала потихоньку расхаживаться. Под бдительным оком Кныша послушно выполняла дыхательную гимнастику с постепенным увеличением нагрузок. Много и с аппетитом ела. На второй день выпила вина. По ее виду трудно было догадаться, что ее двое суток подряд пытали и насиловали, это больше всего беспокоило Кныша. Он сам не раз спасался от смерти и помнил, какого это требует напряжения. Кампертер тоже видел, что она затаилась, и подозревал, что в ней тикает бомба с заведенным часовым механизмом. Она никого не пускала к себе в душу, а это очень опасно, если учесть, какие испытания выпали на ее долю. Он привел к ней психиатра, ста-ричка-боровичка со странным именем Шустик Хасанович Куроедов. Таина согласилась с ним встретиться, но с условием, что при беседе не будет никого постороннего. Кныш изобразил обиду:
— Разве я тебе посторонний?
— Ты — нет. Но я буду стесняться.
Такой ответ его удовлетворил: это было все равно, что услышать от футбольного мяча, что он краснеет от стыда, влетая в ворота, — то есть вполне в ее духе. Шустик Хасанович пробыл в палате около двух часов и вышел оттуда задумчивый, как Будда, хотя до этого строил рожи, игриво потирал сухонькие ручки, сверкал позолоченными окулярами и походил на старого идиота, что соответствовало представлению Кныша о знаменитых психиатрах, почерпнутому в основном из кино. Он проводил его в кабинет к Кампертеру. Там они уселись в кружок, и сестра Наталья подала кофе со сливками и сдобное печенье.
— Как вы ее находите? — поинтересовался Кампертер.
— С точки зрения психиатрии — вполне здоровый экземпляр. — Шустик Хасанович энергично подергал себя за ухо. — Однако ее фантазии… — он обратил подозрительный взгляд на Кныша. — Простите, юноша, вам лично кем она приходится?
— Невеста, — сказал Кныш.
— Ага… Вот вы и просветите меня, старика… Она утверждает, что она девица. Соответствует ли это действительности?
— В каком смысле?
— В самом прямом.
— Об этом мы еще не разговаривали, — промямлил Кныш, с трудом подавляя улыбку. Профессор дернул себя за ухо с явным намерением его оторвать.
— Милый юноша, не заставляйте меня думать о вашем поколении еще хуже, чем я о нем думаю.
Кампертер поспешил вмешаться — подлил в чашку сливок, пододвинул ему печенье.
— Если я правильно понял, профессор, вы не заметили у нее никаких отклонений?
— Повторяю, коллега, она здоровее каждого из нас. Да это и немудрено.
— Что вы имеете в виду?
— То самое, коллега, — профессор перешел ко второму уху, убедясь, что первое держится крепко. — При ее внешних данных, да при таких родителях… Девочка призналась мне под секретом, но вы, разумеется, в курсе?
Кампертер переглянулся с Кнышем.
— Разумеется, — осторожно согласился Кампертер. — А кто ее родители?
Профессор с уважением ткнул пальцем в потолок.
— Или у вас есть сомнения?
— Совершенно никаких, — чуть ли не хором ответили Кныш и Кампертер.
…В тот же день он позвонил полковнику Милюкову, единственному человеку, который мог им помочь. Если по каким-то причинам тот откажется, то дело швах.
Кныш начал разговор обиняком, но полковник понял его с полуслова.
— Паспорт у тебя с собой, капитан?
— Да.
— В девять вечера подскочит мой человек, передашь ему.
— А-а?..
— С ней все в порядке… Ее документы у меня… Ты уже говорил с ней об этом?
— Пробовал.
— Упирается?
— Вы же ее знаете. Ее сразу не поймешь.
— Ты все правильно делаешь. Другого пути нет. Каждый день промедления чреват… Как она?
— Ничего. Оклемалась. Гимнастику делает, — не удержался, пожаловался: — С головой у нее не совсем. Собирается дальше воевать.
Полковник ответил авторитетно:
— Не падай духом, капитан. С головой у нее всегда было неладно. Это ее уязвимое место… Значит, так. Когда будешь готов, дай знать. Билеты, визы и все прочее получишь в аэропорту… Передай от меня Тинке… — вдруг он замолчал, и Кныш его не торопил. Он сам размышлял над двумя важными вещами: почему полковник так свободно говорит обо всем по телефону, не опасаясь прослушки, и откуда у него документы принцессы?
— Передай ей, что это ненадолго, — голос полковника смягчился, — Покантуетесь полгодика — и вернетесь. Еще скажи, пусть не волнуется, все ее здешние проблемы я улажу.
— Почему бы вам самому ей это не сказать? Раз уж у вас такие доверительные отношения?
— Не задирайся, капитан, — беззлобно одернул собеседник. — Сейчас не время выяснять, кто есть кто. Главное, ее спасти. Ты согласен?
— Вполне.
В палате медсестра Наталья хлопотала возле принцессы, сидящей за столом перед зеркалом, но когда Таина обернулась, он ее не узнал. На него смотрела какая-то нацменка с короткой прической, с волосами, как смоль, и с раскосыми, подведенными к вискам глазами. За три-четыре часа, пока он отсыпался у себя в каморке, произошло полное перевоплощение. Женщины самодовольно улыбались.
— Ну, как тебе? — спросила Таина.
— Слов нет… У тебя турок не было в роду?
— Не хами, парниша!.. — Таина прошлась перед ним по палате, откуда-то у нее взялась темно-синяя длинная юбка и тонкий шерстяной свитерок. — У вас просто талант, Наташа. Гримерши с телевидения вам в подметки не годятся.
— Вы уж скажете… — медсестра зарделась, такой возбужденной Кныш ее раньше не видел. Только непонятно, чему они обе радовались. Впрочем, много ли женщинам надо? Таина взяла его под руку.
— Скажите, Наташа, похожи мы на секретных агентов?
— Похожи на двух голубков.
— Особенно он, да? — Таина отстранилась от Кныша, всплеснула руками. — Ух ты! Володечка, как же тебе идут темные очки! Еще бы тросточку и котелок. Прямо лондонский денди.
Ее показушная смешливость пугала Кныша больше, чем заторможенность. Когда Наталья ушла, пообещав вскоре вернуться, чтобы сделать укол, он строго, голосом Кампер-тера, сказал:
— Приляг, Тина, надо поговорить.
— Говори так, я постою.
— Не паясничай, это серьезно.
— У тебя кончились деньги?
— Хватит, прошу тебя.
Он действительно начал раздражаться, но дело было не в ней. Все эти дни он чувствовал себя так, будто его стреножили, как коня на лугу. Ночные бдения, внеурочные трапезы, короткие пробежки от каморки до ее палаты, много пустых разговоров с доктором, — все проходило как бы мимо сознания, на самом деле он зациклился на одной-единственной мысли: ее убили, ее убили! Она живая, смеется, говорит разные слова, делает гимнастику, но это уже не она. Ту, прежнюю, убили… С той, прежней, он не успел объясниться в любви и теперь никогда не успеет. Мысль была настолько абсурдная, что он пугался ее, как мальчиком однажды испугался гадюки, выползшей из-под камня, когда он нагнулся, чтобы сорвать землянику. Ее убили! Господи, только бы она об этом не догадалась.
А она начинала догадываться. Да и как не догадаться, если от каждого ее прикосновения он ежился, как от ледяной воды. Правда заключалась в том, что если ее убили, если принцесса умерла, а осталась только вот эта черноволосая красавица нацменка с нервным ртом, то и ему ничего другого не остается, как умереть.
— Ну?! — поторопила Таина, развалясь на кровати в неприличной позе. — Что еще придумал мой герой? Какую страну выбрал для эмиграции?
Та ли, другая ли, она по-прежнему читала его мысли.
— Да, — сказал он, — ты правильно поняла. Я разговаривал с полковником.
— Что хорошего сообщил любезнейший Александр Иванович?
— Передал привет. Он кто тебе, Тин? Любовничек?
На секунду затуманился ее взгляд и снова прояснился, полыхнул голубоватым антрацитом.
— Что еще сказал?
— Дела хреновые. Если не свалим в ближайшее время, то капут.
— Тебе хочется спасти свою шкуру, Володечка? Так беги один. А я останусь с мальчиками. Для меня они живые.
Их глаза встретились, и ему показалось, что принцесса его ненавидит. Что ж, печально, коли так. Он заговорил в рассудительной стариковской манере, в той самой, какая всегда выводила ее из себя. «Ну что ты кашу жуешь? Проглоти!» — кричала она, когда он заводил свои нотации.
— Расклад получается такой, Таина Батьковна. Никому ты не сможешь отомстить, силенок у тебя нету, мы оба на крючке. Если не отчалим, нас обоих зароют в землю, а сверху помочатся. Это нормально. Так всегда поступают с лохами. И не строй из себя истеричку, тебе не подходит.
— Сволочь, — завопила принцесса, — Что ты знаешь обо мне?
— С другой стороны, — спокойно продолжал Кныш, — бегство — это не капитуляция. Мы вернемся, маленькая. Через полгода, через год — обязательно вернемся. Обещаю тебе.
Показалось, она готова разреветься, и Кныш обрадовался. Он слышал или читал где-то, что слезами женщина исторгает из себя горе и муку, потому и живет дольше мужчины, который плакать не умеет. Но у принцессы глаза остались сухими, только серая влажная тень промаячила.
— Думаешь, они меня напугали?
— Никто так не думает, что ты! Ты самый отважный человечек, отважней не бывает, уж я всяких повидал, поверь. Ты стойкий оловянный солдатик.
— У них кишка тонка.
— Тоньше твоего волоска, — подтвердил Кныш.
Девушка посмотрела подозрительно.
— Тогда поцелуй меня… Или противно?
Он поцеловал — и ничего не случилось.
Около девяти вышел на улицу. Мороз стоял градусов двадцать. Слепящей белизны снег под фонарями, чудилось, похрустывал от прикосновения взгляда. Кныш покурил на крылечке, дождался, пока на противоположной стороне улицы припарковался красный «жигуленок», из которого вылез невысокий мужчина в дубленке, огляделся и не спеша направился к нему. Из вежливости Кныш сделал несколько шагов навстречу. Мужчина спросил:
— Володя Кныш?
— Так точно. Вы от полковника?
— Да. Вы приготовили то, что он просил?
Кныш отдал паспорт, завернутый в пластиковый пакет.
— Передайте Александру Ивановичу — дня три-четыре, не больше. Он поймет.
— Хорошо… Со своей стороны, Александр Иванович советует быть как можно осторожнее.
Пожали друг другу руки — и расстались. Мимолетная встреча, даже не знакомство, но Кныш ощутил приятное чувство облегчения: все-таки он не один.
Докурив, завернул в кабинет к Кампертеру, а тот, как на грех, проводил совещание с юной медсестричкой, худенькой, смуглоликой, с прелестной фигуркой — Кныш ее и раньше примечал. Собеседование зашло довольно далеко, сидели рядышком на диване, у сестрички халат и блузка расстегнуты до пупа, на столе — коньяк, фрукты. Кныш извинился и хотел ретироваться, но Кампертер его остановил:
— Заходи, заходи, Володя… Леночка, оформи все, как я просил, попозже доложишь… договорились?
Девчушка, запахиваясь на ходу, стрельнула в Кныша укоризненно-разгоряченным взглядом и прошмыгнула в дверь.
Доктор налил коньяка в чистую чашку.
— Что-то случилось?
Кныш присел, чокнулся с Кампертером.
— Еще раз прошу прощения, доктор.
— Брось… — Кампертер поморщился. — Это все суета. Бес, как говорится, в бороду… иногда просто себя презираю. Но что поделаешь, человек слаб. Так я слушаю тебя?
— Время поджимает. Я хотел бы… Вы можете сказать, сколько ей надо тут пробыть, чтобы… одолеть долгую дорогу?
— Долгую дорогу? — Кампертер в задумчивости сделал пару глотков, словно в чашке был не коньяк, а молоко. — И куда же, если не секрет, собираешься ее переправить?
— Пока в Европу.
— Крепко… И что вы намерены там делать, в этой хваленой Европе?
— При чем тут это? — Кныш насупился. — Жить намерены. Здесь-то не дадут. Здесь-то обложили.
— Но ведь деньги большие нужны, ты подумал об этом?
Только тут Кныш заметил, что доктор изрядно пьян.
Глаза у него слезились, и язык ворочался затрудненно, хотя речь оставалась внятной. Таким он его еще не видел. На лице застыло выражение вселенской тоски, как у сенбернара.
— Деньги везде нужны, я не об этом. Когда она будет готова к транспортировке?
— Да хоть завтра. Или никогда. Видишь ли, братишка, такие потрясения, какие выпали ей, ранят не столько тело, сколько душу. А душа, увы, не в ведении медицины. Она проходит совсем по другому ведомству.
— Сегодня вторник, — сказал Кныш. — В пятницу мы уйдем… Годится?
— Конечно, годится… Я и сам бы с удовольствием умотал с вами, но у меня две семьи, представляешь?
— Еще бы! — улыбнулся Кныш.
ГЛАВА 6
На звонок открыла пожилая женщина в домашнем халате. Помятое лицо, всклокоченные темные волосы — внешне она ничем не напоминала свою дочь.
— Катерина Васильевна?
— Да… А вы кто? Вы от Тиночки? Вас зовут Володя? Проходите, проходите… Она недавно звонила.
Квартира убогая, в «хрущевке», — крохотный коридор, где вдвоем не развернешься, низкие потолки, старая мебель — ото всего веет бедностью и тленом. Кныш глазам своим не верил: как-то это все не совмещалось с обликом блистательной, богатенькой рыжей принцессы. Вдобавок с кухни выполз пьяный мужик с остекленелым взглядом, с двумя волосиками на узкой головенке — и это не мог быть никто другой, кроме как папаня Таины. Уставился на Кныша.
— Ты кто, парень? Таисья прислала?
— Ступай, Миша, ступай… — Катерина Васильевна попыталась выпихнуть мужа обратно в коридор, но он стоял крепко. — Ну чего ты? Он сейчас уйдет.
— Слышь, парень, пойдем, у меня осталось маленько. Примем по глоточку за ее здоровье.
— Спасибо, — поклонился Кныш. — Не могу. За рулем. В другой раз.
— Была бы честь оказана, — обиделся мужик. — Токо Тайке передай, мы в ее поганых деньгах не нуждаемся. А сама родителей забыла — вот это грех. Передай, не забудь.
— Не забуду, — пообещал Кныш.
Кое-как женщина выставила забулдыгу, из соседней комнаты принесла картонную коробку.
— Вы уж его извините, Володя… Он вообще-то редко себе позволяет, разве что по праздникам.
— Кто сейчас в России не пьет? Все пьют. Время поганое.
— Да?.. И вы сами-то как? Не злоупотребляете?
— На моей работе нельзя… Но я — это исключение.
Он покопался в коробке — да, это, кажется, то, за чем его послали: счета, бумаги, документы, пластиковый ключ, две-три сберкнижки. Ага, а вот и серебряный ключик от банковской ячейки. До чего же предусмотрительна рыжая! Катерина Васильевна следила за ним с характерной, застенчиво-блуждающей улыбкой, свойственной многим тихим русским женщинам, пребывающим в постоянном ожидании какого-нибудь подвоха.
— Другой нету коробки, не сомневайтесь.
— Спасибо, Катерина Васильевна… Тина еще просила передать, она, возможно, уедет в командировку, возможно, длительную.
— Ой! — женщина испугалась, почуяв недоброе. — Почему же сама не сказала?
— Наверное, неудобно было. Она же с работы звонила… Так я пойду?
Женщина проводила его до порога.
— Володя, вы ничего от меня не скрываете?
— Что вы, как можно?
С кухни явился папаня с недопитой бутылкой в руке.
— Не передумал, паренек? Тульская. Самая натюрель. Покруче брынцаловки.
— Рад бы, но не могу.
Со второго этажа, из окна, Кныш некоторое время понаблюдал за своей тачкой, вернее, за черной «вольвой», которую одолжил Кампертер. Все их с Тинкой машины накрылись пыльным мешком… Конечно, являться сюда было большой глупостью, квартира почти наверняка под присмотром, но что поделаешь: доктор прав, их и с деньгами нигде не ждут, а уж пустыми… Кныш надеялся, что даже если квартиру пасут, то в черных очках, с полуторанедельной щетиной, с приклеенными черными усищами, в пижонском меховом берете — он проскочит. Главное, вернуться в машину, а там… На колесах, да в родной Москве, да имея запас времени, можно сбросить любой хвост…
Пока все тихо вокруг, ничего подозрительного — редкие прохожие, несколько припаркованных тачек, пара бомжей возле мусорного бака, молодая мама с коляской, детишки на ледяной горке — привычный городской пейзаж. Кныш выкурил сигарету, стоя так, чтобы его нельзя было увидеть из окна дома напротив. Потом вышел на улицу, неся коробку, упакованную в нарядный пластиковый пакет, под мышкой. Сел в машину, включил зажигание. Еще разок огляделся: все спокойно. И тут в голову кинулась жаркая волна: ошибаешься, брат! Чувство опасности было развито в нем так же остро, как зрение, обоняние и слух: позвоночник сигналил: ты на мушке, придурок!
Медленно, как бы крадучись, вырулил со двора. День предстоял длинный и тяжелый, но начало положено. Около двух часов колесил по городу, застревал в пробках, проскакивал, где можно, под красный свет, петлял по переулкам — вроде все чисто, но ощущение опасности, которому привык доверять, не проходило, красная точка прицела вновь и вновь вспыхивала перед глазами. В районе Текстильщиков, свернув с моста направо, загнал машину в какой-то двор, пристроил на площадке возле шеренги гаражей-«мыльниц», замерших, как строй «наливников», скинул куртяк и по-пластунски околесил тачку, заглядывая во все укромные места: искал «маячок» или что-нибудь подобное, но ничего не нашел. Конечно, это ничего не значило. Во-первых, под днище залезть не удалось, посадка низковата; во-вторых, современный «маячок» мог быть настолько миниатюрным, что без лупы не разглядишь. Самый разумный вариант — бросить тачку и вернуться в больницу на перекладных, но он этого не сделал. Всякая перестраховка имеет свой предел, за которым начинается шизофрения.
В начале первого Кныш вошел в палату. Принцесса ждала его одетая — темные шерстяные брюки, шерстяной блузон с закрытым воротом, темный пиджак. Дубленка на кровати, на полу — кожаный, довольно вместительный чемодан, набитый вещами, которые по списку закупила и принесла сестра Наталья. Вид у принцессы целеустремленный: никаких следов сомнений. Кныш коротко доложил обстановку.
— Коробку доставил, она в машине. Родители в порядке. Я им сказал, что ты собираешься в командировку.
Таина сухо ответила:
— Что ж, я готова. Даешь Париж!
— Лекарства положила?
— Ах, какие мы заботливые, — в глазах ни смешинки, вообще никакого выражения.
Кампертер проводил их до машины. Условились, что Кныш оставит ее на стоянке в аэропорту. Доктор поцеловал принцессе руку.
— Увидимся ли, Тина, когда-нибудь?
— Геночка, не сомневайся… Только избавлюсь вот от этого монстра-надзирателя, и сразу домой, — и опять взгляд ледяной, как у нахохленной воронихи.
С Кнышем обнялись.
— Береги ее, Володя. И себя береги.
— Все в порядке. Еще попьем водки с хлебушком, доктор.
Сказал с уверенностью, которой не испытывал. Огненный зрачок прицела по-прежнему маячил в подсознании, нервы были напряжены. Но теперь уже ничего не изменишь. От больничного крылечка до трапа самолета путь неблизкий, как через века, но его придется пройти. Таина уселась на заднее сиденье. Едва отъехали, пробурчала:
— Ну что, доволен, вояка?
— Не злись, маленькая. У нас выбора нет. У тебя ничего не болит?
— Еще раз спросишь, пеняй на себя. Ишь, заботник выискался. А ведь это по твоей вине, Володечка, всех мальчишек поубивали. Не боишься, что совесть замучает?
— Косвенно и ты в этом замешана, — деликатно возразил Кныш.
Больше до самого банка не разговаривали. В чем он был почти уверен, так это в том, что хвоста опять не было.
В банк принцесса пошла одна, Кныш остался в машине Она отсутствовала ровно тридцать минут. За это время он выкурил две сигареты. Вернулась такая же неприступная, но глаза вроде повеселели. Он никак не мог привыкнуть к ее новому облику — то ли азиатки, то ли цыганки.
— Порядок?
Достала из сумочки атласный мешочек, распустила шнурок. Выкатила на ладонь с пяток тускло сверкнувших алмазов.
— Можешь считать, мы богачи.
— На сколько тут?
— «Лимона» на полтора потянет… Мало?
Две толстенных пачки долларов передала ему, это его забота. Камушки она спрячет на себе, но уже в аэропорту, в туалете. Полковник обещал, что личного досмотра не будет — на это вся надежда. Он дал словесный портрет таможенника, который их проведет через телебарьер. Узнать легко: усатый, с седой белой головой, на левой руке нет мизинца. На всякий случай — зовут Михал Михалычем. Прежде ни Кныш, ни принцесса не занимались контрабандой и плохо себе представляли, насколько опасен или не опасен такой малоподготовленный переход, зато понимали, что от них уже ровным счетом ничего не зависит. Тут уж как фортуна повернет.
На финишной прямой они стояли уязвимыми еще больше, чем были вчера. Их не только подняли из норы, из ненадежного, но все же убежища, вдобавок заставили изъять капитал, тащить его при себе… Кто это сделал — обстоятельства или чья-то умная, целенаправленная воля? В ближайшие часы и даже минуты это станет ясным. Формально, по жизни все их действия пока направлял только один человек, таинственный и вездесущий полковник Милюков из особого отдела, который, смешно сказать, вероятнее всего, числился в ближайшем окружении их главного на сегодняшний день врага Рашида-бек-оглы… Кныш не мог припомнить, чтобы когда-нибудь прежде так рисковал.
На Садовом кольце, как водится, влипли в получасовую «пробку», но запас времени был еще вполне достаточный.
— Я все думаю, — сказал Кныш, — почему твой полковник нам помогает? Неужто из-за твоих красивых глазок?
— В такое не веришь?
— Извини, нет. Другое дело, если ты его гражданская жена или, на худой конец, любовница… Но и тут…
— Не зуди. Все намного проще. Я ему немало отстегивала и кое-что знаю про него, что вряд ли понравится его хозяевам.
— Тем более… — радостно отозвался Кныш. — Зачем ему тебя отпускать? Не проще ли пристукнуть?
— А вдруг он порядочный человек? Ты не слышал, любимый, что бывают порядочные люди?
Рядом с принцессой Кныш всегда узнавал что-нибудь новенькое. Сейчас впервые убедился, что слово «любимый» может иметь почти матерный смысл.
— Порядочный он или нет — это твои личные проблемы. Мне интересно другое — продаст он нас или нет?
Таина промолчала. Наконец выбрались из «пробки», до аэропорта оставалось около часа езды. Хвоста как не было, так и нет. Морозное солнце распалило салон, Кныш приспустил боковое стекло. Искоса поглядывал на принцессу: четкий профиль, хмурый вид. Уже мчались по загородной трассе, когда она вдруг пробормотала себе под нос:
— Володечка, не сердись на меня, пожалуйста. Я, конечно, последняя сука.
У него сердце оборвалось.
— С чего ты взяла?
— Все рушится, к чему прикасаюсь. Я меченая — и этим все сказано. Смерть ходит за мной по пятам. Все погибают, кто мне дорог. И мы с тобой погибнем. Нас загнали, как двух сереньких зайчиков.
— Неправда, — бодро отозвался Кныш. — Сегодня вечером будем гулять по Елисейским полям. Вот сразу и сбудутся все мечты. Счастье-то какое — Париж! Мог ли я надеяться, подыхая в окопе от кровавого поноса?
Таина положила руку ему на колено.
— Я же знаю, тебе наплевать на Париж.
Кныш открыл рот, чтобы возразить, но неожиданно с губ сорвалась горькая правда:
— Если по совести, мне на все наплевать. Кроме тебя.
— Кроме меня?
— Да, кроме тебя. Так уж получилось.
— И что же нам делать, Володечка?
— Ничего. Вылет в семнадцать сорок. Успеем хлопнуть по рюмочке в баре.
И все же предчувствие сбылось, алая точка прицела, созданная воображением, материализовалась. Все произошло, как в дурном сне. Не было ни слежки, ни каких-то других предзнаменований. Кныш угадал врага, только когда увидел лицом к лицу. Он стоял у мраморной стойки неподалеку от туалета, куда принцесса удалилась, чтобы упаковать камушки. Просторные залы аэропорта просматривались насквозь. Стайки людей у окошек регистрации, пассажиры с багажом, рассевшиеся на скамьях, фланирующие пары — обычная предотъездная атмосфера, но с ощутимым налетом респектабельности: в международном аэропорту, известно, не шушера всякая собирается, как на вокзалах, а вполне обеспеченная публика. Много иностранцев, много ярких восточных людей, которые пока не собирались никуда лететь, а были заняты повседневным, немудреным бизнесом, каким — большой секрет.
Рослый, средних лет кавказец приблизился к Кнышу, остановился шагах в двух-трех — и уставился на него в упор. Взгляд пылкий, огневой, на губах ядовитая улыбка. Кныш, разумеется, все сразу понял, но на всякий случай уточнил:
— Тебе чего, браток? Обознался, что ли?
— Зачем обознался, Вован? Тебя искал.
— Сам-то кто будешь?
— Имя хочешь знать? Каха меня зовут. Каха Эквадор. Не слыхал?
Кныш порылся в памяти, что-то там мелькнуло, но смутно. Да он и без воспоминаний видел, что перед ним воин: матерый, азартный, выученный, бесшабашный — и конечно, вооруженный. Удивило другое: похоже, парень один. Ручаться нельзя, может, кто-то прикрывает, но повадка такая, будто вылез без подстраховки. Что само по себе большая редкость. Джигиты — люди коллективного наскока, а в Москве тем более всегда держатся кодлой, но чего не бывает на свете? Кныш спросил:
— Тебя кто послал, Каха?
— Никто не послал, сам пришел, — и цепко загреб взглядом окружающее пространство, подтверждая предположение Кныша.
— И чего тебе надо от меня?
— Ничего не надо. Возьмем твою телку и пойдем отсюда. В гости поедем к хорошим людям.
— К каким еще людям?
— Ты их немного обидел, хотят с тобой повидаться.
— Но у меня самолет.
— Самолет сам улетит, — скупо улыбнулся джигит.
— Не, так нельзя. Билеты пропадут.
Каха еще раз покосился по сторонам, обстоятельно объяснил:
— Много о себе думаешь, да? Тагира убил, Мусу убил. Великого человека опозорил. Теперь хочешь в самолете лететь? Так не бывает, Вован… Могу тебя прямо здесь кончить, могу Рашиду отдать. Выбирай сам. Выбор хороший.
Правую руку Каха опустил в карман длиннополой куртки, там у него, конечно, пистоль. Но стрелять в зале, где много народу, привлекать к себе ненужное внимание несподручно. Кныш его понимал. На его месте он тоже увел бы жертву в более подходящее место. Второе: джигиту нужны оба, и Кныш, и принцесса, а она пока еще в сортире, прилаживает камушки под белье.
— Лучше договориться по-другому, — сказал он.
— О чем с тобой говорить, если ты уже покойник?
— Не совсем, — возразил Кныш. — Я могу выкуп дать.
— Твоя сучка там не обоссалась?
— Не думаю. Так как насчет выкупа? Я сегодня при бабках.
— Бабки я потом заберу, никуда не денутся, — уверил Каха. — Про бабки я знаю. Вы же в банк ходили, да?
В этот момент появилась Таина. Она мигом оценила обстановку. Ее действия оказались неожиданными даже для Кныша. С резким, гортанным криком она кинулась на джигита и ногтями впилась ему в рожу. Каха с трудом отодрал ее от себя и, чуть приподняв, швырнул на пол. Да еще от злости пнул ногой в бок, на чем потерял драгоценные секунды.
Кныш обрушил на противника серию быстрых, прямых ударов — по кадыку, по зубам, по корпусу, — молотил с бешеной скоростью, но удача от него отвернулась. Каха зашатался, но устоял. Усмехнулся окровяненным ртом. В руке щелкнула «выкидушка» с длинным лезвием.
— Драться хочешь? Молодец! Будем кишки пускать на пол.
Самое разумное в такой ситуации — бежать, пусть догоняет, но Кныш не мог этого сделать: принцесса перевернулась на бок, пытаясь сесть, тряся головой, никак ей это не удавалось.
— Вошь поганая, — сказал Кныш. — Да я твою маму со всеми твоими вонючими родичами на сук натяну. Весь ваш паскудный род под корень выведу.
— Молодец, — вторично похвалил Каха. — Разозлить хочешь. Не старайся. Я тебя спокойно резать буду, как барана, — не спеша к нему направился, а Кныш начал пятиться. Никго из зала на них не смотрел: за колонной они были как на укромной лесной полянке.
— Последний раз говорю, — лениво протянул Каха. — Поедешь к Рашиду или здесь сдохнешь?
— Давай лучше здесь.
Кныш уже вошел в безмятежное состояние боя и ничего не видел, кроме сумасшедших глаз врага и его опущенной руки с ножом. Оценил его по достоинству. Тот не сделал ни единой ошибки, ни разу не открылся, подкрадывался, как зверь на тропе. Против него у Кныша был только один козырь: он не мог себе позволить умереть.
— Как ты нас выследил? — Каха ответил охотно, он любил пообщаться с приговоренным гяуром. Поучить напоследок уму-разуму.
— Интересно тебе, да? Думал убежишь на самолете?
— Что же тут плохого? Каждая мошка жить хочет.
— Ты и есть мошка. Москва — наш город, у нас везде глаза и уши. А ты не знал? Вот и спекся.
Кныш прижался спиной к стене, скользнул вбок, а Каха провел несколько обманных финтов. Действовал строго по правилам рукопашного боя. Первый настоящий укол нанес снизу, перенеся тяжесть тела на правую ногу. Он ожидал, что Кныш отступит, замельтешит, тем самым поставив себя в наиболее уязвимое положение, но Кныш, напротив, сделал неожиданный, по сути глупейший встречный выпад, подставил незащищенный левый бок. Нож пробил куртку, кожу, мышечную ткань и тупо уперся в ребро. Каха, не сообразив, что произошло, по инерции усилил нажим — и попался на элементарный болевой захват. В развороте, подсечкой Кныш повалил его на пол и в падении, используя тяжесть своих восьмидесяти килограммов, сломал ему руку об колено. От боли глаза абрека свело к переносице, нож звякнул о каменную плиту. Когда он снова приготовился к схватке, то почувствовал острие под подбородком.
— Молодец! — третий раз похвалил Каха — и уже искренне: — Что же, давай режь, собака. Повезло тебе сегодня.
Кныш с сожалением смотрел в близкие, опечаленные глаза абрека.
— Москва ваша, но жизнь-то моя. Не я на тебя напал, а ты на меня.
— Все правильно, режь, не бойся. Ты же не баба.
— Тебе так хочется умереть?
— Как можно жить после этого?
— Поклянись, что отвяжешься, отпущу.
— Эх, Вован, живешь долго, а ничего про жизнь не понял.
Нож, длинный, как провод, с хрустом погрузился в горло, когда абрек последним могучим усилием попытался вывернуться. Кныш услышал над собой торопливое:
— Володя, скорее!
…Они свернули в боковой проход, затем Таина открыла какую-то дверь, загрунтованную в ослепительно белый цвет, и они очутились в длинном пологом переходе, спускающемся куда-то вниз, под землю. По этому переходу так и тянуло припуститься бегом. Из него попали в служебные помещения, оттуда на грузовом лифте поднялись на второй этаж и наконец опустились на стулья возле двери с кожаной обивкой, с надписью: «Начальник диспетчерского отдела». Оба тяжело дышали. По дороге им попались рабочие в комбинезонах, два пилота, энергично что-то обсуждавшие. Никто не обратил внимания на торопливую гражданскую парочку… Таина нервно закурила.
— Ты что-то вроде бледный?
— Все нормалек, — Кныш прижал локтем левый бок, откуда прорывалась наружу дымящаяся боль. Ничего, главное взлететь, там видно будет.
— Володя, знаешь, кого ты убил?
— Он как-то назвался.
— Это — Каха Эквадор. Знаменитый террорист. Человек-легенда.
— Таких легенд в Москве полные рьінки… Он на Рашида работает?
— Насколько я знаю, он всегда был сам по себе. Бандит-одиночка.
Кныш взглянул на часы. До вылета около тридцати минут.
— Надо идти, Тина. Опаздываем.
— Ты в самом деле в порядке?
— А что со мной сделается?
Их багаж — чемодан, саквояж и спортивная сумка — был на месте, никто на него не позарился. Зато пожилая английская пара, которую Тина попросила постеречь вещи, была на взводе. Красивая седовласая дама затараторила так быстро и возмущенно, что принцесса еле успевала вставлять свои «Ай эм сорри». Через три минуты уже проходили досмотр. Кто из таможенников был человеком полковника, а кто нет, так и осталось невыясненным, во всяком случае проскочили без сучка без задоринки. Шмонать их не стали, да и декларации просмотрели мельком. Посадка была уже объявлена. Правда, молоденькому старлею, проверявшему в кабинке документы, не понравилась свежая ссадина на щеке у Таины, и он подозрительно на нее уставился. Принцесса улыбнулась ему обольстительно.
— Ах, господин офицер, никогда не дарите своим девушкам сиамских котов.
— Это кот вас так?
— Он не любит, когда я уезжаю, — принцесса многообещающе подмигнула старлею, отчего тот по-девичьи зарделся — и молча отдал паспорт и билет.
На трапе, на крутых ступеньках Кныша повело, но он успел ухватиться за поручень, с силой его сжал. Оранжевые звезды истомно сверкнули в глазах и мягко опустились в подмосковные снега. Таина ничего не заметила.
Они летели в экономклассе: удобные кресла — и можно вытянуть ноги. Кныш этим воспользовался, осторожно загрузился на сиденье и прикрыл глаза.
— Собираешься вздремнуть? — поинтересовалась принцесса, но ее голос донесся словно через подушку. Он дал себе слово продержаться до взлета. Потом надо будет пойти в туалет и посмотреть, что там с боком. Пожаловался:
— В глотке пересохло. Выпить ничего нету?
Таина внимательно на него посмотрела и поднялась. Через минуту вернулась с пластиковым стаканчиком. Кныш жадно выпил. То, что нужно: водка.
Боль стихла, пришло умиротворение. Самолет, плавно покачиваясь, катил по взлетной полосе, разворачивался. На глазах у принцессы влага.
— Что такое, маленькая?
— Не хочу, не хочу, не хочу!
— Чего уж теперь, уже летим.
— А мне кажется, умираем. Почему ты такой бледный?
— Здесь освещение такое.
Легкий толчок под брюхо — и они в воздухе, в сиреневых облаках. Салон заполнен лишь наполовину, много иностранцев, много новорашенов, улыбчивых, заносчивых. И все же Кныш твердо знал, что они с принцессой одни в этом мире и в этом самолете. Стюардесса, пробирающаяся меж кресел с подносом, всего лишь приятный мираж.
— Пойду в туалет, — объявил строгим голосом, начал подниматься, задел плечом спинку кресла — и вырубился окончательно.
ЭПИЛОГ
Два светлячка, мечущихся по планете в поисках безопасного пристанища. Париж, Вена, Рим, наконец, перелет через Атлантику… Жизнь взаймы. Все это кажется странным только поначалу, потом привыкаешь — и ничего, терпимо. Иногда ловишь кайф от бродяжьей судьбы. Однако все возвращается на круги своя.
В придорожном мотеле, в штате Техас, они завтракали тарталетками с сыром, пили апельсиновый сок и кофе со сливками — и Таина вдруг сказала с набитым ртом:
— Все, больше не могу!
— Не можешь, выплюнь, — посоветовал Кныш, обряженный в немыслимо пестрые шорты.
— Хочу домой!
— Почему так быстро? Еще года не прошло, как мы в бегах. Восточные люди очень злопамятные.
— Ты помнишь, что я на третьем месяце?
— Помню.
— Рожать буду в Москве. И не спорь, пожалуйста, прошу тебя. Надоело, когда ты вечно споришь.
Кныш не спорил. Его посетило знакомое видение: укромный, затянутый тиной прудок возле деревни Знобище-во, а в нем, в глубине, худые, голодные, с полуоблезшей красной чешуей громадные караси. И лучик солнца на синем поплавке. Он ничего не забыл.
В тот же день начали собираться.
Они вернулись в страну, которая к тому времени совсем дышала на ладан, но это другая история, у нее еще нет конца…



![Чемодан из Гонконга [ Межавт. сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/484275/primary-medium.jpg)
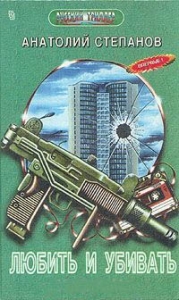



Комментарии к книге «Реквием по братве», Анатолий Владимирович Афанасьев
Всего 0 комментариев