Сергей Громов. Федор Шахмагонов Следствием установлено
Предисловие
Выполнение задач по дальнейшему укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью является одной из основных обязанностей правоохранительных органов и особенно следственного аппарата прокуратуры, Комитета государственной безопасности, милиции. Известно, что успех борьбы с преступностью во многом зависит от создания обстановки неотвратимости ответственности правонарушителя за каждое совершенное преступление. Между тем раскрыть умышленное тяжкое преступление бывает порой весьма трудно. Практика показывает, что эффективность следствия находится в прямой зависимости от опыта и профессионального мастерства следователя, его добросовестности и вдумчивого отношения к выполнению служебного долга, его объективности и беспристрастности, наконец, его общей эрудиции.
Бывает и так, что первоначально начатое расследование по кажущемуся весьма простому и ясному делу совершенно непредсказуемо вдруг крайне осложняется, дело принимает иной характер, в процессе следствия разоблачаются особо опасные преступники. Выясняется, что такие лица с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные ранее или совершаемые ими тяжкие преступления нередко годами маскируются под личиной вполне добропорядочных людей, умело скрывая свое преступное прошлое, либо скрытно продолжают свою преступную деятельность, наносящую государству и всем нам немалый вред.
Именно о подобном деле и рассказывается в повести одного из ведущих следователей Прокуратуры Союза ССР Сергея Михайловича Громова и писателя Федора Федоровича Шахмагонова «Следствием установлено…».
Повесть создана на документальной основе, и хотя в ней нет рукопашных схваток, нет погони, она интересна своим содержательным и напряженным сюжетом. В центре ее молодой следователь прокуратуры, которому поручено расследовать дело. Он еще не обладает отточенным мастерством, но настойчивое желание объективно и всесторонне разобраться во всех деталях, смекалка, самоотверженность, помощь старших, более опытных товарищей дают ему возможность вынести огромную психологическую нагрузку и одержать победу над противником сильным и изворотливым.
Рассказывая о работе следователя по разоблачению преступников, авторы подчеркивают, что борьба за укрепление социалистической законности и правопорядка ведется в нашей стране во имя человека, против всего наносного, что растлевает его сознание и толкает на антиобщественные поступки.
Думаю, что эта повесть вызовет широкий читательский интерес.
С. А. Шишков, государственный советник юстиции I класса
1
Сорочинка — не поселок, городом ее вовсе не назовешь. Разбежались вразброс от фабрики рубленые избы, будто взяли ее в окружение. На первый взгляд хаос, а приглядеться — свой порядок.
Старая ватная фабрика. Ставил ее еще при крепостном праве, куда более сотни лет тому назад, местный барин. Помещик и дворянин. Имени его не вспомнит никто из местных старожилов. Помнили имя купца, который откупил фабрику у помещика, вероятно, потому и помнили, что был он немец и для русского нескладно звучала его фамилия: Гогенштауфен. Правда называли Гогеншто-фом. «Штоф» доходчивее «штауфена».
Помещик свозил на фабрику крепостных из лесных деревенек, купец нанимал всякого приблудного, они и ставили избы по-своему, чтоб у каждого оставалось место для огорода, да чтоб поближе к речке, а она петляла крутыми зигзагами.
В недавнее время для рабочих фабрика построила два пятиэтажных кирпичных дома на месте бараков, что стояли прямо перед фабричными воротами.
Ни к селу ни к городу фабрика, в наши дни никому не пришло бы в голову ставить ее в мещерской глухомани. И от железной дороги далеко, и от районного центра километрах в тридцати, а грунтовые воды заставляли перестилать дорогу асфальтом каждый год.
Рабочий день заканчивался в пять часов, рабочие разбредались по огородам, и воцарялась сельская тишина.
Все сорочинцы знали друг друга и всё друг о друге.
Потому и всполошил их до изумления выстрел, что прозвучал в одном из пятиэтажных домов и в тишине разнесся по всем зигзагам речки.
Глуховатая бабка Настасья, что лузгала семечки на скамейке перед подъездом пятиэтажного дома, и та услыхала выстрел. Не успела она смахнуть с губ ошурки, как прозвучал второй выстрел. Бабка вскочила со скамейки и закричала истошно:
— Ахти мне! Убивают!..
На ее крики выбежали из огородов люди, кто с лопатой, кто с вилами, и окружили ее.
Раздался третий выстрел. Бабка обмерла и застыла, воздев руки, уже не в силах и кричать.
Направились в подъезд дома, и тут вахтер, прибежавший от проходной, надоумил: не комендант стрелял ли, начальник внутренней охраны фабрики? Выстрелы-то из пистолета. Взбежали на второй этаж, где жил комендант, постучали в дверь. За дверью тишина. Тут и сосед с соседкой выскочили на площадку, уверяя, что выстрелы раздавались в квартире Прохора Акимовича Охрименко, коменданта.
Ни на стук, ни на продолжительные звонки никто не отзывался. Раздвигая собравшихся, поскрипывая новенькой портупеей, к дверям пробился местный участковый, лейтенант милиции Шапкин. Сорочинцы за молодость называли его ласково Егорушкой. Жил он в соседней пятиэтажке, потому так быстро и подоспел.
Напустив а себя строгость, хотя был известен своим веселым нравом, он громко постучал в дверь. Но и на милицейский властный стук никто не отозвался.
Егорушка какое-то время колебался, звать ли слесаря с инструментом или, не теряя времени, взломать дверь: произошло несчастье, промедление может привести к беде. Егорушка дал знак одному из крепких молодых людей, вдвоем они нажали на дверь, дверь затрещала, и вылетели из гнезд петли.
— Всем стоять на месте, никому не входить! — приказал Егорушка и протиснулся в открывшийся проход. Дверь держалась только на замках.
Небольшая прихожая, участковый миновал ее и остановился на пороге большой светлой комнаты.
На полу в луже крови лежал комендант Прохор Охрименко. Три выстрела… Егорушка взглянул на окно, окно было закрыто. Он сделал шаг в комнату и увидел в сторонке пистолет. Он знал, что старый, военного времени, бельгийский браунинг был зарегистрирован за военизированной охраной фабрики.
Участковый сделал еще несколько шагов, ступая на цыпочках, чтобы не затоптать следов, которые понадобятся криминалистам. Осторожно приблизился к Охрименко и невольно взглянул на дверь во вторую комнату. Она была распахнута, там, на полу, возле дивана лежала ничком Елизавета Петровна Охрименко, жена коменданта, экономист фабрики. По коврику растекалась тонким ручейком кровь.
Комендант лежал на правом боку. Егорушка взял его левую руку. Рука теплая, пульс прощупывался.
С такого рода происшествием участковый столкнулся впервые. Память восстанавливала точные инструкции: ничего не трогать, немедленно поставить в известность прокуратуру, ждать следователя и криминалистов. Но человек-то жив. Прежде надо врача.
Егорушка оглянулся. На пороге любопытствующие. Это нарушение инструкции, но и одному не справиться.
— Быстро врача! — распорядился Егорушка. — Звоните в больницу!.. Скорую помощь!
Кто-то рванулся к выходу, и за стеной загрохотали шаги по лестнице.
— Не переступать порога, ничего не трогать! — приказал Егорушка, но любопытствующие напирали, и уже несколько человек, переступив порог, оглядывали Охрименко, пока что издали. Участковый кинулся к Елизавете Петровне. Но едва взглянул на рану в затылке, понял, что здесь врачу делать нечего.
Вперед протиснулся вахтер, но порог спальной комнаты не переступил. '
— Что? — спросил он.
— Все!.. — едва слышно выдавил Егорушка, поеживаясь от озноба. На его глазах, когда ему не было и шестнадцати, умер от тяжелой болезни отец, но столь страшной смерти ему еще видеть не доводилось.
— Убил! — воскликнул вахтер. — Ревнивый дурак!
— Что-что? — переспросил Егорушка. — Ты откуда знаешь?
— Знаю! Он тут с ума сходил, когда она уехала в санаторий. Письма ему какие-то прислали…
— Ревновал! — подтвердил кто-то из соседей.
— Он и сам, поди, готов! В сердце стрелял… — вставил сосед по лестничной площадке. — Вон пистолет-то валяется… С молодыми женами старикам — беда!
2
В районной прокуратуре Озерницка закончился рабочий день. Следователь прокуратуры Виталий Серафимович Осокин задержался случайно. Его попросили из редакции районной газеты написать об автопроисшествиях, которые пришлось ему расследовать. ГАИ проводило месячник безопасности движения, и надо было подобрать те нарушения, которые привели к тяжким последствиям. Хотя бы небольшое утешение в довольно безликой пока его следовательской деятельности. В прокуратуре он без малого год, пришел со студенческой скамьи полный надежд вести сложные и запутанные дела, а серьезных дел на его долю недоставалось. Город — малый островок меж огромными массивами мещерских заболоченных лесов, деревеньки жмутся одна к другой на сухих взгорьях. Случалось Осокину разбираться в драках, иногда случались ограбления магазинов, чаще попадали дела о браконьерстве или о расхищении колхозного или совхозного имущества. В делах об ограблении магазинов был какой-то поиск, в автопроисшествиях же почти сразу ясно, все вещественные доказательства налицо. Получая направление в районный городок, Осокин надеялся, что здесь его ожидает обширная практика, но пока все ограничивалось только несложными делами.
Телефонный звонок прервал Осокина на полуфразе и в тишине показался ему очень громким. Осокин снял трубку и услышал голос прокурора Русанова.
— Это вы, Виталий Серафимович? Хорошо, что я вас застал!
— Статью вот заканчиваю… — ответил Осокин.
— Статья подождет! Зайдите ко мне!
Прокурор часто засиживался допоздна, он любил работать в тишине, когда не было дневной суеты, разбирал почту, знакомился с делами. А вот звонок его необычен, надо было случиться чему-то из ряда вон, чтобы Русанов нарушил свое уединение.
Русанов не молод. За плечами многолетний опыт следственной работы.
— Мне, Виталий Серафимович, — сказал Русанов, — позвонили из районного отдела внутренних дел. Для нас происшествие чрезвычайное. Слышали о Сорочинской ватной фабрике?
— Слышал, но там не бывал! — ответил Осокин.
— Производство ваты не ахти сложное дело, но в нем применяются компоненты, которые требуют серьезного надзора. На фабрике имеется служба внутренней охраны, комендант — некий Охрименко, он застрелил жену и сам стрелялся. Участковый доложил, что коменданта нашли еще живым и отправили в больницу на «скорой помощи». Дело наше. Нужно немедленно выехать и приступить к следствию. Для начала все очень внимательно осмотреть на месте преступления, очень внимательно, не упуская ни одной мелочи…
Хочу обратить ваше внимание, что по виду дело простое, но требует внимания! Убийца не убежал, искать некого. Но обязательно надо выяснить мотивы убийства и самоубийства, если и он умер.
Из милиции мне сообщили, что его жена только что вернулась с курорта… из Сочи. Будто бы муж был огорчен ее отъездом и очень переживал… Объяснение мотива происшедшего кажется основательным. Но имейте в виду, в нашем деле не бывает шаблонов. Моя практика подсказывает: те версии, которые сами плывут в руки, иногда уводят далеко в сторону от истины. Сейчас рано строить какие-либо предположения, я рассчитываю на ваше внимание! Внимание, внимание! И хотел бы, чтобы вы критично отнеслись ко всему, что услышите. Потом обсудим вместе. Машину я вызвал, надо заехать за криминалистом и за врачом…
Осокин вышел от прокурора несколько разочарованным. Это дело, конечно, не сравнить с обыкновенным автопроисшествием, но и в нем все ясно, как и при наезде автомобиля на пешехода. Всего лишь экзамен на добросовестность, скучная оформительская работа, по существу, подготовка к сдаче дела в архив. Надо, однако, спешить, чтобы любопытные и местные добровольные сыщики не уничтожили следы.
Город невелик, но криминалист Лотинцев и судебный медик Пухов жили на разных концах города, а к Пухову подъехать трудновато, перекопали улицу, пришлось его ждать на перекрестке.
С этими людьми Осокину выезжать до сих пор не доводилось, но об их опыте был наслышан.
Пухов, человек успокоенный возрастом и брюшком, страдал одышкой, потому все делал неторопливо, да и не нужна была в его деле торопливость.
Лотинцев — личность известная. Его авторитет в вопросах криминалистики непререкаем не только в районе, частенько приглашали его из областной прокуратуры на особо сложные расследования. Следователю незаменимый помощник и советчик. Иной раз его подсказка меняла направление всего расследования. Однажды и Осокину пришлось в этом убедиться.
На окраине города обокрали промтоварный магазин. Похитили ковры, хрусталь, партию часов. Дело вел Петровский, старший следователь, достаточно опытный и умелый. И он, и Лотинцев сразу же пришли к заключению, что преступник проник в магазин с чердака, через пролом в потолочном перекрытии. На чердаке была обнаружена и ручная дрель. Естественно, что работники милиции были нацелены в основном на поиск похищенных товаров, а следователь, допросив ночного сторожа, сразу усомнился в первоначальной версии. Сторож клятвенно уверял, что он всю ночь ходил возле магазина и ничего подозрительного не слышал.
С потолка, когда делали пролом, очевидно, падала штукатурка, на полу валялись даже обломки досок от потолочного перекрытия, а сторож ничего не слышал. Возникло подозрение, что сторож и заведующий магазином инсценировали кражу через чердак, для сей цели и подбросили дрель. Провели следственный эксперимент: продолбили в потолочном перекрытии еще один пролом, но сделать это бесшумно никому не удалось. На пол магазина с громким стуком летели вниз комья штукатурки. Тогда Петровский решил допросить заведующего магазином и сторожа уже как подозреваемых. Но Лотинцев высказался против. Осокин присутствовал на совещании, когда возник этот спор в кабинете Русанова.
Петровский настаивал на том, что сторож дал ложные показания, что не спал всю ночь. Или он сам принимал участие в краже из магазина, или ушел с поста, а этим воспользовался завмаг, чтобы покрыть хищения.
— Вот что, дружок, поищи-ка ты зонтик! — вдруг посоветовал Лотинцев.
— Какой зонтик? — удивился Петровский.
— Любой зонтик. От дождя, пляжный зонтик, только чтобы не был он плоским.
— Зонтик найдем! Что из этого? — спросил Петровский, поглядывая на Русанова, чтобы понять, как относится к этой затее прокурор.
Русанов посмеивался.
— Все очень просто, — продолжал Лотинцев. — Вор не лишен способности на выдумку. Вор просверлил дыру, просунул в нее зонтик и раскрыл его. Идея ясна!
— Уму непостижимо! Как это я не додумался сам! — воскликнул Петровский. — Мусор сбрасывался в раскрытый зонтик, потому сторож и ничего не слышал!
Расследование пошло по иному пути, и очень скоро в поле зрения следователя попал пьяница электромонтер, что обслуживал магазины. Его соседка жаловалась, что однажды электромонтер попросил в дождливый день у нее зонтик, а возвратил порванным и испачканным в глине и известке. На первом же допросе электромонтер во всем признался, видимо, не ожидал, что его хитрая выдумка будет так легко раскрыта следствием.
У Пухова имелся домашний телефон, Русанов успел ему кое-что рассказать. С трудом протискиваясь с тяжелой санитарной сумкой на заднее сиденье «Волги», поинтересовался:
— Оба наповал?
— Дело скучное, сложных поисков не сулит! — сказал Осокин.
Лотинцев неодобрительно усмехнулся.
— Скучное дело! У вас и у нас все дела скучные, какое уже тут веселье. А вот насчет поисков — не спеши! Следователь всегда должен быть начеку, даже и в делах на первый взгляд ясных! Именно в ясных-то иной раз такое кроется, что в темном омуте не разыщешь.
— Ну вот, зататакали сорочата! — молвил Пухов. — Оглядитесь на месте, тогда уж и решайте, и что за нетерпение без каких-либо данных строить версии!
Лотинцев отпарировал:
— Строить версии — тренировка ума. А ты, Виталий, не обижайся на старика. Он всех сорочатами зовет, и версии ему давно все надоели! Многовато он-их за свою жизнь наслушался…
— Вот именно! — согласился Пухов и устроился подремать.
До Сорочинки километров тридцать. Весенние воды кое-где успели размыть дорогу, но водитель ловко объезжал выбоины, словно бы заправский раллист. На дорогу потратил лишь двадцать пять минут.
Адрес спрашивать не пришлось, по толпе у подъезда угадали.
Толпа мгновенно расступилась. Первым вылез из машины Пухов. В руках парусиновая сумка с потертым красным крестом, очки в массивной роговой оправе. За ним Лотинцев. На груди у него на ремешке фотоаппарат «Практика» в кожаном футляре, в руках портативный штатив и лампа-вспышка. На Осокина никто и не взглянул, всего-то лишь тощий портфельчик под мышкой.
Шепот по толпе:
— Приехали…
— Милиция приехала!
Выскочил мальчонка и задиристо спросил у Лотин-цева:
— Дяденька, а почему вы не в форме? Сыщики без формы ходят?
— А потому как мы не милиция, а прокуратура! — ответил Лотинцев и ласково надвинул козырек кепки мальчонке на глаза.
Участковый встретил прибывших у входа в подъезд. Осокин представился и спросил:
— Где это произошло?
— В квартире номер пять! — доложил Егорушка.
— Почему же вы здесь, а не там? Следы все затопчут!
— Не затопчут, товарищ следователь! Из РОВДа прислали двух постовых! Квартира под охраной. А вот и понятые.
— Это грамотно! — одобрил Осокин и представил своих товарищей. Можно было начинать осмотр места происшествия.
В квартире две комнаты. Проходная, служившая столовой, и спальня. Обстановка довольно простая, хотя и чувствовалось, что хозяйка в этой простоте создавала уют. На столе горка грязных тарелок, два чемодана, из них женские вещи разбросаны по полу, часть на кровати, застеленной неаккуратно. На телевизоре букет южных цветов.
— Из Сочи привезла! Только приехала, не успела прибраться! — поспешил объяснить участковый. — Женщина она аккуратная, а тут…
Хозяйка лежала ничком на полу в довольно странной позе, будто бы только что упала и пыталась подняться на колени. Правая нога была согнута в упоре на колено, правая рука упиралась ладонью в пол. Кровавое пятно под левой лопаткой, волосы на затылке слиплись от запекшейся крови. Два выстрела, две раны и обе смертельные.
— А где сам Охрименко? — спросил Осокин.
— Я вошел, он еще жив был… Увезли в больницу… Врач наш осмотрел его… Сквозное ранение в левый бок на уровне сердца… Я тут все обозначил.
В столовой, в двух шагах от окна, на паркете нарисованы мелом контуры человеческой фигуры. Как в детской присказке: «Ножки, ручки, огуречик — вот и вышел человечек». Каждую деталь сопровождали надписи: «голова», «пр. рука», «лев. рука», «пр. нога», «лев. нога». Все это в какой-то мере давало представление о положении тела самоубийцы перед тем, как его подняли на носилки. Возможно, что столь скрупулезное описание положения тела в сложившихся обстоятельствах не имело существенного значения. Не все ли равно, как он упал после смертельного выстрела.
Но Осокин помнил несколько раз повторенное Русановым наставление, чтобы не была упущена ни одна деталь, и поблагодарил лейтенанта за его предусмотрительность и скрупулезность.
— Крови многовато! Похоже, что он после ранения передвигался!.. — заметил Лотинцев и принялся устанавливать штатив для съемок.
Следы свежей крови нашлись и на белой скатерти обеденного стола, на приоткрытых дверцах серванта, на полу, где был изображен человек, и на стене под окном.
Лотинцев делал снимки в разных ракурсах.
— Заметь, — подал он еще раз реплику, — что он был жив, когда прибыла милиция…
— Агония? — высказал предположение Осокин. — Сколько прошло времени с момента выстрела до вашего прихода? — спросил он участкового.
— Я прибыл через двенадцать минут, «скорая» после моего вызова через двадцать одну минуту. Итого, через тридцать семь минут его уже взяли на носилки.
Лотинцев положил руку на плечо участковому.
— Отлично, лейтенант! Четко, точно… И он был жив?
— Жив…
Пухов в это время осматривал тело убитой. Выпрямился и спросил:
— Вы не обратили внимание на его ранение?
— Врач при мне поднял рубашку. На два сантиметра ниже правого сосца входное отверстие, почти под левой лопаткой выходное…
— Да-а! — протянул Пухов. — Тяжелая картина… Сердце он, конечно, не задел, иначе тридцати минут не протянул бы! Пуля прошла где-то близко от сердца. Куда его повезли?
— В ближайшую больничку!
— Пациент не для сельской больницы, — уверенно произнес Пухов. — Да и мало надежды, что довезут его живым по этаким колдобинам…
Между тем Лотинцев собирал гильзы и пули. Все три гильзы нашел без труда, две возле хозяйки, одну там, где нарисован на полу человечек. Одна пуля застряла в обшивке дивана, вторая проломила лобовую кость у женщины, но наружу не вышла. Лотинцев и Пухов согласно сошлись на том, что первый выстрел был сделан в спину убитой, второй — в затылок, когда она уже упала на пол и попыталась подняться. Третью пулю Лотинцев никак не мог найти, хотя и осмотрел каждый сантиметр пола, оглядел мебель, стены и сдвинул сервант. Строго спросил участкового:
— Вы уверены, что никто не подобрал третью пулю?
— Никто ничего не тронул! За это я ручаюсь!
— Убеждены, что ранение было сквозным?
— Своими глазами видел и врач подтвердил!
— В рубашке пулю искали?
Лейтенант растерянно покачал головой.
— Не догадался! Мы все спешили, как бы его поскорее в больницу отправить! До больницы-то десять километров…
— И все же, — сказал Лотинцев, обращаясь к Осокину, — надо потом поискать пулю и в его одежде!
Все дела по осмотру места происшествия были закончены только к ночи. Лотинцев и Пухов уехали. Участковый проводил Осокина в Дом приезжих. Позаботился, чтобы следователю были предоставлены все удобства. Осокин позвонил по телефону в больницу.
Долго никто не подходил, наконец, ответил женский голос. Дежурная сестра пояснила, что Охрименко доставили в больницу живым, но операцию делать не стали, сразу на вертолете увезли в Рязань.
— Где его вещи? — спросил Осокин.
— Увезли вместе с ним, — ответила сестра.
— Не жилец он, — сказал участковый. — Я же видел, как кровища всю грудь ему залила…
Потом Осокин, хотя изрядно устал, положил перед собой лист бумаги. Написал вверху листа дату и озаглавил «План расследования». А когда увидел эти два слова, усмехнулся. Какое же тут расследование, коли заранее все известно и осмотр места происшествия не оставил никаких сомнений в том, что комендант убил свою жену и покончил с собой. И о мотивах преступления со слов свидетелей-соседей было известно. Ревность! О ревности толковал и лейтенант, ссылаясь на мнение сослуживцев Охрименко.
3
Утром Осокин с помощью участкового выписал повестки свидетелям и отправился на фабрику. В отделе кадров ему дали личные дела супругов Охрименко. Они прибыли в Сорочинку из Ашхабада после землетрясения. Прохора Акимовича, как бывшего офицера-фронтовика, приняли начальником внутренней охраны, Елизавету Петровну направили экономистом в плановый отдел.
Автобиография Прохора Акимовича была написана довольно сжато. Родился в Белоруссии, в Могилевской области, в деревне Ренидовщина Пропойского района в крестьянской семье. Призван на военную службу накануне войны, был направлен на курсы младших командиров, окончил их и получил звание младшего лейтенанта. Командовал взводом с первого дня войны, потом ротой, в 1943 году контужен, лечился в госпитале, после подался в Ашхабад, там и осел до конца войны.
Женился он всего лишь десять лет назад. Жена моложе на пятнадцать лет. О своих военных подвигах Охрименко повествовал сдержанно, что Осокин приписал его скромности.
Событие взволновало весь поселок. Участковый не успел разнести повестки, как и без повесток стали добровольно являться свидетели.
Из их показаний возникал образ человека малообщительного, замкнутого, всегда настороженного. Эту настороженность иные пытались объяснить его должностью начальника внутренней охраны. Задерживая в проходной несунов, он нажил себе и недоброжелателей. Иные относили его настороженность к тому, что женат на молодой женщине, к тому же прехорошенькой, живой и веселой. Даже удивительно, что она пошла замуж за такого бирюка. Чем он только прельстил ее? Почти все свидетели, сослуживцы супругов Охрименко считали, что единственной причиной случившегося была безрассудная ревность коменданта. Особенно когда она против его воли уехала отдыхать на юг, по путевке завкома, которой ее премировали за общественную работу. Он даже не пошел провожать ее на вокзал.
От соседей по дому Осокину надо было узнать, как ладили между собой супруги. Стены стандартного многоквартирного дома имели довольно слабую звукоизоляцию. Повышенный голос можно было услышать сразу на нескольких этажах. Соседи по дому утверждали, что супруги жили тихо, скандалов между ними не слыхали.
Убийство — преступление очень тяжелое. Осокин добросовестно опросил всех жильцов дома. Единственно, на что ему указали двое или трое, это на какую-то размолвку между супругами зимой. В конце зимы у них на квартире гостил не то родич, не то давний дружок Охрименко. Замечали его пристрастие к выпивкам. Какая хозяйка этакое стерпит? Будто бы она выгнала его из дома. Но эта деталь, скорее, раскрывала самостоятельность в характере хозяйки. К мотивам происшедшего этот эпизод с дружком не очень-то привязывался.
Более отчетливо мотив преступления возник после того, как Елизавета Петровна отбыла в санаторий.
Председатель профкома показал:
— Не очень-то мне хотелось ворошить это дело. Если бы не трагическая ее смерть, не стал бы касаться… Двух недель не прошло, как она уехала, повстречал меня в проходной Охрименко, губы скривил и упрекнул, хороший, дескать, мы ему подарочек устроили. Он получил анонимку. Протянул мне и сказал: «Прочти». Признаюсь, прочитал. Описывались там ее похождения, не мужней жены, а девки непотребной.
— А здесь, на фабрике, что-нибудь подобное замечалось? Вот некоторые говорят, что он давно ее ревновал.
— Я этого не замечал… Мы тут все как в одной горсти собраны, если бы что-нибудь случилось подобное, это, как огонь по сухой траве, разбежалось бы…
— Хоть какая-то доля правды могла быть в этом письме?
Председатель профкома задумался.
— Да как сказать? Я удивился, что он мне его показал. Человек он нелюдимый, неразговорчивый, друзей у него не было, а я никак не принадлежал к доверенным его лицам. Это выглядело как бы жалобой, упреком мне, что вот, дескать, путевкой внес раздор в его семейную жизнь. Что я мог ему сказать? Личная жизнь — сфера особая… Посоветовал взять за свой счет отпуск и съездить в Сочи, поглядеть на месте, коли уж сомнения одолели. Отказался! Нельзя, говорит, мне туда ехать… Теперь понятно, почему отказался. Боялся, видимо, что там стрельбу откроет.
— Вы кому-нибудь рассказывали об этих письмах? — спросил Осокин.
— Я не рассказывал. Он сам рассказывал. Поспрашивайте вахтера Семушкина…
Вахтер Семушкин показал, что однажды, когда он находился в кабинете коменданта, почтальон принес туда письмо. Комендант повертел конверт, пожал плечами и сказал: «Из Сочи кто-то пишет… Вроде бы и некому».
Вахтер высказал предположение, что письмо от жены. Комендант ответил, что не ее почерк, и распечатал письмо. Тут же, при вахтере, начал читать. Прочитал наполовину, грохнул по столу кулаком. Вахтер уверял, что воспроизводит его слова дословно: «Убить ее, что ли, а, суку?»
Вахтер воспроизвел и весь последующий диалог.
Комендант спросил:
— Скажи, Матвей, если бы ты узнал, что твоя жена с мужиками путается, что бы ты сделал?
Семушкин был немолод, было ему за шестьдесят. Будто бы он в ответ посмеялся:
— Порадовался бы за старушку, что в этакие годы успехом пользуется…
— Э-э-э, оставь! — ответил комендант. — Твоей жене шестьдесят, моей тридцать!
На это Семушкин ему ответил:
— Не женился бы на молоденькой! На девках-то парням жениться, а нам надобно понимать свой резон.
Осокину удалось установить, что Охрименко показывал письма и кое-кому еще. Сдержанный человек, нелюдим — и вдруг так разговорился. Стало быть, взбудоражили его письма, взбудоражили основательно. Жена вернулась, и тут же прогремели выстрелы.
Собственно, после показаний тех, кому Охрименко показывал письма, с кем делился своими переживаниями, допросы можно было прекратить. Ревности никакая другая версия не противопоставлялась.
И хотя Лотинцева очень волновала третья пуля, в ней, по всей видимости, нужда отпадала. Оставалось получить акт о смерти Охрименко, а для этого выехать в Рязань.
Осокин несколько раз в течение дня пытался дозвониться до областной больницы, но это ему не удавалось, связь с областным городом была повреждена. Тогда Осокин позвонил Пухову, попросил связаться с областной больницей и узнать, когда можно приехать за актом вскрытия.
Осокин укладывал вещи в Доме приезжих, собираясь в Рязань, к нему прибежал участковый инспектор.
— К телефону вас! Из прокуратуры… Срочно!
— Что там стряслось? — спросил Осокин.
— Срочно! Больше мне ничего не сказали…
На проводе почему-то оказался Лотинцев.
— Жив твой подопечный, — объяснил он Осокину. — И благополучен к тому же! Хоть сейчас допрашивай!
— Не может быть! — вырвалось у Осокина. Он знал, что за Лотинцевым водилась любовь к розыгрышам.
— Вот тебе и урок, Виталий Серафимович! — ответил поучающим тоном Лотинцев. — В нашем деле все может быть, даже и невероятное! Скользящее ранение! Так говорит хирург… С перепугу твой Егорушка не разглядел! Будь и ты осторожен, не прогляди чего!
На фабричной машине Осокина отвезли до ближайшей автобусной остановки, где он сел на первый же проходящий автобус на Рязань.
Нс так-то и далеко до Рязани, километров семьдесят но лесная дорога вьется зигзагами, обходя болота. На крутых поворотах автобус снижал скорость и тревожно гудел.
И хотя по дороге встречались села и деревни, край выглядел безлюдным. Леса, леса, лишь иногда сквозь порубку на мгновение открывалось поле с загустевшими озимыми, но выглядели они не ярко, будто бы побледнели на зыбучих песках.
Не очень-то походишь здесь по лесу в конце мая без накомарника, пожалуй, убежишь без оглядки. И чего прикипел прокурор Русанов к Мещере? Любит он эти леса и болота. И вдруг ожег вопрос: а чего Охрименко из Ашхабада в этакую болотную глушь? Жену, что ли, прятал от больших городов? С чего бы сюда, а не к себе в Белоруссию, в светлые веселые города?
Осокин приехал в Рязань уже в девятом часу вечера. Допрос отложил до утра, но у дежурного врача поинтересовался состоянием раненого. Ему ответили, что самочувствие у гражданина Охрименко нормальное, что никаких ограничений для общения нет.
Вот тебе и рана в грудь навылет. Едва дождался утра и поспешил к главному врачу, который и делал операцию. Он принял Осокина в своем служебном кабинете.
— Не повредит больному допрос? — все же спросил Осокин.
— Я уже объяснял своему коллеге доктору Пухову, что ему ничто не повредит.
Врач взглянул на Осокина поверх очков с любопытством.
— Что там произошло? Больной нам не пожелал объяснить природу ранения…
— Покушался на самоубийство! — ответил Осокин.
— Самоубийство?! — воскликнул в удивлении врач. — Вот уж не подумал бы! Скорее, можно предположить, что кто-то в него стрелял, а он пытался отстранить пистолет. Шла борьба… Рана носит и следы порохового ожога… Но она нисколько не опасна!
— Разве ранение не сквозное? — в свою очередь удивился Осокин.
— Это как считать! Кожа на груди и его левом боку действительно прострелена, а вот пулю я обнаружил у него в ладони. Почему я и подумал о какой-то борьбе. Был он к тому же пьян, а с пьяными чего только не приключается…
— Как же пуля оказалась в левой ладони?
— Она прошла по касательной, оцарапала ребро… Он, видимо, каким-то образом защищался и подставил под пулю левую руку.
— Он не защищался, а пытался покончить с собой, а перед этим убил жену.
Врач развел руками.
— Эту загадку вам отгадывать. Одежда его у нас, вы можете ее осмотреть. Пуля — вот она…
Врач достал из стола спичечную коробку и подвинул ее к Осокину.
— Документы в бумажнике, — продолжал он, — а в заднем кармане мы нашли три конверта с письмами. Естественно, что письма мы не читали — это ваше право…
Осокин оглядел пульку и машинально взглянул на конверты. Сочинский почтовый штемпель. «Так вот они, те самые письма!» Конверты сложены вдвое, потерты. Осокин спросил:
— Можно у вас в кабинете прочесть?
— Пожалуйста, а позже, если вам понадобится уединиться, мой кабинет всегда к вашим услугам!
Первое письмо, судя по отдельным выражениям, было написано будто бы московским инженером. Он писал, что отдыхал в санатории одновременно с женой Охрименко. Мужская, дескать, солидарность побудила его узнать адрес и известить мужа о «художествах» его жены. От этакой «солидарности» Осокину стало не по себе. Подленькое письмо и достаточно грубое. Резануло выражение: «Перевалялась чуть ли не со всеми…»
Из второго письма нельзя было понять, кто автор, какое занимает место в жизни. Злобен и подл он был не менее первого. Второе письмо как бы подтверждало первое, кое-что добавляло и нового.
Третье письмо от какой-то женщины. Подписано, даже с обратным адресом. Оно выглядело несколько игриво. Содержало насмешки над неудачливым мужем и пожелание утешиться, с явным намеком, что именно она, «доброжелательная москвичка», готова выступить в роли утешительницы.
— Ну как? — спросил врач. — Что-нибудь разъясняют эти письма?
Осокин вздохнул и раздумчиво произнес:
— Пожалуй, все ставят на место! От таких писем жить не захочется. Даже мне было горько их читать.
4
Для Осокина встреча с Охрименко — это первый в жизни серьезный допрос преступника, ибо никакой вспышкой ревности невозможно оправдать жестокое убийство женщины, даже если бы в письмах содержалась правда.
Осокин много читал об убийствах, слушал лекции, но с убийцей встречался впервые.
Там, в Сорочинке, у некоторых свидетелей, которые считали, что Охрименко действительно покончил с собой, прозвучало что-то похожее на сочувствие: «Что же это он учинил над собой?» Это сочувствие к человеческой трагедии слегка задело тогда и Осокина: комендант смертью как бы искупал вину. После разговора с врачом всякая тень сочувствия исчезла, хотя рассуждения врача и не убедили Осокина в обратном: попытка Охрименко покончить с собой все еще казалась реальностью.
Ему со студенческой скамьи запомнился рассказ одного из старейших следователей Прокуратуры Союза ССР на встрече со студентами. Следователь рассказал об одном из своих дел, связанных тоже с самоубийством. Человек стрелял из пистолета в висок. Выстрелил, а пуля, ударившись о кость, не пробила ее, а рикошетом обошла вокруг черепа, прошила кожу, как иголкой. Патрон оказался с подмокшим порохом, удар пули был слабым. Бельгийский браунинг, из которого стрелял комендант, из трофейных, патроны военного времени, оружие не из надежных. Желание покончить с собой могло быть вполне искренним. А что еще и оставалось после совершенного им преступления?
Психологически точно построить допрос дело сложное. Хотя и наслышался немало об Охрименко на фабрике, но этого было недостаточно, чтобы с полной достоверностью представить себе, что это за человек. Кто он по характеру? Холерик с перевесом к повышенной раздражительности и вспыльчивости? Но в годы, которые он провел на фабрике, никто не заметил за ним вспыльчивости, скорее, нелюдим, скорее, флегматик с уравновешенным характером. А если учитывать, что в послевоенные годы не постарался приобрести определенной специальности, то, стало быть, инертен?
Но уж во всяком случае он не сангвиник. Сангвиник неспособен усидеть многие годы в вахтерском кресле, да и никто не заметил в нем ни доли общительности до получения злополучных писем.
Замкнутость, однако, есть свойство и меланхолика, а меланхолик робок и склонен к душевной панике. Стрельбу он мог открыть не от дерзости, а из страха, из чувства ложно понятой обреченности. И эта обреченность должна была возникнуть до выстрелов в жену. А выстрел на почве ревности? Что это? Всеохватывающая любовь или возведенный в невероятную степень эгоизм?
Всеохватывающая любовь — редкое чувство, и как-то оно не увязывалось с образом нелюдимого человека, пусть даже и по своей должности старшего среди вахтеров, но равнодушного к своей общественной роли. Такая любовь способна подвигнуть человека на большие свершения, а он даже и не пытался дотянуться хотя бы до образовательного уровня своей жены. Она экономист, а он всего лишь комендант фабричной охраны, а ему ли, офице-ру-фронтовику, не были открыты после войны все дороги? Даже в мелочах проглядывало их неравенство в бытовой культуре. Квартира носила следы ее хозяйского догляда, а он за месяц успел загадить ее.
Осокин пытался воссоздать характер Охрименко и по его действиям после выстрелов в жену. Если бы он был матерым преступником, ибо жестокость, с какой было совершено убийство, могла навести и на такую мысль, то он предпринял бы все, чтобы тут же скрыться. Человеку честному скрыться невозможно, он не может жить под личиной и вне общения с людьми, на это способен только подлинный преступник. Никаких попыток скрыться не было предпринято. Если бы это преступление было бы заранее обдумано, то незачем стрелять в жену дома, можно было найти какой-то иной способ ее убить. Вспышка ревности, вспышка дикого эгоизма. Именно дикий эгоизм и сделал руку нетвердой, когда стрелял в себя. В последний миг дрогнула рука, сработали защитные рефлексы эгоизма.
С этим предположительным построением характера преступника Осокин и переступил порог палаты. Охрименко сидел на краю кровати в нижнем белье, опустив ноги на пол. В зубах дымилась сигарета. Грудь опоясана бинтами, выпирающими бугром через открытый ворот рубахи. Забинтована и кисть левой руки. Врач представил Осокина и сразу вышел из палаты.
Перед Осокиным сидел громоздкий мужчина, значительно старше его, седой. Его серые глаза не выражали ни тревоги, ни беспокойства, взгляд их был неподвижен и сосредоточен.
Охрименко явно был поглощен какой-то одной, подавляющей все его чувства, тяжелой мыслью.
— Будете допрашивать? — спросил он глухим голосом.
— Угадали! — ответил Осокин. — Вы же понимаете, Прохор Акимович, что выстрел даже в свою грудь не может замкнуться на медицине.
— Понимаю! — мрачно сказал Охрименко.
— Вы в состоянии объяснить: что случилось?
Охрименко глядел мимо, в пространство, не мигая.
— Не очень-то в состоянии, — ответил все тем же глухим голосом, чуть ли не полушепотом. — Жизнь опостылела, вот и случилось…
— Очень уж она должна была опостылеть, чтобы себе в грудь стрелять, — заметил Осокин, — По крайней случайности вы остались живы…
— В другой раз осторожнее буду, — промолвил довольно решительно Охрименко.
— Это как вас понимать? — спросил Осокин. — Было неосторожное обращение с оружием?
Охрименко наконец-то поднял глаза на Осокина, мелькнула в них ироническая усмешка.
— Не подыскивайте за меня объяснений! Я и сам не пойму, как это так получилось, стрелял, а жив остался! Стрелять на фронте обучен.
Охрименко не сводил тяжелого взгляда с Осокина.
— Немцы с июня сорок первого обучали…
Он замолк, и Осокину показалось, что в его серых глазах, в его тяжелом взгляде таится странная, необъяснимая усмешка. Над собой ли, над ним ли, молодым следователем? Тогда Осокин еще далек был от мысли, что иные слова Охрименко произносил не лукавя, а высказывал, что его мучило, как бы проходя по острейшей грани возможного, как бы играя своей судьбой.
— Учителя жестокие — или ты их, или они тебя! — Добавил Охрименко и отвел взгляд от Осокина. Тот почувствовал, что после этих слов напряжение в их беседе спало. Только к сказанному Охрименко еще доверительно добавил:
— Скоренько мы отступали. Глазом не моргнув прислонились спиной к Москве. И шел я пеший, от самой границы из-под Львова и до самой Тулы пропер. Пехота — царица полей. Всякое бывало, но окружения избежал… Не я избежал! Умные в нашей части командиры попались. Сумели отходить вовремя.
Опять усмешка в глазах Охрименко, но теперь с затаенной иронией, будто бы над собой посмеивался.
— Вроде особых подвигов не совершал, а в доверие вошел. Потом дали разведгруппу и с ней в немецкий тыл забросили, с особым заданием… А когда выходили обратно, то не повезло, рядом разорвался снаряд… С того злосчастья вся моя война и кончилась. Из госпиталя списали вчистую… Родная деревня моя в Белоруссии еще была под немцем. Вот и решил податься на юг, где теплее и посытней — в Ашхабад, а потом там и осел. Говорю об этом только потому, что знаю, не я скажу, так вы об этом обязательно сами спросите. Разве не так?
— Это верно!
— Чтобы все было ясно, вот еще что скажу. Когда война закончилась, узнал, что остался совсем один, никто не уцелел из моих родных…
От таких слов на какое-то мгновение будто судорога свела лицо Охрименко, и он опять взглянул на Осокина.
— Один-одинешенек! Потом уж я женился на такой же одинокой, неприкаянной сироте, что воспитывалась в детском доме. У нее — моей жены на всем белом свете тоже никого не осталось. То ли родители потеряли ее, то ли где-то они совсем сгинули. Я так думаю, что умерли, потому она все эти годы их всюду искала, а ни ответа ни привета. Вот и сошлись на беду!
Осокин весь внимание: вот сейчас скажет, как все произошло, далеко отступил, чтоб подготовиться, чтобы легче произнести страшное признание, но Охрименко замолк и уставился в пол. Осокин помалкивал, ожидая, когда кончится пауза, но Охрименко явно больше не собирался говорить.
— Вот что, Прохор Акимович, — прервал молчание Осокин, — вы правы, я действительно поинтересовался бы вашим прошлым, но все, что вы мне здесь рассказали, я, как вы понимаете, уже почерпнул из вашего личного дела. На мой же вопрос, что случилось и как вы объясняете случившееся, я ответа от вас не получил. А это главный вопрос, Прохор Акимович, к воспоминаниям о прошлом у нас всегда будет время вернуться.
— А ничего не случилось! — ответил Охрименко. — Попытка не пытка! Стрелялся да не застрелился. Грех и смех.
Нет, не похож комендант на холерика, и совсем не видно в нем какой-либо подавленности. Это же цинизм — болтать о немцах, о войне, о выстреле в себя, и ни звука не произнести о жене. Хотя бы спросил, а как она, а вдруг жива.
— Грех, если этим обозначать преступление, действительно есть, — сказал Осокин, — а вот смеха я не вижу. За что вы убили свою жену?
Охрименко, когда заговорил Осокин, чему-то усмехнулся. Последний вопрос будто бы он и не слышал, все так же продолжая усмехаться.
«Здоров ли он психически?» — мелькнуло предположение у Осокина. И вдруг совершенно спокойный ответ:
— От этого не умирают…
— От чего не умирают? — вырвалось у Осокина, но спросить о выстрелах жене в сердце и в затылок не успел. Охрименко упредил разъяснением.
— От того, что нелюбимый муж стреляется, — жены от огорчения не умирают!
У Осокина чуть было не вырвался возглас возмущения, но он подавил его. Стоп! Приглядись к этому человеку, что с ним? Что за человек, играет ли роль, или что-то здесь другое?..
Спокойно, хотя и нелегко дались спокойствие и бесстрастность, объявил:
— В вашей квартире в спальной комнате мы обнаружили вашу жену, Елизавету Петровну, убитую двумя выстрелами из того же браунинга, из которого вы стреляли себе в грудь…
И опять ироническая усмешка скривила губы Охрименко, и он произнес словно бы повеселевшим голосом:
— Что-то не так, гражданин следователь. Я вам не придурок какой-либо. Я жену не убивал.
Обезоруживающая наглость. Осокин даже на мгновение растерялся:
— А кто же ее убил?
— Если и вправду убита, то вам на этот вопрос и ответ искать. Повторяю, я ее не убивал.
Осокин справился с собой. Ведь в процессуальном плане пока что Охрименко выступал только в роли подозреваемого, обвинение в убийстве жены еще не было сформулировано.
— Что ж, Прохор Акимович! О том, что произошло, вы должны рассказать без утайки. Я вас предупреждаю об ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от показаний.
— Ваше право! — согласился Охрименко.
— И обязанность, гражданин Охрименко, такая, как и у вас обязанность отвечать на вопросы следствия, когда вас допрашивают. Поэтому я повторяю свой вопрос: что вы можете рассказать о том, как и за что застрелили свою жену?
— Мне нечего рассказывать! До вашего заявления я считал, что она жива и пребывает в полном здравии.
— Вопрос второй: перед тем, как вы выстрелили себе в грудь, между вами и женой имело место какое-то выяснение отношений?
— У меня было о чем спросить, но я не помню, спрашивал ли я ее о чем-либо…
— Что вас побудило, гражданин Охрименко, выстрелить себе в грудь?
— Я же сказал: жизнь опостылела, поэтому и выстрелил!
— Жизнь вам опостылела раньше или только в тот момент, когда вы встретили жену?
— Раньше… На то были причины!
— Не должен ли я вас понять, гражданин Охрименко, что кто-то третий мог воспользоваться вашим пистолетом и произвести из него три выстрела?
— Это ваша забота установить, не моя.
— Находился ли кто-либо третий в вашей квартире, когда все это произошло?
— Я никого не видел!
— Вы говорите, гражданин Охрименко, что у вас имелись причины быть недовольным жизнью.
Охрименко поднял глаза, серые, непроницаемые глаза, как свинцом налитые, и спросил:
— Вы сказали правду, что Лизавета убита?
— Правду, гражданин Охрименко! Я не шутки пришел к вам шутить!
— Тогда пишите: о причинах своего расстройства говорить не имею желания! Это мое личное дело!
Осокин замолчал, раздумывая, что скрывается за этим полным отрицанием. Почему он не захотел вспомнить о письмах? Неужели нежелание говорить дурно о покойнице?
Осокин извлек из портфеля все три письма.
— Вы получали эти письма?
— Ах, эти? В пиджаке у меня нашли? Получал, а говорить о них не хочу!
— Вы поверили тому, что в этих письмах написано?
Охрименко вдруг рванулся вперед, пытаясь выхватить письма, но бинты сковали его движения. Осокин успел отвести руку в сторону.
— А вот это делать не следует! — остановил он Охрименко. — Это уже попытка помешать следствию!
— Я не хочу, чтобы вы трепали ее имя!
— Я обязан установить истину, несмотря на ваше нежелание!
— Все! Давайте протокол! Подпишу! Больше от меня не услышите ни слова!
5
Выйдя из палаты, Осокин подошел к окну в конце коридора и задумался. Что за человек перед ним, что за характер? Сплав сразу нескольких характеров: и способность войти в реактивное состояние, как это было, когда гремели выстрелы, и ледяное хладнокровие — даже и в ту минуту, когда речь зашла о смерти жены.
Спокойно, не повышая голоса, без всякого смятения во взгляде отрицает очевидное, хотя все доказательства его преступления неопровержимы.
Ведь никаких, ни малейших сомнений, что он убил жену, а потом выстрелил в себя.
Свидетели показывают, что из квартиры Охрименко раздались три выстрела. Первые два один за другим, третий — через какой-то не очень длительный промежуток времени. Через какой промежуток времени?
Те же свидетели показывают, что из квартиры после выстрелов никто не выходил. Оба окна смотрят на улицу, если бы кто выпрыгнул из окна, это увидели бы. Окно в кухне оказалось заперто на шпингалеты изнутри.
Два пятиэтажных дома в Сорочинке открыты со всех сторон, все, кто в них входит и выходит, на виду.
Все три выстрела сделаны из бельгийского браунинга. Теперь найдены все три пули. Лотинцев поднимал браунинг с полу очень осторожно, профессиональная привычка — не наследить своими отпечатками пальцев ни на одном предмете и не стереть те отпечатки, которые кто-либо мог оставить.
Если Охрименко, убив жену, хотел уйти от суда — у него имелось два исхода: немедленно скрыться или убить себя. Ни малейшей попытки скрыться он не предпринял. Он попытался убить себя. И Вронский в романе «Анна Каренина» стрелялся, но остался жив. Лев Толстой был тонким психологом, он нигде не оставил намека, что выстрел был сделан неточно с умыслом.
Было бы очень жестоко заподозрить Охрименко в том, что он инсценировал самоубийство, его застали в бессознательном состоянии.
Что же теперь диктуют сложившиеся обстоятельства? Охрименко хотел выстрелом в себя уйти от суда и не обнаружил желания давать какие-либо объяснения. На что он надеется? Во всяком случае, не на позицию отрицания, она бессмысленна.
Повторить попытку убить себя? На этот раз уже хладнокровно все рассчитав. Но теперь для этого ему надо найти оружие. Не в больнице же! Выброситься в окно? Со второго этажа? Такой прыжок навряд ли окажется смертельным.
Второй исход — опять же попытаться скрыться. Но в больничном халате и без штанов, да еще с бинтами на груди?
Чистосердечно признаться в совершенном. Тогда он может рассчитывать на снисхождение, ибо письма и показания свидетелей объясняют его психологический взрыв, похожий на состояние аффекта. Наказание может быть и не самым строгим по статье.
Этот единственно реальный исход Охрименко отверг. И врач, и сестры показывают, что он спокоен, не проявляет нервозности. У него были полные день и ночь для совершения попытки бежать. Такой попытки не замечено. Он не мог не знать, что придет следователь, что его будут допрашивать и даже могут переместить в тюремную больницу, откуда не убежишь и где над собой ничего не сделаешь.
Что все это значит?
Не кроется ли ошибка в поисках разгадки характера человека? Не профессиональный ли перед ним преступник, для которого убийство — действие рядовое, привычное? Если предположить, что попытка самоубийства — разыгранный спектакль, тогда убийство жены —· хладнокровно рассчитанное и столь же хладнокровно исполненное преступление. Тогда и ревность не мотив, а скрыто за ревностью что-то иное и очень серьезное.
Осокин колебался: не перевести ли его в тюремную больницу? Тем более что основания для предъявления ему обвинения в убийстве Елизаветы Петровны уже имелись.
Осокин сделал несколько шагов к кабинету главного врача, чтобы позвонить по телефону Русанову и посоветоваться. На полдороге остановился и вновь вернулся к окну. Логика замкнула круг рассуждений. Профессиональный преступник не стал бы стрелять в жену в квартире, на виду всего поселка, мог найти более подходящее время и место.
Да, письмам о Елизавете Петровне трудно поверить. Но это трудно ему, следователю, трудно председателю профкома и вахтеру, трудно тем, кто пытается рассудить это дело со стороны. А если у Охрименко имелись какие-то одному ему известные основания поверить письмам, хотя бы малой части того, о чем ему писали? Если поверил, то это катастрофа даже и не для ревнивого характера, даже и для флегматика, а не только для холерика. Если и вправду опостылела ему жизнь после этих писем? А ее реакция на письма, на его обвинения, если они были высказаны? Отрицание или вызывающее признание?
А что мог означать его отказ от объяснений по поводу писем? Возможно, он не хочет ославить убитую им жену? Зачем тогда показывал эти письма посторонним?
Если это так, а опровергнуть этот расклад не так-то просто, то арест и перевод в тюремную больницу сразу же поставят его во враждебное отношение к следствию и оборвут всякую возможность вникнуть в происшедшее. Осудить Охрименко не составит труда, понять трудно, а Разве не в этом состоит и смысл следствия, чтобы понять поступки человека, объяснить их с исчерпывающей полнотой для того, чтобы и суд мог вынести справедливый приговор?
Итак, или ехать в Озерницк к Русанову с докладом и со всеми своими сомнениями, или еще раз побывать в Сорочинке и выверить свои сомнения более обстоятельными допросами сослуживцев Охрименко, уточнить, какой был промежуток между первыми двумя выстрелами, а также было ли выяснение отношений между супругами.
Все еще колеблясь в правильности своих действий, Осокин все же решил в тюремную больницу Охрименко не переводить, лишь попросил главного врача особо внимательно приглядывать за ним.
В Сорочинку он попал на другой день. Это уже был третий день следствия. Его ждала там новость. Участковый, как только они встретились, положил перед ним еще одно письмо. Письмо к Елизавете Петровне…
На конверте размашистым почерком выведены ее имя и адрес. В конверте — коротенькая записка: «Лиза, все будет хорошо, как было и прежде! Я все прощаю и забуду, потому как заглянул на тот свет, там ничего хорошего не видно. Ежели в чем и нагрубил, то прости! Прохор».
Даты не стояло. Осокин взглянул на почтовый штемпель, письмо поступило в рязанское почтовое отделение на другой день после операции. Очнулся и тут же написал письмо…
— Почтальонша доставила прямо мне… Сообразила, что письмо для нас важно, — объяснял участковый.
Осокин не очень-то его слушал. Записка потрясла. Что это? Отработанный хитрый маневр, или действительно Охрименко не помнил, что сотворил в состоянии сильнейшего аффекта?
— Он с ума сошел! — вырвалось у Осокина.
Участковый зло усмехнулся.
— Тряхнуть такого сумасшедшего, мигом в ум войдет!
Осокин резко оборвал участкового:
— Остерегайтесь поспешных заключений, лейтенант! Он стрелял и в себя! Давайте лучше займемся разметкой времени.
Они прошли в Дом приезжих в ту же комнату, в которой уже ночевал Осокин.
Осокин положил на стол чистый лист бумаги и записал первый вопрос: «Когда приехала в Сорочинку Елизавета Петровна?»
— Вы можете ответить на этот вопрос? — спросил он Егорушку.
Егорушка развел руками.
— Я не подумал об этом. Но мы легко можем это установить. Расписание движения автобусов соблюдается более или менее точно. Разница может быть от пяти до десяти минут. Редко больше, если ничего не случится в дороге… Выстрел раздался без двадцати минут шесть… Все уже пришли с работы… Бабка Наталья сторожит подъезд до шести вечера, пока люди не вернулись домой.
Лейтенант достал записную книжку, полистал ее и протянул Осокину.
— Вот здесь расписание прибытия автобусов из Рязани и местных фабричных от шоссе. В половине восьмого утра, в десять утра, в час дня, в три часа дня, в четыре часа пятьдесят минут…
— Значит, мы должны установить, — пояснил Осокин, — когда она сошла с автобуса… Надо искать свидетелей. У меня есть показания, что Охрименко был обижен, что она уезжает на курорт, он не пошел ее провожать. Встречал ли он ее? Это известно?
— Поспрашиваем! — отозвался участковый.
— Это первое. Теперь второе. Откуда известно, что первый выстрел раздался без двадцати минут шесть?
— Я услышал выстрел и тут же взглянул на часы.
— Почему взглянули на часы?
— Выстрелу удивился… На всякий случай…
— Когда прозвучал второй выстрел?
— Тут же и прозвучал второй выстрел. Почти без паузы…
— Ну а третий?
— Вот тут беда! Я сидел дома, пил чай… Вскочил одеться. Открывал дверь и не помню, то ли еще был в комнате, когда раздался третий выстрел, то ли уже вышел на лестницу. Мне кажется, что я даже не слыхал третьего выстрела…
— Надо бы установить, сколько прошло времени между вторым и третьим выстрелом.
— Зачем?
— Меня интересуют два момента. Произошло ли межДу супругами какое-либо объяснение или сразу же, как они встретились, началась стрельба? Сразу или после рзз-думья и колебаний выстрелил в себя Охрименко?..
_ Конечно, объяснялись, коли он у нее прощения просит за грубости!
— Это мы установим, а вот как установить поточнее промежуток между выстрелами?
Участковый отправился искать свидетелей, которые могли бы указать, с каким автобусом приехала в Сорочинку Елизавета Петровна и встречал ли ее муж, следовало ему также установить, когда Охрименко ушел с работы. Осокин пошел в квартиру коменданта. Еще раз все осмотреть, не подскажет ли следствию что-либо из ранее не замеченного. При шлось оформить повторный осмотр места происшествия и пригласить понятых.
В квартире все осталось в неприкосновенности, только увезли тело покойной да успели завять цветы.
На ковре и на других предметах побурели кровяные пятна.
Промежуток между выстрелами? Промежуток между выстрелами? Был ли он, этот промежуток? Из спальни и до серванта в гостиной не было следов крови. Стало быть, убив жену, Охрименко вышел в гостиную.
Несмотря на крайнее потрясение, он все же не сразу выстрелил в себя.
Осокин прошел обычным шагом до того места, где лежало тело убитой, до нарисованной фигуры. Шесть шагов. Это может быть и от шести до десяти секунд, достаточно короткое время, чтобы создалось впечатление о промежутке между выстрелами. Столь короткое время не воспринимается, как пауза.
Что он еще мог сделать, до того как выстрелить? Быть может, подходил к двери, к окну…
И тут Осокин, взглянув еще раз на окно, опять увидел, как и в первый раз, кровь на стене под окном. Как она могла туда попасть? Это не брызги крови, а потек.
От того места, где была нарисована фигура, четыре шага. А кто определил, что он стрелял именно там, где нарисована фигура? Он здесь лежал. Мог выстрелить в себя и возле окна. Но если возле окна, как попала кровь на скатерть?
От стола и до окна тянулись бурые капли крови по ковру.
Стало быть, он потерял сознание не сразу после выстрела, а некое время спустя. Или он стрелял у окна и потом подошел к столу, либо он стрелял у стола и потом подошел к окну? Исследовав капли крови на ковре, Осокин пришел к выводу, что Охрименко стрелялся возле стола, затем подошел к окну, кровь запятнала стену, он пошел обратно и упал между окном и столом.
От стола — к окну, от окна — к столу… Зачем? Выстрелил и метался раненный? Или что-то еще? Что? Осокин приглядывался к следам крови, но они никак не могли прояснить, спокойно ли проделал этот путь Охрименко или в метаниях. Подтверждают ли они, что он находился в состоянии аффекта, или опровергают? Не есть ли это предел, за который следствие уже не может проникнуть?
Раздумья его прервал лейтенант. Оперативно обернулся с заданием. Нашел свидетелей, которые видели, как шла с чемоданом от автобусной остановки Елизавета Петровна. Ее увидели выходящей из автобуса около пяти часов. В пять часов она была уже дома. Охрименко ее не встречал. Вахтер показал, что Охрименко в это время находился в комендатуре. Из окна комендатуры видна автобусная остановка и видны подъезды обоих пятиэтажных домов. Охрименко из своего кабинета мог наблюдать за остановкой и видеть, как сошла с автобуса его жена и прошла домой.
Тот же вахтер показал, что Охрименко был сильно пьян, что с ним никогда не случалось в рабочее время. Он обождал, когда основная масса рабочих выйдет с фабрики. В десять минут шестого он пошел домой. Вахтер видел, как он вошел в подъезд. Это случилось от двенадцати до пятнадцати минут шестого. Между приходом Охрименко домой и выстрелами прошло не меньше двадцати минут.
Осокин записал эти расчеты и спросил:
— Каков вывод?
— За двадцать минут можно крупно поссориться…
— Можно! — согласился Осокин, а про себя подумал: «И войти в состояние аффекта». — В больнице, — продолжал он, — отметили, что Охрименко был пьян. Об этом же и вахтер показывает… Хорошо бы установить, где он выпил и сколько выпил.
Егорушка усмехнулся:
— Свинья везде грязи найдет! Хотя бы в буфете на Фабрике. Сколько раз я делал представления в дирекцию, чтобы запретили продажу водки на фабрике. Там такая буфетчица — не подступись! Влиятельная дамочка! И магазин недалеко. Там всегда выпивка на прилавке.
Решили так. Участковый соберет свидетелей, которые могли бы указать, сколько прошло времени между первыми двумя выстрелами и третьим, а Осокин попытается установить, где пил и сколько выпил Охрименко.
В буфете выяснить ничего не удалось. Буфетчица с утра уехала за товаром, буфет был закрыт. Продавец магазина показал, что в день происшествия Охрименко ничего не покупал.
Осложнилось дело и с показаниями свидетелей при определении промежутка между первыми двумя и третьим выстрелом. Обычная история при установлении времени на допросах. Одним казалось, что прошло более минуты, другие вообще не уловили разрыва во времени.
Осокин опять в колебаниях. Докладывать прокурору? Что докладывать? Материал, который лежал на поверхности без каких-либо выводов? Из допроса Охрименко ничего не получалось, он не добился и намека на признание. Не обязательно признание, так хотя бы иметь точное истолкование не только мотивов его действий, но и объяснение этих действий. Осокин решил еще раз допросить Охрименко, а для этого сегодня же надо было побывать в Озерницке и получить у Лотинцева фотографию убитой. Быть может, фотография подействует на Охрименко и побудит его заговорить?
В Озерницк попал к вечеру, Лотинцева нашел на кварт тире. Встретил он Осокина приветливо, но не удержался от привычки понасмешничать.
— Шерлок Холмсу привет! Рад видеть тебя в поисках и сомнениях!
— Это откуда видно, что я в сомнениях? — спросил Осокин.
— Не подражай доктору Ватсону в наивных вопросах. Не было бы сомнений, ты явился бы к Русанову, а не ко мне! Но ты молодец, что не беспокоишь нашего старика раньше времени! Как твой подопечный? Жив и здоров?
— И даже бодр! — добавил Осокин. — Не верит, что убил жену!
— Даже так? Это уже становится забавным.
— Почитай!
Осокин передал Лотинцеву письмо Охрименко к жене и пояснил:
— Это он до встречи со мной отправил почтой… Я ему сказал, что он совершил, не поверил! Все отвергал.
— Или сделал вид, что не поверил! — заметил Лотин-цев. — Третью пульку нашел?
— Здесь она, третья пулька! Только не я ее нашел, а хирург извлек у него из ладони…
— Конечно, из ладони левой руки?
Лотинцев на минуту задумался, потом спросил:
— Что ты записал в протоколе насчет его одежды? Во что он был одет?
Осокин запустил руку в портфель, но Лотинцев остановил его.
— Был на нем пиджак или нет?
— Был пиджак! В кармане пиджака нашли письма… Весьма интересные письма!
— Про письма потом! Где одежда?
— В больнице…
— Фотографию я тебе дам… Сейчас возьму в лаборатории. А ты привези одежду! Есть у меня мыслишка…
6
Осокин вошел в палату. Охрименко лежал, вперив взгляд в потолок, увидев Осокина, резко приподнялся и скорчился от боли.
— Не надо резких движений! — посоветовал Осокин.
— Я ждал вас! — воскликнул Охрименко. — Вы правду мне сказали, что Лизавета убита?
— Это правда, Прохор Акимович! Я не имел права сказать неправду! Горькая правда! Мне показалось, что вы не поверили…
— Правильно показалось! — подтвердил Охрименко.
— Мы получили ваше письмо к Елизавете Петровне. Письмо на тот свет…
— Не убивал я ее! Не в моем это характере! Любил ее, потому и написал, что все прощаю! Писал бы я к убитой? Я еще в своем уме, хотя этак-то недолго и спятить!
Охрименко попытался встать, но, видно, боль в ране его остановила, он протянул руку к Осокину, но не дотянулся и с сердцем воскликнул:
— Вы не смеете мне врать! Не смеете обманывать!
Осокин подвинул стул к тумбочке и сел.
— Успокойтесь! Возьмите себя в руки! И запомните, что я никогда и никого не обманывал и вас ни в чем не обману! Я вам сейчас покажу…
Осокин извлек из портфеля фотографию и протянул ее Охрименко.
Охрименко схватил фотографию здоровой рукой и замер, пристально ее рассматривая.
Осокин огляделся. Только сейчас он заметил на подоконнике в кувшине букет свежих тюльпанов, на тумбочке лежала пачка болгарских сигарет. Похоже было, что кто-то навестил больного.
Охрименко положил фотографию на тумбочку и едва слышно, сдавленным голосом произнес:
— Не понимаю… Не может быть, чтобы я такое совершил!
— Я не меньше вас, Прохор Акимович, хотел бы, чтобы это было дурным сном. Совершено же! Теперь только от вас зависит точно воспроизвести все, что случилось… Попробуем все восстановить по порядку, хотя в таком деле трудно говорить о порядке…
Охрименко положил руку на фотографию и сказал:
— Если это правда, давайте попробуем!
— Вам, Прохор Акимович, известно было, когда ваша жена должна была возвратиться?
— Известно! День известен! Знал, когда поезд приходит в Рязань. Только от Рязани могла произойти неувязка. Не на всякий автобус сразу сядешь. Так что час был не очень-то известен!
— В Рязань вы не поехали ее встречать?
— Не поехал!
— Не захотели встретить ее и в Сорочинке?
— Не захотел! Я увидел ее из окна комендатуры, как она вышла из автобуса.
— Это точно! — подтвердил Осокин. — И вы не поспешили…
— Никуда я не спешил! — перебил Охрименко. — Даже и не знал в ту минуту, идти мне за ней или куда скрыться. Лучше скрылся бы! К тому же пьян был, не хотелось идти к ней выпивши. Да вот неудобно перед людьми. Один за другим спешили порадовать, что жена приехала. Пошел…
— В прошлый раз вы не захотели говорить о письмах, что пришли в ваш адрес из Сочи.
— Говорить о них и сейчас не хочу!
— О содержании писем мы и не будем с вами рассуждать.
— Вы их вскрыли, стало быть, и прочли. И я их прочел. О том довольно.
— Вы поверили тому, что сообщалось в этих письмах?
— А вы поверили бы? — спросил в ответ Охрименко и поднял глаза на Осокина. Тяжел был их свинцовый взгляд.
— Мне трудно судить об этом, Прохор Акимович! Я не женат…
— То-то и оно!
— Поверили вы письмам или не поверили, да только не взволновать они вас не могли, и повод для объяснений с женой они подавали!
— Наверное, подавали, только нелегкое это дело объясняться по такому поводу с женой. А?
— Согласен, что очень даже не легкое! Итак, ваша жена сошла с автобуса без пяти минут пять. В пять часов кончается рабочий день. Вы задержались в комендатуре минут на десять и пошли домой…
— И пришел домой! — закончил Охрименко.
— Дома вы застали жену…
— Наверное, должен был застать, но я ее не видел… Я вошел и увидел на столе огромный букет цветов… Красные, голубые, синие… Яркое что-то! Вот и сейчас они плывут передо мной радугой!
Охрименко зажмурился и встал.
— Вот они какие, цветы-то, будь они прокляты!
Охрименко сделал несколько шагов к окну, схватил букет тюльпанов и швырнул его в окно.
— Будь они прокляты! Очнулся здесь, в этой палате!
— А кто же вазу с цветами со стола на телевизор переставил?
Охрименко осторожно, явно с трудом превозмогая боль, сел на кровать.
— Телевизор? При чем здесь телевизор? Цветы стояли на столе… Хотите верьте, хотите нет, для меня теперь все едино!
Охрименко показал пальцем на лоб, а затем коснулся левого бока.
— Пусто есь, а теперь и сердце оторвалось…
— Сколько же вы выпили перед тем, как идти домой?
— Пьян я, это точно, но на своих ногах шел. Выпил… С утра пил, сначала совсем было очмалел, потом отошел малость… Жизнь опостылела, потому и выпил.
— Прохор Акимович, очень важно для установления тогдашнего вашего душевного состояния знать, сколько вы выпили… Могли бы припомнить?
— Хорошее дело плохо помнится, а любого пьянчугу спросите, сколько выпил, он вам до малости все расскажет. Утром в буфете принял сто пятьдесят. Есть не хотелось, закусил мануфактурой.
— Это как же — мануфактурой?
— А вот так! — ответил Охрименко и провел рукавом по губам. — На работе пребывать в нетрезвом виде я не любитель, ушел с фабрики и решил было подождать Елизавету на автобусной станции на шоссе. Туда доехал на автобусе, а там поблизости магазинчик. Ждать и догонять — нет скучнее занятия. Завернул в магазинчик и здесь с одним знакомцем бутылку плодоядовитого выпили.
— Знакомца назовете?
— Назову! Мне скрывать нечего! Волосов Иван! Он наш, сорочинский! Повстречался случайно. Закусили кильками в томатном соусе. Мало показалось, взяли еще бутылку плодоядовитого и распили ее в лесочке. Тут я или придремал, то ли это показалось мне… Смотрю — один, Волосова нет рядом. А вот он и автобус, что в Сорочинку разворачивается… Дальше ждать не захотел. На нем и возвернулся в Сорочинку. Двадцать минут идет автобус. Придремал, а проснулся — голова раскалывается. Что делать? Знать же надо бы выпить, а на фабрику в буфет в таком виде я не ходок. И в наш магазин застеснялся. А тут идет один мне известный алкаш, тоже пьян и тоска в глазах! Я его пальчиком поманил, он, как сейчас помню, — в страхе и удивлении. Страх-то перед комендантом, а удивление — я ему десятку протянул и велел принести поллитровку хамсы на закуску. Иной у нас там не бывает. Отошли в тенечек, и там бутылку распили, пивом запили, хамсу погрызли… Тут уж мне не до стеснительности. Взбрело, что в самый раз в комендатуру идти и распорядиться. Распоряжался, а надо мной вахтеры посмеивались, но не злились, сами не дураки на сей счет. А тут вот и она! Явилась… Или что еще не понятно? Мне ныне все едино!
— Не все едино, Прохор Акимович! Должен вам разъяснить. Запомните, всегда и при всех обстоятельствах чистосердечное признание принимается во внимание, как смягчающее вину обстоятельство. Любые попытки затемнить дело пользы не приносят! От этого впрямую зависит мера наказания!
— Наказание! — усмехнулся Охрименко с презрением. — О каком наказании вы толкуете, когда сам я себя казню, сам себя наказую! Мне теперь не перед вами, перед господом богом ответ держать! Всю жизнь считал и других уверял, что бога нет, а ныне думаю, а вдруг есть?
— Если он и есть, — заметил Осокин, — то не он убил вашу жену, а вы своей рукой, Прохор Акимович!
Охрименко вдруг сорвался:
— Убил! Убил! Что вам это слово далось! Нам того не дано знать, какова господня воля! А дела наши ему известны и прошлые, и настоящие, и будущие, и все они у него заранее взвешены!
— Ну о боге, Прохор Акимович, — это не для протокола. Разговор у нас получился тяжелый.
— А почему о боге не для протокола? Вы уж и о боге в протокол пишите! Все пишите! Это вам на пользу и для прояснения! Суд людской перед божим судом, то капля перед океаном!
7
Итак, в деле имеются три письма: два анонимных, третье — подписанное, все — о супружеской измене. Этого вполне могло хватить на то, чтобы у Охрименко вызвать сильное душевное волнение. Кроме совершенного убийства жены, еще им же совершена и попытка к самоубийству. Можно ли теперь эту его попытку, притом оказавшуюся на поверку не столь уж для него опасной, и ссылку на свое полное беспамятство, когда зашла речь о наиболее критическом и важном для следствия моменте его встречи и объяснения с женой, истолковать как лицедейство и заранее продуманное поведение с целью смягчения собственной вины? Есть ли для этого веские основания?
Всего выгоднее было и при лицедействе, при симуляции своего самоубийства все свалить на эти письма и на свою ревность, чего он не сделал. Почему не сделал?
Если Осокин первую ночь в поселке Сорочинка почти не спал, размышляя над тем, как вести дальнейшее следствие, с чего прежде всего начать, то теперь, после новой встречи с подопечным, оставив его в больнице и вселившись до следующего утра в рязанскую гостиницу, он снова долго не мог заснуть, но уже совершенно от других мыслей.
Очень легко в этом деле поддаться эмоциям, убийство жестокое, зверское, нетрудно и малейшее подозрение в неискренности раздуть до неимоверных размеров и случайное преступление, совершенное в сильнейшем душевном волнении, в стрессовой ситуации, отнести к преступлению умышленному и хладнокровному, превратить случайного· убийцу чуть ли не в профессионального.
Не помнит, ничего не помнит, «очмалел», как сам выразился. В следственной практике преступления, совершенные в состоянии сильного опьянения, — явление довольно частое. Они описываются в любом учебнике уголовного права. Человек в состоянии сильного опьянения может совершить чудовищное преступление, совершенно не отдавая отчета в своих действиях. Есть особая степень опьянения — опьянение патологическое. Юристы и врачи под патологическим опьянением обычно понимают состояние кратковременного алкогольного психоза, который влечет за собой полную потерю памяти. Тех, кто совершил преступление в состоянии патологического опьянения, зачисляют в разряд временно душевнобольных и не судят.
Случай довольно редкий. Патологическое опьянение обычно настигает малопьющих людей. Охрименко, по всем свидетельским показаниям, тоже мог быть отнесен к малопьющим.
Хотя он и не вызывал никаких симпатий, но все сходилось именно на патологическом опьянении.
Еще до того, как выпить, Охрименко уже находился в взвинченном состоянии. Его раздумья — встречать или не встречать жену, — его ревность, все это уже вывело его из душевного равновесия. Оставалось лишь добавить что-то еще. И он идет домой и видит цветы. Цветы лежат в плоскости его ревнивого бреда. Вот она и точка потери памяти. Охрименко пришел в состояние невменяемости.
Стало быть, он вообще может оказаться уголовно ненаказуем.
Стоп! Осокин сам себя остановил в этой точке размышлений. Что противостоит этой версии? Оба выстрела в жену произведены точно. С верным попаданием. Выстрел, более легкий, себе в грудь произведен неточно. Там рука не дрогнула — здесь дрогнула. Выстрел не похож на желание Охрименко покончить с собой. Но в чем же тогда смысл этого выстрела в себя. Снизить ответственность за убийство? Вызвать сочувствие?
Вот он уже с ним разговаривал дважды. Человек вполне рассудительный, вполне способный понять, что ни письма, ни выстрел в себя не отведут его от уголовной ответственности за содеянное. Вместе с тем письма сами по себе являлись основанием для признания свершения преступления в состоянии сильного душевного волнения и без попытки самоубийства. Симуляция самоубийства только ослабляла оправдательное действие писем. Охрименко достаточно умен, чтобы это понять и так грубо не просчитаться. Стало быть, действовал он не по расчету. Достаточно ли он умен, чтобы понять: признание в убийстве не отягощает преступление, а должно иметь прямое воздействие на смягчение приговора?
Мысль о патологическом опьянении начинала нравиться своей законченностью и убедительностью, подсознательно он одобрил ее и за гуманность. Ведь в следственной практике были нередки случаи, когда следователь, досконально во всем разобравшись, вдруг выступал в роли, на первый взгляд ему несвойственной, не как обличитель, а как убежденный защитник интересов тех, кто был необоснованно заподозрен или обвинен.
Осокин пожалел, что лишен возможности поспорить с давним своим приятелем по студенческой скамье Мишей Караваевым. Большинство их сокурсников мечтали о следственной работе, о розыске и преследовании злодеев, о раскрытии кошмарных и запутанных преступлений, а Миша сразу определил себя в адвокаты. Он с усмешкой говорил:
— Ну что за подвиг изловить преступника в наши дни усовершенствованной криминалистики, которой помогают и физика, и химия, и биология, да еще и огромный милицейский аппарат с радиосвязью? Другое дело, когда предстоит отстаивать честь безвинных людей.
— А если виновного придется выпустить?
— А вы доказывайте вину! Вам ли не даны сегодня все средства для этого? Нет ничего страшнее вашей ошибки. Лучше двух виновных упустить, чем одного невиновного осудить!
Очень недоставало Миши. Вот с кем сейчас выверить все доказательства.
Осокин вообразил его рядом с собой, представил его всклокоченную прическу, близорукие глаза под сильными линзами очков. Как бы он разрушал добытое следствием?
Другая версия: Охрименко озлобленный ревнивец, убил жену в состоянии сильного душевного волнения с расчетом уйти от наказания симуляцией самоубийства.
Тут Миша Караваев прищурится, снимет очки и негромко спросит: ·
— Ревность как черта характера обнаружилась у Охрименко только в связи с отъездом жены в Сочи или проявлялась и ранее?
Осокин раскрыл протоколы допросов. Почти во всех показаниях говорилось о ревности Охрименко и до трагического отъезда. Ревнив, ревнив, ревнив… Во всех показаниях ревнив. Но что это? Никто не проводил границы, когда замечена свидетелями эта черта характера. И Осокин уже слышит голос адвоката:
— Констатирую! Суд располагает данными, что Охрименко отличался повышенным чувством ревности! Для человека с повышенным чувством ревности вполне достаточно для душевного расстройства разницы в возрасте, а отъезд на курорт — это уже расстройство его воображения. И без анонимных писем…
И вот вновь перед ним возникает иронический взгляд Миши Караваева и звучит вопрос:
— Следствие констатировало по показаниям обвиняемого, что он много выпил перед трагическим происшествием. Для иного эта доза может оказаться даже и смертельной. Защита хотела бы знать, в каком состоянии был обвиняемый после первой дозы и действительно ли он ограничился в буфете стаканом водки? В каком состоянии он ушел из буфета? Какой была температура воздуха, когда он принял вторую порцию алкоголя в лесу возле автобусной остановки и в каком он состоянии появился при сдаче смены на вахте?
Направление вопросов не только уточняющее состояние обвиняемого, за этим и вопрос: был ли обвиняемый после возлияний способен к выработке какого-то логического плана преступления? Да, Охрименко запомнил свои действия вплоть до прихода домой, но адвокат вправе будет поставить под сомнение его способность к логическому мышлению, то есть настаивать на патологическом опьянении.
Осокин отметил в блокноте вторым номером задачу установить допросом свидетелей, что пил, как пил Охрименко перед преступлением, в каком он был состоянии.
Вот здесь-то защита и поставит вопрос о действиях Охрименко в состоянии невменяемости.
Осокин едва дождался утра и первого автобуса в Сорочинку и, несмотря на то, что не спал ночь, чувствовал себя на подъеме.
Он через участкового спешно вызывал одного за другим свидетелей для повторного допроса, сослуживцев Охрименко спрашивал, замечена ли была ревность у Охрименко до поездки жены в Сочи. На этот раз вопрос ставился очень точно, многие свидетели колебались, как ответить на него, но тех, кто взял на себя смелость ответить, заявляли единодушно, что ревнивый его характер обнаруживался задолго до ее поездки в Сочи. Чем-либо конкретным показания не подкреплялись. Да и чем их можно было подкрепить? Но не одно же показание, а несколько. Быть может, кто-то из свидетелей давал показания, подсознательно сочувствуя Охрименко, но их не опровергнешь и они ничем не обесценены.
Чтобы установить, что пил и как пил Охрименко, Осокин пошел в фабричный буфет.
Буфет пустовал, за стойкой скучала буфетчица, этакая местная львица. Высокая взбитая прическа, ярко накрашенные губы, из-под белого халата виднелось яркое платье.
Осокин предъявил служебное удостоверение, хотя этого и не требовалось, в поселке и на фабрике его уже почти все знали в лицо.
— Гладышева! — представилась дамочка. — Чем могу быть полезна следствию? — спросила она с заметным вызовом в голосе.
— Это вам виднее! — · ответил он. — Все, что знаете по Делу, все нам годится. Но у меня есть к вам и вполне конкретный вопрос.
Гладышева как бы встряхнулась, сделала, в ее понимании, глазки следователю, расширив зрачки, и завлекательно улыбнулась.
— Как не знать Прохора Акимовича? Я ему каждый раз сдавала на ночную охрану буфет. Человек он обходительный, аккуратный. Претензий к нему не имею…
— Не мешает ли эта ваша батарея за стойкой работе фабрики?
Гладышева пожала плечами, окинула взглядом бутылки и усмехнулась:
— У каждого свой план, и всяк за себя отвечает!
— Злоупотребляют?
— Здесь не детский сад! Пусть сами думают, во зло им или в добро!
— Вот Охрименко обернулось во зло!
— Не думаю! — возразила Гладышева. — Он из непьющих. Я по пальцам могу пересчитать, сколько он раз здесь бутылку брал! Да и ту домой уносил…
— А в тот день, когда он стрелял?
Гладышева вздохнула.
— В тот день выпил…
— С утра?
Гладышева придвинулась грудью к Осокину через стойку. Понизила голос, хотя в буфете никого не было.
— Товарищ следователь, я не хотела бы повредить ему своими показаниями…
Воспользовавшись отсутствием других посетителей, Осокин вынул из портфеля бланк протокола для записи показаний свидетеля, сел за столик и пригласил к себе Гладышеву. Она вышла из-за стойки и, покачивая бедрами, подошла к столику.
— Садитесь! — предложил Осокин. — Я вас должен предупредить об ответственности за дачу ложных показаний. Недопустимо и умолчание об известных вам фактах. Вот вы говорите, что Охрименко редко выпивал. А тут с утра… Какова же была доза?
— Ах, вы о дозе? Я помню! Сто пятьдесят граммов водки… Одним глотком и без закуски.
— С утра! — подчеркнул Осокин. — Быть может, он опохмелялся?
— Он никогда не опохмелялся. Я его спросила: «Что с вами, Прохор Акимович? С утра и водку?»
— И что же он вам ответил?
— «Это, — говорит он, — для храбрости! Жена приезжает!» Я удивилась. Говорю ему: «Чего вам, Прохор Акимович, перед женой робеть, ей надо робеть перед вами!» Он вытер губы рукавом и ушел.
— Интересно, — заметил Осокин. — А почему бы, как вы полагаете, жене робеть перед ним?
Гладышева закатила глаза и, вздохнув, ответила:
— Были на то причины…
— Он ничего не говорил вам о письмах, которые получил из Сочи? — спросил Осокин.
— Показывал даже! Можно и его понять, мужчина он самолюбивый… Только стрелять?! Вот глупость, никак не думала, что он на такое способен! Выгнал бы ее вон, или сам ушел бы! Он не пропал бы…
— Вы его еще раз встречали в тот день?
— Нет, не встречала! Его почти полный день на работе не было, не хотел, должно быть, появляться на фабрике выпивши…
Осокин спросил, не имеет ли она что-либо добавить к рассказанному; она заверила, что рассказала все, что ей известно.
Участковый привел в опорный пункт охраны общественного порядка Ивана Волосова. Этот, не ломаясь, рассказал, как распивали «бормотуху» в лесочке возле автобусной станции.
— Почему вы ушли от Охрименко?
— А он заснул! — ответил Волосов. — Мне ж недосуг…
Нашелся и «алкаш», с которым Охрименко распил поллитровку и по бутылке пива.
Когда ввели этого «джентльмена» в кабинет, Осокин даже попятился. Росточком невысок, худ до измождения, на чем только пиджак замасленный и брюки неопределенного цвета держались.
— Фамилия его Курякин! — представил лейтенант. — Всем известен по кличке «Кепка», потому как никогда кепки с головы не снимал и не терял! Чего не скажешь о самой голове.
Оказался Курякин лицом без определенных занятий.
— На что же вы живете, Курякин? — спросил Осокин. — На какие средства?
— А мне средства без надобности! — ответил Курякин. — Мне бы выпить — тем и сыт.
— Выпить — надо деньги!
— Э-э-э, гражданин начальник! На сквозную выпивку ни у кого денег не хватит! Из всех сортов я пью только «чужую»! Самая сладкая из всех видов. Зачем позвал? О питье толковать? Толковище надоело!
— Слыхали ли вы, что с Охрименко случилось? — спросил Осокин.
— Как не слыхать? Весь поселок взбуровил…
— Так вот, Охрименко рассказал, что перед самой бедой послал вас за водкой. Это так? Правду он говорит?
— А как надо?
— Надо правду, гражданин Курякин! Только правду!
Курякин надвинул кепку на лоб, почесал в затылке и, вздохнув, произнес:
— Память стала плоховата! Отшибает!
— Надобно вспомнить, Курякин! Поднапрячься надо! Дело важное! — посоветовал ему Егорушка.
— Если важное, надо бы озарить мне память! Ставь стакан, хлебну, тогда и вспомню…
Осокин на мгновение растерялся. Не стакана жалко, а как это все выглядело бы в процессуальном аспекте. На помощь пришел Егорушка.
Он пригрозил Курякину пальцем:
— Не валяй дурочку. Разговор серьезный, должен понять и сам.
Это подействовало. Курякин сник.
— Тот день, когда Охрименко убил свою жену, помните?
— Для какой надобности его помнить?
— С Охрименко встречались?
— Встрелся! Бродил я возле магазина, как кот возле сметаны, не поднесет ли кто. Гляжу, идет комендант, и вроде бы в подпитии. Что за чуда такая? Забегаю ему наперед и иду, вроде бы как по своим делам. А он меня пальчиком поманивает. Я сразу сообразил, что к чему. Дает десятку и велит купить поллитру да еще две бутылки пива и чего-нибудь пожевать. Мне повторять нет надобности…
— Что же вы взяли в магазине? — попросил уточнить Осокин.
— Бутылку водки, две бутылки пива и хамсы.
— На всю десятку?
Курякин встревожился.
— Не подумайте чего! Я принес сдачу, он сам мне оставил на опохмелку!
— Не о сдаче речь! — успокоил его Осокин. — Погодка как была? Дождик не помешал?
— Не-е-ет! — отозвался, улыбаясь приятным воспоминаниям, Курякин. — Птички голосили, солнышко припекало…
— Птички? Что за птички? — строго спросил Егорушка.
— Грачи…
— Отдохнули, так, что ли, нынче говорят? ·— спросил Осокин.
— Отдохнули! — согласился Курякин.
— Сколько выпил Охрименко?
— Все по-честному, граждане начальники! При мне всегда стакан, а на нем зарубка! Хоть сейчас покажу!
Курякин извлек из кармана пластмассовый стаканчик. На нем действительно были процарапаны отметины: пятьдесят, сто, сто пятьдесят граммов, а сам стакан был на двести граммов.
— Всю бутылку распили?
— Всю! Я глотками не пью… Комендант, тот три раза прикладывался, я за раз двести и из горла!
— И по бутылке пива?
— Нет! Он полстакана, остальное я. И пошел на сеновал подремать…
Дозы выпитого подтвердились, да такие дозы, что и быка свалят.
8
На доклад Русанов пригласил Лотинцева и Пухова. Лотинцев, как вошел в кабинет прокурора, сразу же спросил у Осокина:
— Вещи привез?
Осокин указал на сверток. Лотинцев схватил сверток и обратился к Русанову:
— Разрешите взглянуть!
— Здесь? — удивился Русанов.
— Нет, не здесь, в лаборатории. Есть у меня идея…
— Посмотришь, что за спешка?
— Спешка, Иван Петрович! Очень даже спешка, я уже три дня жду не дождусь…
— Послушай сначала следователя!
— Я его еще не раз послушаю, а тут идея!
— Ну коли идея, иди погляди!
Осокин волновался, но версию о патологическом опьянении изложил, как ему казалось, вполне убедительно.
— А что? — воскликнул Пухов. — Весьма возможно! Патологическое опьянение иной раз дает поразительные результаты! Дай-ка, Виталий Серафимович, медицинское заключение. Интересно посмотреть, какое у него содержание алкоголя в крови?
Русанов читал анонимные письма из Сочи.
— Ого! — воскликнул Пухов. — Близко к смертельной дозе!
Русанов взял у него из рук листок с анализом крови и покачал головой.
— Пьян он, конечно, мог быть изрядно! Но воздействие дозы явление чисто индивидуальное. Одних с ног собьет, а других только пошатает. Сильное опьянение к тому же ничего общего не имеет с патологическим опьянением. Патологическое опьянение наступает только при малой дозе принятого алкоголя. Вот вам первая неувязка! Жену убил двумя точными выстрелами, очень точными выстрелами, рука не дрогнула и процент алкоголя в крови не помешал. Почему же этот же процент алкоголя помешал ему убить себя? Себе в сердце попасть легче… Так или не так?
— Есть еще одно немаловажное обстоятельство. Он в сердце себе метил. Это тоже случайность? Давно замечено, что в сердце обычно стреляются женщины. Даже в такую критическую минуту они не забывают о том, как потом будут выглядеть. Мужской пол предпочитает более верный выстрел — в висок.
— Сие замечено давно! — подтвердил Пухов.
— Что же касается вопроса о возможном патологическом опьянении Охрименко, то в его действиях, за которыми вы проследили, Виталий Серафимович, есть другие признаки, ставящие под сомнение вашу версию. Патологическое опьянение наступает, как правило, тут же после выпитого. Охрименко выпивал трижды в тот день. Он отчетливо помнит все, что с ним происходило после всех трех выпивок, поступки его вполне логичны, и он логично. их объясняет вплоть до той минуты, пока не вошел в квартиру и не увидел цветы. Кстати, о цветах! Вы обратили внимание, что он неправильно указал на местонахождение вазы с цветами… Ведь в протоколе осмотра места происшествия указано, что ваза с цветами стояла на телевизоре, а он показывает — «на столе».
— Лишний аргумент в пользу того, что у него отключилось сознание! — заметил Осокин.
— Вот, вот! С таким же успехом мы можем истолковать, что он нарочно указал неправильно местонахождение цветов, чтобы внушить вам мысль об отключении у него сознания.
— Как это доказать? — спросил Осокин.
— Не спешите! Это доказать очень трудно, только после анализа вкупе всех его действий могут явиться доказательства… Я, конечно, не исключаю, что, совершив преступление в состоянии сильного опьянения, Охрименко мог кое-что позабыть или пьяный мозг не зафиксировал некоторых деталей. Но не полное же отсутствие памяти о свершенном. Нас будет интересовать прежде всего одно: был ли он вменяем в момент совершенного преступления? Без четкого ответа на этот вопрос определить дальнейшую судьбу обвиняемого невозможно. Самоубийство всегда есть отклонение от нормы, но только состоявшееся.
— И убийство тоже отклонение от нормы! — сказал Осокин.
— В высшем философском смысле это, конечно, так. Но это область не только психического расстройства, это и воздействие воспитания, среды, эгоизма, возведенного до неимоверных пределов. И все это в пределах действия закона, закон отступает только перед психическим расстройством. Я расскажу один эпизод из моей следственной практики. Его тоже связывали с патологическим опьянением. Я тогда был в районе следователем, и довелось мне расследовать дело об убийстве. Довольно простое. Убит был человек в пьяной драке возле ресторана ударом ножа. Милиция вовремя не подоспела, присутствующие растерялись, и убийца спокойно ушел с места преступления. Пришел домой и завалился спать, в чем был. Не потрудился ни ножа выкинуть, ни одежду замыть от пятен крови. Когда мы пришли за ним через несколько часов, он беспробудно спал. Едва добудились. Он ничего не отрицал, ни от чего не отказывался, готов был даже признаться в преступлении, но признание обвиняемого без других доказательств в деле не может служить основанием для обвинения. Сколько я с ним ни бился, он ничего вразумительного о происшедшем рассказать так и не мог, он даже не мог вспомнить, за что, в какой ситуации ударил человека ножом. Вот почему у меня зародилось подозрение о его невменяемости. Возникла версия о патологическом опьянении. В рассуждение было взято, что убийца не предпринял никаких попыток скрыть следы преступления. Был на экспертизу представлен и его путь домой. Меня тогда смутило, что шел он домой, бессмысленно петляя по городу. Блуждал. Опять возвращался и по каким-то приметам находил дорогу. Я по наивности и отнес это состояние к невменяемости. А экспертиза, основываясь как раз на его блужданиях, установила, что он не был в невменяемом состоянии. Мне разъяснили, что если бы он находился в момент совершения преступления в состоянии патологического опьянения, то, вероятнее всего, он потерял бы сознание и заснул в любом месте. Могло быть и такое, что в состоянии патологического опьянения он дошел бы до дома, но только не блуждая, а словно бы по струне. Не разумом нашел бы дорогу, а болезненным подсознанием, которое сработало бы помимо его воли.
— Участковый застал Охрименко без сознания… — напомнил Осокин.
— Кто проверял эту степень бессознательности? — спросил Русанов.
— Никто не проверял! — ответил Пухов. — Тогда ведь все считали, что ранение у коменданта смертельное… Удивлялись, что еще жив был, когда выломали дверь.
— Его доставили и в Рязань в бессознательном состоянии, — уточнил Осокин.
— Для полной уверенности в этом вы, Виталий Серафимович, все же постарайтесь проследить весь его путь от подъезда и до рязанской больницы. Очень важно узнать природу его состояния. Был ли это внезапный сон. или последствия от потери крови или опьянения? Сознание он мог потерять и от боли. Прошить пулей кожу и ребро поцарапать — это больно!
Осокин сидел смущенный. Русанов взглянул на него и улыбнулся.
— Не огорчайтесь, Виталий Серафимович! Вы не первый и не последний, кто сразу не нашел решения. Работа следователя носит в себе творческие поиски.
Не всякая, конечно. Может попасться дело, где, кроме механической тщательности, ничего и не нужно, но там, где мы сталкиваемся с психологией, — это психологическая инженерия. И если говорят, что писатели это инженеры человеческих душ, то в иных случаях и следователь тоже инженер человеческих душ. Главное, преодолеть леность мысли, творчески преодолевать трудности и уметь вовремя отказаться от ложного поиска. Я ознакомлюсь с делом, и мы еще побеседуем, пока я лишь попытался расшатать вашу уверенность в высказанной версии. Она, к сожалению, шаткая… Не по душе мне и вот еще что. В показаниях свидетелей сквозной нитью прослеживается, что Охрименко по своей натуре человек малообщительный, замкнутый, в свою жизнь заглянуть никого не пускал. Кто-то назвал его даже бирюком. Молчалив, скрытен, нелюдим — и вдруг, вопреки своему характеру, встречному и поперечному показывает письма о жене. И какие письма! Личную жизнь выворачивает с удивительной откровенностью наизнанку.
— Переживал! — подбросил с иронией Пухов. — Страдал!
— Замкнутые люди страдают в одиночку. Не нравится мне этот внезапный перелом в характере. Вы пробовали, Виталий Серафимович, разъяснить Охрименко, что своим нежеланием откровенно рассказать всю правду он ухудшает свое положение?
— Пробовал! Не доходит! Говорит, что ему наш суд не страшен, что ныне он предстал перед божеским судом!
— Тонкое замечание, чтобы оправдать свое нежелание быть откровенным. Вы, Виталий Серафимович, сходите к Лотинцеву, послушайте его идею… Его идеи бывают полезны!
9
Криминалистическая лаборатория на втором этаже районного отдела внутренних дел. Окна забраны стальными прутьями. Плотные шторы, которые можно задвинуть в любой момент. Две просторные комнаты: первая с аппаратурой, вторая — как бы кабинет и своеобразный музей.
Осокин думал застать Лотинцева за изучением одежды Охрименко, но тот работал с прибором «УФО» над каким-то документом, пытаясь восстановить на нем текст, зачеркнутый жирными чернилами.
Лотинцев только дал знак, чтобы Осокин подождал его.
Тут было на что посмотреть. За стеклами книжных шкафов коллекции самого разнообразного огнестрельного и холодного оружия. Представлены откровенные самоделки. Острые, как бритва, и неказистые на вид ножи, выточенные из полотна ножовок или из тонких полос гибкой стали. Набор финок, в большинстве самодельных, но с претензией на изящество, с костяными и плексигласовыми наборными рукоятками. Кастеты — медные и свинцовые, даже и с режущими штырями. Самоделки из медных трубок, как их называли иначе, — «поджигалки». С одного конца сплющена трубка, в ней прорезана щель напильником. Трубка крепилась к выструганному ложу. Через ствол насыпался порох, забивался пыж и круглая свинцовая пуля. Порох поджигался через прорези спичкой. Пистолеты, отобранные в разные времена у преступников и у любителей хранить военные трофеи. Тут и немецкие парабеллумы, и браунинги, даже два маузера. Но это оружие уже не опасно, как правило, с залитыми свинцом или просверленными стволами. Даже и дуэльным пистолетам нашлось место рядом с изящными стилетами прошлого века с внезапно выбрасывающимся тонким стальным лезвием.
Наконец Лотинцев освободился и подошел к нему.
— Ну и как старик принял твой доклад? — спросил он.
— Все похерил! — ответил Осокин.
— Как это понимать?
— Очень просто. Всю мою версию о патологическом опьянении окончательно расшатал и отверг бесповоротно!
— Ах, ты вот о чем! Право, Виталий, это хорошо, что свои сомнения ты толкуешь в пользу обвиняемого. Несомненно, это и в будущем спасет тебя от многих заблуждений и ошибок. Ведь следователю зачастую очень трудно отказываться от первоначальной версии. Приглянувшаяся версия рушится, обвинение тоже, и возникает ситуация, когда следует открыто признать свою ошибку, а на это способен далеко не каждый… Русанов, очевидно, прав, за ним опыт и достаточный авторитет человека, умеющего своевременно все взвесить и заглянуть далеко вперед.
Начну с того, что еще во время нашего осмотра места происшествия не все мне понравилось: не нашлась третья пулька, почему-то под окном обнаружились потеки крови. Какой-либо определенной версии из всего этого не сложишь, но шевеление мысли в голове такие вещи производят. Лишь поэтому я и не удивился, что третья пулька у Охрименко в ладони оказалась, оттого и заинтересовался его одеждой. Давай рассудим вместе…
С этими словами Лотинцев подошел к одному шкафу, отодвинул стекло и взял с полки браунинг, весьма похожий на тот, из которого стрелял Охрименко. Огляделся, снял со спинки стула свой пиджак, надел его.
— Ты, надеюсь, уже обратил внимание на то, что твой подопечный свой пиджак, который тобой изъят, продырявил пулей в двух местах: справа — у края лацкана, на уровне чуть выше правого соска и слева, почти под мышкой. По следам пороховых порошинок от выстрела в упор не приходится сомневаться и в том, что в первом случае мы имеем дело с входным, а во втором — с выходным отверстиями при полете этой же пули.
Между прочим, после твоего сообщения о характере обнаруженного у него огнестрельного ранения, я сразу подумал, что все это окажется именно так. Поэтому и предложил срочно заинтересоваться одеждой, снятой с него. Теперь представь, что на мне тот самый его пиджак. Представил?
— Да.
— Подношу браунинг вплотную к своей груди для выстрела как раз к тому месту, где входное отверстие, с направленным его дулом по прямой в сторону выхода пули. Все правильно?
— Правильно!
— Мысленно нажимаю на курок и стреляюсь. В этом ты ничего особенного не улавливаешь?
— Честно говоря, нет, а что?
— Подумай!
— Не тяни!
Тут Лотинцев торжественно провозгласил:
— При таком полете пули справа налево она неизбежно поразила бы его в самое сердце, так сказать, в самую девятку. Все это яснее ясного! Ты и с этим согласен?
— Здорово! Только подумать, как все это просто.
— Не спеши радоваться. Ведь Охрименко остался жив и теперь почти здоров. А по словам лечащего врача, который в таких делах, безусловно, человек достаточно сведущий, пуля по совершенно непонятной для него причине всего навсего только прошила у Охрименко на груди верхний слой клетчатки и лишь слегка его царапнула по ребрам… Можно сказать, что произошло настоящее чудо. Ты против этого не возражаешь?
— Ничуть. Получается действительно так.
— Но ведь чудес не бывает?
— Не бывает.
— В таком случае давай-ка попытаемся решить этот ребус самостоятельно, — воодушевленно продолжил Лотинцев. Произнеся это, он вдруг снял неторопливо свой пиджак, аккуратно повесив его на спинку стула, развязал на шее галстук, ловко стянул с себя верхнюю сорочку, а за ней майку и предстал перед Осокиным, весьма озадаченным всем этим, оголенным по пояс.
— Ты, дружок, уж извини меня за такой камуфляж, — проговорил он, — только я сторонник того, чтобы все продемонстрировать тебе с предельной ясностью. Охрименко, конечно, с себя ничего не снимал, в чем я ничуть не сомневаюсь, а во всем остальном придерживался той же последовательности действий, что и я. Смотри повнимательней и запоминай!
Тут он плотно приложил к своему левому боку ладонь левой руки, потом скрюченными ее пальцами прихватил покрепче и оттянул вперед до предела мякоть и кожу на левой стороне груди, тут же резко согнулся в поясе и одновременно поднес свою правую руку с зажатым в ней пистолетом к груди справа, направив его дуло в таком положении, чтобы произведенный выстрел мог поразить лишь ту часть его тела, которую он оттянул вперед.
— Ловко, не правда ли? А главное, абсолютно безопасно для собственной жизни, зато впечатляет. И для этого достаточно одного, — он разжал пальцы — и все мгновенно стало на прежнее место, отчего предполагаемое выходное отверстие после такого ранения как бы сместилось до подмышечной области, что в случае Охрименко и создавало полную иллюзию неизбежного полета пули по прямой, не иначе как через его сердце.
— Как видишь, все предельно просто и объяснимо. Я еще могу сказать вот что: в свою ладонь он подловил и пулю лишь по той причине, что до выстрела нс успел разжать пальцы. Как тебе все это нравится?
— Представь, нравится и даже очень.
— Тогда выноси поскорее постановление о назначении по этому делу криминалистической экспертизы, а я дам такое заключение, которое поколебать никто не в силах.
— Ты, значит, твердо убежден, что свое самоубийство Охрименко симулировал?
— Абсолютно уверен!
Осокин поблагодарил Лотинцева и поспешил к Русанову.
— Разрешите? — спросил, переступая порог кабинета.
— Ну раз уж вошли, что же спрашивать! Что так спешно? Понравилась какая-то идея Лотинцева?
— Она все переворачивает! — воскликнул Осокин.
— Вот оно как, Виталий Серафимович! Видимо, криминалист что-то серьезное нашел.
На другой день, получив заключение Лотинцева, Осокин пришел к Русанову. Русанов пригласил опять и Пухова, и Лотинцева, полагая, что их мнение не будет лишним.
— Итак, — начал Русанов, — мы бесспорно имеем дело с симуляцией самоубийства. Не промах, рука не дрожала, и Охрименко находился в полном сознании, в полном сознании он придумал и хитрый самострел. Имеем мы и мотив ревности. Я сказал бы, что очень назойливый мотив. С первого звонка о происшествии из РОВД. Если же нам подготовлена симуляция самоубийства, то не был ли заранее подготовлен и этот мотив?
Давайте примем «ревность» за аксиому и попытаемся довести ее до логического конца. Супруги жили мирно… Она уезжает в санаторий в Сочи. Если бы в семье был мир и лад, и муж не хотел бы отпускать жену в Сочи, наверное, она посчиталась бы с его мнением, несмотря и на бесплатную премиальную путевку. Не посчиталась! Если не посчиталась, то почему? И возражал ли он решительно против ее отъезда? До отъезда о его возражениях ни один из опрошенных свидетелей ничего не показывает. Недовольство высказано супругом председателю профкома после получения анонимного письма. Логично? Логично. Не слишком ли логично? Человек ревнивый, получив такое письмо, кинулся бы опрометью в Сочи. Ему предлагают поехать, а он отказывается… Приходит еще одно письмо. Терпелив ревнивец. И после третьего письма в Сочи не едет! Возвращается жена, он идет и в полном сознании, хотя и под хмельком, убивает ее. Тут же разыгрывает фарс с самоубийством. Где же теперь логика в действиях?
Выстрел в жену на почве ревности свидетельствовал бы о неистовости характера, о неистовой ревности, но ревность-то спокойна. Очень даже рассудительная ревность. Что здесь требуется уточнить, и это я прошу вас заметить, Виталий Серафимович, уточните, разговор с вахтером о письме был раньше разговора с председателем профкома или позже? Какое письмо показывал Охрименко председателю профкома, а какое вахтеру? Перед вахтером Охрименко разыграл удивление, что кто-то его вспомнил из Сочи! Так он мог говорить только о первом письме. Итак, три письма, ни одной попытки проверить лично, что там в Сочи, и сразу стрельба. На одной чаше весов анонимные письма, никак не проверенные, на другой — умышленное убийство. Впереди длительный срок наказания! Стоит ли того ревность? И та ли это ревность, которая слепо подвигнет на такое преступление со столь тяжким наказанием? Не та это ревность! Ревность не та, и не доиграна, чтобы быть похожей на ту ревность, когда открывается стрельба. То, что не захотел проверить ревнивец, придется проверить вам, Виталий Серафимович. Готовьтесь к командировке в Сочи, пока не разъехался весь тот контингент, который застала Елизавета Петровна.
Да, вот еще что. В палате у Охрименко вы обнаружили букет свежих цветов. Кто-то прислал ему еще и сигареты. Кто же это сделал? К сожалению, Виталий Серафимович, вы не установили этого. Надо попытаться установить. Не исключено, что это окажется невозможным. Сейчас мы должны исходить из того факта, что цветы были присланы. Что они означают?
— Шерше ля фам! Ищите женщину! — подсказал Лотинцев.
— Вот, вот, — подхватил Русанов. — Можно было ожидать и этого. Вполне житейский вариант. Но убийство тогда становится совершенной бессмыслицей. Если бы была замешана женщина, любовь или что-то похожее, зачем же тогда убийство? При любом исходе судебного процесса убийцу ожидает лишь весьма длительная разлука с предметом его любви.
— Очевидно, что и ревность, и роман — не мотивы! — заметил Лотинцев. — А выдумка с самоубийством и со скользящим выстрелом говорит, что перед нами искусник!
— Все так! — согласился Осокин. — Я все это продумывал, но как доходил до самострела, так все рушилось. Что такое искусник? Бандит, преступник! Почему же тогда он не бежал и даже не сделал попыток бежать и скрыться?
— Куда? — спросил Лотинцев. — Выстрелы всполошили весь поселок. У проходной в полета шагах вахтер, и тоже с оружием. Вокруг огороды, в них люди. Через несколько минут на месте оказался участковый. Заметь, тоже с оружием. Раздались выстрелы, и комендант убегает… Далеко ли он убежал бы?
— Лес вокруг! — заметил Осокин.
Русанов как бы обрадовался этому замечанию и мечтательно протянул:
— Ле-ес! Кто бы знал мещерские леса! На всю округу два-три человека знают здешние леса. От нас километрах в десяти живет лесник Жора, или Георгий Александрович. И ему уже под семьдесят. За свою жизнь он целые полосы насадил еловых лесов. Восстановительные посадки. Каждую тропку знает и без тропки не собьется, а без тропки мещерским лесом не проберешься. И по тропке, даже если и знаешь ее, далеко не уйдешь. Вьется, вьется меж деревьев, и стоп: впереди болото. Летом, в самую сушь, иное и перейдешь без сапог выше колен, а вот сейчас, в мае, и в сапогах не пройти! Убийство совершено восемнадцатого мая. Когда приходит комариный Егорий? Десятого мая. Кто-нибудь из вас бывал в лесу или на озерах в день комариного Егория? Знаю, что никто из вас не бывал. Стыдно, в лесу жить и леса не знать! Не каждый год удается увидеть, а я видывал, как комары поднимаются в воздух. Когда увидел впервые, оторопь взяла. Сидел я на озере в засаде на уток. Засел днем. Шалашик смастерил из прошлогоднего камыша, высадил подсадную. Тепло, солнышко светит, спускаясь к горизонту. Тихо. Ни комарика. Начало примеркать, солнце еще не село, а наполовину опустилось за еловые мутовки. Взглянул я на воду, над водой туман не туман, а что-то непроницаемое и колышется. Показалось мне, что слезы глаза застлали. Протер глаза, а туман над самой водой густеет, из белого становится серым, и вдруг всю воду как будто бы серым покрывалом одело. Покрывало волнами, волнами ходит и вроде бы как поднимается, а ветра нет. Тишина в воздухе редкостная. Выше, выше покрывало, будто кто незримый его с воды стаскивает. О боже! Тут-то я и увидел, что это в одночасье комары над водой поднимаются. Одна сплошная волна едва рассеялась, пошла вторая волна, и опять воду как покрывалом задернуло. А тут над ухом «взз-и»! На лоб сел. И в ушах зазвенело. Вытерпел я минут пять, утку снял с поводка, в корзину и деру из леса…
Да, но вернемся к делу. Первый выстрел когда прозвучал? Около шести вечера. Самое времечко в лес бежать и в лесу отсиживаться от поиска. Скажу вам по секрету, не понадобилось бы Ни следствия, ни суда. Слышали когда-нибудь, как в стародавние времена в здешних местах разбойников казнили? Монахи этим занимались. В евангелии говорится — не убий! Они рук не кровянили. Конокрада поймают и на ночь в лесу привязывают к дереву. К утру вместо человека с веревок снимали кровяной волдырь! Триста укусов пчел смертельны, а тут миллиард укусов… По дорогам далеко ли убежал бы Охрименко, человек не здешний? Не прошло бы и получаса, как все посты получили бы извещение, на всех автобусных остановках его поджидали бы, на всех постах ГАИ осмотр машинам! Некуда бежать ему было! А отсюда вывод! Убийство он не готовил. Что-то произошло между супругами более значительное, чем рассуждение об анонимных письмах. И случилось внезапно. Потому и стрельба! Вот еще задача, Виталий Серафимович! Это хорошо, что выверено, сколько прошло времени от встречи с женой и до выстрелов. Теперь надо постараться, очень постараться прояснить, что между ними происходило в эти двадцать минут. Как там в их небоскребе с звукоизоляцией?
— Очень плохо! — ответил Осокин.
— Конечно, плохо, если участковый услышал выстрелы в соседнем доме! И еще одна деталь, зафиксированная в протоколе допроса кого-то из свидетелей. Вы ее, Виталий Серафимович, в протокол занесли, но перепроверять и уточнять не стали.
— Вы это о чем?
— О госте! Гость промелькнул, и больше о нем ни звука.
— Гостил, дескать, и уехал…
— Хозяйка его выгнала, а не уехал!
— Вот именно. Водочкой баловался, кто ж стерпит? Хотя можно заметить, а пока это очень туманно проступает, что именно после этого эпизода началось обострение семейных отношений Охрименко.
— Предмет для ревности? — спросил Пухов.
— Не знаю, — ответил Русанов, — а прояснить надобно! Действуйте, Виталий Серафимович! Но и о своей версии не забывайте! Все, о чем мы здесь говорили, пока без уточнений — только предположения.
10
Весь путь Охрименко из квартиры и до операционного стола можно было проследить с любого конца. Осокину удобнее показалось начать с рязанской больницы и лишний раз проведать больного.
Больной по заключению врачей чувствовал себя нормально, рана заживала, в поведении не обнаруживал нервозности. Как всегда, был мрачен и неразговорчив.
Больше к нему никто не наведывался, ни цветов не дарил, ни сигарет.
Первое, что попытался выяснить Осокин, это — кто ему принес цветы. Нашли нянечку, что дежурила в тот день на передачах. Она, конечно, не вспомнила бы, кто принес букет и сигареты, если бы речь не шла о ночном смертнике, которого привезли на вертолете. Она показала, что принесла цветы высокая, полная женщина, «разряженная, как на свадьбу». Не очень-то уточняющие личность приметы. Оставалась надежда, что если все же удастся найти «дружественную душу» Охрименко, то опознается по фотографии.
Затем Осокин попросил главного врача рассказать поподробнее о том, как проходила операция.
— Скорее, перевязка, чем операция, — поправил его хирург. — Почему вас волнует ее ход?
— Нам надо установить, в каком состоянии привезли Охрименко. Точнее, не могли бы вы вспомнить: когда его принесли в операционную, был ли он в сознании?
— Во-первых, молодой человек, — начал хирург, — у нас в операционную не приносят, а ввозят. Здесь все были серьезно встревожены: нам же сообщили, что у больного задето пулей сердце. Мы даже связались с Москвой и предупредили о сложной операции. К нам на подмогу даже готовы были вылететь специалисты. В том, что этот человек был в бессознательном состоянии, сомнений не было… Если бы он оказался в сознании, это нас поразило бы! Мы даже не делали рентгеновского снимка перед операцией, так торопились спасти ему жизнь. Я вам больше скажу, признаюсь в своей оплошности. Я не сразу заметил, что у него ранена и рука. Я сразу же начал зондировать рану и поразился, что зонд уперся в ребро. Только тогда наступило прозрение и мы успокоились.
— Как на это реагировал больной?
— Опять наивный вопрос, молодой человек! Но вы не медик, прощаю! В это время он уже находился под общим наркозом. — Мы отвезли его в рентгеновский кабинет. Глазам не поверили. Пуля, едва коснувшись ребер, ушла в ладонь. Пришлось срочно звонить в Москву и извиняться.
Тут Осокин объяснил хирургу, каким образом возникло столь удивительное ранение у Охрименко.
— Ну и ну! — воскликнул хирург. — С такими самострелами мне не приходилось встречаться.
— У вас не было ощущения, что Охрименко находился без сознания из-за сильного опьянения?
— Я и мои коллеги не подумали об этом. Но и от боли он мог потерять сознание. Рана не опасная, но довольно болезненная.
Пришлось допросить всех, кто имел отношение к подготовке операции. Эти допросы ничего не дали. Все утверждали, что он находился в бессознательном состоянии.
Осокин поехал в сельскую больницу, в которую Охрименко был первоначально доставлен на машине «скорой помощи» из Сорочинки. Та же картина. Все в один голос уверяли, что Охрименко был доставлен в бессознательном состоянии. И вот, наконец, на допросе сестра, которая обрабатывала раны антисептическими средствами.
— Без сознания? — переспросила она. — Вроде бы и без сознания, а вот на боль среагировал.
Осокин замер, опасаясь неудачным вопросом нарушить память у свидетельницы. Осторожно спросил:
— На какую боль?
— Я ему раны обрабатывала тампонами. Заметила волосок возле самого края раны. Это всегда опасно. На волоске может оказаться грязь. Я поспешила и дернула волос пинцетом. Он открыл глаза и зло вдруг говорит: «Слышь ты, ведьма старая, аккуратнее! Я тебе не собака!»
— Старая? — переспросил Осокин. — Когда же он мог заметить, что вы пожилого возраста?
— Не знаю! Он лежал с закрытыми глазами…
— Вы никому об этом не сказали?
— Зачем? Все спешили его отправить в область, а потом это уже ни к чему!
Так Осокин получил возможность оценить прозорливость Русанова. Прорыв в логическую цепь, составленную Охрименко, состоялся.
В Сорочинке привыкли к приездам Осокина, не стесняясь подходили полюбопытствовать, как идет расследование. Каким-то образом разнесся слух, что Охрименко убил жену в состоянии невменяемости, и всем не терпелось узнать, будет ли он отвечать по суду. Осокин уходил от расспросов, не удовлетворил он любопытства и участкового. Он попросил его пригласить понятых и проводить в квартиру Охрименко, чтобы установить, что могли услышать соседи, когда встретились супруги Охрименко после разлуки.
Осокин, участковый и понятые устроились в квартире Охрименко в ожидании, когда жильцы начнут возвращаться с работы.
Сначала были слышны только шумы на улице. Но вот отчетливо пробили стенные часы «кукушка».
— Это в шестой квартире! — пояснил участковый. — Хозяина квартиры вы допрашивали… Он еще о его госте говорил…
Осокин сделал знак, чтобы тот помалкивал.
Настал час возвращения жильцов с работы. Беспрестанно хлопали входные двери в подъезде, затем слышались шаги по лестнице. Если бы Осокин не прислушивался ко всему специально, быть может, этот звук и не был бы назойливым. Каждый удар двери на пружине отдавался в голову. Осокин ждал, когда зазвучат голоса.
И услышал. Сначала щелчок ключа в замке, через минуту донеслась музыка из радиоприемника, а затем послышался шум воды. Музыка оборвалась, «Маяк» передавал новости. Репродуктор явно был включен не на полную мощность, но Осокин отчетливо различал некоторые слова и даже фразы в устах диктора. Голос диктора заглушили шаги по лестнице, затем уже более отдаленный щелчок замка на лестничной площадке. Это уже на противоположной ее стороне. Через стену донеслись голоса ближайших соседей.
Осокин справился в своей записной книжке. Соседа через стену он допрашивал одного из первых, он был в числе тех, кто вошел с участковым в квартиру Охрименко.
Результаты следственного эксперимента на окружающую слышимость Осокин отразил в протоколе и тут же вместе с участковым направился к соседу.
Открыл хозяин. Он радушно пропустил их в квартиру.
— Еще какие-либо уточнения?
— Надо кое-что уточнить! — пояснил Осокин. — Только очень осторожно, чтобы не сбить вашу память. Посидим, подумаем?
— Посидим, подумаем! — согласился сосед и провел гостей в столовую.
— Та комната смежная с квартирой Охрименко? — спросил Осокин.
— Нет! Его столовая имеет смежную стену с нашей кухней.
Сосед позвал жену и попросил согреть чаю.
— Чаю я с удовольствием выпью, — сказал Осокин. — Спасибо…Никак не могу установить, перед тем, как Охрименко начал стрелять, не было ли у него с женой ссоры.
Хозяйку звали Ниной Борисовной. Осокин это знал из своего списка. Ее он не допрашивал, вроде и не было нужды, ведь она в квартиру Охрименко в тот день не заходила. И вдруг — вот оно! Нина Борисовна заметила мужу:
— Ты же пришел домой позже Охрименко…
— Почему вы это заметили? — мгновенно спросил Осокин, сейчас же сопоставив в сознании показания соседа, что он услышал выстрелы из столовой, когда ужинал.
— В тот день я имела отгул и на работу не ходила, — пояснила Нина Борисовна. — Затеяла большую стирку и спешила управиться до возвращения мужа. Я слышала, как Охрименко пришел, а мужа еще не было…
— Следователю нужно все по минуткам! — заметил хозяин. — А ты вообще… вообще…
— Вы даже не представляете, как мне важно по минуткам, — подтвердил Осокин. — Да где там по минуткам? Хотя бы знать, что не сразу стрельба поднялась…
— Не сразу! — подтвердила Нина Борисовна. — Они еще меж собой пошумели!
Осокин затаил дыхание.
— Что значит пошумели? — спросил он. — Часто у них такой шум бывал?
— Если бы часто, я не обратила бы внимания… Нет! Жили они мирно и тихо, через стенку у нас почти все слыхать.
— Стало быть, надо вас так понять, что между ними возникло что-то вроде ссоры?
— Скандал между ними шел! Охрименко как вошел, так сразу включил радио… Будто нарочно, чтобы никто не слышал, о чем промеж ними скандал пойдет! Да и у меня вода шумела! Так что я не очень-то расслышала, что за скандал промеж них, потому и не пришла к вам, товарищ следователь…
— Ну хотя бы два-три слова вам довелось слышать?
— Ее слов я не слышала, она голоса не повышала, а его ругань повторять непристойно…
— Непристойные слова мало, конечно, что объяснят, — поспешил согласиться Осокин. — Но не одни же непристойные слова! Он в чем-то ее упрекал?
— Известно, в чем упрекал! Все дни с письмами носился, всем жаловался. Вот еще что! Перед тем как раздаться выстрелам, он крикнул ей: «Сволочь лягавая!» Она, должно, пригрозила, что пожалуется на его ругань. Как выкрикнул эти слова — так выстрелы…
— Нина Борисовна, — чуть ли не вскричал Осокин. — Это очень важно! Вы не ошибаетесь?
— Я думать бы об этом забыла, если бы он ее не убил! А теперь и через десять лет помнить буду!
Осокин тщательно занес ее показания в протокол и дал подписать его, понимая, что теперь уже вся версия о полной невменяемости Охрименко и потери им памяти рушилась окончательно и бесповоротно. Слова же его «сволочь лягавая» требовали новых разъяснений. Но Нина Борисовна ничего добавить не могла.
В обоих звеньях, подсказанных Русановым, логическая цепь, сплетенная Охрименко, разорвалась. Осокин больше не колебался: убийство совершено в полном сознании, а все последующие действия Охрименко были рассчитаны на то, чтобы уйти от наказания. Стало быть, любая мелочь не могла остаться без должной проверки. В том числе и тюльпаны, переданные в больницу, и сигареты.
Цветы и сигареты. Поскольку дело об убийстве уже не могло рассматриваться как преступление, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, а совершенное хладнокровно, да еще с расчетом уйти от ответственности, искусно симулировав самоубийство, вопрос о связях Охрименко приобретал первостепенное значение.
Пока все, кого приходилось Осокину допрашивать, не могли считаться ни друзьями, ни даже близкими знакомыми Охрименко, тюльпаны же указывали, что где-то поблизости обретается человек, не равнодушный к его судьбе. К тому же у Охрименко, очевидно, нашлись какие-то резоны скрывать этого человека от следствия.
Изучая круг лиц, с которыми Охрименко имел дело, Осокин обратился к его записной книжке. Он знал немало примеров, когда записные книжки помогали раскрыть самые замысловатые, самые скрытые связи преступника.
Записная книжка Охрименко была почти чистой. Несколько его служебных телефонов, несколько записей, связанных с распределением дежурств, и только на последней странице непонятный адресок, записанный карандашом и небрежно: «Есенина 25—2». Рядом ни имени, ни фамилии. Мог быть это адресок какой-либо конторы, пожарной или милицейской службы или какого-либо случайного знакомца, но с такой нарочитой небрежностью мог быть записан и адрес очень нужный, чтобы своей записью не бросался в глаза.
Улицы с таким названием в Сорочинке не оказалось. Название довольно распространенное в рязанских краях, этот адрес мог относиться и к городу, и к поселку, мог находиться и в Рязани, мог быть и где-то поблизости, и во всех случаях за ним могло ничего не стоять, а могло скрываться и очень многое. О дальних городах и весях Осокин положил поинтересоваться позже через центральный адресный стол. Он вспомнил, что есть такая улица в Озерницке. Звонок в милицию, и вот ответ: на улице Есенина под номером двадцать пять — рабочее общежитие. Оно заселено самыми различными людьми. Осокин затребовал и список жильцов, прописанных во второй квартире. В списке бросилась в глаза уже знакомая фамилия: Гладышева Клавдия Ивановна. Буфетчица с ватной фабрики. Вроде ее и искать было ни к чему. Ведь коменданту фабрики было положено иметь адрес буфетчицы, лица материально ответственного.
Но в голову приходило и другое. Во-первых, адреса тех работников фабрики, которых почему-либо могли разыскивать, у коменданта ведомственной охраны были, вне всяких сомнений, всегда под рукой. На его рабочем месте. Во-вторых, настораживала конспиративная запись адреса Гладышевой — без указания населенного пункта, ее фамилии и сделанная не под соответствующей буквой алфавита, а почему-то на внутренней стороне обложки.
Предстояло теперь выяснить, сделал ли это Охрименко по небрежности или из-за того, что стремился от кого-то скрыть этот адресок? Не от следствия же! Судя по затершимся буквам, запись была сделана давно.
Осокин вызвал Гладышеву в опорный пункт охраны порядка, где он вел официальные допросы.
В прошлый раз она его в буфете встретила в белом халате, с белой шапочкой на голове. В опорный пункт явилась при всем своем параде. Хоть и в годах дамочка, но на определенный вкус вполне еще в силе.
— Опять интересуетесь алкогольной дозой нашего коменданта? — спросила она, поигрывая бровями.
— О дозе мы в прошлый раз побеседовали… — ответил Осокин. — Этот вопрос прояснен…
— Что же ему теперь будет? Неужели засудят?
В ее голосе улавливалось явное сочувствие к Охрименко. Но не у нее одной проскальзывало это сочувствие.
— Совершено убийство, Клавдия Ивановна, — пояснил Осокин. — Без суда как обойтись?
— Человек в отчаянности в себя тоже стрелял!
— И это суд примет во внимание. У нас, Клавдия Ивановна, задача попроще. Обязан я вас снова допросить…
— Я тут при чем? — вскинулась обеспокоенно Гладышева. — И посочувствовать нельзя?
— Отчего нельзя? Можно, конечно. Да только я пригласил вас совсем для другого.
С этими словами Осокин раскрыл перед ней последнюю страничку в записной книжке Охрименко и, как бы продолжая начатую со свидетельницей беседу доверительного характера, произнес:
— Вот здесь я углядел один бесфамильный адресок. Он знаком вам?
Гладышева не без интереса скользнула взглядом по записи и, не колеблясь, тут же ответила:
— Это мой адрес.
— Верно! Но хотел бы теперь еще услышать от вас: с чего это Прохор Акимович так зашифровал его в своей книжке? И вообще, в каких он был с вами взаимоотношениях?
Гладышева нервно дернулась.
— А ни в каких! Я же говорила вам, что сдавала ему ключи от буфета.
— Стало быть, находились вы с ним в нормальных отношениях! Ни вражды, ни дружбы! За черту служебных отношений вы не переходили… Так, что ли?
— Пишите — в хороших! — ответила Гладышева. — Я его уважала.
— Запишем! — согласился Осокин. — Еще вопросы. Приходилось ли вам встречаться с Охрименко вне служебной обстановки? Бывали ли вы у него дома? Бывал ли он у вас?
Гладышева отвернулась и искоса окинула взглядом Осокина, как бы чего-то застеснялась.
— Случалось ему бывать у меня. Я женщина свободная и никого от себя не гоню.
— Но это уже ваше дело. А мы запишем, что Охрименко бывал у вас.
— Бывал! — подтвердила Гладышева.
— В этом, возможно, и кроется та причина, по которой он зашифровал ваш адрес?
— В чем тут причина, пусть он скажет сам, вопрос этот не ко мне.
— А может, хотел это скрыть от своей жены?
— Того не знаю. Сказать по правде, так сейчас мне ее жаль не менее, чем самого. Днями я ездила в область за продуктами и хотела его навестить в больнице. Не пустили. Так я ему цветы оставила и сигареты. Я знала, какие он курит. А вот администрация фабрики не позаботилась… Человек же он! Такое пережил, не приведи господи!
Осокин усмехнулся.
— Не для протокола, Клавдия Ивановна, а по-человечески. Не выходит ли, что не ему жену ревновать, а жене ревновать его к вам?
— Не для протокола, так я скажу, не одна его жена ревностью ко мне пылает. А у его жены свои заботы! О них ему в письмах расписали…
Осокин все это занес в протокол и дал подписать Гладышевой.
Гладышева с готовностью его подписала, а в конце дописала собственноручно: «Все записано с моих слов правильно и мною прочитано».
— Ну как, товарищ следователь? — спросила она. — Мы больше не увидимся?
— Это как дело покажет!
— Имейте в виду, я молодых и симпатичных мужчин не боюсь, даже следователей!
— Следователи — те же люди! — отшутился Осокин.
— Вот этого я еще не знаю… — заключила Гладышева и жеманно улыбнулась.
Ушла. Осокин перечитал протокол. Тюльпаны в больнице начинали приобретать какой-то еще не очень ясный смысл, но явно не простой. Взглянул еще раз на последнюю фразу, написанную Гладышевой, и оторопел. Что-то она ему напоминала. Себе не доверяя, Осокин извлек из папки анонимные письма. Вот оно, это письмо «доброжелательницы» с обратным адресом. Об адресе уже пошел запрос через милицию, ответа еще не было получено. Тот же почерк, что и у Гладышевой. Пышные завитушки в букве «з», заостренные сверху, длинные, как пики, палочки «р». Одинаковые начертания и других букв. Как же он это раньше не заметил по записи в протоколе первого ее допроса?
Прихватив из архива фабрики еще несколько старых товарных отчетов буфетчицы Гладышевой в качестве свободных образцов ее почерка, Осокин, не медля, вернулся в райцентр и сразу кинулся к Лотинцеву, теперь уже для проведения новой экспертизы — почерковедческой. Лотинцев тут же заявил:
— Нет сомнений! Текст письма от имени «москвички» исполнен рукой Гладышевой.
Свое мотивированное заключение об этом Лотинцев вручил Осокину со всеми сравнительными фотоиллюстрациями к концу того же дня. Притом он, не удержавшись, Даже подмигнул и произнес со значением:
— Вот тебе и простенькое дельце!
Дело оборачивалось совсем не простенько. Осокин поспешил к Русанову.
Русанов заметил его волнение и усадил в кресло.
— Успокойся! Как теперь дело обстоит с патологическим опьянением?
Осокин махнул рукой.
— Патология, только не от опьянения! Полюбуйтесь!
Осокин положил на стол протоколы с записью Гладышевой, письмо «москвички» и заключение Лотинцева.
— Забавно! — заметил Русанов. — Не зря мы с тобой договаривались о командировке в Сочи. Усложняется тебе там задача! Тут уже речь не об опровержении содержания писем, а надо бы поискать, кто их оттуда отправлял. Неужели «шерше ля фам», как выразился Лотинцев? Какова она, Гладышева?
— Дамочка в соку, но и в возрасте, — пояснил Осокин. — Елизавета Петровна была и моложе, и красивее… Но тут еще кое-что нашлось, Иван Петрович! Охрименко притворялся. Он был в сознании. Вот показания медсестры из больницы…
— Так! И здесь прорыв обороны. Еще что?
— Стрелять начал не сразу. Поскандалили.
— И это я предвидел…
— Но вот одна фраза очень значительная. Перед тем как раздались выстрелы, Охрименко назвал жену «лягавой»…
— Ну-ка, давай, где это? — поторопил Русанов.
Осокин передал протокол допроса соседки Охрименко.
Русанов прочитал и помрачнел.
— Серьезное дело разворачивается. Очень серьезное, Виталий Серафимович!
11
Прежде чем ехать в Сочи, Осокин направился в Сорочинку допросить Гладышеву. Казалось бы, эпистолярное творчество этой дамочки проливало свет на события. Что-то тяжкое кроется за словом «лягавая», оно никак не в числе оскорблений, которые мог бросить Охрименко в лицо жене. Это блатное слово имеет вполне конкретное значение. Но в чем же собиралась Елизавета Петровна обличить мужа, чем ему грозила, что побудило его совершить убийство? Неспроста появилось сначала письмо Гладышевой с той же темой, что и первые два письма из Сочи. Не само она придумала, нет, не сама!
На этот раз Гладышева вошла к Осокину как старая знакомая. Она кокетливо улыбнулась и сказала:
— Я вижу, что вы уже скучаете без меня? Трех дней не прошло. Нетерпеливы?
— Очень нетерпелив! — в тон ей ответил Осокин. — Два дня только о вас и думаю…
Гладышева села и наклонилась через стол к Осокину.
— И я, признаюсь, тоже два дня только о вас и думаю… Молодой, симпатичный и не женатый!
— А как же симпатия к коменданту?
— Э-э! — протянула Гладышева и махнула рукой. — Я человек свободный, а он обременен!
— Вот и освободился…
— От жены, но не от вас!
— А вот цветы зачем же обремененному?
— Меня за это укорять не надо! Я его жалела…
Осокин вздохнул и пристально посмотрел на Гладышеву. Она ничуть не смущалась под его взглядом, перетолковывая его на свой лад. «Не взбрело бы ей в голову, что я флиртую с ней, — подумалось Осокину, — с нее станется!»
Осокин достал из папки письмо «москвички» и положил его перед Гладышевой.
— Ваше творчество? — спросил он коротко.
Нагловатая и наигранная самоуверенность мгновенно у нее испарилась. Уже не зазывным взглядом она окинула Осокина, а с трудом подавила испуг.
Письмо она придвинула к себе, брезгливо, двумя пальчиками. Закурила. Осокин терпеливо ждал, зная, что в ее душе сейчас буря. Признать или не признать?
Сделав несколько глубоких затяжек, Гладышева выдавила из себя:
— Это письмо я написала…
— Зачем?
— Я не сама, под его диктовку.
— Охрименко сочинил письмо и вам продиктовал?
— Да…
Гладышева замолкла, не удержала слез. Потекли, размывая краску на ресницах.
— Вы же взрослый человек, неужели вам было не стыдно клеветать на женщину ни в чем не повинную?
— А вот этого я не знаю! — воскликнула Гладышева. — Я не знаю! Он мне показал два письма из Сочи. Там такое!
_ Вы же были знакомы с Елизаветой Петровной. Вы поверили?
_ Э-э, молодой человек, бабья душа потемки. В тихом омуте иной раз такие черти водятся… Прохор Акимович и говорит: «Я ей письма-то покажу, а она скажет, то мужики писали со зла, что она их отбрила. Пусть еще женское письмо подкрепит, вот тогда я с ней поговорю по-мужски!» Я и в мыслях не имела, что он убьет ее!
Неужели у них был сговор избавиться от Елизаветы Петровны, а письма придуманы как предлог для развода? Но не для убийства же! Да если уж допекло и хотелось развестись ради этой намазанной куклы, то письма не очень-то и нужны… Нет, нет и нет! Не в Гладышевой тут дело.
Но само по себе обращение к Гладышевой с просьбой переписать своей рукой анонимку, обличает большую доверительность к ней. Осокин счёл необходимым прояснить и их отношения.
— В прошлый раз, — начал он, — не было нужды уточнять характер ваших взаимоотношений с Охрименко. Надеюсь, вы понимаете, что в свете открывшихся обстоятельств это теперь необходимо. Речь идет о самом тяжком преступлении, здесь не должно оставаться неясностей. Я вам ставлю прямой вопрос: вы состояли с Охрименко в интимных отношениях?
— Я и в прошлый раз не скрывала, что он хаживал ко мне… Чай, что ли, пить? Чаем я его могла напоить и в буфете…
— На фабрике кто-либо об этом знал?
Гладышева отрицательно покачала головой.
— Мы своих отношений напоказ не выставляли.
— Обещал жениться?
Гладышева отчаянно замахала руками.
— Я что, помешанная? Бирюк и есть бирюк, захотела бы, помоложе и повеселее нашла бы! По слабости бабьей ему помочь ввязалась!
Бурный ее протест и язвительность прозвучали довольно убедительно. А закончила она свою тираду вопросом:
— Что же мне теперь будет?
— Об этом поговорим позже! — осадил ее Осокин. — Шутка дорого стоит… Подумайте, не могли бы вы прояснить следствию, что побудило Охрименко убить жену?
— Ревновал он ее!
— А может быть, что-нибудь иное?
— Нет, нет, не подумайте, я тут ни при чем! Он мне был не нужен, и не сватался он никогда, и я ему не нужна!
— Где вы писали под диктовку его письмо?
— Дома… На квартире в Озерницке.
— Каким же образом письмо было отправлено из Сочи?
— Вот этого я не знаю!
— В мае вы в Москве не бывали?
— Нет, не бывала! И Охрименко не бывал…
— Откуда вам это известно?
— Я каждый день его на работе видела…
— А в нерабочие дни?
Гладышева опустила глаза и едва слышно выдавила из себя:
— И в нерабочие дни…
— Кто-то все-таки отвез письмо в Сочи и опустил в почтовый ящик?
— Не знаю… Любого можно попросить…
12
Поезд в Сочи пришел утром, в десятом часу утра. Осокин едва вышел на привокзальную площадь, как сразу почувствовал себя на юге. Небольшой сквер в окружении молодых пальм и кипарисов, полыхала цветущими гладиолусами большая клумба. Солнцу еще было далеко до полуденного стояния, но оно уже чувствительно припекало.
Осокин не был обременен багажом, в руках не очень туго набитый портфель. Смена рубашек, зубная щетка с тюбиком пасты, несколько пар носков и папка с необходимыми документами. С таким грузом можно было не торопясь прогуляться по городу, влившись в поток местных жителей, отдыхающих и вновь прибывших на отдых. На пути многочисленные киоски с мороженым, с прохладительными напитками.
Надо было сначала устроиться в гостинице. Осокин не спрашивал, как найти «Приморскую», он просто-напросто поглядывал, куда устремились пассажиры с поезда, которым он приехал. Кое-кто сел в автобусы с обозначением названия санаториев, а «дикари» твердо взяли известное им направление. В их рядах Осокин и пришел к «Приморской», просторной гостинице на набережной.
Номер для Осокина был забронирован на верхнем этаже, с видом на море. Это ли не радость — впервые в жизни охватить взглядом морской простор с высоты?
Стоял на редкость спокойный день, море едва заметно покачивалось, не било волной о берег, а ласково поглаживало его. Ближе к горизонту обрисовался силуэт морского теплохода, какие Осокину доводилось ранее видеть только на открытках. Можно было уловить и невооруженным взглядом, что теплоход медленно приближается к берегу и перед ним расступаются прогулочные катера и парусные яхты.
Рядом с гостиницей открытый павильончик. Подавали кофе, сосиски и чебуреки. Стакан кофе с горячими чебуреками подкрепили «угасающие» силы. Осокин направился в порт посмотреть, как пришвартовывается теплоход. На борту сверкала золотыми буквами надпись «Россия». Доносились команды капитана. Теплоход осторожно коснулся причала. Спустился трап, и по нему потянулась цепочка пассажиров. Над берегом кружились белые чайки.
И лестница с широким маршем ступеней к морю, и пальмы, и белый теплоход, и толпа гуляющих в яркой раскраски платьях — все выглядело феерическим праздником.
Это праздничное настроение охватило и Осокина, и только мысль о предстоящем деле, весьма деликатном, отгоняла праздничное настроение.
Дорогу к санаторию «Ривьера» указали ему первые же встречные.
Там Осокин прежде всего обратился в приемное отделение и установил, в каком корпусе и в какой палате проживала Елизавета Петровна. Соседки по палате — это самый надежный источник для информации. Но оказалось, что те, кто общался с ней, из санатория уже отбыли.
Второй точкой соприкосновения с отдыхающими мог быть столик в столовой. У заведующей столовой Осокин уточнил, за каким столиком сидела Елизавета Петровна. Здесь повезло. Один из ее соседей по столу был старичок, московский профессор Иван Васильевич Ворохов.
Осокин нашел его в палате. Иван Васильевич, пользуясь дневным одиночеством, над чем-то работал. Осокин представился и предъявил свое удостоверение. Профессор внимательно прочитал все, что значилось в удостоверении, и удивился.
— Озерницк? Это сердце Мещеры… Далекий край от моих интересов… — И тут же спросил: — Не моя ли соседка по столику вас интересует, молодой человек? Елизавета Петровна… Помнится, что она из Озерницка…
— Вы угадали! — подтвердил Осокин и тут же поспешил с вопросом: — Скажите, Иван Васильевич, у вас случайно не возникла мысль, что ее личность может вызвать у нас какой-либо интерес?
Профессор приподнял очки и пристально взглянул из-под них на Осокина.
— Так сказать, дежурный вопрос следователя… Я не люблю наводящих вопросов, молодой человек! На мой взгляд, ее пребывание в санатории в те дни, которые совпали с моим здесь присутствием, не может вызвать какой-либо интерес у следователя прокуратуры. Что с ней случилось?
Осокин вздохнул.
— Вот видите, Иван Васильевич, ваш упрек ставит меня в затруднительное положение. Я нисколько не собираюсь скрывать причины своего интереса к Елизавете Петровне, но боюсь преждевременной информацией дать направление вашей памяти не в ту сторону. Вот вы спросили меня, что с ней случилось. Вполне законный вопрос. Я вам на него отвечу, но прежде мне хотелось бы вас спросить: у вас не было ощущения, что с ней что-либо могло случиться? Вы с ней общались или общение было только за столиком?
— Общались, и даже помногу! Она экономист-практик, я экономист-теоретик. Я много полезного почерпнул для себя из ее практических наблюдений. Так что же с ней случилось?
— Я понял, что вас беспокоит, Иван Васильевич! Лично к ней у нас нет никаких претензий.
— Если бы у вас даже и были к ней претензии, от меня вы о ней услышали бы только хорошее. Скромная, трудолюбивая, думающая женщина. Не легкой жизни человек. В войну потеряла родных, в очень раннем возрасте… Воспитывалась в детском доме. Всего достигла сама. Словом, моя характеристика будет самой положительной, поэтому я все же настаиваю на том, чтобы вы объяснились!
— Если вы так настаиваете, я вынужден опередить свои вопросы. Она убита!
— Убита? Какой ужас! Кто, за что ее убили?
— Убита мужем!
— И он скрылся?
— Нет! Не скрылся…
— За что?
— Вот ради ответа на этот вопрос я сюда и приехал… Вот, посмотрите!
Осокин выложил на стол анонимные письма.
Профессор подвинул к себе листки, некоторое время внимательно вчитывался, перевернул письмо, подписи не нашел и оттолкнул листки.
— Какая мерзость! Что это такое?
— Письма неизвестных доброжелателей ее мужу!
— Это даже не ложь, а какая-то слизкая пакость! Он что у нее, сумасшедший?
— Не сказал бы!
— Жизнь прожил, а к такой пакости впервые прикасаюсь… Среди отдыхающих я не замечал таких мерзавцев!
— Мерзавцев не всегда легко различить…
— Неправда! Мерзавцев такого разряда всегда можно отличить. Вы проследите за лексикой писем, за оборотами фразы, так и вылезает мещанское мурло! Есть люди образованные, есть люди простые, но это мурло может затесаться и в среду образованных, и в среду простых, и там и там оно отличимо. Категорически заявляю, что в те дни, когда мое пребывание совпало с ее пребыванием, никого с этим мурлом поблизости не было.
— Три письма, и будто бы разные люди…
Профессор подвинул к себе письма и морщась прочитал все до одного, от строчки до строчки.
— Письма три, а автор один!
— А вот это и надо мне доказать! Пока мне поможет ваше заверение, что в письмах содержится явная ложь. Теперь у меня другой вопрос. Когда вы с ней общались, у вас не было ощущения, что она была чем-то расстроена, подавлена? Вот почему я не спешил вам все открыть, я опасался, что чем-то повлияю на ваше впечатление…
Профессор задумался.
— Нет, вы не поспешили мне все открыть… Без этого, пожалуй, некоторые детали в ее поведении ускользнули бы от моего внимания. Действительно, можно было подумать, что над ней что-то тяготеет… Она вдруг теряла нить рассуждений, как бы отключалась сознанием… Нет-нет да вдруг о чем-то задумается, никак не связанном ни с предметом беседы, ни с обстановкой… Я, откровенно говоря, приписывал это ее усталости… Теперь бы я истолковал это иначе… У нее ранее не было неприятностей с мужем?
— Могли быть… Поэтому ваши впечатления так и важны для следствия.
— И этот… муж, за что ее убил? Из-за этих писем? Вы имеете вполне достоверные доказательства, что именно он убил ее?
— Неоспоримые доказательства!
— И как он объясняет свой поступок? Неужели этими письмами?
— Преступление, вы хотите сказать, Иван Васильевич! Старается объяснить ревностью, стало быть, этими письмами! Но он автор их…
— Тогда, молодой человек, не в письмах причина! Ищите глубже!
— Ищем, Иван Васильевич! А вам спасибо, что помогли…
Осокин занес в протокол показания профессора и отправился на поиски других свидетелей. Он нисколько не сомневался в показаниях Ивана Васильевича, но считал, что нелишне и здесь замкнуть Охрименко всякую возможность поставить что-либо под сомнение. Нашел двух женщин, которые ходили с Елизаветой Петровной вместе на пляж. Их показания легли в протокол убедительным доказательством того, что письма содержали клевету.
Собственно говоря, можно было собираться в обратный путь, идти на вокзал, позаботиться о билете на поезд, а оставшееся время побыть на море.
13
Время переступило полдень. Осокин, выйдя в город, почувствовал, как он был неудачно одет для июньской жары. На нем был его выходной темно-синий костюм, ткань мгновенно накалилась, будто кто ее специально прогревал на отопительной батарее. Пришлось пиджак аккуратно свернуть и положить в портфель. С билетами было трудно. На вечерний поезд можно было взять билет только за два часа до его отхода. Так что до вечера он мог распорядиться своим временем. Осокин поспешил на городской пляж.
Он заходил в море, робея, как перед давно ожидаемой встречей. Несколько шагов, и дно пошло круто вниз. Осокин поплыл легко, почти без усилий. Ему казалось, что он никогда не дышал таким насыщенным воздухом. Морской воздух как бы разжимал легкие, сдавленные запахами бензина на дорогах и испарениями асфальта. Подумалось, если бы приехал вдруг сюда на отдых, то, наверное, и не выходил бы из воды. Но время неумолимо. Вышел на пляж, посидел в тени под дощатым навесом. Все хорошо: нашел свидетелей, взял справку из санатория о времени пребывания в нем Елизаветы Петровны, изъял даже и историю ее болезни, но оставалось что-то беспокоящее.
Что?
Конечно же, эти два письма. Сомнений не было, что сочинены они так же, как и то, что написано Гладышевой, самим Охрименко. Как же это доказать?
Осокин решил проверить подлинность почтовых штемпелей на письмах и установить, из какого почтового отделения они отправлены. И сразу же открылось: из привокзального почтового отделения.
Номер в гостинице Осокин сдал еще до выхода на пляж. Он устроился за столиком в привокзальном ресторане, положил перед собой конверты и задумался.
Нужна была, как говаривал Лотинцев, «идея», надо было найти принцип, по которому действовал Охрименко. Лотинцев разгадал самострел. Но у Лотинцева имелась зацепка, третья пулька, точнее говоря, отсутствие третьей пульки. Здесь выглядело все туманнее и своей «пульки» не имелось. Да, сомнений быть не могло: Охрименко причастен к присылке сочинских писем. Но как он умудрился отправить их из Сочи? Из Озерницка автобусы в Сочи не ходят, ближайшая железнодорожная станция — Шатура. Она никак с поездами на Сочи не связана, Рязань годилась бы как узловая станция, но для этого Охрименко надо было бы посетить Рязань. Имелись же показания не только Гладышевой, но и администрации фабрики, что Охрименко в период отсутствия жены не пропустил ни одного рабочего дня. Остаются четыре субботы и четыре воскресенья. Гладышева показала, что свободные дни Охрименко проводил с ней. Хотя и не прямо это показала, но дала недвусмысленно это понять. Верить или не верить? Осокин был склонен поверить, ибо показания она давала после изрядного потрясения.
Какие же возможны варианты пересылки писем из Сочи?
Вариант первый. Кто-то из озерницких жителей довольно регулярно ездит в Сочи. Этот «кто-то» знаком с Охри-менко, быть может, находится с ним в приятельских отношениях и по просьбе Охрименко бросал письма в почтовый ящик на станции в Сочи. Не исключено, что этот «кто-то» работает проводником на железной дороге. Самым простым для следствия было бы установить проводника, но каким образом Охрименко мог бы связаться с проводником?
Вариант второй. Для разгадки более трудный, быть может, и вообще нераскрываемый, если Охрименко попросил случайных проводников проходящих поездов бросить письма в Сочи. Просьба, конечно, подозрительная, но вполне выполнимая, хотя бы и за малую мзду, скажем за поллитровку. Но в этом варианте у Охрименко не могло быть уверенности, что просьба будет исполнена.
Вариант третий. В Сочи живет кто-то из давних и хороших знакомых Охрименко. Хотя бы тот «дружок», что гостил у него и был изгнан Елизаветой Петровной. Но это совпадение выглядит слишком назойливо.
Все три конверта имеют один и тот же штемпель все того же привокзального почтового отделения. Отправлены в разные сроки. Осокин посмотрел на даты, отпечатанные штемпелем. И вдруг что-то мелькнуло в его сознании. Дни недели! Он порылся в бумажнике и достал карманный календарик. Все три письма были отправлены во вторники. И он сам прибыл в Сочи поездом во вторник. «Идея» оформилась. Осокин допил чай, убрал конверты и поспешил к расписанию поездов. Все сошлось. Поезда, что проходили через Рязань-2, прибывали в Сочи только по вторникам.
У начальника вокзала выяснил, что поезд обслуживали два состава. Удалось тут же рассчитать, что все три вторника, когда были брошены письма, с перерывом в один вторник, проходил один и тот же состав, стало быть, на линии находилась одна и та же поездная бригада.
Осокин немедля выехал в Адлер, провел бессонную ночь в аэропорту и первым утренним рейсом вылетел в Москву.
Когда реактивный лайнер Ту-104 оторвался от земли и под его крылом сверкнуло море, а в море показались, как игрушечные, морские пароходы и в иллюминаторах проплыли и тут же исчезли снеговые шапки гор, Осокину впервые представились огромные просторы страны. Поезд, мчащийся более суток от Рязани до Сочи, не создавал такого ощущения бесконечности, как море, уходящее к горизонту и сливающееся в бесконечности с грядой перистых облаков.
Где-то за Ростовом под самолетом возникли стайки облаков, с каждой минутой они становились гуще и, наконец, прикрыли землю, открывая лишь на мгновение небольшие ее островки.
В Москве накрапывал дождь, казался пронизывающим ветер, хотя, до поездки в Сочи, такие дни Осокину раньше казались теплыми.
Прямо с аэродрома он проехал на вокзал. Обойдя несколько служебных кабинетов, не более чем через час он уже имел список бригады того поезда, который его интересовал. Проводники, начальник поезда, директор вагона-ресторана, повар, официанты. Адреса разбросаны по всему городу, даже и в пригородах. Тут уж не найдешь облегчения, придется помотаться. Вся бригада должна была собраться лишь через два дня.
Начал с адреса начальника поезда. Жил он неподалеку от вокзальной площади. Вопрос один: не заметил ли он, что на станции Рязань-2 кто-либо из проводников или из работников вагона-ресторана имел какие-либо общения с посторонними? Беседа с начальником поезда ничего не дала. То ли он и действительно ничего не заметил, то ли из опасений быть втянутым в какое-то дело не пожелал быть откровенным.
На четвертом визите повезло. Проводница одного из вагонов сказала, что проводник Жердев имеет знакомца в Рязани и этот знакомец частенько выходит к их поезду повидаться с ним. Жердев жил в Малаховке. До Малаховки тридцать минут езды на электричке. К Жердеву попал в пятом часу.
Уже по адресу Осокин догадался, что Жердев живет в собственном доме. Так оно и оказалось. Добротно сложенный из кирпича дом, однако, ничем не выделялся из ряда других домов.
Жердев вышел на стук в калитку, Осокин назвался. Щелкнула щеколда. Жердев пропустил Осокина во двор, на коротком поводке он держал крупную лохматую собаку. Собака угрожающе рычала.
— Вы предпочтете, чтобы я поговорил с вами дома или вам вручить повестку? — спросил Осокин.
— Я не знаю, о чем нам говорить. Я преступлений не совершал… — проворчал Жердев.
— Бывает, что есть нужда поговорить о чужих преступлениях! Меня вы интересуете, гражданин Жердев, как свидетель. Но я предпочел бы говорить с вами без этого рычащего сопровождения.
— Проходите! — пригласил Жердев, указывая на веранду. — Пса я привяжу.
Осокин вошел на веранду. Стоял простенький стол, два ободранных стула.
Вернулся Жердев, под его грузным телом проскрипели ступеньки.
— Садитесь! — предложил он Осокину. — Я слушаю вас…
— Вам когда-нибудь приходилось давать свидетельские показания, гражданин Жердев? — спросил Осокин.
— Нет! Не приходилось, бог миловал! Думаю, и теперь какое-либо недоразумение…
— Не сказал бы! — заметил Осокин. — Но сейчас все разъяснится.
Приглядевшись к Жердеву, Осокин решил сразу весь разговор построить официально. Он достал бланк протокола допроса и начал его заполнять. Обычные данные, когда, где родился. И вот оно выскочило. Родился в поселке Сорочинка Озерницкого района. Версия находила свое подкрепление. Но Осокин не спешил. Он дал Жердеву прочесть статьи Уголовного кодекса об ответственности свидетеля за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний, а затем предложил расписаться в том, что он предупрежден об ответственности.
Жердев подписался и отер носовым платком крупные капли пота со лба. Он явно перепугался.
— Вопрос у меня к вам, гражданин Жердев, не такой-то уж и сложный. Если вы будете откровенны, то мы все скоро и закончим. Не переживайте, будьте только правдивы. Скажите, вам знаком человек по имени Прохор Акимович Охрименко?
— Ах, этот! — вырвалось у Жердева с облегченным вздохом. — Знаком! Как же быть незнакомым, я у него два года под началом работал… Вахтером на ватной фабрике.
— Вот видите, — подбодрил Осокин, — половину пути мы с вами сразу и прошли. Вы не могли бы охарактеризовать ваши отношения с Охрименко? Хорошие, плохие, нормальные?
— Хорошие отношения, — поспешил Жердев. — Ничего плохого я от него не видел. Хорошее видел! Когда я уходил с фабрики, он мне препятствий не чинил. Отпустил и характеристику выдал. Надоело мне в глухарином углу, и детям надо учиться. Вот и перебрался под Москву…
— Это ваше личное дело, и, почему вы перебрались под Москву, нас не интересует. Вы работаете проводником пассажирских поездов?
— Совершенно точно! — подтвердил Жердев.
— Скажите, Жердев, вам приходилось в недавнее время выполнять какие-либо поручения или, скажем мягче, просьбы Прохора Акимовича Охрименко? Я сказал бы даже, несколько необычные просьбы?
— Фрукты привезти. — это необычно?
— Фрукты вы ему, наверное, привозили в прошлом году, в этом году и на юге еще нет фруктов. А я вас спрашиваю о недавних просьбах. Не доводилось ли вам опускать в Сочи письма, адресованные ему в вашу родную Сорочинку?
— Ах, это! — с облегчением воскликнул Жердев. — Баловство одно! Говорил я ему, не путайся с бабьими делами! Не послушал!
— Вы отправили ему из Сочи три письма… Не так ли?
— Так точно! Отправил! А он что, эти письма в дело пустил? Неужели в суд представил? Такого уговору промеж нами не было! Это он, знаете ли, напрасно в суд-то! Это нехорошо!
— Вы читали эти письма?
— Читал? — переспросил Жердев. — Знамо, читал! Он этими цидулями хотел молодую жену от курортов отвадить! Так мне и сказал: «Вот возвернется, а я ей эти письма выложу! Повертится на горячей сковородке!»
Я ему говорил: «Так то же неправда! Что она, дурочка, чтоб поверить?» — «А ей верить без надобности, — говорил он, — пусть думает, что я поверил, а то над нами бабы скоро такую вольность возьмут, что и не дыхни!» Женка-то у него молодая! В соку!
Жердев подмигнул Осокину.
— Я тоже не поручился бы! А он что? Бирюк! Не по себе сук рубил, но почему не помочь? Он же мне помог, ко мне человеком был, и я не отказал… Каюсь, одно письмо своей рукой переписал с его цидули. Другое мой напарник переписывал, чтоб почерки были бы несходственны! А он в суд! Да кто же поверит? А меня спросят, прямо скажу, сам он и сочинил! И чего вы таким анекдотом заинтересовались?
Осокин глядел в маленькие, заплывшие жиром глазки Жердева и дивился непроходимой его тупости и подлости.
— Нет, не в суд он подал! — сказал Осокин. — Хуже, много хуже, гражданин Жердев! Жену он застрелил!
Жердев утирал в эту минуту пот со лба, рука его замерла.
— Как это застрелил?
— Двумя выстрелами: в грудь и в затылок. Наповал! Убил!
— Выходит… — промямлил Жердев.
— Очень скверно выходит! — подтвердил Осокин.
— Ну, нет! — вдруг встрепенулся Жердев. — Нет! Не из-за писем он такое сотворил! Не из-за писем. Охрименко, я скажу вам, не глупый мужик, совсем не глупый, и даже очень хитрый! Молчалив, а все видит… Наблюдает! Нет, товарищ следователь… Не тот анекдот!
— Если не письма причина, так что?
— Этого я не знаю, только не письма! Я его фронтового дружка отправлял. Скуластый такой… Морду на лошади не объедешь, может, знаете? Билеты ему добывал… Ждали поезда, так выпили малость. Он меня спросил, как тут на Охрименко смотрят на новой его работе. Ничего, говорю, смотрят. Мужик он аккуратный, для такой службы подходящий. Он и говорит, Охрименко подходящий, а вот жена его, так она, дескать, сука первостатейная! Я спросил, в чем же эта ее первостатейность проявляется. Того тебе, ответил он, знать не положено!
— Когда вы этого «дружка» провожали?
— Перед тем, как ей в Сочи уехать! Должно, в апреле либо в конце марта!
— Куда вы его провожали?
— В Белоруссию, до Минска ему билет оформлял! Что же мне теперь делать, товарищ следователь? В чужой похмелке?
— Пока трудно сказать, гражданин Жердев, один совет могу дать: не соваться в чужие похмелки…
14
— С поездами умело! — одобрил Русанов. — Не сочтите за похвалу, пока это не выходит из ряда, в каком и находится следовательская работа. Логика и терпение в нашем деле добрые помощники. Можно признать, что теперь мы располагаем кое-чем существенным… Как нам ни навязывали ревность, она отпадает. Я нисколько не сомневаюсь, что ревность нам навязывал сам Охрименко. Ну а как насчет невменяемости, патологического опьянения?
— Пожалуй, даже чересчур вменяемый! — ответил с усмешкой над собой Осокин. — Виноват, поторопился.
— Бывает, — смягченно заметил Русанов. — Теперь мы располагаем доказательствами, что Охрименко готовил исподволь гнусную провокацию против жены. Исподволь и хладнокровно, но не убийство! При его изворотливости убийство носит…
Русанов замолчал, подыскивая подходящее слово.
— Внезапный характер! — подсказал Осокин.
— Уточним, — предложил Русанов. — Внезапный для стиля поведения Охрименко. Он не готовил убийство, отсюда и симуляция самоубийства, а потом и симуляция невменяемости. Хитрый человек, изворотливый и решительный! Далее держать его в больнице общего типа я не нахожу возможным. Мы обязаны его обезопасить. Постановления о предъявлении Охрименко обвинения и об его аресте составлены?
— Документы готовы!
Русанов внимательно прочитал оба постановления и тут же санкционировал арест Охрименко.
— И вот что, Виталий Серафимович! Давайте сделаем еще одну попытку воззвать не к совести, а к разуму обвиняемого. Попытайтесь его допросить еще раз в больнице. Быть может, увидев и оценив то, чем мы располагаем, он предпочтет признание наивному притворству? Что его заставило поднять руку на жену? Почему «лягавая»? Что за этим скрывается? Пока мы не получим исчерпывающих и убедительных объяснений, это дело закончить мы не сможем.
…Больной поправлялся. На этот раз, войдя в палату, Осокин застал его у окна. Охрименко курил и пускал дым в открытое окно. Он, похоже, даже обрадовался Осокину или, по крайней мере, изобразил что-то похожее на радость. Вполне приветливо произнес:
— Давненько не навещали! Я уже подумывал, не забыт ли, не заброшен. Надо бы нам к развязке, гражданин следователь.
— Это вы правы, — согласился Осокин. — Пора к развязке, Прохор Акимович! Пора. Все от вас зависит.
— От меня не зависит! Когда зависело, не тянул, да — неудача. Второй раз рука не поднимается.
— И не поднимется, — заверил Осокин. — Попроще придется обойтись. Я вас не торопил, Прохор Акимович, вы имели возможность все обдумать и не спеша вникнуть в свои обстоятельства. Теперь я вас прошу отнестись к моим вопросам с полной ответственностью, в поддавки играть мы с вами не намерены!
Охрименко загасил сигарету, отошел от окна и сел на кровать. Мрачно взглянул на Осокина и покачал головой.
— И как вам, гражданин следователь, не надоест этакая канитель? Я все сказал без утайки. Все, что помню.
— Когда я думаю о вашем деле, Прохор Акимович, порой мне жаль вас, а как послушаю, так хочется на все махнуть рукой. Сами вы, Прохор Акимович, удавку на себе затягиваете!
— Говорил же, на ваш суд мне наплевать! — воскликнул Охрименко. — Я готовлюсь к суду божьему!
— Божьим судом, Прохор Акимович, ни я, ни вы не распоряжаемся. Вот относительно земного суда есть у меня для вас неприятная новость. Вынужден предъявить вам, гражданин Охрименко, обвинение в умышленном убийстве вашей жены Елизаветы Петровны Охрименко, совершенное с особой жестокостью.
— Пьян я был… — промямлил Охрименко.
— Это вовсе не облегчает предъявляемого вам обвинения, а, напротив, отягощает его.
— А мне наплевать! — повысил голос Охрименко. — Мне безразлично, чем вы меня отяготите! Нужно вам, чтоб я что-либо признал, считайте, что признал! Коли убита Елизавета, то убита! Это вам надо? Пишите! Охрименко признает, что убил жену! Вот вам и развязка!
— Это уже шаг вперед! Еще только небольшой шажок, но опять вперед! Вы, гражданин Охрименко, конечно, поняли, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами вашей вины. Тут всякое признание или непризнание ничего изменить уже не может; Но вот мотивы преступления вами не прояснены, к тому же преступления очень и очень тяжкого.
— Зачем вам мотивы? — вскинулся Охрименко. — Какие тут могут быть мотивы, когда муж за измену убивает жену и сам стреляется? Вот они и мотивы!
— А разве другие мотивы исключены? Вы все время уверяли, будто потом все ваши действия уже не оставались в вашей памяти. Я вам напомню: перед глазами поплыли цветы и все смешалось. Вы немного артист, Охрименко! Но именно, что немного. Актер для дешевой мелодрамы. Я помню, каким жестом вы кинули в окно тюльпаны… Там, в трагичной обстановке, цветы и здесь, в палате, цветы. В общем, разыграли сцену возмущения тюльпанами. А кстати, кто их вам принес? Не поинтересовались?
— Никакого нет к тому интереса!
— Напрасно не поинтересовались. А вот я поинтересовался. Гладышева их вам принесла.
— Делать ей нечего!
— Да, работа не тяжкая. Но все же работа. Так вот, гражданин Охрименко, должен вам категорически заявить, что следствие вашему беспамятству в момент совершения убийства не верит! Я не верю, что вы стояли, застыв, как соляной столб, перед цветами на протяжении двадцати двух минут! Подсчитано, гражданин Охрименко, тщательно подсчитано, что с момента, как вы вошли в квартиру, и до первого выстрела прошло двадцать две минуты! Таким мощным гипнозом ни один букет цветов не обладает. Это одно соображение. А вот и второе. Ваша соседка по лестничной площадке Нина Борисовна показывает, что тогда же между вами и вашей женой произошло довольно бурное объяснение. И вы настолько собой владели, что даже поспешили включить радиоприемник, чтобы заглушить этот ваш семейный скандал. Следовательно, доказано с полнейшей очевидностью и другое: ни о каком провале вашей памяти и действиях в невменяемом состоянии не может быть и речи.
Что-то похожее на удивление мелькнуло во взгляде Охрименко, не сумел его удержать. Но промолчал, успел остеречься от лишнего вопроса. Но и Осокин не спешил.
— Эксперты вас, гражданин Охрименко, конечно, посмотрят, но никто не замечал, чтобы с психикой у вас был непорядок. Ни с чем не вяжется и ваша вполне хладнокровно исполненная симуляция самоубийства.
Охрименко с хорошо разыгранной досадой взмахнул рукой и проговорил:
— Катайте, катайте, что вам угодно! Мне все едино! Жалею, что рука дрогнула!
— Нет! Не дрогнула! — поправил его Осокин. — Не дрогнула, Прохор Акимович! Очень точно был сделан выстрел! Точно, расчетливо, совсем не пьяной рукой. Вы справедливо сказали в первую нашу встречу, что стрелять вы были отлично обучены…
— Можно подумать, гражданин следователь, что мы с вами уже на том свете, а не на этом! Вам, гражданин следователь, только и остается после своего заключения считать меня покойником!
— Это смотря после какого заключения! А заключение пока что таково: убив жену, вы решили симулировать самоубийство, чтобы избежать наказания или хотя бы его смягчить. Надо признать, что действовали вы в крайней спешке и не все просчитали. Для того чтобы создать иллюзию неудачного выстрела в сердце, вы левой рукой подтянули кожу на груди слева под выстрел и стреляли по касательной! Вот так!
Осокин повторил жест Лотинцева.
— Чудеса! — воскликнул Охрименко. — Вы мастер, гражданин следователь, показывать фокусы! Только в суде фокусы не проходят!
Осокин не среагировал на выпад Охрименко, он продолжал свои пояснения, приглядываясь к реакции обвиняемого, прикидывая, до какой черты он сохранит душевное равновесие, когда в его сознании сложится оценка, что дальнейшее препирательство бесполезно.
— Но вы не все рассчитали в спешке. Пуля пробила только кожу, и хотя выстрел имитировал сквозную рану, от него пуля лишь вонзилась вам в мякоть ладони левой руки. В этом и отгадка вашего приема. А вот и вторая ваша ошибка, Прохор Акимович! Паника вас не оставила и после того, как вы сделали выстрел. Очевидно, осенила мысль бежать… После выстрела вы подошли к окну. Это доказано, Прохор Акимович! Пятнами крови на ковре и ее потеками на стене под окном. Стало быть, пребывали вы и после выстрела в сознании, хотя и постарались изобразить его отсутствие, когда явились люди. Подчеркиваю, вы все время были в полном сознании, превозмогая немалую боль, и все видели, все фиксировали. Например, вы заметили, что вашу рану обмывала пожилая медсестра, даже четко ее аттестовали «старой ведьмой». Ведь она спешила и причинила вам боль только потому, что считала вас чуть ли не покойником…
— Брешет старуха! — сорвался Охрименко.
— Старуха? — переспросил Осокин. — Хм! Пожалуй, вы могли принять ее и за старуху… Эта медсестра действительно женщина пожилая. Я хотел бы, чтобы вы, наконец, все эти факты совместили в своем сознании и поняли бы, что игра в невменяемость и в потерю памяти вами проиграна. Стало быть, вполне логичен и наш вопрос: почему вы убили жену? Что вас толкнуло на столь дикое преступление? Только больше не прикрывайтесь ни своей ревностью, ни анонимными письмами! Да и они вовсе не анонимные!
— С подписями, что ли? — развязно спросил Охрименко. — Хотелось бы поглядеть на подписи.
— Всех трех писем автор один! Это вы, Прохор Акимович Охрименко.
Охрименко вскочил, на лице у него проступили красные пятна. Он выдернул рывком ящик в тумбочке и схватил сигарету.
— Такого анекдота я не ожидал! Наслышан, что следователи умеют шить дела, но чтоб так… Грубо!
— Да нет, Охрименко, — спокойно ответил Осокин. — Совсем не грубо! Очень даже просто. Следователь я молодой, и опыта у меня, конечно, не так-то много, но и моих возможностей достало, чтобы разобраться в ваших маневрах! Разговор этот у нас не первый и не последний, но хотелось бы предупредить вас, Охрименко, никто и никогда не заставит меня говорить, что я не хочу сказать, а тем более лгать! С письмами действительно — анекдот, только смысл этого анекдота совсем не тот, который вы хотели в него вложить. Письмо «москвички» написано рукой Клавдии Ивановны Гладышевой. Той самой дамой, что вам принесла сюда тюльпаны, душевно сочувствуя!
— С чего это!
— Она ведь дамочка вальяжная. Вы к ней со своим мужским вниманием, а она за это с великой охотой под вашу диктовку настрочила письмецо.
— Вот вы ее и привлекайте за клевету!
— Каждому свое! Но автор этой клеветы вы, Охримен-ко, о чем и показала Гладышева!
— Брешет и она, вы ее запугали!
— Остаются еще два письма, Прохор Акимович, из Сочи. Вы, часом, о них не забыли?
— Хотел бы забыть, да не могу!
— И мы вам не дадим о них забыть! Замысловат путь этих писем из Сочи. Но след остался, Прохор Акимович! И привел он меня прямиком к некому Жердеву… Известен вам такой гражданин?
Охрименко сделал глубокую затяжку и сел на кровать, плотнее запахнул халат.
— Так известен вам гражданин Жердев? — повторил свой вопрос Осокин.
— Мало ли кто мне известен! Мне говорить нечего…
— Сказать есть что, да трудновато, Прохор Акимович! Согласен, трудно сказать, что и Жердеву сами продиктовали письмо с клеветой на собственную жену. С какой целью, гражданин Охрименко, вы решили это сделать?
Вот оно, проняло! Осокин приметил, что у Охрименко дрожали руки. Но он не сдавался.
— Я к вам с открытой душой, — начал он, — а вы — с камнем за пазухой! Но я свое докажу!
— Ваше право доказывать свою правоту, — ответил Осокин. — Но и мы ввиду вашего злостного запирательства обязаны принять собственные меры. Придется переместить вас в тюремную больницу! — произнес, как бы сожалея об этом, Осокин и вызвал кастеляншу, распорядившись принести для Охрименко его одежду.
Подписав очередной протокол, Охрименко не торопясь Умылся под краном, вытерся махровым полотенцем, сбросил больничный халат, переоделся и застелил постель. Выдвинул ящик тумбочки, достал пачку сигарет, оглядел себя в зеркале и вдруг в два стремительных шага пересек палату и вскочил на подоконник. Зло повел глазами на Осокина и спрыгнул вниз, за окно.
Все произошло в считанные секунды, но сработали предупредительные меры, о которых Осокин позаботился заранее. Охрименко, приземлившись, попал в руки милицейских работников, дежуривших под окном палаты…
И если Осокин до этого все же был склонен считать, что Охрименко убил жену из каких-то очень сложных психологических побуждений и в экстремальных обстоятельствах, то теперь он окончательно удостоверился: перед ним был настоящий преступник.
15
Русанов встретил Осокина, лукаво улыбаясь.
— Чем порадовал нас старый муж, грозный муж?
— Отличился! Даже попытался сбежать!
— А как отреагировал на предъявленное ему обвинение?
— Вроде все признал и не признал. Жену свою убил, да только как — по-прежнему не помнит. Вот и делай отсюда любой вывод.
— Теперь это уже пройденный этап, — проговорил Русанов и протянул Осокину какую-то бумажку. — Читайте! Поступила к нам всего с час назад. Пока еще вы были в Рязани, этот Охрименко уже подготовил кое-что новенькое.
Вкривь и вкось на вырванном из тетради листе размашистым почерком написано: «Генеральному прокурору СССР. Жалоба».
— Так это же не вам, Иван Петрович!
— Мне копия. Читайте!
Осокин читал: «Гражданин прокурор! У меня горе, у меня злое несчастье, беда… Я убил свою жену. Застрелил случайно в тяжкой ссоре, о чем смертно жалею и своей жизнью не дорожу. Не убил себя, но это от меня не уйдет. Хочу суда, а следователь, некий Осокин, мальчишка, все что-то ищет, хочет выслужиться и шьет мне другие дела, которых нет! Дайте суд! Убил же! То и слепому ясно, но не подвергайте моральным пыткам! Или дайте мне пистолет и я докажу, что не симулировал самоубийства, а не знаю и сам, как получилось, в себя стрелял, а вот не убил!»
— Суда просит! — с негодованием воскликнул Осокин. — Что это он так спешит?
— Подмечено верно! — подтвердил Русанов. — Только зачем бы ему с этим судом спешить? А? Не потому ли, что вы, Виталий Серафимович, оказались слишком въедливым: разгадали его симуляцию, разобрались с письмами и, чего доброго, на этом не успокоитесь.
У каждого бандюги своя арифметика! Он, надо думать, рассчитывал и на то, что мы не станем возиться долго с его делом, ограничимся тем, что расскажет сам. Вышло иначе. Теперь надеется на то, что скорый суд все спишет.
Да, вот еще что: он ведь и бежать надумал вовсе не из-за того, что был разоблачен с письмами… И свою жену убил с определенным расчетом что-то скрыть.
— «Лягавая»! — произнес Осокин. — Не дает мне покоя это слово! Что он этим выразил? Что она знала про него, чем пригрозила? Дайте мне новую командировку!
— Куда?
— На его родину. Он родился в Белоруссии в Могилевской области…
— Почему же не в Ашхабад? — поинтересовался Русанов.
— Считаю, что всего проще начать с того места, где он жил до войны, а уже после этого идти дальше, куда выведет кривая. Да и его фронтовые подвиги тоже не помешало бы проверить. Больно не вяжется все случившееся с благородным обликом героя-фронтовика.
— В этом вы правы. Он в тюрьме не сидел?
— Я наводил справки. По картотеке МВД Охрименко не проходит. Данных о его арестах или судимости в прошлом нет.
— Где же он все-таки подцепил это блатное словечко «лягавая»?
— Я об этом тоже задумываюсь.
— Теперь, во всяком случае, мы можем с полным основанием рассуждать и так: его первоначальной целью, по причине еще неясной, было только явное стремление добиться разрыва со своей женой. Созрел и коварный план. Скомпрометировать ее письмами. После возвращения с курорта учинить ей вселенский скандал. Все завершить разводом, вполне оправданным в глазах окружающих.
Только произошло нечто непредвиденное. Во время возникшей между ними ссоры жена Охрименко в чем-то уличила его и пригрозила разоблачением, которого он смертельно испугался, так сказать, сама загнала его в угол. Вот он и сорвался! Переступил черту дозволенного — совершил убийство, о котором ранее и не помышлял. На истину похоже?
— Да.
— В таком случае вношу предложение: еще раз допросить Охрименко, но уже с моим участием. Может, и расскажет что-то новое. Заодно и его жалобу прихватим. Пусть объяснит, чего это так ему не терпится попасть в суд.
В облике и в поведении Охрименко за несколько дней нахождения в тюремной больнице произошли разительные перемены. Он сбросил с себя личину добропорядочного человека, опустился, даже не пожелал бриться.
Он не поздоровался, не спросив разрешения, плюхнулся на табурет, накрепко привинченный к полу. Мельком взглянул на Русанова и смачно сплюнул себе под ноги.
— Это еще что за новости? — возмутился Осокин. — Потрудитесь вести себя прилично!
— Мне в душу наплевали, а я вам на пол. На полу затереть легче! С вами, гражданин следователь, мне говорить не о чем! Я жалобу написал Генеральному прокурору!
— Ив мой адрес, — негромко, но внушительно произнес Русанов. — А вот плеваться не стоит. Вас накажут, нужно ли это вам?
— Вы прокурор? — спросил Охрименко.
— Прокурор. — подтвердил Русанов.
— Но не генеральный!
— Не генеральный. Прокурор Озерницкого района. Это мне вы копию предназначили. Вы жалуетесь на следователя, но жалоба ваша не по существу. Я разбирался в вашем деле. Следователь Осокин ни в чем на вас напраслину не возводит. Вы не пожелали сами рассказать, как дело было, ему пришлось это установить следственным путем. Ни в чем он не погрешил против истины и нигде не вышел за пределы фактов. Однако в вашем деле еще не все достаточно выяснено. Вы просите ускорить рассмотрение вашего дела в суде. Примем к этому все необходимые меры. Но мы еще не можем передать дело в суд так и не установив мотивов вашего преступления. Мотив ревности — ложь, ложны и ваши утверждения, будто вы ничего в момент преступления не осознавали. Вы явно не хотите серьезно ответить ни на один вопрос следствия, вот и приходится следователю искать ответы самому, а на это, естественно, требуется дополнительное время…
Охрименко слушал Русанова внимательно, подобрался, поубавил наглости.
— Какие вопросы? Кому они нужны, вопросы? И слепому видно, что произошло… Убил! Мне ж это слово не выговорить было, а следователь наседал, будто и сам все видел… — Охрименко вдруг возвысил голос: — Убил! Признаю, что убил! А за что убил, почему убил, говорить не обязан. Судите! Да, да, признаю! Куда деваться? За такое дело яснее ясного — вышка!
Охрименко схватился за голову.
— Это за что же вышка? За жизнь неудачную, за все, что претерпеть пришлось!
— От кого претерпеть? — быстро спросил Русанов.
— От нее! От кого же!
Русанов поморщился.
— Темните, Охрименко! С анонимными письмами мы разобрались!
— Ни в чем-то вы не разобрались! Не в письмах дело!
— Мы так и считаем, что не в письмах! — заметил Русанов.
Охрименко махнул рукой.
— Я каждый раз говорю следователю: мне наплевать, что вы считаете. Важно, что я считаю. Убил — судите!
— За что убили?
— Ни за что! Умышленно убил, как в законе сказано, с особой жестокостью, при отягощающих обстоятельствах! И все тут! Более ни звука!
Русанов прошелся по камере, остановился возле Осокина. Тот молча сидел за столом, писал протокол.
— Ну что ж, Охрименко, я вижу, что вы действительно готовы признать свою вину. Только не мешает знать и другое: при столь тяжком преступлении следствие обязано выверить все обстоятельства до мельчайших. Мы присмотрелись к вашему окружению. Появилась Гладышева, затем возник Жердев. А что это за дружок жил у вас в конце зимы? Долго гостил…
— Тамбовский волк ему друг, а не я!
— С этим не спорю! Только хотелось бы узнать, кто он, откуда, куда уехал. Жердеву он похвалялся, что с вами вместе воевал, однополчанином назвался…
— Хотя бы он и чертом назвался либо попом! В Ашхабаде жили по соседству, то правда! А где он воевал и воевал ли вообще, мне это неведомо!
— Ну если не «дружок», то знакомым вашим можно его считать?
— Знакомый! — согласился Охрименко. — Сергей Сергеевич Черкашин… Ни к чему он вам…
— Очень может быть, что и ни к чему… — согласился Русанов. — Этот ваш знакомый у некоторых оставил след в памяти. Рассказывают, что попивал излишне водочки и ваша жена даже выставила его за дверь!
Охрименко ухмыльнулся, что-то презрительное выразила его ухмылка.
— Жена выгнала? Моя жена выгнала? — переспросил он. — Стало быть, Елизавета Петровна выгнала? Если вы так будете вести следствие, далеко заберетесь… от правды далеко! Я его выгнал! Потому как жулик!
Русанов обернулся к Осокину и едва заметным движением бровей сделал ему знак, что все идет по-наме-ченному. Потом произнес вслух:
— Вот видите, Виталий Серафимович, мы выяснили и это. Показания об этом человеке занесите в протокол. Они очень важны. То, значит, был некий Сергей Сергеевич Черкашин… Ашхабадский знакомый и жулик… — И уже теперь к Охрименко: — Проясните, пожалуйста, относительно жулика! Обобщающее это ругательство или вы подразумеваете что-то конкретное?
— Вполне конкретное! — отрубил Охрименко. — Рассказывать или вам без интереса?
Русанов пожал плечами.
— Желательно конкретно.
Охрименко пошарил по карманам.
Русанов догадался, в чем дело, и спросил у Осокина:
— Сигаретами не богаты?
— Не курю.
— Попросите выводного достать ему сигарету. Рассказывайте, Охрименко!
— Коли надо, расскажу, хотя не в моих правилах лезть в чужие дела.
— Пусть вас не мучает совесть, — перебил его Русанов. — Это прежде всего ваши дела.
— В Ашхабаде он работал на овощной базе… Материально ответственное лицо. Скажу без утайки, вот там и водятся крутые жулики! Уж и не жулики даже, а бандиты! Тысячи хапнуть для них, что иному высморкаться! Ну и нахапали, да столько нахапали, что тамошним властям невтерпеж стало.
— Тысячи? — с некоторой долей иронии спросил Русанов.
— Не считал, хотя и знаю об этом твердо. Ну, кладовщик с ними. Там порядки глухие… Как начали хватать овощное начальство, он в бега…
— К вам в бега? В Сорочинку?
— А почему бы и не в Сорочинку? Вполне медвежий угол, хотя и недалеко от Москвы. Просился пристроить вахтером на фабрику, а я его и на порог не пустил бы, да Лизавета исходатайствовала. Сосед, дескать, от землетрясения нас на первое время приютил… Мне теперь все едино, а коли хотите знать правду, так о делах их базы я тогда еще не знал. Сердце мое к нему не лежало совсем не потому, что их там застукали. Не хотел его и вахтером оформлять. Предлагал поискать какой-либо работенки в окрестности. В леспромхозе, в Озерницке, или еще где… Хотя бы и на торфоразработках. А он не спешил… В розыске он себя считал, а коли в розыске, как бы это он мог предъявить паспорт кому-либо? Лизавета уговаривала его вахтером взять. А чем больше она уговаривала, тем меньше хотелось…
— Ревность что ли? — не выдержал Осокин.
— О ревности потом! — спокойно отпарировал Охрименко. — Вот тут-то он ко мне и подкатился… За рюмкой водки, будто бы вполпьяна поспособнее о таких делах говорить. Бери, говорит, вахтером, так я тебя сразу богатым сделаю. Я посмеялся над ним, ишь какой денежный мешок сыскался. Ради смеха ему и говорю: «Неужели сотняшку на такое дело приберег?» Он глядит на меня своими голубыми глазами, да вполголоса: «Десять тысяч дам!» Я таких денег, гражданин прокурор, в руках не держал. За такие деньги мне десять лет ишачить надобно, ни пить, ни есть! Дух у меня захватило, а не поверил!
— Не велика ли взятка за должность вахтера? — поинтересовался Русанов.
— Не то слово — велика! — откликнулся Охримен-ко. — Невозможная нелепица. Потому и посмеялся над ним. А он и говорит: «Да не будь ты ослом, не за вахтерскую должность деньги. Вахтером-то я везде за поллитра устроюсь! Мне паспорт надобно выправить. Это за хлопоты, а тому, кто паспорт выправит, своя цена будет. Думай», — говорит. Я и думал. Каюсь, отказываться не собирался, а прикидывал, где бы это выправить паспорт. Я его еще спросил: «А коли найдут?» Он заверил, что не найдут. Успел, дескать, изъять свою фотографию из личного дела и в паспортном столе.
— Ловок ваш сосед ашхабадский! На большое дело толкал вас, Охрименко. Справились?
— В голову ничего не вступало. Искать-то надо в милиции, а у меня там знакомцев не оказывалось. Деньги в руки просятся, а схватить их нет никакой возможности, а тут еще и страх: а вдруг его у меня обнаружат? Тут у нас с Лизаветой и случилось замыкание. Рассказал я ей о деньгах, пожалел, что нельзя их никак взять, потому как не имею людей, к паспортам причастных, и говорю, что пора бы гостя и проводить со двора, пусть со своим денежным мешком поищет угол. Лизавета ни в какую! Денежки она умела считать лучше меня — экономист. Ты, говорит, деньги-то возьми, скажи, что поищем, а там видно будет! Ну нет! Тут не ходи босым! Деньги дадут, но и спросят же! С ножом в руках спросят! Я не взял — она взяла…
Выводной принес сигарету. Охрименко закурил и жадно вдохнул в себя дым. Сожалеюще молвил:
— Тут вот куревом бедствуешь, а какие деньжищи мимо уплыли! Ой, не хотелось мне обо всем говорить… Все позади, и жизнь позади. Но скажу, потому как сильно вы меня разобидели, сочли за дурачка!
— Нет! — отверг Русанов. — За дурачка вас никто не считает. Очень это даже хитро у вас, Охрименко, получилось с письмецом к убитой!
Охрименко махнул рукой.
— Ничего тут хитрого! Понадеялся, что не убил. И стрелял в спехах! Вот где и взаправду дуру свалял! Со мной дружок, как вы называете, да собственная моя жена такую учудили штуковину, так почище всяких там писем! Я все раздумывал, как бы это к милиционерам подкатиться, а дружок, слышь, дружок-то вдруг и говорит: «Что хошь теперь делай, хоть свой паспорт отдай, потому как твоя жена взяла деньги». Лизавета то же твердит: «Давай».
Охрименко в несколько затяжек докурил сигарету и вдруг обратился к Осокину:
—· Вы извините меня, гражданин следователь, гонял я вас по-пустому! Сговорил он за моей спиной Лизавету, схлестнулись они и вместе на меня жмут, чтоб паспорт ему выправил. Думали дурака найти, а я очень не люблю, когда из меня дурака строят. Ну и выгнал его вон! Ей одна тогда дорога оставалась от нашей тогдашней свары — в санаторий. Не жить же мне с ней после этакой проделки, вот и заготовил впрок письмишки, ей же в под-собление!
— Хорошенькое подсобление! — заметил Осокин.
— Даже очень хорошее! — убежденно произнес Охрименко. — Письма анонимные: то ли в них правда, то ли лжа, поди установи. Я вот, дескать, поверил, потому и на развод! Все ей в тот же день объяснил, как приехала. А она? «Ты, — говорит, — деньги у Сергея взял, паспорт не выправил, а теперь на меня? Только шевельнись, я сразу в милицию!» Не страх меня за руку рванул, бабья подлость!
Охрименко поник и опять раскурил сигарету.
Русанов из-за спины Осокина заглянул в протокол.
— Не успеваю записывать, а надо бы слово в слово! — пояснил Осокин.
— Слово не в слово, а смысл передать надо. Очень важные показания! Вот как бы их подкрепить? Скажите, Охрименко, куда отправился Сергей Сергеевич Черка-шин? Не обратно ли в Ашхабад?
— Нет! В тюрьму он не спешил. В Минск собирался. Более сказать не могу. Не знаю, адреса не оставил. Да найдут его, то не ваша забота, гражданин прокурор! Обязательно найдут, ищут ведь!
Составленный протокол Охрименко подписал, его увели. Русанов тут же в камере перечитал протокол, чему-то про себя молча улыбнулся.
16
По дороге не очень-то разговоришься. Пришли в гостиницу, едва остались одни, Осокина прорвало:
— Все врет! Ни единому слову не верю! Ишь как разговорился, а я клещами слова не мог вытянуть. Это вы его, Иван Петрович, так подзадорили!
— Нет, не я, Виталий Серафимович, это вы его заставили разговориться. Своими изысканиями. Деваться ему некуда, старое рухнуло, новое придумал.
— Ни слова правды.
— Да нет! — возразил Русанов. — Не скажу, что ни слова правды, доля правды, какая-то доля есть. С умыслом он перемешивал ложь с правдой. Вот и давай поразмыслим: какова эта доля и что стоит за его новой версией?
— Тот же сюжет с анонимными письмами! — довольно уверенно высказал свое соображение Осокин.
— Не спеши! Есть тут еще кое-что! Давай прежде всего наметим, Виталий Серафимович, проверочные мероприятия. Бери чистый лист бумаги, будем писать и рисовать…
Осокин выложил из портфеля несколько листков бумаги на стол, придвинул стул и взял в руки шариковую ручку.
— Первое. Проверить, числится ли в розыске Сергей Сергеевич Черкашин из Ашхабада… Вот если не числится, предстоят тогда не малые хлопоты. Ехать в Ашхабад тогда неизбежно…
— Вранье проверять?
— Нам и вранье приходится проверять. Но я думаю, что в этом случае мы имеем дело не с враньем. Разыгрывал Охрименко перед нами замысловатую шараду, но про Черкащина и овощную базу не врал. Очень ему нужно хотя бы дольку правды приложить ко всей лжи, чтоб косвенно его ложь подтверждалась бы. Это старый прием опытных преступников. И не для нас он столь сложную шараду загадывал, к суду готовится! И весь расчет, что никак мы теперь ложь его не опровергнем. Елизавета Петровна убита, а Черкашин скрылся! Заметьте: следочка его он нам не дал. Жердев показал, что билет брал до Минска, и Охрименко указывает на Минск.
— Не может быть уверенности у Охрименко, что не найдут Черкащина, если ищут…
— Это мы не знаем, есть ли такая уверенность или нет. Ну а если найдут? Чем уж таким особенным это грозит Охрименко? Охрименко будет говорить свое, Черкашин свое. Кому из них вера? И когда еще найдут? Деньги у него есть, с работой повременит, а то и паспорт у какого-либо бродяги купит. Затянется розыск, а Охрименко того и надо.
— Про жену все врет!
— А чем доказать? Ее милыми беседами с профессором в Сочи, ее характеристикой на фабрике? Так это не доказательство! А у суда — сомнение. А всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого, это закон. Охрименко невесть какая партия для молодой женщины, а у Черкащина деньги… Огромные деньги! Это уже я вам из своего опыта говорю, на овощных базах умеют воровать! Огромные деньги и не такие характеры ломают, как у Елизаветы Петровны!
— А где эти деньги, что она у Черкащина взяла? — воскликнул Осокин. — Надо было спросить?
— А вот и не надо! — обрезал его Русанов. — Охрименко явно ждал этого вопроса. Спросит прокурор про деньги, значит, проглотил наживку и в Черкащина с его большими деньгами поверил. А того давно и след простыл. Вот нам и останется только одно — направить это дело в суд. Ну а там еще неизвестно, чем все/обернется для него. Ведь в его притворство с выстрелом в себя могут и не поверить, а насчет писем рассудят иначе — с позиции человека недалекого и притом еще не в меру ревнивого. Да и про деньги, которые якобы дал Черкашин его жене, можно снова лепить все, что в голову придет. Разве я не прав?
— Все верно.
— Он ведь помнит и про слово «лягавая», так некстати вырвавшееся у него: дескать, жена пригрозила милицией… Только он испугался не этого, здесь кроется что-то другое, более значительное, чем простой донос о взятке за чужой паспорт.
Придется переворошить все его прошлое. Где прячется тот страх, из-за которого он убил жену, лишь бы все то, о чем она знала или догадывалась, никто больше не узнал бы! Мотив убийства так и не ясен. Что за сим скрыто?
— Пришли к тому, с чего начали! — разочарованно заметил Осокин. — Начали с мотива и пришли к мотиву.
— В том и состоит наша работа… Искать, искать и искать…
До Ренидовщины, где родился Охрименко, добраться не так-то просто. Деревню с таким названием Осокин нашел на карте Могилевской области. На берегу Сожа, что берет начало где-то в глубине Смоленщины и несет свои воды белорусскими землями на Черниговщину, там впадает в Днепр.
Охрименко указал в анкете, что Ренидовщина принадлежит к Пропойскому району. Так и было до войны и в первые послевоенные годы, позже пересматривались границы районов и деревня оказалась в Кричевском районе, а Пропойск переименовали в Славгород.
До Ренидовщины два пути через Москву. Поездом Москва — Минск до станции Орша, в Орше пересадка и местным поездом до Кричева. Но можно ехать и автобусом Москва — Бобруйск. Без пересадки и почти до самой деревни. От шоссе до Ренидовщины не более четырех-пяти километров.
Осокин решил добраться туда сам, предварительно не оповестив о своем приезде ни прокурора района, ни работников местной милиции. Он считал, что вызвать односельчан Охрименко на откровенный разговор проще всего именно так, без всякого официального сопровождения.
И хотя он немало наслушался от него вранья, все же верил, что тот действительно остался без родных. Важно было получить этому подтверждение, а еще важнее — услышать суждение односельчан о семье Охрименко и о нем, конечно. Какой он был в юности. Призывался ли он на армейскую службу из Ренидовщины, не окажется ли там кто-то из его бывших однополчан. '
Известно, что в боевой обстановке все хорошие, так же как и дурные, свойства человеческой натуры проявляются сразу и с полной ясностью.
Подлое, трусливое убийство жены никак не увязывалось с боевым послужным списком Охрименко. В чем-то и в те далекие военные годы должны были обнаружиться теневые стороны его характера. Здесь архивы мало что могли подсказать, нужны были свидетельства тех, кто был с ним тогда рядом.
Тревожила мысль и о том, что Черкашин из Рязани отправился в Минск. Конечно, преступник, находящийся в бегах, мог взять билет до Минска и в целях маскировки, а уехать куда-то в другую сторону. Но это предположение казалось Осокину мало вероятным. Для человека «в бегах» самый опасный момент — это подойти к билетной кассе. Ведь возле нее всегда может оказаться и оперативник. А тут Черкащину вдруг подвернулся такой удачный случай — раздобыть для себя билет чужими руками, через Охрименко — Жердева. Он им и воспользовался, а вот куда потом подался из Минска, то еще вопрос со многими неизвестными… Не в Белоруссии ли, не в Ренидовщине ли берет начало его связь с Охрименко?
Осокин предпочел поехать автобусом. В Кричев автобус прибывал в 9 утра.
Пришлось пожалеть, что выпал ночной рейс. Фары выхватывали из темноты узкую полосу дороги. Начинало казаться, что движется не автобус, а скользит под ноги серая бесконечная лента асфальта, иногда фары освещали лес, подступающий к обочине. Стояли на этой дороге города со звонкими наименованиями, своеобразная каменная летопись далекой и близкой истории противостояния вражеским нашествиям с Запада: Наро-Фоминск, Малоярославец, Медынь, Юхнов, Спас-Деменск, Зайцева гора, Рославль.
На последнем курсе института Осокин увлекся воспоминаниями участников Великой Отечественной войны, даже детективы отошли в сторонку. На страницах книг мелькали названия городов: Рославль, Смоленск, Малоярославец, Юхнов…
Вот автобус остановился на какой-то площадке, огороженной опушкой соснового бора. Юхнов. Автобусная станция. Ни города не увидел, ни подъездов к нему.
В Рославль автобус въехал на рассвете. Город на холмах. Автобус катился вниз. Из-за поворота возникла старая церковь, а на ее вратах промелькнула надпись: «Ресторан»… Резанула эта надпись как равнодушие к прошлому, к каменной летописи, в которую входит облик каждого города. Здесь все дышало историей, отсюда, из Рославля, Гудериан в августе сорок первого года повернул свою танковую армию на Киев, здесь каждый камень той поры свидетель страшных событий. Наполеоновские солдаты, проходя этими городами, ставили лошадей в церкви, как в конюшне, гитлеровцы обдирали иконы, загоняли в церковь и наглухо запирали военнопленных. А тут свои, не чужие, разливали по бокалам, если не по стаканам, водку и гремела шлягерная музыка.
В Кричеве узнал у местных жителей, что Ренидовщина — небольшая деревенька и входит она в колхоз «Путь к коммунизму».
Председателя колхоза застал в правлении. Он заканчивал утренний наряд: распределял задание бригадам на день. Осокин дождался, когда все вышли из кабинета, постучался и вошел. Председатель надевал на себя плащ, собирался куда-то ехать по хозяйству. Молодой человек, Осокин прикинул, что постарше его лет на пять, на шесть — не более.
Услышав слово «следователь», председатель сбросил плащ и сел за стол. Осокин положил перед ним свое удостоверение.
— Озерницкий район? Где же такой затерялся?
— В Рязанской области… — пояснил Осокин.
— Далековато! Будем знакомиться. Я Зябликов Иван Антонович, вы — Осокин Виталий Серафимович! Что же вас привело в наши края, Виталий Серафимович?
— Не волнуйтесь! Дело мое имеет очень отдаленное отношение к вашему хозяйству!
Веснушчатое лицо Зябликова озарила веселая улыбка.
— Я и не волнуюсь! Пусть волнуются те, кто совершает преступления! Чем я могу вам помочь?
— Боюсь, что очень немногим, Иван Антонович! Для вас — немногим, а для нас ваша помощь может оказаться довольно основательным подспорьем. Меня интересует судьба одной семьи. Она проживала в деревне Ренидовщина…
— Ренидовщина? — с некоторым удивлением переспросил Зябликов. — Есть такая деревенька в нашем хозяйстве… Только в ней почти никого не осталось… Слышал, что до войны деревня была большая, там даже своя школа имелась… Досталось ей в войну, и после войны не очень-то поднялась, а теперь это наша самая дальняя колхозная бригада. Я человек пришлый, всего-то третий год здесь работаю. Рассказывают, что на Ренидовщину упали бомбы в первый же день войны. Потом здесь в окружении сражалась одна из наших армий. Заняла круговую оборону, немцы бомбили, все кругом горело… Многие солдаты из той армии потом объединились в партизанские отряды, с ними и местные жители.
Сюда вам довелось приехать по той дороге, которая в былые времена для немцев имела большое стратегическое значение. Именно здесь они всего больше и попадали в засады партизан. И это несмотря на то, что сводили вдоль дороги лес, постоянно ее патрулировали, ставили доты. Ближайшие деревушки немец почти все пожег дотла, а те немногие, что как-то уцелели, превратил в свои опорные пункты. И Ренидовщину тоже…
Так кто же теперь вас из этой деревни интересует, если не секрет?
— Интересуюсь семейством Охрименко. Может, его еще помнят?
— Знаю, что такие там действительно жили! — подтвердил Зябликов. — Да только имейте в виду, фамилия Охрименко у нас весьма распространенная. Но из сегодняшних Охрименко никто к ренидовским Охрименко отношения не имеет. Семья знаменитая, героическая, а судьба ее горькая… Если о ней речь! Не об Акиме Петровиче Охрименко?
— Вот, вот… Близко! — подхватил Осокин. — О его сыне речь, о Прохоре Акимовиче…
— Аким Петрович в годы войны командовал партизанским отрядом. За его партизанские дела немцы всю его семью уничтожили. Пионеры-следопыты недавно раскопали эту историю и поставили памятник на том месте, где были казнены Охрименки… Это все, что я знаю, а рассказать вам может со всеми подробностями бывший партизан из отряда Акима Петровича старик Рядинских Ларион Евсеевич! Придется вам ехать в Ренидовщину. Он там живет. Как не зазывали мы его сюда, на центральную усадьбу, не пошел…
Председатель уступил Осокину свой «газик». Машина вырулила на шоссе и вскоре свернула на проселочную дорогу. Прошелестели под колесами бревна деревянного настила через неширокую речушку, «газик» вскарабкался на взгорок, и потянулся за ним густой шлейф пыли.
Сначала дорога петляла полем, по сторонам зеленели яровые, потом нырнула в песчаные колеи и потянулась по опушке молоденького березняка, из березняка опять подъем, и «газик» углубился в молодой ельник.
— После войны лес сажали… — пояснил шофер. — Когда прогнали фрицев, здесь ни деревца не осталось.
Бугор, как лысина, сверкал. Боялись фрицы леса вдоль дороги…
Но не о лесе в тот момент размышлял Осокин. Героическая и горькая своей судьбой семья Охрименко! Совсем не то, что он предполагал найти. Те ли это Охрименки, к которым принадлежит Прохор Акимович? Не совпадение ли отчества?
«Газик» проскочил сквозь молодой ельник, и взгляду открылась широкая, просторная поляна и несколько домишек на ее краю. Обычно деревня открывается своими строениями, здесь же господствовала поляна, а не жилье. Да и домишки куда как уступали своим внешним видом деревенским избам в мещерском краю. Их всего-то насчитывалось четыре, один из них выглядел нежилым: провалы вместо окон, разрушенное крылечко, проваленная посередине кровля. Осокину доводилось видеть полузаброшенные деревни и в мещерском краю, и на Вологодчине, но они не имели столь печального вида.
«Газик» остановился возле крайнего домика. То ли изба, то ли мазанка. Стены оштукатурены толстым слоем глины, глина не побелена. Домик обнесен частым плетнем, за плетнем несколько грядок, две яблони, дальше, за домом, полоска земли, засаженная картофелем. Из земли проклюнулись его зеленые ростки.
За плетнем у крылечка старик рубил на пне хворост.
— Евсеич! — позвал шофер в открытую дверку «газика». — Бог на помощь! Гостя к тебе привез!
Старик вонзил топор в пень, стер рукавом пот с лица и оглянулся.
— Чего кричишь, Ванюха! Не ослеп, вижу, что ко мне… Больше не к кому!
Евсеич подошел к калитке, Осокин поспешил к нему навстречу.
— Что за нужда? — спросил он, оглядывая Осокина с ног до головы.
— На партизана приехал поглядеть! — бодро ответил Осокин, решив пока не раскрывать свою задачу.
— Что я за тигра, чтоб на меня глядеть? Только от дела отрывать!
— Я и делу могу помочь! — вызвался Осокин.
— Это глядя какому делу. У каждого свое…
Осокин решительно вошел во двор, подошел к пню и схватил топор.
— А ты шустер! Гляди, чтоб сучком в лоб не вдарило! — предостерег Евсеич.
Живы были еще навыки рубить хворост для студенческих костров. Ухватил хворостину и легкими режущими ударами наискось нарубил ее под Евсеичеву мерку.
— Сноровка есть! — одобрил Евсеич. — Однако ты не хворост приехал рубить. Сказывай, за какой нуждой прибыл?
Осокин положил топор на пень и оглянулся, где бы присесть. Дед понял его желание и указал рукой на очищенное от коры бревно, что лежало под яблоней.
Присели.
— А хочешь в хату? — спросил Евсеич.
— На воздухе вольготнее! — ответил Осокин. Начал издалека, чтобы чем-либо не спугнуть старика: — Интересует меня Аким Петрович Охрименко. Знали такого?
— А ты ко мне и не пригребся бы, ежели бы такого не знавал. Годки мы с ним, росли вместе, равно без порток в Лобзянке раков ловили… Я, сынок, и Петра Акимовича знал. Не единожды от него крапивой по заднему месту попользовался. Хороших людей как не помнить! За свою совестливость и погибли…
— Велика ли была семья у Акима Петровича?
Евсеич вздохнул.
— Это как считать. По нонешнему времени немалая, а по довоенным временам невелика… Трое у него детей. Две дочки и сынок. Велика аль нет? Иные семьи у нас по десятку детишек на свет запускали. Акима общественность заела…
— Как это понимать — заела? Не дружил с соседями?
— Совсем даже наоборот! Не так ты меня понял про общественность! Вся забота у него была об обществе, на себя догляду не оставалось. У себя в хате гвоздя не забьет, на колхозном дворе первый работник, напереди иных и прочих! За такой характер его всем обществом вывели в председатели колхоза. Ты не гляди, что ныне три кривые хатки стоят, деревня у нас была справная. Один луг заливной под Сожем чего стоил. И сейчас с него колхозу не малый стог!
Дед извлек из широкой штанины кисет, оторвал от сложенного во много раз газетного листа клочок и свернул самокрутку. Едко запахло махоркой.
— Аким Петрович Охрименко, так и напиши в свою газетку, человек был правильный, сам чужого не брал и другим не давал. Такими, как он, и держалась наша земля. Про его партизанские дела писали…
— Где писали, кто писал? — встрепенулся Осокин.
— Вот жалость! Хранилась у меня газетка. За божницей держал, сослепу не разглядел, искурил ее всю дочиста. Это после того, как здесь следопыты побывали. Пионерия славгородская… Они и пирамиду сколотили из досок, как раз на том месте, где все его семейство фашисты повесили. Захоронить бы положено было, там же их останки… Да где же искать? Фашисты всех в овраг скидывали, а полые воды их косточки в Сож отнесли, а Сож унес и того далее…
Евсеич поднялся с бревна и поманил за собой Осокина. Подошли вплотную к плетню.
— Погляди! — позвал Евсеич. — Вишь какая перед нами луговина! До войны вся была застроена, а ныне бурьян. Перепахали бы, да фундаменты мешают. А вон на том бугорке, вишь, крапива кустится, школа стояла… Пойдем, покажу тебе кое-что, коли ты к Охрименкам интерес имеешь…
Пошли по дороге, точнее говоря, по следу старой дороги, быть может, и улицы. Вся она плотно заросла гусятником, а местами укоренился и клевер. Евсеич рассказывал, чьи стоят жилые домики, да кто в них живет. Там — старуха свой век доживает, там — бобылка. Ходит в колхоз пасти телят.
Миновали дом-развалину. За ним сбочь дороги только остатки фундаментов, зияли ямы, а из них ходко перла в рост крапива.
Дорога привела к обрыву и исчезла в траве. Под обрывом звенела на камнях быстрая речушка.
— Лобзянкой называют! — пояснил Евсеич. — Здесь вот и стояла хата Охрименко.
Указал на фундамент, едва проступающий из земли.
— Давно их нет, — продолжал Евсеич, — вот и яблони без хозяев одичали…
Осокин не перебивал старика и с вопросами не спешил, давая ему выговориться без помех.
Чуть поодаль, ближе к Сожу, что сверкал излучиной меж заболоченных берегов, высился могучий дуб. Живой у комля нижними своими ветвями и с мертвой, рассеченной надвое вершиной. В распадке ствола виднелось тележное колесо, одетое шапкой из мелкого хвороста.
Евсеич проследил за взглядом Осокина и спросил:
— Есть там кто или нет? На колесе! У меня, как в даль глядеть, слезы на глаза натекают… Ты погляди погляди, сидит или нет? Бучил сидит?
Осокин понятия не имел, кто такой бучил. Пригляделся и тут только заметил длинный птичий клюв и птичью голову. Аист!
— Сидит! — воскликнул он. — Бучил — это аист?
— Аист! — подтвердил Евсеич. — Аист… А чего ты спрашиваешь? Стало быть, не из наших краев?
— Издалека! — подтвердил Осокин. — Из Рязани.
— Ну-ну… — протянул Евсеич. — Это хорошо, это добро, что аист на гнезде. Коли бучил взялся выводить птенцов, деревне еще жить отпущено… Поживет еще Ренидовщина! Звал меня Иван Антонович на усадьбу. Квартиру давал. Горячая вода и все там прочее. И топить не надобно, от централи топят. Не хочу! Тут моя старуха под березкой лежит. Как это я уйду и ее одну оставлю?
Скрутил длинную самокрутку и задымил махоркой. Тронул Осокина за рукав.
— Пойдем! Глянешь на Охрименков!
И опять Осокин воздержался с расспросами о Прохоре Акимовиче. Не насторожить чем, не спугнуть бы старика.
Пересекали луговину, вышли на бугорок, где когда-то стояла школа. Тут и открылась взгляду сколоченная из досок пирамидка, над ней шпиль, увенчанный красной звездой. Подошли. На пирамидке чугунная плита, а на плите отлиты надписи:
«На этом месте в августе сорок второго года немецко-фашистские захватчики и палачи казнили командира партизанского отряда Акима Петровича Охрименко и всю его семью».
Чуть ниже шло перечисление тех, в чью память сооружена пирамидка:
«Охрименко Аким Петрович, 48 лет.
Охрименко Петр Акимович, 72 года.
Охрименко Дарья Илларионовна, 70 лет.
Охрименко Мария Николаевна, 45 лет.
Охрименко Галина, 14 лет.
Охрименко Елена, 12 лет.
Охрименко Прохор, 23 года. Сентябрь 1943 года».
Осокин читал, дед рядом густо дымил махоркой.
— Не вспоминать бы то проклятое время, — проворчал он. — Горе не вспоминать бы! Не счесть, сколько людства погибло.
Осокин внимательно прочитал отлитые надписи, но сознание его не зацепилось за имя Прохора Охрименко в списке казненных. Потом Осокин решил, что сбила его не только неожиданность, но и указанный возраст — 23 года. Привык видеть «своего» Охрименко пятидесятилетним.
Все еще не задумываясь, какой же Прохор занесен в список, не отождествляя его со «своим» Прохором Охрименко, Осокин спросил:
— Мне послышалось, или так оно и есть, будто бы у Акима Петровича было трое детей?.
— Не ослышался — трое!
— Был у него сын — Прохор?
Старик резко обернулся и пронзительно взглянул из-под седых бровей в лицо Осокину.
— Знамо — был! Ну и что?
Взгляд беспокойный Евсеича при упоминании имени Прохора Осокин истолковал по-своему. Встревожен старик этим именем, стало быть, есть и причина для тревоги.
— Знавали вы его, Прохора?
— Как же не знавать? На моих глазах вырос. Что это ты вдруг о нем вспомнил? К чему бы?
— Рассказал бы, Евсеич, о нем! Что за человек был, как рос, как на армейскую службу уходил?
— Это еще зачем? — вскинулся Евсеич и вдруг построжел, его бородка, словно бы вилами нацелилась в грудь Осокину. — Ты вот что, сынок, брехни никакой не слухай! Коли кто скажет о Прохоре Охрименко худое слово, сейчас ко мне представь! Я с любым разберусь!
— А разве кто нес на него хулу?
— Я бы им понес! Нет, хулить не смели, а этак-то расспрашивали, как да что… Нечего тут выспрашивать. На моих глазах, вон туда, под берег сволокли его фашисты. Мы его ночью подобрали, надеялись, жив… Нет, не жив! Захоронили в лесу, а где, и я уже не упомню, вот и его сюда вписали!
— Куда вписали?
— А ты грамотный? — грубовато спросил Евсеич. — Из какой такой газеты тебя прислали? А? Читай! Внизу читай!
Осокин прочитал вслух:
— «Охрименко Прохор, 23 года, сентябрь 1943 года».
— Вот он и есть Прохор Акимович! Старший сынок Акима.
— Сын? Это точно? Не брат? — растерянно спросил Осокин.
— Брата у Акима не было… Сынок и есть! Геройский сынок!
Осокин растерялся. Этакого он никак не ожидал. Поспешно достал из бумажника фотографию «своего Охрименко» и протянул ее старику.
— А это кто?
Евсеич нахмурился. Пошарил в кармане и извлек деревянный очешник. Нацепил очки со стальными дужками, тут же снял их, дунул на стекла и протер воротом рубахи. Долго вглядывался в фотографию, поворачивал ее и так и этак. Покачал головой.
— Что-то дюже интересная личность… Из какой ты, говоришь, газетки?
Осокин решил, что пора открыться.
— Не из газетки, Ларион Евсеевич! Я не говорил, что из газетки… Это вам так показалось. Дело тут куда серьезнее. Из прокуратуры я… Следователь!
Бороденка вскинулась вверх и тут же опустилась. Евсеич, не выпуская из рук фотографии, отступил шага на два от Осокина.
— Из прокуратуры, говоришь? Может быть, может быть… Так что же ты мне за личность предъявил? А ну, скажи!
— Прохора Акимовича Охрименко! Он?
Евсеич еще раз взглянул на фотографию.
— Любопытственно, — пробормотал он, — очень любопытственно! — На секунду замолк, все еще разглядывая фотографию, и как бы в раздумье продолжал: — Годы прошли… Длинные годы… Почитай, чуть ли не тридцать лет! Без году тридцать лет…
Евсеич сунул фотографию в карман, сдернул очки и неожиданно подмигнул.
— Пойдем ко мне в хату! Пойдем! Там я тебе что-то покажу! Пойдем, пойдем!
С неожиданным для его возраста проворством Евсеич почти бегом припустил к дому. Осокин едва поспевал за ним, не бежать же за стариком. Смешно. И никак не мог в толк взять, что так его взбудоражило. Совсем непонятной выглядела история с надписью на мемориальной доске. Не сочли ли здесь покойником живого человека?
Евсеич намного опередил Осокина. Осокин еще только подходил к калитке, а старик уже успел юркнуть в хату. Осокин подошел к крылечку, навстречу распахнулась дверь, и он увидел стволы охотничьего ружья, нацеленные ему в грудь.
Евсеич, не выступая из сеней, построжевшим голосом молвил:
— Охолони маленько, сынок! Охолони! На партизана пришел поглядеть? Погляди! Я и на восьмом десятке — партизан! И не вздумай шутки шутить, у меня два заряда и оба с картечыо! Ты руки подыми и заложи их на затылке! Сцепи пальцами, пальцами сцепи, да покрепче!
Осокин не очень-то охотно выполнил приказ старика, не находя слов от удивления.
Евсеич продолжал командовать:
— Повернись спиной ко мне и тихонько, слышь, не поспешая, следуй к автомобилю. Не боись, коли смирненьким будешь, я тебя в целости и сохранности доставлю куда следует. Там разберутся, какой это на твоей карточке Прохор Охрименко, откуда такой появился.
Осокин не знал, что и думать. И уже было решил, что председатель по неосторожности подсунул ему сумасшедшего.
Шофер выскочил из машины навстречу столь поразительному шествию.
— Тю, Евсеич! Сдурел, что ли?
— Ты меня не дури, Ванюха! — ответствовал Евсеич. — Меня и немцы не задурили, а иным-то и вовсе невподым! Кто послал тебя с твоим гостем?
— Иван Антонович! — уже с некоторой растерянностью ответил шофер.
— Вот и вези нас к Ивану Антоновичу! Гостя наперед, я сзади его постерегу!
Ванюха не стал спорить, распахнул дверцы, дождался, когда пассажиры усядутся, сел за руль и погнал «газик», вздымая пыль выше лесочка.
Осокин невольно косил глазами назад, его очень беспокоило направление стволов ружья. Но старик аккуратно держал их вниз. Осторожность — это явный признак того, что старик психически здоров. Так что же тогда произошло?
«Газик» подрулил к зданию правления. На площадке несколько машин, сновали люди. Старик положил ружье на сиденье и распорядился:
— Выходи! Приехали. Тут с тобой управятся, ежели что, и без ружья. А для бодрости скажу тебе, что оно и не заряжено! Некогда было мне патроны искать! Так-то, сынок, с партизанами шутки шутить!
С видом торжествующим и победоносным Евсеич препроводил Осокина в кабинет председателя. В кабинете народ. Евсеич подошел к столу и, окинув взглядом присутствующих, произнес:
— А ну, покиньте на час кабинет! У нас тут до Ивана Антоновича государственное дело!
Зябликов с немалым удивлением взглянул на Осокина, Осокину ничего не оставалось, как беспомощно развести руками, показывая свою непричастность к распоряжениям старика.
Кабинет опустел.
— Докладывай, дед! — попросил Зябликов.
— Кого ты ко мне прислал? — спросил Евсеич.
— Следователя прокуратуры, Ларион Евсеевич! Товарища Осокина Виталия Серафимовича! Ему надо было помочь, а я вижу, что вы ему помешали!
— Откуда это видно, что это следователь прокуратуры? — не унимался Евсеич.
Зябликов в недоумении взглянул на Осокина.
— Что случилось, Виталий Серафимович?
— Ларион Евсеевич заподозрил меня, в чем — не знаю! Пусть он и объяснит!
— То верно! Ты показал бы при всем народе свою бумажку, чтоб у меня сумления не оставалось…
— Ларион Евсеевич! Какие могут быть сомнения? Я вас заверяю, что все в порядке! — сказал Зябликов. — Что вас ввело в сомнение?
— А почему этот гражданин подсунул мне карточку фашиста, а сказал, что это Прохор Охрименко? Откуда У него в кармане такая личность? Пусть-ка объяснит!
Евсеич выложил на стол перед Зябликовым фотографию.
— У следователя, Ларион Евсеевич, может оказаться и фотография фашиста, на то он и следователь. Так это не Прохор Охрименко? Кто же?
— Это не Прохор! — крикнул Евсеич. — Это Зяпин! Федор Зяпин! Фашистский цугвахман! Зови любого, кто оккупацию здесь пережил, — все подтвердят!
— Это еще что за чин? — спросил Зябликов, отстраняя от себя фотографию.
— А дьявол то знает, что за чин! Были вахманы, а те, кто злее издевался над нашими людьми, те цугвахманы… — Обращаясь к Осокину, уже спокойнее произнес: — Ты прости меня, сынок, старика! Погорячился! И то подумай: сколь нам пришлось принять горя от этого человека! К сердцу у меня подкатило, как увидел эту личность… Думал — не продыхну! Чуть было конец не пришел! Только и взгорячило, не жив ли этот бандит, что Прохором Охрименко назвался, а тут и дурная мысль: не ищешь ли ты, сынок, как бы тому обману получить поддержку? Скажи, успокой, живой он аль нет?
Вот и разрядилось недоумение. Осокин рассмеялся, но все же упрекнул старика:
— Вообще говоря, по закону вопросы положено мне задавать! Принимая во внимание, что вы так разволновались, Ларион Евсеевич, забегая вперед, скажу: этот человек, что изображен на фотографии, жив. Он действительно назвался Прохором Акимовичем Охрименко, имеет и документы на это имя. Даже и указывает, что родился на Ренидовщине. Когда я вам показал фотографию, я был совершенно уверен, что это и есть Прохор Охрименко! Очень меня смутила надпись на мемориальной доске…
— Я эту личность и в гробу не забуду. Из гроба встану, чтоб спросить с него за содеянное! Как же мне не знать Прохора! Говорил же тебе, что на моих руках вырос. С первого дня войны в боях. А к нам его в сорок третьем году в разведку забросили. Ему ли не знать здесь каждую тропку. На парашютах спустились несколько человек… Собрались и нас искали. Но не они нас нашли, мы их разыскали… Мы им полную картину нарисовали, где и какая немецкая часть стоит. Да, вишь ты, люди мы не военные, мы на глазок, а им надо в полной точности, потому как готовилось наше наступление. Уговаривали их не ходить в разведку, нам доверить. Пошли… И нарвались на засаду. Никто из них живым не вышел. Положили и они немалое число фрицев, а Прохора израненного схватили. То случилось под вечер, до глубокой ночи его допрашивали, а мы тут, неподалеку от их комендатуры, сидели в засаде, выискивали, как бы его отбить. Отбивать стало некого. Ночью выволокли Прохора и спустили под берег.
Осокин подошел к Евсеичу и сжал его руку.
— Спасибо, Ларион Евсеевич! Вы даже не представляете, какую вы нам оказали помощь!
— Извиняешь, стало быть, что заарестовал?
— Очень уж меня смущало направление стволов вашего ружья, Ларион Евсеевич, очень вы меня утешили, что ружье у вас было не заряжено! То, что на этой фотографии не Прохор Охрименко, мне теперь совершенно ясно. Мне теперь получить бы исчерпывающие подтверждения, что это Федор Зяпин, как вы обозначили его, и что он фашистский прихвостень. Этот человек недавно совершил очень тяжкое преступление. Человека убил…
— Эко удивил! — отозвался Евсеич. — Ему человека убить — что муху прихлопнуть. Опознать его труда не составит. Но есть тут одна закавыка. Никто не знает, откудова он взялся. Как немцы осели здесь, так и явился, С немцами явился, и уже вахманом. Потом отлучался куда-то, будто бы его немцы обучали своей службе, а потом уже сам командовал вахманами.
— Ну, эта закавыка, Ларион Евсеевич, не такая уж трудная. Нам теперь, Ларион Евсеевич, надобно, как того закон требует, все, что вы мне рассказали, занести в протокол. Должен я вас также предупредить, что за каждое слово вы отвечаете перед законом, потому как вы теперь не частное лицо, а свидетель!
18
Задача следствия существенно изменилась.
Подследственный оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал. И не родился он на Ренидовщине. Открылось его преступное прошлое. Преступление, совершенное им в Со-рочинке, в характере этого человека. Проясняется мотив убийства жены, находило объяснение слово «лягавая».
Мысль о том, что Елизавета Петровна могла знать о службе своего супруга фашистам, Осокин категорически отбрасывал. Все, что он о ней узнал, отвергало такую возможность. Елизавета Петровна не примирилась бы с таким прошлым мужа. Да и прошлое было не из таких, чтобы доверить даже и жене. Складывалось впечатление, что Елизавета Петровна узнала что-то опасное для Охрименко в самое последнее время, что их отношения испортились еще до ее поездки в Сочи. И когда комендант попытался оказать на нее давление, предъявив сфабрикованные им же анонимные письма, она в ответ пригрозила привлечь внимание к каким-то фактам из его биографии или органов правосудия, или общественности. Это и решило ее участь. Только страх разоблачения его службы у фашистов мог перевесить у Охрименко неизбежное наказание за убийство жены. Этот груз резко потянул чашу весов. Отсюда и торопливые, судорожные попытки смягчить неотвратимое наказание симуляцией самоубийства, симуляцией потери памяти и, наконец, поспешное признание в совершении преступления, лишь бы следствие скорее передало дело в суд, перестало бы изучать его личность.
Осокин должен был немедленно связаться с органами государственной безопасности. Для этого надо было ехать в областной центр, в Могилев. Ведь Осокину нужно было еще удостоверить показания Лариона Евсеевича и провести официальное опознание Федора Зяпина.
Ларион Евсеевич сообщил адреса тех, кто пережил оккупацию на Ренидовщине. Зябликов послал за ними машину. Из счетной части правления колхоза пригласили понятых. Годы, конечно, поработали над лицом цугвах-мана, но горе, причиненное им в здешних местах, оживило память. Его один за другим опознали семь человек. Одна старушка сказала:
— Привели бы какого немца, не узнала бы! Все они для нас на одно лицо, ну а тех, кто из наших им служил, тех не забудем!
«Служил»… Но и немцам разно служили. Из показаний опрошенных вырисовывалось, что Федор Зяпин не только «служил», но и принимал участие в карательных акциях, руки обагрил кровью своих же соотечественников.
Надо было ехать в Могилев. Зябликов предложил «газик».
В областном управлении Комитета госбезопасности Осокина принял полковник Корнеев Владимир Федорович. Осокину он показался чем-то похожим на Русанова. Та же неторопливость в выводах, умение слушать и вежливость. А когда Осокин все обстоятельно рассказал, поощрительно подытожил:
— Да, с таким открытием вас нельзя не поздравить! Ведь имя этого Федора Зяпина и мне знакомо… Он числится в розыске по нашей картотеке.
С этими словами полковник распорядился по телефону срочно принести ему данные на Федора Зяпина, а когда это было сделано, пробежал глазами по какой-то бумаге и, как бы знакомя Осокина с ее содержанием, произнес:
— Из здешних мест Зяпин бесследно исчез. По показаниям нескольких задержанных вахманов, он подался на Украину, под Одессу… Его видели в последний раз в Новом Буге. Есть такой городок не так-то далеко от Одессы. Там был узел немецкой обороны. С того места и затерялся след Зяпина…
Мы не имели его фотографии, а теперь вот и фотография, и сам налицо. Отнюдь не рядовой прислужник. Он даже прошел подготовку в специальном учебном центре «Вахманшафта СС» в польском местечке Травники…
— Цугвахман это кто?
— Все немецкие прихвостни были достаточно жестоки и, как правило, трусливы. Цугвахман — это звание в особой иерархии фашистских прислужников. Вахман — рядовой, обервахман — как бы командир отделения, цугвахман — это уже взводный. Выше — это группенвахман. Все вахманы присягали на верность гитлеровскому рейху.
Корнеев просмотрел протоколы опознания и допросов свидетелей.
— Молодец! — еще раз похвалил он. — Для доказательства индентичности вашего подследственного с Федором Зяпиным материала достаточно. В общем, достаточно и материала для прояснения его прошлой преступной деятельности. Только желательно узнать о его службе у немцев подробнее. Ведь от него может протянуться и какая-либо еще ниточка… К тому же мы пока не знаем, откуда он прибыл, кто он таков. Я уже сказал, что мы в свое время кое-кого выловили из той братии и осудили. Их не трудно найти. Надо, чтобы и они опознали Зяпина. Я не исключаю, что он вовсе и не Зяпин, как и не Охрименко.
— Эти вахманы не будут его выгораживать?
Корнеев усмехнулся.
— Мало вероятно, чтобы они пожелали его выгораживать. Скорее, наоборот, поспешат выложить все, что о нем знают. Это их положения не ухудшит, а даст удовлетворение, что вот и еще один из тех, кто сумел скрыться, не избежал наказания, как и они не избежали…
В тот же день, получив от Корнеева адреса исправительно-трудовых колоний, где отбывали наказание бывшие вахманы из той же команды, что и Зяпин, Осокин выехал в Озерницк.
Уже по торжествующему виду, с которым он вошел, Русанов догадался, что командировка дала результаты, но и он не предполагал, во что вылилась проверка биографии коменданта ватной фабрики.
Когда Осокин, выкладывая на стол протоколы опознания и допросов, объявил, что Прохор Акимович Охрименко вовсе и не Охрименко, а фашистский вахман Федор Зяпин, у Русанова непроизвольно вырвалось:
— Не может быть!
— Не только не может быть, а так оно и есть! На меня за фотографию этого Зяпина даже всерьез ополчился один старикан, из бывших партизан. Он подумал, что я хочу этого Зяпина выдать за Охрименко…
— Вполне естественно, всякий другой тоже мог рассудить так.
После этих слов Русанов углубился в чтение протоколов и только покачивал головой.
— Вот оно куда привело словечко «лягавая»!
— Лизавета Петровна ничего не знала! — поспешил прояснить свою позицию Осокин. — Уверен, что она не знала! Не может быть, чтобы знала!
— Спешить нам с выводами не стоит, — заметил Русанов. — Но я думаю, что ты прав. Если бы он ей открылся, то никогда не решился бы провоцировать ее анонимными письмами. Несомненно лишь одно: словечко «лягавая» связано с его прошлым, а вот чем и как, это еще предстоит установить.
— Может, следует теперь это дело передать в органы государственной безопасности? — спросил Осокин.
— Пока не вижу особых причин! — констатировал раздумчиво Русанов. — Не думаю, чтобы этот самый Зяпин оказался бы вдруг на связи с кем-то из своих бывших хозяев. Так что придется вам, Виталий Серафимович, поискать теперь и других вахманов, что знали его раньше. Пусть и они скажут о нем веское слово. Ведь с такими доказательствами, что есть, выходить против него рано. Допроси вахманов, дай им Зяпина опознать, тогда и ставь его к барьеру.
Так Осокин попал в далекие северные места. И первым в ряду таких свидетелей из числа бывших вахманов оказался некий Ахрещук по кличке «Голубок», которая и здесь к нему прилипла намертво. Он был осужден к 15 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Личность невзрачная. Невелик росточком, жилист. Острый птичий нос и размытой формы подбородок делали его лицо старушечьим. Взгляд тревожный, исподлобья. Чувствовалось, что он от их встречи ничего хорошего для себя не ждал. Дежурный по колонии, который сопровождал Ахрещука, как видно, тоже понял это и поспешил его успокоить.
— Не дрейфь. Следователь из прокуратуры хочет с тобой побеседовать об одном человеке. Не лукавь — что знаешь, то и скажи, а врать будешь — на этом капитала не заработаешь. Понял?
— Гражданин начальник, — воскликнул Ахрещук, весьма обрадованный тем, что дело, оказывается, его не касается, а речь пойдет о ком-то другом. — Если что знаю, то все расскажу, как на духу, я ж в сознанке…
Пригласили понятых. Осокин на их глазах разложил на столе веером несколько фотокарточек разных людей одного возраста с Зяпиным. Среди них лежала и фотография Зяпина.
— Ахрещук, — предложил он, — подойдите к столу и внимательно посмотрите на эти фотографии. Известен ли вам кто-либо из тех лиц, что изображены на них?
Ахрещук подошел к столу и окинул взглядом фотокарточки. Осокин дал ему время присмотреться. Ахрещук помалкивал. '
— Кого-то из них узнаете? — повторил вопрос Осокин.
Ахрещук посмотрел фотографии еще, взглянул на Осокина и, помаргивая глазками, спросил:
— Он живой или мертвый, тот, кто вам нужен?
— Вопросы здесь я задаю, заключенный Ахрещук! Предупреждаю! Какое это имеет для вас значение? Вы кого-то узнали?
Но Ахрещук явно не спешил с ответом, чего-то боялся. Тогда на помощь Осокину опять пришел лагерный дежурный.
— Голубок, я же предупреждал, не крути.
Только после этого Ахрещук, как бы оправдываясь, заявил:
— У вас, гражданин начальник, интерес свой, а у нас за такое могут и прибить. Хорошо, скажу. То Зяпин Федор, цугвахман.
Итак, первый шаг был сделан. Осокин это занес в протокол опознания личности Зяпина, дал подписать его присутствующим и отпустил понятых. Теперь оставалось только все отразить и в протоколе допроса Ахрещука, но чтобы подтолкнуть как-то его к откровенности, сказал:
— Не стану скрывать. Он арестован. Вам уже не страшен…
— Правда ваша, — ожил Ахрещук, — да только я его боюсь даже и теперь. Был он на расправу короток, лютовал иной раз так, что не приведи господь. Еще и хитер как лис… Когда замели меня, то об этом Федоре разговор с чекистами тоже был. Только я след этого Зяпина потерял давным-давно…
Осокин дал Ахрещуку свободно выговориться, не прерывал, а тот пустился в воспоминания о еще не забытом прошлом, когда согласился в своих Журавичах стать полицаем. И выходило так, что Зяпин объявился у них значительно позднее, перед зимой сорок первого.
— Сам-то он из каких мест?
— Ненашенский, большего не знаю.
Для Осокина особый интерес представляло и то, что Ахрещук также припомнил: Зяпин за свое особое усердие перед фашистами, оказывается, даже выслужил немецкую медаль. Еще Осокин узнал, что и над Зяпиным был начальник, кому подчинялась вся их вахманская команда, некий Фогт, группенвахман.
— Немец?
— Фольксдойч, из тех немцев, что до войны проживали в Союзе. Прозвали его заглазно «Скулан», за его круглую, как сыр, рожу. Уж больно была она скуластая…
Вот и новый поворот в доле! От неожиданности Осокин даже привстал. Несомненно, это и был тот самый дружок Зяпина, что сбежал из Ашхабада и наведался к нему в Сорочинку. Сразу припомнились и разговор с участковым Егорушкой, обозначившим незнакомца такой же приметой, и встреча с Жердевым, который тоже назвал того дружка коменданта скуластым.
Ахрещук между тем продолжил:
— При нем Зяпин шестерил. Что тот прикажет, то я сотворял, не задумываясь.
— Ну а что вам известно про Акима Петровича Охрименко? — переменил тему Осокин. — Такого человека вы знали?
— Кто же не знал его? В деревне Ренидовщина он в председателях колхоза проходил не один год, а при немцах в лес подался и шибко партизанил. Да только каратели все же заловили его и со всем его семейством повесили, не пощадили ни старого, ни малого.
— А про его сына — Прохора, лейтенанта, слышали?
— Так он еще до войны на военную службу ушел. Слух имелся, будто бы год спустя, как его родных изничтожили, он в наших краях объявился… Гонялись за ним…
— Если гонялись, какой же это слух? Наверное, действительно объявился?
— Не видел, а в облаву ходил…
— Немцы поймали его?
Ахрещук помаргивал глазками.
— Всякое тогда болтали… Война же шла, гражданин следователь! Кому что надо, тот и говорил. Слух шел, что поймали, а немцы и после его разыскивали. Вот и угадай, где правда? Зяпин, так тот не раз нам говорил, что Прохор Охрименко между пальцами утек…
Еще одна неожиданность. Осокин убеждался, как важно один и тот же эпизод рассматривать с разных позиций. Ларион Евсеевич похоронил Прохора, тут ошибки быть не могло. Для чего же Зяпину понадобилось изображать его живым, да еще и ускользнувшим от немцев? Не готовился ли Зяпин уже тогда взять себе имя Охр именно? Не озаботился ли он уже в сорок третьем подстелить себе соломку, чтобы мягче падать? Август сорок третьего года… Позади уже разгром немецких войск под Курском и Белгородом. Всяким там вахманам и полицаям настало время задуматься и о своей судьбе.
— Что стало с вашей командой, когда фронт придвинулся к вам вплотную?
Ахрещук на минуту задумался, как бы углубившись в прошлое.
— Все мы подались в Новый Буг. Про такой город слыхали?
— С географией знаком, — сдержанно сказал Осокин.
— Там большие немецкие склады и лагерь военнопленных был. Им охрана требовалась. Вот мы и охраняли. То уже случилось в сорок четвертом. То ли зимой, то ли к весне ближе. А в тот год зима и весна воедино сошлись, каждодневно без передыху дожди полосовали. Грязища! Упаси боже! У нас в Белоруссии кругом песок, а там земля черная, раскисала на лопату глубиной. На дорогах увязали даже танки. Вот тогда все и началось. Немцы меж собой сказывали, будто Красная Армия от Нового Буга еще стоит на сто верст. Вдруг все прахом пошло. Самый наиважнейший ихний генерал едва до своего самолета добрался. Закружились, заметались все. Обложили их со всех сторон. Потом немцы решились идти на прорыв… Не знаю, ушел ли кто. И ночь, и день их свинцом успокаивали, танками давили, в землю вбивали…
— Вам что, Ахрещук, это в досаду? — не удержался Осокин.
— Молодой еще, гражданин следователь, чтобы все понять… Я говорю как было. Сначала они наших, а потом наши их…
— Не твои эти наши! — сердито вставил свое слово конвоир, все это время в терпеливом ожидании молча сидевший у двери.
— Нет уж! — возразил Ахрещук. — Коли суд мне сохранил жизнь, стало быть, и мои. За все, что содеял против своих, несу наказание… Гражданин следователь, разве я не прав?
— Не совсем. Своей вины вы еще полностью не искупили. Лучше скажите вот что: этот ваш Скулан и Зяпин от немцев сбежали вместе?
— То неведомо мне.
— А как вы сами выбрались?
— Со мной все получилось просто. В общей суматохе затеряться было легко. Отсиделся в лесу, а после сам и повинился.
Когда Ахрещука увели, у Осокина еще долго не пропадало такое ощущение, будто тот своей жалкой болтовней ничего другого, кроме чувства еле сдерживаемого презрения, вызвать к себе не смог.
Встреча Осокина со вторым бывшим вахманом из тех, кто должен был знать Зяпина, состоялась через день, но уже за высокой оградой другой исправительно-трудовой колонии. Этого типа звали Иваном Михайличенко, и можно было ничуть не сомневаться в том, что 12 лет лишения свободы, которые отбывал он, вполне им заслужены.
Он был совершенно лыс и в то же время донельзя волосат.
Волосы пучками гнездились у него в ушах и носу, выпирали кольцами из-под ворота рубашки. Не человек, а почти обезьяна. К еще большему удивлению Осокина, Михайличенко, перешагнув за порог кабинета, вдруг завопил визгливым дискантом, совершенно не подходящим к его звероватой внешности:
— Опять на допрос! Сколько можно издеваться над человеком! Дайте спокойно отсидеть свой срок!
— Чего разошелся-то? — прервал эти его вопли конвоир. — Сам же во всем и виноват.
— Виноват, да не по своей воле.
— Не мели, здесь дураков нет, — урезонил его тот. — Лучше погляди на картинки, что привез к тебе следователь. Может, кого и опознаешь?
— Это дело другое, — сразу присмирев’, произнес вполне нормальным тоном Михайличенко и, не скрывая своей заинтересованности, с готовностью направился прямо к столу, где Осокин в присутствии новых понятых уже разложил привезенные фотокарточки, в том числе и фотографию Зяпина.
— Вам из них кто-либо был известен?
Однако беглого взгляда оказалось вполне достаточно, чтобы Михайличенко тут же ткнул в карточку Федора Зяпина и назвал его. Подтвердил он и их совместное пребывание в команде вахманов. Но дальше не пошел. Впрочем, и того Осокину было уже вполне достаточно.
В той же исправительной колонии для процедуры опознания Федора Зяпина к Осокину в кабинет завели еще одного бывшего вахмана с нерусской фамилией Пельц. Когда он тоже узнал об аресте Зяпина, то очень развеселился и на допросе охотно рассказал:
— В нашей колоде, как бы ее ни тасовали, Федор Зяпин был не иначе, как козырной туз. То, что иные делали по приказу и из страха, он сам выискивал.
Пельц охотно, в подробностях, подтвердил и показания Ахрещука.
Осокин смог убедиться еще раз в том, что Зяпин к своему предательству скатился, очевидно, не случайно, не в силу каких-то неотвратимых обстоятельств, а вполне сознательно, как откровенный наш враг. Для такого и застрелить свою жену двумя выстрелами в упор, если только она встала на его пути, было, конечно, делом плевым.
До сей поры Осокин воспринимал фашизм весьма отвлеченно, по-книжному, как бы со стороны. Для него со школьных лет стало аксиомой, что фашистская идеология человеконенавистничества породила и нелюдей, посягнувших на нашу землю, злобных и коварных в достижении своих преступных целей, и верных их прислужников-пре-дателей всех мастей. Но одно дело, когда это только представляешь умозрительно, а другое — когда пришлось столкнуться с ними лицом к лицу… '
От одной мысли о том, что творили эти палачи с простыми, ни в чем не повинными советскими людьми, у Осокина невольно кулаки сжимались. Но, как следователь, права на проявление собственных эмоций он, конечно, не имел. Всячески сдерживал себя на допросах Ахрещука, Михайличенко и Пельца, даже голоса не. повышал.
Еще большим испытанием теперь виделась ему и предстоящая новая встреча с Зяпиным, который, конечно, еще пребывал в полной уверенности, что истинное его лицо не раскрыто.
Не помешало бы до встречи с ним яснее понять и то, что же его толкнуло на измену.
Месть? Осокину пришлось читать не только художественные повествования и публицистические статьи о власовцах, о карателях и о фашистских прислужниках немцев, но и отчеты о судебных процессах над ними. Как раз там это чувство мести чаще всего и выступало на первый план, когда заходила речь о предательстве кулацких сынков, всяких отщепенцев и бывших уголовников. Ну а Зяпин, кто он, почему переметнулся к немцам?
В этом Осокину еще только предстояло разобраться.
19
Осокин вернулся в Озерницк ночью, утром поспешил к прокурору. Ему не терпелось поделиться добытым материалом и своими мыслями с Русановым. Но прокурор оказался в отъезде, его вызвали на совещание в область, а заместитель Новиков готовился к обвинительной речи на довольно сложном судебном процессе и заперся в кабинете, не принимая никого.
Тогда Осокин пошел к Лотинцеву и под его началом, оперируя лишь показаниями допрошенных свидетелей, составил фоторобот Фогта. Получился довольно неприятный тип, с проплешиной, широкоскулый, горбоносый. За отсутствием фотокарточки Скулана — Фогта пока что для его розыска мог сгодиться и такой фоторобот.
В тот же день Осокин встретился и со своим подследственным, все еще числившимся в следственном изоляторе под фамилией Охрименко.
Он прошел курс лечения, раны зажили, и оказалось, что из тюремной больницы его уже перевели в общую камеру.
Так что перед Осокиным теперь сидел все еще Охрименко, точнее говоря, человек, воображающий, что, как и прежде, его принимают за него. К этой встрече он явно готовился и, судя по всему, от игры в беспамятство отказываться не собирался. Заговорил он первым:
— Давненько вас не было, гражданин следователь! Почему волынку тянете? Почему дело не передаете в суд? Нет больше моей мочи терпеть!
— Следствие имеет законом установленные сроки, мы их не нарушили!
Пока Осокин избегал обращения к подследственному по имени и отчеству, да и по фамилии тоже. Ему трудно было назвать его и Зяпиным, ибо не было никакой уверенности, что и эта фамилия подлинная. Осокин пристально его разглядывал, пытаясь найти хотя бы какую-то черточку, которая могла бы прояснить этот характер.
Комендант перехватил пристальный его взгляд и спросил:
— Что это вы на меня воззрились, гражданин следователь, будто бы в первый раз видите?
— Воззрился! — подтвердил Осокин. — Никак не пойму вас до конца…
И опять Осокин никак его не назвал.
Комендант усмехнулся.
— Я и сам себя не очень понимаю, а где уж понять меня кому-то постороннему…
Все так же, не сводя пристального взгляда с подследственного, Осокин продолжал:
— Вы сложный человек, по-видимому, вам не чужда и определенная логика, а я вот со своей логикой никак не могу понять: за что вы убили свою жену? В этом вопросе все ваши показания пока лишь откровенное вранье. Но поверьте мне, до истины мы все же докопаемся, хотя и без того суд уже может рассматривать ваше дело.
— Вот и судите!
— За что? — коротко спросил Осокин.
Вопрос его явно насторожил коменданта. Осокин внимательно приглядывался к каждому его жесту, к выражению лица и глаз. Сейчас вот он объявит о Зяпине. Внезапное обличение очень часто вызывает эмоциональные переживания у допрашиваемого, внутреннее волнение должно получить и какое-либо внешнее отражение.
— За что судить? — переспросил Осокин. — За убийство жены и только? Или есть и еще что-то, за что вы не ответили по закону?
— Я не Черкашин и не воровал! — поспешил с ответом комендант. В чем-то его внутреннее волнение обнаружилось. Хотя бы в поспешности его ответа и в том, как он спрятал глаза, уставившись в пол.
— За воровство мы вас судить не собираемся. До воровства ли? Должен поделиться с вами весьма интересной новостью. Действительно, мы давненько, как вы выразились, не встречались, но совсем не потому, что о вас забыли. Я лично все это время очень даже помнил о вас. Побывал я в деревне Ренидовщине, на родине Прохора Акимовича Охрименко…
Сказав это, Осокин не сводил глаз с подследственного. Однако тот своего волнения ничем не обнаружил, как и на первых допросах, глаза его были непроницаемы. Но как раз это деланное безразличие и могло быть выражением его волнения, точнее говоря, внутреннего напряжения.
— Ренидовщина опустела, — продолжал Осокин. — Всего-то осталось три домика… От дома семейства Охрименко сохранился только фундамент. Постоял я и у памятника, который соорудили пионеры семье Акима Петровича Охрименко, его родителям и детям. Между прочим, на мемориальной доске этого памятника помянут и его сын Прохор Акимович Охрименко, которого убили фашисты в сорок третьем году…
Комендант поднял глаза на Осокина. Все таким же непроницаемым оставался их взгляд.
— Это почему же пионеры поспешили меня похоронить? Не бывал я после войны дома… Ни к чему было и не к кому!
Но Осокин, никак не отреагировав на это, спокойно продолжал:
— Поговорил я с местными жителями, с теми, кто пережил оккупацию, повстречался с одним бывшим партизаном. Ему я вашу фотографию предъявил, полагая, что вы и есть Прохор Акимович Охрименко… Очень бурную получил в ответ реакцию. По этой фотографии и другие признали, что вы вовсе не Прохор Охрименко, а Федор Зяпин, немецкий цугвахман…
Подследственный не пошевелился, только изобразил на лице кривую ироническую усмешку.
Как бы не замечая этого, Осокин продолжил:
— Столь великое горе вы принесли этим людям, что и передать трудно! Их буквально трясло, когда они рассматривали вашу фотографию…
— Что это значит?!
— Вы не хуже моего понимаете, что это значит! Не надо притворяться, и очередное вранье вам ничем не поможет. Вас уверенно опознали как Федора Зяпина. Разве мало этого?
Охрименко усмехнулся.
— Не для протокола, гражданин следователь! Не для протокола… Вот когда вы назовете мое настоящее имя, тогда поговорим по душам…
— Прохором Охрименко я вас уже никогда не назову!
— А на Федора Зяпина я не откликнусь!
20
— Так что же выходит, за ним осталось последнее слово? — упрекнул Русанов, когда Осокин во всех подробностях пересказал содержание разговора с подследственным.
— Ну нет! — возразил Осокин. — Я теперь уверен, что последнее слово останется за нами. Нисколько в этом не сомневаюсь. То была разведка боем!
— Чья разведка: его?
— Он думает, что это была его разведка боем, а я думаю, что моя. Во-первых, он раскрылся в главном! Перед нами совсем не тот человек, которым он притворялся на первых допросах. Раньше я видел в нем ординарного уголовника, теперь я знаю, что перед нами враг, ожесточенный враг. Он совсем не похож на тех вахманов.
— Идейный враг? — с усмешкой спросил Русанов.
— Я понимаю вас, Иван Петрович! Я уже один раз ошибся в нем, второй раз не ошибусь! Не по дремучести он пришел к немцам, думаю, что и не по трусости! Стоит за его изменой серьезная причина. Так что признания ждать от него нечего!
— А не кажется ли вам, Виталий Серафимович, — спросил Русанов, — что вся эта милая беседа была всего лишь торговлей со следствием?
— Быть может, что-то и проскальзывало в этом духе, но мы не можем ему что-либо предложить. И он это знает, он знает, что приговор суда будет однозначен! Признаваясь в абстрактной форме, он как бы давал понять, что его никаким изобличением не удивишь и никакое изобличение не заставит его признать то, что он не захочет признать. К. тому же он прекрасно знает, что признание его при тех доказательствах, которые собраны, имеет чисто символическое значение. Это отлично подготовленный противник. Выявился и второй момент. Он твердо уверен, что мы никогда не узнаем, кто он на самом деле. Он явно подбрасывает нам эту задачу. Вот зачем — я еще не разобрался. Быть может, хочет затянуть следствие, каждый день жизни дорог? Не исключено, что за этим скрывается что-то другое. Это другое, быть может, лежит в плоскости психологии. Пока не знаю… Но есть и третий момент! Он, по-видимому, также уверен, что мы без его помощи, без его указаний не найдем Фогта, если Черкашин и есть в действительности Фогт.
— Скуластое лицо — примета, конечно, заметная. Но уж и не такая редкая. Но дело Фогта — это уже по ведомству полковника Корнеева. Мы ему сообщим наши соображения, а нам надобно подумать, какие есть основания считать Черкашина Фогтом. Быть может, Черкашин и есть Черкашин, а ваш подопечный нарочно темнит, чтобы пустить нас по ложному следу? Вы думали об этом?
— Думал! — ответил Осокин. — Но есть одно обстоятельство. По всем свидетельским показаниям проходит с полной очевидностью, что разлад в семействе Охрименко, назовем его так, начался после визита Черкащина. Это как рубеж! Он и сам постарался дать этому объяснение, только я ни одному слову его не верю. Жулик, богат, соблазнил Елизавету Петровну… Все это он наплел, чтобы как-то увести следствие от тщательного расследования. Все это вранье никак не сходится с образом Елизаветы Петровны, каким он складывается из очень многих о ней отзывов. Фоторобот, конечно, не фотография, но я имею в виду его показать Ахрещуку и Михайличенко.
— Все это так! Но я еще пока не вижу, каким образом за нами останется последнее слово? Виталий Серафимович, подумаем вместе, что у вас есть для установления настоящего имени Зяпина. Не знаю, как его и называть. Пусть пока будет Зяпиным.
— Пусть Зяпин, — согласился Осокин. — Называть его Охрименко у меня язык не поворачивается. Так вот, увидел я его совсем в другом качестве. Сразу переменился. И речь другая, и взгляд, даже пластика движений другие. По всему видно, что год его рождения где-то близок к году рождения Прохора Охрименко. Охрименко двадцатого года. Он может быть девятнадцатого, двадцать первого, пусть даже двадцать второго. Все это призывные годы.
— Может быть, он вообще не призывался! — подсек Русанов рассуждения Осокина.
— Человек он здоровый, врачи не нашли никаких аномалий со здоровьем. Почему бы ему не быть призванным? Для этого нужно было исключение. Учеба в вузе, где есть военная кафедра. Так это все равно давало офицерское звание. Я перечитал протокол первого допроса. Там есть кое-что наводящее на раздумья. И держался и говорил он тогда странно, потом стал говорить по-другому. Похоже на то, как строился наш последний разговор. У меня было ощущение, что он вот-вот скажет что-то очень серьезное и необычное. Но тогда я ждал, что он готовит себя к признанию убийства жены. А он прошелся будто бы по краю пропасти, но падать в пропасть не захотел, свернул. Теперь-то я понимаю, у какого края пропасти он стоял, а потом решил, что обойдет ее. Я точно записал его слова, а интонация была именно такой, как она мне запомнилась. Я вам их прочту, Иван Петрович! Вот слушайте: «Не подыскивайте за меня объяснений! Я и сам не пойму, как это так получилось, стрелял, а жив остался!»
Осокин поднял руку, привлекая особое внимание Русанова.
— «Стрелять на фронте обучен! Немцы с июня сорок первого обучали…»
Если эту фразу вырвать из контекста всего, что нам теперь известно, то она ничего не объяснит. Можно подумать, истолковать ее так, что он подстраивался под биографию Охрименко. Я помню его глаза в тот момент. Обычно он их прячет, уставится в одну точку, и ничего в них нет. Пустота! А тут что-то мелькало беспокойное, то ли усмешка, то ли ирония. Я еще тогда удивился, но не понял. А он добавил: «Учителя жестокие, или ты их, или они тебя!» И опять это сказано с каким-то нажимом, со скрытой истерикой, что ли! И тут же сразу все переменилось. Пошла скороговорка, пошли стандартные фразы, заученное изложение чужой биографии. Я не решился бы высказать твердо предположение, если бы все это еще раз не переворошил в памяти и не обдумал. А предположение такое: он служил в армии. А если служил, то был офицером, и никак не рядовым. И действительно встретил войну в июне сорок первого.
— Дайте протокол, я посмотрю! — попросил Русанов. Перечитав еще раз место в протоколе, раздумчиво произнес: — Июнь — июль сорок первого… Эти месяцы дали чуть ли не наибольшое количество добровольно сдавшихся в плен. Во всяком случае, те, кто был не в ладах с Советской властью, торопились сдаться. Тот, кто будет читать протокол, так глубоко не заберется, как вы, Виталий Серафимович. Предположим, что вы правы и он действительно встретил войну в июне, что он был офицером. Но вы можете представить себе, сколько было в то время офицеров в звании лейтенантов, даже и капитанов. Фамилии его мы не знаем, а сличать его фотографию с фотографиями в личных делах офицеров — на это уйдут годы… Прямо хоть к Ло-тинцеву за идеей обращаться!
— Не надо к Лотинцеву! Есть тут путь, на мой взгляд, покороче. Он не Зяпин — это точно! Он бросил нам вызов: раскройте мое имя, тогда, дескать, заговорю. Это та же игра, что и на первом допросе. Пройтись около пропасти — и в сторону! Он игрок по натуре. Иван Петрович. И азартный! Вот на этом мы и скажем свое последнее слово. Он не Зяпин, а к немцам явился под именем Зяпина. А для того чтобы назваться чужим именем, надо было и немцам предъявить чужие документы. Где он их взял? Я читал воспоминания участников войны о ее первых днях. Там хаос царил. Вот когда труда не составляло под любое имя нырнуть. Но он нырял не под любое! Не под солдатское имя он нырял. Солдат для немцев мало интересен. Ему лопату в руки, и все… Их на каменоломни угоняли. Выбрал он себе офицерское имя и звание повыше лейтенантского. Убитого к тому же или пропавшего без вести. Много их тогда было убитых и пропавших без вести, в каждой части. Но он брал не из чужой части, из чужой части не с руки. Надо было взять не только документы, но и биографию. Федор Зяпин был рядом, в одной с ним части, и близко… Рушится где-либо логика?
— Логика не рушится, хотя построение и сложное… Я понял вас! Вы предлагаете искать Федора Зяпина… Предприятие долгое, но в общем-то не безнадежное. Затем взять списки офицеров в той части, где служил Зяпин.
— Конечно же! — воскликнул Осокин. — Он уже в августе сорок первого объявился на Ренидовщине. Он уже у немцев был своим человеком. Это июнь, самое большое конец июля. Еще ни одна часть не переформировывалась. И если Зяпин значился убитым или пропавшим без вести, то, безусловно, под своим именем в тех же списках мог фигурировать и наш подопечный. Фотография его есть.
— Ты настаиваешь на разработке этой версии? — спросил Русанов.
— Да. Только вначале необходимо провести личное опознание Зяпина вахманами и очную ставку с ними.
— Я не очень уверен, что со своей идеей ты не напрасно потратишь время. Нет никакой гарантии, что он признается и после того, как мы установим его подлинное имя. Может оказаться, что он и есть Зяпин. Загадку с Фогтом это тоже никак разрешить не поможет. Кстати говоря, даже если мы установим, что у него гостил Фогт, это в чем-то поможет ведомству полковника Корнеева, но еще не известно, знает ли Зяпин, куда скрылся Фогт. Эти люди не любят распространяться о своих делах.
— Иван Петрович, я настаиваю! Мы его должны раскрыть до конца!
— Это ваше право, Виталий Серафимович! В нашей работе не все версии находят подтверждение. Не огорчайтесь, если и эта версия окажется несостоятельной. Но прежде мы посоветуемся с полковником Корнеевым, а вы проведете очную ставку Зяпина с вахманами и с Ларионом Евсеевичем! И вот еще что: надобно рассказать на фабрике, каков оказался их комендант. Одно дело, когда свидетели давали показания, имея в виду личную трагедию, быть может, даже и сочувствуя ему, другое дело, когда речь пойдет об изменнике Родины. Быть может, у кого-нибудь освежится память?
21
Осокин проинформировал директора ватной фабрики, секретаря парткома и председателя профкома о мрачном прошлом их коменданта и воспользовался приездом в Сорочинку, чтобы еще раз уточнить внешние приметы Черкащина. Пр йшлось поработать допоздна, участковый уговорил его переночевать.
Утром, чуть свет, кто-то робко постучал в дверь. Осокин взглянул на часы и удивился — шел всего лишь седьмой час. Быстро оделся и открыл дверь. На пороге Гладышева. Он в первое мгновение ее не узнал, так она сникла и постарела. Под глазами мешки, начисто исчезла ее игривость. Голос дрожит.
— Я не помешала? Очень мне надо с вами посоветоваться!
— Посоветуйтесь! — разрешил Осокин и пригласил ее в номер. — Что с вами, Клавдия Ивановна, на вас лица нет?
— Думала, ночь эту не переживу, как узнала… Думала, сердце разорвется. Можно мне вас спросить?
«Вот оно, — догадался Осокин, — дошло!»
— Вы для этого и пришли. Спрашивайте. И садитесь, вы еле на ногах стоите!
Гладышева села на край стула и почти шепотом спросила:
— Скажите, это верно, что наш комендант под чужой фамилией жил?
— Верно! Жил под чужой фамилией и под чужим именем!
— Правда, что он служил фашистам?
— И это правда, Клавдия Ивановна!
— И нет тут никакой ошибки, не возвели на него напраслину?
— Нет, Клавдия Ивановна, ошибки! Это святая правда!
Гладышева расплакалась.
— Господи! Что же я наделала? Еще я, дуреха, цветы ему принесла в больницу… Что же мне-то теперь будет?
— Вы знали, что он служил у немцев?
— Что вы! Если бы узнала, так на порог его не пустила бы! Героем прикидывался! Офицером, ветераном…
— Я уверен, что вы не знали его прошлого и не могли знать!
— И Лиза не знала! — воскликнула Гладышева. — Не такой она человек, чтобы этакое стерпеть! Я о покойнице и днем и ночью забыть не могу, какая я перед ней виноватая! Мне даже снится, что это я ее убила!
— Письмо подлое, Клавдия Ивановна, очень подлое, здесь мне вас утешить нечем. За сны не ручаюсь, но к убийству ее вы непричастны. Не из-за писем он ее убил.
— Товарищ следователь, Виталий Серафимович, а я ведь не всю правду вам сказала, потому и пришла…
— Это очень плохо, что вы не всю правду сказали, но раз уж пришли, это в какой-то мере вас извиняет. Слушаю вас.
— Я тогда посмеялась, когда вы спросили, собирался ли он на мне жениться! А ведь собирался, если не врал! Дружка даже своего приводил, знакомил со мной, как с невестой…
Еще раз про себя Осокин оценил проницательность Русанова. Как в воду глядел. Гладышеву спросил как бы между прочим:
— Это какого же дружка? Гостя своего, что ли?
— Его самого! Скулана!
Осокин чуть было не ахнул. Едва сдержался от какой-либо реакции.
Гладышева продолжала:
— Того самого, чей портрет воссоздавали… Жулик, говорят, очень крупный!
— Как вы сами думаете, серьезно он хотел на вас жениться, или прикидывался?
— Говорил, что, как только разведется с Лизаветой, тут же и поженимся!
— Когда же он вам такое предложение сформулировал?
— Весной!.
— До приезда своего гостя или в то время, когда дружок у него уже гостил?
— Гостил уже! Из-за этого гостя у них и раздор шел с Лизаветой. А он мне жалился, вот, говорил, стерва на мою голову, я и друга принять не смей, и во всем хочет верх дома держать… С тем и за письмом подкатился! Я на развод подам, она, говорит, на стену от злости полезет, тут я ей письмами рот заткну! А я ему, идиотка, после всего цветы в больницу принесла!
— Да уж, похвалиться нечем, Клавдия Ивановна. Цветы я те видел. Он их при мне в окно выбросил…
— Это почему же в окно? — растерянно спросила Гладышева.
Заело ее такое пренебрежение.
— Вас от следствия хотел скрыть… А впрочем, кто его знает? Чудо вас спасло. Клавдия Ивановна, от больших неприятностей. Вы даже не представляете себе, от каких неприятностей. Очень хорошо, что вы пришли ко мне и рассказали правду. Это проясняет историю с анонимными письмами и еще кое-что… А теперь попытайтесь припомнить, что происходило у вас, когда он приводил к вам своего дружка. Один раз или несколько?
— Один раз! Перед самым его отъездом. Лизавета выгнала этого дружка из дома, так вот проводы у меня были…
— Клавдия Ивановна, прошу вас, на этот раз говорите только правду. Раньше, до этих проводов, он что-нибудь вам рассказывал о своем дружке?
— Говорил… Вот приехал фронтовой друг, надо бы устроить на работу, а жить ему негде. Интересовался, не могла бы я подыскать ему квартиру в Озерницке. Но потом сказал, что не надо искать квартиры, его друг не нашел подходящей работы.
— Он его как-нибудь вам представлял?
— Фамилии не помню, а называл его Сергеем, мне представил Сергеем Сергеевичем…
— Проводы были с водкой?
— Я этого друга трезвым и в Сорочинке никогда не видела. С водкой, о закуске я позаботилась.
— Ну и как они потом повели себя?
— Напились! А как еще? Нет молодца сильнее винца. До утра посидели… Потом уже всякую несуразицу бормотать начали, то ссорились, то мирились. Но о воровских делах разговора не было…
— Охрименко не вор! Это точно! А что за причина ссоры?
— Смешно… Сергей Сергеевич его раза два почему-то Федором назвал, а Прохор разозлился! Тебе, говорит, приятно будет, если я тебя буду Скуланом называть? Тот вскочил и бутылкой замахнулся. Я их еще мирила. Тебя, говорю, Прохор, попутали с кем-то, а ты своего друга нехорошо обзываешь! А Сергей Сергеевич и говорит: «Был у меня на фронте друг, сердечный друг, я с ним горе мыкал, а теперь вот тоскую и все мне кажется, что он около меня. А Скуланом меня с детства дразнили, как услышу от кого, так тянет голову проломить…»
— До утра о многом можно переговорить… Фронтовые друзья. Быть может, вспоминали о фронтовых делах?
— Нет! О фронтовых делах не вспоминали. Прохор больше Лизавету ругал, а тот все про каких-то ашхабадцев толковал. Я не очень-то прислушивалась, не было интересу…
— Может быть, родных вспоминали?
Клавдия Ивановна задумалась. Потом неуверенно сказала:
— Что-то говорили… Сергей Сергеевич обижался… Прохора упрекнул, вот, мол, у моей сестры тебе был дом родной, а твои где? Твои что чужие! Это он про Лизавету, наверное… Будто бы и все.
— И все про родных?
— Будто бы и все…
— Сколько раз он назвал его Скуланом, не припомните?
— Один раз, что же дразниться-то! А прозвище точное…
— Теперь, Клавдия Ивановна, еще раз я попрошу вас поднапрячь память! Не было у них разговора, куда собрался ехать Сергей Сергеевич?
— В Москву! Он еще обижался, что Прохор не хочет его проводить. С билетами трудно. Так Прохор его к Жердеву отправил! Проводник, раньше на фабрике работал вахтером…
— Теперь, — сказал Осокин, — нам надо, Клавдия Ивановна, все, о чем вы мне здесь рассказали, очень подробно, ничего не упуская, записать в протокол. Так что я вас задержу недолго. Вам надо на работу?
— Надо бы!
— Мы договоримся с директором фабрики!
— Что же мне-то теперь будет, какое наказание?
— Думаю, что все обойдется. Возможно, еще вызовут в суд и спросят, как написала то подлое письмо. Ну что ж! Придется перетерпеть! А пришли вы рассказать правду вовремя.
22
И снова Осокин у Русанова.
— Иван Петрович, — объявил он с порога, — вы как в воду глядели! Первая ласточка — и к нам в сумку.
— Читайте протокол! — подстегнул Русанов. Все внимательно выслушал и тут же строго распорядился: — Готовьте вызов на Ахрещука и Михайличенко. Это — первое. Второе: составьте информацию на имя полковника Корнеева. Выпишите повестку партизанскому деду из Ренидовщины. Когда все это сделаете, готовьтесь к командировке в Подольский архив.
Осокин встал, но уходить не спешил. Ему не терпелось порассуждать. Как бы между прочим, он заметил:
— С анонимными письмами теперь все ясно!
Русанов улыбнулся.
— Бог с ними, с анонимными письмами. Главное — из-за чего он убил жену теперь понятно.
— Что вы имеете в виду?
— Свою личную убежденность в том, что этот Скулан, по пьянке, мог свободно и при Елизавете Петровне назвать ее мужа Федором, да, может быть, и не один раз… Возможно, что-нибудь проскочило и еще. Оттого в их доме обстановка и накалилась… Он поспешил с разводом и с анонимными письмами. Она в самый разгар их ссоры пригрозила на него донести. Вот и загремели выстрелы, ему ничего другого не оставалось! Некогда было даже подумать, как бы все это провести осторожнее. В общем, Виталий Серафимович, действуйте!
Полковник Корнеев прореагировал на сообщение Осокина оперативно. Прошло несколько дней, и он прибыл в Озерницк вместе с Ларионом Евсеевичем. Вначале собрались в кабинете у Русанова. Показали Корнееву фоторобот Скулана — Фогта и фотокарточку Черкашина, только что поступившую из Ашхабада. Совпадение личности уже никаких сомнений не вызывало.
Провели и первое опознание. Пригласили Евсеича с понятыми. Когда Осокин разложил перед ними свою очередную серию фотографий разных мужчин примерно одного возраста, едва взглянув на них, Евсеич тут же уверенно ткнул пальцем в фотографию Черкашина и выпалил:
— Этот — главная их паскуда! Немец — Вильгельм Фогт. Гонялись мы долго за ним, да утек проклятущий.
Когда все формальности с опознанием были закончены, Корнеев объявил:
— Есть новость! Ваш Черкашин к хищениям на базе в Ашхабаде оказался непричастен, но скрылся, как только начались аресты жуликов. Возник вопрос: почему сбежал? А здесь, как я вижу, готов и ответ. Вспугнули не Черкашина, а Фогта…
— Я все же еще не теряю надежды услышать от Зя-пина, где Фогт прячется, — высказался Осокин.
— Он, может быть, и не знает этого, — заметил Корнеев. — Во всяком случае, твердой уверенности на этот счет у меня нет.
Встречу с Зяпиным отложили на день, до того, как в Озерницк прибыли под конвоем лагерники Ахрещук, Михайличенко и Пельц.
Тогда только Осокин и вызвал Зяпина снова, получив возможность лишний раз удостовериться, что его подследственный весьма не прост и мастерски владеет перевоплощением.
Зяпину оказалось вполне достаточно считанной минуты, чтобы в присутствующем на допросе Корнееве сразу угадать чекиста, хотя тот и был в штатском.
— Вот и подмога прискакала! — молвил он довольно развязно. — Чека мною заинтересовалась? Это вы напрасно, гражданин следователь, подтягиваете тяжелую артиллерию бить по воробью! Серьезных людей ввели в заблуждение!
— Полковнику Корнееву было любопытно, Зяпин, на вас взглянуть! — пояснил Осокин.
— Ай, ай, гражданин следователь! Я же вам заявил вполне официально, что я никакой не Зяпин, а Прохор Акимович Охрименко! Умные люди давно бы меня в расход пустили, а вы попусту государственные денежки на командировках прокатываете!
Подследственный снова разыгрывал простачка. В этом уличать Зяпина было бесполезно, и Осокин прервал его.
— Перейдем ближе к делу. Обещал провести с вами кое-какие очные ставки. Надеюсь, вы не против.
— Интересно самому.
— Вот и отлично. Пожалуйста, — обратился Осокин к дежурному выводному, — пригласите первым старичка.
Пригласили Евсеича. Он явился при параде. На лацкане отутюженного старенького пиджачка — боевые партизанские награды. На носу очки в металлической оправе.
Зяпин взглянул на него и усмехнулся:
— Откуда вы взяли, гражданин следователь, это чучело? Я в жизни этого инвалида не видывал!
Осокин одернул его:
— Предупреждаю вас, обвиняемый, что на очной ставке вы обязаны вести себя прилично!
— Или что? Карцер? Мне все едино, что карцер, что девять грамм свинца! Сказано уже!
— Пусть побрешет! — снисходительно молвил Евсеич. — Когда кусал, не лаял!
— Итак, — начал Осокин, — свидетель Рядинских, хотелось бы от вас услышать, кто сидит перед вами?
— Кликали его Федором Зяпиным, а служил он во время войны в войсках СС и числился у них цугвахманом. Не таким я его видывал! Воображал тогда себя ястребком, а ныне всего лишь бесхвостая ворона.
— Почему же бесхвостая? — поинтересовался Зяпин.
— Коли ворона перья с хвоста потеряла, то либо у нее их выщипали, либо нутром сильно захворала, верный признак, что скоро ей подохнуть!
Зяпин приподнял руку.
— Разрешите обратиться, гражданин следователь?
— Обращайтесь! — разрешил Осокин.
— Я прошу вас призвать к порядку этого гражданина. Я не хочу выслушивать от него оскорбления.
— Нет, послушай! — взвился Евсеич. — Кто нашу деревню Ренидовщину подпалил, а жителей с детишками на мороз выгнал? Это ты, вражина, со своими вахманами и полицаями. Век не забыть этого!
Тут вмешался полковник Корнеев.
— Уважаемый Ларион Евсеевич, в том, что гражданин этот — Федор Зяпин, не ошибаетесь?
— Лопнут мои глаза, если что не так!
Поднажал на обвиняемого и Осокин.
— Слышали? Что скажете теперь?
— Скажу, что у свидетеля от старости в голове остался один сор. Вот и плетет что вздумается. Я не Федор, а Прохор, и не Зяпин, а Охрименко.
Евсеич от возмущения даже руками всплеснул:
— Да тому Прошке я сызмальства, по-соседски, за мелкую шкоду шлепока давал, и не раз. Он вырос на глазах у меня и был не чета этому. Замучили его немцы… Да и схоронил я его вот этими руками…
— Значит, на своих показаниях настаиваете?
— А то как же!
— А вы?
— Я тоже.
— Вот и подведем черту. Остаетесь оба, так сказать, «при своих».
Евсеича отпустили.
Уловив на себе пристальный взгляд полковника Корнеева, Зяпин не преминул тут же поинтересоваться:
— Что это вы, гражданин чекист, узрели во мне такого особенного? Я как и все, с ногами, с руками…
— Согласился бы, но сожалею, что не могу этого сделать. На вас клеймо предателя, и его вот так, запросто, не стереть. Впрочем, я уверен, что вашему запирательству скоро придет конец.
— Аль пытать собрались?
— Это фашисты пытали. Надеюсь, что заговорит ваша совесть.
— Сказать все можно! Вы, гражданин начальник, воевали?
— Нет, не воевал, возрастом не вышел!
— А вот я воевал, с первого дня, как только немцы переступили границу.
— В какой части, если не секрет?
— Про то в моем личном деле достаточно написано! Спросите у моего следователя. Надо думать, что он даст его вам почитать.
— Уже читал. Да только дело это завели в военкомате не на вас, а на Прохора Охрименко. Вот ведь какая петрушка получается. Вы не он, а он не вы.
— Пустое, все это доказать еще надо!
— Напрасно надеетесь на что-то. Свидетелей против вас хватает.
— Поживем — увидим! — не сдавался Зяпин. Тут завели к ним первого вахмана. То был Ахрещук.
Зяпин скосил на него глаза и с недоброй усмешкой поприветствовал:.
— Здорово, земляк! Не ждал, а вот и свиделись. Думал ли ты раньше, что твоя служба у фрицев обойдется тебе боком? Не-ет, не думал.
Ахрещук чуть было попятился к двери и жалостливо взглянул на присутствующих.
— Чего робеете?! Держитесь смелей! — подбодрил его Корнеев. — Он теперь не страшен никому.
Ахрещук будто ожил и сделал шаг вперед:
— Не узнал я вас, гражданин подполковник. Сколько лет ведь прошло с тех пор, как вы взяли меня…
— Не подполковник, а полковник я уже! — поправил его Корнеев и, обернувшись к Осокину, добавил: — Между прочим, когда пришли за ним, так он за топор схватился, а тут вдруг чего-то струсил.
— И крысу ежели в угол загнать, она огрызается! — оправдываясь, сказал Ахрещук. — Это я крыса, а он совсем даже не крыса, волк о двух ногах. Я по трусости и от безысходства к фрицам подался, а он, видать, по убеждению.
— Жук ты навозный, а не крыса! — отозвался Зяпин.
Осокин остановил перепалку.
— Обменялись комплиментами, хватит. Свидетель, вопрос к вам. Вы знаете человека, который вам предъявлен?
— Да.
— Кто же он?
— Наш цугвахман Федор Зяпин.
— Не ошибаетесь?
— Истинную правду говорю, чтоб мне провалиться на этом месте.
— Он ваш земляк?
— Пришлый. Объявился у нас только в войну, а ранее и духу его не было.
— Обвиняемый, слово теперь за вами. Что он сказал, подтверждаете?
— Врет и не краснеет!
— Значит, нет. Так и запишем.
Потом Зяпину была дана очная ставка с бывшим вахманом Михайличенко. Выведенный из себя вкрадчивым его перечислением многих совместных акций вахманов и полицаев против партизан и мирных жителей, Зяпин под конец этой очной ставки сорвался и заорал:
— Паскуда волосатая! Задавил бы тебя своими руками!
Не лучшим образом прошла и очная ставка его с бывшим вахманом Пельцем. И этот свидетель не пощадил Зяпина, даже не отказал себе в удовольствии позлорадствовать:
— Если тебя в расход не пустят, то считай повезло!
Да, полковник Корнеев угадал. Зяпина никто из его бывших подчиненных выгораживать не собирался. Они даже обрадовались его аресту. В волчьей стае слабых не щадят.
В тот памятный день Зяпину была дана еще одна очная ставка — с его бывшей приятельницей Гладышевой.
— А ты еще как сюда попала? — перекосился Зяпин, увидев ее. — Гражданин следователь, получается некрасиво! Сначала привели сюда старого придурка, потом фашистских прихвостней, а теперь еще и эту фабричную шлюху.
— Зачем так оскорбляете женщину, да еще ту, с которой были близки?
Попыталась что-то сказать Зяпину и сама Гладышева, но Осокин остановил ее:
— Клавдия Ивановна, повремените! Лучше скажите, с кем он приходил к вам домой?
Она ответила сразу:
— Однажды он пришел не один, а с каким-то своим дружком, что тогда гостил у него.
Тут Осокин предъявил ей фотографию Черкащина — Фогта — Скулана.
— С ним?
— Да, с этим.
— Чем-то этот человек вас поразил?
— Он почему-то назвал его вдруг Федором.
— Может, оговорился?
— Не думаю, правда, за бутылкой, но назвал уверенно.
— Обвиняемый, что скажете на это?
— Скажу, что и она все врет! Бывал я у нее всегда один, а при свидетелях мне там делать было нечего.
— А мне можно задать ему вопрос? — робко поинтересовалась Гладышева.
— Задавайте! — разрешил Осокин, и Гладышева спросила:
— За что вы свою жену убили?
— Дура, на тебе жениться хотел! — ответил Зяпин и в свою очередь обратился к Осокину: — Мне надоела эта комедия, я устал, отправьте меня в камеру.
— Будет по-вашему, — согласился Осокин.
Гладышеву отпустили.
Однако перед тем как увести подследственного в камеру, полковник Корнеев обратился к нему со следующими словами:
— Советую вам все хорошо обдумать и прекратить никому не нужное запирательство. Вы Федор Зяпин, а не Прохор Охрименко, это и слепому ясно. Вам, Зяпин, нетрудно также понять и то, что обнаружился след другого преступника, фашиста Вильгельма Фогта. И мы от вас ждем помощи, а не противодействия.
Зяпин поднял глаза на Корнеева, что-то было хотел сказать, но смолчал.
На другой день, с утра, к Осокину в копилку доказательств обвинения легли еще три факта: опознание личности мнимого Черкащина теми же «зеками» Ахрещуком, Михайличенко и Пельцем. Процедура опознания была все та же: фотография Черкащина, предъявленная в числе других, понятые… И троица в один голос признала: это никакой не Черкашин, а их старый знакомец, группенвахман Вильгельм Фогт, он же Скулан.
Теперь Зяпину уже отвертеться ни от чего не представлялось возможным.
— Как вы думаете: заговорит он или нет? — спросил Осокин у Корнеева, когда они возвращались в прокуратуру.
— В вопросе о розыске Фогта это уже имеет чисто академический интерес. Конечно, без него искать Фогта сложнее, но задача значительно облегчена: мы хорошо знаем, под какой фамилией он скрывается и как он выглядит.
Готовясь к новой встрече с подследственным, Осокин больше не сомневался в том, что Зяпину уже деваться некуда, он все расскажет. Но потом подумал, что все равно это уже от него не уйдет никуда, и прежде решил съездить в Подольск. Там разместился Центральный архив Министерства обороны СССР, где Осокин и надеялся еще найти личное дело на бывшего старшего лейтенанта Охрименко Прохора Акимовича. Не оставляла его и другая дерзостная мысль: заодно попытаться там же разыскать и дело самого Федора Зяпина, хотя надежд на это почти не было никаких. Кроме имени, фамилии и возраста Зяпина, к тому же определенного на глаз, Осокин ничего более сказать о нем не мог.
Принимал Осокина в Подольске старший референт архива, человек пожилой, сохранивший военную выправку, очевидно в прошлом кадровый офицер. Он со вниманием его выслушал, все записал, но на успех не обнадежил.
Во время войны многие документы, в том числе и личные дела значительного числа военнослужащих, были безвозвратно утрачены. Могло пропасть и дело Прохора Охрименко. На Федора Зяпина, как этого и следовало ожидать, референт от каких-либо розысков стал решительно отказываться, но Осокин проявил завидное упорство и настоял на своем.
В ожидании каких-либо результатов прошли два дня. Осокин провел их, отсиживаясь в номере местной гостиницы. Делать ничего не хотелось. Совершенно его не тянуло и на улицу. Зато третий день, с раннего утра, был наконец-то ознаменован удачей: личное дело Прохора Охрименко нашлось-таки! Все совпало: и год его рождения, и место рождения — деревня Ренидовщина, и сведения о родителях… Он числился пропавшим без вести с лета 1943 года, после того как не вернулся с особого задания. А вот и его фотография: симпатичный молодой человек, в гимнастерке, стянутой ремнями портупеи, с лейтенантскими двумя «кубарями» в петличках. Надо полагать, что снимался вскоре после выпуска из Тульского пехотного училища. Широкие брови вразлет, приметная ямочка на подбородке отмечали волевой характер.
Вскоре тот же референт, несмотря на свои сомнения, где-то раскопал и дело на другого старшего лейтенанта — Зяпина Федора Илларионовича. Это дело в зеленой папке он торжествующе вручил Осокину со словами:
— С вас, кажется, причитается!
Да только радость обоих оказалась преждевременной. Этот старший лейтенант ничего общего с подследственным Осокина не имел.
На фотографии был запечатлен совершенно другой человек: совсем еще молодое лицо, по-мужски красивое и мужественное, с большими глазами, открытым взглядом. Правда, невозможно было определить ни цвета глаз, ни оттенка волос, но почему-то он представился Осокину блондином с голубыми глазами.
Из документов его дела было видно, что за год до начала Великой Отечественной войны в Москве он окончил Военно-артиллерийскую академию, после чего его направили служить в Белорусский военный округ.
Отец этого Зяпина — участник гражданской войны, командовал полком в знаменитой дивизии Азина, погиб в 1921 году в боях с белополяками. По происхождению донской казак, за плечами у него русско-японская война и империалистическая.
Сохранилась и пожелтевшая от времени справка: 28 июля 1941 года старший лейтенант Зяпин Ф. И. в пограничных боях пропал без вести, о чем было послано извещение его матери в станицу Клетская на Дону.
Надежда отыскать другого Федора Зяпина отпала. Референт клятвенно заверил, что тщательно просмотрел все списки наших потерь за июнь — июль 1941 года, но никакой подходящей кандидатуры больше не обнаружил.
Тут Осокина вдруг и осенила новая догадка: что, если тот офицер, чье дело они ищут, служил вот с этим Зяпиным вместе, в одной части, попал с ним в один и тот же день в какую-то передрягу, а после, как и в случае с Прохором Охрименко, почему-то предпочел выдавать себя за Федора Зяпина. Предположение не из оригинальных, но вполне допустимое. Тогда он и Зяпин обязательно должны были пройти по одному списку убитых или без вести пропавших за 28 число июля 1941 года.
Удивительное везение! Референт не мешкая отправился на новые поиски и очень скоро торжественно вручил Осокину новое офицерское дело — на некоего лейтенанта Турьева Авенира Дмитриевича. Выяснилось, что в уже известном ему списке военнослужащих, без вести пропавших 28 июля 1941 года, других младших офицеров, кроме Зяпина и Турьева, не было.
Дальнейшее происходило так: Осокин отвернул обложку, извлек из внутреннего кармашка фотографию лейтенанта, взглянул и…оторопь взяла, догадка оправдалась! То был действительно его подследственный, только моложе лет на тридцать, такой же с виду угрюмый, с презрительно поджатыми губами.
Авенир Турьев родился в Петрограде в 1917 году, в семье морского офицера. Его отец, Турьев Дмитрий Сергеевич, командовал крепостной батареей в Кронштадте, дед, Турьев Сергей Алексеевич, до революции был генералом, участником русско-турецкой кампании, русско-японской войны. После ранения в Порт-Артуре он уже в строй не возвратился. Однако во время гражданской войны предпочел служить в войсках Деникина и погиб в боях с красными под Орлом. Это обстоятельство, зафиксированное в одной из справок, кем-то жирно подчеркнуто цветным карандашом. В собственноручно написанной автобиографии сам Авенир Турьев еще указал, что его отец и дед после Октября разошлись во взглядах. Отец встал на сторону восставших моряков и в гражданскую войну сражался на стороне Советов. После войны преподавал в Ленинградском военно-артиллерийском училище. Мать Авенира Турьева носила девичью фамилию Аршак, звали ее Зоя Петровна, происходила она из семьи крупных землевладельцев, но не дворян. Это тоже привлекло чье-то пристальное внимание. Об этом можно было судить по результатам спецпроверки. Выходило, что дед Авенира Турьева по материнской линии, Аршак Петр Георгиевич, в молодости ходил пастухом по Таврии. Потом вдруг, во время столыпинских реформ, купил у полтавской помещицы имение и занялся сельским хозяйством, превратив поместье в доходную «экономию». Накануне революции считался весьма состоятельным человеком, в годы гражданской войны, после разгрома Деникина, подался в Новороссийск и бесследно исчез. У матери Авенира Турьева имелся и старший брат. Он при Советской власти Долгое время работал шофером, умер накануне войны.
Что еще можно было почерпнуть из дела Авенира Турьева?
Пошел в школу на год раньше своих сверстников, закончил десятый класс в семнадцать лет. Возраст не призывной. Сдал экзамены, поступил учиться на математический факультет Ленинградского университета. Там Же приобрел военную специальность и был аттестован младшим лейтенантом. В марте 1941 года его призвали в армию, служил в Белорусском военном округе. Как и в деле Зяпина, все завершила справка о том, что лейтенант Турьев А. Д. пропал 28 июля 1941 года без вести, о чем было послано извещение его родителям. Упоминался и их домашний адрес в Ленинграде.
Вот к каким неожиданным, новым результатам привела Осокина эта поездка в Подольск.
Дела на младших офицеров Прохора Охрименко, Федора Зяпина и Авенира Турьева из архива Осокин временно изъял для снятия копий.
Теперь ему ничего другого не оставалось, как только съездить и в Ленинград, к родителям Авенира Турьева. Живы ли они? Что с ними сталось в блокадные годы, да и потом?
24
Поезд в Ленинград пришел в восемь часов утра. Стояла пасмурная погода, моросил дождь, подхваченные ветром, по Неве мчались кудрявые барашки, и волны хлестко ударяли о гранитные берега. Осокин посидел в кафе, дождался, пока в государственных учреждениях начался рабочий день, и тогда обратился в городское центральное адресное бюро.
Ждать ответа на запрос пришлось недолго. Адрес Турьевых подтвердился. Это была еще одна сверхудача.
Петроградская сторона. Речушка Карповка. Большой шестиэтажный жилой дом довоенной постройки на углу Кировского проспекта и Песочной улицы, облицованный белым кафелем. В просторном подъезде полумрак. На лестничных площадках витражные окна.
Осокин поднялся в лифте на пятый этаж, отыскал на дверях квартиры двенадцать в списке жильцов фамилию Турьев и трижды нажал на кнопку звонка, как то и было предписано.
Долгая тишина. Затем шаркающие шаги, дверь приоткрылась на цепочке.
— Зоя Петровна? — спросил Осокин.
Звякнула цепочка, открылась дверь, в прихожей зажглась лампочка. Перед ним пожилая седая женщина Она выжидательно смотрела на посетителя.
— Зоя Петровна, мне надо с вами поговорить кое-что уточнить из прошлого… — объяснил Осокин.
Повторилась ситуация, как и с Евсеичем. Он еще не успел сказать, что из прокуратуры, как она поспешила сама определить:
— Ах, вы из газеты! Пожалуйста! Но у меня не прибрано… Вы извините меня за маленький беспорядок.
Она сама облегчила ему вступление в разговор, но все же тревожило некое чувство неудобства, однако назваться еще оставалась возможность.
Квартира большая, на несколько семей. Зоя Петровна вела его по длинному коридору и поясняла:
— У нас с мужем было две комнаты. Я долго держала вторую комнату, надеялась, что вернется сын… Ведь многие возвращались. Прошло двадцать лет… Отдала комнату соседям, у них трое детей… Мне уже ничего не нужно! Жизнь моя остановилась с того дня, как пришло извещение, что убит муж…
У двери Зоя Петровна предостерегающе подняла руку.
— Пусть вас ничто не смущает… Вы знаете, что я оставила все так, как будто бы они живы. Они всегда со мной, и я не могу от них отказаться!
Большая комната, два огромных окна и угловое в эркере. Окна заставлены разросшимися филодендронами, которые все заслонили своими крупными листьями.
На резных дубовых ногах раздвижной стол. В том же стиле письменный стол, затянутый зеленым сукном. Поверх сукна — стекло, под стеклом какие-то бумаги, на столе несколько фотографий на подставках, у одной стены пианино, прикрытое полотняным чехлом, на свободном простенке две картины, несколько фотографий. В правом углу на кушетке свернулась калачиком кошка.
На столе холодный кофейник, чашка с остатками кофе, начатый батон белого хлеба. Это то, что хозяйка посчитала «неубранным».
Зоя Петровна усадила Осокина в кресло у письменного стола, села рядом и спросила:
— Кто вас интересует: отец или сын?
«Ну, здесь не придется задавать вопросы», — решил про себя Осокин. Явно не впервые ей приходилось рассказывать о своих, и по наитию ответил:
— Дед меня интересует — Турьев Сергей Алексеевич, царский генерал.
— Так далеко! — отозвалась Зоя Петровна. — Только однажды им поинтересовались. Я мало что могу рассказать. Лишь помню, что это был милейший человек. Умница, отважный. И он же наше злосчастье! Как мне вас величать, молодой человек?
— Виталий Серафимович.
— Так откуда же вы, Виталий Серафимович?
— Из прокуратуры, Зоя Петровна!
Она с удивлением проговорила:
— Странно, чего это вдруг кого-то заинтересовала столь давняя история?
— Бывает и такое, — уклончиво ответил Осокин.
— Что мой свекор в революцию был у Деникина, вы, надеюсь, в курсе?
— Это я знаю. Тех лет не вернуть, только теперь на некоторые вещи появился новый взгляд. Вот вы сказали, что генерал ваше злосчастье. Как это понимать?
— Я сказала злосчастье только потому, что злого счастья не бывает, молодой человек! Нынешняя молодежь не в ладах с настоящим русским языком. Когда нужно сказать два, говорят — пара, когда нужно сказать пара, могут сказать два… А всякие сокращения! О них язык сломаешь! Да-да, злосчастье наше! Крест, который пришлось нашей семье нести всю жизнь. Тут, знаете ли, такой узел сплетается, никто не расплетет! Я помню, старик говорил: «Я не очень-то против социалистов, у Чернышевского есть правда в том, что увидела во сне Вера Павловна! Это и я во сне готов увидеть! Но я не понимаю, как можно быть русским и желать поражения в войне своим же русским… Это же десятки тысяч жизней русских людей!»
Осокин не удержался и возразил:
— Войну с Японией начали не социалисты, а русский царь!
— Виталий Серафимович! Поверите, я чуть было не оглохла от этих споров. Мой муж кричал отцу, что русские солдаты гибли по царской тупости. Зачем нам Порт-Артур?! А старик отвечал: «За Порт-Артур русские люди головы клали, так теперь и отдать?»
Нахлынувшие воспоминания явно растревожили ее. Зоя Петровна вздохнула и достала из рукава кружевной платочек с вензелями. На глазах у нее стояли слезы, она приготовилась их смахнуть, но остановилась. Голос ее дрогнул.
Не хотелось ей задавать такой вопрос после всего этого, но Осокину ничего другого не оставалось, и он спросил:
— Вашего мужа не стало давно?
Зоя Петровна отвернулась, немного помолчала и, как бы собравшись с силами, стала рассказывать:
— Мой муж, Дмитрий Сергеевич, с первого дня рвался на фронт, воевал на Брянщине, потом оказался под Сталинградом. В самые тяжелые дни обороны этого города он там командовал артиллерийским дивизионом и погиб. Но об этом я узнала значительно позже, а прежде получила извещение, что наш сын пропал без вести.
— Вот этот, что под стеклом?
— Да. Надеялась, что судьба все же смилуется над ним, но бог не внял моим молитвам. Как только сняли блокаду, получила похоронную на мужа! Здесь бомбили, рвались снаряды, люди умирали от голода… Ни один снаряд не задел меня. И бомба не разорвала. И с голоду не дали умереть, потому что работала на оборонном заводе. Каюсь, я тогда возроптала на бога и долго, много лет, не ходила в церковь. Вы, конечно, неверующий, но думаю, что поймете меня. Живу больше по инерции, зачем — и сама не знаю. Единственная радость — каждый год езжу туда, где покоится прах мужа. Имя его навеки занесено в список защитников Сталинграда, что в пантеоне воинской славы на Мамаевом кургане.
Осокин слушал ее, а в ушах в той же интонации звучали слова ее сына: «…остался совсем один…»
— Вот они, мои дорогие, любезные моему сердцу… Я с ними разговариваю, а если бы не могла с ними разговаривать, наверное, помешалась бы в уме.
Действительно, вот они. Большая фотография в рамке под стеклом офицера русской армии в морской форме. Это муж. Рядом фотография поменьше — это сын, в форме лейтенанта. Внизу размашистая надпись знакомым почерком: «Июнь 1941 года».
Всю их беседу Осокин кратко занес в протокол, который Зоя Петровна подписала безропотно, так и не поняв истинной цели визита к ней следователя из прокуратуры. Про ее сына Осокин ни слова не сказал.
25
О предстоящем своем выезде из Подольска в Ленинград по причине вновь открывшихся обстоятельств Осокин, конечно, своевременно доложил Русанову по телефону. Вот почему Русанов его встретил вопросом:
— Так что вы повидали в Ленинграде?
— Невский проспект и несколько залов Эрмитажа… — отшутился Осокин.
— Это хорошо, что всего лишь несколько залов… Значит, смотрел внимательно! На Эрмитаж надо потратить много времени…
— У меня оставалось всего лишь три свободных часа…
— А что новенького о нашем подследственном?
— Новенького — ничего! Хорошо забытое старое… Он вырос в Ленинграде, и я не сомневаюсь, что если и самому в голову не пришло, то мать, конечно же, водила его в Эрмитаж. Не мог он не видеть галереи героев Отечественной войны двенадцатого года. Я уверен, что и «Войну и мир» Льва Толстого читал… Наверно, знал он и о том, что те генералы, чьи портреты собраны в галерее, часто соперничали между собой, нелицеприятно отзывались друг о друге, подкапывались друг под друга. Беннигсен под Кутузова, насмехался над ним и Ермолов, а Барклая-де-Толли чуть ли не объявили изменником. Только все они вместе совершили великое дело, и оно осталось главным в их жизни. Мелкие хлопоты давно забыты и быльем поросли. Там были люди, которые любили и не любили царя, любили и не любили друг друга, но все они любили Россию!
— Не слишком ли высока материя для суждений об этом подонке?
— Подонок? Это слишком расплывчатое определение! Я утвердился во мнении, что это враг! Однако из сталинградского героя, каким оказался его родной отец, вывести врага никак не могу. Пример не тот, не отсюда черпал свое мировоззрение наш «деятель». Придется обратиться к классической формуле: классовая ненависть двигала им! Для меня, для моих сверстников, быть может, и для вашего поколения — это что-то очень старомодное! Но! У его деда по матери как-никак числилось в собственности двадцать тысяч десятин. Разве этого мало?
— Да, это аргумент! — согласился Русанов. — И ты готов к предстоящей схватке?
— Думаю, что ее не будет.
— Это как же?
— Мой подследственный уже обложен со всех сторон настолько основательно, что сам поймет: дальнейшее противоборство ни к чему его не приведет.
— Пойдете к нему один? Может, сходить и мне с вами?
— Я думаю, что это лишь осложнит обстановку. Присутствие других он воспринимает как вызов.
— Вам, конечно, виднее! — опять согласился Русанов и не сдержал ободряющей улыбки.
Ничего еще не подозревавший подследственный с порога поинтересовался:
— Где же ваш чекист?
— Уехал! — охотно разъяснил Осокин.
— Что опять долго не были? Может, на что-то обиделись?
— Пустое. Уезжал я.
— Тогда понятно. Спрашивайте, я готов отвечать.
— Наплетете очередное вранье?
— Как знать, может, что и расскажу, — пообещал он.
Пора было переходить к существу дела, и Осокин счел возможным повторить вопрос, который уже задавал не раз.
— Вы, наконец, признаете, что никогда не были Прохором Охрименко?
Ответ был скор и краток:
— Признаю!
— А как насчет Федора Зяпина? Что скажете о нем?
Ответ и на этот вопрос не замедлил себя ждать. Очевидно, подследственный подготовил его заранее:
— Занесите в протокол, я действительно тот Федор Зяпин, который так интересует вас, большего не скажу!
Надо полагать, что подследственный этим куцым признанием рассчитывал сразу дать Осокину возможность побыстрей отделаться от него и закончить дело. Но расчет его не оправдался. Осокин на разительную перемену в поведении не отреагировал. Вместо этого он выложил на стол два офицерских личных дела — на Прохора Охрименко и на Федора Зяпина — и предложил:
— Можете с ними ознакомиться. Но хотелось бы услышать, что еще заставляет вас скрывать истину до конца?
Озадаченный этим подследственный машинально принял из рук Осокина сначала дело Прохора Охрименко, небрежно полистал его, потом вернул, затем взял дело Федора Зяпина, полистал чуть дольше и тоже вернул. Поистине он владел собой, как никто. На его лице не дрогнул ни один мускул.
— Так как же вы намерены по этому поводу объясниться?
В голосе Осокина уже прозвучали требовательные нотки. Они расшевелили подследственного, и тот огрызнулся:
— С вас достаточно и того, что я уже признал!
Дальнейшая игра в кошки-мышки показалась Осокину бессмысленной, и он произнес:
— Когда-то вы поставили условие, что все расскажете, если я назову ваше настоящее имя. Так ведь?
Подследственный нехотя кивнул.
— Вы Турьев Авенир Дмитриевич, бывший старший лейтенант, что служил в одной части с таким же старшим лейтенантом Зяпиным Федором. Нужны доказательства? Извольте. В моем портфеле лежит еще и ваше офицерское дело. Вот оно, можете полюбоваться!
С этими словами Осокин выложил перед собой на стол и это дело, на обложке которого печатными буквами четко было выведено: «Турьев Авенир Дмитриевич». К этому Осокин добавил и самое главное для него:
— Я побывал и у вас дома, в Ленинграде!
Совершенно не ожидавший этого, Турьев вскочил, тут же сел, едва выдавил из себя:
— Моя мать жива?
— Жива, жива, успокойтесь. Поверьте, я оценил ее мужество, ее высокий характер и ни слова не сказал о вас… Это ее убило бы! Это было бы крушением всей ее жизни, а ей, быть может, не так-то и много осталось. Семьдесят восемь лет, она одинока и живет лишь своими воспоминаниями. Судьба вашего отца вам известна?
Окончательно сбросив притворство, Турьев произнес:
— Известна!
У Осокина готов был сорваться вопрос: «Каким же образом вы о ней узнали?» — но он сдержался. Авенир Турьев мог сказать, что и неизвестна.
— Почему, гражданин следователь, вы не спросили, как я это узнал?
— Если захотите сказать, вы скажете и без моего вопроса, а не захотите, мой вопрос — напрасен!
— Ваша правда! Так знайте, после войны я тоже побывал в Ленинграде, да только зайти к себе не решился. Ведь я уже был Федором Зяпиным, этого не объяснишь. Покрутился возле нашего дома, глянул на освещенные окна квартиры, где жил, забежал в дворницкую. Там от дворника, человека нового, который меня не знал, и допытался, что отец с войны не вернулся.
— Вам не позавидуешь, — констатировал Осокин.
После этих слов он достал протокол допроса матери Турьева и протянул ему:
— Разрешаю, читайте!
Турьев читал и менялся в лице.
Оказывается, что он был не настолько уж непробиваем. Задрожали и скривились губы, весь он как-то пригорбился и сник. Осокину даже показалось, что вот-вот у него появятся на глазах слезы, но он переборол себя. Прочел протокол один раз, потом перечитал снова.
— Значит, в Сталинграде погиб отец! — сдавленным голосом проговорил он. — Не знал, не знал я этого. Никогда мне в голову не могло прийти, что в Сталинграде, на Мамаевом кургане, вдруг может в списке героев отыскаться и его имя.
— А ведь в этом странного нет. Ваш отец проявил себя геройски и во время гражданской войны, в Кронштадте. Не пойму только одного — как его сын встал на путь предательства, чем это разобидела его Советская власть.
— С этим все просто. Мой год рождения, надеюсь, вы помните?
— Помню, семнадцатый!
— Так вот. Уродись бы я годом-другим раньше, жил бы в собственном особняке, а не в коммунальной квартире и достаток бы имел как барон какой-то или граф. В революцию все мы потеряли, а с немцами пришла и надежда… Теперь понятно?
— Чего уж тут не понять! Только почему вы свою фамилию Турьева на Зяпина сменили? Побоялись выступить с открытым забралом?
— Угадали. К этому я мог вернуться всегда, а так опасался, что в случае неуспеха ни за что пострадают мои родители.
— Что сталось с Федором Зяпиным?
— Был он командиром нашего дивизиона. В памятный день 28 июля 1941 года мы оба попали к немцам в плен, где Зяпин через день и скончался от полученных ран. Я тоже был слегка ранен осколком в правое бедро. За неделю все зажило как на собаке.
— Теперь расскажите, за что убили свою жену?
— Проклятый Скулан тому виной. Навязался на мою голову ворюга, прикатив незванным.
— Выяснилось, что он к той воровской шайке не причастен. Сбежал из Ашхабада только потому, что испугался возможной проверки его органами следствия.
— Я не о том! Эта скотина оговаривалась несколько раз, не столько у Гладышевой, сколько у меня дома. Все по старой привычке величал меня Федором. Моя Лизавета и обратила на это внимание. Прицепилась с расспросами, шуганул я ее, она не уймется, говорит: «Твой дружок настоящий бандюга, и ты, верно, того же поля ягода!»
Вот и надумал я от нее избавиться, да так, чтобы люди мою сторону держали. Подвернулся удобный случай — ей путевку дали. Разыграл свое возмущение тем, что едет в Сочи одна, придумал историю с письмами. Остальное знаете сами.
— Знаю, да не все! Хотелось бы еще услышать от вас, за что вы обозвали свою жену «лягавой», почему довели дело до ее убийства?
— Меня черт попутал! Пьяный был, а она сказала, что сообщит обо мне куда следует, вот и не в меру разъярился. Пистолет всегда держал при себе. Сначала стал стрелять, а как опомнился, то давать задний ход было поздно. Верьте, хотел и сам застрелиться, да смалодушничал… вижу, что зря. От судьбы не уйдешь.
— Авенир Дмитриевич! Не хочу лишний раз совестить, а ведь то, что вы отказываетесь помочь нам, отнюдь не красит вас.
— Вы о Фогте?
— О нем, о Скулане. Он должен понести наказание по всей строгости закона, и это вполне заслужил. Разве я не прав?
— Хорошо! — принял Турьев решение. — Вы для меня сделали большое дело, принесли свежую весточку о матери. Я не останусь в долгу. Пишите, он скрывается у своей родной сестры — Амальки, в Воронеже. Могу показать и ее дом. В этом доме мы с Вильгельмом уже отсиживались.
26
Осокин из тюрьмы не очень-то спешил к Русанову. Дело завершено, казалось бы, вздохнуть с облегчением, но он облегчения не испытал. Тяжким бременем легли на душу и распад личности, и ужас, который внушала жизнь этого человека, жизнь, загубленная им же самим, жизнь, уничтожающая все живое, с чем бы она ни соприкасалась.
— Что случилось? — обеспокоенно воскликнул Русанов, когда взглянул на Осокина, вошедшего к нему в кабинет, — Ваши ожидания не оправдались?
Осокин молча положил на стол Русанову протокол допроса. Русанов окинул беглым взглядом первые страницы протокола и заглянул в конец. Прочитал показания о местонахождении Фогта и спросил:
— Не верите про Фогта?
Осокин отрицательно покачал головой.
— Этого я не знаю… Думаю, что он сказал правду. Гнусно на душе. В глазах стоит какая-то зловонная яма, и в ней шевелятся ядовитые гады…
— Да, — согласился сочувственно Русанов, — это не клумба с розами. Не раз еще придется заглянуть в такие ямы. Но утешать не стану, плохо, если обвыкнете и душа зарастет равнодушием. Равнодушие в нашей профессии тяжелая болезнь…
Русанов положил руку на протокол.
— Итак, Воронеж! Не выводит ли Турьев на новый виток игру? Это я к тому, чтобы вас насторожить. Надо быть очень внимательным, Виталий Серафимович, при его этапировании.
Воронеж встретил прибывших ненастьем. Летом дождь во благо, но не такой уж по-осеннему неотвязный.
Корнеев позаботился по линии своего ведомства, чтобы Осокину оказали всяческое содействие в задержании опасного преступника.
С утра Осокин, Турьев и два оперативных работника выехали на новеньком «уазике» на окраину города, туда, где улицы круто спускались к реке.
Медленно объезжали улицу за улицей. Турьев просил иные улицы объехать по два, по три раза.
Осокин уже было начал сомневаться — может быть, прав Русанов, и вдруг Турьев прошептал:
— Здесь!
Машина ехала, проваливаясь по ступицы в ямы на дороге. Водителю пришлось включить передний мост.
По сторонам обветшалые домики старого Воронежа. Улица уходила вниз, невдалеке сверкнула лента реки, и открылась лодочная пристань. У мокрых мостков привязаны залитые водой лодки.
— Вот и дом… Зеленый забор…
Домик ничем не выделялся из ряда других, с мансардой. Турьев разъяснил, что там комната. Обзор оттуда на две стороны.
Из-за зеленого забора раздался басистый лай, но достаточно ленивый. Видимо, машины по этой улице ездили редко. Осокин даже заметил, что появлялись в окнах лица. Пришлось спуститься, походили возле лодок, будто их интересует пристань. Развернулись и медленно поехали назад.
Проверка через милицию подтвердила, что в этом доме живет Амалия Карловна Шилова. Вдова, пенсию получает за мужа, бухгалтера одного из местных предприятий. Муж умер пять лет назад. Дом был его, Амалии Карловне достался по наследству. Детей не было.
Турьев по памяти нарисовал план расположения комнат. Нашли план дома и в бюро по инвентаризации. Память Турьеву не изменила. В доме два выхода. Один через веранду в небольшой сад, другой — с фасада. Сени, затем дверь в кухню. Внизу две комнаты, мансарда в описание жилой площади не вошла.
Пенсия невелика. Амалия Карловна подторговывала осенью на рынке помидорами и яблоками.
Проверили жильцов соседних домов. С Амалией Карловной дружеских связей они не поддерживали. Для наблюдения за домом Амалии Карловны выбрали два дома: напротив и рядом. Жильцы охотно дали согласие.
Наблюдение установили с ночи. Пока еще никаких признаков присутствия в доме Фогта не обнаружили.
Осокин соединился по телефону с Корнеевым, тот пообещал приехать, как только установят, что Фогт на месте.
Признаки Фогта появились на второй день.
Амалия Карловна вышла утром из дому с корзиной в руках. Дождь перестал, но на улице было сыро, и она очень медленно, обходя лужу, направилась в город. В ближайшем магазине она купила водку, полкилограмма иваси, затем прошла в хлебный магазин и взяла две буханки черного хлеба и два батона белого. После этого ее видели на рынке. Там она купила довольно большой кусок мяса и так же не спеша вернулась домой.
Осокин с оперативными работниками рассудили, что покупки дороговаты для ее пенсии, а до осени далеко, ни помидоры, ни яблоки не созрели. Но если хлеб мог быть взят в запас, мясо — тоже, чтобы не выходить из дома, то водка совсем не соответствовала ее вдовьему одиночеству. Поспрашивали соседей — никто никогда не видел ее пьяной. Подтвердил и Турьев, что Амалия Карловна водки не пила.
— Он здесь! — определил Турьев.
На другой день Амалия Карловна купила еще бутылку водки. Осокин решился сообщить Корнееву, что Фогт на месте.
Прилетел Корнеев. Начались раздумья, как выманить Фогта из дома. Дома его брать опасно. Вооружен. И хорошо вооружен. Турьев помнил, что у Фогта хранились в доме сестры пулемет, несколько автоматов и ручные гранаты. Устраивать бой на всю улицу нельзя.
Полных пять суток Фогт ничем не выдал себя.
Корнеев, Осокин и воронежские оперативники решили задержать Амалию Карловну в городе, когда она пойдет за покупками. Осокин имел все законные основания допросить ее в качестве свидетельницы. При этом выстраивалась такая цепь рассуждений.
Амалия Карловна ушла в город за покупками. И не пришла. Как на это должен реагировать Фогт?
Он может предположить, что ее задержали в связи с его поисками. Возможно, даже изготовится к обороне, ожидая, что вот-вот придут за ним.
За ним не пришли.
Тогда у него возникает предположение, что с сестрой что-то случилось. Сердечный припадок, попала под машину, угодила в больницу. К ней домой придут на другой день за ее документами или за ее вещами.
В этом случае ему надо покинуть дом, пока все разъяснится. Стало быть, ночью Фогт попытается уйти.
Как он будет уходить?
С участка два выхода. Ворота и калитка на улицу и лаз в заборе на соседний участок. Через забор перелезать трудно. Слабенький, набран из колышков. Полезет через забор, так весь пролет рухнет, а это ночью шум…
Калитка и лаз. Или у калитки, или у лаза его и ждать.
Мешала собака. Подойти к калитке и лазу незаметно не даст. Надо раздразнить соседских собак, чтобы Фогт лай своей собаки отнес к общему собачьему беспокойству.
С собаками проделали эксперимент сразу же. Лай долго не умолкал. Хватило на полночи.
На другой день Амалия Карловна, как обычно, пошла в город за покупками.
Опасаясь, что у Фогта может найтись «свой» человек в городе, решили Амалию Карловну в милицию не препровождать. Когда она зашла в магазин и встала в очередь к прилавку, заведующий магазином подошел к ней и попросил пройти к нему в кабинет.
Амалия Карловна удивилась этому приглашению, но в кабинет прошла. Там ее ожидал Осокин.
Он представился и попросил ее показать паспорт.
— Да зачем же мне его носить с собой? Еще потеряешь… Я Шилова… Меня все здесь знают… Шилова я…
— И мы это знаем, Амалия Карловна. Но мы, Амалия Карловна, знаем и вашу девичью фамилию. Фогт!
— Я взяла фамилию мужа…
— И это верно, Амалия Карловна. Одно нас удивляет… Насколько нам известно, женщина вы непьющая… Водку не употребляете… Вот и решили мы поинтересоваться: для чего вы в последние пять дней купили две бутылки, и сегодня опять встали за ней в очередь?
На этот раз Амалия Карловна с ответом не спешила. Молчание затягивалось.
— Тогда я вам подскажу, Амалия Карловна, для кого вы покупали водку.
С этими словами Осокин выложил на стол фотографию Фогта.
— Вам кого-нибудь напоминает этот человек?
Амалия Карловна нацепила очки, всмотрелась в фотографию, и глаза ее увлажнились, полились слезы.
Осокин не торопил ее. Не вечно же слезам литься.
Сквозь слезы она, наконец, спросила:
— Что вам от меня нужно?
— Я вас уже спросил: вам кого-нибудь напоминает изображенный здесь человек?
Амалия Карловна вытерла глаза платочком и ответила теперь уже с твердыми нотками в голосе:
— Это мой брат, и я полагаю, что это вам известно.
— Где сейчас находится ваш брат? — спросил Осокин.
— У меня дома! — ответила Амалия Карловна без колебаний. — Я не причастна к его делам, но что я могла против брата? Да, он у меня, скрывается… Не вздумайте его брать дома! Он вооружен. Звать его на улицу тоже не стану.
— Этого мы от вас не потребуем! — пояснил Осокин, — Придется вам только побыть в городе на квартире у одного товарища…
До вечера никакого движения в доме. Свет не зажегся.
Но когда над городом воцарилась полная тишина, из дома донесся легкий скрип половиц, ступеней чердачной лестницы.
Как взрыв прозвучал в тишине звон ведра, то ли ручка упала на ведро, то ли Фогт задел его черпаком.
Через минуту подняли собак. Лай накатился с реки, от лодок, все до одной собаки включились в этот хор.
У калитки и у лаза заняли посты люди из группы захвата. Долго не пришлось ждать. Как только окончательно стемнело и в окнах соседских домов погас свет, открылась дверь на крыльцо. Собака перестала лаять и слышно прогремела цепью, вышла из будки приветствовать хозяина. Уличные собаки продолжали перелаиваться. На крыльце некоторое время было тихо. Затем проскрипели ступени. Мокрая земля скрадывала шаги.
Двое из группы захвата притаились в канаве напротив калитки. Они услышали Фогта по дыханию. Он остановился у калитки. Осмотрелся. В домах ни одного огонька. И прохожих не было, об этом позаботилась группа захвата во избежание случайностей.
На лодочной пристани шла возня. Специально гремели Цепями, чтобы полошить собак.
Фогт успокоился, звякнула щеколда, калитка открылась. Вышел, опять же остановился. Теперь уже видно, что правую руку он держит за бортом плаща, в левой — что-то похожее на узелок: быть может, продукты, но могли быть и гранаты. Вот он отделился от калитки. И все!
Подсечка, и обе его руки отведены назад. В правой — парабеллум, в левой — узелок с хлебом и консервами.
Щелкнули наручники.
Сам он не пошел, под руки втащили в дом. Зажгли свет.
Фогт зажмурился и отвернулся. Собралась вся группа захвата, пришел из соседнего дома с понятыми Осокин.
— Сами, гражданин Фогт, укажете, где спрятано оружие, или искать? — спросил Осокин.
Фогт отвернулся, давая понять, что говорить не намерен.
Не новость. Осокин уже все это прошел с Турьевым: и обманные версии, и отказ говорить, а потом чуть ли не исповедь, полное словоизвержение. Действительно — скуласт. Лицо характерное. Тонкие губы делали его даже жестоким. Он был жесток, и эта жестокость наложила отпечаток и на внешний облик.
Закон разрешал и внеурочный допрос, и внеурочный обыск, когда следствие сталкивалось с опасным преступником. Но Осокин считал, что допрос Фогта следует начать после обыска, а обыск имело смысл начать утром. Не стоило тревожить ночью Амалию Карловну, да и ночью под дождем мало что можно было найти, если придется искать не в доме, а на участке.
Фогта отправили в следственный изолятор, дом взяли под охрану. Утром Осокин и Корнеев в сопровождении оперативников и понятых пришли на обыск. Пригласили Амалию Карловну.
На вопрос Осокина, где Фогт хранил оружие, она ничего определенного сказать не могла, хотя никто не сомневался, что если бы знала, то, конечно же, не стала бы скрывать. Внутри дома обыск ничего не дал. Фогт успел убрать почти все следы своего пребывания. На чердаке действительно была оборудована летняя комнатушка. Амалия Карловна пояснила, что брат ее спал здесь на раскладушке. Раскладушку он сложил и отнес вниз. Но и на чердаке, и в доме сохранился запах трубочного табака.
В кухне в ведре для мусора обнаружили несколько пустых бутылок из-под водки, а на пыльном полу на чердаке остались отпечатки мужских ботинок. Вот и все.
Начали поиск на огороде и в саду. Извлекли из земли несколько ржавых железок. Тщательно обыскали сарай. Поиск затягивался. Осокин вспомнил Лотинцева. Нужна была идея. Видимо, очень заметный след оставил в его сознании озерницкий криминалист. Воспоминания о нем и привели к идее.
Осокин обратил внимание, что собаку, немецкую овчарку, с цепи не спускали. Не было ее следов ни в саду, ни в огороде, ни возле дома. На мокрой земле следы ее имели бы яркие отпечатки. Показалась ему подозрительно массивной будка. Будто бы сооружалась на века. Врыта углами в землю, понизу обшита железом.
Сострунили собаку, отцепили цепь и с трудом сдвинули будку с места. На метр в глубине отрыли ящик, тоже окованный железом и густо смазанный битумом. В ящике ручной немецкий пулемет, несколько немецких автоматов, десяток гранат-лимонок.
Корнеев в задумчивости рассматривал это снаряжение…
Для него работа с Фогтом только начиналась.

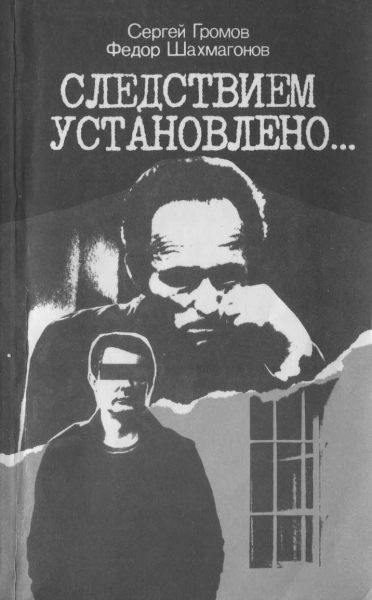




Комментарии к книге «Следствием установлено», Федор Федорович Шахмагонов
Всего 0 комментариев