Михаил Попов Давай поговорим
Давай поговорим
…и вот еще какая пришла мне напоследок мысль: вольно или невольно, но главным героем произведения сделалось озеро, с его живописными берегами и таинственной беседкой.
Стендаль…пусть пока полежит в куче картофельных очистков, пустых консервных банок, грязных полиэтиленовых пакетов, промасленной бумаги, хлебных корок, вонючей ваты — в общем, всего, от чего освобождается ежедневно любая коммунальная квартира. Ну что ж, мне наконец повезло в жизни. Я не склонен переоценивать ни участие какой-нибудь высшей силы, если она имеется где-то и поглядывает в мою сторону благосклонно, ни случайность случая, таким образом подтасовавшего события, что все произошедшее столь соответствует моим давним и туманным ожиданиям. У праведника гора от крупицы веры съезжает в море, а я даже пальцем не пошевелил, а рассыпавшийся типографский шрифт сложился в «Энеиду».
Ночью я практически не спал. Еще бы, меня не свалила бы доза снотворного, достаточная для самоубийства самого здорового здоровяка. И не только голова — мне казалось, что воспламенился весь мой полиомиелит, зашевелились силы, названия которым я даже не знал, и, появись поблизости какой-нибудь авторитетный тип и прикажи мне «встань и иди», я бы встал и пошел. Самое интересное, что сейчас я бы уже не променял свое положение на этот евангельский фокус.
Ночь двигалась очень медленно, но я, собственно, и не торопил события. Веселое возбуждение, не оставлявшее моего укромного замершего тельца, позволяло мне до бесконечности длить самое лучшее из наслаждений — предвкушение. До бесконечности или, вернее, до возвращения Варвары. Варвара, я думаю, сразу почувствует, что в квартире лежит труп.
Наша коммуналка имеет на пять семей всего лишь одно окно, выходящее на восток. Я лежал с закрытыми глазами и представлял себе, как бледный рассвет овладевает порочным натюрмортом кухни: пять помойных ведер, страшные порезы на замызганных клеенках, инфернальный закуток раковины, кафельный пол в плохо различимых язвах, разводы копоти на потолке, разнокалиберные и чем-то отвратительные чашки на подоконнике. Из кухни свет проникает в затхлый угол за ситцевыми занавесками, пахнущий караван-сараем. А может, и не пахнущий, может, мне всего лишь так кажется, что странно, потому что я никогда не разделял брюхановского отношения к семье Равиля. И вот, когда свинцовое дыхание самого главного в моей жизни рассвета коснулось ситцевых, в блеклых цветочках, занавесок, ограждающих татарское гетто, стукнула входная дверь. Я напрягся.
Все же надо отдать должное самому себе — я неплохо изучил окружающих меня людей. Варваре понадобилось всего несколько минут, чтобы уловить новое и зловещее в атмосфере коммунального жилища. Может быть, здесь дело в профессиональном обонянии, запах пороха очень въедлив. За десять лет сторожевой деятельности моя тетушка его нанюхалась. Может быть, дело в струе электрического света из щели в двери его комнаты — странное зрелище в столь ранний час. Но мне почему-то приятнее думать, что здесь имели место более тонкие моменты отношений между людьми.
Через сорок минут в квартире царило столпотворение. Приехало следствие — два молодых человека, — я их мельком видел, когда они проходили мимо моей открытой двери.
Все, а в эту ночь у нас все были дома, что само по себе является немалой редкостью, очень близко приняли эту историю к сердцу. В самом воздухе квартиры, пока экспертиза закрылась в комнате трупа, чтобы совершить свои фотографирования и замеры, поселилась истерия. Например, Мариночка забегала ко мне дважды, глаза и руки прыгают, все время прикуривает, пытается говорить о чем-то отвлеченном, что выглядит нелепо. В общем, от безумно самоуверенного облика не осталось и следа. Если она так будет себя вести и на допросе, то это хорошо, хотя я еще и не решил, нужны ли мне эти пинкертоны. Под конец она все же задала несколько естественных женских вопросов: «Что же теперь будет, Илюша? Что же теперь нам делать, Илюша?» Разумеется, в мои планы не входило на эти вопросы отвечать, но их появление в устах нашей непробиваемой Мариночки было хорошим предзнаменованием.
Платон встал, как всегда, с перепою. Расстроенная нервная система дребезжала в каждом его движении. Больше всего выдавал его волнение кашель: по этому кашлю можно было не только поставить диагноз — интеллигентский алкоголизм, — но и восстановить все необыкновенное прошлое этого интеллигента. Он тоже зашел, сел в головах и стал постукивать мундштуком дешевой, но помпезной на вид трубки по гниловатым чубам. Варвара сидела у себя за шкафом, и он привычно не обращал на нее внимания. Откуда-то Платон уже знал, что дело совершилось при помощи пистолета, и поэтому чувствовал себя отвратительно. Говорил он, как всегда, много, самовлюбленно, очень литературно, хотя и стараясь соблюдать подходящую моменту общую скорбность.
Разговаривать с ним о чем-нибудь серьезном мне представлялось сейчас преждевременным, и я только слегка и, как мне кажется, достаточно печально улыбался. Значительно больше меня занимала реакция Варвары. Она сидела на стуле за гардеробом, так что мне были видны только ее целомудренные колени и узловатые кулаки на них. У меня создалось впечатление, что она за все это суматошное утро не издала ни звука. Допрашивали ее первой и допрашивали на кухне. Жаль, что на кухне, хотя она вряд ли могла там рассказать что-то такое, что сильно повлияло бы на мое отношение к происходящему.
После того как Платон, мерзко шаркая своими шлепанцами по полу — походка у него уже совершенно старческая, — потащился к себе, чтобы в одиночестве готовиться к неприятному собеседованию с представителями следствия, Варвара встала и, не говоря ни слова, не поинтересовавшись, не нужно ли мне чего-нибудь, ушла из дому.
Мои отношения с родной тетушкой за последние двадцать лет переживали различные периоды, но, по-моему, никогда не доходили до состояния родственных. До сих пор не понимаю, что ее заставило тогда взвалить на себя крест в виде парализованного полиомиелитом племянника, но точно могу сказать, что она потом частенько раскаивалась в своем благородстве. Моя мать никогда с ней (сводной сестрой) не была даже хорошо знакома, а сам я, до поселения в этой комнате, Варвару ни разу и не видал. Когда-то мне было ее даже жаль, но потом я постепенно понял, что ее бодрая деловитость в обращении с моей немощью — это всего лишь маска, прикрывающая безразличное отвращение, если так можно выразиться. Я рано понял, что соваться в эту область и вытаскивать что-нибудь для обсуждения ради выяснения отношений не стоит: это не в моих интересах. С годами у нас в комнате установился нейтралитет и был незримо подписан пакт о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Но свои обязанности она неуклонно исполняла и в те периоды, когда особенно остро переживала мое присутствие. То, что она мне сейчас не предложила судно, являлось недружественным актом. Причем беспричинным.
Мариночка, услышав, как хлопнула за Варварой дверь, мгновенно залетела ко мне. В ней теперь уже ничего не было от заспанной, растрепанной после вчерашнего загула лимитчицы. Теперь это была лимитчица, аккуратно причесанная, чуть-чуть вульгарно одетая и подкрашенная. Туфли в странном металлическом оснащении сложно звенели, сетчатый рисунок колготок стремительно затягивал взгляд под юбку. Странное женское убеждение, что чем лучше она будет выглядеть в зеркале, тем лучше она будет выглядеть и в глазах следствия. Разгорячена, уже все обдумала, ни до чего не додумалась, нестерпимо хочет посоветоваться.
— Илюша, как ты думаешь, кто его убил?
— А откуда ты знаешь, что его убили? — спросил я быстро, при этом всем своим тоном намекая, что она проговорилась.
Это была, конечно, шутка, но в одной квартире с трупом и деловитым хладнокровным следствием, решительно взявшимся за дело, любая мелочь вырастала до угрожающих размеров. Глаза у Мариночки расширились, она где-то там внутри взвесила эту ситуацию, ни к какому выводу относительно опасности или неопасности для себя не пришла, но пообещала себе быть поосмотрительней впредь. Я попросил ее проследить за тем, чтобы детективы зашли и ко мне, когда переговорят со всеми остальными.
— Конечно, конечно.
— А что делает Равиль?
— Закрылся у себя и не выходит. Все знает и не выходит. Платон Сергеич мне сказал, что он все знает.
Мариночку такое поведение Равиля радовало, оно навлекало на него подозрение и, стало быть, облегчало в каком-то смысле ее собственное положение. Как будто подозрение — это одеяло, которое можно перетянуть. Но эта радость Мариночки была не только эфемерной, но и кратковременной. Расставшиеся наконец с трупом следователи в первую очередь пожелали поговорить именно с ней. Дурной, может быть, знак. Так, по крайней мере, должна была подумать Мариночка.
Снова постучался Платон, побрился и в остальном тоже привел себя в порядок. Что это они как бы бросились заметать следы, как будто боятся, что эти парни из угрозыска могут что-то вычитать именно в их внешности. Почему нервничает наш литератор, я знал. Мне вообще достаточно много о нем известно. Судя по его поведению, он пока еще не отдает себе в этом отчета. Он просто борется с желанием хлебнуть для храбрости, отчего и поглядывает мне под кровать. Нет, решил, кажется, что в данной ситуации запах алкоголя сыграл бы против него. Поговорить мы с ним так и не сумели, хотя времени у нас было предостаточно: у Мариночки следователи провели минут двадцать, у Равиля, очевидно ввиду слабого владения им русским языком, — минут двадцать пять. Понятно, серьезные допросы откладываются на потом. Платон никак не мог сосредоточиться, вернее, никак не мог отвлечься от своих мыслей, неспокойное течение которых иногда отражалось явственно на его благородно испитом лице.
Дверь в коридор была открыта, и когда мы услышали, что эти парни в сером вышли от Равиля, Платон встал, резко бледнея, словно кровь осталась в ногах, и пошел в коридор, чтобы встретить опасность на подступах к своему жилищу.
На похмельного литератора следствие потратило больше времени, чем даже на неважно-знающего русский язык дворника, но и эта задержка не могла быть бесконечной.
Вот они уже освободились, я чуть было не испортил все, чуть было не крикнул, чтобы они заходили ко мне. Пусть только переступят порог моей комнаты, и они мои. Мои дорогие, мои голубчики. Нельзя так радоваться! «Тихо», — шипел я на себя. Жадность и торопливость могут все смазать. Я инвалид, я не могу двинуться с места, я холоден, как… Мне все безразлично. Несмотря на все эти правильные слова, я был в состоянии радостной истерики в момент встречи со следователями.
Деликатный стук в дверь, в проеме двери две невыразительные физиономии, в глубине коридора — привставший на цыпочках своего трусливого любопытства Платон.
— Да, да, Муромцев Илья Ильич. Нет, нет, вы меня нисколько не побеспокоили, я сам мечтал с вами поговорить, — тоном ниже, Илюша, тоном ниже. — Да, дверь лучше бы закрыть, присесть можно вот здесь, да и на том стуле, конечно, — у меня внутри заныла тоненькая струна разочарования, когда я к ним присмотрелся. Уж не знаю, чего я ждал! У законопослушного человека и должно быть превратное представление о сыщиках. Книжное, романтичное. Сумбур ненужной рефлексии очень мешал мне. Короче говоря, они очень походили друг на друга: одинаково серые, одинаково мятые костюмы, одинаково неспортивные фигуры (как они гоняются за бандитами?), кабинетная тоска в глазах. Господи, ребята, у вас же труп за спиной! У одного была вопиюще золотая челюсть. А это неконспиративно. Разглядывая их, я непрерывно тараторил, я хотел произвести впечатление ублюдка, любящего поболтать, обожающего сплетни и детективные истории. Но я был на таком взводе, что боялся переборщить.
На их лицах ровным слоем лежали предупредительность и скука. Чтобы сразу их «пробить», я заявил, что им повезло, им в руки попалось классическое дело: абсолютно все, находившиеся в ночь трагедии в квартире, имели и возможность, и основания убить товарища Брюханова. Они, как и всякие профессионалы, скучали на работе и, конечно, больше всего на свете терпеть не могли дилетантского бреда и постарались вернуть меня на землю.
Нет, отвечал я, выстрела я не слышал, хотя сплю чутко, абсолютно уверен, что никто не входил и не выходил из квартиры, я просыпаюсь от стука капель в кухонной раковине, а выстрела не слышал скорее всего потому, что орала музыка у Платон Сергеича, у товарища литератора нашего. Стреляли не позже пол-второго-двух, когда магнитофон перегорел. Нет, передвигаться не могу совсем. Вывозят, правильно, вон в том кресле. В основном тетка. Какая музыка орала? Бы знаете, очень легко ответить на этот вопрос. Группа «Святая простота». И крутил Платон Сергеич в основном одну и ту же песню — «Сердце Родины». Это такой стиль, когда берется песня, скажем, Серафима Туликова и поется таким образом, что можно с ума сойти от смеха, попробуйте сами. Понятно, понятно, это вам не очень-то интересно. Так вы хотите знать, почему я всех подозреваю? Хотя я как бы и не подозреваю, это слишком конкретное слово. А, сначала вам хочется, чтобы я охарактеризовал убитого. С удовольствием. Если честно, то мне странно, что его не убили раньше. Нет, нет, я нисколько не преувеличиваю. Он вызывал дикое раздражение и даже отвращение уже через несколько секунд после начала разговора с ним. Да, да, и это тоже. Просто какая-то очень неприятная биология. Кожа то ли слишком пористая, то ли… кажется, запах, знаете, всегда полоски пены в углах рта, я невольно в силу своего положения очень реагирую на такие вещи, потому что сам боюсь опуститься. Потные ладони, всегда сглатывал слюну почему-то, как будто вы вызываете у него аппетит, знаете, есть люди с невероятно богатым слюноотделением. Потом… вы видели его штаны? Представляете себе крестец, а? Хохотал омерзительно. Тут я уже перехожу к характеру. Хохотал омерзительно, но и злился тоже омерзительно. Перепады были громадные… Нет, психически был, по-моему, здоров. Он вообще любил здоровье. Но странно его понимал. Много жрать, много пить, отрыгивать на всю квартиру. Ей-богу, я слышал, как он чавкает у себя за столом. А его схватки с клозетом! Ватерлоо! Я каждый раз боялся за унитаз. Его потворство своей… физиологии было беспредельным. Такая вещь, как деликатность, такт, для него не существовала. Когда большое животное шагает, оно не замечает маленькие заборчики. Свое мнение, если оно у него вдруг появлялось, он считал необходимым немедленно довести до наибольшего числа окружающих. Когда он комментировал какую-нибудь телепередачу, в квартире невозможно было находиться: язык его, естественно, на две трети состоял из нецензурных слов. Слава богу, он было равнодушен к искусству, даже телевизионному.
Кажется, был нежаден. Вспоминается, как года полтора назад он принес мне почему-то арбуз, причем арбуз таких размеров… Да, да, про то, что работает начальником РЭУ, разведен и имеет где-то дочь, вы знаете? Дочь живет, кажется, с его сестрой, нельзя было, конечно, допустить, чтобы она жила с ним, хотя, так мне кажется, он ее любил. Дочь. Кажется, даже сильно любил. Вот пока все о нем… Теперь кто? Кажется, Мариночка Климова. Так вот, самое главное в том здесь, что он, Брюханов, давно ее домогается. Домогался. Да, да, несмотря на морду лица и пятьдесят два года. Мариночку вы, естественно, видели. Девочка в порядке. Но дело в том, что она из Калягина. Лимита…
Тут они меня перебили и попросили объяснить, в какой именно форме «домогался». Мариночка, стало быть, сама решила об этом речь со следствием не заводить, вычислила, быстроголовая, что этот факт может сыграть против нее. Хотите знать, в какой форме? Да в самой отвратительной. Когда наша красотка прибыла в столицу в погоне за птицей счастья, поступила она на работу в руководимое товарищем Брюхановым учреждение, и он, надо думать, сразу же положил на нее глаз. Это, видимо, тоже входило в его понимание здоровья — переспать со всеми женщинами, до которых можешь дотянуться. Состояние, в котором оказываются все эти провинциальные мечтательницы, попав «на лимит», известное. Это люди без будущего, тут даже не важно, сильная ты натура или нет, пусть у тебя даже звериная хватка — это, по сути, положения не меняет. Возвратиться домой? Лучше в петлю! Нет, я не читаю вам лекцию, просто многое из того, что здесь произошло, нельзя будет без этого попять. Короче говоря, Матвей Иванович Брюханов, прекрасно осведомленный о преимуществах своего служебного положения и не раз уже им пользовавшийся, приступил к делу. Гор золотых он ей не предлагал, у него была приманка получше — прописка. И, думаю, он без особых хлопот затащил бы ее в койку, однажды такое даже и произошло. По крайней мере таково мнение молвы. Продолжение история не получила, потому что Марину угораздило влюбиться, монстр получил отставку, но своих притязаний не оставил, он буквально ее преследовал. У нее, как я понимаю, все шло к свадьбе, Брюханов ее шантажировал. Владик — жених — колебался, его можно понять. Короче — узел. То, что Мариночка ни в коем случае не прописана в своей комнате, вы знаете? Это служебная площадь. Вам непонятно, как это можно прописать человека через полгода в Москве? Это, конечно, не по закону, но сделать можно и не такое. Мне даже странно слышать от вас этот вопрос.
Вы видите, я не делаю никаких выводов, это, конечно, ваше дело…
Теперь Платон Сергеич, да? Ну, то, что он литератор, он вам сам рассказал? Настоящий член союза писателей, но спивается, по-моему. Не знаю уж, что он там насочинял, но время от времени получал гонорары и, получив, поступал таким образом: он закупал ящик водки и ставил мне под кровать. Я выдавал бутылку только в том случае, если он мог мне доказать, что ему действительно необходимо выпить. Я придумал это условие, чтобы хоть немного стимулировать литературные способности соседа, чтобы даже его тягу к спиртному использовать в мирных целях. Такая у нас была игра. Что характерно: условия этой игры он выполнял неукоснительно, он мог часами бродить по комнате, выдумывая запутаннейшие сюжеты, и прибегал ко мне с горящими глазами, чтобы рассказать примитивную дребедень, и, получив отказ, падал на колени и начинал слезно вымаливать «бутылочку». Представляете себе, да? Причем никогда не пытался применить силу, я бы все равно не смог ему помешать. Он мог запустить руку под кровать, да и все. Насколько я могу судить, он ценил наши отношения и боялся нарушить условия игры, эта игра казалась ему решительной мерой, предпринятой им для того, чтобы удержаться на краю бездны. Сколько мы этим занимались? Да года полтора, а то и два. За это время было всего лишь три или четыре истории, которые сразу прошли «цензуру», из них, кстати, он потом сварганил рассказы. Большая часть водки в конце концов отпускалась «в виде исключения». Забавно, что одну из лучших историй он рассказал мне дня четыре назад. Он ввалился ко мне вечером и сам выхватил бутылку из ящика — так он был уверен, что мне понравится его рассказ. Он в молодости служил на флоте, история касалась того времени. Я вам тоже расскажу, она короткая, но вы лучше поймете человека. Я не слишком вас задерживаю? Так вот, он был дежурным по части, по военно-морской базе, на базу вернулась подлодка, на которой служил его товарищ по мореходке, или как это у них там называется. Товарищ этот очень соскучился по молодой жене и хотел ее видеть в тот же вечер, но не желал ждать завтрашнего дня, как требовал устав. Он уговорил лейтенанта Платона Сергеича арестовать его и вывезти с территории базы, как будто он конвоирует сто в комендатуру. Приезжают, а девушка не одна. Тогда Платон Сергеич, будучи человеком импульсивным, при виде такой картины выхватывает пистолет и трижды стреляет в потолок от полноты чувств. Наверху ii кресле-качалке лежит парализованная старуха, одна из пуль попадает ей в низ спины и вследствие неожиданности производит лечебное действие. Немного похоже на анекдот, правда? Не судили Платона Сергеича только благодаря вмешательству этой старухи и дикого комизма этого эпизода. «После этого я решил податься в литературу», — сказал он мне, из флота его, конечно, турнули. Так вот, четыре дня назад он случайно встретил на улице эту бабульку, она, понимаете, до сих пор жива. Не мог же он не отметить такую встречу. Нет-нет, на самом деле я нисколько не отклонился, суть в том, что я стал выражать сомнение по этому поводу, ну по поводу встречи его со старушкой. Он страшно оскорбился, но доказательств у него не было, кроме… пистолета. (О, замерли мои хорошие, сделали стойку!) Единственное, что мне запомнилось в этой истории, так это его утверждение, что это тот самый пистолет. Ну тот, из которого он вылечил параличную старушку. Нет, пистолета самого он мне не показывал. Как его могли уволить с пистолетом? Я тогда и сам подумал, что этого вроде бы не должно было быть, даже я, лежа здесь, знаю, как у нас насчет оружия. Это вы у него спросите. Больше я ничего не знаю. Так я вам и сказал. А ведь если бы у них имелись хоть какие-то мозги, они бы почувствовали, что я отнюдь не облегчаю им жизнь, а, наоборот, запутываю. (Строчат, мои хорошие, строчат.) Да, а теперь, так сказать, обещанное. Из чего я заключаю, что Платон Сергеич вполне мог убить Брюханова? Лет восемь назад произошла между ними одна история. Короче говоря, Платон Сергеич был большой охотник до всякой запрещенной литературы, а времена, сами знаете, стояли какие. Детали мне неизвестны, пусть детали вам расскажет сам литератор, но суть в том, что Матвей Иваныч «заложил» его. Произошел скандал, довольно неприятный скандал, Платон Сергеич попал даже под следствие, ему грозил срок, каким-то образом ему удалось отвертеться. Платон Сергеич сумел доказать, что распространением не занимался или что-то в этом роде, большую часть его ксероксов конфисковали. У него было два обыска на квартире. Нюанс тут был в том, что Матвей Иваныч в своем доносе никогда не раскаивался. Больше того, частенько в последнее время, когда вы знаете, объявлены различные послабления и в журналах свободно печатают то, что раньше конфисковывали, Матвей Иваныч, обычно в пьяном виде, на всю квартиру громогласно объявлял, что «гнилую интеллигенцию он давил и давить будет и впредь, и пусть Платон не думает, что все позади». Причем в последний раз это было совсем недавно. Позавчера.
Записывали они жадно, на голом скелете их безнадежного дела стремительно нарастало мясо. Интересно, что они думают обо мне. Хотя, честно говоря, это интерес праздный. Все произойдет, скорее всего, без них. К тому моменту, когда они начнут выписывать повестки, все уже будет кончено. Они как-то не похожи на сыщиков, способных что-то раскрыть «по горячим следам». А обо мне они думают, что я просто сплетник. Лежит себе голова, примечает и сдыхает от скуки, а мы, такие умные, догадались его использовать. Инвалид помогает следствию. Инвалид, оказавшийся в гуще событий, — это совершенно неожиданная точка зрения.
Что я могу сказать о семье Хайруллиных? Прежде всего — это татарская семья. Семья татар. Равиль — дворник в РЭУ, что в Москве не редкость, татары издавна славились стремлением подметать столицу. Ассирийцы чистят обувь, индусы — на Западе — торгуют в киосках… Жену его зовут Фира, да-да, это у вас записано. Она овладела смежной, так сказать, специальностью, чистит мусоропроводы в нашем доме. Двое детей.
Хайруллины — люди тихие, скромные, так и хочется добавить — интеллигентные. Живут совершенно отдельной жизнью от всего нашего коммунального сообщества. Фира, по-моему, даже плоховато знает по-русски. За этими их занавесочками неведомый мир, думаю, вряд ли кто-нибудь из жильцов нашей квартиры бывал за этими занавесками. Государство в государстве. Отчего такая замкнутость? А кто его знает. Правильно, бывают очень общительные дворники. И большинство татар отлично говорят по-русски. Оба приезжие, детали мне неведомы, но, кажется, у Равиля здесь родственники, они помогли. Но все это так, несущественно, а любопытно вот что. Матвей Иваныч Брюханов ненавидел семью Равиля лютой, постоянной и совершенно неспровоцированной на первый взгляд ненавистью. И на второй взгляд тоже. Я нередко размышлял на эту тему. Нет-нет, я ничего здесь не выдумываю. Времени у меня достаточно, но никакого рационального зерна я здесь обнаружить не смог. Как напьется Брюханов, — так и орет. В основном невероятные, неостроумные скабрезности. Знаете, у него, у Матвея Иваныча, была такая неприятная черта: если ему кто-нибудь рассказывал анекдот, то он втемяшивался ему в голову, и он все рассматривал, так сказать, сквозь призму этого анекдота. Последний анекдот про объявление знаете, наверное: «Участники Куликовской битвы обслуживаются вне очереди». Да-да, я согласен, средний анекдот. А Брюханов в него прямо влюбился, я раз двадцать слышал, как он схватит где-нибудь Равиля на кухне или там просто в коридоре и требует, чтобы он ему показал удостоверение участника и все такое в этом же роде. До некоторой степени Равиля можно понять: они с женой, в общем, подчиненные Брюханова, но выносить все это от любого начальника никакой другой человек не стал бы. Причем у меня сложилось такое впечатление, что Равиль — мужик с развитым чувством собственного достоинства. Уж во всяком случае более достойный, чем его начальник. Так вот, он терпел, даже побои иногда. Не то чтобы побои, правда, просто пару раз Матвей Иваныч хватал его за грудки и об стену. Варвара бегала их разнимать. Ее он почему-то слушался. Но еще хуже, чем эти грудки, было то, что начальник оскорблял и жену Равиля. Собственно говоря, накануне этого случая он и на нее руку поднял. И опустил. Я слышал шум… Фира с детьми тут же куда-то уехала. Ну, к матери, наверное. К свекрови правильнее. Мне рассказала об этом тетка, она как раз в ночь уходила. Она человек не впечатлительный, работает во вневедомственной охране, привыкла точно оценивать обстановку. Я ей в этом смысле доверяю всецело.
Они продолжали записывать. Причем оба, словно не надеясь друг на друга. Негодяи! Им ведь наплевать на всю неповторимую прелесть этого дела. Я им интересен только тем, что облегчаю их работу.
Продолжая роль самодеятельного детектива, говорю им:
— Вот видите, я оказался прав. Все находившиеся в квартире этой ночью были в той или иной степени заинтересованы в причинении вреда Матвею Иванычу Брюханову. — Золотозубый посмотрел на меня исподлобья, и выражение лица у этого олигофрена было игривое, он продолжал считать, что находится на высоте положения, — и все они имели возможность в одиночку или все вместе свое желание удовлетворить.
Во время паузы, образовавшейся после моего сакраментально-напыщенного заявления, мне казалось, что я слышу, как булькают их мутноватые мысли. Меня в данный момент больше всего интересовал частный вопрос: кто первый из них поинтересуется у меня, включаю ли я и собственную особу в число подозреваемых. Вопрос этот можно было построить как иронический, а следователи никогда не упускают случая — почему-то я был в этом уверен — поиронизировать над свидетелем, берущим на себя слишком много. Им как воздух необходимо ощущение превосходства.
Я был уверен, что первым сориентируется золотозубый, он плебей, он должен быть посообразительней. Но заговорил его напарник, он указал на стоявшее в углу колесное кресло и спросил, как часто меня вывозят покататься.
«Серьезные ребята», — усмехнулся я про себя.
— Вывозят меня редко. У Варвары опущена почка, га к что каждая моя прогулка дается ей с трудом. А с точки зрения высшей справедливости я должен был вы, как и все, иметь физическую возможность убить по, потому что оснований для этого у меня ничуть не меньше, чем у любого другого жильца этой квартиры.
Современные сыщики не любят таких романтически-загадочных Намеков, но после всего я имел на такой намек право, я мог быть уверен, что они не пропустят его мимо ушей и не отнесут беспечно на счет расстроенного воображения инвалида и его наивного желания поинтересничать. Золотозубый, все больше становясь похожим на плебея, с мерзкой улыбочкой спросил:
— А может быть, вы и нам приоткроете эту причину: если уж всех подозревать, так уж всех.
И я им рассказал про то, как Матвей Иваныч приходил к нам в гости лет двадцать назад, мы тогда жили с моей теткой Варварой в этой же самой комнате, и я лежал на этой же самой кровати за гардеробом, поставленным так, чтобы мои детские глаза ни в коем случае не могли увидеть того, что происходило на кровати номер два. Считалось, что я сплю. Матвей Иваныч жил тогда со своим семейством в отдельной квартире, а к Варваре приходил отвести душу. Помнится, они даже о чем-то разговаривали, слава богу, я забыл эти разговоры, слишком гнусно ноет то место памяти, где они должны бы располагаться. То, что происходило там, за гардеробом, мне было не видно, но зато на самом виду висели его штаны, необъятные, лоснящиеся, коричневые. Только такие штаны могли скрыть те нечеловеческие, буйно волосатые богатства, которые приносил на отдых в теткину постель Матвей Иваныч. Меня тогда возмущало, как это Варвара не понимает всей его отвратности. Считалось, что я сплю, и они думали, что обязаны охранять мой детский сон, и от этого их мясистое совокупление, совершавшееся под ханжеским покровом бессловесного сопения, еще сильнее мучило мое воображение.
Мы никогда не заговаривали с Варварой на эту тему, даже через годы после того, как эти посещения прекратились.
Пинкертоны были слегка смущены откровенностью моего рассказа или сделали вид, что смущены, во всяком случае их шариковые ручки немного помедлили над бумагой, а потом занялись превращением рассказанного мною кошмара в стандартный протокольный текст.
Я давно уже заметил — если хочешь человека о чем-нибудь попросить, перед этим пооткровенничай с ним, открой ему маленькую и чуть-чуть стыдную тайну. Пока длилось смущение серых молодцов, я попросил их хотя бы в двух словах рассказать мне, что, собственно, произошло сегодня ночью в комнате Брюханова. A-а, вот оно что, убит с близкого расстояния? С очень близкого? То есть стреляли в упор? Следы пороха на одежде? А из чего можно заключить, что выстрелу предшествовала борьба? А, пистолет валяется там? Ага, пистолета, стало быть, нет. И никаких дополнительных улик, да? Вы не улыбайтесь, вы же должны понять, что я сейчас сам не свой. А как вы думаете, не может это как-нибудь… повториться? То есть не начнет ли кто-нибудь, как только вы поедете домой, одного за другим всех нас, так сказать, убирать? Вы считаете, что этого не случится? А почему вы так считаете? Нет, знаете, мне немного не по себе от мысли, что вы собираетесь уйти. Ведь можно же здесь хотя бы кого-нибудь оставить. Ну, может быть, вы на ночь кого-нибудь пришлете?
Тут я, кажется, немного переиграл. Золотозубый вдруг очень внимательно на меня посмотрел и сказал:
— Не надо волноваться, пистолета, судя по всему, в квартире нет, так что, мне кажется, ни вам, ни другим жильцам опасность не грозит. Если вспомните еще что-нибудь, дайте знать. — Во время произнесения этой могучей речи он стал осматривать нашу комнату — самое время!
Нет, кажется, ничего я не переиграл, на прощание они сочли нужным мне сказать, что я очень им помог, более того, что я человек необычный, можно даже сказать, незаурядный человек. Не всякий может, будучи прикован к постели, так вникать и таким гражданским темпераментом обладать. Вот, значит, какое они себе подобрали объяснение. И я улыбнулся им на прощание полублаженной улыбочкой опекаемых телевидением инвалидов, стоически сносящих свое положение. Откуда бы сейчас появиться моде на терпеливых? Следователи по очереди и очень осторожненько похлопали меня по плечу и отчалили. К Платону они заходить не стали, видимо, решили, что он серьезный злоумышленник, раз скрыл случай с пистолетом, и с налету его не взять.
Истерическое возбуждение давно уже спало. Будем надеяться, что я теперь до самого конца останусь таким же трезвым, как в конце разговора с пинкертонами. И не будем себя презирать за то, что это возбуждение мне удалось подавить не сразу, я все же человек. Даже недочеловек, и было бы смешно, когда бы и обладал нечеловеческим спокойствием.
За этими размышлениями я провел минут двадцать, а может, и полчаса. Ко мне, как ни странно, никто не пытался зайти. Но жизнь шла, по другим руслам, но текла. Платон повис на телефоне. Замызганный аппаратик, весь обклеенный изолентой, — результат брюхановского к нему отношения — установили в незапамятные времена в закутке возле туалета. Что-то очень двусмысленное мне всегда виделось в этом размещении. Телефоном пользовались чаще всех два человека: Мариночка — она в основном принимала направляемые ей звонки — и Платон, длинно, нудно и ежедневно кого-то добивавшийся. Угол стены возле аппарата постепенно покрылся цифрами и письменами, их не пытались закрашивать, понимая, что это так же бесполезно, как бороться с надписями в туалете.
Явилась Варвара, вид она имела необычный, подавленно-озабоченный. Мы с ней всегда разговаривали мало: «Будешь есть?», «Дай попить». Иногда месяцами — ни одного живого слова. Отношения наши, разумеется, ни дружескими, ни родственными не были последние годы, но взаимное молчание проистекало из каких-то других причин. Просто не обнаруживалось тем для разговора, и отлаженность быта не способствовала их возникновению. Действительно, как бы это выглядело, когда бы я попробовал с ней обсудить принципы древнеиндийской эстетики в творчестве Сэлинджера. Она бы решила, что я сошел с ума, и уж во всяком случае это не доставило бы ей удовольствия. Меня никогда не интересовало ее мнение ни по одному сколько-нибудь отвлеченному вопросу. В ней же абсолютно отсутствовала автоматическая женская болтливость, не разбирающая, кто является слушателем — человек, собака или шкаф. Если разобраться, то при целом ряде положительных качеств — не сплетница, не хамка, умеет молчать о своих болезнях (правда, для этого рода жалоб у нее неблагоприятный фон), — так вот, при наборе всех этих качеств она была обречена на неудачную судьбу. У нее, надо думать, начисто отсутствовало чувство реальности или же присутствовала огромная переоценка себя. При своей кряжистой, без плавных обводов, свойственных ее полу, фигуре, при массивном квадратном подбородке, слишком охотно обнажающейся при каждой улыбке верхней челюсти, при жиденьких пегих волосах и при довесочке в виде полиомиелитического племянника она была невероятно требовательна к мужчинам, ее устраивал только один вариант — любовь до гроба. Матвей Иваныч был, если мне не изменяет память, единственным и неповторимым. Смешно подумать, но именно этот нечистоплотный мерзавец возбудил в ней страсть, потопившую даже ее незыблемые нравственные принципы, не позволявшие ей, кстати, на протяжении всех этих лет избавиться каким-нибудь пристойным способом от столь обременительной обузы, какой являлся я.
Убежден, что и на стороне, на чужой жилплощади у нее также не было никаких романтических или физиологических приключений. Варвара неговорлива, но при этом и не скрытна. Любое мало-мальски значительное возмущение на серой поверхности ее эмоционального образа я бы заметил, а выработавшейся способностью интерпретировать даже микроскопические факты и события и улавливать неуловимые ассоциации фактов и событий я бы легко и сразу вычислил бы Варвариного дружка.
Во время этих моих размышлений она проделала со мной обычные манипуляции и, оставив облегченного меня, ушла «к себе». Открыла гардероб и начала шелестеть там какими-то бумажками. Странно ведь, но, живя всего в двух шагах от этого гардероба, я никогда не узнаю, чем именно она там шелестит, граница на замке. Отдает ли Варвара себе отчет в этом своем чувстве безопасности? Все, что расположено на высоте более полутора метров над полом, мне недоступно. И еще одна мысль всегда возникала у меня, когда она старалась что-нибудь прочесть или шуршала бумагой, как вот сейчас: я вспоминал о ее близорукости, особенно нелепой при выбранной тетушкой профессии. Чувство физического превосходства, редкий гость, посещало меня в такие моменты. Уж с чем-чем, а с глазами у меня все было в порядке, несмотря на бесконечное чтение в лежачем положении.
В этот момент приоткрылась дверь и мелькнуло личико Мариночки. «Начинается», — мысленно прошептал себе я и опять испытал прилив приятного волнения. Молодец, урод! По всем моим расчетам выходило, что именно Мариночка не выдержит первая и захочет узнать, почему это следователи провели у явно ни в чем не виноватого калеки втрое больше времени, чем у любого здорового жителя квартиры. Этот вопрос очень даже ее должен занимать на фоне ее собственного беспокойства. А как еще должен себя чувствовать человек, не посмевший рассказать всю правду следователям, ведущим дело об убийстве?
При Варваре она, конечно, разговаривать не захотела. Да у нее, я думаю, и нет твердого плана беседы, ей просто нестерпимо хочется поговорить, а о чем, она и сама не знает. Чем туманнее чувство вины, тем оно, если так можно выразиться, продуктивнее. В некотором роде.
Решила переждать, тихонечко на цыпочках, в мягких тапочках — в ее положении человек инстинктивно надевает мягкую обувь, чтобы создавать поменьше шума, — прокралась в сторону кухни.
Она знает, что Варвара ее не любит. Для справедливой Варвары Мариночка — типичный случай ненаказанного преступления: нарушила все правила благопристойности, спит с мужиками, водку хлещет, и никто не догадается выселить ее из Москвы.
Затрепыхалась вскрываемая снаружи общая дверь. Мне продолжает везти. Явилась Фира, у нее свой, неповторимый почерк возвращения домой. Уж не знаю, что она там делает с замком, но вся наша тяжеленная двухстворчатая дверка трепещет, как осина на ветру. Тише всех орудует при проникновении в квартиру Платон Сергеич. Застарелая привычка диссидента и развратника. И подпольную литературу, и поэтически настроенную шлюшку необходимо доставлять тайно. Матвей Иваныч обращался с дверью, как с бутылкой пива, она подчинялась одному его небрежному движению и, как мне воображалось, выпускала даже характерный дымок. Мариночка при возвращении напоминала литератора, она, может быть, и не отдавала себе в этом отчета, но в этот момент из расплывчатого лимитского бесправия концентрировалось нестерпимое желание прошмыгнуть и затаиться. Варвара и Равиль обращались с запорами наиболее нормально — аккуратно, спокойно.
Наша квартира вообще очень открыта внимательному слуху. Дверь входная под самым ухом. Встретив вошедшего, я невольно продолжал следить за ним, и почти все движения его отчетливо сообщали о себе скрипом, стуком, топотом, шелестом, жужжанием, скрежетом, шлепаньем и дребезжанием. Если в комнате Равиля была хотя бы чуть-чуть приоткрыта дверь, я не только слышал непроницаемое для моего понимания бормотание его половины, но и стук половника о край кастрюли, и цоканье ложек о дно тарелки. Я слышал даже сквозь закрытую дверь, как Платон Сергеич, стоя перед своим якобы старинным зеркалом, хлопает себя по жирным бокам и говорит «м-м». Храп Брюханова я переживал во всех деталях каждую ночь, равно как и разноголосицу часов. Разница между Варвариными и Фириными была минуты в три, посреди втискивался хронометр Платона, наигрывавший какую-то сладкую германскую музычку, так что празднование наступающего нового часа в масштабах квартиры превращалось в продолжительный карнавал.
Итак, Фира вернулась. Если она отправится на работу, а скорей всего — да, потому что сегодня ее день по графику, то через час или полтора и Равиль будет у меня на крючке. Она, конечно, что-нибудь раскопала в мусоре. И вот тогда клубок окончательно запутается.
Варвара опять собралась куда-то уходить. Мариночка заглянула и просительно пропела: «Варвара Семеновна, можно мы с Илюшей погуляем?» Не выдерживаешь, моя милая. Не выдерживай. На лице тетки ровно ничего не изобразилось. Нет, постепенно проступило неудовольствие. Она явно спешила, ей сейчас не до выполнения своих обязанностей, а одевание меня она Мариночке доверить не может, это будет, по ее понятиям, нехорошо. Чувство долга медленно взяло верх. Варвара быстрыми, привычными, как у санитарки, движениями натянула на меня брюки и застегнула молнию, как бы поставила печать на интимных тайнах нашей семьи. Все остальное разрешалось доделывать Мариночке, как и во все прошлые разы. Да, именно по штанам пролегает граница любой семьи, даже такой, как наша с Варварой. Смешная условность — медь Мариночка так же точно не принимает всерьез свидетельства моей мужественности, как и тетка, но дело именно тетки их, так сказать, обихаживать, несмотря на всю их бесполезность.
Кстати, интересно, почему это мою родную тетушку не удивляет готовность совершенно чужих людей исполнять ее непосредственные обязанности. Она всегда воспринимала как должное, когда Платон или Мариночка предлагали покатать меня. Тем более что Платона она не уважает, несмотря на его писательский дар и на все официальные письма, приходящие ему из издательства и из союза писателей; о Мариночке непрерывно слушает самые ядовитые сплетни и не хотела бы находиться с ней в соседстве. Ненавидит она только Равиля, глухо, темно и всегда. Причина этой ненависти вряд ли имеет рациональную основу. Варвара интеллектуально не слишком замысловатая конструкция, душа ее хоть и пасмурна, но прозрачна, и ненависть эта родом из иррациональной мути, которая имеется на дне любой, даже самой советской души.
Мариночка одевала меня умело и торопливо, жарко дыша мне в затылок, любой полноценный мужчина имел бы право подумать, что она дышит страстно.
Варвара ушла, даже не посмотрев в нашу сторону. И хорошо: я невольно расслабился в этот момент страстного меня обихаживания, и выражение лица у меня могло быть глуповатым. Не исключено, что я улыбался.
От Марины несомненно исходили некие токи, но мне было труднее стать мужчиной, чем Галатее женщиной.
Мариночку я успел неплохо изучить за ее московский год. Изменения, происходившие в ней, были неизбежны. Вначале это был несомненно бутон, хотя, может быть, и с червоточинкой. Строго говоря, ее вряд ли бы признали красавицей. Если бы ее можно было сухо-аналитически разложить на отдельные женские достоинства, то ей достался бы набор второго сорта. И глазки слишком близко посажены, и лобик слегка низковат, и линия губ нечеткая, и ножки коротковаты — на это, правда, есть каблуки, — и вообще все специфические женские изгибы лучше было бы расположить на большей длине. В ней была ядреность (ни капли хладнокровного городского спорта), но как бы на грани тайного таяния.
Она, что называется, «держалась» первые несколько месяцев, но потом легко, без вульгарной надрывности, без ломки перешла к свободной половой жизни. В последнее время я уже чувствовал, когда она являлась домой «после этого». Она была в возрасте разврата, он был в ней запущен, раскручен, и даже в такие моменты, когда она выполняла идеальную по своей благотворительной чистоте роль — выгуливала калеку, — отработанные пары этой истинной жизни доходили до листьев моего заброшенного либидо. И листья эти, как ни стыдно и ни смешно это признать, влажно трепетали.
Подкатив кресло, она движением, тоже обретшим черты привычного, взяла меня под мышки и стала усаживать, и я подумал, что все равно ведь из нее может получиться добродетельная жена и хорошая мать. Усаживание стоило ей определенного усилия, потому что килограмм сорок пять я все же вешу.
Погремев входной дверью и дверью лифта, медленно провалившись в старомодном стрекоте тускло освещенной кабины через три этажа, мы благополучно выкатили к моему любимому пруду.
По его нежному зеркалу в разных направлениях разгонялись порывы ряби. Неподвижно мерз в отяжелевшей осенней воде лебедь. Скорость обнажения деревьев возросла до такой степени, что стала заметна глазу, то там, то здесь бултыхается в воздухе сорвавшийся лист. Солнечные пятна на дорожке слишком суетливы, от солнца и ветра в кронах — ощущение оживления, бодрости, хотя народу вокруг пруда мало.
Мариночка, умело толкая мою трагическую повозку, усиленно подбирала слова, с которых уместнее всего было бы начать разговор. Она не может просто так на меня наброситься с грубыми вопросами. В наших отношениях есть некий порог взаимной ценности, что ли, который вынуждает к некоторым церемониям, к откровенности и к точности. При мне нелепо болтать, со мной надо разговаривать, потому что известно и проверено — я слушаю.
Вообще-то человек, если очень хочет, всегда может добиться своего. Если он поставит себе задачу, чтобы все к нему обращались «ваше величество» и будет на этом стоять неотступно, он своего добьется. Большинство сочтет его сумасшедшим, почти все отвернутся, по те, кто останется при нем, будут его называть, как он пожелает. Пусть таких будет всего трое или даже один. Не бывает людей, которые не были бы нужны хотя бы одному человеку.
Вдохнув полной грудью неповторимый воздух с осеннего пруда, я решил сам начать разговор.
— Самое интересное, Марин, что его убили в результате схватки, борьбы. То есть то ли ему угрожали пистолетом и он кинулся на того, кто угрожал. То ли он угрожал сам, и жертва его в процессе, так сказать, самозащиты так повернула пистолет… что пуля попала точно вот сюда.
Мариночка остановилась. Второй вариант из описанных мною точно совпадал с тем, что должны были, по ее мнению, подумать все, кто знал историю ее взаимоотношений с Брюхановым. Историю, которую она скрыла от следствия.
— Это они тебе сказали? — спросила она довольно сдавленным, как и положено перепуганному человеку, голосом. Кресло мое дрогнуло, замедлило свой целительный бег, но вскоре снова пошло с привычной скоростью.
— На твоем месте я бы не переживал.
Она нервно хохотнула. Как же ей не опасаться: у всех остальных оснований грохнуть этого поганого гада ничуть не больше, чем у нее, но что делать с ощущением, что двое серых мерзавцев присматриваются именно к ней. Она не знает, почему у нее такое ощущение, но оно есть. Ладно, Равиля он называл Мамаем, но это не так уж страшно, это на шутку даже похоже. Почему же Равиль не уходил в другой ЖЭК? Почему держался за Брюханова? Значит, не очень-то обижался. У нее же совсем другой вариант, у нее такое наверчено… И комнату обещал закрепить, и Владика он знал…
— Ты что, замуж за Владика собралась?
— А почему бы и нет? — с вызовом спросила она.
Владик этот был худым пижонистым мерзавцем из типичной московской семейки с «Аэропорта». Сынок родителей, убежденных, что их московская прописка — это что-то вроде римского гражданства. Роман с Мариночкой для него начинался, как хождение в народ, но потом она его чем-то зацепила. Постель — это абсолютно демократическая территория, даже американский конгресс, думается мне, уступает ей в этом. В постель Марины заносило даже нескольких платоновских приятелей, даже одного известного сочинителя. Марина настолько была поражена его высоким желанием совокупиться с нею, что с гордостью поведала об этом мне. Впрочем, могла бы и промолчать, по изменениям в ее словаре я бы сам сделал соответствующий вывод. Но Владика, я думаю, она взяла не обновленным словарем, а каким-нибудь вывезенным в недрах натуры старинным калязинским приемом.
— Ну, а он женится на тебе?
— Ты хам, Илюша.
— Ты же знаешь, что нет.
— Ну если хочешь знать, то он почти совсем согласился.
— По идее, этот скандал с трупом Брюханова должен добавить тебе привлекательности.
— Как же, — опять нервно хохотнула она.
— Успокойся, Мурка, ты его не убивала.
Муркой ее назвал Платон в период безуспешных попыток соблазнить ее. Он почему-то затеял ухаживание в стиле ретро, изображал сороковые годы и непрерывно напевал ей полублатную песенку «Эх, Мурка, ты мой Муреночек, эх, Мурка, Маруся Климова», чем довел ее до полного к себе отвращения. Но кличка прилипла.
Кресло мое пошло тихо-тихо: Мариночка боялась спугнуть только что услышанную фразу.
— Тебе незачем было его убивать, тебе даже выгодно было, чтобы Брюханов продолжал существовать и приставать к тебе.
Кресло почти остановилось, Мариночка не издавала ни звука.
— Хочешь, я тебе расскажу, как произошло то знаменитое изнасилование? — Молчит моя милая, молчит. — Во-первых, не в его кабинете, как ходят слухи, хотя и в производственном, так сказать, помещении. В бухгалтерии, правильно? Что вы там отмечали?
— Первое мая.
— Правильно. Собрались, конечно, скинулись, кто-то музыку принес, была музыка?
— Не помню. Была.
— Наверняка была. Так вот, он тебя и до этого вечера до некоторой степени отличал. То хлопнет пониже… Щипаться очень любил, тебе потом приходилось выкручиваться, объясняя Владику природу этих синяков. Короче говоря, он к тебе лез.
— Пальцы всегда мокрые, изо рта воняло… Вылупится и улыбается! — Кресло остановилось.
— Поехали, Мурка, поехали.
— Поехали.
— В тот раз все как-то быстро напились, или Брюханов всем старательно подливал. Стали расползаться. Осень, темнело быстро. Тебе было весело…
— Мне было тошно. Не помню почему, но мне было ужасно тошно.
— Потом вдруг оказалось, что вы одни, и он полез…
— Я плохо помню, но сначала, это я запомнила, он — бабах на колени, обхватил меня тут, — она выставила бедро, чтобы я хоть краем глаза мог увидеть, где он ее «обхватил», — я его в лысину толкаю, она же у него скользкая. — Мариночка неожиданно прыснула. — От пота скользкая. Мне противно, а он уперся и бормочет, чего-то бормочет.
— Потом там прямо на столе все и совершилось, ты ему еще ухо расцарапала авторучкой.
— Да, — Мариночка расхохоталась, — кажется, было.
— Но неприятность не в этом, дала так дала, ты в своем праве. Он после этого случая что-то себе вообразил, что у вас будет продолжение романа или что-то в этом роде.
— Да-а, с цветами, идиот, явился, еще противнее, чем пьяный. На работу стало невозможно ходить, дома, как в осаде. Все смеются, советы дают. Девчонки и завидовали, он же некоторых тоже… но никаких цветов.
— То есть он в тебя влюбился.
— Шел бы он подальше со своей любовью!
— Но это на словах…
— Что на словах?
— Ты делала все, чтобы держать его при себе.
— То есть как при себе?!
— Мурка, не надо притворяться, ты сама прекрасно знаешь, как. Было много способов от него отделаться: уволиться, например…
— Ну-у, Илюша, это легко сказать.
— Нет, ну если очень бы хотела… А ты решила: пусть все будет как будет. Ты видела, что этот старый вонючий подлец ошалел от своей, так сказать, любви. Но, понимаешь, он никогда не был дураком, и если бы ты сразу, однозначно дала ему понять, что продолжения не будет, все развивалось бы по-другому.
— Я дала ему понять.
— Ой, Мурка, женщина так может сказать «нет», что и совесть свою оставит чистой, и одновременно назначит место встречи. Он начальник РЭУ, циник, взяточник и пьяная тварь, и если бы он понял, что ловить больше нечего, то за неделю пришел бы в себя. Почему он безумствовал?
— Ну уж это я не знаю.
— Не ври. Появился Владик, тоже, что называется, «залип». И ты решила — вот отличный вариант. Он, как все москвичи, при самой спортивной выправке рохля, маменькин сынок, он тебя устраивал в качестве мужа, и ты стала его подогревать. Ты тоже не Мария Стюарт, но на такие дела коварства хватит у любой женщины. И ты стала Владика подогревать. Ты читала ему письма Матвея, читала?
Это я не мог знать точно, но по ее каменному молчанию и неровному шагу понял, что читала.
— А он, как ты понимаешь, писал не про розочки и птичек, он писал открытым «жэковским» текстом, что ему у тебя нравится и как он хочет с тобой сделать то-то и то-то.
— Ну ты уж…
— Ему, мужику за пятьдесят, необходимо было успокоить тебя на тот счет, что и в постели у вас все будет хорошо. Это было как раз то, что сильней всего должно было воздействовать на Владика.
Мы как раз огибали угол пруда и попали в полосу активной воздушной деятельности, плащ Мариночки рванулся в одну сторону с моим пледом.
— Честно говоря, меня удивляет, поверь, эта его страсть к переписке. При его характере это очень странно. Н-да. Так вот, а с Владиком ты немного, я думаю, переборщила, он приостановился перед самым входом в загс. И его можно понять. Я бы тоже остановился. — Мариночка хихикнула. Зря, милая, это мы запишем на твой счет. — Опасность, конечно, тоже притягивает. Для того чтобы поддерживать постоянную температуру в очаге, ты постоянно подогревала Матвея, но где-то что-то все же не рассчитала. Ты, может быть, неплохо чувствуешь мужчин, но плохо изучила москвичей, благопристойность стоит у них часто выше самого счастья. А вот Матвея мне даже немного жалко.
— Ну, конечно.
— Правда. Надо же так вляпаться на старости лет. Тут много всяких есть приемов держать его в руках: побольше легкой бессмысленности в разговорах, как бы случайные взгляды, смех, юбка случайно задирается, когда ты садишься в его присутствии. Во время общих пьянок ты позволяла ему устраиваться по соседству и не сразу сбрасывала с колена его липкую ладонь, давала ему секундочку, другую… А потом просила кого-нибудь из мужиков проводить тебя, а он скрипел вам зубами вслед. Он, конечно, гонялся, ревел, доску объявлений однажды сорвал и кулаком пробил дверь в туалете.
— Ну, у тебя, Илюша, и фантазия.
— Это не фантазия, это арифметика. Владику ты, конечно, объяснила и не просто объяснила, а заставила его поверить, что ты ни в чем не виновата, что всему виной твоя привлекательность и, как принято сейчас говорить, сексапильность, которая, если он женится, достанется ему в единоличное пользование навсегда. А с работы ты уйти не можешь, потому что тогда негде будет жить, не переселяться же прямо сейчас к нему, к Владику. Родители с ума сойдут.
— Откуда ты знаешь про письма?
«Медленная реакция, дружок Мариночка, медленная».
— Я же тебе говорю — арифметика. Ты думаешь, что это твоя страшная тайна, но люди, посуди сама, хоть немножечко похожи друг на друга, у всех одна печень, сердце, селезенка, стало быть, и в голове все устроено более-менее одинаково. — Не знаю, убедила ли ее эта базаровская аргументация, я не мог посмотреть ей в лицо, и в этот момент впервые об этом пожалел. В усилии рук, прилагаемых к спинке моего кресла, философический завиток не отразился. — Схема одна, Мурочка, схема одна. Так вот, Владик, как я понимаю-вычисляю для себя, скрипел зубами, даже старался показать, что все это кажется ему забавным, не знаю, какие именно он говорил тебе слова, по то, что старался показать тебе именно это, я уверен. Ты же соглашалась с ним: да, все забавно, но на самом деле хотела ему показать, что старый черт не так безобиден и что он, Владик, поскорей должен принимать какое-нибудь решение. Чувствуя, что дело движется слишком медленно, ты подкрутила еще немного матвеевскую гайку, приняла его приглашение в кафе, вы там выпили, но чуть-чуть, ты намекнула ему на существование Владика, но сказала при этом, что он слишком молод, что он тебя не понимает, что ты его любишь, но он тебя не понимает. Твою томную неординарную душу. Много слезливой бабской дребедени. Тут почти не важно, что говорится, тут важно, как это говорится и, естественно, кому. Никаких обещаний, ничего конкретного, но грязное воображение бушует. И только он поднимает руки, ты его опять по сусалам. И он издает вопль раненого зверя. — Это меня чего-то занесло.
Кресло дернулось, то ли наехав на камешек, то ли выказывая неудовольствие по поводу стилистической красивости.
— Владик же колеблется. Колеблется на самой грани. Родители его, конечно, против, но это уже почти несущественно. Тут нужен был последний удар, я не знаю точно, что ты тут придумала. Можно было, например, соврать, что вас с начальником посылают вместе в командировку, вдвоем в Новосибирск. Хотя какие в этой фирме командировки? И отказаться нельзя. Но, в общем, что-то в этом плане ты придумала. Но сильное средство иногда дает не те результаты. Владик куда-то исчез, повел себя неожиданно. Кстати, кто у него родители?
— Да родители ничего особенного, дед у него академик.
— Ну, так вот я думаю, что он был у дедушки на даче.
— А что он там делал? — каким-то нехорошим тоном спросила Мариночка.
— Откуда я знаю? Чужая душа — потемки.
— А арифметика?
Пока наш разговор развивался почти как обычно, она не раз делилась со мной интимными сюжетами из своей жизни, и я всякий раз охотно раскладывал вместе с нею пасьянс прогноза. Но сейчас принципиально другой была обстановка. Все, что мы сейчас с нею говорили, для нее отражалось еще в одном зеркале, в мутноватом опасном зеркале следствия. Неизвестно же, что я сказал этим двум серым, и неизвестно, что они сказали мне. И спросить об этом напрямую, она уже поняла, — не может. А ирония и игривость, появившиеся в ее речи с вопросом об «арифметике», это просто временное облегчение, она почувствовала, что наконец-то болото двусмысленности кончилось и она добралась до бугорка, о существовании которого я не подозреваю.
— А мне казалось, Илюша, что ты все ведешь к тому, что это Владик его грохнул.
— Не смеши меня, Мурка.
Ее рука на мгновение оказалась у меня на шее, и я почувствовал, что она не только мокрая, но, как это ни забавно, и немного опасная.
— Ты хочешь сказать, Мурка, что этот мозгляк…
— Сам ты мозгляк. Ой, извини, Илюшечка!
— Ладно, ладно. Так ты хочешь сказать, что этот мозгляк открыл в дедовском подвале старинный пистоль, прокрался тайком в нашу квартиру и шарахнул в этого сексуального маньяка?
— Это не я говорю.
— Он на это не способен. Единственное место, где он ведет себя вызывающе смело, — это твоя постель, я охотно верю, что он там гигант и орел. Скорее, наоборот.
— Что наоборот?
— Если бы Владик тебя так преследовал, то Матвей мог бы решиться на мокрое дело. Вот он тебя любил по-настоящему.
— Но ты же его видел, — в голосе у нее появилась поющая интонация, — морда, зубы…
— Что делать, и морда и зубы, да зато ради тебя он был готов на все.
— Я его ненавидела, он был самый поганый…
— Но спать-то ты с ним спала!
— Один всего лишь разик, да и то…
— Ладно, ладно, успокойся. Если тебе хочется верить, что Владик его мог убить, верь.
Она аж взвизгнула:
— Да не в этом дело, не в этом совсем дело!
— Ну-ну, говори, в чем?
Она продолжала молча толкать мое тело на колесах. Мы описывали седьмой круг — я их считаю автоматически. И тут я поймал себя на неожиданной мысли: мне все равно, как она ко мне относится после этого разговора и даже как она относится к происходящему. Какая-то мгновенная тоска, секундная апатия, неожиданный и в высшей степени ненужный взгляд со стороны на все на это. Слава богу, что состояние это было очень кратким, не представляю, что произойдет со всем этим громоздким делом, если меня впереди ждут повторения этого. Наверное, я просто устал или забежал вперед. Легкость обманчива, я ведь даже от Мариночки ничего особенного не добился, если вдуматься. Мы потом, в конце, посмотрим на нашу ситуацию со стороны и, если угодно, сверху.
— Ты хотела что-то сказать?
— Ничего я не хотела.
— Знаешь, а у меня есть что сказать тебе по этому поводу. Вернее, чуть позже у меня появится то, что в дополнение ко всему этому можно тебе сказать.
— Ты как будто мне угрожаешь?
— Ну, что ты.
— А сам только что сказал, что я не имею к этой истории никакого отношения.
— Я сказал, что ты не убивала. А отношение имеешь самое прямое. Посуди сама, о чем мы с тобой целый час уже разговариваем.
Кресло дернулось.
— Нет уж, ты говори точнее, понятно говори. Ты меня совсем запутал. Вот целый час действительно ходим — и ни с места. Ты же сам сказал, что точно знаешь — убивала не я, но вдруг все так поворачивается, что мне опять не легче. — Напора в ее речи было мало, она боялась напирать, моя таинственность ей казалась опасной — вдруг надавишь, а там все вылезет.
Она, кажется, шмыгнула носом, интересно, от холода или от чувств? Телега наша остановилась. Я молча смотрел на пруд, в том его углу, рядом с которым оказались в этот момент мы, то возникала, то сникала мягкая осенняя рябь. Этот угол был гаванью для большинства опавших, но оставшихся на плаву листьев. Мариночка достала платок и сдержанно потрубила в него.
— Послушай, Илюша, а откуда ты знаешь, что не я, а?
Я, разумеется, не ответил, она и сама не смогла надолго остановиться на этом вопросе, ее увлекло развитие собственной мысли:
— Но если не я, то, значит, или Платон Сергеич, или Равиль?
Смешная у нее интонация, с отчетливо заметным креном в недоговоренность, как ей кажется, известную только ей. Ну-ну.
— Ты очень умная, Мурка, мне нравится ход твоих размышлений. Если не ты, то или Платон Сергеич, или Равиль. Если не ты и не Равиль, то Платон Сергеич.
— А почему не Равиль?
— А почему не ты?
— Пошел к черту! Тоже мне выискался. — Она помолчала, закурила и, выдохнув первый дым, положила мне голову на плечо. — Слушай, Илюшечка, что делать-то будем?
— Наверное, поедем домой, нагулялись.
— Это нечестно, Илюшечка, ты что-то знаешь и совсем мне не говоришь. Я заплачу сейчас. Хоть чуть-чуть мне намекни. Ну, кто? Равиль? Платон Сергеич? Ну, и не я в самом деле!..
— А если и не ты, и не Равиль, и не Платон?
— Ну, это все равно что все. Ладно, поехали домой. Не хочешь говорить, и не надо.
Уж не знаю, чем питалась эта ее внезапная бодрость, но я был уверен, что она не повредит расследованию.
Мариночка вкатила меня в комнату, с очень льстивыми интонациями в голосе приговаривая, что вот, мол, возвращаю ваше сокровище в целости и сохранности. Но Варвары еще не было, и эти приседания пропали впустую.
— Тебя положить?
— Да нет, я посижу. А ты знаешь, попроси-ка зайти ко мне Равиля.
— Равиля?! — У нее мгновенно изменилось настроение, глаза расширились, и она, наклонившись ко мне, прошептала потрясенно: — Так что — Платон?
Она решила, что Равилю я тоже объявлю радостное известие — «Ты не убивал», и тем самым кольцо вокруг литератора сомкнется. Конечно, нужно было бы высмеять ее за торопливость, но в интересах дела я, наоборот, нахмурился. Внутри у меня было хорошо, вид женской глупости меня всегда трогает. Глупость женщины — это непременное условие для мужской власти над нею.
— Не спеши, — сказал я голосом, из которого мне не удалось удалить все театральные ноты, — полчаса назад ты сама боялась, что ты будешь во всем виновата.
— Не хочешь говорить, — надулась она. — Правильно, так и думай. Мне, кстати, все равно, что ты сейчас считаешь, мне важно, что ты расскажешь Владику.
— Ну что ты, Мурка. Кое-что я могу тебе сказать: Платон Сергеич виноват больше, чем ты.
— А это? — она пистолетным движением поднесла руку к виску. — Не он, да?
— Ну, во-первых, не в висок, — я приставил к левой груди указательный палец, — а сюда.
— А откуда ты это знаешь? — пытается бедняжка отыграться.
— Следователи мне сказали.
По ее лицу пробежали сложные мимические волны: примерно так актрисы в плохих фильмах изображают, что героиня наконец что-то поняла. Она поняла. Хотя что она, собственно, могла понять? Мне и самому было интересно, как бы она изложила словами свою версию того, что я ей сообщил о происходящих в нашей квартире событиях.
А теперь не знает, как уйти. Проблема входа и выхода. А мне всегда казалось, что у людей с ее ментальным уровнем такого рода терзаний быть не может.
— Ну, ладно, я пойду?
— Не забудь сказать Равилю.
— Не забуду, Илюшечка, не забуду.
Равиля действительно надо приглашать, он в собеседнике не нуждается. Отдушина ему ни к чему. У него нет потребности изливать душу, у него семья. И сейчас эта семья сидит, вцепившись руками в черные головы. Или кружит, с потрясенным выражением лиц, по своим смежным комнатам. Десять против одного, что это так. Фира — человек методический, и я спокоен, если дело у нее в руках.
Я заметил, что волнуюсь, черт их знает этих татар, что они могут выкинуть. Но если Равиль не идиот, а на мой взгляд, и при своем неважном знании русского языка он прекрасно разбирается что к чему. И потом, у меня же нет никаких слишком уж конкретных ожиданий. Здесь как раз тот случай, когда знак результата безразличен. Только бы Фира не просмотрела.
Дверь скрипнула, и это был не Равиль. Платон, наш дорогой Сергеич. Надо иметь дело с легкомысленными женщинами и людьми искусства. У них не только разболтанная психика, у них есть интуиция, они сами понимают, откуда тянет метафизикой. Представителям малых народов нужны логические ловушки. Эта непрошеная сентенция промелькнула у меня в голове, пока Платон Сергеич переступал порог моего, так сказать, дома и искал глазами Варвару. Значит, имеет самые серьезные намерения и не желает никаких свидетелей, даже таких, на которых обычно привык не обращать внимания.
В нем ничего не осталось от похмельного алкаша, меня всегда забавляли эти его превращения. Серым следователям он должен был показаться, особенно в окружении интерьера собственной квартиры, фигурой незаурядной. Наверняка особенно их впечатлил мраморный бюст какого-то римского императора, имя которого менялось в зависимости от настроения хозяина. Присмотреться он следователям к этому бюсту не дал, потому что на лбу императора пьяной рукой его любимого друга писателя Темрюкова (сжимавшей гвоздь) русскими буквами было нацарапано «моменто море». Были в комнате и другие антикварные штучки, но меня более всего поражали два стеллажа с книгами, здесь вкус хозяина просто вопиял о своей безупречности. Рано различив во мне ценителя, Платон Сергеич любил меня ввезти к себе, установив перед этой лакомой мозаикой, и, хлопоча над чаем, болтать о чем-нибудь литературно-светском. Он обожал сплетни чуть меньше, чем книги. Он знал их множество и умел рассказывать.
«Дать почитать книгу из своей библиотеки — это все равно что дочь отправить на панель», — любил он говаривать, воруя чужой афоризм, но для меня, может быть, в силу условного характера моей мужественности он делал исключение. Его доверие простиралось так далеко, что в дни, когда над ним нависала угроза обыска, он прятал у меня под кроватью ящики с наиболее криминальными ксероксами.
Ну и оделся, собака: бритвенно заглаженные брюки, серый свитер, упирающиеся в подбородок воротнички черной рубашки. На благородно-брыластом лице — достоинство. В нем что, проснулся морской офицер? Или этот туалет лучше приравнять к чистой рубахе, одеваемой перед боем?
— Прокатимся? — В этот момент до меня дошла полна тончайшего одеколонного духа, и я сказал:
— Конечно, только мне надо переговорить с Равилем.
Улыбка его померкла, но он великодушно кивнул. Если разобраться, то настоящего повода для разговора со мной у него тоже нет. Хотя, может быть, хочет спросить, не проболтался ли я следствию о пистолете.
Он до сих пор не уверен, умник, правильно ли поступил, скрыв от них эту историю. Наверняка он непрерывно взвешивает, за или против него играет тот факт, что он сейчас не в состоянии предъявить пистолет. И вообще, был бы он хотя бы уверен, что именно из его игрушки была выпущена пуля, продырявившая могучую грудь этого негодяя Матвея Брюханова. У бедняги от нетерпения просто лопается голова. Как хочется дожить жизнь в полном спокойствии. Как он далек от своих обычных ночных размышлений о том, что жизнь прошла и Толстым ему не стать.
Не дав ему заговорить, в дверь протиснулся Равиль. Платон Сергеич в первый момент выпучился на него удивленно и недружелюбно, несмотря на то, что всего за секунду до этого я его известил о намечающемся визите, и тут же стал многословно выправлять свою неловкость и ретировался.
Равиль был в тренировочных брюках, в кристальной чистоты тельняшечной майке — какой-то кубрик, а не квартира, — на ногах шлепанцы. Вид домашний, взгляд недоверчивый. Мне кажется, он всегда меня не любил. А может быть, я это и придумал. Не знаю я, как он ко мне относится. Вернее, относился. Сейчас он, родной, ко мне заотносится самым отвратительным образом. Между нами всегда была стена. Вернее, пустыня. И в мою комнату он отправился, как с посольством в отдаленную страну. Об этой стране он, может, и слыхал, но не думал и не интересовался знать. И не подозревал, что уже давно и прочно опутан сетью моего невидимого шпионажа и я в курсе самых последних новостей из святая святых его собственной державы за занавесками. Пожалуй, наша короткая беседа будет для него довольно сильным ударом. Именно короткая. Тут очень важна дозировка. Слова должны прозвучать самым сакраментальным образом. Одним рывком его не удастся втянуть в общий кавардак, несмотря на то, что с определенного момента он стал догадываться, что является одной из важнейших фигур в происходящей здесь истории. За ситцевыми занавесками не отсидеться.
Черепаха, выковыриваемая из панциря, сравнение, конечно, примитивное и не самое точное, но оно у меня засело в голове; я смотрел на Равиля, и на лице у меня, кажется, поблескивали остатки улыбки, я всегда улыбаюсь, размышляя.
Он тоже молчал, машинально ощупывая кончиком языка левый ус.
— Ты знаешь, — сказал я самым безразличным тоном, — ты мне принеси, пожалуйста, пистолет. Он тебе все равно не нужен.
Я продолжал внимательно смотреть на него, но никаких особенных изменений в выражении его лица не заметил. Кажется, только руки слегка, на несколько миллиметров согнулись в локтях. Умеет держать себя… и руках. Или просто не понял?
— О чем задумался? Мне нужен пистолет. Ты меня понял? — Тон мой был груб, мой тон был молоток, им я хотел поглубже загнать свой вопросительный гвоздь.
Равиль опустил голову и двумя пальцами потеребил свою полосатую майку на животе. А молчать продолжал.
— Если тебе нужно подумать, иди подумай. Посоветуйся с Фирой.
Этому предложению он на удивление легко подчинился и исчез в коридоре.
Несмотря на мое освобождение, страстному желанию Платона Сергеича все еще не суждено было осуществиться. Раздался звонок в дверь. Первыми, как всегда, протюкали к входу каблуки Мариночки. Ее же голосок громко воскликнул «ой!». В ответ послышался женский всхлип, глухой, в скомканный платок. Гостья была в курсе наших событий и имела отношение к трупу. И даже близкое: кто, кроме родственников, стал бы всхлипывать по поводу этого ублюдка? Пришла Оленька.
Платон Сергеич тоже выскочил в коридор. Началось общее неопределенное бормотание. Платон Сергеич, кажется, предлагал зайти к нему на чай-кофе: настоящий рыцарь, как и положено, пытается подставить в тяжелую минуту плечо. Только не пойдет горем убитая дочь к нему, а пойдет она к своей мимолетной подружке, при ней ей будет легче, при ней она сможет свободно поплакать, и попьет она у нее чаю или кофе, раз в отцовскую комнату пинкертоны велели пока не входить. А может быть, и вообще ее опечатали. Комната, они объявили это всем жильцам, может им понадобиться еще для одного осмотра. Да и что там смотреть? Нарисованную мелом на грязном полу раскоряку — вот и все, что осталось от Оленькиного отца. Хотя, думается мне, никогда он не занимал в ее сознании особенно возвышенного положения, и тот образ, который, судя по всему, взращивала в ее сознании сердобольная и добропорядочная тетушка, мало чем отличался от того, какой запечатлел криминальный художник.
Впрочем, это по большей части домыслы: об отношении белокурой куколки к своему отвратному отцу было известно крайне мало достоверного. По понятным причинам — она не жила в нашей квартире. Платон Сергеич от разговоров на эту тему, из ложного джентльменства, уклонялся. Мариночка, когда я ее однажды спросил, что думает о своем папочке ангел Оленька, стала мне рассказывать, как Матвей Иваныч обожает свою доченьку. Похоже, их отношения состояли из одного брюхановского мощного обожания, под его давлением никакие заметные чувства над поверхностью Оленькиной личности не поднимались. А сейчас, поди ж ты, хлюпает в платок. Многообразны люди. И ничего особенно уж украшающего Матвея я в этом всем не вижу: и гиены носятся со своими детенышами.
После того как странная сумбурная сценка в коридоре рассосалась, литератор, перебарывая, должно быть, наплывы различных чувств, опять потянулся к моей двери, но его снова ждала неудача. Вернулась Варвара со своих таинственных дел. Платон Сергеич — литератор и должен знать, что такого рода искусственные замедления сюжета называются у драматургов «перипетии». Пусть помучается. Пусть получше продумает тот изящный пассаж, с которого он обычно начинает наши беседы. Мне нравится эта черта, и ему повезло, что она у него есть. Люди ценят умение трепаться. Даже если он окончательно опустится, у него будут хорошие собутыльники.
Варвара решила, что меня пора уже и накормить. Правда, моя потребность в еде условна. А яичницу я терпеть не могу. Когда Варвара принесла мне ее с кухни, я только отрицательно покачал головой. Она, не говоря ни слова, не выказав никакой обиды, оставила тарелку на столе и опять полезла в свой комод. И я наконец достался сверх всякой меры жаждущему Платону Сергеичу.
Мы благополучно миновали грохочущий переход от затхлой тишины квартиры к свежей тишине бульвара. Мой спутник бурно, но вместе с тем и интеллигентно радовался солнцу, свету, оттенкам «такой неожиданной осени».
— Знаешь, Илюша, — переходы у него в разговоре бывали хоть и немотивированные внешне, но по-своему логичные, — я купил вчера у спекулянтов на Кузнецком Алданова, но дело не в нем даже, хотя достойнейший был человек, а в цене, которую с меня потребовали и которую я покорно заплатил, — пятнадцать рублей. Василь Василич как-то говорил, что в приличном государстве книги должны стоить дороже водки.
Я был у него в руках в прямом и, как ему казалось, переносном смысле, и теперь он мог не торопиться. Решил меня немного покружить вокруг озера и покружиться одновременно вокруг меня, чтобы выбрать наиболее удобное место для начала разговора.
— И вы знаете, у гениев есть такая особенность: с разных сторон нащупывать одну и ту же мысль. Вот где-то еще у Цицерона мелькает — государство, в котором рыба стоит дороже мяса, не спасет никто и ничто.
Теперь моим рикшей трудился действующий литератор. Он даже функционирует в каких-то комитетах. Но, собственно говоря, что он написал? Правда, глубоко под спудом в старинном его сундуке лежит пухлая малоформатная книжонка с лихим названием «Одетые в бушлаты», с изображением на обложке в высшей степени патриотично выглядящего морячка, одетого, как, и обещано, в бушлат. «Написано с горя», — объяснил он мне как-то с похмелья в порыве внезапной откровенности. Впоследствии Платон Сергеич взял совершенно другой стиль жизни, с Воениздатом старался не иметь никаких отношений. И свою связь с Морфлотом предпочитал демонстрировать непреклонным ношением тельняшки. Так что же он написал? Было, правда, предисловие к сборничку фетовской лирики, написанное и тонко и даже в пику каким-то вульгаризаторам, пытающимся принизить значение чистой лирики. Был и том произведений о первопечатниках, на одной из первых страниц которого гордо значилось: составитель П. С. Брызгалин. Состав обнаруживал немалую образованность П. С., смелость и оригинальность его мысли.
Мы отлично катили мимо славной низенькой ограды, окаймлявшей пруд. Это были часы пышных детских колясок и респектабельных мам. У нас очень престижный район. Мимо меня одно за другим прокатывали устройства, которые в техническом и дизайновом смысле относились к моему креслу, как «мерседес» к инвалидке.
— Вот вы, Платон Сергеич, говорите «государство, мясо, рыба», а я на месте государства запретил бы столь пышные выезды.
Платон Сергеич усмехнулся, решил, конечно, что я шучу, и шучу для того, чтобы продемонстрировать отсутствие у меня комплекса и связи с необходимостью передвигаться соответствующим способом.
— Знаете, Илюша, когда я смотрю на ваше креслице, я вспоминаю платоновскую фразу: «Он вошел в кабину паровоза, там было технически хорошо».
— Хотите, я вам скажу, какая мысль меня мучает с самого утра?
Затаился, кресло начало слегка вибрировать, нервничает? Или просто колесо попало на россыпь мелких камешков.
— Почему вы с самого начала не сказали следователям, что у вас был пистолет?
Вот так берут быка за рога.
— Меня больше интересует, мой юный друг, зачем вы им это сказали, зачем, как говорится, на меня «стукнули»?
— Напрасно вы хотите уязвить меня этим словечком… Согласитесь же, что всегда нужно говорить правду. Меня спросили, и я ответил. Правду ответил. Я ведь не поклеп на вас возвел.
— Кто вас просил?!
— Я, кажется, вам уже объяснил, — я боялся, что он, не дослушав меня, шарахнет чем-нибудь по голове, по при этом мне было очень смешно. — Надо было сказать, что этот пистолет давно уже у вас валяется, без патронов, ржавый, никуда почти не годный, так ведь?
— Ну да, так.
— Потом, разве ваш профсоюз не вступился бы за вас? Представляю, какая поднялась волна, вы ведь до некоторой степени заслуженный человек. И сейчас к тому же этот Кувшинников — ваш близкий друг. Он секретарь, большой начальник. Недавно, но все же. Обещал вам помочь с квартирой?
— Обещал, но при чем здесь…
— Ну вот, остались бы вы без квартиры, но с условным, в худшем случае, сроком. Избегая малых неприятностей, вы прямиком полезли в ворота больших.
— Это была абсолютно бездействующая железка, если ее не смазать и не почистить, и прочее… Но это, Илюша, 218-я статья и грозит мне от трех до пяти, и тут никакой Кувшинников не поможет. Это, по-вашему, «малые» неприятности — пять лет тюрьмы? — Голос его задрожал, я почувствовал, что он выпадает из нашего дела, в таком состоянии он бесполезен, кусок перепуганной протоплазмы.
— Ладно, Платон Сергеич, успокойтесь. Я, разумеется, не предатель и не идиот. Ничего я им не рассказал, хотя меня очень тянуло это сделать. Чтобы, не смейтесь, помочь вам. Они ведь все равно дознаются.
— Да почему?!
— На такой умный вопрос может быть только один ответ: да потому! Поверьте уж, дознаются, и какой при этом у них будет ход мысли? Они мне проговорились, что Брюханова застрелили во время какой-то схватки, борьбы…
— Вот именно, Илюша, а я им тут признаюсь, что у меня был армейский пистолет, а потом исчез. При этом я буду утверждать, что ни в коем случае не убивал. Это выглядит глупо, глупо… Неужели вы этого не понимаете?!
— Вам что важнее — сохранить благородную осанку или выпутаться из этой истории?
— Хорошо, я могу, например, сказать, что пистолет у меня украли. Что подумают следователи? Что — это в лучшем случае для меня — я пошел отбирать свое имущество, началась драка… и так далее.
— Да перестаньте вы думать только о себе. Все знали о его тяге к нашей Мурочке. Он мог затащить ее к себе, достал для убедительности украденный у вас пистолет… Кстати, это действительно тот самый, из которого вы вылечили парализованную старушку?
— Да, — пробормотал он механически, думая о другом. — Почему обязательно Мурка, мог ведь Равиль пойти разбираться насчет жены.
— То есть вы — ни при чем?
— Но ведь я действительно ни при чем! — почти заорал он, несколько мам укоризненно посмотрели в нашу сторону.
— Вы так считаете? — я попытался вложить в свой вопрос хоть немножечко неприязни, которая вместе с многозначительностью должна была составить угрожающую интонацию, но мне трудно было в этот момент настроить себя против литератора, я в этот момент почти обожал его за этот выплеск энергии.
— Я что-то не очень понимаю, — остановился он и закашлялся.
— Дело в том, что Брюханов был продырявлен именно из вашего пистолета.
Гробовое молчание наверху. Еще выше шелестит липа.
— Откуда вы это знаете?
— Это неважно.
— Нет, это-то как раз и важно. Откуда это известно?!
— Успокойтесь, то, что выстрел был произведен из вашего пистолета, не обязательно означает, что вы убийца.
— Что-то я не очень понимаю, — повторил он как бы и небольшой задумчивости. — Вы что-то знаете, или…
— Считайте, как вам удобно. Я много размышлял над этой историей, а потом вы не раз сами меня хвалили за наблюдательность.
— За наблюдательность хвалил…
Платон Сергеич продолжал тяжело дышать и кончиками пальцев постукивал по спинке кресла.
— Ой, как некстати все это, ой, как некстати!
— Кстати, и моя версия — тоже глупость, потому что пистолет вы ему скорей всего продали. Правильно?
— Правильно-то правильно, но откуда вам это все известно?
— Я не сказал, что мне это известно. Я высказал догадку. Источник догадки? Хотите верьте, хотите нет — метод. Дедуктивный. Вот, например, у вас свитер появился, хотя заработки…
Он внезапно заржал.
— Метод! Милый вы мой, свитер этот я купил лет пять назад.
Несколько секунд мы помолчали. Он, видимо, думал, что этот «прокол» со свитером нас уравнивает. В чем, правда, непонятно, но уравнивает.
— Вы знаете, Илюша, у меня чрезвычайно поганое предчувствие. Я, как вы понимаете, не виноват, на кой черт мне сдался этот мордоворот, но как выпутаться из этой истории, я не знал. Мне кажется, что все потихоньку чего-то готовят, и когда эти серые ребята надавят своим следствием, они — раз! — я имею в виду Мурку и Равиля — и выложат свое алиби-малиби. А у меня ничего нет, ни-че-го! А тут вы еще со своим пистолетом. Позарез мне были нужны деньги, по-за-рез. Продавать я его не хотел. Если бы знать.
— А я не понимаю, почему вы так волнуетесь.
Он фыркнул.
— Вы не убивали. Я знаю это точно.
Он фыркнул громче, но горько.
— Мне вот только любопытно: знали ли вы, когда продавали пистолет, что Брюханов несколько дней назад взят под следствие?
— Честное слово. Я об этом узнал только сегодня. Честное слово.
Он не врал, так оно и было, но мне необходим был этот психологический пригорок, с него легче будет подвести моего старшего друга к нужным открытиям.
— Не волнуйтесь, я вам верю. Ваше положение очень прочно. Не думайте, я вас не мучаю, я стараюсь помочь. Только нужно было сразу рассказать все следователям, избавили бы себя от неприятных объяснений.
— Душа моя, нужно меньше вопить направо и налево о чужих пистолетах! И что это вы об одном и том же?! Склонность к дешевым парадоксам не есть признак острого ума.
— Вы можете оскорблять меня сколь вам будет угодно, Платон Сергеич. Ради, так сказать, истины я готов снести и не такое.
Литератор недовольно захныкал, он не любил литературщины. От слова «истина» его просто покорчило.
— Илюша, дружище, сделайте одолжение, не говорите красиво.
— Слова — это не ваша привилегия.
— Не привилегия, дружище, при чем здесь привилегия. Это моя профессия, — добавил он скромно и грустно.
Мне становилось все веселее. Прохладные порывы ветра, подведенные чуть-чуть водяной сыростью, стали налетать чаще, как будто там в глубине пруда билось огромное расплывчатое сердце нашего разговора. Я поймал себя, что специально описываю петлю вокруг основной линии сюжета. Эта пародия на свободный обмен мнениями радовала меня так же, как прозрачная осенняя свежесть, поселившаяся в нашем уголке города.
— Платон Сергеич, знаете, что в этой истории самое интересное?
— Ой, ой, ой, Илюша, только не надо этого тона. Так говорят у Чехова. Выпивают рюмку водки, глядя на вишневый сад…
— Но я действительно собираюсь вам сообщить кое-что существенное.
— Юноша, прошу вас! Не надо изображать из себя Калиостро. Запомните — от всех форм демонизма ощутительно тянет провинцией.
— Как вы отбиваетесь, Платон Сергеич, а я тем не менее… Короче говоря, я настолько был уверен, что нашим пистолетом для убийства Брюханова воспользовались не вы, что не стал скрывать от следствия некоего обстоятельства, лежащего между вами и ним. Трупом.
Платон резко свернул кресло к ближайшей скамейке и вальяжно расположился на ней, установив меня в профиль к себе. В этом была небольшая неделикатность, но я решил это снести. Более того, с видимым трудом повернув к нему голову, я заговорил самым прекраснодушным голосом.
— Вы меня извините, но тот факт, что Брюханов донес в свое время на вас, тоже невозможно было утаить. Да его и не нужно было утаивать.
Его лицо быстро осунулось, благородно очерченные щеки опали, маленькие голубые глаза невидяще смотрели мне в правое колесо. Странно, он ведь умеет мыслить логично. В любом фальшивом построении сразу видит слабую сторону и лихо ее высмеивает, а эта рыхлая конструкция из пистолета и давнишнего доноса кажется ему смертельно опасным капканом. Задумался. Это хорошо: чем глубже яма, тем радостнее вызволение.
— И после всего этого я продолжаю утверждать, что бояться вам нечего. В крайнем случае вас могут привлечь за торговлю оружием, но тут, честно говоря, легче легкого отпереться.
В глазах у него мелькнули искры самой настоящей злости. Ему показалось, что я над ним издеваюсь. Он снова опустил глаза. Не знаю, может ли вообще быть достаточно длинной подобная пауза. Я бы длил ее и длил. Но глубоко запрятанное в недра моего организма и неповрежденное полиомиелитом композиционное чутье подсказывало, что пора кончать, можно все испортить.
— Постарайтесь выслушать меня внимательно. Здесь дело не только в вас, хотя и в вас тоже, здесь дело в Оленьке.
— При чем здесь Оленька? — голос его прозвучал неуверенно.
Хорошо, тогда можно еще чуть-чуть побалансировать перед главным.
— Кстати, меня всегда забавляла эта игра природной, так сказать, иронии. Чтобы у такого монстра родился такой цветочек…
Платон Сергеич слегка оправился, вытер платком уголки рта, хотя в этом не было никакой необходимости.
— У нас в Литинституте был вепс, — медленно входя в прежний образ, заговорил он, — чудище просто болотное, дрался все время, до института кого-то даже убил. А может, и не вепс. Так вот он писал стихи про лютики, снежинки и обожал свою бабушку.
— Я вас понимаю, но вернемся к Оленьке. За этого ангелочка с золотой головкой и зелеными глазками товарищ Брюханов готов был перегрызть горло кому угодно.
— Да, любил ее… — без энтузиазма подтвердил собеседник.
Я остановился, повернул голову влево, делая вид, что любуюсь вторжением солнечного потока непосредственно на водную поверхность. Оттого, что это красное вторжение совпало с очередным порывом ветра, гладь сделалась рябиновой.
— «Нынче ветрено и волны с перехлестом», — с трудом произнес Платон у меня за спиной.
Я повернулся к собеседнику:
— Платон Сергеич, почему же у вас ничего не получилось с Муркой?
Он немного пожевал обветренными губами.
— Илюша, скажите мне, пожалуйста, чего вы добиваетесь? Слишком наша беседа напоминает просто вытягивание жил. Неужели вам это доставляет удовольствие? — Усталый, разбитый, гордый писатель земли русской. И ведь уверен, что обижаем ни за что. А может, ему для «сугрева» нервов нужно специальной литературно одаренной крови? Только за последние полгода он изящно заволакивал к себе, приглушая в коридоре благородный баритон, как минимум четырех пиитических дурех из таинственного литературного объединения в городе Фрязино, которое он вел для добычи себе пропитания. Мариночка ему не дала.
— Извините, это не из праздного любопытства.
— А из какого?
— Я же говорю, что хочу вам помочь.
— Так помогайте, уже давно пора. Что вы вокруг да около, да еще так многозначительно, с напусканием на себя черт-те чего!
Да, действительно хватит, все, что можно было выжать из этой ситуации, я выжал.
— Вы не убивали и не могли это сделать по причинам психологического плана. Тот старинный донос давно потерял всякую актуальность. Да и донос этот… По зрелом размышлении я не вижу в нем ничего особенно отвратного.
Платон издал сардонический звук и напустил на физиономию свое любимое выражение: превосходство и грусть.
— Он ведь был убежден, что вы действительно приносите вред родине. Посудите сами: он ведь ничего не выгадал в результате этого доноса. Он просто выполнил свой долг. Я вижу, мои слова вас коробят. Вы слишком сжились с выработанной тогда версией. Для вас он был грязный фискал, а вы вольный ум и страдалец. Вы не испытывали желания присмотреться к нему, и это странно: ведь, насколько я понимаю, именно злодеи — самый питательный материал для литературы.
— Вы очень начитанный юноша.
— Мне уже тридцать три, какой я, к черту, юноша! — Это был, конечно, ненужный всплеск, с вершин моего превосходства я не должен был рассмотреть показываемый мне язык.
— Как вам будет благоугодно, давайте я буду звать вас «мужчина». «Мужчина, а вы здесь стояли?»
— Интересно, в Морфлот вы пошли по велению души?
— Именно, мужчина, именно. Увлекся, понимаете ли, романтикой, у меня в те годы было вполне благородное сердце.
— Кое-что осталось и до сих пор от этого благородства?
— Почему бы и нет, мужчина.
— Так вот, остатки благородства и не могли позволить вам поднять стрельбу по человеку, у которого вы соблазнили несовершеннолетнюю дочь.
— Ей уже было восемнадцать, — он изо всех сил старался сохранить на губах иронический изгиб.
— Ну, это в данном случае не принципиально, я не суд. Меня интересуют другие аспекты этой истории. Вас познакомила Мурка? Где и как, тоже не имеет значения. Сама наша Мурочка девица хоть доступная, но реалистически смотрящая на вещи, вы ей ни к чему. А может, она вас проигнорировала по причинам, не поддающимся объяснению. Сколько раз вы ее водили в клуб? А она, мерзавка! Я бы ей морду набил, ей-богу. Оленька же оказалась существом более тонким. Думаю, даже стишата пописывала какие-то. Вы знаете эти щенячьи попытки нежных деток из разбитых семей. А у вас членский билет, литобъединение, бархатный баритон…
Платон промокнул платочком уголки рта, он опять собою овладевал помаленьку.
— Момент истины, да? Бросьте вы, юноша. Вы ищете только по моральной координате, примитивный кальвинизм. В абстрактном моральном пространстве ситуация, где сорокапятилетний негодяй соблазняет восемнадцатилетнюю девушку, пользуясь при этом своим служебным положением, отвратительна. Но если схему разместить в жизни, получается несколько сложнее… Ну что мне вам рассказывать, в восемнадцать лет женщина обуреваема смутным стремлением пасть, даже самая рационалистическая натура. В женщине к тому же бездна самопожертвования, стремления служить и особенно, заметьте, в этом нежном возрасте. Потом — комплекс Электры, он в жизни редко бывает направлен на природного отца, выбирается отец идеальный. В данном случае я. Целый букет причин. Как сказал бы простой народ — сама хотела.
— Бедняга, вы, видно, много рефлексировали по этому поводу.
— Да уж.
— Но дело не в вас. Вы нашли себе оправдание — и слава богу.
— А в ней, что ли? Она благополучно меня бросила… Да и, более того, я, разумеется, ни в коем случае не был ее первым любовником. Она утверждала, что вторым, но вы знаете…
— И не в Оленьке.
Платон внимательно на меня посмотрел, потом, удлиняя взгляд, откинулся на спинку скамьи. Я опустил глаза, в последний момент я заскочил слишком далеко, захотелось срезать велеречивый полет декадентской мысли. До Оленьки мне не было никакого дела, вернее, до утери ею своей ангелоподобности. Не имею права считать себя специалистом в этой сфере, но, по-моему, эти золотые волосики и сияющие глазки просто вопили о готовности и желании их обладательницы схватиться с хорошим потным самцом. В силу своей слюнявости Платон, даже разоблачая, все приукрасил: она хочет мужика покрепче, а он терпит, что это всего лишь слегка превращенный комплекс Электры.
Меня слегка расстроило другое: мне было бы выгоднее, чтобы Оленька продолжала считаться ангелом или по крайней мере она сбросила бы свою маску по моей команде, так сказать. Но, как выясняется, невозможно предусмотреть все, и даже в моих глазах картина слегка приукрашена.
А литератор оказался ненаблюдателен. Я случайно приоткрыл перед ним дверку в стене лабиринта, а он благополучно протопал мимо. Он продолжает думать, что мною в моих психологических разысканиях руководит прекраснодушное, как доктор Айболит, чувство, и оно оскорблено открывшейся картиной разгула плоти и изворотливостью интеллекта, вставшего на защиту этого разгула.
— На самом деле, Илюша, это довольно распространенная ситуация. Расставание с одним из комплексов юности. Ведь как нас учили! Лиза, Наташа и тому подобное, как с них брать пример, они же неземные существа. Даже Федор Михалыч, описывая самые страшные извивы женской души, в конце концов их оправдывал: за весь девятнадцатый век нет ни одного отрицательного женского персонажа. — Он опять встал, и мы опять покатились по нежно загибающейся вокруг пруда дорожке, сквозь нежный воздух заката. Все было, как в лучшие времена: пруд, закат, разговоры о литературе. — Женщина — священная корова русской литературы, и когда ты сталкиваешься на коммунальной кухне с монстром в бигудях, с ночной смены, в грязном халате, с полным ртом матерщины, попадаешь в тупик: или врет великая русская, или это существо не женщина.
— Мне нравится ваша реакция. Вас действительно заботит мое отношение к женщинам?
— То есть?
— Вы явно смягчаете удар, как будто меня должна до глубины души потрясти картина интимной жизни Оленьки Брюхановой. У нас речь о другом, о том, что вы не убивали.
— Это верно.
— Мурка, например, когда мы дошли до этого места, для начала взвизгнула от облегчения, но тут же задалась вопросом: кто?
— Мне было важнее узнать, что не я.
— А что вам проку, что я это знаю, ведь я не следователь.
— Все равно как-то спокойнее. В какой-то момент у меня появилось ощущение, что все против меня, неприятное, я вам скажу, ощущение.
Быстро темнело, к пруду вышли собаки из окрестных домов, они обнюхивали землю, траву, деревья, словно отыскивали следы только что исчезнувшего солнца. Огромный лебедь, терпеливо позировавший трем живописцам, вдруг догадался, что малюют они не его величество, а портал одного из достопримечательных зданий, и раздраженно хлестнул крыльями по отяжелевшей воде и прошел несколько метров на цыпочках.
— Так кто же все-таки? — не выдержал Платон Сергеич.
А я как раз представлял себе объяснение Фиры с Равилем и представить не мог. Несмотря на огромный опыт, накопленный моим слухом в изучении нашей квартиры, я очень редко с уверенностью мог сказать, что означают грюканье, цоканье, свист и треск, доносящиеся из-за занавесок. Вот сейчас у них на столе, а может, и не на столе лежит, мутно поблескивая (пистолеты всегда поблескивают так), пистолет, выпустивший пулю в сердце Матвея Брюханова. Что при этом делает Равиль? Молча ходит вокруг и теребит ус? Нет, ус в такой ситуации теребил бы хохол. Сидит, схватившись за голову? Нет, за голову хватаются итальянцы. Нервно курит? Он не курит. Что делает Равиль? И что делает Фира? Явно не причитает, не прижимает ладонь ко рту, не трет платком глаза.
— Я с уверенностью могу сказать, что ваш пистолет сейчас находится у Равиля. Не верите мне, спросите у него сами и последите за реакцией.
— Зачем это мне нужно? Я не хочу, как можете догадаться, иметь к этой истории никакого отношения.
— Но это невозможно, пистолет, как ни крутите, ваш.
— Опять двадцать пять. Марина не убивала, я не убивал. Варвара была на дежурстве, остается Равиль… Вы к этому подводите? А по тону слышно, что и не Равиль, стало быть, опять все сначала. Может, все-таки Мариночка? А Фире Матвей, к вашему сведению, накануне отвесил пару хороших оплеух…
— Вы стали бы из-за этого убивать?
— Но Равиль мог пойти разбираться, Брюханов из куражу достал пистолет. Свалка, выстрел. А у меня на всю квартиру орал магнитофон.
— Мы уже говорили об этом.
— Да, Илюша, вроде бы логично — непредумышленное убийство. Но тогда бы он постарался избавиться от пистолета. Какая-то ерунда, честное слово…
— Вы, похоже, не в курсе, что в квартире в эту ночь был еще один человек.
Скорость передвижения моего кресла снизилась, как будто часть сил Платон Сергеич перебросил в мозг. Сейчас он со страшной силой выворачивает слова моему намеку, чтобы добиться от него истинного смысла. Он уже успел усвоить, что сегодня я ничего не говорю зря. Наконец, кажется, пришел к определенной мысли.
— Послушайте, мужчина, — в голосе искусственный смешок, — не хотите ли вы навлечь подозрение на себя?
— Зачем? Вы бы все равно мне не поверили. Я прикован к своему коню, и вы отлично знаете, насколько прикован. Я имел в виду Владика, он провел ночь в комнате Марины.
— Это такой в очках, поганенький?
— Мне он тоже не понравился.
— Но ему-то зачем?
— Возможно, ревность, она могла его довести до решительных шагов.
— Ревность к Матвею?
— Как будто вы ничего не замечали.
— Нет, кое-что я замечал… Трудно было не заметить. И вы считаете, что это была всего лишь верхушка айсберга, да?
— Наоборот, там было очень даже горячо.
Проигнорировав мою неудачную попытку скаламбурить, Платон Сергеич без предупреждения разорвал кольцо нашей прогулки и покатил меня в сторону от пруда. Вот так всегда: решения о том, что прогулку пора сворачивать, всегда принимаю не я. Несколько раз я просто ради отстаивания своих прав начинал капризничать, проситься домой после первого же круга. Но потом понял, что это зря, в смысле свободы передвижения я навсегда останусь на уровне домашней собаки, тут их отношение ко мне изменить было нельзя. И потом, я слишком любил пруд.
Платон уже подкатывал меня к подъезду. Все же интересно было узнать, с чего это он вдруг так сорвался? С одной стороны, эта реакция меня радовала, с другой — я не мог в точности определить, чем именно она вызвана, и это меня огорчало. А задумал наверняка, потому что с такой решительностью несется для того, чтобы осуществить задуманное. И пусть несется. Он еще не знает, что у меня для него имеется и еще один сюрприз и он будет ему преподнесен в последний момент. Перед самой входной дверью.
Мы полязгали дверью лифта, и, когда кабина со стрекотом ползла вверх, я подумал о том, что ее натужный взлет символизирует рост напряжения в наших отношениях. И жалобный электрический свет под ее гадким потолком тоже… тоже что-то символизирует, но додумать я не успел. Мне нужно было таким образом изогнуться, чтобы естественно выронить на пол…
— Что это, Илюша?
Эспандер откатился метра на полтора и, сделав несколько затухающих вращений, остался лежать на светлом кафеле пола.
— Подайте, Платон Сергеич, это у меня выпало.
Он медленно присел над резиновым бубликом, медленно взял его двумя пальцами и передал мне. Я с трудом удержался от соблазна продемонстрировать работу кисти. Чувство меры, чувство меры! Я не смотрел в его сторону, но по тому, как он медленно возвращается к исполнению своих дружеских обязанностей, было понятно — сработало. Думай, писатель, думай. Неужели ничего не приходит в голову? Что значит этот эспандер в руках неподвижного калеки?
Дверь квартиры, со своим обычным гулом и полязгиванием, распахнулась. Не знаю почему, но меня всегда восхищал въезд в нашу общую пещеру. Что-то затхло-величественное, пыльно-значительное было в этом пасмурном провале. Мне кажется, что люди должны находиться на определенном расстоянии друг от друга, если их насильно сблизить, вот как в нашей пещере, то они начинают действовать друг на друга окисляюще. Вот откуда этот общий запах, эта прокисшая жизнь.
Варвара, оказавшаяся дома, спросила, буду ли я есть. Я проголодался, что было фактом, достойным внимания. Большая, надо думать, милость природы заключалась в этом моем равнодушии к еде. Человек, которому регулярно подают жесткую яичницу Варвариного приготовления, вполне мог бы рассчитывать на получение статуса беженца в США. Варвара была тоже равнодушна к еде, единственное, в чем прямо проявлялось наше с ней родство. Не будь меня, она прекратила бы готовить совсем. Этот бессмысленный аскетизм к ней шел, но меня необходимость жить под его эгидой раздражала.
«Поговорив» о еде, мы с тетушкой выполнили дневную программу общения. Для меня родственник — это человек, с которым не о чем говорить. Иногда, но раньше, несколько лет назад, на меня находила внезапная оторопь: почему эта чужая неприятная женщина живет со мной в одной комнате, возится с моим судном, надевает мне штаны, возит меня вокруг озера? Она не испытывает ко мне никаких чувств. Она на меня не похожа, она храпит по ночам, может, ее храп отучил меня спать, как ее готовка — есть. Меня не интересует ее мнение ни по одному поводу. Например, сейчас мне неинтересно знать, кого она считает убийцей Брюханова. Кто эта женщина? Эти мгновения непосредственного, натурального, что ли, восприятия меня пугали. Как приступы страха смерти. Благо что такие состояния никогда не бывают продолжительными. Острота тает, все предметы сливаются со своими привычными значениями.
Временами мне казалось, что пространство между нами заполнено слабым раствором вражды. Но все равно это взаимное молчание меня устраивало.
Слабый стук в дверь. Незнакомый стук. Так могла постучать Фира. Она, кстати, так никогда и не заходила в мою комнату. Но скорей всего это Владик, вытребованный по телефону своей возлюбленной. Судя по всему, они успели с Мариночкой поговорить. Владик вошел решительно, всем организмом косясь в сторону Варвары, грубо ласкающей внутренность холодильника. Что-то там у нее примерзло.
Современный тип маменькиного сынка, спортивный, с приличной расчетливостью во взоре и в отличном вареном костюме. Все умеет: кататься на горных лыжах и на водных, умеет костер на ветру разжечь в турпоходе, балакает по-английски, водит машину, если надо, отциклюет пол, но так и мечтает попасть под каблук. Не уверен, есть ли у него алиби, Мариночка сможет подтвердить под присягой, что он не покидал ее кровати. Он на нее сейчас злится: «Втянула, лимита…» Дедушка — академик, впереди какая-нибудь заграница, лучше не иметь никаких пятен в биографии. Отдел кадров не будет разбираться: ты убил или тебя убили. Воображаю, как Мариночка пересказала ему наш разговор и как он похолодел, понимая, что все обстоятельства поворачиваются против него.
Молчание затягивается. Варвара если и чувствует, что ее присутствие стесняет мальчика, но никакой деликатности проявлять не собирается. Придется тебе, дружок, объясняться в стесненных условиях. Собственно, он не может себя считать в претензии. Это не я хотел с ним говорить, это он, понимая, что очевидных причин объясняться нет, нестерпимо хочет мне что-то доказать. Посмотрим, как он выйдет из этого тупика. Еще и при Варваре.
— Я ничего не хочу сказать, — хрипло заговорил он, и я любил его в этот момент за то невольное наслаждение, которое он мне доставил своим волнением. — Но я хотел бы знать, — и после некоторой паузы, — но вы, конечно, извините.
Смотрит выжидательно. И что, все, дорогой? Хорошо, идем на помощь.
— Чтобы не затевать долгих переговоров, скажу сразу суть дела: ее халат.
Он молчит несколько секунд в надежде, что я скажу еще хоть пару слов. Потом спрашивает то, что в этой ситуации спросил бы любой.
— Чей халат? — И самое главное, не очень-то ждет ответа. Талантливый мальчик. Он, видимо, решил, что я теперь говорю только заклинаниями. И зачем-то косится на Варвару. Если бы он знал, до какой степени она не в курсе дела.
— Я, конечно, все понимаю. — Опять восхитительная двусмысленность. Очаровательный хлопчик, на глазах из поганого мгимошника получается матерый партнер. — Я был там совсем с другой целью.
Черт побери, это именно присутствие Варвары так напрягает сцену. Она с самого начала оказалась за скобками, теперь ее можно использовать только как разовый фактор.
— Так с какой же вы целью оказались в постели нашей Мурки? — Поморщился от моей грубости. — Допустим, я знаю, для чего вы там присутствовали, но зачем это было делать тайно? — Я тоже хорош, получается хоть и зловеще, но глупо.
— Девушка… репутация, — бормочет он обрывки заготовленной уже для следствия версии и не отдает себе отчета в том, что он совершенно не обязан отчитываться.
— Я только не пойму, зачем вы меня убеждаете? Я ведь и Мурке с самого начала сказал, что ни на одну секунду такой возможности не допускаю. Сто раз ей повторил.
Оживился, почему-то все оживляются в этом месте. Как будто я сообщаю невероятную новость.
— Да, да, я ведь видел без… То есть не покидал.
— А вот врать не надо. По крайней мере один раз вы посещали туалет.
Словно почувствовав приближение кульминации, Варвара захлопнула холодильник и спросила у Владика:
— Чаю хотите?
Он воспринял этот невинный вопрос, как удар в спину.
— Я не пью, — быстро сказал он, глядя на меня страшными глазами. Варвара тем не менее взяла со стола наш мрачный чайник и двинулась на кухню.
— Я ведь только один раз. Мгновенно.
— И вас никто не видел?
Он напряженно потер лоб, для него это был неприятный момент.
— С уверенностью не стал бы… Вернее, кто-то был.
— На кухне?
— Краем глаза… Я как-то побоялся смотреть.
На кухне мощная струя воды ударила в кимвал чайника.
— А когда нужда была справлена…
— Когда я возвращался, то решил — пусть. Будь что будет, — он напряженно дышал, как будто прошел невероятно трудную исповедь.
— Что же, все так и есть. Зря вы разволновались. Я ведь сразу сказал Мурке, что этого не может быть.
— Но она не может поручиться… Она говорит, что меня все же ведь не было эти три минуты.
Ничего себе, это, кажется, еще один узелок, и, главное, с какой легкостью он затягивается.
— Но ведь вы, так сказать, посещали туалет в ее халате.
На лице его отразился со всей ясностью путаный вихрь всех вызванных этой подсказкой ассоциаций, при этом он автоматически говорит:
— Халат короткий, до колен…
— Вот это как раз не имеет ни малейшего значения.
Он вдруг встал, это совпало с возвращением Варвары, он стал перед ней многословно извиняться, она пожала плечами и отправилась к себе за гардероб.
— До свидания.
— Как хотите, — позволил себе пошутить я, — и скажите Оленьке, что я по ней соскучился. Что это она ко мне не заходит? Нам ведь есть о чем с ней поговорить. — Для бедняги это был уже перебор. Во-первых, он считал, что я с Оленькой не знаком, а все разговоры в этот день, по его мнению, могли идти только о трупе. Тогда при чем здесь она?
— Хорошо, я ей скажу.
Варвара неторопливо одевалась. Опять куда-то собралась. В мою сторону не смотрит. Актерских способностей у нее не было никогда, так что это тотальное отсутствие интереса к событиям, происходящим прямо перед ее носом, приходится признать ненаигранным. Отрешенный автоматизм, с которым она делает все на свете, мог бы вызывать у меня жалость, если бы я, во-первых, мог испытывать полноценную жалость, не преодолевающую, причем комически, собственные комплексы; и, во-вторых, если бы за этим автоматизмом не чудилось чего-то отталкивающего. Она всегда с таким вот именно выражением лица застегивает вечные пуговицы на своем черном, смахивающем на шинель пальто. Всегда проверяет наличие ключей в правом кармане, поджимая озабоченную губу, и ключи — будь они прокляты! — всегда оказываются на месте. Потом она снимает заношенную до дыр сумку с крючка и открывает дверь, так и не посмотрев в мою сторону. Нет, в этот раз она все-таки посмотрела на меня тяжелейшим, ни на чем не сконцентрированным взглядом. И внезапное исключение делает застарелое правило еще более утомительным. Этот взгляд не имеет специального отношения ко мне. Так она вообще смотрит на жизнь.
Это хорошо, что она ушла. Сейчас мне удобнее находиться одному. Ведь еще не полностью выполнена обязательная программа. Равиль, как я и догадывался, оказывается самым твердым орешком. Но сомнения могут извести даже душу честного дворника. Я не рассчитывал, что прилетит ко мне по первому небрежному зову и Оленька, это было бы слишком хорошо, это пусть останется на десерт.
Без выполнения обязательной программы теряет свою прелесть любое спонтанное развитие. По крайней мере мне оно уже не доставит настоящего удовольствия. Брать в соавторы случай не хочется. Гармония, как всегда, ощущаемая смутно, безусловно, требовала Равилева прихода. Потом пожалуйста, потом можно прищуриться и со сладострастным спокойствием следить за «вихрем сошедшихся обстоятельств».
Вот уже пятнадцать минут, как дело встало. Платон лежит на диване и отчаянно роется в остатках шевелюры. Мариночка, Владик и Оленька допивают, я думаю, по пятому стакану чая и напряженно беседуют. Или, наоборот, молчат. Скорее молчат. Каждому из них есть что скрывать, и к тому же их воображение не может не притягивать хранящий напряженное молчание татарский угол. До Равиля не могут не доходить волны всеобщего ожидания.
Щелкнула дверь, это у Мариночки, она отправилась на кухню с чайником, их тройственная беседа становится все более водянистой. Хотя одна спиралька, я думаю, там все-таки накалена. Оленька — великая нахлебница по своей природе, жаль, что мне не придется сказать ей это в глаза. Я убежден, что и в постель Платона Сергеича она прыгнула от торопливой жадности, думая, что право туда прыгать принадлежит Мариночке и что стареющий литератор очень ей дорог. Теперь же, сообразив, до какой степени Мариночка заинтересована во Владике, маленькая сочинительница пытается положить глаз на него. Господи, как мне сейчас хочется поговорить с Оленькой! Владик, перепуганный и взбудораженный, вряд ли на ухищрения Оленьки обращает внимание. Мариночка, тоже взбудораженная и не вполне отошедшая от своих утренних переживаний, вполне различила подружкин, может быть, и подсознательный, замысел, и уже приняла решение, что Оленька больше никогда в жизни не попадет в ее комнату. Уже наверняка решила полностью с ней порвать. Мне, напротив, все больше хочется видеть беспечную соблазнительницу. Ведь если говорить честно, то именно с движений ее маленькой золотоволосой душеньки и завязалось это в меру безобразное, но, с другой стороны, стремящееся к своеобразной гармонии действо.
Если я даже и придумал про Владика, то ничего, я не придумал. Она именно так должна себя вести и если не начала, то обязательно начнет.
Т-с-с, шевеление в татарском углу. Кто-то — хм, не Равиль! — движется в направлении моей комнаты. А вот того, что он отправит ко мне жену, я предположить не мог.
Сначала я подумал, что это психическая атака, в первый момент я ее (Фиру) даже не узнал. Я всегда ее видел только издалека и со стороны. К тому же Фира являлась единственным человеком в квартире, о котором я никогда не размышлял. И за это мне наказание, она «повела» себя.
«Зачем? зачем?! Говори, зачем, сейчас. Сиди!» — примерно такие слова и в таком примерно порядке она кричала мне, дыхание ее перехватывало, но она старалась не останавливаться. Я, разумеется, не собирался вставать и немного растерялся, вторжение стихии в продуманный космос меня испугало на мгновение. Причем стояла она в коридоре, боялась, что ли, войти и кричала из коридора. Все это, конечно, не могло продолжаться долее нескольких секунд; посреди потока, как я их для себя квалифицировал, «проклятий» на жену сзади набросился подоспевший муж и стал, перехватив за живот, уволакивать. Она на секунду завопила еще громче и почти сразу перешла на тихие бессильные рыдания. Я, как это ни глупо прозвучит, почувствовал себя на миг князем, положим, Святославом, только что отмстившим неразумным хазарам. Женщины, вопя, бегают вокруг пепелищ, хватают горячий пепел и посыпают им головы. Равилю так и надо: нечего посвящать женщину во все свои неприятности, таким образом просто умножаешь количество неприятностей.
Квартира ожила, все вскочили со своих насестов. За стеной одновременно разъехались от стола три стула, а Платон, катапультированный продавленным диваном, интеллигентно приоткрывал свою дверь. Опоздали. Спектакль временно приостановлен: должен же Равиль дать пару раз по физиономии своей несдержанной женщине. И пока он это делает, а может быть, наоборот, вытирает ей слезы, в его породистой, значительной на вид голове дозревает сознание, что от разговора ему не отвертеться.
Ага, уже идет. А Платон Сергеич так и стоит у своей щелки, умен, необыкновенно умен литератор и обладает к тому же нюхом собаки.
Когда я увидел выражение лица Равиля, то сразу понял — никакой игры тут не надо, возьмет еще и задушит ненароком, не отдавая себе и отчета в том, что делает. Пистолета он, кстати, не принес. Это не суть важно, хотя и важно. Может, Фира его все-таки не нашла? Нет, тогда бы не закатывала истерики.
— Что хочешь? — спокойно спросил Равиль.
— Пистолет, — ответил я лаконично.
— Откуда знаешь? — так же спокойно поинтересовался он.
Южный акцент делал его вопросы слегка угрожающими.
— Я все знаю, — сказал я, и это его почему-то удовлетворило.
— Я не стрелял.
— Я это знаю.
— Милиция думает, что я.
— Ничего она не думает. — Это заявление заставило Равиля задуматься. Думал он, неотрывно глядя на меня, что было неприятно. Я сидел к нему в профиль, как давеча к Платону, мне приходилось время от времени возвращать голову в исходное положение, это, к сожалению, выглядело так, что я под воздействием его взгляда отвожу в сторону глаза. Странно, но меня это раздражало.
— Принеси мне пистолет.
— Зачем? — выражение его лица стало вдруг нагловатым.
Тут я позволил себе задуматься. Правда, слишком уж ломать голову здесь было не над чем. Просто мужественный дворник адаптировался к тому факту, что я знаю местонахождение пистолета, и понял, что пистолет только на первый взгляд является серьезной уликой против него. Стоп! А может, он его просто выбросил? Чего там ломать голову, вышел — и в мусорный бак. Я тут строю, строю, он одним азиатским приемом все поставил с ног на голову. Надо сразу сбивать его с копыт.
— Ну, не хочешь отдавать пистолет, отдай фотографию. — Шея моя отдохнула, и я спокойно мог рассмотреть, что происходит с лицом Равиля. — Что ты на меня так смотришь? — ту самую фотографию.
Я не знал, точно ли у него одна фотография, может быть, две, может быть, есть и какое-то письмо, но детали тут не имели значения.
— Тебе напомнить? Лет десять назад, ты только-только приехал в Москву, только устроился на работу в ЖЭК, где начальником был Брюханов. Он однажды отправил тебя жечь какие-то бумаги. Он думал, что ты парень темный и даже читать по-русски не умеешь, — последнюю фразу я только подумал, но произносить вслух не стал. — Ты оказался намного умнее, чем он о тебе думал, ты бумажки внимательно просмотрел, уж не знаю, почему тебе пришло в голову это сделать, может быть, ты выражение лица Брюханова понял, что бумажки непростые, и кое-что из этих документов сохранил. Среди них была фотография, где Оленька изображена вместе с матерью, тогда еще живой, и своим настоящим отцом. — Здесь я взял секундную передышку, мне было тяжело говорить, тем более таким условным, протокольным образом. Получалось это само собой. Выражение лица Равиля не менялось. Я знал, что в общих чертах все так и было, как я говорю, но мог перевирать детали. — Ты выяснил, что Брюханов является приемным отцом Оленьки, ты понял, что это можно в случае чего использовать. Это следователи думают, что ты был у него в рабстве, бедный, забитый татарин, и он таскал тебя из ЖЭКа в ЖЭК, как своего крепостного человека. А все было наоборот, это ты за ним ползал и держал его крепче крепкого в руках. Как и чем ты получал за свое молчание, это ты знаешь лучше меня.
Честно говоря, тем, как я раскрутил этот психологический узел, можно было гордиться. Все детали я получил поздно и когда они уже не играли существенной роли. Я сообразил все сам, имея самый скудный материал. Как-то, лет десять назад, когда брюхановский роман с Варварой лет десять как затух, герой-любовник ввалился к нам совершенно пьяный, ввалился к нам ни с того ни с сего. Варвара начала его отпаивать кефиром, он в благодарность за это отлично метнул харч, чуть ли не на полкомнаты. Я думал, что меня вырвет, он нестерпим — запах чужой внутренней жизни. Между кружевами беспредметной матерщины и нагло преувеличенных признаний Варваре, что она единственная женщина, которая его понимает и которая его в конце концов спасет, промелькнули два-три довольно немотивированных обещания «удавить этого татарина, если он сболтнет». Равиль тогда только-только появился, и я еще не успел составить о нем мнение. Потом опять волна пьяных признаний Варваре, падение на колени, попытки обхватить ее юбку и уткнуться в нее мокрым от слез лицом.
В добавление к этой сумбурной и страстной сцене имелись у меня всего два кратких впечатления от золотоволосого ангела Оленьки. Мыслительная работа началась с возмущения тем фактом, что такое чудесное создание является плотью от плоти этого животного. Кончилась мыслительная работа выводом, что создание плотью от плоти этого животного не является.
Помнится, я попытался поделиться своими сомнениями с Варварой, что привело ее к чему-то близкому к корчам, глаза сделались белыми, и она прошипела мне, чтобы я навсегда забыл об этом.
И фотография, и эта история с сжиганием документов появились потом. И в том, что я узнал об их существовании, моей заслуги не было. Но я решил этим фактом воспользоваться, ибо не мог же я разворачивать перед Равилем всю историю своих размышлений.
— Это ты, — вдруг ни с того ни с сего выпалил он.
— Что ты хочешь сказать, дорогой? — вежливо спросил я, беря не свойственный мне тон.
— Ты его убил и пистолет бросил в мусор.
Я развожу руками, делаю удивленно-возмущенное лицо, но у меня получается с трудом. В груди все рвется от радости. Наконец-то! И не Мурка Климова, и не внук академика, и даже не член союза писателей, а простой дворник додумался до этой великолепной идеи. Он смотрел на меня такими пылающими глазами, что они, наверное, обжигали ему веки. Возьмет еще и свихнется, жаль было бы потерять такого помощника.
— Знаешь что, Равиль, мы пока оставим в покое пистолет, меня больше интересует такая вещь: зачем ты сказал Оле, что она приемная дочь. Ты же знал, какой это будет для него удар.
— Она сама спросила.
— Она спросила, но зачем ты сказал? Зачем взял на себя ответственность? Мало ли почему она спрашивала?
— Она так говорила… Она знала.
— Тебе могло показаться.
— Она знала!
— Не кричи. Ты просто не хочешь признать свою вину. Неужели не понятно, что ты не должен был этого говорить.
Вид он имел затравленный, начинал атавистически скалиться.
— Ты понимаешь, Равиль, что ты его «убил» этим.
Видно было, что он растерялся. Вот уж такой оборот ему явно не приходил в голову. От неожиданного потрясения открылась какая-то древняя скважина в его душе, и оттуда вырвалось несколько раз:
— Ты шайтан, шайтан, шайтан! — После этого он кинулся к двери.
— А пистолет ты мне принеси! — успел я крикнуть ему вслед, но вышло это у меня не слишком повелительно, я переживал в этот момент другое событие. Свершилось! Я теперь трижды шайтан квартиры номер 50.
Дело, кажется, начинало сдвигаться к развязке — судя по тому, как сокращаются паузы между посещениями. Вот опять кто-то. Вваливаются. Втроем. Такого еще не бывало. Что же, предстоит сеанс одновременной игры.
Они стояли и молчали. Их нетрудно было понять в этой нерешительности, сменившей порыв решительности. У них ко мне двойственное отношение. Они битых три часа подряд выматывали друг другу жилы непрерывными разговорами и пришли небось к выводу, что я единственный, кто может облегчить муку их неизвестности. Но в этой моей способности им чудится и опасность. Мурка смелее других. Она мягко подошла к столу, села, оперлась локтями на клеенку. Владик, уже попробовавший разговора со мной, в бой особенно не рвался. А Оленька, боюсь, и совсем не хотела идти, просто неудобно было уклоняться.
Чтобы не доставлять себе лишних сложностей во время разговора, я взялся правой рукой за колесо и решительно повернулся лицом к собеседникам. На Владика и Оленьку это не произвело никакого впечатления, им не с чем сравнивать, а Мариночка подняла бровь, она привыкла считать, что на такие штуки я не способен.
Я вопросительно наклонил голову набок. Итак? Оленька кусает свои маленькие губки. Владик морщится. У бандерши, если можно так выразиться, злобно-лукавое выражение лица. Вот оно что, они хотят, чтобы я сам начал говорить. Нет, дорогие мои, давайте-ка наконец сами.
— Я вас слушаю.
— Илюша, — голос у Мариночки задрожал, скулки порозовели, волнуется при всей ее бойкости, — мы долго разговаривали… Если, короче говоря, ты же знаешь, что тут у нас творится. Так вот мы говорили, обсуждали…
— И пришли к выводу, что я знаю, как все это объяснить, да?
— Примерно так. Сколько всяких разговоров, все как-то запутались, а с другой стороны, как бы никто и не виноват.
— То есть вы хотите узнать, кто убил, да?
Мариночка подняла брови, поджала губы и быстро кивнула:
— Да.
И Владик и Оленька уже не чувствовали себя неудобно, они, приоткрыв чуточку рты, подались в мою сторону. Я был убежден, что и Платон Сергеич, бесшумно просочившись через коридор, накладывает воспаленное ухо на замочную скважину. Кульминация. Дверь тихонечко скрипнула.
— Входите, Платон Сергеич, входите. — Он осторожно открыл дверь и, виновато улыбаясь, замер на пороге.
Кульминация! Но помимо полнейшей звенящей радости, происходившей, надо думать, от бешено возбудившегося кровотока, я услышал, как где-то вдалеке возникает тончайший писк тоски. Неужели все?! Еще три-четыре предложения — и это чудесное слияние распадется! И я так навсегда и останусь сидеть в этом кресле, никому более не нужный?!
— Так вот, должен вам сообщить я следующее: только что ко мне заходил Равиль, он считает, что убийца я.
Они все одновременно шевельнулись, как будто были связаны одной веревкой и узел на ней развязался.
— Вы что, обрадовались, что ли? Это сказал Равиль. Я же вам скажу довольно неприятную вещь. — Меня прямо затошнило, мне сейчас предстояло немного поморализировать, я этого терпеть не могу, но пути в обход не было в этой ситуации. Я напомнил себе, что сегодня один раз уже становился (вернее, садился) в подобную позу, когда мне нужно было уколоть противника с неожиданной стороны. — Вы, собственно, так долго выясняли отношения между собой, потому что каждый из вас чувствует некоторую долю вины за то, что произошло. — Слова давались мне с трудом, я никак не мог войти в роль, я не мог с юмором, отстраненно посмотреть на морализирующего себя, устраивающего порку бездушным развратным детям. Что же со мной?! Куда все девалось?!
— Вчера днем наша славная Оленька, когда никого в квартире не было, забрела ко мне. Мы разговорились. И она вдруг с необычайной легкостью призналась мне, почти незнакомому человеку, — видимо, ее привлекла, впрочем, как и других, моя неподвижность, я не мог стать разносчиком слухов, — так вот, она слезно пожаловалась мне, что находится в ужасном положении из-за отца, который попал под следствие. Я даже не очень понял, на чем именно, но это могло очень плохо отразиться. Кстати, воровал Матвей Иваныч, если воровал, исключительно для тебя, Оленька, и это платьице и многое другое вряд ли могла тебе купить твоя честная, но бедная тетушка. — Тут ко мне вернулось вдохновение, мир перестал быть плоским, я увидел со стороны то, как выходит у меня эта дурацкая обвинительная речь. И понял, что выходит.
— И стоило мне, Оленька, дать тебе минимальную зацепку, и ты тут же от него отреклась. Ты очень обрадовалась тому известию, что Матвей Иваныч не является твоим родным отцом.
Глазки у нее были отличные, и руки она заламывала вполне натурально. Нет ничего гаже и упоительней превращения ангелочка во взбешенную сучку.
Успел я посмотреть и в сторону Мариночки. Ее облик выражал что-то странное. Это ничего, пока — пусть, сейчас и до тебя дойдет. Владик же — мужчины туповаты — не успевал за развитием событий своею мыслью.
— Наш доблестный Равиль, к которому ты бросилась за разъяснением и подтверждением, долго упираться не стал. Он сразу все и выложил. Мне кажется, что он уже давно в какой-то форме «доил» Брюханова. А тут понял, что дело сворачивается, и показал тебе фотографию. Ту самую, да? Ты, уж не знаю в каких чувствах находясь, поехала домой и вечером позвонила папеньке и не без некоторого злорадства — откуда только в тебе эта жестокость — поинтересовалась, кем же он тебе, собственно, доводится. Он закричал, что приедет и все объяснит. Тебе неохота было устраивать слезные разборы, и ты, умненькая, сообразила, что сказать, ты сказала, что находишься на вокзале и вот-вот уедешь навсегда. И брякнула что-то вроде «я верила вам, как богу, а вы мне лгали всю жизнь». У тебя вдруг открылась склонность к артистизму. Ни с того ни с сего.
— Я с ним была на «ты».
— А, правильно, — я улыбнулся Оленьке, она сосредоточенно соскребала лак с ногтя, — так вот, не имея возможности поговорить с тобой, Брюханов поговорил с Фирой, подвернувшейся под руку. Результат известен. Неприятности ожидали нашего директора и с другой стороны. Как было выяснено мною во время моего собственного следствия, Мурочка долго и умело морочила голову Матвей Иванычу, — в этом месте я специально подпустил придыхание и перевел глаза на Мариночку таким образом, словно рассчитывал заглянуть прямо ей в душу. Оленька всколыхнулась и ожила. Платон Сергеич ерошил остатки волос, взбадривая, должно быть, извилины.
— Монстр влюбился. Влюбился по-настоящему. Просто сходил с ума. Писал письма и тайком посылал цветы. Не удивлюсь, если он и стихи сочинял по ночам. Но помимо того, что он был поклонником нашего Муреночка, — Мариночка была бледна, как всё, с чем принято в подобном случае сравнивать, — он являлся еще и ее начальником, отношения с которым… Короче, от него зависело многое, если не все. Прописка, жилье. Лучше колесование, чем назад к маме. А тут появился подходящий жених. — Владик стал что-то соображать, то засунет руку в карманы, то вытащит. — Вы, ребята, сами меня попросили рассказать, в чем тут дело, так что терпите.
— Мы потерпим, потерпим, — улыбнулась Оленька.
— Мурке пришлось разрываться.
— Не называй меня Муркой, у меня есть имя.
— Хорошо, но тут не в имени дело. Так вот, не будучи уверенной, что с женихом будет в порядке, Владик, извини, но ты гарантий все никак не хотел дать, а благородные юноши так себя вести не должны. И Мурка…
— Я же просила!
— Извини. Она продолжает держать на длинном поводке своего начальника. Он считал тебя, Мариночка, благороднейшей девушкой и очень казнил себя за то, что с тобой сделал. Женщины очень могут вот так все устроить. Брюханов что-то пронюхал, хотя молодые влюбленные старались не попадаться ему на глаза. Владик знал об опасном сладострастии начальника. Марина ждала. Но поддерживать напряжение на высоком уровне не так просто, и вчера Марина допустила прокол, впустив к себе своего жениха. Она, то ли решив, что Брюханова нет, то ли решив, что плевать на него, наконец, не воспрепятствовала ночному походу жениха в коммунальный туалет.
Была несомненная искусственность в том, что я говорил в третьем лице о присутствующих, но эта искусственность и помогала удерживать ситуацию. Когда человека оскорбляют впрямую, он лезет драться или сбегает. А когда он является всего лишь прототипом художественно описываемого мерзавца, он начинает копаться в себе.
— Брюханов оказался на месте, более того, он, как волк, кружил по квартире. И когда он увидел своего соперника в халате своей возлюбленной у входа в туалет, можно себе представить, какого рода переживания добавлялись к переживаниям по поводу разговора с дочерью. Он не стал набрасываться на более удачливого… на Владика, он решил затаиться и решил дождаться такого момента — прошу прощения, что опускаюсь до обсуждения столь низменных вопросов, — когда у возлюбленной тоже возникнет потребность, так сказать, воспользоваться… халатом, — никто даже не хихикнул, никто не чувствовал дикого комизма произносимого мною текста, — чтобы затащить ее к себе в берлогу для объяснений. Это ему удалось. Все свершилось бесшумно — никто не был заинтересован в огласке. — В этот момент я посмотрел на Оленьку, она сияла. Для женщины всегда блаженство видеть унизительное положение другой женщины. — У себя в комнате Брюханов… — я не смотрел в сторону Владика, мне и так было ясно, что с ним происходит, — как всякий обманутый любовник, извините, влюбленный, не стал хищно набрасываться на предмет своих, так сказать, вожделений, вернее, стал, но только с упреками. Сам, как большинству присутствующих известно, не будучи нравственным человеком, он, как и большинство людей подобного типа, тяжело переживал безнравственные поступки, направленные против него самого. Я, разумеется, затрудняюсь передать дословно содержание этого разговора, да в этом и нет нужды, поскольку один из участников разговора здесь присутствует. Мне думается, что имели место совершенно нецензурные формулировки, причем высказаны они были с чрезвычайной энергией. Форма, в которой высказывались претензии, и лишила Марину терпения, которое она сначала, я думаю, готова была проявлять, и она начала защищаться. Самый лучший способ… Чтобы не говорить длинно, Марина переключила внимание Матвей Иваныча со своих прегрешений на прегрешения его дочери. — (Вот, Оленька, праздник опять возвращается на твою улицу.) — Она сообщила, что его дочь, глубоко и беззаветно обожаемая Оленька, находится или находилась — как бы это выразиться поадекватнее? — короче, спит с Платоном Сергеичем, литератором. С человеком, которого он давно и искренне ненавидит и презирает. Да, Платон Сергеич, извините, конечно, но это факт. Настроение Матвей Иваныча, причем непрерывно подогреваемое изрядным количеством алкоголя, переменяется. Марине удается вырваться и без скандала ретироваться в свою комнату.
Странно, что никто не уходит, я не гипнотизер, или здесь какая-то другая форма гипноза. Что-то их держит, хотя у каждого было сто возможностей обидеться.
— Брюханов, осознав сказанное ему Мариной, ломится, естественно, к Платону Сергеичу, который тоже, будучи очень навеселе, лежит на своем диване и в сотый раз прокручивает одну и ту же кассету группы «Святая простота». Брюханов против музыкального сопровождения беседы, но как человек, находящийся в перевозбужденном состоянии, проходит против самого простого решения проблемы — можно было просто выключить магнитофон. Он заставляет Платона Сергеича проследовать к себе, чтобы провести допрос там. Или просто дома стены помогают.
Я специально наворачиваю лишние предложения, просто из желания проверить стойкость такой материи, как сплав страха и любопытства. Они дослушают меня в любом случае, даже если сочту нужным вставить в свою историю пересказ сюжета «Войны и мира».
— Там, в его комнате, происходит бурное объяснение с хватанием за грудки. Появляется, друзья мои, и пистолет. — Все одновременно вздрогнули. Все думают, что вот сейчас! — Разговор у них получается крайне сумбурный. Брюханов запугивает Платона Сергеича, но непонятно, чего хочет добиться этим запугиванием. Платон Сергеич ведет себя мужественно, говорит взбешенному отцу что-то вроде «стреляй, сволочь!». Потом, заметив, что Брюханов сломлен этим проявлением воли, уходит от него.
Так вот, друзья мои, я все это рассказал вам не просто так, вся эта история имела своей целью дать вам возможность представить себе душевное состояние, в котором оказался после всех этих событий наш малоприятный герой. В течение всего лишь одного вечера он узнает, что его возлюбленная, бывшая с ним иногда столь ласковой и в чистоту и искренность которой он верил беззаветно, открыто, демонстративно спит с другим. И пусть, так сказать, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной, да, Платон Сергеич? — В глазах литератора я вижу, кажется, омерзение. Дурачок! — В добавление к этому ему становится известно, что открылась его страшная тайна, хранимая им столь истерически. Это был его комплекс, он не мог без того, чтобы Оленька считала его своим родным отцом. К тому же он о самой своей боготворимой дочке узнает, что она любовница его врага и человека, им глубоко презираемого. Нельзя, кстати, забывать и того, что эта психологическая драма происходила на фоне открытого против Матвей Иваныча следствия.
Платон жеван губами, у него был уже готов разумный вопрос довольно давно, он почти с самого начала хотел его задать, но в таких ситуациях первой всегда вступает женщина:
— Так кто же все-таки его убил?! — почти взвизгнула Мурка.
Жаль, что спросила она, логичнее было бы услыхать этот вопрос от дочери. В ответ на этот взвизг в душе у меня тренькнула давно уже зародившаяся, почти с самого начала, печальная струна. Все! Пора расставаться со своими драгоценностями.
Мои богатства сейчас бездарно превратятся в шелуху мелких психологических эффектов. Плебейская радость прозрения, которая сейчас на них на всех хлынет, очень скоро сменится благородной тоской по тайне, но такая история может повториться только через сто лет. Ну что ж:
— А никакого убийства и не было.
— А что же было? — задала Мурка совершенно лишний вопрос.
— Самоубийство. Не вынеся тяжести обрушившихся на него невзгод, Матвей Иваныч Брюханов выстрелил себе из пистолета в сердце.
Молчание, вызванное этим заявлением, было очень коротким.
— Ну а пистолет? — поинтересовался Платон Сергеич.
— Пистолет я выбросил в мусоропровод.
Опять замолчали.
— Дело в том, что я единственный, кто слышал выстрел. В каком-то смысле я предполагал, что должно произойти нечто похожее на выстрел, внутренне был к этому готов. У Платона Сергеича громко играла музыка, после скандала он добавил громкости. Потом вы же знаете, что с кольца доносится шум, у машин частенько трещат глушители и тому подобное. Если специально не прислушиваться, то услышать этот выстрел было невозможно. Я специально прислушивался. И, услыхав, выехал на своем кресле. Дверь его комнаты оказалась незапертой, я толкнул ее. Труп лежал там, где его и нашли, я вынул из его руки пистолет и поехал обратно. Я немного рисковал. У меня на тот случай, если бы меня застали за этим делом, было всего лишь психологическое алиби. Я подкатил к мусоропроводу…
— Зачем? — На меня обрушился целый шквал из возмущенного шепота, писка, крика и рычания. Этот вопрос повторялся в разных вариантах с придаточными предложениями и с присовокуплением самых разных эпитетов. Если бы вся эта энергия просто превратилась в ветер, меня бы уже несло над поверхностью любимого пруда.
Ответил я им, конечно, спокойно, что мне было волноваться? На эту тему я думал всю свою жизнь, и это бездарное кудахтанье не могло меня поколебать.
— Прежде всего я хочу вам напомнить, что вы теперь свободны от подозрений. Если вы прислушаетесь к себе, то поймете, что ваше возмущение очень поверхностно, а по-настоящему глубоким чувством, вас переполняющим, является облегчение. Завтра придут следователи, и я им все расскажу. С другой стороны, если честно прислушаться к себе, разве все вы не нервничали по поводу этой смерти? Вы что, и теперь сможете утверждать, что в произошедшем нет ни капли нашей вины?! — Теперь мне мой нравоучительный тон казался восхитительным. — Не надо самообольщаться, вы все в той или иной степени виноваты в этом самоубийстве. Вина каждого трудноуловима, но, на мой взгляд, несомненна.
— А скажите-ка, Илюша, я хотел об этом спросить вас в самом начале вашей… лекции, — все-таки Платон не дурак, именно он должен был сообразить первым, — почему вы посвящены во все детали: откуда вы так точно знаете все, что происходило? Это, согласитесь, странно.
— Более того, это подозрительно, — пошел я ему навстречу. Я уже смирился с необходимостью расставаться и со вторым своим сокровищем. — Все это рассказал мне сам Матвей Иваныч Брюханов. Он иногда и раньше заходил ко мне поболтать. А после начала романа с Мариночкой так и часто.
Ответом мне было общее молчание. В принципе я был готов и к третьему «разоблачению» и почти не волновался. За сегодняшний день я успел составить мнение о своих партнерах, и оно не может быть признано высоким. Полуразрушенные алкоголем мозги Платона вряд ли представляли собой серьезную опасность. Брожение в его импозантно-испитой голове, вероятно, уже началось, но это будет материал для эпилога. Он, судя по всему, состоится завтра, да и вряд ли будет интересен. Признаться, вначале я планировал минимум двухсерийную историю, хотелось всем им дать пережить во взведенном состоянии ночь. Вполне я допускал участие в ней и, так сказать, официальных чинов. Мой искусственно растянутый разговор с «чинами» помимо основной цели — придать себе весу в глазах наших «домашних» — стал магнитом для всех их сомнений, выполнял и косвенную цель: оставить возможность для продолжения, где серые пиджаки должны были сыграть некоторую роль. Необходимо было очень и очень помельтешить перед их протокольными мозгами, чтобы они обвели мою фамилию в блокнотах двойной чертой.
Ну что, все, мои дорогие? На сегодня, кажется, все. Все четверо и сразу, как будто слушали мой внутренний монолог, стали поворачиваться и, не прощаясь, уходить. Находясь уже в дверях, Оленька, замыкавшая колонну, остановилась ко мне в профиль и сказала хрипловатым голосом:
— Илья…
— Ильич, — услужливо подсказал я.
— Варвара Семеновна придет попозже, она у тети. У нас. Она будет нам помогать хоронить… папу.
Я великодушно развел своими сильными руками. Попозже так попозже.
И все. В коридоре они как будто рассосались. Татарская резервация тоже хранила молчание. Темнота уже полностью вступила в свои права. Я с легким содроганием воображения представил себе грязную, будто выдолбленную из камня, лампочку над входной дверью, ее бессильное свечение в недра общего коридора. Было так тихо, что я почувствовал запах квартиры. Невозможно было определить, откуда он исходит. Ни проржавевшие шинели на душераздирающей вешалке возле Платоновой комнаты, ни переполненные сизыми жгутами белья тазы в ванной, ни остов велосипеда, хищно оскалившийся под потолком, ни клопо-комод, навечно занявший выемку возле кухни, ни даже сама кухня не могли нести основную часть ответственности. И ни один житель квартиры в отдельности не мог издавать такой запах, ибо если бы люди так пахли…
Все свое убогое детство и переполненную мрачноватыми мечтаниями юность я ненавидел эти вечерние и ночные противостояния один на один с этой вонючей пещерой. Это был худший вид пытки, особенно потому, что о нем невозможно никому рассказать. Люди понимают только понятное, впечатлять может только история об иголках, загнанных под ногти, или история измены любимой женщины, или (неохота больше заходить на территорию, известную мне лишь понаслышке) что-нибудь в этом роде. Но это ежедневное сидение в колесном гробе или лежание в постельном никакими словами невозможно превратить во впечатление для другого. Но даже если бы это удалось и если бы отыскался человек, пожелавший вывернуть свою психику настолько, что смог бы понять меня, то я тем сильнее ощутил бы, что мне это не нужно. Но то, что жалость, я об этом не говорю, даже понимание меня такого мне не нужно, оно для меня равносильно смерти. Только здоровье! Быть здоровее здоровых, полноценнее полноценных. Я столько намотал немого терпения на свой внутренний стержень, что, случись мне выздороветь, я шаровой молнией влетел бы в их мир телячьей полноценности. Но это несбыточно. Я могу совершить своими руками все что угодно, скоро смогу согнуть монету — но это лишь приближение к недостижимой цели. Я серьезно, всеми своими вытесненными в голову чувствами ощущаю счастье человека, пережившего ампутацию. И я богаче его, он не может сравнить себя со мною, а для меня это живейшее переживание, его горе для меня — недостижимая поверхность, освещенная солнцем.
Не очень умно заявить, что привыкнуть можно ко всему, но, по всей видимости, дело так и обстоит. И я в конце концов полюбил не только эти сидения один на один с безмолвной сумрачной квартирой, прерываемые лишь непрошеными телефонными звонками, но в бессонные ночи в присутствии храпящей Варвары. Любые шевеления в космосе нашей коммуналки отдавались в моем мозгу, как грохот каблуков в сияющем зале. Вот сейчас кто-то шумно спускает воду в грязное горло туалета, прихлопывает дверь, не накладывая крючка. И топает на кухню, чтобы помыть руки. Странно: все, абсолютно все жители квартиры для омовения рук, побывавших в грязном деле, использовали только ванную комнату. Только один человек, один-единственный, пользовался для этих целей кухонной раковиной, и только у него такой, одновременно шуршащий и тяжелый, ход шлепанцев и такой бесконечно знакомый ритм шагов. Никто, кроме него, не ходил у нас так. И дверь моей комнаты он открывал всегда не за ручку, а отковыривая створку всей пятерней, и стучал костяшками этой же пятерни с внутренней стороны двери и только потом просовывал голову.
— Здравствуй, Илья.
— Здравствуй, Матвей.
Он улыбался мне, обнажая громадные лошадиные зубы, и, подойдя ко мне осторожно, уважая мою убогость, хлопал меня по плечу.
— Как поживаешь, Матвей Иваныч?
Он снова гладит меня по плечу, но уже сильней, требовательней. Я открываю глаза — надо мной стояла Варвара и удивленно смотрела на меня. И вопросительно.
То, что я заснул не под утро, измученный бессонницей, а в неурочный вечерний час, просто чудо!
Варвара рассматривает меня внимательно, как нового жителя комнаты. Тоже мне, нашла диковинку.
— Поедем кататься? — спрашивает она обычным глухим голосом.
Ей явно этого не хотелось, она вымоталась за день.
Что это за идея хоронить Брюханова! Но бессмысленный педантизм, дошедший до грани самоистязания, вынуждал к исполнению раз и навсегда принятых на себя обязанностей. Ей наплевать на то, хочу я кататься или нет, но хочется быть честной перед собой и перед своим чувством долга. Моя инвалидность — твой крест. Ну что же, неси его.
— Хочу. Кататься.
Она медленно отвернулась и пошла надевать свое черное пальто. Когда мы, вкрадчиво стрекоча колесами моего кресла, выезжали в коридор, там было пусто. За те секунды, пока Варвара возилась с входной дверью, я окинул пространство нашего коридора еще несколько осоловелым взглядом, глаза еще были прикрыты прозрачной ватой сонливости, но я увидел, что все двери заперты. Только что пережитые события развили в жильцах роковой квартиры склонность к уединению. Но мне почему-то показалось, что это временно, что вполне можно ждать какого-нибудь неожиданного взрыва. Я не успел проследить эту свою мысль. Варвара выкатила меня на площадку. Пока она выманивала твердым «вохровским» пальцем лифт на наш этаж, я ни о чем не мог думать. Наконец мы опустились. Почему-то остановились у почтовых ящиков. Сквозь дырочки видно, что в нашем что-то белеется. Варвара открыла ящик, долго рассматривала конверт, но без очков, тем более в здешнем освещении ей ничего разобрать не удалось. Я безучастно молчал. Во время прогулок стиль наших взаимоотношений не меняется. Мне нет дела до ее почты. Во время наших прогулок мы не говорим друг с другом ни слова. Это понятно: ведь, кружа вокруг пруда, Варвара не может предложить мне поесть. Другие темы — природа, погода и т. п. — давно отмерли.
Наконец-то мы покатили. Уже полностью стемнело, но это и хорошо, ночной пруд нравится мне еще больше. Горела нежно оцепляющая пруд гирлянда фонарей, между влажно поблескивающих стволов замер одухотворенный туман, лаковая поверхность воды в отдельных местах проступает пятнами водяного лоска, но в основном он уже покинул зримый мир и стал объектом веры. Даже болтливые сограждане и суетливые собаки переменились в новом освещении, и я мог сочувственно следить за грациозным мельканием какого-нибудь терьера меж священнодейственно замершими стволами. Любопытно бы знать, каково воздействие этой красоты на Варвару, может быть, она воображает себя на посту, только теперь ей вверена достопримечательность — пруд, и она должна волноваться, поскольку овальное сокровище явно стремится к тому, чтобы стать окончательно невидимым.
Кресло остановилось под фонарем, и Варвара, войдя в середину светового пятна, опять начала рассматривать письмо. Краем глаза я покосился в ее сторону. Она опять ничего не могла рассмотреть. (Попроси Варвара племянника, если попросишь, я прочту тебе это послание.) Я бы действительно это сделал, хотя мне совершенно не хотелось расставаться с блаженством безмолвствования в вечерней прохладе. Варвара не захотела, она хотела остаться пунктуальной в выполнении договора о невмешательстве. Как говорится, вольному воля.
Варвара положила письмо в карман и прокатила меня еще метров пятнадцать. Удивительное существо; конверт, чувствуется, обжигает ей бок, руки трясутся, но в башке сидит обязанность объехать со мной пруд не менее трех раз. Ну что же, мучайся. Я ничем не хотел ей помочь. Мне слишком нравился вечер. Кто знает, будет ли у меня еще один такой. Еще никогда так не поблескивала вода, еще никогда так осмысленно и таинственно.
— Посиди, Илья, минутку, я сбегаю за очками.
Нашла выход. Ну беги, беги. Это даже хорошо. Это более чем хорошо, это счастье: вот, оказывается, о чем я мечтал всю жизнь — погулять вокруг пруда в одиночестве. Мелочь, доступная каждому кретину, для меня превращается в невероятное приключение. В этом и состоит мое главное отличие от людей. От нормальных людей.
Варвара очень удачно «забыла» меня, большую часть того интересного, что могла мне предоставить ночь, я отлично обозревал. Само собою — пруд, разнообразное дрожание морозного воздуха перед разнообразно освещенными окнами и отдаленное устье улочки, выхватывавшее фрагмент напряженной жизни Садового кольца. Горожане же терялись во тьме в прямом и переносном смысле, их присутствие более угадывалось, чем действительно имело место. И ничуть не радовала мысль о них. Вдруг возникала надо мной освещенная вспышкой зажигалки курящая усатая морда, и волны сумрачного счастья снова смыкались за нелепым сладострастным бормотанием парочки горожан.
Очень скоро мне начало казаться, что кресло подо мною слегка раскачивается, это воображение наконец-то уступило совместным романтическим усилиям городской природы. Из той же счастливой слабости возникло и тонкое музыкальное волнение воздуха, и я задрал или попытался задрать голову, чтобы рассмотреть звездное небо над своей головой, ибо имел право, причастившись совершеннейшим проявлением земной красоты, поразмышлять о той…
Ничто так не отрезвляет, как грубое вторжение. Не Варвара, просто варварски взвизгнули тормоза за спиной. Какой-то пьяный абрек в соответствующем его настроению стиле покидал кооперативное кафе, укромничавшее тут поблизости в переулке. Смешно, право, но в такие моменты я совершенно готов убить виновника. Будь у меня пистолет (о, Равиль!), я не задумываясь нажал бы на спусковой крючок вслед бешеному «Жигулю».
Моя мысль, как очнувшаяся гончая, кинулась по старому следу, не сразу себе отдав отчет в том, что в этом уже нет нужды.
Хотя, странно, в чем-то Равиль все же сумел настоять на своем. Мне мнилась какая-то моя недоработка. Или счесть это всего лишь асимметричной деталью, которая оживляет слишком продуманную картину? Приходится.
Я оглянулся и посмотрел в сторону дома. У меня появилось чувство, что Варвара уже вошла в низенькую ограду сквера, но кремнисто поблескивавшая дорожка была пуста. Долго, секунд сто, я наблюдал ее, но картина не менялась. Только из кооперативного переулка выскочил еще один абрек, и тормоза у него взвизгнули еще сильнее, чем у его предшественника.
Трудно себе представить дело, которое меня бы интересовало меньше, чем выяснение отношений между двумя пьяными кавказцами (хотя почему кавказцами?.. Они вполне могли оказаться московскими бандитами). Так вот, трудно себе представить такое дело, но я вдруг разволновался. Собственно, где Варвара? Разумеется, речь шла не о каком-нибудь дурацком ощущении брошенности, забытости, в другое время я бы только радовался возможности побыть наедине с собой и своим водоемом. Но в другое время Варвара мне бы и не предоставила такой возможности, так бы и пыхтела в затылок темным воздухом. «Другое время» — эта короткая фраза неприятно шевельнулась у меня внутри, и мгновенно внутри же, как рука плохого фокусника, негармонично распустилась целая гирлянда неувязок и шероховатостей, которую я спрессовывал в течение всего дня. Такое сложное, путаное дело ну ни за что не могло пройти чисто, без сучка и задоринки. Надо честно себе признаться — дело не кажется мне завершенным. Ведь уже в тот первый момент, когда я, расслышав хлопок и убедившись, что никто не спешит выяснить, что он означает, пересек темный коридор и вкатил в комнату Матвея, то комната эта мне не понравилась! До такой степени не понравилась, что я еле сдержался, чтобы не позвать на помощь. Но сдержался и решил, что мой страх — это нечто естественное в такой неестественной ситуации. А надо было, осел, верить себе! Зачем было проявлять эту свою силу воли! Сейчас мне уже математически ясно: что-то в комнате Матвея было не так, там не хватало какой-то важнейшей детали. Уже уезжая, с выковырянным из его пальцев пистолетом, я последний раз окинул все внимательным взглядом… Чего же не хватало в комнате такого самоубийцы, как Брюханов?! Наглого, вечно пьяного, хитрого, подлого, но сентиментального и болтливого гада. Не хватало — письма!
Я закашлялся: тяжелый, не свойственный мне кашель давил меня изнутри.
Я выслушал километры его исповеди, меня всегда поражала невероятная истерическая страсть к самобичеванию, поливанию себя грязью. И этот его разветвленный, так до конца и не распутанный мною самоуничижительный и одновременно напыщенный комплекс вины перед самыми разными людьми. Мог ли он отказать себе в столь пышном удовольствии, как последнее прощальное письмо? И даже, может быть, не одно. Наверняка одно отправлено любимой и жестокосердной дочурке. Но намного слаже и необходимее было обратиться с прощальным приветом к Варваре. Попросить у нее прощения за все. И за то, что было давно, и за то, что было недавно. За то, что он был откровенен со мной, за то, что я, а не она, сопровождал его на этом последнем пути. Я не раз ему говорил о том, как я отношусь к Варваре и что если он хочет общаться со мной, то должен исключить начисто ее возможность участия в его делах.
Чтобы отправить такое письмо, нужно было лишь спуститься на первый этаж.
Варвара все не шла. Чтобы было удобнее следить за дорожкой, я, взявшись за холодное колесо, повернул кресло.
Просидел я в этом положении минут двадцать и понял, что нужно ехать. Нужно ехать домой. Самому. Был обуреваем непривычными чувствами. Попытки рассуждать логически разваливались, не доковыляв ни до какого вывода. Что она могла прочитать в этом письме? Что он там такое мог написать?!
Темнота вокруг стояла странная. Может быть, я преувеличивал ее значение, но, по-моему, обычная темнота над моим прудом в этот час менее монолитна. В сегодняшней было как бы меньше, чем следует, воздуха.
Я медленно налег на колеса и, дрогнув правым на невидимом камешке, покатил вон с пруда. Одинокое кресло со сгорбившимся пассажиром, бесшумно крадущееся в темноте, — странное зрелище, когда бы у него нашлись зрители. Я еще умудрялся размышлять над такими вещами. Руки быстро замерзли. Немного же во мне, наверное, крови.
У выезда я притормозил. Из предосторожности. По вечерним переулкам шныряли люди, и меня не привлекала возможность стать жертвой их милосердия, невыносимо было бы оказаться в чьих-нибудь жадных до жалости руках. Кроме того, гулящие горцы со своими «Жигулями»…
Улучив подходящий момент, я преодолел — с третьего раза, включив все свои силенки, — низенький бордюрчик и оказался на асфальте. Удачно обогнул призрачно освеженную лужу и завидел двери нашего парадного. И тут я заметил, что меня трясет. Руки мои совсем окоченели, и я поднес их ко рту и стал выдыхать на них слабый белый пар. Не думаю, что меня трясло именно от холода.
Интересно было бы узнать, сколько страниц в этом послании? Что вообще происходит сейчас в квартире? Я еще несколько минут подержал руки под пледом.
Дольше всего мне пришлось возиться с входной дверью. Она у нас тяжелая, угрюмая, расхлябанная. Дважды она срывалась с моих жалких пальцев и ухала на место. Мне пришлось еще раз отогревать пальцы. И я изобрел в это время способ борьбы с косностью этой дверищи. Нужно было лишь сменить положение. Я проник в парадное. Там меня ожидало еще одно препятствие — ступенька перед лифтом. Но тут же нашлось средство преодоления — отопительная батарея.
Лифт был далеко вверху, но свободен. Кнопка заставила с собой повозиться, наконец внутри этого железного монстра что-то чмокнуло и содрогнулось. И я подумал, что в моей жизни, если разобраться, произошел переворот. Оказывается, мне не нужен никакой провожатый. Если я сам смог вернуться домой, то уж спуститься — и, главное, когда мне этого захочется — я смогу. Я свободен! Мне никто теперь не нужен. Меня снова трясло, но решил не обращать на это внимания. Я чувствовал, что осталось совсем немного, что, когда я въеду в квартиру, все прекратится. Варвара, пожалуй, действительно была влюблена в него, он оказался ее страстью на всю жизнь. Кабина по привычке ныла и дрожала, вздымая меня, но она лгала: я весил меньше пятиклассника. Собственно, это самозабвенное участие в приготовлениях к похоронам должно было навести… Кабина вонзилась в заказанный этаж, и я ощутил, что моя дрожь улетучилась. Для Варвары он, безусловно, жертва, и, стало быть, надо нам готовиться к поискам виноватого.
Перед дверью квартиры я немного постоял. Автоматически пытаясь на слух определить, что там происходит внутри. Это было малодушие. Ничего не надо знать заранее. Неужели она до сих пор читает!
Мне предстояло позвонить или, вернее, постучать. Кнопка звонка была так же недоступна, как Варварины тайны. Но постучать я не успел — заметил, что дверь прикрыта неплотно, стало быть, не заперта. Я тихонько потащил ее на себя, и она послушалась. Я не сразу въехал в коридор. Я в него заглянул. Там было пусто и тихо. Дверь нашей комнаты была распахнута. Варвара скорей всего была дома. Я поборол сильнейшее желание позвать ее как бы на помощь. Самостоятельно, царапнув колесом по косяку, я преодолел порожек и был теперь совсем дома. С полминуты я стоял не двигаясь, предпочитая дождаться чьего-нибудь появления или хотя бы звуков из нашей комнаты. Но наконец это выжидание стало глупым. Я чувствовал, что Варвара в комнате.
Легонько толкнув левое колесо, я попал в поток тусклого света, производимого старинным торшером. Варвара была где-то в глубине. Я бесшумно и медленно катился вперед. Она сидела за столом, поставив локти на клеенку и сжимая обеими руками направленный на меня пистолет. Я все понял и крикнул: «Давай поговорим!»
Клетка
1
слыш сань спаси меня эта ни прикол сань не знаю как начать помниш мы пашли пить пива вчера или позавчера теперь дни не знаю с тех пор как обрезало ни *** не помню очнулся подвал сколько прасидел где ни*** не знаю потом приходит один говорит пиши все как есть говорит передам твоим сам в противогазе а я в углу за решоткой толстая*** не нравица мне эта гаварит сидеть мне здесь может долго пока пусть ищут меня вот и пишу тебе сань скажи ребятам всем пусть ищут тут подвал дверь железная когда этот открывает в противогазе ступеньки верх видно орать ночью пробовал глуха как втанке решотку шатал но зомурована*** мне сань спаси
Толстяк-редактор бросил исписанный тетрадный листок на стол и поднял глаза на подполковника. Подполковник облизнул сухие потрескавшиеся губы, вынул из кармана еще один листок и молча положил перед толстяком. Тот вытер скомканным платком потный лоб, повернул к себе белый захватанный вентилятор и снова приступил к чтению.
*** дела сань клетка маленькая ноги вытянуть никак жрать дает только саленава воды чуть опять гаварит пиши плоха ищут тебя снова и пишу еще сань нет здес ни параши ни так под себя*** ванища выводить он меня баица сам не крепкий вабще*** сань торопи ребят сань за мной ничего ментовку подключи за мной ничего кто он незнаю говорю денег дам молчит все дам не отвечает чего надо не гаварит шуруй сань шуруй
***сань совсем мне *** приходит
ток по решотке пустил пива колбасы принес на табуретку *** поставил я руку протянул ***знаишь как опять говорю скока бабак тебе скокам*** машину аддам гараж чего нада хоть скажи а он пиши да пиши завтра говорит совсем тебе *** будет уроет он меня сань в башку идет неизвестна какое что мыж со школы с тобой сань пошуруй сань тут еще вот что чевота гремит за стеной вроде метра может транвай ищи сань
— Вы в милиции с этим были?
— Первым делом.
— И что же они?
— У них свои сложности, чтоб дело открыть — от родственников заявление нужно. Ну, и другие есть отговорки.
— Он что, сирота?
— Хуже. Мать… Отец лечится по алкогольному профилю. Сестра с хахалем на югах. Надолго.
Вентилятор отвернулся от хозяина кабинета, тот взял его пухлыми пальцами за затылок и поднес к своему виску. Редкие волосы, тщательно зачесанные на лысину, начали шевелиться, как неприятные мысли. Работнику газеты было чуть больше сорока, но от сидячего образа жизни он безнадежно расплылся, страдал одышкой и сильно потел. Военный пенсионер подполковник Мухин, подходивший уже к концу своего седьмого десятка, выглядел более подтянуто и браво, чем он. Только нос в обильных красных прожилках портил впечатление, наводил на непочтительные размышления.
— А вы, извините, кто?
— Подполковник Мухин. Леонтий Петрович. В отставке. Я в училище у Романа был по военной подготовке. А к вам пришел, чтобы опять-таки на милицейские органы повлиять. Они всерьез дело это не принимают. Лень им. А если пресса, резонанс… Ведь пытают парня. И ведь типическое явление. Помните, в ванной полгода девицу держал какой-то. Да и вам полезно. В том смысле, что громко прозвучит. Вы газета, вы не можете быть в стороне.
Журналист разочарованно отставил в сторону шумную воздуходувку и сделал губами «м-да, м-ня».
— Может быть, вы опасаетесь, что розыгрыш?
— Как вам сказать…
— Руку на сердце класть не буду, но всем им чувствую, что — нет. Не такой парень Роман. Всех розыгрышей — кнопку подложить учителю на стул или, извините, мочи в пиво плеснуть. До такой хитрости ему умом своим не дойти. Парень туповатый.
— А если кто-нибудь от его имени состряпал эти бумажки? По ним как-то слишком видно, что тупой.
Кулак с платком снова прошелся по лбу.
— Орфография тут… не говоря уж о пунктуации. Искусственно как-то…
— Да он так всегда и писал. Для его дел ему орфография не слишком нужна. А уж пунктуация…
— А красные чернила? Чуть не половина слов зачеркнута.
— Ну это уж я, извините, прошелся. Как-никак я педагог. Не мог же я к вам, к прессе, с открытым матом. Все же вы издание массовое. А насчет почерка не беспокойтесь. Я старые тетради Романа носил в милицию, они произвели сличение. Его, говорят.
— Его-то его, — журналист снял очки с толстыми стеклами и помассировал несчастного вида глаза. Подполковник, и без того сидевший прямо на неудобном стуле, еще больше выпрямил спину. Ему было жарко в кителе, хотелось почесать кончик носа. Очень хотелось. Но он не смел. Ему казалось, что этим он снизит свои шансы в разговоре.
Очки вернулись на место, заново вооружая взгляд газетного работника. Пухлая ладонь медленно легла на тощую стопочку исписанных листков.
— А кто этот Саня?
— Саня Бухов. Дружок Ромки Миронова. Такой же грамотей. У них сейчас бригада как бы. Приторговывают. Плохо я знаю их нынешние дела, не то что прежде. Компания не слишком светлая. При деньгах.
— Понятно.
— Он, Саня Бухов, мне и принес эти письма. Ему их, говорит, подбросили в почтовый ящик. Сначала он подумал, что шутка такая глупая. Как и вы подумал. А потом хватился — и он, и ребята, а Романа-то нет. Нигде.
— Сколько дней прошло с того момента, как появилось первое письмо?
— Точно не скажу. Неделя, наверное.
В наступившей тишине жужжание вентилятора стало самоувереннее. Журналисту дело явно не нравилось, но и отказаться от него впрямую он почему-то не мог.
— Хорошо, оставьте это у меня.
— А… э-э… они, это, не затеряются?
— Я сейчас сделаю ксерокопию, а оригинал верну вам.
— Хорошо бы.
Толстяк еще раз снял очки и еще раз помассировал глаза, как бы понуждая их поскорее разглядеть, в чем тут собака зарыта.
— А у вас нет своей версии? Вы ведь знаете ситуацию лучше всех, насколько я понимаю.
— Кто бы мог быть этот истязатель?
— Ну да.
Подполковник разумно покачал головой.
— Нет. Пока. Думал много. Многих примеривал. Но… Слишком заковыристый тип этот маньяк. Насколько берусь судить, обычные бандиты так не действуют. Это не денежное вымогательство.
— Да, пожалуй, это маньяк.
Журналист встал, держа трагические послания на весу.
— Сейчас я приду.
Как только он вышел, подполковник впился ногтями в кончик зверски чешущегося носа.
2
Леонтий Петрович Мухин жил в коммунальной квартире, в комнате, состоящей из 20 кв. метров и двух больших окон. Одно выходило лицом в обширный, но чахлый сквер, другое косилось левой своей створкой на трамвайную остановку. Уже давно, лет десять назад развелся подполковник со своей супругой, оказавшейся после размена семейного очага на другом конце города, в большой светлой комнате вместе с младшим ребенком, дочерью Татьяной. Старший ребенок проживал в то время уже отдельно, хотя и несчастливо.
Дети не поддержали безумную разводную идею пятидесятивосьмилетнего в ту пору отца. Их шокировало то, что в таком возрасте он побежал за весьма сомнительной молодой юбкой от престарелой, но верной жены. Их не смягчило даже то, что вскоре подполковник был судьбой жестоко наказан. Рыжеволосая ундина из парфюмерного магазина бросила, и самым оскорбительным образом, ветерана вооруженных сил и любовных игр. Препятствовало примирению то, что после разрыва бывшая супруга Леонтия Петровича серьезно заболела.
С тех пор подполковник жил один. Старая закалка позволила ему без особых потерь преодолеть жестокие житейские перипетии. Прибавилось немного седых волос. И вначале подрагивала левая щека, а потом и подрагивать перестала.
Жил он скромно, не грешил особыми запросами ни в материальном, ни в духовном плане. Имел небольшую пенсию и необременительное хобби. Копировал из книг и альбомов гравюры, изображавшие старинные корабли. Стены его комнаты были в несколько рядов увешаны самодельными изображениями каравелл, бригов, галер, триеров, дракаров, бригантин, клиперов, галеонов, шхун, барок и т. п. Лучшие свои часы Леонтий Петрович проводил за кропотливой работой, вкладывая в возню с тушью, лупой и пером всю свою душу. Любил он постоять у своей «коллекции», чему-то таинственно улыбаясь.
Вернувшись домой, Леонтий Петрович снял мундир и заботливо повесил в шкаф. Заварил ароматного травного чаю, сел к круглому белому столу, застеленному идеально белой скатертью, и разложил перед собой тетрадные листки, испещренные крупными буквами полудетского почерка. Прихлебывая ароматный лекарственный напиток, подполковник подверг очередному мозговому штурму необычные тексты, пытаясь сквозь них рассмотреть отвратительную личину мучителя, садиста, маньяка. Леонтий Петрович ни на секунду не сомневался, что таковой существует. Ни о каком розыгрыше не может быть и речи. Но неплохо бы понять, каковы могут быть побудительные мотивы действий подобного человека. Возможно ли вообще проникнуть в душу, столь полно напитанную тьмою?
В сотый, наверное, раз прочитав написанное рукой истязуемого ученика, Леонтий Петрович решил подвести некоторые итоги.
Что можно с уверенностью утверждать по итогам умственного расследования? Семнадцатилетний юноша по имени Роман Миронов, подвергнутый действию неизвестного наркотика, оказался в некой клетке. Клетка эта расположена под землей, вероятнее всего — в подвале какого-то дома. Но где этот дом? Впрочем, и здесь можно кое-что прояснить. Сомнительно, чтобы такого бугая, как Роман, даже оболваненного химически, удалось бы незаметно транспортировать, не привлекая внимания. Можно было утверждать, что клетка эта находится неподалеку от злополучной пивной. Саня Бухов покажет, какой именно. Кроме того, есть и еще один ориентир — грохот за стенами помещения, где расположена клетка. Или метро, или трамвай, не так много, но больше, чем ничего.
Леонтий Петрович отхлебнул чаю и подошел к окну. Быстро темнело. Из сквера доносились взрывы пьяноватого неприятного хохота. Бродили сигаретные огоньки.
Продолжим.
Что можно сказать о самом мучителе? Человек роста небольшого, можно даже сказать, что он щупл. Комплекс маленького мужчины? Возможно. Один ради самоутверждения становится французским императором, другой истязает туповатого московского акселерата. Теперь противогаз. Это тоже важно. Это может означать: а. — мучитель лично знаком Роману и не хочет, чтобы тот его узнал, б. — в планы мучителя не входит убийство парня, и он боится, как бы Роман не опознал его впоследствии. Во второе хотелось бы верить больше, чем в первое, но первое вероятнее. Надобно повнимательнее всмотреться в тех, кто находится, или находился, поблизости от Романа.
И всматриваться надо поскорее, потому что долго Роман не протянет, писания его прямо-таки сочатся кровью и отчаянием.
Раздался звонок в дверь. Дверь открыла Раиса, соседка Леонтия Петровича, девушка без возраста. Это пришли Бухов с Русецким. Ребята были мрачны, в умеренном подпитии. Оба рослые, коренастые, с шеями ненормальной толщины, с белыми мозолями на костяшках пальцев. У одного черный ежик и черная кожаная куртка — Бухов, у второго ежик рыжий и куртка джинсовая, соответственно — Русецкий.
Шумно ступая огромными остроносыми башмаками, они подошли к столу, с грохотом придвинули стулья, сели, одинаково поставив локти на скатерть.
Леонтий Петрович отхлебнул чаю, почесал кончик носа и спросил:
— Ничего?
Саня Бухов едва заметно, но отрицательно покачал головой. Русецкий нахмурился и покрутил золотую «гайку» на пальце.
— Дурное какое-то дело. Мы со всеми побазарили — никто ничего. Его не за деньги подпалили.
— Согласен. Он и сам об этом сообщает, — подполковник постучал пальцем по листку с письмом Романа.
— Что будем делать? — спросил Русецкий, голос у него оказался неестественно низким и шершавым, сжег каким-то ацетоном голосовые связки.
— Продолжать.
— Что продолжать? — Бухов, потирая левое запястье.
— Искать. Он где-то рядом, неподалеку. Чую, — энергично сказал подполковник, и нос его подергался. — Надо обшарить все подвалы, склады и другое похожее все. Особенно те дома, что стоят возле метро и трамвайной линии. И будьте поосторожнее как-нибудь. Не ходите по одному.
Бухов и Русецкий одновременно исподлобья поглядели на своего бывшего наставника.
— На всякий случай, — улыбнулся тот, — может ведь быть, что это война против всей вашей команды. Тоже надо и такое учитывать.
Саня Бухов опять едва заметно помотал головой.
— Навряд. Но я поговорю с бандитами с нашими.
— С бандитами, — заинтересовался военрук, — а вы кто?
— Мы «отморозки», — просипел Русецкий.
— A-а, ну, в общем, понятно. Но все равно присматривайтесь. Чую я, что гад этот не издалека. Где-то поблизости сидел. И момента ждал. И Ромку он выбрал не случайно. Вот только бы докумекать, чего ему надо.
— Лажа, — поморщился Русецкий, — если не бабки, то что ему еще может быть надо?
— Может, тут, ребятки, не бабки, а баба? — загадочно улыбнулся подполковник.
«Ребятки» переглянулись.
— Надо с Люськой побазарить, — неуверенно прогудел Бухов.
— Кто это Люська?
— Его кошелка.
— Постоянная?
— Ну, как постоянная… сейчас вроде да.
— Скажи ей, Саня, что мне нужно с ней поговорить. Лучше у вас где-нибудь. В знакомой обстановке, значит. А теперь идите, да в оба глядите.
Парни поднялись и шумно двинулись к выходу. Подполковник грустно и мудро посмотрел им вслед. Еще нет и восемнадцати, а какие волчары. Он помнил их по училищу очень хорошо — и тогда уже они были лихими пареньками. Дрались, курили, приворовывали. Как почти все. Нынешняя их жизнь была для него загадкой, он чувствовал, что внутрь они его не пустят, а жаль. Может быть, и пригодилась бы, может, и сработала бы его педагогическая жилка и удалось бы ему отвести эти души заблудшие от дел самых плохих. Эх, мальчишки, искренне вздохнул Леонтий Петрович, на какую жизнь обрекли мы вас. Что стало со страною, что стало с вами. Кто ответит за все это?! Подполковник отвернулся к темному окну, отхлебнул холодного уже чаю и молча сказал: я и отвечу. И на сердце у него стало если и не легче, то чуть-чуть яснее.
Вновь позвонили во входную дверь.
Леонтий Петрович никого не ждал и поэтому удивился. Не к Раисе же гости.
— Леонтий Петрович, вам письмо, — раздался голос соседки.
Неподдельное удивление выразилось на вечно обветренном лице военрука. От кого же могло оно… он уже много лет не получал никаких писем. Еще не успело оформиться смутное предчувствие, а лист клетчатой бумаги уже плясал в дрожащих пальцах.
Леонтий Петрович эта Роман я — дальше шло краткое изложение всего того, о чем повествовалось в трех посланиях «Сане». Потом новости. Таинственный истязатель и не думал оставлять своих упражнений в палаческом искусстве. Омерзительная его изобретательность не знала границ. К пытке неизвестностью, голодом, жаждой, грязью и током прибавилась пытка паяльной лампой, то есть огнем. По мнению автора послания, безумец в противогазе решил зажарить его «как свиню». Желваки на щеках военрука окаменели, застучала кровь во лбу.
— Кто?! — крикнул он вдруг. — Кто?!
В голосе его смешалось такое количество боли и ярости, что могло показаться, что его вопрошание обращено к высшим силам. Оказалось — нет. У вопроса был адресат на земле.
Леонтий Петрович выскочил в коридор.
— Рая!
Всклокоченная женская голова показалась в дверях ванной:
— Кто это принес?!
— Женщина.
— Какая женщина?
Раиса сделала движение рукой, стараясь обрисовать облик, но стал распахиваться халат, и рука не успела закончить работу.
Подполковник не обратил внимания на этот приступ стыдливости.
Женщина, размышлял он. Если в эту историю замешана женщина… может быть, женщина и есть этот самый… общеизвестно, что лица женского пола по части изуверских изысков талантливее мужиков. Отсюда и противогаз.
— Где она?!
Раиса и здесь ничего не успела ответить, подполковник уже отпирал дверь. Даже не переобув шлепанцев, вылетел наружу. Лифта ждать не стал. С четвертого этажа скатился со скоростью двоечника. Но все эти подвиги пропали даром, ничем, кроме равнодушной темноты, улица не ответила на его старание. Искать неизвестно какую женщину, ушедшую в неизвестно каком направлении? Уж лучше подавайте стог, заряженный иголкой.
Обратный подъем занял много больше времени, чем спуск. Лифт кто-то мучил наверху. Колотилось стариковское, отвыкшее от таких порывов сердце подполковника. Неохотно утихала одышка.
Леонтий Петрович взял себя в руки. Что, собственно говоря, проку в беготне? Преследуемый будет только рад, если ему удастся поселить суету в душе преследователя. Нельзя ему давать этого шанса, нельзя. Трезвый анализ, спокойная оценка фактов, наблюдательность. Маньяк должен быть повержен силою мысли и твердостью воли, только тогда победа над ним будет полной и настоящей.
Вернувшись к себе, подполковник сделал несколько глубоких вдохов, как учило одно руководство по дыхательной гимнастике, которому он почему-то верил, хотя ко всем прочим проявлениям восточной бесовщины и медицины относился с глубочайшим презрением.
Наконец, поняв, что он готов к продолжению спокойной умственной работы, Леонтий Петрович решил перечитать послание Романа Миронова. Когда он второй раз дошел до паяльной лампы и «свини», вновь непроизвольно отвердели желваки и возникло труднопреодолимое желание немедленно бежать куда-то, крушить и рушить. С повторным приступом военрук справился легко. Но тут выяснилось, что на клетках тетрадного листка его ожидает нечто поинтереснее паяльной лампы. Там имелся P.S., написанный… не рукой Романа.
Спокойно, Леонтий, спокойно, товарищ подполковник, скомандовал себе бывший педагог и подчинился своему внутреннему голосу как старшему по званию.
Дорогой Леонтий Петрович!
Рад приветствовать Вас. Рад поздравить Вас с началом сотрудничества. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем сделать его приятным и взаимопоучительным. Я рад, что наш общий друг Рома наконец удостоверился, что обращаться за помощью к тем, кого он считает друзьями, бесполезно, что это пустая трата весьма драгоценного времени. Кроме того, я с самого начала подозревал, что эти «отмороженные», как их называют, очень быстро наложат в штаны или вывихнут себе мозги и кинутся за помощью к кому-нибудь из старших. Вы, насколько я понял, являетесь Роману не совсем чужим человеком. Так что я рад возможности напрямую протянуть Вам свою руку и еще раз поздравить Вас с началом нашего сотрудничества. Вы, уверен, откликнетесь на послание бедняги и не бросите его в беде.
Разумеется, не подписываюсь. Пользоваться вымышленными именами пошло. Назвать свое настоящее — значит оборвать нашу общую историю на самом интересном месте.
До свидания.
Жду Вашего первого ответного хода.
3
— Ну, что вы теперь скажете?!
В этот раз газетный толстяк находился в кабинете не один и это его, кажется, немного стесняло. Две некрасивые девушки возились с бумагами у соседнего стола и слишком умело делали вид, что им наплевать на происходящее вокруг.
Двойное послание — истязаемого и истязателя — попало в струю, рождаемую вентилятором, и заскользил о к краю стола. И пухлая, и сухощавая ладонь упали на нее одновременно.
— Что же вы молчите? Ведь как божий день ясно — такого без широких усилий не взять. Он же вызов бросает не только мне, подполковнику и педагогу. Он обществу прямо в лицо плевок производит.
— Все же надо вам еще разок попробовать обратиться в милицию, — испытывая сильную неловкость, выдавил из себя журналист.
— Да был я сегодня уже в райотделе. Не верят они до конца таким вот человеческим документам. А если верят, то хотят, чтобы дело само как-то прекратилось на нет. А закон дозволяет такой произвольный беспредел. С законом этим — я еще тоже немного разберусь, а пока нужен толчок в общественном мнении. И они сразу не посмеют тормозить расследование.
Журналист откровенно страдал. Вчера еще он попытался с ксерокопированными посланиями Романа Миронова сунуться к начальству. Ему было в связи с этой инициативой выражено крайнее недоумение. Господин Петриченко, было ему сказано, наше издание и так костерят почем зря за то, что мы якобы нагнетаем истерию в обществе. Даже тогда костерят, когда мы работаем с абсолютно проверенными фактами. Какой же реакции нам ждать, когда мы явимся вот с этим? Можно страдать в угоду истине, но не за потворство какой-то сомнительной психопатологической галиматье.
Эту мысль почти дословно изложил подполковнику журналист Петриченко, только «галиматью» заменил на «сомнительный факт». Хотя он и попытался придать своей речи тот же цинический напор и бесчеловечную бодрость, что звучали в голосе главного, его аргументы разбились о монолитную уверенность Леонтия Петровича в своей правоте, как пулеметная очередь о лобовую броню.
Лицо ветерана покраснело.
— Вы же… вы понимаете, что говорите?!
Петриченко скосил глаза в сторону и вниз, как будто ему срочно нужно было проверить, не развязался ли у него шнурок.
— Вы же «Ленинская смена», как же вам не радеть за молодежь и душою не болеть! Я пришел прямо к вам, а вы вот так?! В милиции хотя бы волокита, прямо никто не гонит.
Подполковник резко встал, вырвал из пальцев Петриченко послание-кентавр, спрятал его в карман и сухо заявил:
— Имею честь обратиться в иные издания.
Журналист вяло улыбнулся и развел руками, открывая потные от стыда подмышки.
— Ради бога.
— Нет, вы меня не поняли, — помахал перед его очками своим сухощавым пальцем военрук.
— Отчего же, понял.
— В иные, понимаете, иные издания, где не моргнув расскажу всю нелицеприятную истину о вас. Об вашей «Смене» и об вашем отношении.
— Это ваше право, — стал наливаться кровью Петриченко, — удивляюсь, почему вы сразу в эти «иные» издания не потащили вашу… переписку.
Леонтий Петрович развернулся и уверенным шагом направился к выходу. Обе девицы оторвались от своих бумажек и с ехидным любопытством поглядели ему вслед. Петриченко потащил к себе вентилятор.
Но не сразу ушел подполковник.
— Да, — сказал он, вдруг остановившись, — а ведь вы правы. Как я мог к вам прийти? Одно название какого стоит: «Ленинская смена»! Это как если бы в германском логове после войны продолжали печатать газету «Гитлерюгенд». Учтите, у нас победа демократии на дворе.
И вышел.
Леонтий Петрович не сам придумал этот ужасающий аргумент про «Гитлерюгенд», подслушал на каком-то митинге, но сейчас был в восторге от того, насколько удачно он его употребил.
4
Лучшим своим костюмом бывший военрук считал мундир, но, подумав, он решил, что на эту встречу надевать его не стоит. Встреча должна была состояться в месте довольно злачном, то есть в ресторане. Позвонил накануне Саня Бухов и сообщил, что Люська будет доставлена в таком-то часу в ресторан «Белый лебедь». Название заведения показалось подполковнику издевательским, ибо точно такое же носил один из самых страшных лагерей в системе министерства внутренних дел. Но делать было нечего, груздем он уже назвался.
Время, оставшееся до встречи, он провел в научных изысканиях, употребляя для этой цели «Советский энциклопедический словарь» 1984 года издания, составлявший значительную часть его библиотеки. Для начала он открыл его на букву «М», нашел слово «Маньяк» (маниак, от греческого mania — безумие, восторженность, страсть). Человек, одержимый болезненным пристрастием, влечением к чему-либо. Сосредоточенно пожевав губами, почесав кончик носа и несколько раз вздохнув, Леонтий Петрович отправился к букве «С». «Садизм» — половое извращение, при котором для достижения полового удовлетворения необходимо причинение партнеру боли, страдания. Назв. по имени франц. писателя де Сада, описавшего это извращение. Перен. — стремление к жестокости, наслаждение чужими страданиями.
Как человек поживший и бывалый, подполковник никакого особенного открытия из этих заметок для себя не вынес. То, что маньяки и садисты не есть соль земли, было ясно ему и прежде. Только один момент можно было счесть новым — то, что садизм есть извращение именно половое, а не просто стремление причинить кому-то страдание, то есть набить морду или облить кислотой. Что они хотят сказать? что этот сумасшедший мозгляк в противогазе собирается употребить Ромку Миронова для удовлетворения чего-то полового?! Влечения или тяги. Военрук помотал головой, отгоняя видения, чтобы не успеть их увидеть, — чушь! Тут надо сказать, что, как указывалось выше, будучи человеком житейски опытным, он, конечно же, знал о присутствии в жизни разного рода аномальных явлений, сам мог при случае рассказать анекдот из жизни лесбиянок или гомосеков, даже описать в общих чертах технологию этого дела, но в глубине души не верил в их реальное существование. Он считал, что они придуманы с той же примерно целью, с которой сочинена античная, скажем, мифология. То есть не с вполне ясной. Раньше все это не являлось предметом его насущных размышлений. Но когда стало ясно, что Ромка Миронов может быть подвергнут этому мифологическому надругательству, это воспламенило его даже больше, чем известие, что тот уже подвергается «паяльной лампе».
Вскочил Леонтий Петрович и стал нервно расхаживать по комнате. Он решился представить себе, если так можно выразиться, «живую картину» этого бесчинства, но воображение отказалось обслуживать потребность ума.
Слава богу, как раз подошло время отправляться в «Белый лебедь». Надев хорошенько выстиранную белую рубашку, темно-серый заметно поношенный, но недавно побывавший в чистке костюм, повязав очень строгого, даже старомодного тона галстук, подполковник отправился.
Ресторан находился в стекляшке, обнимавшей часть первого этажа стандартной шестнадцатиэтажки. Окна были затянуты темными шторами, на которые дизайнер наклеил десяток вырезанных из мятой фольги гусей. Сквозь узкие щели вырывались на улицу сполохи света и механической музыки.
Войдя внутрь, Леонтий Петрович рекогносцировочно огляделся. Н-да, все в зеркалах, а меж ними дерево. Полумрак, претендующий на то, чтобы быть приятным. Подполковник хорошо помнил, что здесь было не так давно, — грязная тошниловка номер такой-то. Все же есть отдельные светлые черты и у нового образа жизни, подумал справедливый отставник. Хаем мы, ветераны, по большей части огульно, новые времена, а ведь и на ярмарке воровства и тщеславия могут прорасти цветы новой жизни.
Не дали мыслям Леонтия Петровича далеко утечь в этом направлении, возник из-за портьеры парень в хорошем костюме и, не глядя на старика, поинтересовался, что ему нужно.
— Мне бы Саню Бухова.
— Кто это?
Леонтий Петрович начисто забыл кличку, которую ему следовало назвать. Он смущенно покашлял и прищурился, силясь вспомнить ее.
— Ну как же его…
Охранник продолжал смотреть в сторону.
— А, Поднос.
— Понял, — поморщился охранник, и уже через несколько секунд подполковник шел в сопровождении Сани в глубь ресторана. Там в угловом полукабинете был накрыт стол и сидело несколько молодых людей и девиц. Одна из них была той самой Люськой.
— Еле нашли, — сообщил Саня, — у нее кто-то нановяк появился. Уедет, говорит. Даже идти не хотела.
— По-доз-ри-тель-но, — негромко произнес Леонтий Петрович, по-отечески улыбаясь.
Только издалека стол казался накрытым, на самом деле он был почти полностью… короче говоря, новому и уважаемому гостю с трудом набрали тарелку закуски: колбаски кусочек, рыбки, огурец, пару маслин. Плеснули в не первой свежести рюмку теплой водки со дна последней бутылки. Настроение за столом было пасмурное.
Леонтий Петрович с солидным изяществом поднял сосуд и обвел им стол, рассматривая, как через монокль, присутствующих. Русецкий и еще один паренек, совсем молоденький, с воспаленными глазами, подняли свои рюмки и чокнулись с «учителем». Военрук пил мало, но прекрасно чувствовал ситуации, когда отказываться нельзя. И еще со времен своей службы усвоил, что алкоголь — это та среда, в которой быстрее всего сближаются интересы.
Еще о двух вещах надо сказать: о музыке — она плавно лилась из глубины ресторана, и о женщинах — их было две. Обе, на взгляд подполковника, слишком молодые и слишком развратные. Медленно поднося рюмку к губам, он решил сам определить, кто из них Люська. Задача не из элементарных. Обе облеплены косметикой и причесаны для съемок в фильме про юных вампиров. Обе недавно плакали — краски подрасплылись. Позы, в которых они сидели, также были неприятно похожи. Можно было бы дальше продолжать это сравнительное жизнеописание, но Саня Бухов поднял руку и указал Леонтию Петровичу за спину.
— Вон, идет, тварь.
Проглотив водку, положив в рот кусок колбасы, подполковник обернулся. Со стороны дамского туалета к столику приближалась длинная, белобрысая, неустойчивая девица. Пьяна и испугана, сразу догадался военрук. Освежаться удалялась.
Бухов указал ей, куда сесть. Села, силясь изобразить заносчивое презрение. Это бы у нее получилось, если бы она вдруг не икнула.
— Здравствуй, Люся, — вежливо и веско сказал Леонтий Петрович.
Подруга Романа откинулась на спинку полукруглого дивана, двумя коготками вытащила из пачки сигаретину за белый фильтр, не торопясь прикурила и только тогда ответила:
— Здрасьте.
— Ты уже, наверное, знаешь, Люся, почему я хотел с тобой встретиться.
Пожала плечами, а плечи-то, плечи — как цыплячьи локотки. А туда же, водка, табачище, мужики… эх ты, дочка, что ты с судьбою своей беспутной делаешь!
— Спрашивайте, чего надо. Над чем задумались?
— Да над жизнью я задумался, над ней, милой. Над прекрасной и безбрежной жизнью.
Выдохнутый полудетскими легкими дым завился в язвительную спираль.
— Мораль читать будете?
— Не поп я тебе для морали, так что воздержусь. Хотя и сказать есть что. Лучше я вопросами.
Люся полузакрыла глаза, подняла брови и издевательским кивком выразила свое согласие участвовать в обмене мнениями. Русецкий нанес ей легкий подзатыльник и просипел:
— Не дури.
— Ну, ты, — попыталась возмутиться она.
— Ты уже знаешь, Люся, в какую ситуацию попал твой друг Рома. Ситуация загадочная, если не сказать страшная. Вот что он пишет в последнем письме.
Леонтий Петрович достал послание и зачитал его, радуясь, что в нем нет на этот раз ни единого матерного слова, озвучивать которые ему как педагогу в обществе своих учеников было бы неловко.
— Ты поняла?
— Поняла, чего там непонятного.
— Поджаривают его, дура, без булды жарят, поняла? — неожиданно громко сказал Русецкий, занося рыжий кулак.
— Уже сказала я, что поняла. Поджаривают, а я-то что?
— Колись, дура!
— Чего колись-то, чего?!
Леонтий Петрович перехватил руку Русецкого и не без труда вернул на стол.
— Боря хочет сказать, что есть подозрение — ты что-то можешь знать.
Люся нервно забычковала окурок.
— Ничего я не знаю, что я могу знать?! — она вдруг заревела.
— Не надо слез, Люся, рассмотри доводы рассудка. Вы были… близки с Ромой, он мог случайно с тобой поделиться, намекнуть, проговориться, что грозят ему, что в историю попал нехорошую.
— Не делился он со мной, — проревела красотка сквозь прижатые к лицу ладони, — даже сигаретами не делился.
И Бухов, и Русецкий, и третий парень, и обе распричесанные их подружки смотрели на нее без восторга и сочувствия.
— Хочешь, Люся, станем рассуждать логически. Откуда бы взяться этому маниаку и садисту? На пустом месте только прыщ без подготовки вскакивает, а похищения на пустом месте не бывает. У тебя были с Ромой отношения, всякое случается между людьми, когда они спят друг с другом, верно?
Она продолжала глухо рыдать.
— Есть сведения, что у вас как раз случалось всякое. Не слишком ласковым был Рома. Друзья подтверждают. Иной раз сгоряча мог он применить к тебе средство посильнее, может быть, не вполне законное. Обидное даже. Ты могла не понять, что это от чувств особого рода, идущих из любовного корня. Ты могла затаить в своем сердце обиду. Могла ведь? Могла излить кому-нибудь? Могла. И тот, кому ты открыла дверцу души твоей, может быть, и не слишком истерзанной, чуть-чуть превратно тебя понял и по-своему употребил информацию к размышлению. А, Люся? Да что ты все ревешь?
Допрашиваемая отняла вдруг от лица ладони и выпрямилась. Красавица превратилась в чудовище. Обильные слезы развезли черную краску и красную помаду по всему скуластому личику самым неожиданным образом.
— Он сволочь, ваш Рома, сволочь и паскуда, — заговорила она быстро и почти спокойно, — он сам был садист и маньяк. Если б он меня только бил, все немного бьют, это ладно. А то отвезет на такси за город, бросит под дождем в лесу без копейки. Или, бывало, уже в кровати, уже легли: говорит, мол, на минуточку, водички попить, сам — раз за дверь и со шмотками моими куда-то на три дня… а я голая в чужой квартире сижу, трясусь, вдруг кто придет. Да что там… разве расскажешь… он такое иной раз…
Она опять разрыдалась в грязные ладони.
Леонтий Петрович повертел в пальцах пустую рюмку. Бухов хмыкнул, откусывая от огурца:
— Похоже на него.
Подполковник кивнул, характер бывшего воспитанника ему тоже был известен.
— Тем не менее, Люся, или, я бы сказал, тем более у нас есть основания множить свои подозрения против тебя. Серьезные подозрения. Если не только побои в твой адрес, но и изощренное что-то, покушение на месть вполне возможно.
Произошло второе явление взбесившегося макияжа.
— А ты кто такой, старый козел! Что тебе от меня надо? Не знаю я, где этот ваш вонючий, и знать не желаю, век бы его не видать. Не знаю я, не знаю, не знаю! А ты, старый…
Очередной, значительно более акцентированный подзатыльник Русецкого прервал эту возвышенную тираду.
— Ты что, крыса, ты знаешь, кто он, а?
Леонтий Петрович поправил узел галстука и теми же двумя пальцами коротко пробежался по носу.
— Когда мы стояли под Вюрстенгом у бауэра одного, в сорок пятом, весною. На постое. Дочка у него была. Чуть старше тебя, года на два. Пошли мы к ним сена взять для лошадей. Без спросу, конечно. Победители. Лейтенант велел. Молодой был парень, отчаянный… Так вот, тащим мы сенцо, а дочка эта бауэрская как начнет на нас хай поднимать. Мол, воры мы, мол, дерьмо. Дикари мы, мол. Я ей тихо так, вежливо говорю: отойди. Орет. Рвань, скоты… Я снова ей, и опять вежливо, но уже с легким предупреждением: отойди, опасно к нам с такими словами. Орет, плюется. Хозяин — он что, молчит, умный, понимает, кому капут. А она все пуще, и обиднее все, больнее жалит достоинство солдата-победителя. Тогда я принимаю решение, так как старшим являлся в тот момент по команде. Сенцо это опустил, парабеллум трофейный достал, отвел за угол и… одним патроном, за ухо…
Стол в полном молчании внимал военруку. Русецкий и Бухов историю эту слушали не в первый раз, но, как всегда, с трепетом.
— Чем-то ты, Люся, напомнила мне ту смелую немочку.
Закончив речь, Леонтий Петрович встал и со скромным достоинством удалился.
5
Как всякий нормальный человек, подполковник Мухин не любил и боялся сумасшедших. С брезгливой опаской он относился ко всему тому, что подпадало под обозначение «дурдом» или «психбольница». Поэтому у него испортилось настроение, когда он понял, что в самом скором времени должен будет посетить районный психдиспансер. Почему? А где он сможет отыскать сведения о маньяке-садисте, любителе осмоленных паяльною лампою мальчиков? Конечно, он был не настолько наивен, чтобы рассчитывать на то, что ему по первому требованию и по самому общему описанию симптомов выдадут историю болезни с фамилией, фотографией и адресом. Кроме того, он понимал, что маньяк этот мог и не стоять на учете, мог не стоять на учете именно в этом диспансере. Мог заболеть совсем недавно.
Леонтий Петрович подошел к обшарпанному двухэтажному особняку с арочными окнами и нелепой лепниной по фасаду, не имея никакого сколько-нибудь связного плана. Здание чем-то напоминало своей неприютностью душу меланхолика. Помедлив на покосившемся крыльце, подполковник решительно взялся за ручку двери. Она распахнулась с неожиданной, ненормальной легкостью, зато возвращалась на место медленно, с усилием, словно намекая посетителю, что у него есть еще время одуматься и вернуться.
Внутренность предбанника скорби соответствовала худшим ожиданиям. Неровно настеленный, нищенски лоснящийся линолеум на полу, серо-зеленая, сама себе неприятная краска на стенах. Скучные стулья с изрезанными сиденьями — можно было подумать, что самоубийцы тут проверяли свои бритвы в ожидании приема. Свет, падавший на все это великолепие из окна в конце коридора, откровенно и уныло клеветал на тот яркий солнечный день, что остался снаружи.
Леонтий Петрович прошелся по коридору, скрипя невидимыми досками под кожей линолеума. Бесплатный массаж. Он был очень внимателен, старался не соприкоснуться ни с кем из посетителей, ибо пребывал в убеждении, что безумие есть инфекционная болезнь и воздушно-капельный способ ее распространения вполне вероятен. Иначе откуда бы такое количество психов среди психиатров? Постоял немного возле регистратуры. Нет, он не собирался заводить карточку — слишком большая плата за право побеседовать со специалистом. Его просто инстинктивно тянуло сюда, к бумажному компьютеру, содержащему все сведения о состоянии безумия в районе. В затененном стекле он вдруг увидел свое отражение и испугался. Какой бравый, какой психически здоровый старикан! Нельзя до такой степени отличаться от среднего здешнего посетителя. Слишком видно, что он явился сюда по необычному, а может быть, и слегка запрещенному поводу. Это может вызвать реакцию отторжения со стороны специалистов. Так шахтеры презирают депутатов, временно спустившихся к ним в забой. Но, поймал себя на прихотливом повороте мысли военрук, не лечиться же я сюда пришел, в самом деле. Поэтому не надо слишком стараться походить на шизофреника.
Но хватит биться в тисках этих мыслительных противоречий, пора бы уже к кому-то обратиться с первым максимально деликатным вопросом. Разумеется, это должно быть лицо в белом халате. Пусть будет вон тот, с такою солидной папкой в руках. Леонтий Петрович, приняв решение, всегда действовал быстро, он подошел к белому халату и тронул его за локоть. Выбранный халат удивленно обернулся, и лицо у него оказалось знакомое.
— Эдуард! — испуганно сказал Леонтий Петрович.
Сотрудник психдиспансера приучен ничему не удивляться.
— Да, — сказал он, — да, Леонтий Петрович, это я.
У него была очень запоминающаяся внешность: высоченный лоб, скрывавший, видимо, абсолютно здоровый мозг, и яркая, огромная, морковного цвета борода. Она была такой тяжелой на вид, что представлялось, что у владельца затылок болит от напряжения. Но значительно более существенным, чем наличие подобной бороды, было то, что Эдуард Семенович являлся женихом Светланы, родной сестры Романа. Они виделись с подполковником всего один раз, мельком, и поэтому Леонтий Петрович счел своим долгом как-то объясниться на эту тему.
— Эдуард… мы с вами на вокзале встречались. Я привозил адрес для…
— Я вас узнал.
Леонтий Петрович почувствовал, что ему не обрадовались, впрочем, он вряд ли должен был ожидать иного.
— Чем могу, Леонтий Петрович?
— Вы уже приехали?
— Позавчера.
— Оба, то есть, я имею в виду, все?
— Да. — Эдуард Семенович с профессиональным спокойствием снес странность вопроса. — Если вам нужна Светлана, то она сейчас дома.
— Нет-нет…
— Так что же?
Леонтий Петрович облизнулся машинально, отчего его обветренные губы стали блестеть, как стеклянные.
— Как бы вам поскорее объяснить…
Эдуард Семенович бросил выразительный взгляд на свой хронометр.
— Вы ведь врач?
Психиатр взял себя за отвороты халата, как бы говоря: что, не видно?
— Это очень удачно, что вы врач. Поверьте. И я вам все сейчас объясню.
— Вам нужна помощь врача?
— Не совсем мне и почти не врача. То есть и мне тоже нужна.
Эдуард Семенович еще раз посмотрел на часы, быстро произвел в уме какое-то вычисление.
— Ладно, идемте.
В конце коридора он открыл четырехгранным ключом безрукую дверь и впустил Леонтия Петровича в узкий, как окоп, кабинет. Кабинет был обставлен бедно: стол, шкаф и табачный перегар.
Врач сел на край стола, как бы демонстрируя этим неофициальность разговора. Гостю предложил стул. Сиденье было порезано. Подполковник остался стоять. Не потому, что его отпугнули порезы. Просто стоя он чувствовал себя сосредоточеннее.
— Вот, — он протянул письма Романа врачу.
Тот быстро пробежал их.
— Это Светин брат.
— Я понял, — сказал Эдуард Семенович, загадочно поглаживая бороду.
— Вот я и решил… может, у вас есть данные. Не лично у вас, а в ведомстве. Гад этот явно из нашего околотка. Психика с отклонением, мог он раньше прибегать к вам? Мог.
Психиатр еще раз прочитал послания из клетки и сказал твердо и неприязненно:
— Это дело милиции. Я против самодеятельности, в таких вещах особенно. Так же, как самолечение, она может быть опасна.
— Самодеятельность? Да чем она может быть… но об этом после. Я в общем тоже… Эдуард… э-э-э…
— Семенович.
— Я обращался. Не хотят они, милиция, браться за это. Нужно, мол, заявление от родственников. Но родственников не было, вы же знаете. Одни умерли, другие на лечении. Вот Светлана теперь приехала. Пускай она и напишет в милицию. Но я вам честно скажу — они очень плохо будут искать. Был способ их заставить — пресса. Я обращался.
— И что?
— И ничего. Говорят, несерьезный материал.
Эдуард Семенович вновь прикоснулся ладонью к бороде, он будто напитывался от нее силой и уверенностью.
— А вы сами, Леонтий… э-э-э…
— Петрович.
— Да, вы сами-то уверены, что это не розыгрыш?
— Ну, знаете, — подполковник несколько раз облизнулся и вытер со лба пот так решительно, будто удалял последние сомнения.
— Понимаете, Леонтий Петрович, у них, я имею в виду и милицию, и прессу, есть основания для того…
— Для чего?! — взвился подполковник.
— Ну, скажем, для того, чтобы не слишком спешить.
— Что значит не спешить?! Вы же врач. Человека истязают. Почти, можно сказать, что у вас на глазах истязают. Не просто человека, а, может быть, будущего родственника. Простите, если забегаю. Тем не менее вы странно очень высказываетесь.
Врачу даже больше, чем это можно было ожидать, не понравился намек на родственнический момент в этой истории. Только профессиональная привычка к сдержанности помогла ему не вспылить. Леонтий же Петрович не считал своим долгом запирать чувства на четырехгранный ключ.
— Дайте мне телефон, — угрожающим тоном потребовал он.
— Зачем вам телефон?
— Вы говорите, она дома? Я ей сейчас все расскажу-изложу. Я ей сейчас такую цитату извлеку…
С самым надменным видом Эдуард Семенович придвинул к подполковнику аппарат и написал на бумажке номер. Ему противно было разговаривать с этим суетливым и обветренным стариком, и он хотел пусть даже таким образом избавить себя от общения с ним.
Светлана подошла к аппарату сразу. Леонтий Петрович без предисловий обрушил на нее всю информацию, которой владел к этому моменту. Речь его была, как всегда, сбивчивой, но впечатляющей. И по мере приближения к финалу, в котором последовало описание жестокосердности психиатра и выражение надежды, что она, сама будучи сестрой, не проявит зловредной лени в деле спасения умучиваемого брата, речь стала вполне громогласной и окончательно безапелляционной. Наконец встала громогласная точка. То, что он услышал в ответ, заставило его сначала покраснеть, а потом сесть.
Психиатр спокойно наблюдал за этой сценой. Он даже не поинтересовался у Леонтия Петровича, что сказала Светлана. Потрясенный старик все сообщил сам.
— Она говорит, что ей плевать на то, что происходит с Ромой. Пусть он хоть сдохнет, ей плевать. Никакого заявления она писать не будет.
Подполковник отнял от уха большую старомодную черную трубку. Она выла так, будто вместе с подполковником тосковала по прерванной связи. Эдуард Семенович взял в руки аппарат, поднес его почти к самому лицу потрясенного военрука, и тот покорно воссоединил бесполезную наушницу с основной частью прибора.
— А еще я дам вам совет, — сказал врач со всею мудростью сорокалетнего мужчины в голосе, — не обращайтесь к психиатрам с этой историей. Они могут вас не так понять.
Леонтий Петрович нахмурился, а потом горько улыбнулся.
— Значит, как я понимаю, отказываетесь помочь, несмотря что парня истязают. Можно ведь считать, что вы отчасти покрываете маньяка. Когда все выплывет на чистую воду, как будет выглядеть ваша репутация?
— Не говорите ерунды. А что касается Светланы, то вы сами прекрасно знаете, почему она не спешит помогать вам.
— Намекаете, что я сам виноват?
— Намекаю.
Подполковник встал, одернул пиджак, поправил галстук.
— Светлана — это еще ничего. Вернее, плохо, конечно. Но можно понять — чувства. Но вот почему вы, вы, давший клятву Гиппократу, норовите отгородиться, — непостижимо.
Физиономию психиатра слегка перекосило, но смолчать он все же сумел.
— Встретив вас здесь, я обрадовался. Думал — удача. Ошибся. Жаль.
6
Итак, больше надеяться было не на кого. И власти, и пресса, и ближайшие родственники предпочли остаться в стороне — на том сомнительном основании, что история Романа представляется им не вполне серьезной, смахивающей на неталантливый розыгрыш. Но даже если имеется хотя бы десять процентов вероятности того, что все описанное дрожащей от боли рукой Ромы правда, надобно бить во все колокола, так считал Леонтий Петрович, и чем дальше, тем больше укреплялась в нем уверенность эта.
Психиатр просто сволочь. Он не хочет влезать в поиски помимо всего еще и потому, что не решил, стоит ли ему жениться на Светке. На девчонке из простой и неблагополучной семьи. Он не хочет, чтобы история с Ромкой стала для него семейной. Кстати, он, кажется, и не знаком с парнем. Все, что он знает о нем, он знает со слов сестрицы его. То есть считает его просто дебилом и бандитом. Он небось считает, что если братец его пассии и замурован в какую-то подземную клетку, то замурован по делу, по заслугам. Нечего было путаться со шпаной. Да! Именно, именно! Этот краснобородый Эдик убежден, что все написанное Романом правда, и рад этому. А его, хлопотливого старика, хочет выставить идиотом, чтобы иметь благовидные основания ни во что не вмешиваться. Не исключено (маловероятно, но не исключено), что господину психиатру известно кое-что о личности этого маньяка-мучителя.
Леонтий Петрович ослабил узел галстука и вздохнул поглубже. Проверке будет подвергнуто! И коли выяснится, что все так и есть, на будущей скамейке подсудимых найдется маленькое местечко для уклончивого умника в белом халате.
Подполковник пришел к окончательному выводу, что человек в противогазе — фигура совсем не случайная, что происходит она из ближайшего круга, из числа личностей, посвященных в семейную ситуацию мучимого юноши. Тем неутомимей должна быть внутренняя зоркость, никаких розовых очков. На подозрении все!
Сидеть сложа руки Леонтий Петрович не мог и через час после посещения психдиспансера возглавлял рейд по ближайшим к дому подвалам. Встретился с ребятами возле трамвайной остановки.
— Там мы все вроде просеяли, — махнул рукой Бухов в сторону красных пятиэтажек.
— Грохот за стеной, метро, трамвай… — Леонтий Петрович прищурил один глаз, — пойдем вдоль рельсов.
Кроме Бухова и Русецкого, в экспедиции участвовали еще двое парней. Они были помоложе бывших учеников военрука и не такие пока крутые. Были они братья-близнецы. Звали их «Эй, Толики», и было непонятно — это имя или кличка. Леонтий Петрович как педагог кличек не признавал.
Метода поиска была простая — подойдя к дому, тщательно выявить все двери, которые могли бы вести в подвал. Если дверь принадлежала какому-нибудь складу или магазину, то ее простукивали монтировкой с криками: «Банан, ты здесь?!» Нельзя было исключить возможности того, что изувер устроил пыточную камеру в глубине какого-нибудь редко используемого товарного укрывища. Также примерно поступали с разного рода мастерскими. Взломали двери двух дворницких бытовок. Ничего не нашли, кроме пыльных ломов, стершихся метел, зазубренных дюралевых лопат и вонючих телогреек.
Для рейда, так получилось, выбрано было воскресенье, поэтому на объектах не встретилось ни одного человека.
Противнее всего было обследовать дома с централизованным мусоропроводом. Интересующие поисковиков двери, как правило, здесь были захламлены кучами гниющих пищевых отходов. Вонь, теснота, мухи, крысы. Сверху по грязной трубе с грохотом катится банка из-под сожранных помидоров.
Выбравшись из микроинферно на свет божий, ребята молча закуривали, очищая легкие от угрюмых миазмов. Очень скоро они поняли, что присутствие «учителя» нисколько не облегчает их жизни. Старик был педантичен и неутомим. Там, где они давно бы уже плюнули, он заставлял их идти до самой сути, добираться до самой безнадежной дверки. Они, стоя по щиколотку в гниющих помидорах, должны были прикладывать ухо к шершавому дереву и прислушиваться, прислушиваться и еще раз прислушиваться. Их шикарные сапоги со скошенными каблуками и металлическими носами превратились черт знает во что. На них налипли обрывки газет и капусты, разводы пищевой жижи покрывали их. Раструбы дорогих штанов тоже имели мерзкий окрас. А подполковник все гнал и гнал вперед. Они курили все чаще и становились все сумрачнее.
Конечно, Леонтий Петрович и себя не жалел: где мог, проникал в затхлые дыры первым. На кривой, воняющей крысиной жизнью лестнице он подвернул ногу, застонал, как раненый командарм, понимающий, что не может оставить свой пост. Он перемог боль и, несмотря на надежды ребят, что эта травма положит предел сегодняшним поискам, двинулся дальше, увлекая остальных за собою своим мужественным примером.
В бесхозном подвале разворошили колонию безобидных бомжей. Эти дяди подземелья устроились под девятиэтажкой с некоторым даже комфортом. На сухом цементном полу валялось несколько продавленных матрасов, стояло кресло с отбитыми ножками. С низкого потолка свисала на кривом проводе пыльная лампочка и воровато светилась. По периметру обжитого закута шла толстая черная труба, как будто все здесь живущие были полуобняты удавом.
При появлении подполковника с его бригадой валявшиеся на матрасах кучи тряпья зашевелились, распространяя жалобный запах мочи.
— Встать! — рявкнул Бухов.
Команду эту, кряхтя и покашливая, выполнили все, кроме того, что занимал кресло. Он остался сидеть, вытянув ноги и перегоняя потухшую беломорину из одного угла рта в другой.
Русецкий подошел к нему и, наклонившись, просипел, почти не разжимая губ:
— Встань, дядя.
Щелчком отправив в угол окурок, гордый бомж приподнялся, почесывая волосатую шею. Выражение лица у него было независимое, почти презрительное. Лет под сорок, машинально отметил Леонтий Петрович, из приблатненных. Вон какие ухватки-ухмылки. Продолжить свое физиогномическое исследование ему не пришлось. Русецкий дождался, когда владелец кресла выпрямится окончательно, нанес ему быстрый и, видимо, очень грамотный удар. Бывший зек вернулся в кресло, но уже не гордым лидером подземного царства, а кучею корчащегося человеческого материала.
Подполковник поморщился. Он, боже упаси, не был толстовцем или пацифистом, не считал, что счастье на земле может быть установлено без применения силы. Он просто считал, что всему свое время и своя форма. Ну да ладно.
— Туда дальше можно пройти? — вежливо поинтересовался он у бомжа, стоявшего к нему ближе других. Опухшая щетинистая физиономия сделалась заискивающей, толстые потрескавшиеся губы разверзлись, показывая темную пасть, полную выбитых зубов.
— Тама штена, — прошамкал изгой общества.
Один из Толиков обогнул выступ, и оттуда раздался шлепок ладони о цемент.
— Крыши тама, — сообщил дополнительную информацию бомж.
Леонтий Петрович молча развернулся и молча направился к лестнице, ведущей наверх. Русецкий покидал подвал последним. Минуя беззубого, он равнодушно двинул его квадратным кулаком под ребра, и тот безропотно и беззвучно опустился на свое ложе. Он был рад кулаку как печати, удостоверяющей его право занимать этот уютный подвал.
Наверху опять подожгли табаку. Приключение в подвале немного развлекло ребят, но чувствовалось, что рейд им хочется закончить и идти пить водку.
— Ладно, — сказал Леонтий Петрович в ответ на немую просьбу, — дойдем до конца квартала — и все. Три вот этих домка.
Первый этаж ближайшего был занят детской библиотекой, наглухо запертой по случаю воскресного дня. Но будь она даже открыта, подполковник не стал бы туда врываться. Леонтий Петрович не утратил до конца веру в человечество, он не мог себе представить, что жуткий истязатель мог бы обосноваться в учреждении культуры. Хотя, если вдуматься, сам себе поставил запятую военрук, много есть примеров того, что именно заведения культуры и искусства, разные студии и секции служат рассадниками особо злостных и изощренных надругательств над тем, что звучит гордо, над именем «человек».
Не все, конечно, не все. Леонтий Петрович почувствовал необходимость внутренне одернуть себя. Надо уходить от облыжной критики, нельзя черной краской мазать всех деятелей культуры и просвещения. Нельзя, а хотелось бы, мелькнул напоследок в голове подполковника бесенок. Леонтий Петрович хотел его изловить и наказать, но не успел. Раздался сзади некий свист. Это один из Толиков. Бухов с Русецким уже по пояс спустились в цементную выемку в торце старого дома, намереваясь проверить железную дверь с надписью «ТОО Ответственность». Они вопросительно обернулись. Леонтий Петрович обернулся тоже. Толик выразительно показывал на приземистое старинное здание, когда-то, может быть, служившее конюшнею в усадьбе богатого горожанина. Теперь на этом здании была темная вывеска из рифленой пластмассы: «Вторсырье».
— Ну и что? — сип Русецкого.
— С той стороны дверь, — громкий шепот Толика. Подвальные исследователи среагировали не сразу. Над ними довлело догматическое представление, что подвал может быть только в большом доме. Хотя, собственно говоря, почему бы не оказаться ему под этим приземистым, вросшим в землю памятником непрезентабельной старины. Может быть, кровавый естествоиспытатель как раз и рассчитывал на то, что косное мозгостроение противника не позволит ему отвлечься от слишком прямого пути поисков.
— Какая дверь? — поморщился Бухов.
— Дверь, говоришь? — подполковник поцокал языком. — А ну, пойдем поглядим.
И он решительно, почти не прихрамывая, отправился к палатке вторсырья.
Толик все разведал правильно. В тыловой части здания, укрытая от посторонних глаз пыльными, но развесистыми жасминовыми кустами, имелась двустворчатая дверь. Рядом стояли на земле амбарные, густо заржавевшие весы. По их виду легко можно было понять, что эта точка по приему макулатуры и тряпья не пользуется вниманием населения.
Леонтий Петрович почувствовал, что у него увлажняются ладони. Ах, как здесь все удобно… как бы и на виду, но вместе с тем… Из здешнего подвала не докричишься, даже если вокруг будет кружить дюжина сыщиков со слуховыми аппаратами в ушах. И места много, есть где переодеться в противогаз и лампу паяльную раскочегарить.
Непроизвольно шаг подполковника замедлился, он подкрадывался к дверям осторожно, подволакивая ногу. Молодым помощником передалось настроение военрука. Подобрались, подтянулись. Леонтий Петрович приближался к двери, гипнотизируя ее взглядом своих узко посаженных глаз. Ему казалось, что от напряжения они вот-вот сольются в одно пронзающее око. Тут не к месту вспомнилось, что в училище хлопцы дразнили его «циклопом». Но прочь все отвлекающее!
Замок! Нет замка!!
Таким дверям, как здесь, полагался бы амбарный, навесной, — никакого! Причем стальные уши были заметно смещены друг относительно друга. То есть левая створка была приоткрыта. Внутри кто-то есть. В заброшенном пункте вторсырья в воскресенье!!! Можно ли поверить в такую удачу? Пределом мечтаний Леонтия Петровича было освободить Ромку Миронова, теперь появлялась возможность застукать и самого ублюдка.
Подполковник положил руку на железную ручку. Помощники следили за ним, естественно, затаив дыхание.
Дверь была заперта изнутри. Крючок? Задвижка? Во всяком случае, когда Леонтий Петрович потянул створку на себя, а потом отпустил, внутри что-то лязгнуло.
— Та-ак, — радостно-угрожающе протянул подполковник, — ну-ка, хлопцы, подналяжем.
Бухов и Русецкий взялись за ручку, а Толики ухватились за край створки.
— Взяли? Раз, два, давай!
Юные лица налились кровью, установилось напряженное молчание, скрипели зубы, издавал какие-то звуки атакуемый металл. Но в результате задвижка оказалась не по силам восьмирукому гостю.
— Нет, — сказал Бухов. Русецкий и один из Толиков отпустили дверь, поэтому пальцы второго Толика были слегка придавлены вернувшейся на место створкой. Он хотел взвыть или хотя бы выругаться, но, увидев перед носом кулак Русецкого, просто отошел в сторонку, бесшумно скуля.
— Монтировку надо, — сказал Бухов.
— Лучше лом, — возразил непострадавший Толик.
Не тратя времени даром, отправились на поиски.
Леонтий Петрович озабоченно нахмурился. Он сохранил свойственную его возрасту трезвость, а значит, догадывался, что флигелек вторсырья, несмотря на заброшенный вид, явно является действующим госучреждением и вламывание в него вряд ли будет одобрено властями. Но и отступать было нельзя. Что, устраивать засаду в этих жасминах и ждать, пока насытившийся зверством садюга выйдет подышать свежим воздухом? А может, он постоянно там живет и выходит на улицу в неделю раз за горючим для паяльной лампы.
Не знал, как поступить, военрук, и появившиеся с кривой арматуриной в руках «хлопцы» почувствовали это. Замерли, вопросительно глядя на своего «дядьку». Сложная ситуация. Леонтий Петрович понимал: один неверный, трусоватый шаг — и его влияние на этих юных мордоворотов рассеется. Но понимал он также и то, что один слишком решительный порыв — и придется отвечать на вопросы прокурора. Учитель-пенсионер-подполковник во главе шайки малолетних преступников.
Что делать?
Выручил второй Толик. Он сидел на корточках, прижавшись ухом к теплой железной двери, и отмачивал во рту особо пострадавшие пальцы. Внезапно гримаса легкого физического страдания на его лице сменилась на… он вытащил пальцы изо рта и прошептал, выпучив глаза:
— Там кто-то есть.
— Что-что?
Толик показал больными пальцами на дверь.
— Там, внутри, кто-то плачет.
Это решило дело. Не прикладывая больше уха, сразу вклинились арматурою, яростно сопя. Дверь скрежетала отковыриваемой створкой, но не поддавалась.
— Тихо! — скомандовал Леонтий Петрович. Все выполнили команду, и в искусственной тишине стали отчетливо слышны еле слышные звуки, доносящиеся изнутри. Там действительно кто-то был, и этот кто-то был не один. Вскрикивания, глухая возня. Заметает следы, гад!
— Рома! — крикнул подполковник. — Рома, мы здесь! Держись! Держись, сынок! Вперед, мужики!
Железо вновь вгрызлось в железо. Много было сопения и спешки. Воздух сделался красноватым от измельченной ржавчины.
— Ни хера, ни хера не выходит, Петрович, — в сердцах выругался Бухов.
— Да, крепкая, — подтвердил Русецкий, брезгливо разглядывая грязные ладони.
Нужно что-то делать, нужно что-то делать, билась мысль в мозгу подполковника. Этот гад услышал, что дверь пытаются вскрыть, и может убить Романа как свидетеля, сам уйти подвалами. Леонтий Петрович приник ноздрею и глазом к щели между створками. Звуки, состоящие из сдавленного мычания, взревывания, неопределенных стонов: что он там с ним делает?! Расчленяет и зарывает, чтоб ничего нельзя было доказать?
— Рома, Рома, держись, мы уже близко!
— Машину бы привязать, — сказал Бухов.
— Не подгонишь, — возразил Русецкий.
Страдая от бессилия, Леонтий Петрович расцарапывал правую щеку о шершавое железо.
— Рома, дай знать, ты там?! — тут ему пришла в голову идея: надо сменить адресата своих посланий. — Слушай ты, маньяк!
Слово это, прозвучавшее как-то особенно громко, произвело магическое действие, внутри флигеля все стихло. Леонтий Петрович приободрился: кажется, нащупывается правильная линия поведения.
— Слушай меня внимательно, садюга. Открывай, все равно мы до тебя доберемся, но тогда хуже будет. Мы тебя за (педагог в душе подполковника махнул рукой) яйца подвесим и поджарим, сука, на медленном огонечке. Слышишь меня?! Так вот, лучше открывай. И еще скажу тебе, пидор гнойный, — хоть пальцем Ромки коснешься — сам тебе в ухо паяльник вставлю, понял?!
Леонтий Петрович продолжал петь свою угрожающую песнь, внутри продолжали молчать. Завороженно молчали и «боевики» подполковника. Не то чтобы они пленились блеском его внезапной фени, слыхивали и говаривали сами и не такое, просто, выходя из уст учителя, общеизвестные слова становились подобны грому.
— Что затих, открывай, ну!
В ответ на это предложение изнутри раздался пронзительный поросячий визг. Вернее, похожий на поросячий, очень короткий. Леонтий Петрович отступил от двери, потирая испачканную щеку. Бухов, державший наперевес арматурину, изо всех сил шарахнул в то место, к которому только что припадала эта щека. Удар получился звучный. Русецкий, не желая бездействовать в такой ситуации, поднял с земли кусок цементного бордюра и присовокупил его ударную силу к грохоту железной палки. Сберегший свои пальцы Толик тоже что-то швырнул в дверь.
Леонтий Петрович стоял немного в стороне. Он понимал: несмотря на звучность и мощь этих ударов, пользы от них немного. Не таким образом открывают железные двери. Но останавливать ребят, рвущихся на помощь истекающему кровью другу, он не считал возможным. Пусть колотят. Он подумает пока. Из любой ситуации помимо силового выхода есть и умственный. Думай, думай, голова, раз ты есть.
И тут…
После очередного дикого кирпича дверная створка методически пискнула и медленно, покорно отворилась. Всеобщее оцепенение. Нежели маньяк сдается? Но за дверью не оказалось никого. Ничего не содержащий полумрак. Угадывались очертания каких-то стеллажей, забитых макулатурой и прочим хламом. Бочка железная у самого порога. Может, он за бочкой? Нет. И тихо. Изнутри доносилась, выпирала прямо-таки тишина, словно атакующий грохот распугал все здешние шумы.
Леонтий Петрович поднял руку, чтобы скомандовать — вперед! Но не успел, раздался вой сирены. К флигелю подъехала милицейская машина. И уже через несколько секунд перед испачканным педагогом и его учениками предстало четверо сосредоточенных людей в бронежилетах с короткоствольными автоматами в руках. На вопрос, что тут, черт возьми, происходит, Леонтий Петрович указал на открытую дверь.
— Не здесь, там.
Трое милиционеров, пригибаясь и щурясь, проникли внутрь, один занял позицию у двери, на всякий случай держа под прицелом и подполковника с его ребятами.
Через несколько секунд из глубин, наполненных вторсырьем, появилась странная троица. Два милиционера вели под руки человека в пиджаке и трусах, он еле волочил ноги, глаза его были безумны. Он был почти лыс, только на лбу рос отвратительный волосяной куст.
— Вот какой ты, северный олень, — процедил Русецкий.
Бухов попробовал приблизиться к гаду, но ему не позволил строгий взгляд вооруженного милиционера. Заплетающиеся ноги утопали за угол флигеля.
Из затхлой макулатурной клоаки появился третий милиционер. И, что интересно, он был не один. Но вел он не Романа Миронова. Молоденькая, несимпатичная, заплаканная девица в белом разодранном спереди платье. Одна рука играла роль прищепки, скрепляющей две половины замызганных одежд в районе низа живота, другой рукой она молча размазывала кровавые сопли по полоумному личику.
7
В тоске возвращался домой подполковник Мухин. Ребята после геройской поимки насильника, осмотра внутренности приемного пункта и дачи свидетельских показаний отправились снимать напряжение. О продолжении поисков не могло быть и речи, хотя с первого взгляда было ясно, что изловлен не тот маньяк. И учитель и ученики были обуреваемы сложными чувствами. С одной стороны, сделали доброе дело, но, с другой, попали в ситуацию почти дурацкую.
— Куда ни плюнь, везде психи, — сформулировал Русецкий.
— Поймаем столько психов и маньяков, сколько надо, чтобы Ромку освободить, понятно? — наставительно и твердо сообщил учитель, после чего убыл, как уже было выше сказано, в тоске.
Что же это, в самом деле, сталось с районом нашим, если за каждой запертой дверью можно ожидать какого-нибудь извращения? Да что там район, перебила эту горькую мысль другая, еще более горькая и общая, — что сталось с городом, что сталось со страной?!
И лейтенант, снимавший первый протокол с подполковника, не понравился Леонтию Петровичу. Не было в нем того достоинства и основательности, что отличала работников органов в прежние годы. Не было моральной выправки, а когда он благодарил Леонтия Петровича за помощь (он не знал, что она невольна), благодарность его не выглядела вполне искренней. Плевать этому лейтенанту с диковатой фамилией Бялый на то, сколько юных, невинных, глупых, доверчивых девах насилуется в данный момент по подвалам вверенного ему района. По подвалам и чердакам. По подвалам, чердакам и саунам. Да и судьба истязаемого Ромки Миронова не тревожит его похмельное воображение. Нет кровавых юношей в его глазах, так сказать.
Все еще нянча неизбываемую и глобальную тощищу, поднялся Леонтий Петрович в свою квартиру коммунальную, с надеждой думая о смородиновом чае и теплом душе. Они должны были дать толчок мыслительным процессам в истощенной голове.
Что же, решил бесповоротно Леонтий Петрович, завтра же поиски будут продолжены. Тяга к отлыниванию, что начала просматриваться среди дружков Романа, пресечена должна быть однозначно и в самом корне. Видите ли, им надоело, у них там девки и водка и преступные обязанности. Подождут и девки, и водка, и криминальные заботы. Дружба истинная важнее. Леонтий Петрович не верил, что души этих ребят погибли окончательно, и собирался собственным непреклонным примером преподать им, заблудшим, урок правильного отношения к жизни. А может, и к смерти.
Чайник зашевелился на плите, вода готова была к счастливому браку с травой. Леонтий Петрович полез в свой кухонный шкафчик и достал коробку со специально приготовленной смесью.
Пожалуй, хватит, решил он, размышлизмов общего и чувствительного характера. Вернемся на дорогу, отмеченную фактами, фактами и только фактами. Что нового удалось сегодня узнать о носителе противогаза? По крайней мере…
Раздался звонок в дверь.
Вздрогнуло все. И душа, и чайник на плите, и железная коробка в руках, и то, что было в коробке.
Такое предчувствие не могло обмануть. Пришли к нему.
Светлана Миронова, сестра Романа.
Ага, подумал подполковник, что-то стронулось в циничном женском сердце.
Молча пригласил в комнату.
Раиса, демонстрируя такт, мгновенно захлопнула вертикальные створки своей раковины, хотя, конечно, попытается как-нибудь подслушать.
Предложил стул. Ближайший стоял у стола, где был сервирован чай, что повысило ранг приглашения.
Очень все же похожи они с братом. Ширококостная, с телячьей переносицей, лоб чуть-чуть с «неандертальским» козырьком. Но он ее не портил, совсем не портил. В ней была своеобразная, увесистая плебейская грациозность. И глаза сумасшедшей голубизны — с таким разрезом, что даже психиатра могут свести с ума. В брате-бандите все «животные» родовые черты были утрированы сверх меры. Квадратная туполобая орясина с синими буркалами. Игры природы, ничего не поделаешь.
— Что же вы молчите? — сказала Светлана. Голос у нее был нисколько не деланный, не пестованный, в нем от рожденья была мягкая породистость. Все, что она говорила, автоматически приобретало чувственный контекст.
— Удивляюсь, — отвечал подполковник, в самом деле удивленно поднимая бровь, — приход твой… это я вправе задаваться вопросами.
— Не будем, пожалуйста, разводить здесь… что с Романом? Вы узнали что-нибудь новое?
Леонтий Петрович повертел в руках банку, зачем-то принесенную с кухни.
— Новое, старое… Я ясно слышал, ты отмежеваться пожелала от всего. Поэтому удивил меня этот визит. Попытка проявить чувства родственницы?
Светлана резко встала и порывисто прошлась по комнате. Она зацепила край скатерти, отчего опрокинулся деревянный стакан, набитый авторучками и карандашами, они веером рассыпались по столу. Вместе с ними вылетел на белую скатерть веселый таракан, что вызвало в болезненно чистоплотном подполковнике вспышку брезгливого возмущения. Ему страшно не хотелось, чтобы гостья заметила этого третьего участника разговора. Что-то нужно было сделать, пока она, кусая губы, мечется вдоль подоконника. Солдатская смекалка не подвела офицера. Леонтий Петрович схватил стакан и стал им ловить несвойственное его дому насекомое. С третьей попытки — удача.
Светлана с ужасом смотрела за пенсионерской охотой.
— Что вы делаете?!
Леонтий Петрович победоносно накрыл тараканью тюрьму ладонью.
— Да так, вспышка. Что же тебя привело ко мне в этот час, близкий к вечеру?
Сестру Романа передернуло. Ей было все противно в подполковнике. И одежда, и душа, и мысли, и манера говорить.
— Хорошо, — она разжала кулак, который, оказывается, сжимала, — я кое-что вам принесла, но сначала — несколько слов. Я не изменила своего мнения о нем.
— О ком? Говори яснее. — Леонтий Петрович, отставив чайную банку, стал с независимым видом собирать карандаши.
— О Романе. Я до сих пор считаю его поганым ублюдком. И до сих пор убеждена, что он стал таким по вашей вине.
Подполковник оскорбленно дернулся, но не смог принять величественную позу, правой рукой ему нужно было удерживать контроль за перевернутым стаканом.
— Такие обвинения слишком тяжелые, дорогая моя, и нет за ними никакой справедливости. Так можно сказать, что и я…
— Хватит, — громко сказала гостья, — я вас не могу физически выносить дольше двух минут. Меня начинает тошнить всем телом. Я ухожу, а это вам.
На стол упал скомканный лист бумаги.
Светлана решительно направилась к выходу. Вышла. Вернулась. Лицо искажено злостью.
— Я желаю ему, чтобы он поскорее сдох в своей клетке. Не заплачу. И никто о нем не заплачет. Даже вы.
Через пару секунд хлопнула дверь.
Леонтий Петрович развернул скомканную бумагу. Он догадывался, с чем имеет дело, но все равно у него перехватило дыхание, когда он увидел почерк Романа.
Дорогая сестра Света
Ты наверное уже знаешь в какую тяжелую ситуацию я попал. Догадываюсь как ты ко мне относишься. Но войди в мое положение. Ждать помощи больше неоткуда как я вижу. Никому я ни нужен. Может сходишь в милицию все же. Может напишешь как родственница а то дела у меня совсем плохие. Этот человек странный что пытает меня наркоман наверное. Сам видел как он кололся в ногу шприцом. Помоги Света напиши заявление. Свою вину перед тобою я признаю полностью. Рома твой брат.
Леонтий Петрович вытащил из кучи авторучек, лежавших на скатерти, как бревна на лесоповале, красный карандаш и исправил во фразе «никому я ни нужен» «ни» на «не».
Подполковник давно, хотя и не слишком подробно, знал, что именно инкриминирует ему Светлана, и всегда считал ее обвинения чушью. Не только на словах, но и в глубине души. По крайней мере в той части этой глубины, до которой мог добраться, не вступая ни на какую патологическую дорожку. Говорят, есть дураки, которые готовы расковыривать свою психику в поисках ответов на каждую бабью истерику. Так они дураки и есть. Именно истерика была тем главным, если не единственным, способом общения, что использовался Светланой при редких встречах с Леонтием Петровичем. Истерики, правда, бывают разные, шумные, как минуту назад, принимающие форму ледяной вежливости, а то и полного нежелания разговаривать. Но подполковник научился их распознавать под любой шкурой. Распознавать и презирать.
Не хочет ли она намекнуть, что я так близко принял к сердцу дело Романа, потому что чувствую свою вину перед ним? — вдруг спросил себя Леонтий Петрович, и цепочка крупных муравьев пробежала по позвоночному столбу. Подполковник помотал головой и выругался, но состояние «не в себе» осталось в нем. Он не знал, что состояние это имеет научное название «рефлексия», а если бы знал, то это не развеселило бы его. Признавши вину перед Романом (какую?! в чем?!), я и перед нею, кликушею, тоже виноватен.
Почуял, отчетливо почуял, в какую яму сволакивают его эти мысли, Леонтий Петрович и мысленно отмахнулся от них. Чтобы закрепить успех, быстро отправился на кухню, где его должен был дожидаться услужливый кипяток. Две чашечки отвара, две чашечки, шептал он. Но на кухне его ожидала мелкая неприятность — чайник был холоден и тяжел, как танкер в Северном море, и это несмотря на жужжавшую под ним газовую корону.
Немало секунд простоял в неприятном недоумении подполковник перед этим необъяснимым фактом. Особенно задевало то, что чайник перенял приемы этого анонима-насмешника и стал на путь необъяснимых издевательств. А может, это с головою что-то от нервного напряжения сделалось, подумал подполковник. Оторвал руку от мокрой холодной железки и, шепча: «чайник», приложил ко лбу. Лоб был таким же мокрым и холодным, как металлическая выпуклость. Но тут, слава богу, вернулась способность соображать. Скорее всего, это Раиса! Притопала на кухню, видит — вода вся выкипела, налила новой и поставила на конфорку.
Леонтий Петрович облегченно расхохотался.
Эта немудрящая, но полная победа трезвого разума над толпой подползавших сомнений привела подполковника в великолепное состояние духа. Он яростно заварил чай, что-то напевая, схватил подставку, заварник и отправился в комнату. Но не смог это чайное богатство поставить на стол.
Таракан!
Как можно пить чай за столом, на котором развязно обосновалось насекомое! Осторожно опустил Леонтий Петрович заварочный чайник на пол, собираясь свободными руками разобраться с наглой гадиной. В этом согнутом состоянии его застиг звонок в дверь. Совершенно ненужный, а может быть, даже и опасный.
— Может, это вас? — крикнула из коридора Раиса, привыкшая за последнее время к популярности соседа.
— Откройте, Рая, — приглушенно просипел Леонтий Петрович. У него зашумело в голове. Он знал, что распрямляться надо медленно, а то можно потерять сознание.
Вбежавший в комнату Эдуард Семенович застал старого знакомого своей невесты при попытке напиться чаю на полу подле стола. Леонтий Петрович не был среднеазиатским жителем, а Эдуард Семенович работал психиатром, так что легко можно представить, насколько профессиональные мысли могла вызвать эта мизансцена у второго ее участника и какое раздражение у первого.
— Где она? — несмотря ни на что, спросил Эдуард Семенович.
Тут подполковник, как это часто бывает с военными косточками, нашелся и спросил:
— Кто она, сахарница? Еще на кухне, — произнося эти слова, он успел выпрямиться и теперь чувствовал себя на равных с этим ловцом человеческих душ.
— Но она была здесь? — менее атакующим тоном спросил Эдуард Семенович.
— Светлана, если вы ее имеете в виду, уже наговорила мне гадостей, как водится всегда за нею, и кыш отсюда.
— А письмо?
— А-а, — Леонтий Петрович поправил манжеты своего халата, — документ находится у меня.
Психиатр сразу понял, что претендовать на «документ» не стоит. Впрочем, ему, вероятно, было на него плевать. Какое-то другое чувство одолевало его, помимо желания поговорить о визите своей невесты и принесенном ею письме. Он схватился по привычке за ус, а уса не было. Леонтий Петрович аж прищурился, сердясь на свои глаза. Борода осталась на месте, только стала чуть округлее, менее ассирийской на вид стала. Шкиперская, вспомнил подполковник.
— Что у вас с лицом? — тихо поинтересовался он.
— Что? А-а, — Эдуард Семенович хотел было объяснить подполковнику, что придерживается той психологической теории, по которой не рекомендуется слишком зацикливаться на одном собственном облике, ибо этим создастся психомонотонная схема самовосприятия. Короче говоря, чтобы не рехнуться, надо меняться, а внешность поддается изменению легче всего. Но вместо того, чтобы умствовать, бородоносец вдруг разоткровенничался.
— Дело в том, что Света получила утром письмо это дурацкое.
— Отчего же дурацкое?
— Ну, проклятое!
— Отчего же проклятое?
— Да я уж знаю, отчего. Нельзя ей волноваться, поверьте. Ей надо наплевать на этот идиотический розыгрыш, иначе…
— Она что, беременна?
— Кто беременна? — ошалело завертел шкиперской бородой психиатр. — Это она вам это сказала?
— Нет, — честно покачал головой подполковник, — мне она сказала, что я негодяй и что брат ее сволочь.
Было понятно, что Эдуард Семенович согласен с этим мнением, поэтому вынужден молчать.
— Спасибо, что хоть письмо принесла, ибо веду все дела сейчас я.
— Ну да, да, из-за этого мы и поссорились. Я говорил, что его надо, письмо это, порвать и выбросить.
Подполковник дернул ногою, отчего звякнула крышка на заварном чайнике.
— Позвольте! Такие документы рвать, это кто же нас поймет?
— Ну, это вы думайте, что хотите, а я после нашего разговора хлопнул дверью и ушел. Через десять минут, как водится, возвращаюсь мириться, а ее уже нет. — Если говорите, в положении она, — Леонтий Петрович повертел пальцами у виска, — даже десять минут вечность.
Эдуард Семенович шумно задышал, рот его мстительно искривился — ему напомнили о непростительной ошибке, а главное, кто напомнил!
— Вы правы. Я зря тут с вами теряю время. Драгоценное.
С этими словами психиатр вышел.
Хотя последнее слово осталось за гостем, хозяин чувствовал себя победителем. Эх, шкипер, шкипер, благодушно подумал он, обегая взглядом выставку своих «гравюр». Эскадра больше, чем борода. Эта фраза неуловимо исторического окраса приятно щекотнула нёбо. Да, да, когда-то говаривали подобным образом. Париж стоит мессы, например. А в целом — чушь! Какие все-таки есть ненужные глубины в каждом почти человеке, и чего это тянет черпать из них? Мы все пленники библиотек.
— Леонтий Петрович, — пропела неуверенно за дверью Раиса.
— Чего вам, Рая? — бросился подполковник к приоткрывающейся двери. Не хватало еще, чтобы эта глупая курица наткнулась на чайный прибор посреди паркета.
— Это вам, Леонтий Петрович.
— Письмо?
— И опять без штемпеля. Вы теперь один как целая почта, Леонтий Петрович.
— Спасибо, — сказал подполковник и подумал, что не будет сегодня конца приключениям его горькой мысли. Сколько напастей на одного отставника.
— Кто доставил?
— Не знаю, в ящике взяла.
Леонтий Петрович славил руками виски, и без того расположенные друг к другу ближе, чем у большинства граждан.
— А когда именно, скажи пожалуйста, ты его нашла?
Глаза Раисы округлились, и стало заметно, как редко растут ресницы в ее веках.
— Вот сейчас именно и нашла, как гостя вашего провожала, дверь за ним запирала.
Мысль подполковника работала все четче.
— Но не тогда, когда встречала?
— Да нет, нет, — Раиса почувствовала, что, участвуя в этом обмене вопросами-ответами, она, кажется, впутывается в какую-то историю из неприятных, и постаралась быть предельно точной, раз пока непонятно, в какую сторону врать.
— Я каждый раз заглядываю, нам же сейчас то газету кинут бесплатную, то квиток на выборы, так что всякий раз, как дверь открою, гляжу.
— Так, Раиса, — теребя белым продолговатым конвертом кончик своего тонкого нюха, медленно проговорил подполковник, — а теперь припомни совсем чтобы точно. Он сам, имею в виду бородача, захлопнул дверь, а ты потом уж выглянула, чтоб запереть, и вытащила письмо?
Соседка задумалась.
— Как-то сложно вы, Леонтий Петрович, спрашиваете.
— Ну, проще выражаясь, успел бы он незаметно для тебя подложить конверт, пока ты надевала шлепанцы, пока шла по коридору, а?
— Пять раз успел бы, — уверенно заявила Раиса, — я ж не дежурю возле замка. Они же все как пули от вас выскакивают, все дверкою хлопают, как психи. А дверь отходит, сразу сквозняк.
— Ты права, Рая, все они психи.
Леонтий Петрович вернулся к столу, надрывая на ходу конверт.
Добрый вечер!
Хотя, Леонтий Петрович, это обращение, если разобраться, не просто банально, оно неуважительно по отношению к вам, ибо заключает в себе довольно злую иронию. Впрочем, зачем мне притворяться и скрывать отсутствие у меня к вам какого бы то ни было пиетета.
Однако преамбула затянулась. К сути: я пришел к выводу, что самостоятельно вы вашего подопечного отыскать не в состоянии. Да, ни самостоятельно, ни с чьей-либо помощью. Ума у вас мало в голове. Жаль, мечталось о противнике классом повыше. Начинаю, стало быть, игру в поддавки.
Запоминайте адрес: ул. Зеленина, дом 6.
Все тот же недоброжелатель.
Как и при получении первого послания от «недоброжелателя», первою мыслью Леонтия Петровича было: какой отвратительный, подловатый почерк. Может быть, поддельный?
Теперь надо решить, как к этому сообщению отнестись. Ловушка. Не может же он сам на себя наводить. Он маньяк, но ведь не сумасшедший. А может быть, и сумасшедший, и прибабах его с пируэтами. Синусоидой у него настроение колышется, а сейчас подъем совести как раз.
Леонтий Петрович сбросил халат на кровать, вернул подтяжки на плечи, надел китель. Форма не помешает. Когда он твердыми, несмотря на внутреннюю тряску, пальцами поправлял галстук, раздался звонок. Не в дверь, в телефон.
Не пойду, сердито подумал подполковник, любой звонок можно перезвонить, а жизнь человеческую едва ли.
— Это сын ваш, Леонтий Петрович, — крикнула неотступная Раиса.
Очень сильно поморщился подполковник и голосом человека, не терпящего лжи, соврал:
— Нет меня.
— Уже сказала, что вы подойдете.
В звонке этом, Леонтий Петрович знал точно, не могло быть никакой чрезвычайности. Когда давным-давно брошенной им жене становилось хуже, сын (дочь очень редко) добирался до него с телефонными упреками в жестокосердности, причем сам ничуть не веря в полезность этих упреков.
— Чего тебе? — недовольно спросил Леонтий Петрович, — спешу очень.
В ответ услышал обычную басовито-укоризненную песнь.
— Не пойду, лишняя рана для сердца. Для ее сердца, разумеется. Средства вышлю, денег в смысле. Не надо? Ну так что ж…
Этим все обычно и кончалось. Им нужно было от него доброй души, а он мог предложить только денег. Они всегда оскорбленно отказываются. Строят из себя людей тонкой душевной культурности, а его считают толстокожим. Пусть, значит, правильно он решил в свое время держаться со своею шершавой кожей подальше от восторженной этой семейки. От виолончелей и увядших букетов. Не всех они до добра доводят. Здоровье дороже.
Из-за непрошеного вторжения бессмысленных воспоминаний подполковник чуть было не забыл главное — письмо.
Итак, улица Зеленина, дом 6. Он неплохо знал этот дом. Да они, кажется, уже осматривали его с ребятами. Значит, сплюнул подполковник, лажа! Еще один виток издевательств. Но что делать, так или иначе надо идти, даже если один шанс из тысячи. А то ведь не заснешь. Только ребят нет смысла сдергивать с места.
А все-таки я прав, с удовлетворением подумал Леонтий Петрович, именно в нашем районе окопался этот шакал. С самого начала был сделан правильный вывод. Леонтий Петрович почувствовал самоуважение.
В приятных сумерках, укрывших мусорное безобразие родного двора, торопливо миновал подполковник трансформаторную будку, стайку пуделей, гарцующих среди чахлых березок. Прошел мимо двух неодинаковых сиреней, освеженных кратким вечерним, размером в выпуск «Вестей», дождичком. Вблизи ночных растений могло показаться, что дождь пролился одеколоновый. Но не до цветочной дури было ноздрям Леонтия Петровича. Они пытались учуять запах опасности. Не исключена ведь и драка. На этот случай лежал в правом кармане кителя складной охотничий нож. Левой рукой подполковник достал часы, зажал их в ладони, цепочку намотал на пальцы. Вот теперь пусть, разве что у этого гада пистолет или газовый баллончик.
Вот и подъезд, а левее ход в подвальное помещение. Леонтий Петрович огляделся, опасаясь нападения с фланга и тыла. Никакой заметной опасности не обнаружил. Приблизился, подергал дверь, обитую крашеной вагонкой. Заперта так же наглухо, как и при прошлом осмотре.
Сразу же было понятно, что лажа!
Справа за цементной перегородкой грохнула входная дверь.
Рука вытащила ножик из кармана. Нет, всего лишь лохматая псина. Подбежала, обдышала руку с холодным оружием и подалась за появившимся на крыльце хозяином.
Ну, чего ждать? Можно восвояси. Только вот этот листок нужно рассмотреть получше. Листок, кнопкою пришпиленный к вагонке.
Это было очередное письмо.
Позыв нервного смеха заставил подполковника фыркнуть. Чем-то это обилие писаний напомнило ему старую западную комедию, кажется, итальянскую. Только там писала своему жениху невероятно привязчивая баба.
Леонтий Петрович перестал предаваться смакованию непрошеных ассоциаций. Ему вдруг подумалось, что этот кровавый тип, может быть, сидит сейчас в ближайших кустах и нагло наблюдает за ним. Издевательски наблюдает, потирая руки от низменного удовольствия. Ах, как обманул чувствительного военного пенсионера! Подполковник прислушался: из темной лиственной каши, кажется, доносилось легкое хихиканье, такое могут издавать только флиртующие люди. На фоне отсвечивающего пруда рисуются силуэты гулящей молодежи. Надо что-то предпринять. Стоять вот так в тупой задумчивости — позорно.
Ах да, текст!
Войдя в освещенный подъезд, Леонтий Петрович прочитал следующее.
Вы оказались еще глупее, чем я думал. Ну с чего вы решили, что предмет ваших забот сидит именно в подвале, а?! А если на чердаке? А грохот и лязганье, которые слышатся Роме Миронову, издает не поезд метро или трамвай, а лифт?
Все я же.
Такая была подпись.
Конечно, конечно, шептал Леонтий Петрович, комкая оскорбительную цидулу и пряча ее в карман кителя. Об этом надо было подумать, надо!
Подполковник вышел на улицу, задрал голову и, конечно же, увидел девять этажей ярко и беззаботно светящихся окон. И сейчас там, на самом верху, над всем над этим сидя, орет от боли и отчаяния изувеченный Ромка! И никто не слышит. В это трудно поверить. Леонтий Петрович не думал сейчас о конкретных издевательствах и подлой психмеханике, он просто собирался с силами, чтобы отправиться наверх, сделать последний бросок.
Как можно было две недели истязать человека над головами у сотен добропорядочных не глухих граждан? В этом виделось какое-то убийственное надругательство над идеей человеческого общежития. Чердак был оскорбительнее подвала. Ведь они (люди) должны были если не органом слуха, то чувством дослышаться до этого безумия. Что же мы за роботы в конце второго тысячелетия, если такое… Может быть, уже и сами сердца нынешних людей стали из холодной стали выправлять?!
Но хватит эмоций, Леонтий, надо идти, несмотря ни на что.
Твердой походкой неуклонного человека Леонтий Петрович направился к лифту. Кабина стояла внизу. Подполковник не удивился бы, узнав, что она, скажем, отправлена ему навстречу мучителем. После краткого военного совета с самим собой он нажал кнопку с цифрой «8».
8
Нижеописываемые события произошли за два месяца до вышеописанных.
— Это я, дорогой.
Анастасия Платоновна, красивая двадцатисемилетняя женщина, осторожно, как щенка, взяла на руки телефонный аппарат и прошлась с ним по комнате.
Все покачивалось.
Полупрозрачный халат в такт ее движениям, шелковая штора в открытой балконной двери под порывами солнечного ветра, сидящие в креслах мужчины — от смеха и удовольствия.
— Чем ты занят, милый? — пела Анастасия Платоновна, меряя платинового цвета босоножками пушистый искусственный ковер. Каждый раз, повернувшись к окну, она прищуривалась — блеск утреннего моря был очень резок.
— Да неужели, родной? И как ее зовут — Марина? Я рада за тебя. Где ты ее ангажировал?
Молодые люди в теннисных костюмах (один был не слишком, правда, молод, под сорок пять) давились от смеха. После слова «ангажировал» они выразительно, но бесшумно чокнулись своими бокалами с апельсиновым соком.
— Что делаю? — чуть курносое личико Анастасии Платоновны сделалось серьезным, а в голосе появилась деловитая нота. — У меня сейчас репетиция. Мною будет заниматься не только Георгий Георгиевич, но и сам Черпаков. Кто такой Черпаков? Честно говоря, не знаю. Но считается, что он гений сценического движения.
Один из веселых теннисистов плеснул соком на белоснежное бедро. Второй утопил восторженный кашель в подушке.
— Но ты не волнуйся, радость моя, — голос говоруньи вернулся в беззаботно-заботливое состояние, — я не ропщу и доли своей не хаю. Об одном тебя прошу: не позволяй Мариночке пользоваться моим купальным халатом. И еще — когда я вернусь, познакомь меня с ней. А то я могу подумать что-нибудь нехорошее.
Поставив телефон на журнальный столик, Анастасия Платоновна взяла свой апельсиновый завтрак в руки и закинула ногу на ногу. Фигура у нее была если не идеальная, то хорошая, к тому же она отлично изучила свои сильные и слабые стороны и умела произвести настолько выгодное впечатление, насколько это было ей необходимо.
Тот мужчина, что утихомиривал хохот подушкой, вернулся в исходное положение и, вытирая обильные слезы, спросил:
— Ну и что, познакомит? С Мариночкой?
Анастасия Платоновна отхлебнула сока и посмотрела прищуренным зеленым глазом в сторону сверкающего залива.
— Да нет у него никого.
— А вдруг заведет? — спросил второй собеседник, Георгий Георгиевич, обладатель чрезвычайно густого волосяного покрова.
— В том-то и дело, что не заведет. Хотя, конечно, пытается. Вернее, пытается доказать мне, что у него кто-то есть.
— Как это? — Георгий Георгиевич, видимо, ни на минуту не забывающий о том, как он шерстист, почесал грудь.
— Однажды, когда я ему вот так же позвонила с гастролей, он дал мне послушать, как сладострастно дышит в трубку его пассия.
— Ну и?.. — заинтересовались оба собеседника.
— Даже несмотря на это сопение, я не поверила, что у него имеется настоящая любовница.
— Это уж перебор, Настенька, согласись? — сказал смешливый и усмехнулся.
— Нет, — Анастасия Платоновна сделала еще один аккуратный глоток, — я сразу почувствовала — что-то тут не так. И, представьте, оказалась права. Приехав домой, раскопала один ящичек… собственную дачу я знаю лучше этого археолога. И нашла там кассетку с записью. Понятно какой?
— Теперь да, — сказал весельчак, удаляя сухие слезы из уголков глаз.
— Впечатление хотел произвести, — усмехнулся Георгий Георгиевич.
— Но и это еще не все.
— Говори, говори! — опять оба и опять одновременно потребовали присутствующие.
Оторвавшись от зрелища за окном, Анастасия Платоновна обвела собеседников рассеянным, но дружелюбным взглядом. Ей приятно было находиться в центре внимания. Даже такого, не совсем джентльменского.
— Приезжаю я как-то домой без предупреждения… Так вот, приезжаю, а он в койке с девицей.
— Скандал?
— Нет, Георгий Георгиевич. Скорее наоборот. Я цинично приготовила завтрак. На троих. Но у этой мидинеточки случилось сужение пищевода. От нервов. Она в панике исчезает. Я веду себя как ни в чем не бывало. Законный супруг мой начинает со мной объясняться, хотя никто его об этом не просит. Знаете эти мужские рыдания, мольбы. Все достоверно, но при этом… короче говоря, к концу разговора я пришла к уверенности, что и в этом случае было что-то вроде «кассеты». Вы понимаете меня?
Волосатый, во время этого рассказа задумчиво расчесывавший правое колено, переметнулся на левое.
— Здесь, — улыбнулась Анастасия Платоновна, — как вы понимаете, будучи людьми почти тонкими, даже не важно, имел ли место собственно физиологический акт. Великодушно считаю: лучше, если бы был.
Не настолько плохо я отношусь к своему мужу, чтобы лишать его этих маленьких радостей. Это, знаете, как во время спектакля. Герой должен пить вино, и я всегда желаю артисту, чтобы у него в графине было именно вино, а не подкрашенная вода, я доходчиво объяснила?
— Ну-у, пожалуй, — заметил Черпаков и допил свой сок.
— Так вот, я держусь той точки зрения, что даже в том случае, если половой акт совершился между моим мужем и его психиологической натурщицей, в высшем смысле ему не удалось согрешить против моего «культа». Про культ — это его собственные слова.
— Да, — почему-то очень мрачным голосом сказал Георгий Георгиевич, — кажется, он сильно вас любит.
— Но он ничтожество, — воскликнул весельчак Черпаков, — именно таких и топчут. Такие постоянно подставляют щеки и тем самым вводят в соблазн кулаки.
— То, что ничтожество, может быть. Но тут трудно понять три вещи.
— Целых три? — Анастасия Платоновна снова оторвалась от моря в пользу человека.
— Зачем вы вышли за него замуж? Зачем вы продолжаете оставаться его женой? И третье — зачем вы все это рассказываете нам, а?
— Начнем с третьего.
— Почему не по порядку?
— Потому, что на первые два вопроса ответить трудно.
— Я так и думал, — заметил весельчак.
— А рассказала я вам это для того, чтобы развеселить. Мужчинам почему-то очень нравится, когда их собратьев по полу выставляют в идиотском виде.
Сказав это, Анастасия Платоновна решительно допила сок.
— А теперь мне пора переодеться. Не могу же я показаться на корте в этом блядском наряде.
Теннисисты спускались в лифте в молчании. Только перед самым выходом в прохладный мраморный вестибюль Черпаков негромко сказал:
— Сука.
Георгий Георгиевич пожал плечами и вздохнул глубоко и грустно.
— Это было бы слишком просто.
9
Почему именно восьмой? Потому, что дом девятиэтажный. Надо иметь возможность осмотреться. Исходя из предыдущего опыта своей борьбы с маньяком, Леонтий Петрович не слишком верил в то, что на чердаке его ждет окончательное разрешение загадки. Но готовым-то надо быть ко всему.
Двери лифта неуверенно разъехались. Сдвинув брови и сжав челюсти, подполковник вышел на площадку.
Пуста.
Равно как и пролет лестницы, уводящий вверх.
Освещение отвратительное. Искусственные сумерки. Непонятный и неприятный запах.
Леонтий Петрович больше прислушивался и принюхивался, чем смотрел. Может быть, подсознательно рассчитывая услышать, как стонет пытаемый, или уловить миазмы, которые должна испускать его клетка.
Площадка девятого этажа отличалась от площадки восьмого только тем, что была еще хуже освещена. Леонтий Петрович здесь остановился, отдышался. Волнение давало себя знать. Правая рука по собственной инициативе нащупала рукоятку ножа в кармане.
Лестница здесь не кончалась, она устремлялась дальше вверх еще одним пролетом, совершенно уж темным и грязным. И где-то там, наверху, заворачивала за квадратную колонну лифта. Тишина стояла такая, что ее можно было счесть искусственно подстроенной. Леонтий Петрович так и сделал и собрался было уже подниматься, но тут ожил лифт. Что-то екнуло у него в железном сердце, и он с восьмого этажа отправился вниз.
«Сейчас вернется сюда», — уверенно подумал подполковник.
Как ни странно, так и получилось. Когда постанывающая кабина вплотную приблизилась к девятому этажу, подполковник прижался спиной к стене и вытащил нож. Оставалось только нажать кнопку, чтобы выпустить лезвие.
«Это ловушка», — мелькнула мысль, но не овладела сознанием.
Опять досадливый скрип двери. На площадку вываливается очень крупный мужчина. Правая рука у него выставлена вперед, в ней что-то железно отсвечивает. Леонтий Петрович нажимает кнопку, теперь и его рука вооружена. Но, тут же выясняется, зря. Мужчина пьян, а в руке у него сверкает не нож и тем более не пистолет. Ключ!
Мужчина сделал несколько тяжелых шагов к двери, прижался к ней, как к родной земле, подышал на обивку и начал медленно нашаривать скважину замка. Не сразу, но нашел. Дверь распахнулась, и хозяин всем телом упал внутрь. Дверь, словно разумное существо, пытается закрыться, но ей мешает хозяйский каблук.
Леонтий Петрович возвращает лезвие на место. Он испытывает некоторое облегчение. Все-таки приятно сознавать, что не все в этом мире подстроено заранее, что бывают случайности, хотя бы и пьяные.
Ну, теперь наверх.
Левой ногой одолевая ступеньку за ступенькой, осторожно приставляя к ней правую, шурша кителем по нечистой стене, Леонтий Петрович поднялся до середины глухого, пыльного, темного пролета. Каждую секунду ожидая, что на него вывалится безумная харя с окровавленным ртом.
Интересно было выяснить, что темнота впереди не сплошная, как ожидалось. На стене лежала полоска неяркого света. Как будто из неплотно прикрытой двери. Леонтий Петрович подумал о лампочке под потолком пыточной камеры. Еще плотнее сжались его челюсти.
Теперь о каком бы то ни было отступлении не могло быть и речи.
Поднявшись еще на несколько ступенек, подполковник увидел эту неплотно прикрытую дверь. Судя по всему, открывается вовнутрь. Медлить нет смысла, если кто-то там есть, то он не мог не слышать приближающихся шагов. Он наготове.
Набрав в грудь побольше воздуха, Леонтий Петрович резко толкнул дверь ногой. Взвизгнули ржавые петли. Пришлось толкнуть еще раз.
За дверью была небольшая безоконная комната.
Внутри все оказалось точно так, как описывалось в полуграмотных воплях Романа Миронова. Четверть примерно комнаты занимал цементный постамент, огороженный толстенными стальными прутьями. Концы их были вмурованы в пол и потолок. С лестничной площадки в комнату надо было спускаться по двум невысоким ступенькам. Под потолком лампочка в сетчатой ловушке.
Но никакого Романа там не было.
— Что же это такое?! — тихо проговорил Леонтий Петрович. Он думал, что пределы, до которых может дойти один человек в издевательствах над другим, давно достигнуты. Оказывается, нет.
Но куда он перетащил истекающего кровью парня? И как это можно было сделать незаметно?
Внимательным, опытным взглядом ощупывая «камеру», Леонтий Петрович находил все новые доказательства того, что в писаниях Романа речь шла именно о ней. Но одновременно у него зародилось сомнение в том, что Роман Миронов провел здесь хотя бы одни сутки.
Вон в углу стоит паяльная лампа, «пол» клетки засыпан солью и покрыт темными пятнами. Следы, может быть, крови? И вонища! Но вместе с тем… Леонтий Петрович помотал головой, словно отгоняя наваждение.
Что-то здесь не так! Но что?!
И где Роман сейчас? Четвертован и затоплен в пруду?
Облит бензином и до неузнаваемости обожжен где-нибудь на свалке?
Но кто тогда писал эти письма?
Подойдя к решетке, Леонтий Петрович подергал за прутья. Да, толстенные. Не расшатаешь, особенно с голодухи. И откуда она здесь, эта клетка? Часть архитектурного замысла? Конечно, сделали ее не для изуверских целей. Просто сварили, заляпали бетоном и забыли.
За стеной громыхнул лифт, зажужжали его шестеренки и блоки, кабина поплыла вниз. Физиономию Леонтия Петровича перекосило. Это ложь! Как можно было этот звук принять за шум электропоезда?!
Чушь, какая-то мучительная. Невозможно поверить в то, что здесь содержался несколько недель человек и подвергался пыткам. Но вместе с тем нельзя еще пока полностью отмахнуться от всего этого.
Леонтий Петрович еще раз дернул за прут и тут заметил, что в углу клетки что-то лежит. Книжка. Маленького формата, в мягкой обложке. Подполковник присел, поднял ее с грязного цементного пола. На обложке нарисованы бабочки, затрепанная книжка, читаная-перечитаная. Подполковник напряг глаза. «Коллекционер». Какого дьявола она здесь? Забыта или подброшена? Подполковник был не в силах размышлять, ибо испытывал острое желание действовать. Необходим следственный эксперимент, чтобы решить окончательно, находился в этой клетке Роман Миронов или нет. Вспомнилось подполковнику его собственное удивление, как это целый девятиэтажный дом мог не почуять, что на чердаке вершится омерзительное насилие. Да что там почуять! Они должны были услышать!
Подполковник посмотрел на железную дверку — даже если ее плотнейшим образом закупорить, вряд ли она способна погасить настоящий сильный крик.
Конечно же, нужен следственный эксперимент.
План составился в голове подполковника мгновенно. Необходимо немедленно отыскать Бухова с Русецким, пусть они забираются в конуру эту и орут, а он будет прислушиваться. Сразу же и окончательно будет ясно, претерпел ли хотя бы одну пытку в этом узилище Ромка Миронов или его письма лишь элемент в цепочке непрерывного вранья.
К счастью, ребята оказались на своем обычном месте. Напряжение подвального похода они сняли, и предложение поучаствовать в чердачном эксперименте им неожиданно понравилось. За ресторанным столиком они успели заскучать. Их девицы с радостью согласились им сопутствовать.
Таким образом, уже через десять минут лифтовая кабина, набитая возбужденными молодыми людьми во главе с отставным подполковником, шумно приближалась к месту возможного преступления.
Следственный эксперимент был поставлен немедленно. Бухов с хрипло хихикающими девицами должен был подняться в камеру, чтобы по команде снизу «орать благим матом». Сам Леонтий Петрович с Русецким, взятым ради объективности опыта, проникли в квартиру сильно пьяного джентльмена. Он за это время уполз в глубь квартиры по коридору и лежал теперь виском на холодном кафельном полу своего туалета. Кроме него, в квартире никого не было.
— Давай! — скомандовал Леонтий Петрович Бухову и, когда тот побежал наверх, прикрыл дверь чужой квартиры.
Уже через несколько секунд стало ясно, что производимый эксперимент приносит ощутимые результаты. Половина жильцов из всех квартир, от девятого до первого этажа, высыпала на лестничные площадки — кто с тесаком, кто с монтировкой, кто держа своего рычащего кобеля за ошейник.
Выглянув в глазок, Леонтий Петрович холодно констатировал:
— Признаться, имеет место неудача.
Русецкий, тупо разглядывавший своего учителя, вдруг предложил:
— А давайте мы тоже покричим. Может, Саня нас тоже услышит.
Не успел отговорить его Леонтий Петрович, ведь исследовательская ценность этого крика была равна нулю. Могучий «отморозок» задрал голову, и из горла его полилось хриплое, угрюмое гудение. Жалобно косясь на своего ученика, Леонтий Петрович приложил ладонь к щеке и затравленно подумал: «Господи».
Хозяин ангажированной для эксперимента квартиры, с трудом оторвав висок от кафеля, начал страдальчески подвывать незваному гостю.
10
Капитан, отложив подписанные подполковником бумажки, густо прокашлялся в кулак.
— Ну что, довольны?
— А вы? — Леонтий Петрович и не чувствовал себя виноватым, и не собирался таковым притворяться.
— Что «а вы»?
— А то, что виною сегодняшнему прискорбному факту ваше халатное поведение.
Капитан прокашлялся еще раз.
— То есть я так понимаю, Леонид Петрович, прекращать своей самодеятельности вы не желаете.
— Не только не желаю, но и вправе не чувствую. Судьба, судьба человеческая меня заботит. А вот вас заботит не знаю даже и что.
Милиционер встал, прошелся по кабинету, загнал осторожными ударами ботинка в угол кабинета неудачно стоящий стул. Он подбирал слова, имеющие сделать его точку зрения максимально внятной.
Леонтий Петрович в это время не молчал.
— Знаю, что вы мне тут произнесете. Что у вас закон, что коли начать преступать по каждому поводу, то ого-го… Может быть. Но тут же не любой повод, тут, повторяю, судьба, причем молодая. Как может быть не ясно?! Вам же просто лень или все равно. Но когда я докопаюсь до корня, вам же будет мучительно стыдно. И тогда я не стану скрывать вашего имени, товарищ Рычков. Нет, не стану. На детей ваших пальцем станут показывать, это вы понимаете?
Капитан резко повернулся, положил ладони на стол и заорал, приблизив лицо к уху подполковника:
— Да ты заткнешься когда-нибудь, старый козел?!
Леонтий Петрович нисколько не испугался. Он начал приподыматься со своего стула, угрожающе подергивая носом.
— Раз вы сердитесь, капитан, значит, вы не правы, — тихо, но очень укоризненно произнес подполковник.
— Что-о? — голос у милицейского чина перехватило.
— А то! Я боевой офицер, и таких, как ты, вот таких капитанов и негодяев, я расстреливал своею собственной рукой, — Леонтий Петрович продемонстрировал, какой именно. Сообщение это было сделано ровным и твердым голосом, отчего приобрело много внушительности.
Капитан сразу отвечать не стал. Вернулся на свое место, поскреб переносицу.
— Значит, так, товарищ Мухин. Имеющихся у меня против вас фактов достаточно, чтобы завести уголовное дело. Например, о злостном хулиганстве. Делаю вам последнее предупреждение. Последнее. Если вы не прекратите своего дурацкого следствия, я приведу свое предупреждение в исполнение, невзирая на ваши немалые заслуги в прошлом и ваш возраст. Покой целых домов надо как-то охранять.
Подполковник встал, привычным движением одернул китель.
— Думаю, не далее как завтра утром вы получите официальное заявление от родственницы Романа Миронова об исчезновении. Посмотрим, как вы будете задерживать с началом следствия после оного.
Выйдя из малоприятного кабинета, уже стоя в коридоре, Леонтий Петрович обернулся и поставил точку в разговоре:
— И напрасно вы меня называете Леонидом и Леонидом Петровичем. Имя у меня более редкое, но от этого не менее отечественное. Леонтий.
Ощущение одержанной моральной победы продержалось у Леонтия Петровича недолго. Несмотря на то, что ему удалось добиться от «ментов», чтобы они сразу отпустили «ни в чем не виноватых» ребят, он понимал, что история с чердаком не слишком возвеличивает его образ мудрого учителя в глазах Бухова, Русецкого и остальных. Кажется, в порыве справедливых чувств он стал на мгновение несколько смешон. Этого никакой вожак, даже ведущий своих людей в направлении самой доброй и высокой цели, допускать не должен. Как теперь вернуть прежнее расположение и уважение «отмороженных» пацанов? И перед этими девчонками неудобно. Как они самозабвенно вопили, как старались помочь. Не то что эта, как ее, Люся.
О своем невидимом враге Леонтий Петрович думать не хотел. Приказывал себе не думать. Не сейчас. Потом. Надо сначала выспаться. Ситуация ведь не просто усложнилась. Появился в ней непонятный, трудноопределимый оттенок. С одной стороны, враг доказал свою непобедимость по части изобретательности, но с другой, подполковнику перестало казаться, что Ромке угрожает смертельная опасность. И о мучениях его он стал думать как о чем-то отчасти условном.
Может, это естественное очерствление души. Даже к войне люди привыкают. Хотя очерствление не может быть естественным. Не должно! Долг каждого честного человека бороться с ним. Если не на жизнь, то хотя бы на совесть. Так что завтра…
Но оказывается, до «завтра» Леонтию Петровичу предстояло еще одно испытание. У подъезда стоял человек. Фигура его была освещена плохо, но достаточно для того, чтобы подполковник рассмотрел в ней что-то неприятно знакомое.
11
За месяц до вышеописанных событий.
— Признаться, Настя, я не большой любитель таких приключений, — сказал Георгий Георгиевич, умело ведя свою «тойоту» по узким улочкам дачного поселка.
— Да, — подтвердила Лолик, пухлощекая, со вздернутым носиком, подружка Анастасии Платоновны, сидевшая на заднем сиденье, — недаром говорят: милые бранятся — только тешатся.
— Все претензии к себе, дорогому, Георгий Георгиевич, — отвечала Анастасия Платоновна, хищно поднятой рукою указывая последовательность поворотов. Поселок был старинный, по обе стороны асфальтовой дорожки тянулись монументальные, высоченные заборы, а над ними высились еще более высоченные хвойные облака.
— Не я затевала вчера этот спор. Но у меня есть правило: проговорилась — проделывай. Соответственное отношение и к словам всех прочих. Вот здесь помедленнее, рытвина. Ах нет, уже заасфальтировали.
Машина остановилась возле высоких зеленых ворот, в них встроена была калитка с глазком.
— Прямо крепость, — не удержался Георгий Георгиевич.
Анастасия Платоновна хихикнула. Лолик посмотрела на нее с интересом, кажется, подружка ее искренне рада тому, что происходит. По крайней мере весело возбуждена.
— Итак, я еще раз напоминаю вам условия пари. Вчера я в вашем присутствии сообщила моему мужу Васечке день и час своего возвращения домой, после чего заявила вам, что, вернувшись в этот назначенный день и час, я застану у него в постели любовницу. Пока я все правильно излагаю?
— Пока да, — сказал Георгий Георгиевич, поглаживая баранку и топорща усы.
— Делаю я это не только из «любви к искусству», но и преследуя цель практическую. Я хочу доказать вам, моему начальнику и моей подруге, что все мои несколько экстравагантные рассказы о семейной жизни — не плод больного воображения. Надеюсь, после этого прекратятся эти отвратительные перешептывания у меня за спиной.
— Как бы не наоборот, — вздохнула Лолик.
— И если я окажусь права, то вы, Георгий Георгиевич…
— Помню, помню, — быстро сказал тот, — за мной еще никогда не ржавело.
— Вспомните, сколько было свидетелей разговора, — улыбнулась Анастасия Платоновна, открывая дверцу машины.
— Это ее дача? — спросил Лолика Георгий Георгиевич, вытаскивая ключи.
— Да. Вернее, отца. Но он уже умер. Недавно, правда. Большой был человек.
— Ну, это-то я знаю.
— Понятые, пора, пора, — пропела снаружи Настя.
Участок (огромный, наверное, в пол гектара) был благородно запущенным парком. Ни одного квадратного метра, к которому рука человека прикоснулась бы с корыстной целью. Кустищи жасмина, сирени, два гамака натянуты меж сосновыми стволами. К дому вела выложенная красным кирпичом дорожка. Дом двухэтажной, солидной, несовременной постройки, не коттедж какой-нибудь. Дверь веранды полураспахнута как бы с вызовом, мол, мы вас ждем.
Анастасия Платоновна хмыкнула, ставя ногу на ступеньку.
— Ну что вы остановились, идемте, идемте, — обернулась ко все более мнущимся гостям.
Внутри дома играла музыка. По мысли Георгия Георгиевича, имевшего, естественно, разнообразный житейский опыт, неосторожные любовники должны были бы тихо дрыхнуть, преступно насладившись друг другом. Внезапная супруга застает их в полной тишине, разметавшихся на семейном ложе. Такой рисуется картина нормального адюльтера. Хотя здесь и адюльтер какой-то извращенный.
Когда все трое вошли на кухню, то застали там мужа Васечку орудующим у газовой плиты.
— О, — беззаботно сказал он, — а я как раз кофеек.
Он был в халате, из-под которого торчали худые жилистые ноги, кривоватые. Вообще невысок ростом, костист, широкоплеч. Шишковатый лоб. Очки в золотой оправе весело блеснули, когда он поворачивался к гостям.
По кухне плавал уютный запах кофе. Георгий Георгиевич почувствовал облегчение. Успел сплавить! Молодец, шишколобый. Зачем, правда, человеку лишний скандал. И Настеньку не придется насильственно переводить в основной состав.
— Привет, милый, мы только что с самолета. Георгий Георгиевич любезно согласился меня подвезти.
— Садитесь. Сейчас мы будем его пить, — дружелюбно сказал честный муж, принюхиваясь к своему вареву.
Георгий Георгиевич и Лолик уселись в плетеные кресла к круглому столу. Подружка смелой спорщицы тоже вздохнула свободнее. Все эти семейные сцены так утомительны. Даже чужие семейные сцены. Просто нельзя было отказать шефу, когда он попросил поехать вместе с ним.
— Может быть, омлет? — поинтересовался хозяйничающий у плиты. — Я мигом. В нашей семье кухня — моя вотчина.
— Нет, нет, — замахал руками Георгий Георгиевич, — кофе более чем достаточно.
Анастасия Платоновна с иронической улыбкой наблюдала за происходящим.
За спиной у сидящих скрипнула отворяемая дверь, по стенам промелькнули искаженные квадраты стеклянных отсветов. Гости снова оцепенели. Потом, сделав над собой усилие, Георгий Георгиевич обернулся и, увидев большого рыжего кота, чуть нервно рассмеялся.
— А, — наклонилась к нему Анастасия Платоновна, — это ты, Марсик. Ты хорошо себя вел?
— Он хорошо, — серьезно ответил муж, орудуя кофеварочными приспособлениями.
— Знаешь что, милый, давай я все-таки накрою сама, а ты зови свою гостью, она, наверное, уже проснулась.
Василий кивнул.
— Наверное. А вот и она сама.
Застекленная дверь в глубине кухни снова открылась, и на пороге появилась заспанная и растрепанная девица. Очень заспанная. Она внимательно, но явно ничего при этом не понимая, рассматривала находящихся на кухне.
— Привет, — сказала ей Настя, — что с тобой, Вер, ты как будто меня не узнаешь.
Та наконец что-то поняла. Например, то, что вышла к людям в самом легком нижнем белье. В лице ее стал медленно изображаться ужас.
— Я все понимаю, дорогуша, — продолжала щебетать Анастасия Платоновна, — мы немного неожиданно, но нельзя же в таком виде. Вот и Георгий Георгиевич здесь, и Лолик. Помнишь, я тебе о ней рассказывала. Иди прими душ. Наверное, уже знаешь, где он. Иди, Верочка, иди.
Заспанная и перепуганная девица стала проваливаться сквозь стеклянную дверь в явном намерении исчезнуть как следует. Навсегда или даже более того. Наконец она справилась с дверью и зашлепала босыми ногами по ступеням деревянной лестницы, уводящей на второй этаж.
— Слушай, — обратилась Анастасия Платоновна к мужу, — чем ты ее опоил? Я никогда не видела Верку такой. Она невменяемая.
— Опоил? — муж равнодушно пожал мосластыми плечами. — Ядом любви, конечно.
12
— Позвольте, я сниму пиджак? Чудовищно душно.
Леонтий Петрович сделал скупой приглашающий жест: ради бога, мол. Не жалко.
Петриченко не без труда стащил с пухлых и потных плеч влажный пиджак и аккуратно повесил на спинку стула. Хозяин комнаты подозрительно и неприязненно наблюдал за его действиями. Он был не рад визитеру. Зачем явился, да еще почти ночью?
— Позвольте, я сяду?
Человеку, снявшему пиджак, сесть не запретишь. Леонтий Петрович мрачно кивнул. Сам остался стоять, прислонившись к подоконнику. Решил пока говорить как можно меньше. Пусть потный демократ тащит телегу разговора самостоятельно. Однако как он устраивается! Надолго. Может, стоило в самом начале указать ему на дверь? Но встретились внизу, а там, в подъезде, дверь общественная.
— Вы, наверное, удивлены моим появлением?
Леонтий Петрович выразительно пожал плечами.
— Не сочтите мое желание подняться сюда наглостью. Просто разговор у нас может получиться не только серьезный, но и длинный. Не для подъезда.
Сейчас достанет платок и начнет вытирать пот, тоскливо подумал Леонтий Петрович. Платок, действительно, появился и был брошен на осушение залысин.
— Наша последняя с вами беседа произвела на меня, Леонтий Петрович, очень сильное впечатление.
Подполковник хотел саркастически хмыкнуть, но сдержался.
— Я человек не бесчувственный, как это могло вам показаться. Не циничный, хотя и прожженный газетчик. Просто… просто я так до конца и не смог поверить в то, что письма, вами представленные, подлинны. А в нашем деле как? Если не загорелся, то и других не зажжешь. Одним словом, не сумел я убедить начальство в необходимости этой публикации. Но когда вы ушли… — Петриченко вспотел заново и некоторое время занимался уборкой головы. — Стала, знаете, совесть помучивать. А вдруг все же письма подлинные. Пусть только на двадцать процентов сохраняется вероятность, что мучитель этот существует, — нельзя сидеть сложа руки, верно?
Подполковник сменил опорную ногу, оставаясь немигающе внимательным.
— А когда у человека просыпается совесть, она побуждает его к действию, верно? Какая у меня была возможность проявить себя в этом смысле? Короче говоря, решил я провести собственное журналистское расследование. Ежели окажется, что история эта хотя бы отчасти подтверждается фактами, я смогу с горящим сердцем пойти к начальству, и тут уж ему будет трудно отвертеться.
Вид Петриченки сделался вдруг сдержанно победоносным, несмотря на продолжающееся потоотделение.
— Вот, — он полез в карман пиджака и достал оттуда сложенную вдоль газету. Это была «Ленинская смена».
— Пока, конечно, это не совсем то, чего вы хотели, но все же, все же, все же… — самодовольный палец потыкал в набранную муравьиным шрифтом заметку. — Взгляните.
Леонтий Петрович взял газету.
— Ниже, ниже, вон там. Это просто сообщение, что Роман Миронов, 18-ти лет, ушел из дому такого-то числа и исчез. Всем, кто видел юношу 185 сантиметров ростом, нос искривленный, волосы вьющиеся, телосложение спортивное и так далее, просьба сообщать туда-то и туда-то.
Петриченко с напряжением следил за реакцией подполковника. Тот читал заметку долго и безэмоционально, как будто перед ним был очерк о поездке в Сыктывкар.
— Ну, согласитесь, это все-таки кое-что, а? Ну согласитесь, Леонтий Петрович?
— А зачем вы пришли ко мне? — прервал вечер одностороннего молчания подполковник. Петриченко заулыбался. Сфинкса удалось разговорить. Человек, начавший задавать вопросы, рано или поздно станет на вопросы отвечать.
— А вот здесь все просто. Не могу я бросить дело на полдороге. Теперь я убежден: почти все, что вы мне говорили, правда. Все, что написано в письмах Ромы Миронова, тоже правда. Ужасающая, но правда. Надо сделать эту историю достоянием гласности. Но тут мало одной моей веры, мало того искреннего порыва, которым руководствуетесь вы. Нужны доказательства для маловеров. Пока мне удалось настоять только на этом, — Петриченко еще раз указал на заметку.
— Так чего вы хотите от меня? Конкретнее.
— Хочу сделать вас моим союзником. Или, вернее, хочу работать вместе с вами. Признаю для начала, насколько ошибся в оценке вас как личности. Вы человек высоких моральных качеств. Говоря языком плаката. В известном смысле, я у вас в долгу. Не говоря уже о Роме.
Леонтий Петрович оторвался от подоконника. Да, ему были приятны льстивые речи Петриченки, но при этом подполковник не переставал считать гостя продажным писакой. Что же ему все-таки надо?
Одно, по крайней мере, ясно: выгонять его сейчас неразумно. Да и невеликодушно. Все же человек кается. Возможно, и непритворно. Но эта шутовская клетка за лифтом! Начавшее было выправляться сердце ветерана вновь огорченно задергалось. Ведь рассказать откровенно журналисту о ней значит признать, что он был отчасти прав в своих сомнениях, а стало быть, и несколько чрезмерен в только что высказанных восторгах.
— Без вашей, Леонтий Петрович, помощи мое профессиональное расследование мало что даст. Гроша оно ломаного не стоит, ведь вы, как я сумел выяснить, посвящены в эту историю даже глубже, чем сочли нужным сообщить нам. Это ваше право, — предупредительно поднял руки журналист, обнажая черные от пота подмышки. — Поверьте, я могу быть вам полезен. И вдвоем всегда легче. Клянусь, мы распутаем эту историю. Расхлебаем эту кровавую кашу.
— Да-а, история эта гораздо запутанней, чем вы можете догадываться, дорогой мой товарищ из прессы, — с загадочным видом сдвигая брови, произнес Леонтий Петрович. Он тянул время, потому что никак не мог решить, рассказывать ли этому кающемуся негодяю, каким издевательским образом извернулось течение дела.
— А начинать распутывание лучше не насухую, — в руках Петриченки оказалась бутылка коньяка. Дорогого на вид. Подполковник был почти равнодушен к алкоголю, считая, как и Аристотель, пьянство добровольным сумасшествием, но понял, что в данной ситуации чай был бы неуместен.
— Ну что ж, — начал было он, но продолжить фразу не сумел, ибо увидел, что пухлая редакторская лапа, поставив бутылку в центр стола, потянулась к перевернутому карандашному стакану. Тут же подполковник вспомнил, кто у него сидит в этой импровизированной клетке, и нервно вскрикнул:
— Нет!
— Что «нет»?! — озадаченно замер гость.
— Не из этого же… Там, на кухне, шкаф. Со стеклышками. Возле плиты… просьба сходить за посудой. Рюмки, нож…
Разумеется, Петриченке эта просьба показалась странной, но он счел за благо не высказываться по этому поводу. Собственно, и так было ясно, что старикан со странностями. Журналист встал и пошел на кухню. Как только он скрылся за дверью, подполковник кинулся к столу, комкая газету, схватил стакан, занес бумажный ком для удара. Таракана не оказалось. Вернувшийся с рюмками гость застал хозяина в странной позе — с занесенными руками. В одной стакан, в другой изуродованная газета. Взгляд вперен в стол.
— Что-то случилось?
Леонтий Петрович только покосился в ответ. Что он мог объяснить? Честно говоря, исчезновение насекомого нарушителя из абсолютно надежной деревянной камеры подействовало на него не менее сильно, чем бегство истерзанного Ромкиного образа из пределов составившейся в сознании мучительной клетки.
— Наливайте, — прохрипел он.
Петриченко не заставил себя ждать. Оранжево-маслянистая жидкость бесшумно наполнила граненые водочные стаканчики. Гость достал из кармана пиджака теплый лимон, но нарезать не успел. Хозяин, освободив руку от газетного комка, неучтиво осушил свой стакан. И опять Петриченко не стал высказываться. Просто продолжил приготовление лимона. Леонтий Петрович подцепил согнутыми стариковскими пальцами одну из первых долек и, зажмурившись, бросил в рот.
— Дело вот как, — сказал он, закусив. После этого последовал рассказ о событиях, происшедших после того, как он со скандалом покинул кабинет Петриченки. Леонтий Петрович ничего не утаил, никаких деталей, даже обидных для себя. Не утаил и сомнений по поводу достоверности обысканной клетки, а стало быть, и серьезности всей истории.
— Так что вот. Как вас, кстати, по имени и по батюшке?
— У меня довольно странное имя.
— Мне все равно какое. Но надо же знать.
— Евмен Исаевич.
— Евмен?
— Отец историк был. Античник. Евменом звали одного из полководцев Александра Македонского.
— Ага, ну что же… так я хочу закончить мысль. Нельзя не видеть, что отчасти правы были ваши сомнения. Есть, есть какая-то обидная непонятность в истории с Ромкой.
Журналист налил еще коньяку собеседнику и поднял свой стакан, пододвинув другой рукой блюдце с лимоном.
— Давайте выпьем.
— За что?
— Ну-у… давайте — это наш студенческий тост шутливый — за психическое здоровье.
Тост Леонтию Петровичу не понравился, хоть и студенческий. И не понравилось к тому же то, что он не смог сразу себе отдать отчет, что именно в нем раздражающего. Но выпил. Съел лимона, продолжая копаться в себе.
Заговорил Евмен Исаевич.
— Напрасно вы думаете, если думаете, что это ваше признание моей негативной проницательности меня радует. Очень ведь может быть, что рассказанное вами — всего лишь свидетельство того, что дело обстоит еще хуже, чем рисовалось в начале.
— То есть?
— Не хочу вас пугать. Но несерьезность вашей клетки может означать, что Роман находится в другой. По-настоящему страшной. Подсовывая вам эту, на чердаке, мучитель просто уводил вас в сторону от истинного пути. Роман, скорее всего, истекает кровью в другом, значительно более укромном месте. До которого трудненько будет добраться.
— Сумасшедший какой-то тип, — вздохнул Леонтий Петрович и сам себе плеснул коньяку.
— В действиях любого, самого экзотического садиста имеется своя логика. Наша задача понять ее, только тогда есть шансы на успех.
— Я сам к такому же пришел. Только по логике можно догадаться о нем, о садюге. Собирался даже литературку кой-какую подчитать. Де Сад, Перен.
— Перен?
— Да, в энциклопедии указаны. Но где же времени сыскать? Сначала эта беготня по подвалам, потом конфуз на чердаке. И, по большому счету, никакой зацепки.
Потомок античника, прищурив один глаз, жевал лимонную дольку. Вид у него получился задумчивый.
— Хотя как же! — воскликнул вдруг Леонтий Петрович и тут же вытащил из кармана кителя найденную в клетке книжку с бабочками.
— Это оттуда, из-за решетки.
— Это было…
— Да, валялось на полу в клетке. Конечно, я ухватился. Вещдок.
Петриченко покрутил переданный ему томик в руках.
— Джон Фаулз. «Коллекционер». Неплохой, надо сказать, писатель.
— Я думаю, вот почему «коллекционер»: взгляните… э-э… Исаевич…
— Евмен.
— И тем не менее, взгляните на стены. Намек.
— Я уж смотрел, у вас прямо выставка, вызывающая зависть. И со вкусом каким.
— За вкус спасибо, только ведь не выставка, а «коллекция», — Леонтий Петрович поднял палец, — намек, откровенный намек. И как я мыслю дальше: человек этот, садист то есть, осведомлен о моих пристрастиях и занятиях. Может быть, даже бывал в доме. Иронию он выставляет свою этой книгой. Мол, знаю я тебя, нумизмата старого.
Петриченко, улыбаясь, покачал головой.
— Ирония в этом вещдоке, конечно, заключена, но не на то направлена, на что вы думаете.
— А на что?
— Понимаете, здесь, в романе в этом, описывается ситуация, похожая на ситуацию с нашим Романом. Там тоже похищают человека с непонятной целью и запирают. Только не парня, а девушку.
— Вот оно что?
— Да. Надо признать, что наш противник не чужд культуре, почитывает. Скорей всего, садист он идейный. Ход этот с «Коллекционером» не лишен изящества. Своеобразного, конечно.
С этими словами Петриченко открыл книгу и на внутренней стороне обложки обнаружил…
— Как в библиотеке! — воскликнул Леонтий Петрович.
— Похоже, но тут другое, — Евмен Исаевич вытащил из наклеенного карманчика листик тончайшей бумаги, сложенный вчетверо. Это был не библиотечный формуляр, это было…
— Послание, — прошептал Петриченко.
13
Георгий Георгиевич Кулагин обладал абсолютной транспортной памятью. Машина, как по гирокомпасу, шла по узкому каналу дачной дороги. Виды вокруг были уже не избыточно летние, а отчасти осенние. Покорно отсвечивали мелкие лужи, подвергшиеся прикосновению невнимательного августовского солнца. А вот и цель путешествия. Знакомые ворота. Было заметно, что Георгий Георгиевич волнуется. Несколько глубоких вздохов, массирование надбровий. Выбравшись наружу, озабоченно похлопал себя по карманам полупальто. Подошел к воротам, вернулся, закрыл машину. Опять подошел к воротам. Постоял немного. Внезапно угрожающе улыбнулся — видимо, явилась мобилизующая мысль — и нажал кнопку звонка.
— Вы?!
Муж Анастасии Платоновны был искренне удивлен. Но ни в голосе, ни в движениях ни тени паники. Как будто ничего опасного не произошло. Хочешь притворяться — ладно, притворяйся, очкарик. Посмотрим, насколько тебя хватит. Георгий Георгиевич внезапно изменил свой первоначальный план и отказался от лобовой атаки.
— Проезжал мимо, дай, думаю, зайду на кофеек.
— Всегда к услугам, — пожал плечами хозяин и отступил в сторону, давая возможность пройти гостю. Георгий Георгиевич решительно вошел, внимательно оглядываясь по сторонам.
Какой огромный все-таки участок. Как много укромных мест. И листья еще почти не облетели. В глубине, за темными тихими липами, угадывались какие-то дощатые строения. Гараж? Сарай?
— Проходите, проходите, — хозяин, изогнувшись, толкнул дверь. Вот наконец и она, та самая кухня. Вот и дверь на скандальный второй этаж.
— Садитесь. Я мгновенно.
Газовая горелка загудела, как сгущенный пчелиный рой. Муж Анастасии Платоновны, поймав дужку очков возле виска, внимательно рассматривал кофейные банки и коробки. Казалось, он полностью сосредоточился на этом занятии. Какова, однако, выдержка. Георгий Георгиевич в свою очередь рассматривал его. Итак, мужчина лет сорока, подтянутый, уверенный в себе. Насколько он старше Насти? А насколько старше я? — внутренне усмехнулся Георгий Георгиевич. И нервно забарабанил ногтями правой руки по крышке стола.
— Пожалуй, для утреннего часа лучше всего подойдет этот. Настоящий колумбийский.
— Скажите, Василий, а вы давно здесь живете?
Хозяин обернулся, помедлил с ответом, видимо, мысленно измеряя глубину подтекста. Усмехнулся.
— Довольно давно. Навряд ли вам это известно, так вот: вначале я был просто сторожем на этой даче. Я, знаете, из очень небогатой семьи, так что, поступив в аспирантуру и оставив основную работу, вынужден был подрабатывать. Уж не помню, кто мне посоветовал эту должность. Она меня замечательно устраивала. И деньги, и кров. Почему вы куртку не снимете?
— Это полупальто.
— Почему не снимете ваше полупальто?
— У вас не жарко.
— Да, август в нынешнем году с октябрьским оттенком. Сам я привык к спартанской обстановке, — ведя рассказ, бывший сторож мастерски орудовал у плиты, на него было приятно смотреть. — Одно только исключение — кофе, это моя непреодолимая слабость. Но, согласитесь, человек без слабостей — это уже и не вполне человек.
На стол легли два тонких блюдца, на них стали две не менее тонких чашки. Струя кофейного аромата лизнула ноздри Георгия Георгиевича, и он как бы очнулся, ибо до этого сидел, полностью превратившись в слух. Менее всего он интересовался рассказом кофевара, он пытался уловить звуки жизни, происходящей в глубинах дома.
Хозяин уселся во второе плетеное кресло.
— Ну, я ответил на ваш вопрос?
Какой-то мгновенный луч солнца сверкнул на золоченой переносице. Гостю, чтобы избежать необходимости что-то говорить, пришлось взяться за чашку. Сделав несколько глотков, он пришел в себя.
— И с Настей вы здесь познакомились?
— Извините, Георгий Георгиевич, тут вы уж вторгаетесь в сферы… Ну да ладно. И это вам поведаю, хотя интерес ваш, кажется, не вполне бескорыстен. С Настей я познакомился здесь. И здесь же ее соблазнил. Впрочем, это еще вопрос, кто кого… Например, Платон Григорьевич, батюшка Насти, считал как раз наоборот. Я ведь оказался здесь, будучи уже лет тридцати семи от роду. За спиною имел два до крайности нелепых брака. Лучшей жизненной школы, как вы знаете, не существует. Накладывает тиснение на душу. Одних девушек это отталкивает, и таких, слава богу, большинство. Других — натуры от природы утонченные и извращенные — наоборот, притягивает.
Муж Анастасии Платоновны с наслаждением отхлебнул из своей чашки. Разговором он, безусловно, тоже наслаждался. Георгий Георгиевич искал в этом наслаждении мазохистский отсвет и, как ему казалось, находил. Хотя, с другой стороны, откуда можно было знать, откровенен ли этот тип, может, он плетет историю, не имеющую ничего общего с реальностью.
— Однажды зимою приехала Настя сюда. Что-то у нее там в городе случилось. Жизненная неудача, говоря языком казны. Решила она уединиться. Но что такое уединение молоденькой, хорошенькой, познавшей интересные стороны жизни женщины? Для нее бегство от одного мужчины означает поиски другого.
Георгий Георгиевич почувствовал здесь намек в свой адрес, но сделал вид, что не понимает.
— Тем более что дача была нетоплена. Платон Григорьевич не посещал свой загородный дом зимою. Вот она, я имею в виду Настю, и пришла ко мне в сторожку.
— Сторожку?
— Ну да, вы ее, по-моему, неплохо рассмотрели, когда шли к дому. Там, за липами.
Сказать было нечего, Георгий Георгиевич потянулся к чашке.
— И вы ее соблазнили?
— Нет, разумеется. Не в этот раз. Тогда мы только разговаривали. Долго. Пили, извините за выражение, кофе. Потом она стала приезжать регулярно. Видимо, я сильно контрастировал с тем, кто стал причиною ее разочарования в жизни. И однажды это произошло. Потом стало происходить регулярно. Естественно, она забеременела.
— Ясно.
— Я был в отчаянье.
— Почему?
— Я мог лишиться места. Чем обычно кончаются такие контакты барских детей с прислугой.
Послышался непонятно откуда доносящийся звук. Георгий Георгиевич напряг свой слух.
— Но Платон Григорьевич решил по-другому?
— Платон Григорьевич решил эту ситуацию не так, как я мог ожидать.
Непонятный звук донесся снова. Если бы гость был внимателен, он бы различил следы беспокойства на челе хозяйского добродушия.
— Он заставил нас пожениться.
— Что значит «заставил»?
— Вы не знали Платона Григорьевича.
— Бог миловал.
— Вот именно. Он был не просто большой начальник, но и громадный человек. Глыба из самых матерых.
Звуки стали повторяющимися. Хозяин полностью овладел собой и продолжал вести разговор самым непринужденным образом.
— Хотите еще? В нашей ситуации он повел себя как сказочный царь. Дочь капризничает, за принцев идти не хочет, ну и пусть тогда выходит за первого, кто постучит в ворота города.
— Смешно.
— Не слишком. Меня вообще никто не спрашивал.
— Могу себе представить.
— Вряд ли. Вряд ли, дружище. Кофе, как я понял, вы больше не хотите.
— Сыт. — Георгий Георгиевич провел ребром ладони по горлу.
Хозяин продолжил свой рассказ:
— Брак, рожденный под столь сильным искусственным давлением, не может быть гармоничным. Вот вам и объяснение всех несообразностей нашей совместной жизни с Настей. Ведь вы приехали сюда, чтобы что-нибудь разузнать по этому поводу, а не из тяги к моему кофе.
Георгий Георгиевич не смог скрыть смущения.
— А жаль, ведь кофе я варю отменно.
— Вы что, не слышите эти звуки, они же человеческого происхождения?!
— Слышу, конечно. Это отопительная система нервничает. Такое бывает довольно часто. Обычно там все устраивается само. Но, кажется, на этот раз без моего вмешательства не обойтись. Пойду взгляну.
Он встал.
— Вы меня дождетесь или вам уже пора? Провожу.
— Нет, я вас дождусь. Хочу проверить, как вы завариваете чай, — попытался сострить Георгий Георгиевич.
Когда хозяин покинул кухню и хлопнула дверь веранды, гость вскочил со своего места и бросился к той двери, что вела на второй этаж. На четвереньках почти, чтобы его нельзя было увидеть с улицы, он вскарабкался по крашеным ступеням и замер, прислушиваясь сквозь шум своего дыхания. Он был уверен, что Настя здесь. Она сама ему сказала, что едет сюда.
Сначала он ей не поверил. Нервное их объяснение счел маловажной размолвкой. Пугает.
Одну за другой он в бешеном темпе колотящегося сердца обыскивал комнаты. Он был уверен, что звуки, доносившиеся на кухню, исходят отсюда, сверху. Из уст связанной Анастасии Платоновны. Почти выплюнувшей свой кляп. Судя по тому, что она рассказывала о своем муженьке, он способен и не на такое. Тем более что безумно в нее влюблен. И как врет, как врет! Он, видите ли, вынужден был жениться, уступая воле цековского самодура! Небось выл по ночам от счастья. Не дай бог показать, как он жениться хочет. Чтобы с нею, с Настенькой… Георгий Георгиевич не удержался и представил себе Анастасию Платоновну соблазнительно развалившейся на тахте, а потом жестоко скрученной мужниными веревками в пыльном углу, и застонал от совокупного отчаяния.
Но где же она? Каждая комнатушка предъявила свое подлое алиби.
И в общем-то непонятно, почему этот кретин бросился на улицу, когда звуки доносятся отсюда.
Вчера вечером Георгий Георгиевич, разжевав свою гордыню, обзвонил всех ее подруг и знакомых. Нигде нет! Значит, где, если нигде? По его просьбе звонили и сюда. Она не подходит. Кофеман сообщает, что Анастасии Платоновны нет-с, и давно-с. Не сразу, но Георгий Георгиевич сообразил, что она связана и спрятана. Ведь она сама говорила, что очкарик знает о ее новой и столь счастливой связи. Видимо, почувствовал, что это нечто серьезное, и принял свои меры. Меры мужа. И дурака. И подлеца.
Пора возвращаться.
Со всею возможной бесшумностью и быстротой спустился обследователь второго этажа на кухню. Мужа своей возлюбленной он увидел у мойки. Тот наполнял чайник. В первый момент Георгию Георгиевичу стало неудобно, а потом он внутренне махнул рукой. Что тут теперь скрывать?!
— Как ваше отопление?
— Уже в порядке. Почти. И сейчас я вас угощу чаем. Тут я себя специалистом не считаю. Поэтому будете диктовать, как вы любите.
Установив чайник на огне, Василий снял и протер очки. Грудь его слегка вздымалась. Судя по всему, отопление он осматривал весьма торопливо.
— Скажите, а Настя действительно талантливая манекенщица? Мне казалось, что ноги у нее слегка коротковаты для подобной работы. Да и разворот плеч…
— Вы правы. Если бы я не знал, чья она дочь, я бы не взял ее к себе. Да и так, взяв, старался выпускать как можно реже. Но, согласитесь, способность кривляться на подиуме — не самый главный талант в женщине.
— Но она и на кухне не любит и не умеет «кривляться».
— В любимой женщине и это можно снести.
— Любимой? — брови аспиранта удивленно возвысились над верхним краем оправы.
— Любимой, — твердо и наступательно заявил Георгий Георгиевич.
— С ума сойти.
— До такой степени любимой, что я не остановлюсь…
Опять донеслись невесть откуда давешние звуки.
Не невесть. Сторожка! Это веранда рождала такой странный акустический эффект.
Георгий Георгиевич решительно кинулся к выходу. Переворачивая стол и круша кофейный сервиз.
Василий кинулся следом. На крыльце он попытался схватить гостя за рукав, но не удержал. Потерял равновесие и покатился в жухлую траву. Несмотря на это, к дверям деревянного строения он успел первым. Потому что точно знал, куда именно нужно бежать. К тому же возлюбленный Анастасии Платоновны зацепился ногою за бордюр, разодрал штаны. Это, правда, лишь прибавило ему ярости. Когда он подбежал к сторожке, скрытный хозяин уже крестообразно стоял на пороге.
— Я вас туда не пущу.
Из-за двери доносились непонятные, но все же явно человеческие шумы.
Георгий Георгиевич, презрев дальнейшие объяснения, пошел в лобовую атаку, но был отброшен резким грамотным ударом в подбородок. Облизнувшись — нет ли на губах кровоподтека, он полез в карман и достал оттуда пистолет.
— Всего лишь газовый, — шумно дыша, сообщил он, — но будет достаточно. Я жду.
Помедлив несколько секунд, сволочь-муж отошел в сторону.
— Подальше, подальше. На пять шагов.
А то еще шарахнет чем-нибудь. Удостоверившись, что Василий отошел на достаточное расстояние, вооруженный кутюрье ворвался в сторожку.
Вот что он увидел: посреди небольшой комнаты с занавешенными окнами и крашеным полом стоит табурет. На нем сидит седовласая старуха в длинном ситцевом платье, в белых носочках и тапочках, и поет тихонько так, надтреснуто, но мелодично:
Горит свечи-и о-га-ро-чек, Греми-ит неда-альний бой, Нале-ей, дружок, по ча-роч-ке, По на-шей фрон-то-вой.14
— Итак, он предлагает встретиться.
Евмен Исаевич покрутил в руках бумажку.
— Предлагает. Да. И вам надо на эту встречу пойти.
— Еще бы.
— Но не одному.
— Что имеете в виду? — подозрительно оглянулся подполковник на журналиста.
— Я имею в виду, что такой случай нельзя упустить. Допустим, он вас не обманет и явится на встречу — в чем я сильно, кстати, сомневаюсь, учитывая его поведение до сих пор. Так вот, если он явится, — его нельзя упустить, а не упустить его можно только взяв.
— Как это?
— Скрутить, связать, оглушить, ранить.
Леонтий Петрович отхлебнул коньяку из своего стаканчика.
— Но даже если он совсем дохляк и я его оглушу-скручу, как я докажу милиции, что он это он?
— Надо сделать так, чтобы не было никакой милиции.
Подполковник перевел взгляд с послания садиста на посланного ему судьбой помощника.
— А как такое сделать?
— На встречу надо явиться со своими людьми. Вы можете к кому-нибудь обратиться с такой просьбой? Дело ведь отчасти рискованное.
Леонтий Петрович еще отхлебнул коньяку.
— Не люблю я милицию. Почти всех. В последнее время два столкновения. На известной вам отлично почве. Из-за Романа.
— Может быть, он как раз на это и рассчитывает. На то, что вы не посмеете поднять шум в общественном месте. Как он там написал — кафе «Ромашка»?
— И ребят подводить не хочу. Один раз уже очень сильно получилось.
— Это каких ребят, Леонтий Петрович? Тех, что…
— Дружков Романовых, они мне тут немного помогали с поисками, а я им опять конфликт с властями? Нет.
— Тогда положение безвыходное. Я, конечно, мог бы пойти…
Леонтий Петрович окинул критическим взором гостя.
— Вы толстый.
— Да и не очень смелый, — вздохнул тот.
— Вот что я сделаю, — просиял вдруг подполковник, — я позвоню психиатру.
— Зачем? И какому?
— Эдуарду. Светкиному хахалю.
— Может, лучше все-таки с «ребятами» как-нибудь осторожно поговорить?
— У меня совесть не повернется.
Хлопнув себя по коленям, Леонтий Петрович взял со стола листок с посланием садиста и отправился в коридор к коммунальному телефону.
— Больше некуда, — пробормотал он под нос, закрывая за собой дверь.
Судя по доносившимся из-за двери звукам, переговоры проходили не вполне гладко. Петриченко занялся в это время гравированными стенами. Отчего-то вид старинных кораблей вызвал в журналисте приступ жалости к хозяину комнаты. Оставив изображения кораблей, Петриченко перебросил внимание на те приметы подполковничьего быта, что ускользали пока от осмотра. Не перечисляя деталей, сразу вывод: Леонтий Петрович был сторонником спартанского образа жизни. Никаких следов старческой немощи или неаккуратности. Но, вместе с тем, ничего интересного. Хотя, кто может что-нибудь определенное сказать об интересе такого человека, как Петриченко.
Вернулся подполковник. Вид обиженно-обескураженный. Результат получился хуже, чем он мог ожидать. Чтобы не набрасываться сразу с неприятными вопросами, журналист сказал:
— Знаете, Леонтий Петрович, у вас есть чувство корабля.
Подполковник по-стариковски медленно сел на стул.
— Она меня называет гадом, тут я привык. Но брат. Родной ее брат. Она же пальцем не шевелила, когда я ей талдычил. Заявление не могла снесть в милицию. Только завтра собирается. Что за люди! Какая ненависть! А она ведь иссушает. Вы как работающий с людьми должны это знать.
— Н-да, клубочек, видно, здорово запутанный, — Петриченко снова полез в карман пиджака и опять достал коньяк. Только не бутылку теперь, а фляжку.
— Снять надо вам напряжение. И осадок.
Подполковник насупленно вздохнул.
— Наливай.
Выпили, крякнули.
— Но все-таки, Леонтий Петрович, на совсем пустом месте не могла же она образоваться, эта ненависть. Была, догадываюсь, была причина. Вы уж меня извините, нашел я ма-аленькую зацепочку. Совсем крохотную, но неувязку. С чего и начался у меня настоящий интерес ко всей этой истории.
— Что-то я запутался, какую вы имеете зацепочку и перед кем.
Петриченко самодовольно покачал пальцем перед своей лоснящейся физиономией.
— Вы мне что сказали во время нашей первой встречи? Самой первой.
— Встречи?
— Да, именно. Что у Романа Миронова на излечении от алкоголизма находится отец. Сказали?
Леонтий Петрович ничего не ответил, только опасливо покосился на собеседника.
— А я в первый же день расследования выяснил, что не отец, а, наоборот, мать. И сразу, сразу догадался, что тут много, мно-ого психологии зарыто. Как собак. Эта оговорка была хоть и случайная, но очень не случайная.
— Отец у него помер.
— Это мне тоже преотлично известно. А вот отчего мать у Романа пьет и лечится, а?
— Считаете и намекаете, что я ее довел?
— Я бы вам такие вещи не посмел говорить. Особенно в гостях. Это вы сами так считаете, хоть и пытаетесь от себя это скрыть.
Отчего-то это очень развязным образом произведенное разоблачение не обидело подполковника. Он, кажется, испытал даже что-то вроде облегчения.
— Не сложилось у нас как следует. От своей прежней старухи я ушел. Как-то сошлись с Зинаидой. Приходила ко мне сюда регулярно. Намекала об браке, но это же смех смехом, верно? Пошел я однажды ее проводить. У нас с ней по-хорошему все было, не по-скотски. Подходим к дверям ее квартиры, а там оттуда рев детский. Даже не рев, вой какой-то.
Петриченко слушал с огромной жадностью.
— Светка-вертиподол, как всегда, по подругам шлендать. Хоть было велено за братом смотреть. А он, Ромка то есть, проснулся, и страшно же ему. Он в крик. Очень, очень запало это мне тогда.
— А он, извините, Ромка, сын не от вас?
— Чего глупость молоть. Когда мы сошлись с Зинаидой, ему уже больше года было.
— Понятно, понятно, еще раз извините.
— Про что я?
— Про крик Романа.
— Да. Кричит, понимаешь. Запало. Я ведь педагог еще. По натуре. И когда эти письма стали приходить, как-то аукнулось у меня в душе. Болью аукнулось. Не мог я мимо миновать эту историю, хотя мы давно никто никому.
Журналист потер виски.
— Ну, что-то подобное я и подозревал. Теперь на место встают некоторые детали. Не любила, стало быть, сестрица Света братца младшего. Частенько он, судя по всему, рыдал в пустой квартире.
— Пожалуй, часто. Но не это вина настоящая. Позже все произошло.
Хрустя стулом, переменил тучный гость позу и занялся водой на лбу.
Леонтий Петрович улыбнулся загадочно и значительно. Он медлил с продолжением, как человек, уверенный в том, что ему есть что рассказать. Сейчас он откроет рот — и публика будет потрясена.
— Так что вы имеете в продолжение сказать?
— Аж дрожите весь вы, — усмехнулся Леонтий Петрович, — что за тяга до чужих секретов? Или профессиональное?
Пристыженный Петриченко потянулся к бутылке.
— Светку вы видели, Евмен Исаевич?
— Нет.
— Ну так можете поверить мне на слово, еще та кобылица. И довольно рано стала на путь на этот. И я… — подполковник затянулся воспоминанием, как приятным сигаретным дымом, — поскольку бывал в дому в ихнем и на хороших правах, иногда мог себе позволить легкое приголубливание, так сказать. Но не придумывайте чего-нибудь.
— И в мыслях…
— Так вот, однажды, когда Ромке было что-то лет десять, а Светлане, соотносительно, шестнадцать-семнадцать, заметил он как-то выходку одну мою. По меркам взрослым невинную вполне, но на детский глаз, может быть, и жуткую. Хотя дети рано начинают обо всем догадываться, но, как велит педнаука, кой с чем спешить не надо. Ознакомляя. Я лишь коснулся зрелой молодой плоти опытной рукой… ну да ладно. Слишком я оправдываюсь.
Журналист подло-понимающе покивал.
— А тут случись вещь очень скверная. Через месяц где-то. Подростки-переростки с соседнего двора как-то заманили Светлану в подвал, ну и…
— Изнасилование?
— Коллективное, — звучно произнес Леонтий Петрович, — про это трудно мне говорить. Почему-то. Но факт, что после истории этой возненавидела она Романа. У нее много было шоков в связи с изнасилованием, и один прямо против брата. Говорит, что это он, мол, гаденыш, во всем виноват.
— Странно, — откинулся на спинку стула Петриченко, — ей-богу, странно. Может, подсматривал он как-нибудь подло? Дети любопытны. После вашего рассказа в истории этой мраку не стало меньше.
Хозяин разлил остатки напитка.
— Скажите, а этот, психиатр, посвящен в данный факт?
— Еще бы. Из-за этого у них постоянные внутренние неувязки. Она к нему попала с депрессией как к врачу. Он увлекся пациенткой. Видная, дородная. Стал ее «вытаскивать», такое его выражение. У нее срывы. То она от него уходит, то остается. А он бороду подстрижет и терпит. Любит.
Петриченко встал и похлопал себя по сытым бокам пьяными руками.
— Хорошо мы с вами угостились, Леонтий Петрович.
— Чего там хорошо. Такой глыбе, как вы, одному было бы не чересчур. Да и мы, педагоги, не шиты лыком, а?
Кое-как натянул журналист пиджак на плечи. Духота не спадала.
— Знаете что, господин подполковник? Я поговорю тут с парой ребят. Не с вашими, а с нашими. Найдутся любители, я думаю, романтики погонь и захватов. Прищучим мы этого извращенца.
— Погодите. Еще один звонок.
Хозяин мрачно-сосредоточенно встал и вышел в коридор. Гость снова сел. Так легче было ждать. На его лице довольно отчетливо проявлялось движение обуревавших его мыслей. Он выпячивал нижнюю губу, щурился, дергал ноздрями. Петриченке явно нравилось думать то, что он думал.
А в коридоре что-то бубнил в телефон Леонтий Петрович. Второй его сегодняшний разговор получился еще короче первого.
Когда он вернулся в комнату, журналист не стал маскировать своего жгучего любопытства.
— Ну как, Леонтий Петрович?
— А никак. И даже хуже.
— Вы насчет завтрашнего договаривались?
— Насчет.
— И не договорились.
Подполковник только поморщился.
— А кто это был, если не секрет?
— Кто, кто! Сын.
15
У Леонтия Петровича не было похмелья. Проснувшись, он почувствовал себя собранным и спокойным. Но было нестерпимо стыдно за два вчерашних звонка. Зачем это нужно было делать? Зачем?! Итак ведь было ясно, что с той стороны помощи ждать нельзя. Делать нечего, надо как-то дальше жить с этими нелепыми пятнами на биографии.
Встреча в кафе «Ромашка» была назначена ровно на одиннадцать часов. Подполковник встал и совершил утренний туалет. Тщательнее, чем обычно. Долго рассматривал шелушащуюся физиономию в тусклом коммунальном зеркале, размышляя, что предъявить садисту во время встречи: угрюмое спокойствие, холодную брезгливость или мрачную корректность.
Не выбрал. Вышел из ванной сердитым на свое лицо. Но тут сразу же позвонил Петриченко и, проявляя сверхъестественную обязательность, сообщил, что все в порядке.
— Что именно и в каком именно? — не сразу сообразил подполковник.
— Договорился с двумя крепкими парнями. Они близко приняли к сердцу вашу проблему. Придут сегодня в кафе. Ну и я там, конечно, буду.
— Значит, ровно в одиннадцать? — с военным оттенком в голосе спросил подполковник.
— Так точно.
Если было бы перед кем не скрывать своего удовлетворения, Леонтий Петрович не удержался бы и сообщил, что есть все-таки на свете неплохие люди. Но даже Раисы в этот час не было в коридоре.
Вернувшись к себе, занялся подполковник экипировкой. По одежке не только встречают, по ней доверяют, боятся и даже любят. Отсюда: костюм выходной? костюм на каждый день? мундир? или легкая рубашка с коротким рукавом, заправленная во фланелевые брюки? От мундира отказался он сразу. Надоело ему с подполковничьими звездами на плечах выслушивать нотации разных там капитанов. Опасность попасть в отделение по результатам операции была весьма велика. Легкомысленное летнее одеяние было отвергнуто за его легкомысленность. Выходной костюм в чистке. Остается, стало быть, то, что остается. Но тогда к повседневному костюму необходима свежайшая сорочка. Белье тоже, вплоть до носков. И туфли надо надраить до военно-морского блеска.
Нож Леонтий Петрович оставил дома. Опять же ввиду возможных последствий. В прошлый раз не обыскали, в этот могут и обыскать.
Из дому вышел за сорок минут до начала операции. Жара еще только устанавливалась. В тени лип и сиреней, которыми когда-то благоразумно засадили дворы, было прохладно. По тротуарам кружила поливалка, придавая блеском своих механических струй легкомысленный оттенок утреннему часу. Впрочем, это не ощущения Леонтия Петровича Мухина. Они были у него другие. Более привязанные к предстоящему мероприятию.
Покружив по родным дворам, настроившись окончательно, подполковник вошел под своды условленного кафе.
Девять столиков на гранитном полу. Никаких, конечно, скатертей. Стойка с кофеваркой в глубине. Хлыщеватый бармен на фоне богатой коллекции иностранных этикеток. И никого больше. Вот как оборачивается встреча в «людном, общественном месте».
Леонтий Петрович взял чашку кофе. Потом добавил к ней рюмку коньяку. Для конспирации. Пусть думают, что он утренний не вполне опустившийся алкоголик, а не человек, пришедший на опасное свидание.
Столик выбрал тот, на котором стоял пластмассовый стакан с увядшими салфетками. Уселся так, чтобы держать всю окрестность под зрительным контролем. Взглянул на часы. Без семи.
Открылась входная дверь, и в кафе вошли двое парней. Один в коже, другой в вельвете. Не богатыри на вид. А может, это еще не петриченковские парни? Пива взяли. Дорогого, «Туборга». Четвертая власть. Жирует нынешний журналюга, даже такой вот молокосос. И вся жизнь общественная находится под прессом прессы. Дальше эту внутреннюю филиппику Леонтий Петрович продолжать не стал, честно вспомнив, что в данном случае представители средств массовой информации являются его союзниками, причем бесплатными.
Опять дверь открывается. Опять внутри екает у подполковника.
Сам. То есть Евмен Исаевич. Сегодня он одет легкомысленно. Шлепанцы, свободная рубашка, шорты. Черные очки. Пляжный вид. И то сказать, погода в Москве нынче ялтинская.
Петриченко тоже купил себе пива. Тоже дорогого, но не «Туборга». Не обращая внимания ни на подполковника, ни на своих парней, сел отдельно. Леонтия Петровича почти восхитила конспираторская выучка толстяка. Впрочем, ничего удивительного, если им приходится водить собственные расследования. Надо уметь маскироваться. Но мы тоже ниточкой шиты не белой. Не обнаружим перед барменом знакомства. Вполне этот бармен может оказаться подкупленным.
Без одной минуты. Взгляд подполковничьих глаз впился во входную дверь. И каждая тень, набегающая на нее с улицы, приподнимала волну волнения в душе педагога.
Ровно одиннадцать. Это открытие застенчиво подтвердила невидимая радиоточка.
Однако последователя де Сада и Перена все нет.
Леонтий Петрович вспомнил о кофе и коньяке.
Пожалуй, то, что они стоят нетронутыми, выглядит несколько подозрительно. Необходимо чего-нибудь беззаботно отпить. Но невозможно оторвать глаза от двери, невозможно опустить взгляд. Уже две минуты двенадцатого часа. Сейчас сюда войдет чудовище. Как совместить два необходимых дела — слежение и маскировку? Надо действовать на ощупь!
Палец довольно быстро доковылял до блюдца (а его все нет), звякнул потревоженный алюминий. Указательный и средний уперлись в фаянсовую стену и стали огибать ее в поисках ручки.
А если не придет?
Пальцы обогнули чашку полностью и не обнаружили никакой ручки.
Этого не может быть!
И только подполковник собрался пожертвовать секундой внимания, чтобы разобраться, в чем тут дело, как за дверным стеклом появился человек. Помедлил, высматривая что-то внутри. Неужели уйдет?! Струсит в последний момент?
Слава богу, нет!
Вошел.
Худой, длинный. Клетчатая нечистая рубаха. Непреднамеренно потертые джинсы. Слипшиеся волосы…
Леонтий Петрович отвел взгляд. Подходи, подходи поближе, тут я тебя рассмотрю.
Стоит! Стоит неподвижно, гад! Определяет, нет ли засады. А засада ведь есть, есть!
Кажется, ничего не почуял. Приближается — медленно, но к нему, Леонтию Петровичу Мухину, подполковнику в отставке.
— Здравствуйте.
Леонтий Петрович как бы нехотя повернул голову в сторону вежливого господина.
— Извините, — садист сглотнул взволнованную слюну. Кадык съездил вверх-вниз. Вид кадыка неприятно поразил подполковника. На нем росло несколько длинных седых волос. Почему в поле зрения в основном горло? Место, куда, может быть, придется впиться пальцами? Или страшно посмотреть в глаза ему?
— Извините, я, кажется, к вам.
— Присаживайтесь, — глухо сказал подполковник.
Садист сел. И тут уж был осмотрен полностью. И не понравился. Впрочем, такие люди навряд ли могут быть симпатичными. Кроме порочно кривого носа, лишая на виске, слезящихся глаз, грязного ворота рубахи, было в нем что-то уклоняющееся пока от описания. Старательно и даже мучительно искал Леонтий Петрович нужное слово и не находил. Подполковник почувствовал сильную игру желваков на щеках и усилием воли прекратил ее.
— Вы ведь… подполковник Мухин, да?
И голос какой мерзкий. Липкий, заискивающий.
— В отставке, — четко и с достоинством ответил военрук.
— Вот и хорошо. Ровно в одиннадцать часов я должен передать вам… — извращенец полез в карман джинсов и стал там добывать что-то, и чем дольше добывал, тем гнуснее осклабливался.
— Вы опоздали на семь минут, — сухо объявил подполковник.
— Да-а? Ну, у меня часов-то и нет совсем. Вот.
На стол рядом с кофейной чашкой легла сложенная вчетверо, помявшаяся в кармане, может быть, уже и пропотевшая стопка бумажек.
— Что это? — для начала Леонтий Петрович прикоснулся к подношению только взглядом. Рука пока брезговала.
— Это? — омерзительный тип поднял редкие блеклые брови, обнаруживая искреннюю озадаченность.
Не дожидаясь ответа, военрук двумя пальцами подтащил к себе содержимое джинсового кармана. Гость в тот же момент взял с блюдца чашку с остывшим кофе. За ручку взял. Поднес к губам и затянулся легким наркотиком.
Леонтий Петрович оцепенел от такой наглости. И оцепенение его усугубилось, когда он увидел, что дверь кафе открывается, впуская Светлану. Она вошла мощно и страшно. Неся в чертах своего прекрасного лица непонятную угрозу.
В несколько шагов она пересекла кафе и, не произнеся ни единого слова, вцепилась крепкими пальцами в шею с волосатым кадыком. Кофе потек изо рта негодяя на подбородок. Молча, угрюмо, деловито Светлана начала трамбовать пойманным подлецом ни в чем не виноватый стул. Человек в грязной рубашке удивленно подчинялся этим движениям, заботясь только о том, чтобы из чашки, оставленной в вытянутой руке, не выплеснулось ни капли.
16
Георгий Георгиевич Кулагин поставил на поднос чашку из дорогого фарфора с бледно дымящимся напитком и покинул кухню, оборудованную по последнему слову бытового счастья. По сверкающему янтарному паркету добрался до спальни. Она напоминала пещеру. Уютную, конечно. Сквозь толстые шторы проникали лишь самые недостоверные сведения о великолепном утре. На широкой ампирной кровати, в правом верхнем ее углу, собравшись в компактный комок, лежала Анастасия Платоновна.
Неуверенно сев на пуф рядом с ложем, Георгий Георгиевич сказал:
— Выпей, Насть, это, — в полумраке дымок над чашкой стал заметнее, — выпей, это травки. Хорошие травки. Полегчает.
Эта застенчивая реклама не произвела на Анастасию Платоновну никакого впечатления. Все время вздыхавший Георгий Георгиевич дал себе слово сдержаться и не вздыхать. И не сдержал слова. Руке надоело держать поднос. Чашка начала скользить по нему. Пришлось поставить поднос на прикроватную тумбочку. И очередной вздох разорвал грудь кутюрье.
— Я ведь не спрашиваю, где ты была. Видишь, не спрашиваю. Если захочешь, скажешь. Да мне и неинтересно. Ведь я почти знаю. Да что там «почти», просто знаю. И мне, понимаешь, все равно. Веришь ты мне или не веришь — и это тоже все равно.
Георгий Георгиевич переместился с пуфика на кровать.
— Мне тебя жаль. Обидно видеть, как ты себя изводишь. Я не такой кретин, чтобы поверить во все твои байки о том, как ты к нему равнодушна. С самого начала мне эта твоя сверхэмансипированность показалась странноватой. Я ведь, как это ни странно, не такой уж и дурак. Но я решил: раз ты хочешь играть в эту диковатую игру, — бога ради. Положился на время. Оно если не вылечивает полностью, не возвращает первоначальную форму, то хотя бы обызвествляет, — ему было непросто выговорить это слово, пришлось помотать головой.
— Так вот, я был согласен на некоторое количество известки в наших отношениях. Но гашеной. И казалось, еще вчера, что я был прав. Движение в нужном и нормальном направлении идет. Вы же уже развелись, Настя! Мы же вот-вот пожениться должны! Через две недели.
Анастасия Платоновна перевернулась на спину, слегка приподнялась на слабых руках и прислонилась к спинке кровати. Лицо у нее было размытое, глаза наполовину сонные, наполовину безумные.
— Молчишь почему, Настя? — в голос Георгия Георгиевича прорвалась капля ехидной горечи. Правая рука терзала косматую растительность на груди.
— Ответь мне что-нибудь. Скажи хотя бы, что я не прав. Что ты на самом деле презираешь этого аспиранта с прибабахами. Кстати, как это ему удается оставаться аспирантом в сорок лет?
Собеседница закрыла глаза.
— Да черт с ним и его аспирантурой. Я хочу сказать, что это именно ты придумала историю про мстительную плебейскую тварь, которая для того, чтобы отомстить Платону Григорьевичу за бесконечные солдафонские унижения, решила перенести военные действия с идейного фронта на семейный. Эта низкопробная гадина думала, что, став зятем, станет на равную ногу. Это ведь почти дословно твои слова, Настя.
Она равнодушно кивнула.
— Почти.
Эта лунатическая небрежность чрезвычайно задела Георгия Георгиевича. Он был уверен, что хотя Анастасия Платоновна молчит, но слушает при этом заинтересованно. Он начал хватать воздух ртом и расцарапывать грудь обеими руками. Во время этого приступа немого возмущения Настя спустила ноги с кровати и вставила их в комнатные туфли. Потом немного неровной походкой направилась в сторону ванной. Жених остался сидеть в темноте спальни на белой кровати, напоминающей чем-то айсберг в полярной ночи. Выдержав всего несколько секунд, отправился вслед за невестой. За время короткого преследования успел сказать довольно много глупостей.
— Хорошо, пусть так. Пусть никакой логики. Пусть хотя бы… Скажи только, что там между вами произошло? Я как жених могу этого требовать или не могу?! Мне плевать на эти тонкие и дикие материи, но фактически, фактически? — моя невеста верна мне или нет?
Неустойчивая манекенщица равнодушно скрылась в ванной. Послышался шум отворенной воды. Руки, раздиравшие грудь, перебрались к горлу и принялись его сознательно ощупывать.
— Со мной нельзя так обращаться, — вдруг взвизгнул жених, — я известнейший человек. Я один из лучших модельеров в этой стране. И не только в этой. Если бы ты знала, какое количество людей заискивает передо мной, боится меня, мечтает со мной познакомиться. Если бы ты знала, сколько баб, и не чета тебе, и помоложе, и посвежее, отдали бы все что угодно, чтобы попасть в мою постель. Меня знают…
Он бросился в кабинет, вернулся с пачкой каких-то бумаг и начал их швырять под дверь, приговаривая:
— Вот это из Милана. Это из Болоньи. Это вообще из Шри-Ланки. И вот ни в один этот город ты со мною не поедешь, сложная моя девочка.
Георгий Георгиевич смолк и прислушался. Из ванной доносились какие-то звуки. Анастасия Платоновна что-то делала помимо того, что принимала душ, занималась чем-то непонятным в процессе его потребления. Звуки были очень знакомые. Жених приблизил свое волосатое ухо вплотную к двери. Неужели рыдает? Одно из двух: или рыдает или блюет. Второе предпочтительнее.
— Настя! тебе плохо? Открой!
Может быть, вскрывает вены? Нет, чушь! Это не бывает так громко.
Через некоторое время Анастасия Платоновна появилась перед испуганным женихом. В купальном халате, в тюрбане из свернутого полотенца. Проследовала обратно в спальню и уселась на пуф перед зеркалом. Всмотрелась в собственное отражение. В темноте. Георгий Георгиевич услужливо включил свет.
Обстоятельно изучив сегодняшнее состояние своего облика, невеста занялась его косметическим ремонтом с помощью богатейшего парфюмерного развала, имевшегося перед зеркалом.
Господин кутюрье почувствовал, что у него с сердца скатывается самый квадратный камень. Когда женщина начинает проявлять интерес к своей коже, она не безнадежна. Георгий Георгиевич устроился за спиной у невесты на расстоянии, которое ему диктовала еще не выветрившаяся обида. Пусть прихорашивается. Помолчим.
Стоило ему принять это решение, как невеста заявила:
— Я тебе верна.
Еще несколько минут молчания. За это время была изменена линия правой брови. Из оптимистически выгнутой она стала приглушенно удивленной.
— А как наши планы?
— Какие, милый?
— Матримониальные.
— Они, — вторая бровь послушно выгнулась по приказу владелицы, — они остаются неизменными.
Георгий Георгиевич встал, прошелся. Было видно — удовлетворен, но не вполне.
— Но я-ты должна меня правильно понять, Настя, — так вот, я хотел бы…
— Какие вы все, мужики, мразь, — негромко сказала невеста, возясь со второю бровию.
— То есть?
Анастасия Платоновна резко обернулась на своем пуфе, причем так, что полы ее халата распахнулись, ловя взгляд мужчины, стоящего напротив.
— Мразь, мразь. Но ты можешь не волноваться. Теперь уже все. Имеется в виду — с моим мужем. Бывшим. Ты проявил несвойственную тебе прозорливость, не веря в мое пренебрежительное отношение к его изменам. Я с ума сходила. Всерьез боялась сойти с ума от ревности. Причем я не понимала, зачем это ему надо. К тому же он как бы не всегда доводил их до конца, всегда оставалось что-то вроде надежды, что это шутка, игра такая злая. На какое-то время я смогла себя убедить, что его измены — это такое сложное, ненормальное проявление его страсти ко мне. Уродливой, убогой, но все же любви. Долго я носилась с этой сказкой. Всерьез надеялась когда-нибудь объясниться. Я была готова даже простить ему подпольную, животную ненависть к моему отцу. Я отца обожала-боялась и боялась-обожала. И оказалась в состоянии выбора между мужем и отцом. Никому не пожелала бы.
Георгий Георгиевич не отрывал несколько идиотического взгляда от говорящих губ.
— Так вот, я сделала выбор. Правда, смерть облегчает такие вещи. Я готова была стать на его сторону. Вчера вечером я наконец собралась с силами и поехала к нему. Как ты видишь, не задумываясь предала тебя. Я была уверена, что в этот-то раз найду слова, которые все расчистят, и если у него есть хотя бы капля искреннего ко мне отношения, это даст нам шанс.
— Капля? — у Георгия Георгиевича перехватило горло. — Но у меня же к тебе… и ты бы бросила меня не задумываясь, если бы он…
— Не задумываясь.
Анастасия Платоновна поправила халат и вернулась к прерванному сеансу.
Кутюрье надрывно захихикал в прижатые к лицу ладони. Затих. Сорвал ладони с перекошенного лица, но заговорил на удивление спокойно:
— А почему он, собственно, проживает на твоей даче, бывший твой муж?
— А это не наша дача, ведомственная. Осенью его вышвырнут оттуда. Как собаку. Но… ты не это ведь хотел спросить. Ты хотел узнать, что я там за диво дивное увидала вчера, если дошла до того, что облевала всю твою голубую ванную. Ну, что же ты?
— Что «что же»?
— Почему ты не спрашиваешь?
Георгий Георгиевич потер виски.
— Спрашивать-то я спрашиваю. Знаешь, я ведь тоже там как-то бывал. Когда мы еще не решили быть вместе. Чувствовал, что ты мечешься. Заподозрил, помчался… А там сидит в сторожке безумная старуха и песенки военные поет.
Анастасия Платоновна опять крутнулась на сиденье.
— Какая еще безумная старуха, что ты несешь?!
— Сидит и поет «Горит свечи огарочек».
— Да не старуха, а…
17
— Ну?!
Место действия: неизбывная коммунальная комната Леонтия Петровича. Действующие лица: подполковник, Евмен Исаевич Петриченко, его редакционные друзья (стоят у двери, руки за спину) и куча перепуганного человеческого шлака на стуле. Слезы, сопли, испуг в глазах, в движениях, в голосе. Ничтожество.
— Я уже все рассказал.
Петриченко спрятал в карман свой платок и неуверенно спросил у подполковника:
— Может, не врет?
— Это что же — поймали, а он не он?!
Журналист подергал своими маленькими усиками.
— Все-таки я склонен считать, что этот маньяк — человек неглупый. Не явился бы он на такую встречу.
— Но вы же сами говорили, Евмен Исаевич.
— Или, по крайней мере, не так бы явился.
— Удивляюсь вам.
— Я допускал такую возможность, было, не отрицаю. Но теперь вижу, что зря допускал.
Подполковник и сам уже понял, что эта падаль не годится в настоящие злодеи. И потом, этот запах застарелого перегара, он стал бурно исходить из тела, когда пойманный понял, что попал в скверную ситуацию. Пьющий человек никогда не провернет такую сложную комбинацию и даже не задумает. У него нет сил сосредоточиться.
Леонтий Петрович почесал кончик носа. Что бы там ни было, исконного гада все равно надо искать! Он схватил похмельного обманщика за щуплое плечо и повертел перед его носом скомканным посланием.
— Кто тебе дал это?
— Я же уже говорил. Парень вчера на остановке. Дал денег и сказал, что даст еще.
— Много денег?
— Уже кончились.
— Парень, говоришь? — вступил в разговор Евмен Исаевич.
— Парень. На остановке.
— Такой небольшой, худощавый, да?
— Нет, наоборот, громила, — допрашиваемый развел руки, показывая, видимо, ширину плеч громилы.
— То есть как? — возмутился Леонтий Петрович. — Рома совсем не так его описывал. Их что, целая шайка?
— Могло просто быть два передаточных звена, — задумчиво сказал Петриченко, снимая очки, — наш контрагент весьма-а осторожен.
Тяжело дыша, подполковник налил себе заварки в чашку и жадно выпил.
— Знаете что, давайте не будем пока гадать, давайте прочтем сначала письмо, «послание» это. Думаю, многое прояснится само собой.
Леонтий Петрович, не говоря ни слова, протянул письмо Петриченке. У него не было сил что-либо Читать сейчас.
18
Дорогой мой Леонтий Петрович,
вы никогда не задавались вопросом — сколько все-таки слюны у подрастающего поколения? Оглянитесь вокруг, и душа ваша извержениями человеческой носоглотки уязвлена станет. Заплевано все и вся. Я не про идеалы, они в конечном итоге для того и предназначены, чтобы на них плевать. Я о ни в чем не повинных тротуарах, о мрачных и скользких тамбурах электричек, о лестницах в домах наших, в больницах и прочих госучреждениях. Гнусные и одновременно беззаботные следы общественной невоспитанности. Я не зря говорил об определенном возрасте. Ибо достаточно редко встретишь пожилого бронхиально настроенного джентльмена, публично очищающего свои дыхательные пути от омерзительной мокроты. Только опустившийся не по своей воле инвалид позволяет себе это, и как ему (брезгливо, правда, отвернувшись) не простить эту слабость. Но эти бесчисленные кобели и кобылицы! До какой же отвратительной степени они не скрывают чрезмерной работы своих слюнных желез. Современный молодой человек — это существо, сплевывающее почти всегда без надобности физиологической, а стало быть, хотя бы отчасти извинительной. Современный молодой человек — это существо, не стыдящееся своего животного происхождения. И не только особы пола мужского, но и пола, который мы привыкли видеть со ртом наглухо закрытым, а в некоторых странах даже и с закрытым лицом.
Но слюна — это лишь метафора, как даже вы, наверное, догадались. Или, если хотите, одна из трансценденталий нашего общественного мироустройства. Не остановлюсь на слюне, придется мне осветить еще кое-какие стороны прозреваемой мною реальности, дабы вы могли понять смысл моих действий, до сих пор, верно, кажущихся вам и жестокими, и бессмысленными.
Посмотрим вокруг себя еще раз: вся природа, особенно беззащитная городская, несет на себе следы бешеного напора со стороны племени молодого и плохо нам знакомого. Скажите честно, когда вы в последний раз видели не изувеченный телефонный аппарат, не обезображенную надписями стену или забор. Кто это сделал?! Они! Они, молодые, угрюмые и политически индифферентные. Можете вы представить себя или другого не менее заслуженного и недалекого ветерана громящим своими форменными ботинками стекла троллейбусной остановки? Ответьте, ответьте мне, педагог и офицер, когда вы в последний раз пользовались услугами электрички, сиденья которой не были изувечены самыми лютыми порезами, а стекла не сокрушены необъяснимыми ударами? А вопли?! Не приходилось ли вам, человеку пожилому и своеобразно заслуженному, а стало быть, заработавшему бессонницу и холецистит, просыпаться в черной ночи от омерзительного визга и рева, считающегося у них пением? От хохота и хихиканья, сопровождающего нецеломудренные, тошнотворные ухаживания? Не так досаждают даже совокупляющиеся коты, как эти резвящиеся скоты. Правда ведь?!
Но все это можно было бы скрепя сердце терпеть. Можно было бы напомнить себе об особенностях взрослеющих организмов, про то, что «парубки гуляют», что таковы, в конце концов, требования природы. Да, я терпел, терпел, пока эта тупая, безмозглая, животная сила изливалась лишь на предметы неодушевленного мира. Я готов гулять, обходя плевки и окурки. Я привык ни в коем случае не рассчитывать на уличные таксофоны и жду общественного транспорта, покорно давя своими каблуками битые стекла на остановках. Пусть все двери в подъездах будут сорваны с петель, а все электрички станут стоячими, пусть! Но когда… Скажите, скольким вашим знакомым ни с того ни с сего, подчеркиваю, ни с того ни с сего некие молодые троглодиты, налетев на улице, набили морду и, повалив на родную землю, как следует прошлись ботинками? Сколько их таких, робко сделавших уместное замечание банде лютующих акселератов где-нибудь в общественном транспорте и закончивших свой поход на склифосовской койке!
Не буду множить примеры отвратительных и необъяснимых выходок. Идея и так одна, и так ясна. Надо всему этому положить хоть какой-нибудь предел, так решил я однажды. Не скрою, после того, как сам оказался объектом приложения сил подрастающего молодняка. Лежал с раскроенной губой в одной противной луже и думал-: Знаете, что именно? Не поверите. «На кого страну оставим», — думал я. Можно, конечно, устраниться, можно не бродить вечерами по темным дворам и выносить мусор при свете сияющего дня. Можно завиться в кокон, заткнуть уши и души. Но человекоответственно ли это? Не дурно ли попахивает такое самоуспокоение? Дурно. Надо что-то делать, ибо кто виноват — отчетливо ясно.
Вы, конечно, начнете спорить. Вы скажете, что их сделали такими. Власть, режим, Ленин-Сталин и бездушная бюрократия. Пусть так. Я даже готов признать, что их такими «делали». Но зачем они такими «делались»?! Вот в этом промежутке и зарыта собака-истина. Но не будем вникать глубже, ибо потонем.
Так вот, решив, что вера в будущее без дел мертва, начал я действовать. Не сразу я пришел к тем формам, которые обрушились на вас. Пытался проповедовать доброе — бывал несколько раз бит. Один раз жестоко, второй раз цинично. Наконец окончательно уверился в том, что слово бессильно и даже вредно для того, кто его произносит. Надобно опуститься в мир прямого действия, решил я. Толчком к правильному определению пути явился для меня один старинный римский обычай. Даже, можно сказать, древнеримский. Некогда жители этого вечного города практиковали такой подход к своей молодежи: раз в несколько лет они собирали всех наиболее буйных и неуправляемых молодых людей и просто-напросто выгоняли из города вон. Считалось, что они посвящаются богу Марсу, отсюда и их название — мамертинцы.
Пока непонятно, что тут к чему? Правильно. Сейчас объясню. Я не мог рассчитывать, что наши нынешние власти возьмут на вооружение этот разумный, хотя и радикальный древнеримский обычай. Власти нашего тоже достаточно долговременного города сошлются на всякие гуманистические глупости, и рядовые граждане будут терпеть кипение иррациональной стихии. Понимая это, я чувствовал, что думать надо именно здесь, в этом направлении. И придумал. Говоря нынешним языком, интерпретировал старинный обычай, приспособил его и к современности, и к своим малым силам. Вот что я понял. Древние римляне извергали свою бунтующую молодежь за пределы города, тем самым признавая, что с нею в сфере рациональной, регулируемой законами и обычаями, ничего сделать невозможно. Всякому же иррационализму римляне, как известно, были чужды. Они просто отшвыривали мамертинцев от себя, как человек отшвыривает от себя наползшего на него гада. Они не имели инструментов воздействия на них, Они, но не мы. Вернее, я. Лечить подобное подобным — это будет правильно, подумалось мне. В самом деле, просто-то как! Раз в безумствах нашей буйно подрастающей черни доминируют проявления иррациональной силы, любимой дочери хаоса, то и противодействие должно быть соответствующим. Даже более того — перебивающим по своей иррациональности их иррациональность. Теперь ясно, откуда взялась клетка, противогаз, паяльная лампа и прочие глупости? Чем несуразней, немотивированней, безумней было обрушившееся на господина Романа Миронова страдание, тем большую пользу оно в конечном итоге приносило. Ему же. В первые дни наших упражнений он был на грани обычного вульгарного сумасшествия. И не от размеров боли, а, скорей всего, от непонятности происходящего. Он впервые попал в ситуацию громимого телефона-автомата. В отличие от этого мертвого, но полезного прибора, где-то в глубине своей рептильной души Роман имел несколько зернышек, чреватых элементарным духовным зарядом. Следовало пробудить их, дать им силу пробиться через напластования косной, насмерть затренированной плоти.
И опыт удался. Даже вы должны будете это признать. Проанализируйте хотя бы эпистолярное наследие вашего подопечного. Положите письма рядом, по порядку поступления. Первые писания — это вопли тупой протоплазмы, немного поварившейся в грязных котлах системы всеобщего образования. Далее, согласитесь, нельзя не заметить кое-каких изменений. Выправляется, как вывих, грамматика, выпадают молочные зубы матерщины. Прорезается, неизбежно и однозначно прорезается сквозь раны, нанесенные бессмысленным невыносимым страданием, невнятно блекочущая его душа.
Разве не это есть истинное рождение человека? Разве нет, Леонтий Петрович? Вы ли не педагог, вам ли меня не понять. Скажу больше, разве клетка, эта придуманная мною якобы ужасная клетка, — не есть ли символ жизни? Другими словами, разве жизнь не действует на каждого из нас по принципу этой клетки?
Мы боремся с вами, Леонтий Петрович, за одного и того же человека. По-разному, но оба. Мне мои методы кажутся более творческими, хотя и более жестокими. Ваши более мягкие, но слишком рутинные. Но я их тоже приветствую. Дерзайте. Дерзайте также найти меня. Я не буду очень уж скрываться. Может быть, я сам вам откроюсь. Одно могу сказать определенно: к тому моменту, когда мы встретимся, вы увидите в своем духовном пасынке человека пусть и изувеченного физически, но воскресшего духовно.
С педприветом.
19
— Я пойду? — жалобно спросил посыльный, когда Евмен Исаевич закончил чтение. Никто ему не ответил, и лицо его стало еще более испуганным. Чтец сделал такое движение губами, что с них должно было слететь «н-да», но не слетело. Подполковник, казалось, рассматривал рисунок трещин на своем паркете. Даже спортивные фигуры у двери испытали на себе воздействие произнесенного текста: дурманец трудноуловимого безумия подточил их собранность.
Всегда важно, кто заговорит после мучительно затянувшейся паузы. От этого зависит, куда свернет разговор.
— Леонтий Петрович, — раздался голос посланца. Причем в голосе этом звенело внезапное, явно неуместное прозрение. Тем не менее хозяин комнаты поднял голову.
— Леонтий Петрович, вы меня не узнаете? Это же я, я, Гриша Аннушкин.
— Гриша Аннушкин? — Леонтий Петрович еще не вспомнил, но уже понял, что тут можно что-то вспомнить.
— Я же учился у вас в училище. Вы еще… Мне сразу показалось… какое-то знакомое лицо… Только я никак не мог сообразить. А потом раз — и вспомнил, — Гриша подпрыгивал на стуле, размахивал грязными руками, приглашая всех присутствующих разделить радость узнавания. Бывший педагог наконец разделил.
— Гри-иша!
— Да, я, — пуская слюни и размазывая сухие слезы по щекам, радостно рыдал ученик.
— Это же умом можно сойти, — качал головою военрук, — тебя же узнать не узнать. Как ты себя довел до состояния, каким образом?
— Тем самым образом, — вздохнув, махнул по-житейски рукою Григорий, — все она, проклятая, она все. Вернее, две. Сначала злая жена, потом крепкая водка. Теперь бедствую.
Бывший студент показал привычным движением обтрепанные черные рукава.
— Этому ли учил я тебя, Аннушкин Григорий?
— Нет, нет, нет, — успокаивающе закричал Гриша, — наоборот! Вы знаете (это уже к свидетелям встречи), до сих пор помню, как в ушах стоит, один случай. Набрались мы с ребятами бормотухи. Что взять, пацанва. Лет уже десять тому. Все облевали в общаге. Скандал. Наутро нам лекцию читает Леонтий Петрович. Да не простую, а со смыслом. Начинает так. Говорит, представьте себе, что жизнь ваша — это приглашение на богатый званый обед. Там предполагается вежливо поздороваться-раздеться, интеллигентно побеседовать об предметах и литературе-музыке. Потом к столу. А там закуски, икра, колбаса, рыба и салаты, коктейли, потом горячее под водочку, потом кофе с ликером, дальше магнитофон и танцы с привлекательными дамами. Свет интимный, а в конце — чистая любовь-постель. Все это если прожить жизнь как следует, с головой. А вы — это он нам, — а вы притащились со своей бормотухой, сели на пол в прихожей, не снимая ботинок, выжрали по три бутылки, обгадили половики и храпеть. Это он образно, Леонтий Петрович, нам. На всю жизнь запомнил я тот урок.
— Действительно, образно, — сказал Евмен Исаевич.
— Что же ты, коль запомнил все отчетливо, не вел себя соответственно, Гриша? — горестно спросил Леонтий Петрович. Было видно, что ответственность и за эту судьбу он берет на свою совесть. Гриша, еще секунду назад искренне веселившийся, бросил лицо в ладони и зарыдал. Он что-то бормотал жалобное и лживое.
— Погоди, — хлопнул его по плечу Евмен Исаевич, — потом ты нам сплачешь. Раз уж получилось, что вы с Леонтием Петровичем хорошие старые знакомые, помоги ему, и мы войдем в твое положение, не станем «шить» тебе соучастие.
— Никакого соучастия тут не может быть, — резко вскинулся Аннушкин, — а помочь готов.
— Раз готов, расскажи поподробней о том, кто дал тебе эти бумаги.
— Да я же… все уж и рассказал: громила, хотя и молодой совсем. Из новых, мы их «отморозками» и «пачками» зовем.
— Кто это «мы»?
— Ну-у, мы и мы.
— Ладно, продолжай.
— Что продолжай? Здоровый, это я уже говорил. Пальцем проткнет. Кучерявый, глаза голубые.
— Ты его видел когда-нибудь раньше, ведь он местный, — глаза у Евмена Исаевича посверкивали, как лампочки на детекторе лжи. Если на детекторе есть лампочки.
— Нет, — задумчиво и медленно сказал Гриша, — не видел прежде. Я-то не совсем тут живу. Я за «строителями», за комбинатом еще живу. Вернее, жил.
— Так ты бомж?
— Мы — бичи.
— Но это же…
— Постой! — прервал диалог Леонтий Петрович, — так ты говоришь, здоровый, курчавый, глаза голубые?
— Сто раз уж говорил.
Подполковник повернулся к журналисту.
— Вы знаете, что я вам скажу?
— Догадываюсь, — усмехнулся тот.
— Этот передатель — Роман Миронов!
20
— Куда ты?
Василий одновременно защелкнул обе застежки на дипломате и через плечо поглядел на сестру. Она стояла посреди кухни, опустив худые бледные руки по швам застиранного ситцевого сарафана. Бледная немочь, с неожиданной нежностью подумал брат. Никому-то ты не нужна со своими реденькими пегими волосами, бесцветными глазками, бескровными губами. Черты лица не вызывали возражений, но где найдется идиот, согласный за счет собственного воображения наполнять их жизнью. Гладильная доска, а не сестра, подумал Василий и отвернулся, потому что в углу правого глаза зашевелилась слеза. Тридцать два года, и ни разу не схвачена за задницу, не заслужила ни одного непристойного предложения, не говоря уж о матримониальных, никто похабно не свистнул ей вслед. С нормальной женщины сняли слепок сестры милосердия и немилосердно отправили жить. Она, видите ли, при брате. Сготовить, прибрать… Василий зло тряхнул головой, так что чуть не слетели очки.
Надо что-то делать. Барахлит, наверное, щитовидка, стал плаксив. Нельзя, чтобы по поводу каждой ерундовой, хотя и родственной картины в груди вздымалось такое.
— У меня, Тань, дело в городе. Важное.
— Надолго?
Василий побарабанил по крышке кейса. Было ясно, что скажет он сейчас не всю правду и примеривается, сколько именно.
— Не знаю, Тань. Может быть, сегодня и не вернусь.
Сестра тихонько вздохнула.
— Может, мы с мамой пока поедем в город? Неудобно здесь оставаться. Дача ведь не наша.
— Дача эта ничья. В том смысле, что государственная. И как только она государству понадобится, мы ее вернем.
— Понятно, — покорно сказала Татьяна, — маме нужен свежий воздух.
— Вот именно, она, мне кажется, заслужила право хотя бы временно не жить в Капотне.
— Конечно, конечно, — быстро согласилась сестра, видя, что брат начинает заводиться.
Василий взял кейс в руки и замер, припоминая, все ли захватил, что нужно.
— Может, поешь?
— Нет, не хочется.
— Ну ладно, езжай.
— Пошел.
— Ты взял лекарство?
— Конечно.
Он спустился с крыльца на кирпичную дорожку, когда Таня его окликнула слабым извиняющимся голосом. Если бы он не ждал этого вопроса, он бы наверняка его не услышал.
— А Настя?
— Что Настя?
— Вдруг она приедет?
Василий неопределенно помотал головой и, ничего не ответив, пошел к калитке.
21
Татьяна сидела в плетеном кресле на кухне, свет из окна падал на нее сквозь огромный букет, стоящий в керамической вазе на подоконнике. Букет этот давно превратился в гербарий и мог рассыпаться от неосторожного взгляда. Эта жалобная и вдохновенная декорация добавляла облику совершенно бесцветной женщины почти все, что ей недоставало в глазах экзальтированного брата. Татьяна сидела абсолютно неподвижно, едва заметно улыбаясь и прислушиваясь к сложному беззвучию солнечного утра. Причем с таким видом, будто знает границы своего слуха и ждет, что на границах его вот-вот появится кто-то предназначенный ей.
Внешность напоенной солнцем природы — наиболее обманчивое явление жизни. Из своей глубины эта природа высылает навстречу неизбывному ожиданию не стук каблуков долгожданного кавалера, а сдавленный вопль обезумевшей матери.
Таня вскочила, утрачивая романтическую окраску, открыла железную коробку с прокипяченными шприцами, насадила на стеклянный прибор цепким пинцетом алмазно блеснувшую иглу. И начала надпиливать ампулу. И вскоре уже шла сквозь теплые заросли с занесенным таинственно поблескивающим шприцем.
Когда началось действие лекарства, Таня вернулась на кухню, зажгла газ, чтобы прокипятить побывавшие в теле иглы. И тут кто-то позвонил в калитку. Требовательно и четко. Через пару секунд звонок повторился. Таня внутренне сжалась. Она была уверена, что это приехали выселять их семейство с дачи. Может быть, затаиться? Бессмысленно, этот человек звонит так, будто уверен, что на даче кто-то есть.
Вытирая растерянные руки передником, отправилась Таня отпирать ворота. В проеме калитки увидела она крупного, даже толстого человека в очках и светлом парусиновом костюме. Под носом прямоугольные усики, на лице вежливая гримаса.
— Здравствуйте.
Таня молча кивнула. Тут же перед нею распахнулась бывалая книжица с надписью потертым золотом: «Пресса».
— Моя фамилия Петриченко. Я из «Ленинской смены», слышали, наверное. Мы задумали сделать материал о Платоне Григорьевиче Петрове, об одном из, так сказать, командиров советской промышленности.
— Он умер, — едва слышно прошептала Таня.
— Это-то мы знаем. Направляясь сюда, я рассчитывал максимум на то, что мне удастся встретиться с кем-нибудь из родственников. Можно войти? Может быть, посмотреть семейные альбомы и тому подобное.
Петриченко уже полностью вошел на территорию госдачи и, не спрашивая дальнейшего разрешения, двинулся по кирпичной тропинке к дому, собирая информацию опытным репортерским оком.
— Вы родственница? — бросил он за спину.
— Очень дальняя.
— Вот как?
— И бывшая.
— То есть?
Таню пугал сангвинический напор этого человека, она понимала, что ей не стоило бы с ним откровенничать, и даже быть просто честной с ним не стоило. Но ничего поделать с собой не могла. Профессиональный журналист чем-то сродни цыганке-гадалке, он знает, где расположены клавиши, пробуждающие доверие в человеке, даже если этого человека совершенно не знает.
— Мой брат Вася был женат на дочери Платона Григорьевича.
— Был? Так что, они развелись?
— В общем, да.
— А где он сам, брат Вася?
Уже поднялись на крыльцо. Петриченко перестал растрачивать свое внимание на взгляды по сторонам, надо было собраться для встречи с историком.
— Он сейчас в городе.
— Он вернется сегодня?
— Не знаю. Он так сказал, что не знаю, что и думать. Вы проходите.
Плетеное кресло удивленно пискнуло, принимая в себя парусиновое тело.
— Кофе?
— Давайте кофе.
— Мой брат очень любит заваривать сам. И меня немного научил. Разбирается он очень. В сортах.
Внимая этому бессодержательному лепету, Петриченко успел отметить: на газу кипятятся шприцы. Эта деталь почти наверняка чертовски важна. Что-то тут, на этой дачке, происходит интересное. Разберемся.
Подав гостю кофе, Таня села на свое место во вдохновенной тени полевого букета. Журналист отхлебнул горячего напитка и не смог сдержать сдержанного восторга.
— Это я такой кофеек нечасто пью.
Под бледной кожей на щеках хозяйки на мгновение появились розовые тени.
Петриченко, рассмотрев к этому моменту все, что можно было увидеть на кухне, решил, что пора обратить взор на хозяйку. Как человек опытный, наблюдательный и уже не пользующийся успехом у женщин, он поспешил с уничижительным выводом: «типичный огонь, мерцающий в сосуде». Он был профессионал, что выше неоднократно отмечалось, и поэтому решил воспользоваться тем, что понял. То есть начал оказывать знаки внимания некрасивой женщине. Сколь вдохновенны и грациозны были сидячие ухаживания потного толстяка, можно себе представить. Но на братобоязненную затворницу они подействовали. Натужные и пространные комплименты, в которых Петриченко пытался связать воедино внезапность их встречи, качество испиваемого кофе и таинственное молчание хозяйки, блеклую сестру милосердия просто одурманили. Она сидела, как свеча, беспокоящаяся за состояние своего воска, достигшего грани таяния.
Журналист нравился себе. Оказывается, не полностью вышел в тираж, курилка! Вон как полыхают бледные ланиты. В тени галантного трепа вел он свое подловатое расследование, цель которого и сам представлял смутно.
— Так ваш братец живет здесь постоянно?
— Несколько уже лет. Он устроился сторожем к Платону Григорьевичу.
— А стал зятем?
— Они полюбили друг друга.
— Но брак оказался недолговечным?
Таня пожала худыми плечами. Ей не слишком нравились эти вопросы, но задавались они таким серьезным, значительным тоном, что спрашивающего невозможно было заподозрить в праздном интересе.
— Любовь не вечна.
— У вас, я вижу, глубокие познания в этой области, — мягко и дружелюбно улыбнулся Петриченко, — как вас, кстати, зовут? Пора нам познакомиться.
— Ваша фамилия Петриченко, я прочитала.
— Ну, а…
— Таня.
— Замечательно. Знаете, Таня…
— Хотите еще кофе?
— Кофе я, может быть, и хочу, да нельзя мне больше. Полнота, нагрузка на сердце.
Лицо собеседницы сделалось глубоко озабоченным.
— Знаете, что мы с вами лучше сделаем?
— Что? — почти испуганно спросила хозяйка, и в глубинах ее сознания мелькнула совершенно дикая мысль.
— Осмотрим дом.
— Дом? Зачем?
— Сейчас объясню. Очерк я буду писать о бывшем советском вельможе. Легко сейчас такого человека оболгать, в том смысле, что у него на даче были золотые унитазы и всякое такое прочее. Помните, как было с маршалом Ахромеевым?
— Не помню.
— Ну, неважно. Я хочу быть максимально объективным, объективным до конца. Я хочу достоверно узнать, сколько было комнат в загородном доме человека, ворочавшего почти всею нашей металлургией. Понимаете?
Таня кивнула.
— Ну так пошли, хозяюшка.
И они стали подниматься по лестнице наверх. Петриченко что-то острил, вспоминая, например, что раньше было такое советское статистическое развлечение — исчислять количество чугуна и стали, приходящееся на душу населения. Так вот, теперь душа каждого свободного россиянина хочет посмотреть в упор на жизнь человека, столь отягощавшего ее прежде.
— И мы ей, душе то есть, сейчас в этом поможем.
Таня и слушала эти рассуждения и ничего не понимала. Она была занята другим. Пыталась определить, в какой именно комнате этот дородный вальяжный красавец с блестящими залысинами набросится на нее. О том, как ей вести себя в том случае, если это произойдет, думать она была не в состоянии.
Вот они уже преодолели подсознательную лестницу и окунулись в горячий раствор: запах нагретого солнцем дерева и застарелой диванной пыли. Вот они начинают обходить одну за другой небольшие комнатки. Сердце Тани до предела наполняется холодом, когда они оказываются вблизи какого-нибудь спального места. Где-то за границами сознания — журналистская болтовня.
Так ничего и не случилось.
Таня с облегчением вздохнула, когда они стали спускаться вниз. Но она не смогла бы ответить, радоваться ей этому облегчению или нет.
Теперь комнаты этажа первого.
Кухня-столовая. Странно обставленная гостиная.
Вторая, необжитая, веранда. Дверь, кажется, заколочена.
— А это что?
— Просто темная комната.
Узкое глухое пространство без окон. Почему-то Евмена Исаевича оно заинтересовало особенно сильно. Он тщательно осмотрел и даже ощупал косяки, вошел внутрь, подозрительно принюхиваясь. Заглянул в пустые ящики из-под телевизора и пылесоса.
— Ну, понятно. Темная, значит, комната.
— Да. Темная, — равнодушно ответила Таня. Этой комнаты она не боялась. Гость выглядел таким чистоплотным и лощеным, вряд ли он затеет что-то в этой пыли и на этих ящиках.
Петриченко задумчиво отвернулся от неглубокой прямоугольной норы. Потеребил свои ограниченные усы.
— А во дворе?
— Что во дворе? А, сараи, — Таня вздохнула и замялась, — и сторожка.
— Пойдемте, Танечка, пойдемте.
Это «Танечка» подхлестнуло воображение хозяйки. Она опять незаметно покраснела.
Они вышли в жаркие, хотя уже и несколько поредевшие заросли. Сарай был осмотрен, Петриченко остался доволен состоянием навесных замков. Гараж он тоже, кажется, одобрил. Пусто, душно, пахнет промасленной ветошью. Материалы для очерка о командире советской стали оставалось дополнить осмотром сторожки.
— Почему вы так смущены, Таня?
— Я не смущена, — смущенно ответила хозяйка.
— Меня невозможно обмануть, — отчасти строго, отчасти фатовски сказал Петриченко, глядя ей в зрачки.
— Нет, нет, я правда…
— Что там за этой дверью, Таня? Согласитесь, смешно это скрывать теперь.
— Я ничего не скрываю.
Глаза опущены, плечи дрожат.
— Я ведь все равно посмотрю.
— Хорошо, — бессильно согласилась Таня, — смотрите. Там моя мама.
— Ваша мама?
— Да.
— Жена Леонтия Петровича Мухина?
В голосе журналиста не было ни торжества, ни удивления.
Сделанное открытие открытием для него не являлось. Таню же оно буквально потрясло, она смотрела на Евмена Исаевича полными восхищенного удивления глазами.
22
— Добрый день, Вера.
— Добрый. А кто это?
— Это я.
— Кто «я»?
— У меня до такой степени изменился голос?
— A-а, господин аспирант?
— Послушай…
— И ты мне звонишь?! И ты мне еще звонишь?!
— Погоди, я все понимаю, я был не прав. То есть, ну ты понимаешь.
— После всего ты мне еще и звонишь?!
— Прости меня, Вера, я знаю, что сволочь, сам себе омерзителен.
— Ты накачал меня какой-то наркотой, представил своей шлюхой. Поссорил с моей лучшей подругой, а теперь…
— Ну, вот по этому поводу я тебе и звоню. Где она сейчас, твоя лучшая подруга? Она мне очень нужна.
— Гадина!
— Кто?
— Ты, ты гадина, ты!
— Пусть так.
— Мелкая гнойная гадина, вот ты кто такой.
— Согласен, но скажи, где живет этот ее модельер. Что ты молчишь?
— Тихо с ума схожу. Все-таки никак не могу поверить, что на свете бывают такие твари.
— Бывают.
— А мне плевать, что ты знаешь себе цену, понял?!
— Она мне очень нужна, позарез.
— Даже если бы я знала, где сейчас Настька, не сказала бы. Ты что, не понимаешь, что ты меня с нею поссорил?!
— Я думал, ей все равно.
— Врешь!
— Нет, я специально все это… эти все гнусности, скажем так, производил. Чтобы как-то ее зацепить.
— Ой-ей-ей, какая психология. Умеешь разлюбопытствовать женщину. Сейчас я расплавлюсь и под твои мрачненькие тайны что-то тебе выложу. На это рассчитываешь, ублюдок?!
— Да.
— Как мы честно вздыхаем! Только не повезло тебе, не повезло. Во-первых, ни за что я не стала бы помогать такой жабе, как ты. Ты мне отвратителен. Не морально, на это плевать. Ты мне противен… Я потом неделю спринцевалась после той истории. Любовник хренов.
— А во-вторых?
— А во-вторых, ты глуп. Раз я с Настькой в ссоре, в настоящей ссоре, откуда мне знать, где она? Я последняя буду, кому она позвонит, хоть это ты понимаешь, козел?!
— Я ее люблю.
— Пошел ты…
23
Леонтий Петрович в двадцать пятый раз перечитал письмо извращенца. Подполковник сидел дома один уже несколько дней. Журналист Петриченко куда-то исчез, и это подполковника почему-то пугало. Он не перестал ему не доверять, но не мог теперь без него обходиться. Разумеется, этот неприятный пронырливый толстяк ведет какую-то свою игру. Пусть ведет, пусть даже не вводит в курс своего наверняка нечистоплотного расследования. Но желательно, чтобы находился он где-нибудь поблизости. Даже со всей своей моральной неоднозначностью.
Пропал, собака. Исчез.
О том, чтобы связаться, например, со Светланой, с ее психиатром или с сыном, не могло быть и речи. Леонтий Петрович вспоминал свои пьяные к ним звонки, и ему становилось стыдно до тошноты. Раньше он никогда не переживал по таким ничтожным поводам. Что-то внутри случилось, и подполковник боялся выяснять, что именно.
Стояли невероятно душные, неавгустовские дни. «Самая высокая температура за весь период наблюдений», — передразнивал Леонтий Петрович глумливый голос теледиктора.
Даже Раиса пропадала с утра до вечера на берегах мутного пригородного пруда.
Облаченный в полосатую пижаму, чувствуя себя арестантом собственного отчаяния, бродил Леонтий Петрович по комнате от галеры до галеры и уныло копался мыслью в куче нравственных отбросов, коей стала постепенно операция по спасению Романа из кровавых лап ненормального педагога. Леонтий Петрович сразу поверил Грише Аннушкину, что письмо ему вручил именно Роман Миронов. Не истерзанный, не обожженный, не обезумевший от страданий Ромка Миронов. По крайней мере, ничего подобного Гриша Аннушкин не отметил. И врать ему незачем. Леонтий помнил этого своего ученика как парня если и слегка дегенеративного, то вполне честного.
В таком случае — что все это могло значить?! Самолично сочинить подобное послание Роман был не в состоянии, военрук готов был дать руку на отсечение. Можно, скажем, током вылечить от заикания, но нельзя никакими пытками тупого, дубинноголового негодяя сделать негодяем философствующим. Это Леонтий Петрович понимал четко. Остается что? Остается сговор. Ромушка, орясина, зачем-то сговорился с этим самым маньяком. Но на какой предмет?! То, что мучитель существует, Леонтий Петрович сомнению не подвергал. Сомневался он теперь лишь в том, является ли мучитель мучителем. С какого переполоха в обезызвиленном мозгу акселератического громилы могла появиться мысль о подобном союзе?! Это все равно как если бы девушка с веслом захотела в аспирантуру.
Надо сказать, что внутренний строй мыслей подполковника был не столь однозначен, как здесь невольно изложилось. Особой внятностью протекание внутреннего монолога не отличалось. Приходится, излагая, спрямлять, чтобы не сгинуть в извивах. Об одном оттенке не упомянуть нельзя. Разочаровываясь по поводу искренности страданий Романа, Леонтий Петрович не переставал во многом обвинять себя. И как отдельную личность, и как представителя поколения. Виноватым он считал и «меня» и «нас». Проглядели, проморгали, отнеслись формально и начетнически к нуждам и чаяниям поколений подрастающих. Пусть у них сейчас карманы полны кулачищ и баксов, были ведь они когда-то отдельными покладистыми детишками, и славной ребятней были. Бери и лепи нового, честного человека твердой, но любящей рукой.
Бездушие, бездушие и еще раз бездушие! — стучал жилистым кулаком по подоконнику подполковник, потом падал на кулаки шелушащимся лицом, и из узко посаженных глаз текли горькие стариковские слезы.
Надо сказать, плакал часто, почти каждый час. Вспомнит свое поведение по отношению к Зинаиде, ныне алкоголезависимой, и откинется на стуле, запрокинет голову и екает небом, глотая соленую влагу.
Скотина, животное сладострастное, павиан похотливый. Посуди, посуди, как мог парнишка, вырастая в такой прогнившей атмосфере, сформироваться нормальным, полезным обществу человеком. Всю, всю до капельки вину брал на себя Леонтий Петрович. Даже ту ее часть, от которой освободил бы его самый против него предвзятый суд чести.
Очень часто подполковничье самобичевание меняло смысловой масштаб и от отдельной, пусть и сложной, судьбы перекидывалось на карту судеб отечества.
Эх, фронтовички, фронтовички, приговаривал он, угрюмо улыбаясь. Перед «Тиграми» и фюрерами не спасовали, перед оскаленной пастью фашистской орды не оплошали, не дрогнули, защитили человечество от коричневой чумы. А что потом? А потом сда-али, сдали мы свои позиции, фронтовички. Вот ты с гранатой под танк броситься не боялся, а теперь трясешься перед бюрократической крысой, ты шагал с гордо поднятой головой по полям поверженной Европы, а теперь доживаешь век согбенным огородником среди дачных укропов. Что за загадка? Что за беда? Опыта не передали, уважение растеряли. Только и осталось, что девятого мая потрясти серебром медалей вслед уносящейся невесть куда заляпанной рекламными щитами птице-тройке.
Эх, фронтовички!
До чего дожили?!
Ни за кого не вступились, никому не помогли и, кажется, до сих пор ничего не поняли. Что останется от нас?! Чему мы были современники?!
Арал — лужа! Урал — свалка. Целина — пустыня! Волга — сточная канава! Чернобыль — могила! Власть — проститутка! Народ… от этого места сама собой начинается река слез.
А ведь мы могли! Какими мы вернулись с фронтов! Дух памяти захватывает от воспоминаний. Какими мы вернулись, сколько мы могли сделать для страны, для людей. Но вернулись мы, как выяснилось, не в нормальную жизнь, а в сплошную водку. Видно, человек, хлебнувший фронта как следует, похмеляется весь остаток дней. И вот теперь мы постарели, и в очередях нас называют «недобитками». Заслужили? Да, да и еще раз да!
24
— Ты?
— Удивительно, что ты так этому удивлена. Неужели ты думала, что я не попытаюсь с тобой поговорить?
— Я надеялась, что ты поймешь — этого делать не надо.
— Настя, прошло уже несколько дней. Мне казалось, что у тебя было время остыть.
— Остыть?!
— Остыть, охолонуть, успокоиться, раскинуть мозгами. Можно, я войду?
— А ты не боишься, что Жора дома?
— Не боюсь. Я специально следил за вашим подъездом и видел, как он отъехал.
— Понятно.
— Можно, я войду?
— Мне не хочется тебя впускать.
— Почему?
— Не хочется, чтобы ты осквернил и этот дом.
Противореча своим словам, Анастасия Платоновна сделала шаг в глубь прихожей. Василий Леонтьевич, инстинктивно оглянувшись, вошел.
— Кстати, — сказал он, снимая с плеча кожаную сумку, — твой жених в курсе? Впрочем, что я спрашиваю. Конечно же, ты не могла ему не рассказать. Интересно другое — как именно ты ему все это преподнесла.
Анастасия Платоновна, сложив руки на груди, прислонилась к стене.
— Как, как. Объективно. Просто описала то, что видела, и больше ничего.
Василий Леонтьевич криво улыбнулся.
— Да-а? И как он к этому отнесся? Держу пари, только в первый момент господин модельер повозмущался. В сущности, ведь эта информация полностью в его пользу.
— Ты угадал, проницательный бывший муж. Жора похихикал и успокоился. До этого он был не слишком уверен в своих позициях. Он для чего-то вбил себе в голову совершенно дикую мысль, будто я к тебе неравнодушна.
— Действительно, дикость.
— Не ерничай, не умеешь.
— Ладно, не буду.
— Но после того, что я ему рассказала, он понял, что скорее всего ошибался. Не могу же я, в самом деле, испытывать какие-то нежные чувства к такому животному, как ты.
Гость задумчиво пожевал губами и почесал шишковатый лоб.
— Знаешь, у меня есть к тебе несколько предложений.
— Заранее отвергаю их. Все.
— Хочу предупредить тебя, Настя, для начала, что на меня любые твои оскорбления никак не действуют и не подействуют. Поэтому не трать зря силы и эмоции. Во-вторых, я предлагаю пройти в комнату и сесть. Разговор нам предстоит довольно продолжительный.
— Ах, ты еще, оказывается, не понял, что я хочу, чтобы ты немедленно убрался?
— И третье — мне нужно сделать укол.
— Только этого не хватало.
— Ну будь благоразумна. Ведь здоровый негодяй доставит меньше хлопот, чем негодяй, бьющийся в судорогах.
Самый лучший способ добиться своего от женщины — это начать с просьбы о врачебной помощи.
— Ванная там, — недовольно махнула рукой Анастасия Платоновна, это был максимум участия, на которое она была способна.
Василий Леонтьевич полез в сумку, достал ампулу, одноразовый шприц и отправился, куда было указано. В ванной он закатал штанину, протер голень одеколоном, найденным на полке, и нанес себе медицинскую процедуру.
Войдя в гостиную, он нашел Анастасию Платоновну в самом дальнем кресле. Надо сказать, что обставлена была гостиная известного кутюрье хоть и роскошно, но уже слегка старомодно. Скорее всего, в соответствии с вкусами умершей лет пять назад супруги. Супруга была мещанкой с претензиями. Такое сведение имелось откуда-то в голове Василия Леонтьевича.
Анастасия Платоновна села таким образом, что до нее невозможно было добраться, не столкнувшись с каким-нибудь мебельным препятствием. Центр баррикады составлял журнальный столик с горой модных журналов. Тяжелый стул с замысловато резной спинкой и огромная ваза с искусственными цветами держали фланги.
— Хочешь кофе? — осторожно спросил Василий Леонтьевич.
— Нет уж, спасибо, сыта по горло. И тебе советую оставить все эти попытки «зацепиться». Коли есть что сказать, говори. Хозяин уехал не слишком надолго.
— Он уехал до завтра.
— Не хочешь ли ты сказать…
— Не хочу. И ничего не попытаюсь извлечь из того факта, что до его возвращения целая ночь.
— Еще бы, — фыркнула Анастасия Платоновна.
Василий Леонтьевич осторожно сел в угол велюрового дивана. Поправил очки.
— Ты знаешь, Настя, я тебя люблю.
Она опять фыркнула.
— Теперь меня это не интересует. Совсем.
— Я не рассчитываю вернуть тебя как женщину…
— Не хватало…
— Но как человеку, с которым мы прожили вместе немало лет, мне бы хотелось что-то объяснить. Хоть что-нибудь.
Она пожала плечами.
— Объясняй.
— Понимаешь, не разжалобить, не растрогать, а именно объяснить. Заметь себе. А ведь это очень тонкий момент. Любишь женщину не тогда, когда хочешь ее как женщину, не тогда, когда хочешь вызвать ее восторг, нравиться ей, и даже не тогда, когда испытываешь потребность ее мучить, терзать, измываться, то есть подчинять. Лишь когда появляется желание — кстати, совершенно напрасное, глупое, свидетельствующее, что ты женщину начал терять, — так вот, когда появляется желание объяснить ей что-то, — значит, ты ее любишь.
— Ты всегда любил пофилософствовать. Когда нужно и когда не нужно.
Василий Леонтьевич поскреб джинсовое колено длинными бледными пальцами.
— А знаешь, почему оно глупое?
— Что именно?
— Желание объяснить женщине что-то важное. Знаешь?
— Я слушаю, говори.
— Потому что женщине, во-первых, ничего нельзя объяснить, и во-вторых, потому, что ей не нужны никакие объяснения. Они ее раздражают и пугают.
— Ты хотел как-нибудь оскорбить меня и поэтому целишь во весь женский пол, господин Вейнингер.
Василий Леонтьевич поморщился мгновенно и болезненно.
— Нет, конечно. Я даже не знаю названия тому, что сейчас делаю. Видимо, я слабый человек, мне для самоуважения важно, делая глупость, хотя бы объявить, что я знаю, что это глупость.
Настя неприязненно поежилась в кресле.
— Многовато слов и сложновато они составлены. Все ведь проще. И намного проще. В свое время, чтобы удовлетворить свои грязноватые, мелковатые плебейские комплексы, ты соблазнил дочку крупного начальника, а потом женился на ней. Причем все обставил так, как будто эта свадьба произошла по прихоти этого начальника. Да, тебе удалось скрутить толстую фигу в адрес этого дуболома-аппаратчика, молодец. Далее ты жил в свое удовольствие, измываясь над девчонкой, обалдевшей от абсурда неестественных отношений. И вот когда ты почувствовал, что эта девчонка к тебе наконец-то полностью, по-настоящему охладела, ты обнаружил в себе некие глубокие чувствища. Что, не так?
Василий Леонтьевич покивал.
— В общем, да. Схему ты нарисовала более-менее правильно, Но схема — она и есть схема. Когда смотришь со стороны, ничего, кроме омерзения, личность, прожившая последние несколько лет так, как я, не заслуживает.
— Это уж точно.
— Но при желании можно посмотреть изнутри…
— Спасибо, не хочется. Было время, когда я страстно желала получить на это право, мне не было позволено. Меня брезгливо, или, вернее, пренебрежительно пнули. Ты же ничего не подозревал о тех сумасшедших ночах, которые… о тех невероятных подозрениях, что являлись мне. Уж не знаю, что бы я тогда отдала, чтобы проникнуть в это «изнутри».
— Я тебя понимаю.
— Молчи, дурак. Если бы тогда дошло до разрыва с отцом, а ты знаешь, что это был за человек, я не сомневалась бы ни единой секунды, кого выбрать. Ты ведь его ненавидел.
— Ненавидел.
— И боялся.
— Боялся.
— Почему ты тогда торчал здесь? Меня презирал, отца ненавидел, и сидел тут сиднем, дикость! Ты хотел ему сделать больно?
— Еще как.
— И у тебя была такая возможность. Не знаю уж, за что ты хотел ему отомстить, потом расскажешь, но способ отомстить у тебя был великолепный.
— Какой?
— Тебе было известно, как отец меня любил. Ты мог сказать ему: забирайте обратно ублюдочное свое сокровище, товарищ член ЦК. Ты бы его этим не то что унизил, ты бы его убил. Растер в порошок! Хочешь, я тебе скажу, почему ты этого не сделал?
— Почему, Настя?
— Сначала я думала, что из страха, что отец помешает твоей карьере, но потом поняла — нет. Ведь карьеры ты никакой не делал. Не способен ты был к деланию ее, даже под таким крылом, как папашино.
— Это верно.
— Или ты будешь утверждать, что просто брезговал, боялся: скажут — это он благодаря тестю выдвигается?
— Нет. Я просто был к моменту нашего брака ни на что подобное не способен.
Анастасия Платоновна неприятно осклабилась.
— Не врешь, какой гордый, не пытаешься выставить себя в лучшем виде. Да плевать мне на это, неинтересно мне теперь это.
— Я знаю, Настя.
— А не бросал ты меня потому, что бросить меня можно было только один раз, а издеваться, будучи моим мужем, ты мог бесконечно. Разве не так?
Василий Леонтьевич кивнул.
— Ты молодец, Настя, и объяснять тебе придется значительно меньше, чем я думал.
Анастасия Платоновна поморщилась.
— Мне польстила твоя похвала.
— Уверен, что очень польстила, но если не хочешь признаваться в этом, не признавайся. Я действительно не мог уйти от тебя. Ты мне была нужна, я тобою как бы питался. И, знаешь, был благодарен. Хотя по правилам наших отношений должен был, конечно, скрывать это.
— Сволочь.
— Да, да, если хочешь, это был брак, настоящий брак. Живой. Уродливый, но подлинный. Допустим, рептилия отвратительна, но в ней больше жизни, чем в чучеле лебедя.
Манекенщица возмущенно переложила ноги.
— Надеюсь, ты оставляешь за мною право не желать себе жизни в подобном браке.
— Разумеется.
Анастасия Платоновна пробежала крашеными ногтями по подлокотнику и снова, как давеча, неприятно осклабилась.
— Поняла, я поняла!
— Что? — обеими руками потянулся к золоченым дужкам очков бывший муж.
— Я нужна была тебе только до тех пор, пока не появился этот мальчишка. Он что, еще больше меня подходил для ублажения твоих психических фурункулов?
Василий Леонтьевич серьезно и отрицательно покачал лобастой головой.
— Чушь. Здесь ты, дорогая моя, свернула с дороги в болото. Сам язык тебе мстит, что это за психические фурункулы?
— Не смей надо мной смеяться. К тому же замечу тебе: я видела, что ты делал с этим здоровенным имбецилом, именно эти видения навеяли такие слова.
Василий Леонтьевич продолжал качать головой из стороны в сторону, шепча: «чушь, чушь, чушь».
Анастасия Платоновна хлопнула ладонями по подлокотникам кресла.
— Ты уже давно здесь сидишь, наговорил массу слов, ничего от твоей болтовни не изменилось и не прояснилось. Отношение мое к тебе лучше не стало. Говоря твоими словами, ты ничего не сумел объяснить.
— Я еще и не начинал объяснять.
— Ах вот как?!
— Можно я позвоню?
— Что? — Настя не сразу поняла, в чем дело.
— Ты знаешь, мне вдруг срочно понадобилось позвонить.
— Позвонить?
— Да. Можно? — лицо Василия Леонтьевича вдруг сильно изменилось, в нем проступила непонятная и даже неуместная решимость. Пополам с тревогой.
— Да, пожалуйста, — развела руками хозяйка, — а что случилось? Что у тебя опять за выходки? Сорок лет, а ты все интересничаешь. Передо мной, передо мной-то мог бы и не стараться. Да что такое?
Пока произносилась эта тирада, Василий Леонтьевич добирался до телефона, причем делал это как-то жадно, как алкоголик тянется к пиву, не заботясь о красоте процедуры.
— Считай, что мне приснился дурной сон, — невнятно объяснил свою выходку бывший муж. В трубке раздались короткие гудки, и он тут же стал набирать номер по-новой.
— Таня? Привет! Почему у меня такой голос? Правильно, испуганный. Почему испуганный? Ну, как тебе сказать… А как там мама?
Настя забралась с ногами на кресло, очень внимательно и серьезно наблюдая за происходящим.
— Что там с канализацией? A-а, Рома помог тебе? Он что, там? И слышит наш разговор?
Стало видно, что Василию Леонтьевичу трудно говорить, он бросил в сторону бывшей жены почти затравленный взгляд.
— Да нет, ничего страшного, пусть слышит. Вот что, Тань, слушай меня внимательно. Сейчас ты вызовешь такси и отправишься с мамой в город. Роме скажешь, — голос Василия Леонтьевича сделался глуше, — что на консультацию. На дом к профессору к одному. Поняла? Только веди себя спокойно. Он не должен заподозрить ничего такого. Поняла? Все делай медленно, спокойно, как бы нехотя. Не торопясь. Приедешь домой — позвони мне. Как куда? Ах да. Записывай телефон. Я у Насти.
25
Когда явился Евмен Исаевич, подполковник Мухин пребывал в угнетенном состоянии. Глаза его потухли, их взгляд был обращен внутрь подполковничьей души, и вид открывшихся духовных сокровищ мучил его. Едва поздоровавшись с гостем, Леонтий Петрович отправился к себе в комнату, по-стариковски шаркая шлепанцами. Журналист не мог не отметить, как умудрился всего за несколько дней постареть бравый отставник. Странное чувство шевельнулось в душе журналиста, но оно было неуместным, и он его тщательно подавил, справедливо заметив себе, что если начать поддаваться каждому душевному порыву, то ничего путного в жизни добиться не удастся.
У себя в комнате Леонтий Петрович сел к столу, беспорядочно заваленному мятыми бумагами. Все они имели отношение к продолжающейся истории. Подполковник в очередной раз бился над пасьянсом из письменных улик в надежде схватить за хвост какое-нибудь объяснение, пусть даже сумасшедшее. Судя по его настроению, ничего ему пока не удавалось.
Из посуды на столе имелся смутно знакомый журналисту стакан для карандашей, он стоял кверху дном, так же, как во время первого посещения этой комнаты сотрудником «Ленинской смены». Очевидно, хозяин придает стакану и его перевернутости особое значение, даже сквозь его глубокую прострацию это было заметно. Петриченко не удержался и спросил:
— Что это у вас за стаканчик тут торчит, мух ловите?
— Нет, — серьезно ответил хозяин, ничуть не удивившийся вопросу, — не мух. Что вы глупости говорите! Как это можно муху стаканом поймать? Таракан тут один ко мне повадился. Бегает без совести по обеденному столу, а когда вещдоки лежат, по вещдокам. Шумно так бегает.
Журналист сделал сочувствующее лицо.
— А они у вас тут все время лежат, складываете из них мозаику, да?
— Зачем мозаику. Смысл ищу. Но, — уныло скривился подполковник, — не нахожу смысла. А тут еще таракан. Отвлекает.
Евмен Исаевич полез в карман пиджака.
— Ничего удивительного в том, что у вас ничего не получается, нет. Знаете почему? Потому что эти самые вещдоки, как вы изволите их величать, имеются у вас не в полном, так сказать, составе.
Гость похлопал длинным белым конвертом, добытым из кармана, по краю стола.
— Что это? — подозрительно и неприязненно спросил Леонтий Петрович.
— Пока не знаю. Одно могу сказать точно: этот конверт лежал у вас в почтовом ящике.
Подполковник несколько раз сглотнул отсутствующую слюну.
— Вот я и думаю, не ляжет ли это письмо, конечно, если это именно письмо, завершающим стеклышком в вашу мозаичную картину. И не станет ли нам окончательно понятен замысел художника, который…
Леонтий Петрович выхватил конверт из толстых самодовольных пальцев, надорвал со всей возможной при лихорадочном возбуждении аккуратностью.
— Ну, читайте, читайте!
Несколько секунд подполковник всматривался в то, что вынул трясущимися руками из конверта, наконец сказал:
— Это не от Романа.
— А от кого? Почти уверен, что это новое послание от учителя-мучителя.
Леонтий Петрович расслабленно качнулся на стуле.
— Что-то я плохо вижу, не разбираю…
— Почему же, там ведь на машинке!
— Все равно. Свету мало. Я потом почитаю.
— Давайте, я вам помогу.
— Не надо, я сам потом. Добавлю свету и почитаю. Один.
— Что значит один, мы же вместе работаем. Я сказал, что не оставлю вас, и не оставлю. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь!
Леонтий Петрович не хотел отдавать письмо, но у него не было сил для полноценного сопротивления. Журналистская доброта победила подполковничью застенчивость.
— Смотрите, действительно, напечатано на машинке, — радостно закричал Петриченко, завладев посланием, — а манерка у него становится все более развязной. «Разлюбезнейший Леонтий Петрович!» Он просто запанибрата с вами. «Не знаю, какое впечатление произвело на вас мое последнее письмо. Впрочем, меня это теперь волнует не слишком сильно, потому хотя бы, что я начал утрачивать интерес ко всей этой истории. И к вам в первую очередь. Ведь именно вы были тем стержнем, вокруг которого она завинчивалась. Только врожденное чувство гармонии и пропорции заставляет меня сказать вам на прощанье несколько слов. А так, ей-богу, все бы бросил и наплевал. И сказать мне хочется не столько вам, сколько о вас».
Журналист поднял глаза на Леонтия Петровича. Вид у старика был жалкий. Престарелый кролик под взглядом невидимого удава.
— «Ведь вы, Леонтий Петрович, не тот, за кого себя выдаете. Вы просто присвоили биографию своего брата, геройски погибшего на войне. Присвоили все, кроме этой гибели. Сами вы так и не нюхнули пороху, а проторчали на вышке с винтовкой в местах, именуемых не столь отдаленными. Тоже, конечно, труд, но ратности в нем мало. И к подвигу он ни в коем случае не приравнивается. Надо отдать вам должное, вышкой у вас не кончилось. Вы двинулись вверх по служебной лестнице, замечательным, судя по всему, были следователем и, стало быть, подполковничьи погоны заслужили по праву.
Я понимаю, что вы привыкли к вашему позаимствованному у брата образу, но, как ни прискорбно, придется с ним расстаться. Вы вроде бы не совершили ничего противозаконного, но что-то нехорошее все-таки совершили. Не бойтесь, я не шантажист и не буду за сохранение вашей тайны требовать платы. Не нужны мне ни ваши именные командирские часы, ни ваша дебильная коллекция. Это письмо — просто объяснительная записка, из которой вам, может быть, станет ясно, чем была на самом деле путаная история, в которую вы оказались втянуты. Вернее, сами втянулись по движению присвоенной души.
Игнатий Петрович Мухин, капитан-артиллерист, умерший от ран еще в 1951 году, имел право болеть за подрастающее поколение, но не вы. Его руки были в крови врагов, в крови фашистов. На ваших руках, руках палача, еще не запеклась кровь невинных жертв.
Бог вам судья.
Засим прощаюсь.
Как всегда, не подписываюсь, ибо — зачем?»
— Это неправда, — глухо сказал Леонтий Петрович.
— У вас был брат?
— У меня не было никакого брата. Вернее, был, — подполковник сделал попытку встать, — может быть, и был. Кто его знает.
— Вы не волнуйтесь, — участливо засуетился Петриченко, — вам нельзя сейчас волноваться.
— Как же мне не волноваться? Он… мне стыдно говорить и признаваться… Он, он, брат мой Игнатка, служил в органах. Охранником служил. Простым охранником. А потом, может быть, писарем. Но он, — голос подполковника сорвался, — но он никого не пытал, руки не в крови у него. Это у меня, у меня руки в ней. Но в ней фашистской. А он действительно умер после войны. Вы верите мне? От ран в сердце.
Петриченко смущенно кивнул.
По лицу подполковника катил градом пот, глаза были круглые и совершенно безумные.
— А я прошел, прошел. Через все прошел, через фронт. Стрелял. В живых людей стрелял. В живых, но во врагов.
— Не надо так, не надо, Леонтий Петрович, неужели вы думаете, что я вам не верю!
Подполковник внезапно замер и обмяк на своем стуле. Журналист продолжал говорить ровным успокаивающим голосом:
— Давно уже надо было привыкнуть, что человек этот садист, омерзительный и подлый. Доставлять людям страдание — его любимое занятие. Он знал, куда вас поразить, он понимал, негодяй: вам, человеку, прожившему безупречную жизнь, человеку заслуженному и даже сейчас, в преклонном возрасте, не забывающему о своем педагогическом долге, особенно оскорбительны подобные инсинуации.
Психотерапевтическое говорение не оказывало на подполковника никакого видимого действия.
— Знаете что, сейчас самое главное, самое нужное — нанести ответный удар. Это письмо даже при беглом анализе обнаруживает, что этот человек очень глубоко посвящен в ваши семейные дела. И в личные. Знает он то, что вряд ли известно даже близким друзьям дома.
Подполковник частично очнулся.
— Что это в виду имеете?
— Насколько я понял, о брате о своем Игнатии, давно уже скончавшемся, вы вспоминать не любили — по каким-то своим причинам. Стало быть, и не рассказывали вы о нем направо и налево.
— Ни направо, ни налево.
— Ни на работе, ни в компаниях, ни ученикам, ни соседям. Правильно?
Леонтий Петрович хмуро старался сосредоточиться, понимая, как это важно.
— Не любил он меня. Я тоже. Давно он ушел из моей жизни. Как тень. Даже не снился.
— А может быть, по пьяному делу проговорились, извините за такое предположение.
— Извиняю, Евмен Исаевич, но питье не мое веселье. Редко и в меру. Когда я с вами пил, допустим, я проговорился?
Петриченко засмеялся и отрицательно покачал головой.
— То-то.
— Ну, тогда что у нас остается?
— Что? — тупо подозрительным сделалось выражение подполковничьего лица.
— Если мы отметаем всех знакомых, учеников, сослуживцев, кто остается?
— Кто?
Журналист мимолетно поморщился, ему явно хотелось, чтобы нужное слово произнес сам Леонтий Петрович.
— Родственники, дорогой мой, родственники.
— С какой стати я вам уже и дорогой?
— Простите, непроизвольная фамильярность. Вырвалось. Но вспомните: ваша жена, ваши дети могли что-нибудь знать о вашем брате?
Подполковник стал медленно открывать рот, задергался вечно раскаленный кончик носа, обнаружилась внезапная, слегка даже испугавшая Петриченку косота. Леонтий Петрович, захваченный невероятной силы мыслительной работой, стал едва заметно заваливаться набок и, наверное, мог бы рухнуть на пол, когда бы вовремя не подставил локоть. Этим локтем он столкнул со стола деревянный стакан, из-под него выскочило суетливое насекомое и мгновенно скрылось. Петриченко не успел увериться, что видел его.
— Так вы хотите так сказать, молодой вы мой человек, что все эти письма мне Васька-сын писал? Сынишка мой?
Журналист не ожидал столь скорой и столь полной победы. Какой кусок сложной работы проделала вдруг эта посредственная голова!
— Ну не Татьяна же. Я ее видел, она…
— Где?
— Она на даче Платона Григорьевича. Там же, где и ваша жена.
— Марьяна, — Леонтий Петрович постучал согнутым пальцем по виску, — дурная. Куда ей. И она меня до сих пор любит и ждет.
— Можете ли вы то же самое сказать о своем сыне?
26
— Ты права, Настя. Твоего отца я ненавидел. Хотя «ненавидел» — слишком картинное слово. Вот если взять из этого слова его смысл и освободить от внешней помпезной формы, тогда будет правда.
— И боялся.
Василий Леонтьевич поморщился.
— Ты уже в третий раз говоришь об этом. Я в третий раз с тобою соглашаюсь. Да, боялся. Но страх этот был особого рода. Не вполне полнокровный, что ли. Так боятся начальника.
— Какого такого начальника?
— Ну, такие люди всегда начальники. Поколение начальников. Помнишь, я как-то тебе излагал свою теорию на этот счет.
Анастасия Платоновна хмыкнула и закурила длинную коричневую сигарету.
— Теория эта и неглубокая, и не твоя. Какая-то клетка, телесная клетка, или что-то в этом роде.
— В этом, в этом. Мы, все наше поколение, мы оказались в телесной клетке. Впереди наши вечные скрученные из стальной проволоки отцы и дядья. Раз и навсегда оседлавшие все должности, законопатившие все возможности куда-то пробиться, кем-то стать. Только длительное, унизительнейшее ползание на брюхе, только согласие на роль рыбы-прилипалы давало хоть какие-то шансы. Те из моих знакомых, кто не смог уговорить себя согласиться на компромисс, так до сих пор и остались ничем. Нас уже добили, нас уже изжили. После сорока на самом деле уже ничего не нужно. Я не про должности и прочее в том же роде, хотя в известном смысле должность — это возможность, знак возможности. После сорока любое цветение заканчивается и идет механическое строение…
— Слышала я все это, слышала, устала даже слушать. Если бы ты сам мог слышать свои речи со стороны, тебя бы вырвало.
— Не исключено. Тем более что формулирую я сейчас грубо, приблизительно. Все самое тонкое ускользает, это меня сейчас мучает сильнее всего. Я ведь пришел тебе что-то объяснить.
— Я могу тебе в двадцатый раз повторить: слушаю! объясняй!
Василий Леонтьевич глубоко вздохнул и потер недавно пораненную уколом ногу.
— Я знаю, что про себя ты считаешь меня неудачником. Обыкновенным уныло брюзжащим неудачником. Неудаче нет оправдания. По крайней мере — в женских глазах.
— Вот с этим я согласна.
— Она согласна! То есть тупое, самодовольное, продажное животное, оказавшееся при должности, это законный хозяин судьбы, а тот, кто лучшие годы угробил… — Василий Леонтьевич остановился, снял очки, потер глаза, — ты, пожалуй, права. Мелкая чушь все это.
— Действительно, дорогой.
— Я собирался рассказать тебе кое-что поинтереснее. От чего-то надо было оттолкнуться.
Настя изящно стряхнула пепел.
— Оттолкнулся?
— Если не хочешь, можешь, конечно, не оставлять своего иронического настроя, просто предупреждаю, он помешает тебе понять меня как надо.
— Оставляю иронический настрой.
Василий Леонтьевич осторожно надел очки.
— Продолжаю лекцию о телесной клетке. Мы остановились на том, что твой батюшка, преуспевший в карьере партхам, и мой старик, кающийся, сексуально озабоченный павиан, — только часть этой клетки. Заметь, что к своему отцу я отношусь ничуть не лучше, чем к твоему. Его энкэвэдэшное прошлое мне не менее отвратительно, чем чугунное генеральство Платона Григорьевича.
— Заметила.
— Что касается этих дядек, есть хотя бы надежда на действие натуральных биологических законов. На то, что инфаркты, аденомы, простаты, рак и просто маразм рано или поздно обратят эту гвардию прошлого в навоз истории.
Курящая красавица хлопнула себя по лбу левой рукой и рассмеялась почти истерически.
— Как же я забыла, ты же у нас не просто сорокалетний неудачник, ты ведь еще и калека.
Василий Леонтьевич беззлобно кивнул.
— Да, я не отрицаю, что мои эндокринные неприятности сыграли свою роль в становлении моего мировоззрения. Утомительнейшее дело — колоться два раза в сутки.
— Ты сто раз мне это говорил. Между тем мой папа умер раньше тебя, несмотря на все свое пролетарское здоровье.
— И это меня примирило с ним как с личностью. Но как к типичному представителю продолжаю к нему испытывать все что испытываю.
— Опять ты…
— Правильно, это мы проехали. Где же я? Ах да. Пропитываясь ядом по отношению к отцам, я — и такие как я, — мы совсем забыли про детей.
— Каких детей? Уж не наших ли ты имеешь в виду?
— Не надо так шутить. Я имею в виду детей в широком, в широчайшем смысле слова. Ты знаешь, они, дети, еще гнуснее отцов. Гнуснее, опаснее. И кто-то так задумал, что они должны нас — неживших — пережить!
— Именно эта глубочайшая мысль пришла тебе в голову?
— Эта.
— И давно?
— Недавно. Месяца полтора-два назад. И знаешь где?
— Интересно.
— В туалете Белорусского вокзала.
— Ну, дух дышит, где хочет. Ты сам мне говорил.
— Не притворяйся умнее, чем ты есть. Ведь ты ничего на самом деле еще не поняла.
— Будешь оскорблять, вызову милицию.
— Ладно, успокойся. У меня нет сил ссориться.
— Тогда продолжай. Что там за туалет у тебя?
— Я мочился.
— Вся внимание.
— Был трезв, скромен, как всегда, никому не мешал, что в общественном туалете особенно ценно. И вдруг получил сильнейший удар ногою.
— В пах?
— Нет. Но ударили меня ужасно унизительным образом. В зад. Носком здоровенного башмака. Я от боли и обиды чуть не потерял сознание. И рухнул на пол. К счастью, ты не знаешь, какие там полы.
— Ты не попытался отстоять свою честь?
— Это было физически невозможно. От боли я не мог двигаться. К тому же нападавший был громаден и был не один. Мне казалось, что их вообще человек сто. Но, так сказать, своего я успел запомнить. Компания молодых здоровенных горилл хохотала, стоя надо мной, но одна горилла хохотала отвратительней других. Она и запала в память.
Василий Леонтьевич облизнул пересохшие губы.
— Не сразу эта история получила продолжение.
Анастасия Платоновна закурила следующую сигарету.
— То, что я чувствовал себя раздавленным, уничтоженным, — про это я тебе рассказывать не буду. Не понимал, как мне жить дальше. Абстрактные объяснения, что, мол, дикая уличная преступность захлестнула города и никто с этим ничего не может поделать, в таких случаях не греют. Думал, рехнусь от обиды. Но судьба таких, находящихся на грани, жалеет, видимо.
— И ЧТО?
— Прошла страшная неделя, прошла вторая, и тут встречаю я этого парня. Случайно, возле какого-то кабака. Я сразу понял, что это огромная удача. У меня внутри все запело, поверилось, что счастье возможно. Подошел я к нему, осторожно мелькнул перед глазами. Проверить — узнает или нет. Не узнал. Это понятно. Скорчившийся тип на полу в общественном туалете отличается от человека с прекрасной осанкой в хорошем белом костюме.
— Как ты себя повел дальше?
— Ты скоро выкуришь всю пачку.
— На свои курю.
— Н-да. Так вот, я его узнал — и продолжал узнавать.
— В каком смысле?
— Присмотревшись к этому куску тренированного мяса, я вспомнил его двенадцатилетнего.
— Яснее, яснее говори.
— Короче, это был Ромка Миронов, сын одной из последних сожительниц моего папаши-павиана.
— Из-за которого твоя матушка…
— Да, да, из-за которого моя мама изрядно повредилась рассудком. Она так и не смогла примириться с расставанием. Понимаешь, она до сих пор его ждет.
— Нет, этого я не понимаю.
Василий Леонтьевич встал и прошелся по комнате, разминая ноги.
— Знаешь что, Настя?
— Что? — с вызовом спросила она.
— Я все-таки сварю кофе.
27
— Что же теперь делать, Евмен Исаевич?
Несчастный, нелепый, перепуганный дедок. Что ему делать с внезапно добытой правдой? Незваная истина хуже незваного гостя.
— Положение сложное, если не сказать — идиотское, — глубокомысленно вытер пот со лба журналист. — Тут что самое пикантное? Роман ваш цел и невредим. Я так себе и предполагал, что письма эти — фальсификация.
— Фальшивка, — растерянно протянул Леонтий Петрович.
— Единственная загвоздка — как могло случиться, что они написаны собственноручно Романом? Кто и каким образом смог его уговорить сделать это? Но мы и в этом разберемся. Какой-то тут фокус. Психологический.
Подполковник переложил свое измученное тело с правого локтя на левый и опирался теперь не на стол, а на подоконник. За окном быстро сгущались сумерки. Евмену Исаевичу, пристально следившему за выражением его лица, показалось, что с такой же примерно скоростью помрачается сознание военрука.
— Но вас, Леонтий Петрович, насколько я понимаю, интересует сейчас в первую очередь моральная сторона дела.
Не откликнулся подполковник.
— Технологию этого бесчеловечного розыгрыша мы вскоре выясним. И она, может быть, станет материалом для нравоучительного, а может быть, и разоблачительного очерка. Но, повторяю, не это сейчас важно.
Леонтий Петрович пошмыгал носом, зажмурился, но не заплакал. Вспомнил, что не один в комнате. При этом жирном болтуне, который все понимает не так, плакать не хотелось. Странный он. Понимает не так, хотя сам все разгреб и на свет выволок. Чего он хочет сейчас? Ах да, очерк. Леонтий Петрович плохо себе представлял, что такое очерк, но был уверен, что это один из способов наврать как можно подлее.
Журналист, дав подполковнику немного погоревать, побыть наедине со своими мыслями, стал продвигать ситуацию.
— Вы не думаете, что вам надо объясниться с сыном?
— Он мне теперь не сын.
— Это вы, пожалуй, преувеличиваете.
— Я знаю, когда преувеличиваю, — не слишком понятно, но почти твердо заметил Леонтий Петрович.
— Но эту историю нельзя так оставлять. Ведь мы остановились на поле догадок, правда, вполне обоснованных. Наша задача — догадки превратить в факты. Надо поехать вам к Василию Леонтьевичу и изложить ему все, что вы знаете. И тогда по его реакции, по его ответам мы составим окончательную картину этого нравственного преступления.
— Преступления? — смутно оживился подполковник.
— Воля ваша, но действия сына по отношению к вам я считаю преступными.
— Он мне просто мстит. Всегда мамашу любил. Марьяну. А я бросил их всех. Если рассмотреть, я — преступление.
— Это дела дней, минувших бог знает когда, вопрос вашей личной совести. Она, я вижу, побаливает у вас. Да и случай вполне заурядный. Кто только не бросал семью. Сын же ваш в ответ посягнул на такое…
— Посягнул.
— Хотите, я поеду вместе с вами? Я был рядом с вами все эти дни, знаю суть событий. Обещаю максимальную деликатность. Ничем не задену, не оскорблю. Только буду морально помогать.
Петриченко очень боялся, что старик откажется. Старые коммуняки не так элементарны и предсказуемы, как может показаться. Письмо, которое должно было стать катализатором последнего порыва и главного, очищающего скандала, может, наоборот, все сломать. Сейчас он заноет, что устал, болен, хочет спать, хочет побыть один, и тогда — конец.
Звонок в дверь.
Хозяин и гость посмотрели друг на друга в ожидании объяснений. Ждать можно было кого угодно, но прийти не должен был никто. У Петриченки заныло под левым ребром, там у него сидела язва двенадцатиперстной кишки и гнездилась тоска. Как пугает немотивированный поворот сюжета. К провалу он или к благу?
Раиса равнодушно открыла дверь.
В коридоре послышался шум, свидетельствующий, что явились несколько человек. И среди них Светлана.
— Я ее не звал, — извиняющимся голосом произнес Леонтий Петрович, но было поздно. Брутальная красавица во всей своей красе стояла на пороге. Петриченко непреднамеренно цинично подумал, что она замечательный объект для коллективных изнасилований.
За спиной ее виднелось босое мужское лицо. Не сразу удалось понять, что это психиатр. Отказался от бороды — ничего себе!
— Мне нужно с вами поговорить.
Светлана вошла. Возбуждена и смущена. Села к столу. Покосилась на Петриченко.
— Оставьте нас, пожалуйста, — перевел ее взгляд Эдуард Семенович.
Но тут Леонтий Петрович проявил неожиданную привязанность к журналисту.
— Это мой друг. Он много сделал для спасения Романа. При нем можно говорить. Все.
— То, что Светлана собирается рассказать, в большей степени касается ее, чем вас, Леонтий Петрович, поэтому ей решать, кого посвящать в свои тайны, кого нет, — дергая голой щекой, пояснил психиатр.
— И тем не менее, — надменно заявил хозяин комнаты.
Светлана устало махнула рукой.
— Пусть тогда хотя бы принесет воды. Жажда страшная.
Несмотря на свои габариты, Евмен Исаевич успешно произвел фокус «одна нога здесь, другая там». Старшая сестра сомнительного Романа напилась, но заговорил опять ее безбородый спутник.
— Вот что мы сочли нужным вам рассказать… — в этом месте владелица тайны показала, что говорить будет сама.
— Вы, Леонтий Петрович, хорошо знаете тот случай, когда… — горло перехватило у молодой женщины, но она превозмогла отвращение к произносимым словам, — когда меня в подвале за овощным магазином изнасиловали эти скоты с улицы Растроповича.
Подполковник сухо кивнул. Эдуард Семенович стал нервно пощипывать непривычно голую щеку.
— Я всегда обвиняла в этом подлеца-брата. Не спорьте, у меня есть факты. Навел он. Причем навел подло, сообщив им, что я законченная блядь, сплю со всеми подряд, даже с такой старой гнидой, как сожитель моей матери, то есть с вами. Он сказал им, что я даже мечтаю, чтобы со мной это сделали, потому что я ненасытная и все прочее в том же духе.
Потребовался еще один стакан воды.
— Зачем он это сделал, я не понимала. Я ненавидела его так сильно, что не имела возможности что-то соображать, размышлять спокойно на эту тему. Когда мы сошлись с Эдуардом, я не стала от него ничего скрывать, ему было тяжело, но он принял все, и за это я благодарна ему.
Психиатр закрыл глаза и отвернулся.
— Я по его просьбе рассказала ему всю свою жизнь от начала до конца. Ничего не утаила. Ничего хоть сколько-нибудь интересного. Все самые грязные и неприятные эпизоды вспомнила. Про ваше ко мне отношение, Леонтий Петрович, тоже. Должна вам сообщить, что Эдуард не любит вас и считает сладострастным, подлым маразматиком.
Подполковник стоически кивнул, словно соглашаясь с этой характеристикой.
— Но не это важно, не это… — опять перехватило горло. Евмен Исаевич нетерпеливо раздул ноздри, эти физиологические перипетии чрезвычайно раздражали его. Вперед, вперед к сути дела!
— Не так давно я рассказала Эдуарду один случай из наших взаимоотношений с братом. Я училась тогда в девятом классе. Однажды у нас отменили историю, и я вернулась из школы намного раньше, чем обычно. Я не стала звонить в дверь, потому что хотела рвануть с девчонками на танцы. Нужно было незаметно переодеться. Мы жили тогда на первом этаже. Но первый этаж высокий, с балконом. Вот я и залезла на балкон, чтобы тихонько пробраться в комнату. Мать заставила бы стирать или еще что. У меня был секрет, я придумала, как снаружи открывать балконную дверь. И вот залезаю. Воды!
В стакане оставалось еще на донышке.
— И что я вижу через стекло? Занавеска была отодвинута, а там Ромка, ему тогда лет десять было, стоит перед зеркалом в моем платье в новом. И не просто стоит, а крутится, крутится так. И губы помадой намазаны. Туфли мои надел. Нога у него тогда уже была ого-го. Я и до этого обращала внимание, что платья мои чем-то пахнут не моим и туфли вроде как растоптаны. Стоит перед зеркалом и бедрами вертит, задницей… ну, вы понимаете.
В этом месте рассказ прервался надолго. Секунд на пятнадцать.
— И что же было дальше? — ровным, почти равнодушным голосом поинтересовался подполковник.
— Что, что. Я, конечно, ворвалась в комнату, наорала на него, обсмеяла. Язык у меня был всегда ядовитый, я была штучка. Он обычно ругался со мной, тоже умел, а тут разрыдался. Он никогда не плакал до этого, никогда. А потом вдруг…
— Говори, говори, — прошептал психиатр.
— Плакать перестал. И схватил утюг и говорит: если я кому-нибудь проболтаюсь, — а утюг над моей головой, глаза белые, — если кому-нибудь хоть слово, то он меня отравит. Знаете, смешно так, говорит, что отравит, а у самого утюг в руках. Я хохочу, дура. Тут он как шарахнет утюгом в зеркало. И ушел. Я не стала ничего никому рассказывать. Хотя не очень-то испугалась. Вернее, испугалась не угроз, а того, как он изменился. Белые глаза и прочее. Ничего особенного я в этой истории не видела. Дура была. Вот почти и все. Дальше мы жили как обычно, даже забываться эта история стала понемногу. Жили мы, конечно, как кошка с собакой. Я иногда, очень-очень редко, отпускала шуточки по этому поводу. Такие, знаете, только нам двоим понятные. Понимаю, что он жил, как под дамокловым мечом, копил на меня злобу. И в конце концов отомстил.
Светлана шумно вздохнула, как бы вслед огромному камню, сброшенному с души.
— И совсем последнее. Когда я Эдуарду это рассказала, а он ведь врач по психике, он мне объяснил, что Роман с ненормальными наклонностями. История с зеркалом и платьем загнала все его переживания далеко вглубь. Какая-то страшная работа у него шла с тех пор внутри. Теперь он, по вашему утверждению, попал в руки к маньяку, так вот, я вам скажу, что это не случайно. Он все время вился поблизости от группы риска, рано или поздно они должны были его завлечь. А я, получается, — Светлана тяжело вздохнула, — еще тогда его подтолкнула на эту дорожку. И пусть он самым подлым способом рассчитался со мной, считаю своим долгом открыть всю картину, может быть, она поможет вашему следствию. Наверное, надо и в милицию сообщить. В заявлении моем этого ничего нет.
Леонтий Петрович молчал, даже полуотвернулся. За окном уже была настоящая ночь.
Евмен Исаевич тяжело прохаживался по паркету, тот подагрически хрустел.
— Я человек посторонний, но совет дам хороший: не рассказывайте в милиции эту историю.
— Почему?
— Во-первых, они ничего не поймут, во-вторых, посмеются над вами. А в-третьих, в вашем публичном самобичевании нет потребности. Насколько мы тут разобрались с Леонтием Петровичем, вашему брату не так уж плохо приходится в лапах этого маньяка.
28
— Что с тобой, бывший муж?
Чашка Василия Леонтьевича испуганно звякнула о блюдце.
— Это не кофе, а бурда, ты утратил квалификацию.
— Да?
— Да. Он отчетливо отдает мочой. Как твой рассказ.
— Потерпи, уже немного осталось.
— Насколько я поняла, этот парень оказался…
— В каком-то смысле моим братом.
— Передержка.
— Небольшая. Позволив себе это допущение, я возрадовался. Взорлил.
— Ну-ну.
— Настя, ты ведь искусственно подкармливаешь неприязнь ко мне. Кляча твоей иронии вот-вот издохнет. Я же вижу, тебя страшно занимает мой рассказ.
— Он пугает, а мне противно.
— Ты слишком начитанна для манекенщицы. Итак, я обрадовался. Почти мгновенно в моей голове родился план. Обоюдоострый. Это было какое-то озарение. В этот момент я почувствовал себя творцом. Почти во всех подробностях.
— Что значит обоюдоострый?
— Это значит, направленный в обе стороны телесной клетки. И против отца, и против сына.
Настя хмыкнула в чашку.
— Уж да уж.
Василий Леонтьевич встал и начал прохаживаться по ковру с видом зоопаркового хищника.
— Я разузнал все что мог о нем, о Романе. Подхожу как-то раз и предлагаю сделку. Я сказал, что мне нужен телохранитель. Работа не пыльная и не мокрая, никто мне особенно не угрожает. Телохранитель мне нужен для престижа, Аванс немедленно. Роман почти не думал. Согласился. Когда я привез его на дачу, он окончательно уверился в том, что поступил правильно. Мне кажется, что в тот момент ему и самому желалось оставить на какое-то время городскую обстановку. И потянулись длинные летние вечера. Заполненные чем?
— Кофе.
— И разговорами. Ты же сама прошла через это. На меня снизошло вдохновение. Я ведь никогда не обладал сколько-нибудь бойким пером, мне легче прочитать лекцию на три часа, чем написать страницу. А какой я лектор, ты знаешь.
— Знаю.
— Парнишка сначала показался мне типичным стандартным кирпичом из мощной телесной стены, подпирающей с тылу кучку страдающих сорокалетних неудачников. Несчастных интеллигентов, уже сообразивших, что их существование кончено и бессмысленно. Они торопливо листают жалкие книжки и кипятят бесполезные шприцы в густеющей тени, отбрасываемой этой стеною. Ты ведь его видела, Настя.
— В весьма своеобразном ракурсе.
— Это ничего не меняет. Какое животное, а?! Экземплярище. Жалко, он тебе не показал свои фокусы с монетами, он их запросто сворачивал в трубку. Были бы на даче лошади, он бы разгибал подковы. При этом писал с ошибками. Причем даже не знал, что пишет с ними. И без знаков препинания, как поэт-модернист. Крайности, как известно, сходятся. Дебил с поэтом стоят спиной к спине.
Сначала мне его зверская неграмотность показалась избыточной деталью, это все равно как если бы Яго был изображен прокаженным и кривым, но потом я с этим смирился. Пусть, раз уж так сложилось. Со временем в ходе подготовительно-общеобразовательных бесед я обнаружил, что Рома Миронов, как это ни дико, тянется к знаниям. Так, кажется, писали в школьных характеристиках. Пытливый мордоворот, это сочетание меня весьма забавляло. При этом я держал в уме оскорбительный его пинок мне в задницу. Я человек злопамятный и мстительный, как все неудачники моего поколения, тем более что я еще и калека.
— Я помню это.
— Но шевеление элементарной и робкой мысли на дне грязной пещеры, которой являлась голова этого туалетного весельчака, меня забавляло и подхлестывало. Разумеется, я никогда не верил ни в каких Макаренок, по сути придумавших лишь способ штамповки кадров для карательных органов, но признаю возникновение педагогического азарта во мне. Азарт разгорался по мере того, как в этом «отморозке» все более выявлялся инструмент для осуществления моего обоюдоострого плана. Я сделал открытие на фронте собеседований с ненужным мне телохранителем.
— Хочешь меня спросить, не любопытно ли мне, какое именно?
— Даже если ты не спросишь, все равно расскажу, ибо для этого пришел. Открытие трогательное и какое-то неоригинальное. Сначала что-то вроде брезгливой жалости… но потом нет! нет! нет! — сказал я себе. Это еще не победа, это разведка добрым словом, всего лишь. А понял я вот что: его, Романа Миронова, громилу под метр девяносто с гирями вместо кулаков, с «положением» в преступном мире, с двумя, тремя десятками баб за спиной, с деньгами шальными, — никто не любит! И, что характерно, это его зверски мучает. Он оброс носорожьей кожей, и обычное прямое оскорбление не способно оставить на ней порез. Но внутренне он уязвим, он страдает.
— Ничего особенного в этом открытии твоем нет. Хоть вон Маяковский — трибун, главарь, а душа нежна. И в ранах.
— Да, да, я ведь и сам вначале себе сказал, что открытьишко — тьфу! Тут интересность в другом. Ему, Роману, нужно было любви, а мне, человеку, догадавшемуся об этом, желалось совсем другого. Рассчитаться, отомстить. И лично ему, Роману Миронову, и всему его поколению. Кстати, попутно я сделал и второе открытие, правда, легко выводящееся из первого. Их всех, мясистых акселератов-костоломов, никто не любит. Всю «стену». И бесятся они в основном от недостатка любви. Мне плевать было на одного, стало быть, и на всех скопом тоже было плевать. Слюна, обращенная в сторону толпы, еще холоднее.
Настя поставила чашку на журнальный столик и потянулась к пачке сигарет — пуста.
— Я принесу, на кухне, на столе, я видел целую.
Василий Леонтьевич пришел под воздействием своего рассказа в состояние довольно сильного возбуждения. Он удалился быстрым шагом в сторону кухни и говорить продолжил, еще не полностью вернувшись.
— Ты, конечно, уже догадалась, что именно я решил сделать. Влюбить его в себя.
— Не подходи ко мне, мразь!
Пачка сигарет шлепнулась на лакированный стол.
— Но для того, чтобы влюбить в себя человека — не важно: мужчину, женщину, — надо как можно достовернее сделать вид, что ты сам влюбился. Вначале я не был уверен в своих силах. Раньше мне удавалось влюблять в себя женщин, и даже красивых, но это не то же самое, что овладеть чувствами молодого бандита. Оказалось — волновался зря. Для охмурения дитяти-бандита хватило всего лишь слов. Правда, очень большого количества и очень обдуманно расставленных. Не понадобилось никаких материальных доказательств приязни и привязанности. Если с человеком никто никогда не разговаривал по душам…
— Длинные летние вечера…
— Именно. И знаешь, мне почти не приходилось выходить за пределы специальности: история человечества — вот что, оказывается, более всего интересует нынешних молодых преступников. Все эти Цезари, Чандрагупты, Александры Македонские, Ганнибалы, Нельсоны и иже с ними. Для него история была как цветущий альпийский луг для человека, у которого удалили сразу пару катаракт. Он, слушая, доходил до состояния экстаза, и когда, картинно вскочив со своего стула, кричал: «Я здесь стою и не могу иначе!», «Гвардия умирает, но не сдается!», «Кто любит меня, за мной!» — у него, по его собственному признанию, происходило непроизвольное семяизвержение.
— Умоляю тебя.
— Именно «умоляю тебя!» твердил мне испорченный современной демократической Москвою ребенок, прося рассказать еще что-нибудь.
— И однажды ты поведал ему о платоновской академии и просветил насчет того, как мало болтливые античные извращенцы ценили общество женщин и до какой степени предпочитали общество мальчиков, умеющих слушать.
— Не хвали себя за проницательность, хотя ты и права. Я уже два часа сотрясаю воздух, чтобы эхом ответило именно это ущелье. Действительно, был и Платон, и «Пир», и все что положено у голубых соблазнителей. Особенно легко мне стало скользить в этом направлении, когда оказалась очевидной предрасположенность слушателя к сексуальным контактам подобного рода. Странно, что никто не обратил на эти его особенности внимания раньше. Впрочем, надо признать, Роман маскировался: мускулатура, звериное поведение. Так вот, удалив маскировочный налет, я увидел, что мне не сопротивляются. Труднее было самому собраться с силами для подобного… — Василий Леонтьевич брезгливо пожевал губами и вздул ноздри.
— Только не надо мне сейчас говорить, что это было всего один раз и без всякого удовольствия.
— Клянусь Приапом. Одно дело изнывать от знойного, мстительного желания «трахнуть» все это безмозглое мясо, другое дело, извини меня, произвести с громадным вонючим мужиком…
— Хватит. Лучше один раз увидеть.
Василий Леонтьевич как-то опал, стал меньше, и глаза потеряли часть блеска.
— Да, наверное, хватит. Я хочу, чтобы ты поняла все правильно. И пожалела.
— Кого?!
— Меня.
— Тебя?
— Ну ты же должна почувствовать, что это был акт отчаяния. Это ведь почти смерть, если я могу позволить себе жить только совершая дела такого рода.
— Мне тебя не жалко. И надеюсь, что повесть твоя закончена.
— Почти.
— Договаривай.
— Ну, это будет для тебя менее интересно, но уж раз начал… Параллельно с устными разговорами шла и кое-какая письменная деятельность. Под мою диктовку Роман писал письма родным и друзьям, что сидит в клетке в руках дикого маньяка-изувера и подвергается нечеловеческим пыткам.
— А эта чушь зачем?
— Чтобы он поверил, что я его люблю, нужно было доказать, что все остальные к нему равнодушны. И общество в виде милиции и прессы, и родственники в виде сестры и учителя Мухина. Моего отца. И потом, ты забываешь про обоюдоострость, одним ударом я хотел встряхнуть своего батяню-подполковника. Ведь он фактически свел с ума мою мать, и теперь она любит его в полном смысле безумно. Я решил потрепать ему абсолютно крепкие нервишки. И мне это удалось. Редко человеку выпадает в жизни столько идиотских ситуаций и положений, сколько выпало за последние недели Леонтию Петровичу Мухину.
Василий Леонтьевич усмехнулся.
— Люди, в общем-то, беззащитны. Я так аляповато изготовил все эти послания, я так грубо работал, что поймать меня, расчислить и выловить не стоило никакого труда.
— Зачем же ты это делал?
— Из чувства справедливости. Это как на корриде, у быка тоже должен быть шанс. Иначе было бы просто избиение младенцев. Даже в милиции — а там сидят не Штирлицы — усомнились в подлинности Ромкиных посланий, надиктованных мною. Я ведь не изучал специально нынешнюю феню, самым приблизительным образом имитировал Ромкину речь, настолько обезграмотил ее, что это должно было резать глаза. Ничего, все сошло. Мне все удалось, даже в большей степени, чем мыслилось вначале.
— Ты говоришь так, как будто очень доволен собой.
— Не буду врать, отчасти да. Ну посмотри: больной, несчастный, бездарный по большому счету человечишко, без денег, перспектив и т. п., заставляет отнестись к себе… ему удается настоять на своем. Его представление о мире, оказывается, наиболее верно. И пуленепробиваемые троглодиты с энкэвэдэшных вышек, и бульдоги с ампутированными мозгами из подрастающих шаек поставлены на колени. Более того, раком поставлены.
— Но ты-то еще поганее их.
— Да! — искренне и горестно воскликнул Василий Леонтьевич, — да, ты права. Я вернул этому бугаю пинок в задницу, я намотал извилины папаши на свой кулачок, но я несчастнее их.
— И чего ты теперь хочешь?
— Чтобы ты вернулась ко мне, ибо если и есть на свете человек, которого стоит по-настоящему пожалеть, так это я.
Анастасия Платоновна не успела ничего ответить, раздался звонок. Она бросилась к телефону. Послушав, расслабленно вернулась в кресло и сказала:
— Тебя.
Когда Василий Леонтьевич подносил трубку к уху, вид у него был испуганный.
— Что? Когда это? Как ты узнал этот телефон? Послушай, Роман… Ах та-ак? Да, это телефон моей жены. Пусть бывшей. Я никогда не обещал тебе, что не появлюсь здесь. Давай не будем устраивать дискуссию. Что значит обманывал? Перестань ты пороть эту ерунду! Что значит бросил? Тебя бросил?! Погоди, когда я приеду, мы с тобой поговорим. Скажи мне… погоди, скажи мне: Таня с мамой уехали? Тогда дай мне Татьяну. Что значит не можешь? Ты что там задумал?!
Василий Леонтьевич положил трубку. Лицо у него было белое.
— Я немедленно еду.
29
Вскоре после того, как все ушли, Леонтий Петрович попытался лечь спать. С очень большим трудом ему удалось это сделать. Просто лечь, не говоря уж о том, чтобы заснуть. Крутился в постели, истязая подушку. Очень скоро он пожалел о том, что настоял на уходе Евмена Исаевича. Пусть малоприятный, пусть проныра, пусть обстряпывает свои малоблагородные газетные дела, но с ним можно было поговорить, объяснить, почему не стоит верить этому последнему, напечатанному на машинке письму. Как ужасно быть отцом сына-клеветника. Сынок, зачем ты так поступил, сынок? Никто, никто не может отнять у человека его судьбу-биографию. Да, я не понимал тебя, да, я разлюбил твою мать, но не хотел же я ей такого зла, никакого вообще не хотел. Мне не жаль для нее процветания. Сходящий с ума человек никому не должен быть за это благодарен. Сказавший человеку: «ты свел меня с ума» — да горит в геенне огненной.
Они договорились с журналистом завтра поутру отправиться на дачу к Василию Леонтьевичу и спросить у него — зачем?! Для чего было придумано все это хитрое, подлое и трусливое развлечение? Часы показывали половину третьего ночи. Петриченко обещал заехать к восьми. Значит, ждать еще более пяти часов. Тоскливо стало подполковнику от этой цифры. Сколько дополнительных часов уже начавшейся душевной пытки! Кто так глупо договорился с Петриченкой? И почему тот сам не догадался, раз так хитер, что надо раньше? И почему телефона не оставил? Пусть бы спал здесь. Пол у комнаты вон какой большой.
Терпеть не было уже никаких сил, тем более что большая часть их была отправлена на борьбу с призраком старшего брата. Кровать казалась Леонтию Петровичу могильной плитой, под которой, налившийся соками чуждого воображения, стал распрямляться давным-давно похороненный Игнатий. Он уже встал там, в гробу, на четвереньки и силится, мертвяк, приподнять трухлявую крышку. Когда Леонтий Петрович закрывал глаза, у него появлялось ощущение, что кровать покачивается.
Подполковнику трудно было отделаться от капитанского видения еще и потому, что при жизни брат был до чрезвычайности похож на него. Он мог мучить, даже не возникая в сознании лично, а подло помогая Леонтию Петровичу припомнить свое собственное лицо. А его-то бреющийся мужчина видит ежедневно. Может быть, имеет смысл отрастить бороду, как психиатр? Бред, сказал себе подполковник и опять резко и обреченно перевернулся с правого бока на левый.
Куда, куда уводит тебя измученная мысль твоя, Леонтий Петрович, остановись!
Подполковник вскинулся и с надеждой посмотрел на циферблат будильника. Ах та-ак! Время могло идти настолько медленно только в том случае, если бы стрелки вращались в среде значительно более плотной, чем воздух. И только в этот момент Леонтий Петрович осознал, что в его комнате не потушен свет. Вот он-то и мешает расслабиться сознанию, вот он-то… вот его уже и нет. Щелкнув клавишей выключателя, Леонтий Петрович удовлетворенно хихикнул. Но радость была недолгой. Он перестал видеть циферблат будильника. Нельзя же следить за движением времени, всего лишь прислушиваясь к его стуку на стыках секунд. Но и здесь изощренная мысль подполковника нашла выход. Командирские! Но где они? И это вспомнилось. Леонтий Петрович стал на колени перед старомодным своим шкафом, открыл загадочно скрипнувшую створку, вдохнул запах нафталина, нашел жестяную коробку, достал оттуда часы с фосфоресцирующими каплями на циферблате и остриях стрелок. Ничего, что без ремешка. А откуда они у меня? Неприятный задался сам собой вопрос. Брат, наверное, подарил, с неотчетливым сарказмом подумал подполковник и затрусил к кровати.
Все хронометрические переживания и надежды оказались, конечно, напрасны. Сна не прибавилось. Раздраженная бессонница захватывала новые территории. А время выжидало. Выйдя на грань отчаяния, Леонтий Петрович вдруг рассмотрел вдалеке спасительный выход. Ведь совершенно необязательно ждать Петриченку с его дурацкой машиной. Можно же отправиться на дачу на электричке! Ведь уже почти четыре часа. Более того, уже четыре часа две минуты.
Леонтий Петрович стал торопливо одеваться.
Отправившись бриться, он сделал еще одно взбадривающее открытие. Рассматривая свою физиономию в зеркале, он пришел к выводу, что ему не следует бояться, что собственное отражение может по совместительству работать привидением Игнатия. Капитан умер молодым, и эта красноносая обветренная личина в мутном стекле не может иметь к нему никакого отношения.
Во сколько может отправляться первая электричка? В пять? в полшестого? Как добраться до вокзала?
На некоторое время эти мелкие бытовые размышления отвлекли старика от его глобального отчаяния: так примерно хлопоты по устройству поминок смягчают нам ужас потери родственника.
Но только уселся Леонтий Петрович на когда-то изрезанное и кое-как заштопанное дерматиновое сиденье в прохладном грязноватом вагоне, как все прежнее накатило на него с новой силой. Как будто угрызения совести тоже отдохнули.
По-утреннему гулко грохоча, поскрипывая, вытаскивая колеса из переплетения свивающихся и развивающихся путей, поезд повлекся в нужном направлении. Измученный, красноносый, несчастный старик в самом углу вагона с отвращением рассматривал вид за окном. Бледно-серое, покрытое изморосью утро.
Путь подполковнику предстоял недальний. Каких-нибудь сорок минут. Народу в вагоне было мало, и вели себя пассажиры так, словно понимали, что Леонтию Петровичу нужно побыть одному. Ни одного лица, только затылки. Ни один омерзительный газетчик, ни один невыносимый беженец не осквернил своим вторжением передвижной храм одинокого отчаяния.
Почти благодарностью мог бы проникнуться подполковник к такому поведению окружающей жизни, если бы имел силы задуматься над этим поведением. Он просто ехал, загипнотизированный одним мучительно разветвленным вопросом. За что ему все это? Чего от него хотят? Почему нелюбимый сын оказался такой гадиной? На кого оставить страну, если не только эти, с бритыми затылками, но и очкастые аспиранты-историки — подлецы? И что делать с братом, зашевелившимся на том свете? Может быть, он и имеет какое-то право на что-то. Но не отдавать же ему все только из уважения к тому, что он отдал богу душу. И богу ли! И опять все сначала. Клубок шипящих вопросов не переставал шевелиться в сознании. Леонтий Петрович сдавливал виски ладонями, а после прятал в них глаза.
Вдруг кто-то отвратительно разодрал на две половины дверь в дальнем конце вагона. Две неприятные личности вошли внутрь. Подозрительные. Вернее, даже не подозрительные, а подозрительно посматривающие.
Что ему надо, что?! — тихонько, фактически бесшумно ныл подполковник, сам при этом не зная, к кому он обращается: к сыну или к брату. А ведь они негодяи, с усилием подумал Леонтий Петрович. С таким усилием ящерица отламывает свой хвост, уходя от погони. Сынок наверняка заявит: сам во всем виноват! Чего, мол, бросал жену-супружницу? А брат? А он вообще гад! Он скажет, что не просто обобран, но еще и убит.
— Ваш билет!
Леонтий Петрович, разумеется, не понял, что нужно двум похмельным мужикам в одной фуражке с черным околышем на двоих и с круглой железякой в грязной подрагивающей руке.
Двум подгулявшим контролерам необходимо было похмелиться, и они вышли на раннюю охоту, рассчитывая быстренько настрелять деньжат на две пары пива. Если берешь с нарушителя полштрафа, он не требует квитанции.
— Билетик ваш, — вкрадчиво дыша перегаром, сказал тот, что был в фуражке. Оба уже профессиональным нюхом уловили, что, несмотря на благопристойный вид, престарелый пассажир не владеет проездным документом. Они даже успели порадоваться тому, что он так удобно сидит — в стороне ото всех, готовый подвергнуться вымогательству.
— Платите штраф.
Подполковник продолжал молча на них таращиться, как св. Антоний на свои видения.
— Ладно, — сказал владелец жетона, — гони пятеру, отец, и путь свободен.
— Почему? — вдруг заинтересовался таким поворотом Леонтий Петрович.
Похмельные парни немного растерялись и заволновались за судьбу «пятеры».
— Чтобы без квитка тебя отпустить, — голос контролера сделался заговорщицким, — за полцены. Понимаешь? Мы же не звери. Пенсионер небось, порядочный человек.
— Кто, я?
— Не я же, — гоготнул человек с жетоном.
— Я хороший человек? — шипел Леонтий Петрович, — да ты знаешь, молокосос, что я вот этими самыми руками…
Через несколько секунд редкие и сонные пассажиры первой электрички стали свидетелями малопонятной сцены. По проходу между сиденьями вслед за двумя молодыми людьми, которые всем своим небритым видом старались показать, что ничего особенного не происходит, бежал прилично одетый старик и рыдающим голосом повествовал о событиях отдаленной военной поры. Старик нисколько не был похож на инвалида-попрошайку, требующего к себе внимания ввиду своих давнишних подвигов. Внимания и жалости. Наоборот, этот ветеран утверждал, что он был зверь на войне, не жалел немцев, не видя в них людей, и особенно напирал на историю о какой-то белотелой и прямодушной немке, застреленной им якобы за невозможные антиоккупационные речи. «Из парабеллума, парабеллума, парабеллума!»
Эту историю он, все рьянее рыдая, изложил раза три. Каждый новый вариант, взбираясь по спирали стариковского воображения, становился все более жгучим в сравнении с предыдущим. Обрастал жуткими подробностями. Рассказчик возводил на себя все более немыслимые обвинения.
Контролеры убыстряли темп своего бегства, матерясь вполголоса, искренне и справедливо недоумевая, что это за жизнь пошла такая, кругом одни психи! Стоит в рассуждении пятеры подойти к совершенно безобидному старичку, как проваливаешься в историю с опасным сумасшествием на дне. В речи старика они не вслушивались и были не в состоянии оценить нравственный их пафос. И даже той смелой, прямодушной немки не было жалко, несмотря на всю ее белотелость. Что касается других, неподвижных пассажиров, у них было еще меньше шансов адекватно воспринять произносимый текст, ибо ни одному вагону он не достался целиком, ибо был длиннее любого из вагонов. Некоторые особенно яркие тирады и воскликновения тратились на межвагонные грохочущие переходы, гибли в заплеванных тамбурах.
Наконец беглые контролеры поняли, что отделаться от шумно исповедующегося «зайца» бегством они не смогут. Тогда они подгадали момент, когда поезд затормозил возле очередной пустынной платформы, и попытались как раз настигшего их запыхавшегося дурака выкинуть вон. Но ничего не получилось. Леонтий Петрович схватил цепкими пальцами форменный рукав и выпал на платформу с одним из контролеров. Второму ничего не оставалось, как, матерясь, выскочить следом. Двери вагона закрылись, и поезд с торжествующим шумом начал набирать ход.
— Ах ты сука! — крикнул контролер, лежащий на подполковнике, и легко было догадаться, что это заявление относится не к поезду. Через несколько секунд взбешенные молодые люди вдвоем и наперегонки били отвратительного прилипчивого дедка. Но, слава богу, им удалось нанести ему всего лишь несколько ударов. Оказывается, на платформе оказались, и совсем неподалеку, Бухов с Русецким. Они не могли позволить, чтобы над их педагогом позволили себе измываться какие-то похмельные хмыри.
Несколько профессиональных движений — и парни в неполной униформе остались лежать возле деревянной скамейки на перроне, все сильнее удивляясь тому, чем оборачивается их сегодняшняя предприимчивость.
Леонтий Петрович пришел в себя под покосившейся липой. Он был усажен на холодный камень в тылу киоска, тоскливо пахнущего мочой. Вокруг валялся мусор, обычно сопровождающий места народных выпивок. Над учителем наклонялись его ученики, вид у них был одновременно и озабоченный, и недружелюбный. Скоро выяснилось, почему.
— Ну, как голова? — просипел Русецкий и вытащил из кармана пачку сигарет. Вопрос в первую очередь коснулся головы, потому что на ней было много следов обувного происхождения. А она, голова учителя, была сегодня особенно ценна для Бухова с Русецким. И не потому, что являлась кладезью житейской и педагогической мудрости. Ею Леонтий Петрович должен был вспомнить что-то чрезвычайно для них важное.
— Болит, — поморщился и вздохнул Леонтий Петрович, — болит, Боря.
— А меня как зовут? — спросил Бухов.
Подполковник снова поморщился и снова вздохнул.
— Саня.
— А Рома где? — вкрадчиво прошептал Боря.
Леонтий Петрович медленно пожал плечами.
— Не нашел. К сыну еду.
Бухов тупо потер лоб, силясь что-то сообразить.
— Он ваш, что ли, сын?
— Кто? — искренне не понял, о чем идет речь, подполковник.
— Ну, Банан, Банан! — зло пояснил Русецкий, — ну, Ромка, он правда ваш сын?
— Рома? — Леонтий Петрович улыбнулся, вспоминая, что об этом его спрашивают уже не первый раз, — мой сын Вася.
— Какой еще, блин, Вася! — зарычал Русецкий.
— Мы Рому ищем, Рому! — пытаясь оставаться человеком, говорил Саня Бухов.
— А Васю не ищете?
— Перестань, старый, перестань. Где Банан? Ну, Рома твой? Он нам репу парил, а ты ему помогал.
В результате дальнейших нервных разборок выяснилось, что три недели назад Банан (Рома) «свинтил» какой-то «общак» и очень здорово «замотал» след. Настолько хорошо, что догадались об этом буквально позавчера. Бухову с Русецким как бывшим дружкам Банана велено было в этом разобраться, а разобравшись — рассчитаться. Вот они и взяли под наблюдение квартиру своего учителя, уверенные, что он выведет их на потайное Романово логово. В особенно ядреных и совершенно невоспроизводимых словах и выражениях было изложено возмущение тем, с какой подлой ловкостью он, Леонтий Петрович, старый «кент», дурачил их целых десять дней. По их мнению, Банан на такие выдумки ни в коем случае не был способен. Но всему, даже самым хитрым хитростям, приходит конец, и теперь пора выкладывать все начистоту, а то будет очень, очень плохо ему, Леонтию Петровичу Мухину, их учителю.
Но никакие речи не могли рассеять серо-коричневый туман в голове подполковника. Он с трудом различал нависших над ним молодцов и абсолютно не понимал, о чем они с ним говорят. Даже прямые, более-менее человеческим языком выраженные угрозы не пронимали его. Старик трагически улыбался и непреднамеренно подмигивал. Они говорили ему, что у них нет выбора, что их самих прирежут, если они не найдут Романа, что он зря притворяется. Пусть не рассчитывает на то, что они когда-то его уважали; они не побоятся надавить ему на мошонку, если он будет продолжать в том же духе.
Леонтий Петрович понимал все меньше, и улыбка его становилась все шире и оскорбительнее. Наконец Русецкий, и в лучшие времена не отличавшийся выдержкой, угрожающе покашлял, встал с корточек и, сказав как-то особенно сипло: «Ах ты сука!» — ударил учителя кулаком в переносицу.
30
— Только знаете что, Евмен Исаевич, — кротко сказала Таня, наполняя чашку гостя из тонкогорлого кофейника.
— Что? — поинтересовался журналист, удобно развалившись в знакомом его спине плетеном кресле в углу не менее хорошо знакомой кухни. Могло показаться, что он немного подавлен. По крайней мере Тане именно так и казалось, и она была благодарна Евмену Исаевичу за мрачноватую сдержанность, за его полуотрешенную сосредоточенность и еще за что-то, что нельзя было обозначить по-общелюдски, а понять можно было только специальным женским способом.
— Так что вы мне хотели сказать, Таня?
На плите закипели шприцы. Кофейник стоял посреди расшитой салфетки. За окном чириканье одной птицы сменилось цвицвиканьем другой. Таня туманно улыбнулась то ли этим звуковым фокусам, то ли своим мыслям.
— Мне никак не удается понять, зачем Вася написал папе это последнее письмо. На машинке.
Евмен Исаевич повел плечами. Что-то хрустнуло в конструкции пиджака от этого движения.
— Знаете, Таня, ваш брат этого письма не писал.
Лицо девушки сделалось сначала настороженным, а потом и испуганным.
— Это письмо написал я.
Таня не произнесла ни звука и сидела так, словно боялась спугнуть надежду на то, что гость шутит.
— Вы не хотите спросить, почему я это сделал? — сын историка снял очки и помассировал глаза. — Собственно, письмо — это уже конец истории. И когда бы вы знали предысторию, то не удивлялись бы сейчас моему признанию. Вы очень побледнели, Таня, может быть, воды? Почему вы не отвечаете? Вы вообще слышите меня или нет?
— Слышу. И воды не надо. Лучше расскажите.
Евмен Исаевич снова помассировал глаза.
— У меня тоже есть отец. И когда-то очень хорошо был знаком с вашим. Это было давно, в начале пятидесятых, когда не только вас, но и меня не было на свете.
— Они были друзья?
— Навряд ли. Ваш батюшка тогда работал следователем в карагандинском НКВД, или как это тогда называлось. Ваш отец некоторое время вел дело моего отца.
— Папу давно уволили.
— Я это знаю. Я многое теперь знаю о нем. Знаю я также, что в последнее время он тщательно скрывал факт службы в органах. Причем сам поверил в то, что не имеет никакого отношения к казахстанским лагерям, что прошел всю войну от звонка до звонка. Он, а не брат его Игнатий Петрович.
— Это болезнь?
— Разумеется, это не вполне нормально. Может быть, это искреннее раскаяние в содеянном прежде приняло такую форму.
— Наверное.
— Мой отец много о нем рассказывал. Первый следователь — это как первая любовь, он врезается в память на всю жизнь. Странно, что отец и мне сумел вживить в мозг образ лейтенанта Мухина. Я навсегда запомнил эту фамилию. И держал, оказывается, не в недрах памяти, а очень близко к поверхности.
— Он что, бил вашего папу?
— Не сильней, чем это было в среднем принято. И вот когда Леонтий Петрович появился у меня в редакции в военной форме, я узнал его. Он только чуть постарел, и звездочки разрослись. Узнал я его, конечно, не сразу и не на сто процентов. Чтобы разрешить свои сомнения, я попросил своих ребят сфотографировать его скрытой камерой. Получив фотографию, я бросился в Самару. Мой отец живет теперь там.
— И он узнал?
— Он-то узнал сразу. И без всяких сомнений. Несмотря на то, что прошло больше тридцати лет.
— И что он сказал?
— Что тут можно сказать? За валидол схватился. Просил меня, чтобы я не вздумал вредить этому человеку. Столько лет прошло. Я очень люблю своего отца. Он воспитывал меня один. У нас было редчайшее взаимопонимание. Мы были друзья и братья — помимо того, что отец и сын. И вот когда я посмотрел на него — с валидолом, старого, жалкого, раздавленного тяжестью заново всплывших воспоминаний, — мне захотелось что-то сделать для него. Для начала надобно разобраться, решил я. Разобраться в этом диковатом деле. Вернувшись в Москву, я направился к подполковнику Мухину и предложил ему сотрудничество, мне необходимо было на легальном основании постоянно находиться рядом с ним. И знаете, уже тогда, во время первого разговора у него дома, мне почудилась некоторая ненормальность в его поведении.
— Папа всегда был очень здоровым человеком.
— Не знаю, что на это ответить. Здоровый человек, присваивая чужую судьбу, вел бы себя по-другому, подделал бы какие-нибудь документы, чтоб надежнее раствориться в новой жизни. Впрочем, у Леонтия Петровича не было такой возможности, ведь живы были родственники. Да и прегрешения его навряд ли были столь уж кровавы. Да и присвоил он всего лишь воспоминания своего брата о войне. Наверняка на три четверти присочиненные. На мой взгляд, он явно вышел за границы нормы, но поскольку во всех прочих отношениях он вел себя нормально и заглянуть ему в душу никто не стремился, некому было что-нибудь заподозрить. Когда же он почувствовал, что кто-то хочет вернуть к жизни память о его брате, он разом потерял внутреннюю устойчивость. У меня не было к нему настоящей злости. Даже в самом начале. Я втянулся в расследование и стал искренним союзником Леонтия Петровича. А письмо… я написал эту цидулу только с одной целью: довести дело до конца. В письме это все и объяснено. Я вставлял лист в машинку, подчиняясь своему представлению о гармонии.
— Понятно, — бесцветно произнесла Таня.
— Кстати, знаете, почему я частично перешел на сторону Леонтия Петровича?
— Почему? — еще более бесцветно спросила девушка.
— Потому что понял, что он подвергается нападению, издевательской атаке со стороны человека очень плохого…
— Не будем говорить о моем брате, — неожиданная твердость прорезалась в голосе Тани.
— Вы его очень любили?
— И люблю.
— И что говорят врачи?
— Выживет, но останется инвалидом.
Таня встала, подошла к плите и занялась там мелкой кухонной деятельностью. Переставила чашки, погремела крышкой от кастрюли.
Петриченко решил сменить тему разговора.
— А этот парень, из-за которого начался весь сыр-бор…
— Он гомосексуалист.
— Да-да, и его…
— Зарезали.
Петриченко покивал.
— Зарезали, правильно. За долги.
Таня вздохнула.
— Вам что, и его жалко, святая душа?
— Ну как же…
— После того, как он продержал вас двое суток под замком? Вместе с матерью? После того, как довел вашего брата до реанимации?
Таня опять вздохнула.
— Если бы не вы, Евмен Исаевич, Васи бы уже не было в живых. А что с мамой было бы, и не знаю.
Журналист с видом человека, которого заслуженно, но чрезмерно хвалят, допил кофе.
— Не надо так говорить.
— Это же правда.
— Я должен был сообразить еще утром в понедельник, что мне необходимо мчаться сюда. Василий Леонтьевич двое суток провел без инъекции, фактически он был в коме. И если произошли необратимые изменения…
— Но вы же разыскивали папу.
— Да, пришлось поднять на ноги пол-Москвы. Но и тут я скорее искупал свою вину, чем совершают добрый поступок.
Широко открытые глаза Тани.
— Почему?
— Нельзя мне было оставлять его в тот вечер. Нужно было догадаться, что он не дождется меня и рано утром помчится на дачу выяснять отношения с сыном. А поскольку он весьма-весьма не в себе пребывал, то и стал добычей утренних бандюг.
Таня отошла от плиты и остановилась у окна с сухим букетом. Там она занялась своими плачущими помимо воли глазами.
Раздался звонок в калитку.
— Кто-то приехал, — сказал журналист.
Таня продолжала тихо размачивать в слезах свой носовой платок.
— Кто-то приехал, Таня. Не плачьте, что они подумают?
— У меня горе, вот я и плачу.
— Пойду впущу.
Приехали те, кого ждали, но не хотели видеть.
Анастасия Платоновна вошла на кухню, всем своим видом спрашивая: «Ну и что все это значит?» Следом появился Георгий Георгиевич, он имел немало неприятных приключений в этом доме и поэтому чувствовал себя неуютно.
Евмен Исаевич теребил ус в ожидании развития событий.
— Здравствуйте, — сказала Татьяна, моргая красными, но уже сухими глазами.
Анастасия Платоновна только кивнула в ответ. Обошла кухню, взглянула в окно. Всем стало ясно, с каким вкусом она одета и как хорошо держится.
— Нам уже прислали извещение. Официальное. Там сказано — месяц, но мы съедем раньше.
— Зачем же раньше? — немного про себя проговорила бывшая хозяйка дачи. — Послушайте, Таня, вы мне не покажете эту… ну, «клетку». Мы, собственно, ради этого и приехали сюда.
Таня на мгновение задержалась с ответом, и Анастасия Платоновна заговорила снова:
— Скажите, а это правда?
— Что именно?
— Что его нашли именно так вот, в клетке, а?
— Правда, — выступил на первый план журналист, — и нашел я. После того, как я разыскал Леонтия Петровича и отвез в больницу, потянуло меня сюда. Ворота были не заперты. Первый осмотр я провел небрежно, наспех, и никого не обнаружил. Тогда я к сторожке. Там находилась Таня с матерью. Обе связаны. И кляпы.
— Ну, кино, — тихо хмыкнул модельер.
— Их связал Роман, перед тем как…
— Понятно, понятно, — кивнула Анастасия Платоновна.
— Сначала я освободил их, растер конечности водкой, перенес на кухню, и тогда уж, в поисках лекарств, обнаружил… Пойдемте, покажу.
Все, кроме Тани, из кухни прошли к темной комнате с узким дверным проемом. С момента прошлого описания она превратилась в камеру с грубо сработанной решеткой.
— Такую нетрудно расшатать, — сказал Георгий Георгиевич с видом знатока, потрогав железные прутья.
— Не слишком легко, но в принципе можно. Но вы должны учесть две вещи: я поработал ломиком, чтобы вытащить пленника. И еще то должны учесть, что пленник этот был связан.
Анастасия Платоновна тоже потрогала железные путы своего прежнего мужа.
— Надо отдать должное Васечке, он незаурядный педагог. Он сумел заставить даже такого ученичка, как этот… усвоить кое-какие уроки. Надо понимать, что таким способом этот шалый бандит отомстил за пережитые унижения своему гуру. Успел усвоить из его бесед, что наибольшее удовлетворение приносит эстетически обставленная месть.
— Какая же тут эстетика, Насть, — поморщился Георгий Георгиевич, снова прикасаясь к раскуроченной решетке.
Анастасия Платоновна посмотрела на него с плохо скрываемым раздражением.
Журналист пожал толстыми плечами и пошевелил толстыми губами. Он чувствовал, что звезда подиума что-то недоговаривает, и страдал, не смея спросить, что именно.
— Кроме того — ревность, — сказала Анастасия Платоновна.
— Ревность?! — модельер брезгливо фыркнул.
— Ну, помните: мы в ответе за тех, кого приручили.
— То есть? — переспросил опять не все понявший журналист.
— Когда приручаешь что-нибудь мелкое, мышь, то, предавая ее, не навлечешь на себя других последствий, кроме переживаний морального характера. Но когда приручаешь такого монстра…
— Что вы понимаете под словом «приручил»? То, что спал с ним?
— А ну вас к черту. Ре-пор-тер, — зло сказала Анастасия Платоновна.
Снова все собрались на кухне. «Ре-пор-тер» явился последним и смущенным.
Анастасия Платоновна разговаривала с Таней. Они собирались навестить сторожку.
— Сейчас, сейчас, я только подготовлю шприц.
— Не надо торопиться, я подожду, — поощрительно улыбнулась хозяйка дачи, — Георгий Георгиевич, хотите пойти с нами?
— Нет, нет, я уже видел, — с неделикатной торопливостью отказался тот и полез в карман за куревом.
Через минуту оставшиеся на кухне мужчины наблюдали сквозь залитую солнцем призму застекленной веранды, как Таня и Анастасия Платоновна идут по щиколотку в траве к подразумевающейся в глубине зарослей сторожке.
— Бедная девочка, — сказал модельер, отделавшись от первой порции дыма, — брат при смерти, отец в больнице.
— Нет, отец здесь!
— Здесь?
— Он слегка повернулся в смысле психики, но тихо. Рекомендован семейный уход.
— Какой же уход? Ведь маман, насколько я понимаю…
— Вы понимаете настолько, насколько нужно. Но она, старуха, счастлива. Она уверена, что к ней вернулся ее любимый муж-фронтовик, храбрец, герой. А ему только того и надо, чтобы его считали настоящим фронтовиком, прошедшим все поля сражений с высоко поднятой головой.
— Что значит «считали»?
— А, вы этого еще не знаете? Выдумал себе биографию, старый козел. Даже не выдумал, у брата украл, а сам всю войну служил охранником в лагерях, а потом выучился на следователя. Судя по рассказам отца, редкостная был гадина. Мастер, большой мастер своего дела.
— У каждого мастера своя Маргарита, — тихо сказал кутюрье, блеснув одновременно и начитанностью, и ироничностью.
31
Дня через три, в час небесно-тихого подмосковного заката, можно было наблюдать на бывшей даче генерала советской металлургии идиллию. В чистенько убранной сторожке сидели рядком-ладком на панцирной кровати, застеленной байковым одеялом, старик со старухой. Бабочка порхала вокруг соломенного абажура. На стене в аккуратных рамочках — несколько фронтовых фотографий и бумажная жалкая иконка на самодельной полочке.
Старуха прижимала голову безмолвного старика к высохшей груди, осторожно плакала и напевала мелодично, но конспиративно: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой».
На веранде сидела их младшая дочь, тусклая настольная лампа освещала поверхность стола, покрытую чистенькой скатертью и множеством скомканных листков бумаги из детской тетради в клеточку.
Таня сидела, обхватив голову руками, а на листке, который лежал перед нею, читалось:
Евмен Исаевич,
Я вас люблю, чего же…
Собака — враг человека
1
Вот парк таинственный и мрачный, вот кленов облетевших ряд, и на ветвях ветлы невзрачной листы последние горят. Плывет семейство тихих уток по глади темного пруда, и воздух кисловат и чуток, и сотрясается, когда из-за стены высоких елей, от мест общественной гульбы несутся визги каруселей и стоны духовой трубы. Но запахи листвы сгоревшей, и стайки скучных бегунов, и этот ритм надоевший…
— Хватит!
— Чего хватит?
— Ныть. Ныть хватит.
— Я не ною.
— Тогда ты скулишь.
— Как собака?
— Как.
Они пересекли асфальтированную аллею и углубились в заросли.
— Теперь тихо. Эта куча где-то совсем рядом.
Они шли медленно, осторожно раздвигая полуголые влажные ветки, оглядываясь и принюхиваясь. Они пробирались по замусоренному сырому подлеску, они подкрадывались. Молодые люди, а может, юноши. Еще не парни, но и не мальчики. Таким уже выдают паспорта, но еще не берут в армию.
Тот, что шел сзади, с тусклым хрустом наступил на пластиковую бутылку и замер с открытым ртом и виновато выпученными глазами. Первый резко обернулся к нему. Глаза у него тоже были выпучены, от ярости. Кулаки сжаты. К потному лбу прилипла русая прядь.
Заросли не отреагировали на проступок ведомого.
Сзади доносилось отдаленное уханье духового оркестра.
Слева неразмеренное щелканье — старики за деревьями на площадке возле шахматного клуба забивают козла.
Первый юноша присел, опершись рыжими перчатками на лиственный настил, и начал медленно поворачиваться на пятках, прижимая взгляд к земле. Второй сделал то же самое, хотя явно не понимал, зачем это нужно.
— Что ты делаешь, Диня?
Диня поморщился и сердито прошептал:
— Мы уже близко. Ихняя куча вон там. Метров пятьдесят от тех столов.
Ведомого ответ не полностью удовлетворил. К тому же у него затекли ноги. Он встал. Диня тоже встал и скомандовал:
— Пошли.
— Слушай, а почему ты думаешь, что они здесь так и сидят? Со вчерашнего дня.
Подвижная курносая физиономия Дини (полное имя Денис Зацепин) снова сморщилась, рот растянулся, обнажая мелкие редкие зубы.
— А какого черта мы разбрасывали здесь все те кости. Килограмм пять? А до этого я три дня подряд тут встречал.
— А если…
Увидев перед своим мягким, туфлеобразным носом кожаный кулак, сомневающийся замолчал и покорно двинулся за самоуверенным.
Одноэтажное плоское здание шахматного клуба осталось по левую руку. У входа в него толпились пять-шесть покуривающих мужчин завсегдатайского вида. На неровной земляной площадке перед клубом было беспорядочно вкопано несколько десятков квадратных железных столиков. Треть из них была занята или шайками говорливых доминошников, или парочками блицующих шахматистов.
Денис с неуверенным в себе приятелем по имени Руслан Бахно взяли вправо от мест интеллектуального развлечения, туда, где за кучей техногенного мусора имелась большая куча листьев, несшая на себе следы нескольких попыток ее сжечь. На этой куче…
— Ничего нет, — то ли удивленно, то ли удовлетворенно сказал Руслан.
— Сам, что ли, не вижу!
— Может, они убежали?
— Нам же хуже.
— Почему?
Денис обернулся к приятелю, который уже и сам понял, что сказал глупость. Его левое плечо, всегда висевшее ниже правого, опало совсем.
— Что ты на меня так смотришь?
— Слушай, Руслан, ты что, все забыл?
— Ничего я не забыл.
— Значит, понимаешь, что мы должны их найти. Может быть, мы их и не грохнули. Стреляли, стреляли да не попали.
— Это я стрелял. Один.
— Стрелял.
— И все три раза попал. Ты сам видел. Все три раза попал. Видел?
— Видеть-то я видел, а, может, не подействовало? Поэтому пошли посмотрим.
Они начали медленно приближаться к лиственнице.
— Динь, слышь, а она больше стала.
— Кто?
— Куча.
— Утром подметали в парке и все сюда. Ни на куче, ни за кучей ничего обнаружить не удалось.
— Давай разделимся и посмотрим вокруг.
— Зачем разделимся?
— Опять ноешь, Руслик?
— Не ною я. И не потому что боюсь. Чтобы точно все определить, надо быть вдвоем.
— Почему это?
— Да потому. Там, возле шашлычной, помнишь, я видел одну. Очень похожа, как будто с этой кучи. Бегает. Проснулась и бегает.
— Что-то не видел я.
— Ну, вот видишь! — Руслан всплеснул длинными, не совсем одинаковыми руками, — если бы ты не пошел за пивом, то мы бы уже точно знали, что пуля действует как надо.
— Что, мне теперь и на толчок отлучиться нельзя, да? — огрызнулся Денис. — Ладно, хватит базарить. Пуля была не одна. Ты направо, я налево. Но чтобы из глаз не пропадать. Если что, свисти.
— Я не умею свистеть.
Денис иронически хмыкнул.
— Стрелять умеешь, а свистеть нет?
— Папа говорил, что стреляют мужчины, а свистят воры.
— А где он теперь, твой папаня, ищи-свищи.
— Не надо так.
— Да хрен с тобой. Выполняй команду.
Минут десять они бродили, пригибаясь и замирая, вокруг свалки, осторожно пиная грязные прошлогодние бутылки, рваные полиэтиленовые пакеты и мятые пачки из-под сигарет и соков. Поиски успехом не увенчались.
Воссоединившись, юноши закурили.
Руслан зажег спичку, а Денис затянулся дымом. Затянулся и сказал, косясь на лиственную кучу:
— Придется разгребать.
— Да? — без тени энтузиазма в голосе спросил Руслан. — А как же иначе? Если мы этих тварей не отыщем, непонятно, зачем мы всю эту глинку замешивали.
— А та собака?
— Возле шашлычной? Даже если я тебе поверю, что именно ей ты всадил из первой пробирки, что это дает?
— Как то есть?
— Да так. О том, что в них снотворное, мы и так знали. Папаня мой об этом даже по телевизору говорил, как оно на носорогов действует и всякое такое. Наш эксперимент другой, зачем нужны три разных пробирки и чем они по своему действию друг от друга отличаются.
Руслан тоскливо кивал, осторожно шмыгал правой ноздрей и покусывал верхнюю губу.
— Сам же видел, — снова затянулся Денис дешевым дымом, — там было три маркировки.
— Три.
— Ну, если три, тогда пошли, Руслик.
— За что ты их так ненавидишь?
— И всегда ненавидел. И не только их. И кошек, и тритонов, и сусликов, и попугаев. Они у нас всегда дохли, — Денис отвратительно, не по-детски хихикнул, — а отец все никак не мог понять почему. Ему было очень досадно: в доме биолога не уживается никакая живность. Поэтому у нас дома и на даче столько чучел.
— Чучело не отравишь.
— Правильно, Руслик, правильно. Отец думал, что у нас квартира какая-нибудь неэкологическая, что семейные скандалы плохо на зверушек действуют. А это я им подсыпал несъедобненького.
— А Александр Петрович не догадывался, совсем?
Денис акцентированно сплюнул окурок себе под ноги и снова неприятно засмеялся.
— Со временем догадался, конечно. Он же их вскрывал. Ученый. Любознательность. Пошли.
— И что, он тебя наказал?
— Нет, просто сказал, что я животное. И стал надолго холоден. Не логично, согласись. Выяснив, что я животное, он должен был бы полюбить меня сильнее.
— Ему было очень обидно.
— А мне? Я на лестнице эволюции стою выше любой, даже самой породистой зверушки. Возьми вот эту палку.
— Зачем? Они ведь мертвые.
— Не руками же листья разгребать.
Стоило им отвалить поверхностные слежавшиеся пласты, ноздри окутал тяжелый, сложный аромат. При входе в парк перед ними мелькнула ветреная тень его, теперь стало понятно, откуда она родом. Запах был столь сильный, что щипал глаза.
— А после того как он узнал все, ты перестал их травить? Я имею в виду зверушек.
— Но ненавидеть не перестал, и теперь, можешь считать так, мщу им за свое искалеченное детство, за то…
— Смотри!
Денис быстро обогнул кучу и посмотрел, куда указывает палка Руслана.
— Что это, Диня?
Облизав внезапно пересохшие губы, Денис сказал:
— Челюсти. Чего стоишь, разгребай дальше.
— Зачем?
— Нам нужна вся собака.
Вскоре вся она, кудлатая, вислоухая, с огромными черными сосками сука, предстала перед ними. В лежачем положении она немного напоминала римскую волчицу, но парням с палками это вряд ли пришло в голову.
— Лошадиная доза, — сказал Руслан.
— Правильно, и теперь мы знаем, что от лошадиной дозы собака подыхает не более чем через двенадцать часов. Смотри, клыки какие, оскалилась. Кого-то перед смертью хотела цапануть. Собака!
— Ты не знаешь кого? — мрачно шмыгнул носом Руслан.
Денис бодро хохотнул.
— Ладно, полдела сделано, но осталась вторая половина, самая неприятная.
— Да, теперь крайние реакции нам известны. Сон и смерть. А вот что в промежутке?
— Будем рыть дальше, — Денис потыкал палкой собачье вымя, — не, точно дохлая.
Разрушение кучи продолжилось. Старатели все чаще чихали и морщились. В пробуждаемых их усилиями ароматах было все меньше лирически осеннего и все больше безвозвратно-гнилостного.
— Перекур, — отплевываясь, сказал Денис. Руслан забросил за спину конец шарфа и полез за спичками. Палку свою он держал под мышкой на весу, палка Дениса была прислонена к сосне. То есть ни та, ни другая не соприкасались с кучей. Но она не перестала шевелиться. Какое-то движение нарастало в ее рыхлой толще. Юннаты сделали, не сговариваясь, по шагу назад, одновременно поворачиваясь лицом к очагу необъяснимого движения и беря наизготовку кривые разгребатели. Даже зная, к чему примерно готовиться, покрылись они мгновенно ледяными муравьями и ощутили шевеление волос.
Куча сотрясалась, как густая тропическая крона, сквозь которую пробирается к солнцу громадная, недовольная своей участью обезьяна.
Событие дольше описывается, чем происходило.
Расшвыряв последние препятствующие листья и ветки, одновременно отфыркиваясь и рыча, появилась из кучи тупорылая голова с бессмысленными глазами и пастью, полной пены. Замерла. Втянула густосопливыми ноздрями воздух, повела глазами. Ничего не увидела. Ненаправленно, но страшно прорычала и стала выпирать наружу, бешено работая лапами.
Пытливые юноши сделали еще по шагу назад, держа свои палки на манер рогатин.
Собака выбралась полностью из мусорной берлоги и замерла, неестественно широко расставив лапы. Снова задвигала головой, ощущая, видимо, острую потребность что-то увидеть и укусить.
— Ну, ты, — негромко и неприязненно сказал Денис, не желая, чтобы первым был увиден он. Несмотря на сказанное, пес свое проясняющееся внимание остановил именно на нем. Муть в глазах животного наполнилась угрожающим содержанием. С отвалившейся нижней челюсти на листья упало несколько ошметков теплой пены.
— Давай уйдем, — разумно предложил Руслан.
— Давай, — легко согласился Денис. Они начали отступать. И тут построительница сюжетов, недовольная столь простым разрешением события, подложила под правую пятку Дениса сломанную березку. Денис, естественно, рухнул на спину. Лиственная тварь, казалось, только этого и ждала. С мрачным храпом ринулась она вперед и вцепилась в ногу лежащего. Лежащий одновременно заверещал и заныл.
Не от боли. Спросонья тяжкого зверь не вполне владел челюстями и поэтому жертвою его стала лишь ткань штанины.
Денис забросил за спину обе руки, демонстрируя баттерфляй на спине, схватился за какие-то кусты и попытался удалиться со сцены. Американская ткань затрещала, но не поддалась. И если бы не дружеское участие, выразившееся в мощном ударе палкой по хребту бешеного пса, плохо бы пришлось идейному звероненавистнику.
Пока пес, разжав растерянно челюсти, соображал, в чем причина болей в позвоночнике, приятели успели отбежать метров на двадцать. Бежали они к людям, в сторону шахматного клуба.
У крайних столов они остановились, чтобы отдышаться. И оглядеться. И снова у них зашевелились волосы, когда услышали они тихое приближающееся рычание. Пес шел покачиваясь, как торпедный катер. Мощно и целенаправленно. Страх — увеличительное чувство, поэтому существо с белой пастью, бегущее к ним, показалось Денису и Руслану громадным. Громадным и неотвратимым. На самом деле это был черный, кряжистый, коротколапый пес, — неразложимая на породы смесь черт. Обычный собачий подлец, максимум на что способный, это уворовать кость, цапнуть исподтишка и отбежать.
Но в данной ситуации, налив безумием глаза, вздыбив все запасы шерсти, набрав полную пасть бешенства, он мог напугать кого угодно. Тем более уже отчасти покусанного Дениса.
Жуткие видения иногда обращают в бегство, иногда, наоборот, лишают способности к движению. Руслан покраснел и готов был бежать дальше и чувствовал, что способен убежать, а Денис, в другое время бесконечно превосходивший друга подвижностью, сейчас побледнел и окаменел. Отчаянно оглядывался на шахматистов и вновь возвращался к заячьему созерцанию мохнатого удава.
— Диня, Диня! — дергал его за рукав Руслан, уже уверенный в том, что ничего изменить нельзя. Сейчас этот подойдет и разорвет их в клочья.
Но Дениса спасли его сообразительность и изобретательность. В два шага — кирпич, лавка — вспрыгнул он на ближайший шахматный стол, навязав своими кроссовками досрочную ничью играющим дедкам. Два одинаково очкастых и возмущенных любителя ничего не успели сказать, потому что на край стола рухнула бешеная собачья голова и судорожно защелкала оскаленными челюстями. Шахматисты, перебирая ладонями по лавкам, ретировались на полусогнутых, и лишь отбежав, стали что-то кричать, тыча руками в сторону приплясывающего на шахматной доске парня и пса, который кружил вокруг него на задних лапах, передними царапая железо и заливая его обильною пеной.
Сообразив, что до Дениса ему не добраться, пес захлопнул пасть и огляделся.
Первым отреагировал на это движение Руслан, он запрыгнул на ближайший к нему стол и стал моститься на его середине, топча только что пойманную «рыбу». Многие правильно оценили такой способ борьбы с собачьим бешенством. Не столько кряхтя, сколько матерясь, стали забираться на лавки, а с них на столы.
Шахматная мысль в считанные секунды повысила свой уровень.
Тяжеловесы и ветераны затрусили к зданию шахматного клуба.
Когда подъехал милицейский «мерседес», глазам двух старлеев предстала картина, достойная хорошего фотохудожника. Полсотни мужиков по одному, по два стоят на одноногих железных подставках, испуганно переговариваясь, а меж ними бродит собака, выглядящая безумно, но победоносно.
2
Пора было засыпать могилу. Никита поднял ком земли и бросил вниз, тот с укромным грохотом разбился о крышку гроба. Рядом бесшумно осыпалась струйка песка, выпущенная рукой отчима. Это послужило сигналом копачам. Три лопаты одновременно впились в кучу серой небогатой земли. Начался искусственный обвал.
Никита развернулся и, ни на кого не глядя, пошел вон с кладбища. В этот яркий августовский день оно напоминало выставку цветов перед самым открытием.
Тихо, тепло, небо синее самого себя. Птахи в кронах древесных; невидимые, но старательные. Смерть делается как бы менее заметной.
Уверенно петляя по узкой тропинке меж могильными оградами, Никита быстро приближался к кладбищенским воротам. В тот момент, когда он решительно проходил под покосившейся перекладиной, Василий Андреевич Тетеркин, муж только что упокоенной Агафьи Тихоновны Добрыниной, с тихим воем повалился на земляной холмик и уткнулся в него лицом.
Сотрудницы районной библиотеки, сослуживицы Агафьи Тихоновны, поддерживавшие старика во время церемонии, молча стояли у него за спиной.
Никита быстро шел по плавно изгибающейся улочке в тихой липовой тени. Мимо двухэтажных домов — первый этаж оштукатурен и побелен, второй деревянный. Мимо вросшего в землю старинного здания, которое хотелось назвать лабазом.
Мимо маленького пустыря, напоминающего парад парусного флота из-за вечно развешанного здесь белья. Мимо церкви, загаженной и полуразрушенной, но с уже воздвигнутым на куполе крестом. Никита каждый раз, проходя мимо и прочитав на темной металлической табличке, как она называется, давал себе слово запомнить название, но так и не смог. Осталось в памяти только то, что она охраняется государством.
Может быть, это случалось потому, что сразу за церковью ему нужно было поворачивать направо. Там начинался старый уездный сад. Заброшенный, запущенный, но ни у одного начальника так и не поднялась рука вырубить выродившиеся груши и яблони. Непонятно, что тут можно было устроить взамен. Как все места, что не нужны взрослым, сад стал достоянием молодежи. Здесь теряли невинность все Калиновские девушки, здесь же происходили основные драки.
В глубине сада стояло одноэтажное здание из красного кирпича, до подоконника заросшее лопухами. Здание механических мастерских здешнего сельхозтехникума. Почему-то техникум бежал отсюда, бросив многочисленные железки. Сам собою образовался в сердце сада атлетический клуб, кузница бандитских кадров для всей среднерусской возвышенности. Был момент, когда местные администраторы, осознав размеры явления, попытались наложить запрет на культуристские увеселения, но встретили такое сопротивление, что наложили в штаны. С тем, что нельзя победить, приходится сосуществовать — в таком латинском стиле выразился мэр города и вскоре умер. Следующий на эту тему вообще предпочитал не говорить.
Никита толкнул входную дверь.
Притворявшийся спящим верзила в кресле у входа приоткрыл глаз, но не пошевелился.
Никита миновал предбанник и вошел в тренировочный зал.
Надо заметить, что Калиновские качки, захватив мехмастерские, не отнеслись пренебрежительно к брошенному здесь оборудованию, не стали вышвыривать его на свалку. Наоборот. Проявляя свойственную нашему народу смекалку, они почти все преданное техникумом железо превратили в нечто полезное для тела и времяпрепровождения.
Стоя в дверях, Никита наблюдал, как, поблескивая, вертелись коленчатые валы, неутомимо вращались втулки.
Он подошел к формовочному прессу, с помощью которого черноволосый, сосредоточенный богатырь выполнял движения столь замысловатые, что, существуй на свете общество охраны станков, оно имело бы все основания для вмешательства.
— Слышь, Сажа, — сказал Никита.
Сажа был главный здесь, в мастерских, и, стало быть, в саду, отчего сын библиотекарши дал ему свою кличку: Маркиз де Сад.
Упражняющийся неохотно оторвался от снаряда, промокнул махровыми напульсниками густые как липучка брови. Не торопясь осмотрел Никиту, словно вспоминая все, за что тот должен быть ему благодарен.
— Похоронил?
Никита кивнул.
— Уезжаешь?
Снова Никита кивнул.
— Скажи Рамизу, что я велел дать тебе денег.
— Не надо.
Сажа еще раз промокнул брови.
— Как хочешь, — равнодушно сказал бандит, после чего опять сцепился с прессом.
Никита покинул зал. Примерно таким же извилистым путем, которым давеча покинул кладбище. Трудно было что-то определить по его внешнему виду, но на самом деле он был удовлетворен беседою с начальством.
Теперь предстояла беседа неприятная.
Стол для поминок накрывали в саду, между дровяным сараем и двумя старыми вишнями. Возле него хлопотали Антонина Прохоровна и Марина Марковна, как и покойница, библиотекарши. О них сказать нечего, достаточно имени-отчества.
Когда Никита хлопнул калиткой, они замерли, даже перестали размахивать полотенцами в адрес мух и ос. Они сделали вид, что прикидывают, удачно ли расставлены закуски. Им не хотелось смотреть в сторону Агашиного сына. Если бы их спросили — почему, они долго бы не смогли ответить.
Никиту их мнение не интересовало. Он поднялся на крыльцо, открыл дверь на веранду, там еще две материны подружки имели место. Возле плиты. Их имена нет смысла называть, они не понадобятся далее в этом рассказе. Да и Никита не посмотрел в их сторону.
Вот и комната. Тихо, чисто, скучно. Тускло отсвечивают крашеные половицы, чуть ярче железная спинка кровати. В зеркале шифоньера виновато отражается пирамида подушек под кружевной накидкой такой неподвижности, будто она сделана из гипса.
Всех этих точных деталей не видел Никита Добрынин, потому что смотрел на человека. На Василия Андреевича Тетеркина. Лет шестидесяти пяти старичка. Лысоватого, с неуловимо обезьяньим выражением лица. Он стоял, покорно опустив руки и испуганно улыбаясь. В морщинах на лбу остались крошки земли. Он стоял так тихо, что, казалось, можно было услышать, как осыпается перхоть на его костюм. Костюм был впору, но как бы и великоват, не заслужен владельцем. На пиджаке вяло висели медали. Они раздражали пасынка больше всего. Василий Андреевич никогда на фронте не был, ему исполнилось восемнадцать после окончания войны.
Никитой отчим ощущался чем-то вроде воши. Полип-приживала, на старости своих бездарных годов заползший в семью, чтобы дожрать остаток болезненного века его матери. Похоронил свою визгливую старуху, похоронил мать, а теперь, небось, захочет, чтобы Агашин сынок начинал о нем заботиться.
Можно себе представить, какая внутри Никиты поднялась волна, когда обезьяньи губы проговорили:
— Вот так-то, сынок.
«Сынок» медленно осклабился, обнажая ровные, мощные зубы. Под бледной кожей щек промелькнули тени мгновенного румянца. Тренированные руки непроизвольно согнулись в локтях.
— Ключ, — сказал он.
— Что? — быстро и опасливо переспросил Василий Андреевич. И икнул.
— Ключ.
— А-а… — он стал сбивчиво рыться в карманах, таращась на «сынка» тусклыми глазками.
Ключ наконец явился. Отдавая его, Василий Андреевич хотел что-то сказать, но не успел, так и остался стоять с приоткрытым ртом, глядя, как Никита забирается под кровать, выволакивает на свет старинную деревянную укладку, распахивает ее и начинает нервно в ней рыться.
— Сынок…
Тряпки, куски бечевки, жестянки из-под халвы и леденцов, свечи, расшитые подушечки, сломанный будильник, открытки.
— Я что тебе скажу.
Связка писем, другая связка. Кому, от кого, Никита смотреть не стал, ибо обнаружил на дне в левом углу то, что было ему подсказано матерью — маленькую плоскую шкатулку. Металлическую, невзрачную, воткнул ключ. Он дал матери клятвенное обещание, что не поинтересуется ее содержанием до самой ее смерти. Не поинтересуется, если любит ее. Никита любил свою мать и уважал, поэтому обещание выполнил. Теперь он никому ничего не был должен.
— Погоди, — просипел Василий Андреевич, — погоди, я тебе объясню…
Шкатулка открылась, на дне, выстланном синим вытершимся бархатом, лежал листок бумаги. Никита прочитал, не вынимая листок из шкатулки: «Москва. Савелий Никитич Воронин».
— Москва, — прошептал Никита, поднимаясь с колен.
— Не Москва, сынок, не Москва, — бормотал отчим, схватившись обеими руками за грудь, — я все тебе объясню. Все не так. Не Савелий!
Не глядя в его сторону, Никита вышел в смежную комнату, звучно топая черными каблуками. Он вообще казался слишком крупным для этого дома, неумещающимся. Вышел и почти сразу вернулся с синей спортивного вида сумкой.
Увидев сумку на плече пасынка, Василий Андреевич убито опустился на табурет, продолжая хвататься за грудь и шепча свое прежнее, надоевшее:
— Сынок, все не так. Объясню.
Оглядевшись по сторонам (не забыл ли чего), Никита резко вдруг наклонился к нему и злобно прошептал в левый глаз:
— Какой я тебе «сынок»?!
Отчим жалобно захлопал глазами и жалобно, слезливо попросил:
— Не уезжай! Не делай этого! Бог тебя накажет!
В ответ Никита только дернул щекой и, круто обойдясь с дверью, вышел на веранду, туда, где готовилась поминальная закуска. Женщины, стоявшие у плиты, молча и внимательно глядели на него. Они слышали то, что произошло в комнате. Одна из них решилась на неприязненный вопрос.
— Ты что, впрямь уезжаешь?
Никита глянул на часы.
— Через час поезд.
— Подожди до завтра.
— Я не могу ждать до завтра.
— А поминки?
Никита прищурился.
— Она мне простит.
3
Только что закончилась очередная серия латиноамериканского сериала. Задыхаясь, поползли по лестницам пятиэтажки одинокие старухи, чтобы, собравшись на скамейке у подъезда, пересказать друг другу только что увиденное. Когда обмен мнениями был в самом разгаре, к скамейке подошел белобрысый юноша, прилично, хотя и по-современному одетый. Подошел и громко пропел:
— Здравствуйте, бабуленьки!
Бабки остолбенели. Совсем к другому типу общения с нынешними молодыми людьми они привыкли.
— Здравствуй, коли не шутишь, — сказала самая толстая и самая авторитетная старуха. Недоверчивость, смешанная с удовлетворением, звучала в ее голосе.
Денис Зацепин вытер несуществующий пот со лба и, картинно отдуваясь, уселся на край скамейки.
— Уф.
— Что с тобой? — спросила знающая жизнь толстуха, подмигивая одним глазом заинтригованным товаркам.
— Умаялся я, бабуленьки.
— С чего бы это?
— Перетрудился?
— За девками бегать устал?
— Или от школы?
Наперебой полезли с ироническими расспросами теряющие бдительность телезрительницы.
— Да нет, — мрачнея ответил Денис, — друга ищу.
— Друга?
— Ну да. Где-то здесь он живет. Сашей Петровым его зовут.
— Саша?
— Петров?
— Кажись, нету тут таких.
— Я точного адреса не знаю. Не запомнил. А надо его обязательно предупредить.
— Да что такое?
— Да контрольная. Он не знает, что завтра контрольная по математике. Если не подготовится… — Денис горестно махнул рукой, — не видать ему медали.
— А ты по телефону позвони.
— Пробовал. Неисправен он у них, видно. После третьей цифры идут гудки.
— Да-а…
Проникаясь драматизмом ситуации, старухи напрягали свои мозги, стараясь вспомнить хоть что-нибудь о попавшем в сложную ситуацию медалисте Петрове.
— Нет, нету тут такого.
— А может, примета какая, какой он?
— Какой, какой? — очень притворно задумался Денис, — а, вот — собака у него есть.
— Собака? Какая собака?
— Да здоровенная. И всех грызет. Породы не знаю, только он сам жаловался: стонут от нее все вокруг.
— Собака? Кусается? — старухи добросовестно отработали и эту версию.
— В третьем корпусе есть одна, — задумчиво сказала бабка, которую все знали под именем Ниловна, — только она…
— Что она? — оживился лучший друг Петрова Саши, — кусается? Воет по ночам?
— Цапает, конечно.
— Ну и что еще?
— Только маленькая она. Черненькая. Ушки торчком. За пятки норовит.
Денис разочарованно покачал головой.
— За пятки не совсем то. Не совсем.
— Ну, кусает это что. Укусила и пошла. Хуже, когда лает, — ввалилась в разговор авторитетная бабка.
— Собака лает, ветер носит, — выступила с народной мудростью востроносая карга в платочке.
— Очень ты понимаешь, Семеновна, — срезала ее толстуха, — мне вон как жаловался Толстиков. Он из оркестра, играет. И за стеной ее, собаку эту, слышит каждый божий день. Как хозяева уйдут, она в голос. И час может лаять и два. Волосы дыбом идут. Пробки в уши хоть вставляй. И вставляет.
— Помогает? — поинтересовалась глуховатая Ниловна.
— Лает, говорите? — спросил Денис.
— Страсть как. Нет никакой жизни.
— Собака лает, ветер носит, — стояла на своем Семеновна.
— А где, вы говорите, проживает эта собачка? — вкрадчиво спросил Денис.
— Где, где, за тем домом дом стоит. В том подъезде, что ближе к мусорным бакам, она и проживает.
— Спасибо, бабуленьки, спасибо, пойду дальше, друга искать пойду.
— Пожалуйста, коли не шутишь.
4
Он ел, низко наклонившись над тарелкой. Длинные волосы почти касались шашлыка. Рядом с тарелкой стояла полупустая кружка пива. Пиво было подернуто ряской жидкой пены. Со стороны закопченного мангала доносились волны горелого запаха, перемешанного с непонятной речью. Когда едок оторвал свой взгляд от созерцания того, что еще предстояло с отвращением съесть, то взгляд его обрел не панораму Таганской площади, а физиономию белобрысого курносого паренька с острым подбородком и простодушными голубыми глазками.
Денису взгляд волосатого незнакомца понравился. Понравилась его пессимистическая поза, безрадостное движение челюстей. То, что нужно. Такой не уйдет.
Только вид пивной пены вызвал у юноши неприятную ассоциацию, вспомнилась ему пена другая, текущая из собачьей пасти.
— Вы любите собак? — спросил Денис.
Волосатый безвкусно прожевал кусок мяса и отрицательно покачал головой.
— Скорей нет, чем да.
— А способны вы ненавидеть собаку?
Отхлебнув пива, волосатый спросил:
— Тебе чего надо?
— Не бойтесь, я не собираюсь предлагать вам щенка.
Собеседник огляделся, определяя, не становится ли он жертвой какой-нибудь провокации.
— А скажите, если не секрет, почему вы едите здесь, а не дома?
— Слушай…
— Ладно, ладно, не буду больше вас морочить. Вы ведь живете вон в том доме, вон его видно из-за башни, правильно?
— Слушай, парень, или ты…
— У вас за стеной лает собака. Все время лает, целыми днями, правильно?
Волосатый опять отпил пива.
Денис, делая все более наивные и честные глаза, продолжал говорить.
— В дневное время вы по большей части дома, профессия такая, правильно? А она лает и лает. Хозяину вы говорили, а он не верит, правильно?
— Когда он приходит с работы, она лаять перестает.
— Вот-вот, а потом он наверное крутой, скотина такая, да? Ему плевать, что его собака кому-то мешает. Ему даже приятно, что ее вынуждены терпеть. А она каждый день… Травить пробовали?
— Что?
— Ну, мясо со стрихнином, например.
— Тебе что надо, ты прямо говори!
Денис вздохнул.
— Помочь хочу.
— Помочь?
— Да, хочу избавить вас от собаки. От пса этого проклятого. От его лая.
Волосатый достал из кармана куртки мятый клетчатый платок и ощупал рот.
— Сколько стоить будет?
— Вы все поняли отлично.
— Ты говори, сколько?
— Немного. Сейчас пятьдесят, по окончании дела сто. Что вы молчите? Много? Вы слишком дешево цените свой покой. А потом, у нас гарантия.
— Нас? Что, целая фирма?
— Это неважно, — поморщился Денис, ему было неприятно, что он хоть и микроскопически, но проговорился.
— А гарантия какая?
— Очень важная, очень. Это нужно, чтобы блокировать злого хозяина. Он никогда не догадается, что собаку убили. Она просто заснет. Заснет и все. Он никогда ни в чем вас не заподозрит, понимаете?
Волосатый задумался, глядя поверх головы Дениса, можно было подумать, что его страшно заинтересовала игра огоньков в вертикальном глазу светофора.
— Да решайтесь. Собака глупая, жирная, никакой от нее пользы, кроме лая. Одна луженая глотка и неудобство для окружающих. Вы рано или поздно свихнетесь. Я вам предлагаю надежный, чистый вариант.
— А если я…
— Куда-то заявите? Это совсем глупо и никому не нужно. Отпереться — раз плюнуть. Что вы еще можете сделать? Предупредить хозяина? Чтобы завоевать его расположение? Но собака-то лаять не перестанет от этого.
Волосатый усмехнулся.
— А почему ты думаешь, что я тебе заплачу не только аванс?
— Ну, вы же не дурак. Стоит мне намекнуть — анонимно — хозяину, что собачка его голосистая умерла не совсем своей смертью, у вас вместо неудобств начнутся неприятности.
Измученный лаем музыкант достал из кармана кошелек.
— А где гарантия, что ты не исчезнешь навсегда с этим полтинником?
Денис поморщился, как дирижер при звуке явной фальши.
— Гарантией является мое желание кроме этого полтинника заработать еще и стольник.
— Предусмотрительный мальчик.
— И честный.
5
«…небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России… серые деревянные кресты… каменные плиты все сдвинуты… овцы безвозбранно бродят по могилам… но между ними есть одна… железная ограда ее окружает… Евгений похоронен в этой могиле… пришли два уже дряхлых старичка… стали на колени, долго, долго плачут… и снова молятся… это место, откуда им как будто ближе до их сына… из-за деревьев выглядывают барышни, три сестры его, Евгения… Ольга, Маша и Ирина… бесшумно машут платочками, подпрыгивают, как будто торопятся… над головами клубы паровозного дыма… по губам их можно прочитать: в Москву, в Москву, в…»
— Москву приехали завоевывать, да?
Задремавший Никита приоткрыл глаза, чтобы увидеть сидевшего напротив мужчину лет пятидесяти. Он улыбался своим воспоминаниям и приглаживал время от времени редкие, но неорганизованные волосы, растущие вокруг лысины. Всем своим видом он демонстрировал, что жизнь для него открытая книга.
Никита отвернулся к окну.
Поезд с решительным грохотом вторгался в столицу. Пролетали мимо платформы электричек и лестничные монстры над ними. Посверкивали сонными еще окнами оклеенные кафелем многоэтажки, покорные автобусы подставляли бок толпящемуся человеческому материалу.
— Как сейчас помню, как сейчас. Шейсят шестой. Я молодой, зубастый, пятерошный аттестат в кармане. Планы — наполеоновские. Уж мне только въехать в первопрестольную, уж я найду себе применение. И поначалу все вроде шло по плану: и в МИСИ с ходу поступил, и друзей-товарищей вроде бы обрел. Девицы-красавицы замелькали, только… — Никита услышал глубокий вздох, но в сторону вздыхающего не посмотрел.
— Да, постепенно, постепенно так стала скукоживаться моя программа. Рерберга из меня не вышло, а жена, да что там жена! И вот мне уже за пятьдесят, половины зубов нет, в почке камень, сын в тюрьме, дочка в детсаду воспитателем, не от большого счастья. А сам я возвращаюсь из командировки. Инспектировал устроение вентиляции на птицефабрике. Самое омерзительное, что я человек ответственный, на хорошем числюсь счету, будь он неладен. Вот так-то, молодой человек.
Так ничего и не сказав в ответ на эти слова, Никита забросил на плечо синюю сумку и покинул купе.
Тамбур был забит тюками с грязным бельем. Здоровенный парень явно мешал проводнику, но тот, внимательно присмотревшись к его спине, решил не высказывать вслух свое мнение по этому поводу.
Вагон Никита покинул первым. И сразу направился в метро. Купил в кассе несколько телефонных жетонов, отыскал исправный аппарат, снял трубку и произнес следующий текст:
— Здравствуйте, я от Сажи. Са-жи. С ним все в порядке. Нужен Савелий Никитич Воронин. Ученый. Шестьдесят шесть или больше. Адрес и телефон. Через полчаса?
После этого Никита трубку повесил и отправился гулять. Через тридцать минут вернулся к тому же аппарату. Позвонил. Записал то, что услышал. Не делая никакого перерыва, опять раскрутил диск.
— Пригласите, пожалуйста, Савелия Никитича Воронина, — сказал он в трубку. Приятный женский голос ответил ему, что Савелий Никитич за границей, уехал читать лекции. Когда вернется? Не раньше, чем через полтора месяца. Даже по непроницаемому лицу Никиты было заметно, что он расстроился. Прижавшись спиной к мраморной стене, он задумался. Он составлял новый план действий взамен того, с которым прибыл на Казанский вокзал.
— Девушка, — обратился он к первой проходившей мимо, — вы не поможете мне?
Девушка слегка испугалась, но в помощи не отказала. Еще раз набрала номер телефона воронинской квартиры.
— Ну, что? Уехал на полтора месяца?
— Да, так и сказали.
— Спасибо.
После этого Никита не пошел к кассам за билетом до Калинова. Смешался с густой рыночной толпой, заполнившей площадь между Ленинградским и Ярославским вокзалами. Медленно бродил, поглядывая по сторонам. Бабки, торгующие сигаретами, некрасивые девицы, торгующие цветами, равно как и молодые ребята у лотков с видеокассетами и продажной литературой его не заинтересовали. Может быть, его целью сделались сумки, портфели и карманы спешащих во всех направлениях граждан? И это — нет. Только услышав откуда-то из угла площади бодрый хрипловатый голос:
Москва, Одесса, Волгоград, кто не выиграл, тот не виноват. Москва, Одесса и Воронеж, вновь сыграешь, все воротишь! —Никита встрепенулся, насколько, конечно, это было возможно при каменном облике. Не торопясь приблизился он к месту наперсточного развлечения.
Кусок оргалита лежал прямо на асфальте, три перевернутых стакана носились по нему с шершавым звуком, путая внимание собравшихся. Руководил стаканами сидящий на корточках парнишка. Он гонял из угла в угол рта сигарету и нес какую-ту рифмованную чушь.
На дворе стояли времена, когда азартные игры были выпущены из подполья и начали обосновываться под шикарными крышами разного рода казино. Прямолинейный уличный бандитизм под видом наперсточничества стал хиреть. Только та часть братвы, что не умела найти себя в бандитизме цивилизованном, не способная упрятать лихую душу под крахмальную манишку и бабочку, продолжала оглашать привокзальные площади и другие места массового идиотизма своими доморощенными призывами. Интересно, что у них всегда находилась клиентура. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, не все азартные люди обладают деньгами достаточными для того, чтобы проигрываться именно в роскошных заведениях: они предпочитают, чтобы их обманывали прямо посреди заплеванного асфальта, зато на небольшие суммы. А во-вторых, уже пора выяснить, чем заинтересовался Никита.
Он подошел к месту ристалища, стал за спиной плотного человеческого забора, его окружающего. Интересно, сколько в этом заборе подставных штакетин. Вот этот парень, например. Он только что угадал, под каким именно стаканом находится темный шарик и, получив свои пятьдесят тысяч, запрыгал, как сумасшедший. Сейчас убежит, чтобы вернуться минут через двадцать, когда сменится состав зевак и лохов. Рядом с игроком стоит девчонка лет двадцати, честно проигравшая всю свою зарплату, и бормочет, все еще не веря, что с ней не пошутили: «Ребя-ат, ну, отдайте деньги, ребя-ат».
Мы ребята честные, повсюду известные! — был ей бодрый ответ.
Никита наклонился и взял в руки шарик, выпущенный на мгновение из-под стакана.
— Интересуетесь?! — почти заискивающе обратился к нему «крупье».
Ничего ему не ответив, Никита встал и отошел, массируя пальцы, которыми только что щупал шарик. Он еще не знал, что именно ему нужно, или, вернее, еще не знал, где он отыщет то, что ему теперь понадобилось.
Он стал обходить лотки и киоски, внимательно приглядываясь к товару. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем киоске удача калиновского выходца не ждала. Ждала в четвертом, там торговали детскими игрушками. Никита ткнул пальцем в стекло.
— Это.
В полиэтиленовом пакете оказалась человекоподобная пластмассовая дребедень. Покупатель тут же прикончил свою покупку. Голова и туловище полетели в ближайшую урну. Руки и ноги, сделанные из разнокалиберных и разноцветных шариков, нанизанных на резинку, были убраны в карман куртки.
Через несколько секунд он стоял перед хриплоголосым наперсточником, тот приседал, разминая затекшие ноги, и продолжал злоупотреблять топонимической саморекламой.
Курган, Надым и Магадан, если угадаешь, все тебе отдам!
— Сыграем? — сухо спросил Никита.
— Полтинник.
Никита протянул банкноту. Деревянные стаканы заметались по поверхности игрового поля. Встали.
— Ну, показывай, дорогой, хоть рукою хоть ногой.
— А ты что ставишь?
В руках хриплоголосого возникла растрепанная пачка пятидесятитысячных бумажек. Одну бумажку он бросил между первым и вторым стаканами, другую между вторым и третьим.
— Одна твоя, другая моя, хочешь, ты поднимешь, а хочешь, я.
Грязный ноготь наперсточника по очереди стукнул в дно каждого стакана.
— Я. Но сначала ставку, потом стакан, — сказал Никита. Голос его был будничный, скучный. Поверх своих пятидесяти тысяч он положил еще сто. Почти все, что у него было в карманах. Соперник притворно нахмурился, делая вид, что сомневается, стоит ли ему пускаться в такое рискованное предприятие. Но пустился. На кону таким образом оказалось триста.
Толпа любителей бесплатных спектаклей попыталась сгрудиться еще плотнее, отчего произошло много взаимного неудовольствия.
— Ну, какой? — с едва заметным нетерпением спросил хриплый голос.
Никита присел на корточки и распростер ладони над стаканами.
— Экстрасенс, — хихикнул кто-то за спиной. Но его никто не поддержал, размеры ладоней не располагали к снисходительному комментарию.
В глазах наперсточника мелькнула искра неопределенного подозрения. Заволновались и его напарники, стиснутые в толпе.
Руки нависали.
Вдруг левая как бы непроизвольно сжала пальцы. Лицо Никиты исказилось, левый мизинец очень заметно дергался. Правая рука в этот момент легла на крайний стакан и быстро подняла его. Все увидели пластмассовый шарик на поблескивающем оргалитовом поле. Некоторые шумно вздохнули. Кто-то засмеялся, откровенно радуясь посрамлению профессионала.
— Ух ты, — сказал усатый мужчина.
Только что бившаяся в конвульсиях левая рука быстро собрала выигранные деньги, но не успела унести их, ибо была перехвачена рукою проигравшей. Никита поднял голову и увидел перед собою расширенные зрачки.
— Ты что, сука! — тихо-тихо зашептали эти глаза.
— А что, хочешь поговорить, давай.
Никита был настолько сильнее соперника, что высвободился, не совершая резких движений, тем самым не нарушив пристойную атмосферу наземного казино.
Высвободился, встал и направился в метро. Но там повел себя странно. Не стал спускаться вниз. Прислонился к колонне спиной, так чтобы его было видно издалека, и стал ждать.
6
Она появилась в дверях, и жизнь замерла. Снежная королева-мать. Сколько Денис себя помнил, она всегда была такой. Вызывающе тщательное сооружение из седых волос на голове. Темно-синее или черно-белое платье, белый же накрахмаленный воротничок, слегка подкрашенные губы, тонкий слой пудры на щеках. Все остальное — в глазах: чувство собственного достоинства, семейные воспоминания и вера в то, что режим спасет мир. Хотя бы режим питания. Ее отец (прадед Дениса) принадлежал к советской первоэлите. Если верить семейным преданиям, был рубака-парень, снес множество белогвардейских голов, болел сыпным тифом и закончил карьеру главой отечественного мыла. Родной брат Денискиного прадеда, наоборот, бежал за границу, в Аргентину, и реализовал себя примерно в том же качестве, что и красный родственник, то есть стал сочинителем многочисленных мыльных опер для слуха (радиосериалов). «Стоило уезжать в такую даль!» — проговорилась как-то Марианна Всеволодовна.
Замуж она вышла за члена-корреспондента по медицинской части, тут видится довольно отчетливая перекличка с тестевым тифом. От болезни к врачу.
Интересно, что принадлежность ближайших родственников к сферам советским и научным в Марианне Всеволодовне никак не сказалась. Была она монархистка (не слишком, конечно, афишируя это) и ни к каким книгам, кроме детективов, не прикасалась. Зато очень в ней чувствовалось, что и семья ее отца, и семья мужа имели отношение к какой-то элите.
— Денис, Руслан, — сказала она, — завтрак на столе.
Ни внук, ни друг его есть не хотели совершенно, но отлично знали, что спорить с железной старухой бесполезно. Покорно отложили они свои бумажки, испещренные схемами, буковками и цифирьками. Помыли руки нарочито шумно и при открытых дверях ванной, дабы Марианна не обвинила их в манкировании этой важной процедурой. Это случалось уже не раз, чистоплотность идет рука об руку с подозрительностью.
— У вас ровно двадцать минут, — сказала железная леди, когда Денис с Русланом стали размазывать по тарелке липкие холмики овсянки, сваренной на воде. Причем сказала она это, не взглянув на хронометр.
— Овсянка, с-э-эр, — прорычал Денис, неумело пародируя собаку Баскервилей.
— А почему именно двадцать? — осторожно поинтересовался Руслан.
— Через двадцать минут начинается программа «В мире животных».
— Ах да! — одновременно и одинаково виновато воскликнули дети. В передаче этой должны были показать отца Дениса, Александра Петровича Зацепина, находящегося в настоящий момент в глубинах тропической Африки в очень важной, можно сказать, беспрецедентной научной экспедиции. Вместе с биологами-зоологами-ветеринарами в экспедицию отправился и телеоператор. Недавно он вернулся, изготовил фильм, специально позвонил и предупредил, чтобы родственники Александра Петровича не забыли вовремя включить телевизор.
Марианна Всеволодовна гордилась сыном, как и всякая империалистка-монархистка, она считала, что сын должен находиться как можно дальше от матери, правда, при условии, что он будет на виду. Она также одобряла, что сын именно усиленной работой глушит тоску по безвременно умершей жене. При этом она была благодарна Шурочке за ее смерть. Зачем покорителю и исследователю целого континента бесконечно и непрерывно болезненная супруга в московской квартире?
— Поели?
— Спасибо, Марианна Всеволодовна.
— Спасибо, бабуля. Идем, Руслик, к ящику.
Родители Руслана, находящиеся в состоянии разрастающегося семейного разрыва, с облегчением отпустили сына пожить к его лучшему другу Денису. Денис считался в их глазах хорошей компанией. Один отличник другого не испортит. Тем более под присмотром такого цербера в юбке, как Марианна Всеволодовна.
К тому же дача Сергея Сергеевича Бахно, молодого доктора физматнаук и старого женского угодника (так считала жена), находилась всего в полусотне метров от дачи Зацепиных. Супруга влюбленного в любовь математика надеялась, что он не посмеет развернуть разврат прямо на глазах сына.
Марианна Всеволодовна включила телевизор.
Скоро выяснилось, что телевизионщик звонил не зря. Александру Петровичу был посвящен значительный кусок сюжета. И в этом сюжете он был выставлен в выгодном свете. И в прямом, и в переносном смысле. Моложавый, голубоглазый, с выжженным ежиком волос, в шортах и кроссовках, под баобабом. «Кому бабы, а кому баобабы», — высказалась как-то мать Руслана. Так вот, очень хорошо смотрелся московский биолог в сердце Африки. И говорил просто и умно.
— Весь в меня, — сказал Денис, — только загорел.
Появившиеся в кадре рядом с Александром Петровичем люди были явно ниже человеческим классом. Мужчины толстые и потные, женщины жилистые и слишком преданные делу. Животные были интереснее. В основном больные, но уже охваченные новейшим методом лечения. Александр Петрович охотно, но скромно рассказал о своих безусловных успехах, о том, какой переворот в деле охраны животного мира произведет его препарат. Вот эту мартышку видите? Знаете, что с ней было? А эту антилопу, антилопу видите? Хлопок по приятной, теплой шее. Если бы не препарат, их бы в живых давным-давно не было бы. Но это только один из путей использования его. Но, извините, пора заканчивать интервью. Сегодня очень ответственный выезд. С вертолета замечен раненый браконьерами носорог. Его надо усыпить, и вот тут наш препарат просто незаменим. С такими крупными животными мы еще не имели дела.
— Мы тоже, — хмыкнул Денис.
— Что ты сказал? — бдительно спросила Марианна Всеволодовна.
— Ну, мы пошли, бабуль, — был ответ, — у папы погоня за носорогом, а у нас тоже дела.
— Дела? — Марианна Всеволодовна встала и выключила телевизор.
— Дела, — с легким вызовом в голосе ответил внук.
— Я ничего не имею против, сейчас у вас свободное время, но меня беспокоит другое.
— Что, бабуль?
— Ружье.
— Ружье? — на секунду Денис смешался, но на очень короткую секунду, — но это же Руслик! У него первый разряд. Он на тренировки ходит. Почти каждый день.
Когда человек врет, он начинает говорить максимально короткими предложениями.
— Мне папа посоветовал, — вежливо подтвердил Руслан. — Он говорит, что я слишком нескладный, необходимо, чтобы во мне выработалось что-то мужское.
Марианна Всеволодовна недолюбливала блудливого, по ее мнению, математика, при этом она не могла не признать, что стрелковая секция для тюфяковатого Руслана будет неплохой школой. При таком столкновении внутренних движений молчание лучший выход.
Дети переместились в ту часть дачи, которая именовалась «кабинетом». Название это было только отчасти точным. Ибо две смежные комнаты в задней части дома, где работал Александр Петрович, вернувшись из очередной Африки, могли бы с полным правом именоваться и библиотекой, и курилкой, и операционной, и лабораторией. Книги, штативы, реторты, два компьютера разных поколений, отец и сын; коробки с осыпавшимися наполовину бабочками и чучела, чучела, чучела, аккумуляторы пыли и Денисовой ненависти. Цапли, бобры, сурки, удав, короче, всех не перечислишь. Марианна Всеволодовна не прибиралась здесь, ибо считала, что прибираться здесь бесполезно. Но вид замусоренных комнат не мог ее не раздражать, поэтому она предпочитала здесь появляться только в исключительных случаях. Учитывая это обстоятельство, Денис и Руслан избрали именно «кабинет» местом своих учебных занятий, тем самым они убили сразу двух зайцев. Во-вторых, освобождали себя от большей части старухиной опеки, а во-первых, здесь стоял сейф.
Как всякого настоящего ученого, Александра Петровича Зацепина не могли не раздражать те рамки, в которых принуждена была вершиться его профессиональная деятельность. Его мысль порывалась побродить за пределами планов отдела, потрудиться на вольных интеллектуальных делянках. Поэкспериментировать и не быть обязанным немедленно и с кем попало делиться добытыми результатами. В свое время трое или четверо чиновников от науки въехали на его горбу в академический рай, и он дал себе слово, что больше такое не повторится. В его личном сейфе, стоящем в углу прокуренного и запыленного кабинета, хранились кое-какие химикаты-препараты, действие которых было еще не вполне изучено. Изучить это действие Александр Петрович собирался сам, по возвращении из экспедиции. Ничего бы в этом не было примечательного, и тем более страшного, если бы он в спешке не забыл в кармане рабочего халата связку ключей.
Обнаружив ключи, а их было очень трудно не обнаружить — халат валялся на спинке стула, Денис немедленно сейф вскрыл. Затем сделал несколько вещей, которые обнаружили в нем несомненное конспиративное мышление. Он закрыл сейф, отделил от связки нужный ключ, остальные вернул в карман халата. Халат повесил на спинку стула. Вечером раздался звонок из аэропорта, где Александр Петрович пересаживался с ИЛа на «Боинг». Конечно же, ученый интересовался у своей матери судьбою ключей. Ради такого дела Марианна Всеволодовна сходила в кабинет и потрясла перед телефонной трубкой металлической гирляндой. Александр Петрович успокоился. Сын же его возликовал.
На несколько следующих недель он погрузился в некую деятельность, по внешним проявлениям которой трудно было что-нибудь сказать о ее сути. Он рылся в отцовской библиотеке то мрачнея, то веселея по ходу раскопок; уезжал из дому и подолгу шлялся по экзотическим магазинам, чаще всего заходя в оружейный и зоологические. Наконец какие-то результаты были им достигнуты и он зазвал к себе в гости Руслана, своего лучшего и единственного друга, чтобы его с результатами этими познакомить.
В это время сын математика еще жил в городской квартире своей матери, стесняя ее и себя чувствуя стесненным. Ему понравилась идея Дениса о переселении за город, поэтому он приступал к выслушиванию сообщения о сделанных открытиях с сердцем полным доверия и благодарности.
Усадив приятно заинтригованного одноклассника на вертящийся табурет, Зацепин-младший небрежно-самоуверенным движением вскрыл сейф и достал из его недр три стеклянные пробирки, заткнутые резиновыми пробками. На боку каждой из них был налеплен листок бумаги с латинскими, от руки писанными литерами.
Руслан понимал, что должен спросить:
— Что это?
Денис ухмыльнулся, смакуя последние секунды, когда он один является владельцем тайны. Он держал пробирки в одной руке как сигары, которые собирается продать.
— Началось все, Руслик, с моего притворства. Накануне отцовского отъезда чего-то мы повздорили, не так как всегда, а хуже. Он прошелся насчет моих взглядов на жизнь, приспособленческих и приземленных. Я не удержался и высказал несколько соображений о роли академической науки в современной жизни и его личной роли в этой науке. Получился скандал, но зацепинский скандал: все молчат, дуются, и если обращаются друг к другу, то так вежливо, что блевать охота.
На следующий день, часа за два до автобуса в аэропорт, я забредаю сюда, к отцу. Своих мнений о нем и о науке я не изменил за ночь, просто неохота было расставаться в состоянии ссоры. Дискомфортно. Все-таки два месяца. Короче, притворился я одумавшимся. Постепенно разговорились. Ну и начал я врать. Что, мол, науку-то я, собственно говоря, уважаю, только никак не могу рассмотреть в ней ничего такого, что меня бы увлекло. Ну, вот хотя бы эта самая зоология-биология, может быть, я и сам бы стал лаборантом каким-нибудь, если бы… и так далее. Тут он завелся, очень ему хотелось мне что-то доказать. И приятно ему стало, что меж нами завязался серьезный разговор на биологические темы. Много он говорил, с жаром и даже любопытно. А когда дошел до точки кипения, закричал: «Результат, говоришь, что интересного, говоришь?!» и открывает вот этот самый сейф, и вынимает эти самые пробирки. Я, как и ты сейчас, спрашиваю — что это? Он гордо так поправляет галстук и говорит, что в этих пробирках переворот в той области биологии, которой он занимается. Вещества, им открытые, ужасно сложные и интересные, для многих дел годные, но чтобы мне, глупому, было понятнее, он сообщит мне о самом примитивном пути их применения. Одного кристаллика достаточно, чтобы животное средних размеров усыпить, взбесить или убить. Три пробирки — три вещества. Я заметил на это, что снотворное и яды давно всем известны, в чем же достижение? Он весь потух, поморщился и махнул на меня рукой. Говорит, зря я начал этот разговор. И спрятал пробирки в сейф. Ты меня понимаешь, Руслик?
— Понимать-то понимаю, но не понимаю, чего ты так радуешься.
— Сейчас. Так, в общем, пробирки он спрятал. Я ему сказал, что он пробудил во мне интерес к его науке. Не знаю, насколько он мне поверил, но уезжал в хорошем расположении духа. А вечером выяснилось, что он забыл дома ключи. От сейфа — рассеянный ученый. С этого все и началось. В эту ночь я заснуть не мог. Ты знаешь мое отношение к разным там зверюшкам и птахам. И вот именно у меня оказывается в руках столь замечательное средство борьбы и мести. Смешно и странно было бы не воспользоваться им. Но как? Из детского садизма я уже вырос. Вид умирающего зверя перестал вызывать в моем сердце тихую радость, но я чувствовал, что в этом направлении можно что-то придумать. И придумал. Навел меня на мысль старик Круликовский; ты его знаешь, он живет у въезда в поселок. Так вот у Круликовского есть сосед, а у того собака. Эрдель. Этот пес все время бегает по грядкам Круликовского и ломает цветы. Раз пять я слышал, как несчастный старик-цветовод кричал соседу, что убьет его собаку, наймет человека и убьет. Слово «наймет» запало мне в душу. Начинаешь улавливать?
— Пока не очень.
— Да просто же! Решил я встать на защиту таких, как Круликовский, от собачьих бесчинств. Но об этом ниже, пока о технической стороне дела. Как донести разящее вещество до собачьей шкуры? Как его под собачью шкуру запихнуть?
— Не знаю, — честно признался Руслан.
— И я не знал. Ясно, что задуманную процедуру лучше производить с расстояния, чтобы не попасться на глаза хозяину собаки. Есть люди, обожающие своих животных до способности мстить за них. С расстояния можно действовать только при помощи ружья или арбалета. Ну, арбалет, это для красного словца, потому что очень желательно, чтобы сам факт ранения собаки остался хозяином не замечен.
Я полез в отцовские справочники. Ведь они усыпляют своих диких коз и тапиров издалека. Как? Выяснилось, что совершенно неудобоваримым способом. Хоть и с расстояния они действуют, но стреляют вот такими шприцами. И шприц этот в звере торчит. Даже слепонемоглухой дед заметит, что его собачку пытаются устранить. В поисках выхода я погрузился в специальную литературу. Перебрал сотни вариантов, одно время даже носился с идеей ледяной пули.
— Ледяной?
— Удивляешься? Правильно делаешь. А между тем есть в истории криминалистики такой пример. Ядовитый раствор замораживают в ячейке, дающей форму пули, и за пару секунд до выстрела вставляют в патрон пинцетом. Бабах! Дырка в голове есть, а свинца в ране нет. Причину смерти выяснить невозможно.
— Чушь какая-то.
— Конечно, Руслик, чушь. Тем более что выяснилось, что таким способом можно стрелять только с пяти метров, не больше. Что, прикажешь бегать за собаками с холодильником «Морозко» под мышкой, набитым ледяными пулями? Я рассказываю тебе все это, чтобы показать, по каким лабиринтам блуждала моя неутомимая мысль, пока не пришла к успеху. И вот как он выглядит.
Денис полез под стол, и на свет явилась соблазнительно поблескивающая винтовка: черный лоснящийся ствол, янтарный приклад, приятная сложность в месте их соединения.
— А?! Русл и к!
— Это же пневматическая.
— Вот именно, — вскричал Денис, — это еще одно достижение моего антинаучного интеллекта. Здесь сразу две выгоды, демонстрирую первую.
Денис сломал оружие посередине, зарядил его пулькой, добытой из спичечного коробка, привел в боевое состояние и выстрелил в открытое окно. Потом повторил операцию.
— Подождем, услышит ли эту канонаду бабуля. На первый взгляд хлопок вроде заметный. Но это потому, что мы в закрытом помещении. Бабуля за двумя стенками от нас, но всего в семи-восьми метрах, и ни черта она не услышала. Так что отпадает проблема глушителя.
— В чем второе преимущество?
Денис погладил машинку.
— В том, что не огнестрельное. Пневматическое ружье фирмы «Хантер». Не «Киллер», Руслик, а именно «Хантер». 4,5 мэ-мэ калибр. Бьет метров на пятьдесят.
— Понятно.
— Ничего тебе не понятно. Ее можно купить в любом магазине, как велосипед, без всяких документов. Плати полтора лимона и вперед.
— Ну, хорошо, — мрачно усмехнулся Руслан, — попадешь ты с пятидесяти метров, хотя сомневаюсь, собака завоет и убежит.
Денис самодовольно зевнул.
— В том-то и дело, что не убежит. Вернее, убежит, но только для того, чтобы через пару часов уснуть. Вечным сном. Отец сказал, что его химия действует именно так.
— Ты что, будешь эти кристаллы насыпать в ствол и лупить как солью?
— Иронизируешь, а зря. Так мне их надолго не хватит. Пришлось поломать голову еще немного. И вот что я придумал.
Денис вытащил из спичечной коробки еще одну пулю, напоминающую по форме крохотный шатер, и начал расковыривать этому шатру вершинку. В образовавшееся углубление поместил пинцетом кристаллик.
— С какой стати он будет там сидеть все пятьдесят метров, а?
В ответ на этот каверзный вопрос Денис подмигнул другу.
— А клей для чего? Обычный канцелярский клей. Чуть-чуть прикапнем, и отравленная пуля готова. Под шкурой у собаки клей отлетит, яд освободится. Кстати, стрелять лучше в холку, там много жировых тканей, собака ничего не почувствует, и крови не будет ни капли. Да и химия действует через жир медленнее, что в нашей ситуации полезно. Хозяин никак не свяжет смерть собаки с прогулкой.
Руслан взял пулю в руки и посмотрел на свет.
— Что, топорно, Руслик, так ведь не важно как выглядит, важно как будет работать.
— Ну, и как?
— То, что из ствола прет нормально, я проверил. Банок пару расколошматил. Тут последняя загвоздка — какие кристаллы как действуют. Смотри, написано LHL, LML, LQL. Что эти буквы значат — не знаю. Надо ставить эксперимент.
Денис отложил винтовку и закурил.
— Эх, слышал бы меня папаня, порадовался бы старик.
Руслан тихо спросил:
— И на ком ты его будешь ставить, в кого стрелять?
— В собак, — с обезоруживающей улыбкой заявил Денис, — в них, дорогих и бродячих.
— А ты сам будешь это делать, или рассчитываешь, что это буду делать я?
— Конечно, ты. Из меня стрелок никакой, я только перепорчу все патроны.
Руслан стрелять отказался. Особенно в собак. Напрасно Денис напоминал ему, что испокон веку все научные опыты производились на собаках. Стрелок-отличник мрачно качал головой.
— Что же это получается, — потрясал кулаками Денис перед самым его носом, — Павлову можно, а Зацепину нет?!
— Что «можно Павлову»?
— Заниматься наукой, вот что! — до предела взвинчивая демагогический порыв, кричал Денис.
— Но это же не наука.
— То есть как? Он исследовал, и мы исследуем. Но он хуже нас.
Руслан глянул, как почти всегда, исподлобья.
— Почему это?
— Он их мучил. Разрезал, вставлял в них трубки, заставлял голодать, отнимал слюну. А у нас они только поспят и все. И все, понимаешь?!
— Это незаконно, — нашелся Руслан.
— Всякая наука законна, если это наука, — еще более нашелся Денис.
— Стреляй сам.
— Нельзя так.
— Почему, бери винтовку и пали.
Денис поморщился и нервно забегал по комнате, засунув руки в карманы штанов.
— Ну, не попаду я, не учился стрелять. А они все время ходят и бегают. Надо же издалека.
— Подойди ближе, — пожал Руслан разновеликими плечами.
Лицо Дениса исказилось еще больше. Злился он по большей части из-за того, что вынужден был спорить со своим другом-гуманистом как бы одной рукой. Уже в этот момент в его голове сложился в общих чертах довольно далеко идущий план. Но открыть его сейчас не представлялось возможным, Денис слишком хорошо знал мягкосердечие Руслана. Откажется, сбежит. А то и заложит железной бабуле. Гуманисты способны на любое предательство, если дело касается защиты своих убеждений.
Надо его втягивать постепенно.
— Ладно, — внезапно остыв и понурившись согласился Денис, — как скажешь.
— Ну, я пойду.
— Завтра приедешь?
— Да.
Назавтра Денис, зарядив оружие, вывел своего друга в сад. Впрочем, заросли вокруг дачи не стоило называть садом. Все здесь было дикорастущее, непреднамеренно запущенное. В самом глухом углу, за оступившимся на одну стену сараем, была продемонстрирована Руслану небольшая крупноячеистая клетка из ржавой проволоки. В клетке сидела морская свинка и грызла морковку. На появление вооруженных людей она отреагировала спокойно.
— Что это? — спросил Руслан, обливаясь холодным тоскливым предчувствием.
— Съездил в зоомагазин, — охотно пояснил Денис, деловито похлопывая винтовку по прикладу.
Руслан несколько раз перевел взгляд со свинки на винтовку и обратно.
— Что, хорошенькая, правда? — очень добродушно спросил друг, — крыску имею в виду, а не пушку эту железную и грубую. Сейчас я буду тренироваться на ней. Свинки еще подопытней собак. И, главное, на месте сидят.
— Не делай этого, Диня.
— Конечно, сделаю. И ее смерть будет полностью на твоей совести. Хоть и крыса, а ведь могла бы жить.
— Не делай этого, Диня.
— Не знаю даже, сколько мне их придется переколошматить, пока руку набью.
— Я согласен, — сказал Руслан, глядя себе под ноги.
— Умный. И как всегда, добрый. Соглашаясь, ты поступаешь правильно. Зачем лишние жертвы. Достаточно тех, что так или иначе неизбежны.
С этими словами он поднял винтовку и выстрелил. С двух шагов, но все равно почти промахнулся. Пуля попала свинке в заднюю ногу. Она закрутилась на месте, вереща.
— Зачем? — взметнулся было Руслан.
— Все равно сдохла бы, что я, за ней ухаживать стал бы, что ли? Да и бабка не потерпела бы.
— Так она же еще…
— Так возьми и добей. Я же тебе говорил, что не умею стрелять. Покажи класс.
Руслан взял винтовку в руки. Против своей воли. Но крыса отвратительно кричала. Сильно и отвратительно.
— Не будь изувером, Руслик, что, мы ее камнями должны добивать, что ли?
Поднимая винтовку, Руслан искоса посмотрел на Дениса, тот в ответ дружелюбно улыбнулся.
7
Никита никуда не собирался бежать. В толпе снующих граждан он легко определил тех троих, что будут его сейчас «брать». Они приближались целенаправленно, но не вполне уверенно. Слишком подозрительным казалось им поведение жертвы. До начала операции нужно было определить, чего в нем больше, в поведении, самоуверенности или глупости. Если первой, один порядок обработки, если второго, второй.
Они остановились в трех-четырех шагах от колонны, которую подпирал собою Никита. Они старались, чтобы между ними и этим ловкачом все время мелькали люди, на случай скрываемой им в кармане огне-стрелки. Чтобы не затягивать эпизод, Никита достал руки из карманов и поманил к себе мнущихся бандитов. Двое приблизились, среди них только что обыгранный наперсточник. Третий остался на месте для контроля над ситуацией.
Профессионалы хреновы. Неизвестно, подумал ли так Никита, но если бы подумал, сделал бы правильно.
— Ну, — сказал «крупье», некрупный, худощавый, веснушчатый парень.
Никита молча отсчитал три пятидесятитысячные бумажки, протянул ему и сказал:
— Реми.
— Что? — не понял тот. Он не спешил прикоснуться к денежкам.
— Ничья. Хочешь, научу тебя этому фокусу.
Руки «крупье» вспомнили о своем блатном происхождении. Остальное веснушчатый рассказал Никите на словах. Приводить их здесь в первозданном виде вряд ли нужно, смысл речи сводился к описанию того, как побежденный мастер наперстка лишит жизни своего удачливого визави и какие именно развратные действия произведет над его трупом.
Никита выслушал его до конца, затем повернулся ко второму представителю преступного мира.
— Надо поговорить.
— Поговорить? Со мной?
— С тем, кто банкует, — Никита поднял руки, предлагая себя обыскать.
— Опусти руки, дурак, — просипел, подходя, третий. Его можно было понять, зачем эти выкрутасы, когда вокруг столько народа, не нужно обращать на себя внимания. Обыскан он тем не менее был, и, несмотря на то, что в его карманах не было найдено ничего внушающего опасение, бандиты доверием к нему не прониклись. С их точки зрения, он вел себя вызывающе и нелепо. Переодетый мент, задумавший втереться в доверие, должен был бы выбрать более естественную линию поведения. Не в таких, видимо, выражениях вершился их мыслительный процесс, но вывод они сделали похожий.
С другой стороны, с этим фокусником нужно было что-то делать.
Наперсточник, самый мелкотравчатый и суетливый из троих, на пару минут исчез. Скорей всего, бегал звонить. Никита продолжал стоять у выбранной им колонны, меняя время от времени опорную ногу; со своими новыми знакомыми он не сказал ни слова, они тоже не лезли к нему с разговорами.
— Поехали, — сказал возвратившийся связной.
Сели в машину перед универмагом «Московский».
Водителем оказался запоминающегося внешнего вида парень лет двадцати пяти. Краснощекий, красногубый, с белыми выгоревшими ресницами. Бандиты вели себя по отношению к нему странно, то ли не были с ним знакомы, то ли считали большим начальником.
В полнейшем молчании было совершено путешествие в центральную часть города.
— Может быть, проверите документы? — сказал Никита, — паспорт в левом нагрудном кармане.
Он почувствовал, что на него брошено несколько удивленных взглядов. Он не специально создавал образ малохольного мордоворота, но он создавался.
— И документы проверим, — сказал вдруг шофер приятным интеллигентным голосом.
На этом обмен мнениями закончился.
Машина остановилась возле старого московского дома в глубине арбатских переулков. Вид у дома был не вполне заброшенный, но как бы и не совсем жилой. Вид не лгал, дом находился в стадии расселения.
— Пошли, — последовала команда водителя, — и желательно не шуметь, у меня очень нервные соседи.
Дальше последовала неметенная и неосвещенная лестница, коммунальная квартира без признаков коммунальной жизни. Комната с диваном (конечно, продавленным), со столом, стулом и зверски скрипучим паркетом.
Единственный стул предложили гостю.
Спутники Никиты вели себя так, будто очень им дорожили. Двое встали у двери, один у окна.
Встал и начал выглядывать сквозь пыльные стекла, подозрительно щурясь.
— Ну что? — спросил шофер у него, теребя небольшое родимое пятно под прямой ноздрей.
На лице Никиты впервые за этот день появились признаки неудовольствия.
— Послушайте, глупо все. Не верите — руки свяжите, глаза липучкой и отвезите к кому-нибудь. Кто решает.
— Мы тебе сейчас все заклеим, — ответил шофер почти ласково, заходя сидящему за спину, — и глаза, и уши.
Никита невольно стал поворачивать голову вслед за ним.
— Вы что, меня боитесь? Я сам вас уже боюсь. Хотите, ладно, вам здесь объясню. Даже главных не надо.
Наперсточник, стоявший у окна, вдруг оставил пост и сделал несколько угрожающих шагов в сторону странного гостя и сказал:
— Ты что, такой крутой, да?! Скажи, крутой?!
Он отвлек внимание Никиты. Специально или случайно, сказать трудно. Но как бы там ни было, шофер получил возможность опустить на большую короткостриженую голову черную резиновую дубинку.
8
— Итак, сколько у нас заказов на сегодняшний день, посчитаем, — Денис развязал тесемки и открыл красную старомодную папку. Именно в таких хранил свои секреты Александр Петрович. Марианне Всеволодовне не пришло бы в голову рыться в бумагах сына. Денис считал, что в деле, которым они занялись, сохранение тайны вещь наиважнейшая.
Руслан сел напротив друга, как всегда, с видом насупленным и удрученным.
— Вот смотри, Руслик, начать, по-моему, лучше всего с этого добермана.
Листок исчерканной бумаги явился из папки.
— Почему с добермана?
— Тебя порода смущает? Вы когда-нибудь держали добермана? Ты успел к нему привязаться?
— У нас никогда не было собак.
— И это хорошо. Иначе нам бы пришлось отказываться от кое-каких заказов, щадя твои детские воспоминания.
Руслан вздохнул, рассматривая план, набросанный решительной рукой друга.
— Так вот, тут, видишь, я начертил, рядом с домами проходит железная дорога, которая что?
— Что?
— Обсажена деревьями и кустами. Густыми-густыми, я проверял. Песик появится вот из этого подъезда, ровно в восемь. Максимум в восемь пятнадцать. Хозяину к девяти на работу. Стрельнем и в школу.
— С винтовкой?
— Она же теперь без приклада и в футляр от скрипки влезает.
Руслан молча согласился.
— Если боишься, положим в мою сумку.
— Не боюсь.
— Это хорошо, что не боишься. Потому что она нам понадобится и после уроков.
— После?
— Таких глаз не делай, Руслик, не надо. А пушечка нам понадобится для того, чтобы навестить одну болонку. Даже не болонку. По словам заказчика, это старая, поганая, облезшая обезьяна, а не болонка. И зовут как обезьяну: Чичи, Чичи. Но теперь это почти неважно.
Стрелок молчал, как молчат люди, думающие о своем. Это Денису не понравилось. Он был так устроен, что задолго до начала бунта учуивал его и знал, что чем раньше это пресечешь, тем лучше. Знал он также, что в таких делах нельзя действовать по шаблону. Выдумка с истязанием морской свинки была хороша, сработала на все сто, но сейчас необходимо было что-то другое.
Денис встал, походил по комнате, затем свернул вдруг к чучелу маленького сумчатого медвежонка, стоявшему на подоконнике. Залез ловкой рукой ему за пазуху, вытащил пачку денег и бросил на стол перед усомнившимся соратником.
— Твоя доля.
Пачка была толстая.
— Бери, бери и чувствуй себя Робин Гудом, а не живодером, понял?
Руслан неприязненно усмехнулся и почесал ногтем угреватый нос.
Денис, опершись руками на папку с заказами, наклонился к нему и сказал с тихой злобой:
— Я устал с тобой вести благотворительные беседы.
— Душеспасительные.
— И душеспасительные. Я не собираюсь отказываться от выгодного дела. Найду другого, если у тебя рано очень уж размякло, Руслик.
Оттолкнувшись от стола, Денис рухнул в отцовское кресло, покрытое потертым пледом. Не торопясь, со вкусом закурил. При его весьма еще юношеском облике профессионализм курильщицких манер смотрелся чуть комично. Но Руслану комизм этот был невидим, хотя он очень внимательно наблюдал за своим другом.
— Пойми, мы напали на золотую жилу. Именно с таких попаданий и случайностей начинаются все великие состояния. У нас нет конкурентов и дело наше на подъеме.
— Ну и что?
— Ах, что? Посмотри на себя.
Руслан честно посмотрел.
— Вот ты носишь кроссовки, сколько они стоят? Под сто баксов. А штаны. А рубашки-майки, не говоря уж про все остальное. Хочешь считать это ничтожной мелочью — считай, но попробуй от всего этого теперь отказаться. И теперь ответь мне, у тебя все это есть, потому что ты сын известного во всем мире математика, поэтому?
С оскорбительным для собеседника мастерством Денис выпустил клуб дыма.
— Молчишь, потому что я и так знаю ответ. Я бы еще понял твою попытку уползти в кусты, если бы ты ставил на свои какие-нибудь особенные способности. Выучусь, стану лучше папахина интегралы малевать. Можешь ты на это рассчитывать? Хрен! Твои пятерки, если по-серьезному, равняются нулям. Как и мои, впрочем.
Денис снова затянулся с такой жадностью, словно мозговая работа требовала дымовой подпитки.
— Зайдем с другой стороны. Может быть, у тебя особенные способности к скрипке или какой-нибудь другой виолончели? Или ты рассчитываешь стать олимпийским чемпионом по стрельбе? Природа, и ты это знаешь лучше меня, почему-то решила устраивать свой отдых на детях. Так давай сделаем этот отдых приятным. Ты понял меня?
— Понял.
— Природа зла, но не бывает так, чтобы она совсем не давала шансов. Нам дала. Надо держаться за него руками и ногами. Если понадобится, зубами, когтями.
— Как собаки?
— Как.
Еще один клуб дыма вырос над столом.
— Теперь, Руслик, что касается моральной, извини за выражение, стороны дела.
Руслан сделал движение, показывающее, что именно эта сторона волнует его больше всего.
— Мне есть что тебе сказать, Руслик. Зачем ты из себя целку строишь? — тут Денис издал циничный смешок, вспомнив о том, что его подельник и в самом деле невинен.
— Ведь не хуже меня ты знаешь, что усыпляем мы только тех собак, которых просто необходимо усыпить. Злых, неуправляемых сволочей. Заедающих человеческий век, как сказала бы наша великая литература. Взять хотя бы двух завтрашних. Красавец доберман, которого ты уже пожалел, знаменит тем, что изувечил четырнадцатилетнюю девочку. Какое-то там ей сухожилие повредил, а она учится в хореографическом училище. Она, может быть, собиралась стать Плисецкой или Павловой, теперь не станет. Ходить будет, а танцевать нет. К тому же отец у нее трус, или слишком интеллигентный человек, что, в сущности, одно и то же. Он мечтает о мести, но не в состоянии произвести ее сам. Он хочет, чтобы справедливость произошла от уплаты им денег. Разве не подло было бы не взять у него эти деньги, Руслик?
— Не знаю, — помотал головой все более мрачнеющий партнер.
— А эта обезьяноболониевая тварь. Старая, лысая, бездарная. Ей уже двадцать лет. Но в ней заключен весь смысл жизни одной бешеной старухи. И волевой. Видел мою бабулю? Так вот она божий одуванчик в сравнении с той. Старуха тиранит дочь. Собака тоже тиранит, тем, что гадит в ботинки гостям. И только мужчинам. Дочери тридцать шесть, симпатичная, состоятельная, но никаких шансов выйти замуж. Ибо она не может это сделать, не познакомив жениха с матерью. А это нельзя сделать, не приведя жениха домой. Женихам же не нравится, когда им гадят в ботинок. Если бы ты видел, какими слезами эта несчастная плакала, рассказывая о своем горе. Она приличная старая дева. Она не может затеять шашни на стороне без росписи. Что ей теперь, ждать, когда этот дьявол в собачьем обличье сдохнет? Сколько лет? Сколько, я тебя спрашиваю, лет?!
Денис вошел в роль, к тому же язык ему развязывало то, что они были в доме одни. Марианна Всеволодовна навещала свою приятельницу на другом конце дачного поселка.
Руслан опустил голову, словно собираясь коснуться носом груди. Но грудь была впалая.
— Ты прав.
— Ну, то-то, — Денис стряхнул накипевший на окурке пепел, и тот, рухнув на пол, разбился как надежда Руслана на освобождение.
Денис забычковал сигарету, сказал обычным своим тоном, пододвигая взглядом пачку кредиток к руке друга:
— Ты еще не взял деньги?
— Уже взял.
— Хорошо. С проповедями, по крайней мере на сегодня, покончено. Поднимайтесь к себе в комнату, сеньор. Нас ждут мелкие, но важные дела. Учиться, учиться и учиться.
Руслан мрачно усмехнулся.
— А это еще зачем? Теперь.
— Мы должны во что бы то ни стало оставаться круглыми отличниками, иначе нашим родственникам захочется проверить, чем это мы занимаемся на досуге. В школе пусть все считают, что мы перешли на мирные рельсы. Все колкости в адрес сволочей и идиотов за учительским столом отменяются. Пусть они считают, что мы остепенились и начали зарабатывать золотые медали.
Денис встал и потянулся, разминая мышцы.
— А малолетний плебс пускай свято верует, что самым крутым в школе является Шиба, потому что у него брат сидел, потому что сам он может продать сигарету с травкой и знает, какие именно восьмиклассницы готовы сыграть на флейте за мусорными баками на большой перемене.
9
Его разбудил человек. Он сидел рядом с кроватью на стуле. Длиннолицый, худой, с интеллигентными залысинами, в очках и синем халате.
Халат смутил Никиту не меньше, чем скошенный потолок, но, как выяснилось вскоре, и то и другое объяснить было легко. Потолок — тем, что лежал Никита на верхнем этаже дачи, в мансарде; а халат тем, что длиннолицый был хозяином дачи и имел право одеваться как угодно.
— Чего-нибудь соображаешь? — спросил хозяин. Голос у него был спокойный, почти скучный.
— Только на троих, — пробормотал Никита. Это была не его шутка, он слышал ее от кого-то из калиновских приятелей. И непонятно почему вспомнил о ней именно сейчас.
— Шутишь, значит, выздоровел, — ничуть не изменившимся голосом сказал длиннолицый, — значит, поговорим.
— За что?
— Что за что? А-а, спрашиваешь, почему тебя шарахнули по голове. Сам виноват. Напросился. Ребята решили устроить проверку. Сработали грубовато, ну, уж как умеют. Скажи спасибо, и несколько раз — могло быть хуже.
— Могли убить?
— Не только могли, но и хотели. Я им отсоветовал.
— А вы кто?
Очкастый неторопливо поправил очки и той же рукой погладил левую ноздрю.
— Опять начинаешь вести себя глупо.
Никита закрыл глаза, как бы признавая свою вину.
— Теперь рассказывай.
— Все?
— Может быть, понадобится и все. Для начала объясни, зачем полез к ребятам на вокзале.
— Мне нужно было остаться в Москве.
— Надолго?
— Не знаю точно. Минимум на полтора месяца. Я приехал из Калинова.
— Это мне известно. Пришлось проверить твои карманы. И паспорт твой смотрел. Он в порядке. Зовут тебя Никита Добрынин.
— Правильно.
Человек в халате откинулся на спинку стула, лицо его едва заметно помрачнело, как если бы лежащий начал его разочаровывать.
— Правильно-то правильно, но мне-то какое дело. Ты сказал там на вокзале, что хотел бы поговорить с тем, кто решает. Так говори.
Никита похлопал ресницами, словно перебирая мысли, не зная, с какой начать.
— Я не могу поступить в институт.
Хозяин дачи хотел было еще дальше откинуться на стуле, но дальше было некуда. Стул встал на дыбы. Непроницаемая физиономия опасно ожила.
— Откуда ты знаешь, что я работаю в институте? — почти беззвучно зашипел очкастый.
Лежащий не видел всех этих внезапных изменений, он смотрел в потолок. Он не слышал того, что произносил тонкогубый злой рот хозяина, потому что продолжал говорить. А говоря, он глох от гула собственного голоса.
— Я не могу сдать экзамены. Я очень много читал, но ничего не могу запомнить как следует. Мне еще мама говорила, чтобы я даже не пробовал, только время терять да травмировать психику.
Очкастый уже сообразил, что испугался, пожалуй, напрасно, и вернулся в прежнее состояние вместе со стулом. Более того, он наклонился к лежащему.
— Понимаю, понимаю, лучшим способом для тебя, чтобы получить спальное место в Москве, было бы поступить в институт. Но ты неспособен, из-за своего идиотизма, да?
— Вы все понимаете.
— Будем надеяться, что так. А почему бы тебе не снять квартиру. На полтора месяца.
— У меня нет денег.
— Совсем?
— Только те, что я выиграл у вашего парня на вокзале. Но я их тут же отдал.
— А на работу?
— На работу? — с искренним удивлением переспросил Никита.
— Ну да, на нее, на родимую.
— Так я же и хотел. Я попросил, чтобы меня познакомили с тем, кто принимает на работу.
— Вот оно что. А на стройку, или… — хозяин дачи запнулся, не зная, как продолжить мысль, ничего больше в голову не приходило. К тому же он и насчет «стройки» стал сомневаться — реально ли явно дебиловатому парню из Калинова подыскать себе место на каком-нибудь столичном строительстве. Никита прервал его абсолютно ненужные размышления следующим заявлением:
— Я ничего строить не умею. И мне нужно достаточно денег. И вовремя.
У очкастого слегка выдвинулась вперед верхняя губа, так у него выражалось сильнейшее веселье, почти хохот.
— А сколько это — достаточно?
— У каждого свое достаточно. Но у всех больше, чем мало.
— Анаксагор, блин, — содрогнулся от смеха халат, — ну, с этим более-менее понятно. А что значит вовремя?
— Я же говорил, не раньше, чем через месяц, а дальше — неизвестно.
Халат встал и вальяжно прошелся вдоль кровати. Лежащему ходящий показался гигантом, по крайней мере интеллектуальным.
— Что ж, если сдуть бред, который ты тут нес, на донышке остается следующее. Тебе нужны деньги. Я дам тебе возможность их заработать.
— Дайте, пожалуйста.
Верхняя губа говорящего опять весело задвигалась. Он откровенно развлекался. При этом накапливание подозрения по поводу этого типа шло своим чередом.
— Я смотрю, у тебя кулаки ничего так, да? Достаточные.
— Только голова гудит. И мутит сильно. А драться я могу. А голова пройдет.
— Голова твоя меня не интересует.
— Я вам верю.
10
Чувствовалось, что шофер его боится. Никита хотел было сказать ему, что зла на него за тот удар по затылку не держит, но не сказал, потому что был не уверен, так ли это на самом деле.
Машина остановилась возле панельной девятиэтажки, неподалеку от гостиницы «Космос».
Молча поднялись на шестой этаж, молча вошли в обыкновенную трехкомнатную квартиру, обставленную в меру обшарпанной мебелью. Чувствовалось, что в квартире кто-то есть.
— Здесь, — сказал шофер Сережа, — здесь ты будешь жить и работать.
Он показал Никите его комнату. По всей видимости, она служила в этой квартире спальней. Почти вся она была занята широченной кроватью. Трех-четырех-спальной.
— Зачем? — спросил Никита, и Сережа его понял.
— Иногда кое-кто из ребят остается переночевать. Но редко, так что можешь считать себя тут хозяином.
Самая большая комната, куда они проследовали после осмотра спальни, была обставлена немного необычно: четыре разнокалиберных дивана, посередине трехногий журнальный столик, рядом кресло. В кресле дремала, укрывшись пледом, белобрысая девица.
— Это Нина, — объяснил шофер, — она диспетчер, самая после меня тут главная.
«Диспетчер» продрала глаза.
— Он поживет здесь, — сказал Сережа, — его зовут Никита. Теперь инструктаж. Садись.
Новый жилец сел на один из диванов. По сторонам он не оглядывался, то ли рассмотрел все первым взглядом, то ли не заинтересовался обстановкою.
— Я теперь твой начальник, — начал свой инструктаж шофер, — зовут меня Сережа.
— Я знаю.
— Откуда? Нас никто не знакомил.
— Я слышал, как тебя звали на даче.
Сережа усмехнулся, было видно, что впечатлен он проницательностью своего нового подчиненного не очень.
Никита потрогал шишку на затылке.
Шофер снова усмехнулся.
— Это было необходимо. Мы проверяли, не подсадной ли ты.
— Я знаю, что необходимо.
— Вот и хорошо. Теперь о деле. Часа через полтора сюда начнут собираться. В нашей конюшне мало профессионалок. Основной контингент — те, кто подрабатывает в свободный вечер. Многие замужем. Отсюда главная трудность — ничего нельзя планировать с большой точностью. Сегодня муж нажрался — она свободна, а завтра муж опять пьян, но у нее месячные.
— Это у кого?
— Это я к примеру. Но это тебя не должно волновать, графиками ты заниматься не должен. Вон видишь, рядом с телефоном на столике лежит журнал.
Никита посмотрел: замызганная бухгалтерская книга, заложенная шариковой ручкой.
— Там они все перечислены. Кто не может выйти, звонит, предупреждает. Очередность устанавливает Нина или ее сменщица — Магда. Кроме того, там у девчонок свои счеты, мы стараемся не вмешиваться.
— Мои обязанности?
— Твои обязанности: садишься в машину… У тебя, кстати, есть права?
— Нет.
— Ну, все равно, тебя и так одного отпускать не велено. Итак, садишься в машину с кем-нибудь из ребят. Они тоже появятся часа через полтора. Кое-кто сидит дома на телефоне и ждет от нас звонка. С одним из них, или с несколькими, когда большая группа заказана. Поднимаешься в квартиру, осматриваешь ее. Надо убедиться, что девчонкам ничего особенного не угрожает.
— Что значит особенного?
— Тут уж сам ориентируйся. Жизнь многообразна, всего не предусмотришь. Отправляем мы их не на утренник в детсад. Это с одной стороны. С другой, если ты видишь там обкуренных ублюдков с окровавленными топорами… понятно?
Никита задумчиво кивнул. Кажется, про окровавленные топоры он понял буквально.
— Еще один деликатный вопрос — извращенцы.
— Извращенцы?
— Да, тут сложно. Как правило, это люди тихие. Бывают такие, что просто приглашают девушку для беседы, по душам побазарить. Кто-то любит, чтобы его плеткой вначале похлестали. Тут все индивидуально. Договариваться надо. Работа у тебя будет, парень, творческая, так сказать. Сначала, правда, будет на кого равняться, поставлю я тебя с Борьком.
Нина хихикнула под своим пледом.
— Сходи лучше кофе свари, — сказал Сережа и снова повернулся к Никите, — это мастер своего дела, перенимай его опыт. Так, когда ты убедился, что все готово к работе, ты что делаешь?
— Запускаю… работниц.
— Сначала получаешь деньги. Всю сумму, не половину или три четверти. Садишься в машину и ждешь окончания сеанса. Вот, собственно, и все. Остальное в процессе.
— Понятно.
— Да, теперь несколько советов. Старайся ни с кем из девчонок не заводить какие-то… отношения. По-приятельски трахнуться и все такое. Особенно не рекомендуется химичить с выручкой. Мол, вызов оказался ложный, а сами банкноты поделили. Обычно такие вещи очень быстро открываются и бывает неприятно.
Никита кивал в ответ.
— И, — Сережа щелкнул себя пальцем по кадыку, — это не советую. Пить на работе, — это пить вместо работы.
— Не употребляю.
— Обнадеживает. Теперь последний совет, советую моим прежним советам следовать.
Никита не успел ни ответить, ни промолчать. Раздался звонок в дверь. Сергей встал, вышел в прихожую и кого-то впустил в квартиру. Не кого-то, а молодую, высокую довольно девицу в легком клетчатом платье, с сумочкой на сгибе загорелого локтя и очень намакияженную. Девица была привлекательная, но что-то в ней явно было не в порядке. Так сразу и не скажешь, что именно.
— Знакомься, — сказал Сережа Никите, — это Лариса. Одна из наших звезд.
Лариса подчеркнуто увидела незнакомого мужчину. Подошла к нему слегка так покачиваясь. Протянула гибкую руку вместе с вопросом.
— Никита?
— Да, — сказал Никита, выставляя свою мускулистую лапу. Он понимал, что «звезда» хочет произвести на него впечатление, но не мог решить, для чего это ей нужно. Общительный человек должен был ей подыграть как-нибудь, но ему было лень думать, как именно.
Лариса, мягко ставя ноги, обогнула стоящую посреди комнаты стриженую башню, косясь на нее с кокетливой серьезностью.
— У нас никогда не было Никит. Вот вы, значит, какие.
Никита повернулся к Сереже и спросил:
— Это она заводит «отношения» со мною?
Тот хмыкнул.
— Что-то вроде того.
11
Через две недели бывший житель Калинова уже кое-чего достиг на сутенерской ниве. И повидал. И напарники и «работницы» относились к нему с уважением. Во-первых, потому, что поняли — на него можно положиться в сложной ситуации. Когда надо было драться, по раскладу обстоятельств, дрался. Один на один, один против двоих, и даже один против одного человека и одной собаки.
Работал он чаще всего с двумя бывшими офицерами, похожими, как братья. Одного звали Андрей, а другого Дима. Ребята были веселые, бойкие, циничные. Вначале они показались ему неплохими мужиками, но сближаться он с ними не стал, и потому не выяснил, так ли это на самом деле. Как они относились к нему, понять было трудно, да он и не старался. Один недостаток они за ним числили, причем сказали ему об этом открыто — с ним было скучно пить. Он не обиделся, просто пить с ними перестал, после окончания смены тут же покидал их компанию и шел спать.
В «офисе» он в первые же дни навел порядок. Вымыл полы, отдраил кухню и ванную комнату. Туалет тоже, не побрезговал. Выбил ковры, выстирал занавески, изгнал тараканов. Единственное, с чем не мог справиться, это с табачным перегаром, впитавшимся в обои и даже в штукатурку. Он бы и на этом фронте одержал победу, когда бы не ежедневные газовые атаки, предпринимавшиеся командами кобылиц перед отправкой на работу и сразу по возвращении с нее.
Одним словом, все были откровенно поражены, когда он заявил, что ему требуется выходной день.
— Выходной?
— Тебе?
— Зачем?
Никто не мог себе этого представить, с другой стороны, никто не мог сказать, что эта просьба незаконна. Даже негры на плантациях имели выходные дни.
— Почему именно сегодня? — спросил Сережа, давно уже переставший побаиваться своего крестника и считавший его чем-то вроде полностью прирученного слона, — почему не вчера, не завтра, а, Никит?
— Вчера должна была закончиться командировка, — совершенно честно назвал причину чистоплотный сутенер, но, как часто бывает в подобных случаях, ответ прозвучал загадочно. Эту загадочность усугубили Нина и Магда, сообщив, что в последние пять-шесть дней Никита вдруг пристрастился к их телефону. До этого не обращал никакого внимания. Набирает один и тот же номер (хитрая Магда подсмотрела). И получает, судя по всему, один и тот же ответ. И ответ отрицательный. Человека, с которым он страстно желал пообщаться, звали Савелий Никитич. После коротких телефонных бесед непроницаемый Никита становился еще непроницаемее и как бы переставал временно слышать. Бесполезно было к нему обращаться с вопросами.
Выслушав все это и записав, что было нужно, Сережа сказал многозначительно:
— Выходной так выходной.
12
— Что ей надо от меня, Руслик, а? Как ты думаешь? Может, тут какая-то собака зарыта?
— Да она ко многим придирается. Тебе только кажется, что она тебя особенно не любит.
— Думаешь, кажется?
— То, что она сволочь, все знают. Ее даже преподаватели зовут Варфоломеевская дочь.
— Это отца так зовут?
— Нет, мать.
— Нет такого имени — Варфоломея.
Руслан ничего не ответил.
Они сидели на чердаке нежилого четырехэтажного дома и наблюдали за подъездом дома напротив. За подъездом и маленьким сквером. Из подъезда должна появиться одна овчарка; в сквере она будет гулять. Там ее Руслан и настигнет микроскопической пулькой.
— Я давно ее оставил в покое. Тише воды живу, ниже травы. После тех штук со столбами прошло уже больше месяца. А она никак забыть не хочет, гнобит и гнобит.
— Ты вспомни, Диня, ты же ее сильно обидел.
— Сама виновата. Всегда видно бабу, которая бесится без мужика.
— У нее есть муж.
— Служит где-то очень далеко на полигоне, вот она и…
— Стой!
Дверь подъезда открылась, но выпустила только старушку, правда, очень толстую.
— Эх, была бы она собакой.
— Кто?
— Я знал бы, что с ней сделать.
— Ну, ты вообще, Диня. Она человек, хоть и учительница.
— Если бы она была человек, оставила бы меня в покое. Хоть на время.
— Она не может, это ее работа.
— Она меня со свету сживет, Руслик. Половину своего времени я трачу на нее. Голова пухнет от ее заданий. Если я посыплюсь, она тут же все скажет бабке.
— Почему?
— Да там свои какие-то дела. Она должна доказать бабуле, что я говно. Именно бабуле. Позвонит ласковым таким голоском и скажет, что Денису, кажется, не по зубам ее программа. Может быть, следует снизить требования? Сволочь!
— Может, ты накручиваешь?
— Может, и накручиваю, но, так или иначе, рисковать нельзя. Бабка тут же отобьет телеграмму отцу, а у него как раз сейчас решается — продлять командировку или нет.
— Да-а.
— Если он узнает, что его сынок разболтался, у него совесть запищит. Бросил, забыл из-за зверей своих. А так, представляешь, было бы у нас еще месяца два-три в запасе.
— Представляю, — без вдохновения сказал Руслан.
— Я тут ночью придумал один гениальный ход.
Руслан тихо вздохнул.
— Знаешь, кто самые богатые люди в Москве?
— Миллионеры.
— Те, кто командует в собачьих клубах.
— Почему?
— Как почему? Выставки, медали, взятки-вязки. Ты думаешь, всегда награждают лучшую собаку?
— А какую?
— Кто больше даст. И платить приходится много, очень много. Но, думаю, настоящая интрига начинается, когда взятку дать невозможно.
— Это когда?
— Когда ее не берут. Купить можно любое место от последнего до второго. Только первое купить нельзя, так мне кажется.
— Уж больно туманно, Диня.
— Короче говоря, отыскиваю я песика, который претендует на победу, на дороге у него стоит конкурент, и шансов у конкурента больше. Честным способом его не объехать, взяткою не устранить. Проще заплатить мне. Вернее, нам. Как план?
— По-моему, бред.
— А если я тебе скажу, что один такой вариант уже отыскал. Шестьсот баксов. За один выстрел.
Руслан ответил не сразу.
— Диня, ты же говорил мне, что мы усыпляем только плохих собак, что мы санитары города, а теперь выясняется, что надо убивать самых лучших. Так мы не договаривались. Этим я заниматься отказываюсь.
Денис вдруг схватил друга за руку.
Внизу, на одной из пыльных ступенек лестницы, ведущей на полуразгромленный чердак, что-то хрустнуло. Осколок стекла, кирпича, гнилая доска. Что это? Крыска бежала, хвостиком махнула?
Несколько секунд ребятам казалось — послышалось?
Нет, не послышалось.
Скрипнул кирпичный песок под каблуком. Второй раз, третий, но раз от разу менее отчетливо. Какое-то крупное существо поднималось по лестнице и не желало, чтобы его услышали.
Диня посмотрел по сторонам. Обычный заброшенный чердак. Пыльный хлам, кирпичи, ветошь, кошачьи запахи. Никакого другого пути вниз, кроме занятого угрожающе поднимающимися шагами. Денис выглянул в амбразуру, через которую они собирались расстреливать заказанную овчарку. Внизу торговали арбузами. Сентябрь, будь он неладен. Огромный загон полосатых валунов. Продавец, очередь. Как ни бросай винтовку, все равно заметят. Денис наклонился к уху неподвижного Руслана.
— Если менты (шаги приближались), скажем, что охотились на ворон. Понял? На ворон.
Руслан оставался в полном оцепенении, нельзя было даже сказать, слышит он что-нибудь или нет.
— На ворон, ворон, ворон! — шептал ему на ухо Денис, обжигая ухо дыханием.
Пролом, через который они полчаса назад проникли на чердак, заслонила тень. Тень дышала тяжело и обширно. Она даже чихнула, подняв облако известковой пыли. В этом облаке выследившее существо и явилось.
Мент — со специфической тоской подумал Денис.
Милиция — проникла в сознание Руслана рассеянная мысль. Он не испугался, он не считал себя преступником и еще не привык бояться представителей закона. Но процесс пошел, что-то очень быстро прокручивалось в сознании санитара города.
Огромный пузатый милиционер в еле-еле застегнутом кителе, в сдвинутой на затылок фуражке стоял, упираясь пухлыми ладонями в края пролома.
— Ну что, пидарасы, попались? — сказал он весело.
— А в чем дело? — спокойно, почти нагло спросил его Денис.
— Это я сейчас у вас узнаю. Что вы тут — просто гадите или чего похуже.
— Просто гадим, — честно признался Денис, — закрыли ведь все туалеты, а тут приперло. Ну, куда?! До дома далеко. Не проситься же в гости со своей мочой.
Руслан молча переводил безумный взгляд с толстяка в униформе на безостановочно говорящего друга.
— Для того вы и полезли на чердак аж, да? — усмехнулся милиционер. Полумрак чердака становился все более проницаемым для его взгляда. Вот он, кажется, рассмотрел винтовку в руках молчаливого хлопца. Хорошенькое дело, парни с такой стрельбиной на крыше!
Денис медленно, по полшажка приближался к проему с милиционером, развивая и усложняя свою торопливую повесть о трудном детстве, об испорченном кашпировском «будильнике», о своей невероятной стыдливости, не позволяющей ему мочиться в каких-нибудь там кустах, о том, что рос он не только без матери, но и без теплого туалета.
— Что это у тебя там? — обратился милиционер, но не к говоруну, — к молчуну.
— А у него все еще хуже, чем у меня. Тоже ссытся в постель, к тому же немой.
— Скажи этому немому, чтобы он положил на землю свою игрушку.
— Но как же так, это же его игрушка. У него больше ничего нет. И он больше не будет. Мы тоже больше не будем.
Милиционер был человек опытный, и его ничуть не сбил с толку Денисов словесный понос. От решительных действий его удерживало только отсутствие плана. Некоторое время на чердаке сохранялось зыбкое равновесие — два вооруженных человека и болтающийся меж ними болтун. Наконец каким-то неосторожным движением Денис равновесие это нарушил и тут же вспыхнуло действие. Болтун получил сильный удар тыльной стороной ладони по губам и отлетел в сторону, захлебываясь невысказанными словами и кровью. Рука-победительница потянулась к кобуре, открыла кобуру, легла на металл. Делалось все быстро, профессионально, но с отставанием на один ход от того, что делал Руслан. Он поднял винтовку, навел и нажал на спусковой крючок в тот самый момент, когда пистолет покидал кожаное стойло.
Конечно, лейтенант не собирался никого убивать, только припугнуть хотел бы этого дурачка с мелкашкой, отобрать ее и довести дело до протокола. Руслан этого не знал и потому принял свое решение.
Он выстрелил. И попал. Попал в ногу.
Лейтенант охнул, отступил и свалился на спину, грузно и медленно. Ударился правым локтем о выступ стены, тем самым выбив пистолет сам у себя.
Пока мужественный милиционер, перебарывая боль и пережевывая матерщину, полз за ним, охотники за собаками покинули чердак и покатились вниз по лестнице.
Они бежали очень быстро и успели убежать очень далеко, так что явившиеся на призывные выстрелы лейтенанта люди не знали, куда за ними направлять погоню.
12 а
Никита открыл дверь, повернулся к своей спутнице и приложил палец к губам, та улыбнулась и на цыпочках вошла в квартиру. Прямо из прихожей лежал открытый путь на кухню, если повернуть налево — в большую комнату. Кухня была пуста, в большой комнате имелся по крайней мере один человек. Он разговаривал по телефону женским голосом.
Никита повел свою гостью направо по довольно длинному коридору. Там в глубине и полутьме он еще раз поработал ключом, открывая еще одну дверь.
— Это что, коммуналка?
— Нет.
— Какая прелесть! — воскликнула гостья войдя. Несомненно, ее восторг вызвала обстановка комнаты, состоящая, как уже описывалось выше, из одной очень широкой кровати. Ее наличие было воспринято как обнадеживающий намек.
— Снимай пальто.
— С удовольствием.
Когда Никита разместил одежду на единственном стуле и повернулся, то обнаружил гостью в непосредственной близости от себя. Черные глаза смотрели на него снизу, и это делало взгляд особенно откровенным. Надо собираться с силами, понял Никита и начал это делать. Намерение, сформировавшееся во время одинокого сидения в беседке, необходимо было все время искусственно взбадривать, ибо оно приобрело вдруг тенденцию к рассеиванию. Нет уж! Решил так решил. Сегодня же! На этой самой кровати!
Два небольших теплых существа легли на его поясницу и медленно поползли вверх. Никита вспомнил, что его собственные руки давно уже лежат у нее на плечах, значит, работа ее ладоней — это законная акция возмездия.
А глаза все смотрят.
Женские руки добрались до его шеи. Твердой, несгибаемой шеи гордо выпрямившегося мужчины. Воссоединились на четвертом и пятом позвонках.
Так, подумал Никита, не зная к чему, собственно, относится эта мысль, и тут же почувствовал, как огромная, уверенная в своей правоте сила начинает испытывать на прочность несгибаемость его шеи. Понимая, что сопротивляться не нужно и даже глупо, он тем не менее позволял себе сопротивляться.
Но противоположная воля выражала себя увереннее и довела дело до задуманного результата.
Так и не сориентировавшийся в чаще чувств Никита стал участником поцелуя. Поцелуй этот, произведенный черноглазой красоткой по всем правилам обольстительской техники, насыщенный вполне доброкачественной страстью, окончательно Никиту отрезвил.
Нет!
Не будет он делать того, что задумал. Не будет он ее любить, несмотря на всю ту ненависть, что она сегодня в нем вызывает.
Есть вещи, через которые переступать нельзя.
Но, поддаваясь искушению дешево скаламбурить, скажем, что мужчина предполагает, а женщина располагает.
Млевшая в утомительном поцелуе дева вдруг превратилась в атакующую фурию: она толкнула в широкую грудь поддавшегося неуместным размышлениям богатыря, и он, подкошенный спинкой кровати, рухнул спиной вперед.
Еще во время падения он сделал знак, что хочет взять слово.
Но ему немедленно заткнули рот горячим и шустрым языком.
Избранница его ненависти, как выяснилось по ходу дела, обладала целым рядом неординарных умений. Она могла одновременно целоваться, хохотать и стонать. Цезарь в своем роде. Она умела одновременно обниматься и раздеваться.
Даже Никите, человеку изрядно тренированному, понадобилось напряжение всех его сил, чтобы разъединить два их тела. На что у него было спрошено недовольным и угрожающим тоном:
— В чем дело?
Никита дал максимально точный ответ.
— Во мне.
— Что с тобой?
Как правило, чтобы честно и полностью ответить на этот вопрос, нужно прожить жизнь, поэтому Никита сказал первое, что чувствовал хотя бы микроскопической частью правды.
— Я устал.
— А я тебя и не заставляю ничего делать.
Это было верно. Никита обнаружил, что он уже по пояс гол и от обрушиваемого на него дыхания на груди образовалась горячая изморось.
Надо было срочно сказать что-то решительное, потому что грудь ненавидимой гостьи тоже вырвалась на свободу, и столкновение их будет подобно сексу.
— А потом я же тебе рассказывал.
— Что ты мне рассказывал? — невнятно и томно шептала черноглазая, продолжая целенаправленное применение ласк.
— Ну помнишь, стройотряд.
— Какой стройотряд?
— Ну, Дальний Восток.
— Какой Дальний Восток?!
— Энцефалитный клещ.
— Клещ?!
Причем, ведя эти переговоры, она, как недобросовестный политик, разрешала своим рукам действовать, захватывая новые и новые плацдармы.
— Я же болел три года.
Слово «болезнь» единственное, которое способно отрезвить человека, ворвавшегося в чужую постель.
— Болел?
— Ты забыла.
Нет, она не забыла, она что-то помнила. И то, что вспоминалось, не выглядело опасным.
— Но ты же просто лежал.
— Три года.
— Это ведь прошло все, да?
— Не все.
Пауза. Тихое борение дыханий. Каких-то мыслей шевеление.
— Что ты хочешь сказать?
— Я уже почти все сказал. Два раза.
— А именно.
— Железа, вот здесь.
— Вот здесь? — спросили прикоснувшиеся губы.
— Ты пойми — железа.
— Я понимаю.
— Они все связаны, она и остальные.
— Так ты хочешь сказать…
— Да. Мне трудно спать с женщиной. Вернее, совсем не могу. А жаль.
— Правда? — в этом слове был такой оттенок, будто спрашивающая вдруг обнаружила, что лежит в одной постели с трупом.
Никита кивнул, но понял, что в темноте и в лежачем положении этого недостаточно, и сказал:
— Правда.
Она продолжала молчать и прижиматься к нему. Дыхание не сделалось менее горячим. Сейчас она успокоится, остынет, встанет, оденется, и они будут друзьями, с надеждой, переходящей в уверенность, думал Никита. Женщины охотно заводят себе приятелей импотентов.
— Значит, импотент?
— Да.
— А это что, а?!
Каким-то одним кинжальным усилием проницательная женщина вскрыла джинсы уклончивого партнера и на свет явилось то, что она имела в виду все дни их знакомства, а сегодня особенно. Явилось оно во всей устрашающей красоте и, безусловно, не поддающейся сомнению мощи.
— Что это, Саша?!
— Я не Саша, — закричал в отчаянье Никита.
— А кто же ты?
— Я подлец.
— Оч-чень может быть, — забормотала полуобманутая, изготавливаясь для решительного рывка. Никита вовремя почувствовал приближение опасности, и когда возмущенная гостья рванулась, чтобы впиться зубами в горло его лучшему другу, он ловко повернулся на левый бок и начал отползать.
— А-а-а! — закричала стоящая на четвереньках она, — я поняла!
— Да ничего ты не поняла, — сокрушенно отвечал все дальше уползавший хозяин кровати.
— Ты голубой!
— Да нет же!
— Тогда почему?! — и она бросилась за ним в погоню и очень скоро догнала, потому что движения беглеца в полуспущенных джинсах были затруднены. Сцепившись в тяжелой схватке на другом конце ложа, странная пара на мгновение застыла, а потом глухо рухнула на пол. И уже там, на полу, Никита, тяжело дыша, сказал:
— Я хотел, честно говорю, хотел тебя трахнуть.
— Так что же тебе мешает? — спрашивала партнерша, возмущенно потрясая свидетельство его мужского достоинства.
— Нельзя, пойми, нельзя!
— Это почему же нельзя? Я согласна!
— Нет! — вскрикнул Никита, окончательно вырываясь из женской руки. Она осталась сидеть ни с чем на полу.
— Так почему же нельзя? — с животной, смертельной обидой в голосе спросила она.
Никита торопливо застегивал джинсы.
— Понимаешь, я тебя люблю.
— Ах вот оно что.
— Но по-настоящему.
— Понимаю, понимаю, — бешено сверкая глазами, кивала сидящая.
— Это не то, что ты думаешь.
— А я ничего не думаю. Пока.
— Я люблю тебя сильнее, чем ты представить себе можешь.
— Даже трахнуть хотел, да?
— Прости меня за это.
— За то, что хотел, или за то, что не стал?
— За все прости.
— Знаешь что?
— Что?!
Она схватила настольную лампу с прикроватной тумбочки и изо всех сил швырнула в него. Попала. Но руки Никиты, свободные от возни с джинсами, лампу поймали, причем таким образом, что она оказалась совершенно невредимой.
— Ты мне правда нравишься. И как женщина. Я еще никому этого не говорил.
— Ты подлец, Саша.
— Я не Саша.
— Правильно, ты не Саша, ты козел.
— Я должен был тебе объяснить, ты страшно привлекательная женщина…
— Страшно, страшно, и ты скоро это поймешь, мразь.
— Я очень не хочу, чтобы ты… я даже не знаю, как тут говорить… Мне, наверное, хуже, чем тебе.
— Будет хуже, не сомневайся.
Она встала, оделась, подошла к Никите и влепила ему тяжеленную пощечину.
И расхохоталась.
— Так ты плачешь, ублюдок. Вот какие мы чувствительные. Но это только начало, слезки-то ведь не кровавые пока.
Произнеся эту эффектную фразу, она вышла в коридор и быстро направилась к двери. Но возле нее остановилась. Какая-то мысль образовалась в ней. Помедлив несколько секунд, она решительно шагнула в сторону комнаты с телефоном, бодро вошла туда, предваряя свое появление вопросом:
— Что тут у вас?
13
— Кто там?
Никита замялся. Он не знал, как себя назвать, ему нужно было знать, кто спрашивает.
— Кто это?! Я же вижу, что кто-то есть!
Доносившийся с той стороны женский голос видоизменился — говорящая приблизила глаз к дверному глазку.
— Мне нужен Савелий Никитич.
— Его нет, а кто это?
— Где ОН?
— А кто вы такой?
— Должник.
— Кто-кто? Савелий Никитич уже давно не преподает и никакими задолженностями не занимается.
Никита понял, если не убрать это препятствие в виде одноглазой двери, разговор уползет в кювет полного бреда.
— Откройте, пожалуйста.
— До свидания, молодой человек.
— Послушайте…
— Да чего вам надо?!
— Савелий Никитич…
— Его нет, я уже говорила.
— А когда он будет?
— Неизвестно. Очень нескоро.
— Послушайте, я не могу ждать.
— Обратитесь к другому преподавателю.
— Я не студент.
На несколько секунд за дверью установилось молчание. Сообщение, что звонящий не студент, потрясло родственницу Савелия Никитича. Родственницу ли? Когда молчание стало растягиваться до размеров неловкости, Никита снова потянулся к звонку. Может, обладательница этого отвратительного, пожилого, истеричного голоса пошла позвать кого-нибудь помоложе и поразумнее? Не повезло, опять захрипела припавшая к глазку бронхиальная астма шестидесяти лет.
— Не хулиганьте!
— Я не хулиганю.
— Никитка, вызывай милицию!
Гостю показалось, что его снова шарахнули по голове, только чуть-чуть слабее, чем в первый раз. В-третьих, зачем эта старуха хочет, чтобы он вызвал милицию; во-вторых, откуда она знает его? И во-первых, почему так фамильярно к нему обращается?
— Хорошо, я вызову милицию, если вам очень хочется, но это не нужно. У меня к вам безопасное дело.
— И психиатричку, Никитка, и психиатричку, — командовала за дверью старуха. И тут наконец визитер понял, что Никит в этом эпизоде занято больше одного. Для какой-то дикой симметрии второй задействован с той стороны двери.
— Я все понял! — сказал первый. Одной рукой он нажал звонок, другой достал из кармана пачку денег.
— Учтите, милиция уже выехала.
— А я принес долг. Не вам, не бойтесь, Савелию Никитичу. А милицию я уважаю.
Никита повертел перед глазком пачку денег. Это видение установило за дверью тишину. Неизвестно чем чреватую.
— Давным-давно занимал, теперь могу отдать, понятно?
Вот это «давным-давно» и смутило, как потом выяснилось, невидимую жительницу квартиры.
— Все равно я не могу впустить вас в дом. Я одна, а по нынешним временам…
— А Никита? — спросил Никита, он не счел возможным применить домашнее уменьшительное имя.
— Спускайтесь во двор. Садитесь на качели. Когда я увижу вас в окно, спущусь.
Пытаясь разобраться в своем недоумении, нестудент пошел вниз. По дороге он обнаружил, что помимо недоумения испытывает и сильную досаду. Не так он представлял себе начало этого дела. Слишком не так.
Может быть, имеет смысл уйти? О чем беседовать с этой помешавшейся на бытовой бдительности дурой? Неизвестно даже, кто она ему. Не исключено, что просто домработница.
И на какой почве завелся у них этот Никитка?
Раскачиваясь на поскрипывающих качелях, бороздя каблуком сухой песок, Никита следил за дверью парадного.
Появилась.
Нет, не она. Он был доволен тем, что к нему подойдет не эта сухопарая дылда в зеленом платье и белом платочке, с усохшей авоськой в жилистой руке. Уходи, уходи. Сгинь за поворотом!
С расстояния в двадцать шагов недоверчивая хранительница квартиры показалась Никите даже отчасти привлекательной. Округлая, осанистая, невысокая пожилая мадам. Гладко зачесанные черные волосы, платье… он не успел рассмотреть, она уже подошла.
— Это вы, — сказала она утвердительно.
Отброшенное в момент вставания, сиденье качелей ударило Никиту под коленки, и сразу обнаружилась некоторая неустойчивость его положения.
— Я.
— Что за деньги?
Никита внимательно поглядел на пачку десятитысячных бумажек.
— Российские рубли.
— Продолжаете придуриваться?
— Нет, нет, — замотал головой молодой человек, — меня зовут Никита.
Острые, черные глаза женщины подернулись пеплом сдерживаемого гнева. Ничего не сказав, она развернулась и пошла к дому. Никита догнал ее и стал на бегу предъявлять ей многочисленные, заранее приготовленные документы.
— Это правда, я не шучу, с самого начала не шучу. Я правда Никита, вот паспорт.
Женщина остановилась и процедила почти не открывая рта:
— Какого черта вы мне суете свою сберкнижку?
— Ах да, это потом, сначала паспорт, я же понимаю. Смотрите, смотрите, Никита Добрынин.
— Ну и что?
Многочисленные бледные морщины сбегались к глазам, губы тоже изрезаны мелкими вертикальными морщинками. На щеках светлый пушок.
Никита поскреб кончик своего носа открытым паспортом.
— А вы кто?
Морщинки у глаз сделались резче, она прищурилась.
— Меня зовут Варфоломея Ивановна. Я жена Савелия Никитича. А вот кто вы такой?
— А тот юноша, что должен был вызвать милицию и психушку, ваш сын?
Варфоломея Ивановна поправила газовый платок, прикрывавший присыпанную пигментными пятнами шею. Никита тоже что-то поправил в своем туалете.
— Я тоже сын Савелия Никитича.
Короткие пальцы мадам еще раз прошлись по газовой ткани.
— Ну что ж, я ждала чего-нибудь в этом духе. Ну-с, и что дальше?
— Дальше?
— Да, я хочу узнать, не считаете ли вы меня своей матерью?
— Моя мама умерла. Недавно.
— И на том спасибо.
— Не надо так говорить о моей матери.
Варфоломея Ивановна пригладила волосы.
— Да, лучше об отце. С чего это вы решили, что Савелий Никитич ваш батюшка?
— Мне так сказала мама. Она меня никогда не обманывала. Никогда.
— Если это ваш единственный аргумент, то я все же вынуждена буду сказать несколько нелестных слов в адрес вашей родительницы.
— Не надо.
Варфоломея Ивановна шумно втянула воздух злыми ноздрями.
— Вот второй аргумент, — Никита протянул собеседнице давешнюю сберкнижку.
Собеседница брезгливо убрала руки за спину.
— Ну и что?
— Двадцать шесть лет назад, — изо всех сил сдерживаясь, начал говорить Никита, — ваш муж и мой отец вел раскопки недалеко от города Калинова…
— Ах, Калинова! — встрепенулось в даме все ее ехидство.
Тем не менее, название города о чем-то ей говорило.
— Да, Калинова. Это замечательный центр старинной архитектуры, а моя мама работала тогда в библиотеке. Там же они и познакомились.
— Понятно.
— Вот видите, вы способны.
— Что я способна?
— Не злиться, а верить. Через девять месяцев, как и положено, родился я.
— Значит, вы не недоносок?
— Потом тяжело болел, но родился совершенно здоровым.
— А чем болели, молодой человек?
— Это долго рассказывать. Если мы познакомимся поближе…
Варфоломея Ивановна опять пригладила волосы, кажется, она успокаивала себя этими движениями.
— Жаль, что не рассказали сейчас, другого случая не представится.
— Почему? — в вопросе Никиты было столько искренности, что собеседница закрыла глаза, чтобы в темноте перебороть закипающую в душе ярость. Так, с закрытыми глазами, она и заговорила.
— Вот что, молодой человек, Савелий Никитич был в молодости весьма привлекательным мужчиной…
— Как я сейчас?
Варфоломея Ивановна поперхнулась, но, пересилив себя, продолжила.
— Он много разъезжал по стране, у него было много женщин. Слишком, может быть, много. И не всегда он был инициатором сближения. Так вот, если все увлекающиеся дамы шестидесятых годов, с которыми он имел удовольствие переспать, начнут требовать, чтобы он усыновил их последующих детей, что начнется?
На несколько секунд установилось молчание. Ораторша переводила дух.
— И знаете, что самое противное? Пока он был бездомным аспирантом, никто не стремился с ним породниться, стоило ему превратиться в фигуру европейского масштаба, все всмотрелись в своих чад и тут же разглядели в них его незабываемые черты.
— Моя мама не обращалась.
Варфоломея оскорбительно усмехнулась.
— Обраща-алась. Письма писала. Помоги, Савушка, устроить моего сынка в институт.
— Когда?
— Лет, наверное, семь назад, точно я не помню. Мол, в армию моему сыну идти надобно, а он такой домашний, он там пропадет, ему бы в Москву в ВУЗ.
Никита растерянно похлопал себя по щеке стопкой документов.
— Этого не может быть.
Варфоломея Ивановна усмехнулась еще обиднее, чем давеча, обнажая два ряда вставных зубов. Зрелище этих первоклассных челюстей во рту у морщинистой гидры сильно почему-то подействовало на Никиту, он потерял уверенность в себе.
А она пела:
— Почему же не может? Матери обычно беспокоятся о своих детишках.
— Вы лжете.
Она откровенно засмеялась. Появление пристыженной бледности на щеках этого головореза ее приятно возбуждало.
— Она написала только одно письмо, когда я родился. Он, Савелий Никитич, прислал немного денег и велел положить на мой счет до восемнадцати лет. Так мама и сделала.
— И это доказательство, вот эта сберкнижечка?! Вы покажите мне письмо, где написано, что эти деньги выслал он и выслал потому, что считает родившегося ребенка своим?! Он мог просто из жалости послать их. Переспал, пожалел…
Лицо Никиты покрылось такими внезапными пятнами, что Варфоломея Ивановна предусмотрительно отшатнулась. Но Никита не сказал ничего страшного.
— Так вы не возьмете деньги, здесь часть того, что я должен, если пересчитать по курсу. Когда я заболел, деньги пришлось снять, мне нужны были особые лекарства.
— Нет, эти деньги я не возьму, это все равно что признать вас сыном моего мужа.
— А почему вы не хотите этого признать?
— Не во мне тут дело.
— А в ком?
Собеседница вернула руки из-за спины и самоуверенно сложила их на груди.
— В Савелии Никитиче. Он не ответил на письма вашей матери, значит, не признал вас своим сыном. Понятно? Деньги — это всего лишь подачка. Он думал, что его шантажируют, и послал деньги на аборт. Очень многие мужчины так делают. Я не оправдываю своего мужа, и вообще здесь речь не о его моральном облике. Речь о том, что простое сопоставление фактов не в вашу пользу. И я рассуждаю об этой душещипательной истории так решительно только потому, что не раз сталкивалась с подобными ситуациями, касающимися Савелия Никитича, и мне за сто километров видны, причем насквозь, все недобросовестные ухищрения.
Никита стал неловко прятать в карман ветровки стопку несчастных бумажек, называемых «документами». Они вдруг показались ему невыносимо жалкими, а сам он, их предъявитель, убогим провинциальным идиотом. Даже что-то вроде стыда перед этой прямолинейной, но честной женщиной появилось у него внутри. Но только на очень короткое время. С одной стороны, он с готовностью умер бы от этого стыда, но с другой, не мог поверить в неправоту своей матери. Эти внутренние борения выразились в следующей фразе.
— Я вам верю, но мне нужно самому поговорить с Савелием Никитичем.
Собеседницу, уже почти ощутившую вкус победы, это разумное желание почему-то возмутило.
— Зачем это?!
— Не знаю, но знаю, что нужно.
— Хотите впечатлить его внешним сходством? Я вас разочарую — между вами нет ничего общего. Ну вот нисколечко. Абсолютно чужая кровь. У вас голубые глаза, у него карие, у него нос благородный, горбатый, а у вас…
— Вы чего-то боитесь?
Варфоломея Ивановна понизила голос и сказала вкрадчиво, почти доверительно:
— Чтобы раз и навсегда закончить эти бессмысленные переговоры, я вам скажу — лезть в чужую семью, это омерзительно.
14
За завтраком Марианна Всеволодовна объявила:
— Я получила письмо от твоего отца.
Денис и Руслан бросили есть одновременно и с одинаковым интересом уставились на нее.
Церемонная старушка сначала как следует разлила чай, положила один кусок сахара в свою чашку и начала размешивать. Сахар был не из быстрорастворимых.
— И что он пишет? — спросил Руслан. Перспектива быстрого возвращения Александра Петровича пугала его больше, чем Дениса. Не потому что он был трусливее, просто, обладая лучшим воображением, живее себе представлял, с каким грохотом обрушится противозаконная конструкция их бизнеса при его появлении. Скрыть разбазаривание ядов не удастся, это ясно. И что тогда отвечать на вопрос, куда они подевались? Какая потребуется громоздкая и длинная ложь, чтобы скрыть всех перебитых собачек и милиционерские раны (хорошо еще, если они оказались не смертельными).
То, что первым откликнулся на ее сообщение не внук, а друг его, Марианна Всеволодовна сочла проявлением вежливости, но никак не нетерпения. Она поощрительно посмотрела на Руслана и спросила у внука.
— А тебе, Денис, что, не интересно?
— Конечно, интересно, бабуль.
Конверт появился на свет из кармана идеально чистого фартука, был неторопливо развернут сложенный вчетверо лист. На нос помещены очки, неугодные в другое время.
— Самое главное, испытания препарата прошли успешно. Даже очень. Потребуются кое-какие доработки в клинических условиях, но в целом — успех полный.
— Молодец папаня! — с чувством сказал Денис.
Марианна Всеволодовна бросила в его сторону особенный взгляд сквозь стекла, в нем не было недоверия к искренности выраженного чувства.
— Твоими успехами по итогам первой четверти он доволен. Хвалит и тебя, и меня. За что меня, тебе понятно?
— Конечно, бабуль. Чего там говорить, без тебя мы бы с Русликом могли бы немножко разболтаться.
— Хотелось бы верить, что ты именно так и думаешь.
— И не только Диня, я тоже так думаю, Марианна Всеволодовна, — торопливо подтвердил Руслан, после того как друг незаметно, но больно наступил ему на ногу.
— Спасибо, Руслан, — улыбнулась старушка, — тебе я верю.
Собачий убивец потупился. Он знал эту свою особенность — никому никогда не приходило в голову сомневаться в его словах. Последние месяцы ему часто приходилось из-за этого испытывать болезненные приступы смущения. Правда, раз от разу укусы этого чувства становились все менее ощутимыми. Порою он даже ощущал легкое головокружение от успехов какой-нибудь отдельно взятой лжи. Но иногда он вдруг остро и ясно прозревал, что в мире действует закон сохранения (чего-то), как закон сохранения энергии, рано или поздно он достанет его своим извивающимся жалом. И тогда ему становилось страшно.
Как сейчас, во время чтения этого письма из Африки.
— Так, что тут еще? Деньги он передаст с оказией, и оказия эта будет ближе к Новому году.
— К Новому году? — с трудом сдерживая радость, переспросил Денис.
— Да, да. Его очень хвалил профессор Ланжере, а может, и не Ланжере, отец твой пишет латинскими буквами его фамилию, а ты знаешь эти французские слова, может, там половина букв не читается. Вот и все.
— Так он остается там еще, да? Ты не говоришь, бабуль, самого главного!
— Разве я не сообщила в самом начале?
— Забыла, бабуль, забыла.
— Я ничего не забываю. Например, что звонила мама Руслана и просила, чтобы он связался с ней.
— Конечно, — почти прохрипел взволнованный Руслан.
— Давай закончим с письмом.
— Может быть, сначала закончим завтрак?
Было доподлинно известно, что спорить с Марианной Всеволодовной по поводу способов и времени приема пищи бесполезно, поэтому Денис стал молча запихивать в рот остатки бутербродов, щеки у него раздулись, глаза сердито сверкали. Руслан выглядел еще хуже.
— Да, — сказала Марианна Всеволодовна и легким движением коснулась своих проволочных седин на виске, — да, ему сделали такое предложение, твоему отцу. И он его принял. И с научной и с финансовой точки зрения оно его устраивает. Поведение сына внушает определенное доверие…
Денис что-то хотел сказать, но набитый рот есть набитый рот.
Руслан встал и, судорожно глотая, бросился вон из кухни.
— Куда ты? — последовал за ним вопрос старушки.
— Позвоню маме, — кое-как произнес беглец из-за двери. Его душили чувства, к матери не относящиеся. Кажется, была среди них и радость.
Когда Денис устроился в кресле за отцовским столом и самоуверенно закурил, испытывая, по-видимому, состояние, близкое к блаженству, друг его скорчился над телефоном, и по лицу его было видно, что ему не так хорошо, как курильщику. Он в самом деле звонил матери, потому что не любил откладывать на потом неприятные дела. Раз главного разоблачения приходилось ждать еще несколько месяцев, имеет смысл поскорее претерпеть малую неприятность, чтобы полностью очистить жизненные горизонты.
Ольга Даниловна Бахно, урожденная Свирская, была человеком нервным, вспыльчивым и неутомимым в ссорах. Можно было бы подумать, что отец-математик родил Руслана не от нее, когда бы это не было точно известно.
— Здравствуй, мамочка, — запел неприятно-угодливым баском «собачья гроза».
Из разговора выяснилось, что конфликт Ольги Даниловны с «учителем арифметики» не исчерпан (на что никто из родственников и знакомых всерьез и не рассчитывал). Подлецом и неблагодарной сволочью она его продолжает считать; несмотря на полное им выполнение всех финансовых обязательств в связи с разводом, она полагает себя безобразно и подло обманутой. При этом она подозревает своего бывшего мужа, и поныне действующего отца Руслана, Антона Борисовича Бахно в том, что он со скользкой дорожки тихого разврата вышел на столбовую дорогу того же назначения. В связи с этим она обращается к своему сыну с настоятельной просьбой: отцу его, этому Антону Борисовичу, в отвратительном поведении никак не содействовать.
— Как не содействовать? — не понял сбитый с толку речевым потоком Руслан.
— Никак!
Что имелось в виду: если Антон Борисович явится на дачу со своими собутыльниками и бабами, ключа ему не выдавать. Ни под каким видом.
— Ты меня понял?
— Да, мам.
Денис нескрываемо веселился, стараясь при этом каждой выдыхаемой струей дыма попасть в открытую форточку.
— А что, почему бы твоему отцу действительно не закатиться сюда с девчонками, а?
Руслан неуверенно покачал головой.
— Нет, он никогда в жизни не сделал бы такого. Я просто не могу себе это представить.
Тут Денис произнес сентенцию, которую можно было бы счесть философской, если бы ее произнес философ.
— Когда бы мы делали только то, что можем себе представить, как было бы скучно.
Руслан весьма тяжело вздохнул.
— Да ладно тебе. Ты же сам слышал — все в порядке. Целых три еще месяца впереди.
— А потом?
— А что будет потом, увидим собственными глазами и тогда же решим, стоит ли этого бояться. Топор над нами временно не висит. Займемся чем?
— Не знаю, может, винтовку почистить?
— Займись, займись, а меня ждет писатель Сорокин.
— Кто-кто?
— Буду наизусть зубрить.
15
Следующий выходной Никита попросил уже через три дня. Третий через два дня после второго. Один раз суперсутенер попросил, чтобы его отпустили на круглые сутки. Его прямой начальник, бригадир Сережа, сказал, что ему это не нравится.
— Или ты работаешь, или ты не работаешь.
— Мне очень нужно, — ответил Никита.
Бригадир понял, что дальнейшее обсуждение бессмысленно.
— Хорошо, но эти два дня я запишу в твой долг, — сказал он. Сказал только для того, чтобы сохранить лицо, ибо сам не знал, что подразумевается им под этими словами. К его удивлению, Никита кивнул.
— Я долги отдаю.
Зачем ему было нужно столько времени?
Он установил слежку за домом Савелия Никитича. Он решил поговорить с ним и чем дальше, тем больше утверждался в этом желании. Несмотря на злобную отповедь его супруги, он не перестал считать себя сыном археолога. Хуже того, по зрелом ночном размышлении он пришел к выводу, что оскал Варфоломеи безусловно свидетельствует в его, Никиты, пользу. Она просто бдительная клуша, стоящая на страже семейного гнезда, и готова на любые подлости, чтобы оградить интересы своих птенцов. Любые залетные, особенно из прошлой жизни, дети непутевого академика несут прямую ее птенцам угрозу. Угрозу дележа того, что было нажито долгими годами совместной жизни. Когда бы он, калиновский гость, не имел никаких шансов на завоевание отцовского сердца, с ним обошлись бы ласково, как принято обходиться с сумасшедшими. Чаем бы напоили и, участливо побеседовав, отправили восвояси. Нет, они ждали, ждали его появления. Ждали и боялись. Поэтому при первом его появлении, даже не попытавшись выяснить, что он за человек, начали громоздить перед ним баррикаду лжи и злобы. А отца они прячут! Вдруг он признает своего назаконнорожденного сынка? Увидит и признает.
Короче говоря, из этой ситуации возможен только один выход. Самому поговорить с отцом. Если он откажется… а почему он должен отказаться?! Ведь возникшему из далекого прошлого дитяте ничего не надо. Ни денег, ни жилья. Варфоломее этого никогда не объяснить, но мужчина понять должен. Тем более академик. Сын приехал, чтобы отдать долги, не потому что на самом деле считает себя должником, а потому что только желанием их отдать можно доказать отсутствие претензий.
Мать говорила, что Никитой его назвали в честь деда, то есть отца Савелия Никитича. Вот вам еще одно доказательство.
Когда его приплюсуешь ко всем прочим, картина становится невыносимо прозрачной.
Все свои выходные Никита провел в укромном месте между двумя строительными вагончиками в наблюдении за хорошо знакомым подъездом. Пять или шесть раз имел возможность наблюдать милейшую Варфоломею Ивановну выходящей из него и столько же раз возвращающейся. Возможно, среди тех, кто появлялся из высокой деревянной двери, был и Никита-второй, брат младший. Но кто именно? Один, примерно двадцатилетний рослый симпатичный парень, долго казался наблюдателю похожим на его единокровного брата. Но однажды он при встрече с Варфоломеей подчеркнуто раскланялся. Никите пришлось признать — всего лишь сосед. Да и вообще, существует ли этот мифический Никита. Не мгновенная ли это выдумка, чтобы отпугнуть незваного гостя? Жена академика женщина, судя по всему, и изобретательная, и готовая на все. Придумала же она, не моргнув глазом, историю с просительными письмами матери. Этих писем не могло быть, потому что сын библиотекарши никогда ни в какой вуз поступать не собирался.
Отца он тоже за эти пять разрозненных дней наблюдения не обнаружил. Впрочем, — Никита достал из бумажника фотографию Савелия Никитича двадцатипятилетней давности — отец мог измениться за эти годы. Но не до такой же степени, чтобы обмануть любящий и специально нацеленный сыновний глаз!
Нет, академик или не выходил это время из квартиры, или не вернулся все еще из научной командировки. Американские лекции до сих пор держат его вдалеке от сына. Воронежский курган не отпускает, Пантикапей вцепился. Есть, к сожалению, и другие возможности. Он скрылся, услышав, что разыскивается каким-то сумасшедшим, выдающим себя за его сына. Никита отогнал эту мысль, помотав для верности головой. Может быть, лечится? Живет с другой бабой? Тогда почему так бесится эта?
Вопросов было очень много, но еще хуже было то, что ответов оказывалось еще больше. Что же все-таки происходит в этой семейке? Желание распутать этот ядовитый узел становилось просто обжигающим.
А это еще что?
Никита в очередной раз увидел Варфоломею Ивановну, но внутреннее вопрошание относилось не к ней, а к девушке, одного примерно с нею роста, черноволосой, одетой в длинный кожаный плащ, безбожно стянутый поясом для публичной демонстрации талии.
Сразу можно было сказать, что они давно знакомы. Всякий, кто понаблюдал бы за тем, как они беседуют, заподозрил бы, что они родственницы. Именно родственницы, а не подружки — слишком велика разница в возрасте. Тетка — племянница? Свекровь — невестка?
Скрылись за дверью.
Никита понял — это улов. Это добыча. Это нить, потянув за которую, и так далее.
Надо дождаться, когда носительница кожаного плаща выйдет обратно. Ее нельзя упустить, и он ее не упустит. Судя по всему, она бывает здесь нечасто.
Ждать Никита был готов сколько угодно, но втайне надеялся, что ночевать в дыре между вагончиками ему все же не придется. И холодновато, и неохота обращать на себя лишнее внимание. К тому же возле этих вагончиков каждый пьяный норовит освободить свой мочевой пузырь. Он уже охрип, отпугивая их кашлем. Да и к началу ночной работы неплохо бы успеть.
И ему повезло.
Кожаное пальто появилось примерно через час (выпили по чашечке кофе) и сосредоточенно двинулось по тротуару. Свернуло в арку. Никита выпрыгнул из засады и, на ходу разминая затекшие ноги, бросился следом.
Нельзя затевать фарс знакомства под окнами, из которых может выглянуть подозрительная старуха. Но, гонясь за конспирацией, можно было, не обладая настоящими сыщицкими навыками, упустить девушку.
Она направляется к метро. Слава богу, что не к такси.
В густонаселенном помещении Никита сократил дистанцию между собой и варфоломеевской родственницей шагов до десяти. Сел с нею в один вагон, проехал пять станций, косясь голубым глазом до боли в нем, как если бы перед ним была не беззаботная москвичка, а мечтающая уйти от слежки Мата Хари.
Самое трудное в деле знакомства — первые несколько слов. Дальше все или идет к черту, или идет как по маслу. Эти первые слова могут быть какими угодно, глупыми, странными, одно обязательно — короткими. Если окажутся остроумными, ничего больше желать нельзя.
В описываемом случае необходимо было соблюсти еще одно условие: объект ни в коем случае не должен почувствовать, что за волшебной случайностью знакомства стоит какая-то подготовка.
Решение проблемы явилось прямо на эскалаторе, ползущем вверх. Раздвинув нескольких шипящих пенсионеров, Никита преодолел дюжину ступенек и деловито спросил у черной, благоуханной, рассеянно выбившейся из-под платка пряди:
— Девушка, вы сходите?
Родственница усмехнулась и заинтересованно покосилась.
Он не сам придумал этот назамысловатый способ знакомства, просто вовремя вспомнил, что таким образом познакомился со своей будущей женой герой одного современного романа. Причем ни названия романа, ни имени автора он не помнил.
15 а
Здание школы выглядело стандартно: темный кирпич, белые рамы, четыре этажа, к левому крылу приделан спортзал, по дну которого туда-сюда проносится тупой топот.
Никита пошел к правому крылу. Не успел взяться за ручку двери, как та распахнулась сама. Изнутри, хохоча, как шампанское, вылетела стайка самочек. Увидев незнакомого мужчину, они перешли с хохота на хихиканье. Перешли и ушли, искоса посверкивая глазами, полными недетских огней. Но сутенер был выходной, он просто вошел внутрь. Светлана, правда, просила его не делать этого — все-таки она считается замужней учительницей, зачем подвергать сомнениям репутацию и без того сомнительную. Но он не мог удержаться. Все, что хоть как-нибудь касалось его новой семьи, вызывало в нем бешеный интерес.
Первый этаж был хранителем основных школьных запахов. В калиновской школе доминировали ароматы раздевалки, половых тряпок из конуры уборщицы тети Наины. Здесь тоже пахло неприятно, но по-другому. Было гулко и пусто, как на утреннем вокзале. Пол застелен больничным линолеумом. Окна по правую сторону коридора выходили на мокрый двор с ржавым остовом грузовика посередине. По левую сторону двери классных комнат. За ними чувствовалась какая-то сгущенная, искусственно приглушенная жизнь. Никита двинулся вдоль, щелкая липким линолеумом и пристально поглядывая на двери. Ему нужен был десятый «а», именно в этом «а» Светлана Савельевна Воронина преподавала родную литературу. На первом этаже этого класса не оказалось. На втором тоже. Отыскался он на третьем. Замедляя щелканье до предела, Никита приблизился к двери. По собственному опыту зная, что двери в школах никогда не прикрываются плотно, он хотел высмотреть через неизбежную щель свою сестрицу. Каково выступает в качестве учительницы девушка с эскалатора.
Но ему не повезло — пришлось удовольствоваться зрелищем отвечающего ученика. А в нем не было ничего особенного: среднего роста парнишка, белобрысый, голос отчетливый, нагловатый. Самым интересным в нем был не голос: а то, что этим голосом произносилось.
— «…повар там был знакомый Эраст ты мигнешь он отворотится этот Эраст а ты руками ватника голову из чана хвать да за полу да двор в снег бросишь шабер из валенка дерг да по темени тюк тюк расколупаешь черепок на мозги и ешь и ешь ешь не ох наешься так что вспотеешь аж вот как я жили а теперь в магазинах и не бывает совсем я ходил я кланялся просил что ж они уважили фронтовика не могут почему нет в магазинах это не дело я ведь мил человек прекрасно разбирался во всем точно сделано что я понимаю когда надо делать правильно когда промерять обниматься надо только за молочное видо в этом простое равновесие.
Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:
Молочное видо будем понимать как нетто.
Гнилое бридо — очищенный коричневый или корневой творог.
Мокрое бридо — простейший реактор.
А кисет?
С кисетом было трудненько, мил человек».
Никита отлип от щели, огляделся по сторонам и защелкал к выходу.
Самое время описать Светлану. Она увидена глазами Никиты, сидящего на скамейке в глубине бульвара. Светлана нисходит к нему по плавно наклонной, романтично заметенной опавшими листьями дорожке. Одета не в кожаный плащ, а в широкое шерстяное пальто. Никита тем не менее отлично помнит очертания ее фигуры, и ему нравится воображаемое сочетание давешней плотности и сегодняшней легкости.
Пройдет немало лет, прежде чем она превратится в приземистую коротышку вроде Варфоломеи. Зато глаза навсегда окажутся посаженными широко. В них будет время от времени возникать непреднамеренный блеск. Острый, аккуратный, даже слишком аккуратный подбородок будет в такие моменты подергиваться. Тайком от хозяйки. В какие именно моменты все это будет случаться, сейчас рассуждать не время.
— Привет, — сказала Светлана, подойдя вплотную к Никите. Наклонила голову набок, отчего черные волосы рассыпались по плечу.
Никита подумал, что Варфоломея Ивановна, очевидно, красит волосы, и встал.
— Давно ждешь?
— Я заходил к тебе в школу.
— Да?
Они плечом к плечу двинулись вниз по бульвару.
— Я подслушивал у двери твоего класса.
— Тебя кто-нибудь видел?
— Почему ты боишься? Почему за всякого, кто бродит по школе, должна отвечать ты?
— Ладно. И что же ты услышал?
— Парнишка там один стоял у доски и говорил странно. Вот, оказывается, чему учат в современных школах.
Светлана быстро снизу вверх посмотрела на своего спутника. Вообще-то его монументальный, невозмутимый облик ей нравился, но сейчас глаза ее угрожающе сияли и аккуратный подбородок едва заметно двигался.
— Странно, говоришь?
Никита хмыкнул.
— У меня такое в голове, когда я сплю.
— И тебе жалко детишек, которые вынуждены это зубрить наизусть, как мы зубрили Крылова и Пушкина?
Никита пожал плечами, этот разговор не был для него принципиальным. Он чувствовал, что сердит Светлану, но ему не было ее жаль. Просто он не знал, имеет смысл сердить ее или нет. К тому же чувствовалось, что она спорит не столько с ним, сколько с человеком, которого здесь нет. Или даже не с человеком, а с мнением.
— Если я слышу бред, то я так и говорю — бред.
— Знаешь, я очень не люблю, когда человек начинает безапелляционно судить о том, в чем не разбирается. Литература это не хоккей.
— Я не люблю хоккей, — честно сказал Никита.
— А что же ты любишь?
— Пиво с креветками. Но не каждый день.
— Так вот, литература это не пиво с креветками, — Светлана остановилась. Спутник ее тоже остановился. Учительница громко хмыкнула.
— Наш разговор — это в известной степени продолжение того бреда, который ты слышал, понимаешь?
— Нет.
— Ну и ладно. Просто поверь мне на слово, что писатель Сорокин, а именно его я заставляю зубрить, писатель настоящий. Один из лучших сейчас, а может быть, и единственный. Я, как сейчас говорят, тащусь от него. Я сама ввела его в программу. А то, что его сочинения не похожи на «Капитанскую дочку», это их достоинство, а не недостаток. При этом «Капитанскую дочку» я тоже люблю. Одно другому не мешает, и Пушкин понял бы Сорокина, понимаешь?
— Нет, я только верю тебе на слово.
— Лет через десять-сорок его поймут все, а сейчас только и такие как я.
— А если не поймут?
— Такие как ты не поймут. Но ты предназначен не для того, чтобы разбираться в современной прозе. Надеюсь.
Никита задумчиво погладил себя по щеке, всматриваясь в очертания развалин над головою собеседницы.
— А для чего я предназначен? — спросил он без вызова.
— Не знаю. Хотя думаю, что догадываюсь, — сквозь жесткие учительские интонации промелькнуло некое мурлыканье. Никитой, впрочем, незамеченное. Он был настроен немного поисповедоваться.
— Понимаешь, сразу после школы я поступил в техникум. По знакомству. Неважно какой. Летом собрался в стройотряд. Деньги были очень нужны. На Дальний Восток. Там клещи, энцефалит. Всем сделали прививки. Но так получается, что у одного на сто тысяч бывает реакция. Нестандартная. Вот здесь, — Никита указал на солнечное сплетение, — примерно вот здесь есть железа. У одного из ста тысяч она воспаляется.
— У тебя воспалилась?
— Я пролежал три года.
У Светланы сделалось уважительно-заинтересованное лицо. Глаза потухли.
— Мама моя работала в библиотеке. Стала мне приносить книги. Очень много, самые разные. Я их читал. Читал, читал и читал.
Светлана усмехнулась.
— Чего ты?
— Не удержалась, ассоциация.
— Пусть ассоциация. У нас дома не было развлечений. Даже телевизора не было.
— Такая бедность?
— Такая. Радио сломалось, комбайн. Старый очень. Я возненавидел чтение к концу первого года. Но ничего другого не было. Друзья мною не интересовались.
— Почему?
— Я же лежал неподвижно. Подруги тоже не интересовались.
— Женщины бывают страшно жестокосердны, — сочла нужным сказать Светлана, но Никита, кажется, не оценил ее объективности.
— Я прочел все книги в библиотеке.
— Все?
— Да.
— Ты, наверное, самый начитанный человек в своем городе. А может, и в области.
— Самое страшное началось, когда книги закончились. Сначала пошли те, что частично повторялись, потом те, что повторялись больше чем наполовину.
— Переиздания.
— Наверное. А потом книги закончились совсем.
— Но книги можно перечитывать.
— Зачем?
Светлана медленно наклонила голову набок, словно демонстрируя рассыпчатость своей прически.
— Трудно объяснить.
— А потом стало еще хуже. Они мне начали сниться.
— Книги?
— Да. То, что в них написано. Но не подряд, а перепуганно, как попало.
— То есть?
Никита зажмурился, как бы пытаясь что-нибудь рассмотреть из своих бывших снов.
— Приходит, допустим, — это мне снилось вчера — князь Андрей к мистеру Пиквику, а у того сидит целая компания. Степан Трофимович, у него две бутылки шампанского и он притом пляшет, какой-то погибающий человек, подпоясанный гибким шприцем, на котором написано «морфий»; человек без лица, но с огромным кулаком, который он то положит, то поставит; маленькая графиня с усиками и на восьмом месяце беременности, с вязанием. При этом кто-то поет в клозете, ему кажется, что уже утро.
— Вот это действительно бредятина. Литературщина.
— Согласен.
— Бездарная мазня. Потуги.
— Я же не специально, мне так снится, а назавтра приснится что-нибудь другое. Но в целом я очень устал от всего этого. Но я знаю, что есть способ освободиться.
Никита по-прежнему смотрел на развалины, а учительница смотрела на него, пытаясь определить, придуривается он или нет. Если придуривается, то неталантливо, если нет, то его можно пожалеть.
— И что же за способ?
— Что?
— Как ты собираешься освобождаться?
— Я пока не могу рассказать. Именно тебе не могу. Хотя именно тебе было бы очень интересно.
— Как учительнице?
Никита помялся, ему захотелось скрыть ответ на этот достаточно необязательный вопрос.
Он начал про другое.
— Поэтому тот парень, ну тот, который читал наизусть писателя, от которого ты тащишься…
Облик Светланы претерпел изменение настолько мгновенное, что это могло испугать. Ученика, например.
— Пожалел бы кого-нибудь другого. Если поколению подрастающих дебилов суждено мучиться, читая Сорокина, то пусть больше всех мучается этот гаденыш!
— Как его зовут?
— Ты все время задаешь дурацкие вопросы. Ну какое это имеет значение?! Важно то, что он уже полтора года планомерно сживает меня со свету. Невзлюбил молодую училку, такая вот форма неосознанного полового влечения. То клею нальет в карман пальто, того самого, в котором я была в день нашей встречи. То валерьянкой опрыскает мне стол…
— Это намек?
— Если и намек, то не мне, а кошкам, их штук шесть тогда собралось, класс хохочет, я как дура стою. Про кнопки и прочее в этом роде я и не говорю. Знаешь, какую они с приятелем последнюю учинили штуковину?
— Нет, не знаю.
— Начали они развешивать объявления, в которых мой телефон домашний, что я даю частные уроки английского языка молодым людям «с очень большой скидкой».
— Не смертельно.
— Что ты понимаешь! Объявления развешивались в метро, а за это штраф! Присылают на дом повестку и — все. Только заплатив тысяч четыреста, я поняла, в чем дело.
Никита задумчиво потеребил почти отсутствующую бровь.
— Важно, кто первый начал. Ты им читать Сорокина или они тебе клеить карман.
— Да причем тут Сорокин?! Там и другие были…
— Фамилии ты мне можешь не называть. Я и лежа их не запоминал, так сейчас зачем?
— Да и правильно.
Хмурое лицо Светланы внезапно сделалось озабоченным.
— Знаешь что, у меня сегодня, как бы это сказать, дело.
— Какое?
— Дай слово, что поможешь.
— Бери.
16
Шофер Сережа сел в машину не на водительское место. Черный «ситроен» тут же отъехал от ресторана «Пекин» и покатил, неохотно набирая скорость, по Садовому кольцу. За рулем сидел человек с длинным лицом, человек в очках, человек, нанявший Никиту на работу.
— У меня мало времени, — сказал он, не поворачивая своего длинного лица, — говори, пока будем ехать.
Сережа прокашлялся.
— Вы оказались правы, он не просто лох с Камчатки. Полтора месяца маскировался. Безотказный работник. Даже контору вылизал, туалет помыл, представляете!
— Чистоплотный, говоришь?
— Да. Ни одну из девчонок не попытался даже просто по заднице хлопнуть. Не то что наши офицеры.
— А они?
— Девчонки?
— Не офицеры же.
— Кто млеет, а кто и гомиком считает.
— А ты?
— А я что, как велено — присматриваю.
— И недавно что-то началось.
— Именно.
Машина остановилась в длинной пробке перед площадью Восстания.
— Как вы и предсказывали. Начал он выходные просить, раньше ведь и не заикался. Один раз, второй, все чаще и чаще. Велел я кое-кому…
— А кому именно?
— Антончику и длинному, он их никогда раньше не видел. Они проследили за ним, и выяснилось — он сам за кем-то следит. Торчит возле одного дома на «Соколе».
— И кем же он так заинтересовался?
— Квартирой академика Воронина.
— Чем этот академик занимается?
— Археолог, но недействующий уже. Не только не роет, но и не преподает. А раньше, говорят, ого-го был.
— А этот наш, Никита, именно на квартиру нацелился?
— Да кто его знает, — почесал Сережа в задумчивости ухо, — если и интересуется, то странно.
— В чем странность?
— Начал он с родственниками академика знакомиться. С женой, с дочерью.
Длиннолицый усмехнулся.
— Я тоже развожу руками. Я наводил справки — может, у академика что-нибудь из нарытого тихо дома припрятано? У знающих людей спрашивал.
— Где это ты их нашел?
— В его бывшем институте. Отвечают, что может быть такое, что и Британскому музею не снилось, почему именно Британскому, я переспрашивать не стал. А может и ничего не быть, если академик, как они выразились, не материалист.
— А Воронин материалист?
— Попытался я уточнить, но неохотно эти ребята на такие разговоры идут. Как мне показалось, большим ученым они его не считают. Не в авторитете он, пожалуй, археолог. Да и не академик, если точно излагать.
— А кто?
— Членкор всего лишь.
— Ты, конечно, следователем прокуратуры представился.
— Вы же знаете, документы у меня в порядке. И я не только о Воронине спрашивал, даже совсем почти не о нем, просто приплел под конец к разговору.
Машина затормозила напротив здания АПН.
— Родственниками интересуется, говоришь?
Сережа искренне хлопнул себя по лбу.
— Как это я сразу не подумал — фиктивный брак! Он законно женится и тихо, в один прекрасный вечер, все из дому выносит. Но тогда что?
— Говори, Сережа, говори.
— Тогда он точно должен знать, что в доме что-то есть, зарыта там какая-то золотая железяка. Только сомневаюсь я, что такой квадратный парень, как наш Никита, способен что-то серьезное придумать.
— Может, ему кто-то умный посоветовал?
На лице бригадира выразилось восхищение проницательностью шефа.
— Ладно, Сережа, иди.
— За этим — следить продолжать?
— Конечно, родной, конечно, и осторожно, дорогой, осторожно.
17
— Сойдем здесь.
— Здесь так здесь.
— Так просто ближе, — пояснила Светлана, выходя из трамвая. Никите было все равно, и он не считал нужным это скрывать.
— Ты понимаешь, мама заболела, сегодня ее очередь вообще-то. Но как тут откажешь, и перенести нельзя.
Любой другой человек спросил бы, что «перенести нельзя». Никита спросил:
— Что с ней?
— С мамой? Грипп. А может, просто простуда.
— Лучше, если просто простуда.
Они шли в сторону от Шаболовки через редкий парк, сквозь деревья которого виднелась мощная каменная стена. Архитектурный памятник, без воодушевления понял Никита. За время их свиданий образованная спутница продемонстрировала ему все основные жемчужины столичного зодчества, и Коломенское, и Архангельское, и Кусково. Светлана была не просто инициатором культуртрегерских прогулок, она брала к тому же на себя роль гида. Много и интересно рассказывала. Никита молча и неутомимо слушал. Из всех московских достопримечательностей он узнал только бой курантов на Спасской башне, абрис зубчатой стены и потеки вечного снега на вершинах Исторического музея.
Почувствовав, до какой степени чист доставшийся ей лист, Светлана распоясалась. Общаясь с друзьями своего отца, она чувствовала свою археологическую ущербность, может, и в литературу современную кинулась в знак протеста. Теперь, во время бесконечных прогулок по московским мостовым, она говорила, не переставая удивляться тому, сколько разнообразных сведений засело у нее в голове.
— Знаешь, почему это здание имеет такой фасад?
Никита отрицательно качал головой и тут же узнавал, что в свое время на подпись Сталину попали два проекта гостиницы «Москва» (вот этой, посмотри), и он из своеобразной тиранской ехидности (а не по ошибке, как считали) подмахнул оба. Долго мучались архитекторы над тем, как быть, пока не решили воплотить оба проекта.
В обществе своих друзей Светлана не посмела бы выступить с этой банальной байкой. Никита же выслушивал ее хоть и без восторженных возгласов, но с полным вниманием.
— А там, под крышей, видишь лепнину фривольного содержания? Знаешь, почему это?
Даже не дожидаясь соответствующего кивка, сообщала она Никите, что в начале века был здесь фешенебельный публичный дом. Многие известные люди бывали здесь. И Куприн… — поймав взгляд спутника, она прерывала перечисление.
— В этой церкви венчался Пушкин, а в этой крестили Суворова.
Никита внимательно осматривал и ту, и другую.
В таком режиме был проведен не один десяток человеко-часов, и, когда Светлана от трамвайной остановки направилась к архитектурной стене, Никита не испытал никаких эмоций. Тайной его целью было выведать что-либо об отце спутницы, но ломиться к этим сведениям напрямую он боялся. Боялся спугнуть «сестрицу». Курочка по зернышку клюет, говаривала его матушка, и он решил взять на вооружение этот принцип. Он рассчитывал собрать нужную информацию, сметая мусор оговорок с гранита ее рассказов на монументальные темы.
— Знаешь, что это за монастырь?
После Новодевичьего и многих других Никите было все равно.
Вошли. Пасмурно, тихо, обжито.
— Сюда, когда взорвали храм Христа Спасителя, привезли часть фресок.
Осень была осенью даже в монастыре.
В полном молчании они пересекли осеннюю территорию, завернув на несколько слов к знаменитому некрополю, вышли к общедоступному кладбищу. Миновав невзрачную, но действующую церквушку, они углубились в места захоронения.
Никита обратил внимание, что кладбище чем-то отличается от некрополя, хотел было об этом подумать, но решил не отвлекаться. Если он даже и поймет что-то, что это ему даст? Но Светлана заставила его думать в этом направлении.
— Послушай, тебя не поражает разительный контраст?
— Что?
— Между тем, что мы видели, и тем, что видим. Там благолепие, в некрополе, и, главное, неподвижность, а здесь теснота, как в трамвае, правда?
— Правда, — честно согласился Никита, хотя ему не показалось, что он понял, о чем идет речь. Людей на кладбище было совсем немного. Вон за деревьями кто-то мелькает, больше никого.
— Даже после смерти продолжается суета.
— Н-да.
— Людей слишком много. Слишком много людей. Это основная идея моего папы. Немного безумная, может быть, даже не немного, но идея, правда?
— Конечно.
Кладбище резко шло под уклон, торопливо спускаясь к шумящей внизу речке. Приходилось петлять по узким тропкам, протискиваться между почти слипшимися оградами. Получалось нечто похожее на адский слалом. Услышав слово «папа», Никита на мгновение потерял бдительность и поскользнулся на стопке кленовых листьев. Ловя равновесие, он схватился за ограду и разодрал ладонь ржавой железкой.
Хлынула кровища.
— Платок, — крикнула Светлана при виде этого зрелища. Глаза у нее блестели. Она извлекла из кармана что-то скомканное и розовое.
— Нет, — сказал Никита и вытащил здоровой во всех отношениях рукой свой платок, белоснежный, благоухающий стерильностью.
— Лучше моим.
— Пожалуй.
Светлана спрятала свою тряпицу и осторожно взялась пальцами за носительницу раны. Кровь капала.
— Нужна дезинфекция, — заявила учительница, к чему-то примериваясь прищуренным глазом.
— Мне говорили, что достаточно помочиться на рану.
— Да?! Ну и как, ты себе представляешь, я буду все это проделывать, а?
— Не понял.
Светлана вздохнула.
— Пытаюсь шутить. Мы не будем мочиться, мы пойдем другим путем.
И она припала к ране губами.
Никита внимательно и сочувственно рассматривал чисто промытые волосы на затылке сестры и пытался понять, приятно ли ему действие ее губ и языка, и понять не мог.
— Ну вот и все, — облизываясь, сказала Светлана, — теперь мы с тобой одной крови, ты и я.
— Согласен.
— Давай платок.
Сделав все, что нужно, она объявила:
— Теперь ее подними, чтобы кровь не приливала. И пошли дальше.
Без дополнительных приключений они спустились к широкому мутному ручью.
— Как эта речка называется? — спросил Никита с занесенною рукой.
— Ты уж совсем, спроси тогда, как называется это бревно или эта автопокрышка. Никак, просто они помогут нам перебраться на другой берег.
Никита сосредоточенно кивнул.
— Однако как тебя проняло московское краеведение. Я специально для тебя отыщу название этой клоаки.
— Спасибо.
— Что спасибо? Нам на тот берег. Может, на ручках меня отнесешь, или за рану опасаешься?
— Нет, — Никита серьезно покачал головой, — я могу оступиться, если понесу тебя, и мы оба свалимся в грязную воду.
— Прагматик. Ладно, давай будем прыгать.
Они благополучно, с бревна на валун, с валуна на камеру, форсировали ручей и начали подниматься вверх по узкой тропке меж высохших репейников к высокой стене из цементных щитов.
— Мы сильно сократили путь?
— А ты устал?
— Нет. Я устаю очень редко.
— Очень ценное в мужчине качество, — засмеялась Светлана, — нам теперь туда, уже совсем близко.
Пройдя метров пятьдесят вдоль стены, они оказались возле отверстия, стыдливо и ненадежно прикрытого досками.
— Нам сюда?
— Сюда.
— А к кому мы идем, Света?
— Как к кому? Разве я не сказала? К моему отцу.
18
— Руслик, хочешь я тебя развлеку?
Они сидели в полупустом поезде пригородной электрички. Руслан глядел в темнеющее окно на вечерние, а поэтому особенно печальные пригороды.
Денис возился со своей записной книжкой. Пробегал туда и обратно по ее страницам, что-то отчеркивал, помечал. Для него блокнот был куда занимательнее пейзажа.
— Руслик, а Руслик.
— Отстань.
— Смотри, это называется занимательная статистика.
— Что это? — спросил грустящий, бросив взгляд на испещренные страницы.
— Сводная таблица.
— Не хочу. Скучно.
— Может быть, даже тошно?
— Может быть.
Денис захихикал.
— Понимаешь, я подсчитал не только количество, простое количество собак, которых, вернее, от которых мы освободили наш родной мегаполис, но и то, каких именно пород были эти отвратные твари.
Руслан оторвался, более-менее, от созерцания печальных окраин.
— Что там у тебя?
Денис прижал блокнот внутренностями к груди.
— Погоди, нечестно, если ты бесплатно воспользуешься плодами моей умственной работы.
Руслан потянулся к нагрудному карману джинсовой куртки.
— Сколько?
— Дурак! Не в этом смысле. Я тебя развлеку и хочу, чтобы ты взамен развлек меня.
— Тебе что, станцевать?
— Этого, пожалуйста, не надо, я видел, как ты танцуешь, поэтому — не надо. Я другое имел в виду.
— Так объясни.
— Чего тут объяснять, просто отвечай на вопросы. К примеру и для начала угадай, какой породы собачек мы умертвили больше всего.
Руслан отвернулся к окну, но было видно, что он думает над ответом.
— Давай, Руслик, давай. Задание не самое сложное. Ты всех их видел в прорези своего прицела. Напрягись, сопоставь, какие очертания маячили перед твоим глазом чаще всего. Мы проверим, был ли ты холодным исполнителем, или в твоем сердце отзывался скорбным ударом каждый точный выстрел, убийственно точный выстрел.
— По-моему, больше всего было доберманов.
Денис хлопнул книжицею по колену.
— Почти угадал.
— Почти?
— Да. Но ты не должен себя винить, твоей ошибке есть объяснение. В моем вопросе был подвох. Больше всего мы устранили зверей лишенных породы — семнадцать. Дворняг, метисов и прочих уродов. Очертания этого раздела размыты, это скопище и не воспринимается как что-то цельное. Сюда мы могли отнести и тех псов, чью породу мы просто не смогли распознать, понятно?
— А доберманы?
— Доберманы — порода, наоборот, с очень отчетливыми внешними очертаниями, ни с кем не спутаешь.
— И сколько мы их?
— Девять штук, или, если угодно, особей. Но доберманы и доберманши у нас не единоличные лидеры. Вместе с ними делят первое место ризики. Тоже девяточка. Пять немецких овчарок, пять южнорусских, пять колли, четыре бультерьера, четыре водолаза, три лица кавказской национальности, две таксы, один скотчик, одна болонка. Да их целая куча — пород, представленных одним экземпляром. Есть тут и экзотические бладгаунды, мастино неаполитано, шарпеи, чау-чау. Но это в основном приобретения последнего этапа, так сказать, поступления с ярмарки тщеславия.
— Ты говоришь приобретения, поступления, а ведь их нет в живых. Как, наверно, и того милиционера, которому я попал в ногу.
— Брось, я же тебе сказал — жив он, жив. Поболел немного и все теперь в порядке. Ты вспомни его, в нем весу было килограмм сто двадцать, а доза была рассчитана максимум на сорокакилограммовую животину.
— Что-то я тебе не верю.
— Как хочешь, Руслик.
Руслан снова отвернулся к окну.
— Постой, постой, опрос не окончен, зайдем теперь к этой таблице сводной с другой стороны. Так, назови мне три породы, которых нет в списке.
— Три?
— Две, четыре, все равно.
— Кокер-спаниелей нет.
— Браво, Руслик, а еще?
— Ну, пуделей нет.
— И это правильно, нет их, ни карликовых, ни королевских. Пока ты думаешь, я впишу от себя миттельшнауцеров, афганских и прочих борзых, о чем это говорит?
— Что?
— Как что? Набор статистических выкладок. Давай проанализируем. У меня все внутри так и вздрагивает, как это оказывается интересно анализировать. И обобщать. Может быть, сейчас у тебя на глазах происходит рождение социолога, а ты скулишь в окно, Руслик.
— Я не скулю.
— Ну, воешь. Так, объективности ради, надо заметить, что данных у нас недостаточно, чтобы наши выводы выдавать за глубоко научные и очень уж обоснованные. Думаю, не один год нужно посвятить сбору материалов, прежде чем у нас появится такое право. Но вместе с тем не будем устраивать самоубийство скромностью. И на всего лишь одной сотне собачьих трупов можно кое-что построить.
Напарник криво и мрачно ухмыльнулся.
Денис не заметил этого, а если бы заметил, не обратил бы внимания.
— Для начала следует заметить, что реальная картина не полностью совпадает с обывательскими, донаучными представлениями об относительной вредности той или иной собачьей породы. Вот, скажем, если бы меня до начала операции спросили, каких можно ждать результатов, я бы сказал, что среди антилидеров окажутся не доберманы и ризеншнауцеры, а ротвейлеры, бультерьеры и боксеры. У нас же в списке всего один боксер, а ротвейлеров может не оказаться ни одного, если этот журналист из Сокольников все-таки откажется от заказа.
— Ну и слава богу.
— Это твоя обычная позиция, и этим ты меня не удивишь. Продолжая, замечу, что необходима оговорка. Мы не имеем права говорить об абсолютных цифрах, и все наши выводы не носят исчерпывающего характера.
— Ты уже говорил об этом.
— И правильно делал. Тут вот в чем дело. Может быть, мастино неаполитано — имею в виду породу целиком — редкостная, непереносимая сволочь и своими отрицательными качествами далеко превосходит наших добриков и ризиков. Если бы этих мастин было в городе столько же, сколько первых и вторых, то они уверенно лидировали бы в нашем санитарном списке.
— Тебе не надоело?
— Нет, Руслик, нет. Чувствую, что я на правильном пути. Далее поговорим о том, что нас не удивило. То, что никому не понадобилась жизнь кокер-спаниелей и пуделей, их безобидность, помноженная на внешнюю привлекательность, оказалась хорошей защитой от усыпляющей пули. Пощажены всевозможные борзые, гончие, сеттеры, собаки рабочие, не декоративные, менее других развращенные цивилизацией. Сама природа их устроена так, что направлена от человека, а не к нему.
Руслан зевнул.
— Ты бы записывал, что ли. Обидно, коли пропадет такой плод… ума.
— Надеюсь, не иронизируешь, а если иронизируешь — ирония признак бессилия.
Денис бодро пошелестел страницами.
— Что у нас дальше? Вторым пунктом правильнее всего рассмотреть причины, заставившие клиентов обратиться к нашей бесшумной помощи. Очень многое, может быть, самое важное может рассказать о человеке то, почему он возжелал убить собаку соседа. Заслуживает внимания, что около половины всех заказчиков скрыли истинные причины своего заказа. Или под маской самых примитивных объяснений, либо заявив, что не мое собачье дело эти причины знать. Что, согласись, в высшей степени глупо, это все равно, что, явившись на прием к стоматологу, держать рот закрытым. Тем не менее на первом месте в этом списке что, Руслик, а?
— Укусы, конечно, или, как правильно, покусы?
— Угадал. Большинство собак погибло из-за того, что распускало зубы. Кто-то цапнул человека, кто-то другую собаку, кто-то кошку. Один дог сожрал попугая, поймал на лету. Один такс, придя в гости, незаметно передушил целый выводок редких африканских грызунов.
— Таксы коварны.
— Да. Часть песиков погибла из-за методичности своего характера, они гадили всегда в одном и том же месте, и находились индивидуумы, которых это доводило до бессонницы и галлюцинаций. Лай и вой, тоже проблема. Отдельные собаки невероятно глупы и чувствительны. Чуть что, они — в голос.
Руслан поднялся и направился к выходу из вагона.
— Что, Руслик, приехали? — Денис встал и, не закрывая книжечку, заспешил вслед за товарищем.
— Особенный пункт: родственные убийства. Их не так уж мало. Бывает, собака изводит зятя, бывает, тещу. Порой пес свекрови смерть для невестки. Бывает и брат против брата выступает посредством убиения собаки. Запутаннейшая вещь — родственные отношения. Даже отцы и дети не понимают друг друга.
Они вышли на платформу.
Воздух вечерел и охладевал.
Поезд, злорадно завывая, набирал ход и внедрялся в сгущающийся полумрак.
Неприютность полустанка стала невыносима. Оба собакобойца почувствовали это. Один сильнее, другой мягче. До дачного поселка было меньше километра, в их воображении это расстояние растянулось до почти тысячи метров. Не преодолеть!
На той стороне железной дороги светился запотевший фонарь пристанционного ресторана. Фактически не сговариваясь, друзья потопали к нему.
Внутри они нашли три столика, накрытых белыми, хотя и жеваными скатертями. Им равнодушно продали бутылку портвейна и два бутерброда с колбасой. И то и другое по бешеной цене. Все-таки ресторан. Не успел портвейн как следует разгореться внутри, а Денис уже продолжил говорение. Речь его, правда, сделалась пасмурней и замедленней.
— Последний пункт — заказчик. То есть мы должны ответить на вопрос, кто он, человек, пожелавший смерти пусть и кусачему, но невинному существу. Поразительнее всего то, что шестьдесят процентов всех заказчиков женщины. Не хочется, но приходится признать, что чувство жалости им знакомо меньше, чем мужчинам. Теперь возраст. Поколение совсем молодое, малотрудоспособное, вроде нас с тобой, Руслик, почти совсем не представлено. Почему? Может быть, мы, идущие на смену поколениям, стоящим во главе страны, в целом просто лучше? Обладаем более крепкими моральными устоями? Не рискнул бы остановиться на этом выводе, хотя было бы и лестно. Причины, думается, иные. Отсутствие средств. Темп жизни не позволяет остановиться, оглянуться, тем более на собаку. Весьма редки в нашем списке и фигуры стариков. Это меня поначалу удивило. Кто, скажи мне, ненавидит собаку соседа сильнее, чем пенсионер, не имеющий собаки? Но денежки, денежки, вернее, их отсутствие, вот в чем причина. Размеры нынешних пенсий не позволяют ветеранам труда даже такой мелочи, как расправа с назойливым животным. Завести собаку, особенно если непородистую и малоформатную, пенсионеру по силам, а убить нет.
Руслан отхлебнул не чокаясь.
— Следует ли нам считать современную власть в известной степени прособачьей? Нет, не будем. Наша маленькая организация принципиально аполитична.
Денис отложил книжку, поднял бутылку, и портвейн потек в стаканы, жирно поблескивая.
— Так к чему мы пришли в результате наших точных наблюдений и непредвзятых рассуждений?
— Ты трепач, Диня, но мне все равно.
— Что главным нашим заказчиком является сорокалетняя состоятельная женщина, то есть существо, готовое ради улучшения условий своей повседневной жизни на все. Даже на дорогостоящую безнравственность. Именно так должно называться убийство меньших братьев и сестер не в честном поединке. То есть из засады.
— Пошли, Диня.
За то время, что потребовал себе портвейн, картина дачной местности изменилась. Луна, вот в чем дело. Все влажное сверкало теперь. Пар, валивший изо рта, был голубоватым. Звезд было больше, чем всегда, но чуть меньше, чем требовала душа. Молодые люди двинулись по асфальту в сторону темной толпы деревьев, скрывающих их дома.
— Руслик, а Руслик, а я ведь все-таки придумал, как тебя развеселить.
— Не надо меня веселить.
— Другого мнения придерживаюсь. Я понял причину твоего горевания и слишком напряженной внутренней жизни.
На такие заявления лучше не реагировать. Руслан не отреагировал.
— Девственность, Руслик, девственность. Все она, проклятая. Все она.
Руслан недовольно подвигал приподнятым плечом и слегка убыстрил шаг, спасаясь бегством от фамильярности.
— Вот я, — плелось за ним дружеское откровение, — привлекательный — по-своему, общительный, решительный — и то преодолел этот рубеж всего два года назад. Так что тебе стыдиться нечего. Не очень большому количеству женщин с переразвитым материнским инстинктом нравятся самцы-рохли.
— Я рохля?
— Да. Я устал стараться.
— Не старайся.
— Как я, помнишь, тогда, в сентябре, все оставлял и оставлял тебя с Лучкиной, а ты делал вид, что ничего не понимаешь.
— Да что ты такое… там же вон сколько было народу. И даже старшая сестра.
— А комнат сколько? И чем только тебе Лучкина не понравилась, обидел девчонку.
— А сестра?
— А что сестра? С сестрой все потом было в порядке.
Руслан на мгновение остановился, потом, отмахнувшись обеими руками и от Дениса, и от всплывшего околосексуального видения, зашагал еще быстрее.
— Ты мне не маши ручонками-то, не маши. Я объявляю тебе ультиматум и немедленно берусь за его осуществление. Немедленно, слышишь, Руслик!
19
— Такое впечатление, что ты идешь на переговоры.
— Почему?! — неожиданно сильно удивился Никита.
Светлана показала на его руку.
— Человек с белым платком в руке.
Никита руку опустил.
Исподволь брошенный на него спутницей взгляд был удивленным. Что это происходит с парнем? Ей было бы спокойнее знать, что именно. Напряжен он, или раздражен.
— Нам сюда.
Большое здание из красного кирпича с высокими трехстворчатыми окнами и широченным парадным крыльцом, такой виделась больница благотворительным купцам в конце прошлого века. Забор вокруг старинного здания был современным измышлением. Цементная грубая решетка, пообглоданная с обеих сторон. И попасть в больницу и вырваться из нее пытались, видимо, часто и страстно.
За красным зданием и слева от него виднелись обычные панельные корпуса.
«Сюда», это значит в глухой занесенный горами отслуживших листьев угол к покосившимся, проржавевшим воротам, явно не игравшим роль официального входа и выхода.
Отведя покосившуюся створку, Светлана проникла на территорию отделения.
Никите не нравился стиль посещения, но он готов был признать права Светланы на него. Если ей нравится про «бридо» и «коричневый творог», почему она должна навещать отца обычным способом. Оставалось, правда, неясным, как и когда она разведала этот странный маршрут по кладбищу через ручей. Никита не задал этот вопрос вслух, но получил на него ответ.
— Папа по этой дорожке ходит за сигаретами.
По парку, окружавшему старинную больницу, бродили больные. Бросалось в глаза то, что они не носили обычной больничной униформы, а были одеты в домашнее. Какой-то привилегированностью от этого повеяло. Впрочем, ничего удивительного — где же еще поправлять здоровье академику, как не в заведении особого рода.
Светлана шла так быстро, что Никита едва успевал за нею. Ему было неприятно так идти. Не хотелось в самый главный эпизод своей жизни вбегать запыхавшимся.
— Вон он.
Деревянная беседка в ошметках отставшей краски, кучка дымящихся листьев возле ступенек. Порывы дыма создавали ощущение неустойчивости, мнимости существования, и без того сильное в душе незаконнорожденного парня.
Он сидел спиной к подбегающим детям и лицом к многоэтажному корпусу, в окнах которого сияли-сверкали, бесились, истериковали лучи заходящего солнца.
Одинокий, странно желаемый.
Черные драповые плечи, грива волос бледно-седого цвета.
— Папка, привет!
Он начал поворачиваться, но не успел закончить поворот. Дочка взбежала по каменным ступенькам и припала щекой к щеке. Так что в тот момент, когда он был впервые увиден сыном, мог предъявить ему для обозрения лишь половину лица. Очень бледного, небритого (по крайней мере наполовину), с тусклым карим глазом и огромным, мощным полушарием лба. Левым. За что оно отвечает, за логику или за эмоции?
Когда дочь покончила с нежностями, отлипла и уселась рядом с папочкой, выяснилось, что у того имеется еще и длинный тонкий нос и седые, почти карикатурной пышности брови.
Никита с неприличной внимательностью рассматривал сидящего, не помня в этот момент ни своих азиатских скул, ни голубизны своих глаз, ни почти полной безбровости, ни широкого коротковатого носа. Да, он был похож на мать, а теперь вот пришел в гости к отцу.
— Кто это? — спросил Савелий Никитич, отвернувшись от Никиты и рассматривая заворачивающий за угол больницы белый халат с биксом в руке.
— Это Саша. Он согласился меня проводить. Он хороший. Саша, тебе будет неинтересно, поэтому сидеть здесь необязательно. Можешь, если хочешь, прогуляться. Я быстро, да, пап?
— Мне будет интересно, — сказал хороший Саша и сел на скамейку, устроенную внутри беседки по всему периметру. Глаз с отца он по-прежнему не сводил.
На самую короткую секунду Светлана смутилась, даже не смутилась, а удивилась. Но такое не длится долго, если у женщины есть дело. Светлана расстегнула свою сумочку и достала оттуда с десяток шоколадных плиток.
— В этот раз все без орехов и без наполнителей.
— Спасибо, дочка.
Савелий Никитич стал деловито рассовывать шоколад по карманам пальто.
— Как твои дела?
— Как, как, учу, воюю.
— А муж твой как, когда он возвращается?
Если бы Никита не находился в состоянии ступора, он бы решил, что эта реплика направлена против него.
— Хорошая девушка, да далеко живет, — усмехнувшись, сказала Светлана.
— Что ты сказала?
— Да ничего особенного. Ты же знаешь, куда он на этот раз потащился. Говорит, правда, что это очень, ну прямо очень важная поездка.
— Экспедиция, — поправил академик.
— Пусть экспедиция.
— Мой ученик, — раздумчиво улыбаясь, сказал Савелий Никитич.
— Твой, конечно, чей же еще.
— А мама?
— Она у нас трехжильная, вот я дву, а она трех.
— Ей тяжело, я знаю, — вздохнул академик.
— Даже не знаешь как. Из прокуратуры являлись на днях. Опасаются за нас.
— Из-за коллекции?
— Из-за чего же еще? Ничего прямо не говорят, но ведь и так все понятно.
Савелий Никитич нахмурился, брови сошлись на переносице.
Какой огромный лоб, подумал наконец Никита. В самом деле, наблюдая академика спереди, трудно было понять, как на его голове умещается растительность, увиденная сзади.
— Но это еще не все.
— Не все?! — Савелий Никитич полез в карман и достал очки, как будто дальнейшие сведения ему предстояло получить в письменном виде.
— Да, не все, — Светлана оперлась локтем на спинку скамьи. Выражение лица ее заявляло: сейчас я вам выдам. — Явился твой сынок, папочка.
— Сынок? — болезненное непонимание в застекленных глазах.
— Взрослый сын.
— Никиту имеешь в виду?
Никита сидел, схватившись сильными руками за доску скамьи. Он боялся перевести глаза с отца на сестру. То, что он вспотел и был покрыт бандами мурашек, нечего и говорить.
— Никитка никуда не уезжал и послезавтра он тебя навестит, или на следующей неделе.
— А кто тогда пришел?
— Ладно, не буду тебя мучить.
— Не мучай меня.
— Откуда-то из провинции явился парень, таких примерно лет, как Саша. В тех местах, где ты когда-то раскапывал, живет его мать, и вот эта мать внушила ему, что он происходит от тебя, понимаешь.
— Откуда явился?
— Из города маленького, районного, названия я не запомнила. Зовут его так же, как нашего Никиту.
— Это как?
— Пап, ну ты вообще.
— А что он привез?
— Шоколаду не захватил. Сберкнижку с твоими деньгами якобы привез как доказательство.
Взгляд Савелия Никитича сделался совсем странным, очки были густо наполнены бровями, сквозь них просматривались отдельные блестки безумия.
— Ладно, успокойся. А то ты прямо как мама. Она тоже перепугалась до смерти, у нее даже чувство юмора отказало. Она прекрасно знает, что никаких внебрачных детей у тебя быть не может, так вот вместо того, чтобы спокойно и разумно объяснить это парню со сберкнижкой, наплела она ему черт знает чего. Когда она мне пересказывала эту историю, то сама над собой хохотала. И парнишку этого оскорбила зачем-то, он дебиловатый, конечно, но оскорблять зачем, а все потому, что говорила с перепугу. А человек мог просто ошибиться.
«Саша» опустил голову на грудь и закрыл глаза, он боялся разоблачения, между тем вид у него был скучающий.
— Да ладно, пап, что ты так-то? Успокойся. Это называется попробовала развеселить. Не было никакого сына. Не бы-ло! Понимаешь меня? Шутка. Глупая. Я глупая, а сына не было.
После небольшой паузы:
— Не было, не было, не было, не было, — с четырьмя разными интонациями произнес Савелий Никитич и замолк, как бы забаррикадировавшись с четырех сторон.
— Сейчас я отведу тебя в отделение, у вас скоро ужин. Саш, ты подождешь меня у ворот?
«Саша» еще ниже опустил голову, и это движение можно было принять за знак согласия.
— Пошли, пап, пошли.
— Не было и не могло быть, Света, ты же знаешь, — зашептал старик, шаркая подошвами по каменному полу.
— Конечно, конечно.
Никита не стал смотреть ему вслед. Остался сидеть как сидел.
Минут через десять он услышал неприятно знакомый хрипловатый голос.
— Что ты здесь делаешь?
На пороге беседки стояла Светлана.
— Мы же договорились, что ты будешь меня ждать возле тех ворот.
Никита, сидя максимально неподвижно, смотрел на нее, сквозь нее и еще куда-то. Она прислонилась плечом к столбу, поддерживающему крышу беседки, наклонила голову.
— Честно говоря, мне показалось, что ты сбежал.
— Откуда? — с трудом сказал Никита, ибо счел необходимым говорить, хотя предпочел бы еще некоторое время помолчать.
— С тобой трудно разговаривать.
— У тебя старый отец.
— Ничего удивительного, поздно женился.
Никита осторожно, как почти слепой, нащупал свои брови и медленно разгладил их большим пальцем правой руки.
— Тем не менее, пошли.
Женщина понимающе улыбнулась, не догадываясь, что ее понятливость выглядит отвратительно.
— А твой муж? — спросил Никита вставая.
— Тебе еще рано что-нибудь о нем знать.
Проходя мимо Светланы, Никита пожал плечами.
— Можешь его не любить, пожалуйста, — и пошел к железным воротам в углу парка. Светлана догнала его.
— Совет хочешь тебе дам?
— Вряд ли.
— Когда лезешь в чужую жизнь, делай это как-нибудь…
Никита резко обернулся и не глядя поймал руки Светланы своими клешнями. Лицо его побелело и выглядело каменнее обычного.
— Я не считаю, что лезу в чужую жизнь.
Сначала Светлана, конечно, испугалась. Но потом женское чутье шепнуло ей, хихикая, что эта порывистость, этот сумбур, скорее, льстят ей, чем угрожают. Нужно было эту бурю чувств направить в нужное русло. Она открыла рот, но Никита уже развернулся и направился дальше.
У самых ворот она наконец догнала загадочного малого.
— У меня было такое впечатление, что ты готов меня задушить.
— У твоего отца было много женщин? — спросил он, прижавшись лбом к ржавому железу.
— У него и сейчас их немало. Мама, я… — на всякий случай попробовала перевести все в шутку Светлана.
— Но дети, этого я не понял.
— Какие дети? Чего ты не понял?
— Куда они девались?
— Ты опять об этом? Да не было никаких детей. И денег никаких, я имею в виду сберкнижку, быть не могло. Иногда хитроумные девицы сообщают возлюбленному, я, мол, залетела, или женись, или гони бабки на аборт. А беременности нет и в помине. Так вот с моим отцом такое пройти не могло. Не тот случай, понимаешь. И хватит об этом. Что еще ты хочешь узнать?
Никита молча толкнул железную створку.
— К кому мы теперь пойдем?
— Так ставишь вопрос?
Светлана незаметно улыбнулась, скользнула в образовавшуюся щель и направилась к пролому в главной больничной стене.
— Что ты сказала? — спросил Никита, выбираясь вслед за нею на репейниковый откос.
— Я говорю — жаль.
— Не понимаю.
— Я сама не понимаю, почему так неудачно все складывается. Видишь ли, ты постарайся понять правильно, у моего мужа есть мать.
— Ты предлагаешь купить шоколаду и навестить ее, да?
— Шоколад только для Савелия Никитича основная еда. Он считает, что шоколад стимулирует его мозговую деятельность.
— Ну и пусть считает.
Светлана вздохнула.
— Давай о папочке сегодня не будем. И об абортах, ладно? И к свекрови моей не поедем ни с шоколадом, ни без шоколада, хорошо?!
— Ты нервничаешь, значит, у тебя не в порядке нервы.
Светлана приостановила спуск к ручью, Никита чуть не сшиб ее. Навис, топчась на цыпочках и хватаясь за когтистую ветвь куста-дикаря.
— Ты очень, Саша, остроумный человек, но дослушай до конца то, что я хочу сказать. Договорились? Моя свекровь, Анастасия Глебовна, добрая, но несчастная женщина.
— Так бывает, — серьезно кивнул Никита.
— У нее три сына. Помимо того Олега, что женился на мне, есть еще два, которые тоже женились на женщинах, понимаешь?
Никита молча кивнул.
— Своей квартиры у нее нет, все раздалось сыновьям и невесткам. Теперь она вынуждена жить то у одного сына, то у другого.
— То у третьего?
— Умница. Она королева Лир. Так со вчерашнего дня она переехала ко мне.
Никита отпустил куст, отряхнул ладони.
— Ей будет неприятно, если ты явишься домой с чужим мужчиной?
Светлана подбоченилась и, глядя с вызовом на спутника, спросила:
— Ну, какой нужно сделать из этого вывод?
— К тебе мы не поедем.
В этом месте повествования должна была бы находиться глава под номером 12 а, но, по требованиям сюжета, она стоит там, где стоит. Здесь же помешена глава, действие которой начинается в ночь после окончания романа.
20
В квартире директора банка «Взлет» Афанасия Георгиевича Юргелевича темно. В спальне на утомительно широкой кровати спят: хозяин квартиры на правом боку, подложив ладонь под щеку и подогнув колени к животу; его жена, на животе, дыша одной ноздрей, рассыпав широким веером волосы по подушке.
Комната через коридор напротив спальни — детская. Там стоит двухэтажная кровать из светлого дерева. На нижней полке спят трое. Шестилетний примерно мальчик в обнимку с медвежонком и еще каким-то зверьком. Лапа медвежонка предупреждающе поднята. Второй зверек изувечен детской любовью до неузнаваемости.
На верхней полке девочка. Она хоть и постарше брата, но тоже не одна. Трудно рассмотреть, кого она сегодня взяла с собой — Барби или Фросю.
В квартире имеется еще одно место, где спят. Небольшая комната у входа. Там на диване, отбросив только ботинки, лежит на спине человек. Даже при таком его положении чувствуется, что он на работе. Он охраняет спящее семейство. Он прекрасный профессионал. Сын хозяина Сашуля его обожает.
Два других помещения менее в данный момент интересны. Гостиная, оккупированная вещами итальянской, кажется, работы. И кухня, самое светлое место в квартире. Во-первых, потому что вся в белом, а во-вторых, благодаря светофору, стоящему под окном на перекрестке. Когда у него меняется настроение, по белым шкафам пробегают бесшумные блики.
Обычная ночная квартира, можно было бы сказать, если бы не одно обстоятельство. В детской напротив двухэтажной кровати стоит собака. Слегка покачиваясь. Тихонько хрипя и пуская длинные петли слюны на ковер, усыпанный игрушками. Это бультерьер Бангор, второй и самый надежный охранник семейства Юргелевичей. Он выдрессирован и предан хозяевам, как только может быть выдрессирован и предан породистый благородный пес. Дети его любят больше чем папу и маму, и даже больше чем охранника Володю. Он готов работать не только собакой, но и лошадью, и надувным матрасом.
Спит он здесь же, возле деревянной двухэтажки. Он проснулся уже с полчаса назад, поднялся и замер посреди детского игрового городка в позе задумчивого наркомана.
Рассмотреть бы его глаза. Но они невидимы. Свет одинокого окна из соседнего дома отражается на хрустальных аксельбантах, украшающих массивную пасть.
Равновесие.
Без чьего-либо вмешательства ему не нарушиться.
Вмешаться решил маленький Сашуля. Отворачиваясь от неприятного сновидения, он тихо запыхтел и переменил позу, отчего лапа любимого медвежонка еще выше вознеслась над краем кроватки.
Этого было достаточно.
Бангор сделал шаг вперед. Что-то хрустнуло под тяжелой лапой — железная дорога. Электричка сошла с рельсов.
До медведя, вопиющего в темноте, было не больше шести собачьих шагов. Каждый следующий после первого становился все более уверенным.
Наконец морда пса нависла над кроватью щенка хозяев.
Действие замерло еще на несколько минут. По крайней мере на целую минуту. И тут сон-предатель снова испугал мальчика, тот резко повернулся и левою рукой попал псу на нос. Дальше счет пошел на секунды и доли секунд.
Два мгновения или меньше Бангор вглядывался невидимыми глазами в то, что сопело перед ним и пахло в самые ноздри, а потом в нем как будто произошел взрыв. Раздался страшной силы всхрап, и собака бросилась на мальчика.
Взрослых разбудил визг дочери. Как потом выяснилось, она проснулась в тот момент, когда гибла железная дорога, и в жутком, но зрячем оцепенении следила за своей собакой. Когда Бангор вцепился в братика и внизу стало происходить что-то хрустящее, хрипящее, рычащее, лопнула пленка оцепенения, и она закричала.
Первыми у дверей детской оказались мать и охранник. Она вооруженная халатом, он — пистолетом.
Визг девочки обнаружил ее для пса. Он попятился, присел и прыгнул. Когда две когтистые лапы рухнули на деревянный борт ее полки, Лена, не переставая визжать, откатилась к стене и швырнула в нападающее существо свою куклу, это ее спасло. За те секунды, пока Бангор изничтожал резиновую, но сильно пахнущую человеком Фросю, явилась помощь.
Охранник, профессионально присев, выставил перед собою пистолет и стал проникать в комнату. Он не знал, в кого стрелять, в комнате лишь двое детей! Он успел крикнуть что-то свое охранницкое, что должен был бы понять похититель, тайно проникший в квартиру, в ответ получил рычащего зверя, который свалил его в прыжке и начал рвать с невероятной скоростью.
Володя орал, вертелся на паркете, отмахивался и пытался уползти.
В коридоре все еще было темно.
Госпожа Юргелевич сделала инстинктивно шаг назад от жуткого телесного комка, рычащего и орущего на полу. Стена у нее за спиной великодушно провалилась: ванная. Испуганные руки сквозь пелену охватывающего обморока сделали то, что сделали бы всякие руки — закрыли дверь и защелкнули задвижку.
К этому моменту наконец появился сам президент банка.
Он успел зажечь в спальне свет и надеть шлепанцы.
Хлынувший из спальни свет охватил большую часть коридора, финал схватки пса с охранником имел место в конце его, в полумраке. Президент плохо различал, что там происходит. Но все же различал, к тому же он умел соображать быстро. Он понял, что его пес не в себе, что он, скорей всего, взбесился. Но из этой правильной посылки он сделал неправильный вывод — решил хозяйским голосом одернуть животное.
— Бангор, фу!
В первый момент могло показаться — подействовало. Пес оставил перепаханного его клыками Володю. Но только затем, чтобы повернуться к голосу за спиной.
Сообразительный господин Юргелевич сообразил, что совершил ошибку.
Надо было не кричать, а спасаться!
Как?! Спрятаться за дверью спальни, но до ручки далеко, дверь открывается вовне, пока дотянешься… Президент банка бросился к кровати, что-то подсказывало ему, что единственной его защитой является одеяло. Толстое, широкое.
Несмотря на возраст и габариты, он осуществил этот замысел почти без потерь. Досталось только левой, арьергардной ноге. С воем втянув ее под стеганую защиту одеяла, президент попробовал по-детски затаиться. Несмотря на мощные лапы и страшные клыки, пес не мог до него добраться. Урча, топтался он по кровати. Ему понадобилось бы очень много усилий, чтобы добраться до своего хозяина, но в конце концов результат был делом времени.
И тут невольно на помощь мужу пришла жена. Материнские чувства преодолели страх. Она, не слыша больше звуков борьбы и криков, вообразила впечатлительным женским умом, что ужасное существо покинуло квартиру. Шепча тихонько «Сашулька, Леночка», она припала ухом к двери. И ничего не услышала. Тогда она осторожно отодвинула задвижку и стала приоткрывать дверь.
«Сашулька, Леночка».
Первое, что она увидела, это кровавые пятна на светлом паркете, ее замутило, но и с этим она справилась, как и со своим страхом.
«Сашулька, Леночка».
Она шепотом прокладывала себе дорогу, высунула искаженную физиономию в коридор и посмотрела в сторону источника света. Она увидела звериную пляску на родной кровати. Теперь и она постигла, что же это происходит. Их Бангор сошел с ума. С одной стороны, это было облегчением — Бангор был знакомым явлением, с другой стороны, она поняла, что он никогда не уйдет отсюда, как обычный кошмар. Трудно поверить, что в такой момент перепуганная женщина была способна на какие-то умозаключения, но было именно так.
Более того, она сумела найти выход из создавшейся ситуации, он заключался в слове «телефон»!
В их роскошной новорусской ванной стоял аппарат. Сейчас она спрячется обратно, закроется и вызовет милицию с оружием.
Составив план, она начала его осуществлять. Но тут зверь заметил ее. Без всяких раздумий, одним прыжком он достиг закрываемой двери, вторым прыжком он отшвырнул женщину в глубь помещения. Пока он готовился к решительному нападению, бывшая хозяйка, проявляя чудеса ловкости, запрыгнула в ванну и задернула полиэтиленовую занавеску.
Это было меньше, чем соломинка для утопающего, но Бангор почему-то перед нею затормозил. Женщина сделалась невидимой для его чувств.
Но сейчас ее запах обогнет полиэтиленоное заграждение…
Госпожа Юргелевич и сама это поняла и решила вооружиться последним оружием, которое посылала ей судьба. Сорвала со стены душ и на всю громкость открыла горячую воду.
Бангор захрипел и зацокал когтями по кафелю, группируясь для прыжка. Но он потерял инициативу. Жена президента отдернула полиэтилен и направила ему в морду поток раскаленной водяной дроби.
Фыркая и храпя, собака ретировалась в коридор. Госпожа Юргелевич не выключила воду, ванная наполнилась паром, на полу быстро образовывалась спасительная лужа. Бешеные собаки ненавидят воду. Президентша этого не знала, но чувствовала, что вода — некая защита. Держа одной рукой душ, она другой сняла трубку телефона и набрала 02.
Бангор топтался в дверном проеме, фигура его делалась все более смутной.
И вдруг раздался выстрел.
Смутно различимый людоед свалился на бок, вскочил на ноги, но тут же вторым выстрелом был прикончен.
Госпожа Юргелевич с восторгом и ужасом посмотрела на телефон. Какова же сила отзывчивости нашей милиции, если достаточно всего лишь набрать номер, чтобы… И она потеряла сознание, так и не узнав, что спас ее истекающий кровью охранник, а не телефон.
21
— Ну что? — спросил Руслан.
— Ну все, — усмехнулся Денис, положив телефонную трубку на рычаг.
— Приедут?
— Ты же все слышал. Приедут. Две.
— Какие?
— Одна получше, другая для тебя.
— Это все шутки.
— Слушай, Руслик, ну откуда я знаю, каких они пришлют. Надеюсь, старух там не держат и прокаженных тоже.
Руслан медленно ерошил волосы длинными пальцами и кусал губы.
— Может быть, ты раздумал?
Стрелок бросил на друга взгляд, полный презрения, страха и решимости.
— Тогда иди, включай отопление на полную.
— Какое отопление?
— Ну уж идиотом-то не надо притворяться, Руслик. Иди к себе на дачу и откручивай крантик посильнее, через час там должно быть совсем тепло.
— Ты думаешь, надо ко мне?
Денис сердито прокашлялся.
— А ты думал, что мы шлюх этих будем здесь принимать? Может, следует их с бабулей познакомить? Она их чаем напоит.
— Не надо смеяться.
— А что еще остается делать? Сейчас мы пойдем и пожелаем Марианне Всеволодовне спокойной ночи. Она запрет входную дверь на все запоры.
— А как же…
— А мы вылезем через окно, как в детстве, и потопаем к тебе.
22
— А ты и не поедешь, — сказал Сережа.
— То есть как не поеду?! — Никита даже отступил на полшага, двинув бедром журнальный столик с телефоном.
Магда вскочила со своего рабочего места и прижалась спиной к стене.
— Так. Не поедешь и все. Ты же не единственный работник у нас.
Никита глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться.
— Послушай, — начал он примирительным тоном, — ты должен меня понять, потому что человек. Это истерика. Она просто на меня обиделась. Но сильно. Это минута, пройдет. Я ее знаю. По-настоящему.
Сережа покачал головой.
— Ее никто не заставлял. Она принимала решение в трезвом уме и твердой, как говорится, памяти. Никакой истерики лично я не наблюдал.
— Да ты пойми…
— И потом, если ей не понравится, она может не продолжать. Она взрослый человек.
Дыхание Никиты становилось все более тяжелым и порывистым. Он покрутил головой.
— Ты пойми, это не так все. Просто хочет отомстить мне. Бывает тихая истерика. Человек как бы спокойный, это самое опасное. Мы неудачно поговорили, вот она и решила…
— О чем же вы таком говорили, если она именно таким образом решила с тобой рассчитаться? — усмехнулся Сережа.
Никита возненавидел его за эту усмешку, но не позволил себе взорваться, заставил себя говорить спокойно, все еще надеясь на мирный исход дела.
— Я сейчас спущусь, сяду с ней в машину и отговорю ее. Правда, посмотришь!
— Не уверен, я помню ее глаза, это…
— У меня есть что ей сказать, она сразу успокоится. Как таблетка. Все потери высчитаешь из моих денег.
Сережа в задумчивости потеребил мочку уха.
— Ты знаешь, у меня такое впечатление, что это у тебя истерика, а не у твоей девицы. Она как раз вела себя спокойно, по-деловому.
Никита раздул свои и без того широкие ноздри, шумно сглотнул слюну, костяшки на его кулаках сделались белыми.
— Она тебе не девица.
— Надеюсь, — хмыкнул Сережа.
— Она моя сестра.
Брови собеседника подскочили, он видал виды, но все же удивился.
— Сестра?
— Сестра.
— Родная?
— Единокровная.
— Это когда…
— Один отец.
— Понима-аю. Вернее, пытаюсь понять. Для чего же ты свою сестру единокровную притащил сюда, ползал с нею в голом виде по кровати, а?
Никиту перекосило, и лицо, и всю фигуру. Что можно было сейчас ответить на такой вопрос этому шакалу!
— Ты не сможешь понять, не сможешь. Сейчас не сможешь. Потом сможешь, сейчас нет. А сейчас дай мне с ней поговорить, иначе потом все! не исправить!
Сережа прислонился к плечу платяного шкафа.
— Уж как тебя корчит, даже если сестра.
— Она замужем.
— Она что, единственная замужем?! Ты сам прекрасно развозишь по ночам замужних тварей на заработки. А твою сестру я отправляю не в газовую камеру. Подзаработает немного деньжишек, трудно жить на учительскую зарплату.
— Откуда знаешь, что учительница?
Сережа засмеялся, показывая неодинаковые зубы, чувствовалось, что проболтался.
— От верблюда. Она анкету у нас заполнила.
— Какую анкету?!
— Магда, — Сережа повернулся к диспетчерше, — посмотри в окошко.
Та спиной по стеночке подобралась к окну и отодвинула штору.
— Ну!
Магда утвердительно кивнула.
Сережа улыбнулся и расправил плечи, он был доволен развитием событий.
— Все, — сказал он.
— Не понял.
— Переговоры закончены. Они уехали.
Рот Никиты приоткрылся, левое плечо стало выдвигаться вперед, правая рука начала подниматься. Он явно хотел схватить собеседника за горло и ударить в морду.
Сережа быстрым заячьим движением хлопнул ладонью по стенке шкафа, и у него за спиной тут же возникли братья офицеры, Андрей и Дима. В руках они держали приспособления, повышающие эффективность рукопашного боя.
— Не надо, брат единокровный. А то мы снова будем бить по голове.
23
— Пыль вытирать? — спросил Руслан, оглядывая помещение.
Денис мастеровито запустил окурок в холодное горло камина.
— На столе, пожалуй, вытри, и эти тряпки с кресел сними, а то неуютно.
— Неуютно? А может, камин разожжем? Огонь. Сразу уюту знаешь сколько.
— Не надо. Дым из трубы повалит. Какой-нибудь дурак из охраны обратит внимание, заинтересуется.
— Правильно, Диня, ты молодец, — согласился Руслан и набросился с тряпкой на широкий приземистый стол, стоявший между камином и диваном. Заставив столешницу таинственно сверкать, отразившись на всякий случай в ней, хозяин дачи отправился бродить по первому этажу с тряпкою наизготовку. Он страдал, не умея сообразить, какой из носителей пыли вызовет наибольшее внимание приближающихся к дому женщин. Он передвигал вазочки на каминной полке, растерянно выписывал пыльные каракули на подоконнике, сдирал затхлые чехлы с кресел и, конечно же, не знал, куда их девать.
— Да брось ты, — сказал неподвижный и недостижимо спокойный Денис, — консервный нож лучше принеси. И штопор.
— А, правильно, правильно, сейчас.
Дорога на кухню и обратно заняла у Руслана вряд ли целую секунду.
— Теперь открывай. Сначала консервы мясные, потом рыбные. Понял?
— Это тоже?
— Да хватит с них, еще кормить.
— Ну почему же…
— Стаканы принеси. Какие попроще, а то попадутся психованные, переколошматят все.
— А могут быть психованные? — выпрямился Руслан, приставив к груди штопор.
— Это я так, к слову. На всякий случай.
Руслан вернулся со стаканами. Расставил на столе и опять куда-то заспешил.
— Да все, Руслик, хватит, ничего больше не надо.
— Я в туалет.
Денис встал коленями на сиденье дивана, подбородок положил на спинку и внимательно посмотрел вслед другу.
— Что с тобой? — спросил он участливо, когда друг возвратился.
Руслан молча опустился в кресло и опрокинул лицо в ладони.
— Но, но, ты! — начал возмущенную речь Денис, — обратной дороги нет, место встречи изменить нельзя, понял!
Руслан выпрямился, он был сосредоточен и совершенно спокоен.
— Да, ты прав, у меня был понос, но я тебя не подведу. Только одна просьба.
— Время просьб прошло!
— Маленькая просьба.
— Говори, — подозрительно прищурился Денис.
— Если я останусь сидеть здесь, меня может снова прохватить.
— Откуда ты знаешь?
— Уж знаю.
— Что же делать?
— Ты встретишь их один. Не размахивай руками и не выпучивай глаза. Встретишь и одну из этих… женщин, по твоему усмотрению, направишь вон в ту комнату.
— А ты?
— А я буду сидеть уже там. Наготове.
Денис поскреб подбородок.
— А там у тебя не будет запора?
Руслан серьезно покачал головой.
— Не думаю. Во всяком случае, что бы там со мной ни случилось, я помешаю только себе.
— Спасибо, друг! — Денис повалился на диван и громко захохотал.
24
Стул был старый, расхлябанный, при малейшей попытке пошевелиться он покачивался и скрипел. А пошевелиться Никите хотелось все время. Руки, связанные за спинкой кресла, затекли, спина давно казалась чужой и деревянной.
Комната была ничем не примечательна, обычный среднебюрократический кабинет: вытертый паркет, обшарпанная мебель, настольная лампа с поцарапанным абажуром.
За голым окном невидимая машина, пыхтя и постанывая, загоняла в землю сваи.
Так или иначе, эта комната была попривлекательней той, где ему пришлось сидеть в обнимку с батареей парового отопления. Около получаса находился здесь Никита, разнообразно манипулируя стулом, решительно освободиться он не пытался, потому что в комнате находились Дима и Андрей. Им, видимо, приказано было не спускать с него глаз, и они не спускали. Почти не переговаривались друг с другом и уж, конечно, не отвечали на вопросы прикованного к стулу.
Никите эти строгости, отдающие стилем крутых разборок, казались нелепостью. Он бы вслух посмеялся над ухватками бывших офицериков, когда бы забыл, как безапелляционно они скручивали его в брачной конторе, как транспортировали сюда, воткнув ствол пистолета под ребро. Еще он помнил о том, как их приятели били его по затылку в заброшенном доме.
Всякому бреду приходит конец, даже жизни как таковой. Должно же было чем-то разрешиться скрипучее сидение.
За спиною Никиты открылась дверь.
Офицерики вскочили, их лица сделались еще серьезнее, чем были.
Никита напрягся и всему телу стало от этого больнее.
Дальше произошло странное. Ладонью правой, заведенной за спинку стула, вставленной в кольцо наручника, полубесчувственной руки он почувствовал теплое прикосновение. Затекшая конечность не смогла сразу определить, в чем дело, но потом все же определила — ее пожали.
— Здравствуйте, Никита.
— Здравствуйте, — ответил сидящий, силясь повернуть голову, ибо не привык приветствовать человека, оборотившись к нему затылком.
Вежливый господин, идя навстречу его усилиям, вышел из-за спины и тут же был с облегчением узнан: профессор.
Когда он огибал правое плечо пленника, тот оказался в облаке благородного алкогольного запаха.
— Так, — сказал профессор, усевшись за конторский стол, — что на этот раз?
Никита инстинктивно попытался встать, чтобы сделаться поближе к человеку в очках и подальше от бесчувственных офицеров, но принужден был со стоном опуститься на место.
На лице профессора появилась улыбка, в уголках которой посверкивали бледные хмельные искры. Выше уже много говорилось о длине его лица, улыбка лишь отвратительно ее подчеркнула. Никита подумал, что он, пожалуй, рано обрадовался появлению этого очкастого удава. Да, когда-то он его вылечил, но так и не сказал, для чего.
— Говори же. Я ради тебя оторвался от интересного, приятного дела, а ты сидишь и молчишь. Ты понимаешь, что устроил большой переполох на моей ферме, или фирме, как угодно. Ты повел себя так, как не принято себя вести. Объяснись.
Никита посмотрел на военных братьев.
— Пусть они уйдут.
Профессор поднял брови, потом догнал их очками. Покашлял.
— А почему они должны уйти. Они мои охранники, им я доверяю, тебе — нет.
— Ты какой-то особенно гордый, да? Ладно, я попрошу ребят уйти. Что еще?
— Руки.
— Что руки?
— Не чувствую. И спина. Больно очень.
— Ты хочешь, чтобы мои охранники ушли, а перед этим освободили тебе руки, правильно?
— Правильно, — Никита отвернул взгляд в сторону. Его угнетало ироническое дружелюбие профессора.
— А вдруг ты на меня набросишься? — сладко зевнул всем ртом профессор, рот у него рассекал лицо поперек и очень глубоко, так что возникала мысль — если он откроется слишком широко, верхняя часть головы может завалиться назад. Впрочем, эта мысль целиком на совести того состояния, в котором находился Никита.
— Чего молчишь? Я сказал, что боюсь твоего нападения в отсутствие моих охранников. Нападешь?
— Зачем? — спросил Никита, и спросил так, что профессор после короткого раздумья кивнул офицерам.
— Руки ему освободите, а вот ноги…
— У меня есть специальные такие штуки, — тут же отозвался Дима и достал из кармана куртки другие наручники, неестественно большого размера.
Профессор искренне удивился.
— Это теперь такие делают колодки?
Офицер улыбнулся, понимая, что его предусмотрительность нравится шефу.
— Юаровское изобретение. Со скованными руками эти негритосы бегают не хуже страусов. Со скованными ногами — не могут.
— Ладно, — прервал лекцию профессор, — цепляй и — в коридор.
Никита медленно, как оживающий памятник, привел руки в нормальное положение и «залюбовался» их неестественным цветом.
— Итак, — сказал профессор, рассеянно закуривая, — теперь нет препятствий к тому, чтобы ты мне все рассказал.
— Спрашивайте.
Длиннолицый стряхнул первый пепел.
— Не хочешь, стало быть, по-хорошему.
— Хочу.
Последовала длинная вдумчивая затяжка.
— Сначала я решил, что меня к тебе, то есть тебя ко мне подсаживает ментовка. Потом думал, что ты от кого-то из моих недоброжелателей. Мно-огие люди желают мне недобра, самого разного. Теперь уж я и не знаю, что мне думать. Ведешь ты себя как человек не вполне нормальный, и я до сих пор не могу определить, бояться мне тебя или нет. Пожалуй, ни менты, ни конкуренты к помощи такого тихого идиота, как ты, прибегать бы не стали.
— Вы правы.
— Вот-вот, опять начинаешь. Но больше у тебя это валяние Ваньки получаться не будет. Надо мне какой-то сделать вывод, решение какое-то принять. Разве может позволить себе не сделать этого человек, занимающийся тем, чем занимаюсь я, а?
— Не знаю.
— А я тебе скажу. Надо бы тебя, конечно, пришить. От греха подальше. Так бы и поступил любой из моих коллег. Твое везение в том, что ты попал ко мне в руки. Если только не сам ко мне стремился. Я человек интеллигентный и не просто интеллигентный, но и любознательный. Но и моему терпению близится предел, ощущаешь?
В тишине заданного вопроса столб пепла обломился и с грохотом обрушился на стол.
— Понимаю, — сказал Никита, пытаясь согнуть пальцы, но они начинали гнуться не там, где было принято.
— Если сейчас, не отходя от этого стула, ты не ответишь, причем честно, на несколько вопросов, я пошлю за ниткой и иголкой.
— Зачем?
— Чтобы пришить тебя, дурак, это образное такое выражение. Тебе все равно не понять.
Машина за окном стала стучать медленнее, словно заинтересовавшись исходом разговора.
— Я отвечу. Честно.
— Ты сказал, что женщина, которую ты привел в гости, — твоя сестра, это…
— Правда.
— Единокровная сестра.
— Да.
— Не единоутробная?
— Единокровная.
— Значит, Савелий Никитич Воронин твой…
— Да…
— И ты приехал в Москву, чтобы, так сказать, ему представиться?
— Да.
25
Денис шпионским движением потушил свет и отодвинул занавеску.
— Что там?
— Машина, Руслик, кажется, приехали.
Руслан вскочил.
— Тогда я наверх.
Он бросился к лестнице и стал быстро подниматься на второй этаж.
— Постой, понос, бутылку с собой захвати и пожрать чего-нибудь. И побольше.
— Зачем?
— Слушай старших. Если тебе понравится, а я подозреваю, что понравится очень, за четыре часа ты успеешь проголодаться. И не один раз.
Руслан лихорадочно наполнял тарелку бутербродами.
— Какие четыре?
— Сеанс у них такой, Руслик, сеанс.
Увидев, что по присыпанной снегом дорожке к дверям дома неуверенно направляется темная мужская фигура, Денис зажег свет, давая фигуре понять, что она не ошиблась. Сюда!
Сутенер оказался длинным худощавым парнем в вязаной черной шапке, длинной, до колен, кожаной куртке, говорил почти не открывая рта, но все равно было понятно, что у него гнилые зубы.
— Фирма «Купидон», — сообщил он.
— Ждем, — сказал Денис, впуская его внутрь и стараясь держаться от него подальше.
— У вас уже снег выпал, хорошо, а в Москве мокро и грязно.
— У нас тоже всего час как идет.
— В мои обязанности входит осмотр помещения, — сказал гость, осматривая в основном самого Дениса. Тот знал, что ответить, если спросят насчет несовершеннолетия. Гнилозубый, словно почувствовав, что с этой стороны подкапывать бессмысленно, не торопясь прошелся по каминной зале.
— Но в заказе говорилось о двух господах.
— Второй господин уже на рабочем месте, — в тон ему ответил Денис.
Сотрудник фирмы потер переносицу.
— А он это…
— Что вы имеете в виду?
— Как бы это попроще объяснить, он человек, одним словом?
— Успокойтесь, не крокодил.
— Это хорошо. Значит, одно, как вы говорите, рабочее место наверху, а вот вторая пара?
— Комнат хватит на всех, — отрезал Денис, изо всех сил стараясь глядеть на долговязого, как требовательный покупатель на нерадивого продавца.
— Ну что ж, хоромы не тесные. Тогда последнее, и одновременно первое — деньги.
В представителе фирмы «Купидон» чувствовался скорее недоучившийся студент, чем блатная косточка, это успокаивающе действовало на Дениса. Первоначальное напряжение спадало. Он молча достал из кармана деньги и пересчитал их в тонкопалую, не мозолистую руку сутенера; подавил в себе желание произвести на этого ублюдка впечатление путем отслюнивания гонорара от толстенной пачки бумажек. Он заранее отложил в карман ровно столько, сколько надо, больше ни рубля.
В свою очередь пересчитав деньги, работник «Купидона» поглядел на часы.
— До одиннадцати пятнадцати.
— Правильно.
Совсем было собравшийся уходить гнилозубый улыбнулся вдруг с отвратительной угодливостью и почесал ноздрю ногтем. Денис понял, сейчас пойдет речь о какой-то шероховатости, и приготовился взорваться, ибо клиент прав всегда, особенно в постели.
— Что у вас там?
— Я хочу сказать, хорошо, что у вас отдельные комнаты.
— Почему это?
— Да наши девушки немного повздорили между собой в дороге. Самую малость, — успокаивающе поднялись потные руки, — все остальное в силе. Если захотите обменяться партнершами, придется доплатить. Ну, это везде так.
Денис надменно кивнул.
— Так я запускаю?
— Раз они… раз они плохо друг с другом, давайте по одной, — Денис вспомнил о просьбе Руслана. — Сначала ту, что поопытней и поспокойней, она проследует наверх, потом…
— Понятно.
Сотрудник исчез.
Денис остался стоять у двери. И вскоре услышал звук приближающихся шагов. Набрал воздуха, резко выдохнул. Роль бывалого сексуального вояки давалась ему не без труда.
Дверь открылась, гнилозубый, как и было ему положено по должности, вошел первым. За ним появилась из заснеженного мрака…
Никита, скажем, сразу бы узнал ее.
Лариса. Чуть удлиненное лицо, пикантно преувеличенный нос, копна волос до плеч, чувственно-пренебрежительное выражение рта. Она поздоровалась при помощи мягкой, никому не предназначенной улыбки. Внешность клиента ее не поразила, она не удивилась бы даже в том случае, когда было бы чему удивляться. Повернулась так, чтобы за нею было удобно поухаживать, снимая пальто. Не сразу, но Денис сообразил, чего от него хотят.
— У вас есть огонек? — сразу же последовал вопрос, и вместе с затхлым запахом видавшей виды парфюмерии из открытой сумочки появилась пачка сигарет.
— У нас нет времени курить, — ответил Денис, и работник «Купидона» энергично подтвердил его слова.
— Куда идти?
— По лестнице наверх. Первая комната, на двери изображен мальчик с горшком.
— Как мило.
Лариса притворно вздохнула, говоря как бы, что работа есть работа, стала подниматься.
Гнилозубый опять улыбнулся, и Денис велел себе собраться: сейчас будет о чем-то просить.
— Я иду за второй, но вот в чем дело.
— В чем?
— Четыре часа, два сеанса, это долго.
— Как смотреть.
— Вот именно. Вы ведь все равно тоже подыметесь в какую-нибудь комнату, можно мы посидим здесь с водителем?
Денис отрицательно и решительно покачал головой.
— Вы останетесь в машине.
Работник «Купидона» огорченно, но покорно кивнул и отправился на снег.
И все повторилось, и хруст приближающихся шагов, и появление угодливой рожи в дверях, и…
Денис невольно сделал два шага назад и пробормотал:
— Здравствуйте.
Гнилозубый, не чаявший, как сбыть с рук внезапную и капризную работницу, обрадовался завязавшемуся контакту и, бросив: «ну, я пошел», исчез в ночи.
— Здравствуйте, Светлана Савельевна.
— Здравствуй, Зацепин.
26
— Я приехал в Москву, чтобы встретиться с моим отцом.
Профессор полез в пачку за следующей сигаретой.
— Почему же ты до сих пор этого не сделал? Если тебе нужен твой отец, ты идешь к нему и говоришь: «Здорово, батя, это я, твой сын Никита из Калинова».
Он заключает тебя в объятия — отлично; посылает — идешь, огорченный, правильно?
— Не знаю.
— Ты же затеял что-то по принципу: зачем просто, когда можно сложно. Три с лишним месяца кружишь вокруг этого семейства. К мачехе сунулся, с дочерью, то есть сестрой единокровной затеял непонятное. Она, между прочим, Сашей тебя называет, мне ребята сказали. Как все это объяснить?!
— Трудно.
— Правильно, трудно. И если еще учесть, что на квартире у этого копача-академика имеется какая-то сумасшедшая коллекция то ли монет, то ли еще чего-то в этом роде, твои поползновения выглядят совсем плохо, парень.
— Мне не надо монет. Я, наоборот, хотел вернуть деньги. С процентами. Отцу.
Механическое сердце за окном стало давать перебои.
Профессор подпалил торец очередной сигареты и нарисовал огнем зажигалки приглашающий знак в воздухе: колись, сука!
Никита понял его. Сжал кулаки, отчего ему показалось, что сунул их в кипяток. И сказал:
— Я сирота.
Интерес нового типа появился в лице профессора.
— Я жил всегда с матерью и она всегда была нищая. Образование восемь классов. Сначала лаборантка в сельхозтехникуме, потом библиотека. Рано начал спрашивать про отца. У всех есть, у меня нет. Сначала отец был летчик-испытатель. И погиб. Потом он стал полярником, но тоже мертвым. Я все рос и догадался, что отец выжил. Однажды случайно узнал, что у матери был знакомый. Не летчик и не полярник, а ученый. Копал у нас курган в Калинове. За год до моего рождения копал. Все сходится. Я с вопросом к матери. Она поплакала и призналась. Что да, что отец мой. У них большая любовь была, но жениться он не стал, наука помешала. Я просил ее, дай мне адрес, я сам разберусь, раз я сын. Она проявляла гордость: раз мы отверженные, не будем напрашиваться. У него другая семья, другая жизнь. Сказала, что перед смертью имя назовет. Потом я заболел на три года. Потом она замуж вышла.
— Замуж?
— Да, ее бывший начальник. Почвовед. Сморчок вонючий. Овдовел. Одному жить непривычно. Дочери его на Дальнем Востоке. Кто обстирает, обмоет.
— Обмывают перед смертью.
— Мать за ним ходила как санитарка. Меня тошнило, но мне ее жаль — терпел. Бабья доля. Я ведь постепенно разузнал все про ее научного друга. Как выздоровел, пошел заниматься в зал, ребята помогли. Они многое могут. Собрался было ехать. А тут мать подкосило. Сильно. И она почувствовала что-то. Говорит, не уезжай, пока живая я, не уезжай. Я, говорит, тебе имя запишу, вот при тебе беру бумажку и записываю, и в шкатулку кладу, только обещай, что дождешься смерти моей. Обещал, как же тут не пообещаешь. Она еще хотела меня с этим почвоведом помирить, но даже перед ее смертью не стал я. Очень ее огорчил, но не стал.
— И вот твоя мать умирает.
— Вы говорите так, будто я этого ждал. Я ее жалел, я даже с отчимом не скандалил из-за нее, а ведь очень хотелось придушить. Но вот умерла. Я в шкатулку, там бумажка с ее почерком. Фамилия, имя совпадают с моими данными. Только землей засыпали — я на поезд. Зачем в шкатулку полез? Проверить, не было ли лжи во спасение. Слава Богу, нет. Отчим пытался, козел, меня удержать, за сердце хватался, но я сумку на плечо и на поезд.
— И вот ты приехал в Москву.
— Приехал, звоню, а он на полтора месяца в командировке. Я что тогда, устраиваюсь на работу. К вам. Жду. Звоню опять, снова нет. Стал не доверять. И следить. Выследил жену. Она мне сказала, что я ошибся, что никакой я не сын и чтоб не лез. Я ей деньги даю, возьмите, мол, а она подумала все наоборот, что я втиснуться хочу, свою долю от отцовского богатства потребовать. Но ведь я, когда ехал, не знал ни про какое богатство. Он же ученый, какие у них теперь деньги!
Профессор кивнул: правильно говоришь.
— И когда ты получил отлуп от мачехи своей, то подъехал к сестре?
— Только с одной мыслью, разузнать, где отец. Дома его не было, сведений о смерти раздобыть не удалось. Может, командировку продлили, может, к новой бабе подался. Раз мать мою смог бросить, то уж эту тетку и обязан, думаю.
— Это я понимаю, товарищ сирота. А вот для чего ты потащил свою сестрицу на фирму и стал вступать с нею в, так сказать…
— Да не я с нею, а она со мною. Правда, — Никита понурился, — правда, вначале злой такой замысел у меня был, но после лишь того, как она меня к отцу водила.
— К отцу? Так он отыскался, где же?
— Заболел. В санатории. Очень много ест шоколада. Я ведь Сашей назвался.
— Для конспирации.
— Может быть. Я ведь мачехе своей настоящее имя назвал. А она дочери про мое, то есть Никиты, появление сразу же, конечно, рассказала. Светлана могла замкнуться, если бы я представился братом.
— Психолог.
— Уже мало осталось. Приходим мы в санаторий. Сидит академик в беседке. Светлана с ним беседует. Я, в качестве Саши, рядом. Вдруг она касается самого главного вопроса: мол, появился Калиновский самозванец и настаивает, что сын. Обидно так говорит. До боли прямо. Оба они начинают над этим самозванцем издеваться. Это жутко, когда в общем-то родные люди так топчут. Я сдержался. Я очень сдержанный, поэтому сдержался. Не знаю при этом, как, но зародилось у меня мстительное чувство. Ах, сказал я себе, раз вы не считаете меня собственным родственником, раз не считаете меня Никитой, стану я Сашей. По-настоящему стану. И очень скоро.
Профессор рисовал пеплом круги на поверхности стола.
— Ведь познакомился я со своей сестрицей как обычно. То есть как просто мужчина с просто женщиной. И нравиться ей стал сразу. Я мужик видный, хотя, на, чей-нибудь взгляд, и немного тупой. Думаю я о Светлане — отвечу я на твое низменное влечение, ох как отвечу. Но к ней домой нельзя — свекровь. Пришлось в контору. Пока ехали — отрезвел.
— Понимаю.
— Сестра ведь, говорю себе, сестра. Перебарываю мужское естество. А она возбудилась. Возбудимая, видимо. А мне что же — идти на семейное преступление? Никогда, думаю. Из-за какой-то обиды временной. Ведь они просто ничего не знали, когда издевались надо мной. Но ей-то не объяснишь. Я даже не успей ей сказать, какие мы с нею все-таки родственники. Она как рванет. И чтобы мне сделать больнее — я ведь все время твердил, дурак, что люблю страстно, но к телу не прикоснусь, — она и поехала по вызову. Быстро столковалась с Магдой, сукой этой. Я-то думал, она просто ушла, на кровать упал. Лежу, чувствую. И тут вдруг выясняется… я рванулся… Остальное знаете.
Профессор встал со стула, но только для того, чтобы сесть на подоконник. Засунул руки в карманы и закрыл глаза. У него началось двойное похмелье, и после «абсолюта» и после абсолютно дурацкой истории, которую он только что выслушал. Кроме того, ему было стыдно перед самим собой за то, что он сразу не разобрался в этом дебиле. Было жаль сложной системы подозрений, сооруженной вокруг этого куска бессмысленно страдающего мяса. Облегчение он тоже испытывал. Не находится он и его маленькая неформальная организация под колпаком следственных органов, не является она предметом нездорового интереса со стороны конкурирующих фирм.
— И что же ты собираешься дальше делать, — скорее по инерции, чем из интереса спросил профессор.
Приблудный сын членкора Воронина сокрушенно помотал головой.
— He знаю. Надо бы поехать вызволить Светлану. Но, наверное, поздно. Она, конечно, ненавидит меня, но пусть. Завтра к отцу, теперь я знаю, где он. Откроюсь.
— А вдруг он не признает тебя.
— Почему?
Ты же сам говорил, что в разговоре с дочерью он смеялся над Калиновским сыном.
— Лицом к лицу все будет по-другому. Мне есть что ему напомнить. Мама рассказывала мне кое-какие детали. Такое, что не может пропасть из памяти. Даже из старой. Пускай отец не в себе, я заставлю его все вспомнить и все признать.
Профессор помассировал затылок и крикнул своим охранникам, чтобы вошли.
— Расстегни, — палец шефа указал на южноафриканские колодки. Щелкнул замок, Дима успокоил оскаленные железные пасти и спрятал устройство в карман.
— Иди, Никита-Саша.
— Куда?
— Куда хочешь, очень ты меня сегодня утомил. Но мой тебе совет — езжай спать.
Никита кивнул.
— А завтра на работу. Очень часто ты стал отдыхать, утром сходишь к папочке и — в должность.
Никита опять кивнул.
— Если хочешь, тебя подвезут.
— На метро, — быстро поднял голову начинающий сутенер.
Взгляд профессора вдруг сделался внимательным.
— Нет, нет, Дима с Андрюшей тебя отвезут.
Кажется, Никита собирался возразить шефу, но заставил себя сделать вид, что раздумал. И направился к двери, офицеры направились за ним.
Дважды хлопнула входная дверь. Первый раз выпуская троих, второй раз впуская одного. Это был Сережа. Он тяжело дышал, усевшись на стул, только что занимавшийся Никитой, он хлопнул себя перчаткой по колену и сообщил:
— Снег идет.
— Это все, что ты хочешь мне сказать?
— Там никого нет.
— Где?
— На складе. Поеду завтра. Пораньше.
— Уж поезжай, пожалуйста.
Профессор оглянулся — за синими окнами действительно шел крупный, медлительный, прямо-таки образцовый снег. Фонари на затихшей стройплощадке, подыгрывая снегопаду, создавали праздничный эффект.
— На сегодня все? — осторожно спросил Сережа.
— Да, как будто.
— Вам не понравился сегодняшний разговор?
— Черт его знает. Парень, конечно, бревно, но меня не отпускает ощущение, что я тут чего-то не доделал.
— Думаете, через него можно добраться до академика? Я наводил справки еще в нескольких местах, его коллекция многим не дает покоя.
— Не знаю, не знаю, если бы я чего-нибудь и задумал в этом направлении, этот бастард, скорей, мог бы навредить, чем помочь.
— Мне продолжать с ним возиться, или уже пришло время, чтобы спихнуть?
— Я еще ничего не решил, пусть пока походит. И не торопи меня. Скорей, все будет так, как тебе хочется, но ты меня не торопи.
Хлопнула входная дверь. Разговаривающие одновременно посмотрели в направлении звука. Никого они в этот час не ждали.
Здесь мог бы появиться человек или совсем случайный, или очень опасный.
В дверях кабинета появился Дима. Правой рукой он зажимал рот и нос. Рука была полна крови.
— А где Андрей? — спросил профессор.
— В подъезде лежит.
— Живой?
— Да, только идти не может.
— А где дебил?
— Сбежал.
Дима взял из стенного шкафа несколько листов исписанной бумаги и стал вытирать руки и лицо.
Профессор задумчиво посмотрел на Сережу.
— Куда он мог рвануть?
— Спасать свою сестру.
— А зачем было вообще отправлять ее на вызов? — поморщился шеф.
— Вы же сами велели, я вам звонил. Вы сказали, что нужно было его вывести из равновесия.
— Вывели.
Профессор отвернулся к окну, и помощник и охранник молча ждали, когда он что-нибудь придумает.
— Что там за огни? Это что, электричка?
Сережа подошел ближе, посмотрел из-за хозяйского плеча в наполненную снегопадом тьму.
— Да. Станция, — подумал немного и добавил, — по ней он может доехать до Каратаева.
Профессор постучал костяшками пальцев по подоконнику.
— Ерунда, — неуверенно успокоил его Сережа, — во-первых, он не знает, что нужно ехать именно в Каратаево.
— А во-вторых.
— Во-вторых, времени много прошло.
— От конторы сюда ехать минут двадцать пять, двадцать минут он сидел здесь, десять мы с ним беседовали. Округляем — час. Наверное, даже час с чем-то. До поселка добираться отсюда…
— Не меньше часа, — услужливо вставил Сережа, — и электрички сейчас ходят плохо.
Профессор достал из кармана пачку сигарет.
— Не должен успеть, даже с учетом того, что дорога от конторы до поселка тоже займет какое-то время. Не должен.
Сережа тяжело засопел за спиной шефа.
— Что еще? — недовольно спросил тот.
— Двойной сеанс. Четыре часа. Они пробудут там до одиннадцати.
Профессор запалил и потушил механический огонь. Потом еще раз.
— Набери номер конторы, если он туда звонил, то мы знаем, что это значит.
Рыжие пальцы забегали по клавишам.
— Магда, ты? Дебил наш не звонил? И что ты ему сказала? Зря ты это сделала, очень зря. Ах, он сказал, что убьет тебя, если ты не скажешь. А другой адрес ты назвать не могла?! Правильно, это не военная тайна, но лучше бы ты выдала военную.
Профессор сказал Диме:
— Иди, заводи.
И Сереже:
— Дай сюда телефон.
Основательно, отчетливо набрал номер.
— Господин Юргелевич, да, это я. Дело оказалось запутанней, чем я думал. Да, очень хорошо, что вы меня правильно поняли. Приехать не могу. К сожалению, к глубочайшему. Ах, вот как?! Ну, тем хуже для меня. Теперь мне будет не только скучно, но и обидно. Поцелуйте от меня супругу и детишек.
Сережа не без удивления смотрел на шефа, неужели сам поедет? По такому ничтожному поводу. Краснощекий помощник давно догадывался — «Купидон» всего лишь фирма-ширма и у профессора есть дела поважнее, один господин Юргелевич чего стоит. О нем даже по телевизору базарят. Да, что не говори, у сильных свои слабости.
Опять хлопнула входная дверь.
Очкастую физиономию перекосило.
— Это еще что?!
Сережа выглянул в коридор.
— Это Андрей.
Больно ушибленный офицер фактически на одних зубах поднялся на пятый этаж, каково же было его разочарование, когда он узнал, что подвижничал зря. Что ему необходимо спуститься обратно в машину.
И как можно скорее.
27
— Ну, что будем делать? — Светлана Савельевна засунула руки в карманы полураспахнутого пальто и уселась в кресло возле камина.
С видом самым самоуверенным.
Денис занял место в другом кресле, расположенном визави. Профессиональное чутье подсказывало учительнице — надо брать инициативу в свои руки. Ученичок ошарашен, и нельзя дать ему возможности одуматься и обнаглеть.
За время путешествия от «Купидона» до дачного поселка в ее настроении произошли перемены. Выветрился коньяк, которым ее угостила Магда-вербовщица, и предстоящее приключение рисовалось не в том свете, что прежде. Злость по отношению к Никите не прошла, желание отомстить не померкло, но не было уверенности, что делать это нужно именно тем способом, что подвернулся.
Своими новыми мыслями она попыталась поделиться с гнилозубым и его спутником, но они не продемонстрировали желания понять ее. Не пожелали они и посмотреть на ситуацию в юмористическом свете. Дело есть дело. Клиенты ждут, а с их ожиданиями шутить не принято. Кроме того, молодые негодяи намекнули, что способны на многое ради того, чтобы довести начатое до конца, то есть препроводить новую и столь порывистую сотрудницу в уже предназначенную для нее постель.
Коллега по заезду шепнула Светлане, что с «этими гадами лучше не спорить, выбьют зубы, или еще что». Естественная брезгливость, вызванная в преподавательнице русской художественной словесности липкими поползновениями этой профессиональной солидарности, обидела Ларису. Надо же, она собиралась помочь этой захожей шлюхе, поддержать ее морально, и даже готова была выделить кое-какой инвентарь, то есть презерватив из своей коллекции, а она!!!
Состоялась словесная разборка, в результате которой Светлана узнала о себе много нового. Лариса вдобавок во всеуслышание заявила, что она «не лошадь и не собирается обслуживать двоих», если «эта тварь соскочит».
Молодые люди с первого сиденья признали эту точку зрения справедливой и заявили, что никому «соскочить» не позволят.
Тут учительница поняла всю сложность переплета, в который угодила. Как из него выбираться, она не знала, хотя понимала, что выбираться надо. Одно было ясно, шумные и прямолинейные способы не годятся. Зубы было жаль. Остается хитрость, хитрость всегда с собой. Может быть, запугать? Рассказать о влиятельном папаше, о грядущей мести? Пообещать деньги? Заявить, что начинаются месячные?
Не годится все это.
Как-то сразу было понятно, что все это бесполезно. Даже в болезненном состоянии ее принудят доставить удовольствия какому-нибудь омерзительному грубияну с зеленой котлетой денег.
В замкнутом пространстве не очень-то похитришь, надо сначала выбраться из этой коробки, там видно будет. Можно будет закричать, побежать к людям.
Когда машина въехала в глухой, уже совсем зимний поселок, и эта надежда учительницы рухнула. К кому тут апеллировать, к кому бежать?
Приехали.
Направляясь от машины к дверям бахновской дачи, она не знала, что будет делать, но собралась с моральными силами и почти не волновалась.
Выход найдется.
И вот она сидит в кресле.
— Так что мы будем делать, Зацепин? — спросила Светлана Савельевна еще более учительским голосом, чем в первый раз.
Ученик оправлялся от психологического шока, но еще не оправился.
— Не знаю, Светлана Савельевна, что скажете.
— Где же твои родители?
— Кто где. Мать умерла, отец в Африке.
— А ты, значит, вот чем занимаешься, шлюх выписываешь, замечательно!
Денис странно так улыбнулся.
— Чего же ты молчишь, или ты не для себя?
— Для себя.
— То есть взрослых никого в доме нет?
— Почему, взрослых двое.
— Двое? А кто второй?
Денис опять улыбнулся. Он почти полностью пришел в себя и начал видеть в происходящем не только дикие, но и забавные стороны.
— Если захотите, вы с ним познакомитесь. За отдельную плату.
— Что значит за отдельную, что значит за плату?! Откуда у вас столько денег? Папа из Африки присылает?!
Светлана знала свои возможности, при желании могла нагнать страх на три десятка головорезов и головорезок. Но сейчас она не чувствовала, что ей удалось повергнуть этого белобрысого негодяя в состояние классной оторопи. Он умудряется ее не бояться, он смотрит на нее не так, как должен смотреть шестнадцатилетний ученик на опытную учительницу.
Что-то вроде легкой снежной бури почувствовала Светлана Савельевна в груди. Но тактики давления не отставила. Хотя бы потому, что знала, все остальные — хуже.
— Где ты можешь заработать столько денег? Думаешь, я тебе поверю, что ты вообще способен работать? Украл. Только у кого? У родителей или у пьяного в метро. Молчишь? Молчи, но ответить тебе на эти вопросы придется, будь уверен, я устрою тебе веселую жизнь.
Даже произносимые хорошо поставленным, уверенным голосом, слова эти ей самой казались бессильными, глупыми и жалкими. И этот подлец понимает все. Загадочная улыбочка, неуловимая улыбочка блуждает по почти недетскому личику.
— Ты думаешь, что я попала в очень уж глупую ситуацию и ты сможешь этим воспользоваться? Шантажировать меня будешь или еще что-то подобное? — смех, который Светлана Савельевна заставила себя исторгнуть, прозвучал одновременно и надрывно, и развратно. Она играла роль проститутки всего лишь полтора часа, но роль эта уже успела наложить на нее отпечаток.
— Ты думаешь, я очень боюсь того, что станут говорить в этой поганой школе, если ты раззвонишь, что я подрабатываю таким вот способом?
— Думаю, вы очень этого боитесь.
Наклонившаяся во время своей речи глубоко вперед Светлана Савельевна резко откинулась на спинку кресла. Лицо бесцветно полыхало, руки свирепо мяли в карманах пальто платок и зажигалку.
— Что же ты хочешь сказать?
Денис хотел было поиздеваться над тавтологической фразой, вышедшей из уст лучшей стилистки школы, но раздумал. Зачем мелочиться, ведь предстоит значительно более высокий уровень сатисфакции.
— Что никому не расскажу о том, что произошло здесь. Никто об этом не узнает. Никогда.
— Что значит «произошло»?!
— Ни ваш муж, ни ваш отец, ни один из сорока учителей и восьмисот школьников, никто ни о чем не узнает.
— А взамен? — осипшим вдруг голосом спросила учительница.
Денис улыбнулся, просто и располагающе.
— Вы сделаете то, зачем сюда явились.
Светлана закрыла глаза и замерла, не дыша и не двигаясь.
— Зачем вы так реагируете? Не все ли вам равно, с кем сделать то, ради чего вы сюда приехали. Мне, допустим, даже обидно. С кем-то, может быть, старым, вонючим бегемотом, вы готовы были, а со мной почему-то нет. Здесь мог оказаться сумасшедший маньяк, и вы бы, как миленькая, обслужили его…
— Ах ты хорек! Вот ты что задумал, да я тебя сейчас… — она приподнялась, вытаскивая кулаки из карманов.
Денис тоже привстал, сохраняя спокойное и уверенное выражение лица.
— Да бросьте вы. Куда вам деваться. Сейчас Руслика позову — вот вам первый свидетель, и слава вам обеспечена. А эти ребята, что приехали с вами, по первой моей просьбе появятся здесь и заставят вас сделать все, что нужно. Кому же охота деньги терять.
Не сводя глаз с говорящего ученика, Светлана Савельевна слегка покачивалась и выглядела как бы отчасти задумчиво.
Денис чувствовал свою полную победу.
— Посудите, я избавляю вас от таких неприятностей, а взамен требую такую мелочь.
— Мелочь…
— Конечно, мелочь. Я вас быстро отпущу, не буду четыре часа изводить.
Голова Светланы Савельевны стала поворачиваться, пытаясь освободиться от тисков шарфа, на губах появилась гримаса, свидетельствующая о приближении чего-то такого…
28
Войдя в переулок, Никита сразу увидел машину и понял — живая: из выхлопной трубы сочился дымок. Он направился к ней быстрым шагом. Знал, что «ребята» сидят внутри и покуривают, сам многократно участвовал в таких сидениях.
Никакого плана действий у него не было. И не ощущалось никакой нужды в нем, настолько был уверен, что все получится так как надо. В последнее время в «Купидоне» было не велено выезжать в эскорт с оружием во избежание неприятностей, город был заполонен патрулями.
Бесшумно ступая по мягкому снегу, Никита приблизился к правому борту машины. Левой рукой открыл дверцу. Правая, скомканная в кулак, многозначительно оттопыривала карман куртки.
— Выходите, ребята.
— Зачем? — было спрошено у него через гнилые зубы.
Пришлось взять говорящего за волосы. Короткие, но не настолько, чтобы нельзя было уцепиться.
— Пойдем в дом, погреемся, — убеждаемый и словом и делом сутенеришко покинул транспортное средство. Поставив его на колени и пригибая голову к снегу, Никита показал сквозь куртку свой правый кулак водителю.
— Ты тоже.
Все, кто сталкивался с Никитой по работе, считали его немного ненормальным. Тихим, но опасным. Эти двое к тому же присутствовали при сцене связывания его перед отправкой к шефу на разборку. Сам факт, что он после всего этого здесь, парализовал волю к сопротивлению.
Когда водитель захлопнул дверь, последовала негромкая, но твердая команда:
— Иди к дому. Медленно.
Убедившись, что выполнение команды началось, Никита выпустил на волю правый кулак и обрушил на затылок беззвучно склоненной головы. То ли ойкнула, то ли крякнула голова, и тело распрямилось вдоль машины.
Обогнув ее, Никита в несколько шагов догнал водилу. Медленно переставляя ноги по запорошенной снегом кирпичной дорожке, он шел к тускло освещенной веранде.
Бандит, подвергшийся бандитскому нападению, как правило, ничем не отличается от обыкновенного гражданина, этот случай оказался исключением.
Когда, по расчетам водителя, Никита оказался совсем близко за спиной, он резко обернулся, в руках у него оказалась монтировка, незаметно прихваченная из салона. Коротким, но страшным ударом он сокрушил темный воздух перед собой. В девяти случаях из десяти, если бы эта ситуация повторилась, его трюк удался бы. Но не сегодня. Слишком собран и взвинчен был нападавший. От пули бы увернулся.
Итак, подставленная рука, наткнувшийся на нее локоть, кувыркающаяся в воздухе железка, глухой удар в деревянные ворота и еще один удар, плотный, сочный, правым кулаком в зубы. Потом еще один, в район шеи, контрольный, чтобы надолго обездвижить противника.
А в это время кое-что происходило и внутри дома.
Надобно начать со второго этажа.
В комнате, в которой Руслан Бахно провел большую часть своего относительно счастливого детства, было полутемно. В окно сквозь неокончательно задернутые шторы падал свет зимней луны и вот что освещал: в основном кровать. В ногах ее сидела, подобрав под себя пятки, голая женщина и заплетала косу такими мелкими и бесшумными движениями, словно проверяла качество темноты, в которой приходится работать.
Лежащее напротив существо, полностью отныне мужского пола, смотреть на все это было не в силах. Безжизненно запрокинутая голова тонула одновременно в подушке и собственных ощущениях. Лицо лежащего замерло под таким углом, что могло показаться оборотной стороной луны. Пятна бледного блеска виднелись на выпуклинах лба, носу и подбородке, темные глазницы казались кратерами, полными жгучей и легкой пыли.
Сидящая в ногах закончила упорядочивание прически и подставила луне руки. Она смотрела на расклеившегося клиента. Она положила ладонь на грудь, словно успокаивая неловкое душевное движение, можно было бы так подумать, если не знать, что она просто ловила каплю быстрого пота, скользнувшую меж раскрепощенных грудей.
— Что, продолжим? — раздался шепот невидимых и полностью готовых к работе губ.
Клиент вдохнул воздух.
Получилось неглубоко. Некуда было. Собственная грудь показалась ему мелкой и пыльной. А ведь еще минуту назад в нее, бездонную, входила вся ночь с ее небом и морозом.
Ему казались чудовищными произносимые этой женщиной слова. Пошлыми и святотатственными.
Но одновременно он был благодарен ей за то, что она где-то выучилась этому профессиональному цинизму. Ибо если бы она все чувствовала так же, как он, происходящее перенести не удалось бы.
Он очень к месту вспомнил похороны дедушки. Три подтянутых, как спортсмены, могильщика в считанные секунды засыпали яму с опущенным в нее гробом и соорудили над нею холм, никто толком не успел разрыдаться. А эти трое где-то за кустами получили деньги и, почти насвистывая, удалились. Руслан навсегда запомнил странное чувство благодарности их быстрому мастерству.
— Итак, третий, решающий, полет орла.
Все на свете умеющие делать руки сидящей, незаметно наклоняющейся нимфы скользнули под одеяло и двинулись вверх по худым и ледяным конечностям. Стоило им перевалить нервные колени, на первом этаже хлопнула дверь.
Никита вошел.
Картина, которую он застал, не могла быть им оценена правильно. И не только им одним. Белобрысый, среднего роста и крепкого сложения паренек (смутно знакомый на вид) и Светлана Савельевна (сбросившая пальто) молча и осторожно сходились на фоне дивана. То ли для того, чтобы впиться друг другу в горло, то ли для того, чтобы броситься друг к другу в объятия.
Грубое вторжение разрушило жгучую паутину выясняемых взаимоотношений.
Сходящиеся замерли.
Разгоряченную недавними схватками и виноватыми мыслями помеху они увидели одновременно и отреагировали на ее появление одинаково отрицательно.
Правда, причины для такой реакции у них были совершенно разные.
Мстительный малолетний сладострастник подумал, что это второй охранник, решивший еще раз попроситься в тепло, теперь уж от своего имени. Денис ощерился и начал произносить длинную возмущенную фразу, призванную объяснить теплолюбивому сутенеру, что его манерами здесь крайне недовольны, что немалые деньги были выплачены за общество женское, а отнюдь не за его паршивое.
Но речи этой не суждено было состояться, потому что учительница отреагировала быстрее ученика.
— Какого (далее четыре нецензурных слова) ты сюда явился?!
Никита не обратил никакого внимания ни на слова общеупотребимые, ни на слова матерные, он держал в поле своею радиоактивного внимания малознакомого неприятного парня. При этом постепенно к нему приближаясь.
— Ты (опять самым обидным образом для вошедшего употребленные арготизмы) после всего решил сюда явиться, чтобы… — от возмущения и ярости у Светланы перехватило дыхание.
Никита не торопился с расправою еще и потому, что хотел за время сближения с клиентом определить, произошло уже что-нибудь непоправимое или нет. Успел ли этот белобрысый гаденыш помочь его любимой единокровной сестре Светлане в совершении страшной и ненужной ошибки или только готовился это сделать.
На мужчине следы недавнего участия в межполовом столкновении почему-то видны отчетливее, чем на женщине, это Никита знал по опыту работы. Кроме того, с неизвестным этим пареньком разговаривать ему было легче. Со Светланой, судя по всему, говорить было просто невозможно.
Сообразительный Денис понял по поведению учительницы, что возмущаться из-за грубого вмешательства в его интимную жизнь не стоит. Какие-то тут другие расклады. Умнее всего отступить к стене и, скользя по ней, незаметно удалиться домой к бабушке.
И он начал осуществление этого плана.
Но без согласия учительского знакомца сделать это было непросто. Поэтому отступающий к стене подросток заскучал и стал потеть.
Никита, приближаясь, знал, что не удержится и ударит его. Примерно так же сильно, как умника с монтировкой. Будет ли этого достаточно, чтобы убить, неизвестно. Но ударить слабее он не мог и не считал себя обязанным сдерживаться.
Спасти школьника могло только одно, и оно именно и случилось.
Светлана Савельевна, не полностью преодолевшая речевой спазм, бросилась слева на человека, считающего себя ее спасителем. Ее чести, семьи и карьеры.
Заслуживает внимания тот факт, что в этот момент она была вооружена. Не бог весть что эти маленькие маникюрные ножницы, оказавшиеся в ее руке, но совместно с фактором неожиданности они должны были сыграть свою роль и сыграли.
Сомкнутые острия вонзились в кожаное плечо спасителя.
Удар получился сильным.
На несколько мгновений внимание Никиты было отвлечено, правой рукой ему пришлось перехватывать оцепеневшую от ярости кисть, отталкивать обезумевшую родственницу, морщась и шипя выдергивать из плеча орудие неразумного вредительства.
За это время Денис успел выскочить на веранду.
Посмотрев в помутневшие глаза сестры, Никита с неохотой понял, что придется дать ей пощечину, чтобы привести в чувство, иначе истерика сменится прострацией. Терапевтический удар он наносил раненой рукой, во избежание увечья.
Оказалось, все сделал правильно. Как только Светлана почувствовала во рту кровь, взгляд ее сделался осмысленным.
— У ворот машина. Ключ в замке. Езжай до станции. Выйди из машины. Жди меня. На платформе. Поняла? — он потрепал ее за плечо, — все путем.
Он хотел ей сказать, что все важное расскажет ей по дороге домой, а она подумала — какой кретин все-таки.
Вправление родственных мозгов заняло довольно много времени, и, когда Никита выскочил на улицу, он не увидел никого. Кроме валяющегося на земле шофера.
Пришлось его еще раз пнуть (но уже без ощущения собственной правоты). Пнуть, чтобы он вмешался в развитие событий и сказал, где он, этот клиент?!
Когда бы не помощь снега, Никите не удалось бы найти ответа на этот философский вопрос. Покрутившись на месте, он в равнодушном свете веранды, падавшем на порог, увидел отчетливые следы. Куда они? К забору они. Никита понесся.
Клиент перелез забор в самом удобном месте, машинально отметил Никита, но никаких выводов сделать не успел. Пришлось снова присматриваться, куда это потопали испуганные кроссовки.
Очень скоро он понял, что паренек ушел недалеко. Скорей всего, вон в том доме спрятался. И, кажется, дом этот ему не чужой. Иначе чего бы он к нему побежал.
Проверим.
Чтобы раз и навсегда закрыть это дело, требовалось поговорить с ранним любителем продажного женского тела и отбить несколькими ударами у него охоту хвастаться и хихикать по поводу веселого совместного приключения с неосторожной учительницей литературы. Это дело нельзя откладывать на завтра, встречать его возле школы и т. п. Пробка еще не полностью вылетела из бутылки, джинна еще можно запихнуть обратно.
Если все сделать быстро, правильно и решительно.
Всю эту бездну мыслей успел продумать медлительный Никита, топча прямоугольник посеребренной пашни и огибая оцепеневшие кусты какой-то из смородин.
Он шел и прислушивался, стараясь по неосторожному звуку, который не может не издать возбужденный беглец, определить, за какой из углов дома ему поворачивать.
Обойдем дом слева, так и не получив звуковой подсказки, решил Никита. Завернул за угол: справа черная деревянная стена, слева бледный лунный газон до самого забора, и над всем этим неполная, но яркая луна.
Никита замер, чего-то ожидая от этой в общем-то безжизненной картины. Он чувствовал присутствие живого дыхания. Откуда оно идет? Никита перестал дышать сам, чтобы очистить экран своего слуха. Несколько секунд он стоял с выпученными глазами, и мог бы выдержать еще долго, но эти усилия не понадобились.
Вдруг откуда-то сверху, разжав ослабевшие от холода пальцы, к нему, почти прямо в объятия, съехал с обледеневшего карниза горячий и все еще запыхавшийся беглец.
В это время Светлана Савельевна предприняла путешествие к креслу, на котором остались ее пальто и сумочка. Довольно уверенно одевшись, она стала складывать в сумочку вещи, незаметно ею выброшенные в финале отвратительной беседы с учеником, — она добиралась до маникюрного набора, и открывала маникюрный набор, и нащупывала в нем ножницы. Путь к ним был так же труден, как к смертельной Кащеевой игле.
Светлана Савельевна решила последовать совету раненного ею человека. Закончив сборы, она покинула дачу известного математика. Если бы на диване перед камином кто-нибудь остался бы сидеть, ему через минуту стали бы слышны два вида звуков. Первый издавала неумело понукаемая машина, второй — умело натаскиваемый по любовной части молодой человек в детской комнате на втором этаже. Но даже этот невидимка не смог бы сказать, каким именно образом собиралась использовать ножницы в разговоре со своим учеником только что уехавшая учительница.
29
Оклемавшиеся по дороге офицеры перевернули гнилозубого на спину, отчего сознания в нем не прибавилось.
Профессор, конечно же, закурил и сказал негромко:
— Ну что ж, доставайте пушечки.
Все три его спутника стали расстегивать одежду в разных местах. Три ствола явились. Шеф кивнул в сторону ворот, мол, туда надо идти.
— Желательно все-таки без стрельбы, — опять негромко сказал он, держась в тылу у своих нукеров и поправляя очки, чтобы навести их на резкость.
Вид тела номер два, найденного там, где его оставил Никита, угнетающе подействовал на четверку. Она замерла, пугая темноту своими пистолетами. Профессор нащупал в кармане металлическую зажигалку и сжал ее в интеллигентном кулаке.
— А где машина? — прошептал Сережа, вспомнив, что лежащий является шофером.
— Он уехал, — с надеждой в голосе сказал Дима. Машины ему было не жаль.
— Сейчас мы все выясним, — твердо произнес профессор, обогнул лежащего и взошел на крыльцо. Там он обнаружил, что входная дверь прикрыта неплотно, и сообщил об этом свистящим шепотом.
Все три пистолета собрались на крыльце и начали просачиваться на веранду. Скопились там, морщась, когда какая-нибудь старуха-половица познавала тяжесть их тела. Сгруппировались у двери, ведущей непосредственно в глубь дома. По очереди и хором напрягали слух, но не добыли таким путем никаких сведений об обстановке внутри.
— Чего ждем? — все тем же змеиным шепотом спросил профессор.
Сережа переложил пистолет в левую руку, а правой рванул на себя ручку двери. Оба офицера, держа свои пушки всеми десятью пальцами, кинулись внутрь и по всем правилам импортного кино замерли там в полуприсесте, максимально выставив стволы вперед. Если бы кто-то хоронился сбоку с коромыслом, скажем, в руках, он одним ударом мог бы их болезненно обезоружить. Но, как известно, в каминной никого быть не могло.
Офицеры двинулись вперед, заглядывая за портьеры, за кресла. Сережа держал под прицелом лестницу, уводящую на второй этаж.
— Никого! — таким было общее мнение.
Профессор вытащил из кармана зажигалку, собираясь закурить и подумать, но до его уха донеслись вдруг звуки, в происхождении которых он, как владелец фирмы «Купидон», ошибиться не мог.
Звуки эти крепли, те, кто их производил, ничуть не были озабочены тем, слышны они кому-нибудь или нет.
— А это что? — ехидно спросил профессор, тыкая пламенем зажигалки в потолок. Как и всякий начальник, он не упускал случая выставить своих подчиненных в глупом свете, считая, что этим укрепляет свой авторитет.
Вместо растерявшихся офицеров, вместо сообразительного, но тоже растерявшегося Сережи ответил голос сверху. Ответил длинной, бессмысленной, но пугающе несбивчивой речью. Имеет смысл привести ее полностью.
— «Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:
Молочное видо — это сисоло по-отненько.
Гнилое бридо — это просто пиро-о-ог.
Мокрое бридо — это ведро живых вше-э-э-э…»
Далее неразборчивый, взмывающий вопль, взбирающийся вверх по какой-то своей гамме. Пик звучания. Тишина.
— Что это? — снова спросил профессор, когда монолог закончился. При всей своей странности, он не показался ему напрочь лишенным содержания. Может, это новая сексуальная мода, постельный речитатив?
Слишком глубокомысленные сомнения шефа разрешил Сережа. Он, ухмыляясь, сообщил:
— Это собака Павлова.
Профессор не любил, когда при нем каламбурили.
— Не понял.
— Лариска Павлова. Мастерица. Она любого может довести до такого.
Профессор кивнул, хотя объяснением, по большому счету, остался неудовлетворен.
— А где вторая? Родственница.
— Уехала, наверно. С диким, — в два рта сказали офицеры. Это мнение выглядело настолько очевидным, что профессор даже соглашаться не стал.
— Ты (Сереже) поднимись наверх, там, кажется, все позади. Ты (Диме) сходи на улицу, разотри им морду снегом. Не может быть, чтобы они ничего не видели. Выясни, кто, когда и куда уехал. А ты (естественно, Андрею) останешься со мной. И пистоль свой не прячь.
За это время, пока осторожный и осмотрительный Сережа поднимался по лестнице, замирая при каждом скрипе, в комнате на втором этаже успел произойти следующий разговор.
Надо отметить, что декорации изменились. Луна удалилась, освещение стало однороднее — почти абсолютный мрак, отчего слова приобрели дополнительное значение, как предсказания человека, о котором точно известно, что он скоро умрет.
— Как тебя зовут?
— Я тебе уже три раза говорила.
— Ты ко мне еще приедешь?
— Звони, приеду.
— А где ты живешь?
— Это тебе зачем?
— Чтобы тебе позвонить.
— Туда, где я живу, звонить нельзя.
— А куда?
— Мои телефоны печатают в газетах. И ты туда однажды уже звонил.
— Но я… — по колыханию кровати Руслан понял, что Лариса его покинула, а по движению воздуха, — что она одевается. У него от ужаса перехватило горло. До этой секунды он не думал, что она может уйти.
— Где моя сумочка?
— Лариса…
— Наконец запомнил. Куда я могла ее положить? Посмотри за кроватью. Вернее, пощупай.
— Лариса…
— Павлова! — раздался голос из чуждых пространств, окружающих родной мрак комнаты с кроватью.
Удивительней всего, что она оказалась готова к этому вызову внешних сил и ответила голосом, грубеющим на ходу:
— Чего еще?
— Выходи, Павлова.
— Иду, иду, одеться-то дай. Слушай, Сережик, а ты-то чего здесь?
На первом этаже тоже вовсю велись разговоры. Запыхавшийся Андрей говорил профессору, что Олег (водила) вполне жив, хотя и без передних зубов; что он видел, как Никита погнался через забор за пареньком, выскочившим из этой дачи. Паренек этот — даже сквозь пелену тяжелого нокаута рассмотрел внимательный и преданный Олег — побежал к соседнему дому.
— Когда это было?
Офицер расстроенно пожал плечами.
— Он не сказал.
— Так иди и спроси!
— Он опять вырубился.
На верхней ступеньке лестницы показалась Лариса Павлова, одетая с элегантностью престарелого пугала. Повинуясь нетерпеливым командам Сережи, она начала, сильно хромая, спускаться вниз. Невольно профессору подумалось, вот до чего доводит чрезмерное усердие в работе, но тут же сообразил, что хромает девушка оттого, что вторую туфлю несет в руках, стелька раскапризничалась.
Увидев, с кем ей придется сейчас разговаривать, Лариса мгновенно обула ногу, начала мягкими скорыми движениями поправлять что-то на бедрах, на голове, двигать плечами, так что, когда она подошла к профессору, у того уже не было оснований спрашивать себя, почему она считается одной из самых ценных сотрудниц его фирмы.
— Иди садись в машину.
Когда она ушла, на верхней ступеньке появился юный хозяин дачи, одетый еще более странно, чем его недавняя партнерша.
— Ну что, сматываемся? — спросил Дима. Он справедливо считал, что без особой нужды не следует торчать на чужой даче, да еще с оружием в руках. Вдруг кто-нибудь из недремлющих соседей позвонил в милицию.
Но профессора вид худой, юношеской, покосившейся фигуры в кое-как наброшенных одеждах навел на другие мысли.
— Нет, сначала мы побеседуем с этим молодым человеком.
— Кто вы? — пораженный почти смертельным предчувствием, спросил Руслан.
— Это мы тебе сейчас расскажем.
30
Унылый, похмельный свет падал в широкие щели меж неплотно задернутыми шторами. Картина открывалась ему безрадостная. Холодная пасть камина, нечистые остатки вчерашней гулянки на журнальном столике, разъехавшиеся по всей комнате кресла. В одном сидел Руслан в строгой позе посетителя зубоврачебного кабинета. Во втором Денис. Одну ногу он перебросил через подлокотник, другую развлекал игрою на пустой пивной банке.
В добавление к этому он курил и допрашивал друга.
— И ты испугался?
— Они были с пистолетами. А я голый, только что из постели.
— И ты им все рассказал.
— Сначала не все, потом все.
— Когда это потом?
— Когда двое пошли к тебе, тоже с пистолетами.
— Да, их там много разных перебывало за эту ночь, кто с пистолетом, кто без. Но пистолет не повод выкладывать все что знаешь, Руслик. Чего молчишь? Больше нечего сказать?
Отброшенная ногой банка улетела с мелким грохотом в угол комнаты.
— Надо выбираться из этой истории. На нас сильно наехали, но безвыходных положений не бывает.
— Бывает.
— Не скули.
— Я совершенно спокоен.
— Вот это меня и беспокоит. Лучше бы ты был спокоен во время разговора с ними, а не тряс всеми своими подштанниками. Какая, ну скажи, какая связь между тем, что тебя застукали со шлюхой, причем, заметь, оплаченной, и тем, что мы отстреливаем собачек по заказу?
На это Руслан ничего не ответил.
Денис сплюнул всухую и затянулся успокаивающим дымом.
— Так, чтобы что-то предпринять, надо сначала определить, чем мы располагаем. Так чем, Руслик? Что ты не успел разболтать?
— Разболтал все.
— Ну, хорошо, про собачек, это я понял…
— Они спросили, откуда у меня деньги, и я не знал, что соврать им.
— Откуда деньги? Похоже, взрослых больше всего волнует именно этот вопрос.
— Тебя тоже спрашивали?
— У меня где спросишь, там и слезешь. А про мента раненого ты тоже рассказал?
— И про мента.
— А это зачем?!
— Само получилось как-то. Я даже не успел ничего подумать, а оно уже все рассказано.
Денис закашлялся.
— Хорошо, а чем именно мы по собакам шмаляем? До этого добрался?
— С этого и начал. Почти.
Злобное сопение донеслось из кресла, занятого другом.
— Ты хоть понимаешь, что подставил не только нас, но и моего отца?!
— Я извинюсь перед ним.
— Что ему от твоих извинений! В тюрьму пойдет, если кто-то захочет раскрутить это дело как следует.
Теперь засопел Руслан.
— Я скажу, что это я виноват. Я скажу, что это я стрелял.
— Да? А так вообще считал, что не имеешь к этой истории никакого отношения?!
— Не надо смеяться.
— Да куда там смеяться. Надо думать, как выпутываться.
— Я знаю, как.
— Поделись знаниями, Руслик.
— Очкастый пообещал, если я выполню его задание, он никому ничего не сообщит и никогда больше здесь не появится.
— А что за задание?
— Обыкновенное.
— То есть пса нужно усыпить? Сам он не может? С тремя пистолетами не может, да?
— Это не мое дело. Я эту собаку застрелю, и дальше все будет хорошо.
Денис внимательно прищурил один глаз.
— Смотрю я на тебя, Руслик, слушаю и вижу, что ты хоть и бредишь, но чего-то не договариваешь.
— Наоборот, я слишком много говорю. Например, про эту собаку я не должен был тебе рассказывать. Он просил меня не делать этого. Ты меня не выдавай, Диня, ладно?
Денис в этот момент закуривал очередную сигарету. Услышав последние слова, он обжегся от возмущения.
— То есть ты про меня можешь болтать все что угодно, а я про тебя не должен!
— Извини, Диня, я плохой друг.
— И не только друг.
— Не ругай меня и не рассказывай никому про эту собаку, пожалуйста.
— При условии.
— При каком?
— Ты выполнишь и мое одно задание.
Руслан, смотревший все это время в пространство, повернул голову к Денису, выражение лица у него сделалось страдальческим.
— Ничего особенного в моей просьбе нет. Я тут договорился с одним таксопарком, надо тихо отстрелять стаю бродячих собак. Бродячих, заметь, Руслик. Ничьих. А то они очень обнаглели. Таксисты с вечерней смены боятся возвращаться домой. Ждут, понимаешь, рассвета. Пять-шесть выстрелов и все. Что это для тебя, тьфу!
Руслан отрицательно поморщился.
— Не хочешь, что ли?
— Я решил, что после этой последней собаки стрелять больше не буду.
— Почему?
— Не смогу.
— Не бойся, стрелять больше и не придется. Во-первых, да и во-вторых, очкастый наложил лапу на наш бизнес. Не такой он человек, чтобы пройти мимо подобного начинания.
— Меня все это теперь не интересует.
— Дурак! О последнем разе и я тебе говорю. Последнем. Деньги немаленькие. И все пока нам.
— Нет, последний раз я выстрелю для него.
Денис подскочил в кресле.
— Тебя что, чем-то по башке шарахнули? Ах да, я же забыл, ты же ночь сегодня провел не один. То-то, я смотрю, с моим Русликом творится кошмар наяву. Брось ты, с тобой ничего особенного не произошло. Вот у меня была история, по сравнению с которой твои первые блядки бледнеют.
Руслан угрюмо, не мигая смотрел на веселящегося друга.
— Что, понравилось, Руслик, да? Потрясен? Похоже на землетрясение, да, как цитировали нам на уроке литературы из одной талантливой книжки. А кто цитировал? Не знаешь, не помнишь? А цитировал тот, вернее, та, что приезжала вчера сюда.
— Не понимаю.
Денис откинулся на спинку кресла, неприятно хихикая.
— Да и я не сразу понял, в чем дело. Отправил я эту хитроглазую к тебе наверх…
— Не надо так о ней.
— Не надо так не надо, хотя об этом мы еще поговорим. Так вот, вторым номером входит сюда кто?
— Кто?
— Светлана мать Савельевна, — стараясь смеяться самым циничным образом, Денис закинул на подлокотник и вторую ногу.
— Зачем она приезжала?
— Ну, не затем, чтобы что-то цитировать. Пока ты становился мужчиной, мы со Светланой… — тут Денис наконец вспомнил о разговоре со здоровенным парнем в кабинете своего отца, вспомнил и то, как стоял на коленях прижатый лицом к сейфу, и то, что парень этот сумасшедший обещал с ним сделать, если он проболтается о случившемся хоть одному человеку.
— Я тебе не верю.
— Ну, пошутил я, пошутил. Так, причуда воображения. Хотел тебя развлечь.
Руслан молчал. Было непонятно, в каком смысле он молчит.
— И сейчас не верю.
Денис помассировал глаза.
— Только не вздумай распространять эти мои заведомо ложные измышления, — грубо, но неуверенно усмехнулся он.
— Светлана Савельевна проститутка? — задумчиво и только у себя спросил Руслан.
— Кто тебе сказал?
— Хорошо, я постараюсь никому об этом не рассказывать.
— Вот-вот, а я постараюсь никому не проболтаться про твою последнюю собачку.
— Мы с тобой говорим как два подлеца.
Денис выпустил дым и стал наблюдать за ним, как бы пытаясь извлечь немедленную пользу из этих наблюдений.
— Да, пожалуй, дело окончательно погибло, если один из главных членов экипажа стал размышлять подобным образом.
— Но, — Денис резким движением переменил позу на пристойную, — по старой памяти, ведь когда-то мы… ведь ты поможешь мне с этим таксопарком. Не ради заработка. Ради денег я не стал бы тебя просить.
— А ради чего?
— Понимаешь, я взял у них большой аванс и весь… А обмануть их нельзя. Раньше я практиковал такие вещи, я всегда чувствовал, у кого можно взять деньги, а заказ не выполнить. У некоторых я не только аванс получал, но и всю сумму, угрожая, что сообщу о подлых замыслах хозяину пса. Но это не тот случай. Я повел себя неосторожно, таксисты при большом желании могут меня вычислить.
— В собак я стрелять больше не буду.
— А в людей?
— Каких еще людей?
— В меня, например. Я из людей происхожу, и ты в меня стреляешь сейчас.
— Демагогия.
— Нет. И я тебе докажу.
— Не успеешь. Кто-то приехал.
Денис вскочил с кресла, подбежал к окну, осторожно выглянул и мстительно захихикал.
— Угадай, кто.
— Она? — встрепенувшись, стал подниматься Руслан. Ему пришла в голову совершенно безумная мысль: Лариса вернулась. Впрочем, ему самому эта мысль не казалась безумной.
— Она, она, маманя твоя, — забычковав сигарету, Денис бросил окурок в сторону камина.
Громыхнули одна за другой две двери, и через секунду в помещении стало тесно. Огромная, норковая, пахнущая Францией гора возвысилась над остатками вчерашнего гулевания и бессильным телом сына.
— Где он? — спросила Ольга Даниловна голосом, в котором не было ничего материнского, а только оскорбленное женское.
Руслан ждал других вопросов и поэтому не смог ответить сразу.
Ольга Даниловна, не дожидаясь его ответа, стала подниматься по лестнице, громко топая ногами, словно стараясь произвести впечатление каменной гостьи.
Денис, воспользовавшись тем, что не был всерьез замечен, подмигнул другу и выскользнул вон. Он понял, что Ольга Даниловна имеет в виду своего мужа, и это его устраивало.
Хозяйка дачи обнаружила на втором этаже явные следы полового преступления и кинулась вниз. Стоя на верхней ступеньке лестницы (кто только не стоял на ней за последние сутки), она надрывно повторила вопрос.
— Где он?
На этот раз Руслан собрался с силами.
— Кто?
— Твой папочка родной, милый и невинный.
— Я не знаю.
— Почуял, подлец, и сбежал. Всегда, он всегда чувствовал, когда я приближаюсь, поэтому я не могла его застукать с поличным. Ни разу, ни разу! Павиан. И после этого он будет всерьез утверждать, что у него ничего! никогда! ни с кем!
Произнося эту речь, Ольга Даниловна спускалась по лестнице, когда она оказалась внизу, то попала в объятия приступа удушья.
Воспользовавшись этим, Руслан сказал чистую правду.
— Папы здесь не было.
— Не было?
— Не было.
— А это все что? — жест в сторону загаженного стола, жест в сторону комнаты с растерзанной кроватью.
— Это мы с Денисом проституток приглашали.
Ольга Даниловна задумалась, печально с вершин роста и возраста глядя на единственного сына.
— Скажи мне, Руслан…
— Да, мама.
— Зачем ты его все время выгораживаешь?
— Я его не выгораживаю.
— Что я тебе сделала плохого? Ведь я твоя мать. Надо мной издеваются, об меня вытирают ноги, а ты?! Ты, мой сын, не только позволяешь это делать, ты помогаешь!
— Мама.
Ольга Даниловна развернулась и пошла к выходу. Снова два раза громыхнули двери.
Настала тишина.
31
— Здравствуй, Сажа.
— Это кто?
— Никита.
— А, ну здорово, здорово. Ты откуда звонишь?
— Да все оттуда. Из Москвы.
— И как дела? Чего надо?
— Ты мне денег обещал. Помнишь?
— Не обещал, предлагал. Ты отказался.
— Теперь не отказываюсь.
— Сколько?
— Я заработал, но не могу взять.
— Почему?
— Деньги лежат в тумбочке.
— В чужой?
— Да. И квартира чужая, где стоит тумбочка.
— Говори адрес.
— Адреса нет. До востребования.
— Ладно. Отправлю сегодня.
— Отправь.
— Больше ничего не хочешь сказать?
— Больше нечего. Деньги отдам.
— Попробовал бы не отдать.
— Я знаю.
— Твой отец при смерти. Сердце.
— Откуда ты знаешь?
— То есть как откуда? Был у него в больнице.
— А, ты про Тетеркина. Но он не мой отец. Он был отчим, теперь никто.
— Почему никто?
— Мать умерла, он мне стал никем.
— Послушай, мне, конечно, плевать, но вот я тебе скажу.
— Монета упала.
— Что?
— Последняя монета.
— Перезвони мне. Есть о чем побазарить.
— Денег нет.
32
Камин почти прогорел, стихло угрожающее гудение, на дне каменной пещеры гора разноцветных молчаливых камней. Тихое, теплое дыхание исходит от них. Два кресла повернуты к этому зрелищу. Меж ними стол, сервированный с мальчишеской тщательностью. В креслах те, кто несколькими днями раньше позировал луне в комнате на втором этаже.
Беседуют.
Давно.
— Вот так, — говорит носительница толстой недлинной косы Лариса; Лариса с удлиненным лицом и чуть раскосыми глазами; Лариса, поставившая острый локоть на подлокотник и только что бросившая до основания выкуренную сигаретную пачку в раскаленную шахту. Этот жест обозначает, что больше говорить не о чем.
И незачем.
Можно задать последний вопрос, возвращаясь с его помощью на привычную профессиональную почву.
— Поднимемся напоследок наверх?
Руслан не отвечает. Он задал сегодня очень много вопросов, ему трудно перестроиться и стать отвечающим.
Он сидит в кресле, вытянув ноги к огню, на который он очень рассчитывал, затевая сегодняшнее дело. Он кажется слишком узким для этого кресла. Лариса, глядя на него, видит, как мало места он занимает в жизни, и это рождает в ней снисходительную скуку. К тому же она на работе. Всеми своими жалобными ухищрениями вдумчивый мальчик Руслан не смог перетащить ее на нейтральную территорию. Она не в гостях у него сейчас, она на выезде, и с этим ничего нельзя поделать.
— Слышь, время идет. Если не хочешь подниматься, давай я здесь что-нибудь придумаю.
— Ты так и не ответила мне.
— Хватит об этом, я уже устала. Ей-богу, в прошлый раз было легче. Лучше четыре часа в постели, чем два на допросе.
— Зачем ты занимаешься этим?
Лариса закусила верхнюю губу и раздраженно повела плечами. В отличие от большинства своих соратниц, она не любила говорунов, тех, кто выписывает девочек для того, чтобы напоить, накормить и побеседовать по душам. Работа проститутки — это труд тяжелый и в основном физический, и всякий, кто подползает с серьезными разговорами, особенно морализаторского плана, подобен тому гаду, что пристает к грузчику с мешком на горбу с расспросами о том, почему он не идет учиться.
— Нет, Лариса, я не осуждаю…
— Не хватало еще этого!
— Просто можно этим не заниматься.
— А кто меня будет кормить?
— Я!
Разговор проходил эту станцию уже в третий раз, и раз от разу в ответ на это наивное, дебильное «я» Лариса махала рукой все более раздраженно.
— Ты можешь жить здесь, это наша дача и мы поженимся, правда?
Закатываются глаза, с шумом выдыхается воздух, сваливаются с подлокотников руки.
— Тебе который годок?
— Это неважно.
— Нет, это как раз важно.
— Шестнадцать. Я в школу пошел на год раньше. Так получилось.
— Вундеркинд?
— Нет, просто отличник.
— Так вот, отличник, не в том дело, если на то пошло, сколько тебе лет.
Это был новый поворот на маршруте разговора, и на большом угреватом лице «жениха» проступил бледный интерес сквозь пелену отчаяния.
— А в чем дело?
— Ты не годишься в мужья.
— Я здоров.
— Это не ты здоров, это я здорова!
— Я не понимаю, ты хочешь сказать…
Лариса поморщилась.
— Да нет. Говорю я все время одно и то же, только ты не хочешь понять.
— Хочу.
— Так пойми.
Со слишком широко открытыми глазами, со слишком испуганно отворенным ртом ждал последней истины бесподобный стрелок и решительный мужчина Руслан Бахно, и Лариса затормозила, заставила себя лукаво улыбнуться, хотя ей мучительно хотелось заявить, как он ей, в общем-то, противен. Но этого говорить было нельзя. С одной стороны, мешал «мундир», ни на секунду Лариса не забывала, что находится на работе, с другой стороны, не советовал женский характер. Зачем навсегда отшвыривать то, что можно оставить про запас. Кто знает, как повернется жизнь.
— Так что ты мне хочешь сказать, что я тебе противен, правильно?
Обычно влюбленные слепы, но иногда проявляют необъяснимую проницательность.
Лариса отвернулась, чтобы скрыть свою гримасу.
— Я угадал, да?
— Нет, — глухо ответила проститутка, приглаживая выщипанную бровь.
— Угадал. Это правда. Я сам должен был это почувствовать, — трагически равнодушным голосом произнес Руслан.
— Да нет же, — сердито повернулась к нему скрытная красотка. Ее раздражало то, что, задолбанная наивностью этого имбецила, она, судя по всему, вынуждена будет признаться ему чуть ли не в любви.
— Не надо меня обманывать, — Руслан смотрел в огонь, огонь смотрел на него, отчего угреватое лицо сделалось по-своему значительным.
— Я тебя не обманываю, я… Ты правда мне не противен, ну как бы я могла, извини за выражение, трахаться с тобой, если бы…
— Не извиняйся за выражения: если они точные. А трахалась со мною ты потому, что это твоя работа. Я никак не мог поверить, уразуметь, что эта работа для тебя все. Я думал, что ты от нее отличаешься.
— Ну, конечно, отличаюсь.
— И что может случиться так, что ты станешь жить только со мной. Или я все же не гожусь? Я урод, я противен?
Лариса продолжала извиваться и бороться со своими гримасами.
— Да нет же, нет. Когда-нибудь мы, может быть, и поживем вместе.
— Почему не сейчас?
— Потому что я сейчас не располагаю собой.
— Не располагаешь? — Руслан покачал головой, сам удивляясь бездне своего отчаяния, — а кто располагает тобой? Всякий, кто заплатит?
Хотя юноша сказал абсолютную правду, Ларису это задело.
— Ты даже не представляешь, о чем я веду речь. Ты не урод, ты не противный, ты просто маленький. Еще. Придет время, и расскажу тебе то, что не могла рассказать сейчас. И ты поймешь, до какой степени был не прав, оскорбляя меня.
— Ты попала в дурацкую ситуацию, тебя шантажируют? Почему ты думаешь, что я не смогу тебе помочь?
— Не расскажу.
— Почему?
— Потому что твое время закончилось.
Руслан стал нашаривать хронометр на левом запястье.
— Можешь не проверять, у нас как в аптеке.
33
На пороге стояла Марианна Всеволодовна. Выражение лица у нее, как всегда, было в высшей степени надменно.
Надменность, это неумение скрывать уверенность в себе, подумал бы какой-нибудь моралист, глядя на нее.
Денис не успел подумать ничего определенного, но понял, что надо приготовиться к неприятному известию. Он сидел на том самом стуле, к которому его прикручивал неизобретательный Никита, прежде чем допросить с пристрастием.
— К тебе пришли, Денис.
Когда он увидел профессора, то испытал облегчение, это было все же лучше, чем скуластый, безжалостный родственник Светланы Савельевны.
Когда профессор хотел, он мог произвести приятное впечатление. Именно это он и сделал в отношении Марианны Всеволодовны. Она спокойно оставила внука в обществе интеллигентного сорокалетнего гостя, рассчитывая по окончании визита выяснить во всех подробностях, для чего он появлялся.
Гость специфически улыбнулся вслед старушке и занял стул напротив рабочего стола Зацепина-старшего. Оглядел выставку чучел с таким видом, будто он знает в этом деле толк. Потом он обратился к Денису:
— В чем дело?
Зацепин-младший, едва заметно покручивавшийся на винтовом стуле, остановился.
— Я не понимаю.
— Плохо, если ты не понимаешь. Это значит — глупый ты мальчик.
Денис продолжал не понимать и не скрывал этого.
— А ведь ты мне сначала показался более сообразительным, чем твой напарник. Вот, думал я, какой шустрый и сообразительный парнишка. Может быть, имело бы смысл привлечь его.
— Вы насчет Руслика пришли?
— Пришел я насчет тебя и насчет твоего отвратительного отношения к этому, как ты его называешь, Руслику. Что за имя такое ублюдочное?
— Его так родители называют. А вообще — Руслан.
Профессор ослабил узел галстука и расстегнул пальто. В доме естествоиспытателя отопление работало исправно.
— Чай или кофе? — раздался сзади голос Марианны Всеволодовны.
— А? — повернулся профессор, — мне все равно.
— Потрудитесь сделать выбор. Неопределенным ответом вы перекладываете тяжесть выбора на меня.
Легкое обалдение возникло на мгновение за стеклами профессорских очков, но гость недаром был тем, кто он есть, он быстро сориентировался, что тут, в этой ситуации, к чему.
— Чай.
— А ты, Денис?
— Мне тоже чай, бабушка.
— Н-да, — почти поощрительно произнес вслед старухе гость, а Денис раздраженно подумал, как надоел ему это великосветский выпендреж. Старая самодовольная курица! У нее дважды за одну ночь пытали внука, а она даже не заметила. Главное, чтобы салфетки были под блюдцами.
— Чай так чай. А пока ты мне ответь, почему это ты отказываешься Руслику твоему патроны давать? Кончились?
— Почти.
Денис опустил глаза.
— Почти?
— Если надо, то можно сделать.
Профессор встал и прошелся по искусственному зверинцу.
— Ну так делай, что ты задумался?
Денис достал из кармана несколько пулек для пневматического ружья.
— Вот здесь сверху слегка откалупываем скальпелем.
— Ты отколупывай, отколупывай, зачем болтать впустую.
Денис взял скальпель и расковырял макушку пульки.
— Потом сюда кладем крупинку… лекарства.
— Клади. Где оно у тебя хранится? В этом сейфе, правильно?
— Да.
— Так открывай.
Щелкнул замок, с кратким скрипом отворилась дверь, но тут раздались шаги по коридору.
— Бабушка идет.
После того, как поднос с чаем был водружен на стол и назойливая хозяйка удалилась, профессор получил возможность удовлетворить свое любопытство. Встряхнув по очереди каждую из изъятых пробирок, он спросил:
— Чем они отличаются друг от друга?
— Руслик же вам все уже рассказал.
— Правильно. Вот эта совсем почти пустая. — Профессор посмотрел на свет пробирку, на дне которой болталось всего несколько десятков кристалликов. Бумажка, налепленная на нее, гласила LQL.
— Да, ты меня не обманул.
— А зачем мне вас обманывать?
— Откуда я знаю зачем? Так, так. Вот именно отсюда вы брали кристаллы для усыпления?
— Да.
— Но, насколько я помню, должно быть тут средство, чтобы собака просто взбесилась, да?
— LHL, — сказал Денис.
Профессор взял со стола изувеченные скальпелем пули.
— А как ты заставляешь кристалл держаться?
— Приклеиваю, да и все. Беру казеиновый клей и чуточку наношу вот сюда. Когда пулька попадает под шкуру, клей отваливается. Все просто.
— Действительно, просто. А теперь доставай свой клей. Казеиновый. И мажь как рассказывал.
Получив снаряженные полностью устройства для «взбешивания» собак, профессор спрятал их в спичечную коробку.
— А теперь, Денис, скажи мне, что тебе твой друг Руслик рассказывал о моей просьбе?
Потянувшийся было к чаю Денис убрал руку.
— А откуда вы знаете, что рассказывал?
— Он очень совестливый мальчик, стоило ему проболтаться, и он тут же мне признался.
Профессор спокойно смотрел сквозь ледяные стекла на своего молодого друга, тот не понимал содержание этого взгляда, но чаю ему расхотелось окончательно. Он даже подумал, что поспешил, определяя родственника Светланы Савельевны как самую большую угрозу на настоящий момент. За этими очками, пожалуй, скрывается что-то более страшное, чем кулаки с мозолистыми костяшками.
— А милиционеру-то ногу оперировали четыре часа, и гнуться, как прежде, она больше никогда не будет. Инвалид он теперь. Двое детей.
— Мы с Русликом поссорились, почему я должен был снабжать его патронами?
— Но ты же знал, на кого будут работать эти патроны, знал?
— Я не думал, что он сам все разболтает вам. Я хотел с ним договориться, чтобы он сделал одно дело для меня. А он наотрез отказался. Заладил, что ваша собака будет последней у него. А я уже взял аванс в таксопарке, и не только взял, но и потратил. Но дело повел не очень чисто, в случае чего они могут меня… что мне было делать?
Профессор всего лишь смотрел на него. Сеанс гипноза продолжался. Денис понял, что ему внушают — он абсолютно беззащитен. Его состояние хуже чем у человека, оказавшегося в центре незнакомого минного поля. Там, если не двигаться, не взорвешься. Здесь нельзя было не двигаться, то есть отмалчиваться. Бабка, несмотря на бодрственное состояние, не защитник. Ничто не помешает очкастому достать из кармана глушитель с пистолетом, хлопнуть в веснушчатый лоб предприимчивого старшеклассника и выйти через кухню на улицу. Он так и сделает, и даже не забудет поблагодарить Марианну Всеволодовну за отличный чай.
— Кто, кроме тебя, Руслана и меня, знает о существовании этих патронцев?
Денис оглянулся, хотя в этом не было нужды.
— Никто.
Не то! Не то! стучало в голове.
Профессор сунул руку в карман пиджака.
Денис нашел себе наименование: свидетель. Свидетелей всегда и везде убирают.
— Я вспомнил. Еще один мужик.
— Мужик? Что за мужик? Тот, что привязал тебя здесь к стулу?
— Он пришел на дачу к Руслику еще до вас. Погнался за мной. Поймал меня на карнизе, я хотел, как всегда, залезть в комнату, чтобы не будить бабушку. А тут скользко, снег. Он залез вместе со мной. К стулу привязал.
— Бил?
— Очень больно.
— Его можно понять, одна из девушек была его сестра.
— Я, когда звонил в контору, откуда мог знать, что ваши девицы повсюду разъезжают с братьями?
— Ну, это, положим, исключение. А скажи-ка ты мне, зачем нужно было ему все выкладывать, зачем?! Он ведь требовал только, чтобы ты ничего об этом приключении не рассказывал в школе.
— Он почему-то очень хотел узнать, откуда у нас столько денег.
— Он просто спросил, а ты с перепугу не смог придумать историю поправдоподобнее.
— Он сказал, что вернется к Руслику и вытрясет из него все, что ему нужно знать.
— Не надо врать. Откуда он мог знать, что на даче остался такой тюфяк, как Руслик.
Денис все-таки выпил чаю.
— Я плохо соображал в этот момент, да и он тоже. Глаза белые. Он почти ничего не понял. Я начал колоться, но вижу, что он ничего не понимает. Он думает, что мы просто отстреливали собак. Он тупой, по-моему.
— Тупой-то он тупой… — профессор задумчиво вернулся на свой стул. Он перестал смотреть на Дениса, но гипнотическое его действие на парня не кончилось. Денис искоса ощупывал взглядом фигуру гостя, стараясь определить, где именно тот прячет орудие устранения свидетелей.
Внезапно Денису пришла в голову спасительная мысль.
— Возьмите меня к себе! — выпалил он.
— Что?
— К себе на работу. Я буду стараться.
— Один уже ко мне просился, — усмехнулся профессор.
34
Никита знал, что его будут искать. Не такой человек профессор, чтобы все оставить так как есть. А что он, собственно говоря, за человек?
Где живет?
Где работает?
Никита задался этими вопросами, удивляясь попутно тому, что не задавался ими раньше.
Ничего определенного он ответить себе не смог. Не такими он представлял себе современных бандитов. Что общего между профессором и, например, Сажей, образцовым, типичным представителем криминального космоса? Может быть, он не только кажется профессором, но им и является на самом деле. Есть у него своя тайная лаборатория по производству наркотиков, где трудятся талантливые, но алчные или запутавшиеся студенты-старшекурсники. А разъездной публичный дом ему тогда зачем? А может, он все-таки не профессор никакой, а просто стиль такой принял, чтобы удобнее было мозги пудрить тем, кто считает, что хорошего, не кричащего тона костюм, очки, дикторский выговор несовместимы с преступными помыслами. А вдруг все наоборот: «брачная контора» его единственная кормушка. И не только его одного. Вдруг его просто назначили за нею присматривать, а над ним еще несколько этажей начальства. Финансовые воротилы и коррумпированные подполковники МВД.
Дойдя до этого места в своих, в общем-то, беспредметных рассуждениях, Никита плюнул. Плевок его точно попал в привокзальную урну. Нет никакого смысла в том, чтобы иметь мнение по этому поводу, решил гонимый и отвергнутый. Дела есть более насущные. Необходимо, и архи, было встретиться со Светланой. Их свидание на платформе электрички не состоялось. Машину с распахнутой передней дверцей он обнаружил, сестра исчезла. Не захотела его дожидаться или не смогла? Страдающего брата больше бы устроило второе, но поговорить необходимо в любом случае.
Самое главное, ее нужно успокоить: со стороны измученного современной прозой ученика ей опасность не грозит. Наоборот, он сам окажется в опасности, если вздумает распустить ядовитый язычишко.
Никита начинал тихонько постанывать от моральной боли, когда вспоминал, по чьей вине его ближайшая родственница оказалась в смертельно щекотливом положении. На приглушенно скулящего парня удивленно оглядывались соседи по вокзальным лавкам, но увидев, что мающийся молодой человек держится руками за голову, успокаивались — зубы.
К телефону никто не подходил. Ни Светлана, ни Варфоломея. Ни тезка, ни муж Светланин. По отношению к этим невиденным людям Никита испытывал особую форму стыда.
Они отключили телефон.
Надо ловить встречу на местности.
Несколько раз он посещал (со всеми возможными предосторожностями) известную школу. Один раз заглянул в тот самый класс, где впервые увидел белобрысого истребителя собак. Можно себе представить состояние Дениса, когда он заметил посреди плавно текущего урока, что открывается бесшумно дверь и в проеме появляется огромная, коротко стриженная голова с каменным выражением лица.
Некоторая оторопь была испытана и остальными учениками и даже учителем, пожилым историком Кириллом Алексеевичем. Он даже не спросил: «Что вам нужно, молодой человек?», словно почувствовал, что им не о чем говорить.
— Кто это? — шепотом спросил Руслан у побледеневшего напарника. Он чувствовал, что появление этой головы связано с Денисом, но если бы спросили, почему, он ответить бы не смог.
Через несколько секунд после того, как видение удалилось, бесшумно отделившись от класса дверной створкой, Денис пришел в себя. Достаточно для того, чтобы не рассказывать всю путаную и не очень его красящую историю взаимоотношений со стриженым монстром. Он просто соврал.
— Это их главный.
— Чей их?
— Над охранниками главный, что девчонок тогда к тебе привозили.
— А зачем он здесь?
— Не знаю. Может, Светлану ищет.
— Она что, на работу не вышла? — неожиданно для себя пошутил Руслан, и эта диковатая и пошловатая шутка ему так понравилась, что он захохотал в голос. Столь же полнокровно и искренне, как Пьер Безухов в сцене с бдительным французским солдатом.
Кирилл Алексеевич растерянно и с ужасом смотрел на гогочущего отличника. Он любил Руслана Бахно за мягкость, вдумчивость, искренность и интеллигентность. Он уважал его отца и считал, что если в классе таких, как Руслан, было хотя бы пять человек, он мог бы считать свою учительскую жизнь прожитой не зря.
Не меньше Кирилла Алексеевича растерялся лучший друг Руслана. Он тыкал в бок вольно веселящегося стрелка кулаком и шипел ему на ухо требования и угрозы, суть которых понять было легко: проболтаешься — убью!
Реакцию остальных одноклассников не имеет смысла описывать. Реакция как реакция.
Смех оборвался.
Руслан пробормотал сквозь текущие слезы «извините» и полез в карман за носовым платком.
Кирилл Алексеевич не мог на глаз определить природу этих слез: заканчивают они истерику или только открывают.
— Руслан, — сказал он тем же голосом, которым только что рассказывал о значении 20-го съезда, — иди умойся. И домой. Ты меня понял?
Из вышеописанного ясно, что брат не отыскал сестры на рабочем месте. Обратиться с вопросом к кому-либо из лиц официальных он не мог, боясь этим бросить тень подозрения на Светлану Савельевну. Одним тем, что он явился в школу, он позволил себе слишком много.
Никита догадывался, что профессору может прийти в голову мысль о том, что для поимки строптивого сотрудника надо взять под наблюдение места, которые он может посетить. Список этих мест был краток. Дом возле «Сокола», больница возле монастыря и школа. Людей у профессора меньше, чем у сигуранцы или штази, но три глазастых парня найдется, несмотря на потери в боях возле дачи. Никита был бдителен, один раз ему показалось (именно возле школы), что он-таки попал в поле зрения слежки. Пришлось «отрываться». По всем ли правилам он это сделал или дилетантски, но ощущение, что за ним следят, исчезло.
В другой раз ему привиделся на встречном эскалаторе в метро один из офицеров, кажется, Дима. Именно привиделся. Имел ли он место на самом деле и был ли рядом с ним неразлучный брат, Никита с определенностью сказать не мог.
Здесь нужно заметить (просто другого удобного места может для этого на найтись), что офицеры эти были братьями только в представлении Никиты. На самом деле они не являлись даже однофамильцами. Останется навсегда неизвестным то, почему он решил их породнить в своих мыслях.
Потерпев неудачу в школе, он стал сужать круги вокруг дома Светланы. В его окрестностях он вел себя еще более осмотрительно, чем вблизи места ее работы. Во время последнего разговора с профессором у него создалось стойкое убеждение, что очкастый интересуется домом археолога не только в связи с ним, с Никитой. А какого рода мог быть этот интерес, догадаться было не трудно. Может статься, что, делясь своими семейственными переживаниями, он навлек внимание респектабельного бандита на дом своих родственников. Даже если они пока и не считают его таковым, он, как честный человек, должен их предупредить о возможной опасности.
О весьма вероятной опасности. Здесь Никита почувствовал, что большая часть вины перед избитыми нукерами профессора рассеялась.
Если они все же ограбят квартиру Ворониных, то получится, что он явился из Калинова только затем, чтобы причинять своим родственникам одни неприятности. Нельзя допустить, чтобы в конце концов так именно и получилось.
Размышлял он об этом, хоронясь в тени заброшенного киоска напротив арки в интересующем его доме.
Значительно больше, чем со Светланой, ему хотелось поговорить с отцом.
По двум причинам он откладывал визит в больницу. Ему нужно было позаботиться о безопасности женщин, чтобы не чувствовать себя подлецом. Чувствуя себя таковым, труднее доказывать, что ты не самозванец, что у тебя добродетельные намерения. Кроме того, он был уверен, что уж больница точно находится под наблюдением, ибо является наиболее удобным полигоном для охоты на него. Сплошные заборы, никаких проходных дворов и людных мест. К тому же именно в больнице сидит отец, человек, о страстном стремлении к которому он сам так подробно и убедительно рассказывал очкастому. Он мог оставить без внимания школу и даже дом, но лишь для того, чтобы навести свои линзы на заросший туями парк.
Никита не успел перейти на зимнюю форму одежды и сильно мерз в осеннем обмундировании. И мерз и выделялся. В толпе горожан одетый не по сезону спортивного вида парень — лакомая пища для опытного милицейского глаза.
Чтобы не сделаться окончательно подозрительным, надобно было думать и об осанке, особенно когда топчешься возле таких мест, как заколоченные киоски. Никаких сгорбленных плеч, никаких рук в карманах. Беззаботная независимая поза тяжело давалась в условиях крепкого ноябрьского морозца.
Но не зря старался он — высидел все же свою удачу. Правда, она была не полной, ибо увидел он выходящей из арки дома не Светлану, а всего лишь Варфоломею Ивановну. Не выпуская ее из поля своего зрения, он сумел осмотреться — не видно ли чего подозрительного, не желает ли кто-нибудь помешать его беседе с неприступной матроною.
Кажется, все чисто.
Выждал еще несколько секунд и только тогда выскочил из укрытия. И начал стремительным шагом настигать беззаботную мачеху.
Со стороны это выглядело следующим образом: верзила, одетый по последней бандитской моде (кожаная короткая куртка, черная шапка на голове), настигает солидную норковую даму с болтающейся на локте дорогой сумкой. Сцена была настолько жанрово чиста, что другая солидная дама, стоявшая на остановке маршрутки, рефлекторно закричала:
— Женщина, женщина!
По нынешним временам поступок почти героический. Сколько раз она давала себе слово в такие истории не вмешиваться, но натура сильнее умысла.
Варфоломея Ивановна обернулась на крик, кому как не ей в этом мире было считать себя женщиной. Обернулась и увидела набегающего верзилу. Несмотря на то, что он успокаивающе улыбался, его небритая улыбка рождала жуткое впечатление. Варфоломея Ивановна его узнала, и, стало быть, не столько испугалась, сколько разозлилась.
— У меня мало времени, — быстро пробормотал Никита… Но большую часть разговора занял короткий, заранее выверенный монолог, в котором доходчиво и образно излагалось мнение Варфоломеи Ивановны о калиновском родственнике и о методах, которыми он пользуется для достижения совершенно недостижимой цели.
Никита слушал и думал, рассказала ли Светлана матери о случае на даче. От этого зависело то, что ему самому можно было сказать сейчас.
Наступил момент, когда нараставшее возмущение наконец заткнуло рот мачехе, поносящей пасынка. И тогда сразу заговорил он.
— Ваш дом в опасности. Бойтесь человека в очках. Он профессор. Но преступник. Он хочет вас ограбить. Передайте Светлане, что ее ученик будет молчать, или я переломаю ему все ноги. Обязательно передайте. Бояться нечего.
Сказав это, Никита побежал к метро, распугивая прохожих.
— Идиот, — брезгливо пробормотала Варфоломея Ивановна в ответ на это сообщение. Она даже представить себе не могла, что каждое слово в произнесенном тексте было наполнено глубоким смыслом.
35
В эти дни еще один человек сделался следопытом. Руслан Бахно. Он не захотел считать последний разговор с Ларисой последним. Стоило отъехать от ворот его дачи сутенерскому «ситроену», как он вскочил с кресла, чтобы в отчаянье броситься на диван. Настолько ему стало очевидно, что большая часть самого важного им не была сказана возлюбленной. Необходимо было встретиться еще раз. Решение принято, оставалось разыскать Ларису.
Но с чего начать? С телефона, вот он чернеет на странице продажной газеты, обведенный фломастером. Три звонка в «Купидон» стали тремя актами пытки ревностью. Два раза ему равнодушным, натруженным голосом сообщили, что Ларисы сейчас под рукою нет, что она «на выезде». Мальчишеское воображение немедленно нарисовало беспрецедентные по гнусности картины в антураже загородных саун или отвратительных ателье модельеров-бисексуалов. Третий звонок принес ему еще большие мучения. Он очень вежливо попросил дать ему домашний телефон Ларисы, ему не менее вежливо объяснили, что такую информацию они не афишируют, и посоветовали «молодому человеку» оставить предпринимаемые им попытки внепостельного сближения с работницей фирмы «Купидон». Тогда он крикнул в трубку, что желал бы сблизиться с самою фирмой, для чего просит назвать ему адрес ее постоянного местопребывания. На эту просьбу ему ответили уже невежливо, можно даже сказать, оскорбительно. В том смысле, что они не могут каждому маньяку рассказывать, где именно их можно найти.
Упорный Руслан решил до всего докопаться собственными силами. Но очень скоро выяснил, что настали такие времена, когда не всякому гражданину позволено свободно превращать номер телефона в номер квартиры, дома и название улицы.
Временно он впал в отчаяние. Но очень скоро понял, кто ему поможет — мама. Ей не откажут. У его родительницы были многочисленные и разнообразные связи. А главное, безотказные. Она часто выставляла их как свидетельство своего умения жить среди серьезных людей в пику умению мужа пользоваться всего лишь обществом цифр и шлюх. Настало время проверить, так ли это на самом деле.
Ольга Даниловна была в отъезде. День, два, три. Уныло посещая школу, Руслан ждал возвращения матери так, как никогда прежде не ждал. На каждой переменке бегал в школьный вестибюль к таксофону. И однажды ему повезло — вернулась.
Кое-как одевшись (как же я буду стрелять, если не могу попасть кулаком в рукав?), Руслан отправился на Ленинский проспект.
Ольга Даниловна принимала косметический сеанс. Своим появлением Руслан ее несколько озадачил, это было заметно даже сквозь толстый слой белой массы, покрывавшей ее лицо. Удивилась, несмотря на то, что он предупредил ее о своем приезде.
— Дело?! — сказала она, — придется тебе все равно подождать.
Худая, хитрая косметичка с интересом посмотрела на печального парубка и прошептала на ухо могучей клиентке:
— Или похмелье, или влюбился.
Ольга Даниловна подумала, что она не зря считает эту дурочку дурой. Какое похмелье?! В кого влюбился?!
— Что у тебя? — спросила она, закуривая после окончания сеанса.
Руслан объяснил.
— Это не объяснение. Не скажешь, зачем тебе это, не сделаю.
— Один раз я могу попросить тебя, мама, как человека?
Ольга Даниловна пожевала губами и подумала, что нужно чаще видеться с сыном.
— Но это не для него?
— Исключительно для меня.
Через полчаса Руслан ехал в направлении «Купидона», конторы, где стояла тумбочка с деньгами Никиты и телефон, способный творить чудеса, такие, например, как устроение его встречи с Ларисой, и гадости, как его последний разговор с Магдой.
Дверь открыл Сережа.
— Чего тебе, парень?
Он охотнее назвал бы Руслана мальчиком, если бы мог произнести такое невинное слово.
— Я хочу видеть Ларису.
— Какую такую?
— С косой.
— С косой смерть обычно ходит, а не Лариса, — неожиданно для себя пошутил Сережа. Даже полностью лишенный юмора человек иногда встречает собеседника, по отношению к которому начинает чувствовать себя остроумным.
Руслан остался неуязвим для остроты.
— Худая и черноволосая. Она ко мне приезжала.
Сережа сделался серьезен.
— Она что-нибудь украла?
— Все, — хмыкнул вдруг Руслан.
Закопошился ключ в двери соседней квартиры, и Сережа быстро сказал:
— Заходи.
Повел он нежданного и незваного гостя в комнату Никиты, усадил на широкую тахту, заваленную серым скомканным бельем.
— Посиди здесь. Не вздумай выходить. Понял?
Руслан ничего не сказал, но при этом дал понять, что все понял. В комнате было темно из-за задернутых штор.
Сережа вынырнул в коридор.
Прошло минут десять-двенадцать. И случилось то, о чем решительный школьник мечтал, но не смел надеяться: отворилась дверь, и появился знакомый силуэт. Руслан сидел в головах тахты. Лариса села в ногах. Таким образом, почти в точности повторилась ситуация, имевшая место в детской комнате на втором этаже математической дачи. Только теперь между беседующими лежали простыни, пропитанные потом чужой страсти.
Руслан понял, как трудно будет ему начать. Он приближался к гнусному этому месту, полный самых убедительных и неотразимых слов. Они даже в непроизнесенном состоянии вызывали у него рыдания. Они рвались наружу, и он с трудом сдерживался в тесноте муниципального транспорта. А теперь приходилось мечтать, чтобы его о чем-нибудь спросили.
Лариса, не испытывая к нему ни сочувствия, ни интереса, все же пришла на помощь.
— Что же ты мне не позвонил, Руслан?
— У меня кончились деньги.
Он говорил правду, он истратил все, что ему удалось скопить на службе у лучшего друга.
— На что же ты их потратил? — с нехорошей вкрадчивостью спросила сидящая в ногах тахты.
— На проституток, — ответил Руслан, с ужасом понимая, что разговор сворачивает не туда и он ничего не может с этим поделать. Еще больший ужас вызывало открытие, что он способен люто ненавидеть женщину, которую любит больше всего на свете.
— Так ты у нас гуляка? — продолжала петь свою издевательскую песнь хорошо проинструктированная шлюха.
— У кого это у вас?! — почти выкрикнул Руслан. Дурацкий, выбивающий из колеи вопрос озадачил Ларису. Ей нужно было время, чтобы сообразить, какой теперь сделалась речевая ситуация, и выбрать дальнейшую линию поведения. Она не должна была допустить, чтобы этот сексуально озабоченный сосунок впал в бешенство и наделал глупостей. Кое-кто имел на него виды, и об этом она не имела права забывать.
Руслан криво усмехнулся.
— Я понимаю, ты относишься ко мне несерьезно.
— Кто тебе сказал?
— Я говорю то, что чувствую. Ты относишься ко мне несерьезно, но совершаешь при этом ошибку.
— Может быть, это ты ее совершаешь? — спросила Лариса, инстинктивно чувствуя, что в данной ситуации нужно произносить как можно больше слов; пусть даже бессмысленных, но внешне логичных фраз. Лариса так и делала.
— Мы поженимся. Нам разрешат.
— Тебе разрешат.
— Да. Моя мать сделает так, что разрешат. Она живет в городе. И отец живет в городе. У всех есть квартиры. Мы будем жить на даче. Там тепло.
— Я там была, помню.
— Зимой тоже. А летом очень хорошо. Я заработаю денег. Сколько надо заработаю. Один раз сумел и еще сумею.
— А школа?
— Я отличник. И получу медаль.
— Золотую?
Руслан помолчал.
Стало настолько темно, что можно было не заботиться о выражении лица.
— Что ты имеешь в виду?
— Мне кажется, что ты надо мною издеваешься.
— Нет. Зачем мне это делать?
— Иди ко мне.
— Что?!
— Иди ко мне.
— Но… ты же сам говорил, что у тебя нет денег.
— Ты теперь моя невеста.
— Кто тебе сказал?
— Я.
— Ты что-то слишком часто с собой разговариваешь, парень.
— Я жду, Лариса.
— Жди. И ждать придется довольно долго.
— Почему?
— Мне пора ехать.
— Куда? Туда?!
— Угадал, отличник, угадал.
— Ты не поедешь!
— Как это я не поеду? Меня уже ждут. Мне ноги переломают, если я откажусь.
— Кто?
Лариса невидимо усмехнулась.
— Уж не хочешь ли ты его убить?
Руслан встал.
— Не дури, парень. Он сам тебя убьет, одним щелбаном.
— Я знаю, что он сильный. Я видел его в школе.
— Что он делал в школе?
— Искал Светлану Савельевну.
Лариса тоже встала.
— Вот и хорошо, что ты его видел. Значит, все понял. Это страшный человек, — Лариса почувствовала, что ухватилась за спасительную ниточку, — его все боятся. Его сейчас здесь нет, но все боятся.
— Ты принадлежишь ему? — Руслан сделался замедленно задумчивым.
— Если хочешь, называй это так. Без его ведома я не могу сделать даже шагу. Может быть, мне удастся выкрутиться… Хотя… — голос ее погрустнел, — тут ведь дело не столько даже в деньгах. Хотя и в деньгах тоже. Нужно, чтобы мне кто-нибудь помог. Ты поможешь мне, скажи, поможешь?!
Руслан, ошеломленный, обнадеженный и напуганный взрывом энергии в ее последних словах, подошел, обнял рабу продажной любви и прошептал пухлыми губами:
— Я тебе помогу. Ты можешь на меня рассчитывать.
Эти слова отняли у него столько сил, что когда Лариса начала осторожно выскальзывать из его объятий, он не смог ее удержать, хотя полностью отдавал себе отчет, куда она отправится, расставшись с ним.
Лариса исчезла, и он сел на тахту в позе, представлявшей собой нечто среднее между египетским истуканом и советским отличником.
Преданная своему ремеслу Лариса столкнулась в прихожей с профессором, только что приехавшим по звонку Сережи. Увидев на губах своей работницы улыбку подлого удовлетворения, он спросил:
— Успокоила?
Она то ли преданно, то ли предательски кивнула.
— Что ты ему говорила?
— Да чушь всякую, что я в рабстве у этого идиота и прочее. В общем, как Сережа меня учил.
— Молодец, — задумчиво сказал профессор.
На неожиданное появление очкастого заказчика в темной комнате Руслан никак не отреагировал. Несмотря на то, что тот, войдя, сразу включил свет.
Осмотрев исполнителя, заказчик сказал:
— Надо ехать.
— Отдайте мне ее.
Профессор не понял, а вернее, умело сделал вид, что не понимает.
— Кого? Собаку?
Руслан повернул к нему изможденное и сосредоточенное лицо.
— Ларису.
— Об этом мы поговорим потом, после того, как ты сделаешь то, о чем мы договорились.
— Нет, мы поговорим сейчас.
— Хорошо, поговорим сейчас, но получишь ты ее после.
— Вы обещаете?
Профессор развел руками.
— Разумеется, обещаю.
Руслан криво усмехнулся, отчего его лицо утратило врожденную асимметричность и сделалось своеобразно гармоничным.
— Вы мне лжете!
— Что ты имеешь в виду?
— Лариса мне сказала, что ею полностью распоряжается этот здоровый стриженый. Она говорит, что он страшный человек. Он к нам в школу приходил.
— Она так сказала?
— Вы его тоже боитесь, — насмешливо заявил Руслан.
— Немного, совсем немного.
— Он действительно страшный человек?
— Ты же его видел.
— Видел. Лариса еще сказала, что она должна ему.
— Вот видишь. Те деньги, что я заплачу тебе за эту собаку, ты сможешь внести за Ларису.
— Вы говорите вроде правильно, но голос у вас лживый.
— Не надо мне хамить, юноша, я ведь твой естественный союзник.
— Вы убийца.
Профессор подвигал очки на переносице.
— С чего ты взял?
— Разве вы не хотите убить ту собаку?
— Собаку? Хочу. Именно убить. Это ты правильно подметил. Хочу убить как собаку. А теперь едем. Надо заехать захватить твое ружьишко и успеть вовремя к месту назначения.
— У меня нет… нечем стрелять.
Две заряженные рукою Дениса пульки легли на узкую ладонь Руслана.
— Зачем две? Мы что, двух собак будем убивать?
— Одну. А это про запас. Вдруг промахнешься.
— Я не промахиваюсь.
— Ты сейчас очень нервный. Лучше подстраховаться.
Руслан встал.
— Едем.
36
Выпавший утром снег сделал мир намного прозрачнее. Пробираясь по кладбищу, Никита физически ощущал свою возросшую уязвимость. По крайней мере для чужого взгляда. Пустые пространства он пересекал убыстренным шагом, хотя и понимал, что этим привлекает к себе дополнительное внимание. Прошло всего пять дней с момента битвы на даче, слишком маленький срок для того, чтобы люди профессора утратили бдительность. Если, конечно, он догадался устроить засаду на территории больницы. Конечно, устроил. Надеяться на другое неблагоразумно.
Спустившись на дно кладбища, Никита остановился на берегу мутного незамерзающего потока. С особой тщательностью он ощупывал взглядом окрестности. Все подозрительное лучше рассмотреть отсюда, где есть возможность для маневра. Там, внутри цементного лабиринта, не развернешься.
Если бы не снег!
Никита поежился, но не от холода, а от ощущения того, что он разоблачен.
Идти дальше страшно, но идти надо. Больше откладывать разговор с отцом невозможно. Денег, полученных от Сажи, надолго не хватит. Да и больного могут забрать. Например, в другую больницу.
Перебираясь через ручей, он съехал правой ногой в грязную воду, что не добавило ему оптимизма и благодушия. Явно дурной знак. Но странным образом это неприятное происшествие послужило делу рассеивания сомнений. Злясь на воду, на ботинок (зачем промок!), на снег, Никита стал решительно подниматься по скользкой от тающего снега тропинке к больничной стене.
Знакомый ему лаз оказался заделан досками, но, к счастью, довольно небрежно. Два аккуратных, почти бесшумных удара мокрым каблуком, и путь свободен.
Со всеми возможными предосторожностями Никита заглянул внутрь. Удара по голове не последовало. Внутри все присыпано снегом, родным братом того, что расположился на могильных плитах. Что может быть погосту ближе, чем больница?
Вдали промелькнула стайка белых существ — местные специалисты. В сторону возобновленной дыры никто из них не глянул.
Держась вплотную к стене, Никита заскользил к ограде нужного ему отделения. Двухэтажная темно-кирпичная громада безмолвно высилась, окруженная пышными туями и голыми кленами. Забравшись на присыпанную снегом кучу листьев, Никита легко разобрался с железной калиткой, хотя она была несколько заперта.
Проник на территорию.
Держась в толще хвойных растений, он стал пробираться к тому месту, с которого рассчитывал рассмотреть беседку. Почему-то был уверен, что Савелий Никитич сидит там, как и в прошлый раз. И, как ни забавно, не ошибся. Но при этом не обрадовался своей проницательности. Потому что увидел в беседке еще одного человека.
И сразу понял, что это за человек. Шоколадница. Опять дочка принесла папаше стопку плиток. Что это за болезнь такая, что пожирает столько жирной сладости?
Первым порывом было броситься к ней, к сестрице, объяснить все и успокоить. У него не было уверенности, что Варфоломея правильно поняла его слова, сказанные при последней встрече. Но он удержал себя среди туй. Нет, бороться с этой семейною парой он не в состоянии. Ожило воспоминание о последней тройственной встрече, ехидно-снисходительное описание провинциального дебила, пробирающегося в их жизнь с помощью сомнительной сберкнижки, и сомнамбулическое отцовское «не было! не было! не было!».
Придется ждать, когда они разделятся.
37
Пуля попала собаке в левую ягодицу. Бангор крутнулся на месте, пытаясь зубами схватить неожиданную и очень кусачую блоху. Так подумал охранник Володя, державший пса на поводке.
— Что там у тебя? — спросил он, но ответа не получил. Боль утихла, и собака затрусила дальше, ничуть не прихрамывая, не испытывая никакого дискомфорта.
Руслан не торопясь уложил убийственное приспособление в футляр для музыкального инструмента, аккуратно, бесшумно закрыл никелированные замки и стал выбираться из окружения больших картонных ящиков, доставивших в наш город партию колумбийских бананов.
Профессор ждал его в условленном месте возле машины. Метрах в трехстах от кучи колумбийских коробок. Он был один, даже Сережу с собой не взял.
— Ну как? — спросил он, не выказывая особенно сильного интереса.
Руслан дернул плечом.
— Больше я стрелять не буду в собак.
— Второй выстрел не понадобился?
— Нет.
Профессор удовлетворенно поправил очки, потом достал из кармана телефон, набрал какой-то номер и протянул Руслану.
— Тебя Лариса разыскивала.
— Лариса?!
Лицо стрелка ожило, в глазах появилась неожиданная глубина.
— Можешь поговорить с ней. — С этими словами профессор отошел в сторону. Остановился шагах в двадцати, искоса поглядывая Руслану в спину. Спина была непроницаема, она согнулась над телефонною трубкой, скрывая тайну разговора от всего белого света.
Профессор закурил, порыв ветра разорвал клуб дыма на кусочки.
Руслан слушал, заметно покачивая музыкальным футляром. Не произнося ни слова, не меняя позы.
Насколько профессор представлял себе текст, выдаваемый трубкой, реакция юниора должна была быть значительно более выраженной.
Наконец он что-то сказал, пар дыхания выдал его. Вслед за этим рука с телефоном обреченно опустилась к бедру.
Поговорили.
Профессор понял — пора приближаться.
— Что-нибудь серьезное?
— Ничего особенного, — бесцветным голосом ответил Руслан, лицо у него было задумчивое.
— Я могу тебе чем-нибудь помочь?
— Нет.
— Ну, тогда по домам.
— Нет, я подумал… вы можете мне помочь.
— Говори.
— Подвезите меня.
— Далеко?
— Не очень. Я покажу дорогу. Главное, побыстрей.
38
Не может быть, прошептали окоченевшие губы. Оказывается, в глубине души он не верил, что она когда-нибудь уйдет. Не представляя, что могло бы произойти взамен ее ухода, он в возможность его не верил. Примерно так же человек, точно зная, что он смертен, не верит в свою способность умереть.
Невысокая фигурка в широком пальто бесшумно и плавно спустилась по ступенькам беседки и быстро пошла в сторону главного входа в отделение. В том смысле, что не в сторону дыры в стене. Почему? — задался не самым важным вопросом наблюдающий. Потому что дыра заколочена? Или потому, что в тех случаях, когда она приходила в гости к отцу без хахаля, можно воспользоваться и обычным путем?
Не успел Никита разрешить эту теорему, ибо утратил вдруг внутреннее равновесие в тот миг, когда пара родственников разделилась у него на глазах. Он знал, что не способен беседовать с ними, когда они вместе, но что делать, если в каждом из них он испытывал невыносимую потребность!
Слава Богу, это буриданово состояние длилось недолго. Светлана завернула за угол, и стало легче. Больница скрыла ее, и он испытал к этой громадине чувство благодарности. Никита дождался, когда мимо его укрытия проковыляет парочка больных стариков, и вышел из туй на тропу. Вышел и, не торопясь, чтобы не выбиться из принятого здесь темпа прогуливания, направился к беседке.
На секунду вспомнил о профессоре, о возможной засаде. Именно на секунду, не больше.
Через тридцать шагов он свернул с основной тропы на боковую, полузаросшую, ту, что вела к отцу. С удивлением отметил, что зачем-то считал шаги. Но это удивление было еще короче, чем воспоминание о засаде.
Каркали вороны в пасмурном сыром воздухе, бледно смотрелись снега вокруг деревянного строения. Расплывчато светились первые электрические окна соседнего корпуса, подчеркивая наступление вечера и нереальность массивной, неподвижной фигуры внутри беседки.
Когда Никита выбрал остаток пути, произошли изменения в наплывавшем видении. Желтое окно заехало за кленовый ствол и лишь слегка напоминало о себе сдавленным свечением. Никита поставил ногу на нижнюю ступеньку и понял, что за ним наблюдают. Может быть, с самого момента появления из зарослей. Два стеклянных неподвижных окуляра. Надо ли это понимать так, что отец ждал его. И именно сегодня. Или это не отец, это подсаженный профессором человек, сейчас он вытащит из под шубы железную штуку с глушителем… Даже для таких диких мыслей было место в голове явившегося.
И он поднялся на ступеньку номер два.
Поднялся и сразу же сказал:
— Здравствуйте!
Сидящий после краткого молчания сказал голосом Савелия Никитича:
— Садитесь.
Скамья, занимавшая весь внутренний периметр беседки, была с подветренной стороны присыпана снегом, пришлось садиться на оттаявшее пятно, оставленное сестрой. Успевшее остыть. Никита положил под себя перчатки.
Савелий Никитич был защищен от небольшого ноябрьского мороза очень хорошо. На ногах валенки, тулуп, на голове шапка, надвинутая до самых очков.
Так что если бы Никита видел своего предка впервые, он бы никогда не догадался о размерах его лба.
Сильное, прямо-таки слепящее волнение не давало Никите заговорить. Да он и не знал к тому же, с чего начать. То ли издалека, то ли прямо с результатов и выводов.
— Вы меня помните?
— Конечно, — бодро, почти весело ответил укутанный член-корреспондент.
— Я хотел…
— Вы в прошлый раз приходили со Светланой. Но сегодня она приходила без вас.
— Я не к ней.
— Она только что была. Вы ее легко догоните, она пошла к выходу.
— Я к вам, Савелий Никитич.
Голос сидящего вдруг сделался больным и испуганно раздраженным.
— Ко мне? Зачем? Только не говорите, что вы мой бывший студент или аспирант, я вам все равно не поверю. И никакую вашу статью читать не буду, и предисловие писать тоже.
Никита обрадовался, что не рискует оправдать худшие ожидания старика. По крайней мере аспирантов он не любит больше, чем брошенных сыновей. Над вторыми он всего лишь смеется.
— Я не аспирант, но я сделал открытие.
— Открытие? — сквозь старческое брюзжание проступила дрожь затаенной радости.
— Да. И большое. Для меня — главное. Дело в том, Савелий Никитич, что я…
— Открытие! Не говорите мне ерунды, молодой человек. Главное открытие?! А вы знаете, что его невозможно сделать. Невозможно!
— Можно! — воскликнул Никита. Ему нравилось, как развивается разговор, но вместе с тем он чувствовал, что радость его отравляется каким-то новым, пока непонятным страхом.
Членкор смачно крякнул и сдвинул шапку, обнажая часть бесконечного лба. Он явно собирался мыслить.
— Я вам сейчас на пальцах докажу, что нельзя, молодой человек. Отвечайте на мои вопросы.
— Да, я молодой человек, и я буду отвечать на все!
— Скажите мне, можно открыть красоту?
— Не знаю.
— Можно открыть свет?
— Не знаю.
— А хотя бы землю? Только не Франца-Иосифа, а вообще землю?
— Не знаю, — в третий раз ответил Никита, все больше тоскуя от того, что полностью перестал ощущать смысл разговора.
— Открыть можно электричество, пенициллин, гамма-лучи, Америку и прочую чушь.
— Можно, — прошептал Никита.
— То-то, — с чрезвычайным самодовольством заметил Савелий Никитич и окаменел, уподобившись временному памятнику.
Сидя на холодных развалинах столь удачно начавшегося разговора, Никита собирался со словами для следующего захода, но его усилия не потребовались, очкастый тулуп заговорил сам:
— Вот вы впали в прострацию, молодой человек, это и правильно и неправильно. Правильно, потому что мои аргументы были убедительны, а неправильно, потому что по-настоящему свободный ум, тем более на закате биологического существования, продолжает дерзать. Должен продолжать. Терзать бастионы абсолютной истины. Вы меня понимаете?
— Нет.
— В том-то и дело, что понять непросто.
— Но вы тоже должны меня понять, Савелий Никитич.
— Зачем?
— То есть как зачем? В том смысле, что я сейчас вам все объясню.
— Не трудитесь, юноша.
— Я не юноша, я молодой человек.
— Не трудитесь, я и так все знаю.
— Все?!
— Все, — кивнул ученый, и скамья под ним мудро заскрипела, — все, и даже более того.
— И что же теперь делать?
— Погодите, погодите. Не надо спешить. Если у меня впереди вечность, то у вас вечность плюс жизнь.
— Разве это жизнь! Но вы скажите мне одно, — приходя в возбуждение, превосходящее лихорадочное, начал было возвышать голос Никита, — я хочу проверить, нет ли ошибки. Путаницы. Я хочу знать, нет ли путаницы.
— О какой путанице…
— Проверить легко. Ответьте на один вопрос, Савелий Никитич, вы помните Калинов?
— Город Калинов?
— А что же еще?
— Безусловно. Если я помню все, то и Калинов, город, тоже. И даже лучше, чем многое другое.
— Ну, слава Богу.
— Богу ли? — поскрипел скамьею старик.
— Но если так, — весь находясь во власти родственной горячки, заерзал Никита, — что вы мне скажете дальше? Ведь я пришел к вам не просто так. Я хочу, чтобы вы сами это сказали. Сами, поймите, это для меня важно!
— Вижу, что пришли. И ничего скрывать не стану. Почти ничего. Кое для каких мыслей все же и сейчас не пришло время. Но начну издалека.
— Из какого еще далека, дальше Калинова не уедешь.
— Будете перебивать, вообще ничего не узнаете.
— Хорошо, хорошо, я долго могу не перебивать.
Савелий Никитич торжественно ввел морозный воздух в обширные легкие, еще дальше по лбу сдвинул шапку и спросил:
— Скажите мне — но подумав скажите — чему равняется число жителей на нашей планете?
— Зачем?
— Да скажите, не стесняйтесь.
— Миллиардов несколько. Три или пять.
Савелий Никитич удовлетворенно хмыкнул, как будто достиг мелкого успеха в разговоре.
— Не в цифрах, не в цифрах, не надо так банально. Есть другой, более истинный счет.
— Какой такой счет? — подозрительно и немного обреченно спросил неаспирант.
Савелий Никитич заекал небом, не открывая рта, — одна из форм академического смеха.
— Слушайте, мыслитель. Количество живущих на нашей планете людей равняется количеству ушедших с нее за время существования человечества. Современные статистические методы дают возможность исчерпывающе это доказать. Во времена Римской империи на планете жило что-то около четырехсот миллионов человек. За две тысячи лет сменилось около ста поколений, если ввести… ладно, не станем сейчас вдаваться в детали, главное, чтобы вам была понятна основная мысль. Понятна?
— Понятна, — рассеянно и растерянно ответил Никита.
— А понятно, какие она дает возможности?
— Кому?
— Да кому угодно! Ведь вы только вдумайтесь, сотни, а может быть, и тысячи лет бесчисленные умы бились над причинами возникновения войн и эпидемий, выдвигая объяснения от экономических до кретинических. И чего же они добились, кроме издевательского смеха в свой адрес?! Ибо они не понимали, что объяснение лежит или глубже, или выше. Я не знаю, есть ли Бог и таков ли он, каким его рисует священное писание, но то, что в мире существует великий регулятор равновесия между миром этим и миром загробным, — несомненно. И главная его забота, чтобы у каждого живущего ныне человека был антипод, человек, живший в какие-то предыдущие времена. Вы следите за моей мыслью, молодой человек?
— Да. И я хочу сказать, что если вы помните город Калинов, вы должны помнить улицу «Имени десятилетия позора убийцам Карла Либкнехта и Розы Люксембург».
— И не только это! Я, например, думаю, что чрезмерное развитие медицины и санитарии только на самый первый, самый поверхностный взгляд кажется благом. Компьютерная диагностика и безскальпелевая хирургия, безусловно, служат делу опасного перекоса в нашем миропорядке. За восемнадцать веков с рождества Христова население увеличилось едва ли в два раза, за последние два века — в пять раз. Смерть подвергается фронтальной атаке, ее изгоняют из дома и города, ее пытаются изгнать из мира. А это в корне неверно, смерть надо прикармливать, как домашнее животное.
— Дом номер двенадцать, маленький полубарак. Два крыльца. У одного крыльца сирень, у другого жасмин. Там, где сирень, жила девушка с белыми волосами. Имя ей было Агаша. Очень посмеяться любила и попеть. Жила себе, выхаживала отца больного. Из скотины домашней держала только козу и кур.
— Один из примеров такого почти правильного взаимоконтакта с чудищем смерти дает нам, скажем, средневековая Испания. Смерть становится равноправным участником всех жизненных процедур. Никто в семье не мог нежиться или выйти замуж в период траура, хотя бы траур этот длился бы годы и годы. И смысл здесь не в вечном черном цвете одежды и беспросветной тоске, дело в равновесии, в понимании того, что жизнь должна быть чем-то уравновешена. И не чем попало. Посмотрите любые справочники, в средние века гибель на войне достигала лишь доли процента от общего числа населения. И сама эта численность столетиями стабильна. В мире ограниченное количество человеческих мест, зачем плодить бесполезные существа? Но как только появилась современная медицина, тут же последовала реакция — наполеоновской войны с сотнями тысяч потерь, и теперь уже не менее семи-восьми процентов людей находили свой конец не в родимой постели, а на чужой, изгаженной взрывами земле. Теперь еще хуже, для современного человека — особенно западного — смерть-казус! Он живет так, будто никогда не умрет. Он всю науку и промышленность поставил на службу своему желанию прожить как можно дольше. Он изгоняет смерть из жизни всеми способами. И что делает смерть в отместку? Она обижается. Побродив вне дома и города человеческого, она, собравшись с силами, возвращается, и тогда не по одному выхватывает, а косит косою. Отсюда, именно отсюда все Бухенвальды и Освенцимы, а не из истерик психопатических ефрейторов. Одна эсэсовская дивизия истребила народу больше, чем все Габсбурги, Бурбоны и Рюриковичи вместе взятые за сотни лет своего правления!
— А работала она в библиотеке. В районной. С местными парнями не водилась. Только как с товарищами имела отношения. Принца ждала. И дождалась. Приехал столичный такой весь он. Молодой еще. Но в очках, как надо. Науки человек и самый главный в экспедиции. Раскапывать начал курган, чтоб нам не было где потом на лыжах кататься. А когда стемнеет и в земле не видать ничего, мог водки выпить. Даже танцевал. Однажды библиотекарша Агаша попалась ему на танцплощадке. Редко захаживала туда, а тут зашла. Гость в очках увидел ее и думает: провожу. Очень старался быть получше, чтобы ей в глаза броситься. Получилось. Провожать она не далась, конечно. Но сказала, где работает. Прилетел. А библиотека для него, как для сталевара печка. Все может, умом блистает, остроумием тоже. Библиотекаршу легко пронять любовью к книге, и согласилась она с ним встретиться. Вне.
— Но тут стопятидесятилетний перекос: от Великой французской до Второй мировой, устранен-таки. Гигантскими, бессмысленными средствами устранен. Казалось бы, сядь, думающая часть человечества, и задумайся. Не хочет! Вернее, даже не не хочет, а не знает, в каком направлении следует думать. Инстинктивно чувствуя самые общие очертания проблемы, грубомальтузианскую ее сторону, правящая интеллектуальная элита приходит к выводу, что виной всему чрезмерная тяга человека к совокуплению. При этом они, подчиняясь духу времени, ведут себя как гуманисты и придумывают условную форму сокращения численности населения. Мнимую смерть. Придумать ее было нетрудно, нечего тут нынешних умников хвалить. Она элементарно дедуцируется из факта экономической безработицы. Раз для кого-то нет работы, значит, он не нужен в этой жизни. На земле много лишних людей. Новизна в том, что не обязательно их всех именно физически уничтожать. Мнимая смерть призвана удалить их из реальных жизненных структур, оставляя руки умственной элиты умытыми. Вы спросите меня, что я подразумеваю под этой самой мнимой смертью.
— Не спрошу.
— A-а, страшитесь услышать правду и вы тоже! Это понятие скрывает под своей поверхностью многообразие форм. На первом месте — любой доведенный до механических форм труд. Правильно — конвейер! Зачем убивать человека, если его можно заставить работать на конвейере? Он не станет возмущаться. А если к тому же у него будет отдельное жилье с теплым клозетом, пиво в холодильнике и женщина в кровати, он легко вообразит себя свободным. Да что там говорить, любой человек, припавший к ящику с компьютерными забавами, мнимо мертв. А мнимый мертвец не лучше реального. Он, по-моему, даже менее жив, если допустим такой каламбур. Хлеба и зрелищ — вот великая формула, то что раньше имело место лишь в одном городе, теперь стало повсеместным явлением. Как специалист берусь утверждать, что разница между египетским фараоном и рабом, волокущим камень на строительство его пирамиды, меньше, чем между сочинителем компьютерной игры и ее потребителем. Они находятся по разные стороны черты, разделяющей жизнь и смерть.
Изобретатели мнимой смерти убеждены, что нашли гениальное решение всех нынешних проблем. Мир благодаря их хитрости стабилен. Они считают, что достаточно загнать девяносто пять процентов населения в благоустроенные стойла, и можно о большей части будущего не беспокоиться.
— Вечерело. Пришла девушка невинная на свидание. Ученый тоже пришел. Встретились над речкой. Один берег — луг, другой — обрыв. Ивы, луна, тишина. Соловьи. Сели они на поваленное дерево. Разговорились. Началось чтение стихов. Разных, но особенно понравились девушке такие: «Я с тобой не буду пить вино, потому что ты мальчишка озорной, знаю я, у вас заведено с кем попало целоваться под луной». А понравившись, они запомнились. И до того дошел, до того осмелел ученый, что позволил себе обнять библиотекаршу за плечи. И она тоже позволила ему. И не только обнять. Ее сердце пронзило чувство, которое вряд ли встречается в жизни. Что же дальше? Курган не вечен. Раскопали его до основания. Большая была польза для науки и выгода для ученого. Пришел он к ней прощаться. Уезжаю, говорит. Но временно. Потому что любовь к тебе, Агаша, увожу в своей груди. Когда вернешься-то, голубь, естественно интересуется соблазненная. Скоро, говорит. Материалы обработаю, в книгу важную вставлю и — назад. А можно, говорит Агаша, я с тобой? Нельзя, жаль, но никак. Жилья никакого. Живу в основном, как ты, в библиотеке. А слезы у нее текут, текут, а он их платочком вытирает, вытирает. Мне довелось видеть этот платочек, она его хранила, Агаша-то. Он ей говорит, не надо, мол, плакать, слишком ненадолго я уезжаю. А можно, я тебе ребеночка рожу, Савелий? Отчего же, говорит, роди. Чтобы отделаться от ее слез сказал. А как назвать его, Савелий? А назови его Никитой, если мальчик будет, как отца моего. Ну и как, вы думаете, назвала своего ребеночка Агафья Тихоновна Добрынина, когда у нее родился мальчик?!
Рассказ Никиты, вначале ползший чуть ли не на брюхе, пробиравшийся к концу мелкими шажками, на последних своих словах взорлил. Уже почти не речь раздавалась из перекошенного Никитиного рта, а клекот, так проявляло себя оскорбленное чувство справедливости.
Савелий Никитич должен был бы заколебаться, как колосс, символизирующий беспамятство, слоями должен был бы схлынуть с него песок забвения. Этого не произошло. Даже спокойная и мудрая улыбка у него на устах не распрямилась. Лишь запотел левый окуляр очков под напором возбужденного дыхания собеседника. И вот такой одноглазый археолог продолжил изложение своих циклопических мыслей.
— Более того, эти люди (их немало, и они повсюду) решили не останавливаться на достигнутом. Они всерьез стали задумываться над тем, чтобы избавить человека от физической смерти вообще. Не переводя даже разговор в фантастический план, надо признать, что эти замыслы не на сто процентов лишены основания. Поскольку бытие определяет-таки сознание, то у названной нами практической задачи должно было появиться теоретическое обоснование. И, как ни смешно, появилось. Нашлись философы, которые заново присмотрелись к старинной логической задачке: Сократ-человек, люди — смертны, значит, Сократ смертен. Так вот, присмотрелись и вывели, что здесь заключена ошибка. По их мнению, своей смертью Сократ доказал всего лишь, что он сам, лично смертен, а не всякий другой представитель рода человеческого. Пока ныне живущий какой-нибудь Иван Иванович из Костромы не отправился на кладбище, утверждать, что он не вечен, антинаучно.
— Савелий Никитич!
— Да хоть и Савелий Никитич, а не Иван Иваныч. То, что люди смертны, является правилом только для умерших. Так вот, эту теоретическую посылочку некоторые физиологи и геронтологи берутся доказать на практике. Утверждается, например, что уже сейчас, если с первых дней заставить человека вести правильную жизнь, сто пятьдесят лет ему гарантированы. А прожив сто пятьдесят, он окажется в двадцать втором веке, где тогдашняя наука добавит ему еще сотню, и так далее, и так далее. Что это? — Научно обоснованная вечность. Люди практически перестанут умирать. Смерть станет исключением из правила. Только случай сможет привести к ней. Какой из всего этого вывод? Количество живых начнет стремительно возрастать над количеством умерших. Скоро на каждого находящегося под землей придется по сотне бременящих землю. Космонавты для этих триллионов освоят планеты и звезды. Каждый умерший станет божеством. Каждому, о ком сохранились хоть какие-то сведения, будут посвящены целые исследовательские институты и храмы. Возникнут племена и народы, не имеющие ни одного родного покойника. А наука будет все развиваться и развиваться и найдет наконец способ воскрешения из мертвых. Станут гоняться за каждой косточкой, похожей на человеческую. Человечество начнет вытаскивать ноги из вечной темноты. И состоится первое воскрешение. И тут начнется самое страшное. Самое страшное! Вы меня понимаете, молодой человек?!
Никита свирепо зарычал и начал хлопать себя по левому бедру, как если бы он был кентавр и решил наказать свою нижнюю половину. На самом деле все было значительно проще, ему в левую ягодицу попала пуля.
Пасмурная мгла уже почти полностью пропитала пространство парка. Расплывшиеся тени больных сутуло собирались ко входу в отделение. Маленькая медсестра ударила по куску рельса, подвешенному в противоположной части парка, и железный гул неуверенно побрел меж деревьями.
Руслан Бахно резко убрал винтовку и спрятался за выступом стены. Он был уверен в двух вещах в этот момент. Раненый зверь не знает, что с ним произошло, и в том, что никто не видел, как он, Руслан, последний раз в своей жизни выстрелил по живому существу. И в обоих случаях он ошибался.
Его лучший друг Денис оказался так же болтлив, как и он сам. Считая, что он по меньшей мере спасает свою жизнь, молодой Зацепин подробно и доходчиво изложил взбешенному и поистине страшному бандиту суть их с Русланом деятельности. Настолько доходчиво и настолько подробно, что Никита понял. И теперь, рыча и матерясь, он медленно, но неуклонно добирался неострой своей мыслью до сути с ним произошедшего.
Руслан неторопливо укладывал ружье в футляр, спокойно поглядывал по сторонам, выбирая наиболее удобный путь исчезновения. Он не знал, что раненый привстал в беседке и тоже начал поглядывать по сторонам в поисках того, кто посмел нанести ему этот нечеловеческий удар.
Что касается второго заблуждения, то тут надо сказать следующее: у эпизода с выстрелом было по крайней мере два свидетеля. Во-первых, офицер Дима, который сидел за темным стеклом в окне жилого дома метрах в ста за больничной оградой. Профессор решил, что куда-куда, а в больницу к отцу Никита явится обязательно, и снял квартиру для целей слежения. Там он посадил Диму с хорошей оптикой и сотовым телефоном. В часы утренней и вечерней прогулки в десятом отделении Дима припадал к окулярам. В случае появления на горизонте Никиты он должен был еще припасть и к телефону, что и сделал. Беседа впервые встретившихся родственников по всем расчетам должна была получиться достаточно длинной, чтобы к больнице успела подъехать пара-тройка вооруженных ребят, в какой бы части города они не находились в момент звонка.
Любитель всевозможных, а желательно сложных построений (что видно по тому, каким заковыристым способом он отомстил своему бывшему партнеру господину Юргелевичу), профессор получил сигнал от наблюдателя в тот момент, когда ожидал возле своей машины Руслана. Профессор быстро сообразил, какие возможности открывает это известие. Моментально в его мозгу спроектировалась надстройка над основным планом. Пусть заряженный химическим бешенством бультерьер возвращается в квартиру слишком самоуверенного торговца редкоземельными металлами. Влюбленного подростка, оснащенного пневматической винтовкой и отравленной пулькою, рано признавать отработанным материалом, его надо сделать главной действующей силой дополнительного плана.
Сверх обычного обязанная профессору Лариса Павлова внимательно выслушала инструкции шефа. Тому еще ни разу не пришлось жалеть о деньгах, потраченных на то, чтобы отмазать эту смышленую и смазливую нимфоманку от одного весьма влажного дела. Она их отработала и продолжала отрабатывать. Судя по тому, как повел себя Руслан после разговора с ней, делала она это с блеском.
По дороге к больнице профессор, поглядывая время от времени на хмурого юношу, по-отечески улыбался, при этом с удовольствием раскладывая мысленный пасьянс, пытаясь определить, какой исход встречи этого паренька с изнывающим без отеческой ласки бугаем из Калинова был бы всего предпочтительней.
Плохо, если парнишка полезет объясняться с парнем. Могут всплыть кое-какие вещи, которые, находясь под покровом реальности, реальностью этой управляют. Пусть даже в ограниченных пределах.
Например, Руслан может с удивлением узнать, что Никита никакого отношения к Ларисе не имеет и никогда, собственно, не имел. Против кого тогда направится ствол собачьей винтовки? Не возникнет ли нужда в специальных успокоительных мероприятиях? А они всегда связаны с лишним риском и лишними деньгами.
Экзальтированный подросток может разрыдаться на руках родителей и все им рассказать. Или того хуже — разрыдаться на руках первого встречного милиционера, потеряв чувство самосохранения, забыв, насколько он сам небезгрешен.
Нет, отмахнулся от назойливо развивающегося сюжета профессор, это маловероятно. Мальчишка не полезет объясняться к человеку, которого ненавидит и боится и который сам в этот момент будет занят объяснениями. И потом — взгляд направо — слишком парень сосредоточен, такому не до разговоров.
Но, может быть, оставшись один, размякнет, струсит, сбежит? Ну что ж, тогда день завершится всего лишь тем, чем должен был завершиться.
А вот пальнет?!
Этот вариант подразделяется на подварианты. Весьма вероятен прямолинейно-истеричный. Выстрел в упор, с крикливыми проклятиями и пожеланиями полноценного и скорейшего бешенства злобному мучителю невинной возлюбленной. Этот вариант наиболее туманен по последствиям. Неспособный к гибким умственным движениям и к тому же больно раненный зверь-Никита может броситься на юного охотника и нанести ему какие-то удары. Хорошо, если смертельно. Завершить дело таким изящным финалом, убрать единственного свидетеля-исполнителя совершенно посторонними руками — предел мечтаний. Профессор даже зажмурился в этом месте от удовольствия, несмотря на то, что находился за рулем.
Но вдруг удары окажутся не смертельными?!
Никита вернется к разговору с вожделенным папашей? Не до такой же степени он кретин! Исчезнет с поля боя, дабы не привлечь к себе внимание тех, кто может вызвать милицию? Это наиболее вероятно. То, что лекарство (или, если угодно, яд) действует медленно, тоже неплохо. В конце концов один из участников хитро поставленной сцены вернется туда, откуда попытается сбежать, то есть в Соколовский дурдом; а другой останется в уверенности, что имел полное право его туда отправить. Первый, естественно, Никита. Второй, разумеется, Руслан.
Как может распрямиться столь необычным способом сжатая пружина? Угрожающе замкнувшийся в себе подросток может придумать что-нибудь свое, подростковое.
Профессора тревожила возможность именно непредсказуемой реакции. Окажись на его месте обыкновенный бандюжий авторитет, он не стал бы собирать этот ажурный криминальный конструктор. Устроил бы по простой скважине в голове всем, кого нужно убрать, и — все. Высоколобый вор, переступающий черту закона только по компьютерным мосткам, даже не приблизился бы к тому месту, от которого тянет запахом будущего трупа.
Профессор не был ни тем, ни другим. В жизни законной являлся рядовым завлабом в одном ничего не значащем, но академическом институте; в жизни тайной сделался средним бандитским авторитетом. Ни с одною из жизней он порывать не хотел. В наше время подобных судеб полно. Такое раздвоенное состояние накладывало отпечаток на все замыслы профессора, придавая им несколько вычурный, почти абстрактный характер. От обычного преступника он отличался, как шахматный композитор от практикующего гроссмейстера. Его мало радовала победа, добытая ввиду грубого зевка неуклюжего противника. Радовала, но мало. Он никогда бы не признал свою «шахматную» идею ошибочной только потому, что хам, сидящий напротив, вдруг бы взял да шарахнул его доской по голове и был за это объявлен победителем.
Короче говоря, высадив Руслана у входа в психиатрическую больницу, известную в городе под именем Соколовки, он проехал еще с полсотни шагов, выбрался наружу и осторожно двинулся вслед за вооруженным влюбленным.
Чем дольше он предавался слежке, тем отчетливее понимал, что Руслан выбрал самый разумный вариант отмщения злобному сутенеру.
Быстро найдя десятое отделение (браво, Лариса, доходчиво обрисовала маршрут), легко и незаметно перелез через ограду. Не сделав и сорока шагов по территории, обнаружил ту самую беседку, занятую той самой парочкой, окутанных паром беседы безумцев. Сориентировался на местности, легко определил, откуда могут воспоследовать подозрительные взгляды, и принял меры визуальной предосторожности. Приблизился к беседке на максимально возможное расстояние. Еще раз огляделся. Достал из футляра винтовочку свою полуигрушечную. Прицелился, превратившись в момент прицеливания из мешковатого увальня в нечто на зависть молодцеватое и справное. Выстрелил, убедился, что попал, и исчез из возможного поля зрения.
Тут профессор, начавший думать о своем молодом друге со своеобразным уважением, цокнул языком. Он понял, что Руслан в чем-то просчитался. Никита придал значение внезапной боли в левой ягодице и начал быстро понимать, что это такое. А Руслан самоуверенно позволял себе этого не видеть.
Впрочем, разочарование профессора было кратким. На самом деле ему было выгодно, чтобы раненый зверь отыскал охотника. Об этом шла речь выше. Пристроившись у щели в заборе, профессор азартно кусал губы.
Гибель Руслана была близка в этот момент, и весьма. Громадная смутная фигура вывалилась из беседки и куда-то двинулась. Почти не прихрамывая. Не куда-то, а именно к тому кирпичному углу, за которым стрелок паковал свое оружие.
Напрасно, наблюдая за этой сценой, снисходительно улыбался профессор, думая при этом какую-то чушь, вроде того, что как мало порой знает обычный человек об истинных мотивах своих иногда даже самых важных поступков. Не пройдет и полгода после изложенных здесь кое-как событий, сам господин завлаб станет жертвой заурядной оплошности, заключающейся в недооценке противника, и его голова в издевательски приклеенных очках будет найдена в одном из майских мусорных ящиков.
Да и Руслана он похоронил рано.
Оказалось, что за время путешествия от беседки до скрывающих Руслана туй Никита успел понять не меньше, чем очень умный человек, обладающий всею информацией по данному случаю. И жажда мести уступила в нем жажде освободиться от навязанной ему собачьей участи. Находясь рядом с медицинским учреждением, он кинулся к его дверям. Ему был нужен скальпель или что-нибудь в этом роде, чтобы собственноручно распороть себе задницу и выковырнуть кристалл отравы, прилетевшей из казавшегося ему совершенно фантастическим рассказа перепуганного Дин и.
Двери в психушках просто так не открываются, даже в привилегированных отделениях.
Известные своей силой кулаки обрушились на тупо запертую дверь. Никита сотрясал ее ударами и требованиями, чтобы ему немедленно открыли.
Тихие местные больные, собравшиеся вернуться с прогулки, стояли в туманном полумраке у крыльца. О том, что они живы, можно было догадаться только по струйкам пара, сочившимся из ноздрей. Поняв, что с дверью ему не справиться, Никита повернулся к ней спиной. Когда он обводил взглядом депутацию тихого помешательства, она перестала дышать. Сколько они друг другом любовались бы, сказать трудно, когда бы не появилась медсестра, та самая, что давеча аккуратно избивала обрывок рельса в глубинах сырого тумана. Она белым бодрым призраком просочилась сквозь рощу серых памятников и выступила на первый план.
— В чем дело?! — был ее звонкий и прямой вопрос.
Никита, на ходу расстегивая штаны, кинулся к ней.
Психиатрические медсестры люди каленые, никакими эффектными извращениями их с толку не собьешь. Халат не шелохнулся, шапочка не дрогнула.
— Вот, вот, вот! — хрипел и подвывал Никита, сдирая с себя штаны, трусы и выставляя на всеобщее обозрение раненую плоть, — мне нужны нож, скальпель, пинцет. Скорей, только скорей! Ты меня понимаешь?!
Никита попытался посмотреть в глаза медицинскому существу.
— Понимаю, — спокойно, но не душевно ответило оно.
— Я ранен, понимаешь, ранен!
— Куда?
Никита понял, что договориться будет труднее, чем это казалось, исходя из идеи всеобщего братства людей. К тому же вид раны столь туманным вечером не впечатлял.
Пока он подбирал новые, неотразимые слова, раздался щелчок за спиной. Открылась дверь в отделение, и на пороге появились два рослых санитара. Раненый обратил руки к своим штанам, но он бы не успел одеться до нападения на него смирительной рубашки, если бы не отец!
Из-за двухэтажного дома скорби раздались жуткие рыдающие вопли. Рыдающие и нечленораздельные. Все, даже изготовившиеся санитары, посмотрели в ту сторону — кто это так плачет там?!
Очень скоро все увидели широкую, выбредающую из тумана фигуру со слепо расставленными руками. Она шла, покачиваясь, отражая линзами очков свет фонаря над входом в отделение и взывая.
— Сынок, где ты, сынок! Ты все-таки пришел!
— Отец! — закричал Никита и бросился бежать к калитке. Он проделал все так стремительно, и в сердце его кипело столько мрачной радости, что удержать бы его не смог никто, не то что толстые санитары.
Руслан, запыхавшись, влетел в электричку. Он был свидетелем сцены у входа в десятое отделение, покинул территорию психбольницы сразу после ее окончания и всю дорогу до вокзала проделал в самом стремительном темпе. Ни в метро, ни в трамвае его не оставляла лихорадочная, перемешанная с тошнотою дрожь.
Это не был страх в чистом виде, но что в этом состоянии было не от страха, Руслан не взялся бы определить. Думать не хотелось, было только одно отчетливое желание — убраться как можно дальше от красной больницы. Ему казалось, что нелепое истерическое действо у запертых больничных дверей осталось там, на широких ступенях, навсегда, чтобы повторяться снова и снова. И расстегнутые штаны, и раненая ягодица, и нечистые санитарные ангелы, и чудище, выбредающее из тумана. И уверенность, что это именно так, не ослабевала у Руслана, несмотря на то, что он видел, как Никита убегал к дыре в больничном заборе, чтобы сойти с ума посреди грязного ручья и издохнуть.
Стоя в тамбуре, Руслан вытер со лба ненормально обильный пот и прислонился к стене, успокаивая дыхание. Насквозь мокрая рубаха липла к худой спине, даже в ботинках что-то хлюпало. Но на душе стало легче, словно большая часть хмари была исторгнута из организма вместе с потом.
Итак, что же произошло? — попытался задать себе вопрос стрелок, поставив футляр на пол. Целый хор наглых призраков сбежался на осторожный зов рассудка. И профессор, и Лариса, и Диня, и Светлана Савельевна, и даже мать. Им всем требовалось такое количество его внутреннего мира для размещения, что Руслан сразу почувствовал себя банкротом. Он был неспособен оплатить чистым здравым смыслом их сумасшедшие запросы. Потом! Все потом! А сейчас… Руслан оттолкнулся спиной от гудящей стены и, подхватив «кобуру» с «хантером», вошел в вагон. Он просто спасался бегством с места, где на него навалилась толпа отвратительных вопросов. На время перемещение в пространстве помогло. Сидя на изрезанном сиденье, Руслан изо всех сил пялился в потрескавшееся окно. Он хотел максимально возможную часть себя вытолкнуть наружу и заняться исследованием мелких, мельчайших и гаснущих подробностей пейзажа, чтобы настигающему кошмару нечего было захватывать внутри него, несчастного, запутавшегося школьника.
Такая уловка облегчала жизнь минут на пять. Потом приходилось снова спасаться бегством — он пересаживался, все дальше продвигаясь по полупустому вагону.
Наконец и вагон кончился, пришлось перебираться в следующий. В этом вагоне свободных сидений, стоящих по ходу поезда, не было, пришлось подставлять отвратительному будущему спину. Руслан уселся, положил рядом с левым бедром футляр и невольно пробежал глазами по фигуре соседа.
Это был Никита!
В арку дома возле метро «Сокол», шаркая подошвами, вошел невысокий человек в драповом пальто с каракулевым воротником и каракулевой же шапке. В руке он держал листок бумаги и время от времени сверялся с тем, что в нем было написано.
Миновав строительный вагончик, детскую площадку с унылыми недетскими качелями, человек подошел к подъезду, которому в последние дни уделялось столько внимания. Не без борьбы проник внутрь. Поинтересовался у заспанной консьержки, на каком этаже находится квартира 64.
— А кто вам нужен? — конечно же поинтересовалась она.
— Сын.
— Чей? — полезла старуха к нему в душу.
— Мой, — ответил сухо пожилой человек и направился к лифту.
Этаж он вычислил самостоятельно.
Возле нужной двери остановился, собираясь, очевидно, с силами. Снял шапку, расчесал пегие волосы на потной неровной голове, после чего шапку надел. Еще постоял и только после этого позвонил.
Ему было отчетливо слышно, как звонок унесся в дебри квартиры, пугая враждебные пространства и закоулки. Одного звонка оказалось недостаточно. Старичок, не задумываясь, послал ему пару помощников. Но и они сложили свои звонкие головы в хитроумных археологических лабиринтах.
На лице старика отразилось презрение. Боятся! Прячутся и боятся! — именно так и только так он объяснил себе молчание за дверью.
Но на что они рассчитывают?! Ведь он уже явился, и от этого факта не отгородиться дверью, пусть даже такой железной.
Он стал бросать звонки в атаку без счету. Три, семь, одиннадцать.
И после этого ничего!
Старик на некоторое время задумался. Уйти? Но куда? И чему это поможет? Нет, отступать нельзя. Это он знал точно. На второй штурм у него может не хватить сил. Или времени.
Надо звонить.
Надо применить новое оружие, длинные, самые длинные, бесконечные звонки. Он сердито улыбался, представляя себе, как носятся по квартире звуковые змеи. Жители квартиры опутаны ими, как Лаокоон и его дети. В ранней юности видел старик изображение знаменитой статуи, и сейчас это видение согревало ему душу.
Но змеи тоже не помогли.
И снова старик задумался. И опять размышление не принесло ему никакого другого совета, кроме совета атаковать до конца. Новым было только недоверие к эффективности боевого звона. Принято было решение применить более натуральные средства. Кулаки и ботинки. Пусть они там внутри уразумеют, что он готов и живою силой прорываться сквозь железо дверей.
Конечно, кулаки у него были не те, что, скажем, у Никиты, но бросил он их врукопашную не задумываясь. Правда, очень скоро выяснилось, что шуму они производят немного. Надо чем-то подкрепить их натиск. И старик заорал:
— Никита, сынок! Никита, сынок! Где мой сын?! Где Никита?! Где мой сын?!
Так продолжалось с полминуты, наверное, по крайней мере до тех пор, пока за спиной старика не раздался удивленный голос:
— В чем дело, папаша?
Тяжело дыша, старик покинул передний край и повернулся. Перед ним стояли два молодых, среднего роста парня с полиэтиленовыми пакетами в руках. Им было лет по двадцать пять, не больше. Один черноволосый, плотный; второй худощавый, с залысинами и золоченых очках.
— Кто вы?
— А вы? — спросил черноволосый крепыш ощутимо хозяйским тоном, — я, например, Никита, а вы?
— Никита?
Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, одновременно опираясь плечом на стену. Поза расслабленная слегка. Глаза казались закрытыми. Голова находилась в состоянии свободного парения, как у очень пьяного, но еще не «отрубившегося» человека.
Руслан с облегчением понял, что раненый не видит его.
Почему? Потому что спит? Или в силу действия «лекарства»?
Куда же это он едет? — не мог не подумать стрелок. Ответ у него нашелся один, и ответ неприятный. Он едет в Каратаево. Но зачем? Что ему там нужно? И как быстро добежал от больницы до вокзала! Ему бы в больницу. Пусть не в психиатрическую, — в обычную. А зачем в обычную? И есть ли вообще лекарство от «лекарства»?!
Сквозь копошение этих никчемных мыслей Руслан понял: а ведь надо что-то делать! Он может проснуться. Попросит открыть футляр. Руслан покосился в сторону окна — нельзя ли незаметно выкинуть ужасающую улику. Да что «выкинуть»! Уходить надо!
И он начал подниматься, но, оторвавшись от сиденья, заметил, что Никита приоткрыл глаза. Почти полностью. И смотрит прямо на него.
Руслан замер.
Смотрит.
Но видит ли? В глазах больше тумана, чем осмысленного сияния. На всякий случай Руслан сел на место, мокрой рукой сжимая ручку футляра. Несколько раз в течение последующих пяти минут он проделывал вышеописаную процедуру, и реакция сидящего повторялась. Наконец парень понял, что Никита следит за его движениями так же мало, как входные двери вагона, без всякого толку болтающиеся туда-сюда.
Перебарывая страх, Руслан встал полностью. Он был уверен, что сидящему будет все равно. Чудовище продолжит впадение в состояние искусственного безумия.
Он ошибся.
Стоило ему полностью выпрямиться с прижатым к груди футляром, он увидел перед собою широко открытые глаза и свет сознания в них.
Ерунда, сказал он себе, просто двери открылись максимально широко. Сейчас они поедут назад. И он шагнул вон из купе. Шагнул и услышал за спиной:
— Погоди.
Конечно, парень не остановился. Он быстро пошел меж сиденьями в другой конец вагона.
— Да погоди ты!
Руслан убыстрил шаг, с отчаянием глядя в темные окна, пытаясь по виду за стеклами определить, далеко ли до родимой станции.
Перебираясь из вагона в вагон, он подумал, что грохочущая под ногами железная бездна могла бы стать неплохой могилой для пневматической винтовки. Правда, преследователь видел футляр у него в руках. Но мутными глазами!
И еще вот почему надо избавиться от винтовки (в следующем же тамбуре!) — по поездам шляется милиция. Даже если к ней не обращаться, она вмешается в схватку между пьяным стриженым мужиком и интеллигентным школьником. И разняв (если успеют) сражающихся, они захотят проверить, цел ли инструмент. Да Никита и сам догадается закричать, чтобы они проверили, что у этого музыканта в футляре. И что он им, милиционерам, скажет, когда они увидят вместо флейты ружье? Пусть и пневматическое.
Вбежав в следующий тамбур, Руслан обернулся. Погоня, кажется, отстала. Кроме того, поезд замедляет ход.
Совсем замедляет.
Останавливается.
Зашипели перед распахиванием двери.
Распахнулись.
Руслан выскочил на спасительный асфальт. Выскочил и бросился бежать вдоль состава, поглядывая за спину, чтобы определить, из какого вагона покинет поезд преследователь. И не определил. Остановился, озираясь. Где он?
Немногочисленнные жители и гости поселка Каратаево рассосались с перрона. Электричка с невнятным бормотанием тронулась с места.
Где он?! — панически спрашивал себя Руслан. Вышел с той стороны, чтобы подкрасться и напасть неожиданно?
Электричка, шумя все злее, набирала скорость. Руслан смотрел сквозь пробегающие мимо окна, стараясь рассмотреть страшного человека за стеной нарастающей скорости.
И увидел. Коротко стриженную, привалившуюся к стеклу голову. Она уносилась прочь от Каратаевской платформы. Он так и не поднялся с места.
Не узнал!
Руслан с гигантским облегчением расхохотался. Да как мог его узнать этот псих, если он его никогда не видел!
Руслан хохотал, исходя при этом еще и слезами. В добавление ко всему его вырвало. В таком виде вышел из него только что пережитый страх.
На столе початая бутылка водки, тарелка с грубо нарезанным сыром, докторской колбасой, и еще одна с мятыми маринованными помидорами. За столом трое. Василий Андреевич Тетеркин, Никита Воронин (крепкий, черноволосый), и Олег (вернувшийся из экспедиции муж Светланы). На выяснения, кто есть кто, и первую, крайне сумбурную часть беседы ушло около получаса и шестьсот граммов водки. Молодые люди встретили Калиновского выходца, вернувшись из больницы, где навещали своего отца и тестя. Нашли, что состояние Савелия Никитича заметно ухудшилось после неожиданного и непонятного стресса. Медработники рассказали им невразумительную историю про приблудного безумца, страдающего редкой формой эксгибиционизма. Упомянули, что меж ним и Савелием Никитичем, судя по всему, имели место какие-то неясные, но горячие взаимоотношения. Разговор с медперсоналом происходил всего через четверть часа после окончания сцены на больничных ступенях. Сам Савелий Никитич, подавленный сильной дозой успокаивающего, ничего своим редким гостям рассказать был не в состоянии.
Придя в немалое замешательство после всего услышанного, Никита с Олегом решили, что без бутылки не разберешься, и взяли пару. Тем более что у них имелся еще один законный повод для выпивки — встреча. Первый вернулся с автогонок, в которых участвовал в качестве механика, второй, как известно, с раскопок.
По дороге домой они несколько раз заговаривали об удивительном идиоте, приставшем к больному старику. У них родилось несколько версий истолкования этого несуразного события. Каждая была по-своему убедительна и разумна, но оказывается:
— Так это ваш сын?!
— Да, Никита, Никита, мой сын, — в третий раз отвечал на этот вопрос Василий Андреевич, и в третий раз скорбь искажала его обезьяньи черты.
— И он приехал к моему отцу как к своему?
Старик только кивнул, ему надоело повторять одно и то же, но молодому человеку не надоело удивляться.
— А о том, что он сын Савелия Никитича Воронина, ему сказала ваша жена?
— Но очень давно, — поднял короткий строгий палец Василий Андреевич.
— Почему же она все эти годы молчала? — вступил в разговор Олег. Он чувствовал себя посторонним в этой ситуации, и поэтому считал себя обязанным сосредоточивать внимание на противоречиях, возникающих в потоке беседы.
Отец Никиты медленно повернул к нему лицо. Глубокие морщины на нем были полны влаги.
— Я почвенник.
— Почечник, — подсказал Олег, — а зря.
— Почвенник. Почвовед. Преподавал земледелие в сельхозтехникуме.
— И поэтому вы плачете? — искренне, но чуть-чуть пьяно удивился Олег.
— Она была у меня лаборанткой.
— Кто?
— Агаша. Агафья Тихоновна.
— Это мать вашего сына, да? — первым понял Никита.
— Да, но я был женат. Не по склонности. Двух детей вырастил. И замуж выдал. А любил ее одну. Как пришла она к нам на работу, так и полюбил. Но вместе с тем поступил с ней нехорошо. Почти отвратительно. Пользуясь своим служебным положением, воспользовался минутной слабостью и склонил к сожительству. Но она меня так и не полюбила. Даже возненавидела. Посмотрите на меня внимательно, может, это и справедливо.
Молодые люди закряхтели, кому приятно, когда человек очень уж откровенно себя ругает.
— Давайте выпьем! — искренне предложил Олег.
— А она почти сразу ушла в библиотеку. Чтобы меня не видеть. И тут появляется ваш отец.
— Да он ни при чем! — воскликнул Никита, — я вам сейчас объясню!
— А я знаю, что ни при чем, — с большим достоинством сказал Василий Андреевич. — Когда она встретилась с Савелием Никитичем, она уже была беременная. Пятая, шестая неделя. Я все высчитал и в райбольнице проверил у акушеров. Потом она и сама постепенно призналась. Когда годы прошли.
— Да чушь все это! — бодро настаивал автомеханик, — пять недель, шесть.
Василий Андреевич раздул чувствительные обезьяньи ноздри и отчеканил:
— Ваш отец не имеет никакого отношения к моему сыну!
— Да не в этом дело! — бил себя кулаком в грудь Никита.
— А в чем?
— Сейчас объясню.
Никита миновал какую-то общего вида веранду, тихо отворил дверь и бесшумно вошел в комнату. Комната была большая и неквадратная. Окна, на них шторы, много штор. Картинки в рамках на каждой стене. Ружье на гвозде. Мелькнула мысль о том, что оно должно выстрелить. Больше внимания обстановке он уделить не мог, ибо увидел диван. Такое впечатление, что вначале его не было. Его внесли, пока Никита любовался огнестрельным оружием. Внесли вместе с парочкой, на нем сидящей.
Очень, до сотрясения сердца удивил его состав этой парочки. И отношения внутри нее. Нечего больше тянуть — на диване сидел белобрысый любитель современной прозы и держал на коленях свою любимую учительницу. И она не выказывала по этому поводу никакого неудовольствия. Более того, она обнимала своего ученика за шею, причем не педагогическим, а совершенно женским способом. Она откровенно льнула к нему обильным и упругим телом. А губами прикасалась к мочке уха. И в ухо лилось бесконечное страстное слово «ми-илый». Выражение лица школьного гаденыша было до крайности самодовольным, ему нравилось, что его обожают.
Появление гостя не осталось незамеченным. Светлана Савельевна заметила его последней, а отреагировала первой. И спросила все в то же обожаемое ею ухо. Спросила шепотом, но Никита отчетливо услышал.
— Скажи, милый, это не тот ли идиот, что так больно бил тебя?
— Тот, — сказал Денис и подмигнул Никите.
Светлана Савельевна грациозно и вместе с тем развратно встала с колен ученика, распахнула свою сумочку и достала из нее маникюрные ножнички. Вооружив ими руку, она двинулась на гостя. Медленно, но довольно страшно. Вот она в трех шагах, в двух, вот она…
— Погоди! — громко сказал Никита, — погоди же!
— Здравствуйте, Марианна Всеволодовна, — сказал Руслан все еще дрожащим от пережитых волнений голосом, — Денис дома?
— Здравствуй, Руслан. Денис в кабинете.
Вбежав в комнату, гость застал хозяина беседующим по телефону. Причем было видно, что разговор или очень важный, или очень неприятный. Денис поднял руку, показывая, что ему нельзя мешать.
Руслану очень хотелось немедленно рассказать ему обо всем только что случившемся. Он положил футляр под ноги пингвину и нервно прошелся по комнате, повернулся к Денису и снова наткнулся на предупреждающий жест.
Дурацкий разговор. Денис за целую минуту не произнес ни звука, а только кивал в ответ на слова невидимого собеседника.
Руслан чуть-чуть обиделся, ему было непонятно, о чем можно говорить по телефону в такой момент. Он вышел на кухню, выпил стакан холодного чая и заявил Марианне Всеволодовне:
— Пойду приму душ.
— Перед ужином? — поразилась она.
— Вот именно, — мстительно хмыкнул Руслан.
Никита проснулся. Насколько мог. Какой-то парень быстро удалялся по вагону. Неужели он ему кричал «погоди!» Не может быть. Совершенно непонятно, для чего он бы мог понадобиться. Но какова Светлана! Омерзительное приключение закончилось большим чувством? Не может быть! Это просто приснилось.
Никита посмотрел в темное окно. Где Каратаево? спросило что-то внутри.
Имеет смысл объяснить, как он вообще оказался в этом поезде. В результате бешеной работы мысли, наступившей сразу после ранения, он понял, что только добравшись до отца Дениса он сможет избавиться от жуткой опасности. Только тот, кто сделал яд, знает к нему противоядие.
Трусливый, но хитрый Денис во время ночного разговора с братом Светланы Савельевны на всякий случай скрыл тот факт, что Зацепин-старший находится в Африке. Он рассчитывал, что словесное чучело отца отпугнет дебила, если тот начнет задумываться над возможностью повторного посещения. Опасно врываться в дом, в котором есть взрослый, да к тому же настоящий мужчина.
Вот к этому фактически несуществующему врачу и ринулся Никита после того, как на берегу вонючего ручья выковырнул куском ржавой проволоки свинцовую пулю из задницы.
Но стоило ему оказаться в поезде, как началось действие препарата. С приступов легкой сонливости.
Так где же Каратаево со спасительным отцом?!
За окном потянулись залитые огнями строения незнакомой станции.
Мелькнуло вертикальное тулово водокачки с ярко-белой надписью: «Козлы!» По первому своему приезду сюда Никита помнил, что от этого крика души до Каратаевской платформы метров триста. Можно еще поспать, решило сонное сознание. Никита снова доверил голову подрагивающей стенке вагона.
И привиделся ему сон номер два. И снова главной его участницей была любимая сестра Светлана. Никита нашел ее в интерьере какого-то суда. Интерьер был не внушительный, товарищеского уровня. За спиной у подсудимой стояли два милиционера, молодцевато поигрывающие наручниками. По комнате ходила женщина с неразличимым лицом и с подносом, на котором лежали маникюрные ножницы. Всем предлагалось их узнать. Никита узнал, но скрыл это, понимая свою скрытность как помощь сестре. Стал прислушиваться к тому, что говорилось вокруг. Многое узнал о ножницах. Оказывается, именно ими был совершен страшный преступный акт, наступивший вместо предполагавшегося полового. А молодой человек, предварительно заплативший за ласки, получил незаживающую рану в самое интимное место и скончался от потери большей части своей горячей крови.
В этом месте Никиту потянуло проснуться. И, как тут же выяснилось, не по своей воле. Молодой контролер теребил его за плечо.
— Вставай, дорогой, приехали.
— Погоди, погоди.
— Вставай, конечная.
— А Каратаево?
— На три станции проехал ты свое Каратаево.
— То, что вы там высчитывали, может быть, и правда, но главное не в этом.
— А в чем? — Василий Андреевич убрал руки со стола и сделался готовым к любому развитию событий.
— Савелий Никитич…
— Ваш отец?
— Да какой там отец!
— Не понимаю.
— Большой он был ходок по женской части в молодые годы. Понимаете, о чем я говорю? Путешествовал он много, работа такая. Ну вот как у Олежки сейчас. И все по небольшим населенным пунктам. И везде, как я понимаю, девок портил. Не раз его бивали. И однажды так отметелили, что отбили все самое главное. К тому же в детстве было у него осложнение после свинки. Не знаю, в чем первопричина, но сделался он недетоспособен. Понимаете, о чем я говорю?
Василий Андреевич потянулся к подбородку, но ввиду малой его величины не нащупал рассеянными пальцами.
— В ваш Калинов он приехал уже в этом скорбном качестве, ясно? У него не было детей, потому что быть не могло.
— А вы?
Никита с непонятным наслаждением тяпнул водки.
— И я, и сестра моя младшая происходим целиком и полностью от нашей мамани. Вы ее не видели, иначе бы поняли, что этого достаточно.
— Без отца?
Никита погримасничал, прожевывая помидорину.
— Ну, был, конечно, какой-то. Полярник, кажется. Погиб. А маманя вышла замуж уже с выводком.
— А как же вас тогда зовут Никитой? Не в честь деда?
— Да обыкновенная случайность. Совпадение.
— Послушай, — сказал Олег, щурясь на рюмку с водкой, — тогда становится понятной эта история в больнице.
— Объясни, Олежка, объясни.
— Просто все в предельной степени. Прожил Савелий Никитич всю жизнь бездетным, конечно, очень мечтал о собственном потомстве, и тут к нему является сын. Ваш, правда, сын (кивок в сторону Василия Андреевича). Старику приходит в голову, что один раз, двадцать пять лет назад, природа над ним смилостивилась. Один раз и незаряженное ружье стреляет. Один раз и бездетный рожает. Представляешь, что у него началось в душе, да еще сумасшедшей?
— Пожа-алуй.
Олег выпил. Закусил. Посмотрел на заторможенно сидящего гостя.
— Вот видите, все разъяснилось.
— С нами-то все, а вот с вами отнюдь, — сказал Никита.
— Что вы имеете в виду? — затравленно покосился на него Василий Андреевич.
— Зачем было городить такой сложный огород? Почему вы раньше не сказали вашему Никите, кто его отец? Настоящий.
Старик мучительно улыбнулся.
— Агаша не велела. Она хотела считать, что носила под сердцем не моего ребенка. Очень меня ненавидела. А потом уж, когда прошли годы, когда мы по-стариковски сошлись, это было совсем уж невозможно. Мы оба это понимали. Агаша знала, как он ей верил, и не могла ему признаться, что обманывала столько лет. Хотела, чтоб он все узнал после ее смерти. Он согласился — пусть так. Она написала имя человека, Савелия Никитича, и положила при нем в шкатулку, и взяла с Никиты слово, что откроет он ее, только когда она уж будет в земле.
— Рыцари Круглого стола, — усмехнулся Олег.
— Никита обещал. А в шкатулку Агаша положила длинное письмо — о двух конвертах, — где все ему объясняла подробно. Кто есть археолог из Москвы и кто есть отец настоящий. Никита открыл шкатулку, схватил имя, а письма читать и не подумал. Он очень не любил читать. И сразу уехал.
— Вы бы сами ему сказали.
Василий Андреевич разгладил короткопалыми руками слезные морщины, но они не разгладились.
— Я стал ему говорить, но тут приступ. Я упал. Он уехал.
Олег разлил остатки водки.
— Н-да.
За полчаса, проведенных в душе, настроение Руслана изменилось. Возбуждение было смыто как пот. И он подумал: зачем, собственно, ему откровенничать с Денисом? Кто они теперь друг другу!
Может быть, вообще не было смысла сюда ехать. Начнет сейчас приставать со своим таксопарком.
И Лариса… он не знал, как ему подступиться к размышлениям на эту тему. Если дебил взбесится, значит ли это, что она свободна? А когда он сам возьмет деньги у очкастого, будет ли он свободен от него? И почему очкастый предложил так много за один выстрел?
Руслан почувствовал, что ему снова становится жарко. От мысли, что может проделать в замкнутой квартире взбесившийся бультерьер.
Почему не подумал об этом в самом начале?!
Несколько минут он наблюдал свою физиономию в круглом зеркале. Зрелище было жуткое.
На кухне зазвонил специальный будильник: через пятнадцать минут ужин.
В ванной не отсидеться.
Войдя в кабинет, Руслан застал Дениса сидящим над открытым футляром. Денис уныло любовался винтовкою.
— Ты мне что-то хотел сказать?
Руслан сел на нелюбимое постоянно вертящееся кресло.
— Да ничего особенного.
— Ты прибежал какой-то возбужденный.
— Зато ты сидишь такой мрачный…
— Такое впечатление, что за тобой гнались.
Раздался тяжелый стук во входную дверь. Как будто обухом топора.
Руслан зажмурился.
— Кажется, догнали.
Удары продолжали сыпаться. К ним добавились крики. Малочленораздельные.
— Кто это? — спросил Денис.
— Ты его знаешь.
К шуму в районе входной двери примешался строгий голос Марианны Всеволодовны.
— Может, ты мне объяснишь, что случилось? — сказал Денис.
Руслан судорожно сглотнул слюну.
— Может, нам лучше уйти через окно? Пока тут все успокоится.
— Я его заколотил, Руслик, чтобы этот гад не влез как-нибудь ночью ко мне.
На пороге кабинета появилась Марианна Всеволодовна. Выражение лица у нее было спокойное.
— Там какой-то сумасшедший ломится в дверь и требует отца.
— Отца? — переспросил Денис.
— Ему нужен отец, и, как я понимаю, срочно.
— Он действительно сумасшедший, — сказал понуро Руслан.
Денис не торопясь закурил, и Марианна Всеволодовна не сделала ему замечания. Звуки, издаваемые сокрушаемой дверью, несколько видоизменились. Дверь начала уступать напору.
— Я, кажется, понимаю, в чем дело, — сказал Денис, — скажи, Руслик, он действительно… Он уже псих?
Руслан кивнул.
— Как тот пес в парке?
— Наверное.
— О чем вы, молодые люди? — подозрительно спросила Марианна Всеволодовна. — Кто этот сумасшедший и что ему нужно от вас?
— Вообще-то, бабуля, ему нужен отец. Как врач. Но что он будет делать, когда он его не найдет…
Дверь дребезжала и трещала.
Денис достал винтовку из футляра, разломил, долго нашаривал пулю в спичечной коробке, долго (сравнительно) заряжал. Зарядил. Только после всего этого Марианна Всеволодовна спросила:
— Ты сам будешь стрелять?
Денис глубоко затянулся.
— Вообще-то это не моя специальность…
Марианна Всеволодовна посмотрела на Руслана.
Тот медленно расцарапывал себе лоб, словно в поисках аргументов.
— Я в него один раз уже стрелял. Сегодня.
Бабушка подошла к внуку, взяла из его рук оружие.
— Нажимать сюда?
— Да, бабуль, сюда.
Марианна Всеволодовна вышла обычным своим твердым шагом, доставая из фартучного кармана очки.
Судя по звукам, доносившимся из района кухни, кулаки и вопли почти справились с дверной преградой. Требования о предоставлении отца гремели по всему дому.
И вдруг стихли.
Денис и Руслан переглянулись. Они не слышали хлопка. Звук выстрела, впрочем, мог раствориться в общем шуме.
Несколько секунд школьники смотрели друг на друга, одновременно прислушиваясь к наступившей тишине. Первым нарушил молчание Денис, он нервно захихикал.
— Бабуля.
Марианна Всеволодовна вернулась в кабинет без оружия.
В обращенных на нее мальчишеских взглядах читалось — «ну что?!»
Старушка сказала ровным голосом:
— Я попала ему в глаз. И уже вызвала милицию. У нас есть время, чтобы поужинать.

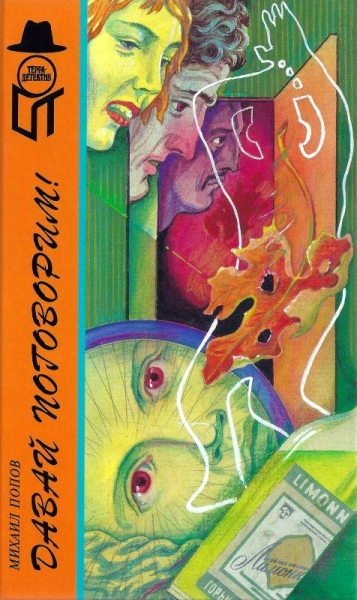





![Нобелевский лауреат по математике [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/503632/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Давай поговорим! Клетка. Собака — враг человека», Михаил Михайлович Попов
Всего 0 комментариев