Виктор Галданов Лахудра
1
В этот нормальный весенний вечер, сидя в дежурке горотдела милиции, дежурный капитан Мамалыга обозревал мир сквозь толстое стекло, отделявшее его, окруженного телефонами, селекторами и объёмистым пультом, его, облеченного властью, от той суетной и не всегда чистоплотной жизни, которая бурлила себе где-то снаружи. Там, за стеклом на лавочке сидела какая-то некрасивая зареванная женщина и с тревогой вскакивала всякий раз, когда вниз по лестнице спускалось какое-либо лицо в форме с погонами. Вскоре в дежурку втолкнули двух матерящихся юнцов в наручниках, с них еще не сошел угар недавней драки. Потом привели какого-то горбоносого мужчину с блестящими глазами навыкате, который, горячась, доказывал молодому сержанту:
– … а я говору: за-ачэм хватал? Я этих джинсов в глаза не видел. Я их только что сам купил, померил – не подходят…
– Ты что, пять пар не глядя купил?
– А твой не дело, сколько! – гневно воскликнул тот. Штраф кладешь – клади, только работать не мешай.
На все это Мамалыга глядел своими белесыми, выпуклыми глазами, машинально поднимая трубку то одного, то другого – телефона, выслушивая очередное сообщение, передавая его по селектору и аккуратно занося запись в журнал.
– Синие «жигули»… да, повторяю, синие… нет, цвет не уточняли, но точно, что не серые… Номер?.. Нет, не заметили. Да? У парка? Сейчас, восьмой, драка у парка со стороны главного входа. Алло, четвертый, наряд выслан, ты там поосторожнее… Да… Да успокойтесь вы! Кто в квартиру ломится? Сосед? Адрес? Да-да, сейчас высылаю. Алло? Да, соединяю со Звенигоровым…
Старший лейтенант Звенигоров выслушал краткое сообщение:
«Ваш объект находится в доме номер 25 по улице Фруктовой, второй подъезд, третий этаж, квартира 16», – и скомандовал:
– Ну всё, ребята, подъём, поехали брать.
И помчал по ночному городу проворный сине-желтый «жигуленок», надсадно порою завывала его сирена, и тревожными молниевыми сполохами сверкала мигалка, озаряя скамейки с прикорнувшими парочками, вмиг притихшую толпу у ресторана, минуя резко притормозившую стайку машин на перекрестке. Вскоре, свернув с центральной магистрали на тихие и темные пригородные улочки, поросшие ветвистыми каштанами, автомобиль остановился у разрытой мостовой.
– Всё, – мрачно констатировал водитель. – Дальше не проехать.
Подойдя к искомому дому, лейтенант столкнулся с тенью, вынырнувшей из подъезда.
– Здесь? – спросил Звенигоров.
– Так точно, – ответила тень, неловко козыряя. – Вон их окно.
– Ласточкин, караулишь за домом, – приказал Звенигоров подошедшему сержанту и снова обратился к тени:
– Дворник здесь?
– Здесь, здесь, где ж ему быть-то?
– Идем.
Взяв с собой дворника, лейтенант с оперативником двинулись к подъезду, из которого с истошным мявом вылетела кошка, осторожно поднялись на третий этаж и остановились у давно некрашенной двери со сбитым номером. Лейтенант крутнул ручку допотопного звонка, который разразился унылым дребезжанием. Некоторое время в квартире за дверью царило молчание. Потом послышались шаркающие старческие шаги и негромкий, глуховатый женский голос спросил:
– Кто там?
– Это я, Марья Фоминишна, – робко проблеял дворник, покосившись на Звенигорова. – Тут вам извещение из ЖЭКа.
Лейтенант смерил его уничтожающим взором. Дверь чуть приотворилась, но тут же настежь распахнулась, выбитая ударом плеча. Охнув, Марья Фоминишна повалилась на пол. В тот же миг квартира наполнилась людьми, которые вели себя, как бесцеремонные хозяева. Они заглядывали под столы, опрокидывали стулья, открыли диван – оттуда полетели запыленные свертки газет, – вышли на балкон, перекликнулись там с кем-то. И наконец…
– Вот она, товарищ старший лейтенант! – торжествующе сказал оперативник Лапченко.
В платяном шкафу, за грудами тряпья, между закутанными в марлю пронафталиненными пальто и плотно скатанными коврами сжалась в комок тощая миниатюрная фигурка.
– Выходи, Брусникина, – сказал Звенигоров, со вздохом опускаясь на диван. – Кончились твои гастроли.
Ему не ответили. Тогда Лапченко вдвоем с дворником подошли к шкафу с двух сторон, резко качнули его вперед, и к ногам старшего группы кубарем выкатилась черненькая стриженая девчонка лет тринадцати.
Ей потребовалась секунда на то, чтобы оглядеться. В следующее мгновение она беззвучно метнулась в сторону. Рослый усатый Лапченко перехватил ее талию, и она, все так же молча забилась, как рыба, выброшенная на берег, пиная мужчин ногами, кусаясь и царапаясь. Так ее и несли по лестницам, цепляющуюся за прутья и перила, на глазах у высыпавших на площадки соседей, детей и женщин. Так ее, в чем была, в изодранной ночнушке, и затолкали на заднее сиденье машины. Тогда лишь, сжатая с двух сторон телами оперативников, она обмякла и больше не шевелилась, лишь с пронзительной тоской в глазах смотрела на город, расцвечиваемый в призрачные кружева мертвенно-бледными вспышками мигалки, и взгляд ее был сух и тревожен, как у затравленной мыши.
2
Всё мутно, мутно, сумрачно и призрачно расплывается в загадочной полупрозрачной дымке. Неземными, нереальными кажутся все предметы интерьера: комната с разводьями сырости на потолке, убогая метель и древний комод, стол с остатками скудной трапезы, опрокинутые бутылки из-под портвейна. Одежда в беспорядке разбросана по полу, но и она так же призрачна в этом доме, как и все остальное. На невесомом колышущемся диване лежит толстый, грузный и голый мужчина. Он единственное реальное существо в этом мире и сильно храпит, но кажется, что этот храп издает не столько он сам, сколько его могучая лысина с редкой порослью седоватой щетины. Эта лысина приковывает к себе взор маленького человечка, она манит, чуть ли не физически притягивает к себе. Взгляд девочки сух, глаза горят каким-то неестественным огнем, на губах играет странная улыбка. Она тужится приподнять над головой тяжеленный топор-секач. Неожиданно он подскакивает кверху и, как на пружине, прыгает вниз, в центр яйцеподобной лысины. И брызгает кровь…
Резко и громко вскрикнув, Мышка закрыла глаза от брызг внезапного солнца в небольшое зарешеченное окошко. Наваждение схлынуло. Но сон еще остался в памяти. Извечно преследующий ее с десятилетнего возраста, пугающе реалистичный и отчетливый до мельчайших подробностей, до липкой теплоты крови, до запаха пота и плоти, до волоска, до каждой поры в угреватой коже носа ее жертвы, этот сон присутствовал повсеместно в ее подсознании, являлся в самые неожиданные горестные или приятные минуты. Этот и ему подобные сны настолько давно и плотно укоренились в ее подсознании, что порой она уже и не могла отделить их от реальности. С некоторых пор галлюцинации стали навешать ее столь часто, что она попросту перестала обращать на них внимание. Порою Мышке чудилось, что она способна видеть людей насквозь, и тогда она забавлялась, созерцая фосфорической зеленью проступающие сквозь плоть и одежду кости, ребра и другие части скелетов однокашников. В другое время она казалась себе пушинкой, занесённой высоко в небо крепким и могучим порывом ветра. В этом огромном, безбрежном небе долго парила она, с ленивой брезгливостью созерцая громадный человечий муравейник и копошащихся в нем мелочных и злобных людишек с их мерзкими страстишками, нуждой, тяготами и желаниями.
Из них Мышка никого не ненавидела кроме предмета ее пугающе реальных грез, к остальным же относилась со смешанными чувствами безразличия и брезгливости. И не потому, что была прирожденной человеконенавистницей, нет, она и слова-то такого не знала, просто в ее сознании с обликом большинства людей были связаны болезненные, гадостно-постыдные или неприятные ощущения. Так что рефлекторно эти чувства в душе ее распространились и на всех остальных представителей человечества. К ней были безжалостны, и она не знала жалости и не умела прощать, она не верила доброте, ласке и теплому взгляду – слишком уж часто они обращались против нее.
В углу камеры послышался шорох. Девочка подошла и пригляделась. Неподалеку от параши, у широкой щели между стеной и потолком сидела крупная серая крыса. Подняв острую умную мордочку, она внимательно поглядела на сокамерницу черными бисеринами глаз. Улыбнувшись при виде нее, девочка полезла было в карманы своей одежды, но вспомнила, что ночная рубашка надета на голое тело. В арестантском халате также не было карманов. Стрельнув в ее сторону глазками, крыса неторопливо повернулась и вперевалку направилась к щели. Очевидно, эта сытая уверенность в ее поведении и покоробила девочку. Она сорвала с ноги туфлю, единственную уцелевшую от потасовки во время ареста, прицелилась и точно, по-мужски, запустила ее в крысу.
Шестое чувство увело мохнатую от верной гибели. Она юркнула в сторону и опрометью нырнула в щель. В эту минуту в двери лязгнул замок.
3
Высокий, упитанный старший лейтенант Борис Звенигоров беседовал с молодым человеком лет двадцати семи, которого звали Владиславом Евгеньевичем, друзья – Владиком, а обитательницы кожвендиспансера со свойственной этой породе людей фамильярностью прозвали его «дядей Владей». Быстро глянув на вошедшую девочку своим колючим взором, лейтенант поманил ее к себе.
Невероятно тяжело дались Мышке эти семь шагов через комнату. Она замерла у стула и села лишь после того, как лейтенант повторил приглашение.
– Вот вам еще один примечательный экземпляр, – сказал Звенигоров. – Кличка – Мышка, тринадцать лет, половую жизнь ведет с десяти, плюс ко всему – воровство, спецшкола, побег, бродяжничество. Ну, а бродяжничества без сифилиса, как вы прекрасно знаете, не бывает, – он философски развел руками. – Так что отправим ее к вам, на «дачу». Забор у вас повыше, чем в спецшколе, да еще и три ряда колючей проволоки. Больше не будешь бегать, а, Мышка?
Она не ответила, сосредоточенно глядя куда-то в угол.
Владик отметил, что она и в самом деле удивительно походила на маленького затравленного мышонка своей стриженой головой, коротким носиком и впалым подбородком. Когда она хотела что-то сказать, верхняя ее губа вздергивалась, обнажая острые зубки, что еще больше увеличивало ее сходство с полевкой. Была сна невероятно худа, ключицы выпирали из-под кожи.
– Я, кажется, задал вопрос, – жестко констатировал лейтенант и, девочка, вздрогнув, подняла на него взгляд.
– Можно, я ее о кое о чем спрошу? – попросил Владик. Он неожиданно взволновался, как волновался всегда перед незапланированным интервью, которое обещало вырасти в большой и серьезный очерк.
– Пожалуйста, – согласился лейтенант.
– Ты живешь с папой и мамой?
Мышка не ответила.
– Ну. – сказал лейтенант.
– Нет, – еле слышно ответила та.
– Сейчас она пряталась у бабушки, – пояснил лейтенант. – Там мы ее и задержали. Мать – продавщица гастронома – осуждена за хищение на пять лет. Тетки от нее отказались. Остался один отчим, Георгий Петрович. Соседи говорят, что пьяница, но на работе характеризуется положительно. Автослесарь, так что средства, вроде есть. Бабушка решила было ее удочерить, но суд посчитал целесообразным оставить девочку отчиму. Так-то вот. Я ее биографию могу всю, по пунктам расписать.
– А где твой родной отец? – спросил Владик.
– Шофер, погиб в катастрофе, – зевнув, ответил Звенигоров.
– Простите, можно ей самой ответить? – несколько нервничая, спросил Владик и снова повернулся к девочке:
– Ты любишь Георгия Петровича?
И вновь Мышка не ответила, но взгляд ее загорелся столь лютой злобой, что мужчины переглянулись.
4
Отчего-то все, приключившееся с ней тогда, давным-давно, вскоре после десятого дня ее рождения, в какой-то ее другой, давно миновавшей жизни, осталось в памяти иллюзорным, похожим на кошмарный сон, который каким-то невероятным образом задержался в утомительной реальности будней и переломил нормальное течение ее жизни. Так сваленное грозой трухлявое дерево преграждает путь кристальному лесному родничку, и он меняет свое русло, растекается, запруженный, превращается в обширную лужу, приют мошкары и головастиков. Таким же сокрушительным ударом молнии дли Мышки явился арест матери.
Все, что было в ее жизни до этого, навеки осталось в памяти сказочным сном, а сама она была принцессой этой прекрасной сказки. Отца своего она почти не помнила: с ним в ее памяти ассоциировались пьяная ругань, крики перепуганной матери и побои, по пьянке-то он и влупился в дерево на своем «газоне», да не один, а с подружкой. С одной стороны, это происшествие сразу же возвысило Валентину Брусникину в глазах окружающих, ибо она в какой-то степени оказалась отомщенной. Но с другой стороны подобные обстоятельства не могли ее не унизить. Так что лет пять или около того она провела во вдовстве, пока не встретила тихонького. чистенького и опрятного Георгия Петровича. Во всяком случае, таковым он показался Валентине вначале, пока она не повяла, что второй ее избранник оказался гораздо хуже первого. Если первый пил «на всю ивановскую», гусаря и бузя, то второй – глушил спирт в одиночку, тщательно закрыв дверь на засов в опустив шторы; если первый бил свою жену кулаком в лицо, то второй – норовил ногой в живот; если первый проматывал свою получку до гроша, но не вспоминал про деньги, которыми жене удалось завладеть, обшарив его карманы: то второй, напротив, память имел отменную, вытягивал из супруги всё до копейки, да еще и попрекал ее. Однако и такой спутник жизни казался Валентине лучше чем вообще никакого, благо Георгий Петрович любовником оказался отменным, так что Валентина в свои сорок лет даже немного побаивалась его неуёмной энергии, но в то же время боялась, откровенно боялась его потерять. Тогда-то, понимая, что кроме изобильной жратвы и выпивки нового супруга ничем не удержишь, Валентина Брусникина и запустила впервые руки в магазинную кассу, затем еще раз и еще, втихую убеждая себя, что вскорости все вернет с «лотереи», которая регулярно разыгрывалась среди сотрудников универсама. Но деньги утекали стремительно и бесповоротно, вот и «лотерейных» уже не хватало, чтобы покрыть недостачу. Валентина уже со страхом душевным подумывала о поджоге родного магазина, но первая же ревизия ее с легкостью разоблачила и тем самым разрешила все ее искания и сомнения.
Сцена суда запомнилась Мышке смутно. Она тогда находилась в каком-то странном, оцепенелом состоянии. В школе отчего-то все всё узнали, сверстницы дразнили ее «Сорокой-воровкой». Дядя Жора круто запил, особенно после описи имущества. Тщетно доказывал он, что всё в доме нажито его трудами задолго до факта воровства, исполнители унесли всё, вплоть до кушетки.
Соседи посматривали на девочку со смешанными чувствами жалости и мстительного ликования: Валентину не любили за склочный характер и привычку недодавать сдачу. С той поры Мышке часто снился сон, в котором она вновь и вновь оказывалась в удивительном хрустально-призрачном зале, заполненном полупрозрачными людьми, поочередно вставали: то какой-то коротышка и что-то читал по бумаге, то другой – в темном сюртуке с ромбами прокурора и вновь что-то читал. А девочка переводила пытливый взгляд с одного на другого. Совсем еще маленькая тогда, лет десяти, с большими белыми бантами в волосах, похожими на оттопыренные мышиные уши, в коричневом школьном платье с черным фартуком, она казалась случайным посетителем этого мрачного здания. Поодаль ото всех сидела единственно реальное существо в толпе призраков – женщина с увлажненным взором, бесконечно близкая и родная, ужасающе недоступная. Она сидела, понурив голову, потом глаза ее принимались разыскивать дочь и, когда это удавалось, она пыталась улыбнуться, но вымученная гримаса улыбки вскоре сбегала с ее лица, и она с трудом удерживала рыдания. И эта игра со слезами и улыбками продолжалась довольно долго, пока вдруг в реальность не ворвался сутулый мужчина с оттопыренными ушами, и его сухой голос не возвестил: «… к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и содержанием в колонии общего режима». И по тому, как побледнела и обмякла женщина, услышав эти слова, Мышка подсознательно поняла, что слова эти как-то касаются и ее и, встретив ее отчаянный взгляд, закричала:
– Мама!.. Мама!..
– Мышоночек, доченька моя!.. – застонала женщина и рванулась было к ней, но конвоиры оттеснили ее в сторону, только та всё выглядывала и выглядывала из-за их широких спин. Мышка попыталась протиснуться к ней, но тяжелая, волосатая рука отчима легла ей на плечо, прижала к себе и… бережно приласкала…
…Так же эта тяжелая и властная рука лежала на ее плече и позже, гораздо позже, когда они с дядей Жорой вернулись в квартиру без малейших признаков мебели. Они вдвоем сидели на старом продавленном диванчике в углу и отчим, обнимая ее плечи, скрипучим голосом бормотал:
– Ты, Маш, главное, не бойсь… Вернется мамка-то… Что ей там сдеется. Посидит – выйдет. Раньше сядет – раньше выйдет… Люстру, конечно, жалко…диван, стулья и коврики… Да шут с ними, наживем. Мамку жалко.
На газете, разостланной перед ними на полу, стояла печатая бутылка «мягкого», как отчим именовал портвейн, открытая банка консервов, хлеб. Жора, выпив стакан, смачно хрустел огурцом, а Мышка, визгливо поскуливая, плакала у него на плече. До этой поры она не любила и побаивалась его, поскольку видела, какой болью порой искажалось материнское лицо после его коротких и точных ударов. На Мышку он до той поры руки не поднимал, разве что мог порой неожиданно и больно ущипнуть, однако обо всём этом она не вспоминала, в эти минуты она была бы благодарна всякому, кто позволил бы ей плакать на своем плече.
– Ну, будет тебе, будет, – шептал дядя Жора, – всех слез-то не выплачешь. На, вот, выпей.
И она покорно пила, ее мутило от приторной липкости вина, взгляд туманился, и потому она не соображая, что с нею делает отчим, покорно позволила ему снять с себя платье, полусонно внимая его ласкам и убаюкиваясь его сдавленным шепотом… А потом он сыто отвалился и захрапел, а Мышка стояла и с ненавистью смотрела на его жирную, щетинистую лысину, и ее пробирала крупная дрожь, ее трясло от звуков его раскатистого храпа, от страха, боли и омерзения, и кровь стекала, подсыхая по ее судорожно сведенным ногам. Она побрела на кухню, но и там негде было сесть. Тогда она вошла в туалет, села на унитаз и заснула в изнеможении.
5
– Почему ты всё время молчишь? – спросил Владик.
Она не ответила, бесконечной усталостью, бессонной ночью, допросом и долгой поездкой доведенная уже до такого состояния, когда все нервы, все органы чувств кажутся полностью атрофированными и не реагируют на самые элементарные раздражители. Они уже второй час ехали в милицейском «газике» с зарешеченными окнами, и внутри машины стоял душный сумрак, а снаружи, на безбрежное море колосящейся золотом пшеницы щедро изливало свой жар полуденное июньское солнце.
– Не верю я, ну вот хоть режь меня, не верю, что ты плохая, – горячился Владик. – Ведь не всегда же ты была такой! И вообще, человек от рождения не бывает плохим. Таким его делают внешние условия жизни и неумение сопротивляться им. Ты согласна со мной?
Ему казалось, что с ним нельзя не согласиться, поскольку все, что он говорит – это настолько логичные и очевидные истины, что только крайней слепотой человечества и всеобщей суетой можно объяснить нежелание отдельных особей подчиняться естественным нормам межчеловеческого общежития. Если бы кто-нибудь назвал его идеалистом, Владик бы непременно обиделся, ибо считал себя крайне рационалистичным и наверное даже чуть суховатым ученым мужем. С юных лет он готовил себя к писательской деятельности, и его стремления всячески поощрялись в школе, с легкой руки учительницы литературы он поступил на филологический факультет университета, отслужил армию, вновь вернулся на курс… И вдруг обнаружил, что в нем давно и прочно отсутствует всякое желание о чем-либо писать, чему-либо учиться, как-либо выделиться из среды сверстников. Он женился, потом, закусив удила, всё-таки окончил институт, отчасти сжалившись над мольбами матери, которая не мыслила себе иметь необразованного сына, отчасти же назло общепризнанному мнению, что после армии из человека путного специалиста не получится. Окончив институт, он остался без работы, поскольку жена с ребенком категорически отказалась ехать по распределению в деревню, журналистика давала жалкий приработок, у родителей ему просить денег на пропитание было совестное и тогда товарищ предложил ему попробовать себя как педагога в одном из исправительных учреждений. Лишь пожив, поработав в «зонах», изведав на себе вей глубину «беспредела» людского скотства и подлости, он понял, что не ошибся в своем призвании, что сможет о многом рассказать людям, если, конечно, они позволят ему себе об этом рассказывать. В первое время в газетах от его репортажей шарахались, но вскоре тема «беспредела» оказалась модной, весьма популярной и престижной. На Владикины статьи ссылались ученые, ему предложили написать книгу, его готовились взять в штат не особенно популярной, в прошлом реакционной, но ныне стремительно меняющей свое лицо газетки, однако в дни, когда его жена Вика решила заказать себе новое платье и стала подумывать о капитальном ремонте их квартирки, Владик неожиданно задавил в зародыше свою журналистскую карьеру и ушел работать…»Куда бы вы думали?.. Ни за что не поверите!.. Тьфу, противно сказать…«но в конце концов Вика все же говорила, и ее подруги дружно вздыхали.
Эти вздохи вкупе с многозначительными взглядами привели к тому, что Владик стал стараться как можно реже бывать дома, а это в конечном итоге могло быть понято двусмысленно. Однако он не думал об этом, поскольку новая работа всецело захватила его, не столько своей новизной и необычностью, сколько абсолютно отупевающим, монотонно-заведенным своим ритмом и абсолютной невозможностью хоть как-то применить свои традиционные педагогические навыки и приемы.
– Ну что ты опять замолчала? – Владик положил руку на ее локоть, и только тогда Мышка очнулась от оцепенения. Возможно, ее разбудило прикосновение широкой и крепкой, остро пахнущей потом мужской руки. Она скосила глаза на эту руку. Потом подняла взгляд и посмотрела на Владика так, как смотрит женщина, прекрасно знающая себе цену. Захоти он сейчас, (даже не захоти, а сделай только знак глазами), и она тотчас бы предоставила свое тело в его распоряжение, как уже предоставляла десяткам и сотням мужчин, парней, мальчишек. В этом плане нынешний ее спутник не являлся исключением из общего ряда. Владик понял это, покачал головой и сказал:
– Не надо. Маша. Ты же не такая… как все.
Эти слова больно и вместе с тем остро отозвались в ее сердце, и девочка опустила глаза, потом повернула голову и принялась рассматривать в окно окружавшую местность.
Машина подъезжала к «даче», специализированной венерологической клинике закрытого типа. С высоты птичьего полета это учреждение смахивало на пионерский лагерь или дом отдыха: несколько заурядных домиков, длинное одноэтажное здание общежитейского вида, и – парник, грядки, ряды заботливо ухоженных деревьев, саженцы, пустившие первую зелень. И лишь спустившись гораздо ниже, птица смогла бы рассмотреть нити колючей проволоки, натянутые поверх высоченного каменного забора, металлическую сетку внутреннего ограждения и гладкошерстных овчарок, лениво прогуливающихся между стеной и сеткой.
Они вошли, миновав трое лязгающих железных решетчатых дверей, потом долго оформляли бумаги в кабинете полного, степенного капитана Кузьменко. Читая сопроводительные документы и занося в журнал данные на вновь поступившую, Кузьменко важно шевелил густыми, пшеничными усами и хмурил соболиные брови.
Капитан был красив южно-славянской красотой и считал, что судьба несправедливо обошлась с ним, заставив сменить должность следователя на место охранника этих… этих… и слова-то путного не подберешь, в общем, предел всему… И за что все эти качения? За две-три зуботычины, которых плюгавому гаврику хватило на сотрясение мозга, а потом и на инсульт?
И, с неодобрением глянув на Мышку, капитан со вздохом сказал Владику:
– Грю, что ж она с человеком-то делает, судьба индейская? Другая на ее месте еще в куклы играет, а эта вон, уже четыре креста подхватила – это что? Это порядок, а? Или вот, скажем, он вдруг безо всякого перехода стукнул кулаком по столу: – Вот, скажем, заслуженный человек, награды имеет, двадцать шесть лет, можно сказать, кровь проливал за общее дело, а его судьба так вот берет и… – он горестно махнул рукой.
Владик, в свое время читавший гранки сильно смягченной статьи, из-за которой оборвалась карьера капитана, был весьма удивлен, встретив его на «даче», он по молодости лет считал, что после разоблачения таких фактов человек обязан либо застрелиться, либо отправиться в тюрьму. Но прошло время, и он свыкся с существованием Кузьменко, даже научился поддерживать с ним разговор, правда, не столько словами, сколько мимикой и односложными междометиями типа: «да уж» и «хм-м-м», и потому был немало удивлен, услышав слабый, но донельзя ироничный голосок, сочувственно произнесший:
– Не-е-поря-а-а-док…
Оба взглянули на Мышку. Но та, понурившись, сидела на стуле и задумчиво качала ногой…
6
Они проходили через КП, когда им встретилась молоденькая и прехорошенькая девушка, почти девочка лет пятнадцати в неряшливом старом платье, явно с чужого плеча. Следом за ней шла смуглая и черноволосая женщина лет пятидесяти, похожая на цыганку, увешанная изобилием бус, щеголявшая золотом на зубах, в ушах и на пальцах. Их сопровождала дежурная медсестра Анна Петровна.
– Ой, Владислав Евгеньевич, скоро сюда грудных младенцев возить будете, – хихикнула девушка.
– На волю, Савельева? – спросил Владик, он был непривычен и оттого слегка смущался и краснел, когда его называли по имени-отчеству, особенно в присутствии лиц старших по возрасту.
– А как же? – весело сказала Таська. – Вот, мама за меня поручилась.
Женщина с цепочками сердечно улыбнулась Владику. Когда они вышли, молодой человек спросил:
– Анна Петровна, это и в самом деле ее мать?
– Понятия не имею, – ответила медсестра, молодящаяся крашеная блондинка, давно разменявшая четвертый десяток лет, но старающаяся решительно и навеки забыть об этом. – Паспорта у нее не было, она заведующей какую-то справку показала… В конце концов, ведь не обязаны же мы эту Таську кормить до бесконечности. Все они рады за государственный счет кормиться.
– Уж лучше бы за государственный… – буркнул Владик, неприязненно глянув вслед женщинам. Он увидел, как Таська вдруг вырвала руку из цепких материнских пальцев и побежала, но высокие каблуки ее подвели на песчаном грунте. Женщина с цепочками схватила ее за запястье, крепко сжала, притянула к себе и, обернувшись, еще раз льстиво улыбнулась Владику.
– Ну шо ты усё нервонничаешь? – убеждала ее Рина, когда они уже сидели в автобусе. – Я т-тебе ховору, ниччево ттибе не будэ. Ну, подумаешь, нахрадила пару-тройку козлов пригучих, с кем не бывает? От любви не страхують. Сами виноваты, чай не розочки нюхать шли…
Таська молчала, глядя в окно автобуса, за которым расстилался бесконечно умиротворяющий, буколический пейзаж, щедро снабженный полями, речками и перелесками будто специально для того, чтобы радовать взгляд проезжающих.
– Я, кстати, Горелому так и сказала: ты, грю, не прав. Нельзя же, грю, так, чтобы и рыбку съесть и ни на что не сесть, везде существуют свои пронблемы, тасязять, профэссионалный рыськ. – Таська прыснула. Ее всегда забавляла Ринина манера выражаться. Она умудрялась коверкать самые элементарные слова и делала это с подчеркнуто-серьезным видом, так будто ей одной известен секрет их произнесения. – А так он на тибе зло не держить, он – жинтальмен шо надоть, девки за ём як за бетонной стеной.
Когда автобус доехал до пригорода, они вышли и пересели в такси.
… А «Задонщина» уже ждала и звала их, светилась огнями своих многочисленных залов и дискотек, воскуряла к небесам столбы жертвенного шашлычного дыма, гремела разнобоем музыкальных ритмов. Гостиница, мотель, кемпинг с кегельбаном, бассейном и кинотеатром – все это объединял туристский комплекс «Задонщина», однако львиную долю доходов приносили ему не туристы, даже иностранные, а разношерстный и обеспеченный народ, слетавшийся летом на южные курорты и считавший своим долгом хорошенько гульнуть перед интенсивным отдыхом в Симеизе или Евпатории. Рина провела девушку через монументально отделанный холл, где перед ними услужливо склонились густобородые швейцары, а слоняющиеся без дела молодцеватые подтянутые парни в штатском, хоть и с воинской выправкой, пронзили их суровыми взглядами. Эффектные девицы, курящие в компании с солидными немолодыми дяденьками, стрельнули взглядами в Таську и сделали вид, что ее не узнали, но между собой всепонимающе переглянулись, увидев, куда повела девушку Рина.
Они спустились в подвал и прошли в другое помещение ресторана, где царил полумрак, звучала мягкая, мурлыкающая музыка, а двери в кабинеты были плотно прикрыты. На их пути отворилась одна из дверей и девушка чуть постарше Таськи дышла из кабинета в сопровождении апоплексического вида низенького толстячка, который с деловитым видом застегивал пиджак. Едва заметно девушка подмигнула Таське, давая понять, что узнала ее, но Таська слишком волновалась, чтобы обратить на это внимание.
На стук Рины выглянул долговязый прыщавый парень, пропустил их в помещение и захлопнул дверь. Увидев Горелого, Таська оторопела, хоть и внутренне готовилась к этой встрече и приводила массу доводов в свое оправдание. Он сидел с угрюмым видом глядя на нее. и багровое пятно, обезображивающее половину его лица, темнело в сумраке комнаты, как полумаска. Несколько секунд длилось молчание. Кроме Горелого в комнате присутствовало еще четверо мужчин, сверливших Таську взглядами. Выдержав паузу. Горелый сказал:
– Ну, как? Подлечилась?.. Подправила здоровьице?
– Угу, – не поднимая головы, сказала Таська.
Прыщавый резко толкнул ее вперед, так что она едва не упала, но рука Горелого перехватила ее за горло у самого пола, прижала к колену. Злобно брызгая слюной, он переспросил:
– Угу, да? Угу? У, сука! – и изо всех сил хлестнул ее ладонью по лицу.
Таська не издала ни звука, даже не поморщилась, только закрыла глаза и стиснула зубы, терпя пощечины, которые безостановочно отвешивал ей Горелый.
Наконец Прыщавый сказал:
– Замордуешь ее, работать не сможет.
Тогда только Горелый остановился, поглядел на него исподлобья и буркнул:
– А она больше и не будет с чистой публикой дела иметь. Пусть пашет на выезде.
7
Сон это или явь? Неужели так отчетливо может быть сновидение, так скрупулезно детально, до мельчайшей черточки воссоздавая человеческий… нет, нечеловеческий облик. В этом облике есть нечто исполинское, непостижимое, бесконечное, как сама Низость. О, эта лысина, могучая, необъятная, с голубыми венозными прожилками, с жирным валиком у привольно откинутого затылка, с далеко отстоящим ото лба широким носом, из которого разносится раскатистый, хрюкающий храп… На эту необъятную плешь Мышка глядит с несвойственным ребенку вожделением. Ее худенькая ручка бережно, будто отстраненно от нее самоё накидывает на тело отчима одеяло… и бережно разглаживает складки.
Затем та же рука обильно полила тело спящего из бутылки с бензином. Тонкая, бесцветная струйка быстро пропитывает кушетку и одеяло, на подушке, примятой лысиной, образуется небольшая лужица, которая быстро испаряется. Дядя Жора фыркает и крутит носом, его ресницы вздрагивают, еще секунда и он откроет глаза, и тогда невозможно, невыносимо будет решиться на это…
Стремительно чиркают одна за другой спички, ломаются в пальцах, летят под ноги, но вот одна все же зажглась – и над кроватью с ревом взмывает столб пламени…
… по то же пламя охватывает и саму девочку, она истошно, отчаянно, кричит, катается по полу, пытаясь сбить, огонь… и просыпается…
Ее соседки по палате с истинным восторгом наблюдали, как она вытряхивает из пальцев ног горящие бумажки. В их звонком смехе звучала неподдельная радость. Под вечер, когда Мышка зашла в палату после всех необходимых медицинских и канцелярских процедур, сопутствующих первому дню пребывания в отделении, она не успела хорошенько разглядеть тех, с кем ей отныне предстояло несколько месяцев делить стол и кров. Теперь ей представилась возможность наверстать упущенное. Всего в палате было семь человек.
– Ну и здорова же ты дряхнуть, мать! – смеется худенькая, бойкая, хорошо сложенная Щипеня. Рядом с ней таращит глаза из-под больших модных дымчатых очков изящная, модно стриженая Бпгса. В самом углу, подальше от прочих индифферентно наблюдает блондинка с капризно надутыми губками и бледным кукольным лицом. Все зовут ее Куклой. Напротив, по правую руку от Мышки похоже что спит, но с открытыми глазами широкоплечая и рослая девочка по кличке Шиза. По левую – стриженая под мальчика плоскогрудая Ванюша. Возле двери – толстуха с добрыми коровьими глазами, которую прозвали Мамой, а некоторые звали еще и Буренкой. Она попала на «дачу» вскоре после родов, и у нее из грудей еще долго сочилось молоко.
В коридоре послышались шаги. Все девочки моментально попадали на кровати и накрылись одеялами. Войдя, Анна Петровна включила свет и пристально оглядела усердно посапывающую палату.
Лишь Мышка продолжала вычищать из пальцев обгорелые бумажки.
– Ты почему не спишь? – строго спросила медсестра. Но, подойдя, все поняла. – Как же это… – сказала она, оглядев съежившихся под одеялами девочек, и, не найдя слов, покачала головой. – Как вы можете? Ведь она младше всех вас!..
Уложив Мышку, Анна Петровна накрыла ее одеялом, потом подошла к Шизе, которая лежала с открытыми глазами, и принудила ее вытянуть руки поверх одеяла, придирчиво поглядела на притворившуюся спящей Ванюшу, погасила свет и поспешно вышла, заслышав шаги в коридоре: кто-то тихонько перебегал из палаты в палату. Когда медсестра выглянула, коридор уже был пуст. Она внимательно осмотрела остальные палаты. Все делали вид, что спят сном праведниц. Беспроволочная «сигнализация» о ее приближении сработала безошибочно, атмосферу помещений наполняет лишь глубокое, ровное дыхание. Но как только медсестра отошла, в палатах зажглись огоньки сигарет, шепотом возобновился прерванный разговор, а в одной из кроватей две, слившиеся воедино девочки принялись исступленно покрывать друг друга ласками и поцелуями. На них обращали мало внимания – подобные развлечения в этом заведении были не в новинку.
8
Наверное, Владику все же очень повезло, что первым человеком, с которым он встретился на «даче» оказался врач-психиатр Владимир Семенович, лысоватый, живой, несмотря на объемистую фигуру низкорослы человечек лет пятидесяти, пользующийся очень большим авторитетом у персонала. Он встретился Владику случайно (впрочем, теперь, поразмыслив, он более склонялся к мысли, что встреча эта была не совсем случайной) и, заговорив о погоде, неожиданно легко подвел Владика к теме его будущей работы, и тот, смущаясь и сбиваясь поведал этому доброму и мягкому человеку с внимательным и проницательным взглядом из-под сильных очков и про свои желания в педагогике и про честолюбивые свои литературные помыслы, и о своих сомнениях касательно предпринятого им шага. Выслушал его Владимир Семенович весьма доброжелательно, а в ходе разговора они оказались в благоустроенном саду, где работали обитательницы «дачи».
– Так значит вы у нас ненадолго? – полувопросительно заметил врач.
– Не знаю, – честно признался Владик. – Вообще-то это ведь не мой профиль. Я же – филолог. Никогда и не мыслил себя в роли воспитателя, тем более такого вот контингента. А вам эта работа нравится?
– Такая работа не может нравиться, – с мягкой укоризной во взоре сказал Владимир Семенович. Взгляд его пробежал по девушкам с лопатами в руках. На каждой из них лежала печать одинаковости: все они были одеты в однообразные серые халаты и косынки, лишь туфли были разными. – Я просто чувствую ответственность за этих детей, – продолжал Владимир Семенович. – Они в беде. А когда человек в беде, он обязан получить помощь. Я до определенной степени могу оказать см эту помощь. И потому я здесь.
Они долго бродили по всему большому и разветвленному хозяйству «дачи», осмотрели и парники, медицинские кабинеты, и мастерские, и Владик не мог не отметить, что дело здесь поставлено образцово, территория вычищена до блеска, наглядная агитация в порядке. И лишь гораздо позже закралась ему в душу мысль что Владимир Семенович мог стараться провести его именно таким маршрутом, чтобы преподнести деятельность своего учреждения в наиболее выгодном свете? Но какой ему был смысл перед ним, молокососом, распинаться? Этого Владик недопонимал, а потому старался как можно внимательнее слушать и вникать во все, что ему говорил врач.
– Всем этим красавицам еще нет и семнадцати. Иначе они были бы в другом учреждении. Да и диагноз – у всех стандартный – сифилис. По латыни это означает «свинячья болезнь». Однако некоторые авторитеты уверяют, что в доколумбову эпоху мир не знал этой болезни, то есть перенесена она к нам из Америки вместе с табаком. Таким образом у нас есть все основания считать, что открытием Америки Европа здорово себе навредила. Однако, если бы больными были лишь тела этих девчонок, с этим модно было как-то примириться, в конце концов, мало ли болезней на свете? Однако вместе с телами болезнь эта тяжело и подчас необратимо поражает и души…
– Здравствуйте, Владимир Семенович, – сказала встретившаяся им по пути девушка, нагруженная садовым инвентарем.
– Здравствуй, Безбородова, – мягко ответил доктор. – Ну, как твои дела?
– Лучше всех, – засмеялась девушка, окинув глазами Владика, и пошла своей дорогой.
– Дозорная, – со смешком отметил Владимир Семенович. – Направлена коллективом специально в разведку, теперь во всех отделениях будут дня два или три обсуждать вашу личность. Не осуждайте их, появление каждого нового лица в наших местах большая редкость. Кстати, как она вам?
– Кто?
– Эта Безбородова. Кличка Чубчик.
– Никогда бы не сказал, что у такой пай-девочки может быть кличка.
– За неделю, – со странной улыбкой заметил Владимир Семенович, – с этой «пай-девочкой» переспали почти все жители мужского общежития. Человек пятьсот, по-моему. Одна комната передавала ее другой за бутылку водки…
– Скоты… – с гадливым чувством пробормотал Владик.
– Да нет, люди, – возразил Владимир Семенович. – В том-то всё и дело, что они все считают себя вполне нормальными людьми. В какой-то степени этих мужчин можно понять.
– Понять? – поразился Владик.
– Мы обязаны стараться понять всех, понять какое чувство двигало человеком при совершении того или иного поступка. И когда начинаешь размышлять об этих сотнях парней, вынужденных жить годами в антисанитарии, не имея возможности создать семью, лишенных элементарной духовной пищи, живущих в полной духовной изоляции от мира культуры, по сути дела в тюрьме, причем безо всякой вины с их стороны, то поневоле начинаешь понимать, что в таких условиях человек рад любому развлечению вроде этой случайно подвернувшейся шлюшки… да-да, я не стесняюсь называть вещи своими именами. Однако теперь они стали пострадавшей стороной и громогласно требуют расправы над виновницей, не желая понять, что помимо ее вины в их горестях есть и определенная доля их собственного безрассудства.
– Так значит теперь ее будут судишь? – спросил Владик.
– А как же? Закон строго карает за намеренное заражение сифилисом здоровых людей.
– «Дура лекс – сед лекс» процитировал Владик случайно вспомнившееся латинское изречение.
– Что вы, простите, сказали? – не понял Владимир Семенович.
– Это по-латыни, – пояснил Владик, – «закон суров, но это закон».
– То-то и оно, что «дура», – вздохнул Владимир Семенович. – Бог ты мой, какие же они здесь всё-таки дуры…
9
Утром взрывается: яростный звонок и зажигается слепяще яркий свет пятисотваттных ламп. Корпус оживляется хлопаньем дверей, слышатся визгливая перебранка, смех. Кто-то торопливо устремляется к умывальнику, другие, их большинство, движутся подчеркнуто медлительно, словно экономя каждое движение и всем своим видом демонстрируя полное пренебрежение ко всему окружающему.
Мышка проснулась почти сразу, огретая ударом свернутого жгутом полотенца, села на кровати и огляделась. На нее никто не обращал особого внимания, все занимались своими делами: причесывались, одевались. Кукла торопливыми движениями накладывала на лицо косметическую маску. Лишь Шиза продолжала, скорчившись, лежать под одеялом. Но и она не спала, хоть глаза ее и были плотно сомкнуты, а руки под одеялом беспрерывно двигались, доставляя ей непередаваемое животное наслаждение.
Вполголоса переговариваясь, девочки бросали на нее взгляды, в которых любопытство мешалось с брезгливостью.
В эту минуту в палату вошла Анна Петровна, невыспавшаяся после ночных бдении.
– Ну? – резко сказала она. – Долго вы еще будете потягиваться. – В ту же минуту взгляд ее упал на Шизу в она истерически крикнула: – Корнакова!
Подбежав к Шизе, медсестра принялась ее расталкивать, но та продолжала заниматься своим делом, лишь промычала что-то невнятное. Анна Петровна в сердцах сдернула с нее одеяло, и тогда Шиза в ярости поднялась. Увидев ее. Мышка пожалела, что не в силах сейчас спрятаться в маленькую норку, забиться в самый дальний ее утолок, до того страшно стало ей при виде этой огромной гориллообразной фигуры, которая, сверкнув глазами, жутко зарычала, обнажая мощные, желтоватые зубы. Побледнев, Анна Петровна выскочила за дверь. Девчонки зафыркали, но когда Шиза перевела взгляд на них – немедленно умолкли.
– Ништяк, Шизуля, – успокоила ее Щипеня. – Денек быстро проскочит, ночка темная придет, тогда вволю и развлечешься, а сейчас – кушать надо – ам! – она задвигала челюстями. – Ням-нам, не понимаешь?
10
– Владимир Семенович, с Корнаковой надо что-то делать! – воскликнула Анна Петровна, вбежав в кабинет врача. Увидев там Владика, она слегка смутилась, поскольку не рассчитывала в присутствии его говорить на столь щекотливую тему, однако, начав разговор на повышенной ноте, она уже не в силах была остановиться и только всплеснула руками. – Ее просто необходимо лечить. Лечить и лечить…
Владимир Семенович лишь пожал плечами:
– А что мы можем сделать, если шизофрения официально признана неизлечимой болезнью?
– Но ведь она отрицательно влияет на остальных девочек. – Не в силах успокоиться, Анна Петровна мерила небольшой кабинет быстрыми шагами. – Вот и сегодня утром она, никого не стесняясь…
– Вы полагаете, наши воспитанницы еще сохранили способность стесняться? – серьезно осведомился Владимир Семенович, весело подмигнув при этом Владику. – Я и сам прекрасно понимаю, что место этой милой девочки в психиатрической лечебнице, причем, закрытого типа. Однако туда ее не принимают, ссылаясь на специфику ее нынешнего заболевания.
– Но она уже три недели как полностью здорова. По закону мы давно должны были бы отправить ее к родителям.
– В Нижний Тагил? Одну? Без сопровождения?
– Ну так давайте через ваше руководство, полковника Зайцева повлияем на психиатричку – пусть принимают…
– Где сядем, там и слезем, – вздохнул доктор. – Они откажут, у них лечебница для взрослых пациентов, а Корнакова несовершеннолетняя.
– Да, – со слезами на глазах признала Анна Петровна, вспомнив шизин оскал и сверкнувший взгляд, – совершеннейший младенец. Знаете, если мы ничего не сделаем, она…
– Сделать мы можем лишь одно – потерпеть, – сочувственным тоном резюмировал Владимир Семенович. И осторожно похлопал ее по плечу. – Христос терпел и нам, как говорится…
– Я напишу рапорт на имя Марьи Михайловны, – перебила его медсестра. – В конце концов, Корнакову до ее совершеннолетия можно перевести в колонию, там будет кому за ней следить и…
– Я ваш рапорт не подпишу, – с неизменной улыбкой заметил Владимир Семенович и повернулся в Владику, давая понять медсестре, что разговор закончен.
– А разве мы имеем право сажать невиновного в колонию, без суда и следствия, а тем более больного? – с удивлением спросил Владик.
– «Меж небом и землей есть много, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецами», – процитировал Владимир Семенович. – Не забывайте, что наше учреждение тоже закрытое и в ведении того же ведомства, а своя рука, как говорится, владыка. Тем более, что из колонии больную проще отправить в лечебницу, чем от нас. Кстати, учтите, вам тоже придется подписывать рапорт. Если уж эта зануда взялась за дело, то не успокоится, пока не доведет его до логического конца. А конец в таком случае может быть только один: все педагоги подписываются, что не в силах справиться с Корнаковой и наша светлейшая Марья Михаиловна…
Уловив предупредительный взгляд Владика, он успел обернуться и встретился взглядом с толстенькой, низкорослой заведующей, вся фигура которой казалось предназначена была для единственной миссии – служить пьедесталом ее монументальному бюсту, не вмещавшемуся в зеленую форменную гимнастерку.
– Доброго вам утречка, светлейшая наша! – с лучезарной улыбкой объявил Владимир Семенович.
Марья Михайловна кивнула и произнесла:
– Зайдите ко мне, – и двинулась вперевалку дальше по коридору.
Владимир Семенович озадаченно посмотрел ей вслед и пробормотал:
– Неужели успела стукнуть? Ну, Анюта…
11
Этот завтрак ничем не отличался от того, который Мышка ела в спецшколе. Его подавали в таких же алюминиевых мятых тарелках, с теми же алюминиевыми ложками и продавленными кружками, в которых дымилась мутная жидкость, именовавшаяся в зависимости от дня недели то «чаем», то «кофе». На тарелках лежали горка рисовой каши и одно вареное яйцо. Столы были рассчитаны на шестерых, и Мышка оказалась в компании с Бигсой, Куклой, Щипеней и Мамой. Произошло это оттого, что Мышка инстинктивно почувствовала в лице Щипени сильную руку и благородное сердце, а ей в этот миг необходима была защита от дальнейших ночных издевок.
– Давай, давай, хавай, – покровительственно говорила Щипеня Мышке, забирая у безропотной Мамы яйцо и перекладывая его на Мышкину тарелку. – Здесь без хавки запросто коньки откинешь. Вон, видишь, Кукла хлеба не жрёть, какая тощая, что твоя выдра.
– Я, Щипка, не жру и не хаваю, а держу диэту, – невозмутимо заявила Кукла, очищая яичко.
– А на кой тебе эта диета долбаная?
– А мне при моей работе надо лицо и фигуру держать.
– Ой, девоньки, не могу… – с издевкой застонала Мама. Фу-гу-ру!.. Уж какая у нее работа деликатная!
– А вы как думали? – гордо повела очами Кукла. – Я же не чета вам, сиволапым со всякой привокзальной швалью якшаться. Мы обслуживаем исключительно спецконтингэнт: иностранных туристов, дипломатов, актеров…
– Тоже мне… нашла континент… – зло сощурилась Бигса.
– Вот именно – контингент! – повторила Кукла это красивое и не до конца понятное ей самой слово: – Да у меня если хотите знать, в жизни еще ни одного русского швайна не было и не будет! Меня, если хотите знать, голландский капитан ломал за восемь косых. Да я за одну ночь столько заколачиваю, сколько вам с вашими дружками из подворотен и в жизни не снилось.
После этих слов за столом ненадолго установилось напряженное молчание, которое вскоре нарушила Бигса. Она сняла очки, аккуратно протерла их платочком, вновь водрузила на свой курносый носик и, глядя Кукле в глаза, серьезно сказала:
– Насчет того, что мы – проститутки, ты, может, и права, но ты, Кукла, самая настоящая сука и больше никто! – и подняв обеими руками тарелку с недоеденной кашей, залепила ей в лицо Кукла немедленно вцепилась обидчице в волосы. Со всех сторон послышались крики: «Шухер!.. Шухер!» – и, обрадованные этим неожиданным развлечением, обитательницы «дачи», отталкивая друг друга, помчались к месту происшествия, где уже вовсю шла отчаянная драка…
12
– Думаешь, я не знаю, чего ради ты туда пошел? – возмущалась Вида, расхаживая по кухне в незастегнутом сатиновом халатике, накинутом на потное, голое тело. На кухне было душно и смрадно, кипятились тазы и выварки с бельем, но Владик был вынужден сидеть, потому что требовалось спешно состряпать статью для центрального журнала, заплатить обещали немного, но важен был сам факт публикации, не столько ему самому, сколько «этим», как он про себя называл коллектив (и весьма сплоченный) приснопамятной «дачи».
– Да знаю я, знаю, – продолжала Вика. – Ты у меня всегда был не от мира сего. Вечно корчил из себя этакого разночинца-народника, «иди к униженным, иди к обиженным – там нужен ты!» – вот он, девиз расейской интеллигенции… – она ожесточенно помешала белье и убавила газ.
– Ну что же, – напряженным голосом, согласился Владик. Девиз как девиз, и не пойму, чем он тебе не нравится.
– Да прежде всего тем, что этот девиз не нашего времени, а столетней давности. С тех пор, как интеллигенция стала сама себя обшивать и обстирывать, с тех пор, как мы превратились в наиболее униженный и обездоленный класс, и не класс даже, а так, тьфу, пустячок, прослойка какая-то, не им, вахлакам бедным, замызганным, а нам, нам нужна помощь, и прежде всего – материальная.
– А им? Им по-твоему не нужна? – сердито закричал он.
– Да какие мне дело до них, до шлюшек твоих подзаборных? – изумилась она. – Мне о нашей Светочке надо думать. Ведь она же у нас растет, и все-все понимает. Кстати, Ленку ты мою помнишь со мной на семинар ходила, длинная такая?
– Помню, – недовольно ответил он.
– Так вот, ей девка ее четырнадцатилетка недавно так и заявила, не купишь варёнки – пойду на панель. С Ленкой – истерика. «Ты подумай, кричит, это она-то, которая над Сонечкой Мармеладовой всю ночь проплакала, над кроватью портрет Савельевой в роли Наташи Ростовой повесила, любимой героиней онегинскую Татьяну называла, если она мне так заявляет, то что делают другие девчонки, попроще?»
– Можешь Ленке передать, чтоб не беспокоилась, – устало сказал Владик. – Не попадет ее дочка на «дачу». К нам такие не попадают.
И вспомнил других родителей. Которые приходили на «дачу» пряча лица в воротники, стыдясь самих себя и детей своих грешных. Их можно было узнать еще в автобусе по однообразно придавленному выражении на лицах. Лишь ненадолго теплели они, когда девочки, узнав их из-за сетки, стремглав летели к ним, сбавляя шаг уже у дежурки и чинно проходя под взглядами охраны. И рядом со своими мамами сидели они без излишних эмоций, думая о чем-то своем, будто и не к ним пришли. А матери (как правило, являлись только они) торопливо рассказывали о текущих домашних новостях, пытались разговорить своих беспутных чад в надежде, что добьются от них раскаяния. И раскаяния эти звучали, но не было в них ни искренности ни подлинного осознания собственного падения.
Эти встречи с родителями, порой напускавшими на себя равнодушно-высокомерный вид, но чаще всего бывавшими растерянными, раздавленными, угнетенными постоянной горечью существования, доходящей порой до отчаяния – и были для Владика тяжелее всего.
– Вы понимаете, я же работаю… – робко лепетала грузная женщина с рыхлым, заплаканным лицом. – А она дома одна… А тут соседка… Она ее и познакомила с этим…
Это была мама Бигсы, той самой миловидной красавицы в модных дымчатых очках, на вид скромной и застенчивой, которая давеча устроила драку за завтраком, а потом грубо и нагло дерзила воспитательнице. Она («дача» такого не помнила) была отличницей и училась в английской спецшколе. Видно что-то надломилось в ее душе, если за короткий срок она произвела столь стремительный вираж – с элитной школьной скамьи до самого общественного дна, до которого не опускались даже герои изучаемой в школе горьковской драмы. Неужели правы были девочки, говорившие, что она сделала это кому-то назло? Кому, кроме себя?
– А теперь они приходят всей компанией, стекла бьют. Я уже три раза милицию вызывала, – рыдает мама. – А те не приходят, надоели вы нам уже, говорят. А эти обещаются – вернется она, говорят, на кусочки ножами изрежем. А на работе-то что делается. Господи, стыд-то какой, позор, по всей фабрике сплетня пошла. Девчонки со мной за один стол не садятся, за спиной шушукаются. Знаете, иной раз так и хочется, петлю на шею и…А думаю, маленького куда, ларкиного братика? Один он у меня остался, если Ларочку они… Неужто мне теперь увольняться надо и в другой город переезжать? Да и куда переедешь из нашей халупы? Ой, Ларка-ларочка, любимая моя, бесценная девочка, что же ты с нами и с собой сделала…
Драки в диспансере были явлением нередким, однако каждому случаю по настоянию заведующей придавался оттенок чрезвычайности. Виновниц выводили на плац перед строем и прилюдно стыдили, оставляли стоять и маяться под жарко палящим солнцем или заставляли маршировать на глазах у смешливых подруг. Многих оставляли без обеда, могли запереть в ДИЗО – дисциплинарный изолятор, представляющий собой крохотную бетонную клетушку без окон и даже без лавки. Сегодня Владик взял на себя смелость публично воспротивиться экзекуции, попытался взять Бигсу на поруки, под свое честное слово. Для чего он это сделал? Он и сам не отдавал себе в этом отчета, просто почувствовал, что должен, просто обязан вступиться за эту угрюмую, озлобленную девчонку, в которой все было, как натянутая струна. Однако получил он лишь примерный и суровый выговор от заведующей и Владимира Семеновича, который не понял его, хоть и должен был понять.
Теперь Ларочка сидела в изоляторе, лишенная за дерзость свидания, и, торжественно объявив голодовку, а на все увещивания отвечала отборным кабацким матом…
И сидя перед горько рыдающей женщиной, еще недавно цветущей и на вид даже привлекательной, а теперь превратившейся в самую вульгарную старуху, не будучи в силах ее ничем утешить, не в состоянии даже ничего посоветовать, молодой человек особенно остро ощущал собственное бессилие и ничтожность всех собственных стараний внести какую-то гармонию в этот развернувшийся перед ним вселенский бордель.
Вечером, уже дома, вспомнив эту сцену, разыгравшуюся вчера на его глазах, Владик встал, подошел к жене и, не слушая возражений, поцеловал ее крепко-крепко.
– Воспитай мне ее, слышишь? – проговорил он, крепко стиснув ее в объятиях. – Она не должна увидеть, не должна познать не всего этого, она может, не имеет права вырасти такой же несчастной, как все эти глупые девчонки, понимаешь?
– Ну что ты мне это говоришь? – прошептала она, положив голову ему на грудь. – Разве я сама не понимаю? Я ведь за тебя боюсь. Ты там с этими… заразными…
– Как ты не понимаешь, я же с ними не живу! – громким шепотом сказал он. – Я их – воспитываю. А живу я с родной женой. Только воспитать ее никак не могу.
– Живу… тоже мне скажет, – с шутливым возмущением возразила Вика. – Я уж и забыла, когда, в какой пятилетке это в последний раз было… Ну ты что, сдурел, что ли? – уже всерьез возмутилась она, когда он погасил свет.
– Знаешь, какой лозунг висит над нашей «дачей»? – спросил он, подталкивая ее к столу. – «Сердцем восприняли – делом ответим».
– Только пообещав мне, что никогда, ты слышишь, никогда в жизни ты не приведешь сюда никого из этих…
– Ты что, с ума сошла? – совершенно искренне возмущается он. – Ты вообще понимаешь, что говорись?!..
– Тише ты. Светика разбудишь!..
Рядом, за фанерной стенкой им слышно беспокойное дыхание малютки. Ее детская кроватка заняла почти половину их крошечной комнатушки, так что спать супругам приходится раздельно.
«Не дай-то Бог, думает Владик, чтобы она хоть когда-то догадалась, что долгие годы истинным супружеским ложем ее родителям служил этот вот крепкий, грубо сколоченный и с виду неказистый, но поразительно прочный, с дедовских времен оставшийся кухонный стол…»
13
– А вы мине за Магадан не говорите! – басовито гудел рослый бородач, беседуя за столом с двумя молодыми очкастыми парнями, видимо командированными. – Что ж я за просто так на Севере шестнадцать лет откатал? Уж будь здоров, как-нибудь повидали свет, кой-чего видели. Там было что делать, когда весь Союз Лёнькину пайку сторублевую сосал, как медведь лапу в-ввв-оо! – он смачно зачавкал. – Вот тогда я там – да! – по куску и по полтора в месяц вот этими вот руками брал! – он совал соседям свои громадные лопатообразные ручищи. – Прииск, понимаешь? Заброшенный, понимаешь? Государству там держать людей невыгодно, сплошной расход, а потребкооперации передай она, брат, там еще пошурует, еще – будь здоров, золотишка там нагребёт…
– Да-да, мы понимаем, – соглашались ребята, – только нам уже пора…
– Да сси-дди уже… – повелительным тоном бросал бородач и подливал еще водки.
В полупустом привокзальном ресторане было душно, дымно и смрадно; оркестрик по заказу сибиряка, которого звали Прохором, уже в третий раз играл «Городские цветы». Солист с особым чувством повторял припев, когда в зал вошла Таська. В алом платье со смелым вырезом и крупной черной бижутерией в ушах и на шее, смело, но неброско накрашенная, она сейчас легко могла бы сойти за двадцатилетнюю женщину. Она прошлась по залу, и лавировавший между столиками с подносом в руках официант Феденька одним взглядом дал ей «наколку», указав на выгодного клиента. Она присела за соседний столик, с рассеянным видом раскрыла сумочку, прислушиваясь к голосу Прохора, который, не умолкая говорил, в очередной раз подымая до краев налитый фужер:
. —… а щас, когда любая срань в кооперативе на шашлыках да цветочках по пять кусков в месяц имеет, причем совершенно официально, гробить свою молодую жизню на Колыме ищите фрайера!
– Эт-точна, – поддакивали очкарики, не зная, как бы им поудобнее откланяться, собеседник им явно мешал.
– Простите, – поднявшись, Таська подошла к ним и с оттенком смущения произнесла: – у вас огоньку не найдется?
Оглядев ее с головы до ног, Прохор ухмыльнулся:
– А не рановато ли ты дочка, того… курить начала?
– А ну вас на фиг, папаша, – обиделась Таська, – я к вам как к человеку, а вы… Так и скажите, что вам спичек жалко.
– Ну да! – возмутился бородач. – Кто Прохора в жадности упрекнет – три дня не проживет. Эй, братки, вы куды?.. – закричал он вслед проворно поднявшимся соседям. – Эх, хлипкий же народ пошел! Знаешь, как мы в «Большом Урале» в том году гудели? А? Это свердловский кабак… – он зажег спичку и поднес Таське. – Прям двери забаррикадировали и… За два дня семнадцать кусков гикнули – во как, мать! Да ты садись, садись, ты что, одна здесь?
– Нет, я подругу жду, – сказала Таська, для порядка помедлив секунду-другую и потом опускаясь напротив него.
– Ну так вот, сели мы в «Урале»… – продолжал Прохор, делая повелительный жест официанту.
Когда часа через два они выходили из ресторана, Прохора уже заметно покачивало, он все порывался затянуть какую-то песню, то начинал махать лапищей проезжавшим мимо машинам. Но Таська вела его дальше, обвив руками его руку и лишь отойдя метров на сто от ресторана, помахала рукой. К ним сразу же подъехало такси. Шофер приветливо открыл дверцу. Таська скользнула внутрь. Следом с трудом протиснулся Прохор.
– На Набережную, – сказала Таська.
– Это еще зачем? – спросил Прохор. – Ехай в гостиницу.
– Да ну ее твою гостиницу, там швейцары, милиция, горничные и вообще, я стыдаюсь, – сказала Таська, но не договорила. Прохор жадно припал к ее губам. Она с трудом оторвалась, терпеливо и настойчиво вынула его руку из выреза платья.
– Потерпи, – кротко сказала она, – сейчас все будет так, как ты хочешь.
Машина остановилась в пригороде. Вдали горели редкие огоньки малозаселенных новостроек. Выйдя, Прохор огляделся и присвистнул:
– Это куда же ты нас завез, братан? – крикнул он таксисту.
– Идем, идем, – нас правильно привезли, – волнуясь сказала Таська. Ее вдруг окатил озноб. – Нам туда… – она указала в сторону стройки с поваленным забором.
– Куда – туда? – вдруг протрезвел Прохор. – Может прикажешь твоей жопой полы циклевать? А занозу получить не боисси?
– Зачем обижаешь девочку? – послышался поодаль негромкий и очень спокойный голос из темноты.
– Я никого не обижаю! – огрызнулся Прохор, лихорадочным взором окидывая приближающиеся к нему с разных сторон темные фигуры. – Я… Господи!..
Одна из фигур взмахнула зажатой в руке цепью с колючим шариком на конце, – и Прохор со стоном повалился на землю. Не сговариваясь, парни подхватили его бесчувственное тело, обшарили и сбросили в котлован.
Таська ждала в машине. Спустя некоторое время компания поднялась, и Горелый, подсаживаясь к Таське, ласково потрепал ее по щеке. Это предприятие давало не большой, но стабильный доход и, вскоре, запустив дело. Горелый сам уже редко бывал на выездах, а доверил все Прыщавому, который поставил грабежи, как хорошо налаженный производственный процесс. Два-три «фрайера» за вечер, такси доставляло их из одного укромного местечка в другое; под вечер собирались у Рины, где уже ждал изобильный стол, там же происходил и дележ добычи. Горелый аккуратно высчитывал долю каждого и только посвистывал, разнося суммы в ведомость. Поговаривали, что ведомости у него заведены и на гостиничных девочек, и на мальчишек-щипачей, и на вокзальных «кидал», и на юных, но шустрых рэкетиров. С его милостивого благословения, Таська получила первую в жизни сберкнижку, и глаза ее зажглись при виде цифры, записаной в графе прихода.
Первый в ее жизни миллион! Она была счастлива. Она возмечтала пойти и показать книжку толстозадой Ирке, двоюродной сестре, студентке медицинского института которая выгнала Таську из дома и тем самым положила начало ее злоключениям.
История была незамысловатая. Таську из деревни мать послала в город, поступать в ПТУ, или на фабрику какую… Снабдила дочь и письмом к Ирке, чтоб пустила переночевать. Но Ирка снимала комнату у хозяйки, ворчливой и скаредной старушонки.
Она разрешила Таське побыть до десяти вечера, а потом… «На вокзале переночуешь, ничего с тобой не случится,» – сказала Ирка, выпроваживая сестру. Она не любила вспоминать о своих деревенских родственниках и предпринимала все усилия чтобы найти возможность остаться в городе. На вокзале Таська познакомилась с черноволосой женщиной, которая вся была увешана золотыми цепочками и проявила в судьбе Таськи самое живое и деятельное участие. Она отвела девочку к себе домой, накормила и уложила спать. Таська не сразу поняла, что ее квартира была самым обычным воровским притоном, в просторечии именуемым «малиной», а сама Рина подрабатывала скупкой краденого, торговлей живым товаром и немного наркотиками, поскольку пользовалась безграничным доверием в фирме Горелого.
* * *
А ранним утром проезжавшие по шоссе водители автомашин и пассажиры автобусов с интересом и смешками разглядывали совершенно нагого тучного мужчину, который, прикрываясь левой рукой, правой отчаянно махал, тщетно пытаясь поймать хоть какой-то транспорт, пока его не пригрел проезжавший мимо на мотоцикле инспектор ГАИ.
14
Перед воспитательным часом Марья Михаиловна долго и терпеливо объясняла Владику:
– Вы, молодой человек, должны хорошо и прочно забыть все эти новомодные статейки, – она неодобрительно взглянула на кипу газетных вырезок в руках Владика, – и строго придерживаться установленной методики и утвержденной программы. Раз уж соизволили следовать педагогической стезей.
– Видите ли, – как можно учтивее старался отвечать Владик, все эти воспитательные программы писались в застойные времена, на которые по воле судьбы пришлась большая часть вашей деятельности. Мы же живем в несколько иные времена…
– О чем спор? – добродушно спросил, подходя, Владимир Семенович. – Шумим, братцы, шумим…
– Понимаете, – пустился в объяснения Владик, – у меня – сейчас урок о чести и достоинстве человека…
– И вот, эту тему, – подхватила Марья Михайловна – которую надо решать на героических примерах Зои Космодемьянской, Сережи Тюленина, Ули Громовой, наш молодой Песталоцци предлагает разбавить исповедями проституток, беседой о фильме «Маленькая Вера» и даже библией.
– А при чем тут библия? – сухо спросил Владимир Семенович.
– Не библия, а Евангелие, – возразил Владик и отчего-то покраснел. – Ну, Владимир Семенович, уж вы-то должны понять, ведь Мария Магдалина – это первый образ раскаявшейся блудницы в мировой литературе.
– Имейте ввиду, – строго сказала завотделением, – я немедленно попрошу горздрав о вашем откреплении, если узнаю, что здесь, в лечебном учреждении вы начали преподавать девочкам посторонние предметы.
– Да не в лечебном учреждении, – Владик покачал головой, отчаявшись что-либо объяснить им, – а на «даче». И не девочкам, а… – и он, махнув рукой, отошел.
Он так и не решился рассказать с Магдалине. Ведь ее раскаянье бессмысленно без образа Христа. Значит, надо будет углубиться в вопрос о сущности христианства, а что тогда будут записывать девочки? И потому он устроил опрос по ранее пройденным с другими педагогам темам, и на двадцатой минуте тихо сомлел, слушая полусонное бормотанье Мамы:
– Честь и достоинство человека строятся на глубокой… на глубоком… нет, на чувстве глубокой ответственности за гордое имя человека Страны Советов, строителя коммунистического будущего. Человек Страны Советов высоко несет знамя этого… как его…
– Бескомпромиссной… – подсказали с галерки.
– Хватит! – Владик стукнул ладонью по столу и сказал Маме: – Садись, Тисленко. Мне стыдно, просто стыдно за то, что никто из вас не может или не хочет рассказать, как понимает честь и достоинство человека, женщины, девушки. Я не верю, я просто не могу поверить, что попав в беду, пусть даже такую, как ваша, вы совершенно, напрочь утратили все эти понятия. Человек не рождается без чести и совести. Это неотъемлемая часть его души. И я никогда не поверю, что вы всё это потеряли.
– А по-вашему, так легко их было сохранить? – спросила Бигса.
– Трудно! Очень трудно, порой невыносимо! Но пока вы еще не разучились задавать такие вопросы, хотя бы самим себе, в вас еще не все потеряно, ведь учили же вас на каких-то примерах. Были же образы героических женщин, и не только в литературе – в жизни.
– Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет… – мечтательно, нараспев произнесла Бигса.
– Ты помнишь эти стихи? – живо спросил Владик.
– Конечно.
– Почитай нам, пожалуйста. Нет, нет, ты стоя, пожалуйста, Лариса. А вы… вы все слушайте, слушайте!..
И девятиклассница Лариса по кличке Бигса, перенесшая не один аборт и арестованная в притоне наркоманов без малейших признаков одежды, вышла из-за стола, подошла к тумбочке с телевизором и хорошо поставленным, артистичным голосом стала читать строфы из поэмы Некрасова. А Владик напряженно вглядывался в лица сидевших перед ним девочек-женщин и искал в них отклика, сочувствия этим проникновенным стихам. Но тщетно.
Большая часть класса была безучастна. Мышка сосредоточенно смотрела под ноги, Щипеня выясняла, пока словесно, отношения с Ванюшей, Мама – та тупо улыбалась, думая о чем-то своем. Быстро перегнувшись через соседний стол, Кукла что-то начертила в Лариной тетради, но Владик этого не видел. Он во все глаза глядел на девочку, стоявшую у телевизора и не хотел, не мог поверить, что в силу каких-то тягостных, роковых обстоятельств жизни она могла попасть в одну компанию с этими «цыпками» и «милашками», украшенными наколками, расхристанными девицами.
Она читала так, как должно быть великий грешник молится Богу, взывая о милосердии, как сестра читала бы письмо от считавшегося давно погибшим брата, и было в ее голосе нечто такое, что заставило всех очнуться от оцепенения и с изумлением поглядеть на нее. Неожиданно опомнившись, девочка замолчала, покраснев, опустила глаза, будто стыдясь того, что против своей воли открыла ему нечто тайное, сокровенное, то, что надеялась навеки сохранить в душе подальше от посторонних глаз.
– Молодец! – сказал Владик, тепло улыбнувшись ей. – Очень хорошо, просто отлично! Неси свой дневник.
Радостно вспыхнув, девочка подбежала к своему столу и принесла ему тетрадку, в которой медперсоналом и педагогами делались записи о поведении воспитанниц. Владик открыл тетрадь и под поощрительной записью лечащего врача увидел ярким фломастером во весь разворот нарисованный фаллос с красноречивой подписью «Владя, я тебя хочу».
Моментально побагровев, молодой человек взглянул на Ларису. Она в изумлении глядела то на него, то на рисунок, силясь что-то сказать. Руки Владика непроизвольно сжались и – машинально разодрали тетрадь в клочья, – раз, другой, третий, затем эти клочки медленно, будто помимо его воли полетели в лице девочки. Из глаз ее брызнули слезы, и она застонала, закричала, забилась в судорогах. Несколько девочек бросились к ней, но в ее хрупком на вид теле неожиданно обнаружилась недюжинная сила. Она принялась отбиваться и драться с такой силой и яростью, что даже самые крупные попятились назад.
Послышались крики:
– Врача! Врача сюда!..
Вбежавший дежурный врач застал в комнате суматоху. Обхватив Бигсу сзади и прижав ее руки к бокам, Владик отчаянно питался удержать ее от драки, но это ему с трудом удавалось. Вскоре подоспело медсестра. Втроем они кое-как дотащили Бигсу до изолятора, у дверей которого уже столпились воспитанницы.
– Галоперидол!живо скомандовал врач.
Медсестра вынула из шкафа ампулы, набрала шприц. Врач ввел иглу в вену. Прошло еще несколько секунд – и с Бигсой произошла разительная перемена. Несколько раз содрогнувшись, девочка вытянулась и застыла как мертвая.
Мышка внимательно поглядела на шкаф. где хранились ампулы.
– Видала? – спросила ее Щипеня. – Вот если будешь вытыкаться, тогда и тебе так вколят, будешь три дня как труп валяться. Ясно, малявка?
– Ясно… – прошептала Мышка и вдруг заулыбалась.
– Вы, вы, вы! – кричала Марья Михайловна. – Именно вы и никто иной довели ее до этого состояния!
– Простите…Я не сдержался…
Это было ужасно – на двадцать пятом году жизни, совершенно уверовав в собственный педагогический авторитет, вдруг оказаться в роли нашкодившего школьника, вытащенного на педсовет. И самое странное, что Владик мог в любое мгновение покинуть комнату, в которой собрались врачи и воспитатели, чтобы обсудить происшествие с Бигсой, уйти и не возвращаться, занявшись любой другой деятельностью и, может быть, даже с большей прибылью для себя, но дело в том, что прибыли этой он не искал и покинуть «дачу» сейчас, после всего, что он узнал, было для него немыслимым. Этим и был вызван его робкий, униженный тон, его оправдания, хояа во всем происшедшем была не только его вина..
– А ведь вы обязаны были сдерживаться, – не отступала Марья Михайловна. – Узлом должны были себя завязать, нервы затупить, оглохнуть, ослепнуть. Они ведь только того и ждут, чтобы мы сорвались, накричали на них, чтобы и они могли дать выход своей буйной энергии. А мы не смеем права давать им повода для буйства! Что вы думаете об этом, Владимир Семенович?
Тот лишь пожал плечами, потом подумал и сказал:
– Во всей этой истории я вижу не столько педагогической, сколько концептуальный просчет. Владислав Евгеньевич не выработал правильного отношения к нашему контингенту, и никто ему этого не подсказал, в чем, кстати, и наша с вами, Марья Михайловна, косвенная вина. Он выстроил такую модель поведения с воспитанницами, какую выдерживают с нормальными подростками. Наши же дети – больны. И болезнь, их поразившая – один из тяжелейших общественных недугов, и хирургическому вмешательству она не поддается. Вы же в их души лезете со скальпелем. А вас об этом никто не просит. Души у них давно вывихнуты, и вряд ли кто их вправит… Эту вот вашу Ларису Харченко возлюбленный в карты проиграл. Она из-за него больше, чем на смерть пошла, понимаете вы это? И вот мы ее – сюда, а в его адрес даже частного определения вынести не можем. Так-то вот… – он покачал головой и резюмировал: – Я думаю, что Владиславу Евгеньевичу в ближайшее время не стоит самостоятельно вести воспитательные часы. Пусть поприсутствует на занятиях наших ведущих педагогов, поразмышляет…
И этот несправедливый и обидный приговор Владику пришлось покорно проглотить.
15
…И опять медленно отделялось от тротуара притаившееся такси, и Таська сажала в него очередного клиента в большей или меньшей степени опьянения, и каждому хотелось ее тела и ласк, некоторые требовали ублажить их прямо в машине, но скоро, очень скоро такси привозило их в глухое и пустынное место, – где очередному сластолюбцу, гаеру, болтуну и толстосуму доставалось, как думалось Таське, по заслугам. Там незадачливые любители «клубнички» раздевались донага, а содержимое их тугих, как правило, весьма тугих, бумажников переходило в распоряжение банды. И для Таськи началась совершенно новая, иная, удивительно красивая жизнь. Она стала уже не просто случайной шлюшкой, но полноправной хозяйкой воровских хаз, она уже покрикивала порой на Рину, при виде нее почтительно замолкала блатная дворовая мелюзга, которая другим попадавшимся девушкам не давала проходу, швейцары ресторанов отбивали ей земные поклоны, продавщицы комиссионок при виде этой юной любимицы Фортуны изображали неподдельное счастье. И она съездила-таки к Ирке, и убила-таки ее и чулками своими, и косметическим набором «Пупо», и бесцветной помадой, и сигаретами – «Море», черными, длинными и душистыми, после которых она небрежно бросила в ротик подушечку мятного штатовкого «баблгама». Всё это было прекрасно, тысячи по-прежнему оседали на ее книжке, она их почти не трогала, ибо ни в чем не нуждалась. В местах, где она проводила время, столы ломились от обилия закусок и выпивки, в углу мерцал экран видеомагнитофона, и Таська, голая и пьяная сидела на коленях у очередного своего дружка из компании и порой ее визгливый смех или эротические вздохи, вызывали недовольный взгляд Горелого. Тот ею по прежнему брезговал.
Такая вольготная жизнь длилась до тех пор, пока удар кастета не оказался слишком сильным для черепа одного чересчур самоуверенного коммивояжера из Германии…
* * *
– Этим делом заинтересовалось Москва! – кричал полковник Канавин. – Вы понимаете? Москва. На уровне Кремля; – произнес он с благоговением. – А чем мы располагаем? Майор Хрусталев?
– Вами идентифицированы 16 аналогичных случаев, из них 14 смертных, – сухо сказал Хрустален. – Выжил только первый – сибиряк Но косвенные улики указывают, что во всех этих случаях неизменно участвуют такси и красотка, предлагающая съездить к ней. Фоторобот ничего не дает. Свидетели, видевшие потерпевших в ресторанах неуверенно описывают девушку. Опрос в таксопарках ничего не дал. Наиболее вероятные места ее появления – вокзалы, крупные гостиницы, рестораны. Обычно ориентируется на отечественную публику.
– Видно на сей раз в ней заговорило чувство интернационализма, – сухо заметил полковник и, оглядев присутствовавших на оперативном совещании в горотделе, резюмировал: Сейчас Хрусталев пойдет в Госбанк на предмет получения ссуды в для нужд родной милиции. Часть из них надо будет пустить на «куклы», при чем постарайтесь, чтобы они выглядели поубедительнее. Рассчитаетесь на «первый-второй». «Первый» возьмет себе пару пачек денег и отправится куролесить по ресторанам…
– О, счастливчик… – с тоской в голосе воскликнул кто-то.
– А каждый «второй», – полковник пристально оглядел своих подчиненных, – останется за наблюдателя. Где вы при этом будете прятаться, меня совершенно не интересует.
– А расплачиваться с официантами будем тоже «куклами»? – осведомился Звенигоров.
– Каждому из вас разрешается за вечер пропить и проесть пятьдесят рублей, – отрезал полковник.
Это сообщение было встречено безрадостным ропотом.
– Может быть вы сможете найти более дешевый способ истребить эту. банду? – осведомился полковник. – Найдите, и все сэкономленные средства я пущу на ваше премирование.
– А может быть, провести еде одну облаву на проституток? – предложил кто-то.
– Ни в коем случае! – встревожился полковник. – Во-первых, этим мы ничего не добьемся. Эта бандитка может легко сойти за обычную путану, но после этого они затаятся и, возможно, сменят «работу», переедут в другой город или что-нибудь еще. Конечно, нас и это бы устроило, но из сегодня от нас требуют поимки преступников, причем в кратчайшие сроки.
– Но нам никто не дает гарантии, что они именно сегодня или завтра выйдут на охоту, – возразил кто-то.
– Ничего страшного, – сказал Хрусталев, – по нашим подсчетам последнее их дело было неделю назад, долго сидеть без дела они не будут.
– Вы имеете в виду, что неделю назад вами найден последний труп? А сколько еще не найденных?
Возможно, есть и такие, – согласился Хрусталев.
– Возьмите купюры: покрупнее, – посоветовал ему полковник. – При этом обязательно продемонстрировать официанту пачку денег. Если подсядет девушка, то можно потратить еще по пятьдесят. Если предложит съездить к ней – «второй» подключает группу захвата. Вопросы есть?
– Есть, – сказал молодой лейтенант Звенигоров. – Вы, товарищ полковник, когда в последний раз в ресторане были?
– В сорок восьмом, а что? – удивился полковник.
– А то, что сейчас полтинником ни официантов, ни девочек не удивишь. Жидковата наживочка.
– Мы не имеем права разбазаривать государственные средства! – воскликнул полковник. – Вы не представляете себе, что значило мне получить «добро» даже на такой расклад…
– В таком случае нам остается разбазаривать трупы иностранных бизнесменов, – мрачно заключил Хрусталев.
Полковник со вздохом махнул рукой.
16
…О, это призрачное состояние полу-сна, полу-яви, когда все вокруг расплывается, дрожит, как полуденное марево над раскаленными песками пустыни. Но нет, э т о лишь кажется пустыней, на самом же деле обширные барханы – это всего лишь глыбы жирного мужского тела, складки живота, грудей, многослойного подбородка. Все это колышется в сытом дыхании его безмятежного она, и на фоне тела единственно реальным предметом в мире кажется длинная игла шприца, который сжимают худые пальцы (как алмаз сверкает на острие капля яда), и подойдя к жертве своего видения, Мышка с ожесточением, как стилет вонзает шприц в толстое брюхо, и давит его, давит, давит… Но тело, вначале казавшееся могучим, вдруг пружинит, содрогается, расползается как желе, выплескивая наружу трепещущие внутренности…
– Ты что, очумела? – спросила Щипеня, подойдя к ней с лопатой в руках. Все девочки работали в саду, окапывая плодовые деревья. Ты же так все корни подрубишь. Дерево засохнет.
– А… все равно, – вяло махнула рукой Мышка. – Тебе-то что? Жалко их?
– Как, что? – возмутилась Щипеня. – А осенью яблоки кто трескать будет? Не ты, што ли? Или думаешь, в последний раз сюда попадаешь?
– В последний, – упрямо сказала Мышка. – Вот разделаюсь с одним типом и…
– И всё равно сюда попадешь, – заверила ее Щипеня.
– Не попаду. Уж лучше сдохнуть, чем сюда…
– Ну и дура, – равнодушно заметила Щипеня, и вдруг поинтересовалась: – Слушай, а это не ты та самая, которая всю школу заразила?
Мышка помолчала. Потом отрицательно мотнула головой.
– Не-а… не всю. Только пять классов, 8-й «А», 8-й «Б», 9-й «А» и «Б» и 10-й «Б».
Слушая их разговор, вокруг собрались другие девочки.
– А 10-й «А»? – осведомилась длинноногая рябая девочка по кличке Чемпион.
– Так эти на практике были, – объяснила Мышка.
Кто-то из девочек с изумлением присвистнул.
– Ты что, в очередь им давала? – продолжала выспрашивать Чемпион.
– Не-а… – Мышка избегала смотреть на своих товарок, отводила взгляд, но события недавнего прошлого маячили перед глазами и она вдруг быстро и сбивчиво заговорила, выплескивая накопившееся в ней за месяцы угрюмого молчания: – Я не давала, они сами… Они знали, что я порченая, им Володька всё протрепался. Я из спецшколы тогда рванула. Я специально опилки подожгла, чтобы с Жоркой не жить, он всё вопил: на поруки, да на поруки, а эта из комиссии спрашивает: ты ведь это не специально сделала, а я говорю: нет, специально, бычок из кармана цепанула, да как зашаблю при них, а у них шары на лоб! Я думала, в спецухе лучше, чем у Жорки, а там вообще – конец, хуже, чем здесь, в каждом классе своя фараонша, а все у нее как рабы, особенно новенькие… А я как оттуда чухнула, сразу на железку, думала, к бабке махну, а проводник, носастый, один зуб торчит, плати давай, грит, а я грю – здесь семьдесят кэмэ, а он говорит – давай, а тут ревизия идет или как его, контроль, что ли, ну, я испугалась, а он меня потом и «наградил». Это я уже потом в приемнике узнала. Они меня оттуда хотели прямо сюда, а я смоталась… чё – как? Он меня пугал, грит, вот, к воровкам пойдешь, всю жизнь в колонии просидишь и умрешь под забором, а я ему – вы сами, грю, в тюрягу пойдете за то, что нас голыми фотографирывайте, а он: я тя щас замочу, а я – хвать со стола графин с водой и по кумполу ему, а сама в окошко… – девчонки, слушали это с затаенным дыханием, а некоторые от радости даже взвизгнули и захлопали в ладоши. – А домой доползла, думала, к бабульке приволокнусь, а она на рынок с утра свалила, а пацаны меня тут и прихватили. Вшестером. Я грю, вы што, обалдели? Я же щас кричать начну, а они, только пискни, мы всем скажем, что ты у нас деньги украла, тебя, воровку, сразу, не проверяя в тюрьму пасодют, а нам сразу благодарность дадут и в «Пионерской правде» пропечатают. Ну, думаю, давайте, будет вам и благодарность, и «правда». Вот они сейчас и прыгают, сучата…
– Ну и правильно, – зло сощурилась Ванюша. – Никто их насильно не тащил. Всех бы их сюда!
– За что боролись, на то и напоролись – вставила рыжая девочка Вера.
– Девочки! Девочки! – закричала и захлопала в ладоши Марья Михайловна, выйдя на крыльцо. – Почему не работаете? Что за скопление народа? Немедленно разойдитесь! Почему вы не следите за ними? – напустилась она на Анну Петровну. Та вся побагровела, готовясь сказать, что она не нанималась этих воспитывать, и ей наплевать на те полставки, которые ей к медицинским доплачивают за совместительство, пускай укэшаются ими, только интересно, где же они еще найдут такую дуру, которая бы им за сто тридцать рэ вкалывала бы через день посуточно. Но не успела она все это высказать заведующей, потому что из репродуктора на столбе зазвонили «колокольчики» – позывные «Маяка».
– Перекур, девки! – скомандовала Щипеня, и группки девушек направились через сад к двум длинным скамейкам возле КП.
Громадный пес Браслет, высунув полуметровый розовый язык, при виде их напрягся и часто-часто задышал, поводя мохнатыми боками.
– У, стервец, на шапку бы тебя, роскошный бы пыжик получился! – злобно крикнула Чемпион.
– Ша! – прикрикнула на нее Щипеня. – А то он битый час гавкать будет, пока уши не завянут. Тем более, вон. видишь, кусочница пачку показала.
У выглянувшей в окно КП сержанта Виноградовой тоже было несладко на душе: сегодня утром она унюхала от своей пятнадцатилетней дочери запах табака и закатила историку, после которой девочка в слезах выскочила из дому в чем была. Куда она теперь пойдет? К кому? Вернется ли домой? долго ли будет помнить увесистую материнскую пощечину? – все эти вопросы особенно остро впивались в сердце сержанта при виде вереницы фигур в блеклых больничных халатах, стягивающихся к скамейкам.
– Ну что, девочки, – сказала Анна Петровна, стараясь держаться как можно раскованнее. – Чем сегодня займемся?
– Покурить бы… – буркнула Ванюша.
– Разве можно курить в таком возрасте?
– У нас трудный возраст, – задумчиво произнесла Лена по кличке Чемпион. – И сейчас в стране такое трудное время. Трудный возраст – в трудное время – это так трудно, без сигареты не справиться.
– «Нам «кемел» строить и жить помогает»… – затянул кто-то.
– Ну, хватит! – Анна Петровна была достаточно тверда. – Никаких сигарет. И прекратите этот бессмысленный разговор. Лучше что-нибудь споем или поиграем во что-нибудь. Вы какие-нибудь игры знаете?
– В «ромашку», – брякнула Мама.
Девочки от души рассмеялись.
– Прекратите немедленно! – воскликнула медсестра, затем, жестко взглянув на Маму, припечатала: – Уж не благодаря ли этой игре ты в 13 лет заимела ребенка. Где сейчас твоя дочь?
– В доме ребенка, – невозмутимо ответила Мама.
– А потом она так и пойдет по земле без роду, без племени? Ты понимаешь, на что ты ее обрекла?
– Я вырасту и заберу свою Сашеньку к себе. Вот, – сказала Мама, и в голосе ее почувствовалась какая-то необычная внутренняя твердость, резко контрастирующая с ее детским лицом и большими, наивными глазами. – И сама буду ее воспитывать.
– Как? – в голосе Анны Петровны слышалась неприкрытая ирония. – Как ты ее будешь воспитывать, если сама невоспитанная? Вот увидишь, твоя дочь пойдет по твоим же стопам…
– Не пойдет! Она у меня будет хорошо учиться и в институт поступит на инженершу! – возмутилась Мама, но Анна Петровна с улыбкой на тонко вырезанных и ярко накрашенных губах продолжала договаривать:
– … она начнет курить в десять лет и пить в одиннадцать, а потом станет пропадать по ночам и возвращаться с синяками под глазами, потом к тебе домой придет повестка из милиции…
– Нет, нет! – взвизгнула Мама. – Она у меня будет хорошей! – И залилась слезами.
– Разве может вырасти хорошая дочь у такой неряхи? – с удивлением спросила Анна Петровна у девочек. – Ты хуже всех заправляешь свою постель, лишний раз не умоешься, не причешешься, вот взгляни на Инночку – как она следит за собой, поглядеть приятно.
– И пощупать… – поддакнул кто-то.
– А Кукле положено, – с иронией добавила Щипеня. – У нее работка такая.
– Заткнись, сирень вокзальная, – процедила сквозь зубы Кукла. – У тебя, что ль, не такая?
– А ты на меня фиксами не сверкай, – ощерилась Щипеня. – Я тебе фиксы-то повыдергаю, негритянская подстилка, тёлка вечная…
– Да, вечная! – зло выкрикнула Кукла. – Я вечная девственница! Я до самой старости буду молодой и красивой! Я самая красивая среди вас!..
– Ах! Ах! – застонали девочки, прикрываясь руками и разыгрывая неописуемый восторг. – Какая она красавица! Кто на свете всех милее!.. Шармант-Луиза!..
– Прекратите! Немедленно прекратите! – закричала Анна Петровна, но никто ее не слушал. Вскочив с мест, девочки окружили Куклу и принялись корчить перед ней рожи, кривляться, кто-то щипал ее, дергал за подол, ей показывали языки, плевали в нее. Та – лишь визжала и пыталась оцарапать тех, что поближе. Положение спас Владимир Семенович, который разорвал круг и, схватив Куклу за руку, потащил следом за собой. Она вырывалась и отчаянно ругалась, обливаясь слезами.
Потом, уже в кабинете врача, она повалилась на колени перед дежурным доктором Сережей и Владимиром Семеновичем, умоляя их сделать ей один-единственный укольчик, за который она готова сделать для них всё, всё, чего они только пожелают.
– Ну, ну, маленькая моя, успокойся, – доверительно шептал ей Владимир Семенович. – У тебя ведь ничего не болит. Напротив, тебе тепло и хорошо.
– Нет, нет дяденьки, больно, больно, – вяло хныкала Кукла. – Всё внутри горит… не могу…
Она не лгала в не разыгрывала ничего. Ей и в самом деле было ужасно муторно и больно. Боль эта была неистребима, она зародилась в ее существе с того самого дня, как мама оставила ее с голландским капитаном, вальяжным и чернобородым, больше смахивавшим на испанца. Мама часто говорила, что у девушки есть единственное богатство, которое может много принести, если им с толком распорядиться. Розыгрыш капитана они долго продумывали во всех деталях. Физиологию самого процесса Кукла изучила уже давно, поскольку жили они с матерью в однокомнатной квартире, и хоть дочь как правило спала на кухне, сон ее был не спокоен, и со своей уютной кушетки было видно достаточно много. И мудрая мама-Лилиана с самых юных лет объяснила дочери тяготы, выгоды и опасности своей профессии, обучила, как завлекать клиентов и как ломать комедию перед блюстителями закона, как предохраняться от нежелательных беременностей и изображать безудержную страсть. Однако пуще всего она боялась, что девочка решится практическую часть занятий пройти с кем-нибудь из голодранцев-однокашников. Тогда-то ей и был придуман поистине макиавеллиевский план, согласно которому подвыпивший капитан Ван Вейланд остался в ее квартирке наедине с Инночкой, которая согласилась с ним выпить, а потом оказалась такой трогательно-беззащитной, такой девически-наивной, что когда в квартиру ворвалась обезумевшая от горя мать (она всё это время, тщательно прислушиваясь, стояла на лестничной клетке), всё уже было кончено, и бравому капитану в возмещение ущерба и во избежание международного скандала пришлось раскошелиться на восемьсот долларов, каковых как раз хватило на то, чтобы приобрести двухкомнатную квартиру в центре города. Этот способ «потрошения клиентов» показался Лилиане до того привлекательным, что она решилась сделать девочке несложную хирургическую операцию, после которой им удалось повторить этот фокус еще раз. И еще раз. И еще раз. Не обходилось без эксцессов, один швед даже вызвал милицию, так что вскоре кличка «Вечные Тёлки» накрепко прилипла этому семейному тандему. При этом Лилиана и представить себе не могла до какой степени мучают ее дочь постоянное ожидание новых болей и до чего же болезненны для нее моменты физической близости.
На почве постоянных страхов у нее развился вагинизм и неврастения. Еще больше мучили ее боли, которые все чаще и чаще навещали ее вне зависимости от наличия клиентов. Единственное, что до какой-то степени избавляло от них, был «косячок», или «колеса» или «игла», к шестнадцати годам она перепробовала почти все, так что помимо основного заболевания, ее лечили еще и от наркомании. Мама ее прилагала к этому немало усилий.
Поговаривали, что она доставала ей специальные импортные лекарства и даже договорилась с Владимиром Семеновичем на персональный курс массажа (индивидуально оплаченный? – об этом, правда, умалчивали, но говорилось все это таким тоном, что все становило понятным без слов). Больше того, как молния по «даче» разнеслась весть о том, что Куклу хотят перевести в другой диспансер, для нормальных больных. Одни это известие встретили со скрытой завистью, другие – с откровенной злобой.
– Счастливая… – вздохнула Мама.
– Да, как же, тебе бы такое счастье, – ухмыльнулась Щипеня. – Да ты на ее руки-то, на ее локти посмотри, как решето. Сейчас на нее ломка нашла, пусть она помучается. А через неделю-другую выйдет, и все начнется по-старому. «Ну, ничего, мы ее еще проводим под фанфары, красавицу нашу, будет тут еще у нас фиксами сверкать.
– Скажите, а почему Владни… Вланди… – запутавшись Мышка слегка смутилась, но продолжала, – почему он больше с ними не занимается?
– Прежде, чем заниматься с другими, Владиславу Евгеньевичу надо бы самому еще многому подучиться, – с леткой язвительностью заметила Анна Петровна и объявила: – Все, девочки, перерыв окончен. Еще с часик поработаем, а потом – обед. На обед у нас будут… – она выдержала многозначительную паузу, – огурцы из собственного парника. Идемте, нарвем!
– Ур-раа! – завопили девчонки и бросились к парнику.
– Стойте, куда?! – воскликнула, увидев это Марья Михайловны. – А ну – строем! – И гневным взором посмотрела при этом на медсестру, которая, по ее мнению, явно не справлялась с обязанностями воспитателя.
И они пошли строем по три. Тягостная картина, особенно если наблюдать ее со стороны, через несколько рядов сетки и колючей проволоки. Несмотря на то, что сержант Виноградова видела все это уже не в первый раз она неожиданно для самой себя прослезилась.
17
– Добрый вечер, – просто сказала незнакомка. От певучих трелей ее голоса дрогнуло бы самое черствое мужское сердце.
– П-простите, вы, собственно, к кому? – опешил Владик.
В спортивных брюках и майке, в переднике, с мокрыми руками он пошел открывать дверь, полагая, что это вернулась в работы жена. Но к его удивлению на пороге стояла ослепительной красоты женщина в дорогом вечернем туалете, в модный шляпке с вуалеткой, словом, такая, мимо какой ни один мужчина не пройдет, не обернувшись.
– Да к вам же я, к вам, Дядя-Владя, – усмехнулась красавица. – Что, никак не признаете?
– Савельева?! – с изумлением воскликнул Владик, тут же узнав ее по озорной улыбке и глазам, сощурившимся в щелочки. – Таська! Ай да мы!… Да… Тебя в таком наряде… Да ты проходи, проходи, не стесняйся.
Чувствуя себя несколько неловко, Таська переступила порог его маленькой квартирки и повела плечами, чтобы не коснуться сырых стен, на верхней части которых лишаями висела мохнатая селитра.
– Да… – со значением произнесла она, оглядываясь. – Особнячок у вас – люкс!
– Вику обещали поставить на очередь в будущем году, на двухкомнатную, а там – посмотрим, – объяснил Владик.
Поскольку в комнате было неубрано, он провел Таську на кухоньку, усадил за стол, поставил чайник, а сам принялся быстро убирать грязные чашки и тарелки, оставшиеся с завтрака, в раковину.
– Не следит за вами супруга-то ваша благоверная, – с легкой иронией констатировала Таська.
– А когда ей? – Владик пожал плечами. – Утром ей на завод бежать надо, она у меня технолог, вечером – ребенок, так что большая часть домашней работы на мне. Сейчас я тебе свежий чай заварю, будем? – достав сервиз, он сполоснул чашки и блюдца.
– Нет, спасибо, – Таська покачала головой. – Ну, как там наши? Как «дачка»?
– Соскучилась? – усмехнулся Владик. – Ничего, всё как обычно, по-старому. Ты-то как? Рассказывай.
– Как видите, – безмятежно отозвалась Таська.
Владик глянул на нее искоса, отложил чашки, вытер руки полотенцем и сел за стол напротив девушки. Поглядев внимательно на ее одежду и украшения, он с неприятным чувством в дуге констатировал:
– Значит, за старое принялась…
– Нет, за новое. Но это новое – гораздо хуже старого.
– Хуже этого для женщины ничего быть не может. Хуже бесчестной жизни может быть только смерть…
– Ну уж нет, шпалы таскать в оранжевой курточке или кирпичи на морозе класть – куда хуже! – воскликнула Таська. – Или цельную ночь между станками мотаться, а днем – к детям в общагу. Такую вы мне честную жизнь предлагаете?
Послышался поворот ключа в замке, и вошла жена Владика, грузная, упитанная Вика с двумя увесистыми авоськами в одной руке и такой же круглолицей, розовощекой девочкой, повисшей на другой.
Остановившись в прихожей. Вика стала снимать плащ, размотала косынку.
– Ой, у нас в гостях новая тетя! – закричала четырехлетняя Светочка, вбежав на кухню и прижимаясь к отцу. – Как тебя зовут, тетя?
– Таисия Николаевна, – ответила Таська. – А тебя?
– Кися! – засмеялась девочка. – Тетя Кися! – и подбежала было к ней, но Вика из прихожей закричала:
– Света, не смей! Иди сюда немедленно!
Затем Вика сама вошла на кухню, так и держа плащ в одной руке, и обе женщины в одно мгновение оглядели друг друга до мельчайших подробностей: от продранного на пальце чулка одной, одной до изящных туфелек другой, от обломанных ногтей одной до изысканною маникюра другой, от грубых румян на лице Вики до тонкого Таськиного макияжа. Единственное, пожалуй, в чем Вика превосходила нежданную гостью, так это в размерах бедер и бюста, да и это плохо подчеркивала чересчур широкая талия.
– Познакомьтесь, – Владик поднялся. – Это моя жена. А это моя воспитанница, Тася.
– Я так и поняла, – сказала Вика. – У вас что, сегодня факультатив? Или ты решил взяться за рэпэтиторство? – последнее слово она произнесла уничтожающим тоном, глянув на голые плечи мужа. Он так и не сообразил надеть что-то поверх майки.
Поднявшись из-за стола, Таська ровным тоном и подчеркнуто спокойно сказала Вике:
– Вы знаете, для меня всегда было загадкой, почему они вам предпочитают нас? Ну, когда они холостые, мальчишки, моряки, шофера – это еще понятно, но почему приличные, женатые молодые люди бросают вас и обязательно приходят – к нам – мне это долгое время было непонятно. Спасибо вам, вы мне всё это сейчас прекрасно объяснили.
Полными слез глазами Вика взглянула на мужа:
– Мало того, что ты таскаешь сюда своих венерических шлюх, так они же меня в твоем доме еще и оскорбляют! – и закричала на дочку: – Иди быстрее в комнату, пока тебя здесь заразили.
Усмехнувшись, Таська двинулась к выходу, подчеркнуто виляя бедрами.
– Вика, как ты можешь? – закричал Владик. – Она же не просто так ко мне пришла, а посоветоваться, понимаешь? Сейчас для нее наступила трудная пора в жизни, понимаешь? А ты?
– А я не хочу, чтобы моя дочь заразилась этой дрянью от этой дряни! – взвизгнула Вика. – Светик – единственное, что у меня есть в этой жизни, а мы с ней ежедневно рискуем из-за твоих прихотей. И мне нет дела до того, что ты считаешь своим призванием и в каких ты отношениях со своими «воспитанницами», я хочу, чтобы она у меня была живой и здоровой, понимаешь?!..
Таська легко сбежала по ступенькам. Владик догнал ее неподалеку от парадного, удержал за руку.
– Не обижайся на нее, слышишь? В последнее время она держится на одних нервах. А тут еще у одного ребенка в садике заразу нашли…
– СПИД? – тихо спросила Таська.
– Нет, но болезнь весьма паршивая и опасная, так что… Ты должна ее понять.
– А я и не обижаюсь, Владислав Евгеньевич, – с легкой горечью улыбнулась Таська. – Нам, при нашей-то древнейшей профессии, обижаться не положено. Нас еще вон когда, при Иисусе Христе камнями побивали. А мы. – утремся и опять за свое. Бабы по натуре – кошки, а натура уних – дура. Так-то вот, Дядя Владя.
– Приходила-то зачем?
– Так… – она неопределенно повела плечами. – Соскучилась. А может – влюбилась. Вы сможете полюбить падшую жен… – начала она с надрывом в голосе, но Владик ее перебил:
– А если честно?
– Если честно… – она понурила голову. – Я спросить у вас хотела, сколько дают за явку с повинной?
– Украла что-нибудь? – с тревогой спросил Владик.
– Нет.
– Хоть раз в жизни можешь ты мне правду сказать?! – воскликнул он. – Сколько ты можешь врать? Ведь у тебя даже в личном деле три разных адреса поставлены и все три фальшивые. Да, я проверял.
– Да не вру я, Владя, – воскликнула девушка. – Мне и впрямь нельзя правду говорить, потому что по настоящему-то адресу родичей моих отыскать можно, а я их от этих сволочей беречь должна, понимаешь? А про явку – это я не для себя, а… в общем, для одного человека. Он хочет исправиться. Но боится, что его после этого…Так сколько за нее дают?
– Нисколько, – ответил Владик. – Дают за преступления. А явка с повинной учитывается на суде и обычно служит основанием для вынесения более мягкого приговора.
– Более мягкого… – пробормотала девушка. – Значит не пятнадцать лет, а десять? Или восемь?.. Ой, мамочки…
– Да что ты? – изумился Владик. – Какие еще пятнадцать лет. Ведь не убила же ты никого, а? Таська? Ты что? – схватив ее за плечи, он сильно встряхнул.
Вместо ответа девушка упала ему на плечо и залилась слезами.
– Ой, боюсь я, Владинька, – всхлипывая, говорила она.
– Чего?
– Дюже смерти я боюсь. Я ее завсегда чуяла, еще в деревне, и когда дед Устин Акимыч угорел, я это за два дня чуяла, и когда тетка Марья померла, тоже чуяла, только мамке не говорила, вот и сейчас чую, ходит она рядом со мной…
– Может, психуешь?
– Нет, чую… – услышав звук автомобиля, она обернулась и, увидев приближающуюся оливкового цвете «волгу» и пригашенным зеленым огоньком. – Выследил, гад! – с ненавистью воскликнула она, глядя на такси.
– Кто? – не поняв, переспросил Владик.
– Стой здесь и не подходи ко мне, понял? – быстро шепнула она ему. – А если спросит кто про меня, скажешь, мол старая знакомая манда, хотел налево сходить от жены втихаря. Ну, чеши отсюда, живо!.. – и бойкой походкой направилась к такси.
18
– Так, говоришь, оливкового цвета? – удивился Звенигоров. – А не синее? А на крыше оранжевый фонарик есть?.. А шофер молодой или старый? А на голове что? Не кепка, нет?
– Послушай, что ты меня пытаешь?возмутился Владик. Он заехал в управление, чтобы получить выписки из протоколов (в последнее время ему поручали исключительно бумажную работу) и мимоходом рассказал Звенигорову о разговоре с Таськой. Тот этим неожиданно заинтересовался, подробнейшим образом обо всем расспросив, показал ему фоторобот. Владик долго смотрел на фотографию пленительно улыбающейся красавицы с лицом, полуприкрытом вуалеткой, потом с горечью покачал головой.
– Она… Что она натворила? Убила кого-нибудь?..
– Я не имею права об этом распространяться, – заметил Звенигоров, – но могу тебе сказать, что эта крошка в настоящее время является одной из самых опасных женщин Союза. Во всяком случае, мужчинам встреча с нею приносит несчастье, это верная примета.
* * *
Во всех крупных ресторанах города уже несколько дней подряд кутили одинокие молодые люди с военной выправкой.
Они сорили деньгами, не упуская случая продемонстрировать официантам толстую пачку купюр. Девочки на них часто клевали, но всё не те. Однако с этого дня «охотники» уже точно знали приметы «дичи», ее излюбленные маршруты и места обитания.
Они готовы были в любое мгновение захлопнуть свою сеть, но добыча ускользала от них, будто шестым чувством ощущая грозящую опасность…
* * *
– Да брат я ейный, брат, вы шо мени, не верите? – возмущался рослый, чубастый парень, чем-то похожий на запорожского казака. Это сходство еще более усугубляли широкие штаны со штрипками на щиколотках и просторная, расстегнутая на загорелой груди рубаха-марлевка.
– Брат должен предъявить документы, – уныло бубнил Кузьменко. – Ты же не в детский сад приехал. Тут государственное учреждение…
– Но я имею право…
– И нечего тут права качать, – уже жестче сказал Кузьменко. – Сказал: документ давай. Вот человек!
– О чем спор, Кузьменко? – спросила Марья Михайловна, входя в его кабинет на КП.
– Да вот… За маленькой этой пришли, за Брусникиной, говорит, брат ейный, – и капитан с подозрением смерил взором чубатого.
– Ну, раз брат, так пусть забирает. У Брусникиной гоноррея подлечена, а держать ее лишнее незачем. Пусть она только подтвердит, что он ее брат. А кстати, почему ее отчим, Георгий Петрович, кажется? почему он за ней не приехал?
– Так у него ж работа! – с обезоруживающей улыбкой Петро развел руками.
– Здорово, сестричка! – расцвел он, когда в сопровождении Анны Петровны в помещение вошла Мышка. – Шо к ты, не признаешь своего Петра?
– Тихо ты! – прикрикнула на него медсестра. – Брусникина, ты подтверждаешь, что этот человек действительно является твоим братом?
Губы девочки дрогнули. Она взглянула на парня со всей оставшейся надеждой и отчаянием, со всей любовью и нежностью, какие в ней до той поры трудно было и подозревать и прошептала:
– Да… брат… Братик мой милый! – глаза ее увлажнились.
– Ну, иди, одевайся, – смягчилась Анна Петровна. – А ты, она повернулась к Петру, – напиши расписку, что обязуешься доставить ее домой и присматривать за ней. Вот образец.
– Ты меня прости, слышь, Петечка, – торопливо говорила Мышка, крепко держась за руку своего спутника. – Прости, слышишь? Я ведь – невиноватая. Даже не знаю, кто меня мог так…
– Да будет тебе, – ухмыльнулся Петро и великодушно потрепал ее по плечу. – Как грится – с кем не бываит! Будем считать, что «они оба получили в том стражении боевое крещение»! – продекламировал он.
Девочка хихикнула. Они шли по шоссе мимо лесопосадок. Неожиданно Петро потянул девочку в сторону зарослей ельника. В это время на шоссе показался автобус.
– Ты – чего? – насторожилась она. – Вон же едет!.
– Там у меня мотоцикл спрятан. Не понимаешь? – он он с усмешкой подмигнул. – Не хотел я на мотыке к вашим подруливать. Он… как бы тебе сказать, еще не совсем мой, одолженный, понимаешь?
– Ох, Петро, и влипнешь же ты когда-нибудь со своими мотыками, – выговаривала Мышка, пробираясь следом за ним. Миновав полосу редко посаженных, пожелтевших елочек, они углубились в чащу, где деревья принялись лучше и были вдвое выше человеческого роста. На душе у девочки было неспокойно: в толпе сходивших с автобуса людей ей почудилось знакомое лицо. И теперь она чувствовала, что тайком от него готовится совершить что-то постыдное и глуповато-гадкое, на что ее, как она считала, постоянно толкала слепая судьба. Неожиданно она остановилась. Там, лесная поросль была гораздо гуще, на небольшой вытоптанной полянке с черным кругом от кострища стояли пятеро парней лет от 20 и выше. Увидев их, Мышка, робея, попя-тилась, но Петро вытолкнул ее в центр круга.
– Ого, – сказал он с притворным изумлением, – да здесь же нас, оказывается, друзи ждуть. Не знакомы, нет? продолжал он, ерничая. – Разрешите представить, мой друг, Гришуня, его за тебя с работы выгнали, на весь город ославили, а ведь раньше-то он на самой почетной доске висел-красовался. А вот Володя, он, благодаря тебе, курва, жену и двух детишек заразил.
– А я тут причем? – Мышка обрела голос и вся подобралась. – Я вас не звала, вы сами…
– Заткни хайло, сучара, – оборвал ее Петро. – У Михаськи, вишь-ты, свадьба расстроилась, а он со своей невестушкой только разик-другой и успел…
– Блядь, курва!.. – вихрастый юноша с гневно горящими глазами с ненавистью сжал кулаки.
И девочка, которой все они до этой минуты казалось на одно лицо, вспомнила как горели его глаза (почти так же), когда он ложился на нее, и как точно так ж сжимались его громадные, широкие ладони, сминая крохотные бугорки ее еще неразвившихся грудей.
– Больно… не надо, больно… – вяло бормотала она тогда.
– Ничего, будет больно, будет и приятно, – успокаивал ее Михаська. Подняв повыше ее колени, он навалился всем телом, и Мышка застонала от боли. Она еще не умела наслаждаться любовью, если можно было обозначить этим словом то, что регулярно проделывали с ней Петро и другие ребята со двора и из школы. Порой ей казалось, что ее вот-вот разорвут пополам особенно напористым движением, но потом все проходило, и лишь тогда накатывала приятная усталость, и истома изнеможения охватывала члены, а затяжка сигареты и бокал вина навевали эйфорию и состояние блаженного полузабытья.
– Эт, братцы, интересный постулат, – заметил Гришуня из-за уставленного закусками и выпивкой стола. – Ох и садист же этот Михася.
– Не-а… – резонно заметил Петро, – був бы он садистом, он бы ее не грёб, а просто морду набил бы и всё!..
Голые ребята, сидевшие в комнате, загоготали, любуясь зрелищем полового акта. Взгляд девочки от них безучастно перешел на стул, на котором висела ее школьная форма с помятым черным фартуком, неказистый портфельчик и стоптанные туфли… и застонала громче и уже непрерывно под учащающимися ударами Михаськиного тела.
– Эх, камеру бы сюда, – мечтательно вздохнул Володя, – да на видачок бы ее…
– А ну-ка на двоих давай попробуем! – вдруг загорелся Петро.
– Я кончу, потом пробуйте! – отрезал Михась. – Хоть на пятерых!
Этот голос и все прочие голоса и звуки, и белые обнаженные фигуры в полумраке, их взгляды, слова и поступки, все эти воспоминания мигом промелькнули в памяти Мышки, когда она, отступая к деревьям и прикрываясь руками, крикнула:
– А где была в тот день твоя невеста?.. А твоей родной жены тебе было мало, да? Вы же сами… Сами!.. Гады! Сволочи!.. – она не умела извиняться, и даже провинившись, предпочитала отмалчиваться, но сейчас она не чувствовала себя виноватой, во всяком случае, не больше, чём эти взрослые парни, почти дяденьки, которые сейчас, обманом выманив ее из убежища, предъявили теперь ей свой счет. Она метнулась в сторону, но Петро подставил ей подножку, и она упала навзничь. И тогда ее принялись избивать.
Были расчетливо и умело, пинали ногами в живот, в спину, садили каблуками по ребрам и почкам. Михаська, тот даже бил с оттяжкой, так что Петро был вынужден предупредить:
– Но-но, братва, полегче! Мне мокруха не светит…
Трудно сказать, чем бы все это закончилось, если б со стороны шоссе не затрещали ветки и из-за деревьев не показался Владик. За ним торопился капитан Кузьменко.
– Брат!? – отчаянно выкрикнул Владик, с ненавистью разглядывая разгоряченные лица парней. – Кто из вас ее брат? Изверги, нелюди! – он опустил глаза на распростертое тело девочки.
Кузьменко непроизвольно потянулся к кобуре с пистолетом.
Парни, не сговариваясь, бросились в рассыпную. И лишь тогда по телу девочки пробежала дрожь, она застонала.
Сознание медленно возвращалось к ней. Ярко-красная пелена, залившая мозг, мысли и чувства в момент первого удара и грозившая перейти в глубокую, безвозвратную тьму, постепенно рассеивалась, уступая место молочно-белому тягучему туману, в котором смутно колыхались какие-то дымчатые фигуры, слышалось позвякивание металла о стекло, доносился резкий запах лекарств, хрустели невероятно чистые бинты. Затем все ушли, оставили ее одну. Было невыносимо тяжко раскрыть веки, пошевелить хотя бы пальцем, но обостренный слух уловил разговор в соседнем помещении, тем более, что велся он на повышенных тонах.
– Вы уже позвонили в «скорую»? – спросила завотделением у Владимира Семеновича. Неожиданно в их разговор вмешался Владик.
– Мы виноваты в том, что случилось, нам и лечить Машу.
Марья Михайловна удивленно вскинула брови:
– Вам? Вы лично будете ее лечить? Вы берете на себя ответственность за здоровье ребенка?
– Почему-то о здоровье этого ребенка никто не думал, когда под честное слово выбрасывали ее на улицу с верзилой! – взорвался Владик. – Да поймите же вы, здесь у нее хоть подруги, есть с кем пошушукаться, словом перемолвиться. А там… – Пауза. Напряженною молчание. Затем Владик вновь говорит и голос его дрожит: – Мы не должны, не имеем права выбрасывать ее наружу, пока не обеспечим хоть в какой-то мере ее будущее, а не то вся наша работа воспитателей, медиков, психологов делается впустую.
– Но у нас же для ее лечении нет ни условий, ни медикаментов… – усталым тоном втолковывает ему Марья Михайловна.
– А для Куклы – находятся? – ледяным тоном осведомился Владик. И понял, что попал в точку. В такую, в которую ему, может быть, вовсе и не хотелось бы попадать. После этих его слов наступила пауза еще более тяжелая. Потом Марья Михайловна произнесла неприятным тоном, обращаясь к Владимиру Семеновичу:
– Ну-с, вот и дождались. Получайте теперь благодарность за ваше сердоболие.
Не в силах ничего ответить, Владимир Семенович машет рукой и, в сердцах обозвав Владика «дураком», выходит из помещения. За ним, кипя негодованием, выплывает и Марья Михайловна. Мышке хочется их остановить, объяснить, втолковать, что Владик не таков, за какого они его принимают, что он лучше всех на свете, и добрее всех, и честнее, но не может она издать ни звука, ни единого движения сделать не в силах, и потому отдается мрачному кошмару очередного нахлынувшего на нее сна…
19
– Вы знаете, что самое страшное в наших ночных дежурствах? – спросила Анна Петровна у Владика. Они сидели в манипуляционной при свете настольной лампы.
– Что? Заснуть? – заинтересовался молодой человек.
– Ну что вы! – усмехнулась медсестра. – Это-то как раз и не страшно – разбудят. Лишь бы ЧП не было. Да это и понятно, легко ли двум ночным медсестрам уследить за тремя десятками самых отъявленных хулиганок города? Нет, сон у меня чуткий. Но я всегда особенно остро реагирую на тишину.
– Вы хотите сказать «на пум»?
– Нет, шум – это само собой. Шум – это значит очередная ссора, драка или скандал. Но самое страшное, как правило, совершается в тишине. Вот, слышите?
– Что?
– Восьмая палата затихла. Тут что-то не то…
– Думаете, это опять Шиза?
– Нет, когда она начинает, это для них, напротив, развлечение. Тут что-то другое… Подойдите, не заходите, там может быть что-то неприличное…
Крадучись, она бесшумно направилась к двери и так же тихо прошмыгнула по коридору.
– … Это удав Каа выходит на свою ночную охоту… – замогильным голосом прошептала одна из девочек первой палаты.
В восьмой палате и в самом деле царила мертвая тишина. Кто-то из девочек смотрел, а кто-то спрятался под одеяло лев силах видеть, как Щипеня учит Куклу «уму-разуму». Она сидела на плечах своей жертвы, прижав бритвенное лезвие к ее шее и шептала:
– Русаки ей не нравятся… А немцам давать нравится?
Перепуганная Кукла только бурно дышала, с ужасом кося глаза на лезвие.
Медленно, движением пальца Щипеня подняла ей верхнюю губу и недобро улыбнулась.
– А хороши у тебя фиксы, – с одобрением сказала она. – Ей-богу, мастер делал.
– Финкельман, – с полными слез глазами пролепетала Кукла.
– Хороший дядя Финкельман, – подтвердила Щипеня. – И Бигса тоже хорошая чува была, пока по твоей милости на неделю в «шизо» не укатила. А за что, Куколка?
– Оставь ее, Щипа, – негромко сказала Бигса. – Будет с нее.
– Ну нет, – возразила Щипеня. – Ты думаешь, я за одну тебя ей мщу? Мы выйдем отсюда – и опять по подворотням, а она на «мерседесах» будет раскатывать?.. Фиксами сверкать? Ну, нет больше она сверкать не будет…
– Нет… – застонала Кукла, но Щипеня взмахнула лезвием, и та зажмуридась. Жестом, подсмотренным в каком-то боевике, – Щипеня несколько раз сжала и разжала пальцы. Ей в руку вложили щипцы для ногтей. В следующую секунду Щипеня наступила коленом Кукле на горло, а щипцами полезла ей в рот. Кукла замечала, завизжала.
В следующую минуту в палате вспыхнул свет.
– Немедленно прекратить! – выкрикнула Анна Петровна. – Ах вы… извращенки!.. – она решила было вначале, что девочки занялись «лесбийской любовью», явлением, не столь распространенным на «даче», сколько в колониях. Но увидев полные слез глаза Куклы, кровь на лице и два родовых огрызка на месте ее роскошных золотых зубов, она все поняла и обернулась к Щипене.
– Так ты еще и воровка, – констатировала Анна Петровна с видимым удовлетворением, будто найдя лишнее доказательство тому, в чем давным-давно уже не сомневалась.
– Ничего я ни у кого не украла! – огрызнулась Щипеня. – Там ее фиксы; под кроватью валяются. А наказали мы ее по делу. Правда, девки?
– Правда, правда! – затараторила девочки. – Это она хрен у Бигсы в тетрадке нарисовала… И еще всех свиньями зовет… И воображает…
– Тихо! – прикрикнула на них Анна Петровна и решительно сказала Щипене: – Встань и иди за мной.
– Сами донесете, – огрызнулась та. – У меня ножки болят.
– Ну уж нет! – глаза медсестры зло сощурились. – Ты сама, своими ручками себе дорогу в тюрьму проложила, своими же ножками туда и пойдешь.
С этими словами она схватила Щипеню за руки, заломила их за спину и потащила ее к изолятору. Девчонка отчаянно вырывалась, истошно вопила, потоки самой грязной и несусветной брани лились из ее красиво очерченного рта. Выскочивший на шум Владик проводил их недоуменным взглядом. Вернувшись, Анна Петровна уселась писать рапорт.
– Вы уверены, что это необходимо? – спросил Владик, заглянув через плечо Анны Петровны, которая, подложив трафарет под лист бумаги, испещряла его ровными бисерными строчками.
– Что же, по-вашему, мы должны им все это спускать с рук? – Анна Петровна подняла на него свои стеклянно-голубые глаза с нескрываемым изумлением. – Разве я солгала здесь хоть единым словом? – тихо спросила она.
– Бывает ложь… во спасение… – с трудом проговорил Владик, – Пожалуйста, не упрекайте меня в ханжестве, но здесь этот термин достаточно точен. Если ваш рапорт пойдет по инстанциям с таком виде, Щипене грозит тюрьма.
– Может, хоть там ее исправят, – холодно заметила Анна Петровна.
– Да не исправят, не исправят, в том-то все и дело! И вы и я – все это прекрасно знают! Да, конечно, вижу я, что девчонка эта без царя в голове, любит строить из себя этакую приблатненную Соньку Золотую Ручку, этакую девицу Оторви-да-Брось, но мне кажется, все это лишь одна из форм защиты. Она не прирожденный лидер, но терпеть не может, чтобы ею помыкали. Вы понимаете?
– Я, Владислав Евгеньевич, – с легкой улыбкой сказала Анна Петровна, – за двадцать-то лет работы здесь многое увидела и поняла. И совершенно точно знаю: если сегодня мы оставим безнаказанным этот проступок, завтра начнутся и другие попытки грабежа, да-да, грабежа, потому что срывать с живого человека золотые коронки – это самый настоящий бандитизм, и даже хуже, это зверство! Это – фашизм! И, будьте уверены, эта ваша Щипеня получит у меня все, что заслужила, полную катушку, выражаясь изысканным языком ваших воспитанниц.
Взглянув на молодого человека, она отложила ручку и с иронией добавила:
– Ну, что вы на меня смотрите, как на исчадие ада?.. Зачем головой качаете со столь глубокомысленным видом? Неужто думаете…
– Я думаю, – перебил ее Владик, – что если мы, призванные любить и воспитывать этих глупых и несчастных детей, до такой степени ненавидим их, то… до какой же степени все они ненавидят нас?..
Выйдя из дежурного кабинета, он направился в дальний конец коридора, спустился по лестнице и подошел к массивной стальной двери с глазком. За ней разместился изолятор, который уместнее было бы назвать карцером. Когда он заглянул, Щипеня, уже успокоившись, сидела на лавке, подобрав под себя колени и отстраненным взором глядела куда-то вдаль.
– Доигралась, Котова, – сухо сказал Владик, заглянув в глазок. Бетонные стены и пол и широкая щель с двери делали слышимым каждое слово, каждый вздох.
– Ну, доигралась, – буркнула девочка. – Тебе-то, лягашу, что за дело?
– Ты же прекрасно знаешь, что я к органам никакого отношения не имею.
– А к нам тебя как засадили? В порядке исключения?
Раньше она с ним никогда не позволяла себе так разговаривать. Неужели последний поступок позволил ей почувствовать себя в чем-то выше него? До некоторого времени она сдерживала в себе беса, не позволяла себе ни дерзостей, ни острых словечек, до какой-то степени подавила в себе вольную и бесшабашную натуру, которая снискала ей любовь, уважение, а порой и преклонение некоторой части воспитанниц. И трудно было понять, как же она на самом деле, то ли миловидная девочка с опущенным, но порою лукаво поблескивающим взором, то ли – эта расхристанная особа неопределенного возраста, что безо всякого стеснения развалилась перед ним, до пояса заголив ночную рубашку?
Стрельнув глазами в его сторону, она с самым непринужденным видом вовсе стянула с себя рубашку, меланхолично бросив:
– Ох, и жарища же тут у вас… Духота…
– Ты что? Подразнить меня хочешь? – сказал Владик со смешком, желая подавить внезапную сухость в горле. – Неужели не понимаешь, что сама себя, свои девичью гордость в грязи топчешь?
– Какая уж там гордость?.. – с горькой иронией бросила она. – Сами же… сами на меня, как на вещь смотрите. Все, все, лишь бы пощупать, зажать в углу, оттянуть… Да, вещь я, вещь, машина, робот, станок для траханья – это вы от меня хоте услышать? Я такая есть, такой буду и такой сдохну, что вам еще от меня нужно?
– Ты оделась бы, холодновато тут, бетон, еще простудишься – посоветовал ей Владик. – Вот ты сейчас спрашивала меня, как я сюда попал. Для ознакомления, Котова, как тебя зовут-то, кстати?
– Таня… – устало бросила Щипеня.
– Видишь, какое имя красивое. «Ужели, милая Татьяна»… а ты его на кличку поменяла… Так вот, в газете я работал. И как-то сразу пошли у меня одна за другой темы – всё дети, и дети; стал я спецкорром по школам и ПТУ, «пионерским курьером» меня прозвали. И писал я про ваше счастливое детство, пока не понял, что далеко не у всех оно такое счастливое. И вот тогда пришла моя тема. Понимаешь? Я побывал во многих колониях, спецшколах и спецучилищах, мальчиковых и девичьих, говорил с многими ребятами, очень на вид неплохими, даже очень… грамотными, неплохими и славными. Казалось, сотри, забудь о пятне, которое лежит на них – и все они вернутся к родителям и все вновь станут нормальными мальчиками и девочками… Но почему они не возвращаются, вот чего я никак понять не мог…
– Нет… – сдавленным голосом проговорила Щипеня. – Мы здесь уже клейменные…
– Что?
– Вы вот, – поднявшись в нар, девочка подошла к глазку и внимательно поглядела в него, – вы когда-нибудь отпевание слышали? – И уточнила: – Церковное. А я вот слышала, как бабку мою отпевали. Единый она у меня родной человек была, кроме папы-алконавта и мамы – пьяни подзаборной. Я и деньги в церкви дала, чтобы ее отпели по-старому, по-церковному, чтоб всё красиво было. Да и сама она много денег жертвовала попам. А они… приехали трое в задрипанном «москвичонке», повоняли кадилом, пробубнили что-то наскоро и соскочили. И так вот моя бабуля была просто мертвой, а стала еще и отпетой, и тем самым ее смерть стала как бы узаконенной, и назад ей путей не было. Вот и все мы тут, Дядя-Владя, одним миром мазанные, «отпетые» мы навеки вечные. Всех нас в ваших «спецурах» отпевают раз и навсегда, и нет нас уж ни среди живых, ни среди мертвых, а лишь среди падших… А лахудре этой, медсестре, так и передай, чтобы новый срок мне не шила, я ее из-под земли достану. Слышь? Так и передай – достану! – закончила она, с силой сжав кулачки и гневно сверкнув глазами.
– Сколько же в тебе зла, Таня, – в изумлении пробормотал Владик.
– Зла во мне ровно столько, сколько мне добра Господь Бог отмерил, – сухо заключила Щипеня. – Не больше и не меньше. Сколько зла я от людей повидала, столько же им и воздам, и еще добавлю.
– Сколько же тебе лет, злючка ты моя несчастная?
– Слава богу уж не маленькая, – буркнула Щипеня. – С семьдесят пятого я. Сегодня мне восемнадцать стукнуло. Ну, чего ты на меня вытаращился? Деньрождение у меня такое счастливое. А вы меня сюда вместо подарка посадили.
– Да пойми же дура, ты ведь уже совершеннолетняя! – закричал на нее Владик. – Кончились твои спецучилища. И отвечать за сегодняшние зубы ты будешь по взрослой статье, за грабеж с насилием! Поняла?!
– Нет! – взвизгнула Щипеня. – Только не это! Дядя-Владя, уберегите! Христом-богом молю, только не на взросляк… Христом… Христом… Я… я для вас всё… всё на свете… я…
– Эх, Танюша… – Владик тяжело вздохнул и покачал голв вои. – Раньше о боге думать надо было… – он сунул руки в карманы пиджака и обнаружил там бумажный пакетик, прихваченный в магазине к чаю. – На вот, печенье ешь. Свежее. Кушай. – он сунул пакетик в глазок и быстро отдернул руку, потому что почувствовал на пальцах горячее дыхание и прикосновение влажных губ.
Съев печенье, Щипеня уселась на пол, поджав под себя колени. Ее пробирал озноб. В унисон с крупной дрожью, сотрясавшею все ее тело, в ней вибрировала пугающая мысль. «Всё… Всё… это конец… конец… Нужно было тебе таскать эту стервозу… Теперь – взросляк. А там – под бок к какой-нибудь бандерше. Ну нет, я ей глотку перегрызу – узнают Щипеню»… Смакуя шипящие звуки она несколько раз произнесла свою, гордую кличку, которой величали блудливых зеленоглазых кошек – ведь недаром же она ее носит, так прозвал ее первый мужчина в ее жизни (до этого были сопливые подростки), лучший друг отца, недавно возвратившийся из зоны рецидивист по кличке Зуб, который спустя некоторое время сгинул в зоне, прихватив с собой и. папашу… Неожиданно ей почудилось, что кто-то произнес эту кличку вместе с ней. Она подняла глаза, и увидела часть лица в глазке. Мужчина некоторое время изучал ее. Потом щелкнул ключ, в дверь отворилась. На пороге стоял Кузьменко.
– Ах бедная ты моя бедная девочка, – с ироническим сердоболием произнес он. – Что же это ты натворила тут, а?он подошел к ней, встал во весь рост, положил руки ей на голову.
– Ты… вступись за меня. Мочила, а? – попросила она его. – Не по кайфу мне на взросляк переть. Мне б только выскочить отсюда, и я…
– А это уж будет зависеть от тебя, – глухо сказал он.
Она поняла, конечно же все поняла, и потому, не вставая с колен, исполнила все, на что безмолвно намекал охранник, то, чему ее научил Зуб, изощреннейшей ласке пылающими губами и языком, доводящую мужчин до неистовства, выбивающую из их могучих грудей хриплые стоны и сладостное бычье мычание. На душ ее вновь стало тепло и покойно, и вновь она ощутила себя непременной принадлежностью для удовлетворения чужих желаний. Она объединилась с мужчиной в единое целое, он груб и могуч, тело его сотрясает дрожь наслаждения, толстые, волосатые ноги уперлись в землю, мышцы в них напряглись как струна, в ягодицах от напряжения – ямочки. Она подняла взгляд.
Теперь он уже не «кусок», не Мочила, не «лягаш», он уже ее раб, он ничтожный пленник своей гордо выпяченной плоти…
– Ты сделаешь это? – спросила она. – Ты поможешь мне?
– Да, да, – лепечет он, суетливо тычась ей в лицо. – Все, что захочешь сделаю, миленькая моя, славненькая…
Она верит ему и не верит. В эти секунды, за считанные мгновения до оргазма, мужчина готов пообещать всё на свете, лишь бы добиться удовлетворения своего желания. Но и Щипеня тоже стреляный воробей, и потому, лизнув его, она лукаво спрашивает:
– Детьми клянешься?
– А то как же? – :заверяет ее капитан. В это мгновение он готов поклясться чем угодно, лишь бы довести до конца изнуряющую ласку этих карминно-красных, будто из рубина вырезанных губ. Сам он бездетен, о чем в этот момент предпочитает не вспоминать.
20
И вновь они с Владимиром Семеновичем бродили по обширной территории диспансера, мимо крупноячеистой сетки, из-за которой на них сурово взирали тяжко дышавшие, длинноязыкие овчарки, мимо садика, который с ленцой окапывали девчата в одинаковых бурых больничных халатах. Молодого человека обволакивал и завораживал густой, бархатистый голос психолога (поговаривали, что он хорошо владеет гипнозом). Теперь Владика не оставляло чувство, что и сам он сейчас является объектом ненавязчивого, но глубокого внушения.
– Напрасно вы, Владик, можно я вас так буду называть?.. Так вот, напрасно вы за них заступаетесь. Думаете, они стоят этого? Да нисколько! Они, если хотите знать, уже и кличку вам дали: Дя-дя-Владя. – и он испытующе поглядел на молодого человека.
– Не такая уж и плохая, – усмехнулся Владик.
– Плохая, ужасная, – убежденно сказал Владимир Семенович. – У этих кличка – больше, чем паспорт, она – четкая и краткая характеристика всей человеческой личности. Знаете, как например нашу заведующую прозвали? Нет? Грымзой. А Анну Петровну – Тигрой полосатой. Кузьменко, например, Мочилой. А…
– А вас?
– Меня? – Владимир Семенович смущенно улыбнулся. – Меня они Хай-Гитлером прозвали. Наверное из-за волос, – и он привычным жестом поправил сбившуюся на лоб длинную прядь светлых волос, успешно маскирующих плешь. – Но обидной клички бояться не надо. Надо бояться клички бесцветной, пустой. Вот, по вашей, скажем, сразу видно, что они в вас слабину чувствуют. И не преминут ею воспользоваться. Вы вчера хулиганку пожалели. Самую отпетую среди всех этих…
– Это уж точно, – обреченно согласился Владик.
– А ведь они вас не пожалеют. Нет, не пожалеют, помяните мое слово… Здесь, здесь полей! – крикнул Владимир Семенович девочке со шлангом, усердно поливавшей территорию. – Да лужи-то, лужи не делай, рохля!..
Бигса с трудом подтащила тяжеленный шланг к плацу и, заткнув пальцем отверстие, попыталась разбить тугую струю воды, но вся вымокла до нитки, да еще и облила других девочек, которые подметали плац. Они разразились возмущенными криками.
Остальные обитательницы «дачи» в это время занимались побелкой деревьев.
Совершенно неожиданно для самого себя, Владик подошел к ней, забрал у нее шланг и пустил в воздух пестро-радужный фонтанчик. Сейчас он нарушил негласный закон «дачи», по которому руки воспитателей никогда не были заняты каким-либо трудом Они должны были заставлять трудиться других, принуждать к работе. Повернувшись к Владимиру Семеновичу, опешившему от его поступка, Владик продолжал:
– Послушайте, а может и не надо никого особенно жалеть? Может быть, просто надо относиться к ним по-человечески? Просто сочувственно, с теплотой, по-доброму, или таких понятий нет в медицинском лексиконе?
Постояв немного на плацу и чувствуя на себе пристальные взгляды окружающих, Владимир Семенович подошел к нему и встал рядом, но не совсем рядом, а чуть поодаль и нахмурился.
– Да, да, по человечески… – согласно кивнул Владимир Семенович. – Я поначалу к ним тоже по-человечески, жалел, утешал, увешивал. Но когда увидел, как они попадают сюда по третьему, по четвертому разу, как потом перекочевывают туда, – он махнул рукой за ограду из колючей проволоки, где находилось взрослое отделение диспансера, – а оттуда и дальше, в колонии, вот тогда-то я, милый мой, и уверовал в генетику, и в плохую наследственность. А было это еще в те дни, когда за эти науки очень просто можно было и с должностью распрощаться, и в тюрьму пойти. Суровые, что и говорить, были времена. А такого, как сейчас – не было. То, что происходит сейчас – это самая настоящая пандемия. Девяносто пять процентов наших с вами подопечных обречены. Да, да, они больны, серьезны больны, и наше общество с этой болезнью еще не научилось бороться. И, кстати, не только наше. И эта болезнь – не сифилис, не СПИД, не чума, а гораздо хуже – это распущенность, слишком раннее пробуждение половых инстинктов, тяга к запретному плоду.
– Мне кажется, вы противоречите сами себе, – возразил Владик. – еще недавно вы рассказывали мне о том, что необходимо лечить души заблудших, а сегодня…
– Лечить можно не только таблетками, но и клистиром, касторкой и кровопусканием, – отрезал Владимир Семенович и направился в корпус энергичным шагом, и оттого не расслышал или сделал вид что не расслышал последних плов оппонента:
– Этими средствами лечили в средние века…
* * *
Несмотря на свой относительно небольшой стаж, Владик считал, что достаточно хорошо разбирается в женщинах. За свою репортерскую жизнь ему пришлось повидать и совсем юных старух и молодящихся пенсионерок. Однако при первом взгляде на юную и стройную блондинку в белоснежном брючном костюме, он решил, что к ним случаем заехала какая-то столичная журналистка.
– Знакомьтесь, – сказала Марья Михайловна, – это мама Аничкиной.
– Лилиана, – сказала девушка с приветливой улыбкой, протягивая руку и непроизвольно стреляя глазами. Они с Куклой, которая сейчас дожидалась исхода разговора в коридоре, были поразительно похожи на двух веселых голубоглазых сестричек. Что-то общее было и во взглядах их, и в манере держаться, в посадке головы, в стандартных улыбках, которыми они щедро одаряли окружающих, в их одинаково рьяно накрашенных ртах, словом, было в них нечто такое, что позволило Владику сделать безошибочный вывод об их недвусмысленной профессиональной принадлежности к так называемой «группе риска».
– А это – воспитатель в группе, где занималась ваша дочь и эта… Котова.
– Ой, что вы говорите! Разве ж им педагог? Им надзиратель со «шмайссером» нужен! – непринужденно сиронизировала юная мама. – Как только вы с ними управляетесь?
– Да… по-разному… – сказал Владик, пожав плечами. Воспитываем помаленьку, лишь бы не мешали.
– Однако я до сих пор не понимаю, как вы могли допустить, чтобы моя Инночка находилась в одной палате с этими… с этой… – возмущалась Лилиана.
Владик подумал, что она имеет полное право возмущаться, недаром ведь девчонки говорят, что каждый ее визит на «дачу» превращается в настоящий праздник для персонала, все медсестры и воспитательницы после ее ухода благоухают французской косметикой. Однако сам Владик к парфюмерии был равнодушен и в пристрастиях объективен, а потому, набычившись, сказал:
– А чем, собственно, ваша дочь отличается от остальных наших пациенток? Она ведь сюда тоже, чай, не с насморком попала, – сказал и покраснел как мальчишка – он не любил и не умел грубить.
– Да видела уж я ваш контингент, за это время полностью, изучила, – махнула рукой Лилиана, – все они бандитки, пробу ставить некуда. И я требую, слышите? – она вновь повернулась к Марье Михайловне, – требую, чтобы к этой курве, извиняюсь за выражение, были применены самые строгие меры.
– Не волнуйтесь, она будет сурово наказана, – поспешила ее успокоить заведующая.
– Она уже третий день сидит в изоляторе, – добавил Владик, но этим только подлил масла в огонь.
– Чи-и-воо? – зло сощурилась Лилиана. – Это за разбойное-то нападение с применением технических средств? Вольно же вы УК толкуете!
– Никакого нападения не было! – запротестовал Владик. – Я сам дежурил в ту ночь и…
– Было! – схватив со стала рапорт, написанный Анной Петровной, Лилиана торжествующе потрясла им в воздухе. – Или вы хотите, чтобы я комиссию на вашу «дачу» напустила? А не пожалеете потом, граждане-начальнички? Короче, Марья Михайловна, либо вы эту Щипеню отдаете под суд, либо я нынче же пишу заявление на имя прокурора, что вы покрываете своих бандиток, ясно? – и она вышла из кабинета, гордо цокая каблучками. Кукла поспешила следом за нею. Взглянув на Владика, Марья Михайловна лишь пожала плечами.
Владик догнал их уже на выходе, придержал Лилиану за локоть. Она резко повернулась с брезгливой миной, которая тут же сменилась приветливой улыбкой.
– Ах, это опять вы… – сказала она таким тоном, будто всю жизнь мечтала об этой встрече.
– Да, я… хотел бы попросить вас об одном одолжении.
– Для вас? – расцвела Лилиана. – Да сколько угодно. С преогромным удовольствием. Ступай в машину, – велела она дочери.
– Нет, это не для меня, – Владык потупился, не в силах выносить влюбленного, ишущего блеска ее глаз. – Я спять про этот дурацкий случай, про Щипеню, то есть про Таню Котову. Понимаете, у этой девочки очень несчастная и трагичная судьба, в которой мы, взрослые, в какой-то степени сами виноваты. Но мне кажется, что в отличие от многих здешних девочек она еще не переступила в душе своей той черты, которая отделяет человека от преступника. Да-да, все, что она сделала с вашей дочерью – это подло, мерзко, гнусно. Она должна быть и будет наказана, но… она сейчас на распутье, понимаете? Для нее сейчас совершается выбор, в какую сторону пойти, в сторону исправления или же дальнейшей конфронтации с обществом, и если в эту минуту мы бросим ее в колонию, она уже не сможет вернуться в общество нормальных людей. Она станет… действительно отпетой, неужели вы меня не понимаете? Колония ломает души на всю оставшуюся жизнь…
– Напрасно вы бьете на жалость, – Лилиана мягко положила руку ему на локоть. – Лучше помогите моей девочке сняться с учета, и мы обе будем вам крайне признательны. Вы понимаете? А за эту хулиганку вы особенно не волнуйтесь. Ей одна дорога в тюрягу. А мир нормальных людей без нее прекрасно обойдется.
– А вам с вашей дочкой куда дорога? – с холодным бешенством в голосе осведомился Владик. – Под своды интуристовских отелей? В валютные бары? В портовые кабаки? И не жалко вам своей Инночки? Ведь по вашей, материнской милости она сюда, к нам попала!
– Хамите, юноша, – не снимая с лица улыбки отметила Лилиана. – А хамить женщинам – гадко. Пусть даже таким как мы. У нас, в стране, как вы, должно быть, в школе проходили, любой труд почетен. А по труду – и награда. Мы с Инночкой, если хотите знать, в хорошую ночь зарабатываем больше, чем вы за год трудов своих праведных. Так что не вам её, а ей вас жалеть надо, «Дядя-Владя»! – пропела она с нескрываемой иронией и, поигрывая задом, направилась к новенькому «мерседесу», ожидавшему ее на шоссе. Высокий, худощавый негр, копавшийся в моторе, опустил крышку капота и помахал ей рукой. Лилиана так же помахала ему и, крикнув что-то по-французски, прибавила шагу. Второй негр, сидевший в машине, что-то сказал первому, после чего оба они от души рассмеялись. Кукла поняла, о чем они говорили, но сделала вид, что не расслышала этого, поскольку и в самом деле была занята и быстренько, пока не увидела мать, старалась отработать стодолларовую бумажку, надежно запрятанную в лифчике.
* * *
Щипеню увезли дня через два в милицейском «газике», в сопровождении двух молодых сержантов. Одного из них она попыталась игриво взять за локоть. Он брезгливо сбросил ее руку. Девчонки, столпившиеся за оградой, засмеялись.
– Возвращайся к нам скорее. Щипка! – крикнула Бигса.
– Ну уж нет! – принужденно засмеялась та. – Теперь уж я вас к себе в гости ждать буду! А нашей Петровне от меня, – она стукнула ребром ладони по локтю, – физкультпривет с ушами!
Дверь сухо клацнула, и машина запылила в далекую степную даль. Некоторые девочки плакали, другие, проводив ее взглядами, сжимали кулаки.
21
Элегантный мужчина с тонкими усиками, явно кавказского типа, сидел за столиком ресторана и сосредоточенно жевал.
Перед ним на столе стояла ваза с фруктами, закуски, початая бутылка марочного коньяка, пачка «Ротманз». На стульях рядом лежали два увесистых баула и чемодан.
– Закурить не найдется?
Он поднял глаза. Таська, неотразимая в своем красном шифоновом платье, стояла возле него, и во взгляде ее одновременно были вопрос и ответ.
Через полчаса она уже знала, что его зовут Махмудом, что он приехал изкакого-то, кажется, Мир-Башира покупать машину, желательно иномарку, что в гостинице проверка, или симпозиум, словом, ночевать не пускают, а в гостиничном кооперативе заставляют спать в одной комнате с еще тремя постояльцами за 50 баксов в ночь. «Ай, негодяй, я тебе двадцать дам, только чтобы я один был, а он нет, говорит, у нас сезон, говорит, а я твой сезон с тобой вместе так… и так… и так… извиняюсь, я такой возмутился, что, клянусь честным словом, так бы и прибил его…»
– А хотите, поедем ко мне? – очень просто, без экивоков предложила Таська. – У меня собственная квартира.
– Ай, ты моя золотая! – непритворно обрадовался кавказец, он же капитан Магеррамов. – Тебя ко мне сам аллах послал!
Расплачиваясь с официантом, он небрежно надорвал банковскую упаковку на пачке сторублевок, и глаза Таськи алчно блеснули. Как всегда в преддверии «дела» в груди ее гулко заколотилось сердце, в висках зашумела кровь, внизу живота возник томный холодок, она вновь делала ставку в рискованной и очень прибыльной игре и уже не вспоминала о минутах слабости и безысходного отчаяния, которые порой накатывали на нее. Она и не подозревала, что с недавнего времени ее фотографии имелись у всех постовых города, что позавчера ее наконец опознали и приставили к ней филера, и что весь сегодняшний день за ней неотступно велась слежка. Да, она безусловно могла считаться одной из самых опасных женщин страны – как правило, ее воздыхатели до рассвета не доживали.
В фойе ресторана ее окликнули. Таська обернулась и встретилась глазами с Владиком. Рядом с ним стояла грузная женщина с большим животом, выпиравшим из чересчур тесного и чрезмерно вычурного вечернего платья – его жена.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он, подойдя.
– Ой, здрасьте, – она лишь на мгновение растерялась. – А я тут с моим папиным знакомым из Еревана, познакомьтесь, это Гиви…
– Мамед. – сказал Магеррамов и протянул руку, которую Владик оставил без внимания. Сурово глядя на Таську, он решительно велел: – А ну – домой.
– Ой, да что вы, дя…
– Домой, сказал! – рявкнул он и накричал на опешившего ее спутника: – А вам должно быть стыдно! Вы же взрослый мужчина, а она еще сопливая девчонка, ей же еще семнадцати нет!…
А затем, ухватив Таську под локоть, он поволок ее к выходу. Крикнув Вике: «Я сейчас!» – и стараясь не думать о последствиях этой своей выходки, грозившей всерьез отравить впечатления от праздничного вечера в честь пятилетнего юбилея их свадьбы.
Как только они вышли, к ним подъехало такси. Таська попятилась, но Владик решительно усадил ее на заднее сиденье, сел рядом и скомандовал шоферу: «Поехали!» При этом он не обратил внимания на то, что таксист даже не спросил адреса, будто ему превосходно известно, где обитает эта накрашенная девица, которая, притухнув, сидела сейчас возле Владика. А тот с необычной страстностью продолжал ей выговаривать все, что накипело у него на душе за три последних года, в которые он сталкивался с «трудными детьми».
– Вы не не дети, как говорила моя покойная бабушка, – сердито восклицал он. – Вы ж сволочи! Ну, черт возьми, неужели трудно понять, что грешно, грешно, стыдно, подло – воровать, торговать собой, жить за счет других!? Неужели деньги значат для тебя настолько много, что ради них можно плюнуть и на своё будущее, и на достоинство свое, на самый элементарный стыд. Ведь мама у тебя не такая, я знаю, совершенно не такая. А представь себе, что с нею будет, если она узнает, что ты вновь пошла по этой дорожке? И неужели ты не смогла найти себе нормального честного парня, обязательно тебе надо цепляться к этим толстопузым барышникам? – Машина остановилась. – Пошли. – сказал он, открыв дверцу.
Таська продолжала сидеть.
– Ну что же ты? Вы нас правильно привезли? – спросил он водителя.
– Правильно, правильно, не сомневайтесь, – заверил его тот.
– И долго ты намереваешься сидеть? – вновь спросил Владик.
Помедлив, Таська выбралась из машины и бросила на своего бывшего воспитателя уничтожающий взгляд.
– Ну и влип же ты, Дядя-Владя, в историю, – шепнула она ему. – Давай, мотай отсюда, пока не поздно. Мотай!.. – в голосе ее звучали истерические нотки. – Ну же!.. – и с силой оттолкнула его в сторону. Владик опешил.
– Ай-яй-яй! – осуждающе сказал кто-то рядом. – Это ж надо, приставать к девушке, на улице…
– Барышня, спасти вас от нахала? – предложила другая приближающаяся Фигура.
– Ребята, вы не поняли, – попытался объяснить Владик. – Никто ни к кому не пристает. Просто я…
– Да приткнись ты! – заорала на него Таська и повернулась к людям, окружившим их плотным кольцом. – Ты пойми, Горелый, – с мольбой в голосе сказала она. – Он, дурная башка, мелкий фраер, по глупости ко мне прикантовался, по пьяни, что ли? Словом, это не наш кадр, понимаешь? Пускай чешет отсюдова, всё равно у него ни гроша за душой нету.
– Какого же черта ты его сюда приволокла? – с угрозой спросил главарь и взглянул на водителя, который вышел из машины: – А ты что, не видел, кого везешь?
– Кого надо, того я тебе и привез, – отвечал тот. – К этому кенту она в тот раз и моталась втихаря. Мусор он, точно я тебе говорю.
– Какой он, к черту, мусор? – воскликнула Таська, становясь между Владиком и Горелым. – Лопух он натуральный, воспитатель на нашей даче был… – в эту минуту вдали послышался шум машин.
– Так я и думал… – с горечью проговорил Горелый. – Ссучила ты нас ментуре, подруга, как есть, ссучила, – и выбросил руку вперед. Владик лишь успел подхватить осевшее ему на руки тело.
В это самое время место происшествия неожиданно осветилось фарами нескольких автомобилей. Послышалось требовательное:
– Стоять! Бросай оружие!
Горелый и его команда разом нырнули в карьер и побежали, перепрыгивая через завалы беспорядочно наваленных труб, исчезая и растворяясь в лесу бетонных конструкций. Таська также инстинктивно бросилась за ними, но смогла сделать лишь несколько шагов и покатилась по откосу вниз. В ушах ее зашумело, воздух рванулся из груди, она пыталась вздохнуть, но не в силах была сделать ни единого движения. Звонкий собачий лай огласил окрестности – в погоню за бандой пустились поисковики.
Одна из собак помедлила, подбежала и сделала стойку у Таськиного тела, безжизненно распростертого у кучи камней. Однако хозяин задерживался, и, шумно втянув носом воздух, собака принялась жадно слизывать пятно расползающейся крови.
– Дружок! А ну, сюда! – строго прикрикнул проводник, н собака, недобро глянув в остекленевшие Таськины глаза, бросилась дальше, в карьер, где слышался заливистый лай других ее товарок и порой гремели выстрелы.
* * *
Здание располагалось за городом, в обширном больничном саду, и чем-то походило на древний греческий храм с колоннами и витиевато вырубленной на фронтоне надписью «Анатомический Театръ». Под надписью шла выведенная латинскими цифрами дата: MDСССLХХХУIII, что в просторечии означало всего лишь 1888. Успешно перевалив за первую сотню лет своего существования, здание это могло бы простоять еще с полтысячелетия, а то и больше, если бы нерачительные хозяева удосужились его хоть раз за истекшее столетие подремонтировать. На сегодняшний день оно пришло в аварийное состояние. Более того, в нем не было ни воды, ни холодильников, тошнотворные миазмы формалина и трупного разложения вырывались наружу из настежь распахнутых окон морга и витали над больничными аллеями, как бы намекая случайному посетителю на то, что он соприкоснулся с потусторонним миром… Впрочем, большинство посетителей театра к этим миазмам были привычны. То были сторожа, судмедэксперты, патологоанатомы да шумная ватага студентов медучилища. Последние к занятиям анатомией (которые они именовали «потрошением трупёшников») относились с нервической брезгливостью. На первом курсе этих занятий побаивались, не обходилось без истерик, обмороков и тошноты, причем не столько от вида расчлененных тел, сколько от невыносимой вони и крыс, которые с неимоверной наглостью шныряли повсюду, как бы с трудом признавая за двуногими определенные права на принадлежащей хвостатым территории. Разумеется, вначале каждый студент (и особенно студентка) проходили проверку «на бздливость». Кому-то на лекции грозили отрезанным у покойника пальцем, другому под нос клали выколупанный из черепа глаз. Ирке, например, дружки по группе подложили в карман пальто пенис, оттяпанный у ветхого бомжа. «Мальчики, кто потерял?» – хладнокровно осведомилась она и швырнула в ребят предметом их неудачной шутки. Тем самым она получила высочайший балл на этом импровизированном экзамене. Более того, в непростом искусстве препарирования она достигла столь выдающихся успехов, что добрый старенький патанатом Аристарх Никодимыч доверил ей вскрытие самых свежих и наиболее интересных с точки зрения науки, как он говорил «поступлений». И Ирка старалась, кто бы знал, как старалась, все-таки четвертый курс, может, при кафедре оставят? Стать лаборанткой на сегодня было ее заветнейшей мечтой. Вчера сам профессор попросил ее приготовить ему препараты печени и желчного пузыря для демонстрации студентам.
Надев халат, шапочку и повязку на лицо, девушка вошла в зал, неодобрительно покосившись на «салажат», с ужасом следивших за легкими, плавными движениями скальпеля в опытной руке Аристарха Никодимыча. Он препарировал Тёть-Маню, нищенку, найденную в прошлом году на железнодорожных путях. Имя ее осталось неизвестным, но в морге у каждого «рабочего», то есть используемого для препарирования трупа имелась кличка.
– Здравствуйте, Аристарх Никодимыч! – сказала девушка, проходя.
– Здравствуй деточка, – сказал старичок и, передав скальпель бледному от страха рослому бородатому юноше, сказал ему:
– Продолжайте, молодой человек, где же это вы запропастились? Я вас уже почти целую неделю поджидаю.
– Да я… – Ира смутилась. – Я так… Ко мне родственница приезжала… – она, разумеется, и под страхом смерти не скажет, что это была ее родная тетка из деревни, на протяжении семнадцати лет бывшая ей вместо матери. Не скажет она и того, что всю неделю она таскалась с ней по больницам и милициям, разыскивая беспутную теткину дочку, за которой она, Ирина, вовсе не нанималась следить, тем более, что деваха эта на вид была вполне обеспеченная и самостоятельная.
– А у меня для вас есть новое поступление! – с лукавой улыбкой объявил Аристарх Никодимыч с таким видом, будто собирался преподнести своей суженой шоколадный торт («подавился бы ты своими подарочками», – стиснув зубы угрюмо подумала Ирка. Только сам Бог ведает, на какие душевные и физические муки приходится ей идти, лишь бы остаться, зацепиться в этом трижды проклятом городе, чтобы только получить для себя право жить в нормальных человеческих условиях, вставать на работу в восемь, а не в четыре утра, возвращаться вечером в квартиру, а не в халупу, ходить в театр с молодым очкастым Юрчиком, а не на сеновал с вечно пьяным трактористом Митяем; многое она уже вынесла и готова будет вынести еще больше, лишь бы навеки забыть про деревню, как про нелюбимую мачеху, искалечившую ее детство и юность).
– Григорий, – сказал прозектор, – давай-ка сюда новенькую.
Чернобородый мужчина с испитым лицом (поговаривали, что он спирт не разбавляя пьет чайными стаканами с сахаром вприкуску) вошел в бокс и с меланхоличным выражением, никогда не покидавшим его лица, вывез оттуда каталку.
Ирка взглянула нэ лежавшее на каталке обнаженное девичье тело, от горла до паха разрезанное и сшитое суровой черной нитью, на пухлые, полураскрытые и уже побелевшие губы, на плотно сомкнутые глаза с остатками дорогих теней и туши, взглянула и, истошно крикнув: «Ой, Таська! Тасенька!..» – потеряла сознание.
22
– Вла… Владниславеньич… – Мышка опять запуталась в его отчестве и потупила глаза, пряча какую-то бумажку. Он уже почти привык к обстановке постоянной секретности, которой девочки окружали каждый свой шаг, к тому, что при его или чьем бы то ни было появлении, что-то пряталось, исчезало, растворялось в воздухе, но отчего-то ему казалось, что с Мышкой у них после всего совместно виденного и пережитого подобных тайн быть не должно.
Он заходил к ней в медпункт почти каждый день, или даже по несколько раз на дню и радовался, видя, как настороженность в лице девочки при его появлении уступала место радости, как губы ее вновь учились улыбаться, а глаза приобретали живой, человеческий оттенок и блеск, теряя выражение звериной настороженности и озлобления. Но сегодня при его появлении она быстро спрятала нечто, походившее на клочок бумаги.
– Ну, как ты? – с теплотой в голосе спросил он. – Что-ты такое там рисуешь? или пишешь?
– Нет, не пишу, это так… – она еще более смутилась.
– И не скучно тебе здесь одной? – он окинул взором известково-белые стены изолятора,
– Нет, – просто ответила она, – одной быть хорошо. У меня это редко бывает, чтобы одной. Все время разные приходят, и гундят, гундят… А здесь – хорошо. А что вы мне принесли?
– А откуда ты знаешь, что я тебе что-то принес?
– Так, знаю… вы ведь всегда мне что-нибудь приносите, – бесхитростно заключила она.
– Принес, принес, – согласился он и достал из кармана маленькую куколку… – На, держи и не скучай!
– Ой, Катька! – воскликнула она, обрадовавшись, захлопала в ладоши от восторга и, схватив куклу, живо стала ее разглядывать, приглаживать волосики, расправлять платьице, приговаривая: – Ка-а-а-тяя… Ка-а-а-тенька-а-а…
– А почему – Катя?
– А потому что Катя. У меня в детстве была одна, я её Катькой звала. А потом ее Жорка-паскуда выкинул. «Не х… ей в куклы играть, пускай лучше задачки решает!» – хриплым баском передразнила она, и тут же шлепнула себя по губам: – Ой, извините, я не хотела, оно само вырвалось, – и она виновато улыбнулась.
Владик тоже ей улыбнулся, и они вдруг оба рассмеялись.
– Дядя-Владя, сегодня здесь не надо оставаться, домой езжайте, – неожиданно шепнула девочки и быстро накрылась одеялом, спрятав куклу.
В следующую секунду в помещение заглянула Анна Петровна подозрительно глянув на обоих, она осведомилась:
– А не слишком ли часто вы в наши края заглядываете, Владислав Евгеньевич? И почему всегда в мое отсутствие? Может, у вас секреты какие появились? Или тайны какие интимные?
– Я? Вы… – побагровел Владик. – Я захожу сюда потому что это… это моя ученица, и я… я…
– Чересчур уж много вы внимания этим ученицам уделяете, – осуждающе заметила медсестра. – Они вас еще за всё это отблагодарят. И как отблагодарят.
– И тебя тоже… – прозвучал в палате еле слышный голос, походивший на дуновение внезапно набежавшего ветра. Мышка как всегда сидела с отсутствующим видом.
– Ты еще и угрожаешь? – взвилась Анна Петровна. – Так вот, ты сегодня же, поняла? сегодня же перейдешь в общую палату!
– Напугала ёзиньку голой зопонькой… – прозундела Мышка, копаясь в носу с видом явного удовлетворения.
Владик поглядел на нее с изумлением. Только сейчас он начал понимать, почему большинство учителей считали этого ребенка исчадием ада и категорически отказывались находиться в одном с нею классе.
* * *
После того, как Щипеню отправили в следственный изолятор жизнь в палате переменилась в худшую сторону, это Мышка увидела невооруженным глазом. Лилиана все же сочла нужным нажаловаться «куда надо», и по даче проехались две комиссии, которые ничего не улучшили, а напротив, сделали обстановку еще более безысходной и тоскливой. На некоторое время некоронованной королевой отделения стала мужеподобная Ванюша. Она была явной нимфоманкой с патологической склонностью к однополой любви. Прежде, до выхода на волю, обязанности ее бессловесной партнерши частенько исполняла всем покорная Пакля, девочка из соседней палаты. Их ночные упражнения, сопровождаемые скрипом кровати, стонами и вздохами, всем мешали спать. В это время все взгляды невольно обращались туда, где в углу в пароксизмах страсти сопрягались два юных тела, среди сбившихся одеял изощренно лаская друг друга… потом Паклю выписали, и Ванюша начала бегать в другую палату, где у одной девочки нашлись какие-то самодельные приспособления для взаимной мастурбации.
* * *
Возвращалась она уже под утро, пошатываясь, и на лице ее играла та же мутная улыбка, которая частенько замечалась на лице Шизы. В последней же пробудить искру хотя бы малейшего интереса к жизни так и не удавалось. Не удавалось и избавиться от нее. Шиза была существом совершенно неуправляемым и неизвестно, кто должен был нести ответственность за всё, что она могла в будущем натворить.
Еще три года назад у нее было нормальное имя, да и сама она была нормальной, хоть и крупноватой для своего возраста девочкой с обычными детскими привязанностями и интересами. Детство ее было безмятежным, пока ее, двенадцатилетнюю не заманили на стройку солдаты из стройбата и там изнасиловали чуть ли не целым взводом. Уходивший последним с места происшествия сержант еще и огрел ее дубинкой по голове, желая замести следы преступления. Поразительно крепкое здоровье позволило девочке выжить, но рассудка она лишилась навсегда. Вскоре она сбежала из родительского дома и принялась скитаться по необъятным просторам матушки-России, ночуя в пристанищах бичей и бомжей, бесхитростно удовлетворяя желаниям каждого, кто этого хотел, и также беззастенчиво удовлетворяя саму себя при малейшем возникающем позыве. Новеньким как некую достопримечательность показывали ее гипертрофированно набухшие и покрасневшие, почти лишенные волосяного покрова половые органы. Девочки жалели ее, поговаривали, что у нее «бешенство матки», что, впрочем, не мешало им издеваться над Шизой с чисто детской жестокостью.
Вскоре после отъезда Щипени в палате появилась новая девочка, Аня, по кличке Дубок, хорошо сложенная и ширококостная, с дерзкой улыбкой на веснушчатом лице. В первый же день она «для порядку» отлупила Ванюшу. Все остальные молчаливо признали ее превосходство. Потом Дубок оглядела палату и заявила:
– Ну вы, лошади, чего вылупились? Я вам говорю. Я к вам от Щипени, ясно?
– Ты что, правда? Как она там? – ояивилпсь девочки. – Когда ты ее видела?
– Она – нормалёк, – ответила новенькая. – виделись мы с ней позавчера, в мусоровке. Передавала она тут кой-кому привет… и девочка повторила выразительный Шипенин жест.
… И пришла ночь, одна из тех безлунных, тишайших ночей, которые так часто сопровождают начало осени мертвенными штилями, удушливой жарой и всеобщим оцепенением, время года, именуемое в просторечии «бабьим летом». Сонная одурь опустилась на «дачу», лишь изредка пласты недвижимого воздуха волновало унылое перелаивание одной-двух собак.
В ту ночь Анна Петровна дежурила с воспитательницей Валентиной Матвеевной. Последняя училась вязать, часто сбивалась со счета и усердно пересчитывала петли детского свитерка. Анна Петровна заполняла журнал лечебных манипуляций – занятие тягостное и неблагодарное, но необходимое для проверок и комиссий. Неожиданно она отложила ручку и прислушалась.
– Ты чего? – спросила Валентина.
– Тишина, – помедлив ответила Анна Петровна, – опять тишина. Уж больно смелые они ходят в последние дни. Не замечала?
– Когда-то я книжку читала, – Валентина зевнула. – Так и называется: «Обманчивая тишина».
Анна Петровна покачала головой и поднялась.
– Нет. Не то. Не обманчивая, а очень даже тревожная.
Вдали, в коридоре послышалось неторопливое шлепанье тапок.
Но мере приближения шаги замедлялись и наконец у двери, стихли.
Анна Петровна поднялась и выглянула наружу. В пустынном коридоре в одной коротенькой ночнушке стояла Мышка.
– Тебе чего? – спросила медсестра.
– Там, в пятой палате одной девочке плохо, – еле слышно произнесла Мышка.
– Какой девочке? Имя у этой девочки есть?
– Не знаю… Кажется, Тоня…
– Опять имитация сердечного приступа, – с неудовольствием отметила Анна Петровна. – До чего же все они мне надоели! – в сердцах сказала она Валентине.
– Мне пойти с тобой? – вяло спросила та, не отрываясь от вязания.
– Сама управлюсь, – бросила Анна Петровна, взяв из аптечки валерьянку и на всякий случай, ампулу и шприц.
Выйдя из медпункта, она пошла по коридору вслед за Мышкой.
Та спотыкалась, волоча по полу тапки, и что-то жалкое и ничтожно-низменное было в ее худенькой, сутулой фигурке. Медсестра при желании могла бы давно ее обогнать, но продолжала следовать на расстоянии полутора-двух метров от нее, и с каждым шагом ее обволакивала всё большая и большая тишина. Казалось, тревога была разлита повсюду, она изливалась из темных и удивительно тихих палат, тревогой этой дышали, похоже было, даже сами стены. Когда медсестра прошла примерно половину пути, свет в коридоре неожиданно погас. Сердце ее замерло.
– Кто здесь? – громко спросила она. – Кто это сделал? – голос ее дрогнул. А темнота светилась десятками белков глаз, горела ярко блестящими зрачками, судорожное, старательно приглушаемое дыхание нескольких человек слышалось поблизости, они окружали, отрезали ее от внешнего мира. – Немедленно прекра… – хотела было крикнуть женщина, но в эту минуту на нее сверху набросили что-то темное и тяжелое, повалили на пол. В тот же миг зажегся свет – и десятки девчонок в белых рубашках принялись ожесточенно бить, толкать и пинать ногами извивающееся на полу тело.
– Вот тебе, сука, стерва, получай, гадина, за Щипеню!.. – кричали «отпетые».
Узнав, что «восьмая», «пятая» и «шестая» начали «казнить Аннушку», стихийно поднялось и другие палаты,
Услышав шум, Валентина Матвеевна выскочила из кабинета и увидела в конце коридора нечто, похожее на танец, исполняемый одинаковыми белыми фигурами, показавшимися ей похожими на привидения. Несколько секунд она провела в оцепенении, пока фигуры не устремились к ней. С истерическим визгом воспитательница бросилась бежать, скрылась в дежурной комнате, захлопнув за собой дверь и нажала кнопку вызова милиции. По «даче» разнеслось надрывное завывание сирены. Но это оказалось лишь начальным аккордом давно происходившего в коридорах брожения. Опьяненные видом крови, обезумевшие от охватившего их восторга и чувства вседозволенности, девчонки, оставив дежурку, навалились на решетку входной двери и выломали ее вместе с косяком.
Призрачно-белые фигуры с хохотом и улюлюканьем метались по садику, с видимым наслаждением ломали и вытаптывали цветы и кустарник, стирали с лица земли давеча заботливо посаженные грядки, крушили стекла теплицы. Лишь одна Мышка до поры не принимала участия в общей вакханалии разрушения. Пробравшись в разгромленный медкабинет, она аккуратно и деловито принялась набивать карманы халатика запомнившимися ей ампулами. Потом, заметая следы, раскачала и с грохотом обрушила по пол тяжелый стеклянный шкаф.
Между тем, дежуривший в ту ночь Кузьменко забаррикадировался на КП с двумя женшинами-охранницами. Спустя некоторое время он дозвонился наконец до ближайшего отделения милиции.
– Всех подымай! Всех, милай! – орал он в трубку, стараясь перекричать шум и грохот, доносившиеся снаружи. – Если через пять минут не приедете – всем нам будет полная хана! Грю, хха-на, хана, хана будет… Да! Совсем озверели девки! Вот-вот подожгут «дачу»…
В это время гулкие удары в окованную железом дверь КП прекратились.
– Никак чего новое удумали? – встревожился Кузьменко и, забравшись на стул, выглянул в забранное решеткой окно. Первое, что он увидел, были яркие сполохи пламени от огромного костра, раскинувшегося на плацу.
– Никак уже подожгли нас? – вскрикнула сержант Виноградова.
– Пусть жгут стервы! – крикнул он. – Да не психуй, не нас. Ишь, чего удумали, сучки, «истории» свои жгуть, тьфу, дуры же, прости господи!
И в самом деле, на давно опостылевшем им плацу стараниями девчонок был разведен костер, в который они с ликованием и без всякого разбору сваливали одинаковые серые папки с тесемочками и лаконичной надписью «История болезни», и карточки, сотни и тысячи карточек с результатами анализов взмывали ввысь, охваченные пламенем и будто снежные хлопья кружились в подкрашенном багрянцем небе. А бунтовщицы хохотали до слез и плакали слезами радости, и танцевали вокруг костра без музыки, и что-то напевали хором и поодиночке, будто отпевая свое проклятое, позорное прошлое…
– Ой, девочки, гляньте, нам женихов привезли! – пропищала Чемпион, увидев подъехавшие к ограде два желтых милицейских «пазика», из которых едва не на ходу выпрыгивали рослые парни в касках и бронежилетах и с длинными резиновыми дубинками в руках. Кузьменко отодвинул засов одной двери, второй, третьей, открывая им проход, на территорию диспансера. Омоновцы бегом, цепочкой потянулись внутрь, за ними поспешили курсанты из школы милиции, которых сразу же следом за автобусами привез бортовой «зил». В полном молчании друг против друга выстраивались два отряда притихших, расхристанных девчонок и стражей порядка.
– Эй малыш, а как ты насчёт ентого, а? – ухмыльнулась Дубок, подтянув к поясу подол сорочки. Лицо бледного парня-курсанта было бесстрастным», он облизнул пересохшие губы.
– Ну ты чего стоишь? Давай сюда, – подтрунивала над ним Дубок, – только ты видно, малый еще не опытный, не за ту палку схватился, ну да ничего, мы тебе обе выдернем.
В мгновение ока мятежницы вооружились мотыгами, граблями, лопатами, у кого ничего не было, набирали в руки камни.
Подъехав к воротам диспансера на такси, Владик бросился к тому месту, где друг против друга стояли и пока еще медлили приступать к сражению две маленькие армии. Гремел мегафон, призывая бунтовщиц разойтись и успокоиться.
– Куда?! – закричал Владимир Семенович, удерживая молодого человека. – Вам там нечего делать, они же просто озверели… – Голова психолога была перебинтована после меткого удара камнем. – Они же совершенно не понимают слов, я уж к ним по всякому обращался: они слов не понимают!
– Меня поймут, – ответил Владик и крикнул: – Слышите, девчонки? Это же я! Вы меня слышите? – он подбежал к цепи и остановился в нескольких шагах от своих воспитанниц.
– Гляньте, Дядя-Владя появился! – крикнула одна из девочек Но эти слова не вызвали ни привычного оживления, ни улыбок, которыми среди девочек обычно встречалась весть о его появлении, все без исключения они старались ему понравиться, а некоторые всерьез влюблялись. Но не то было сейчас. Он глядел на них и не узнавал, своих забитых, погруженных в себя, скучающих и бесцветных пациенток. Глаза их теперь горели, губы были плотно сомкнуты, лица казались окаменелыми.
– Девоньки, милые мои, хорошие! – горячо заговорил Владик. – Прошу вас, умоляю, расходитесь по палатам! Завтра! Завтра во всем разберемся, вы слышите? Идите же спать, прошу вас, девчонки! – В этот миг он всех их беззаветно любил, горячо и нежно, как непутевых и жалких своих дочерей. Он готов был встать перед ними на колени и просить прощения за себя и за всех прочих мужчин, по чьей вине они дошли до этого скотского, убогого положения, какое привело их сюда. И встал бы, наверное, если бы не Шиза, бедная, глупая, голая Шиза не опустилась бы на четвереньки перед здоровенной овчаркой и не зарычала на нее. Собака сорвалась с поводка и рванулась вперед, за ней проводник и прочие милиционеры. Это движение было настолько стремительным и неожиданным, что противницы не. успели приготовиться к обороне, и на них обрушился град ударов дубинками. Потом грохнул выстрел, это Кузьменко для острастки пальнул в воздух. Но девчонок этот грохот отрезвил, часть их бросилась в рассыпную, другие швыряли в нападавших камни и норовили достать мотыгами или граблями. На плацу, ярко освещенном фарами съехавшихся автомашин развернулась настоящее сражение, хотя вернее было бы назвать его побоищем. Не прошло и минуты после выстрела, как сопротивление бунтовщиц было окончательно сломлено, они разбежались, побросав свои орудия, и лишь самые отчаянные среди них пытались сопротивляться. Чемпиону удалось свалить подбежавшего к ней мужчину, и теперь, сидя на нем она награждала его полновесными ударами кулака в лицо, недаром она столько лет занималась гандболом. Ванюша, остервенев, вращала над головой лопату, отгоняя четырех не решавшихся подступить к ней курсантов. Верка Дубок ударом мотыги свалила одного из милиционеров, но в следующую минуту и сама свалилась без чувств, осыпаемая градом пинков и ударами дубинок. В первые минуты Владик пытался сдержать воинственный пыл курсантов, но, получив удар дубинкой по затылку, упал и потерял сознание. Поэтому он не видел, как остервенев от вида десятков полуобнаженных тел, команда принялась яростно и беспощадно избивать их.
– Ой, не надо, не бейте, дяденьки! – завизжала в ужасе Бигса, пытаясь прикрыться ладонью, но уже в следующую секунду дубинка превратила ее лицо в кровавую маску, в которой искрились стекла расколотых вдребезги очков. – Ой, глазик мой, глазик… – завыла она, пытаясь поймать в ладонь вытекающий глаз.
23
– Ну что же, – сказал Владимир Семенович, поднимая на Владика безрадостный взгляд. – Будем считать на этом вашу деятельность в качестве воспитателя нашего учреждения законченной.
– Я тоже так полагаю, – согласился Владик. – К сожалению.
– Не обижайтесь, но в немалой степени персонал считает именно вас ответственным за начало бунта. Косвенным, так сказать, вдохновителем и соучастником.
– Занятно… – пробормотал Владик. – И в чем же это я, интересно знать, провинился?
– Вы, вернее, ваша методика работы не вписалась в нашу общую концепцию работы с трудными детьми, таково мое сугубо научное мнение.
– Значит, по-вашему, запугивание, террор, унижение – это наилучшая концепция воспитания?
– Не лучшая, но самая действенная! – нервно воскликнул Владимир Семенович. – Именно действенная, и никакая иная. Думаете бунт утих? Как бы не так! Он продолжается. Если раньше они требовали разрешить им курить и краситься, то теперь они требуют, чтобы их: называли на «вы», поили нормальным чаем, отремонтировали телевизор и открыли библиотеку. С читальным залом! – язвительно закончил он.
– Вы полагаете, что в этих требованиях есть что-либо противозаконное? – удивился Владик. – Разве плохо, что у девочек проснулось чувство собственного достоинства? Разве так уж страшно, что они хотят расширить свой кругозор?
– И в попытке самоутвердиться они до полусмерти избили – свою медицинскую сестру, святую женщину, которая отдала им двадцать лет жизни? – горько сыронизировал Владимир Семенович. – Вам все это, конечно, ничуть не страшно…
– А уж за это вы воздали им по-божески, – сказал Владик, поднимаясь. – Можно сказать, сторицей. Ну что же, я, пожалуй, пойду…
– Не откажите в последней любезности, – остановил его на пороге Владимир Семенович. – Мы сегодня должны выписывать Брусникину, а отвести ее домой некому. Сами понимаете, нынче у нас авральные деньки… – он вздохнул.
– Опять к бабушке?
– Нет, у старухи, по нашим данным, обширный инфаркт, дотягивает последние дни в больнице. Так что, придется к отчиму.
– «Не хотелось бы мне вести ее туда.
– А куда прикажете? В спецшколу? Предложите ей – пусть сама выбирает. Да и не из чего ей выбирать, отчим-то ее родительских прав не лишен, мать жива-здорова, через полгодика из тюрьмы выйдет – и будет семейка хоть куда. Образцовая. Так что, отвели бы вы ее домой, Владислав Евгеньевич, – мягко улыбнулся врач, – и не забивали бы себе голову чужими проблемами, а?
– Я отведу Мышку, – сказал Владик – но вы никогда не отучите меня считать их проблемы – своими.
* * *
– Ты – чего? – спросил Владик на улице.
Не отвечая. Мышка, как зачарованная глядела на стайку девочек, ее погодков, азартно игравших в «резинки». Постояв так некоторое время, она пошла дальше. И Владик подумал, что со стороны он, наверное, кажется прохожим нерадивый молодым папашей, чересчур рано вступившим в брак и оттого неприученному к ответственности за дочь. А Мышка была одета в жуткого вида бурое пальтецо, наспех подобранное на складе, из-под него виднелась неряшливая затрапезная юбчонка, на ногах были наполовину спущенные ниточные чулки, с дырами и чернильными пятнами.
«Дикарка, – с грустью подумал он, – ну, совершеннейшая неандерталка. Другие девчонки в ее возрасте уже этакие пикантные фифочки и кокетки, а эта… Но откуда ей научиться вести себя «по-женски», если у ней ни подруг, ни матери, а круг знакомых ограничен пьяным и развратным мужичьем».
– Послушай, Мышка! – весело сказал он, остановившись в очередной раз, когда девочка вздумала проскакать по расчерченным на тротуаре классикам, – а ты когда-нибудь думала, кем станешь, когда вырастешь?
Остановившись, застыв на одной ноге, девочка серьезно взглянула на него и спросила:
– А зачем?
– Чего – зачем?
– Зачем думать о том, чего никогда не будет?
– Что же, ты так и хочешь навеки остаться маленькой девочкой? – спросил Владик и сам же ругнул себя за прозвучавшие против его воли в этой фразе менторские интонации.
– Хочу, Дядя-Владя, – серьезно сказала Мышка, – хочу хоть немножечко побыть маленькой. Только боюсь, этого у меня не получится.
– Почему?
– Так… – она наподдала ногой камешек и побрела дальше.
– Нам сюда, – Владик потянул ее вправо.
– Вы меня к дяде Жоре ведете? – с кажущимся безразличием спросила она, но голос ее предательски дрогнул.
– А тебе не хочется туда возвращаться?
– Мне всё равно, – сухо ответила она.
– Послушай, если не хочешь туда идти, то… можешь пожить несколько дней у меня… – предложил он и сам же испугался того что она может согласиться. Реакция Вики могла быть непредсказуемой.
– А потом что? Ну, через несколько дней? – спросила Мышка.
– Мы с тобой что-нибудь… придумаем… – он пожал плечами. – Может быть, найдем для тебя какой-нибудь интернат, или детский дом, пока мама не приедет, а потом…
Она медленно, почти незаметно покачала головой.
– У нас с вами разные дороги. У вас – широкая и длинная, у меня, узенькая, кривая и короткая. Но всё равно, это моя, именно моя дорога, и я пройду ее до конца… – и, поскольку Владик был изумлен ее словами, она пояснила: – Нам сейчас лучше свернуть под арку и срезать дворами. Не понимаете? Так короче.
Дворы в этот тихий вечерний час были забиты играющей детворой. Кое-где по углам и подворотням стояли группы подростков, которые при виде этой странной пары нервно затягивались сигаретами, обменивались многозначительными взглядами и пристально глядели им вслед.
Владик нажал кнопку звонка на давно некрашенной двери, но зуммера не услышал и постучал в дверь.
– Да… Да… Кто там? – за дверью послышались неровные шаркающие шаги, потом она приотворилась на длину цепочки. Из образовавшейся щели их некоторое время изучал настороженный глаз.
– Я воспитатель из кожвендиспансера, – сказал Владик, – при вел вашу падчерицу.
Помедлив, хриплый, будто простуженный голос произнес:
– Ага… понятно… чичас… – и дверь захлопнулась.
Владик с удивлением поглядел на Мышку. Она обреченно смотрела в сторону. Вскоре дверь снова открылась, на сей раз широко.
Плотный, грузный мужчина с большой лысиной смотрел на них с деланной улыбкой, запихивая в брюки мятую клетчатую рубаху.
– Милости просим, – сказал он, пытаясь удержать на лице бодряческое выражение.
Владик вошел в комнату и огляделся. Двое мужчин, подняв глаза от газет и поздоровались. Он потянул носом: в комнате стоял устойчивый запах спиртного, висели густые пласты табачного дыма.
– Мы тут с товарищами решили после работы зайти, кой-какой ремонтик сделать, – пояснил Жора.
– Вам надо будет написать расписку в получении вашей падчерицы, – сухо сказал Владик.
– Ну, вы уж скажете слово такое: «падчерица»… – засмущался Жора. – Она же мне роднее родной дочери…
– Вас уже два раза вызывали повесткой за родной дочерью, но вы даже не соизволили зайти, узнать, в чем дело, – отрезал Владик.
– Так ведь работа же какая! Хозрасчет, будь он трижды неладен! – Жора сплюнул. – Пашешь, пашешь по 12 часов в день и всё за гроши… – он махнул рукой.
Листа бумаги в квартире не нашлось. Владик вырвал страничку из собственного блокнота. Жора писал расписку, с трудом выводя каждую букву, часто останавливался и переспрашивал. Прошло добрых полчаса, пока, наконец, не был составлен документ, из которого явствовало, что с нынешнего дня отчим берет на себя всю полноту ответственности из дальнейшее поведение падчерицы и обязуется создать все условия для ее дальнейшего воспитания и образования. Затем Владик поглядел на Мышку и, погладив ее по голове, сказал:
– Берегите ее. И постарайтесь забыть обо всём, что с ней произошло. Она у вас чудесная девочка. И очень несчастная. Попробуйте подарить ей немного детства, которое мы, взрослые, у нее украли…
От этих слов дядя Жора прослезился.
– Да разве ж я… разве ж мы… Дак вы не сумневайтесь, гражданин начальник, мы нашу Машеньку в обиду не дадим. Сам буду водить ее в школу и обратно. А за всё, что вы для нее сделали, товарищ, большое вам человеческое наше спасибо, просто огромное!
Провожая Владика, Жора попытался сунуть ему в карман несколько смятых денежных купюр, но молодой человек перехватил его руку и так взглянул, что тот отвел глаза и буркнул:
– Да вы не обижайтесь, это ж за труды ваши. Вы ведь ее полностью вылечили? – с надеждой спросил он. – Она ведь теперь больше не заразная? Нет, а?
– Она пока здорова. Но ее дальнейшее здоровье будет зависеть только от вас, – сказал Владик и вышел из дома.
Мышка стояла на том же месте, где ее оставил Владик и безучастно глядела в окно. Подойдя к ней. Жора схватил ее за волосы и задрал голову.
– У, сучара! Так бы и прибил тебя, – он занес свою большую, волосатую, сжатую в кулак руку.
– Фу на тебя, Жоржик! – подскочил к нему носатый приятель, которого звали Геной. – Какой же ты все-таки поц! Рази ж можно – бить кулаком по лицу ребенка, который по твоей же милости и схватил заразу? Это в высшей степени не по-христиански.
– Ну ты, християнец! – огрызнулся Жора. – Уж не тебя ли я за Машкин «сифон» благодарить должен?
– А по-моему, это Санек, – сказал низкорослый крепыш Тошка. – Я его уже с полгода не вижу. Может он-то ее и в самом деле того?
– Не-а, – авторитетно заявил Гена, – от Санька не может быть, он же с продавщицей живет, они – бабы чистые, проверенные.
– А ты проверял того, кто ее проверяет? Одно другому не помеха, – заключил Топка. – Да ну вас, дети мои, давайте накрывать на стол. Сегодня у нас двойной праздник.
– Тройной, – с ухмылкой поправил его Гена, шлепнув Мышку по ягодицам.
– Лапы! – рявкнул Жора.
– Да ты чего?
– А ничего! Я за нее расписку писал, понял? Я ее теперь никому не уступлю, – и повернувшись к Мышке, сказал: – ступай на кухню, переоденься и на стол нам собери.
Мышка вышла на кухню и устало опустилась на покосившийся табурет. Итак, злоключения ее, совершив полный оборот пришли к своему началу, жизнь начала входить в привычную колею. Теперь они вновь начнут много жрать и много пить, потом станут раздевать ее и щупать, и заставят принимать разные позы. Трое стародавних дружков, они друг друга не стесняются, и всё делят на троих, и она снова поступит к нам в услужение, а по сути дела в самое черное и беспросветное рабство.
– Ну, скоро ты там? – гаркнул из комнаты Жора.
Она и не надеялась, что в скором времени он вновь появится перед ней наяву, предмет ее коварных снов. Видит Бог – она не стремилась к новой встрече с этим человеком и всеми силами стремилась по возможности отдалить ее, но раз уж судьба снова свела их, то она исполнит все, что задумала. Решительно откупорив бутылку водки, она сделала крупный глоток из горлышка потом отлила в раковину примерно четверть бутылки и, разорвав подкладку лифа, стала доставать из-за пазухи ампулы, похищенные из медицинского шкафа. Она ломала им головки, обрезая пальцы в кровь и не обращая внимания на порезы, продолжала сливать в бутылку одну ампулу за другой, пока не довела жидкость до первоначального объема.
А потом они все сидели за столом, и Генка произносил какой-то цветастый восточных тост, подделываясь под грузинский акцент, как раньше под еврейский, и выписывая в воздухе вензеля своей финкой, на которую была насажена долька соленого огурца
Мышка с индифферентным видом сидела на коленях у отчима. Его потная рука гладила ее бедра, порою на них с силой сжимались его короткие толстые пальцы с редкими кустиками рыжеватых волос, они впивались глубоко в тело, оставляя на коже багровые пятна.
– Ну чё, скоро вы тама? – нетерпеливо спросила она, оборвав тост на полуслове. – Кто первый выпьет, того я поцелую.
Хохотнув, они выпили залпом. Первым лекарство подействовало на Генку. Он громко икнул и захлопал губами, широко разевая рот, как выброшенная из воды рыба, затем его глаза закатились, он попытался приподняться, и упав на стул, опрокинулся вместе с ним. Тошка бросился его поднимать, но его стошнило.
В судорогах он забился на полу в луже своей блевотины и застыл, неестественно высоко запрокинул голову. Все это происходило на глазах у Жоры, пившего обычно мелкими глоточками.
Он оторвался от стакана, выпив чуть больше половины. Мышка попыталась влить в него этот стакан, подтолкнув его руку, но он выронил стакан с воззрился на нее с видом безграничного изумления.
– Т-ты ч-чего, а? – спросил он, постепенно трезвея. Они ч-чего, а? Эт-т ты их, а? Ты, а? Г-гад-д-ёныш-и!..
Мышка отступала от него вглубь комнаты, изготовив для удара прихваченную со стола бутылку. Глаза ее пристально следили за каждым движением отчима. А он между тем поднялся и, пошатываясь, направился к ней. По пути он зацепил скатерть, поглядел на нее и решительно сдернул со стола. Рюмки и тарелки со звоном попадали на пол. Ухмыльнувшись, он бросил скатерть в Мышку. Она увернулась, но следующим взмахом левой руки Жора вышиб из ее руки бутылку, а правой с размаху ударил ее по щеке, так что девочка кубарем покатилась на пол. Следующий удар он нанес ей кулаком по уху, затем угодил ей ногой в живот. Дико взвизгнув, она попыталась дотянуться пальцами до его глаз, но он ухватил ее правой рукой за основание шеи и с радостью проговорил:
– Г-га-ддёныш!..
Затем обе руки его сомкнулись на Мышкиной шее и придавили ее к низу, поставили на колени, и стали сжимать, мять, давить, перебивая дыхание, вызывая судороги во всем ее теле. Когда Мышка уже была близка к обмороку, давление прекратилось. Она открыла глаза. Приблизив к ней свое лицо Жора сладострастно улыбался, наслаждаясь зрелищем пытки. Затем руки его снова стали сдавливать ее горло, и вновь в глазах у нее помутнело. Руки ее зашарили по полу и неожиданно наткнулись на рукоять охотничьего Генкиного ножа. Схватив его, Мышка с силой уперла острие в выпяченный живот Жоры и удивилась, до чего же легко он вошел туда…Когда он, повалившись на пол, вытянулся ря дом со своими друзьями, Мышка с облегчением вздохнула, встала и внимательно оглядела каждого из мужчин, затем открыла шифоньер, достала оттуда свечу, зажгла ее и, накапав парафин на дно блюдечка, укрепила свечу и поставила на стол. Позже она, выйдя на кухню, открыла все краны у газовой плиты, отворила духовку и прижала ее дверцу тяжелым утюгом. А потом быстро выбежала во двор.
Без колебаний она отправилась в тот конец обширного своего двора, где девчонки играли в «резинки» и в «классики».
Бесцеремонно завладев самой лучшей салкой, она погнала ее по клеткам, поразительно метко попадая в каждую. Она полностью отдалась игре, не заметив, как одна за другой отходили девочки при ее появлении. Повсюду с балконов слышалось:
– Та-аня! Домой! И-и-рочкадомой! Кому сказала?! Марш домой немедленно!
Центр двора опустел, лишившись девочек. И тогда к нему стали стягиваться мальчики. Совершенное соплячьё, лет по тринадцати и старше, кое-кто с сигаретами в зубах. Это были те, кто таскал ее по подвалам, торопливо сбрасывая ее незрелое лоно свой рано пробудившийся темперамент, те, кто разыгрывал ее в карты, уступал друг другу за глоток дешевого вина, за сигарету, те. кто сдавал ее тело в аренду за смятые рублевые бумажки. Раньше все они слегка презирали ее – за доступность. После того же, как оказались зараженными по ее вине – они ее возненавидели. Ненавидели – и одновременно вожделели. Они стояли и молча смотрели на Мышку, а она самозабвенно скакала по клеткам, лихо гоняя салку, пока толстощекой юноша в кепке и с сигаретой в зубах не подошел и не встал на очередную клетку. Тогда Мышка подняла с земли увесистый голыш и замахнулась на него. Юноша злобно сощурился и шагнул к ней, протянув руку, чтобы перехватить голыш.
И в это мгновение гулко громыхнул взрыв.
А потом наступило несколько минут веселого безумия. Кругом полыхало пламя, и кто-то бегал по двору взад и вперед, и истерически кричал, и плакал, и ругался, и кругом была вода, много-много воды, истекавшей из брандспойтов; а пламя все бушевало, и вскоре жадно охватило всю крышу дома, и в адском свете его можно было видеть единственно спокойную в наступившем бедламе сосредоточенно прыгающую по асфальту детскую фигурку. Но вот она подняла голову, повернулась и встретилась взглядом со стоявшим поодаль Владиком. Подойдя к нему, она без колебании вложила ладошку в его руку, и они пошли прочь с обезумевшего двора. Каждый, кто видел этого ребенка полчаса назад, был бы поражен странной переменой, происшедшей во всем ее облике. Казалось, за это короткое время с души ее свалилась некая невыносимая тяжесть, и всё существо ее обволокла неземная легкость, а лицо было озарено улыбкой самого большого и настоящего счастья.

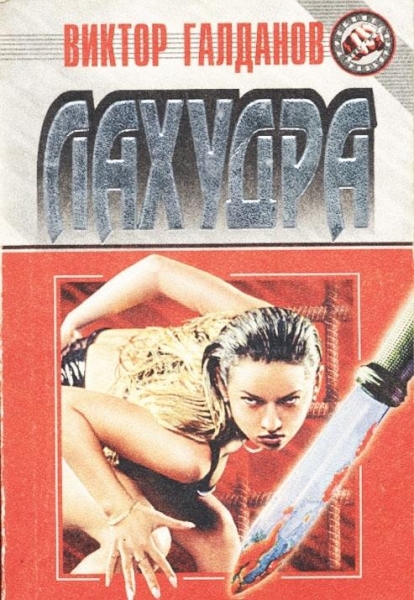



Комментарии к книге «Лахудра», Виктор Иванович Галданов
Всего 0 комментариев