от автора
За помощь, оказанную при написании романа, автор выражает благодарность
Василию Моргуну (Васо) и Татьяне Алхазовой.
Это все началось… Да я не помню числа! Где-то осенью, тогда, когда у легавых случается их профессиональный мусорской праздник. Когда они бухают, собаки. Вот и добухались, подлые, до того, что подвигли меня написать «Знахаря». Впрочем, не только они причастны к этому проекту. Короче, обо всем по порядку…
В тот день я должен был встретиться со своей девчонкой. Мы забили стрелу возле метро «Парк Победы». И я подошел чуть пораньше. А дальше случился вот такой геморрой.
Я нашел документы. Не все ли равно, чьи. Какого-то чела. И, как правильный налогоплательщик, пописался с ними, придурок, в мусарню: типа, вот он я, такой распрекрасный, скидываю найденную ксиву вам, а не забираю себе на всякие там темные делишки и прочее.
Ближайшим ко мне пикетом (или как это у них называется?) было отделение метрополитеновской мусарни на станции «Парк Победы». Вот туда я и зарулил. А дальше…
…А дальше гордись, дорогой читатель, тем, что платишь налоги за то, что тебя «охраняет» такое поганое быдло. Все менты делятся на две категории — собственно менты и МУСОРА. Притом последние сейчас преобладают в пропорции как минимум 10:1. Крышуют лохотронщиков, дерут хрусты с несчастных бабулек, торгующих редиской. Бухают, падлы, даже не сдав у себя в мусарне оружия.
Вот на таких-то я и напоролся, стоило мне выйти обратно на свежий воздух.
— Ну и хрен ли тебя отпустили? — Их было двое. И они отследили, что со мной симпатичная девочка, с которой я перестрелился, только выйдя из пикета. — Ты щас, чмырина, с нами поедешь, на тебя повесят… — Козлина в кожаной куртке с погонами взял меня за отвороты клифта. Второй пытался уже обнять мою шмару. А мимо нас шли люди, которым было совершенно по барабану, что происходит вокруг. Ну и как в такой ситуации поступать?
Бить в лобешик? Я мастер спорта по боксу, я тренируюсь сейчас к боям без правил в кое. Я при желании бы этих двоих просто угробил. Но метрах в тридцати от нас стояла еще одна мусорская парочка. С волынами. С резиновыми дубинами. С повышенными ментовскими амбициями.
А кроме того у моей девочки в сумочке лежало два стошечных чека — она в то время торчала на герыче. Если бы нас замели в мусорскую и она бы не успела их скинуть, то попала бы по полной программе…
И я умылся тогда. Я, мерзопакостно и подобострастно лыбясь, сюсюкая: «Да ребята, ну что вы, ну что вы…», сумел оторваться от мусоров и, главное, оторвать от них свою Любу. Что-то переклинило, пожалуй, в их скудных извилинах, и они вдруг — совершенно неожиданно для нас — отвалили. Но оставили у меня в душе такой поганый осадок… Наверное, именно тот осадок, которого мне только и не хватало, чтобы написать «Знахаря».
Если бы на меня так наехали не менты, а пацаны, даже на сто пудов отмороженные, я бы знал, кому гнать предъяву на них. Но мусора… Руки коротки у меня. И пускай эти мрази бухают и дальше. Пускай мнут мокрощелок неумных. Пускай… Аз водастся им по заслугам…
Менты — это одно. А второе, и самое главное: меня уже давно тошнит от той «литературы» про лагеря, которой завалены книжные столики возле станций метро. В которой цирики лазают внутри зоны с огнестрельным оружием. В которой воры, обращаясь друг к другу, говорят: «Мужики», в которой… Я не буду вам называть имени автора, но этот лох неученый смеет писать от лица вора в законе. И первое, что делает этот «в законе», отчалившись, так это… целует взасос проститутку. Минетчицу!!! Защеканку!!! Вор в законе?!!
Книга летит в растопку! Я делаю удивленную рожу: «Да разве можно такое?..» И готов перевернуть с головы на ноги всю ту бодягу, которую пытаются вам выдать за правду о «Крестах» и о зоне. И пишу…
Вот она — правда! Не такая документальная, как у А. Солженицына. С небольшими перегибами и прикрасами, что свойственно большинству художественных произведений подобного толка. Выведенная не настолько математически точно, чтобы я не выглядел публицистом. А потому, братва, в свое время прошедшая через кичу или чалящаяся сейчас в крытках и зонах, отнеситесь к этой ботве с пониманием. С одной стороны, что-то в этом проекте может показаться вам чересчур упрощенным и облегченным. Но ведь, с другой стороны…
Впрочем, хватит прелюдий!
Читайте.
Наслаждайтесь.
Учитесь… И не попадайтесь.
Сначала была темнота. И пустота. И никаких ощущений. И никаких мыслей.
НИЧЕГО ВООБЩЕ! Словно до сотворения мира.
Потом… Не от тела и не от души… из ниоткуда пришло предположение: «Наверное, я умер. Конечно же, конечно, я умер и скоро узнаю, что такое Чистилище».
И, кажется, я начал с нетерпением ждать, когда же наступит это «скоро». И появится хоть какая-нибудь определенность. Пусть страшная и жестокая, пусть уродливая и мерзкая. Все равно, какая. Всяко лучше, чем витать в небытии и не знать, что у тебя впереди. Я никогда в жизни не любил неизвестности. И терпеть не мог чего-нибудь ждать.
Определенность пришла ко мне в обличии боли. Сперва почти незаметная, она поднялась откуда-то из глубин и медленно, но уверенно подчинила себе все мое тело от пальцев ног до кончиков волос на макушке; придавила меня, словно мощный пневматический пресс; разложила меня на атомы — дикая нестерпимая боль, не дающая ни мгновения передышки…
Зато теперь я был уверен, что жив. Хотя и болен. Избит. Основательно обработан, словно хорошая отбивная. Растерзан будто кошка собачьей свадьбой.
Я напрягся. Я сосредоточился. И попробовал определить, что же у меня болит. Какие органы повреждены. Ведь я врач. У меня это не должно вызвать никаких затруднений. Но…
Черта с два! Ничего я не определил, кроме того, что болит все тело. Равномерно. И руки, и ноги. И кожа, и рожа. Все, все, все! И в какую же мясорубку я угодил?
Я попробовал вспомнить. Я попытался предположить, что же такое могло со мной приключиться. Нарвался на хулиганов? Угодил под машину? А может быть, «скорая», на которой работаю, попала в аварию?
Нет, здесь было нечто другое. И это «другое» крутилось где-то на границе сознания, но как я не напрягался, вытолкнуть его наружу не удавалось. Я ничего не мог вспомнить. Вообще ничего!
Амнезия?! Кома?!
Распроклятье!!!
А кроме этого, я никак не мог сообразить, где нахожусь. Почему лежу — вернее, валяюсь — не в больничной кровати, а на чем-то холодном и жестком. Я собрался с силами и попытался пощупать — на чем же? Это ничтожнейшее усилие вызвало такую острую, настолько безумную вспышку боли, что я опять потерял сознание. Или мне так показалось? Во всяком случае, похоже на то, что кратковременная отключка все же была, но, несмотря на это, я успел почувствовать и зафиксировать в сознании, что подо мной камень. Или бетон? Или асфальт? Нет, асфальт шершавый, а это — то, на чем я валяюсь — гладкое и сырое, словно недавно смочили водой. Может, недавно закончился дождь? Твою мать! Да куда же все-таки меня занесло?!!
Я сосредоточился, приготовился к тому, что сейчас снова будет нестерпимо больно, и размежил веки…
И ничего! Ни огонька, ни отблеска света! Ни единого звука.
И воздух… Одновременно и спертый, и сырой, и холодный.
И запах… Что-то он мне напоминал. Или я ошибался? Или у меня сейчас было искажено восприятие окружающей действительности, вывернуты наизнанку все чувства?
«Наверное, именно так должен выглядеть Ад, — предположил я. — Правда, насколько я знаю, в Аду должно быть жарко. Там должно быть нестерпимое пекло. А здесь, в этом (помещении? комнате? камере?)… в этом пространстве небывалая холодина. Словно зимой. Хотя на улице лето. (Почему то я знал, что на улице лето.) А может, меня сунули в холодильник, решили чуть-чуть подморозить, прежде чем бросить в котел? Хм, черти держат грешников в холодильнике-карантине перед тем, как перетащить их в кипящий котел? Точно так же, как мусора выдерживают зеков в собачнике [1], прежде чем развести их по камерам… камерам… хатам…»
Стоп!!!
Мозговые извилины вздрогнули. Амнезию разнесло на бесформенные куски, словно амбарный замок взрывом пластида. И лишенная запоров память начала нехотя выдавать информацию:
Хаты… «Кресты»… Ижма… Кристина… Блондин…
И что-то такое… докторское… Знахарь, что ли?.. Нет. Лепила? Костоправ?
Костоправ…
Да!!!
Пролог
На тот момент, когда я нашел мертвую Смирницкую..
Так вот… на этот самый сволочной момент моей жизни из того, что жалко терять, у меня были красавица жена, младший брат Леонид и двухэтажная дача в Лисьем Носу.
Жена меня просто боготворила (во всяком случае, в этом я был уверен на все сто процентов) и своим жизненным предназначением считала необходимость находиться рядом со мной, особо не утруждая себя какими-либо другими заботами. Кроме того, что обладала пятым размером и звалась Ангелиной, она имела еще два неоспоримых достоинства. Во-первых, умела вязать носки. Во-вторых, была начисто лишена каких-либо феминистских амбиций. Ее мировоззрение напрочь замкнулось в узких границах домашнего очага и не распространялось далее магазинов, сериалов с участием Вероники Кастро и планов на отпуск, которым все равно было не суждено осуществиться. Порой узость кругозора супруги представлялась мне чем-то вроде легкой формы дебильности, но я воспринимал это с иронией, и не спешил раздувать до размеров огромного недостатка.
Утешал себя тем, что в деле выбора пары большими запросами можно легко подавиться, но никогда не насытиться, и был доволен своим сереньким семейным счастьем.
Брат, если и не относился ко мне с благоговейной любовью, то, во всяком случае, уважал (я был в этом также уверен, правда, с приставкой "по чти"). Мы были родными только наполовину — по отцу, — и познакомились уже взрослыми. Я к тому времени успел получить диплом врача-реаниматолога, Леонид — аттестат об окончании средней школы. Потом с помощью каких-то там родственников он откупился от армии и в тот день, когда мы впервые встретились, бурно отмечал это событие. Я тогда присоединился к нему, мы пропьянствовали неделю и стали друзьям. Или назвать это как-то иначе? Не друзьями, а скажем, партнерами по утилизации лишнего времени. В общем, наши интересы, как правило, пересекались там, где можно весело скрасить досуг в компании покладистых девок и моря спиртного, жалкие попытки заниматься совместно чем-либо еще, например, каким-нибудь бизнесом, благополучно рассыпались на сотни осколков, наткнувшись на стену из множества «но». И из всех этих «но» самым большим и пишущимся с заглавной буквы было то, что от папочки нам достались в наследство любовь к строительству грандиознейших планов и совершенная неспособность воплощать эти планы в жизнь. Эта особенность была выделена курсивом в коде моей ДНК. Да и Лёниной тоже. И переступить через это мы никак не могли.
Когда я женился на Ангелине, наши взаимоотношения с братом вышли на несколько иной уровень. Я уже не мог открыто предаваться привычным вакхическим пляскам в шумном, раздолбанном страстями и выпивкой обществе, а если и просачивался в него тайком от жены, то это случалось редко и не доставляло мне привычного удовольствия. Я тяготился тем, что подло обманываю Лину, которая сейчас ждет не дождется меня в скучной двухкомнатной хрущёвке. Тупо пялится в телевизор и мечтает поскорее прижаться к груди любимого мужа, в это время предающегося блуду со шлюхами. В результате, я постепенно отошел от веселых компаний, разорвал все связи с подружками и дружками и оставил в силе лишь отношения со своим братом. Теперь он частенько заруливал к нам в гости, и мы устраивали совместные вечеринки. Мы, если так можно сказать, даже дружили семьями. С одной стороны я и Лина, с другой — брат с очередной жертвой его честных глаз и непревзойденного умения вешать на уши дурам лапшу. При этом период полураспада любовной страсти к очередной дуре обычно равнялся у Леонида неделе, потом пылкое течение стремительно угасало, в течение еще одной недели резко сходило на «нет», после чего нам с Линой бывала представлена очередная Света или Марина. А о прошлой Маше или Тамаре рекомендовалось забыть. Как о не оправдавшей высокого доверия моего брата. Третьим пунктом в списке ценностей, которыми я мог бы гордиться, после Лины и Леонида стояла дача. Вместе с участком она тянула на семьдесят тысяч баксов и была чем-то вроде кубышки, в которой отложено кое-что на черный день.
Дача мне досталась от деда, а ему, в свою очередь, ее выделили сразу после войны, как полковнику смерша, орденоносцу и Бог еще знает кому — дед не любил распространяться о своем прошлом. Участок в одиннадцать соток с двухэтажным зимним коттеджем был передан ему в пожизненное пользование без права передачи в наследство, но это как-то забылось в бардаке девяносто второго года, когда дедушка отошел в мир иной, а дача, соответственно, отошла моей матери. На волне повальной приватизации я без труда оформил ее на себя, затратив на это просто смешные деньги. И стал там жить-поживать, заботы не знать, мед-пиво пить, девчонок водить… Короче, дача пришлась мне в тему.
Несмотря на более чем полувековой возраст и сгнившую в одном месте крышу, дом был вполне пригоден для жилья даже в зимнее время, чем я и пользовался еще два года назад, пока после смерти матери мне не досталась двухкомнатная квартирка в Купчине. Теперь зимой мы с Лииной жили там, ибо затраты на отопление огромного двухэтажного дома съедали почти всю мою куцую зарплату врача «скорой помощи». Но зато, начиная уже с середины апреля, наша маленькая семья перебиралась в Лисий Нос, почти на самый берег залива. Оттуда я раз в четыре, а то и три дня ездил на электричке на суточное дежурство, а Ангелина выращивала вокруг крыльца анютины глазки и ноготки. В этом моя жена проявляла недюжинные талант и усердие, зато загнать ее на грядки с картошкой и огурцами у меня не хватало ни сил, ни терпения. В результате огород зарастал сорняками, аккуратные клумбы с цветами тешили взор, а овощи я покупал у соседки, благо мог пойти на подобное расточительство. На еду денег хватало. Если мы с Ангелиной и не могли позволить себе трехнедельный круиз по Европе, то с голодухи не пухли. Да и одежду выбирали себе не на мусорных кучах старьевщиков из секонд-хенда. Хотя и не в бутиках. В общем, самая обычная, самая средняя семья интеллигента-бюджетника, умудряющаяся с трудом сводить концы с концами и терпеливо дожидающаяся лучших времен, чтобы обзавестись ребенком. Ничего примечательного. Он и она — таких миллионы. Он и она — и никакого просвета. Он и она… и его младший брат-разгильдяй, который иногда наведывается в гости со своей очередной подружкой. Все размеренно, все спокойно. И кажется, ничего никогда не изменится…
Но все изменилось. Все полетело в тартарары. Я пропустил мощнейший удар в поддых и оказался в нокдауне.
Рефери открыл счет.
В соседнем с нами коттедже убили Эллу Смирнитскую.
* * *
О том, что существует такая, — вернее, существовала, — я узнал лишь в то кошмарное утро. Раньше этого имени я ни разу не слышал. И, наверное, никогда бы и не услышал, но получилось так, что Смирницкая вписалась кровавым мазком в мою бесцветную жизнь.
Испугавшись доселе не виданной яркой краски, бесцветная жизнь встала на дыбы и попыталась сбросить меня в преисподнюю. Мир перевернулся с ног на голову. Все слилось у меня перед глазами, превратившись в некий абстрактный рисунок. Я зажмурился и беспомощно сжался в комочек. И тут же мою вялую душу подхватила мощная ледяная волна и по-хозяйски поволокла ее на запредельные глубины чистилища. Там было холодно. Там было темно. Там был свой животный и растительный мир. Совершенно неведомый мне. Беспощадный и удивительно приспособленный к жизни в аду.
Мне предстояло с ним познакомиться…
Часть 1. «Кресты»
Глава 1. Чашка горького чая
День накануне выдался жарким и солнечным. Возможно, последний погожий денек уходящего лета, ибо он приходился на середину августа, а синоптики уже неделю упорно твердили о том, что с севера надвигается какой-то кошмарный циклон с дождями и ветрами. И чуть ли не с крещенскими морозами. Добра от такого не жди. К тому же, циклоны на Питер обычно прут косяками — за первым следует второй, за вторым третий, и так иногда продолжается месяцами.
Короче, последний погожий денек надо было использовать, и я, вернувшись утром с работы, сразу предупредил Лину о том, что сегодня поедем в Рощино за грибами. Она только проснулась и бродила по дому в совершенно разобранном виде, но, к моему удивлению, даже не попыталась протестовать. Лишь пожала плечами и безразлично сказала:
— Поехали. Ты, наверное, устал?
Я промолчал, хотя ночка действительно выдалась сумасшедшей. Обширный инфаркт, ДТП и передозировки наркотиками, причем две из них со смертельным исходом. За всю ночь я не смог не то что прилечь хотя бы на полчаса, было некогда даже перекусить. Но из Рощина уже неделю возили ведрами белые, а у нас еще не было никаких запасов на зиму. Поэтому, черт с ней, с усталостью. В лесу о ней забуду и думать. А вечером, как вернемся, усажу Лину чистить грибы, а сам завалюсь часов на двенадцать в кроватку. Заодно не поменяю день с ночью.
— Э-эй, красавица. — Я заметил, как Ангелина устроилась у подоконника и начала потрошить на него свою косметичку. — Ты что-то напутала. Мы едем в лес. Там только медведи и лешие. Ты для них собираешься краситься? Жена обернулась, похлопала густыми ресницами и резонно спросила:
— А электричка?
Этого я не учел. В электричку ненакрашенных конечно же не пускают. Там теперь фэйс-контроль. Там теперь проверяют не только билеты.
— Ладно. Быстрее. — Я поцеловал Ангелину в светленькую макушку и отправился на кухню готовить завтрак. Пытаясь по пути вспомнить, куда же закинул в прошлом году корзины… Кажется, на чердак. Или на антресоли?
Оказалось, что на чердак. Там же я обнаружил не заплесневевшую, как ни странно, за зиму энцефалиту и старые «лесные» джинсы. Свои сапоги я нашел под кроватью, Ангелинины — один возле печки на кухне, второй на веранде. У нее так всегда. Я удивился бы, если бы наткнулся cpaзу на две ее вещи в каком-нибудь одном месте. Такое впечатление, что все ее шмотки имеют одинаковые заряды и отталкиваются друг от друга, равномерно распределяясь в пространстве. — Поторапливайся! — крикнул я в глубину дома, не дождался никакого ответа и принялся наливать в термос кофе.
Время поджимало. Как мы не спешили — вернее, как я не спешил — сборы все-таки съели чуть больше часа, и из дому мы вышли около полудня. Если учитывать то, что была суббота, то грибов на нашу долю в лесу уже не осталось. Все смели безумные толпы голодных паломников из Петербурга, рванувшие на выходной на природу, но я тешил себя слабой надеждой на то, что до некоторых укромных лесных уголков они не добрались и там осталось кое-что и для нас. С электричками нам повезло, если не брать в расчет то, что они были забиты народом, и всю дорогу пришлось стоять. Что же, стояли. Я — потягивая из бутылочки пиво, Ангелина — мусоля банку с джин-тоником. Она стоически выдержала больше часа тяжелой дороги, ни разу не пожаловавшись на жизнь, и я был восхищен ее долготерпением. Правда, еще с самого утра жена была подозрительно задумчива и молчалива, чего с ней раньше никогда не бывало.
— Как ты себя чувствуешь? — наклонился я к ее уху.
— Нормально — Лину удивил мой вопрос. — Почему ты спросил?
— Не знаю. Какая-то ты слишком неразговорчивая.
Она усмехнулась:
— А ты привык к тому, что я болтушка? Хм, не знаю… Костик, ты замотался у себя на работе. Не надо было ехать сегодня.
— Возможно. Но раз уж поехали, не возвращаться ж назад.
Мы вышли в Рощине и сперва по асфальту, потом по грунтовке и, наконец, по узкой лесной двухколейке протопали пять километров до тех мест, куда, как я надеялся, еще не ступала сегодня нога грибника. Всю дорогу Лина геройски вышагивала рядом со мной и продолжала молчать. А я не переставал удивляться. И наконец не выдержат:
— Тебя что-то гложет, подруга?
— С чего ты взял? — спросила она. — Просто устала.
«Не мудрено, — подумал я. — Хрупкая хиленькая Линка, которая начиная с апреля не отходила от дома дальше продуктовой палатки, а физические нагрузки получает только на своих клумбах. Надо придумать ей какое-нибудь занятие посерьезнее. Или заставить заняться спортом. Или хотя бы один раз в неделю выбираться с женой на люди в Питер. Просто в кино. Просто погулять в парке и поесть мороженого в каком-нибудь недорогом кафе. А то ведь не дело — запер, деспот, красавицу-супругу на глухой даче и наплевать совершенно на то, что она, бедная там помирает со скуки. Да надо что-то в этом менять. Вот завтра же и займусь".
Благими намерениями выстлана дорога в ад. Наверное, их было слишком много, этих неосуществленных намерений, этих "Вот завтра же и займусь", ибо к аду я уже приблизился вплотную. Только об этом пока не знал. А ведь все было бы совсем по-другому, если бы я за эти три года осуществил хотя бы четверть из них, из этих — черт бы побрал их! — намерений. Впрочем, об этом я тоже не знал…
С Линой мы познакомились три года назад.
Ровно три года назад. Это произошло в августе, а уже в ноябре мы сыграли свадьбу. Мне тогда было двадцать шесть, моей молодой супруге стукнуло восемнадцать. И она не успела полностью расстаться с детством. В дочки-матери, конечно, уже не играла, но порой поражала меня своим ясным, девственным взором, коим взирала на окружающую действительность.
И этот взор и не собирается мутнеть от всех тех гадостей, которыми была до упора напичкана жизнь. Лина их просто и беззаботно существовала в своем уютном мирке, не обремененная никакими заботами, никакими лишними обязательствами. Она была сыта, она была нарядно одета, она была согрета моей пылкой любовью и, как ни странно, этого ей было вполне достаточно. Ни о каких «Мерседесах» и виллах в Майами моя жена даже не помышляла. Казалось, что она и не знает о том, что существует такое, что этого можно — а по нынешней жизни даже нужно — хотеть.
Такое положение вещей меня совершенно устраивало — все равно ничего подобного я ей дать никогда бы не смог. Не будучи косметологом или дантистом, денег в медицине сейчас не заработать, да я, признаться, к этому и не стремился. Каких-либо честолюбивых помыслов я был лишен начисто, а хронический альтруизм, наверное, впитал еще с молоком матери. Впрочем, были кое-какие планы насчет совместного бизнеса с братом, я даже собирался продавать ради них свою дачу, но вовремя одумался, и планами это все так, в конце концов, и осталось. И сволочная работенка в «скорой помощи» отодвинула меня от блестящих сторон бытия, сунула мне в зубы скупую зарплату бюджетника и сказала: «Большего ты не достоин. Так что не рыпайся».
Я и не рыпался. Сутки колбасился на работе, вытаскивая с того света потенциальных покойничков, после чего трое суток проводил на диване. В компании Ангелины, развлекающей меня пустой болтовней. Под нудный мотив мыльных опер, раздающийся из динамиков телевизора. С дешевым детективом в руках. С бутылкой холодного пива на полу у изголовья дивана. Тусклая жизнь спокойно текла по прямому гладкому руслу, и впереди не было заметно ни порогов, ни водопадов. Ни поворотов. Они были не нужны ни мне, ни Ангелине. Нас полностью устраивало то серенькое существование, которое мы благополучно влачили…
— Вау! — звонко взвизгнула чуть отклонившаяся от тропинки Вика и я испуганно замер. — Костик, сюда! Ой, мамочки, гриб! Белый!
Действительно, это был белый. И притом не один. Из глубокого серебристого мха на площади каких-то пятьдесят метров мы за десять минут наковыряли пятнадцать крепеньких красавцев-боровичков. Чуть углубились в лес и наткнулись еще на одно урожайное место.
— Bay!.. Ой!.. Мамочки!.. — Еще четверть часа назад смертельно скучающая Ангелина теперь воплощала собой эталон первобытного охотничьего азарта. — Костик, сколько грибов! А у нас только корзинки? Ты взял хоть один пакет?
Ничего я не брал, кроме скудного сухого пайка и термоса с кофе, и когда за какие-то два часа мы с горкой заполнили две ведерные корзины, пришлось снимать с плеч маленький рюкзачок и срочно поедать все бутерброды, освобождая место для наших трофеев. Короче, вылазка в лес удалась. С таким изобилием белых я не сталкивался ни разу, хотя достаточно побродил в свое время и по карельским корабельным борам, и по нехоженой поморской тайге. И вот, в каких-то трех километрах от большого, переполненного дачниками поселка… Да еще и в субботу…
На пятом десятке я сбился со счета, а назад к электричке мы еле ползли, нагруженные дарами природы по самое некуда. Лина, радостно щебетавшая и визжавшая на весь лес, пока мы собирали грибы, снова ушла в себя и всю дорогу молчала, но я решил больше не надоедать ей вопросами. Если ее мучает какая-нибудь проблема, то она все равно долго не вытерпит, поделится ею со мной. И в результате окажется, что эта головная боль просто надумана и даже не стоит внимания. Так, как это бывало уже не раз.
Я решил не обращать внимания на плохое настроение жены и переключился мыслями на завтра, снова вернувшись к вопросу о том, что надо выбраться с Ангелиной в Питер. Туда мы доедем. А дальше куда, если учитывать то, что в средствах мы весьма ограничены? Может быть, заглянуть в гости к теще? Насколько помню, мы не виделись с ней с зимы. И не видеться бы вообще! Кстати, Лина со мной в этом вопросе вполне солидарна. Не успел отыграть марш Мендельсона на нашей свадьбе три года назад, как ни мать не нужна стала ей, ни она не нужна стала матери. Та сплавила мне с рук на руки свою единственную дочку с таким незакамуфлированным облегчением, что я даже вначале не верил тому, за чем наблюдаю. Наивно считал, что теща блефует. Ан нет! Все оказалось действительно так. Уже через несколько дней после того, как Лина перебралась с вещами ко мне, на ее место вселился некий гладенький тип с глубокой лысиной и повадками Гаера Кулия — такого, каким я когда-то его представлял, читая Каверина. Тип казался мне отвратительным, Лина даже слышать о нем не могла, но теща наконец обрела свое нехитрое семейное счастье в том воплощении, которое как оказалось существовало в реальности. Да, любовь зла, и с этим ничего не поделаешь…
"Нет, только не к теще, — наконец решил я. — Лучше сходим в кино. Если будет хорошей погода, погуляем по Петропавловке. Быть может, зайдем в зоопарк, как когда-то — кажется, так давно, — когда мы с Линой не были знакомы даже недели».
Это было нашим первым свиданием. Было холодно, моросил мелкий дождик, и у меня сломался зонтик. Пока мы бродили по зоопарку, то промокли насквозь. Свои последние деньги я тогда потратил на частника, который довез нас до Лисьего Носа. До моей дачи. До небольшого камина, который сложен в гостиной и всегда заполнен сухими березовыми дровами.
У этого-то камина я в тот вечер впервые поцеловал свою будущую жену.
Впрочем, не только поцеловал.
Впрочем, не будем об этом…
Электрички снова не заставили себя ждать. Сегодня они вели себя просто прекрасно, и на обратный путь по железной дороге мы потратили чуть больше часа, а дома были уже в половине девятого. Лина сразу же скрылась на кухне и загремела там чайником и кастрюлями. «Проголодалась, бедняжка», — подумал я и пошел на веранду готовить плацдарм для чистки грибов. Застелил стол газетами, принес из спальни большую «цыганскую» иглу и катушку суровых ниток. Потом прикинул, а удастся ли мне помочь сегодня жене в битве с грибами, а не то ей одной придется возиться до поздней ночи. И решил, что запаса силенок мне еще хватит. Почему не помочь? Хотя я не спал уже почти сорок часов, но чувствовал себя вполне сносно. Возможно, меня даже хватило бы на еще один поход в лес.
— Ко-о-ость! — прокричала из кухни Лина, и я отправился к ней. — Чего тебе? Кофе? Чай?
Я улыбнулся, открыл холодильник и достал: оттуда початую бутылку «Посольской».
— Вот этого.
Супруга сразу же сделала стойку.
— Только немного! Не спал столько! Свалишься!
— Поговори-и-и! — Я сграбастал Ангелину в объятия и крепко прижал к себе. — Мать-командирша! В кои-то веки мужик добрался до водочки… — Я потерся о щеку любимой жены своей двухдневной щетиной. — Как настроение?
— Нормально. — Лина с трудом вырвалась от меня. — Дура-а-ак! Наждачкой своей… Одну стопку, не больше. Чай наливаю.
— Угу. — Я уселся за стол и уткнулся в тарелку с пельменями. Есть не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Совершенно нулевое состояние. Состояние нестояния. А еще собирался помочь жене. И хвастливо хвалился сам перед собой, что смогу выдержать еще один поход в лес. Какое там! Я уже не тот, что в студенческие годы, когда мог легко просидеть за конспектами двое суток подряд. Старею, и никуда не деться от этого… А пока все же надо ложиться спать.
С грибами Лина справится и без меня.
Я плеснул в стакан из бутылки, залпом опрокинул водку в себя и запил ее чуть теплым чаем с лимоном. Он показался мне горьким. Даже с каким-то техническим привкусом. Не чай, а отработанное машинное масло.
— Чего ты туда наболтала? — капризным тоном спросил я жену, хотя отлично знал, что ничего не набалтывала. Просто чай показался таким после водки.
— Ничего. — Лина округлила глаза. — Пей больше этой гадости, еще не то будет мерещиться. — Она взяла со стола бутылку и поставила ее назад в холодильник. — Шли бы вы спать, молодой человек. Ведь клюешь носом… Кушать не будешь?
— Нет. — Я отодвинул тарелку, допил чай и поморщился. Технический привкус все же присутствовал. Или меня уже начало глючить. Немудрено. Я поднялся из-за стола и виновато ткнулся губами жене в щеку. — Извини, но, кажется, чистить грибы тебе сегодня придется одной. — И, словно сомнамбула, поплелся на второй этаж, где у нас была оборудована спальня. Сон, который до этого времени таился где-то в засаде, неожиданно вырвался на свободу и с разгону взял меня в оборот. Я начал засыпать на ходу. Я был словно раненый. С трудом поднимался наверх по скрипучей расшатанной лестнице и боялся, что сейчас возьму и свалюсь, так и не добравшись до кровати. Странно, раньше подобного за собой не наблюдал. Старею. Наверное, старею.
Я с трудом стянул с себя джинсы и свитер, бросил их прямо на пол и забрался в постель. В голове стоял невообразимый сумбур, ощущение реальности полностью сошло на «нет», и я не мог сейчас отделить сон от яви. «Заболел, — еще раз промелькнуло у меня в голове. — Или Линка все-таки что-то подмешала мне в чай. — Эта чудовищная догадка на секунду вернула меня из грез в бытие. Лишь на секунду, не болee, потому что я тут же одернул себя: — Что за чушь! И надо ж такое придумать! Лина подмешала мне в чай? Зачем это ей? Какого дьявола нужно, если здраво помыслить? Нет, я всего лишь устал. Я всего лишь очень хочу спать. Вот только зачем-то борюсь со сном. Чего-то боюсь… А чего? Все нормально. Все хорошо. Все в лучшем виде. У меня просто немного поехала крыша. А поэтому впредь надо соблюдать хоть какой-то режим. Установить себе распорядок. Вот завтра же и займусь. А еще…
…чего-то я еще хотел сделать завтра… Чего же, чего?.. А, точно — съездить с женой в Петербург, вывести ее на люди. А то захиреет, бедняжка, совсем на своих клумбах с цветочками».
Глава 2. Мертвая женщина в доме напротив
Я проснулся, словно после основательной пьянки. В глотке стояла великая сушь. Башка разламывалась от боли и ничего не соображала. С макушки до пят я был покрыт липкой пленкой холодного пота. Мозги натужно скрипели, но пока еще были не в состоянии выдать хотя бы клочок информации о том, чем же таким я занимался вчера. Почему мне настолько дерьмово. Напился? Вроде бы нет. Вот белые собирал — это было. Да, мы с Линой ездили в лес. С полными корзинами вернулись домой. Я хотел помочь жене разобраться с грибами, выпил немного водки и сразу почувствовал себя как-то не так. Еле добрался до спальни. И все… Заснул, как младенец. Правда, совсем не как младенец проснулся наутро. Такое чувство, что отравился. Только чем? Пельмени не ел. Вообще ничего не ел с того момента, как в лесу мы с Линой освобождали рюкзак и срочно поглощали бутерброды с копченой грудинкой. Но это было задолго до того, как я почувствовал себя плохо. Что еще?..
Я посмотрел на часы, которые вчера так и не успел снять с руки, — половина одиннадцатого. Значит, проспал двенадцать часов, даже больше. Недурственно. Я осторожно перебрался через сладко посапывавшую рядом жену и, стараясь не скрипеть половицами, прокрался в ванную…
…Итак, что еще? Не отравился же я ста граммами водки из опорожненной ранее более чем наполовину бутылки? Нет, нереально. Зато кроме водки я влил в себя целую кружку какого-то чудовищного чая. Точно, вспомнил! Он еще отдавал автолом. Или чем-то подобным. Я тогда подумал, что мне это мерещится, но теперь все же склоняюсь к тому, что чувства меня не обманули. Возможно, что в чайник или в мою кружку попала какая-то грязь, а растяпа Лина этого не заметила.
В ванной я поплескал в лицо холодной водой, потом покопался в аптечке, перебрал несколько упаковок с лекарствами и наконец, остановил свой выбор на аспирине и аскорбинке. В таком сочетании они всегда хорошо помогали с похмелья, так почему же не помогут сейчас? Я запил таблетки водой из-под крана и пошел на кухню.
Все пространство над газовой плитой было увешано гирляндами насаженных на ниточки грибов. Лина ночью потрудилась на славу. Неудивительно, что теперь спит, как убитая. Милая моя, любимая Ангелинка…
Я достал с полочки свою кружку, тщательно обнюхал ее, но никаких признаков машинных масел или чего-то подобного не обнаружил. Отхлебнул глоток из носика чайника — вода как вода. Проверил заварочный чайничек — тоже все в норме.
Придумал я все! Да и откуда взяться какой-то гадости у нас на кухне? Такое просто немыслимо! К тому же, если бы я отравился чаем, то же самое произошло бы и с Ангелиной. А по тому, как она сладко посапывает в кроватке, этого про нее не скажешь. И слава Богу!
Таблетки подействовали, и я почувствовал себя гораздо лучше. Даже захотел есть. Водрузил на плиту чайник. Достал из холодильника пару яиц и кусочек грудинки — решил зажарить яичницу. А еще решил не придавать большого значения тому, что слегка приболел. Вообще забыть об этом, и все. Подумаешь, недомогание! Обычное дело. Так может проявляться даже простая простуда. Это может быть следствием усталости. Так нет же, мне такие диагнозы неинтересны! Проснулся утром с тяжелой башкой, потошнило чуть-чуть и уже готов бить в набат: Люди! Я отравился! Караул! Мне подсыпали что-то в чай! И подсыпал не кто-нибудь, а горячо любимая жена Ангелина… Смешно! Глупо!
Проклятая мнительность! Как же она мешает мне жить…
Я уже допивал кофе, когда на кухне объявилась Лина. Со спутанными со сна длинными волосами, в короткой ночной рубашонке, она прошлепала босиком к развешанным над плитой грибам, встала на цыпочки, заголив голую попку, и попыталась понюхать, чем они пахнут. Потом обернулась ко мне и сообщила:
— А на улице дождик.
Да? А я этого даже и не заметил, все утро поглощенный заботами о своем пошаливающем здоровье.
— Ты как себя чувствуешь? — Я, не вставая со стула, зацепил Ангелину за краешек ночной рубашки, притянул к себе и крепко прижал, заспанную и теплую, к груди. Такую уютную! Такую свою!
— Нормально. — Она обвила руками мою шею. — А что?
— Да так… Мне показалось, что я отравился…
— Ты просто устал, — перебила меня жена.
… чаем, кажется. Какой-то он был не такой. Ты пила вчера чай?
Я почувствовал, как Лина напряглась у меня в объятиях, переваривая этот нехитрый вопрос.
— Чай?.. Да. Два раза. А что?
Кажется, я выглядел просто глупо, пытаясь устроить дознание по поводу показавшегося мне невкусным чая с лимоном. Глупо в первую очередь перед самим собой, потому что Лина этого просто, скорее всего, и не заметила.
— Да ничего, — пробормотал я и хитро посмотрел снизу вверх на жену. — Я вот что думаю, мать. А не пойти ли нам назад в спаленку? В кроватку? Ты как? — Хотя мог бы ее и не спрашивать, ибо и без того точно знал, как. За три года нашей супружеской жизни еще не было случая, чтобы Лина отказалась от подобного предложения. Она была готова заниматься любовью всегда и везде и порой даже пугала меня своей сексуальной активностью. Я иногда даже пытался отыскать в ее поведении признаки нимфомании. Безрезультатно.
В сексопатологии я был полным профаном.
Мы поднялись в спальню. Дождь усилился, и на втором этаже было отчетливо слышно, как он шумит по старой железной крыше. Мерный умиротворяющий шорох, усыпляющий и нейтральный настолько, что его можно просто не замечать, если не хочешь, — как не замечаешь обычно тиканья настенных часов. Но другой звук, который сразу же резанул мне по ушам, не заметить нельзя.
Собачий вой. Жуткий, вытягивающий всю душу собачий вой, раздававшийся с улицы где-то совсем недалеко от нашего дома. Странно, и как я его не расслышал раньше?
— О, Боже! — Я подошел к окну, отодвинул в сторону занавеску и попробовал разглядеть собаку. Но наткнулся взглядом лишь на мрачный дождливый денек. На начинающую в преддверии осени увядать природу. — Чего она так разрыдалась?
Сзади прижалась ко мне Ангелина.
— Ты спал, не слышал. Она выла еще ночью.
— Странно. — Я погремел шпингалетом и приоткрыл окно. В комнату ворвался аромат вымытой дождиком зелени; сырой, уже по-осеннему холодный воздух. — Так воют лишь на луну и по покойникам… Черт! Кажется, это где-то у Исаковичей.
Соседний с нашим участок до недавнего времени занимала семья известного в своих кругах искусствоведа и коллекционера — три его дочки с мужьями и большой выводок интеллигентных и тихих настолько, что казались больными, детишек. Там стоял такой же полувековой, как и наш, двухэтажный дом, перед которым был разбит старый фруктовый сад. По осени Исаковичи, не скупясь, приглашали нас с Ангелиной собирать яблоки и алычу, которыми даже в неурожайные годы всегда были богато усыпаны ветки деревьев в саду. Но этим наши добрососедские отношения и ограничивались. Между нами не было ничего общего, кроме гнилого забора, воздвигнутого на границе наших участков. Исаковичи жили в своем жизненном измерении, мы с Линой — в своем. И эти измерения нигде не пересекались — ни в работе, ни в религии, ни в уровне материального положения.
Прошлым летом старый Борис Исакович скончался от инсульта, и уже к зиме его знаменитая на весь мир коллекция русского авангарда была благополучно распродана, а чуть позже такой же участи удостоилась дача. Три его дочки с мужьями и тихими интеллигентными детишками спешили поскорее перебраться в Израиль.
А весной у нас появились новые соседи. Пару раз из окна в спальне я наблюдал за тем, как к соседней даче подъезжает дорогой черный «Лексус», из него вытряхивается небольшая компания, в дом перетаскиваются кое-какие пожитки.
А вечером возле крыльца устанавливались мангал и белый пластиковый столик, и до нашей дачи начинали доноситься отзвуки громкой музыки — не пустой московской попсы, которую обычно принято слушать на пикниках, а по-настоящему качественного уральского и питерского рока. Внимательно вслушиваясь в мелодии Шклярского[2] и Пантыкина,[3] в стихи Кормильцева[4] и Башлачева[5] я торчат у окна и проникался уважением к своим новым соседям. И жалел, что у меня нет бинокля, чтобы подробнее рассмотреть, как они выглядят, сколько им лет. Хотя и без бинокля с расстояния в каких-то сто метров было видно, что это две пары, скорее всего, семейные. Всем лет по тридцать — по тридцать пять. Одеты ярко и дорого — совсем не как зачуханные труженики приусадебных шести соток. Не стремятся поскорее напиться, исполнить хором дежурную застольную песню и подраться. Если не считать громкой музыки, все у них пристойно и тихо — совсем не по-русски, скорее, по-европейски.
В конце концов, я поймал себя на мысли, что очень хочу с ними познакомиться. Но подобной возможности у меня так и не появилось. Начиная с июня, у соседей что-то изменилось — шашлыки больше никто не жарил и до моего слуха больше не доносились отзвуки песен «Урфина Джюса» и «Пикника». Было похоже на то, что компания распалась, хотя черный «Лексус» появлялся регулярно каждые выходные и иногда — очень редко — в середине недели. На нем на дачу приезжала стройная женщина средних лет с густыми иссиня-черными волосами и внешностью если и не мулатки, то, как минимум, квартеронки. Всегда одна, если не брать в расчет рыжего беспородного пса, смесь лайки с овчаркой. Женщина запиралась в доме и даже в хорошую погоду почти не выходила на улицу. Лишь утром и вечером выгуливала в саду перед крыльцом собаку…
— Это рыжий, наверное, воет, — пробормотала Лина. — Хозяйка уехала, пса заперла… Странно. Она всегда таскает его с собой. И в воскресенья обычно сидит здесь до упора.
Я замерз и прикрыл створку окна.
— Может, что-то случилось?
— Да ну… — Лина задернула занавеску и нетерпеливо потянула меня к кровати. — Ничего не случилось… Пошли же… Видишь, машины нет.
Да, «Лексус» отсутствовал. На соседней даче гаража не было. Что у Исаковичей, что у новой хозяйки машины всегда стояли на улице возле крыльца и были хорошо видны из наших окон.
«Может, дамочка уехала в магазин? — подумал я. — Хотя нет. Собака начала голосить еще ночью. Наверное, загуляла соседушка… О, Господи, и как же воет эта рыжая тварь! А так просто собаки не воют. Надо бы дойти до соседей, проверить. Вот только разберусь с Ангелиной и обязательно схожу посмотреть, что там такое. Если эта сирена к тому времени не заткнется… Нет, ну как она скребет по мозгам!»
Я сумел вырваться из объятий ненасытной жены лишь через час. Вой к тому времени не прекратился, хотя собака и брала регулярно коротенькие тайм-ауты, после чего продолжала свои стенания. И, признаться, уже здорово меня достала. Я был настроен весьма воинственно, когда облачившись в спортивный костюм, сапоги и прозрачную дождевую накидку, вышагивал под проливным дождем в гости к соседям. Сам не зная зачем. Ведь если там нет никого, то все равно мне никто не откроет. И не с кем будет ругаться из-за того, что собака вымотала все нервы. Моя акция сведется к тому, что чисто символически постучусь в дверь, поброжу под окнами и, несолоно хлебавши, уберусь восвояси. Проклятье, нет бы этой собачке так выть вчера, когда мы были в лесу!
Ворота оказались не заперты. Обе створки прикрыты, но массивный замок, который я привык видеть здесь, когда хозяев не было дома, отсутствовал. Странно. Я толкнул калитку, но она-то как раз и не поддалась. Пришлось проходить на участок через ворота. С громким металлическим лязгом я отодвинул в сторону одну из створок и, скрипя мелким гравием, которым была выложена подъездная дорога, пошел к дому. Собака, должно быть, услышала звук открывающихся ворот или мои шаги и, наконец, заткнулась.
Проходя через сад, я чисто автоматически отметил, что в этом году снова будет большой урожай. Ветки яблонь прямо усыпаны еще недозревшими плодами, но, в отличие от прошлых лет, не подперты заботливо рогатинами и жердями, а значит пройдет совсем немного времени, и они начнут ломаться под тяжестью яблок. Жалко.
«Надо бы предложить хозяйке помочь в саду», — подумал я, поднимаясь на крыльцо, и несколько раз ударил кулаком в массивную дверь. Собака ответила мне радостным тявканьем. Я отчетливо слышал, как она изнутри скребет по двери когтями. И ничего более — ни шагов, ни недовольных вопросов: «Кто там?» Никаких признаков присутствия человека. А чего же я здесь еще ожидал?
«Пройду по периметру дома, попробую заглянуть в окна, — решил я. — Может, что интересное и увижу. Хотя вряд ли. И чего только приперся сюда, идиот? Ну, воет собачка, и воет. Может, ей хочется так. Не обращай на нее внимания, как другие, нормальные, люди, и занимайся своими делами. Так нет же, обязательно надо сунуть нос, куда не просили… Когда-нибудь так и останусь без носа».
Я для очистки совести еще раз стукнул кулаком в дверь и, даже не задумываясь о том, что делаю, повернул вниз дверную ручку. Дверь неожиданно скрипнула и подалась вперед. И тут же изнутри ее подцепила рыжая собачья лапа. Я растерянно отступил в сторону и только благодаря этому не был сбит с ног крупной дворнягой, которая стремительно вылетела из дому, промелькнула мимо меня, и шумно сверзнувшись вниз со ступенек крыльца, тут же присела в двух шагах от него по своей собачьей нужде.
Не менее минуты я стоял на пороге, с восторгом наблюдая за тем, как несчастная, забытая хозяевами псина избавляется от избытков влаги. И выглядел при этом, наверное, настолько глупо, что меня можно было с успехом снимать в кино для олигофренов.
Наконец струя иссякла. Собака облегченно вильнула хвостом, понюхала огромную лужу, которую только что напустила, и устремилась назад в дом, не обращая на меня никакого внимания. Я был для нее пустым местом. Странная собачонка. Я на ее месте хотя бы рыкнул на незнакомца.
«Ну и что дальше? — подумал я. — Добился своего? Выгулял чужую собаку? Теперь есть надежда на то, что она заткнется до приезда хозяев. А мне не пора ли делать отсюда ноги? А то, и правда, как вернутся хозяева! А я у них на крыльце. И дом открыт. Неприятная ситуация. Особенно, если потом обнаружится, что что-нибудь за это время пропало».
Но я был бы не я, если бы ограничился тем, что потоптался на соседском крыльце, обнаружил, что дверь нараспашку и посмотрел изблизи на рыжую псину, так до конца и не разобравшись, чего она выла. И почему нет на воротах замка. И почему дом не заперт.
«Что-то здесь все же не так, — решил я, — и не мешало бы выяснить что. К тому же терпеть не могу незавершенки. А именно незавершенкой можно обозвать то, что не поленился дойти до сюда под дождиком и стремительно отступил в самый последний момент, не решившись сделать последний шаг. Нет, так нельзя. Все надо проверить».
Я тщательно вытер ноги о старый половичок, брошенный возле двери, и вошел в дом. В просторной прихожей стоял полумрак — свет туда проникал лишь через маленькое слуховое окошко над дверью и еще через распахнутую в одну из комнат дверь. Оттуда выглянула собака, вильнула хвостом, увидев меня, и снова скрылась из виду.
— Есть кто живой? — крикнул я, и пустой дом ответил мне лишь гудением осы, бьющейся о стекло слухового окошка. — Эй, хозяева!
Тишина. Только оса откликается на мои призывы…
Неожиданно в глубине комнаты тоскливо заскулила дворняга. Она опять появилась в дверном проеме и выжидательно глянула на меня. Собачка звала меня за собой. Гостеприимно предлагала мне проходить, не стоять на пороге. Ей было что мне показать.
— Эй, хозяева! — еще раз вякнул я без особой надежды на то, что кто-нибудь отзовется, и подошел к двери в комнату. Собака, цокая по крашеному полу когтями, подбежала ко мне и приветливо ткнулась влажным носом в мою ладонь.
— Собачка, — вполголоса сказал я, протянул руку, чтобы погладить ее по загривку, и замер, увидев то, на что она предлагала мне посмотреть.
Комната была заставлена убогой сборной мебелью, оставшейся здесь еще от прошлых хозяев, — стандартный набор: потертый диван, журнальный столик, два кресла. В углу комнаты расположился старенький телевизор на ножках. На окнах висели выцветшие плюшевые портьеры, давно отслужившие свой век в городской квартире и вывезенные на дачу. Пол был застелен сшитыми друг с другом на деревенский манер узкими половичками. А на половичках, навалившись спиной на диван, сидела совершенно голая женщина.
Совершенно мертвая женщина! Не бывает мертвее! Мне даже не надо было к ней подходить, чтобы убедиться в том, что это именно так. Я, слава Богу, повидал на своем веку мертвецов.
Дворняга подбежала к покойнице, лизнула ее в лицо и вопросительно обернулась ко мне. Она ждала от меня, что я смогу объяснить, что происходит. Почему хозяйка такая холодная. Почему сидит и не шелохнется. Почему так странно пахнет. Почему не хочет гулять со своей собакой. А может быть, человек знает, что надо сделать, чтобы хозяйка снова смогла двигаться и разговаривать, чтобы насыпала в миску «Педигри Пала»? Ведь он человек. Он все знает. Он все умеет.
Я действительно знал, как оживлять мертвяков. Сколько их было за мою жизнь? Двести? Триста? Пятьсот? Тех, кого я когда-то вытащил с того света? Тех, кто продолжает беззаботно топтать бренную землю, совсем не задумываясь о том, что где-то живет сейчас простой врач скорой помощи, который причастен к их второму рождению? Я сделал свою работу и навсегда ушел из их жизни. Обидно? Да нет. Я никогда не был тщеславным. Мне всегда было на это плевать.
Я знал, как оживлять мертвяков, но только совсем не таких, как эта голая дамочка, сидевшая на полу в пяти шагах от меня. Ей не помог бы и колдун вуду. Самое большее, что можно было сделать для этой женщины, так это вызвать ей труповозку. И, конечно, ментов.
«3-зараза! — подумал я. — Все-таки вляпался! Влез в дерьмо всеми копытами! Менты теперь вытянут из меня душу. Замучаюсь давать показания, подписывать протоколы».
И тут же в голове сформировалась мысль о том, что можно попробовать незаметно смыться отсюда, спрятаться у себя дома. Эту бабу найдут и без меня. А когда ко мне в гости нагрянет какой-нибудь следователь, — соседей убитой он все равно без внимания не оставит, — я сделаю постную рожу и разведу руками: мол, ничего не знаю, ничего не видел. И буду дальше жить-поживать. Без проблем, без забот. Без протоколов. Без свидетельских показаний…
Но прежде чем развернуться и уйти из этого дома, я подошел к мертвой женщине, присел перед ней на корточки и внимательно рассмотрел рану, которая стала причиной смерти. Хозяйку дома убили одним колющим ударом в грудную клетку. Одним-единственным точным ударом, настолько профессиональным, что он вызвал мгновенную остановку сердца, и жертва практически не потеряла крови. Хотя, возможно, кровь вылизала собака. И все же, по тому, как расположено входное отверстие раны — чуть правее и ниже левой груди, — было ясно, что нож (или что еще там?) в эту женщину всадил тот, кто делал это уже не раз. Тот, кто хорошо знаком с анатомией.
Я протянул руку и пощупал предплечье покойницы, пытаясь определить температуру тела, хотя бы приблизительно вычислить, когда наступила смерть. Но опыта судмедэксперта мне явно не доставало. Ну, холодной была эта женщина. Ну, налицо полное трупное окоченение. И что из того? Смерть могла наступить и вчера вечером, и сегодня утром. Хотя нет, не утром. Если верить Лине, собака начала выть еще ночью. А значит…
«Да какое мне дело до того, когда померла эта дамочка! — резко одернул я себя, поднялся с корточек и поспешил вон из комнаты. — Решил поиграть в детектива? Не выйдет, родной! И ничего-то ты в этом не смыслишь! А раз не смыслишь, то лучше держаться от таких ситуаций подальше. И не светиться. Поскорее делать отсюда ноги».
— Извини, мне пора, — сказал я собаке, провожавшей меня до двери. — Ты потерпи, девочка, хорошо? Скоро сюда придут. И накормят тебя.
Собака в ответ благодарно вильнула хвостом. Возможно, сейчас ей было не до еды.
Я вышел из дома, спустился с крыльца…
— О, черт!
…и в этот момент сообразил, что на дверной ручке остались мои отпечатки. Я любовно обляпал ее руками с обеих сторон. Я ее разве что не расцеловал. А в результате, мои пальчики окажутся в ментовском реестре вещдоков в первую очередь. Мне это надо?!!
Не надо! Я вернулся и тщательно протер ручку полой спортивной куртки. Еще раз потрепал за загривок подбежавшую к двери собаку и поспешил домой, планируя, как придется врать сейчас Ангелине о том, что не смог попасть в дом, постучал, покричал, побродил под окнами и, в конце концов, сдался. И ничего, в результате, не знаю.
Я выбрался за ворота, с легким скрипом прикрыл за собой створку, обернулся… и мысленно произнес парочку самых грязных фраз, которые только знал.
От дома, который стоял через дорогу от дачи Исаковичей, но был полностью скрыт от нее густыми кустами сирени и бузины, ко мне направлялись его хозяева. Муж и жена, пенсионеры, которые, как и мы, проводили в Лисьем Носу все лето, но на зиму уезжали в Питер. — Евгения Львовна и Александр Петрович? — машинально попытался вспомнить их имена. — Или наоборот: Евгений Львович и Александра Петровна? Проклятье!!! Принесло ведь! Интересно, они заметили, как я открывал дверь, когда стирал отпечатки? Если видели, то сейчас придется звонить по "02" и давать показания. Если не видели, то все хорошо. Потом, когда менты начнут задавать вопросы, можно сказать, что в дом не попал. Потоптался на крыльце, но не додумался до того, что дверь может оказаться не запертой, а потому не пытался ее открыть. И не находил никаких трупов. И, вообще, ничего не знаю… Так заметили что-нибудь эти, будь они прокляты, пенсионеры или нет? Интересно, и как это выяснить? Может, просто спросить: "Извините, вы случайно не видели, как я сейчас вышел из соседского дома?… Ах, не видели! Отлично, отлично! Тогда так и скажу милиционерам, когда буду давать показания… "Проклятье! заметили они или нет?"
— Костя, здравствуйте! — прокричала Евгения Львовна (или все же Александра Петровна?), приблизившись ко мне. — Как воет эта собака! С самой ночи! Вы узнали, что там случилось?
Я неопределенно пожал плечами. Я еще не решил, что отвечать… Видели они или нет, черт побери?
— Вы же туда заходили, — сказала соседка, и я так и не смог определить, с какой интонацией. То ли вопросительной, то ли утвердительной. И вообще, куда заходил? Если на участок, то да. Этого я и не собирался скрывать. Если в дом… Так заметили они то, что я открывал дверь? Или нет?!! — Вы разговаривали с этой девушкой, я так и не знаю, как же ее зовут?
— Не разговаривал, — ответил я, и это была чистая правда. Поговорить с этой девушкой у меня бы не получилось при всем желании.
— Ее разве нет дома? — Допрос продолжался, и мне надо было срочно решить, что рассказать соседям. То, что я мнусь, отвечая на их дурацкие вопросы, может показаться им подозрительным, о чем незамедлительно будет доложено ментам, когда начнется следствие, а в результате, я могу угодить в число подозреваемых. Что-то не хочется этого. Эх, и какого же дьявола меня понесло на эту проклятую дачу?
— У вас есть телефон? — Я решил говорить правду. Я решил позвонить сейчас по «02». Я решил, что лучше потом потратить на показания несколько часов, чем быть пойманным на вранье. Сволочные пенсионеры! Вечно умудряются влезть туда, куда им влезать не положено! — Мне надо обязательно позвонить.
— Саша… — Евгения Львовна (все же Евгения Львовна!) повернулась к мужу, и тот отстегнул с ремня сотовый телефон. — Конечно, звоните, Костя. Нам разве жалко… — Она вдруг округлила глаза и испуганно уставилась на меня. — А что? Костя, что-то случилось? Куда вы хотите звонить? В «скорую помощь»?
— Я сам скорая помощь, — сказал я, беспомощно крутя в руке телефон и пытаясь понять, как он включается. — Мне надо связаться с милицией.
Евгения Львовна приоткрыла маленький ротик. На лице ее мужа постное выражение безразличия сменилось живым интересом.
— С милицией? — соседка даже повысила голос. — Ой, Костя! А что же произошло? Что вы увидели там? На даче…
Я наконец разобрался с сотовым телефоном, набрал номер и, дожидаясь ответа, небрежно бросил:
— На даче? Да ничего особенного. Женский голосок чирикнул в трубке:
— Милиция.
Соседи-пенсионеры выжидательно таращились на меня. Они сейчас были готовы отдать половину своей оставшейся жизни за то, чтобы поскорее узнать, что такое я обнаружил в доме. От нетерпения у них даже мог случиться инфаркт. Мне стало жалко этих двух стариков и прежде, чем начать общаться с диспетчером, я решил все же удовлетворить их любопытство.
— А в доме… — Я кивнул головой на коттедж, в котором опять начала выть собака. — Так, мелочи… В общем, там всего лишь валяется труп.
Соседка испуганно втянула воздух. Сосед растерянно поднял брови.
— Говорите, вас слушают, — нетерпеливо повторил женский голосок в трубке…
* * *
Вечером заявился в гости мой брат. Как ни странно, один, без подружки. Зато с приличным запасом пива. И уже заметно навеселе.
К тому времени только что ушел ментовский оперативник. Он провел у нас около двух часов. Сидел на кухне, хлебал кофе, задавал вопросы и заполнял разнообразные бумаги. Я подробно описал ему весь вчерашний день: как мы собирали грибы, как нам повезло с электричками, как вернулись домой, и как я, почувствовав себя плохо, отправился спать, оставив жену на веранде чистить грибы.
Потом оперативник, здоровый рыжий детина примерно моего возраста, по-простому представившийся Сергеем, пожелал осмотреть нашу спальню, и я гостеприимно проводил его на второй этаж.
— Неплохой домик, — заметил Сергей, подошел к окну и отодвинул в сторону занавеску. — Старый, наверное?
Я молча кивнул.
— Продать не предлагали?
— Предлагали, — ответил я и подумал: «Это имеет какое-то отношение к убийству соседки? Спрашивал бы ты, мужик, по существу».
— Часто?
— Что часто? — не понял я.
— Предлагали продать.
— А, это… Немерено. В среднем раз в месяц наезжают купцы. Я их посылаю подальше. Прошлым летом даже обещали поджечь, если не уступлю… — я усмехнулся, — …за семь тысяч долларов. Какие-то два доходяги. Мне показалось, они прикатили сюда прямиком из «Скворечника».[6]
— И что дальше?
— Дальше? До сих пор поджигают. Мне-то что. Дом застрахован.
— Дом… Дом-то и пес с ним… с домом-то, — пробурчал Сергей и подергал раму. — А жизни-то у вас с женой есть запасные? Сгорите как… — Он с грохотом распахнул окно и высунулся наружу, выставив напоказ настолько протертые на заднице брюки, что через них просвечивало белье.
«Не миллионер, — сделал я вывод. — Или на нем, скорее, каждодневный рабочий костюм, из тех, что, как правило, носятся несколько лет до тех пор, пока не начинают расползаться по швам».
— Константин Александрович, — оперативник обернулся ко мне, — а скажите, этот балкончик и лесенка… Вроде черного хода?
— Да. Но мы ими не пользуемся уже несколько лет. Там все сгнило, может обрушиться. Я рискну туда сунуться, только если меня действительно подожгут и не удастся выбраться через дом.
— Ага… А выход туда, наверное, из соседней комнаты?
— Да. Мы с женой называем ее летней гостиной. — Я не мог понять, почему оперативник вдруг заинтересовался старым трухлявым 6алконом и крутой узкой лестницей, сооруженной, с внешней стороны дома. Давным-давно, когда я был еще маленьким, на этом балконе в погожие вечера мы всей семьей пили чай. Но с тех пор прошло двадцать лет, и сейчас я не рискнул бы выпустить туда даже кошку, если бы она у меня была.
— Вы позволите мне осмотреть эту гостиную? — Сергей прикрыл створки окна и направился к выходу из спальни. Половицы под ним испуганно заскрипели. Я удивленно пожал плечами и проводил гостя в соседнюю комнату. Мне не жалко. Хочет смотреть, пускай смотрит. Если не боится пыли и паутины.
Оперативник обнюхал дверь на балкон от пола до потолка, не поленился отвернуть шпингалеты и высунул нос на улицу, не рискнув все же ступить за порог. Потом удовлетворенно кивнул, сказал мне:
— Ну, все. — И отправился на первый этаж, предоставив мне честь закрывать не желавшую возвращаться на место дверь. Я успел сложить на нее все маты, прежде чем завернул назад шпингалеты. И дался же менту мой рассыпавшийся балкон!
Оперативник тем временем принялся за Ангелину.
А до скольки она возилась с грибами? А во сколько я отправился спать? А когда начала выть собака? А почему мы даже не знаем, как звали нашу соседку, которую сегодня зарезали? А можно ли, не выходя на улицу, пройти с нашего участка на соседний, скажем, через дырку в заборе? А как так случилось, что грибы, которые мы собирали вчера, успели уже так хорошо подсохнуть?
Ангелина делала большие испуганные глаза и честно пыталась отвечать на вопросы. А я громко хихикал в душе над этой комедией. Оперативник еще не успел разобраться в том, что имеет дело с красавицей, которая даже в гестапо под пытками не смогла бы связать воедино две фразы. Ей можно смело доверять государственные секреты — даже при огромном желании она не сумеет ничего разболтать.
— Ладно. На сегодня достаточно. — Выдохшийся Сергей подсунул мне протокол допроса свидетеля, заставил расписаться на каждом листе, буркнул на прощание: — Пойду я. Устал как собака. — И, засунув в папку свои бумаги, направился к выходу. На пороге он обернулся, многозначительно посмотрел мне в глаза и предупредил: — Вы, возможно, еще потребуетесь. Повестку направлять по этому адресу?
Я кивнул и почему-то почувствовал себя виноватым. Будто бы я и зарезал ночью соседку. Притворился, что хочу спать; незаметно спустился из летней гостиной по наружной лестнице, пользуясь тем, что жена на веранде чистит грибы и ничего не слышит; проник на соседний участок через дырку в заборе… Ну и все прочее.
Вот такой безумный сценарий. Если бы мне в тот момент сказали, что уже завтра он получит право на жизнь и менты начнут обвешивать его доказательствами, я бы ойкнул от удивления. Тогда я еще верил в непредвзятость Фемиды, в то, что милиция меня бережет. Я был тогда слеп. Я был тогда страшно далек от всей той мышиной возни, которая происходит обычно на задворках закона. Я был… Каким же я был тогда наивным ягненком! На след которого уже вышла волчья стая…
Леня удобно расположился в старинном — еще пятидесятых годов — дерматиновом кресле. Достал из большой дорожной сумки бутылку «Балтики», с громким хлопком избавил ее зубами от пробки и протянул мне.
— Ся-а-адь. Отдохни, — проскрипел мой младший братишка, и я послушно устроился в кресле напротив него. — Рассказывай, чё там за геморрой. Блин, ну и ментов набежало!
Вкратце я уже описал Леониду все события сегодняшнего дня. Теперь он жаждал подробностей. Так сказать, к пиву. Как древний римлянин, который кроме хлеба требовал зрелищ.
Зрелищ, так зрелищ! Хочет братец услышать подробности — мне что ли жалко? И я принялся — наверное, уже в сотый раз — рассказывать про свои сегодняшние мытарства. Опустил то, как мне нездоровилось утром. Описал, как умел, леденящий душу собачий вой. Расцветил яркими красками образ мертвой женщины с дыркой в груди. Поведал о том, как уже через десять минут после моего звонка понаехали менты и, несмотря на дождь, отовсюду сбежались зеваки. Собаку увели с собой соседи из дома напротив. Меня сразу взяли в оборот опера. А в результате, за весь сегодняшний день я подписал столько всевозможных бумаг, сколько обычно не подписывал и во время дежурств. Я был нарасхват. Менты даже не погнушались попросить меня, как врача, высказать свое мнение по поводу трупа. Я тогда скромненько промолчал. Я тогда просто не понял, чего от меня хотят…
Брат уже клевал носом, когда я закончил. Ангелина с бутылкой пива устроилась у меня на коленях. Возле окна негромко квакала «Европой плюс» дешевая китайская магнитола. Дождь прекратился, и в окно заглянуло красное предзакатное солнце.
— Эх, помянем старушку! — Леонид потянулся, сладко зевнул, выставив напоказ ослепительно белые зубы, и отсалютовал мне своей бутылкой. — Хорошая баба, да вот померла.
С чего он взял, что покойная была хорошей бабой, я не знал. Скорее всего, брат просто благоразумно следовал правилу «о мертвых или хорошо, или ничего». Что ж, не помянуть Эллу Смирницкую — грех. Я тоже приподнял свою бутылку и отхлебнул из горлышка теплого пива.
… О том, что убитую звали Эллой Смирницкой, я узнал только сегодня от оперативника — того, который очень интересовался нашим балконом. Кроме этого, он в двух словах, рассказал мне о том, что соседка была довольно известна в определенных кругах. Если простому смертному вроде меня ее имя совершенно ни о чем не говорило, то для серьезных людей, связанных с крупным бизнесом или политикой, Элла Смирницкая была чуть ли не культовой фигурой. Эдаким эталоном того, как некий отдельно взятый индивидуум может легко уживаться одновременно с несколькими совершенно полярными и непримиримыми ветвями свихнувшегося российского общества. И делать на этом большие деньги. Единственная дочь крупного партийного чиновника и известной театральной актрисы, Смирницкая получила образование юриста, но через пять лет работы решительно отбросила в сторону удачно раскручивающуюся карьеру адвоката ради иной, весьма специфической практики. Это произошло как раз в тот момент, когда в стране настали крутые перемены.
Нет, она не ушла, как это тогда было модно, в коммерцию. Она не стала регистрировать кооперативы и совместные предприятия. Смирницкая просто предложила свои услуги определенным людям, и никто из этих людей от них не отказался. Сотрудничество с этой экстравагантной дамой приносило огромную экономию и денег, и времени, и работников. И даже порой позволяло расслабиться, не ожидая выстрела киллера или наезда ОБХСС. Элла Смирницкая умела на удивление легко улаживать конфликты. Получив от родителей в наследство обширную сеть добрых знакомств с большими людьми и добавив к ним за пять лет адвокатской практики свои собственные связи, она умудрялась считаться своей и в кабинетах прокуратуры, и в воровских малинах; и на тайных производствах цеховиков, и в обшитых дубовыми панелями офисах Смольного. Она могла выступить как третейским судьей, так и посредником в даче крупной взятки какому-нибудь чиновнику. Она умела сохранять хорошие отношения буквально со всеми, выдерживая при этом определенную дистанцию. У нее не было семьи и личных привязанностей. И у нее не было врагов. Она даже, несмотря на свое заметное положение и высокий материальный достаток, никогда не пользовалась охраной. Непонятно, кому понадобилось ее убивать.
Ничего не понятно…
— Ты когда-нибудь слышал про эту Смирницкую? — спросил я у брата, и он картинно развел руками.
— Представь, никогда. Просто я играю в другой лиге… Понимаешь?.. Она — в высшей, а я — во второй. — Леонид допил свое пиво и сразу достал из сумки другую бутылку. Заплетающимся языком повторил: — Понимаешь? — и извлек из кармана дешевенькую сигару и поддельную зажигалку «Картье». Мой брат, как сорока, обожал подобные блестящие штучки, но на оригиналы не было денег, и для того, чтобы пускать пыль в глаза, ему приходилось использовать копии «Омег» и «Монбланов», изготовленные в Тайване. — А я пока во второй… — грустно пробормотал он, раскуривая сигару. У него уже была совсем пьяная физиономия.
Похоже, сегодня до того, как приехать к нам, мой младший братишка не ограничивался одним только пивом.
Я дождался, пока он докурит сигару, решительно вынул его из глубокого кресла и проводил в комнату для гостей, где у брата даже были личный комплект постельного белья, свой халат и домашние тапочки.
— Тебе завтра надо куда-нибудь? — спросил я, внимательно наблюдая за тем, как он борется с брюками.
— Куда-нибудь?.. — Леонид на секунду задумался. — Нет, никуда… Ни-ку-да, Костька! — Он наконец настолько запутался в штанинах, что не устоял на ногах и уткнулся носом в кровать. — Бли-и-ин!
У него на трусах был задний карман с аппликацией лилового слоника с огромными гениталиями. Я посмотрел на эту картинку и рассмеялся.
— Чё ржешь? — Брат с трудом перевернулся на спину и честно признался мне: — Я напился… Все потому, что законмы… закончил один гххх-рандиозный проект. А ты не смейся. Да? Смеется тот, кто смеется последним. Все остальные плачут — Он погрозил мне пальцем, нехорошо ухмыльнулся и забрался под одеяло. — Вот так-то, Костька… — И сразу же захрапел.
А я отправился допивать его пиво, совсем не задумываясь о том, насколько прав мой пьяный братишка.
Не зная, что плакать мне предстоит уже завтра. Когда у меня дома объявится целая свора ментов с санкцией прокурора на обыск и постановлением о моем задержании.
Глава 3. Блеф-клуб по-ментовски
Это было сущим кошмаром. Начиная с одиннадцати утра, они в течение четырех часов перерывали дом, потом дружно отправились на улицу и миноискателем — самым настоящим, похожим на полотер, миноискателем! — обшарили весь участок. Мне было бы жаль их, если они, потратив столько усилий и времени, ничего не нашли бы. И я был совершенно уверен в том, что ничего не найдут. Но все оказалось не так. Под кустами смородины менты наткнулись на схрон.
— Та-а-ак! Пожалуйста! — радостно прокричал полный мужчина с красным угреватым лицом. Он представился следователем районной прокуратуры Мухой Владимиром Владимировичем и руководил здесь всей ментовской бандой. — Понятые! Гражданин Разин! — Угреватый картинно протянул в мою сторону руку. — Подойдите сюда! Та-а-ак, отличненько. Встаньте вот здесь… Вот здесь, я сказал! Что за люди такие…
Далее я прослушал монолог о том, что детектор металла обнаружил под землей некий железный предмет. К тому же под кустами налицо следы свежего раскопа. А значит, там что-нибудь есть. Не угодно ли мне ответить на хитрый вопрос: «А не зарывал ли я чего под смородиной в последнее время?»
— Последние двадцать лет — ничего. — Я демонстративно зевнул. Вся суета меня утомила. Шерлоки Холмсы таскали меня за собой уже пять часов, и хорошо, хоть не стали сковывать мне руки браслетами. Хотя вначале была и такая попытка.
Ангелина все это время сидела на кухне, хлебала чай и отрешенно слушала радио. У нее был напуганный вид, и я, как только выдавалась такая возможность, не ленился лишний раз проведать жену. Поцеловать и сообщить, что все в порядке, и иначе просто быть не должно. Каждый раз следом за мной увязывался кто-нибудь из ментов.
Что же касается брата, то он позорно ретировался, как только запахло жареным, сославшись на невероятную занятость и необходимость опохмелиться. Ну и черт с ним! Все-равно он был мне не очень-то нужен…
Из машины принесли коротенькую десантную лопату, и уже через пару минут перед нашими глазами предстал большой кухонный нож. Совершенно незнакомый мне нож, аккуратно завернутый в пеструю тряпочку. В которой я к своему ужасу… Нет, тогда еще не было ужаса, тогда пока еще было лишь удивление. Так вот:…к своему удивлению признал собственную футболку, которую частенько надевал в жаркие дни. Старенькую футболку с вылинявшими Бэвисом и Батхэдом на груди. Нынешним летом в этой футболке меня видело полпоселка.
Именно в этот момент у меня в голове начала приобретать очертания мысль о том, что меня подставляют. Что сегодняшний ментовский наезд с обыском и постановлением о задержании совсем не случаен. Кто-то уже начал копать под меня. Кто-то направил прокуратуру по моему следу и даже не поленился зарыть на моем участке нож, на котором — я был в этом просто уверен — обязательно обнаружат кровь Эллы Смирницкой. Вот только не мешало бы приложить к ней мои отпечатки на ручке. А их-то и нет. Прокольчик, господа Пинкертоны!
— Та-а-ак! Гражданин Разин, вам знакомы предметы? — дикторским голосом продекламировал следователь и для дураков пояснил: — Нож кухонный с ручкой из пластика, белой. Майка салатного цвета с изображением двух героев мультфильма.
«Героев»! Я улыбнулся и спокойно ответил:
— Нож яни разу не видел. Футболка моя. Вернее, она похожа на ту, что есть у меня.
— Та-а-ак! Отличненько! Гражданин Разин, вы можете объяснить, как ваша майка могла оказаться здесь?
Я пожал плечами и состроил удивленную рожу:
— Ее могли свистнуть с веревки, когда она сушилась там после стирки. Потом, воспользовавшись тем, что нас с женой не было дома или мы спали, кто-то проник к нам на участок и закопал все это здесь.
Один из ментов слушал меня, снисходительно качал головой и улыбался. Я не мог осуждать его за это. Я на его месте, наверное, делал бы то же самое. Мои объяснения, если выслушивать их предвзято, казались глупыми и притянутыми за уши. К тому же, я вдруг заговорил каким-то, как мне показалось, неживым языком милицейских рапортов и протоколов. В общем, выглядел совсем неубедительно.
Нож осторожно, дабы, не приведи Господь, с него ничего не стереть, отправили в полиэтиленовый пакет, который сразу же опечатали. Футболку — в другой пакет. А уже через десять минут менты под соседним кустом обнаружили еще один клад. На этот раз — действительно клад. Не какие-то там футболку и ножичек, а несколько золотых побрякушек, упакованных в мой носок.
— Часики женские из желтого металла, — возбужденно чирикал следователь, высыпая на лист бумаги свои трофеи, — марки «Лон-ги-нер»…
— «Лонжин» — поправил я его.
— … марки «Лонжин» с браслетом. Серьги парные в виде сердечек, перстень с камнем красного цвета, перстень с камнем синего цвета. Константин Александрович, вам эти вещи знакомы?
— Только носок. Его что, тоже уперли с веревки? Я ничего не понимал. Все, что происходило вокруг, казалось мне каким-то кошмарным сном. Я даже ущипнул себя за руку, чтобы проснуться. Но менты вокруг были реальными. Были реальными и понятые, и кухонный нож со следами крови на лезвии, и золотые колечки с прозрачными камушками. Весь этот спектакль казался реальностью. Он был очень хорошо срежиссирован. Кем-то хорошо срежиссирован. Если бы я знал, кем?!
И, вообще, кому я, такой безобидный и тихий, понадобился?
Менты закруглились в пять часов вечера. Любезно позволили мне выхлебать на кухне тарелку супа, тщательно проверили содержимое пакета кое с каким шмотьем, которое собрала мне Лина, терпеливо выждали две минуты, пока я скажу жене на прощание парочку слов о том, что все будет нормально и уже завтра я окажусь на свободе. Потом меня отконвоировали к светлой «Волге» и точно так же, как я раньше видел во многих фильмах, усадили на заднее сиденье промеж двоих крепких оперативников. Я оглянулся и до тех пор, пока машина не тронулась с места, не сводил взгляда с Лины, которая выскочила следом за мной на крыльцо и так и остановилась там, худенькая и не причесанная, в старом зеленом халатике и ярко-красных домашних тапочках. Потом ее скрыли кусты акации, и я развернулся вперед.
«Волга», натужно взвывая мотором, аккуратно пробиралась по источенной ухабами и безбрежными лужами дороге. Но впереди уже показался гладкий асфальт. Скоро ей станет легче. А мне? Что меня ждет впереди? Похоже, что гладким асфальтом там и не пахнет. Ухабы и ямы, проблемы и беды. Полнейшая неизвестность, в которую меня увозят сейчас четыре довольных мента. Один из них, угреватый важняк из прокуратуры, обернулся ко мне с переднего кресла и ехидно спросил:
— Как настроение, Константин Александрович?
«Как у старого мерина, которого ведут на заклание», — грустно подумал я, но промолчат. И прикрыл глаза. И постарался представить себе, как сейчас Ангелина, вернувшись в дом, растерянно стоит посреди кухни, грустно смотрит на гирлянды сушеных грибов, подвешенные над плитой, и мучительно силится разобраться в том, что произошло. Так неожиданно! Так внезапно!
«Бедная, любимая моя Ангелинка, — думал я, — как ты теперь без меня? Справишься ли, пока будет длиться мое заточение?.. Интересно, и когда же меня отпустят? Завтра? Через неделю? Через полмесяца?..»
— Так как настроение, Константин Александрович? — не отставал от меня прокуроришка. Мне захотелось ему нахамить, но я заставил себя сдержаться. Улыбнулся и спокойно ответил:
— Паршивое настроение.
И всю дорогу больше не проронил ни слова. И не открывал глаз, делая вид, что задремал. У меня не было никакого желания общаться с ментами.
Мне хотелось остаться наедине с образом хрупенькой Ангелины, отрешенно стоящей на нашем крыльце, окаймленном яркими клумбами.
Глава 4. ИВС
В этот же вечер я узнал, что такое ИВС: сырой холодный мешок три на четыре с некрашеными, грубо оштукатуренными стенами и полуметровым бетонным возвышением над полом, которое здесь заменяло нары. В углу возле железной двери неповторимо благоухала параша — небольшой жестяной бачок, прикрытый крышкой. Вот и вся обстановка, и сказать про нее, что она слишком скудная, — значит сделать ей большой комплимент. Да в чеченских зинданах, должно быть, интерьер поразнообразнее!
Особо не церемонясь, меня втолкнул внутрь этой камеры громила-прапорщик, и я с трудом сумел устоять на ногах, запутавшись в сваливающихся с ног кроссовках, — шнурки из них вынули те прежде, чем обшарили мне карманы и складки одежды. За спиной громыхнули запоры, и я остался растерянно стоять возле бетонного возвышения, с которого на меня с интересом взирали трое живописнейших типов. Один — типичный кавказец с увесистым носом и густо покрытой щетиной физиономией, двое других — явно бомжи. И первая мысль, которая мне пришла в голову в этой камере, была: «А ведь я здесь легко наберусь от них вшей».
Все трое рядком сидели на корточках вдоль стены и были похожи при этом на нахохлившихся на насесте в ожидании ночи кур. При этом кавказец занимал наиболее привилегированное место в дальнем углу от параши. Оба бомжа держались, насколько это было возможно при ограниченности пространства, от него в стороне и напоминали двоих дружков-алкоголиков, коротающих время за бутылочкой денатурата на скамейке какого-нибудь парка.
— Чего раскорячился? — нараспев процедил один из бродяг и похлопал нечистой ладонью рядом с собой. — Присаживайся, докладывай папе, кто такой и откуда.
Этот грязный вонючий пес выглядел заметно старше меня, и, скорее, его таким сделали непомерные возлияния, нежели возраст, который принято называть почтенным. Итак, он выглядел заметно старше меня, но на «папу» никак не тянул. Но очень хотел бы. И даже стремился к этому по мере своих ничтожных возможностей, сразу наметанным взглядом разглядев во мне новичка, растерянного и напуганного, которого можно легко прибрать к рукам. И хоть этой дешевой победой над неопытным фраером потешить свое самолюбие.
Вот только в эту сказку он не попал!
Я так решил! Я чувствовал, несмотря на чудовищность всего произошедшего со мной за сегодняшний день, что не то что не сломлен, а более того, серьезно озлоблен. А озлобленность обычно придавала мне дополнительные душевные и физические силы. В отличие от большинства людей, еще более отрезвляла мой разум, и я, даже действуя по наитию, не ошибался в выбранной линии поведения.
Вот и сейчас я просто послал бродягу к ядрене матери. Так вот взял и отправил его туда, куда нужно…
— …И ты еще сам мне, чмошник, доложишь, кто такой и откуда, — добавил, матерясь про себя, — «Папа»…
Я уперся в него спокойным взглядом, ожидая ответа, но бомж лишь пожевал губами и промолчал. Что ж, чего-то подобного я и ожидал. И переключил внимание на кавказа. Просто кивком головы предложил ему переместиться из угла ближе к бродягам, освободить мне место подальше от вонючей параши. Подальше от грязных соседей. Подальше от их откормленных вшей.
Кавказ, молодой жилистый паренек в хорошем костюме и дорогих новых ботинках, естественно, без шнурков, испепелил меня исподлобья огненным взором и даже не шелохнулся. Выдержал глубокую паузу и лишь после этого процедил с сильным акцентом:
— Ты кыто такой? А? Что ты такой мой мэст хочешь… на фуй пойдешь. Ты понал, да? Ты понал, куда ты пойдешь сейчас вместа мэст мой?
Признаться, что-либо разобрать в этом наборе полурусских фраз было непросто. Но я разобрал. И понял, что сейчас меня посылают туда, куда в подобных местах посылать не положено. Но если все же послали, а ты выслушал это и отвернулся, и утерся, значит туда тебе и дорога, на этот самый «фуй». И не исключено, что скоро на самом деле там и окажешься, в прямом смысле слова. Или, в лучшем случае, сразу же заработаешь к себе отношение, как к последнему отщепенцу, поднарнику. В тебя будут плевать. О тебя будут вытирать ноги. И хорошо, если только это.
Оба бомжа с ожиданием наблюдали за мной. Кавказ, как ни в чем не бывало, принялся разглядывать носки своих хороших ботинок. Он был зловеще спокоен, и мне это очень не нравилось. Но отступать было некуда.
Здесь не дается права на поражение!
Я, словно нехотя, сделал два шага вперед, наклонился к кавказу, как будто пытаясь внимательнее вглядеться ему в лицо, и в тот момент, когда он поднял на меня взгляд, с силой вонзил два растопыренных пальца ему в глаза. Мой противник так и не успел сообразить, что же я делаю, он был готов к чему-то другому и даже не попытался увернуться. Лишь сипло всхлипнул, когда я ослепил его ударом, и поднес руки к лицу. А уже в следующий миг мешком слетел с возвышения и грохнулся на бетонный пол. Я отчетливо слышал, как затрещал его добротный костюм, когда я с силой рванул его за лацканы на себя.
— Есть! — одобрительно прокомментировал один из бомжей. — Ослепнет теперя.
Я молча качнул головой и взгромоздился на отвоеванное место. Постарался поудобнее устроиться там, опершись спиной о неровную стену, и принялся наблюдать за кавказом, скрючившимся в углу камеры. Дожидаясь, когда он придет в себя. И со страхом в душе представляя, какие еще меня ждут проблемы. Например, если сейчас в камеру явится большой толстый прапор и попробует позадавать вопросы. Или если, очухавшись, кавказ полезет в драку.
В том, что он скоро выйдет из болевого шока и при этом почти не ослепнет, я не сомневался. Удар в глаза очень болезнен, он даже может вызвать частичную потерю зрения, но обычно самым серьезным его последствием бывают два синяка под глазами. Не более. Так что бомжи могли серьезно рассчитывать на продолжение шоу, когда мстительный гордый архар минут через десять попробует вонзить в меня свои копыта. Я очень надеялся, что сделать это ему будет нечем
— Кто такой? — спросил я у бомжей, кивнув в сторону поверженного Кавказа.
— Этот-то? — охотно разинул пасть ближний ко мне. — Афган, барыга.[7] Мусор сказал, что с герычем[8] взяли. А сам-то он ничё и не говорит. Сидит тока, злой как собака. На кумарах, кажись. Ну, ты его эта… ловко прибил. Теперича ему ни до чего. Теперича ему буркалы б свои сохранить…
— Сохранит, куда денется, — перебил я.
— Ну, поглядим. — Бомж протянул мне корявую заскорузлую от грязи ладонь без трех средних пальцев. — Дима я, значит. А погоняло Артист.
— Константином зови, — в свою очередь представился я, но протянутой руки не заметил. Впрочем, бомжа это совсем не огорчило.
— А мусор-то, язва, следил через глазок, — доложил он мне, — как ты черного помочил… Так только насрать ему, мусору-то.
— Мог и зайтить, — подал голос другой бомж, ближний к параше. — Витькой зови меня, брат. Виктором, короче.
И они начали между собой обсуждать, сколько шансов на то, что вертухай откроет дверь в камеру и начнет наводить здесь порядок. Я же снова попытался найти более удобное положение. Ноги затекали, сырой бетон даже через спортивную куртку и свитер неприятно холодил спину. До радикулита, как говорится, один-единственный шаг. И радикулит — это еще детские шалости по сравнению с тем, что можно себе нагрузить на здоровье в такой камере…
Против моих ожиданий, афганец, когда пришел в себя, не доставил мне никаких неприятностей. Не сказал мне даже ни слова. Молча забрался на возвышение рядом со мной, даже не замечая того, что я нахожусь рядом, зло ткнул Артиста кулаком в бок и скукожился на корточках, прикрыв руками лицо. Оба глаза его опухли, превратились в узкие щелочки, да и, насколько я знал, все еще болели, хотя уже и не так сильно. Но главное то, что я одним-единственным ловким ударом сумел выбить из этого «злого, как собака», героя весь его южный гонор, да так удачно, что он даже не помышлял о каких-нибудь ответных шагах. Во всяком случае, пока не пришел в себя. А в том, что приходить в себя он будет долго, я не сомневался. И потому позволил себе расслабиться и начал прислушиваться к разговору бомжей, который, похоже, был прерван моим появлением, но теперь за неимением других развлечений вновь неспешно потек по старому руслу. Мне все равно было нечем заняться, а рассказывал Артист, надо отдать ему должное, складно и занимательно. — …И вот как я, значица, с бабою с тою посрался. Была у ей собака, ротвейлер…
— Это такая, бойцовая? — перебил бомж Виктор. — С желтою жопою?
— Она и есть. С желтою… Тока-тока оне тады расплодились в России… Ну, не тока, а лет пять назад. Модными были тады, значица. Баба щенками как торговала, дык и жить на то бы могла… Ну и вот чё я, значица… С бабой с этой как-то пошли с тою псиной ее гулять. А желтожопая-т эта, скажу я тебе, хоть и взрослая вроде, а по жизни-то дура дурой. Ни одного кошака мимо не пропустит. Уж скока тех кошаков подрала, дык и не считано. А тута она из-за этого и попала. И ить на моих глазах. Короче, идем мы через двор, я со своею в обнимку, пивко попиваю. А ротвейлерша, сука, так по кустам вокруг нас и рыщет, так и шуршит. Кошаков, значица, ищет. И без наморднику ить, и без поводка. И вот увидела одного. И ну за ним!..
— Ага! — радостно выдохнул Витька. А я бросил взгляд на афганца. Тот как принял позу индийского йога, погрузившегося в нирвану, так и не шелохнулся. Я даже почувствовал к нему легкую жалость. И легкие угрызения совести: уж не перестарался ли я? Уж не слишком ли круто с ним обошелся?
— Ну, дык кошак, — тем временем продолжал Артист, — дает деру — и под машину, значица. Под иномарку, я уж не помню, какую, но просвет дорожный у ей тот, что голубь еле проходит. А ротвелейрша-т эта, дура, туды ж. За кошаком, значица, под эту тачку. Да с разгону загоняет будку свою под порог. И все: ни внутря, ни наружу. Снизу асфальт, сверху машина. Кранты, брат. Звездец называеццы.
— Ага! — снова радостно вякнул Витька.
— И вот встала она, ротвейлерша, раком. Будка застрявши, жопа повыпячена, хвосточек коротенький, а место-то под хвостом — то, что у всех баб наиглавнейшее, — в кружочек в желтый обведено. Ну, типа мишени, — стрелять, чтоб, знаешь, в самую центру. И так это все удобно у ей в тот момент расположено, дык я как посмотрел, да и думаю: и шо ж кобеля никако нету рядом…
— Дык сам бы…
— Нишкни! Слушай дале… В общем, взвыла собачина. Ды так, знаешь, тоскливо-тоскливо, что ажно за душу взяла. А баба моя и ну с ею на пару. Бежит к машине, голосит, значица: «Ой Герда, ты моя Герда!»… Во, вспомнил: Гердой ротвейлершу звали… Так вото: «Герда, Герда!» орет, а меня тута и ржач разбирает. Ой, блин, и конкретный же ржач! И грызуны радом сопливые, с магнитофоном. Млеют, отравы, давятся. Жвачкой своей поперхнуться готовы. И самое что ж западло: мусора, курвы, тоже зырят стоят. Просто так, недалече. Ни по дежурке, ни по чему, тачка радом охранная их оказалась. Так ведь, где их не ждут, оне завсегда. Зырят, падлы, и никуда их не деть… Ну, типа, представь, стою, как обконченный: и вроде б как в падлу рвать в этот хипеж, а вроде б как надо — баба ж родная. Ну и собака, хотя и сучка кусачая…
Витька довольно хрюкнул и шумно вздохнул. Он ждал продолжения. Я, впрочем, тоже. Хотя и не с таким энтузиазмом.
— А ротвейлейрша ж, падла, когтьми скрежещтет передними по асфальту и голосит… ну, так голосисто! — Я сразу представил, насколько голосисто скрежетала в тот мерзопакостнейший момент ее жизни собака. — А баба-то, дура, тоже орет. Ну, тут мое дело мужицкое, сказать: «Спок!».
— И типа… — Бомж Дима аж сжался в предвкушении продолжения занимательного рассказа, но я его прервал банальным вопросом:
— Жрать здесь будет когда-нибудь?
— Жди-и-и! Воды похлебаешь. — Артист бросил на меня мимолетный удивленный взгляд. Он был поражен! Он был шокирован! После того, как я чересчур жестко занял свое место в той келье, где мы сейчас находились, он посчитал, что воспринимать меня можно как завсегдатая, если не более… И вдруг подобный вопрос! — Да и воды коли дадут…
Я понял, что слишком много хочу.
— Ты, Кость, слушай дале… Так вот, подбегает баба моя к этой пизде, хватат ее за ноги за задние и ну тянуть на себя. Прям как пень выкорчевыват! И ни туды, ни сюды. Собака вопит, менты с грызунами ржут, падлы, на пару. Я, типа, стою и смотрю — хрен его знает, чё делать. Застряла, и все тут, ротвейлерша, — тачку домкратить нады.
— И поддомкратили?
— Ты слушай… Баба видит, шо хрен ли чего. Ну и ко мне: «Помоги, — визжит, — Димка!!! Фули зыришь! — орет. — Тебя бы так, мудака, угораздило!..»
— …Тебя и не так, бывалочи…
— …И правда, не так. А тута, чё делать. А не хрена делать, баба-т своя. Помогать надыть, куды денесся. И вот, короче, подхожу я к энтой собаке, цепляю ее за задние ноги и ну тягать на себя. Не так чтобы сильно, конечно. «А то, и взаправду, — думаю, — выдерну из-под машины, так эта отрава, не разобравшись, тут первого меня и пожрет». Злая ж она, да и глупая, я уже говорил. И вот дергаю я несильно ее туда и обратно да представляю: «И како ж энто со стороны? И шо ж люди подумают, какие не знают?» А подумали б, ясно, одно: «Во, мужик, собачину натянул на себя прям на улиццы! И никого ж, негодяй, не стесняется. Прям при людях при живых ша и кончит. А собачка-то бедная, больно-то ей! Так и орет! Так и извивается вся! И похоже, урод, еще и прицепил ее к машине своей за ошейник…»
Я постарался представить, а что бы я мог подумать, увидев такую картину. Получалось, подумал бы примерно то же, о чем сейчас живописал Артист. — …Надоело мне с дурою с этою копошиться, опустил я ее, значит, на землю, машину взял за порог, попробовал приподнять. Ан никак! А вроде с виду-то легкая. Да тока без помощи… Мусоров просить впадлу, детей тож вроде как…
— И как вытащили?
— Да так и вытащили. С бабой взялись вдвоем, приподняли все ж таки. Она, бедная, перднула аж.
— А собака?
— А чего ей, собаке. Будку вытащила свою, по траве ей повозила, да и пошла вновь на охоту — кошаков, значит, искать. Подбородок чуть ободрала, и все.
— Ясно, — пропел Витька. — Все с вами ясненько… А с бабой-то чё, говорил, пересрались?
— А с бабой уж после. Я ж такой, бывает, сперва ляпну чего, а потом тока думаю: «И чего же сказал?» Вот тако и здеся: подколол я, значит, ее. Говорю, что куда интереснее было бы, когда так вот мордою под машиной не собака враскорячку бы оказалась, а, типа, ее хозяйка. Тады и легавые подмогнули бы с радостью, и грызуны. В очередь, говорю, становились бы помогать. А я б еще с этого денег собрал. Баба, видно, к тому моменту еще не остыла, да и нервы у ей на пределе. Ну и кинулась на меня. Прям на полном сурьезе. И собака, дура, за ею. Отхерачили на пару меня так, что в больнице аж оказался.
— М-да, бывают дела… — вздохнул Витька. — Со мной вот тож было…
О том, что с ним было, я так и не узнал. В замке заскрежетал ключ, и на пороге объявится здоровяк-вертухай. Окинул взглядом камеру, брезгливо поморщился и поманил меня пальцем.
— Разин, на выход.
Я не заставил себя долго упрашивать. Уверенность в том, что недоразумение с моим задержанием вот-вот разъяснится, до сих пор не выветрилась из моей глупой башки, и я слезал со своего бетонного пьедестала радостный от того, что наконец-то все прояснилось. Но мою радость тотчас, стоило мне замешкаться, выходя из камеры, расколотил на мельчайшие осколки хлесткий удар по почкам.
Я сумел устоять на ногах, но все тело словно тряхнуло электрическим током. И лишь потом пришла боль. И лишь потом перехватило дыхание. Я весь сжался, не в состоянии сделать ни шагу. В глазах потемнело, меня неудержимо потянуло к чему-нибудь прислониться, и я сам не заметил, как присел на корточки в узком проходе с несколькими железными дверями по бокам. И тут же меня достал крепкий пинок. Я ткнулся физиономией в жесткий бетонный пол.
— Ты, пидар, куда послал меня?! — пробасил надо мной вертухай и наступил мне на спину тяжелым ментовским ботинком.
Я что-то не помнил, чтобы куда-нибудь его посылал. Впрочем, в этот момент я вообще ничего не помнил. Ничего не соображал. Просто валялся, втоптанный в пол, как червяк.
— Вста-авай, мать твою! Какое там встать!
Мне показалось, что прапор перенес на ту ногу, которая опиралась мне на спину, все свои полтора центнера веса. Мою руку, неудачно подвернутую под грудь, этим весом будто сжало в тисках. Мои кишки уже приготовились от этой тяжести превратиться в лапшу. Мои косточки уже собрались обратиться в пыль.
Но чудовищный пресс вдруг отпустил, и я сумел с трудом втянуть в себя воздух. Размежил веки и уткнулся взглядом в серый неровный пол. И застонал… Кажется, я тогда застонал. Хотя можно ли помнить об этом точно?
Прапор гремел надо мной связкой ключей, со скрежетом возил ими в замке камеры, из которой я только что торжественно вылетел. Я понимал, что сейчас он запрет дверь и вновь примется за меня. И худо мне будет, если к этому времени не сумею подняться. Буду валяться и дальше — так этот ментовский боров не откажет себе в желании снова потоптаться у меня на спине. Но сил подняться на ноги не было. Ничего не было. Кроме боязни проявить себя здесь слабаком. И кроме стремления выжить, пройти это чистилище и выбраться отсюда живым и, желательно, не инвалидом. Ипопробовать выяснить, как же так получилось, что я оказался в подобном дерьме, где меня легко посылает подальше черножопый дикарь и где я за просто так получаю по почкам? А потом о мою спину еще и вытирает подошвы какой-то узколобый легавый.
Что за ублюдок направил меня сюда то ли росчерком своего «Паркера» или «Монблана», то ли своим веским словом? Кому я, тихоня, оказался так нужен?
Сначала попробовать выяснить… Потом постараться свернуть кой-кому, кто этого заслужил, его цыплячью шейку. Пусть это будет хоть сегодняшний прокуроришка, хоть сам губернатор. Чтобы отомстить, я доберусь до кого угодно. И до Фиделя Кастро, окажись он причастен к этой подставе. Ведь если я оставлю то, что со мной происходит, без сдачи, то не смогу дальше жить с таким грузом. Вот только, чтобы сбросить с себя этот груз, надо найти в себе силы сейчас подняться на ноги. Не предоставлять никому повода давить сапогами мне ребра и утюжить мне внутренности.
Выжить!
Я скрипнул зубами и, превозмогая дикую боль в спине, встал на колени спиной к продолжавшему бряцать ключами мерзавцу.
Выжить!
Перебирая руками по некрашеной шершавой стене, я с трудом разогнул сперва одну ногу. Потом — другую. Если бы были на это силы, я закричал бы. Я застонал бы. Но лишь молча разгрыз себе изнутри губу. Отчетливо ощутил во рту привкус крови и, похоже, от этого мне стало легче.
— Живуч, пес, — прозвучал одобрительный возглас со стороны двери, ведущей в большой тамбур, где располагалась охрана.
Я оторвал взгляд от стены и перевел его на довольно лыбящегося в паре шагах от меня прапора. Эта сволочь была на голову выше меня. А ведь я не мог похвастаться маленьким ростом. Эта сволочь весила в два раза больше меня. А ведь во мне жил и костей было на пять с гаком пудов. Эта сволочь сейчас ни за что ни про что пинала меня ногами!
И я постарался получше запомнить его осклабившуюся рожу. Когда-нибудь я его отыщу.
Я скользнул взглядом направо и остановил его на стоящем в проходе менте — том, что сейчас похвалил меня за живучесть. Тоже лыбился, гадина, крутил в руке, словно четки, наручники, и с интересом разглядывал мою небритую рожу. Я заставил себя ухмыльнуться — как можно мерзостнее, как можно ехиднее — и подмигнул ему: мол, здравствуй, ублюдок, рад видеть тебя не в гробу и не в саване. Впрочем, этого мусора я раньше никогда не встречал.
— Вот ты каков, значит, Разин, — лениво пошевелил губами мент. Браслеты блеснули в тусклом свете дежурной лампы. — Ну, прям как Степка-казак. И ведь тоже княжну персидскую замочил. Со мной пойдешь сейчас, тварь. — Только сейчас я заметил на нем погоны майора и подумал о том, что на уровне местного РОВД он имеет, как минимум свой кабинет.
— Ну пойдем, коли надо — негромко прошамкал я, и у меня перед носом пролетели наручники. Их ловко словила огромная лапища прапора.
— Рожей к стене! За спину руки!!! — рявкнул он так, что если б здесь были стекла, они бы повылетали из рам, — Правил не выучил, блядь?!!
— Ничего, выучит. — услышал я голос майора, когда развернулся к стене и заложил руки за спину. — Время теперича много будет на это.
«А если он прав, этот майоришка? — подумал я, чувствуя, как старается прапор, чтобы браслеты посильнее стянули мои запястья. — Если действительно много? Если я ошибся в расчетах, считая, что разберутся со мной уже через пару недель? Ошибся всего лишь лет эдак на двадцать».
— Давай, пшел! — Меня сильно пихнули в спину.
На двадцать лет?!! Мне стало страшно. По-настоящему страшно впервые за весь сегодняшний день.
— Пшёл быстро, сказал!
По настоящему страшно!!! Почему-то именно в этот момент — ни раньше, ни позже — я ощутил, что угодил в серьезнейший переплет.
* * *
Не шевельнуть ни рукой, ни ногой! Не вздохнуть! Не застонать!
Я сумел только открыть глаза. Я сумел лишь ощутить основательно отутюженным боком жесткую холодную поверхность нар, на которых валялся, свернувшись в позе зародыша. А еще я определил щекой, что нары, как ни странно, покрыты деревом. Значит, я уже в другой камере — не там, где живут два веселых бомжа. Хорошо бы вспомнить, а почему я не там? И что вообще произошло? Из-за чего я так расклеился, что ощущаю себя отбивной на столе мясника?
Прошло, наверное, миллион лет, прежде чем я сумел привести правую руку в движение и осторожно начал ощупывать себе бока. Сначала ребра, пытаясь определить, сколько сломано. Кажется, ни одного. Потом — почки. Та-а-ак, вроде бы опущения нет, но кровью, возможно, недельку пописать придется. Что же, пора привыкать. Печень… селезенка… плечевые суставы… Я вздохнул с облегчением, когда пришел к выводу, что внутренних повреждений нет. Вроде бы нет. Только ушибы. Ушиб на ушибе. Все мое тело — сплошной ушиб. А от этого я не подохну.
И сразу мне стало заметно легче. Я смог даже негромко выругаться сквозь зубы. Мне удалось лаже приподнять голову и осмотреться.
Камера, освещенная желтым светом пыльного дежурного фонаря, оказалась совершенно пустой. Ни грязных бомжей, ни злобных афганцев. Ни вонючей параши… Вернее, параша стояла на положенном месте, но по сравнению с той, что мне довелось наблюдать в прежней камере, казалась просто медицинским стерилизатором. К тому же с подобранной по размерам крышкой.
В проходе к стене был привинчен небольшой — даже меньше, чем в поезде — плохо окрашенный железный стол, сделанный в монолите с двумя, железными же табуретами. Небольшие нары — по размерам тоже примерно как полка в поезде — были действительно обшиты досками.
Если к тому же на металлическом столике стояла бы кружка с водой, то жизнь здесь вообще показалась бы медом. Мне очень хотелось пить. Ужасно хотелось пить! Глотка пересохла настолько, что ее даже саднило, как при ангине. Но плестись к двери, колотить в нее кулаком, вызывать вертухаев и наивно просить у них напиться я не стал. Во-первых, потому что совершенно не было на это сил. Во-вторых, потому что не без основания полагал, что напоят меня еще одним ударом по почкам. А потом еще попинают ногами. Нет уж, ну их всех, мусоров, на три буквы!
Я снова свернулся калачиком и постарался припомнить, что же меня привело в эту одиночную «камеру-VIP». Только то, что менты, отметелив меня так сильно, что я потерял сознание, постеснялись возвращать меня, неподъемного, в общую камеру? А в тот момент как раз пустовала эта? Хм, такой вариант имеет право на жизнь.
Но есть и другой. Я даже похолодел, когда он пришел мне в голову! Я даже на время забыл про свои болячки!
А что, если это — улучшение режима содержания (или как это там у них называется)? А что, если накануне, намяв мне бока, от меня сумели добиться каких-нибудь показаний? Какого-нибудь наговора? Что, если сломили меня? Ведь мусора в этом деле непревзойденные доки.
Я снова негромко выругался и постарался покрепче напрячь мозги и припомнить, что же произошло вчера после того, как прапор сковал мне запястья наручниками…
Так… нас с майором выпустили из дежурки, в которой сидят вертухаи, и мы пошли по длинному подвальному коридору. По этому же коридору меня вели и пару часов назад — «на отсидку». Теперь же я возвращался назад. На волю?! Я даже в какой-то момент подумал, что мы с этим ментом сейчас выйдем на улицу через дверь, сквозь которую меня заводили сюда, и поедем в какой-то другой район. Или даже в «Кресты». Я даже направился к этой двери, но майор у меня из-за спины прошипел:
— Не туда. Прямо и направо, на лестницу.
Мы поднялись на третий этаж и прошли по другому длинному коридору. В отличие от подвального — уже совершенно цивильному коридору: с паркетным полом и отделанными деревянными панелями стенами. Никаких признаков жизни вокруг я не замечал. Не удивительно. Даже менты-трудоголики должны отдыхать, а был уже поздний вечер — если судить по кромешной темноте за окнами. А может, была уже глубокая ночь? Черт ее знает. Я давно потерял счет времени.
— Здесь стоять! Рожей к стене!
Я послушно уперся лбом в стеновую панель. Услышал, как за спиной скрипнула дверь, и майор проорал:
— Леха, где ты там, мать твою? Я чего, на посылках у вас? Шестерку нашли… принимай клиента.
— Одного? — услышал я другой голос, густой и глубокий, как оперный театр.
— Одного?!! Ну ты нахал, мать твою! Одного… — сразу распалился майор. — Нет, всех собрал. Строем привел. Кочевряжиться будешь, назад щас доставлю, и никого никогда… Забирай, пока не раздумал. — И ткнул меня кулаком в больные почки. — Кругом!
Я не спеша развернулся и сразу пересекся взглядом с крепким детиной в ментовских форменных брюках и матросской тельняшке. Мышцы у этого типа были что надо! — наверное, в свободное время, накачавшись стероидами, он не отлипал от тренажеров. Рожа тоже что надо — плоский негроидный нос, тяжелый подбородок и маленькие свинячьи глазки. Интеллекта в них было ноль.
Из-за плеча детины выглядывал еще один мусор (или кем он там был?). Тоже в тельняшке, маленький и чернявый. Совсем молодой, с девчоночьей рожицей — такие очень нравятся стареющим нимфоманкам.
— В распоряжение ихнее поступаешь, — ткнул меня в грудь майор. — И смотри мне… Так, — он переключил внимание на детину, и на этот раз ткнул пальцем его, — чтоб все путем. И по-быстрому. До утра чтоб блестело. — И пружинистым шагом пошел по коридору к лестнице. А детина со свинячьими глазками сразу же принялся за меня. А проще сказать, зацепил пятерней за локоть и поволок за собой.
— В наряд заступаешь сегодня, — объяснял он мне на ходу. — Выполнишь норму — накормим. Будешь лениться — отпиздим. Короче, коридор с рекреацией полностью моешь, оба сортира и лестницу. Работы на четыре часа, если по-быстрому. В конце каждого часа перекур пять минут. Вот. — Он продемонстрировал мне четыре сигареты без фильтра. — Первую выдам, когда отмоешь сортиры.
— Я не курю, — ухмыльнулся я, наблюдая за тем, как этот боец отпирает дверцу в маленькую подсобку с ведрами, тряпками и швабрами. Этот дебил даже не держал в голове мысли о том, что мыть все сегодня ему предстоит самому.
«Зато получит хорошую компенсацию — разомнет на мне свои кулачищи», — с легкой дрожью в душе подумал я и даже зажмурился, пытаясь настроить себя на то, что уже через пару минут, когда пошлю этого «завхоза» подальше, мне снова будет очень и очень больно. Только б не сделали инвалидом.
— Не куришь, как хочешь, — невозмутимо промолвил легавый и сунул сигареты обратно в красную картонную пачку. Потом ловко снял у меня с запястий наручники. — Заходи, получай инвентарь.
Нет, он просто поражал меня своей детской уверенностью в том, что умеет распоряжаться людьми! Бить их умеет — я в этом не сомневался — но вот быть при этом сильнее… Вот уж тут хрен: не со всяким подобное катит. А он еще не выучил этого правила жизни. Но сейчас он с ним столкнется.
А мне при этом будет очень и очень больно. Увы! Я скрипнул зубами и, постаравшись добавить в голос побольше ехидности, спросил:
— А чего, у вас нет ставки уборщицы?
— Не понял?!! — Детина почувствовал в моем тоне зачатки протеста и выпучил от удивления глазки. Но сразу сработал ментовский инстинкт: если встречаешь противодействие, то бей сразу, даже не думай о том, чтоб увещевать. И он заехал кулаком мне под ребра так, что я тут же согнулся. — Р-р-разговоры!!! Тряпку бери, доходяга!
Я с трудом перевел дыхание и просипел:
— Ты и правда, гнида, считаешь, что пойду подтирать за вами ваше мусорское дерьмо? Иди полижи его сам.
Успел я сказать ему что-то еще или нет, не помню. Но очень надеюсь, что все же успел. И очень надеюсь на то, что хоть раз тоже сумел достать этого бугая, прежде чем меня отключили. Впрочем, не помню. Ничего больше не помню. Но судя по тому, что все кости целы, да и внутренности в порядке, метелили меня без особой злобы, соблюдая эдакую «ментовскую этику»: бить везде и всегда, но делать это так, чтобы не оставлять следов. Ни синяков, ни того, что в больницах можно определить с помощью рентгена или анализов. Эдакое подленькое правило трусов по жизни, которого неукоснительно придерживаются и большие зажравшиеся начальники, и самые распоследние пьяные пэпээсники, сразу после стройбата неожиданно получившие в руки власть над простыми людьми. И захлебнувшиеся чувством полной безнаказанности.
… Я валялся на нарах, терся щекой об ошлифованную чьими-то задницами доску, скрипел зубами от тупой боли, терзавшей все мое тело, и в душе тихонечко ликовал. От того, что все же не сдался, сумел победить, выстоял в первой же схватке за свою независимость, свою честь, которую попытались втоптать в грязь нечистыми ментовскими сапогами самоуверенные ублюдки, хозяева жизни
«Первый блин комом…» У меня он оказался не комом, несмотря на гудящую печень, на разбитые мышцы. Я устоял в обороне, и теперь можно подумать и об атаке. Сколько пройдет времени до начала ее, я даже не представлял, но уже точно знал, что она неизбежна. Я не разбит, я не сломлен. Я сумел сделать первый шаг, который всегда самый трудный. Я поверил в себя, а это — самое главное. Теперь лишь дело техники. И дело знания человеческой психологии. А уж этим вопросом я немного владел, хотя и не проходил в детстве и юности жестких школ, вроде детских домов и интернатов. Что же, теперь вот он, мой интернат, — узкая камера с деревянными нарами, монолитным железным столом и сравнительно чистой парашей. С напрочь отбитой грудиной. И не сломленной волей.
Воля не сломлена, я жив душой! Я жажду войны! И поэтому я спокоен. Я доволен тем, что я есть. Что я живу. И буду жить дальше — в этом я сейчас был совершенно уверен.
Это меня успокоило, я устроился поудобнее на жестких, отминающих бока нарах и сладко заснул. Сладко заснул, как младенец, которому не хрен беспокоиться в этой собачей жизни о чем-либо еще; который еще не успел вкусить всех ее «прелестей». И понять того, что все, что нарисовано на ее красочной упаковке, — всего лишь реклама для дураков. А внутри упакованы раскаленные угли… тлеющие останки… гремучие змеи… и черт его знает, что еще…
… И мусора. С их резиновыми дубинами. С их неизмеримым апломбом и неистребимой жаждой власти. И с полным отсутствием элементарных человеческих принципов общежития. Они сами по себе, и те, кто хотя бы чуть в стороне, — уже враги, уже изгои. Их надо бить. Их надо давить! Так, чтоб они превратились в безропотный скот. Чтоб они обратились в безвольное быдло. А если вдруг нет — так чтоб их хотя бы колбасило. Меня колбасило. У меня гудело все тело. Я не мог позволить себе и пошелохнуться, чтобы не вздрогнуть от боли.
Но я, избитый в дрова, знал, что победил. И поэтому, наверное, улыбался во сне.
* * *
Никто меня не побеспокоил. Я проснулся сам и, даже уже проснувшись, провалялся достаточно времени на нарах, размышляя о том, что тело постепенно приходит в порядок, и побои болят уже не так сильно. При этом у меня, как ни странно, было отличное настроение. С чем заснул, с тем и проснулся…
Счет времени я потерял окончательно, и потому, когда сквозь кормушку в двери мне просунули миску с баландой, четверть краюхи черного хлеба и кружку с водой, я даже не понял, что это — то ли завтрак, то ли обед? Совершенно не ощущая мерзкого вкуса, я похлебал из миски те помои, что не стали бы есть и бомжи, перебил оскомину от этой отравы вязким непропеченным хлебом и с удовольствием выхлебал пол-литровую кружку отдающей железом воды. И тут же в замке заскрежетал ключ.
Я уж было решил, что пришли забрать назад миску и кружку, но ошибся.
— Разин, на выход!
Детина-прапорщик, который накануне топтал меня ногами, видно, сменился, и теперь на его месте я обнаружил незнакомого мне мента — с погонами старшины, с кустистыми брежневскими бровями и с уровнем хамства не меньшим, чем у его предшественника.
— Рожу в стену! — Стоило мне чуть замешкаться, выйдя из камеры, как он без предисловий огрел меня своей дубиной по почкам. Я натужно всхлипнул и послушно принял нужное положение.
Потом, ничего не объясняя, бровастый старшина отконвоировал меня в небольшую клетушку, примыкающую к комнате, в которой располагалась охрана. Внутри ее я обнаружил совершенно пустой письменный стол, несколько затрепанных стульев и двоих мужиков. Одного из них — угреватого следака прокуратуры Муху Владимира Владимировича, того, что вчера проводил у меня обыск, — я уже знал. Второй был невзрачным еврейчиком в очках с сильными линзами и рожей обреченного холостяка. Впрочем, его мятый костюм просто кричал о том, что он холостяк и есть.
Вот таким было первое впечатление о том, куда меня привели, и о тех, кого я там встретил, после того, как окинул комнату первым беглым взглядом. И подспудно почувствовал, что в этом взгляде уже отчетливо прослеживается та настороженность, та закрытость, что свойственна почти всем заключенным… и мне в частности. Я уже начинал становиться озлобленным загнанным волком.
— Присаживайтесь, гражданин Разин, — прокурор кивнул на грубый деревянный табурет возле стола. — Свободны, — сказал он моему конвоиру. устроился за столом с другой стороны от меня и уперся мне в переносицу долгим змеиным взглядом, дожидаясь, когда я отведу глаза в сторону. Возможно, это являлось частью ритуала предварительной обработки подозреваемых. А возможно, Владимир Владимирович просто обладал такой гнусной привычкой.
Это была уже вторая наша с ним встреча и, как потом оказалось, далеко не последняя. С ним и с другим, который представился Живицким Борисом Наумовичем, — моим адвокатом, которого мне назначило следствие. Впрочем, мне сразу же объяснили, что если я хочу нанять кого-то другого вместо этого зажеванного еврея, то сделать это могу без проблем. Я хотел — Живицкий мне не внушал никакого доверия. Но вот «без проблем это сделать» было никак. Как минимум, две проблемы встали стеной перед этим моим желанием, и я никогда бы не смог через них перебраться. Во-первых, у меня не было денег на адвоката. Во-вторых, я не знал никого из их адвокатского цеха, ни разу не сталкивался с подобным вопросом и не был уверен, что в результате не поменяю шило на мыло.
— Нет, — решив, что лучше с первых минут казаться покладистым, сказал я. — Меня совершенно устраивает Борис Наумович.
Кажется, Муха в этот момент облегченно вздохнул. И начал увлеченно бубнить что-то о моих правах и обязанностях. Вводить, так сказать, в курс дела… Я его совершенно не слушал.
«В курс дела» меня ввели уже нынешней ночью, объяснив, что прав у меня ноль, а обязан я в первую очередь держать руки за спиной, постоянно тыкаться рожей в стенку и безропотно сносить все издевательства, какие только могут прийти в голову мусорам.
— Жалобы, замечания по содержанию есть? Я горько хмыкнул и ответил:
— Нет.
— Хорошо. — Муха водрузил себе на колени пухлый портфель и извлек из него на стол лист бумаги. Один-единственный лист…
— Ознакомьтесь, гражданин Разин…но как же много я из него узнал.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ
В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Следователем районной прокуратуры Мухой Владимиром Владимировичем рассмотрены материалы уголовного дела № 23678, возбужденного 16 августа 1996 г. по факту обнаружения трупа Смирницкой Эльвиры Феликсовны.
Установлено:
Следствием собрано достаточно доказательств для предъявления гр. Разину Константину Александровичу, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 43, кв. 376, рожд. 14 июня 1966 г. в том, что он совершил убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку из корыстных побуждений, а именно 15 августа 1996 г. в период с 3-00 по 4-30 пришел по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Репинская, д. 26, где из корыстных побуждений кухонным ножом нанес один удар в жизненно важный участок груди и причинил телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшей, после чего завладел имуществом потерпевшей, а именно: часы женские из желтого метана марки «Лонжин» с браслетом, серьги парные из желтого металла в виде сердечек, перстень из желтого металла с камнем красного цвета, перстень из желтого металла с камнем синего цвета, после чего с места преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился, сокрыв (закопав) на своем дачном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Репинская, д. 28, совершив преступление, квалифицирующееся ст. 105, ч. 2, п. «а».
Текст настоящего постановления доведен до моего сведения путем личного прочтения. Мне разъяснены в устной форме мои права в качестве обвиняемого.
— Распишитесь внизу, что ознакомлены. — Дождавшись, когда я дочитаю весь этот бред, слегка переведу дух и подниму на него выпученные от удивления глаза, прокурор протянул мне дешевую ручку.
Я едко хмыкнул, но решил, что сейчас не время для споров, и лишь бросил вопросительный взгляд на продолжавшего молчать адвоката — не подстава ли это? Я сейчас опасался всего чего угодно. Живицкий несколько раз кивнул и впервые за всю нашу встречу проскрипел несколько слов:
— Рекомендую поставить подпись, Константин Александрович. Она ничего не решает, но поможет мне скорее решить вопрос с переводом вас из ИВС в СИЗО. А там, поверьте мне, на порядок лучше условия содержания.
Уж в этом-то я был уверен. Хуже, чем здесь, быть нигде не может. Я взял ручку…
Довольный прокуроришка запихал в свой неподъемный портфель постановление с моей подписью и взамен его извлек на свет Божий другую бумажку.
— Еще одна формальность.
— Что еще? — недовольно пробурчат я.
— Ознакомьтесь. Это ваша расписка в том, что вы подтверждаете свои вчерашние показания, которые давали еще в качестве свидетеля.
Я снова бросил вопросительный взгляд на адвоката. Он снова кивнул головой, и я снова взялся за ручку, старательно припоминая, а не наболтал ли вчера перед видеокамерой и понятыми чего-нибудь лишнего. Вроде бы ничего. Так и черт с ним, с этим прыщавым Мухой, пусть подавится еще одним документиком. Не зря же он приперся сюда…
Прокурорский следак засунул в портфель и эту, подписанную мною, бумажку, удовлетворенно вздохнул и поднялся из-за стола. — Гражданин Разин, я с вами на сегодня закончил. Встретимся снова, когда будут готовы результаты дактилоскопической экспертизы. Возможно, завтра уже. У вас ко мне есть вопросы?
— У меня нет к вам вопросов.
— К адвокату у вас есть вопросы? Вы можете побеседовать с ним наедине, когда я выйду.
— У меня ни к кому нет вопросов. — огрызнулся я. И добавил: — Пока нет никаких вопросов. Потом появятся, когда все осмыслю. Когда чуть-чуть попривыкну к тому дурдому, в который попал.
Видимо, прокурор незаметно нажал на кнопку вызова охраны снизу столешницы, потому что дверь в комнату распахнулась и на пороге объявился старшина-вертухай.
— Уведите задержанного, — распорядился Муха, и я, не дожидаясь особого приглашения, поднялся со стула и, заложив руки за спину, направился к двери. Вертухай отодвинулся в сторону, освобождая мне дорогу из комнаты.
— Разин, секундочку, — друг окликнул меня прокурор.
Я остановился в двери и обернулся. Муха уже вылез из-за стола и с портфелем в руке не слеша подошел ко мне. Позади него стоял мой адвокат.
— Вот что еще хотел вам сказать. — Муха нехорошо улыбнулся. — Всего пару слов. — Зловеще так улыбнулся, подлец. — Насчет дурдома. Лучше бы вы и правда угодили туда. Поверьте мне. Уж я-то знаю… Все, уводите его старшина.
Меня ткнули в спину, и я медленно поплелся в свою «камеру-VIP». Не в состоянии хоть немного поверить в то, что сейчас произошло. И в то, что мне довелось узнать о себе. В голове долбила набатом лишь одна фраза. Монотонно и гулко, не желая оставить меня в покое наедине с другими мыслями «Лучше бы вы попали в дурдом».
Лучше бы, Разин, вы попали в дурдом!!!
* * *
Остаток дня я провел словно в бреду. Безучастно валялся на нарах в своей одиночке, тупо глазел в потолок и пытался убедить себя в том, что вся эта грандиознейшая ошибка раскроется уже до конца недели, а еще через месяц я буду вспоминать о своем путешествии в ад с легкой усмешкой.
Убедить не получалось. Не получалось, хоть ты сдохни!
Действительно, «сдохни»… В конце концов, я додумался до того, что решил: если и сегодня меня выведут на «ночные работы», я сделаю вид, будто согласен, дождусь момента и попытаюсь прибить кого-нибудь из ментов. Даже если не на смерть, то искалечить удастся наверняка. А потом будь, что будет. Уж лучше смерть, чем огульное обвинение в убийстве; чем подобное существование; чем постоянное лицезрение довольной прыщавой рожи моего следака.
Вечером я получил еще одну миску баланды. На этот раз я разглядел, что же это такое, внимательнее — жидкий отвар из капусты, в котором плавала рыбья кожура. Хлеба, насколько я понял, сегодня мне больше не полагалось, а свою утреннюю пайку я съел без остатку. Поэтому пришлось довольствоваться лишь тем, что, зажмурившись, выхлебал чуть теплую баланду через край, после чего опять завалился на нары и попытался заснуть.
Какое заснуть! В голову лезла какая-то едкая чепуха, и как я ни желал переключиться хоть на какую-нибудь приятную мысль, все было впустую. Не удавалось даже поразмышлять об Ангелине — как она там без меня? Пытается ли хоть как-то навести обо мне справки? Хоть как-то помочь? Хоть что-нибудь сделать? Или просто сидит отрешенно дома, безразличная ко всему? Голодная и без денег. Ведь она не работает, да и не приучена что-нибудь делать. Не сумеет справиться даже с должностью санитарки. Или уборщицы. Разве что идти на панель, чтоб прокормиться… Я вздрогнул от этой мысли. И до боли ударил кулаком в бетонную стену.
Нет, в голову ничего путного не приходило.
Не знаю даже примерно, сколько же я так провалялся, прежде чем ко мне наконец пришел беспокойный сон. Мягко сказать, беспокойный — мне грезились сплошные кошмары; я несколько раз просыпался в холодном поту… и опять засыпал… и опять просыпался… Пока окончательно не освободился от этого полубредового состояния.
И снова пялился в потолок. И опять донимал себя гнусными мыслями о своем незавидном будущем.
Когда в окошко на двери мне просунули очередную миску баланды и кусок черствого хлеба, я понял, что наступило утро. И даже немного разочаровался, что прошлой ночью меня никто не пытался выдернуть из камеры и потоптать ногами. Все мои планы вцепиться кому-нибудь в горло, а потом быть забитым насмерть благополучно рухнули. Ничего, впереди еще много подобных возможностей.
Я не умывался уже больше двух суток, а моя рожа покрылась жесткой щетиной, но все свои туалетные принадлежности, которые прихватил с собой, я видел в последний раз при входе в ИВС, когда меня фотографировали в профиль и анфас, снимали мои отпечатки пальцев и выдергивали из моих кроссовок шнурки. И после этого передавать мне мыло или зубную щетку никто не собирался. Все равно в камере не было водопровода. Так же как и канализации… Кстати, о ней — то бишь о параше. Я попытался представить, кто же потащит ее выносить. Поведут меня самого под конвоем? Или впрягут в это грязное дело кого-нибудь из моих соседей-бомжей? А может, менты?.. Ха-ха-ха, только не это!
Узнать это мне так и не довелось…
— Разин, на выход!
Я, обученный уже по полной программе, поспешил, хлюпая расшнурованными кроссовками, к двери. Уткнувшись физиономией в стену, дождался, пока вертухай у меня за спиной вдоволь нагремится ключами, и, жмурясь от яркого света, вышел в помещение для охраны. Я был совершенно уверен в том, что снова явился по мою грешную душу прокуроришка Муха. Или адвокатик Живицкий. И меня вызывают в комнату для допросов.
Но все оказалось иначе.
Я это понял сразу, как только обнаружил на столе у охранников полиэтиленовый пакет со своими пожитками. Весь, так сказать, мой багаж. С бритвенным станком. С зубной щеткой и пастой. С двумя кусочками мыла — хозяйственным и туалетным. Что еще у меня там припасено? Три смены белья, полотенце, свитер, шерстяные штаны, тапки, несколько пар носков, письменные принадлежности… Что еще? Да не помню! Меня собирала в эту дорогу Лина, пока я на кухне подписывал протоколы. Кажется, она еще положила в пакет что-то из жрачки. Только вот не знаю, что. Вряд ли это было что-нибудь путное. Скорее всего, какой-нибудь фруктовый бисквит в целлофане. На другое фантазии жене просто бы не хватило. А мне бы сейчас обычного хлебушка. Хотя сойдет и бисквит. Только его, наверное, сожрали менты.
Вот ведь сытые рожи! Я перевел взгляд с пакета на двоих мусоров — один из них с автоматом, — которые, пристроившись на двух стульях, придвинутых к стене, с интересом пялились на меня. «Добро пожаловать, дорогие, — с радостью подумал я. — Никак конвой по мою душу? Рад вас видеть. Заждался. Наконец хоть какие-то перемены. И куда мы поедем?»
— Так, засмотрелся… Здесь распишись. — Вертухай ткнул толстым пальцем в бумажку, дожидавшуюся меня на столе рядом с пакетом.
— Это чего? — удивился я.
— Распи-ы-ысывайси давай! Без вопросов, греб твою мать. Это за то, что шмотье свое получил. В целости, так сказать, и сохранности. — Вертухай хлопнул ладонью по моему пакету так, что он сплющился.
— Так надо проверить, — неосторожно заметил я, чем вызвал целую бурю негодования.
— Ты чё, охренел вообще, доходяга?!! — завопил вертухай и сделал такую зверскую рожу, что я приготовился к тому, что меня снова будут бить. Но ему, наверное, было лень. Или он просто стеснялся конвойных. Хотя вряд ли… — Ты что, думаешь, время есть ждать, пока ты вшивятник свой перероешь? Или считаешь, что тут хлам твой кому-нибудь нужен? — Он стоял, опершись на стол огромными лапами, и голосил, брызгая мне в лицо капельками слюны. — В натуре считаешь так, чмошник? Не слышу!!!
Именно так я и считал. Но вслух говорить об этом не стал — зачем еще раз получать напоследок по почкам? И без этого второй день мочусь кровью. Я просто молча взял ручку и расписался там, куда ткнул пальцем охранник. Потом дождался, когда меня, и так уже сто раз обысканного, снова обыщут конвойные и скуют мне за спиной руки.
В автозаке, который оказался подогнан вплотную к тому входу в подвал, через который меня провели в ИВС почти три дня назад, я обнаружил обоих своих знакомых бомжей. И встретили они меня, надо сказать, с распростертыми объятиями. Точнее, встретили бы, если бы у них, как и у меня, не были бы скованы браслетами руки.
— Ха, Константин! — радостно взвизгнул Артист. — Рад тебя видеть, братишка, не в белых тапках. Мы уж грешным делом подумали — доконали тебя легавые…
— Разговоры отставить, — без особого служебного рвения пробормотал один из двоих конвойных, которые сопровождали нас внутри фургона. Мы были отделены от них решеткой и не представляли для них никакого интереса. Они откровенно скучали. Отставили свои автоматы в сторонку и синхронно ковырялись в носах.
Артист не обратил на замечание никакого внимания.
— Давай, браток, потешь старика любопытного, — насел он на меня. — Чё там случилось тако? Куды тебя легавые дели?
Ну как же было его не потешить? Тем паче я здорово успел соскучиться по нормальным — ну, тем, что не таскают с собой дубинки и не лупят ногами по почкам, — собеседникам.
— Сначала избили, — стараясь говорить тише, доложил я. — Потом кинули в одиночку.
— А… избили — этта не страшны, — философски заметил Артист. — Оне эт аккуратно все делають. Больны, да аккуратно. Потом и не долго болить. А как одиночка?
— Скучно, — пожаловался я. — А так ничего. Почище, чем ваша. Со столом даже.
— Да ты чё?! — выпучили глаза оба бомжа. — Дык не бывает такого, шоб со столом! С мойкой там, с унитазом — этта да. Этта по всему Питеру, во всех ивээсках толчки как толчки, тока здеся Прасковьи…
— Вот вместо толчка, наверное, стол и поставили, — улыбнулся я.
— Та не… — пожал плечами Артист. — Везде был, понимашь, но шоб столы?! Бля буду, не видел. Этты какая-то особая камера, Константин. Для специальных гостей. — Он посмотрел на меня с уважением, и я приготовился к тому, что сейчас меня спросит о том, по какой я обвиняюсь статье. Но он промолчал и перевел разговор с толчково-парашных вопросов на более интересные темы.
За то время, пока мы ехали в автозаке, я узнал о том, что афганец, покалеченный мною, промучился с глазами всю ночь, а утром, когда раздавали баланду, менты его куда-то забрали. Назад он так и не вернулся.
— Либо в больничку, — сделал вывод Артист, — либо земы, наркоты, децл хрустяшек заслали. Вот и поехал афгаша бабу пялить свою да баранину хавать.
Потом мне рассказали, что оба моих попутчика проходят по одинаковым статьям. Хотя и по разным делам.
Артист слепил из хлебного мякиша муляж пистолета и, выпив для смелости «Льдяхи», отправился грабить — что бы вы думали?! — кухню детсада. Благополучно положил на пол посудомойщицу и повариху, забрал из холодильника десятикилограммовую коробку с полуфабрикатами тефтелей и спокойно отправился ее продавать. Правда, не будь дураком, решил ехать с товаром на другой конец города. Но в метро его прихватили менты. По-обидному прихватили — за неопрятный вид и отсутствие жетона. Проверили сумку, в которой нашли мелкооптовую партию свежего фарша, удивились и, сморщив носы, залезли к бомжаре в карман. А там муляж пистолета. Все ясненько. А еще яснее все стало через десять минут, когда пришла ориентировка на вооруженный разбой в одном из детских садов.
У Витьки все произошло гораздо проще. Никаких муляжей он не изготавливал, просто напился и пьяный попытался угнать велосипед у какой-то девчонки. Впрочем, о том, что натворил, сам он совершенно не помнит. Ему, когда проснулся с жесточайшего похмела в ИВС, обо всем рассказали менты. Оказывается, брел он, как неприкаянный, после нескольких пузырьков настойки боярышника через пустырь к знакомой помойке и вдруг обнаружил рядом с тропинкой велосипед, аккуратно прислоненный к большому кусту. Витька долго не думал. Сел и поехал. Притом, как ни странно, ехать у него получалось здорово — не то что идти. Он успел уже удрать с пустыря в жилой микрорайон, прежде чем его нагнала группа захвата из нескольких ребятишек. Велосипед отобрали, бомжу наковыряли колхозом по самое некуда, после чего, отморозки, вместо того чтобы отпустить его, несчастного, восвояси зализывать раны, сдали ментам.
— Вот такие вот грызуны проклятущие нонче пошли, — жаловался Витек. — Раньше дети как дети. Сам двоих вырастил. А теперича чё? Звери и звери… Чу! — насторожился он. — Приехали вроде.
Машина притормозила, резко свернула налево и сразу остановилась. Я расслышал снаружи какой-то шум, металлический скрежет.
— Точно, прибыли на место, — заметил Артист, и я обратил внимание, как наши конвойные поспешили поднять с пола свои автоматы и положили их на колени.
— Разговоры отставить, — предупредил один из ментов, но я все-таки прошептал:
— Куда прибыли-то?
— Куда, куда? — хором ответили мне бомжи. — В «Кресты», братишка, прибыли. Так что готовсь.
Я лишь улыбнулся в ответ. Просто не знал еще, к чему надо готовиться.
Глава 5. Во что верят «кресты»
После кошмарного ИВС то, куда я угодил, показалось мне раем. Никто не лупил меня по почкам, никто не пытался ткнуть меня побольнее в спину. Весьма оперативно мы трое были отправлены в карантин — огромную камеру, где теснилось человек двадцать пять растерянных зеков. Разных национальностей и разных мастей, они расположились на нескольких нарах. Кто-то мирно беседовал между собой, кто-то просто замкнулся в себе. Но никто, как я ожидал, не пытался качать права. И ни один человек даже и не подумал позадавать мне вопросов, кто я и как здесь очутился. Отвечать пришлось позже — на вопросы ментов, — когда меня вызвали на медицинский осмотр.
Для начала меня заставили сдать всю одежду и голого внимательно обследовали на педикулез и кожно-венерические заболевания. И проверили руки на предмет дорог от уколов.
— Жалобы, хронические заболевания есть? — поинтересовался огромный врачина, который сам мог бы работать в конвое, и когда я ответил, что нет, он, не вставая из-за стола, обвел меня внимательным взглядом, попросил повернуться спиной, наклониться и раздвинуть ягодицы. Потом он чересчур тщательно обследовал мне ротовую полость и, по-видимому, оставшись довольным моим состоянием, пробасил: — Свободен. Здоров. Следующий.
Вот и все. Помаявшись с полчаса в душной каптерке, я получил обратно одежду и bhoвь оказался на нарах в камере карантина. Ко мне тут же подсел Артист, пробормотал: «Курнуть бы децл, братишка» — и рассказал, что Витьку отправляют в больничку. Тот закосил — а может, и нет — то ли под гепатитчика, то ли под спидника (Артист так и сказал: «под спидника») и теперь несколько дней будет отсылаться в чистой постельке, пока не придут результаты анализов и его не выкинут вон. Я сразу подумал, что со своим медицинским образованием мог бы косить под кого угодно — разве что не под психа — куда изобретательнее какого-то там бомжа и отдыхать в этой больничке не несколько дней, а, как минимум, месяц. Но вот не допер, идиот, поначалу. А теперь поезд ушел.
— А знаешь, я врач ведь, — зачем-то доложил я Артисту, и он выпучил на меня глаза.
— И какой?
— Реаниматолог.
— Реаниматор? В натуре, братишка? Ты здеся не пропадешь, если захочешь. При больничке пристроишься, коли не в падлу. Ну, конечно, поробить тама придется, так зато и при хавке нормальной, и при курехе. Там такие живут в ништяк самый. А коль к наркоте проберешься, так вовсе озолотишься, братан. Вот тока в падлу все это.
— Почему в падлу? — Я никогда не считал для себя зазорным лечить людей, кем бы они не были, и поэтому удивился.
— А потому в падлу, братишка, — осклабился мне в ответ Артист, — что навроде как та на легавых работаешь. И не понять сразу никак, кто ты таков на самом-то деле есть. Навроде как и мужик, а навроде не разберешь. Мужик, он тоже авторитет ба-альшой держать может. А ты станешь. как проститутка. Братва тут в камерах тесных корячится, спея по три смены, а ты тама, как падла последняя, на всем готовом. Даже при бабах. Не, Костя, не по понятиям это. Коли авторитету ты хочешь, а я вижу, что хочешь, так туды, в больничку проклятую, и соваться не думай. Ну конечно, ежели как пациент, так энто другой базар. А на службу туды и не лезь, даж коли опер начнет тебя препирать. А он, сука, начнет в обязаловку.
"Спасибо на добром совете, — подумал я. — Настанет время, учту". Но вслух ничего не сказал. Постарался устроиться поудобнее и прикрыл глаза. Рядом возился вонючий Артист, но на спертый душный воздух в битком набитой камере я не обращал никакого внимания. Привык. Человек ко всему способен привыкнуть, в какое дерьмо его не закинула судьба. Живучее существо, этот homo sapiens. Возможно, живучее всех остальных представителей фауны. Вот только в отличие от этих «всех остальных» он единственный, кто способен загонять себе подобных в ловушки и помойные ямы. Держать в клетках и измываться любыми доступными способами только затем, чтоб самому получить от этого удовольствие. И убивать просто так, беспричинно или ради каких-то собственных мизерных целей. И придумать при этом одно очень емкое слово — гуманизм.
Гуманизм, черт побери! Наконец-то у меня, у слепца, получилось усвоить смысл, заложенный в это понятие. Вернее, полнейшее отсутствие смысла…
Как ни странно, мне удалось задремать. Мне даже приснился какой-то сон. Не кошмар, а именно сон. И продремал я, похоже, довольно долго, несмотря на неудобную позу и затекшее тело. Как и к вонище, к полному отсутствию элементарных удобств цивилизации я тоже начинал привыкать. Впрочем, я и раньше мог похвастаться этим — умением легко и быстро адаптироваться всегда и везде. И это умение должно было помочь мне выжить в той мясорубке, в которую я угодил. К тому же, я всегда был везунчиком. Во всяком случае, таковым себя считал до недавнего времени.
Я спокойно дремал и даже не предполагал, что фортуна, на какое-то время отвернувшаяся от меня, вдруг спохватилась, ужаснулась: «Что я наделала!» и поспешила хоть немного исправить положение.
Вернее, она должна была начать исправлять его завтра. А пока лишь подкинула мне от широты своей фортуньей души долгий спокойный сон с добрыми сновидениями, несмотря на соседство вонючего бомжа Артиста. И на духоту камеры карантина «Крестов».
* * *
На следующий день события начали развиваться настолько стремительно, что не успевал я как следует обмозговать первое, как на него тут же наслаивалось второе. Целое море тем для размышлений, и рядом с ним огромное озеро впечатлений.
Из собачника меня вызвали одним из первых. В каптерке я снова полностью освободился от одежды, и меня внимательно осмотрели. На этот раз не врачи, а мусора. На предмет наличия наколок и особых примет на теле. Не поленились заглянуть мне в уши, нос, рот и задницу, тщательно перекопошили мое шмотье, вытащили из кроссовок стельки, прощупали все швы на белье и спортивном костюме, после чего разрешили одеться.
— Четвертый корпус, четыреста двадцать шестая, — буркнул под нос старлей в форме офицера внутренних войск, и я сообразил, что это теперь мой новый адрес. Интересно, и как же надолго?
Старлей вручил одному из вертухаев бумажку, насколько я понял — нечто вроде транспортной накладной на меня. Потом я наконец получил пакет со своими пожитками, заложил руки за спину, и мы отправились в путь. По мрачным лестницам и переходам, с нанесенной точно по середине пола белой полосой — словно узкой тропинкой, — с которой я не имел права сходить. С чугунными решетками, перегораживавшими нам путь и разделяющими все этажи на сектора. Перед каждой из них, дожидаясь, пока отопрут тяжелый засов, и послушно утыкался физиономией в стену. И всякий раз дожидался при этом крепкого пинка в спину, если окажется, что по незнанию сделал что-то не так.
А тюрьма в это время жила своей, только ей ведомой жизнью. Со своими звуками. Своими запахами. Даже с каким-то особенным воздухом, тяжелым и вязким, присущим, должно быть, лишь тюрьмам. Этот воздух давил, подминал, подчинял себе и тело, и душу. Как наркотик. Вдыхая его, я, сам того не желая, испытывал непонятный трепет внутри, ощущал чугунную тяжесть в ногах. И лишь одна мысль постоянно сверлила мои мозг: «Вот сейчас мы придем, меня впихнут в камеру, за мной захлопнется тяжелая дверь, и я со своим полиэтиленовым пакетиком и телячьей психологией обычного обывателя предстану на обозрение десятков глаз. Нос к носу столкнусь со стаей диких волков. Это не парочка немытых бомжей, плюс к ним наркоша-афганец. Стая эта сильна и опасна. Она может порвать. Но она может и принять к себе». Вот только что для этого надо делать, в какую сторону направить свой первый шаг, я совершенно не знал, даже примерно. Что-то слышал, про что то читал в желтых газетках, но специально не интересовался такими вопросами, уверенный в том, что уж мне-то, законопослушному, никогда не придется делить нары с братвой.
И вот ведь пришлось. Эх, от сумы, да от тюрьмы не зарекайся. И чего ж я, дурак, пренебрег этим правилом?..
— Лицом к стене! — гаркнул конвойный, а другой — тот, что присоединился к нам у последней решетки, — принялся в двух шагах от меня отпирать железную дверь.
«Вот сейчас я войду. Остались считанные секунды. Oт этой мысли мои внутренности наполнились льдом. Я ощутил предательскую дрожь в руках и коленках. С тем легким чувством опасности, которое преследовало меня всю дорогу сюда от собачника, это щемящее ощущение не шло ни в какое сравнение.
С лязгом распахнулась дверь в камеру, и я услышал команду:
— Входи.
Поднимайся на эшафот!
Я оторвался от спасительной стенки и, постаравшись, чтобы мое лицо оставалось бесстрастным, осторожно пробрался в камеру. За спиной тут же захлопнулась дверь.
Длинное yзкое помещение, освещенное туслым светом нескольких сороковаттных лампочек. Справа в три яруса нары. Слева в три яруса нары. Одуряющая духота. И море народу. Молодые и старые. В спортивных костюмах и тольков одних трусах. Усыпанные наколками и вообще без них.
И ни единой улыбки. И все взгляды уперты в меня. И в этих взглядах интерес и ожидание: кто таков, с чем он явился, что сейчас будет делать?
Что делать? Что надо делать, черт побери?!! Но не стоять же здесь вечно?
Я поздоровался. Просто спокойно бросил:
— Здорово, братва.
Кто-то откуда-то произнес:
— Здорово.
И больше ни слова. Ну, этого-то я ожидал.
И в этот момент неожиданно у меня открылось второе дыхание. На меня снизошла такая уверенность! В желудке растаял лед страха, в коленях исчезла дрожь. Я уже сделал первый, самый трудный шаг по этой чужой для меня территории — произнес: "Здорово, братва", — задал себе направление и теперь в буквальном смысле точно знал, куда мне надо идти.
И спокойно отправился вперед по проходу меж шконок к далекому окну, укрытому тяжелым намордником.[9] Там, подальше от санузла, подальше от мест для доходяг и обиженных, должен быть оборудован угол смотрящего. С одноярусной койкой. С небольшим столиком. С ковриком на бетонной стене. Даже, возможно, и с телевизором — это смотря в какой я оказался камере. Сначала надо представиться там. А они и решат, какого же я достоин здесь места? Что явится первой ступенькой, с которой начну продвигаться — вверх или вниз — по местной иерархической лестнице.
Там все оказалось именно так, как я ожидал, — и коврик, и телевизор, и аккуратная полка с посудой, занавешенная чистой цветастой тряпкой. И одноярусная койка, на которой лежал пожилой мужчина в одних спортивных штанах.
Казавшийся совершенно неживым мужчина!
На его подернутом синевой лице застыло выражение муки. Черные набряклые губы были слегка приоткрыты, выставив напоказ золотую фиксу. Худые смуглые пальцы судорожно стиснули край одеяла…
У меня за спиной радостно потирала ручонки взявшаяся за дело фортуна: «Мол, не теряйся, Константин Александрович. Подкинула я, в компенсацию за свои ошибки, отличный шансик тебе. Так не вздумай его упустить. Не теряйся, принимайся за дело».
… Я все понял с первого взгляда — на работе с подобным приходилось сталкиваться чуть ли не через смену. И сразу же посмотрел на столик — там стояла литровая банка, наполовину наполненная спитым чаем, — все точно, недавно пили чифир. Потом я перевел взгляд на троих типов, сидевших напротив и с интересом взирающих на загибающегося соседа.
— Чего уставился? — совершенно без выражения пробормотал один из них, здоровяк средних лет впростой белой майке со сплошь покрытыми наколками руками и плечами. — Отвали пока. Очухается, так позовет.
— Я врач. — сказал я.
— А если врач, так лечи. У тебя может, и лекарства с собой?
Мне не нужны были лекарства. Я знал, как такие припадки лечатся и без них.
— Вы хоть к нему доктора вызывали? — спросил я и присел на корточки перед своим пациентом. Я уже считал его своим пациентом. Это был годами выработанный инстинкт — если видишь того, кому срочно нужна врачебная помощь, так немедля кидайся к нему на помощь, даже если от этого можешь нажить неприятности. — Был доктор, я спрашиваю? — Я сам удивился металлу, который вдруг прозвенел в моем голосе.
Камера замерла. Камера упивалась бесплатным шоу. Камера боялась пропустить хоть движение, хоть слово.
— Фельдшера, а не доктора, — ответил мне все тот же тип в майке. Я обратил внимание на то, что пустота в его тоне наполнилась интересом. — Была, курва старая. Укол поставила, сказала, что оклемается. А хрен ли там…
— Давно он так?
— Еще вчера за сердце хватался. Говорил, что стучит. Не болит, стучит только. А слег уже утром.
Больной приподнял набухшие веки, чуть приподнялся на локтях и попытался мне что-то сказать. У него получилось нечто вроде: «У-пр-ру…»
— Лежи, лежи. — Я опустил руку ему на грудь и почувствовал бешеное дрожание сердца. Оно буквально шло вразнос, и казалось, что через миг или взорвется, или вырвется из грудины на волю.
Та-а-ак… то, что и ожидал. Налицо все симптомы, как в хрестоматии. Пароксизмальная тахикардия — в этом можно не сомневаться. Интере-е-есно, и как отнесется братва к тому, как я сейчас ее буду лечить.
— Слег после того, как чифиру попил? — спросил я и услышал у себя за спиной:
— Ага, после этого. — Здоровяк подошел ко мне и уселся рядом на корточки. От него терпко воняло потом. — Чего у него?
— Если скажу, все равно не поймешь. А вот чифир ему больше нельзя. И водки нельзя. Загнется когда-нибудь… Загнется когда-нибудь, — задумчиво повторил я, — и я не помогу.
— Сейчас-то поможешь? — В голосе моего собеседника послышались просительные нотки. Или это мне лишь показалось? Что-то не верилось в то, что он умеет просить. Брать умеет он, только брать! — Помочь чего надо, так только скажи.
— Сам справлюсь, — буркнул я. — Что ему фельдшерица колола?
— А хрен ее знает. А ведь говорила чего-то… Так разве запомнишь?
— Чего-то на «фэ», — раздался голос у меня за спиной.
На «фэ»… на «фэ»… чего же?.. чего?.. Я никак не мог сообразить. Или в «Крестах» изобрели какое-то новое средство, о котором я и не слышал?
— Строфантин? — вдруг осенило меня. — Строфан? Так она говорила?
— Точняк! — радостно воскликнули сзади. — Строфан. Точняк, строфан говорила!
— Вот сучка! — зло бросил я. — Падла тупая! Нельзя ему этого. — И обернулся. — Короче, начинаю лечить. Со стороны это будет смотреться жестоко, но надо так, и если кто дернется на меня…
— Никто, — покачал головой тип в майке. Похоже, он проникся ко мне уважением. И верой в то, что я что-то умею.
Я оглянулся. Все смотрели сейчас на меня. Все ждали. Десятки глаз упирались мне в спину. Проход между ярусами был плотно забит пробкой из человеческих тел. В этот момент я подумал: «А что будет, если я не добьюсь результата с первой попытки? Второй мне уже не позволят. Потом меня просто порвут на куски».
Я решительно отогнал от себя эту мысль, сосредоточился, сконцентрировался на том, что сейчас должен сделать. Развернулся, схватил левой рукой своего пациента за отвороты клифта, потянул его на себя, как бы подсаживая, и резко и неожиданно, без замаха, двинул в поддых.
Толпа у меня за спиной шумно вздохнула. Здоровый тип в майке удивленно икнул. Я весь напрягся. Я приготовился к тому, что он сейчас так саданет меня локтем, что я больше не оклеймаюсь. Но все пока было спокойно. В камере повисла напряженная тишина.
— Нормально. Нормальненько… — негромко пробормотал я, но голос мой разнесся по всей камере. Его было слышно и на галерке. — Рефлекторная остановка. Старый способ… Сейчас, сейчас…
А мой пациент уже пытался cecть. Я поддержал его за плечи, подстраховал.
— Да ты… чего? — хватая ртом воздух, еле выговорил оживший старик. — Чего же ты… чего же ты, падла, творишь? Я ж помочу…
— Стучит? — ласково промурлыкал я ему прямо в ухо. — Спрашиваю, стучит?
Пациент замер, прислушался к своим ощущениям и осторожно глубоко вздохнул. Он начал бледнеть, слабеть, и я мягко опрокинул его назад на постель. Он молча полежал, медленно вздыхая и приложив, словно придерживая сердце, руку к груди.
Камера замерла. Ни стука, ни скрипа, ни вздоха.
И тут старик произнес совершенно нормальным голосом:
— Ништяк, пацаны. Готово. — Он перевел взгляд на меня и громко крикнул на пробу:
— А здорово-то как! — И уже тише распорядился: — Так, Корвалан, на стол накрывай. Пошамаем да выслушаем, что нам лекарь расскажет. — Он упер в меня взгляд. — Обзовись, кто таков? По какой чалишься?
— Константин. По сто пятой, вторая, — громко и четко произнес я, так, чтобы разобрала вся камера. Хотя можно было и не стараться. Сейчас братва услышала бы и жужжание мухи — такая стояла вокруг почтительная тишина.
— Константин, говоришь? — тоже громко и чуть театрально переспросил уже полностью оклемавшийся старик и сел на кровати. — Мокрушник? Что же, бывает… Только звать тебя теперь будут… — Он на миг задумался. — Может, Знахарь? Нет, стой, ты же Константин, Костя… Так что — Костоправ тебе погоняло. Костоправ, — торжественно повторил он. — Что значит лекарь. Что же, Коста, давай познакомимся. — Он протянул мне жилистую, покрытую наколками, руку. — Бахва я. То не имя, то погоняло. Имен-то много бывало за жизнь, сам не упомню уж сколько. А вот погоняло дается одно. На всю жизнь оно, так что с именинами тебя, Коста. Сейчас и отметим. С братвой со всей потом познакомлю.
Камера оживленно загудела, зрители начали разбредаться по нарам. А я присел на корточки перед своим пакетом и попытался отыскать там что-нибудь съестное. С пустыми руками за стол идти не хотелось.
Хрен, конечно, чего. Если Лина туда что и положила, то мусора, конечно, конфисковали все, как скоропортящиеся продукты, и сожрали сами. Зато меня порадовало то, что все мои вещи — во всяком случае, все, что рассчитывал обнаружить в пакете, оказались на месте. А значит, грязью я здесь не зарасту и от холода не подохну. Хотя какой уж там холод? Не продохнуть. Но ведь впереди зима, а в том, что пробуду здесь до зимы, я был сейчас совершенно уверен.
— Ты, Коста, вот что, — Бахва положил руку мне на плечо. — Мешок положи пока к Картине на шконку. — Он кивнул туда, где сидел пацан в белой майке. — А пообедаем, расскажешь нам про себя, и определим тебе место. Ты не менжуйся, цивильное место. Один будешь там, как буржуй. — И переключил внимание на свою свиту. — Айда к столу, пацаны. Чего-то на хавчик пробило. Ты, Kоста, тоже. Два раза в этих местах не приглашают.
«Здесь много чего еще не делают, — грустно подумал я, без излишней стеснительности забрасывая пакет на шконку Картины. Пора начинать, учиться. Итак, вперед на первый урок. 3воночек уже прозвонил».
И я поспешил занять место за накрытым столом.
* * *
Из-за стола мы выбрались лишь через пару часов. И как же много я за это время узнал! Вот только сначала пришлось рассказывать самому.
— Ты только не ври, — сразу предупредил меня Бахва и принялся задавать вопросы.
Врать я и не собирался. Мне нечего было здесь скрывать. Ничего криминального по здешним понятиям за мной не водилось. Я не был ни голубым, ни педофилом, ни бывшим ментом. Даже не служил в армии во внутренних войсках. Правда, опасался, что мне не поверят в том, что никого я не убивал и меня просто подставили. Но наговаривать на себя не собирался и поведал свою историю без прикрас и преуменьшений именно в той тональности, как она представлялась мне. Со всеми мельчайшими подробностями.
Дослушав меня до конца, Бахва задал пару вопросов — меня поразила их емкость и точность — и, внимательно выслушав ответы на них, подвел итог:
— Короче так, Коста. Не первый ты здесь без гpеxoв. И далеко не последний. Каждый десятый, пожалуй, в «Крестах» без вины чалится. Кого-то потом выпускают, кого-то только из зала суда. А кого-то все ж на этап. Много таких. — Он вздохнул. — Эх, много, кто за других нары грет. Так что ничего нового я в твоей истории не услышал. — Бахва откусил от бутерброда, прожевал и продолжил: — Знавал я эту Смирницкую. Крутая бабенка. И дура по жизни, не береглась. Так и должна была кончить… И того, кто ее замочил, найти ох непросто! А мусорам закрывать дело надо?.. Надо, братан. И потому они от тебя уже не отцепятся. Копать под тебя раз начали, так накопают чего-то. В этом они спецы. А тот, кто и правда Смирницкую помочил, на воле гуляет, но скорее, в могилке уже лежит. Или на свалке его сожгли. А нож и рыжье — это он тебе и подкинул. А потом ментам парашу пустили: ищите, мол, там-то и там-то. А они и доволны. Им того только и надо. Им только дай, кого посадить и отчитаться.
— Так считаешь, что дело труба? — спросил я..
— Tpубa, Коста, труба. — Бахва покачал головой и макнул в соль пучок зеленого луку. — Ecли, конечно, нет, кому за тебя заступиться. А я так понимаю, что нет? — Он вопросительно посмотрел на меня. Я молча покачал головой. — Такого-то и искали. Схема стандартная, как говорится. Классика жанра. Ничего нового, тысячи таких развели или на фишки подставили. Вот и ты теперь один из них, брат. И крутить тебя будут по полной программе. Менты так нажмут, что взвоешь и в конце концов все возьмешь на себя. А устоишь и уйдешь в несознанку, так найдут, как тебя замочить. Чтоб ты, значит, в могилу, а дело в архив. Вот такие делишки, скажу тебе Коста… — Бахва еще раз вздохнул. — Хреновые, скажем, делишки. Крепко тебя зацепило.
«Несладкий, прямо скажем, итог», — с грустью подумал я, но решил не унывать раньше времени. Не таким я был человеком, чтобы сразу сдаваться, и если у меня и бывали минуты слабости, то это было лишь редким исключением, но никак не привычным состоянием души.
И я, отбросив упаднические мысли, отложив их на потом, принялся внимательно слушать, о чем говорят за столом, стараясь побольше намотать на ус, побольше вынести для себя из этого бесплатного урока. Хотя говорят, что на зоне ничего бесплатного не бывает. А потому я старался не особо налегать на чужую еду. Впрочем, похоже, что за нее я уже расплатился авансом, двинув в подлых смотрящего камеры.
Кроме Бахвы, компанию мне составляли еще три человека — именно те, что сидели на шконке Картины, когда смотрящий загибался от тахикардии, а я лишь собирался ему помочь. Итак, по порядку.
Леха Картина был профессиональным каталой-лобовиком. На воле он играл исключительно в «сочинку», на зоне исключительно в рамс. С этого жил, и жил при этом шикарно. Эта была лишь его вторая ходка. Первая по малолетке — за нанесение тяжких увечий. Тогда-то он и выучился играть в карты. Откинулся, переквалифицировался с рамса на преферанс и сразу зажил по-человечески. И жил так пятнадцать лет, пока снова не залетел, совсем уж по дури. Пришел домой в непривычное время и обнаружил свою молодую жену и лучшего друга в том положении, которое принято называть интересным. Леха тогда был порядком подвыпивши, а то никогда бы не сделал того, что сделал тогда, — а именно, достал пистолет, который обычно носил с собой на катран,[10] и спокойно прикончил обоих любовничков. Сперва жену, потом друга. И с чистой совестью отправился спать. А утром, проспавшись и пораскинув мозгами, решил, что, чем пускаться в бега, проще явиться в мусарню с повинной. Убийство по ревности, в состоянии аспекта. Много за него не дадут, а жизни на зоне он не боялся. Знал, что с картами там не пропадет. За полдня он привел порядок свои дела и прямиком отправился в ближайшее отделение. И вот он здесь, в камере четыреста двадцать шесть, уже четыре неполных месяца. Хрустит малосольным огурчиком, надеется на скорый суд и совершенно доволен жизнью.
Пионер (по паспорту его звали Тимуром — отсюда, наверное, и подобное погоняло) руководил, как выражаются мусора, устойчивой преступной группировкой, специализировавшейся на угонах новеньких «Ауди» и «Фольксвагенов». Про то, как работал, он не распространялся и вообще был очень немногословен. Лишь сказал мне, что его подставили конкуренты. Он даже вычислил, кто. И уже отправил на волю маляву кое-кому кое с каким поручением. С каким именно, додумывать он предоставил мне, полагая, что я не ошибусь и пойму правильно. А я понял все в мере своей испорченности и предположил, что киллерам в текущем месяце подкинут пару хороших заказов. И в Питере запахнет очередной бандитской войной.
По моим прикидкам Пионеру было около сорока. Он был невысок и худощав и, тем не менее, от него исходило ощущение силы и даже жестокости. Я решил, что с таким человеком ухо надо держать востро. Паша, или Папаша, был банальным быком, на воле сшибал с коммерсантов «налоги», плющил рожи, если они пытались рыпаться, и выполнял другую черновую работу. Взяли его по совокупности — начиная от самоуправства и заканчивая вооруженным сопротивлением сотрудникам милиции. Это был накачанный боров лет двадцати, с рожей гиппопотама и интеллектом гориллы. Здесь он выполнял роль профоса и был рад, что сумел устроиться на теплое место. Он наводил ужас на всех обитателей камеры, но был послушной игрушкой в руках Бахвы, Картины и Пионера. В их узкой компании он исполнял роль шута, над ним постоянно подтрунивали, и он нисколько не тяготился таким своим положением. Главное, чтобы Бахва почаще предоставлял возможность размяться на ком-нибудь из сокамерников…
— Ладно, пора и честь знать, — затушив окурок от «Мальборо» в пластмассовой мыльнице, заменяющей пепельницу, заметил смотрящий. — Коста с дороги. Устал. Не спал сколько ночей. Мусора его пиздили. Папаша, — он обратил взор на сыто хлопавшего маленькими глазками здоровяка, — освободишь шконку свою. Сам сгони Вальта и Серегу, пускай уплотняются. Отдыхай теперь на их месте. Давай действуй.
Паша-бандит даже и не подумал возражать, быстренько выбрался из-за стола и полез на третий ярус ближайшего к месту смотрящего спального сооружения. На втором ярусе, насколько я понял, спал Пионер. Ну, а на первом — там, где сейчас лежал мой пакет. — Леха Картина.
Я поднялся из-за стола следом за Пашей, церемонно поблагодарил за хлеб, за соль и, прихватив с собой туалетные принадлежности, отправился умываться и бриться. А то ведь, свинья такая, уселся обедать, даже и не подумав о том, что грязи на мне сейчас, как на оленеводе.
Я не спеша прошел к санузлу, провожаемый любопытными взглядами и сам с интересом наблюдая за тем, какой жизнью живет моя камера.
Спали здесь в две смены поближе к смотрящему и в три, а то и в четыре, поближе к параше. Иначе никак — камера была рассчитана мест на тридцать — на сорок, но менты согнали сюда не меньше ста человек. Вот и кричи после этого о демократии и правах человека.
Итак, все верхние спальные места были заняты. Были заняты места и под нарами. Из тех, кто ждал своей смены, кто-то варил чифир, кто-то чинил какую-то одежонку, кто-то читал, но в основном братва, сбившись в кучки, просто травила байки.
По всему пространству было развешано на просушку выстиранное тряпье, и из-за этого камера казалась меньше, по крайней мере, в два раза. В углу у двери я обнаружил за куцей занавесочкой самый обычный, чистый, как в платном общественном туалете, унитаз с самодельным фанерным рундуком. Рядом — проржавевшая мойка и медный кран, который можно смело сдавать в антикварную лавку.
Я отогнал от умывальника невзрачного доходягу, стиравшего драные до невозможности, наверное, единственные трусы, скинул с себя футболку и, сжавшись от холодной воды, помылся до пояса. Ниже я не решился. Надо будет спросить у Бахвы, как здесь попадают в баню? И выяснить, кому сдавать в стирку вещи? М-да, похоже, что в первые же часы пребывания здесь я успел обнаглеть до предела. Но, как бы это мне не претило, без наглости здесь не прожить. Наглым дорога, наглым почет. Это закон. И никуда от него не деться.
Я вернулся в свой угол, обратил внимание, что за нами со стола убирает толстый седой мужичок — наверняка тот, которого Бахва назвал Корваланом, когда распоряжался накрывать нам обед. Потом я перевел взор на устраивающегося спать смотрящего:
— Как себя чувствуешь?
— Полный ништяк, — радостно ухмыльнулся он. — Ты бы, Коста, печень мне еще подлечил.
— Что, болит?
— Дает себя знать иногда, — пожаловался Бахва. — Вот поспишь, я тебе расскажу.
Я кивнул:
— Катит. Расскажешь. Подумаем, что можно сделать в здешних условиях.
— Там наверху Папаша тебе подушку оставил. И одеяло. Пользуйся на здоровье. А простыней здесь, братишка, не держат, — ухмыльнулся смотрящий. — Не на курорте.
— Ничего, не принцесса, — сказал я и полез по удобной лесенке на свой верхний этаж. И впервые за последние четыре дня понял, что смогу поспать в почти человеческих условиях. Если, конечно, не брать в расчет постоянный свет, влажную вонючую духоту, гул голосов, отсутствие постельного белья, узость постели и отсутствие бабы под боком. Да если бы еще неделю назад кто-нибудь предложил мне поспать в условиях даже в десять раз лучше этих, я бы плюнул этому фантазеру в рожу!
Эх, и как же мы порой не умеем ценить того, что имеем!
Глава 6. Подстава
К следаку меня вызвали на следующий день.
Опять был длинный путь по переходам и лестницам с руками, заложенными за спину, и постоянным тыканьем физиономией в стены. Но на этот раз я шел под конвоем с настроением не в пример лучшим, чем накануне, когда меня вели в неизвестность. Правда, и сейчас злодейка-судьба волокла меня незнамо куда, и я даже близко не представлял, что меня ждет в комнате для допросов. Мрачные пророчества Бахвы о том, что меня будут крутить по полной программе, засели огромной занозой у меня в голове, и как я не пытался, не мог заставить себя не верить смотрящему хотя бы наполовину.
— Заходи!
Я очутился в комнате, как две капли воды, напоминающей ту, какая была в ИВС. И даже Муха с Живицким встретили меня на тех же местах и в тех же позах. Прокурор сидел за столом, адвокат пристроился на неудобном стульчике у самой стены. «Они что, — подумалось мне, — всегда и везде ходят парой? Этакие друзья-любовнички? Ну и подсунули же мне доктора».[11]
— Добрый день, гражданин Разин, — с улыбочкой произнес следак и указал глазами на стул. — Присаживайтесь.
— Добрый день, — в свою очередь скрипнул Живицкий.
Я им совершенно по-хамски ответил:
— Угу. Действительно, добрый. Вы, как всегда, правы.
Муха не обратил на мою иронию никакого внимания. Вместо этого безразлично спросил:
— Жалобы? Пожелания?
— Я хотел бы получить свиданку с супругой. Если нельзя — то хотя бы узнать о ней. И, может быть, получить, передачу.
— Ну почему же нельзя, — криво ухмыльнулся следак. — И свиданку можно, и дачку. Так? — Он вопросительно посмотрел на Живицкого, и тот поспешил согласно кивнуть головой. — Та-а-ак, Константин Александрович. Но скажу вам банальность: многое, очень многое, — он многозначительно поднял вверх указательный палец, — зависит oт того, как мы с вами поладим. А это мы сейчас и увидим.
И он вцепился в меня, как бультерьер.
А не желаю ли я изменить свои показания? A уверен ли я в том, что совершенно не знал Смирницкую? Как так может случиться, что, живя по соседству, не повстречал ее хоть один раз на улице? А зачем я стер все свои отпечатки у нее в доме, когда обнаружил хозяйку мертвой? Ах, я стер лишь отпечатки на дверной ручке, а внутри вообще ничего не ляпал руками? А почему не ляпал, чего я боялся? А чего боялся, когда избавлялся oт отпечатков на ручке? А почему у меня была такая крамольная мысль — не сообщать ничего о найденном трупе? А знал ли я в тот момент, что подобное может преследоваться законом? А не решил ли я изменить свои первоначальные намерения и все-таки позвонить в милицию только тогда, когда понял, что меня зaметили выходящим из дома? А почему я мялся, не сразу отвечал на вопросы супружеской четы Ковальджи и явно был растерян при неожиданной и явно незапланированной встрече с ними? А знал ли я о наличии проема в ограде между моим участком и участком Смирницкой? Ах, не знал (с эдакой легкой ехидцей)… но как такое может быть, что человек, постоянно проживающий в некоем доме, не знает о том, что творится всего в двадцати метрах от окна его спальни? А как я могу объяснить то, что от моего дома к дому Смирницкой через проем в ограде протоптана в траве тропинка, заметная даже невооруженным взглядом? Ника-а-а-ак?!! Но тогда как я могу объяснить то, что на досках забора, обрамляющих проем, обнаружены две текстильных нити — одна из моего свитера ручной вязки, в котором, по свидетельству супруги, я очень любил ходить дома в холодное время: другая из моей красной фланелевой рубашки, которая была обнаружена на спинке стула у нас в гостиной? Кстати, на это есть уже заключение экспертизы.
— Я хочу посмотреть заключение, — с трудом выдавил я из себя, переведя дыхание. Даже дебил понял бы, что нитки в проеме забора — это серьезно. Из этих «текстильных нитей», как сказочный солдат из топора, менты легко могут сварить отличную кашу и накрутить на меня такого!.. В этот момент я подумал, что тропинка, проем и две нитки от моих шмоток — это и есть козырный туз в рукаве прокурора, который он сейчас и выложил на ломберный столик. Как же я в тот момент заблуждался! — Так я хочу посмотреть заключение экспертизы!
Муха не сводил с меня своих холодных глазенок и улыбался, паскуда! Как же победно он улыбался! Потом запустил лапу в свой пухлый портфель и извлек наружу несколько листов бумаги.
— Пожалуйста, гражданин Разин. Вот протокол осмотра прилегающей к месту совершения преступления территории. Там есть все — и про тропинку, и про проем, и про две ниточки. Все по закону, все с понятыми… — Он ликовал. Он наслаждался. Он жадно хлебал свою маленькую победу сразу двумя столовыми ложками… — Все снималось на видеокамеру.
Я бегло проглядел протокол, потом повернулся к Живицкому.
— Вы с этим знакомы?
— Да, я все прочитал. Все по закону, никаких замечаний. Правда, во время осмотра я не присутствовал, — как бы извинился он передо мной, — но я и не обязан.
Я лишь пожал плечами и опять повернулся к Мухе:
— Дальше.
— А дальше, Константин Александрович, протокол изъятия свитера и рубашки. Все также снималось на видеокамеру. Здесь, — он протянул мне еще несколько листов бумаги, — показания вашей супруги и брата о том, что вещи действительно принадлежат вам. Здесь же их расписки в том, что они оба поставлены в известность о своем праве не давать показания против ближнего родственника.
— И они все-таки дали?! — поразился я.
— А какой смысл упираться? — развел руками следак. — Эти вещи опознали бы другие жители поселка. Мне просто пришлось бы потратить на это время. К тому же и рубашка, и свитер были обнаружены у вас дома.
С ним было трудно не согласиться. Он был, как всегда, непробиваем. Хорошо подготовился, сволочь. Прав оказался Бахва, когда говорил, что менты вцепились в меня мертвой хваткой и уже не отпустят. Прав оказался он — прав!!! — что подставляют меня по полной программе и очень профессионально!
— Вы с этим знакомы? — я снова обратился к Живицкому, хотя заранее знал, что он ответит.
— Да, здесь все по закону. Никаких замечаний.
«Черт! — выругался я про себя. — Что за урод-адвокатишка? Просить, чтобы мне предоставили другого? Предоставят. Такого же. Продажного насквозь. Так что нет никакого смысла пытаться что-нибудь изменить».
— Дальше, — процедил я сквозь зубы. Муха протянул мне еще две бумаги.
— Одна — заявка на экспертизу, другая — собственно заключение, — пояснил он.
Я даже не стал их просматривать. Я и так знал, что в них «все по закону», все аккуратненько. Но все же для очистки совести бросил взгляд на Живицкого. Он молча кивнул. Да и только… Сволочь!!!
— Теперь у вас есть, что добавить к своим показаниям, Константин Александрович? — вцепился в меня взглядом Муха.
— Да, — продекламировал я. Я считаю, что меня подставляют. Более того, я в этом уверен. Так и запротоколируйте. И попробуйте поискать какую-нибудь другую версию. А сейчас оставьте меня наедине с адвокатом.
— Не-е-ет, Константин Александрович, — радостно пропел прокурор. — Я с вами еще не закончил. Итак, продолжаем допрос.
И он опять принялся убеждать меня в том, что Смирницкую шлепнул именно я. И занимался этим сволочуга-следак еще больше часа. Рассказывал мне о том, что одним точным ударом ножа, да еще и кухонного, сразу убить почти невозможно. Это может сделать только убийца о-о-очень высокой квалификации. Или врач. А я врач-то и есть. И вообще…
Тут он изложил мне свою версию преступления. Мол, познакомился я со Смирницкой еще в самом начале лета. И почти сразу мы стали любовниками. Я по ночам шастал к ней в гости через проем в заборе, предварительно, чтобы случайно не обнаружила моего отсутствия, подсыпав жене снотворного, в дозировках которого хорошо разбираюсь. К тому же тогда я, как врач, имел к нему доступ. (Я поразился: «Ну и фантазия у этого прыщавого лопуха!») Вскоре Смирницкая мне надоела, или начала шантажировать, что грозило мне разводом с женой, чего я очень хотел избежать. И я решил избавиться от назойливой любовницы.
— Почему же я выбрал для этого такую ночь, когда Ангелина не легла, как обычно спать, накачанная мною снотворным, а возилась с грибами внизу? — ехидно поинтересовался я. — Кстати, пройти мимо нее незамеченным, чтобы выйти на улицу, я бы не смог.
— Вот! — поднял вверх указательный палец следак. — Вам, Разин, было нужно хоть какое-то алиби. Вы же не курсе, что алиби, подтвержденное близкими родственниками или друзьями, следствием в расчет практически не принимается, и очень рассчитывали на показания своей супруги. Также вы посчитали, что если она скажет, будто вы легли спать вместе вечером и проснулись утром, а за всю ночь она ни разу не просыпалась, то это может насторожить следствие. Другое дело, если супруга даст показания, что она всю ночь проработала внизу возле входной двери, и вы пройти мимо нее никак не могли.
— Так как я все же прошел незамеченным?
— Спустились вниз по наружной лестнице.
У этого Мухи на все были ответы!
— Да эта лестница развалилась бы подо мной при первом же шаге! — воскликнул я. — Вы хоть ее видели?
— Видел, видел, — улыбнулся мне прокурор. — И даже поднялся по ней наверх. И спустился вниз. А мы с вами, чаю, в одной весовой категории.
«Да ты отчаянный тип! — подумал я. — Если, конечно, не врешь, что действительно ползал по этой лесенке. Жаль, что она тебя выдержала».
— Ладно, предположим, что вы, и правда не грохнулись вниз, — произнес я. — И предположим, что я мог ночью уйти из дома этим путем. Но почему я не боялся, что жена поднимется наверх и обнаружит мое отсутствие?
— Оправданный риск, развел руками следак. — К тому же вам потребовалось бы не более часа на все про все.
«На все про все… — передразнил его я. Добежать до Смирницкой, воткнуть в нее нож, собрать золотишко, вернуться назад, достать из сарая лопату, выкопать две ямы в саду? И на это не более часа? Я, наверное, тренировался, как минимум, месяц!
Скотина следак оставался невозмутим.
— Именно так, не более часа, — спокойно заметил он.
По-моему, этот дурак просто играл в комиссара Мегрэ. И единственной пешкой, которой он манипулировал в этой жестокой игре, был я.
— Кстати, насчет снотворного, — продолжал следак. — Вот что меня натолкнуло на подобную мысль. Во время обыска у вас в доме мы проверяли аптечку. Тогда, по незнанию, я не обратил внимания на один небольшой нюанс, но потом что-то, — наверное, интуиция — заставило меня вернуться к нему, прихватив с собой консультанта. Специалиста, так сказать, в этих вопросах. Два дня назад мы перебрали лекарства и… — Он таинственно замолчал. Состроил на роже выразительную гримасу.
— Что «и»? — не выдержал я.
— Богатая, скажу вам, аптечка. Все есть, на все случаи жизни. Натаскали, наверное, с работы?
— Владимир Владимирович! — неожиданно крякнул со своего места Живицкий. Я даже вздрогнул. Вот уж не ожидал. — Если вы желаете предъявить Разину обвинение в краже в официальной, так сказать, форме, милости просим. А сейчас я порекомендовал бы вам извиниться.
— Приношу извинения. — поспешит пробурчать Муха. — Так вот, среди прочего, мы обнаружили там пузырек с… — Прокурор забыл название и начал суетливо хлопать себя по карманам. Должно быть, в поисках шпаргалки, на которой записал мудреное слово.
— Наверное, диморфозол? — пришел ему на выручку я.
— Да, точно. — обрадовался следак. — Скажите, зачем вы держали дома это очень сильное, как мне сказали, снотворное?
— Ваш консультант дилетант, — усмехнулся я. — Диморфозол применяют для снятия болевого шока, но совсем не как сонник. Хотя эта штука из группы морфинов и побочное снотворное действие, конечно, имеет. Но я не такой дурак, чтобы давать жене эту отраву. Во-первых, дороговато. Во-вторых, наутро Лина чувствовала бы себя, как после хорошей попойки. Так что я подобрал бы ей что-нибудь побезобиднее. Уж в этом, поверьте, я разбираюсь.
— Тогда, Константин Александрович, объясните, пожалуйста, для чего вы применяли это лекарство? — прошипел Муха. — У кого-то был болевой шок?
— Ни для чего не применяли, — огрызнулся я, — Вы, наверное, не заметили, Владимир Владимирович, что пузырек закрыт и полон. Я держал его дома на экстренный случай. Мало ли, что может случиться на даче.
— Да уж, всякое может случиться, — притворно вздохнул прокурор. — Скажем, кого-нибудь могут зарезать… Константин Александрович, пузырек открыт и в нем только половина лекарства.
…Оказывается, подспудно к этому известию я оказался готов. Просто еще не сознавал того, а на самом деле последнюю минуту, пока шел разговор о диморфозоле, у меня в голове уже выстраивалась, как из мозаики, картинка того, что же произошло со мной на самом деле. Этакая страшненькая картинка. Этакая страшилка…
Лина!!! Неужто ты?!!
Во-первых, когда-то я заставил жену выслушать подробную лекцию о том, что за лекарства у нас в аптечке, от чего они и как применяются. Даже составил подробную памятку, где о диморфозоле было написано, что в крайнем случае его можно использовать в качестве сонника.
Дальше — больше!
Во-вторых, странный металлический привкус у чая в тот вечер накануне убийства.
И почти моментальный отруб. Я чудом успел добраться до спальни — морфины всасываются в кровь почти моментально!
А как мне было хреново наутро!
О Боже! И почему же я не додумался сразу?! Как же я не сумел сам себе поставить диагноз?! И что же я за кретин!!!
Лина! Анже-э-эла!!! Зачем?..
«Да затем, чтобы снять с тебя, бесчувственного дурака, отпечатки пальцев, — пискнул мой внутренний голос. — На ножик, которым убили Смирницкую. На золотишко. Так что готовься к сюрпризам, Константин Александрович».
Мне сразу все стало ясно и с тряпками, в которые были завернуты побрякушки и нож. И с тропинкой к Смирницкой. И с проемом в ограде. И с ниточками от моих вещей, которые Муха отправил на экспертизу. Я понял, почему так гладко вышла подстава.
Как здорово иметь своею агента рядом с лохом, которого хотят поиметь!
Вот только в одно я никак не мог поверить. Как моя дура-жена ни разу не проговорилась о том, что замышляется против меня? Ведь язык у нее за зубами не держится совершенно. К тому же, она вообще никакая актриса. А ведь ни единым словом, ни единым движением не выдала ни передо мной — дилетантом, ни перед профессионалами — мусорами того, что ей все известно. Какие железные нервы для этого надо иметь?! Какой трезвый ум иуды-прагматика?! Что же случилось? Неужто я был настолько слеп, что за три года не сумел разобраться в жене? Неужто…
— Константин Александрович? Гражданин Разин? — откуда-то издалека звучал голос прокурорского следака. — Ау, очнитесь, подозреваемый. —
Я тряхнул головой и заставил себя вернуться в реальный мир. — Может, водички? — с интересом глазел на меня Муха. — О чем задумались. Константин Александрович? Если, конечно, не секрет.
— Пока пусть это будет секретом, — пробормотал я. — До следующей нашей встречи. Лады?
— Как скажете, Разин.
— И еще одна просьба. Я бы хотел закруглиться на сегодня с допросом. Мне надо пораскинуть мозгами. А в следующий раз я вам очень о многом скажу.
— Идет, — обрадовался следак. — Так давайте до завтра.
— Только за час до нашей встречи я хотел бы наедине побеседовать с адвокатом, — попросил я. — Тоже идет, — согласился Муха. — Я все организую.
— И еще организуйте, пожалуйста, мне свиданку. Желательно, тоже завтра.
— Ну-у-у, — замялся следак. — Все будет зависеть от того, что вы мне завтра…
— Расскажу очень о многом, — перебил его я. — Впрочем, я даже хочу не свиданку. Я хочу очную ставку с Линой. В вашем присутствии.
Муха удивленно пожал плечами и неопределенно промямлил:
— Ничего не могу обещать. — Он нажал кнопку вызова конвоя, и в дверях тут же нарисовался вертухай. — Значит, до завтра, гражданин Разин. — До завтра, — кивнул я.
До завтра, Муха Владимир Владимирович.
До завтра, сучка-Линка. Я очень надеялся на очную ставку, на которой сумею ее расколоть. Или хотя бы зародить сомнения в душе следака.
— Ну, давай, проходи! — рявкнул мне в самое ухо конвойный.
И, быть может, завтра появятся перспективы на то, чтобы выбраться из этого — будь он неладен! — казенного дома.
Главное, теперь у меня снова появилась надежда.
* * *
— Никакой не будет свиданки, — заметил Бахва, когда я изложил ему всю схему подставы. — И не будет тебе очняка. Без иллюзий, братан. Мусорам нужен ты, а не твоя дура-жена. И сажать они будут тебя. А баба твоя… она же чего-то знает, раз поучаствовала в этой туфте. А значит, через нее можно выйти на людей покрупнее. А они ж не хотят, чтобы на них выходили. И купили для этого, может быть, и следака твоего, и доктора. И вот нарисуй себе тему такую: следак уже позвонил туда, куда надо, и говорит, мол, клиент наш чего-то пронюхал. Чего-то он там у себя в голове замутил. Вдруг ушки поставил торчком и требует бабу свою не на что-нибудь, а на очняк. А вдруг она петь там начнет?! Как бы кипеж не вышел из этого. — Бахва насадил на свой нож-выкидуху бутерброд и протянул мне. — Ты, хавай, Коста, хавай. Обессилишь с голодухи совсем. Кто тогда нас будет лечить?.. Так вот о чем я, короче. Базарит следак так по телефончику хозяину своему, а хозяин, тот сразу: «Баба паленая». И быкам: «Так, пацаны. А езжайте-ка вы в Лисий Носок по такому-то адресу, возьмите там шкуру такую-то, проприте ее во все дыры, да выкиньте в море подальше. Да так, чтоб не всплыла». А потом и о тебе позаботится. Опасен ему ты, братан, потому как не дурачок, потому как, навроде, разобрался во всей этой туфте. И могут выйти ему через тебя бо-о-ольшие головняки. А значит, мочить тебя надо. И ведь замочат, проще простого.
— Прямо здесь? — поинтересовался я, проглотив кусок бутерброда.
— В этой камере не достанут. Так ведь есть и другие, а перевести тебя — это раз плюнуть. Про пресс-хаты, слышал, наверное?
— Что-то…
— Так вот из этих пресс-хат выносят таких, навроде тебя, либо жмурами, либо инвалидами опущенными. Понимаешь? И не люди они уже после этого. Не проживают и года.
— Ты считаешь, меня могут туда? — пронзительно посмотрел я в глаза Бахве.
— Бухгалтер считает. А я тебе говорю, и ты меня слушай, потому как я жизни этой до икоты похавал. Почти тридцать годочков на круг… Так вот, слушай сюда. Костоправ. Дам тебе завтра я лезвия половинку. Пойдешь на допрос, зажми его между пальцами. Вот так. — Бахва продемонстрировал на сигарете, как я должен держать половину бритвенного лезвия, чтобы его не обнаружили при шмоне. — А с допроса если вдруг поведут не сюда, приготовься. Как зайдешь в пресс-хату…
— Как я пойму, что это пресс-хата?
— Не перебива-а-ай, не имей привычки такой! Короче, сразу поймешь, что ты именно там. Не видел я еще зека, что сразу не докумекал, куда его привели. Воздух там какой-то другой. Смертью воняет. И вот ты заходишь туда, стоишь на пороге, дверь за тобой закрывается. А эти идут к тебе уже, брат. Дальше не медли. Промедлишь — погибнешь. Бери бритву и поперек живота. Да сильно. Не так, чтоб царапина, а так, чтоб все кишки наружу. Да не мне же тебя учить, как брюхо вскрывать… И вот, короче, кишки наружу. Не тронут тогда, сами в дверь постучат. И поедешь в больничку, а там за неделю тебя откачают.
— И снова в пресс-хату? — спросил я.
— Не-э-эт… — Бахва щелкнул дорогой зажигалкой, прикурил и выпустил вверх мощную струю дыма. — Не бывает такого, чтоб туда второй раз. Тут даже легавые на тебя начнут смотреть по другому. Все понял?
— Нет.
— Спрашивай.
— Что мне завтра говорить следаку и адвокату?
Бахва задумался. Я терпеливо ждал. Наконец, он махнул рукой и вздохнул:
— Ладно. Раз уж начал… Так им и говори, как собирался. Все — так. Да последи, как себя держать будут, когда от тебя это услышат. О-о-очень много сможешь увидеть, если захочешь. А если вдруг бабу твою приведут, так не стесняйся, еби ее по самые гланды, чтобы трешала. Чтобы кололась, пизда. А как начнет ее на слезняк пробивать — мол, Костенька, да как ты мог такое подумать? — не поведись, не дай слабины. Только. — Бахва снова махнул рукой, — не приведут тебе бабу. Не верю я в это. Хотя… всяко бывает. Всего не учтешь.
Действительно, всего не учтешь. А поэтому учитывать надо худшее. И я твердо решил, что пойду завтра на допрос с бритвой, как мне и советовал Бахва. И если потребуется, сделаю себе харакири. Вот только достанет ли у меня на это духу? Ведь я даже боюсь сам себе делать уколы. А тут такое?! Нет, я должен вскрыть себе брюхо, если припрет обстановка. Обязан! Иначе хана. Иначе я перестану быть человеком. Умру — если и не телесно, то душой обязательно. А я очень хочу дожить до того счастливого мига, когда смогу посмотреть в глаза Ангелине. Один на один. Без свидетелей. И задать ей кое-какие вопросы.
Чисто автоматически, думая совсем о другом я осмотрел, как сумел, Бахву. Обнаружил, что у него действительно увеличена печень, и, не мудрствуя, назначил ему курс безобидных, но действенных карсила и эссенциале.
— Если позволят легавые держать здесь системы, — сказал я ему, — я бы тебя немного покапал.
— Какие системы? — не понял смотрящий.
— Ну, капельницы.
— А-а-а… Решу. Мне все позволят.
Не успел я закончить с одним пациентом, как ко мне тут же подкатился другой.
— Слушай, Коста, — пожаловался Картина, — чего-то у меня со спиной нелады. Как вдруг шибанет, и звездец. Не продохнуть.
— На воле лечился?
— А! — махнул рукой Леха. — Все не собраться. Да и не часто прихватывало. А здесь каждый месяц колбасит.
— Подолгу?
— Дня по три — по четыре. Чего скажешь-то? Може, радикулит?
— В такой-то жаре? — усмехнулся я. — Скорее, почки. Или невралгия. Короче, как начнет в следующий раз колбасить, там и посмотрим.
— Ага, — кивнул Леха. — И вот еще что. Давай, научу тебя в карты.
— Хочешь меня обыграть? — ухмыльнулся я. — Так с меня ж нечего брать. Я даже дачек не получаю.
— Да не-е-е… Ты не понял. Ты меня лечишь, я тебе уроки даю. Все с нуля и под ключ. Как карты клеить, как колоду точить, как кропить, как обыгрывать В зоне не пропадешь. Да и на воле тоже. Как?
— Ништяк, — согласился я. — Вот завтра, если вернусь живой, так и начнем.
Картина расхохотался:
— Ну, ты в натуре! «Живой»… — он наклонился мне к уху и прошептал: — Ты старого слушай побольше. Он наплетет. Куда тебя денут? Конечно, вернешься. — И, пощелкав колодой, отправился к кому-то на нары играть в рамс.
Возможно, он сглазил. А возможно, просто ошибся. Ведь судьбу невозможно переиграть, какой бы крапленой у тебя ни была колода.
Короче, назавтра я не вернулся.
Глава 7. Пресс-хата
Как и учил меня Бахва, бритву я сжал между пальцами, и по закону подлости, рука конечно сразу вспотела. Весь путь до комнаты допросов я боялся, что половинка лезвия выскользнет под ноги конвойному.
Как мы вчера и договаривались, меня дожидался только один Живицкий, без следака.
— Вопрос с Ангелиной решен? — сразу же перешел я к делу и получил ответ, который больше всего и ожидал.
— Придется все это отложить примерно на месяц. Ваша супруга в больнице.
— Что-то серьезное? — насторожился я.
— Нет, нет. Что вы? — расплылся в широкой улыбке Живицкий. — Нервный срыв. Вы поймите, сколько же ей, бедняжке, пришлось пережить за последнее время. И вот результат. Ее поместили в больницу на Пряжке. Я узнавал — курс лечения сорок пять суток. После этого я, конечно, вам устрою свидание.
Я про себя рассмеялся: эти ублюдки считают, что успеют дожать меня за сорок пять суток. Или, в крайнем случае, продлят Ангелине курс лечения. В психушке можно его продлевать сколь угодно. Удачную же они выбрали больницу. И удачный диагноз — он так хорошо вписывается в сценарий.
— Вы хотели о чем-то мне рассказать, Константин? Или просто посоветоваться, определить, так сказать, линию поведения? — вкрадчивым тоном спросил меня адвокат.
— Да, я хотел рассказать. Вы помните, я вчера говорил о том, что меня подставляют?
— Конечно, я помню.
— Вы верите в это?
— Я обязан верить всему, что вы мне говорите, ибо я исхожу из того, что это исключительно правда. И ни капли фантазии. Потому что это в ваших же интересах. Лишь на таком паритетном доверии мы сумеем получить для себя наибольшие выгоды. И выиграть это несчастное дело.
Я усмехнулся. Какой же он словоблуд! Впрочем, это его профессия.
— Сейчас я вам скажу только правду, — заверил я адвокатишку. — И, поверьте, всегда буду говорить правду и только правду. И вам, и Мухе, ибо лгать мне нет смысла. Я невиновен, и это я сейчас вам докажу. Слушайте схему, по которой меня подставила Ангелина.
Я рассказывал и внимательно наблюдал за адвокатом, стараясь определить в его поведении хоть какое-нибудь отклонение от нормы, но он лишь кивал, как китайский болванчик. И слушал меня именно так, как родители выслушивают фантазии своего завравшегося ребенка.
— Мне кажется, Константин Александрович, что вы выдаете желаемое за действительное. На чем основано ваше, — я бы сказал, очень тяжелое! — обвинение самого близкого вам человека? Чай показался вам горьковатым, наутро вы чувствовали себя неважно… И только?
— Нет, не только! — возмутился я. — Добавьте к этому еще и исчезнувшее куда-то лекарство.
— Хорошо. Предположите такой вариант. Ваша супруга после такого удара, как ваш арест, была выбита из колеи настолько, что, естественно, не могла заснуть. Впрочем, как и любая другая нормальная женщина, в одночасье потерявшая любимого мужа, единственную опору в жизни. Промучившись до утра, Ангелина вдруг вспоминает, что в домашней аптечке есть лечебное средство, которое имеет снотворное действие. Конечно же, ваша супруга использует это лекарство. Для себя. — На последних двух словах Живицкий сделал ударение. — Теперь обратимся к горькому чаю. Вам, как медику, конечно известно, что усталость притупляет вкусовое восприятие…
— У людей с болезнями печени или эндокринной системы, — перебил я. — Или с болезнями мозга. Но не у меня. Я отлично знаю особенности своего организма. К тому же я помню, как меня вырубило сразу после этого чая. А уж действие морфинов я изучал. Правда, до этого случая, лишь в теории.
— Ох, Константин Александрович, — тяжко вздохнул Живицкий. — Я не могу с вами спорить, потому что точно знаю, что не смогу вас убедить. И знаете, по какой причине?
— По какой же?
— Вы признаете только свою правоту, и, остановившись на какой-нибудь версии, уже не можете с нее слезть. И в упор не замечаете альтернатив, которые валяются буквально у вас под ногами. — Живицкий бросил взгляд на часы. — У нас, к сожалению, нету времени, чтобы продолжить дискуссию. Сейчас должен подойти Владимир Владимирович. Но после допроса, оставшись наедине с собой, постарайтесь критически оценить свою версию о предательстве Ангелины. Попробуйте сами опровергнуть все аргументы, которые сейчас предъявляли мне. И я очень надеюсь, что у вас все получится. — И Живицкий с надеждой заглянул мне в глаза. Так по-отечески! Через сильные линзы очков его глаза казались большими-большими. Добрыми-добрыми.
Вах-вах-вах! Сейчас расплачусь!
А все же какой он омерзительный иуда! Я не сомневался в том, что он сам не верит в то, что сейчас мне плел. И отлично понимает, что я прав на все сто процентов, подозревая свою жену. Но ведь за то, чтобы я сел, деньги плочены, и надо их отрабатывать. А то, что в результате совершенно невиновный человек может легко залететь в лагеря лет этак на двадцать — это дело десятое. Деньги главнее всего остального — совести там или профессиональной этики. Если, конечно, этика или совесть имеются в наличии хотя бы в зачатках. Вернее, в остатках. Надо будет все же серьезно подумать о замене адвоката…
Муха не успел войти в комнату, как сразу взял быка за рога. Еще не устроившись за столом, он бросил мне на ходу:
— Вы вчера обещали, что сегодня я услышу кое-что интересное. Жду.
Что-то было незаметно, чтобы он ждал. Даже не уткнул еще свою задницу в стул, а уже обильно потеет от нетерпения. Ладно, не буду мучить несчастненького. И я, не спеша, с выражением, с расстановкой повторил следаку то, что час назад уже рассказывал адвокату, на этот раз внимательно наблюдая за поведением Мухи. И надо сказать, что, в отличие от Живицкого, он вел себя весьма неадекватно. Да и вообще сегодня он был весь какой-то неестественно взвинченный. Перепало вчера от хозяина по самое некуда? Возможно, возможно. Ах, как бы хотелось мне знать, кто этот хозяин! Кто руководит этим фарсом!
Муха слушал меня, не перебивая, до тех пор, пока я не обмолвился о том, что с меня, спящего, жена вполне могла снять отпечатки и на ручку ножа, которым пырнули Смирницкую, и на золотые побрякушки. Нервы прокурора не выдержали. Он покраснел, сильно хлопнул ладонью по крышке стола и взвизгнул:
— Все! Хватит! Не могу слушать весь этот бред! Ты отлично знаешь, что хватался и за нож, и за золото без перчаток и даже не позаботился потом стереть свои пальцы! И знаешь, что мы их найдем и идентифицируем! Подгото-о-овился, сочинитель… Да я подобной бодяги наслушался за годы работы, что уши уже… Во… — Он оттопырил себе одно красное ушко и наглядно продемонстрировал, что значит «Во…» — Короче, читай. — Муха выдернул из портфеля порох бумажек и бросил на стол.
Я даже не шелохнулся. Спокойно сидел нога на ногу и наслаждался видом мандражирующего следака. И соображал, а что бы ему еще такого добавить, чтобы добить окончательно. Чтобы хватил родимец прыщавого выродка. Уж очень хотелось хоть чуть-чуть отыграться за все те геморрои, которые нажил по его вражьей милости.
— Ознакомься! — снова взвизгнул следак и, не удержавшись, похвастался: — Здесь все. Заключение о том, что ширина лезвия соответствует размерам раны на теле терпилы. — Он так и сказал на ментовском жаргоне: «терпилы», а не Смирницкой. — Заключение о соответствии группы и резус-фактора крови, обнаруженной на ноже, и крови убитой. Заключение об идентичности отпечатков на ноже и побрякушках твоим, дурак, отпечаткам.
— Я знаю, что они должны соответствовать, — заметил я.
— Так и чего же ты… — встрепенулся Муха. — Чего же ты, сука, в несознанку играешь! Ведь пойми, что мне всего этого хватит, — следак прихлопнул бумаги ладонью, — чтобы оформлять дело в суд.
— Оформляйте, — решил поддразнить его я. — Я там устрою славное шоу.
— Да там тебе, идиоту, так прижмут яйца, что получишь вышак. А напишешь сейчас явку с повинной, я тебе организую по минимуму. И пойдешь в хорошую зону.
— Я не знаю, что надо писать, — тяжко вздохнул я, и у Мухи задвигались ноздри, как у лисицы при виде сурка. Ему пригрезилось, что вот-вот я готов расплакаться и начать колоться. — Мы сейчас вместе напишем, — поспешил он и тут же осекся, увидев мое лицо.
— Начальство напрягает, Владимир Владимирович? — участливо поинтересовался я.
Он в ответ лишь поиграл желваками.
— Напряга-а-ает, — продолжал донимать его я. Наверное, зря. — Я, конечно, не то в виду имею начальство, что в прокуратуре, а то, что в тени. То, что платит гораздо больше. А ведь, Владимир Владимирович, от меня это начальство избавится — тут же возьмется за вас. Не любит такое начальство тех, кто много знает. Ох, не любит. И мочит их, Владимир Владимирович, без церемоний. Так что через годик я буду отдыхать где-нибудь на таежном курорте подальше от Питера, а вы будете вариться в котле. Не думаю, что после того, как вас шлепнут, вы попадете в рай.
— Все! Довольно!!! — На этот раз Муха сотряс стол уже не ладошкой, а кулаком. Потом вскочил и упер в меня указательный палец: — По-хорошему ты не понимаешь, будем с тобой по-плохому. Даю последний шанс. Предлагаю: пиши явку с повинной. Потом это же тебе предложат другие. По-другому. Ну!!!
Я сжал пальцами бритву и послал Муху на фуй. Он покраснел от злости, как помидор, и рванул из комнаты.
— Зря вы так, Константин Александрович, — покачал головой Живицкий. — У вас могут быть неприятности. — У меня уже неприятности, — горько посетовал я. — Дальше некуда.
— Есть куда. Поверьте, я-то уж знаю.
Я тоже знал. Рассказал мне о таких неприятностях Бахва. И, кажется, оказался прав.
— Константин Александрович, — позвал меня адвокат, и я в ответ огрызнулся:
— Помолчим! Помолчим, понятно? — Еще не хватало мне выслушивать его мрачные пророчества. И без того на душе было тошно. Тошно до одури!
Живицкий испуганно кивнул и принялся протирать стекла очков. Я же развернул к себе один из листов бумаги, в запальчивости оставленных следаком на столе, и начал со скуки изучать заключение дактилоскопической экспертизы. Так мы и сидели в гробовой тишине минут пятнадцать, пока дверь не распахнулась и в комнату не ворвался Муха, а следом за ним здоровенный вертухай.
— Вста-а-ать!!! — заорал он, и я поспешил подскочить со стула. — Руки за спину! Ну, пшел!!!
Я на секунду замешкался, и конвоир наградил меня крепким пинком, придав мне ускорение в сторону двери. Где-то далеко-далеко в глубине комнаты для допросов ехидно хихикнул следак. Он был уверен, что я даже не представляю, на какую Голгофу меня сейчас поведут.
Но я представлял. И у меня между пальцами была зажата бритва — мой единственный шанс на то, чтобы выжить…
Опять бесконечные лестницы и мрачные коридоры, решетки с электрическими замками и стойка «рожей к стене, руки на стену» перед каждой из них. Совершенно другие, чем раньше, лестницы. Чужие коридоры. Незнакомые мне решетки. Этой дорогой меня еще не водили, но я точно знал, куда я иду. И не испытывал при этом ни страха, ни того мандража, что бывает порой перед боем, когда в кровь выбрасывается добрая порция адреналина.
Вообще никаких эмоций! Вообще никаких чувств! Лишь опасение, что, когда возле очередной решетки буду держать руки на стенке, обломок бритвы выскользнет из влажных от пота пальцев!
Но, видно, хранила меня Судьба, непутевого.
— Здесь стоять! — возле одной из железных дверей меня снова уткнули физиономией в стену и тщательно обыскали. Потом загремели засовы, и конвойный хмыкнул у меня за спиной:
— Молись. Идешь заниматься сексом.
Да, помолиться бы не мешало перед такой непростой операцией, как харакири. «Отче наш, иже еси на небеси…», — попытался припомнить я, перемещая обломок бритвы потными пальцами. Только бы суметь зафиксировать его пожестче, когда буду вскрывать себе брюхо. Только бы он не крутился.
— Заходи!
Я состроил на лице безразличную мину, не спеша пошел в открытую нараспашку дверь и замер на пороге.
Это был совсем иной мир, чем моя камера. Здесь было чище. Здесь было светлее. Здесь было уютнее. Здесь по-другому пахло. Нет, не смертью, а каким-то терпким, довольно приятным одеколоном. Где-то в глубине громко работал магнитофон, и музыка казалась приятной и мелодичной. Вот под эту-то музыку мне и предстоит чудовищное членовредительство. Никогда не подумал бы раньше, что подобное когда-нибудь может случиться со мной.
— Чего встал. Проходи, будь как дома, — прозвучат глухой бас и добавил ехидно: — Попку подмыл, петушок?
Их в камере было человек десять. Может, и больше, я не считал. Не до этого было мне, совсем не до этого. Левой рукой я зацепил футболку и выдернул ее из штанов. На то, чтобы медлить и изучать обстановку, уже не осталось времени. Ко мне вразвалочку уже направлялись два здоровенных типа с бритыми налысо головами. Впрочем, «направлялись» — сказано громко. Куда можно направляться в камере, вся длина которой не более десяти широких шагов? Ее можно всю перепрыгнуть в четыре прыжка.
Так вот, этим монстрам до меня оставалось меньше прыжка…
когда я напряг пресс, возблагодарил Бога за то, что у меня на животе совершенно нет жира, левее и ниже пупка поглубже вдавил лезвие внутрь и, скрипнув зубами, с невероятным усилием повел его вправо.
Ножом или скальпелем я бы провел эту операцию без проблем, но бритва совершенно не держалась в пальцах, и я панически боялся, что вот сейчас она выскользнет, уйдет полностью в брюшную полость и я не успею ее найти. И не закончу операцию. И сдохну.
А еще я ждал, что в любой момент на меня могут наброситься те двое гоблинов, которым до меня оставалось всего два шага. Скрутят мне руки… И все! Я оторвал взгляд от живота и затравленно посмотрел исподлобья на камеру.
Те двое, что направлялись ко мне, остановились и с нескрываемым интересом наблюдали за мной. Мешать мне они не собирались, хотели досмотреть бесплатное шоу, которое вдруг приятно разнообразило их монотонную тюремную жизнь. С их стороны можно было не ждать никаких помех, и я снова полностью сосредоточился на бритве, которая уже миновала траверз пупка.
Крови было довольно много, потому что я, насколько это возможно, продолжал держать пресс напряженным. Боли я совершенно не чувствовал. Вернее, что-то так, несерьезное. Во-первых, для настоящей, оглушительной боли еще не настало время. Во-вторых, не до своих ощущений мне было в этот момент. Не упустить бы из пальцев бритву. Главное, не упустить бритву!
Я вскрывал себе пузо, наверное, не более четырех секунд, но казалось, что от первого надреза до того момента, когда понял, что кишки полезли наружу, прошла тысяча лет. Или чуть больше.
И вот через эту тысячу лет вероломно, без объявления войны на меня навалилась дикая, словами не передаваемая боль. Она сковала все мое тело. Она пробралась в самые отдаленные уголки мозга. Она моментально разрушила все мои мысли и чувства. Во мне осталась хозяйничать только она, госпожа Великая Боль.
Наверное, я застонал и шмякнулся на грязный бетонный пол, подмяв под себя свои синие кишки. Наверное, кто-нибудь из обитателей камеры пнул ногой мое обмякшее тело и недовольно пробормотал: «М-мать твою, опять подтирать дерьмо за этими пидарами». Наверное, мне дали вдоволь поваляться без чувств, прежде чем пришел местный фельдшер и кто-то с носилками, на которые собрали мои потрохи и прилагающегося к ним меня самого. Наверное…
Наверное, все было именно так. А может быть, по другому. Не все ли равно? В таких ситуациях важен сам результат, а его я однозначно добился. Даже тройного результата: сумел отсрочить свою смертную казнь; утер нос прыщавому прокуроришке, продемонстрировав ему, с кем он связался; и, наконец, уже на третий день пребывания в «Крестах», приобрел здесь значительный авторитет. Теперь дело оставалось только за малым — суметь нормально перенести операцию и достойно справиться с перитонитом. И можно было отправляться назад в свою четыреста двадцать шестую камеру лечить больную Бахвину печень. И учиться карточным фокусам у Лехи Картины.
А главное, продолжать борьбу за свободу. Вернее, настоящую войну за свободу, потому что ничего иного прокуроришка Муха теперь ждать от меня не мог.
Глава 8. Люди в белых халатах
Первые два дня, которые я провел в послеоперационной палате, не запомнились мне совершенно. Сначала я очень мучительно и долго отходил от наркоза, потом спал, как новорожденный, почти сутки, иногда очухиваясь буквально на считанные минуты только затем, чтобы окинуть тупым бессмысленным взором палату и снова заснуть. Наверное, в капельницу добавляли какое-нибудь снотворное. А может, это просто была защитная реакция организма, и тогда спасибо ему за то, что все это время мне снились яркие красочные сны про волю. В этих снах было все, о чем я сейчас не мог и мечтать — бездонное голубое небо, безбрежные зеленые луга, могучие, гудящие на ветру, сосновые леса. И Ангелина. Она присутствовала везде, притом, постоянно на первом плане. Но это была хорошая, еще ТА Ангелина. Я ее очень любил, ТУ Ангелину. Я был беспримерно счастлив снова быть рядом с ней в ТОЙ бесконечно счастливой жизни.
Но на третий день вернулась действительность. Меня на каталке перевезли и обычную хирургическую палату, под завязку набитую синими от наколок человеческими телами. Палату, насквозь пропитанную запахами мочи и нечистого постельного белья. Палату, в которой царила та же тюремная атмосфера, что и в обычных камерах, — те же понятия и иерархия, те же авторитеты и изгои; те же привилегии и те же повинности. Разве что здесь были обычные окна без могучих намордников, правда, с немыслимо грязными стеклами и густыми решетками. Но, главное, это были нормальные окна с деревянными рамами.
Впритык к одному из таких окон меня и положили на обычную односпальную кровать с железными спинками и металлической сеткой. Притом эта кровать стояла отдельно, а не в паре с другой, как все остальные. Я еще не успел осознать, что уже начинаю вкушать плоды своей несознанки и веселенькой экскурсии в пресс-хату.
Когда меня везли через палату, гул голосов на время смолк, и все, кто был в состоянии, провожали меня внимательными взглядами.
— Я сам, — дернулся я с каталки, когда двое санитаров из выздоравливающих попытались переложить меня на постель. И вдруг у меня за спиной раздался молодой женский голос:
— Не положено!
Я уловил в нем командные нотки и покорно затих. Лишь лихо вывинтил набок голову посмотреть, что там за мать-командирша. И вообще, увидеть впервые за последнюю неделю молодую женщину. Пожилых и толстых я видел еще вчера и позавчера. Они меняли мне капельницы, просто заходили в операционную палату. Но тогда я был словно втоптанный в асфальт дождевой червяк и ни о чем больше думать не мог, кроме как о своих болячках. Теперь же я ожил. И легко выворачивал шею на мелодичный девчоночий голосок.
Она действительно была похожа на девочку: худенькая и невысокая, в чистом розовеньком халатике, туго перетянутом в талии, стояла, небрежно опершись плечом о крашеную темно-серой масляной краской стену. И на фоне этой стены ее халат казался еще розовее. Еще чище — на фоне этой кошмарно грязной палаты.
Меня бережно, словно ржавый фугас, перекантовали с каталки в постель, и я затих на спине, чувствуя, как от перевозки разболелся шрам. А девушка, дождавшись, когда уберут каталку, подошла ко мне и присела на соседнюю койку.
— Ишь, «я сам», — пробурчала она с притворной строгостью в голосе. — И двух суток нет, как кишки ему обратно в брюхо сложили, а он уже сам. Герой! — Она улыбнулась, и у нее в глазах блеснули озорные искорки. — Полежи, сейчас приду, капельницу поставлю. Как себя чувствуешь?
— Нормально, — просипел я и, кашлянув, чтобы немного прочистить горло, похвастался: — Но иногда бывает и лучше. Правда, не часто. Тебя как зовут?
— Ольга. — Она тряхнула головой, и вверх вороньим крылом взмыли иссиня-черные блестящие волосы. Эта Оля вполне могла бы рекламировать дорогие шампуни, а не прозябать в такой вонючей дыре, как больничка для зеков.
— А меня Константин, — представился я.
— Я знаю, — улыбнулась она. — Все я про тебя знаю. Лежи. — Она легко коснулась тонкими пальчиками моей руки. — Сейчас капаться будем, герой. — И легко вспорхнув с кровати, быстрым шагом направилась к выходу из палаты. Провожая ее почти влюбленным взглядом, я чисто автоматически отметил, что халат из синтетики очень плотно и сексуально облегает ее стройное тело. А под ним при каждом Олином шаге перекатывается круглая попка. И в этот момент до меня дошло, что вокруг по-прежнему стоит гробовая тишина. Я понял, что пока разговаривал с Ольгой, вся палата — все как один (те, кто был в состоянии) — внимательно и жадно наблюдала за нами. И не к месту подумал, что, наверное, кое-кто в этот момент аккуратненько мастурбировал под одеялом, старательно избавляя взглядом соблазнительную брюнетку от розового халатика. И она, конечно, отлично знает, что каждый раз, стоит ей зайти со стойкой для капельниц в какую-нибудь из палат, как тут же несколько рук шмыгают под одеяло. А в те дни, когда она выходная, зеки, изголодавшиеся за долгие месяцы по нормальным бабам, с нетерпением ждут ее смены, поскольку дрочат, взирая на толстых обрюзгших сестер или врачих, лишь доходяги и извращенцы. Интересно, ее хоть иногда возбуждает осознание того, что постоянно выступает здесь в роли порномодели? Вот Ангелину, конечно же, возбуждало бы.
Стоило Ольге выйти из палаты, как тишину тут же разорвал восхищенный возглас:
— Во блин, Костоправ, ты даешь! Да ты не Костоправ, ты Супермен. Чё ты, брат, сделал такое с нашей неприступной Ольгой Владимировной, что она перед тобой вся на цырлах? Как кошка, выгнула спинку.
Я приподнялся на локтях, чтобы посмотреть, кто такой там меня знает.
— Лежи, брат, лежи, сейчас подойду. — С кровати, установленной напротив моей у другого окна, приветственно махнул рукой парень примерно того же возраста, что и я. Он спустил ноги на пол, шлепая задниками домашних тапочек, пересек проход, разделяющий два ряда шконок, и ткнулся узким задом туда, где только что сидела Ольга.
— Здорово, братан. — Парень протянул мне богато украшенную наколками лапу. — Я Миха Ворсистый. Смотрю здесь за всем этим сбродом.
— Откуда знаешь меня? — поинтересовался я, когда мы обменивались крепким рукопожатием.
— То есть как?.. — искренне удивился Ворсистый. — А кто про тебя не знает? И здесь, и в корпусах. Вся тюрьма только о тебе и говорит.
«Да, точно, — сообразил я. — Тюремный телеграф. — И ухмыльнулся про себя: — Не удавалось на воле, так прославился здесь».
— Ты, слышь, как… — тем временем бубнил Миха. — Как себя чувствуешь? Ништяк? Если хреново, так тока скажи, я отвалю.
И только я призадумался, а не сказать ли ему такое на самом деле, как это сделала за меня Ольга.
— Ворсиков! — рявкнула она, появившись палате. В руке медсестра держала стойку для капельниц, на которой были закреплены две бутыли с лекарствами. — А ну, брысь на место! Не успел человек в себя прийти, как у него уже гости.
Ворсистый проворно — даже слишком проворно — подскочил и устремился к своей кровати. Но по дороге за что-то запнулся и, как ветряк, несколько раз широко взмахнул длинными худыми руками, но на ногах устоял. Высоко вверх подлетел нарядный зеленый тапок с помпончиком и шлепнулся на одного из доходяг. А Миха, подогнув, как цапля, ушибленную ногу, замер возле своей кровати и длинно пустил все по матушке. Палата дружно заржала. Даже строгая, неприступная Ольга Владимировна позволила себе улыбнулся. И я не сдержался… И тут же меня скрючило от нечеловеческой боли. Я вцепился в край одеяла руками, зажмурил глаза и с огромным трудом сумел не застонать…
Наверное, мне потребовалось не меньше минуты на то, чтобы прийти в себя. Наконец я поглубже втянул в себя воздух и с трудом размежил веки. И первым, что увидел, было испуганное личико Ольги. Симпатичное, несколько кукольное личико. Большие — даже неестественно большие — темно-зеленые глаза, прямой носик, пухлые яркие губки. На вид ей было лет двадцать — не больше. «Странно, — подумал я, — и что ее держит здесь, в этом грязном тюремном стационаре? Неужели лишь мизерные надбавки к зарплате, кое-какие почти незаметные льготы и увеличенный отпуск? Впрочем, при доле старания и проворства из этой больнички можно сделать для себя золотое дно».
— Эй, ты живой? — испуганно прошептала Ольга и дотронулась до моей щеки. — Позвать врача?
Я заставил себя улыбнуться и пожаловался:
— Мне еще нельзя смеяться.
— Конечно, — облегченно согласилась Ольга и начала возиться с капельницей.
Вставив мне в вену иглу и закрепив ее двумя полосками пластыря, она, как бы извиняясь, посетовала:
— Мне надо идти. Работы невпроворот. А ты поспи. Там, в лекарстве, — она кивнула на стойку — снотворное. Если эти герои будут мешать, посылай их подальше. Насколько я в ваших делах понимаю, тебя сразу послушают. А я потом подойду. — И, уже обращаясь к Ворсистому, громко распорядилась: — Ворсиков, пригляди-ка за капельницей. И следи, чтоб никто рядом с Разиным не крутился. Пусть отдыхает.
И ушла. А Миха Ворсистый похлопав меня по ноге, радостно сообщил:
— Ща, Коста, все будет ништяк! — И заорал во всю глотку: — Ша, доходяги, закрылись! Слышали, чтоб не мешать? Султан отдыхает! У султана гарем, ему ночью трудиться! А пуза еще не срослась! Нада с этим спешить! Нада поспать… — Он бродил по палате и «наводил порядок». Кого-то пнул, у кого-то что-то забрал. Разогнал всех по кроватям. — …Тихий час! Ша, выключаю свет! Все ништяк, Коста. Спи. Никто ничего…
Я закрыл глаза и, действительно, начал стремительно засыпать. В каком-то сумбурном круговороте закружились вокруг меня бездонное небо, безбрежные луга и могучие леса. И Ангелина. Я пригляделся внимательнее. Нет, это была не Ангелина. У этой девушки были иссиня-черные волосы. Как вороново крыло.
И тут я сообразил, что это Ольга. Девушка, с которой я познакомился меньше часа назад. И вот она мне уже снится. Интере-е-есненько! Что-то уж больно скоро. Такого со мной еще никогда не бывало. Такого со мной не должно быть вообще! Хотя… если принимать во внимание экстремальные условия, в которых я оказался, и предательство Ангелины, о котором узнал накануне… М-да, выходит — клин клином? Черт с ним, пусть будет так. Вот только не стоит обольщаться насчет того, что у меня, уголовника, выгорит что-нибудь с этой девицей. Дрочить — вот и вся любовь, которая прописана мне на ближайшие годы. Интересно, на сколько? Самый злободневный вопрос.
Вот так. Я спал и во сне трезво размышлял о своей жизни. Наверное, какого-то хитрого снотворного закачала мне в капельницу Ольга.
А может, еще и приворотного зелья? Уж слишком быстро я в нее влюбился.
* * *
— … И вот, получаеццы, что камера с пидерами оказалась как раз через стенку с бабской. Ну, стенка — эта тока так говорится. Не стенка. Стенища! Короче, Бог знает что…
— Не поминай всуе, падла!
— Ага, хорошо… Короче, пес знает что. Толщины в ней было полметру, не меньше. — Где это было, гришь?
— Да где-то в Сибири.
— Вот бля-а-а…
— Дык слушайте дале. Когда-то труба там была, в этой стенище. Потом трубу вынули, а дыру заложили известкой. И вот пидеры, значит, про это пронюхали и ну эту дыру колупать. К бабам, короче. Проколупали…
— Чё, шмонов там не было?
— Не кажин же день… Дык вот, проколупали дырочку узеньку, стакан еле пролазит. Бабы на той стороне рады, дурехи, конечно. Да тока базарят: «Чё проку? Через таку нору хрен чё получиццы». А пидары им: «Нет, — грят, — мы придумали». И начали оне вот такой херней занимаццы. Сперва какой-нибудь пидар руку в эту дыру сует, а с другой стороны одна из баб ему подставляеццы, и вот он ее ну нахерачивать! Пока тая не кончит. Опосля поменяюццы, и уже баба ему дрочит.
— Ништя-а-ак!!!
— Потомока так же другая пара. И так круглые сутки, как на конвейере.
— А мусора?
— А чё мусорам? Чё оне могут увидеть? Hу лежит кто-то там на нарах, да и лежит. А куды рука евона идет, и не поймешь.
— Ага-а…
— И, значицца, все это так продолжалыся несколько суток. Пока такая херня не случилыся. Был там толстый один такой.
— Жопастый!
— …И вот пришла евоная очередь, сунул он руку. Не впервой уже, ране скока совал, и все ништяк. А тута то ли кирпич он какой в глубине зацепил, и тот опустился, то ли еще чего. Но тока застрял пидарас. Ни туда, ни сюда.
— Как Винни-Пух.
— Лежит он, значицца, жопою дергает, руку вытаскиват. И никак. Лежит час, лежит два. Ссать давно захотел. И ника-а-ак! А другие пидары злые — тако дупло заткнул ератическо. Злые, бля буду! Готовы убить! «Ты, — грят, — толстопятый, отлипай, как хошь, от кормушки, или сами отлепим». А он бы и рад. Да ника-а-ак!!! И берут оне его в несколько рук и ну тянуть на себя. Он верещит, аки кабанчик, а не лезет. Оне того сильнее его!.. И тута легавые…
— Конечно, кады же без них.
— Вбегают, значиццы, в камеру и ну всех херачить. «А ну выйти, — орут, — на поверку! А ты, толстожопый, чё развалился?» Пинают его, он орет, а все лежит. Легавые: «Чё, значит, такое? Ты совсем охренел? Нас не боишься?» Он: «Да застрял я. Не вылезти». Тут мусора все просекли. И обалдели аж. И пидару этому: «Ах, ты ж пес похотливый! Жаль, что руку, — грят, — а не фуй ты туда засунул»…
Целыми днями я выслушивал эти истории. В ушах от них уже образовались мозоли, но кроме этого никаких других способов времяпрепровождения здесь просто не было. Разве что пересчитывать трещины на потолке. Несколько газет и журналов, которые нашлись в нашей и в соседних палатах, я давно прочитал, так же как и парочку дешевых засаленных книжек с низкопробными детективами. В карты я не играл. Впрочем, как и другие — здесь любое движение было под строгим контролем цириков и медсестер. Так что оставалось лишь выслушивать всю бодягу, которую гнали круглые сутки зеки.
Шли десятые сутки моего пребывания в больничке, и мне уже, явно поспешив, сняли швы. И, похоже, уже собирались выписывать, но когда точно, я не ведал — не знал. Врач молчал. И даже Оля, которую я попросил произвести разведку, вернулась ни с чем.
— Ты же сам знаешь, Костя, — виновато сказала она, присев на краешек моей кровати, — что здесь за порядки. Похуже, чем в дурке. Может, тебя продержат еще до следующей моей смены?
— Нет. Это точно.
— Я попробую подмениться, — вздохнула она. — Послезавтра выйду. Вдруг еще застану тебя.
— Зачем? — задал я дурацкий вопрос.
Она молча пожала узким плечиком, улыбнусь и томно закатила глаза.
— У тебя могут быть неприятности, — заметил я.
— Да ты что?! — притворно ужаснулась вполголоса Оля. — Мне завотделением говорил то же самое. Я ответила, что пусть хоть увольняют, и он отвязался. Сначала найдите кого-нибудь на мое место, а потом качайте права, — ехидно хмыкнула она. — Ой, я пошла, Костик. У меня там две капельницы. Будет время, сразу зайду.
И она убежала, а я остался слушать очередную ботву про вора, который, чтобы выйти на три дня на свободу, за огромные деньги поменялся с похожим на него вертухаем одеждой и ушел погулять. И вернулся в срок, как обещал, но вертухая, сидевшего все это время за вора в камере, братва уже опустила.
Как меня все это достало! Единственный просвет — это Оля. И то ее скоро у меня отберут… Вернее, меня отберут у нее… У нас осталось так мало времени на то, чтобы быть вместе! И возможно, поэтому между нами все происходит, как в известной легенде про самолет, который вдруг начал падать, и все пассажиры, поняв, что через минуту погибнут, стремительно скинули всю одежду и начали заниматься сексом. У этой истории счастливый конец — пилотам удалось выровнять самолет у самой земли. Нам же, в отличие от тех пассажиров, предстоит разбиться уже в ближайшее время. И никакое чудо нас не спасет. Уже завтра в девять утра Оля сдаст смену, и мы распрощаемся навсегда.
Я не мог разобраться, что же такое произошло между нами. Почему так вдруг?! Понимаю, я — зек, отделенный от мира толстыми стенами и злыми охранниками и обреченный на долгое гражданское безбрачие. Готовый сейчас побежать за любой мало-мальски нарядной юбкой. Но эта красавица что нашла во мне, непутевом? Именно во мне, тогда, как на воле полным-полно нормальных, ничем не запятнанных свободных парней? Накануне у меня в голове даже мелькнула мысль: «А не происки ли это со стороны Мухи, Живицкого и компании? Вдруг, это они за каким-то ладаном подсовывают мне эту девицу, и когда я пойму, за каким, будет поздно?»
А стоило ли вообще ломать себе голову? Надо было просто ловить момент. Брать, что дают, и радоваться жизни. Когда-то я это здорово умел — жил по принципу батьки Махно: «Если встретил корову, ее надо доить, если встретил дывчину, ее надо…» Ну, и так далее. Последнее время все почему-то стало не так. Теперь мне надо сперва «разобраться». Каким-то я стал…
«А ну его к черту! — сегодня ночью твердо решил я. — В сторону все эти ненужные думки. Почему бы этой девчонке просто так, ни с того, ни с сего, не повестись на меня — такого героя с разрезанным пузом? Вспомнить хотя бы историю со знаменитым Червонцем [12], которая произошла в этих же стенах. Там все было куда круче и зашло куда дальше. Так что не буду забивать себе голову ненужным балластом. Изопью до дна бокал с терпким напитком „Любовь", быть может, последний раз в жизни… Скорее всего, последний раз в жизни»…
— Это снова я. На минутку. — Ко мне на кровать приземлилась Ольга, взяла меня за руку. — Просто совершенно вылетело из головы. Я же принесла твои вещи. Ух, трудно же было их отстирать. Столько кровищи! И все равно пятна остались, правда, совсем незаметные. Ну ничего, вот выйдешь, купим тебе другой спортивный костюм.
— Я не выйду.
— Да брось ты! И вот еще что. — Оля смущенно улыбнулась и даже чуть-чуть покраснела. — Сегодня охрана хорошая. Я договорилась. Тебе разрешат ночью посидеть у нас в сестринской. Может, это и правда последние наши часы, — грустно сказала она. И подскочила с кровати. — Ну, я побежала.
А я ощутил, как у меня приятно заныло в паху. Дождался, когда Оля выйдет из палаты, обвел победным взором доходяг, притаившихся у себя на кроватях, и громко гаркнул:
— Эй вы, пододеяльники! — Издал губами протяжный чмокающий звук и одновременно согнул в локтях обе руки — так, будто натягивал вожжи. —
Вот так вот я вас!
Ко мне сразу подскочил Ворсистый, бесцеремонно уселся ко мне на кровать, наклонился и зашептал — Ну, чего, Коста? Чё сказала? Даст сегодня, ага? Даст?
— Мишаня, отвянь, — добродушно произнес я. — Принеси-ка мне лучше сочку.
Сегодня утром я заметил, что Миха конфисковал чуть ли не полпередачи, которую получил один из больных. И в числе прочей добычи был пакет с яблочным соком.
— Ага, ща. — Ворсистый скрипнул кроватью, оперся рукой мне на грудь и вскочил на ноги. — Слышь, Коста. Я те сочку, а ты мне завтра расскажешь, как было? Лады? Ты ее в душе собрался?
— Иди ты, — ухмыльнулся я. — Ничего все равно не расскажу. И не проси. Захочешь, сам все придумаешь. Давай тащи сок.
И откинувшись на подушку, начал высчитывать, сколько еще ждать до отбоя.
* * *
Нет, это произошло не в душе, как предполагай Миха, а в сестринской, опрятной и чистенькой, как медицинский стерилизатор.
Оля зашла за мной уже после отбоя, и два вертухая, дежурившие на отделении, проводили нас недобрыми взглядами, но не сказали ни слова, когда мы, рука за руку, пересекали коридор.
— Итак, чем займемся? — несколько развязно спросил я, стоило нам оказаться в светлой просторной сестринской. Я окинул комнату стремительным взглядом и сразу непроизвольно отметил, что возле окна, убранного густыми решетками, стоит длинный диван. — Оль, будем гонять чай? — Пока она возилась с непослушным замком, запирая дверь изнутри, я прижался к ней сзади, положил обе ладони на тонкую талию и осторожно коснулся губами ее ушка, еле пробившись сквозь густой заслон из черных волос. От них пахло хорошим шампунем. Или это у нее такие духи? — Правда, мне кажется, мы пришли сюда не за этим?
— И откуда ты догадался? — немного смущенно хихикнула она и, наконец разобравшись с непослушным замком, обернулась и сразу крепко прильнула ко мне всем своим тоненьким телом. — Поцелуй меня. А?
Два раза просить меня о подобном было не надо. Я наклонился, потерся щекой о ее лицо — как хорошо, что сегодня побрился! Потом отодвинул в сторону тяжелую прядь волос и поласкал аккуратное ушко с маленькой золотой сережкой. Жарко дыхнул в мягкую гладкую щечку, поросшую чуть заметным светлым пушком…
Когда я нашел ее пухлые губы; когда ее горячий язык глубоко проник ко мне в рот, то первым, что я ощутил — была легкая, почти незаметная боль в месте еще не до конца зажившего шва. Но сразу ее вытеснило обалденное ощущение слабости в паху. А Оля уже застонала — негромко, так, чтобы не было слышно за дверью, — и ее начала бить мелкая дрожь. Ольга плотно — так плотно, насколько у нее хватало силенок, — прижалась лобком ко мне и начала судорожно дергать бедрами. Такое впечатление, что она стремилась мне кое-что раздавить. Всмятку!
— Оля. Оленька, милая… — Я осторожно отстранил ее от себя. Совсем чуть-чуть — так, чтобы, не дай Бог, ничего не подумала. — Оленька, успокойся. Успокойся, любимая. На минутку. На одну только минутку…
Она широко распахнула глаза и вперила в меня пустой — даже в какой-то мере безумный — взор.
— Вот и отличненько. Извини… но ты на меня так с ходу набросилась, что я аж испугался. Аж растерялся.
Она улыбнулась.
— Эх ты, герой! А я-то дурёха… Ты разве не хочешь меня?
— Очень… Очень хочу! — Я опять крепко прижал Олю к себе и жадно помял ладонями ее круглую попку. У Оли начало сбиваться дыхание.
— Продолжай. — с трудом пробормотала она.
— Разве такое?.. Мы не знаем друг друга. Я уголовник, а ты… Разве бывает такое?.. — удивленно прошептал я.
На этот раз она отстранилась от меня сама. Крепко вцепившись ладошками в мою больничную курточку, стройным станом изогнулась назад и широко улыбнулась. А потом вздохнула.
— Эх, уголовник… Ты, наверное, Бог весть что думаешь про меня. Что я такая-рассякая, нимфоманка, распутница, стремлюсь затянуть на себя любого мало-мальски нормального мужика.
— Оля!..
— Так вот, мой милым герой. Если тебе так нужно, чтобы я достаточно знала тебя… так поверь хотя бы мне на слово — знаю. Ведь это порой приходит сразу, с первого взгляда. Чтобы мне верить, тебе не хватило разве тех смен, когда я постоянно, в любую мало-мальски свободную минутку старалась посидеть рядом с тобой? Ловила каждый момент, переругалась из-за этого с завом. С огромным трудом договорилась с охраной. И вот мы здесь. И у нас только сорок минут. Потом вернется Мария Степановна. У нас только сорок минут. Костя, милый… Даже уже не сорок. Уже тридцать пять. — И она снова плотно вжалась в меня. И опять застонала. Но вдруг на секунду опомнилась и нашла в себе силы прошептать: — Любимый, если я вдруг заору, не дай мне этого делать. Пошли на диван.
Она сбросила прямо на пол свой розовенький халатик и осталась в тонкой футболочке и нарядных беленьких трусиках. И пока я неуклюже возился трясущимися руками с пуговицами на своей куртке, уже юркнула на диван и с такой силой дернула меня на себя, что я на секунду испугался за свой свежий шрам. Но все было нормально — никаких неприятных ощущений в пораненном животе. Или я их просто не замечал, так же как не обращал внимания на легкую приятную боль когда Ольга в экстазе кусала меня за губы.
Я чуть сдвинулся в сторону, и моя рука скользнула ей под футболку. Груди у нее оказались небольшими и крепкими, как у десятиклассницы, а соски набухли настолько, что приобрели размер спелых вишен. Я неловко повернулся, чуть не свергнулся со слишком узкого дивана, но, несмотря на это, сумел сдернуть с Ольги футболку. И тут же жадно припал губами к левому темно-бордовому сосочку — спелой вишенке, не сравнимой по вкусу ни с одной самой изысканной ягодкой. Нежно обхватил ладонью правую грудку.
Ольга застонала чуть громче. Ее руки судорожно боролись с бинтом, которым были подвязаны мои больничные штаны. И ничего-то у нее не получалось.
— Са-а-ам… — с трудом выдавила она из себя.
Я на секунду отвлекся, выдернул наружу длинный конец бинта, сильно потянул за него, и тугой узел распустился сам собой. Ольга в этот момент пыталась одной рукой сдернуть с себя трусы. Точнее, она их просто рвала. И рисковала растерзать свое дорогое белье на клочки.
— Я помогу, — нежно прошептал я, и Ольга тут же забыв про трусы, сильно укусила меня за плечо и занялась тем, что пыталась проникнуть ко мне в штаны. Как ни странно, рука у нее оказалась довольно холодной. А может быть, у меня все, до чего эта тонкая ручка наконец добралась, было горячим (настолько горячим, что просто было готово свариться). Все познается в сравнении.
Я положил ладонь на Олин живот, и он показался мне просто каменным — настолько был напряжен пресс. Несколько раз провел пальцами вокруг впалого пупка и, сдвинув руку чуть вниз, добрался до верхней кромки трусов. Чуть оттянул и снова отпустил резинку. И оторвал взгляд от ее живота, скосил глаза влево.
Похоже, что до того момента, когда она действительно заорет, оставались считанные мгновения. Свободная рука судорожно вцепилась в потертую обивку дивана, голова запрокинута назад, лицо исказила гримаса, которая может быть и при истерике, и при огромнейшем наслаждении.
Я продвинул пальцы под резинку трусов и ощутил мягкий пушок лобковых волос. Ольга выдавила из себя натужный стон и настолько, насколько широко можно сделать это на подобном диване, постаралась раздвинуть в стороны ноги. Нечто подобное ей удалось. Я нагнул голову, слегка куснул ее за сосок и продвинул руку немного вперед — так, чтобы пальцы достали до клитора.
Вот где была настоящая печка! Вот где было просто болото! Зато, как я сразу отметил, в отличие от лобка, волосы на губах были начисто сбриты. Неужели сегодня, перед тем, как отправляться на смену, эта красавица подготовилась к подобной встрече со мной? «Что же, приятно. Очень приятно!» — успел подумать я…
…прежде чем ее тело изогнуло дугой, как это бывает у эпилептиков. Та рука, которая до этого терзала диван, ударила меня в бок, и в мое плечо мертвой хваткой вцепились тонкие пальчики. Казалось, они сейчас выдерут у меня клок кожи с мясом в придачу. Ледяная ладошка — та, что блудила у меня в штанах, — судорожно сжала мой член, и я ужасом представил, как его сейчас сплющит, словно тюбик зубной пасты. И тут же Ольга завыла — надрывно и громко. Охранники в коридоре, наверное, вздрогнули. И, в лучшем случае, расхохотались, в худшем — собрались выламывать дверь.
— Оля! Оленька!!! Успокойся!!! — Я извернулся, как кошка, вжал ее своим телом в угол дивана и сумел отодрать ее ладонь от плеча. И подумал, а не дать ли ей пощечину, чтобы пришла в себя. — Спокойно!
Орать она перестала мгновенно. Через пару секунд открыла глаза. Еще через мгновение улыбнулась и у нее из глаза выкатилась слезинка.
— О Боже, как хорошо! Я буянила, Костик? Да? Я буянила?
Я улыбнулся, удивленно выпучил глаза и покачал головой — мол, такого еще не видел!
— Я уж было подумал, что до суда не доживу. — Извини, милый! — Ольга неуклюже ткнулась губами мне в область ключицы. — Я дура такая! Впрочем, сам виноват, нечего так раздрачивать. О, как же ты меня раздрочил! Никогда в жизни… Еще никогда в жизни не было так… Ничего не помню, вообще ничего.
— Все нормально. Все хорошо.
— Костька, какой же ты! Как я влюбилась в тебя! С первого взгляда. — Она дотянулась до моего лица, и ее ловкий жадный язычок скользнул мне в рот. И опять всю ее сразу стало трясти. Но вот она оторвалась от моих губ и прошептала: — Войди в меня, милый… Войди… Глубже… Сильнее… Жестче…
Она продолжала объяснять мне, как надо с ней это делать, все время, пока я стягивал с нее трусики. Хотя какое там «время»?! Так, пара секунд…
…Все мысли о том, как же мне в кайф. И как бы не опозориться и, будто семиклассник, не кончить уже через пару качков. И, естественно, я позорюсь. И извергаюсь в Ольгу почти мгновенно. Но эрекция не исчезает. Могучая — могучейшая! — эрекция, она даже и не думает ослабевать. И бешеное желание остается все тем же бешеным, сумасшедшим желанием. И я продолжаю трудиться, лишь немного сбрасываю темп. Жадно тиская небольшие девичьи груди. Нежно покусывая налитые сладкой истомой настолько, что готовы взорваться, соски. Приподнявшись на одном локте, пропускаю руку между Олиных ног и тереблю скользкий, набухший от крови клитор.
А она вся трясется и опять изгибается, словно и эпилептическом припадке. Ее короткие ногти безжалостно терзают несчастный старый диван. Она хрипит и кусает свою губу. Из плотно зажмуренных глаз опять скатываются несколько быстрых прозрачных слезинок. Растворив в себе немного туши, они прочерчивают на висках две черные дорожки и теряются в густых волосах. Иногда Олины судороги приобретают прямо катастрофические размеры, и все мышцы, даже самые маленькие и ничтожные, включают форсаж. Но вот судорога отпускает ее, и я точно знаю, что сейчас она кончила. В очередной раз. Наверное, в десятый за последние десять минут. Или больше — я не считаю. Но, главное, ни разу больше не заорала настолько громко, чтобы всполошить за дверью охранников. Только протяжные стоны, которые изредка перемежаются куцыми невнятными фразами: «О, Боже!!!»; «Люблю тебя!»; «Быстрее!»; «Сильнее!!!»
Я напрягся, скрипнул зубами, закряхтел так словно вырывал неподъемную штангу, и… Великое опустошение снизошло на меня, я достиг невиданного ранее удовлетворения! Мне уже больше совсем ничего не хотелось. Теперь можно было и помереть, оставить эту мерзкую бренную землю и с чистой совестью отойти в мир иной. Но я продолжал лениво ласкать Олины груди, постепенно выводить свою партнершу из того безумного состояния экстаза, в которое поверг ее сам. Постепенно-постепенно… Медленно-медленно… Меня всегда бесили те самцы (язык не поворачивается назвать их мужчинами), которые, совершенно не уважая чувств своих жен и подруг и закончив с ними свои грязненькие делишки, переваливаются на бок, иногда буркают: «Спасибо. Спокойной ночи»; и уже через пять минут в спальне раздается их мощный храп. А растерянная женщина в лучшем случае доводит себя до оргазма вручную, в худшем — тихо рыдает в подушку. И мечтает о нормальном любовнике…
— Оля… любимая… как же мне хорошо с тобой… какой же ты яркий лучик в этом темном тюремном царстве… спасибо, малышка… я очень тебя люблю… очень, очень люблю… честное слово… у меня ведь нет никого, кроме тебя… ни единого человека.
Она обвила руками мои плечи, потерлась щекой о мое лицо.
— Правда, хорошо? Не врешь, уголовник? Ничего-ничего мне не врешь? У тебя ведь на воле жена?
— Которая меня сначала подставила, потом засадила сюда. Я тебе не рассказывал. Сама понимаешь: не могу ничего здесь рассказывать.
Оля улыбнулась и опять потянулась губами ко мне…
Но в этот момент в дверь постучали. Негромко, довольно деликатно постучали. Оля вздрогнула, змейкой выскользнула из-под меня.
— Все. Костюха-горюха, время вышло. Это Мария Степановна. А жаль…
Шлепая босыми ступнями по линолеуму, она подбежала к двери и вполголоса попросила:
— Теть Маш, еще три минутки.
— Одевайтесь, одевайтесь, — с трудом разобрал я. Должно быть, Мария Степановна старалась говорить еще тише, чем Оля.
Отличная старуха — эта Мария Степановна. Проработала всю свою жизнь в одном из районных стационаров, но два года назад ее поспешили «уйти» на пенсию. А без работы оставаться она не хотела. И оказалась в тюремной больничке…
— Сиди, сиди, Костя, — пропела она, когда я, при ее появлении, бросил многозначительный взгляд на выход из сестринской. — Сиди, пока охрана не дергается. Сейчас чаю попьем и тогда уж, пожалуйста. А мы с Оленькой немножко поспим. День тяжелый сегодня… — Она вздохнула и отрешенно махнула рукой. — Все дни здесь тяжелые. — Мария Степановна налила в электрический чайник воды, пошелестела своим пакетом с едой, исподлобья погладывая на нас с Ольгой, скромно сидевших рядышком на диване, и вдруг выдала распрекрасную идею: — А коли хотите, так схожу сейчас с ребятами поговорю. Чтоб вам душ, значит, открыли. Помоетесь вместе. Ну и так далее. А то Оленька завтра как сменится, и неизвестно, свидитесь ли потом. — Мария Степановна снова вздохнула. — А так всю ночку вместе…
— Не разрешат, — отрезала Ольга. — Их же за это… Вот разве что денег…
— Я им дам, щенкам, денег! — повысив голос, перебила Мария Степановна. — Та-а-аких денег, аж взвоют. Вот сейчас пойду и скажу, чтобы душ отпирали. Меня-то послушают. Они ребята хорошие.
Ольга повернулась ко мне, состроила хитрую рожицу, подмигнула.
— Айда?
Будто бы я мог отказаться!
А Мария Степановна — и правда! — уже отправилась на пост охраны. И правда!! — вернулась с одним из вертухаев. Тот — и правда!!! — потрясал связкой ключей, на которой был и ключ от желанного, но, казалось, такого недосягаемого душа.
— Ну, пошли что ли, — мусор ехидно хихикнул. — Ромео с Джульетой… Запру вас там на всю ночь, так что готовьтесь. Сил-то осталось еще?.. — Возможно, эти охранники были действительно неплохими ребятами. Или Мария Степановна была неплохим дипломатом. — Так вы что, так сидеть дальше и будете? — недовольно буркнул нам вертухай. — А то ведь сейчас передумаю.
Мы с Ольгой синхронно подскочили с дивана и устремились из сестринской.
И умница-Ольга по пути даже успела подхватить с вешалки полотенце. И сунула в карман кусок мыла, который подобрала на умывальнике.
Глава 9. Карты розданы
Меня выписали из больнички на следующий день. Перевезли в автозаке из Газза [13] в «Кресты». Чуть-чуть для порядка помариновали в собачнике [14], где мое брюхо поверхностно осмотрели наши тюремные эскулапы. И направили в мою старую камеру.
Я шел под конвоем по мрачным лестницам и коридорам в свою 426-ю хату, как к себе домой, предвкушал теплую встречу с Бахвой, Картиной и остальными и ликовал в душе. Так ли было две недели назад, когда меня вели по этой дорожке в первый раз!
— Здорово, братва! — гаркнул я, еще не пройдя через железную дверь, и камера встретила меня таким радостным гулом, словно на заполненном до отказа стадионе я забил решающий гол. Десятки пар глаз, что две недели назад смотрели в мою сторону недоверчиво и настороженно, сегодня светились нескрываемым восхищением. Я возвращался назад победителем. Я возвращался, совершив настоящий подвиг. Если бы я прибыл сюда прямиком из затяжного космического полета, то, наверное, и тогда не пользовался бы столь оглушительной популярностью…
— А Пионера как в суд увезли, так и с концами, — рассказывал мне Бахва последние новости, когда через час мы устроились за столом. — Пока в ИВС подержат, а как осудят, так сразу же в шестой корпус. [15] Не увидим мы больше Тимурчика нашего. Эх… Зато Коста вернулся… А у меня тут опять приступ был. Колбасило сутки. Я такой — Картине: «Мочи мне в грудину, как Коста мочил, не менжуйся». Эта падла и рад стараться. Замочи-ы-ыл… Бля-а, тебе тока картами шлепать! — Бахва шутливо замахнулся на Леху, и тот, тоже шутливо, прикрыл голову руками. — Короче, чуть жмуром меня не заделал… Ну, будя, братва, о нашем. Давай, Костоправ, о своем. Что следак? Что пресс-хата? Чем больничка живет?
— Отлично живет, — улыбнулся я, вспомнив сегодняшнюю сумасшедшую ночь, проведенную с Олей. — Разлагается эта больничка, совсем как буржуазия…
И я со всеми подробностями поведал о своих приключениях, начиная с беседы с адвокатом и допроса у следака и заканчивая чистенькой сестринской. Мне внимали с раскрытыми ртами, даже забыв про быстро остывающий чифир. Вокруг стола на нарах и просто на корточках собралась почти вся наша хата.
За всю свою жизнь я, кажется, еще не выступил перед такой большой и внимательной аудиторией.
С таким длинным докладом. А ведь раньше произнести даже коротенький тост в тесной компании за дружеским столом я боялся просто панически. Ибо был крайне косноязычен… А тут! Я травил складно и вдохновенно. Я полностью владел своей взыскательной аудиторией, и она мне внимала, затаив дыхание, лишь в некоторых местах вставляя короткие комментарии и перебивая меня восхищенными возгласами.
Похоже, пошли мне на пользу десятидневные курсы в больничке, где, лежа в палате, я выслушал столько баек, сколько не слышал за всю свою жизнь.
— Во, ништяк! — подбил результат Леха Картина, когда я закончил. — Про шалаву-то эту много напарил?
— Нишкни, профура! — тут же рявкнул я на него. Меня моментально взбесило, что этот урод обозвал мою Олю шалавой. Но предъявить ему я решил другое. — Кому парить я буду?! Тебе?! Или ему?! — Я кивнул в сторону Бахвы. — И вообще, забей себе на носу, что парашу гнать стану лишь мусорам! И то лишь, когда понадобится! А пока я и им чистоганом…
— Коста, Коста! — перебил, похлопав меня по плечу, Бахва. — Закройся. И успокойся. Я сам все скажу. — И он повернулся к Картине. — А ты, падла, фильтруй свой базар! И смотри внимательно впредь, на кого гонишь, даже если и не подумавши. За «неподумавши» языки коротят… Ну, все, братва, завязали с базаром-вокзалом. Непоняток еще не хватает за нашем столом. Покажи-ка Коста нам лучше, в каком месте пузо порезал. Братва пусть позырит, поучится. Ты ж у нас как-никак дохтур. А вдруг кому из пацанов доведется когда-нибудь там побывать, откуда ты вышел. Не приведи Господи. — И смотрящий мелко перекрестился.
Я разделся до пояса и продемонстрирован свой, еще богато заклеенный пластырями, живот. Притом настолько богато, что разобраться, где и чего, там было непросто. Зато я порадовал разочарованную хату видом своего рассаженного чуть ли не до мяса плеча и длинными царапинами поперек спины, которые ночью мне оставила Ольга.
Это было великое шоу! Посмотреть на эти отметины плотской любви приползли из-под нар даже законченные доходяги.
Потом Леха Картина благородно, даже без чьей-либо подсказки, освободил мне свою шконку — «Куда тебе, Коста, наверх с твоим животом?» — а сам забрался на мой третий этаж.
— Вот там и останешься, — проскрипел, заметив этот маневр, смотрящий и объяснил, почему принял такое решение: — Ты там не был, где он побывал.
— А мне что ли в падлу тут спать? — без тени обиды заметил Картина. — Отсюда все видно, как с вышки. Вот возьму автомат, и как кто на запретку…
Дальше я просто не слышал, о чем он там еще блудит своим языком. Стоило мне прилечь на жесткие нары, прислониться щекой к подушке, как тут же все закружилось перед глазами, и включился какой-то сон. Я еще не понял, какой. Лишь успел удивиться, что отрубился так быстро, как не отрубался с того самого дня, когда Ангелина накачала меня диморфозолом. Ну, если, конечно, не считать мою экскурсию в пресс-хату, закончившуюся харакири.
М-да, вот что значит всю ночь напролет заниматься тяжелой, хоть и приятной работой. Эх, Оля, Оля, как ты там без меня, уголовника? Сразу забудешь или сумеешь по блату добыть свиданку со мной? Или хотя бы подкинуть мне дачку. Вот бы было приятно. Вот хотелось бы. Очень хотелось бы… Похоже на то, что я крепко влюбился в тебя.
И ведь выбрал, идиот, для этого время!
* * *
— И вот такая колода. Новенькая, не игранная. — Картина протянул мне колоду карт, размером поменьше пасьянсных. — В середке газета, на рубаху берут бумагу однотонную, цветную. Можно, конечно, взять… — только это хреново, ща объясню —…так вот, взять белую, но поплотнее, а то газетка будет просвечивать. А такие рубахи пацан глазастый да с памятью быстро в себе отложит. И считай, что он на фишках, а ты в фуфле [16]. Да и из белой бумаги рубашка запачкается в момент, засалится за десять сдач. И тогда тот же головняк для тебя, что и с прозрачной бумажкой. Так что ищи чего-нибудь потемней на рубаху.
Я внимательно слушал и кивал головой — мол, все понимаю, во все въезжаю, как нельзя лучше. Сегодня было мое первое занятие с Лехой по «правильной» игре в рамс. Так, чтобы не проигрывать вообще или хотя бы всегда заканчивать в плюсе — зарабатывать деньги.
— Так, слушай дальше, Коста, братан. С лицевой стороны на газетку бумагу уже клеишь белую. Тут можно и тонкую. Не папиросную, конечно, не кальку. Такую, чтобы газета если и просвечивает, то децл. А то или разметки не разглядишь, или быстро устанешь, глаза напрягаючи. А устанешь, так снова ты в жопе… И вот, получаешь ты колоду пустышек таких. Теперича вперед, рисовать. Разметку, значит. Масти. Кто-то, конечно, и от руки их наносит. Но это либо лохи неумелые — они не то что карты склеить не могут, они потом и с себя все проиграют. И фуфлыжниками их братва сделает за несколько сдач. А еще бывает, что от руки разметку на лицевухе рисуют те, кому просто нечем заняться. Время есть, деть его некуда. Да и картинки ляпать они ловко умеют. Таких вальтов-королей тебе наизображают! — Леха чмокнул губами. — Вот, в прошлую ходку был у нас в отряде кольщик один…
— Ты о деле, — нелюбезно перебил я Картину.
— Лады, Коста, братан. Так вот, о чем это я. Берешь ты фольгу. Обычную тоненькую фольгу, скажем, от пачки сигарет, и режешь на ней трафареты. Я тебе потом покажу. Это вопрос непростой, надо потренироваться.
— А чем это все склеивается? — поинтересовался я.
— Карты-то? А хлебом обычным. Берешь размоченный в воде хлебушек и протираешь его через тряпку, скажем через платок носовой. И на выходе у тебя получается клейстер — лучше и не придумаешь. Держит отлично, когда подсыхает — не сыпется. И карты получаются эластичными. На вот, смотри. — И Леха помял колоду в руках.
— И после этого все готово? — не терпелось мне.
— Не-э-э. Теперича ее надо точить.
Я состроил удивленную физиономию, а Картина тем временем извлек из какой-то заначки наждачку-«нулевку», потом тщательно подровнял колоду со всех сторон и ловко распушил ее в руке так, что вышло нечто вроде куцего веера.
— И вот так, братан… — Он заточил на «нулевке» сперва один распушенный угол колоды, следом — другой, и так все четыре. Потом, отложив в сторону шкурку, профессионально разделил колоду на две совершенно равные части и ловко вдвинул их одна в другую. Еще раз. Еще. — Зырь. — Он продемонстрировал мне, что карты из двух половинок четко ложатся одна через одну. Минут десять он проделывал с колодой такие манипуляции, на какие, как я думал раньше, был способен лишь фокусник Акопян. Мне это казалось настоящим искусством. И я был уверен, что никогда не дорасту до подобного уровня.
— Ништяк, — уверял меня Леха. — Не менжуйся, братан. Через полгодика колоду будешь ломать не хуже меня. А полгодика ты в этой хате, как пить дать, еще прокантуешься. Так что на зону поедешь при хорошей профессии. Это если помимо врача.
Как и в истории с пресс-хатой, Леха здесь ошибался. Какие полгодика?! Впереди у меня не было даже трех месяцев. Но кто мог предположить, что в то время, когда люди ждут в «Крестах» суда по два года, для меня его готовят форсированными темпами? Впрочем, конечно, некоторые знали. Те, кто готовил…
За то время, что я валялся в больничке, Бахве с воли уже переслали назначенные мною лекарства, и уже на следующий день после моего прибытия в камеру мы приступили к тщательному лечению. Вплоть до того, что я загнал своего пациента под капельницу.
— А ты посиди-ка рядом со мной, — попросил смотрящий. — Пока капает, успеем поговорить. Кое о чем хочу поведать, Коста, тебе.
У него, и правда, оказалось, что сказать мне интересного. Во-первых, я узнал, что пока был в больничке, из «Крестов» на волю пошла малява с распоряжением братве осторожно порыться в деле убийства Смирницкой, проверить моих жену и брата.
— А брата-то?.. — От неожиданности я даже приподнялся с Бахвиной шконки, на краешке горой сидел.
— И брата, — резко оборвал меня Бахва. — Ответ ждем где-то через недельку. Правда, не мне и придет. И не от меня эта малява ушла. Много здесь есть таких, что посерьезнее меня, и решили они в тебе, братан, поучаствовать.
— Им это надо?
— Значит, надо. Не спрашивай много. Порой дороговато ответы стоют. Так что дожидайся с воли ответки. Только не очень рассчитывай на нее. Разве что сам точно узнаешь, что же случилось, — и весь приход. А мусорам этого не предъявишь. Они на тебя все давно уже склеили.
И дело твое, я думаю, в суд скоро передадут. И отправишься по этапу, куда подальше. Чтоб под ногами здесь не болтался, жить кое-кому не мешал.
— Итак, выходит, они здесь будут жить, а я за это…
— Там тоже живут, — перебил меня Бахва. — На зону пойдешь с хорошей малявой, с рекомендациями, так сказать, отсюда. Так что можешь не менжеваться. А главное, линию, что выбрал, гни до упора. В несознанке, так в несознанке. И как бы тебя следак не пугал, какими бы конфетками не манил, не слагайся. Не потеряй авторитет перед братвой.
— А если снова в пресс-хату? — забеспокоился я.
— Не-э-эт, — покачал головой смотрящий, — туда по второму разу не посылают. Бунта в тюрьме кто захочет? А из-за такого беспредела ментовского хипеж в любой крытке [17] в обязалово будет серьезный. Это точняк. Ты теперича на виду, вся тюрьма про тебя говорит. И мусора это знают. И будут с тобой на цырлах, хотя это им — как кость в горле. У них кровь из зубов идет! Еще и поэтому постараются они от тебя поскорее избавиться. Так что жди вскорости вызова к следаку. И суда.
Я нянькался с капельницей и внимательно выслушивал пророчества Бахвы. Как бы мне хотелось, чтобы он оказался не прав. Но по прошлому опыту я уже знал, что этот погрызанный жизнью старик всегда бьет предсказаниями точно в яблочко.
Я вынул иглу, заклеил место укола кусочком пластыря, и смотрящий сел, свесив ноги со шконки.
— Хорошо, — прокомментировал он. — Сколько курс, говоришь?
— Сначала пять дней. Потом надо бы повторить через месяц.
— Ну, братан, этот курс нам бы успеть закончить. А на второй и не рассчитывай. К тому времени тебя, может, будут уже на север везти. Уж поверь, Костоправ. Я, старик, это-то знаю.
«И никогда не ошибаешься, — добавил я про себя, — покоцаный годами и зонами».
Но на этот раз Бахва ошибся. Первый раз на моей памяти. И мусора забыли про меня напрочь на целых три месяца.
Наверно, сломалась какая-то шестеренка в их отлаженном механизме лживой системы правосудия и демократии.
* * *
Итак, мусора забыли про меня на три месяца.
Не так уж и много чего произошло за это время — что интересного может случиться в тюремной камере?
Непонятки между мужиками, которые приходилось разбирать. Крысятники, которых надо было судить и готовить им бутерброды с хозяйственным мылом. Парочка еще не опущенных педофилов, которых, радостно ржа, мусора запустили нам в хату, а на следующий день забрали назад и отправили в камеру пидарасов. Несколько поножовщин, после которых мне приходилось пускать в ход все свое искусство врача. Несколько трупов — один умер от обширного инфаркта, другого ночью придушили подушкой, трое неосторожно «упали» с третьего яруса. Нерегулярные прогулки. Редкие шмоны. Баланда, которую я попробовал лишь один раз для интереса… В общем, жизнь текла в своем привычном для крытой русле.
Ежедневно я по несколько часов серьезно занимался с Картиной «карточными фокусами» и по его словам проявлял в этом деле недюжинные способности. Особенно его восхищали моя цепкая память, наблюдательность и, главное, руки. Конечно — не пианиста. Но — хирурга. Ведь в какой-то мере я был еще и хирург, и иметь цепкие чувствительные пальцы был обязан. Уже через месяц я манипулировал картами не хуже своего учителя. Правда, я почти с ними не расставался, и в любой свободный момент начинал перебирать колоду в пальцах, как некоторые постоянно перебирают четки. Я научился метить карты туалетным мылом [18] и стачивать, почти незаметно уменьшая в размерах, колоду, оставляя лишь четырех вальтов [19]. Ох, я многому научился!
Моя медицинская практика основательно выросла, и кроме Бахвы с его тахикардией и увеличенной печенью и Картины, которому я регулярно делал массаж спины, добавилось еще множество пациентов. Теперь я уже не сидел за обеденным столом, ощущая себя нахлебником. У меня самого появилось, чем богато сервировать этот стол из собственных запасов. Работа врача здесь неплохо оплачивалась, при всем при том, что наша хата была далеко не из бедных, и братва с воли снабжалась неплохо. Однажды один из барыг даже рассчитался со мной проституткой. Да, да — самой обычной шлюхой, которую привезли в «Кресты» с воли не на отсидку, а на работу. Она дожидалась меня в душевой, куда меня ночью отконвоировал вертухай и выделил нам на все про все полчаса. Мы уложились в пятнадцать минут…
Но самым главным, самым приятным событием за все это время была посылка от Ольги, в которой оказалось вложенным длинное — на трех двойных листах — письмо. Ах, какое это было письмо! Ах, какая это была посылка! Бедной медсестре она должна была обойтись, как минимум, в полторы месячных зарплаты. Плюс еще оплата доставки, потому что дачка пришла ко мне, минуя цензуру и досмотр. Ее просто притащил на плече вертухай. В следующее его дежурство я отправил Ольге ответ, который сочинял в свободное время целых два дня. Трудно было придумать, о чем бы таком интересном для нее можно написать длинное письмо из «Крестов». И я писал о любви. И правильно делал.
После этого мы обменивались с Ольгой любовными весточками с регулярностью примерно два раза в месяц. Все через того же охранника. Вот только добиться свиданки со мной она так и не смогла…
Когда за намордником наступил ноябрь, духота в камере сменилась ледяным холодом. Здесь было всего градусов на восемь-десятъ теплее, чем
на улице. А третий месяц осени оказался холоднее обычного и сразу отметился рождественскими морозами.
И вот тогда одно за другим и произошли два значительных события. И даже письмо и посылка от Ольги не шли с ними ни в какое сравнение…
Братва на воле наконец закончила свое следствие по делу Смирницкой, и однажды утром меня, еще досматривающего сладкие сны про свободу, растолкал Бахва.
— Давай вставай. Умывайся и сразу ко мне. Есть разговор.
Я лениво потянулся и зевнул.
— Костоправ, не выдрючивайся. Это серьезно.
Я внимательно вгляделся в морщинистое лицо смотрящего и понял, что действительно, это — серьезно. И стремительно скинул с себя одеяло…
— Короче, братан, малява пришла, — вполголоса сообщил Бахва, как только мы с ним устроились за столом. К нам поспешил присоединиться Картина, и смотрящий сперва смерил его строгим взором, но потом благодушно позволил: — Ладно, сиди. Тоже послушай. Итак, малява пришла, — повторил он и протянул мне две фотографии.
Отличного качества фотографии. Их делал явно не любитель и пользовался при этом мощным телескопическим объективом. Подобное можно было снять только с большого расстояния, — уж я-то отлично изучил за долгие годы свой дом в Лисьем Носу.
На обоих снимках Леонид и Ангелина стоят на крыльце. Он лишь в трусах и футболке, она — в незнакомой мне длинной легкой ночнушке. Сначала мой братец, по-хозяйски обхватив мою женушку за богатую грудь, рукой показывает ей куда-то на небо, и она, приоткрыв ротик, послушно задрала голову. Что-то пытается высмотреть там, шалава! И при этом плотно прижимается спиной к Леониду. А его довольная рожа торчит у нее из-за плеча. Не опознать обоих просто невозможно. Дальше — больше. Похоже, что, насмотревшись на что-то вверху, они решили заняться любовью прямо на улице. И не холодно! Ведь судя по фону, уже как минимум поздний сентябрь. Итак, они продолжают стоять на крыльце и, тесно прижавшись друг к другу, целуются взасос. При этом блудливая ладошка моего братца спокойно покоится у моей продажной супружницы на лобке. Представляю, как в этот момент она томно постанывала.
— На обороте дата, — лаконично сообщил Бахва.
Я перевернул фотографии и обнаружил накарябанную фломастером надпись: «10 сентября, 11.14–11.16». В это время по словам следака Мухи моя жена должна была проходить лечебные процедуры в психушке.
Я протянул снимки назад смотрящему.
— Не желаешь оставить себе? — улыбнулся он.
— Разве что ткнуть ими в рожу пидару следаку.
— Не советую. Потом объясню, почему. Сначала о самом главном.
— Идет, — согласился я, и, хлебнув обжигающего нёбо чифиру, лизнул «Чупа-Чупс».
— Так слушай… Насколько я вижу, ты уже въехал в то, что твой братец и твоя Ангелина поладили очень даже неплохо. И поладили-то давно, ты просто не замечал. И вот однажды, братишка мой Коста, вошла эта сладкая парочка, как выражаются мусора, в преступный сговор. И надумали они, падлы, ни много ни мало, а всего лишь замочить соседку твою. А заодно избавиться от тебя, дурака. Как тебя подставляли, ты уже вычислил, поэтому не буду лить воду впустую… А вот Смирницкую завалил твой брательник!
Я аж замычал, пораженный. Я даже приподнялся со стула и глухо хлопнулся задом обратно. Леонид?!! Да ни хрена же себе!!! Понимаю, отбил у меня эту лярву Лину. Но завалить Эллу Смирницкую?!!
Бахва стрельнул в меня колючим пронзительным взором и спокойно продолжил:
— И не просто так завалил… Тут все очень запутано. Я, признаться, и сам толком не до конца все прочухал, — виноватым тоном произнес он. — Так вот, не просто так помочил, а за серьезные фишки. И спустил ему этот заказ один его знакомый барыга. Ты слышал, братан, что мамаша братана твоего состоит постоянной прислугой у одного делового, бывшего то ли инструктора, то ли хрен знает кого Ленинградского обкома КПСС? Он еще курировал в свои времена всех мусорских. Хопин Аркадий Андреевич.
— Да, слышал, — ответил я. — Не про Хопина, нет. А о том, что мамаша и отчим живут постоянно при этом барыге в его особняке. Мамаша — прислуга, отчим — шофер.
— Все верно. А теперь… ты знаешь, чем братец твой занимался еще год назад?
— Нет. Как-то пытался спросить, но он сразу так начал мутить, что я просто забил на него. Чем хочет, тем занимается. Не мое это дело.
— Та-а-ак, — довольно протянул смотрящий и принялся разминать сигарету. — Был твой братец бабской покрышкой. Альфонсом. Находил себе старую дуру при фишках, драл ее во все щели и за это имел… — Бахва многозначительно потер пальцы правой руки. — Хопин, падла, об этом пронюхал и кинул брательнику твоему такую парашу: «Сними Смирницкую, коли делать это умеешь. А дальше посмотрим». Може, и не так было все, а только подписался твой… как бишь его?
— Леонид.
— Лёньчик. И влип. Уж дале не знаю, как там после все было и почему эта дурка прикупила развалину рядом с твоей. Может, случайно, да только не бывает такого. Твой братец ее нахлобучил на это. Он далеко все спланировал. Ой, далеко! Ой, молодец! И ведь все у него срослось, у пидараса… Хотя нет… — Бахва на секунду задумался. — Не брательник. У него масла в мозгах не хватило бы. Хопин всю эту карту поклеил, руками твоего Леонида.
— Так меня сейчас топит этот… как его?.. Хопин, — вспомнил я.
— Верно меркуешь. А Хопин этот — слон до сих пор, хоть уже не в обкоме. После того как коммуняк разогнали, он силы не потерял, скорее набрал еще боле. Связи остались, и связи нехилые. И сумел он использовать их в полной мере. Бизнес свой он держит на чем? — Бахва поднял вверх указательный палец. — Мотели, гостиницы, децл туризма. Это все для показу. Хрусты свои он там отмывает. Но главное — крышует он несколько крупных фирм да с пацанами в долю входит кое в каких делах. И подобраться к нему не может никто. Все у него повязано, Коста. Слон — слон он и есть. А Смирницкая, видать, где-то его пододвинула, где-то дорогу пересекла. Вот результат.
— Почему же не нанял обычного киллера?
— А пес его знает. Что он творит, никто не разберет. Но по шаблону не действует никогда. Может, старый уже,
— Сколько ему? — проявил любопытство я.
— Да говорят, уж к семидесяти.
— Я-а-асненько. Уже впал в маразм, — поставил я заочный диагноз. — А как ты думаешь, Бахва? Не проще ли было списать Леонида после того, как он исполнил заказ? Зачем устраивать такой геморрой со мной?
— Я ж тебе повторяю. Никто этого Хопина не разберет. Творит, что захочет. Впрочем, что так, что этак, а у него отмаз конкретный имеется. Если вдруг в мусарне найдется кто смелый и начнет по серьезному копать это дело и твой Ленчик колоться начнет, все повернется так, будто спасает он своего брательника, Разина. Подставляется вместо него. А после получится, что вы оба очень быстро умрете. Вот почему я и не хочу, чтобы ты светил перед следаком этими фотками. И вообще закройся перед ним намертво, даже не дай понять, будто что-нибудь знаешь. А то как бы не было хуже. Ничего у тебя все равно не прокатит, через мусоров ссученных ты не пробьешься, а вот тебя поспешат мочкануть. Один раз тебя предупредили, когда в пресс-хату отправили. Но больше предупреждений не жди. Сдохнешь. У тебя сейчас выход один. Отправляйся на зону и жди, когда этот Хопин помрет — или сам, или закажут его.
— А если я сам закажу, — оживился я. — Поможешь?
— Можно, конечно, — улыбнулся мне, как неразумному малышу, Бахва. — Деньги есть?
Я вздохнул и сразу закрыл эту тему.
— Вот, все поведал тебе, что мне рассказали, — подвел итог смотрящий. — Если есть вопросы, то спрашивай. Если нужен совет, то постараюсь дать его тебе, Коста.
— Пока нет. Я хочу все обдумать, все разложить по палочкам. Надо на это время.
— «Полочкам», — передразнил меня Бахва. — Думай. Костоправ, думай. Но главное, еще раз прошу тебя, не вылезай на допросах. Молчи или посылай всех на хрен. И на суде тоже. Не вздумай и слова сказать, если хочешь пожить.
Я согласно кивнул — мол, все понял, все сделаю — и поднялся из-за стола.
— Спасибо, Бахва, тебе.
— Не мне спасибо, братан. Другие за тебя расстарались. Кто, не скажу. И не спрашивай. А иди-ка лучше поспи. Или в картишки покатай с Картиной. И подумай, коль хочешь. Время вроде пока еще есть у тебя на это…
Но он снова оказался не прав. Времени не осталось.
Уже на следующий день обо мне неожиданно вспомнили и вызвали к следаку.
* * *
Муха с Живицким дожидались меня в той же комнате для допросов, что и прошлый раз.
— Присаживайтесь, гражданин Разин, — одарил меня змеиной улыбочкой прокуроришка. — Как здоровье? Есть жалобы? Есть пожелания?
— Есть пожелание, — ответил я, устраиваясь на жестком стуле.
— Какое? — заметно оживился Муха.
— Чтобы ты пошел на фуй, — ослепительно улыбнулся я.
Следак приподнялся из-за стола. Я расслышал, как он зло скрипнул зубами, после чего прошипел:
— Я вижу, разговора опять не получится. Так вот, обещаю тебе: после суда пойдешь на самую поганую зону и сдохнешь там через полгода. А суд послезавтра. Уже послезавтра, ты понял? А то что-то больно долго ты засиделся в своем санатории. Живешь, как король. В законе себя почувствовал? — Следак повысил голос. — В авторитете?! Ничего-о-о, скоро в доходягу последнего превратишься! По помойкам научишься шарить! Я это тебе обещаю! — еще раз повторил Муха. — Та-а-ак… — Следак покопался у себя в портфеле, извлек оттуда ворох бумажек и перешел на официальный тон. — Гражданин Разин, распишитесь вот здесь, вот здесь и вот здесь. Постановление о передаче вашего дела в суд.
Я опять улыбнулся и отрицательно покачал головой. И не проронил ни единого слова. Сидел, жадно ел глазами мерзкую прыщавую рожицу и представлял, как буду давить этого червяка, если удастся уйти в бега и пробраться в Питер.
— Адвокат, — напыщенно продекламирован Муха, — прошу подтвердить, что подследственный от подписи отказался.
— Да какой он адвокат? — ухмыльнулся я и сделал вид, что собираюсь подняться со стула и броситься на Живицкого. Тот побледнел. Очки запотели. — Ублюдок продажный, я тебя заказал. Тебя уже пасут, пидараса. Так что жди.
Муха опять по своей любимой привычке глухо шлепнул ладошкой по столешнице — он, наверное, даже отбил ладошку — и заверещал:
— Молча-а-ать!!! — совсем, как карикатурные офицеры в совдеповских фильмах про царскую армию. — Опять захотел туда, где уже побывал?!!
Я понял, что он имеет в виду пресс-хату, и спокойно ответил:
— Попробуй отправь. Меня там уже точно не тронут, а тебе не жить после этого. Впрочем, все равно не жить.
Следак неожиданно успокоился и, покачав головой, усталым голосом произнес:
— Ну, идиот. И ничего ведь не понимает. — Он, видимо, нажал на невидимую кнопочку под столом, и в комнату ввалился охранник. — Увести, — коротко бросил ему Муха и, когда я уже подошел к двери, прокричал злорадно мне в спину: — Разин, до послезавтра. До встречи в суде.
«Да пошел ты, придурок», — про себя послал я следака подальше и, держа руки за спиной, пошел по коридору. В свою камеру № 426, ставшую мне родным домом. А дальше — на зону, где, как обещал мне следак, не живут дольше чем полгода.
В неизвестность! В саму Преисподнюю!!!
Или все будет не так? А черт его знает. Не все ли равно? Выживу где угодно. Сразу погибают лишь те, у кого в жизни нет цели. У меня такая цель есть — этакий неисчерпаемый аккумулятор, который должен постоянно подпитывать меня жизненной энергией.
Леонид, Ангелина, Хопин, Живицкий и Муха… Я обязан — просто обязан! — вырваться на свободу и привести в исполнение свой приговор. Казнить вас! Казнить!!! И пусть эта казнь будет самой страшной за всю историю человечества!
Леонид, Ангелина, Хопин. Живицкий и Муха… Я обязан — просто обязан! — избавить от вашего общества нормальных людей.
Леонид, Ангелина, Хопин, Живицкий и Муха…
Я обязан — просто обязан!!!
* * *
Я скрипнул зубами, отвернулся, упер руки стену и стал слушать, как вертухай возле моей четыреста двадцать шестой звонко гремит ключами и глухо матерится себе под нос.
Часть 2. Ижменский острог
Глава 1. Вьюга над Ижмой
Несмотря на середину апреля, к вечеру над Ижмой завьюжило. Ночью ветер набрал силу шквала — зло швырял в окна хлопья мокрого снега, угрожая выставить тонкие стекла, и гремел в локалке каким-то, невесть откуда взявшимся там, железом. А к рассвету все успокоилось, и о ночной буре напоминали лишь огромные, словно дюны, ослепительно белые наносы, надежно укрывшие успевший уже съежиться и потемнеть под ярким апрельским солнышком снег.
* * *
Всю ночь я слушал бурю. Наслаждался теплом и уютом, царящим в «спальне», отделенной от остального барака перегородкой из двухдюймовых досок. Перечитывал Шишкова и краем глаза наблюдал за Блондином и Костей Арабом, застывшими над шахматной доской.
Ну прям Каспаров и Карпов на сцене, а не смотрящий за зоной и один из его пацанов! За два часа, на которые обычно растягивали одну партию, они умудрялись не обменяться ни единым словечком. Сидели, подперев головы огромными испещренными наколками кулачищами, и только смолили одну сигаретину за другой. При этом играли не на интерес, как это принято в здешних местах, а просто заносили результаты в таблицу, которую Блондин приколол к перегородке, и счет между ними был — ужаснуться! — 948 на 935,5. Удивительно равные соперники. И удивительная картина — кажется, будто находишься не в ИТУ строгого режима, а в Доме пионеров и школьников.
— Кажись, к ничьей катимся, — на исходе второго часа разорвал тишину Костя Араб.
— Согласен, — пробасил Блондин и протянул через доску руку для скрепления рукопожатием этой ничьей.
И тут же они начали расставлять фигуры для новой партии. Я попытался припомнить, какой же по счету за сегодняшний вечер? Пятой?.. Шестой?.. Нет, успел сбиться со счету.
— Ну, чё уставился, тезка? — не оборачиваясь, пробурчал сидевший ко мне спиной Костя Араб — Иди, чифиру запарь. Все одно ни хрена не делаешь. Валяется кверху брюхом заштопанным, да так и сверлит мне спину буркалами, так и сверлит… И на стол собери, чё там осталось. Пошамаем хоть.
— Чифир остынет, пока доиграете, — хмыкнул я, поднимаясь со шконки.
— Не простынет. Отложим партию. — И смотрящий сделал первый ход. На этот раз он играл белыми.
Я достал из шкафчика большую жестяную кружку и вывалил из нее на тарелку нифеля (завтра отдам доходягам — не пропадать же добру). Потом зачерпнул ковшиком из ведра, вымыл кружку, набухал в нее воды и воткнул кипятильник, сделанный из бритвенного лезвия. И только тогда заметил, что Блондин наблюдает за мной краем глаза и ухмыляется.
— Чего тебе? Сиди двигай пешки.
— Хозяйственный ты, Коста, пацан, — заметил «гроссмейстер» с ехидцей. Араб тоже оторвал взгляд от доски и улыбнулся. — Откинешься, дык в первый же день все лярвы у твоих ног лягут. От шеснадцацы и старше. В любой деревне.
Что-то сегодня он слишком расслабился и позволял себе отвлекаться от шахмат.
— Играй давай повнимательнее, — хлопнул я его по широкой спине. — Партию ведь просрёшь. — И принялся готовить заварку.
Согнул пополам тетрадный листок так, чтобы он в месте сгиба сложился примерно под прямым углом, и сыпанул на него из пачки «36»-го. Прикинул на глаз, не перестарался ли, и решил, что все чики-чики. Потом принялся выкладывать на стол то, чем мы были богаты, — вернее, на данный момент бедны. Буханка черняшки, баночка соленых огурчиков, початая пачка вологодского масла, полпалки сырокопченой колбаски, жалкий огрызок сала, несколько кусков сахара, головка чеснока и две больших луковицы… Ничего, с голоду пока не подохнем, а уже завтра с воли должны подогнать и курехи, и хавки, и, надеюсь, травы. На зоне я потихонечку начал попыхивать анашой, и косячок в день иногда себе позволял.
Вода закипела, и я засыпал в кружку заварку. Она образовала на поверхности воды высокую черную горку, которую пришлось разравнивать пальцем, чтобы прикрыть кружку крышкой.
Дожидаясь, пока нифеля опустятся вниз, я вышел из «спальни» в общий барак и подошел к одной из шконок, на которой лежал мужик, подхвативший накануне воспаление легких. Сука-фельдшер вчера покрутился вокруг него со своим стетоскопом, по частоте пульса попытался определить температуру и поставил диагноз: бронхит. Хотя налицо были все симптомы очаговой односторонней пневмонии. Это пока односторонней. Неизвестно, что будет дальше. Как жаль, что во время «осмотра» не оказалось рядом меня! Когда фельдшер с чувством выполненного долга уже свалил из зоны домой, я объявился в бараке и назначил мужику свое лечение — то, что было возможно в этих условиях. Во всяком случае, остатками уксуса, который я изъял у наркотов, удалось быстро сбить температуру.
Мужик спал. Неспокойно, но спал. На лице выступили капельки пота, на лбу можно было жарить котлеты. Я взял его горячую руку и посчитал пульс — температурка в районе 39. Черт, а уксуса почти не осталось! Завтра пойду в лазарет и возьму на цугундер паршивого дурака фельдшеришку.
Уж меня он послушает. Потому что меня он уважает. Но больше, чем уважает, — боится. Я не дам ему погубить человека.
— Чё ты, Коста?
Как ни старался потише, поаккуратнее, но все же разбудил своего пациента. Ч-черт!
— Спи, Колян. Я так, проверяю. Дай-ка грудину твою послушаю.
Я присел на шконку, задрал Коляну рубаху и свитер, наклонился и приложил ухо к его горячей волосатой груди. В левом легком сильные хрипы. Правое вроде бы чистое. Пока. Если завтра Коляна заставят идти в промзону…
— Эй, а чем это вы там занимаетесь? — раздался у меня из-за спины ехидный мальчишеский голосок. — Хи-хи.
Я резко обернулся и встал. Шагах в пяти от меня с верхней шконки свесил голову один из новеньких, прибывших с малым зимним этапом месяц назад. Зеленый сопляк, я даже еще не запомнил его погоняло. Да и было ли у него вообще погоняло? Единственное, что я знал про него, так это то, что попал он сюда по хулиганке. Вонючий баклан! [20]
— А ты что подумал? — Я подошел к нему и дружески улыбнулся. Мол, понял шутку. Давай шутить дальше.
— Да так… — радостно хрюкнул бакланчик.
Дава-а-ай шутить дальше!
В тот же миг я сграбастал щенка за шкирятник и резко дернул его со шконки. Так быстро и резко, что он не успел даже ничего сообразить. Не успел даже пискнуть, когда вместе с постелью летел со своего второго яруса. Шмякнулся вниз, раскинул по полу костями, перебудил полбарака. И скрючился у меня в ногах бесформенной грудой тряпья и дерьма. Я не поленился пару раз пнуть эту груду ногой, стараясь, чтоб вышло это у меня побольнее.
— Ты, рыла! Ты что имел в виду, падла? Ты у кого что спросил, понимаешь? Не слышу!
— Косты, чито там? — раздался из глубины барака голос с кавказским акцентом.
— Все ништяк. Сам все решу. Спокойной ночи, братва, — вполголоса произнес я и наклонился над продолжавшим валяться на полу слизняком. — Завтра после работы ко мне. Договорим. — И отправился в «спальню», по пути на секунду задержавшись у шконки Коляна. — А ты постарайся уснуть. Спать тебе надо. Завтра на улицу — ни ногой. Бугор что-то вякнет, отсылай сразу ко мне. И лепила [21] появится — тоже ко мне. Поправляйся…
Дверь в «спальню» была отворена нараспашку, но почти весь проем заполнил громила Блондин. Стоял, подпирая косяк, и дожидался меня.
— Чё за хипеж там, Коста? Ты кого-то помял?
— Да. Баклан сопливый, что пришел в марте. — Хрен чего я стал бы докладывать Блондину.
Но меня внимательно слушал и Костя Араб. С нетерпением ждал моего ответа. — Много базарит. Спустил его на пол со шконки.
— Так зови сюда, коли уже спустил. И коли базарит, — пробормотал смотрящий.
— Завтра придет.
— Чего завтра. Давай щас.
«Все равно партия в шахматы прервана», — весело добавил я про себя, но вслух произнес:
— Не надо. Пусть полежит, поменжуется, подумает, о чем его завтра спрашивать будем. А у нас вон, перерыв на обед…
— Как Колян? — поинтересовался Араб, устраиваясь за столом.
— Хреново. Надо лечить.
— Надо. — Смотрящий корявыми пальцами принялся потрошить на дольки чеснок. — Лепилой завтра конкретно займись. Он тебя ссыт.
— Заметано. Завтра, — пообещал я. Больше о Коляне разговор не заводили. Так, болтали о чем-то пустом, по большей мере о воле. Допили чифир, и смотрящий с Блондином сразу уселись доигрывать прерванную партию. Я прибрал со стола и сходил на дальняк [22], по пути задержавшись возле Коляна. Он спал, и я побоялся даже пощупать ему лоб. Не приведи Господь, опять разбужу. Вернулся в «спальню», минуту потоптался у шахматной доски, наблюдая за тем, как развивается партия, и когда уж было решил, что она перешла в эндшпиль, Араб проскрипел:
— Да не стой над душой ты. Не отсвечивай, Коста. Иди вон книжку читай. Или ляг и щеми.
Я завалился на шконку, взял с тумбочки книгу и читал до того момента, пока Блондин и смотрящий не начали новую партию, а в шишковской «Угрюм-реке» Прошка и Ибрагим-Оглы чуть не замерзли по пути в Крайск. Тогда я отложил книгу, отвернулся к стене, оклеенной невесть откуда добытыми на зоне обоями, и попытался заснуть.
На улице выла метель, стучалась в окно, просилась к нам в гости. Но никто ее не пускал. Ничего ей здесь не светило. И у нас было тепло и уютно. У нас было сытно. Другое дело у Прошки и Ибрагима, которые загибались от холода и от голода в драной палатке.
Другое дело у мужиков, которые сейчас храпят в бараке. Их уже через пару часов разбудят, выгонят на улицу на развод, накормят пустой пшенной кашей и поведут под конвоем в промзону.
«Другое дело, у Коляна», — резанула мысль мне по мозгам, когда я начал было уже засыпать.
Не окажись меня рядом, доконал бы его проклятый дурак-фельдшеришка. И был бы при этом уверен, что исполнил свой маленький долг. А у меня другой долг. Вытянуть этого мужика с того света. Отличного мужика. Правильного мужика, который чалится только за то, что пристрелил из двустволки двоих мусоров, изнасиловавших его малолетнюю дочь и даже не попавших под следствие.
И я его вытяну. Вытяну!!!
Как и многих других за три года, что уже здесь нахожусь.
«О, черт, и какая же у меня здесь огромная практика!» — удовлетворенно подумал я и заснул.
Глава 2. Зека Айболит
Практика действительно была у меня дай Боже. А сам я, даже не ожидая того, с первых же дней пребывания здесь оказался в шкуре этакого сельского доктора. Те же ночные вызовы к тяжелым больным. Те же приемы плановых пациентов в определенные часы, когда ко мне порой выстраивалась очередь. И если бы я сразу не дал понять братве, что с легонькими болячками или с тем, с чем может справиться местный фельдшер, не стоит приближаться ко мне даже близко, то запись на прием была бы на полгода вперед.
Уже через месяц после моего появления в зоне меня воспринимали здесь чуть ли не мировым медицинским светилом, этаким Боткиным и Пироговым вместе взятыми. А когда я, особо не напрягаясь, дедовским способом вылечил одному из фраеров [23] «астму» (на самом деле сердечную недостаточность, вызывавшую тяжелую одышку), про меня начали складывать легенды.
Единственная большая проблема — в первое время у меня под рукой не было ни лекарств, ни элементарного инструмента. Местный фельдшер — зачуханный спившийся доходяга неопределенного возраста даже и слушать меня не хотел, стоило попросить у него хотя бы элементарный анальгин. Он смотрел на меня, как на последнее быдло, и даже не пытался этого скрыть. А я, полностью пораженный в своих правах, не мог с этим ничего поделать. Оставалось одно — обратиться к смотрящему.
Тот на мою просьбу понимающе покивал и сказал: «Коста, конечно. Надо будет какие пилюли, вали ко мне. Сходим вместе к этому лекарю». Но «пилюли» были нужны мне каждый день. Так что же, каждый день напрягать Костю Араба? Очень скоро он бы просто послал меня в задницу. И я обращался к нему лишь в самых экстренных случаях. А фельдшер продолжал чуть ли не плеваться при встречах со мной и даже ни разу не удосужился выслушать хотя бы один мой совет. «Уберите этого, — брезгливо кривил он свою красную рожу, — или уйду я. И лечитесь, как знаете».
Но однажды все изменилось. Это произошло на третий месяц моего пребывания в Ижме…
— Разин!!! Разин здесь?! — ворвался в барак один из цириков. — Разин!!!
Я в это время спокойно валялся на своей шконке и читал какую-то чепуху в бумажном переплете.
— Разин!!! Бегом в медпункт! Бегом, я сказал! Что такое? Неужели фельдшеришка вдруг вспомнил, что я врач, и решил обратиться ко мне за помощью? Ну, дела!
Я подскочил как ужаленный и рванул к выходу из барака. И действовал сейчас скорее автоматически, чем сознательно. Сохранился еще во мне инстинкт, не успели изжить его ни тюрьма, ни этап, ни зона. «Если вызывают к больному, надо нестись к нему сломя голову. Ведь дорога любая секунда».
Когда я влетел в лазарет, то обнаружил там такую картину: прямо на полу в процедурной лежал один из прапоров. Совсем молоденький, он обычно дежурил на КПП, и я даже не знал его фамилии. Над ним склонились фельдшер, медсестра и кум [24]. А вокруг разместились несколько зрителей: дежурный по зоне, опер из Абвера [25] и парочка прапоров. Фельдшер неуклюже пытался делать непрямой массаж сердца, толстая старая медсестра стояла раком и через рот вдувала воздух в легкие бездыханного прапора. Кум был на подхвате, вернее, стоял на коленях возле прапорщика и внимательно наблюдал за тем, что проделывают с ним остальные. Меня он увидел, как только я появился в дверях, и, перехватив мой взгляд, кивнул на безжизненное тело и объяснил:
— Полез в щит. Током шарахнуло. Минут семь назад. Остановка сердца. — И добавил: — Двадцать два года. Жена только месяц назад родила. — Я сразу понял, зачем он мне это сообщил. Ведь я в отказе. Ведь это великое западло — помочь цирику. Братвой такое может быть истолковано как открытый переход в стан врага. И у меня будут проблемы. Мягко сказать, проблемы.
А, плевать! Клятва Гиппократа без лишних вопросов сразу перевесила воровские понятия. Сейчас я был лишь врач. Присел перед пациентом на корточки и первым делом проверил зрачки. Так, отлично, рефлекс не утрачен. Значит, еще можно пытаться вытащить. Вот только непрямым массажем сердце не завести. Точнее, слишком мало шансов на это. Здесь надо кое-что посущественнее.
— Что надо, Разин? — вновь подал голос кум. — Ты только скажи.
— Дефибриллятор, — скорее пошутил, чем серьезно ответил я. Какой дефибриллятор в этой дыре?! О подобном, наверное, не слышали даже в поселковой больнице.
— У нас нет такого, — виновато промямлил у меня над ухом фельдшер.
— У вас хоть адреналин есть? И длинные иглы для шприца? — совершенно не рассчитывая на успех, спросил я. И пояснил: — Для инъекции в сердце?
— Только короткие. Стандартные. В упаковочках.
От этой сволочи так и разило спиртягой. «В упаковочках»! Дегенерат! Мне так и хотелось сейчас от души вмазать локтем в его опухшую красную рожу. Мне никто не сказал бы ни слова. Но, увы, совершенно не было времени.
— Ты, хронь, — обернулся я к фельдшеру, — бегом волоки сюда всю спиртягу, что еще не успел вылакать. Скальпель. Перчатки. И перевязочный материал.
Эта тварь даже не шелохнулась.
— Бего-о-ом!!! — вдруг заверещал кум так, что аж затряслись стекла в окнах. А я с сожалением подумал о том, что потеряно слишком много времени. И я ничего не успею сделать.
Но я успел. Этот мальчишка прапорщик, наверное, родился под счастливой звездой. И еще сохранял жалкие шансы на жизнь, когда я начал делать ему прямой массаж сердца. Грудину вскрывать, естественно, было нечем, поэтому разрез пришлось делать под ней. И к остановившемуся сердцу я пробирался окольными путями — словно ехал в Москву через Пекин. И массаж делал вслепую. Без перчаток, которых просто не оказалось, грязной ручищей, лишь спрыснутой остатками спирта. Параллельно контролируя то, как медсестра делает искусственное дыхание.
Все-таки здоровым мужиком был этот прапор. Я запустил ему сердце буквально после нескольких качков. И оно сразу заработало ровно и четко.
— Ты, тварь, — прошипел я на фельдшера, — приготовь мне иглу и шелк. «Пятерку»[26]
— Какую «пятерку»? — проныл фельдшеришка. — Я не знаю.
Ну коне-э-эчно же!!! Я забыл, с кем имею дело! Впрочем, оно и к лучшему. Пусть шьют этого героя электрика в поселковой больнице.
— Найди мне хотя бы пластырь.
А прапор тем временем уже потихонечку начал дышать самостоятельно. У меня появилась возможность перевести дух.
А еще через пять минут из поселка прибыла «скорая» — весьма оперативно, если считать по питерским меркам. Я сдал своего пациента с рук на руки местному доктору, который сразу принялся устанавливать капельницу. А я, пока отмывался от крови, краем глаза наблюдал за тем, что он делает, и очень скоро пришел к выводу, что свою работу этот сельский эскулап знает. В отличие от нашего пьяненького уродца. Что ж, гора с плеч. Можно спокойно возвращаться в барак. Интересно, что там меня ждет?
Оказалось, что ничего страшного. Я уже настроил себя на то, что придется отбрехиваться и отбиваться всеми копытами на правиле [27], которое мне устроят воры, но все обошлось беседой с Костей Арабом.
— Уж коли вытащил этого мусора с того света, — говорил он мне через час после моего возвращения из лазарета, — уж коли избавил хозяина от головняков, так поимей через это для себя привилегий. Прижми под себя лепилу, получи доступ к пилюлям, может, и к тем, что в сейфе у них. Бери баяны[28], капельницы, лечи братву по-нормальному. А к хозяину тебя, зуб даю, позовут уже нынче. Вот ты и торгуйся. Но начнет тебя гоношить официально оформиться, не подписывайся, — посчитал необходимым напомнить мне смотрящий. — Не забывай, кто ты есть. Не забывай, что звезды на коленях наколоты.[29] Как бы не пришлось их наждачкой сдирать…
К хозяину меня вызвали на следующий день. Не успел я войти к нему в кабинет и доложить по всей форме — мол, такой-то такой-то, статья такая-то, начало срока тогда-то, окончание тогда-то, — как он, не здороваясь и даже не поднимая глаз от каких-то бумаг, ткнул пальцем в сторону шеренги стульев, расставленных вдоль стола для совещаний и буркнул: «Вот сюда». Я поразился: ни разу не слышал о таком — чтобы хозяин предложил зеку у себя в кабинете присесть; нашему брату полагалось стоять здесь навытяжку, руки за спину… Уж не ослышался ли я?!
Я все же послушно ткнулся задницей в обитый велюром стул и просидел без дела минут пятнадцать, внимательно наблюдая за тем, как хозяин тупо пялится в свои бумаги. Что ж, его вполне можно было понять: надо же выдержать понт.
Наконец хозяин соизволил обратить на меня свое высочайшее внимание. Смерил меня оценивающим взором, улыбнулся и произнес:
— Ишь, орел… Час назад с больницей разговаривал. Шевчук уже вышел из комы. А на меня главврач наседает: отдай да отдай нам этого доктора. Переведи на расконвойку и отдай. А мы тебе каких хошь лекарств дефицитных отсыпем. Кабинет, говорит, медицинский так оборудуем, что и не снилось… Пойдешь на расконвойку? — неожиданно прямо в лоб задал мне вопрос он. Я аж растерялся. Но чисто интуитивно ответил почти без промедления:
— Нет.
— Коне-э-эчно. — Хозяин поудобнее развалился в кресле и закурил сигарету, даже не подумав предложить мне. Возможно, ему было известно, что я не курю. А возможно, он точно знал, что даже если бы и курил, все равно отказался бы. — Куда же ты без отказа? Авторитет не по дням, по часам растет. Годика через три, глядишь, все зону держать будешь. А в поселке чего? Ну, женишься на какой-нибудь местной, буренке. Спиртягу научишься пить. Детей наплодишь. Скукотища… Ладно, говори, что хочешь за то, что сделал вчера. Уж явно Араб тебе ЦУ надавал, прежде чем ты сюда заявился. Говори, не стесняйся. Чего хочешь?
— Лишь ваших гарантий на то, что против меня не будет применяться репрессий, когда буду бить рожу вашему пьянице фельдшеру. А бить ее буду ему каждый день…
— Пока не перевоспитается? — со смехом перебил меня хозяин. Но я даже не улыбнулся в ответ. — Этот алкаш тут всех уже заманал. И поперли б давно, да где замену сыскать? Ты ж не пойдешь на должность. Да и не ко всему в медпункте допускать тебя можно. Спирт там, наркотики…
— Его тем более, — серьезно заметил я.
— Коне-э-эчно. Все давно на контроле у Ирины Васильевны, медсестра это наша. — Хозяин помолчал с полминуты. Я терпеливо ждал. Наконец он принял решение: — Так. Этого дурака пьяного воспитывай, как посчитаешь нужным. Не прибей только. Я сейчас его вызову, распоряжусь, чтобы все лекарства, какие потребуешь, выдавал тебе без вопросов. А ты завтра иди в медпункт, наведи там ревизию. Кроме наркоты, конечно. Об этом и не мечтай. Вернее, под контролем Ирины Васильевны. И с ее разрешения. Все. Есть вопросы еще?
— Нет.
— Свободен тогда. И давай, воспитывай этого дурака. Не убей только, — напомнил мне на прощание хозяин. — И режим соблюдай.
Он снова уткнулся в свои бумаги, а я вылетел из его кабинета, как на крыльях. И явился к Арабу не на щите, а со щитом.
Смотрящий внимательно выслушал, все, что я ему рассказал про встречу с хозяином, и радостно потер руки.
— Ништяк, Коста. Хозяин, какой бы он мусор ни был, но за свой базар отвечает. Так что, считай, лепила теперь под тобой. Дрючь его во все щели без устали, а как устанешь, только крикни. Поможем. Садись-ка с нами, пошамаем. Разговор есть серьезный.
— Что такое? — насторожился я.
Один из тех воров, которые сейчас находились в «спальне» смотрящего, радостно хохотнул, а Костя Араб состроил на роже торжественную мину и пнул ногой одну из шконок.
— Карман откинется послезавтра. Переедешь на его место. При мне будешь поближе. На маляву, ту, что привез ты с собой из «Крестов», подтверждение подогнали сегодня. Так что все чики-чики. Садись, давай шамать.
Я улыбнулся. И облегченно вздохнул. И, не заставляя себя второй раз приглашать, по-хозяйски устроился за столом, установленным в «спальне». Вот так — впервые за три месяца.
Проклятье! И как же много времени ушло на проверку моего «мандата», выданного в Питере!
Глава 3. Мандат из «Крестов»
В день прибытия на зону после тщательнейшего шмона я первым делом побежал на дальняк и избавился от малявы, которую мне дали с собой в «Крестах». Я не знал, ни от кого она, ни что в ней написано. Единственное, что мне было ясно, так это то, что это мой паспорт, мой мандат, моя характеристика. И я надеялся, что неплохая.
Малява представляла собой небольшой листок тонкой бумаги, туго скрученный в трубочку и запаянный в целлофан, и напоминала обычную капсулу с лекарством, разве что немного побольше размером. Из «Крестов» я ее вынес во рту, готовый в любой момент проглотить, а потом снова вывести наружу самым естественным путем. Но никто ни тогда, ни на этапе особого интереса ко мне не проявлял, а если и шмонали, то очень поверхностно. Так что глотать маляву пришлось лишь тогда, когда я уже прибыл в Ижму. Но этап продержали в трюме баржи, на которой нас сплавляли вниз по одноименной реке от железной дороги в Ухте, еще целые сутки, прежде чем всех рассовали по местным зонам. И я начал уже опасаться, не поторопился ли заглотить свою бесценную «капсулу». А ну как не выдержу, и в результате придется вылавливать ее из вонючей параши. Б-р-р!
Но все оказалось нормальным. Все оказалось даже и к лучшему…
Я тщательно отмыл маляву под краном, а уже через пару часов, зажав ее в кулаке, заявился к смотрящему зоной.
— Чего тебе? — нелюбезно встретил меня в дверях в «спальню» невысокий поджарый типчик с рожей маньяка из голливудских триллеров. Я молча отодвинул его в сторонку, вошел и остановился возле сидевшего за столом Кости Араба. Отодвинутый в сторону типчик что-то злобно прошипел мне вослед, но никаких других действий предпринять не решился. Если кто-то из новых так решительно врывается в гости к смотрящему, значит, имеет на это право. А если окажется, что не имеет…
Для меня во всех отношениях было бы лучше, если бы Костя Араб расценил причину моего такого вторжения как обоснованную.
Это был крепкий мужчина лет пятидесяти с совершенно седой головой и темным от вечного несмываемого загара лицом. Контраст этот настолько бросался в глаза, что, общаясь со смотрящим, трудно было отделаться от впечатления, что разглядываешь негатив. На этапе я слышал от мужиков, что Араб наполовину лезгин, наполовину русский. А в Ижму его этапировали из Самары, где он держал воровской общак.
— Чего тебе? — бросил он на меня безразличный взгляд и отвернулся. В этот момент он был занят важнейшим делом, а именно, вычищал спичкой грязь у себя из-под ногтей.
Я молча положил перед ним на стол маляву. За это смотрящий одарил меня еще одним мимолетным взглядом.
— Присядь, — кивнул он в сторону красивого стула с резной спинкой, явно ручной работы. Я присел, а Араб взял с подоконника лезвие бритвы и занялся капсулой, которую еще три часа назад безуспешно пытался переварить мой желудок. — Обзовись, что ли, — недовольно пробурчал смотрящий, сдирая несколько слоев целлофана, в который была обернута записка. — А то вломился. Кармана вон всего на измены поставил.
— Из Питера я. Костоправ. Братва Костой зовет. По сто пятой сюда.
— Костоправ… — задумчиво пробормотал Араб. — Не знаю такого.
Он с трудом справился толстыми огрубевшими пальцами с трубочкой, в которую была скатана бумажка, поднес ее к самым глазам и начал читать, по-стариковски шевеля губами. Я напряженно ждал. И даже покрылся обильным потом. Даже на вынесении приговора я чувствовал себя гораздо спокойнее.
— Сам-то читал? — Араб отложил маляву в сторону и на этот раз с нескрываемым интересом посмотрел на меня.
— Нет, — покачал я головой.
— А чего же?.. Почитал бы в пути.
— Не мне писано.
— Да, не тебе. Но про тебя. Хорошо писано. Даже не верится как-то. Врач, говоришь? — Смотрящий кивнул в сторону, предлагая мне встать. — А ну, покажь пузо.
Я послушно задрал клифт и продемонстрировал свой шрам, который, наверное, уже давно был занесен мусорами в мое личное дело в качестве особой приметы.
— Довольно, — распорядился Араб, вдоволь налюбовавшись моим уродством. — Вижу, свежий рубец, розовенький еще. И штопали тебя наши сапожники, в тюремной больничке. Тока они так умеют, суровыми нитками. — Он задумался, казалось, на целую вечность. Я терпеливо ждал. И наконец дождался.
— Слушай сюда, Костоправ. Вот что с тобой будем делать…
Мне как бы давался испытательный срок. В течение которого я по мере своих сил и возможностей буду лечить братву от всевозможных болячек, с которыми не может справиться местный фельдшер. А братва в свою очередь присмотрится ко мне повнимательнее — что я за птица, можно ли мне доверять, стоит ли со мной иметь дело? Смотрящий тем временем проверит достоверность малявы, что я притаранил с собой. Ведь это его обязанность — все проверять.
— В какой барак прописали? — спросил он меня.
— В четвертый.
— Иди туда сейчас. Найди Гиви, он за четвертым смотрит. Скажешь, чтоб шконку тебе цивильную подобрал. Я, мол, распорядился. Денька три там покантуешься, потом устрою тебе перевод сюда. И будем ждать, чего братва из Питера подтвердит на твой документ. Может, еще туфта это все. Иди.
И я пошел.
И принялся с нетерпением ждать ответа на запрос Кости Араба. А попутно лечить братву и ту же братву тут же безжалостно обыгрывать в рамс. Очень даже неплохо имея и с того, и с другого. А потому я особо не бедствовал. Даже более того, мог позволить себе откладывать кое-что на черный день. И вообще не имел никаких проблем. Никто, даже законченные отморозки не пытались задеть меня хоть словом, хоть делом. Бугор ни разу не заводил разговор о том, чтобы определить меня на работу. Уже на третий день я нахально прекратил выходить на разводы и с дрожью в душе ждал, что сейчас меня скрутят и бросят в сырой холодный кичман.[30] Или, в лучшем случае, переведут в БУР.[31] Но все про меня словно забыли. Разве что кум…
* * *
Буквально через несколько дней после того, как я прибыл на зону, он вызвал меня к себе в кабинет.
— Присаживайся, — указал он на стул, когда я вошел и даже и не подумал доложиться по форме. А он просто не обратил на это злостное нарушение режима никакого внимания. Предложил мне сигарету, и когда я отрицательно покачал головой, поинтересовался: — Западло у меня сигаретиной угощаться или просто не куришь?
— Не курю.
— Эт хорошо. А мне вот не бросить. Не подскажешь, что делать?
— Не подскажу. Я не нарколог.
Кум улыбнулся леденящей душу улыбочкой и шлепнул на стол пухлую папку.
— Реаниматолог. Я знаю. — Он похлопал ладонью по папке. — Здесь вся твоя подноготная. Все-все-все про твои художества в Питере, Разин. Костоправ… — Кум ухмыльнулся. — Реаниматолог. Решил, я гляжу, в отказ поиграть? К уркам поближе прижался? Малявку небось с собой притаранил? Да только не приживешься ты, Разин, с урками-то. Нет в тебе того, что есть у них от рождения. Интеллигентный ты человек, а на интеллигентах они ездить привыкли, а не чифир с ними пить. Пропадешь. Поэтому слушай, что предложу…
Битый час кум предлагал мне все то, что привык предлагать и остальным, оказавшимся у него в кабинете, и незатейливо действовал по избитой годами схеме, которую изучал еще, наверное, в училище внутренних войск, и про которую мне накануне подробно рассказывал Костя Араб: сначала пряники, потом кнут, потом пряники… и опять кнут. Сперва мне было предложено тепленькое, «придурочное» местечко врача в местном лазарете. Потом я прослушал короткую лекцию об ужасах работы на ДОЗе и в отделении местного леспромхоза. И узнал о том, что если готов ссучиться и поработать на администрацию, то мне уже годка через три светит перевод на расконвойку. Ну и, конечно, сразу последовало еще одно предложение — работать в лазарете, а то и в больничке местного УИНа.[32] Далее кум немного постучал кулаком по столу, покричал о том, что у них есть тысяча способов заставить меня делать все, что они захотят, вплоть до того, что он, кум, может без особых проблем подставить любого вора, подкинув братве по определенным каналам парашу о том, что этот вор — сука. А еще существуют такие паскудные вещи как БУРы или ШИЗО. И отбитые почки. И открытая форма туберкулеза. Я-то, как врач, должен знать, что это такое…
Короче, пустой базар-вокзал, к которому я был готов и из которого ничего нового для себя не вынес.
— Так чего, Разин? Последний шанс тебе принять правильное решение.,
— Нет, — не раздумывая, ответил я. — И даже могу объяснить почему.
— Попытайся, — развалился в своем офисном кресле кум.
— Еще не минуло и года, как меня жестоко подставили. И сначала я был уверен, что сделали это определенные люди. Я даже сумел вычислить, кто. И лишь потом я прозрел. До меня наконец дошло, что копать надо глубже. Вернее, искать надо выше. И предъявлять не кому-то конкретному, а всей вашей прогнившей системе, которая позволила этим ублюдкам меня сюда засадить без особых усилий. Итак, система — соучастник того беспредела, в который я угодил. И этот соучастник теперь предлагает мне на него поработать. Установить с ним какие-то отношения. Нет уж, увольте! Меня заперли — я сижу. А что еще остается? Но ничего… Ничего!!! — Я выделил это слово. — Ничего больше вы от меня не добьетесь. Скорее подохну!
— Значит, подохнешь, — бесцветным тоном подвел итог кум. — Жди неприятностей. Можешь идти.
Я ушел. И начал ждать неприятностей.
Но, по-видимому, меня, камикадзе, решили оставить в покое.
Возможно, в том, что от меня действительно ничего не добиться, кума убедило мое досье. В нем, я уверен, было все и про мою несознанку, и про пресс-хату, и про тот авторитет, который я стремительно набрал в «Крестах». Вплоть до того, что в шестом корпусе, где после суда до этапа меня промариновали почти полгода, я смотрел за большой хатой.
А возможно, кум просто затянул с претворением в жизнь своих угроз, а в результате дождался того, что буквально уже через две недели я был на зоне в непререкаемом авторитете. А как же иначе? Статья, хоть и не воровская, у меня тоже была будьте нате. С ворами я держал себя наравне, и они воспринимали это как должное. Всем давно было известно про мои подвиги в «Крестах», и то, что они действительно имели место, подтверждали несколько зеков, прибывших этапом вместе со мной из Питера. Хотя Косте Арабу требовались какие-то там особые доказательства… Что еще? Конечно, то, что и днем и ночью ко мне мог обратиться любой, — хоть вор, хоть мужик (кроме обитателей барака для пидарасов), — и если я обнаруживал действительно что-то серьезное, то был готов без лишних вопросов оказать врачебную помощь. В меру своих жалких возможностей. Поначалу несколько раз мужики пытались сунуться ко мне с туфтой вроде пореза или небольшого ожога, но я, ничтоже сумяшись, пообещал им лишь добавить болячек, и вскоре беспокоить по пустякам меня перестали. Но если дело требовало того, я был готов бесплатно возиться хоть целый день с каким-нибудь нищим поднарником. А чего с него можно взять?
Никто ничего мне не говорил: мол, молодчина ты, Коста; так держать; правильный ты пацан. Нет, никто не говорил мне ни слова. Зона молчала — зона привыкла молчать. Но зона все видела — от зоны никогда ничего не укроется. Ни хорошее, ни плохое. Я это отлично знал. И старательно набирал очки в свою пользу.
И этих очков уже накопилось немало… ой, немало к тому моменту, когда я на следующий день после встречи с хозяином и с его высочайшего позволения, выгнал пинками из лазарета на улицу пьяного с утреца фельдшеришку и, испытывая неописуемое удовольствие, начал играть его мягким податливым тельцем в футбол на виду у всей зоны. В этот момент в придачу ко всем набранным очкам я взял бонус.
И получил выговор от Кости Араба за то, что не предупредил его о предстоящем представлении, — он пропустил его, попивая в это время в «спальне» чифир.
…Я валял фельдшеришку в грязи. Зона тихонечко выла от неописуемого восторга. Цирики, посмеиваясь, наблюдали со стороны за этим шоу, но даже и не подумывали вмешаться.
Потом я провел ревизию в лазарете и ужаснулся: подобная нищета не снилась даже здравпункту какого-нибудь захудалого алтайского колхоза. Такое впечатление, что все болезни лечили здесь исключительно аспирином и димедролом. Я потратил весь следующий день на составление списка необходимого минимума лекарств для лазарета. И отдал этот список не фельдшеру, а переправил прямо хозяину, не особо рассчитывая на успех. Но — о, чудо! — уже через пару недель мы вместе с Ириной Васильевной принимали по описи лекарства и кое-какое простейшее оборудование, поступившее в лазарет из аптеки больнички УИНа.
Фельдшер на какое-то время бросил пить. Кум, когда мы случайно сталкивались нос к носу, здоровался со мной не привычным сухим кивком, а жизнерадостно ухмылялся и с ехидцей произносил: «Здравствуйте, доктор». Костя Араб молча качал головой и лишь однажды за кружкой чифира задумчиво пробормотал: «Пес тебя разберет, Костоправ. Ты или ангел с небес, или черт знает кто…»
Скорее второе. Я сам тогда не знал, кто я есть. Да и плевать мне было на это. Пусть я стану хоть мертвяком, лишь бы успеть добраться до тех пятерых негодяев, что числились в моем списке. И чем скорее, тем лучше.
Уже тогда я начал всерьез помышлять о побеге.
Глава 4. Воля зовет
В шесть утра подъем для утренней смены. Сквозь полудрему я слышал, как за стеной, отделяющей «спальню» от общего барака, зашебуршились мужики. Кто-то глухо кашлял, кто-то громко материл холодину на улице и свою собачью жизнь. Сейчас отряд построится на поверку, потом строем отправится в столовку, потом в промзону…
Я подумал о том, что не мешало бы встать и посмотреть, как там Колян. Но силы воли на то, чтобы выбраться из теплой постельки, у меня не хватило. И я снова крепко заснул. Принялся досматривать прерванный шумом за стенкой сон. Интересно, что последнее время про волю мне практически ничего не снилось. Похоже, я успел напрочь забыть, что это такое — воля.
Второй раз меня разбудил фельдшер. Приперся, пес, поглядеть, как там Колян, каким-то образом пронюхав, что тот сегодня не вышел на работу, хотя вчера никаких освобождений ему не давали. Но Колян даже не стал разговаривать с красномордым лепилой и сразу отфутболил его ко мне.
— Константин, Константин, — робко тыкал пальцем меня в плечо фельдшеришка.
— Чего тебе? — перевернулся я на другой бок и с трудом продрал глаза.
— Мне сказали…
— А, да, — перебил его я. — Ты чего, падла, за диагноз поставил вчера? Ты почему меня не дождался?
— Я не знал…
— Нишкните вы там, — сонно простонал со своей кровати Костя Араб.
— Я не знал, — шепотом повторил фельдшер.
— Ты, мразь, я ж тебе зубы повышибаю. Почему не сбил больному температуру?
— У него не было тогда температуры, — заныл фельдшер. Я удивился, обнаружив, что ныть, оказывается, можно и шепотом.
— Ты даже не мерил.
— Я по пульсу.
— Ты что же, сука, хочешь сказать, что умеешь по пульсу? — приподнялся я с подушки, готовый сейчас заехать кулаком фельдшеру в рожу. Тот, по-видимому, почувствовал мое настроение и отступил на шаг в сторону. — Чего ты арапа мне гнешь? Чего паришь?
— Эй, Блондин, — опять подал голос смотрящий, — выкинь на хрен этих двоих пиздоболов.
— Все, Араб, — заверил я, — закругляемся. — И поманил пальцем поближе к себе фельдшеришку. — Ты, уродец, быром пошел в лазарет. Гони сюда пенициллин, стрептомицин… — Я шепотом перечислил необходимые мне лекарства. — И не забудь баяны. Ну, пшел.
Фельдшер поспешил бочком выскользнуть из «спальни». Добежать до лазарета, собрать пилюли и вернуться назад — на это ему потребуется минут десять. Пора подниматься. Я заставил себя принять сидячее положение и спустил ноги на дощатый пол. По низу так и веяло леденящим холодом.
— Чё ты, Коста, с ним нянькаешься, с пидарасом? — пробурчал, не открывая глаз, Араб. — Самому западло бить ему рыло, подпиши пацанов.
— Бесполезняк, — вздохнул я. — Ничто этого пидера не исправит. Он алкаш. А алкаши и наркоты — это сам знаешь…,
— Знаю, — сказал Араб и резко сменил тему разговора. — Нынче шоферюга грев нам подгонит. И, може, маляву. По твоему геморрою. Во всяком случае, надеюсь, что будет малява сегодня. Все сроки вышли уже…
Я вздохнул. От этой малявы для меня зависело очень и очень многое. Через нее братва с воли должна была переправить нам свой план неотъемлемой и, пожалуй, самой существенной части моего побега из зоны.
Побега, который вчерне был спланирован уже полностью…
* * *
Впервые о том, что хочу соскочить из ижменского острога, я завел разговор с Костей Арабом еще год назад.
— Мне надо отсюда валить, — сказал я тогда. В этот момент мы находились в «спальне» вдвоем. — Чего думаешь?
В ответ смотрящий лишь хмыкнул и долго молчал. А когда я попытался еще что-то добавить, остановил меня движением руки.
— Ты врубаешься, Коста, каково это — сорваться отсюда? — наконец произнес он. — Из зоны выбраться — нету проблем. Но вот из Ижмы уйти… И отсидеться здесь негде.
— Я понимаю.
— Я тоже… — ухмыльнулся он, — понимаю тебя. Долги на воле, и долги немалые. Може, отсюда братве их перепишешь. Они и займутся.
Мне вспомнилось, как два года назад в «Крестах» я поинтересовался у Бахвы, могу ли заказать Хопина? И как он объяснил, сколько такой заказ будет стоить. Теперь же мне на подобное не надо было тратить ни единой копейки — заказ оплатил бы общак. Или, скорее всего, киллер бы работал бесплатно. Дело за малым: мне надо было этого лишь пожелать. Вот только…
— Нет, — сказал я. — Я это сделаю сам.
Араб молча кивнул. Он знал всю мою историю, быть может, лучше, чем я, и даже по моей просьбе надыбал через питерскую братву целый ворох информации о Хопине.
— Я тебя понимаю, Коста. И правда, надо мочить пидарасов. И делать это тебе самому… А если на побеге спалишься? — Смотрящий уперся в меня пронзительным взглядом.
— Вот тогда закажу этих ублюдков через братву. Араб снова кивнул. И опять надолго задумался.
— Что я скажу тебе, Коста, — наконец пробормотал он. — Сегодня двадцатое. Ровно через месяц мы начнем серьезно думать над этим твоим головняком. А за этот месяц ты как следует покумекай, так ли это надо тебе, что замутил. Може, перерешишь…
— Не перерешу, — перебил смотрящего я.
— И все же через месяц вернемся к этому разговору. Не раньше. А пока закруглились…
Конечно, ничего я не перерешил. Да просто не могло быть такого! Не для того я два с половиной года жил только мыслями о мести, чтобы теперь так взять и за месяц сменить цель всего моего нынешнего существования.
К разговору о побеге мы вернулись уже втроем. К нам с Арабом присоединился Блондин. При этом — как лицо заинтересованное, имеющее твердое намерение составить мне в этой авантюре компанию. У него на воле осталось тоже множество незавершенных дел и долгов, а чалиться ему предстояло еще восемь лет. И на помиловку[33] он, естественно, мог даже и не рассчитывать.
Как многоопытный стратег, Араб сразу разбил весь план на две части. Первая — выбраться за пределы зоны. Вторая — выйти из-под облавы, которую максимум через восемь часов организуют менты, и убраться из Ижмы. Притом успех первой части всей операции полностью зависел от нас самих и от тех пацанов, которых подпишем себе в помощники. Вторая часть казалась нам самой сложной, и без помощи с воли обойтись здесь было никак нельзя.
Из поселка на «материк» можно было добраться только тремя путями. Первый — на вертолетах, которые раза два-три в неделю летали отсюда в Ухту и Печору, — отпадал сразу. Мы не были безмозглыми отморозками, чтобы решиться на вооруженный захват, а так просто проникнуть на борт не представлялось возможным. Второй путь — разбитая в хлам грунтовка, которая вела вдоль реки до Сосногорска (там можно было бы пересесть на поезд) и по которой могли пробраться разве что лесовозы и внедорожники. Да и то лишь зимой или более или менее сухим летом, когда на дороге замерзали или, соответственно, подсыхали необъятные лужи, больше напоминающие небольшие болотины. Но даже если в момент побега эта грунтовка до Сосногорска окажется проходимой для транспорта, соваться на нее — все равно что добровольно отдаваться в лапы легавых. А они-то, обнаружив побег, уж постараются наставить постов на протяжении всех двухсот пятидесяти километров до железной дороги. А ехать до Сосногорска при средней скорости менее чем 20 км/ч — более полусуток. Да еще надо потратить время на то, чтобы захватить подходящую машину… Нет, это не вариант. Так же, как не вариант и то, чтобы пытаться уйти вверх по реке. Та же история, что и с грунтовкой. Те же, как минимум, двенадцать часов до «железки». И быстрее никак, даже если удастся раздобыть хорошую дюральку с мощным «ямаховским» или «саабовским» (а почему бы не помечтать?) мотором. Другой вариант — пытаться пробраться на баржу или плоты строевого леса, которые буксиром подтягивают вверх по реке до Сосногорска. Вот только баржи проходят мимо Ижмы в среднем два раза в день — не чаще. Да и попробуй забраться на эту баржу незамеченным. А плоты — так это вообще бред…
— Нет, река — чистое палево, — рубанул рукой воздух Араб. — Уходить отсюда придется тайгой. — Он уткнулся в скудную пятидесятикилометровую[34] карту Коми АССР, выдранную из какого-то атласа. — И не в Печору или Ухту. Там мусора все перекроют. Ждать будут вас там. А вот если на запад или на север…
— Ну и куда мы придем, если попремся на север? — перебил я.
Араб озабоченно уткнулся носом в карту.
— А Бог его знает. Отойдете подальше от Ижмы, а там вас встретит братва и сплавит по Печоре до Нарьян-Мара.
— Нет, — покачал головой я. — Нарьян-Мар — это тупик. Оттуда придется выбираться на самолете. Проходить в аэропорту ментовский контроль. Очень рискованно. От самолетов лучше вообще отказаться.
— Согласен, — пробормотал смотрящий, прикладывая к карте линейку. — Та-а-ак… Если идти на юго-запад через тайгу, то до Кослана четыреста километров. А там есть «железка». Да и мусора, скорее всего, там ждать вас не будут.
— Они везде будут ждать, — впервые подал голос Блондин.
— Я хочу сказать, — пробормотал Араб, продолжая что-то вымерять по карте линейкой, — что не так будут ждать, как, скажем, в Ухте. Да и попробуем найти, у кого в Кослане перекантуетесь, если чего. Плохо, поселок маленький, вроде нашей дыры. Все на виду… Как ты, Коста? Сможешь пройти по болотам по здешним четыреста верст?..
К концу своего первого военного совета мы приняли такое решение.
Вопрос о побеге из самой зоны, как наиболее простой, отложить на потом и полностью сосредоточиться на проблеме отхода из Ижмы. А вот уж в эту тему самим даже не лезть. Поручить ее разработку братве с воли. У них не в пример больше возможностей, чем у нас. Они наведут необходимые справки, подберут верных людей и надежные хаты. Они смогут провести рекогносцировку…
— Сколько уйдет на это времени? — спросил я.
— А ты не торопи, Костоправ, — посмотрел на меня исподлобья Костя Араб. — Спешить в таком деле — значит, спалиться. Недельки через две с одним пацаном отправлю малявку. И спецом отпишу братве, чтобы не торопились, чтобы все по десять раз перепроверили, все заусенцы учли, какие могут случиться. Чтобы ты вышел отсюдова, а дальше чтобы тебя повели, как по проспекту. Може, месяца три уйдет на подготовку, може, полгода…
«Дьявол, полгода! — подумал я. — Но ведь к тому времени наступит зима. Морозы под пятьдесят. Вьюги. Полуметровые сугробы. В таких условиях через тайгу четыреста километров — проблема даже для привычного к местным условиям ненца. А что же говорить обо мне? После зимы наступит весна. И разлившиеся в озера непроходимые болота. Тоже о путешествии через тайгу нечего думать. Значит надо ждать лета. До которого еще больше года. О, черт!»
— Наберись терпения, Коста, — еще раз сказал Араб и поднялся из-за стола. — Все, закончили на сегодня. Малявку потом отпишу. И ждать будем…
Ждать! Я ждал уже два с половиной года. И предстояло еще, как минимум, полтора. Сжав зубы. Отодвинув в сторону все эмоции. На карту было поставлено слишком многое, чтобы пороть горячку, чтобы пытаться переть напролом. Рисковать тем, что вообще никогда не смогу добраться до Хопина и Ангелины.
— Что, брат, потерпим здесь еще годик? — сильно хлопнул я по саженному плечу Блондина, и он радостно осклабился, блеснув золотой фиксой.
— Потерпим, Коста. Чего не терпеть в санатории северном энтом? Ты вон мужиков лечишь, книжки читаешь. Не скучаешь. Мы навроде как тоже. Потерпим.
Полтора года! О-о-о, дьявол!!! Но делать нечего. И правда, потерпим.
Я сжал зубы и начал терпеть.
Глава 5. «Ради человеколюбия…»
До вечера я исколол Коляну всю задницу, строго-настрого запретил потреблять чифир, а вместо этого напоил своего пациента горячим приторно-сладким купчиком,[35] в который от души плеснул спирта, конфискованного у фельдшера. Вторую порцию такого же целительного напитка у меня выклянчил здоровый как бык Блондин.
Температуру мне удалось сбить почти до нормальной, хрипов в правом легком так и не появилось, и теперь я был совершенно уверен в том, что все обойдется. Колян, крепкий деревенский мужик, отлежится и уже через пару недель будет как новенький.
Он валялся, чуть-чуть разомлевший от спирта, на своей шконке и, укрытый несколькими одеялами, обильно потел. Читал толстую книгу Астафьева и был совершенно доволен жизнью. А тут еще — как же кстати! — именно сегодня ему подогнали письмо от жены и дочки. Огромное письмо на нескольких листах.
— Пишет, — хвастался Колян мне и подошедшему проведать его Арабу, — что будут дом продавать, и сюда. Все одно, у нас на селе все развалилось. Ни совхозу тебе, ни хрена вообще. Одним огородом живут. Даже корову забили. Косить некому, сена купить — туда же, нет денег. А тут, глядишь, по помиловке уйду…
— И уйдешь, — перебил его смотрящий. — Коли баба сюда подъедет, да жилье прикупит какое, хрен ли тебя здесь держать. Пойде-о-ошь по помиловке, как миленький.
— И я вот о том же…
Я влез в кирзачи, накинул новенькую телогрейку и отправился в лазарет. Фельдшера не было, и там хозяйничала одна Ирина Васильевна.
— Здрась, тетя Ира.
— А, Костик! — Она сидела за эмалированным медицинским столиком и жевала бутерброд с красной рыбой. — Садись, почаевничаем.
— Нет, спасибо, я сытый, — благодарно улыбнулся я. — Я вот чего к вам зашел. Мне стетоскоп нужен, градусник и граммов сто спирта.
— Чичас, — пробурчала набитым ртом медсестра. Я терпеливо дождался, когда она дожует. — А спирт-то зачем тебе, Костик? Сам решил выпить? — Она отлично знала, что я не пью, и просто шутила так. — Или больному?
— Больному.
— Больно-о-ому? Это тому, что с пневмонией лежит? Вот не слыхала ни разу, что спиртягой-то лечат.
— Лечат. Понемножку, конечно. Да и жопу надо чем-нибудь мазать. Я ж ему укол за уколом…
Ирина Васильевна тяжко вздохнула, вылезла из-за столика и отворила сейф.
— Костик, а ну, подмогни. — И из пузатой бутыли мы набухали целую трехсотграммовую мензурку спиртяги. При этом, как ни сопротивлялась медсестра, я давил горлышко бутыли вниз до тех пор, пока мензурка не наполнилась до краев. — Ах, паразит! — беззлобно ругалась обманутая мною Ирина Васильевна. — Вот ведь рестант! Чтоб еще раз попросила помочь… Чтоб вы подавились этим спиртягой.
— Не подавимся, — веселился я. — Все на жопы уйдет.
— Знаю я ваши жопы. — Медсестра достала из шкафчика старенький, но проверенный стетоскоп и торжественно вручила его мне. — Не потеряй. А градусника не дам. Знаешь ведь, не положено.
Да, это я знал. Какой-то идиот из начальства вообразил, что как только градусник попадет в руки зеков, так они сразу же вынут из него ртуть и устроят теракт — пропитают этой несчастной капелькой ртути весь пол у себя в бараке. Дурдом, но не мне было оспаривать все дурацкие правила, которых пруд пруди было на зоне.
— Может быть, все же… — заикнулся я, но Ирина Васильевна состроила строгую физиономию.
— Константин! Не доставай меня лучше. Ты и без градусника по пульсу определяешь так, что и не снилось. Давай, лучше чайком тебя напою.
Сдался мне этот чай. Сейчас приду в барак и запарю такого чифиру!
— Нет, спасибо, Ирина Васильевна. Пойду я, пожалуй.
— Иди, Костик. Обращайся, если чего. — И медсестра принялась извлекать из пакета еще один бутерброд с красной рыбой. А я, довольный добычей, о какой даже не смел и мечтать, поспешил к себе в отряд.
И у входа в барак нос к носу столкнулся с мужиком, тащившим большую картонную коробку, До отказа набитую всевозможной провизией. Наружу предательски выглядывала палка сырокопченой колбасы и горлышко литровой бутылки водки. И за всей этой картиной с ехидной улыбочкой на устах наблюдал кум. Он стоял метрах в двадцати от входа в барак и, когда мы встретились взглядами, поманил меня пальцем.
— Ну, чего? — недовольно пробурчал я, но все-таки подошел к нему — зачем лишний раз проявлять норов, когда этого совершенно не требует ситуация.
— Гляжу, провиант получили, — хмыкнул кум, в упор разглядывая меня. Что он на мне надеялся разглядеть — не разумею. Неужели не намозолил ему глаза за три года? Меня, например, так уже мутит от него. — Дружная воровская семейка. Совсем обнаглели. Водку уже в открытую таскаете к себе. Скоро блядей начнете водить сюда из поселка… Я когда-нибудь вашего поставщика к ногтю и под суд.
— А смысл? — спросил я. — Ведь другого найдем.
— Найдете. Куда же вы денетесь? Кушать-то хочется… Эт-та у тебя чё? — Кум обратил внимание на склянку со спиртом, которую я держал в руке.
— Спирт.
— Спи-ы-ырт? Во, мать твою, Ирина Васильевна! Я к ней подойду, так хрен она мне чего отольет. А этому…
— Вам спирт нужен, чтоб пить. А мне — лечить человека. — Я добавил в голос металла. Менее чем за минуту общения этот придурок успел меня порядком достать. Я хотел домой. Я хотел горячего чифира. И мог просто развернуться и уйти без разрешения, не попрощавшись. Хрен бы чего за это сделал мне кум. Ручонки не доросли! Это если в открытую. А вот исподтишка… У этого негодяя был огромный запас всевозможных пакостей. И потому я решил повременить с радикальными мерами. Стоял и терпеливо ждал, когда куму наскучит мое общество. Но все оказалось иначе, чем я предполагал.
— Я ведь здесь специально стою, тебя дожидаюсь, — удивил меня кум подобным признанием. Пришел сам, не вызвал, как обычно, к себе в кабинет. Да еще терпеливо ждал меня возле барака, пока я не закончил свои дела в лазарете!
Мне стало интересно. Очень интересно. Я даже забыл о том, что только что мечтал запарить чифирка. И что вдруг понадобилось от меня неприступному провокатору куму?
— Такое вот, Разин, дело, — на секунду замялся он. — Хочу обратиться к тебе с небольшой просьбой. Личной, так сказать… И сразу предупреждаю, что если откажешь, зла держать на тебя никакого не буду. Никаких, так сказать, репрессий.
«Понты гнешь, сука ментовская, — сразу подумал я. — „Никаких, так сказать, репрессий"? А хрен ли ты мне сейчас мозги пачкал насчет того, что доберешься до нашего шоферюги, который гоняет с воли продукты и травку? Вот тебе и репрессия, если я тебя сейчас пошлю на хрен. Не дурак я, сразу прочухал этот тонкий дипломатичный намек. И ты, падла, понимаешь отлично, что я прочухал и тысячу раз хорошо подумаю, прежде чем отказать тебе в этой твоей „небольшой личной просьбе"».
— Завтра ко мне из Москвы приезжают сестра моя с дочкой, — издалека принялся излагать мне свою просьбу кум. — С племянницей, значит. И племяшка эта у меня останется больше чем на год. Дело такое, что она наркоманка. Торчит на героине. В Москве отвадить ее не удается от этой отравы, а сюда, в Ижму, слава Богу, она еще не проникла. Разве что по зонам гуляет немного, но в поселке окромя анаши других наркотиков и не пробовали.
— Да, удачное местечко, — согласился я, — чтобы девочка здесь перекумарилась. Ей на это потребуется не менее года.
— Я знаю. Потому и…
— Сколько лет девочке? — перебил я.
— Пятнадцать, — вздохнул кум. — А ведь такая умница. В школе…
Все эти эмоции были мне до фонаря, и поэтому то, что там «в школе», я пропустил мимо ушей. Меня больше беспокоило, за каким таким лядом я понадобился этому заботливому дядюшке. Ведь я не нарколог, хотя в те счастливые времена, когда работал в скорой, имел с наркоманами дело почти каждый день. Но то было совсем другое — я их вытаскивал из передоза.[36] Но как снимать тягу к наркотикам, не знал даже примерно.
— …и теперь пропадает, — тем временем продолжал декламировать кум. — Вот и хочу проконсультироваться с тобой, Разин.
— Я в этих вопросах не разбираюсь, — развел руками я. — Здесь нужен нарколог или, как минимум, психиатр. — И, уже почти отказавшись, зачем-то спросил: — Как давно она на игле?
— Три года.
— С двенадцати лет… — пробормотал я. — Какой дозняк суточный у девчонки сейчас?
— Ой, я не знаю, — проныл кум. — Что-то много… Нет, не знаю.
— Она переламывалась, прежде чем ехать сюда?
— Что такое? — не понял мой вопрос кум.
— Я спрашиваю, она торчит сейчас или нет? Будет ее колбасить, когда прибудет сюда?
— Думаю, будет. Вот я и хотел бы, чтобы ты ей помог. Какие надо будет лекарства, постараюсь достать.
Я ухмыльнулся. Мой рейтинг у кума был явно повыше, чем местных врачей. А еще, кажется, он очень любил свою племяшку, иначе никогда не обратился бы ко мне с такой «небольшой личной просьбой».
— Насколько я знаю, в поселке есть неплохая больница, — заметил я, и мой собеседник безнадежно махнул рукой.
— Какое там неплохая? Одни мясники… Послушай, Разин. Они прилетят завтра утром. И сестра меня уже предупредила по телефону, что девочке будет очень плохо. Не ради меня, ради человеколюбия…
«Bay! Какой же возвышенный штиль!» — подумал я.
— Я понимаю, конечно, что такое может выйти тебе в зоне боком, — тем временем продолжал наседать на меня кум. — Так ты посоветуйся со смотрящим, с братвой. Чтоб все по понятиям. Объясни, что добра, как и зла, я никогда не забываю. Если случится чего — тоже приду на выручку. А, Разин? Поговори.
«И что же за девочка сюда едет такая? — размышлял я, пораженный тем, что впервые за все время, проведенное в зоне, услышал в голосе жестокого и насмешливого кума просящие нотки. — Никакая, наверное, не племяшка, а, скажем, внебрачная дочь. Впрочем, какое мне до этого дело?»
— Ладно, поговорю. Сегодня же, а завтра утром передам с кем-нибудь ответ. — Мне уже основательно поднадоело топтаться на холоде. К тому же очень хотелось узнать поскорее, а не пришла ли с воли столь долгожданная малява. — Все, до свидания. — Не дожидаясь ответа, я направился в барак и спиной прямо-таки ощущал, как кум буравит меня своим рентгеновским взглядом: мол, попробуй только ответить на мою просьбу отказом. Сгною в ШИЗО. Переведу на другую, сучью,[37] зону. Не хрен на нашей, черной, как сыр в масле кататься. Только откажись, докторишка дешевенький.
М-да, всем проблемам проблема…
— Чего мусор хотел? — встретил меня вопросом Араб. Они с Блондином, грузином Гиви и смотрящим за третьим бараком Вовой Кассиром увлеченно разбирали коробки с гревом, которые сегодня доставил нам шоферюга.
— Короче, братва, такой базар получается… — начал я, передавая Блондину склянку со спиртом. Устроился за столом и подробно пересказал весь разговор с кумом. Меня внимательно слушали, не прекращая в то же время сортировать продукты.
— Ишь ты, шакал, — подытожил Костя Араб, дослушав мой рассказ до конца. — Добро умеет, грит, помнить? Ну, посмотрим, посмотрим. А ты, Коста, иди завтра, осмотри эту наркоту. Не западло это, не боись. Не самого же кума тебе лечить, а мокрощелку неумную. А потом, глядишь, с этого правда чего-нибудь выгадаешь. И братве вдруг польза получится. Во всяком случае, этот мусор не начнет нам гадить из-за угла. Вот так, — подвел черту он. Вроде того, как гордые индейские вожди в фильмах с участием Гойко Митича напыщенно произносят в конце своих монологов: «Я сказал».
Я сходил проведать Коляна и остался доволен его состоянием. Сделал укол и сидел у него на шконке, терпеливо выслушивая его рассказы о том, какие, хорошие у него жена и дочка. И как здорово будет, если они переедут сюда.
В этот момент с работы вернулась утренняя смена, принеся с собой аромат морозного дня, перемешанный с запахами древесной стружки, солярки и солидола. В бараке сразу стало многолюдно и неуютно. Пора было валить отсюда в «спальню». К тому же я вспомнил о том, что не спросил у Кости Араба про маляву. Впрочем, ее, наверное, все еще нет, иначе смотрящий, конечно же, сразу сообщил бы об этом. Он знает, с каким нетерпением я жду эту весточку с воли.
— Пойду, — поднялся я. — Попозже чай приготовлю такой же, как утром. — И поискал глазами сопляка-баклана, которого нынче ночью валял по полу. Он сидел на корточках возле своей тумбочки и увлеченно перекапывал в ней свой скарб. Я неслышно подошел к нему сзади и хлестко зазвездячил ногой по дверце. Она захлопнулась с громким щелчком пистолетного выстрела, чуть не прижав пальцы бакланчика. Того аж тряхануло от неожиданности. Он вскочил на ноги и вытянулся передо мной разве что не по стойке «смирно».
— Не уходи никуда. Через часок к себе вызовем, — негромко сказал я и, не дожидаясь ответа, направился в «спальню». Но в дверях меня перехватил Блондин.
— Коста, иди-ка, иди сюда. — Он прихватил меня за локоть и потащил за собой в дальний угол барака, где была оборудована сушилка. — Слушай сюда, — скороговоркой зашептал он. — Малявка пришла от братвы. Та, что мы ждали. Араб ее пока не вскрывал, заныкал куда-то. Пока
эти рты, — Блондин имел в виду Кассира и Гиви, — в «спальне» кантуются, светить ею не стоит. Рано им пока знать. Надо будет, сами их просветим. А пока потерпим децл еще. Айда, там уже к обеду накрыли…
Мы с трудом разместились за узким столом, заставленным разнообразной снедью, которой позавидовал бы любой из вольных жителей Ижмы. При этом самое почетное место на этом богатом столе занимала литровая бутылка «Столичной». Еще одна такая же дожидалась своей очереди под столом.
Выпили по первой… закусили… обсудили что-то несущественное и неинтересное. Скукотища! Выпили по второй… закусили…
— Скукотища! — потянулся, хрустя суставами Араб. — А чё там, Коста? Где этот твой фраер дешевый, который базар не фильтрует. Править-то будем?
— Ждет, когда позовем, — сказал я и захрустел соленым огурчиком. — Предупреждал сейчас его.
— Вот и отлично. Блондин, — распорядился смотрящий, — сгоняй-ка быром за этим. Въезжаешь, о ком мы?
— Ага. — Блондин тяжело вылез из-за стола, а уже через полминуты затолкнул в «спальню» мальчонку-баклана, который тащил с собой облезлый, затертый задницами табурет.
— Вот сюда ставь, — неопределенно ткнул пальцем в пространство Араб и уточнил: — Посередине комнаты. И сам садись. Блондин, тебя дверь за собой закрывать не учили?
Мы пропустили еще по одной, и пока не торопясь занимались этим немаловажным делом, бакланчик успел основательно вспотеть. Лоб блестел в свете яркой стоваттовой лампочки частыми круглыми капельками, а линялая зеленая футболка потемнела под мышками. Интересно, а что бы я ощущал на месте этого погашенного щенка? Сидя на табурете посреди воровской хаты? Дожидаясь, когда братва хлебнет водяры и, пьяно куражась, начнет изобретать наказание? Наверное, вспотел бы еще не так. Впрочем, в пресс-хате наверняка было страшнее, чем на правиле. Хотя не помню. Уже ничего не помню. Как-то стерлись воспоминания об эмоциях, посетивших меня в тот момент, когда собирался вспарывать себе брюхо. Оно и к лучшему.
— Как тебя зовут хоть, сынок? — промурлыкал Араб, дожевав кусок ветчины, и вместе со стулом развернулся к баклану.
— Александр, — дрожащим голосом пискнул тот.
— Алекса-а-андр. Красивое имя. А погоняло?
— Нет погоняла.
— Нет, говоришь? — тяжко вздохнул Араб, а вошедший во вкус Блондин, принялся набулькивать еще по одной. — Нету, так будет. Язык — тебе погоняло. Потому как язычок тебе сейчас децл подкоротим. Чтоб он, значит, поменьше болтал. Правильно, Саша? Верно мы сделаем?
Язык округлил от страха глаза и быстро закачал головой — мол, нет, совсем неверно. Вот только кто бы считался здесь с его мнением?
— Чего ты, падла, сегодня ночью базарил?! — резко сменил тон смотрящий. — Ты на что намекал?!
— Да я пошутил, — попробовал улыбнулся бакланчик. Это у него получилось плохо.
— Пошути-ы-ыл? — проскрипел Араб. — А ты мозгой шевелил, прежде чем так шутить? Ты подумал хотя бы, над кем так шутишь? Коста тут, понимаешь, ночами и днями не спит, не доедает, братву от болячек лечит. Все головняки у него за вас, за поднарников, чтобы легче вам чалилось, чтобы не поиздыхали в дерьме. А тут какая-то сявка, которая и зоны толком еще не топтала, с ним вот так шутит. Разве что пидером не называет. И на том спасибо, Язык. Чё делать-то будем? За базар отвечать ведь придется.
— Я готов извиниться.
«Спальня» грянула оглушительным хохотом. Так, что даже покачнулся стол. Так, что заволновалась в пластиковых стаканах разбанкованная Блондином водка. Заволновался и сам Блондин.
— Айда выпьем, — протянул он смотрящему его стакан. И наколотый на вилку соленый огурчик.
— Говоришь, извиниться? — поинтересовался Араб и лихо опрокинул в себя свою порцию водки. — Фу, блядь, отрава!.. Так, говоришь, извиниться? Ты себя что ли в школе вообразил? В пятом классе? Язык, раздвоением личности, случаем, не страдаешь?
Бакланчик молча покачал головой.
— Отвечай, падла!!! — тут же чуть не взлетел со своего стула смотрящий. — Словами отвечай, когда спрашиваю! Что делать с тобой, с мудозвоном?
— Пусть Коста меня изобьет, — простонал тот. — Мне вчера уже здорово досталось. Пусть добавит, и отпустите меня, пожалуйста…
— …к маме, — добавил Кассир. — Чё, Коста? Добавлять будешь этому мудаку?
— Да в лом, — развел руками я. — Правьте сами, как пожелаете. — И внешне безразлично начал намазывать на кусок черняшки паштет. Хотя мне было совсем не наплевать на то, что именно я явился первопричиной того, что неразумный мальчишка оказался на этом пьяном правиле. Идиот! Нет, чтоб самому как следует отхерачить этого сопляка и напрочь забыть про все, что случилось! А теперь ему уже ничем не помочь. Балом здесь правит Араб. Как он решит, так и будет. А мой голос лишь совещательный.
— Ша, пацаны! — прошипел уже заметно пьяный смотрящий. — Сейчас поправим сявку позорную. Гиви, ты выпил? Ништяк. Тогда займись этим… блядь, Александром. Подкороти-ка ему язычок. Тебе ж не впервой? Или бычье сюда вызывать?
Высокий худощавый Гиви в ответ лишь плотоядно улыбнулся и, неуловимым движением выхватив из кармана нож-выкидуху, выскользнул из-за стола. Чуть слышно щелкнула тугая пружина. Блеснул узкий хищный клинок. Щенок Александр побледнел.
— На колени вставай перед стулом, — почти без акцента приказал грузин. — Язык вываливай.
— Не-э-эт! — взвыл баклан и даже не шелохнулся. — Ну, пожалуйста-а-а.
— На колени, падла, сказал! — Гиви зацепил свою жертву за шкварник и, не прилагая особых усилий, опрокинул на пол. — Тебя пидарасом сделать сейчас? А? Хочешь в жопу тебя сейчас отымею? А? Не слышу?
— Не-э-эт!
— Не слышу!!! — Грузин зацепил Языка за штаны и потянул их к щиколоткам. На секунду заголились тощие бледные ягодицы, прежде чем баклан извернулся, как кошка, вцепился в штаны и натянул их обратно.
— Пожа-а-алуйста!!!
Гиви широко замахнулся и от души влепил ребром ладони мальчонке по почкам. Того изогнуло, как червяка.
— На колени, падла! Язык на стул! Еще один выкидон, и пидером будешь! Бля буду, будешь! Араб, опущу я ща эту Маньку?
— Опускай, — без излишних эмоций согласился смотрящий.
— Не-э-эт, братва!!! — отчаянно заверещал бакланчик. — Режьте язык! Лучше его! Вот! Вот! — Он подполз к табурету, уткнулся рожицей в торец седушки и вывалил покрытый нездоровым белым налетом язык. При этом щенка колотило так, будто к нему подсоединили как минимум 220 вольт.
— Чего, Араб?! — надрывался распалявшийся на глазах грузин. — Чего делать мне?! Пидарасить?! Язык резать?! Чего делать, скажи?!
— Погоди, Гиви. Передохни, — произнес я и наклонился к уху смотрящего. — Отдай мне эту соплю. Сам с ним закончу и вышвырну на хрен. Ага? Забираю?
— Забирай, — барским жестом подарил мне холопа пьяный Араб.
— Гиви, отвали, — тут же распорядился я. — Иди за стол.
Грузин зыркнул на меня огненным взором, но ослушаться не решился. Сложил выкидуху и отступил в сторону от бакланчика, который так и продолжал стоять на коленях у табурета, вывалив наружу бледный язык. «Не свихнулся бы, молокосос», — подумал я и подошел к нему. Крутанулся вокруг оси на триста шестьдесят градусов и закатал сопляку пяткой в лобешник. Он отлетел от табурета, совершил прямо-таки цирковой кувырок и влип в оклеенную веселыми цветастыми обоями стену.
— Юшкой не перемажьте здесь ничего, — пробурчал у меня из-за спины Костя Араб.
Я ничего не ответил. Сграбастал Языка за шкирятник и перевел его в стоячее положение. Он покачнулся, но на ногах удержался. И тут же я головой засадил ему по зубам. И даже услышал, как они мерзко хрустнули, изломанные и вдавленные внутрь. «Четыре передних», — прикинул я, и, придерживая Языка левой рукой, не давая ему опуститься на пол, правой заехал ему по ребрам, сломав при этом, как минимум, два. Потом распахнул ногой дверь из «спальни» и с разгону запустил отрубившегося баклана в барак.
— Заберите это дерьмо! — проорал мужикам и, вышвырнув вон ненужный уже табурет, плотно прикрыл за собой дверь. — Будет с него, — сказал братве и снова устроился за столом. — Надолго запомнит. Блондин, чего в стаканах-то пусто? Разливай давай, брат.
Блондин поспешил достать из-под стола вторую бутылку и, матерясь, принялся воевать с прокручивающейся винтовой пробкой.
— А ведь чуть не отчухали сявку ущербного, — задумчиво пробормотал Араб, накалывая на вилку очередной соленый огурчик. — Спас ты его, Коста. Доктор — ты доктор и есть.
Я удовлетворенно хмыкнул. Ведь действительно, спас сейчас дурака от самого страшного беспредела, какой только можно придумать на зоне. Ладно, что вышиб щенку четыре резца, зато братва, если даже сегодня и перепьет, опускать его даже и не подумает. Отвечать по два раза за один и тот же проступок здесь никогда не заставляют. И выбитые зубы — это нечто навроде индульгенции, которую Язык может предъявить и спокойно сказать: «А меня уже наказали». И никто его больше не тронет. Так что пусть молится на меня, идиот…
До глубокой ночи у нас стоял дым коромыслом. Уже после отбоя Блондин выковырнул из шконки одного из мужиков, Андрюшу Зубатого, набухал ему полный стакан водки и заставил играть на гитаре.
— Воровское чего? — пытался определить репертуар Зубатый, с превеликим трудом настраивая раздолбанный инструмент и бросая жадные взоры на бутылку с разбавленным спиртом, который сегодня я принес из лазарета.
— Не, генацвале. Ты чего повеселее, пожалуйста, — замахал руками Гиви. — Про волю. Про баб чего-нибудь, брат.
— Ну-у, — задумался Андрюша. — Не припомню про баб ничего. А вот есть одна песенка. Только старая она. Я ее лет десять назад написал. Еще при Горбачеве.
— Да и ништяк, — пробубнил Блондин. — Хоть при Горбачеве, хоть при Сталине с Лениным. Нам ведь насрать. Ты, главное, знай музицируй. — Он плеснул в стакан из бутылки. — Это тебе. Вот исполнишь, как следует, — выдам. Давай, братан, не менжуйся.
Зубатый быстро пробежал пальцами по струнам, смущенно кашлянул и, взяв баррэ ля минор, набрал темп.
На окне моем во клетке канарейка желта плачет. За окном свою соседку я намедни испортачил. Целовал ее активно, лежа под кустом малины. Комары меня кусали прямо в обнаженну спину. Комары такие мрази! Ненавижу! Ненавижу! Говорят, они кусают разве только для престижу. «Мол, попался нам ударник, тракторист-механизатор. Искусали трактористу весь его рабочий зад». Я скажу вам: «Вашу мать! Мне на комаров насрать! Процветала б лишь страна родная. Раз у власти Горбачев, несмотря на комаров, Я другой такой страны не знаю!» На окно свое защиту изготовлю я из марли, Комарам скажу сердито: «Нате выкусите, падлы!», Дихлофосом вместо мыла я свое умою тело, Проберусь к подруге милой огородами на дело. Будем мы лежать уютно в буйных зарослях капусты. Будет после секс-сеанса на душе легко и пусто. И Будет на восток ложиться штрих утра кроваво-красный. Будут комары кружиться над моей спиной несчастной. Я скажу вам: «Вашу мать! Мне на комаров насрать! Процветала б лишь страна родная. Раз у власти Горбачев, несмотря на комаров, Я другой такой страны не знаю!»[38]Под этот оптимистичный аккомпанемент я, уже здорово пьяный, перебрался к себе на шконку — сил на то, чтобы сидеть за столом, почти не осталось. Напротив меня на своей двуспальной кровати с никелированными спинками уже вовсю храпел Костя Араб. Сегодня у него так и не дошли руки до долгожданной малявы. Впрочем, я его понимал. Да и днем больше, днем меньше…
— Эй ты, скоморох. На два тона пониже, — пробурчал я Зубатому, отворачиваясь к стене. — И вообще, братва, сворачивайте гулянку.
Никто меня не слушал, но повторять более настойчиво я не стал, хотя мог бы разогнать эту пьяненькую компашку без особых проблем. Но… «Черт с ними, — великодушно решил я. — Пускай оторвутся. Не каждый же день». К тому же я давно привык спать при свете и шуме, не обращая ни на то, ни на другое никакого внимания.
«Проклятье! Ну и тяжелый же выдался сегодня денек», — подумал я, засыпая. Откуда-то издалека до меня доносилось бренчание дешевой гитары и надрывный голос Зубатого:
Ночь умерла, и кровью взорвался восток. Заспанный день расплескал по долине туман…Черт, «заспанный день»… Ну, рифмоплет!
Последняя мысль, промелькнувшая у меня в голове, прежде чем я окончательно заснул, была о том, что завтрашний «заспанный» день, похоже, окажется еще более насыщен событиями, чем сегодняшний.
Глава 6. Особенности национального дайвинга
Наутро смотрящий трясущимися с похмелья руками распаковал маляву и долго читал ее, близоруко щурясь и шевеля губами. Слишком долго. В конце концов я не выдержал: — Ну, чего там, Араб?
— Погоди. Не торопи ты меня. Год терпел, потерпи еще децл.
И еще десять минут смотрящий испытывал мое терпение. Потом кликнул застрявшего за каким-то лядом в бараке Блондина, тщательно прикрыл дверь, задвинул запор.
— Такие дела, пацаны, — пробормотал он и уселся за стол. — Ждет вас летом братва. В Кослане готова малина. А до Кослана вас поведет один местный. Из Усть-Цильмы он, так что места эти знает. Охотник, рыбак. Короче, таежник. Мужик правильный, чалился с корешком моим. Тот за него отвечает. Тута вверх по реке в восьми километрах от зоны есть избушка охотничья на другом берегу, так этот рыбак на лето поселится там и ждать будет вас. Легавым, если чего, арапа заправит, будто с бабой посрался и на все лето из дома свалил. Он, в натуре, так и поступит. Если начнут копать под него мусора, все сростется у них. И ксива у этого лесовика выправлена законная. Чистый со всех сторон, так что проводника вашего из избушки из этой никто не турнет. Всяко дождется вас. А как объявитесь, так на сборы всего полчаса. Все у него уже подготовлено будет. Что еще?.. А, да. Отписывает братва, что по всему пути до Кослана наделают схронов с продуктами, так что двигаться будете налегке. Четыреста верст, даст Бог, за неделю пройдете. А там уже встретят.
— Как долго этот абориген будет торчать в своей хижине? — поинтересовался я.
— Говорят же тебе, все лето, — недовольно буркнул смотрящий, сжигая маляву. — Значит, до осени. Но тянуть с соскоком не будем. В середине июля вода в реке самая теплая, вот тогда и рванете.
Да, от температуры воды в Ижме зависело очень многое, потому что по плану побега провести в ней нам предстояло не менее часа и постараться за это время не загнуться от гипотермии.[39]
Ох, непросто же это будет. Непросто…
* * *
План был составлен вчерне еще зимой. Уходить мы решили из промзоны. По реке. Более того, под водой.
Всю навигацию — а она укладывалась обычно в шесть месяцев с того момента, когда заканчивался ледоход, и до самого ледостава — три бригады зеков на отделении местного леспромхоза, которое вместе с ДОЗом составляло промзону,[40] занимались составлением сплавных плотов. Всю зиму сюда с делянок лесовозами свозился строевой лес и штабелевался на берегу. А стоило лишь вскрыться реке, как дряхлые речные буксиры начинали тягать вверх по течению длинные вереницы плотов. Двести пятьдесят километров до Сосногорска. До железной дороги, где плоты разбирали, а лесины загружали в вагоны.
* * *
Кроме экипажа буксира — два-три речника — груз древесины от самой промзоны сопровождал сплавщик из вольных. Обычно, он устанавливал на одном из плотов маленькую палатку, разводил небольшой костерок, вливал себе внутрь бутыль самогону и дрых до самого Сосногорска, — все равно со сплавной древесиной на реке никаких ЧП никогда не случалось.
И экипаж, и сплавщика я считал одним из самых слабых мест нашего плана. Рано или поздно они нас заметят — как только отплывем подальше от зоны, все равно придется вылезать из воды, чтобы не сдохнуть от холода. И вот тогда, не приведи Господь, кто-нибудь из этих вольняшек решит проявить героизм и поднимет шухер на всю округу. А если у них к тому же окажется ружье — ведь для местных аборигенов это в порядке вещей, брать с собой охотничью двустволку, даже отправляясь на покос за километр от поселка, — то нас повяжут, будто ягнят. Ведь у нас против этой двустволки не будет даже старой волыны. [41]
И Блондин, и смотрящий смеялись над этими моими страхами.
— Ты, Коста, просто не знаешь здешнюю публику, — говорил мне Араб. — Во-первых, в Ижме каждый второй успел побывать на киче. А такие мусорам никогда не сдадут. Во-вторых, основное понятие, по которому здесь живут мужики: «Моя хата с краю». Вы вылезете на плот, и все — и матросы, и сплавщик — с понтом вас не заметят. Отвернутся. Ослепнут. Лишь краешком глаза приглядывать будут за вами. И когда надо будет — а вы им покажете знаками, — подгребут ближе к берегу, чтоб вам поменьше купаться.
Я согласно кивал головой и все-таки дергался. Ведь во всякой деревне есть свой юродивый. А кто нам гарантирует, что мы не напоремся именно на такого — принципиального сельского активиста, который в девяносто первом закопал в огороде свой партийный билет и вот уже почти десять лет исправно выписывает «Советскую Россию» и слепо верит в возвращение коммунистов. И терпеть не может хоть каких-нибудь — хоть малейших — отклонений от буквы закона. Как бы мне не хотелось напороться на подобного типа.
— А вдруг… — никак не мог успокоиться я, а Блондин оглушительно хохотал и хлопал меня по плечу тяжелой ладонью.
— Не на том заморочился, Коста. Ну их всех на хрен, твоих активистов. Говорю же, с этими будет все чики-чики. Ты лучше представь, как мы будем сидеть под этим, будь он неладен, плотом. Дышать через трубочки. Вот это да — геморрой.
Действительно, еще один геморрой.
Сплавные плоты сбивались в четыре наката. Ширина каждого составляла примерно пять, длина — двенадцать метров. Вот под одним из таких плотов мы с Блондином и собирались выплыть за пределы промзоны. Как аквалангисты. Вернее, как простые ныряльщики, потому что акваланг нам достать было негде, и дышать, находясь под водой, мы должны были через алюминиевые трубки, прикрепленные к плоту.
Схему крепления и эскиз самих трубок набросал на клочке бумаги Араб, после чего эту бумажку тут же сжег.
— В слесарке мужики за смену нагнут таких хоть мильён, — заверил он, — но закажем трубки лишь накануне. Ну… скажем, не совсем накануне, а за неделю. Не раньше. А то еще спалимся по-глупому. Еще надо, чтоб к низу плота приколотили какие-нибудь скобы. Держаться вам надо за что-то? Чтоб не снесло течением. Чтоб плыли, как первым классом… И вот еще что, пацаны. Вы, пока суть да дело, покантуйтесь на бирже. Хотя бы через денек туда заходите, засветитесь как следует. Пускай мусора попривыкнут к такому.
Ни я, ни Блондин раньше в промзону обычно не заходили, но, начиная с зимы, когда был принят к исполнению план побега именно с ее территории, начали появляться там регулярно. Я заслал старшему нарядчику денег, и теперь наши карточки каждый день ложились «на выход на биржу», и мы беспрепятственно шатались в промзоне из угла в угол, глазели на то, как мужики вкалывают на пилораме, приучали караульных на вышках и цириков к тому, что наше появление здесь — обычное дело. И тогда в день побега наше присутствие на берегу Ижмы не вызовет подозрения. А когда настанет час «X» и нам надо будет подныривать под плот, братва учинит бузу, отвлечет внимание охраны. И мы залезем в холодную воду, постараемся выдуть из трубок воду…
— Не захлебнуться бы там… Потренироваться бы, — мечтал Блондин, и Костя Араб язвил в ответ:
— Сходи в бассейн, потренируйся. Кто тебя держит? Заодно попроси у кума парочку гидрокостюмов. Утепленные только бери. А как мужики сделают трубки, неделю цельную будешь учиться дышать через них. А я буду тебе воду туда наливать. Ха-ха! А ты ее выдувай, тренируйся…
То, как получится дышать через трубку, меня тоже волновало весьма и весьма. Но куда сильнее я беспокоился о том, чтобы не заработать в воде, температура которой даже в июле не поднимается выше тринадцати градусов, переохлаждение организма.
— Гидрокостюмы, конечно, мечта идиота, — заметил однажды я, — но с воли надо заказать побольше топленого жира. Намажем тело — не хуже любого гидрокостюма.
— И правда, — согласился Араб. — А сколько жира-то надо?
— А пес его знает, — пожал я плечами. — Килограмма четыре, пожалуй. Может, и больше.
— Скажу шоферюге, пусть возит каждый раз по полкило. А то зараз так много заказывать стремно. Еще нахлобучим кого: а на хрена нам столько жира?.. Гусиный лучше, наверное? А, Коста?
— Не знаю.
— Но ты ж у нас врач.
— Но не кулинар, — улыбнулся я. — И не подводник.
Кроме жира я был бы не прочь получить с воли водозащитные очки — такие, в каких обычно плавают в бассейнах. Но Араб на мою просьбу заказать их шоферюге ответил:
— Не-е-е, братан, в стрем. Без очков обойдешься. Ишь, барин нашелся. Може, тебе и ласты еще подогнать?..
В общем, к тому моменту, когда пришла малява с воли, в нашем плане побега из зоны вроде бы не осталось уже слабых мест. Казалось, что мы учли все. Даже перебрали внештатные ситуации, которые могут случиться во время побега. И, в результате, все сводилось к тому, что соскок должен пройти у нас гладко.
Блаженны верующие… Гладким в этой собачьей жизни ничего не бывает.
Глава 7. По имени Крис
Единственное, что еще оставалось сделать, но что мы откладывали до последнего момента, так это заказать надежному слесарю необходимое оборудование и подписать мужиков, работающих на сплаве, чтобы они установили это оборудование на плот. Ну и, конечно же, отвлекли в нужный момент охрану. При этом нельзя было допустить, чтобы суки, если узнают вдруг о готовящемся побеге, успели бы нашептать о нем на ушко кому-нибудь на оперов.
— Всем этим займешься ты, Коста, — решил Араб. — Ты к мужикам как-то поближе. Блондина они просто боятся. К тебе относятся по-другому. А я, сам понимаешь, светиться не собираюсь. Мне здесь еще жить.
— Числа пятого июля я перетру с Косолапым тему насчет трубок и скоб, — сразу спланировал я. — Все остальное в тот день, когда будем срываться.
— Катит. Так и действуй, братан. И еще… Чего-то хотел спросить. Вот, бля, склеротик. Ах, да! — шлепнул себя ладонью по лбу Костя Араб. — Вы с кумом-то о чем добазарились? Пойдешь нынче смотреть его наркоту сопливую?
— Пойду. Ближе к вечеру, — ответил я. — Засылал к нему сейчас дневального, предупредил, что понаблюдаю девчонку.
— И ладно, — задумчиво пробормотал смотрящий. — Глядишь, и правда, нам польза из этого выйдет.
В чем я глубоко сомневался. Единственная польза — одному мне — это то, что впервые за три с половиной года удастся выбраться за пределы запретки, увидеть обычных людей, живущих нормальной вольной жизнью. Хотя, как ни странно, я к этому не очень-то и стремился.
В шесть часов вечера я был вызван на КПП, где меня поджидал молодой толстомясый прапорщик, нежно нянькавший в огромных ручищах АК-74. До этого мне доводилось видеть его всего пару раз — он поступил на службу на зону примерно месяц назад. И, по-видимому, так и не смог за это короткое время усвоить, кого ему сейчас предстоит конвоировать.
— Слушай сюда, доходяга, — начал инструктировать он меня, прежде чем мы вышли за проходную. — Шаг вправо, шаг влево — побег. Стреляю без предупреждения. Говорю стоять — значит, стоять, говорю пшел — значит, пшел. По пути не базарить и не курить. Руки держать за спиной. Малейшее нарушение — в лучшем случае схлопочешь в рыло. В худшем — схлопочешь пулю. Все ясно?
Я в этот момент с интересом разглядывал его лунообразную веснушчатую физиономию. И поражался: как человек с таким добродушным лицом безобидного идиота может говорить такие грубые вещи — «в рыло схлопочешь», «пулю схлопочешь»… О, несчастная лапотная Россия! Куда же ты катишься?
— Не слышу ответа! — завизжал у меня прямо над ухом прапорщик.
— А не пошел бы ты… — громко заметил я.
Веснушчатая рожа толстяка прапора сразу покрылась красными пятнами. Впервые за все время его вертухайской карьеры ему осмелились прекословить. Да еще как! А ведь всего в каких-то пятнадцати метрах от нас с крыльца административного корпуса за ним внимательно наблюдали двое оперов из абвера. И они были свидетелями его несмываемого позора!
Нет, позор еще можно смыть. И сейчас он это сделает! Сейчас он размажет наглеца арестанта по асфальту! Да, размажет так, что эта сволочь будет месяц ссать кровью, а потом всю жизнь работать на лекарства и докторов!
Прапорщик шумно втянул в себя воздух.
А оба опера тем временем откровенно развлекались и, понимая, что прапор на этот раз взял не тот тон общения с заключенным, с нетерпением ожидали продолжения.
Продолжение не заставило себя долго ждать.
— Ах ты ж, бля, пидарюга оборванная, — проскрипел мой наиприятнейший собеседник. — Куда ты послал меня, мразь? — И, решив дальше не тратить энергию на слова, он сделал решительный шаг вперед и попытался заехать своим блестящим хромовым сапогом мне в пах. Хм…
Ситуация из разряда тех, что элементарно просчитываются даже неискушенными в драках домохозяйками. А я как-никак в течение последних трех лет не ленился брать регулярные уроки у бывшего спецназовца то ли из «Альфы», то ли Бог знает еще откуда. И, как и учил меня этот спецназовец, качнул тело немного назад, рукой заблокировал неуклюжий удар и, сразу перенеся вес тела на левую ногу, правой подрубил противника сзади под коленку так, что он как подкошенный (а ведь, и правда, подкошенный) опрокинулся наземь. А я уже выдернул из рук растерявшегося прапора АК-74 и пару раз стремительно провернул его вокруг оси (хотя черт его знает, где может быть ось у автомата) так, что ремень, закинутый за мясистый затылок прапора, свернулся в узел и затянулся на шее. А приклад жестко уперся в чисто выбритый розовый подбородок. Есть! Блестяще выполненный прием по обезвреживанию противника с последующим взятием его «на удушение». И на все про все ушло не более пары секунд. Браво! Толстому прапору остается лишь шлепать своей пухлой ладошкой по татами — асфальту. А я заслужил оценку «хиппон». Мой учитель-спецназовец может гордиться таким учеником.
Два опера на крыльце радостно загоготали. Они даже и не думали прийти на помощь своему неудачливому коллеге-мусорку. Я бросил на них мимолетный взгляд, подмигнул — мол, все ништяк, это не бунт и не захват оружия и заложника; просто маленькое расхождение во взглядах и, как следствие, небольшая драка. Потом посмотрел на выпучившего зенки прапора. Он затих и даже не думал рыпаться. Он задыхался. И все остальное, похоже, было ему по барабану. Я немного ослабил захват.
— А теперь слушай меня, козел. Сейчас мы тихо-мирно идем в гости к куму. И никаких «руки за спину», никаких «схлопочешь по роже». Вся зона отлично знает, что бежать мне нет смысла, и если по пути решишь по мне пострелять, чтоб свести счеты, подумай сначала, что за этим последует. Россия большая, но тебе и ее не хватит, чтобы зашхериться от братвы. Тебя достанут везде. А теперь пошли, кум ждет. Подымайся, отряхивай задницу жирную. — Я отпустил прапорщика и, пока он поднимался с земли, еще раз подмигнул операм. Те снова радостно расхохотались. Кажется, они были пьяными.
— Виталя, — прокричал один из них, — ты эту гранату лучше не трогай. — Похоже, что он имел в виду меня. — Взорвешься.
А я добавил:
— А когда, толстопятый, у тебя выдастся свободное время, поинтересуйся у своих сослуживцев, кто я такой и почему меня лучше не трогать. Век живи, век учись.
Прапор только зло хрюкнул в ответ. А я подумал, что взял вот сейчас и впервые за три последние года нажил на зоне заклятого врага. Интересно, и когда от него ждать ответки? Прямо сейчас?
И я, действительно, всю дорогу до дома, в котором жил кум, ожидал, что вот сейчас ослепленный злобой толстяк разрядит в меня свой автомат. Но он лишь молча топал в трех шагах позади меня и пыхтел, как пневматический пресс. И только на перекрестках открывал пасть и командовал: «направо», «налево», «вперед».
Кум жил в большой избе-пятистенке, в нарушение местных традиций отделенной от улицы глухим высоким забором. Изба была выкрашена ярко-розовой краской, и этот веселенький розовый цвет совершенно не гармонировал с темно-зеленой железной крышей. Во дворе я, к своему удивлению, обнаружил Джип «Гранд Чероки», уткнувшийся мордой в ворота кирпичного гаража. Неплохо устроился наш начальник оперативной части.
Он встретил нас на крыльце, не скрывая облегченного вздоха.
— Наконец-то. По бабам лазали, что ли? Куда запропастились?
«Пытались выяснить отношения, — подумал я — Кто главнее из нас. Оказалось, что я».
— Здорово, Константин, — запоздало поздоровался кум. — Проходи в дом. — И небрежно бросил моему конвоиру: — Чечев, свободен. Можешь идти.
Я тем временем вошел в чистую горницу, которую уместнее было бы назвать по-городскому — прихожей. Пол был укрыт серым паласом, стены оклеены дорогими виниловыми обоями. Здесь я сразу почувствовал себя неуютно. В телогрейке. В кирзачах, грязных, как траки карьерного экскаватора. К тому же отвык за последние годы от нормального человечьего жилья.
Я оперся спиной о стену и принялся стягивать сапоги, стараясь не особо измазать руки. Кум какого-то дьявола застрял на улице, бросив меня одного. Гостеприимный хозяин! Я ведь даже не знал, полагаются ли мне в этом доме какие-нибудь тапки.
Когда я справился со вторым сапогом и он стыдливо поник голенищем в самом темном углу прихожей подальше от чистенькой стойки для обуви, дверь, ведущая в одну из комнат, открылась, и из-за нее нарисовалась высокая красивая женщина. Очень красивая! На вид я дал бы ей не больше тридцати лет, но, сразу прикинув, что это, наверное, мамаша пятнадцатилетней девочки-наркоманки, решил, что она просто выглядит гораздо моложе своего возраста.
— Здраствуйте, — улыбнулась мне женщина. — Вы, наверное, Константин? Извините, не знаю вашего отчества.
— Обойдемся без отчества, — пробурчал я. — Здравствуйте. И зовите меня просто Костей.
— А я Анжелика, — представилась женщина, и я чуть не поперхнулся. О, черт! Почти Ангелина. Не могу утверждать, что кто-либо с таким именем может быть мне симпатичным. Конечно, глупо все это, но лучше бы эту красавицу звали как-нибудь по-другому.
В этот момент с улицы наконец вернулся кум, хохотнул:
— Чего Чечев на тебя жалуется? — И бросил мне к ногам нарядные тапочки. — Что сперва? Чай пить или пациентку смотреть?
— Пациентку смотреть, — тут же вмешалась женщина. — Ей уже плохо. У нее уже начинается.
— Да, сначала давайте осмотрим девчонку, — сказал я и повернулся к куму. — Вам передали сегодня список того, что мне надо?
— Конечно, конечно, — засуетился тот. — Я все лекарства достал. Даже больше того…
— Больше мне ничего не надо, — нелюбезно перебил его я. — Где я могу вымыть руки?..
Девочку звали Кристиной, и она напоминала скелет, обтянутый тонкой, прозрачной, как у яблока кожицей. Впрочем, почти все наркоманы имеют похожие «фигуры». Но ничего. Вот переломается, начнет есть по десять раз в сутки и за пару недель наберет нормальный вес. Даже растолстеет еще.
— Ну, что? Колбасит? — Я присел на кровать, на которой лежала Кристина и, взяв ее руку, сразу попытался нащупать вены. Хрен там! Вен не было. Я выругался про себя: «Распроклятье! Придется возиться, ставить катетер. Или обойдусь без него? Ведь сколько за время работы в скорой попереставил капельниц наркам чуть ли не в капилляры. Но вдруг потерял уже навык за три с половиной года и буду беспомощно блудить иголкой в руке? Позориться? Нет, все-таки лучше катетер». — Колбасит, я спрашиваю?
Девочка кивнула:
— Угу. Еще не так пока, чтобы очень. Вот через часик начнется.
— Не начнется, — успокоил ее я. — Через часик ты у меня будешь спать, как младенец. Ничего не почувствуешь. Переламывалась раньше?
— Один раз.
— Насухую?
— Нет, в больнице. Мне барбитулу[42] там делали. А у вас есть?
— Есть, — успокоил я свою пациентку. — Попозже в капельницу введу. А сейчас будем ставить катетер.
С катетером и капельницей я провозился чуть больше часа. Девочку уже начало ломать по полной программе. Худенькое тельце ее изгибало, как в припадке падучей. Она громко выла каким-то утробным нечеловеческим голосом, и этот вой, наверное, слышали соседи из соседних домов. Она запрокинула голову, пустила изо рта тонкую струйку слюны и громко скрипела зубами так, что от этого звука мороз пробирал по коже. Она уже не держала мочу, и менять под ней простыни было бы бесполезно. И она ни в какую не вырубалась, хотя я вколол ей уже слоновью дозу снотворного.
Разодрав две простыни и скрутив обрывки в тугие жгуты, мы с кумом крепко-накрепко привязали к кровати и руки, и ноги, и грудь несчастной Кристины, но ее швыряло из стороны в сторону с такой нечеловеческой силой, что уже через пять минут узлы, как мы их ни затягивали, ослабевали, и их приходилось перевязывать заново. По скуластому остроносому лицу кума уже сбегали вниз ручейки пота, а я начал серьезно дергаться: «И чего эта тварь не засыпает? Неужто я ей мало вколол? Но ведь больше нельзя. Нельзя ни в коем случае. С такими дозами может не справиться и не настолько ослабленный, как у этой девочки, организм. О, дьявол! Кажется, я, все делаю не так! Но ведь я не нарколог».
Когда Кристина наконец отрубилась, я смог хоть чуть-чуть перевести дух, а кум остатками простыни стер со лба пот и пробормотал:
— Вот видишь. А ты говорил: «В больницу». Да кто бы там с ней так нянчился. Надолго у нее это, как думаешь?
— Не знаю, — пожал я плечами. — Это зависит слишком от многого. Во-первых, какая у нее была суточная доза…
— Два стошечных чека,[43] — перебила меня Анжелика.
— Терпимо. А когда последний раз был перерыв?
— Уже больше года назад. Она тогда лежала в больнице.
— Я-асненько. Теперь вопрос в следующем. Будем ослаблять ей ломку барбитулатами? Тогда все здорово затянется. Или сразу?
— А сразу, это надолго?
— Суток трое. Может, чуть больше.
— И все это время с ней будет так? — указав глазами на трясущуюся, как на вибростенде, девочку, испуганно спросил кум.
— Хорошо, если так, — «успокоил» я его. — Может быть хуже.
Мне показалось, что кум чуть слышно застонал. М-д-а-а, он уже настроился на то, что впереди его ждут нелегкие дни, что девочку будет ломать. Ему рассказали, конечно, что это — картина не из приятных. Но то, что это выглядит настолько кошмарным, он не ожидал. Никто не ожидает, пока хоть раз не увидит своими глазами. Я примерно представлял, о чем думал кум, наблюдавший за своей изгибавшейся на кровати племянницей: «В худенькое тельце Кристины вселился сам Сатана! И ей требуется не доктор, а экзорцист». Все они, обычные обыватели, думают приблизительно одинаково, когда впервые видят переламывающегося наркомана.
Кристина предоставила нам короткую передышку, когда за окном уже совершенно стемнело, а настенные ходики показывали половину одиннадцатого. К тому моменту я успел прокапать в девочку два литра лекарств и физраствора, и она ненадолго затихла. Лишь тяжело дышала и изредка вскрикивала в глубоком, но неспокойном сне. Наверное, в этот момент ей грезились кошмары. О которых она совершенно не будет помнить, когда немного придет в себя,
Анжелика наделала бутербродов, заварила кофе в большом алюминиевом чайнике и накрыла маленький столик в спальне, где после короткого затишья опять начала метаться на кровати Кристина.
— Константин, ты ведь сегодня уже никуда не пойдешь? — попросил — не спросил, а именно попросил — кум. — Я позвоню на зону дежурному, предупрежу. Хорошо? Мы без тебя здесь не справимся.
Это уж точно. Если бы я надумал их бросить, то они уже через час загнулись бы вместе с Кристиной.
— Я останусь, — сказал я и кивнул на еще одну кровать, стоявшую у противоположной стены. — Поспокойнее станет, прилягу вот здесь. А вы отдыхайте. И ни о чем не волнуйтесь. Если нужна будет помощь, я разбужу.
— Конечно, конечно. Сразу буди. И… Костя, было бы очень здорово, если бы ты вообще пожил здесь несколько дней. Пока все немного не утрясется. Мы заплатим.
Я криво усмехнулся: нашел, мусорок, кому чего предлагать; да скажи спасибо, что я хотя бы не гнушаюсь пить кофе у тебя в доме.
— Насчет денег разговаривать больше не будем, — зло отчеканил я. — А насчет нескольких дней… Посмотрим, что будет завтра. Тогда и решим. Хотя все было решено уже сейчас. Я понимал, что если свалю завтра на зону, девочку придется отправлять в поселковую больницу. И неизвестно, что изобретут там местные живодеры. Вполне возможно, что от широты своей деревенской души быстренько спровадят Кристину прямиком в гроб.
Ближе к полуночи кум с сестрой разбрелись по своим спальням. Я же, привыкший на зоне ложиться под утро, обнаружил в углу комнаты пачку старых «толстых» журналов и, сдув с них лохмотья паутины и пыли, устроился в кресле.
В двух шагах выдувала пузыри и дергалась прочно привязанная к кровати Кристина. На тарелке черствели, дожидаясь, когда я их съем, несколько бутербродов. Большой трехлитровый чайник был наполовину наполнен остывшим кофе. Из-за тонкой стены, за которой спал кум, доносились оглушительные раскаты храпа.
«Неужели он не опасается, что мне сейчас может взбрести в голову безумная мысль воспользоваться моментом и пуститься в бега? — удивлялся я. — Попутно прикончив — он ведь уверен, что я уже имею опыт убийства, — его и сестру. Обнеся квартиру и захватив Джип „Гранд Чероки". Странно… Впрочем, на зоне говорят, что кум отличный психолог и с первого взгляда, чисто интуитивно определяет, от кого чего ждать. А от меня он не ждет никаких дурацких сюрпризов, потому как знает, что я не дурак. И умею управлять своими эмоциями. А если уж и решу соскочить, то не так, с бухты-барахты, а как следует подготовившись. Интересно, он предполагает такую возможность, что в ближайшее время я могу ломануться из зоны? Черт его разберет. На этой скуластой роже никогда ничего не написано. Но как бы хотелось, чтобы никто — даже проверенные зеки — раньше положенного времени не заподозрил меня в том, что я собрался делать из Ижмы ноги».
К утру я разобрал свежую постель на соседней кровати, разделся и устроился спать. Кристине было ни лучше, ни хуже. Все на одном уровне, и, дай Бог, чтобы так было все время ломки. Это совершенно естественно. За такое состояние можно почти не волноваться, только вовремя делать обезболивающие и сонники.
Вот я и не волновался. Натянул одеяло и тут же принялся смотреть очередной сон про зону, в котором мы с Блондином уже собрались было залезать под сплавной плот, но в последний момент обратили внимание на то, что вместо алюминиевых трубок для дыхания в слесарке нам нарезали куски арматуры. «Ништяк, — орал мне Блондин. — Коста, будем дышать через них». Но я никак не мог въехать в тему: как так можно дышать через куски арматуры. Она же не полая внутри. Потом откуда-то объявился Язык в женском сарафане и босоножках на высоченной платформе. Я тут же засомневался: «А может, он все-таки баба, и менты по ошибке отправили его к нам на зону. Надо бы проверить». Я сунул руку под сарафан. Действительно баба! Да к тому же не носит трусов! «Во братва обалдеет!» — обрадовался я и, жадно вцепившись в Языка, поволок его по направлению к бараку. Но он отчаянно упирался и голосил: «Нет, не надо! Я же перед тобой извинился! Ты уже выбил мне четыре зуба! Из-за этого я стал теперь женщиной!» Потом он начал уже приставать ко мне сам. Протянул к моему лицу руку и принялся нежно гладить меня по щеке. Странно, но мне это было очень приятно. У меня даже наступила эрекция…
Я открыл глаза. Рядом со мной на кровати сидела Анжелика и водила своими тонкими пальчиками по моей отросшей за сутки щетине. А эрекция действительно наступила.
Интере-е-есно. К чему бы подобные нежности? Я не удержался и хмыкнул.
Анжелика отдернула, руку так, будто ее шарахнуло током.
— Ой, Костя. Извини, я тебя разбудила. Я улыбнулся.
— Ничего. Можешь продолжать. Мне это нравится.
Буквально за доли секунды она густо покраснела. И тут же принялась оправдываться:
— Просто я здесь сижу уже полчаса. Толик ушел на работу, а я вот пришла и сижу. И смотрю на тебя. Как ты спишь. Такой хороший… И просто не удержалась. Захотелось дотронуться до тебя. Извини.
— Извиняю. И, пожалуйста, дотрагивайся дальше. Мне это нравится, — признался я. — Даже больше чем нравится.
Анжелика улыбнулась и отвела глаза. Но ее рука вновь коснулась моей щеки. Я чисто машинально отметил, что от нее пахнет хорошим дорогим мылом.
— Сколько там времени? — прошептал я.
— Половина десятого.
— У нас еще полтора часа до первой капельницы. Продолжай, Анжела. Мне это действительно очень приятно.
Я закрыл глаза и расслабился.
Ее пальчики с ухоженными ногтями, накрашенными перламутровым лаком, соскользнули с моей щеки, чуть коснулись плеча и переместилась на голую грудь — я лег спать в одних трусах. Щекотно. Приятно. Лишь бы не кончить раньше положенного срока.
— Тебе нравится? — дрогнувшим голосом спросила Анжелика.
— Очень. — Я протянул руку, сдвинул в сторону полу длинного шелкового халата и коснулся ее колена.
Теперь уже не одни только пальчики, чуть касающиеся кожи. Мне на живот легла ее легкая ладонь, обрисовала несколько кругов вокруг пупка.
— Какой у тебя пресс. Как у гимнаста.
Я промолчал. Какие, к дьяволу, прессы! Какие вообще могут быть сейчас разговоры!
Не убирая руки у меня с живота, Анжелика глухо вздохнула, и с этим вздохом, похоже, из нее вылетели все заботы о соблюдении условностей и приличий. А на их место сразу же заступили страсть и желание, и Анжелика, резко нагнувшись, принялась жадно целовать меня в грудь. Она просто набросилась на мою грудь, как путник, выбравшийся из раскаленной пустыни, набрасывается на водоем с чистой прохладной водой. И у нее были мягкие — очень мягкие, как дуновение летнего ветерка — волосы, пахнущие цветами и травами, которые старухи-шептуньи добавляют в приворотное зелье. Я убрал руку с ее колена и крепко обнял Анжелику за хрупкое плечико. И почувствовал, как оно мелко дрожит, будто от холода.
Ее ладонь описала еще один круг по моему животу, замерла на секунду, словно раздумывая, и рыбкой скользнула ко мне в трусы. Тонкие пальчики жадно обхватили мой член. Анжелика еще раз вздохнула и застонала. У меня же все заботы сейчас были только о том, чтобы не кончить.
— Погоди… Сейчас… — Она оторвалась от меня, встала и принялась распутывать узел, в который был стянут пояс халата. Но руки тряслись, как у алкаша с перепоя, и узел никак не поддавался.
— Ч-черт! — прошипела сквозь зубы Анжелика. Я наблюдал за ней и сочувственно улыбался. — Да что за черт!
Она наконец, чуть не порвав, расправилась с поясом, и халат полетел на пол. Потом, изогнув стройное тело, Анжелика стянула с себя ночную рубашку и, совершенно голая, юркнула под одеяло. Ее всю колотило, словно припадочную. Глаза вылезли из орбит. Губы не просто дрожали, а ходили ходуном, придавая лицу столь гротескные гримасы, какие можно увидеть разве что на рисунках Доре.[44] Уверен, что к этому моменту она уже совершенно не контролировала себя. Ею сейчас управляли только инстинкты. Только дикая животная страсть.
Ее губы жадно впились в мои. Ее пальцы судорожно вцепились мне в плечи. Она навалилась на меня сверху и, судорожно дергаясь, начала тереться лобком о мое бедро. Но вдруг на секунду опомнилась и срывающимся голосом спросила:
— Слушай, а Криска спит?
— Даже если бы не спала, ей сейчас не до нас. Не думай пока о ней. Расслабься.
— О-о-о! И что же я вытворяю… дура такая. И она, вцепившись в трусы, которые все еще оставались на мне, потянула их на себя с такой силой и злостью, что они, несчастные, затрещали по швам, а я удивленно приоткрыл рот. А Анжелика уже опять накинулась на меня. Этакая обезумевшая амазонка. Я мог даже не шевелиться. Она делала все сама и за считанные секунды распалила себя до такой степени, что начала корчиться в судорогах ничуть не хуже своей дочурки. Да и орала ничуть не тише ее. «Соседи, пожалуй, решат, что все в этом доме посходили с ума», — подумал я и, не сдержавшись, все-таки кончил. Анжелика этого даже и не заметила, всецело поглощенная тем, чтобы скорее натереть лобком мозоль мне на бедре.
Но вот она отклеилась от меня, отодвинулась в сторону и принялась целовать меня в грудь… иногда кусать меня в грудь… в живот… ниже и ниже. Я напрягся, ощутив, как ее губы охватили мой член, как она аккуратно взяла в ладошку мошонку. «Ну, и что же ты делаешь, милая? — подумал я. — Трахаться-то мы будем? Вот как сейчас кончу во второй раз, и хрен ты от меня больше чего добьешься. О, и как же мне все это в кайф!»
Минет Анжелика делала классно! Если не сказать более — профессионально. Ни разу не коснулась меня зубами, ни разу не сжала яички рукой так, чтобы мне было больно. Мне казалось, что она предугадывает все желания, которые даже еще не успели родиться в моей буйной головушке. «Интересно, а не подрабатывает ли она у себя в Москве таким образом на жизнь?.. — попробовал я отвлечься мыслями от того, что со мной сейчас проделывают. — Да не все ли равно, даже если и подрабатывает! Оно ведь и к лучшему… О-о-о!.. Оно ведь и к лучшему… к лучшему…»
Однажды, когда я еще только стажировался после диплома в скорой, со мной дежурила молоденькая девочка-фельдшер, только что закончившая ЦПХ.[45] Она даже и не стремилась скрывать, что в свободное время подрабатывает на Староневском проспекте минетчицей. «Что, правда?» — спросил я ее после того, как мне про это нашептали на ушко наши сплетницы — врачихи. «Ага». — «Слушай, а сделай мне, — просто в шутку попросил я ее. — Интересно, как это делают профессионалы. Что, сделаешь?» — «Легко», — неожиданно согласилась она. — «А сколько… это… стоить-то будет?» — «Тебе за бесплатно. Презики есть?» В те времена у меня постоянно лежала в бумажнике упаковка презервативов, так что это не создало никаких проблем. Так же как и место, где мы с ней уединились. В машине «скорой помощи», где же еще? И на носилках занимались любовью часа полтора. Водила потом говорил, что «рафик» раскачивался, словно корабль в девятибальный шторм, и требовал оплатить замену рессор. Я смеялся и, довольный удачной любовной интрижкой, посылал его к дьяволу. «Тогда хоть расскажи, как вы с ней?» — заговорщицки подмигивал мне водила. «Лучше не пробовал». И я выставлял вверх большой палец… Да, минет эта девочка делала здорово. И не только минет. Ее звали… А как ее звали? Кажется, Таня. Или Лена? Или… Нет, не помню. Выскочило из головы. Как же быстро я все забываю.
…Анжелика наконец решила оседлать меня сверху и, эффектно выгибая свой стройный стан, без устали скакала на мне не менее получаса. А я весь этот экстремальный секс уже по-настоящему возненавидел. Меня давно выдавили, словно тюбик с зубной пастой. Я хотя и лежал бревном все это время, но от усталости и от опустошенности уже вывалил язык на плечо. И мечтал: «Скорее бы все закончилось». Но Анжелика была неутомима, как марафонка. Она даже ничуть не вспотела.
Но вот и у нее, сумасшедшей, наконец подошли к концу силы.
Она слезла с меня, улеглась рядом, положила голову мне на грудь и провела ладошкой у меня между ног.
— Не стоит, — констатировала она неоспоримый факт. — Заездила я тебя, негодяйка?
— Да уж, — усмехнулся я. — Выкачала из меня все, что накопил за три года. Кончил за час аж четыре раза.
— А я, наверное, четыреста раз. Так что, Костя, этот матч ты проиграл почти что всухую. А скажи, три года… Что, так долго у тебя не было женщины?
— А откуда их взять на зоне? Женщин там заменяют юные мальчики-пидарасы. Обычно пользуют их. Но меня тошнит от мужеложства. Так что услугами пидаров я ни разу не пользовался. И никогда не воспользуюсь. Все, что угодно, но только не однополый секс.
— Я тоже ни разу не была с женщиной, — откровенно призналась мне Анжелика. — Да и с мужчиной-то… Ты у меня первый за полтора года.
— Странно, — удивился я. — Как-то не верится. Такая видная баба и…
— …и слишком разборчивая, — перебила меня Анжелика.
— Не заметил чего-то, — подколол я ее и тут же прикусил свой язычок. Мне показалось, что, не подумавши, ляпнул сейчас такое, что может задеть Анжеликино самолюбие. И за свой базар мне придется перед ней извиняться. Но она совершенно не обиделась на мои слова.
— Просто все получилось как-то спонтанно. Еще вчера я ни о чем таком и не думала. И утром сегодня тоже. А потом проводила Толю, пришла сюда. Ты спал, а я смотрела на тебя и сама себя нахлобучивала. Короче, к тому моменту, когда ты проснулся, я уже была на полном взводе. Даже если бы ты не пошел мне навстречу, я все равно бы тебя изнасиловала. Вот так-то милый, никуда ты не делся бы. Просто бывают такие сумасшедшие дни, когда без мужика готова бросаться на стенку. Сегодня один из таких дней.
В какой-то момент мне показалось, что Анжелике стыдно за то, что только что произошло между нами, и она пытается передо мной оправдаться. И перед собой — тоже. Но она тут же разрушила эти мои сомнения откровенной просьбой:
— Костя, поласкай меня язычком. Или хотя бы ручкой.
Я ужаснулся: ей все еще мало?!! Учись, ненасытная Ангелина, у своей почти тезки.
Я с надеждой бросил взгляд на часы — без десяти одиннадцать. Отлично!
— Нет, лапка, не выйдет. Пора вставать. Ты забыла про дочку.
— Еще десять минут, — томно прошептала Анжелика и, прижавшись ко мне, опять начала натирать мне лобком мозоль на бедре.
— Какие десять минут! — Я решительно отлепил ее от себя и выбрался из-под одеяла. — В одиннадцать я должен поставить капельницу, а ее еще надо готовить. Подымайся и замени лучше дочке простыню и клеенку. Потом сходи свари кофе. А вот после кофе… — Я многозначительно замолчал и подумал: «А вот после кофе я сдохну от истощения. Одному мне этой Анжелики чересчур много. Ее бы в барак, так были бы, как говорится, довольны, и волки, и овцы. Вот бы подкинуть такую идейку куму».
Кристина не спала, и когда из-под нее вытаскивали белье, даже попробовала что-то сказать. Но чтобы понять напичканного лекарствами наркомана, находящегося ко всему прочему на ломах, надо иметь богатый опыт работы наркологом. А мне это даже не снилось. И я ни черта не разобрал.
— Она же все видела, чем мы сейчас занимались! — испуганно шепнула мне на ухо Анжелика.
— Даже если и видела, то ничего не поняла, — тоже прошептал я. — А если и поняла, то уже ничего не помнит. Ты представляешь, сколько в нее закачано всякой отравы? Иди вари кофе. — И, выпроводив из комнаты Анжелику, не спеша занялся ее дочкой. Что-то она вела себя чересчур спокойно, как минимум, уже полтора часа — с того момента, как я проснулся. Ее не выгибало дугой, она не орала и даже не выдувала изо рта пузыри. Не нравилось мне все это. Суставы сейчас должны освобождаться от всего дерьма, накопившегося в них за то время, пока девчонка торчала на героине, а поэтому их должно ломать. И никуда не деться от этого. Неужели, я делаю что-то не так?
Я поставил капельницу, присел на кровать рядом с Кристиной и погладил ее тоненькую ручонку, привязанную жгутом из простыни к кровати.
— Все ништяк, Крис, малышка. Мы выберемся из этого дерьма. Знаешь, в древности был такой великий царь-Соломон. И у него на перстне были выгравированы золотые слова: «И это пройдет».
Так вот, и это пройдет. Вся хренотень останется позади. Ты избавишься от своего геморроя, я — от своего. На это надо только немного времени. Надо чуть-чуть потерпеть. Ты ведь умеешь терпеть? В ответ она почти незаметно кивнула.
— Вот и отлично. Я тоже. И мы этим сильны. И вылезем из этого ада.
«Ты из своего, я из своего, — додумал я. — Только тебе на это нужно не меньше года. У меня все случится скорее». Я быстро прикинул в уме: меньше трех месяцев до середины июля.
Меньше трех месяцев до часа «X».
— Я схожу умыться, а ты лежи, пожалуйста, тихо. Чтобы не выскочила иголка. Договорились?
Она опять чуть заметно кивнула.
— Вот и умница. — Я наклонился и нежно поцеловал ее в щечку.
О, черт! Наверное, я когда-нибудь так же мог целовать свою дочку, если бы не случилось того, что случилось три с половиной года назад.
Вот задница! Твою мать…
Распроклятая Ангелина!
Глава 8. Тревога!
Четверо суток я вкалывал, как ломовая лошадь. Нянчился с Кристиной, за день прокапывая в нее по несколько литров, а как только вы давалась минута на передышку, на место дочки тут же заступала мамаша. А на место капельниц — безумные постельные скачки. И снова капельницы… И опять скачки… Ритм жизни, как у космонавта.
Я не высыпался. Я осунулся. Я мечтал поскорее вернуться на зону, где нет голодных рехнувшихся баб. Вот уж никогда не подумал бы, что можно мечтать о подобном.
Совершенно не стесняясь своего брата, Анжелика уже на вторую ночь открыто перебралась в комнату к своей дочке. На соседнюю кровать, которая, как я, наивный, вначале рассчитывал, должна была полностью принадлежать мне. Жди, парень…
Кум лишь ехидно посмеивался, наблюдая за мной и своей ненасытной сестренкой, но ни слова не говорил, даже не пытался нас подколоть. На второй день он организовал мне телефонный разговор с зоной, и я полчаса пичкал Блондина указаниями и инструкциями по уходу за выздоравливающим Коляном и контролю за раздолбаем-лепилой.
— Ништяк, Коста. Управимся, — заверил меня Блондин. — А ты давай хавай волю от пуза, назад не спеши. Отдыхай.
«Отдыхай»… Мне стало смешно.
— Вернусь, расскажу, — пообещал на прощание я, — как я здесь отдыхаю.
С кумом мы почти не общались. Вечером, возвращаясь со службы, он ненадолго заглядывал ко мне в комнату проведать племянницу, коротко спрашивал: «Как?», и я так же коротко отвечал: «Без изменений». Кум вздыхал и убирался на кухню пить чай с бутербродами. А потом запирался у себя в комнате, и оттуда через стенку до меня доносился шум телевизора — взрывы, ружейная пальба и гнусавый голос переводчика. Лишь единственный раз за четыре дня кум задержался у меня в комнате, развалился в кресле и, состроив хитрую физиономию, спросил:
— Сбежать-то не думал?
— Я разве похож на идиота? — Подспудно я ожидал, что рано или поздно он задаст подобный вопрос. — Да и вы отлично знаете, что пускаться в бега мне нет никакого резона. Все равно отсюда далеко не уйти.
— Эт-та да, — согласился кум. — Если бы у меня была хоть капля сомнения насчет того, что у тебя хватит ума на какую-то авантюру, я бы тебя так спокойно не оставлял одного. Я работой своей дорожу. Не хочу на пенсию раньше срока. — Он на секунду замялся. — Я вот о чем хотел тебя попросить… Все-таки, несмотря ни на что, Константин, дай-ка слово, что не выкинешь какой-нибудь номер, когда с моей подачи выходишь за зону.
Мне стало смешно. И вспомнилась мама, когда-то давным-давно строго напутствовавшая меня, первоклассника, когда я уходил погулять: «Костя, дай слово, что не выйдешь никуда со двора».
— А вы уверены, что моего слова будет достаточно? — улыбнулся я.
— Уверен. Уж, слава Богу, за три года я тебя изучил и знаю точно, что за свой базар ты всегда отвечаешь сполна.
— Благодарю за такую оценку. Действительно, отвечаю… Договорились. Я даю вам слово. Просто мне не трудно будет его сдержать. Все равно из Ижмы мне не удрать, а потому даже не буду и пробовать. Скажите, а отсюда был хоть один побег?
— М-м-м… — задумался кум. — Попыток было достаточно, сам знаешь. А вот удачная… Лет двадцать назад трое зеков гуляли по тайге пару месяцев. Потом вышли к Печоре, попытались оседлать товарняк. Там их и взяли. Считай, что эта попытка была самой удачной.
«Ничего, будет удачнее, — подумал я. — Скоро будет. Очень скоро, Анатолий Андреевич. Уже в середине июля»…
На четвертый день Кристина наконец оклемалась. Не так, чтобы полностью — еще была нарушена речь, а все мысли были повернуты в сторону героина, — но ломка закончилась, появился какой-никакой аппетит, и девочка даже нашла в себе силы одеться и выйти на улицу посидеть на лавочке возле крыльца.
— Все. Дальше уже управитесь без меня, — сказал я куму. — А я возвращаюсь на зону.
— Не пойму, — удивился он. — Тебе там что, медом намазано? Никто тебя отсюда не гонит. Кормим, поим… Наконец, даже баба под боком.
— Это одна из причин, почему спешу отсюда свалить. Надо чуть-чуть передохнуть, — улыбнулся я, и кум расхохотался.
— Да. Сестренка горячая. Ладно, иди отдыхай. Но про Кристину не забывай.
— Не собираюсь. — Я действительно не собирался про нее забывать. Успел за четыре дня привязаться к этой девчонке. — Буду ее наблюдать. Договоритесь о выходе с зоны?
— Конечно, — заверил меня кум. — Без проблем. Типа будешь на расконвойке… Ну, давай, собирайся, что ли, тогда. Конвой, вызывать, я считаю, не надо. Доберешься один. Никуда не зарулишь?
Я лишь хмыкнул в ответ.
— Не зарулишь, я знаю. Ты человек серьезный, по мелочам не размениваешься.
Я молча выслушал очередной комплимент, влез в сапоги и телогрейку, поцеловал на прощание Анжелику («Я жду тебя завтра, — шепнула она. — Не обмани») и вышел на улицу. Кристина сидела на скамейке, нахохлившись как воробушек.
— Ты что, уходишь? — встрепенулась она. Я присел рядом и обнял ее за плечо.
— Крис, мне и правда надо идти. Не могу же я жить здесь постоянно. Но я буду навещать тебя каждый день. Договорились?
— Нет. — Она расстроенно шмыгнула носом. По щеке скатилась блестящая слезинка. — Нет, я тебя не пущу!
«Черт, — вздохнул я. — Еще одно препятствие на пути. Маленькая, только что переломавшаяся наркоманка, которой теперь предстоит в полной мере изведать, что такое жесточайшая депрессия. Ее будет пробивать на слезняк по любому малейшему поводу. И вот, пожалуйста, один из таких поводов». — Послушай, милая Крис, — прошептал я и ткнулся небритым подбородком ей в щечку, — Сейчас ты пойдешь в дом, поужинаешь, выпьешь таблетки, и мама сделает тебе укол. Ты уснешь. И будешь смотреть красивые сны. В них не будет места ни джеффу,[46] ни герычу. Ни похотливым ментам, ни жадным барыгам. Это будут самые обычные сны про нормальную жизнь без приходов и глюков. Про ту жизнь, которая сейчас может тебе только сниться. Но уже скоро… очень скоро, я обещаю, ты окунешься в нее с головой не во сне, а наяву. И не захочешь из нее вылезать. И будешь с ужасом думать: «Какой же я была дурой, что хотела вот так вот взять и отправиться на тот свет. За просто так. За парочку сраных стошечных чеков»… Кстати, утром, когда проснешься, я буду уже сидеть рядом с тобой. И мы будем вместе весь завтрашний день. И весь послезавтрашний. И дальше… и дальше… Договорились?
Она всхлипнула и кивнула.
— Вот и умница, Крис. Я знал, что ты умница. Теперь я пойду. А ты возвращайся в дом и делай все, как я сказал.
Я еще раз поцеловал ее в щечку и чуть-чуть подтолкнул в спину. Она поднялась со скамейки и неуверенной старушечьей поступью поплелась к дому.
«На удивление послушная девочка, — подумал я_ — Но только не надо тешить себя иллюзиями, что будет такой постоянно. Еще даст просраться и Анжелике, и куму, и, думаю, мне. Наркоман на кумарах — это не человек. Это огромный геморрой для окружающих. И что же я за дурак? Зачем влез во всю эту историю? Хотя… нет, я совсем не жалею, что влез, что сумел немного помочь этой девчонке…»
До зоны я шел, никуда не торопясь. Был погожий весенний вечер, и поселковый «Бродвей» был заполнен народом. Полупьяные мужики, топтавшиеся возле нескольких уродливых разномастных ларьков, и обильно намазанные дешевой косметикой девки провожали меня любопытными взглядами, а я с не меньшим интересом взирал на их серенькую, зато вольную жизнь. Но вот поселок закончился, дорога пересекла жидкий сосновый лесок и уперлась в массивные железные ворота зоны. Из проходной навстречу мне вышел прапорщик Паша Шевчук, радостно улыбнулся и протянул руку:
— Привет, Костоправ.
— Здорово. — Я ответил на рукопожатие. Шевчук был единственным цириком, с которым я позволял себе здороваться за руку — как-никак «крестник», которого я вытащил с того света.
— Как погулялось?
Я рассмеялся. Никому не пожелал бы подобных гулянок.
— И не спрашивай. Одна мечта: поскорее добраться до шконки и отрубиться часов на двенадцать.
— Значит, провел время с пользой, — резонно заметил Шевчук и состроил серьезную мину. — Вот что хочу сказать тебе, Константин. Зря ты с Чечевым так обошелся. Теперь будь повнимательнее. Что-то мутит он против вашей докторской светлости. И не он один…
— Кто еще? — насторожился я.
— Я не знаю. Здесь ведь многие держат зуб на тебя. А еще многие знают, как я хорошо к тебе отношусь. Так что во все эти планы меня никто посвящать и не будет.
— Какие планы?
— Я не знаю. Еще раз повторяю тебе, что не знаю. Я лишь обратил внимание на какую-то возню вокруг тебя в последние дни. Разведаю что-нибудь поподробнее, сообщу. А пока ожидай провокаций.
— Паша, это серьезно? — Отличное настроение, с каким я еще десять минут назад вышагивал через поселок, улетучилось, словно туман при первых проблесках июльского солнышка.
— Это действительно очень серьезно, — кивнул Шевчук. — Ладно, хватит нам вместе отсвечивать. Еще раз повторяю: как что-то разведаю, сразу же сообщу… — Он сделал шаг в сторону, освобождая мне путь в проходную. — Давай проходи. Анатолий Андреевич только-только звонил насчет тебя. И… Костя, внимательнее.
Я отметился у дежурного и прошел на зону. На крыльце административного корпуса стояли те же два опера, что и четверо суток назад, когда я валял по асфальту толстого прапора Чечева. Оба, похоже, опять не совсем трезвые. Что за черт! Какое-то наваждение. Время повернуло вспять, сейчас из дежурки выскочит Чечев и начнет меня инструктировать: «Руки за спину… Не базарить и не курить… В лучшем случае — в рыло, в худшем случае — пулю…» Я непроизвольно обвел взглядом окрестности. Никаких толстых прапоров.
Ч-черт! И надо же было устроить себе такой головняк! Нет чтобы четверо суток назад спокойно выслушать хама-прапорщика, послушно заложить руки за спину и позволить ретивому дураку отконвоировать себя через поселок. Так надо же было продемонстрировать свой строптивый характер! И теперь напротив столь долгожданного и уже полностью подготовленного соскока из зоны можно смело поставить большой знак вопроса. Большой и жирный. О, ч-черт!!!
Правда, оставалась еще слабая надежда на то, что все рассказанное мне сейчас — это не более чем туфта, кислый плод непомерной фантазии Шевчука. Как бы хотелось, чтобы это было именно так! Но… Я давно отвык жить сладенькими иллюзиями и во всех жизненных ситуациях принимал за исходный самый мерзкий вариант развития событий. Сейчас этот вариант выглядел так: меня в ближайшее время подставят, чтобы добавить мне сроку и перевести в другую зону. На другой, более строгий режим. И все придется начинать сначала.
Я шел к бараку и матерился сквозь зубы.
Распроклятье! И надо же было так глупо высунуться дураку! Неужели действительно все начинать сначала? Да ведь так мои пятеро «клиентов» в конце концов сдохнут своей собственной смертью! Без моего участия. Не хочу я этого! Не хочу!!! О, распроклятье!!!
Глава 9. Поправка к плану
Но никто меня не трогал целых полтора месяца — до начала июня. Вскрылась ото льда и разлилась Ижма. По большой воде пригнали новый этап. На промзоне три бригады начали составлять первые сплавные плоты.
Погода, начиная с середины мая, стояла солнечная и теплая, и это меня здорово радовало — глядишь, вода в реке к июлю прогреется на один-два градуса сильнее обычного. Дай Бог, чтобы было именно так.
Чечева я встречал почти ежедневно. Он дежурил на КПП, через который я проходил по несколько раз в неделю, направляясь в гости к Кристине и Анжелике. Толстяк общался со мной подчеркнуто корректно и официально. Ни единого замечания, ни единого лишнего слова. Он даже ни разу не попытался меня обшмонать. И лишь заплывшие жиром поросячьи глазки Чечева, когда мне удавалось перехватить его взгляд, говорили о многом. Нет, он ничего не забыл. Он все помнит и лишь ждет подходящего момента, чтобы припомнить мне то, как я опозорил его перед сослуживцами. И он уверен, что такой момент рано или поздно настанет.
А я был уверен в обратном. Хрен я предоставлю этому прапору хоть ничтожнейшую возможность. Предупрежден — значит, вооружен. А я — спасибо огромное, Паша Шевчук! — теперь держал уши торчком. И никому из цириков не давал ни малейшего повода даже к тому, чтобы сделать мне замечание. Ходил разве что не на цырлах. И терпеливо ждал провокации, попутно продолжая нянчиться с Кристиной.
Заботами кума мне был выдан пропуск расконвоированного, по которому я имел право на свободный выход из зоны, начиная с восьми утра и до десяти вечера. Так что все погожие майские дни я сейчас проводил, гуляя с Крис по берегу Ижмы или на опушке еще не просохшего после зимы соснового бора.
Буквально за пару недель моими и Анжеликиными стараниями девочка приобрела вид совершенно нормального человека. Она уже больше не походила на обтянутый бледной кожей скелет.
Взгляд приобрел осмысленное выражение, а походка больше не напоминала старушечью. Даже засыпала Кристина теперь без снотворного. Вот только сны ей снились исключительно наркоманские, и каждое утро она жаловалась, что опять всю ночь покупала чеки с порошком у барыги, потом готовила в ложке над зажигалкой раствор, баяном вытягивала его через ватку, ставилась в капилляр и…
— Не торкало, — чуть не плакала девочка. — Никакого прихода. Кость, у тебя же есть барбитула?
Об этом она спрашивала меня по несколько раз на дню, и каждый раз я ей отвечал, что вернул все лекарства в аптеку больницы, а раздобыть барбитулатов или чего-то другого нигде не могу.
— Да чего ты мне паришь! — психовала Кристина. — Я что, не знаю, что у вас в зоне сплошные барыги. У них же и герыч, и эфедрон… Да чего только нету! Слушай, ну возьми мне один-единственный чек. Только один. И все, больше ни разу тебя не достану. Во, зуб даю, не достану… Ну, Костя! На один только маленький разик! Я тебе денег сейчас принесу. Хорошо? Да слушай же ты! Ну, пожалуйста!!!
И вот под таким прессингом я находился целыми днями, которые проводил рядом с Кристиной. Слезы, крики, истерики, посулы и угрозы… Несколько раз эта ведьмочка даже пыталась наброситься на меня с кулаками. А я вместо того, чтобы послать ее на хрен, — ведь не обязан же я состоять при ней этаким мальчиком (вернее, дяденькой) для битья и срыва эмоций — тешил себя мыслями о том, что общение с наркоманкой может только пойти на пользу, так как хорошо укрепляет нервы…
— Костя-а-а!!! Бы-лядь, да не будь ты говном! Поставь мне барбитулы хотя бы! Колес хоть децл добудь!
…тренирует выдержку и силу воли. И радует меня осознанием того, что я делаю доброе дело, и это мне воздастся сторицей, еще, надеюсь, на этом свете. Например, когда уйду в бега из Ижмы и мне остро потребуется покровительство Фортуны.
Иногда мне удавалось на какое-то время отделаться от Кристины и уединиться с ее мамашей. Ненадолго — как правило, не более чем на час. Но этот час Анжелика использовала по полной программе, не теряла ни единой драгоценной секунды, и в такие дни я возвращался на зону опустошенный и весьма довольный жизнью. А Блондин, сгорая от черной зависти, громко орал: «Ну почему же я не лепила?!» — и грозился пойти в барак к пидарасам, извлечь там из штанов свой внушительный «инструмент» и устроить кое-кому веселую жизнь. Впрочем, и на самом деле, к Блондину и к Косте Арабу (да и к другим пацанам и мужикам) довольно часто приходили из пидерного барака молоденькие Маньки, чтобы отсосать или подставить клиенту жопу. За пачку «Примы», за горсть чая, за буханку черняшки, за просто так… Пидеры котировались на зоне задешево. Или не стоили вообще ничего.
Из-за моих частых походов в поселок нам с Блондином пришлось сократить количество экскурсий на биржу. Там мы теперь появлялись не каждый день, а по два-три раза в неделю. Но ничего страшного. В промзоне мы уже достаточно примелькались. Никто на нас не обращал никакого внимания. Для соскока все было готово, если не считать трубок для дыхания и скоб, изготовить которые было делом одного часа. Да еще мы пока не получили подтверждения с воли, что наш проводник уже сидит в своей охотничьей избушке и дожидается нас.
Однажды в начале июня, отделавшись от Кристины и Анжелики еще днем, я решил не спешить на зону — до десяти вечера оставалось больше семи часов — и, купив в ларьке пару бутылок пива, устроился на берегу реки. Еще полноводной, несущей течением в Баренцево море разнообразный смытый с берегов мусор. Еще холодной настолько, что соваться в нее было бы равносильно самоубийству. До разрыва сердца в такой воде достаточно пробыть лишь несколько минут.
«Интересно, — подумалось мне, — наш абориген-проводник уже на месте? Малявы с воли об этом пока еще не было. Но ведь она может и задержаться. — И тут же в голову закралась сумасбродная мысль: — А не отправиться ли сейчас к этой охотничьей избушке, что от поселка всего километрах в двенадцати вверх по течению, и не поглядеть ли, что там сейчас делается? Правда, избушка на другом берегу, но ширина реки примерно полкилометра, так что будет отлично видно живет там сейчас кто или нет».
Я прикинул, какое время у меня займет подобное путешествие: «Та-а-ак… В одну сторону километров двенадцать. Туда и обратно можно легко дойти за пять — максимум, шесть — часов. Времени более чем достаточно».
На меня нашло какое-то наваждение, и я действительно поднялся с большого бревна, на котором сидел, и поперся в тайгу, чтобы обойти свою зону, которая оказывалась у меня на пути, и снова выйти к реке километров через восемь в том месте, где она делает излучину и берег уже незаметен с наблюдательных вышек. И прошел уже, наверное, четверть пути, когда наконец опомнился: «И что же я делаю, идиот? Хочу спалить к дьяволу все, что надыбали мы и братва с воли по предстоящему побегу? Что будет, если меня напротив этой избушки или даже по дороге туда засветит кто-то из местных, и бодяга об этом дойдет до ушей мусоров? Что я смогу ответить на их вопрос: „А за каким таким хреном ты, Разин, поперся в такую даль? Погулять?" Хм, погулять… Менты не дураки. Им только дай небольшую наколку, а все остальное они срастят будьте нате. А я спалю такое серьезное дело из-за какого-то дешевого любопытства. И не будет мне, дураку, за это прощения.
Я зло выругался и решительно пошагал назад. А оказавшись через час в поселке, направился прямо к ларьку — решил прикупить еще пива. Все равно возвращаться на зону совсем не хотелось.
Вот там-то, возле ларька, ко мне и подкатил совершенно незнакомый типчик с налысо обритой башкой и мощным выхлопом перегара из щербатого рта.
— Отойдем-ка, Коста, на парочку слов, — просипел он и, взяв меня, удивленного, за локоть, отвел в сторону подальше от людного пятачка напротив ларьков. — Короче, братан, привет передай на зону Арабу от Юры-Володи. Да скажи, что комяк уже на рыбалке. Только вот не клюет, и он все больше дома сидит. Так и передай, брат. Все запомнил?
— Склерозом, слава Господу, не страдаю, — хмыкнул я. — Все запомнил. Все передам. — И придержал собравшегося было уже отвалить от меня мужика. — Погоди. Обзовись, кто таков.
— Все равно Араб не знает меня, — улыбнулся лысый и спокойно отцепил мою руку от лацкана пиджака. — Клифт не мни. Он у меня один. — И мужик не спеша порулил к ларькам. А я еще долго стоял и смотрел, как он горстями выгребает из кармана мелочь, тщательно пересчитывает ее и покупает две бутылки бодяжной бормотухи.
Итак, вот она и малява насчет проводника-аборигена, который прибыл на место — «комяк уже на рыбалке», и «сидит дома» — ждет нас. Остается надеяться, что все, что сейчас передал мне лысый алкаш, — не туфта. Хотя кто знает о предстоящем побеге? На зоне — только я, Араб и Блондин. На воле — несколько проверенных человек. И один из этих «проверенных» — может быть, тот же комяк — давно уже наблюдал за тем, как я последнее время свободно разгуливаю по поселку, и в результате решил не заморачиваться с обычной малявой, которую еще надо переправлять на зону, а подписал скинуть мне информацию одного из местных забулдыг. Тоже верно. А я вот сегодня чуть было не облажался, когда ни с того ни с сего рванул к избушке. Как неразумная малололетка…
Я возвращался на зону в отличнейшем настроении, предвкушая, как сейчас сообщу братве о том, что последний штрих, который надо было нанести на план побега, сделан. Все ништяк. Все теперь зависит только от нас самих… Но мое отличное настроение расколотил вдребезги Паша Шевчук. Он перехватил меня около проходной, кивнул в сторону: «Отойдем, есть разговор» — и одни махом сбросил меня с высот грандиозных мечтаний на бренную землю.
— На следующей неделе пойдешь по этапу в Эконду. Это Якутия. Вернее, рядом.
— Когда конкретно? — напрягся я. — Сколько у меня времени?
— На что? — ухмыльнулся Шевчук. — Если хочешь подбить все долги, то рассчитывай на неделю. Я видел вчера документы. Поднимут тебя вверх по реке до Ухты, там в столыпина [47], а дальше вперед по нашей необъятной мамаше-России…
— 3-зараза! — Я хлопнул Шевчука по плечу. — Спасибо, прапор. Ты уверен, что не меньше недели?
— Да. Дней семь у тебя пока есть. Коста, это тебе отрыгается Чечев.
— Убью пидараса! — прошипел я.
— Не один ты об этом мечтаешь. — Шевчук достал из кармана потрепанную пачку «Беломора», выковырнул из нее мятую папиросу. — Собрался валить отсюда в тайгу?
Я аж вздрогнул от такого прямого вопроса. У меня что, про тайгу написано на физиономии? Впрочем, наверное, написано. Плохой я актер.
— Валить?! Себе на погибель? — постарался разыграть удивление я. — Из ума я пока что не выжил и свои силы соразмеряю. Лбом обуха не перешибешь, и по тайге я не пройду и пяти километров. Тем более что кое-кто, кажется, очень рассчитывает на то, что я попробую соскочить. А вот хрен им! Удовольствия подстрелить себя никому не доставлю. И отправлюсь по этапу в Якутию, погляжу, что там за Эконда такая. — Уж не знаю, достаточно ли искренне прозвучали мои слова и сумел ли я убедить Шевчука в том, что действительно мыслю именно так. И ни о каких бегах не может быть и речи… — Спасибо, Паша, за информацию.
Он смущенно хмыкнул, пробормотал:
— Это тебе спасибо. Все ж с того света когда-то вытащил меня, непутевого… Будем считать, что этого разговора между нами не было. — И пошагал в дежурку.
А я, отупевший, пришибленный полученной информацией, стоял и провожал его мутным взором. И отчетливо сознавал, что вот наконец моя уютная жизнь в Ижме и дала серьезную трещину. А все мои радужные планы на будущее сейчас рассыпаются, словно карточный домик. Самое что обидное — всего за какие-то пять недель до побега. И исправить что-то здесь уже…
Почему невозможно? Опускать руки и отчаиваться я разучился еще четыре года назад. И давно усвоил, что из любой самой наидерьмовейшей жизненной ситуации всегда есть какая-нибудь лазейка. Надо лишь ее отыскать.
Надо лишь внести коррективы в планы соскока.
* * *
Решение валить из зоны не в середине июля, а уже через несколько дней, было принято тем же вечером на толковище, в котором кроме меня, Кости Араба и Блондина принимали участие еще несколько человек: Косолапый — слесарь, обязавшийся изготовить трубки и скобы; Абас — бугор сплавщиков, который должен был оборудовать нам для соскока плот и проследить, чтобы слухи об этом не успели доползти от какой-нибудь суки до оперов; двое быков — им поручили устроить на промзоне бузу и отвлечь внимание караульных на вышках. Мы полностью посвятили всех собравшихся этим вечером у нас в «спальне» в свои планы. Еще раз перебрали все нюансы соскока, опираясь на этот раз на мнение мужиков, более близких к плотам, нежели мы. И с удовольствием выслушали их заключение о том, что уйти из зоны тем способом, что сейчас предложен им на экспертизу, вполне реально.
— А за воду холодную ты не менжуй, — уже после того, как мы расставили все точки над «i» и распределили обязанности, бубнил мне на ухо Абас, основательно захмелевший от спирта, который я проставил братве. — И лед в этом году раньше прошел, и погода уже три недели, слава Аллаху, как по заказу. Мужики у меня вон всю смену по колено в воде копошатся, и никто еще не охромел, не простудился.
— Так то по колено…
— А вы целиком. Дык ничо! Уж часок как-нибудь и перекантуетесь, пока не отплывете подале. Ничо, Коста, перекантуетесь! Отвечаю!
Потом все дружно обсуждали вопрос, а почему бы мне, идиоту, не уйти в бега по-простому в тот момент, когда хожу навещать племянницу кума. И так и не смогли прийти к соглашению: а должен ли я отвечать за данное мусору слово, что не попытаюсь свалить, когда по его ходатайству выхожу на расконвойку?
— Все одно, Блондину надо соскакивать под плотом, — поставил точку в обсуждении этой темы Костя Араб. — Так разве не в падлу это, что Костоправ посуху пойдет, как по проспекту, а братан его, значит, в холодной воде, через трубку дышавши. Да и словом своим, кому бы оно дадено не было, Коста распоряжается сам. И не вам обсуждать это слово. Так что замяли на этом базар. Расходимся потихоньку. Косолапый, завтра… — Смотрящий уткнул палец в грудь слесарю, и тот его понял.
— Завтра к обеду и трубки, и скобы будут готовы. Заныкаю все у себя в каптере, — доложил он. — Коста пусть подрулит, проверит. И ты тоже, Абас. Поглядишь, что да как.
Бугор сплавщиков покивал лысой яйцеобразной башкой и уже в свою очередь повторил свое задание:
— Послезавтра сам закреплю все на плоту. Уже перед самой отправкой. И подпишу мужиков, чтобы прикрыли Косту с Блондином. В тот момент, как пацаны хипеж поднимут…
— Часов в одиннадцать — в двенадцать, — подхватил от бугра эстафету один из быков. — Завтра перетру кое с кем из братвы. Хипеж будет конкретный. Мусорам будет ни до чего.
— Вот и отличненько, — устало вздохнул Костя Араб. — Вижу, усвоили все. Накладок не будет… Ну, ладно. Еще по одной и разбежались по людям. Блондин, разливай…
А уже утром я получил конкретное доказательство тому, что все, о чем мне рассказал Паша Шевчук, совсем не туфта. В тот момент, когда я сунулся на КПП, чтобы выйти из зоны и в последний раз навестить Кристину и Анжелику, меня перехватил опер из абвера и забрал пропуск.
— А чего? — удивленно уставился я на него, хотя удивляться подобному уже не следовало.
— А ничего! — нахамил мне опер. — Достаточно, нагулялся. Прикрыта лавочка.
— Ни с того ни с сего? — продолжал я разыгрывать из себя несведущего лоха.
— Ничего не знаю. Приказ начальника. Давай двигай обратно, нечего здесь торчать.
Я пожал плечами, развернулся и, больше ни слова не говоря, отправился прямиком к куму. Задать пару вопросов (А в чем, в общем-то, дело? А чем я, хороший такой, провинился, что меня вдруг лишили лафы-расконвойки?) — естественная реакция простачка, которому ничего неизвестно. А именно за такого, как я надеялся, держит меня администрация. И не надо давать ей поводов усомниться в этом хоть на секунду.
С кумом я пересекся в тот момент, когда он выходил из своего кабинета.
— А, здорово, — поприветствовал он меня, но к себе не пригласил и, махнув рукой, чтобы я следовал за ним, не спеша двинул по коридору, — а значит, разговор состоится на ходу, и времени на аудиенцию мне будет выделено немного. «Тем лучше», — подумал я. И, не откладывая дел в долгий ящик, пожаловался:
— Проблемы на КПП.
— Я в курсе. Придется тебе пару дней передохнуть. Потом все улажу.
— А что случилось? Чего-нибудь из-за меня? — внимательно вглядывался в точеный профиль шагавшего рядом кума, но ни тени эмоций у него на лице не заметил. Хотя кому-кому, как не ему знать о моем предстоящем переводе в Эконду.
— Да нет, Константин. Здесь свое, внутреннее. Я ж говорю, через несколько дней все утрясется, пропуск вернем. У тебя все?
Я улыбнулся. Пожалуй, действительно все. Надеюсь, никогда больше не свидимся. Очень надеюсь! Никогда в жизни!
— Пока все. Разве что передавайте приветы. И сестре, и племяннице.
— Обязательно. Ну, давай. — И кум поспешил к КПП.
А я поплелся к своему бараку. И ощущал огромное облегчение от того, что взял вот и сам собой снялся вопрос, мучавший меня все сегодняшнее утро: «А почему бы, на самом деле не наплевать на слово, данное куму, и не свалить, когда уйду из зоны якобы навестить Кристину? И не мерзнуть в холодной воде? И не дышать через трубку? И не рисковать схлопотать с вышки пулю от чересчур бдительного солдатика, мечтающего о десятисуточном отпуске? Я ушел бы по суше и дождался бы Блондина в охотничьем домике. И никто из братвы не сказал бы мне ни единого слова за то, что не составил компанию братану. Зачем рисковать вдвоем, когда все можно сделать без лишнего геморроя? Да и поднырнуть под плот незаметно для караульных одному куда проще, нежели двоим. А зеки, какие бы правильные они ни были, очень не любят усложнять себе жизнь, если можно обойтись без этого».
Впрочем все эти рассуждения после того, как меня лишили выхода с зоны, не стоили выеденного яйца, являлись пустой ботвой и не стоило забивать себе ими голову. Впереди были дела куда поважнее. И первое — прихватить с собой Блондина и прогуляться с ним до промзоны. Потоптаться там, посветиться под караульными вышками. И конечно, проверить, как выполнил наш заказ Косолапый. И проведать Абаса. А потом возвращаться к себе и готовиться в дальний путь.
Возможно, что в очень дальний…
В каптере слесарки нас уже дожидались железные скобы и две длинных полихлорвиниловых трубки.
— С этим проще, чем с алюминием, — объяснил мне Косолапый. — И достал я их без проблем, и разрезал обычным ножом так, что никто не заметил. Да и Абасу работать с ними на берегу куда проще.
Я покрутил в руках трубку. Один ее конец был заботливо растянут по-горячему клином и представлял собой нечто вроде загубника. Так что можно не волноваться, что вода будет попадать в рот. Да, действительно, удобнее алюминия.
— Ништяк, — одобрил работу я. — Абасу уже показал?
— Да. — Косолапый позвенел несколькими стальными крепежами, которыми, насколько я понял, должны были присобачить трубки к плоту. — Ему понравилось. Сказал, что справится со всем без проблем.
— Хорошо. — Я был доволен. Все шло пока гладко. — Спасибо тебе, Косолапый. Зачтется все, брат. Давай-ка на всякий пожарный… — Я крепко обнял мужика и похлопал его по спине. — Вдруг уж сегодня не свидимся. А завтра будет не до прощаний.
— На воле, даст Бог, пересечемся. — Блондин оттеснил меня могучим плечом и долго тряс Косолапому руку. — Не поминай лихом, если чего. И мужикам всем передай послезавтра, чтобы не поминали… — И, разумно решив, что надолго задерживаться в слесарке нам нет никакого смысла, он повернулся ко мне: — Коста, пошли. Попрощались, все посмотрели и нехрен нам здесь отсвечивать. Да и Абаса надо еще проведать.
Мы болтались в промзоне еще часа два. Долго наблюдали за тем, как мужики возятся со сплавными плотами. Прикидывали — за последний месяц, наверное, уже в десятый раз, — сколько проходит времени с того момента, как за связку плотов зачаливают буксировочный трос, и до того, как чадящий дизелем работяга-теплоходик скроется вместе со своим грузом за излучиной реки. Потом перекинулись несколькими фразами с Абасом. И никуда не торопясь, направились в свой барак.
Почему-то мне казалось, что весь вечер у нас должен уйти на сборы, на предстартовые напутствия Кости Араба и на всю ту суету, которая, насколько я помнил по воле, всегда присутствовала рядом со мной перед даже не очень дальней дорогой. Вот только воля уже отошла в далекое прошлое. И вместе с ней в этом прошлом растворились все те противные бытовые мелочи, которые так осложняют жизнь. У нас не было, никаких пожитков, за исключением кое-каких лекарств и фляжки со спиртом, которые утром оставалось лишь распихать по карманам. Что еще? Ах, да — еще парочка крепких «охотников»[48] в ножнах под робами, да шабер, который Блондин хотел про запас засунуть в сапог. И пачка сторублевых купюр плюс тысяча долларов — НЗ, взятый на всякий случай, тщательно запаянный в целлофан и зашитый в подкладку моего клифта. Вот и все наше имущество. Остальное должно было дожидаться нас в охотничьем домике вместе с аборигеном-проводником.
Все предстартовые напутствия Кости Араба я выучил наизусть еще месяц назад. И они уместились в несколько лаконичных фраз: к кому обращаться в Кослане, если вдруг что-то случится с проводником; куда и как отходить по запасным направлениям, если вдруг и с Косланом выйдет облом; несколько адресов; пара паролей… Вот, пожалуй, и все. Ничего с такой оказией, как мы,
смотрящий передавать на волю не стал. Ему для этого доставало маляв, которые уходили из зоны более надежными путями.
А вся суета, которая обычно сопровождает сборы в дорогу, свелась к тому, что Блондин немного понапрягал меня составить ему компанию и выпить на посошок.
— А завтра с похмелья отправляться в бега? Сидеть под водой и дышать через трубочку? Нет, — решительно отрезал я. — Ни ты, ни я не выпьем сейчас ни глотка.
— Да ладно…
— Ты разве не понял? — повысил я голос.
— Не понял, Блондин? — продублировал меня Костя Араб. — Спиртное, пока не дойдете до места, только в лечебных целях. А прописывать его и тебе, и комяку будет Коста. Он врач. И он старший. Усвоил?
Блондин молча вздохнул.
— Усвоил?!!
— Да.
— Вот и отлично. Доставай шахматы.
И они весь вечер, как ни в чем не бывало, просидели за шахматами. А я валялся на шконке с книжкой в руках, пытался усвоить хоть что-нибудь из прочитанного, но не мог удержать в голове ни строчки. В предвкушении завтрашнего побега меня, к моему удивлению, начал бить легкий мандраж. Я прямо-таки ощущал адреналин, который пропитал мою кровь. Поражался: давненько со мной подобного не бывало. Боялся, что не смогу заснуть. И завидовал спокойному, словно Будда, Блондину.
— Сдавайся. Чего тянуть, — довольно хихикал он и чесал голое мускулистое брюхо. — Чего-то нынче ты в расслабоне, братан.
— Зато ты слишком сосредоточен, — недовольно бурчал в ответ Костя Араб. Он опрокидывал на доску своего короля, и «гроссмейстеры» начинали расставлять фигуры по новой. — Нет, сейчас я тебя обязательно сделаю.
Но состязаться с Блондином в тот вечер было бессмысленно. Он был в ударе. Он обыграл бы хоть Крамника, хоть Ананда. И к тому моменту, когда я наконец заснул, смотрящий сливал ему с сухим счетом. То ли 0:5, то ли 0:6. Точно не помню.
Глава 10. Присядем перед дальней дорожкой…
Растолкать наутро Блондина оказалось непросто. Но я решительно выдернул его из постели.
— Десятый час. У Абаса скоро все будет готово. Забыл, что сегодня за день?
— Вот ведь бля-а-а, — заныл Блондин, по-детски протирая кулачками-куваддочками заспанные глаза. — Красный день календаря. Всем ментам по сухарям. Всей братве по пряникам.
Я вручил ему здоровенный кус топленого жира, завернутый в вощеную бумагу. — На, держи пряник. Намазывайся. По-быстрому. — Времени децл. — И, стянув с себя все белье, начал тщательно втирать в кожу неприятную на ощупь холодную массу. Вот уж раньше никогда не подумал бы, что это занятие может вызывать столь поганые ощущения. Хотя кое-кто из тех, что до сих пор живет в ярангах и чумах, так не считает. Им это все по-приколу. Им тюленье сало заменяет и косметику, и шампунь…
Со своим «туалетом» мы справились минут за пятнадцать. Жира хватило с избытком, и стоило нам надеть на себя трусы и футболки, как он тут же обильно проступил через них наружу. Выглядели мы в этот момент, как… Ладно, не будем об этом.
— Ну, вы и чмошники. — Смотрящий был точно такого же мнения, что и я. И не постеснялся высказать это мнение вслух. Он лежал на своей кровати с хромированными спинками и откровенно прикалывался, взирая на нас. — Наденьте трико, а то ведь сало через робу проступит. Мусора сразу смекнут, куда собрались… Нет, ну и шмонить же завтра будет от вас!
Потом он поднялся и принялся нарезать бутерброды, запаривать чифир. Что-то на моей памяти Араб в первый раз решил подписаться в бытовые заботы. Обычно все это было возложено на меня и Блондина. Впрочем, сегодня нам было совсем не до готовки. У нас «красный день календаря».
— К столу не приближайтесь. Все здесь загадите. — Когда мы влезли в робы и сапоги, Араб уже высыпал в кружку заварку, нарезал колбасу и чернуху. — Руки хоть тряпкой протрите. И похавайте плотно. С набитым брюхом в холодной воде, я так понимаю, всяко попроще. Да, Коста?
— Да, — буркнул я, набивая рот хлебом. И не к месту подумал о том, что если таким вот набитым брюхом кто-то из нас словит пулю, то перитонит обеспечен. Но поесть все-таки надо. Обязательно выпить чифиру. И сразу же после этого на бодряках отправляться на акцию. И глядишь, удастся продержаться под водой необходимое время.
Когда мы закончили с завтраком, на часах было уже пятнадцать минут одиннадцатого. А первый за день буксир подходил к зоне и утаскивал лес вверх по реке обычно в промежутке между одиннадцатью и полуднем. Мы вполне успевали, но на раскачку и долгие проводы времени уже не оставалось. Я быстро рассортировал по карманам свою скромную аптечку, нацепил под клифт ножны с «охотником». Блондин запихал в сапог шабер, подошел к двери и замер возле, поджидая меня.
— Все, мы пошли, — произнес я.
— Погоди… Присядем, братва, — вздохнул Араб и ткнулся задом в роскошный, вырезанный в столярке вручную стул. — Перед дальней дорогой, говорят, полагается. Обниматься я на прощание с вами не буду. Уж извините, но больно вы сальные. А вот слово промолвлю… Хорошо с вами было, братва. А вот только без вас будет лучше. — Он перехватил мой удивленный взгляд и расплылся в улыбке. — А ты не гляди, ты дослушай. Дослу-у-ушай… Так вот, без вас будет лучше, когда узнаю, что добрались нормально. Что приняли вас хорошо. Что ксивы вам выправили. Что все у вас, короче, срослось. Потому как не место вам в этой клетушке. — Смотрящий картинно обвел рукой «спальню». — Не место вам здесь вообще. Дела вас ждут на материке. Особливо тебя, Костоправ. Езжай в Петербург, да давай мочи там своих пятерых. Всех по списку. И не спеши только, не горячись, делай все так, чтобы понять они, пидарасы, успели, кто к ним пришел да с какими предъявами. Все чтобы осознали. Мне потом отпишешь про это. А я уж, старик, здесь буду чалиться да малявы ждать от тебя… Ты же, Блондин, гляди, не зарывайся. Не бухай да не лезь в беспредел. Живи по понятиям. И все будет ништяк. Братва не оставит. — Араб помолчал, пожевал по-стариковски губами и, не придумав, что еще можно сказать, решительно поднялся со стула. — Ну, все. Что хотел, то промолвил. Отправляйтесь с Богом. Удачной дороги. — И он украдкой, словно стесняясь того, что делает, сотворил несколько православных крестов в нашу сторону.
Мы вышли из барака и, тихо-мирно беседуя о какой-то пустой ерунде, неторопливо пошли по направлению к бирже — так, как последнее время прогуливались почти каждое утро. Так, как давно приучили к этому и братву, и охрану. И сегодня мы всем были до фонаря. Никто не обращал на нас никакого внимания. Не было заметно вокруг ни единого цирика, и лишь караульные с вышек провожали нас пустыми скучающими взглядами. Не потому, что мы чем-нибудь возбудили их сонливую бдительность. Просто надо же было им на кого-то смотреть.
— Как настроение? — негромко спросил я Блондина. — Не мандражируешь?
— Не. Все ништяк. Не до мандража сейчас. У меня так всегда. Порой бывает, что поначалу децл колбасит, а как на дело пойдешь или там даже в драку обычную влезешь, так все сразу до фени. Споко-о-ойный…
— Рад за тебя. А меня вот немножко…
— Да ладно тебе, — дружелюбно хлопнул меня по спине Блондин. — Немножко — не страшно. Не помешает… Зырь, Коста, буксир-то…
Мы уже вышли к промзоне, и оттуда с пригорка открывался красивый вид на излучину Ижмы. И на маленький, словно игрушечный, буксирчик с высокой закопченной трубой, который спускался вниз по реке, спеша к уже подготовленным для него плотам… к уже подготовленным для нас плотам. О, черт! Сейчас все начнется! Я отчетливо ощутил, как у меня начали мелко дрожать коленки. И что за позорище! Словно у последнего психа! Почему же я не лечился бромом?
Первым, с кем мы столкнулись в промзоне, был один из пацанов, которые должны организовать нам прикрытие, учинить бузу и отвлечь караульных. Он, не скрываясь, подошел к нам (А чего скрываться? Чего бы нам не постоять, не докурить, не поболтать между собой?), протянул Блондину пачку «Примы» и, оглянувшись — не услышит ли кто? — сообщил:
— Все нормалек. Братву подписал. Вас прикроют. Трубки Абас подготовил. Подойдете к нему, он покажет. Буксир пока сюда доплывет, пока лес подцепит… Короче, времени у вас еще около часа.
— Понятно, — сказал я. — Ты пока погуляй. Когда увидишь, что мы готовы, начинай. Никаких сигналов не жди. Сам сообразишь.
— Соображу, — заверил меня пацан и блеснул в улыбке золотой фиксой. — Удачи.
— Угу, — кивнул я, и мы с Блондином ленивой походкой поплелись к бригаде, которая готовилась зачаливать лес. Все, как обычно. Все, как и в прошлые дни. Сейчас присядем на берегу около лесотаски[49] и, перебрасываясь шуточками с мужиками, будем глазеть на то, как они ловко скачут по бревнам, как за пачку сигарет или чая, а то — если повезет — и за стакан самогона помогают вольняшке-сплавщику устанавливать на последнем плоту палатку. Как что-то у него по купают, что-то выменивают, и эти удачные приобретения тут же бесследно исчезают в складках их арестантской одежды. Возможно, к нам сейчас подойдет кто-то из цириков, сухо поздоровается кивком головы и, встав рядом, начнет безучастно наблюдать за всей суетой на плотах. Он дождется момента, когда буксир уже будет готов к отплытию, а вся бригада перейдет с плотов на берег, и не поленится проверить палатку — не зашхерился ли там кто-то из зеков. Убедится в том, что все нормально… И вот тогда-то и настанет наша очередь. Мужики чуть в стороне поднимут бузу, повытаскивают ножи, похватают дубье, двинут стенка на стенку. Цирик сразу же шуганется подальше от хипежа — не замочили бы ненароком. А уже через десять секунд всю промзону положат на землю. Но мы к этому времени будем уже под водой. Надо успеть.
— Здорово. — К нам подошел Абас, поздоровался с обоими за руку. И совершенно без каких-либо интонаций, так, будто болтал о каком-нибудь пустяке, начал докладывать. — У меня все готово. Глядите внимательно мне прямо за спину. Третий плот от буксира. Подныриваете под него прямо по центру, проплываете под ним. Трубки закреплены друг возле друга у дальнего правого борта рядом со скобами. Не промахнетесь. Удачи.
— Спасибо, Абас. — Я решил, что не будет лишним повторить то, что он мне сообщил. — Третий плот от буксира. Трубки и скобы по дальнему правому борту прямо по центру. Я правильно понял?
— Правильно, Коста. Все так. Пойду я к бригад. Не буду отсвечивать. Еще раз удачи.
— Еще раз спасибо. А удача нам пригодится, братан…
«И правда, — подумалось мне. — Удача нам пригодится. Но ведь она такая ветреная особа! Порой от нее нет покоя, и она не отстает от меня ни на шаг, а порой исчезает куда-то, и сколько ни озирайся, как ни пытайся ее обнаружить где-то поблизости, — пустые старания. Эта стерва в такие моменты сопровождает кого-то другого и ей на меня глубоко наплевать. Интересно, а где ее носит сейчас? Где-то поблизости от меня? Или вообще черт знает где? А может, она жмется поближе к моему сегодняшнему соратнику?»
— Слышь, у тебя как насчет госпожи Удачи? — я присел прямо на обильно покрытую корой и щепой землю рядом с устроившимся на огрызке доски Блондином.
— Чего? — не понял он. — Какая удача?.. Хрен мне фартило когда. Облом на обломе, попадалово на попадалове.
— Но должно же когда-то и подфартить.
— Может, и правда, должно. Хорошо бы, сегодня.
«Действительно, хорошо бы сегодня», — размечтался я и, наверное, сглазил, ибо почти с этого самого момента все и пошло наперекосяк…
Буксир ловко пришвартовался к плотам, мужики тут же приняли с него конец и помогли спрыгнуть с низкого борта вольняшке-сплавщику — малорослому типчику, наряженному, несмотря на жару, в телогрейку и болотные сапоги, длинные голенища которых были тщательно загнуты ниже колена. Типчик пожевал потухшую «беломорину», поздоровался с кем-то из зеков за руку, поприветствовал кого-то на берегу, прихватил свои пожитки — рюкзак и скатку из одеяла — и, колеся кривыми кавалерийскими ножками, поковылял на последний плот, где ему был приготовлен настил из горбыля.
Сейчас где-нибудь рядом должен был объявиться кто-то из цириков. Чтобы постоять на берегу, без какого-либо интереса понаблюдать за сплавной бригадой и, дождавшись, когда буксир отплывет со своим грузом вверх по реке, отправиться восвояси, так и не произнеся ни единого слова.
Я оглянулся… и тут же мысленно выругался: «3-зараза! Проклятье! Что за непруха?! Они же всегда ходили сюда в одиночку. Или Савцилло, или Тропинин, или Борщевский, или Луцук. Все, как один, раздолбай, которым на все начихать. У которых давно „замылился глаз" на все нарушения. Которые сразу же поспешат слиться отсюда подальше, если между мужиками что-то начнется.
И вот ведь сегодня… Но почему же именно сегодня?! Да еще в такой горючей смеси!»
Их было двое. Один — многоопытный старший прапор Кротов, которому, насколько я знал, до пенсии оставалось чуть меньше года. Второй — совсем зеленый юнец, стажер, появившийся в зоне примерно месяц назад. За это время я встречал его всего несколько раз — всегда на КПП, когда выходил в поселок на расконвойку. И вот ведь приперся, сопляк, еще совершенно не нюхавший здешних порядков, а потому — я в этом даже не сомневался — наивно мечтающий о ратных подвигах, в промзону именно в тот момент, на который мы запланировали соскок. И от него следует ждать каких угодно непредвиденных головняков. Как подобного, в общем-то, следует ждать от всякого дилетанта.
Кротова я раньше тоже ни разу не наблюдал в промзоне. Обычно он либо дежурил на КПП, либо занимался в адмкорпусе всевозможной канцелярщиной. И надо же было случиться такому, что принесла поближе к нам сегодня нелегкая сполна вкусившего службы на зоне старого тертого волка. Который давным-давно изучил все зековские уловки, и неизвестно еще, поведется ли на бузу, которую устроят уже через полчаса мужики. А если не поверит в то, что она на самом деле реальна? А если не киксанет и не поспешит поскорее смыться отсюда, а только наоборот усилит бдительность?
«Впрочем, навряд ли, — попытался я успокоить себя. — Ему до пенсии меньше года. Так зачем на старости лет проявлять героизм? Кротов должен сразу свалить из промзоны, как только унюхает, что запахло паленым. И прихватить с собой стажера. А мы в это время спокойненько занырнем под плот».
Мне очень — очень! — хотелось верить, что все произойдет именно так. Но я не верил этому ни на грош. Шестое чувство уже кричало мне во всю глотку о том, что мы сегодня спалимся. Что надо все отменить. Отложить хотя бы на завтра.
«Всего лишь отложим, — гудели на форсаже мои мозговые извилины. — Достаточно сейчас только шепнуть пацанам, что акция прикрытия переносится. Потом Косолапый изготовит нам новые трубки и скобы. Абас завтра утром опять закрепит их на плоту. Ничего смертельного нету в том, что проживем здесь еще один день. Вот только…»
Какой же длинный за нами обычно тянется шлейф из этих мелких и мерзких «вот только»! Как тормозят они наше движение! Как отравляют нам жизнь!
«…Вот только у нас уже не осталось топленого жира, чтобы опять втереть его в кожу. Его мы израсходовали весь до последнего грамма и завтра в холодной воде загнемся от гипотермии. Это — во-первых. А во-вторых, в наши планы побега на данный момент посвящены слишком многие, и не будет ничего удивительного, если назавтра окажется, что какая-нибудь из сук успела шепнуть об этом на ухо одному из оперов. И наконец, в-третьих. Наверное, самое важное.
А что скажет братва, если мы сейчас упадем на измены, сдадим назад? Над нами будут смеяться! Конечно, не в открытую — на это никто не осмелится. Но каждый подумает: «Вот так герои! Вот так авторитеты!» Да я не смогу никому смотреть в глаза после этого! Я сам перестану себя уважать за то, что взял вот сейчас и отступил впервые за последние четыре года! Кстати, насчет «отступил» — это в-четвертых. Отступать я действительно давно разучился. Всегда и везде если и не пру на пролом, то все равно довожу задуманное до логического конца. А сейчас ко всему прочему мы с Блондином на кураже, мы уже настроились на соскок. На борьбу. На войну, если потребуется. Даже на смерть… Нет, мы должны это сделать. Суметь уйти с зоны именно сейчас. Второй попытки не будет».
— Что будем делать? — вполголоса поинтересовался Блондин. Так, чтобы не расслышали Кротов и мальчишка-стажер, стоявшие шагах в двадцати от нас. По-видимому, моего соратника по побегу сейчас донимали те же сомнения, что и меня.
— Что делать? — как ни в чем не бывало, прошептал я. — Да то, что и собирались. Конечно, возникли проблемы. Но как же без них?
— Да-а, без них никуда. Эт… твою мать! Принесли черти на наши головушки двух пидарасов! А ты говорил про удачу. Шляется где-то эта удача. Чтоб от меня держаться подальше. Это же у нее как понятие — чтобы с рождения я ее даже рядом не видел.
Я улыбнулся. И подумал: «Интересно, а ведь совсем недавно у меня в голове блудили почти те же самые мысли: про неверную ветреную особу, которая, напрочь забыв про меня, трется в этот момент об кого-то другого». А еще я отметил, что, как это ни странно, но именно в тот момент, когда из-за Кротова и стажера создалась внештатная ситуация и мне пришлось принимать непростое решение, адреналин, до этого насыщавший мою кровь до предела, куда-то исчез. Дрожь в ногах прекратилась. И вместо предстартового мандража наступило полнейшее спокойствие. Более того, отрешенность, состояние сродни состоянию японского камикадзе, уже отправившегося на «нуле»[50] в свой последний полет. Камикадзе, уже оставившего на взлетной полосе шасси. Камикадзе, уже считающего минуты, которые ему отмерены от оставшейся жизни. Камикадзе…
— Блондин, знаешь, кто мы с тобой? Камикадзе,
— Че-его? Ками… — вздрогнул мой спутник. — Как ты сказал? Какадзе? Кто такой? Из грузеров что ли?
Я рассмеялся. И ничего не ответил, прикидывая, что нам до нашего взлета, когда мы оставим этот вытоптанный сотнями кирзовых сапог берег, ждать не больше пяти минут. Мужики уже зачалили буксировочный трос и сошли с плотов на твердую землю. Около пилорамы начала собираться братва, и там я заметил двоих пацанов, которые занимались нашим прикрытием и уже были готовы в любой момент отдать команду к началу бузы.
Я бросил осторожный взгляд на двоих цириков. Ни Кротов, ни стажер даже и не подумали проверить палатку, установленную на последнем плоту. Они продолжали стоять шагах в двадцати от нас и о чем-то негромко переговаривались.
— Ишь, Какадзе… — пробурчал себе под нос Блондин. — Какадзе… Готовься, Коста, нырять.
Буксир жизнерадостно перднул мотором, выпустил из трубы черный клуб солярочного перегара и начал осторожно выруливать носом к середине реки. Вот сейчас трос натянется. Вот сейчас плоты придут в движение и отодвинутся от берега. Вот сейчас…
— Сейча-а-ас… — пробормотал я и подогнул под себя ногу, чтобы сразу вскочить и с места набрать нужную скорость. — Сейча-а-с…
«…или, — продолжил я про себя, — стану коченеющим трупом, которому на все наплевать, или все же уйду на свободу. Или-или… Или сдохну, или свалю, но с зоной у меня на этот момент все отношения прекращены. Прощайте, цирики. Не увидимся больше. Прощайте, мать вашу так!»
А у меня за спиной уже набирали силу гвалт и громкая ругань. И даже не надо было оглядываться, чтобы понять, что мужики сейчас расхватывают дубье. Это был сигнал к старту нашего соскока на волю.
Глава 11. Гипотермия
Оказалось, что поведение Кротова и стажера я спланировал совершенно точно. Один, постарше и поумнее, решил, что главное — спокойно дожить до пенсии, и поспешил сделать ноги, когда около пилорамы началась грандиозная драка. Другой, помоложе и поглупее, серьезно вознамерился поиграть в героя. На виду караульных с вышек показывать спину каким-то вонючим зекам ему, щенку, было западло. Поэтому он остался на месте, эффектно отцепил от пояса резиновую дубинку и, стоя к нам вполоборота, принял картинную позу гестаповца из фильмов про вторую мировую войну. Ноги, обутые в блестящие хромовые сапоги, на ширине плеч. Дубинка, зажатая в правой руке, ритмично похлопывает по левой ладони. На скуластом лице нет ни страха, ни вообще каких-либо эмоций. Раскрасавчик! Всего в каких-то десяти метрах от нас. Если мы попробуем сейчас уходить под плоты, он нас тут же заметит. А ведь нам пора. У нас осталось не больше пяти секунд.
Я растерялся. Я не знал, как поступить. И из-за мерзкого молокососа уже было поставил крест на нашем побеге. Но в этот момент совершенно забыл, что рядом со мной Блондин — человек вообще без нервов, в экстремальных ситуациях действующий исключительно по наитию; отморозок, никогда не разбирающийся в средствах достижения цели; тренированный спец, обученный чуть ли ни всем известным человечеству способам умерщвления…
Я даже не успел зафиксировать в сознании, как он это сделал. Но сделал просто великолепно — эффектно и эффективно, словно не в жизни, а в крупнобюджетном американском боевике. Огромная ручища, богато усыпанная веснушками и наколками, дернулась к правому сапогу и через мгновение в ней блеснул новенький шабер, который неделю назад Блондину выточил в мастерских один из местных умельцев. Выточил на заказ. Не на глазок, а по тщательно вычерченному эскизу. Именно такой шабер, о каком и мечтал Блондин, чтобы взять его с собой в тайгу, — острый, как мушкетерская шпага; тяжелый, как железнодорожный костыль; идеально отбалансированный для метания.
Не довелось ему попутешествовать по тайге в Блондиновом сапоге хоть несколько километров. Он был пущен в дело немного раньше. Именно пущен…
Блондин откинул назад свое мощное тело, отвел в сторону руку с шабером и негромко позвал:
— Слышь, мент. Оглянись.
И тут же стажер резко повернулся к нам, выпятил вперед перетянутую новенькой портупеей грудь. Все сделал как по заказу. Подставился так, что об этом можно было только мечтать. И в тот же миг рука Блондина — как праща — сделала широкое круговое движение…
Мне удалось зафиксировать краем глаза, как мелькнул, уходя в полет, шабер. Мне удалось расслышать, как он издал легкий свистящий звук, рассекая воздух. И я отчетливо видел, как точно посередине груди мальчишки-стажера к ремешкам портупеи тут же добавилось еще одно украшение — рукоятка, вырезанная из старого дубового плинтуса и залитая точно посередине свинцом для баланса. Одна только ручка. Клинок же, пробив грудину, полностью погрузился внутрь дурака, решившего поиграть в отчаянного парня. Последний раз в своей жизни.
Я еще успел заметить, как стажер покачнулся, но как он упал, увидеть уже не успел. В этот момент ручища Блондина обрушилась мне на спину и придала мне такое ускорение вперед, что я чуть было не перешел из сидячего положения в позорную стойку раком. Но сумел кое-как устоять на ногах, хотя и сделал несколько неуклюжих шагов к кромке воды.
— Быром ныряй!!! Мент уже мертв! Коста, ныряй!!! — надрывался, орал что есть мочи у меня за спиной Блондин. — Ныряй!!!
В этот момент его голос заглушило громкое уханье тревожной сигнализации. Настолько громкое, что тут же решительно откинуло в сторону все остальные звуки. Пропитало собой все пространство. Унеслось в даль над рекой, чтобы, отразившись от соснового бора на противоположном берегу, вернуться назад. И тут же с этим оглушительным воем решил поспорить треск пулеметной очереди. С вышки открыли огонь над головами. Братву на промзоне клали на землю.
А я в это время, поднимая фонтаны брызг, в несколько гигантских шагов добрался до удалившегося уже от берега плота — третьего от буксира — и, задержав как можно глубже дыхание, нырнул под него. Словно в мгновение ока перешел из одного мира, вопящего сиреной и трещащего пулеметной очередью, в совсем иной, холодный и мрачный. Спокойный и тихий, но угрожающий мне гипотермией и утоплением — если не успею вовремя отыскать спасительные дыхательные трубки.
Стараясь не суетиться и не растрачивать попусту сил, цепляясь одеждой за всевозможные сучки и железки, я все же сумел проплыть под плотом до противоположного его борта и затратил на это, должно быть, считанные секунды. Но они показались мне вечностью! И воздуха мне катастрофически не хватало — еще чуть-чуть, и начну пускать пузыри! Я принялся судорожно шарить рукой по нижней кромке плота. И — о, счастье! — почти сразу нащупал одну из дыхательных трубок. Я стремительно скользнул ладонью по ней, отыскал широкий конец — «загубник» — и жадно приник к нему ртом. Потом с силой выдохнул из себя воздух, постаравшись сделать это как можно резче — так, чтобы выдуть из длинной трубки побольше воды. Понимая, что если это мне не удастся с первой попытки и я не смогу нормально дышать, то останется лишь всплывать на поверхность и сдаваться в плен мусорам.
Не так страшен черт, как его малюют. У меня все получилось. Когда я сделал первый вдох через трубку, то с облегчением обнаружил, что в ней осталась лишь капля воды. Или слюны? А черт ее знает! Главное, что я добрался до своего «первого класса». Я нормально дышу. Я с каждой секундой уплываю все дальше и дальше на волю. Я даже, чтобы меня не снесло течением, крепко держусь правой рукой за скобу — совершенно не помню, когда за нее ухватился. Теперь остается последний вопрос: куда запропастился Блондин? Все ли у этого метателя шаберов в норме?
Не успел я об этом подумать, как рядом со мной зашевелилась огромная туша, начала оттеснять меня от моей скобы, выталкивать из-под плота на поверхность. Блондин, дьявол его побери! Я зацепил его за одежду и, приложив невероятные усилия, подтянул этот шестипудовый кусок протоплазмы, дергающийся и сопротивляющийся, к кромке плота, ткнул в него еще одной дыхательной трубкой — точно как и скобу, я не помнил, как ее обнаружил.
Блондин прижался ко мне спиной и затих. Я лишь ощущал, как ритмично пульсирует его могучее тело, втягивая в себя живительный воздух. И выдувая его обратно. И опять втягивая. И опять выдувая… «Молодец, — подумал я. — Сумел тоже выплюнуть воду из трубки. Сейчас отдышится, закрепится на своих скобах, и мы уже поплывем спокойно. Подальше от зоны. Поближе к нашему проводнику-аборигену». По моим грубым расчетам до его прибрежной избушки пути нам где-то около часа. Надо бы засечь время.
У меня на руке были отличные водозащитные часы, которые я еще три года назад выиграл у одного фраера в рамс. Я поднес левую руку к лицу…
И только тут понял, что все это время нахожусь под водой с зажмуренными глазами. И даже этого не заметил! Я всего-навсего об этом забыл — были заботы и поважнее! И я избавлялся от этих забот на ощупь — на ощупь плыл под плотом, на ощупь отыскивал дыхательные трубки, на ощупь боролся с Блондином. Ну что за дурак!!! Ведь даже и не подумал открыть глаза.
Впрочем, как оказалось, от этого я почти ничего не выиграл бы.
Я открыл глаза. И что дальше? Да ничего! Под плотом было настолько темно, что разглядеть можно было лишь смутные очертания каких-то предметов. Точнее, этими «предметами» являлся Блондин в единственном экземпляре. Еще точнее — его задница, почти уткнувшаяся мне в лицо. И то я сумел определить, что это за часть тела, лишь дотронувшись до нее рукой.
К темноте под плотом добавлялись отсутствие маски или хотя бы очков для бассейна. Да и вода в реке была весьма мутной. Так что ни о каких часах можно и не мечтать. Мудреное дело — в подобных условиях суметь разглядеть на них циферблат. Хоть они и не пропускают воды. Придется положиться на интуицию. Или отсчитывать по секундам: и один, и два, и три, и четыре… Сколько там нужно буксиру, пока он не свернет за излучину так, чтобы не был виден из зоны? По моим наблюдениям — не более получаса… Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь… Полчаса — это значит не торопясь досчитать до тысячи восьмисот. После чего добавить еще немного для верности, округлить до двух тысяч… Сто восемь, сто девять, сто десять… А если после двух тысяч все будет нормально — не окоченеют руки, цепляющиеся за скобы, не начнет попадать в трубку вода, не начну замерзать в ледяной воде, — то можно плыть под плотом и дальше. Зачем раньше времени вылезать наружу?.. Триста тринадцать, триста четырнадцать… На счете «девятьсот сорок восемь» я почувствовал, как от холода на руках начало ломить пальцы. И тут же я с удивлением вспомнил, что за все время, пока нахожусь в воде, это первый раз, когда подумал о том, что замерз. Когда я нырял под плот, мне было совсем не до обжигающего холода Ижмы. Голова в этот момент была забита другими проблемами — не захлебнуться, не дать потонуть Блондину, попробовать разглядеть что-нибудь на часах. А потом, когда все эти головняки остались далеко позади, организм, по-видимому, адаптировался к ледяной воде. Да и кожа к тому же обильно смазана жиром. И сейчас телу не холодно. Вот только руки… Тысяча четыреста восемнадцать, тысяча четыреста девятнадцать… И чего, идиот, тоже не смазал их салом?
Я понял, что больше не выдержу, когда досчитал до тысячи девятисот. Пальцы больше не держали скобу, и их при этом ломило так, будто они угодили в тиски. Ноги сводило судорогой. В пояснице меня переклинило, словно при приступе радикулита. Еще чуть-чуть, и я уже не смогу выбраться из реки на плот.
Из последних сил я как следует ткнул онемевшей рукой Блондина и, надеясь, что он меня понял, сместился чуть в сторону и, стараясь не выпустить край плота, всплыл на поверхность. Через секунду рядом показалась голова моего спутника. С совершенно синим лицом. С трясущимися губами. С обезумевшими глазами. Он попытался мне что-то сказать, но смог выдавить из себя только «Кря-а-а-а…» И, смущенный, не стал делать повторных попыток. Впрочем, я тогда тоже не смог бы произнести даже «Мама».
Я со скрипом чуть-чуть повернул голову вбок, выкатил глаза на сторону, попытался посмотреть назад — вниз по течению — и скорее догадался, чем разглядел, что мы уже ушли за излучину. Значит, можно влезать на плот. Вот только как это сделать? Я кое-как подтянулся повыше и сумел опереться на локти. Но на большее меня уже не хватило. Как ни дергался, как ни напрягал одеревеневшую спину — бесполезняк! Я, удачно сорвавшись из зоны, был обречен на дурацкую смерть от гипотермии, потому что не мог найти в себе сил на то, чтобы перекинуть непослушное тело на спасительный плот. А там такие теплые бревна! Там так ласково греет солнышко! Там можно прилечь и децл поспать…
«…Спать… Как это здорово!.. Спать… Как же слипаются глаза!.. Спать… А почему вместо бревен не лечь прямо в реку?.. Мне ведь уже не холодно… Тысяча девятьсот восемнадцать, тысяча девятьсот девятнадцать… Зачем я считаю?.. Не к чему больше считать… Мы ведь уже на поверхности… Нам ведь больше не холодно… Можно поспать… Тысяча шестьсот сорок восемь… Спать… Прямо в воде… Прямо в реке… И на все наплевать!..»
Мысли у меня в голове, развалив четкий строй, в котором еще так недавно маршировали по мозговым извилинам, теперь сбились в безумную неуправляемую толпу. И тут же на эту толпу опустились клубы густого, будто сметана, непроницаемого ни для голоса, ни для взгляда, тумана. Туман принес с собой одуряющую, словно морфин, безмятежность; выкрутил до «нуля» у меня в организме регулировки и звука и яркости, оставив лишь изредка прерываемую робкими отзвуками моего ленивого пульса вязкую тишину и могильную темноту, скупо расцвеченную почти незаметными искрами и кругами, иногда вырисовывающимися перед глазами.
«…Спать… спать… спать… Еще немного, еще чуть-чуть, и станет так хорошо, так уютно… И навсегда останутся за бортом все невзгоды и беды… Дело за малым — до предела расслабить все свое усталое тело… Забыть про долги и проблемы… Разорвать все те тонкие ниточки-паутинки, которые еще пока тянутся к той, прошлой, жизни… И спать… спать… спать…»
«Не-е-ет!!! — вдруг пробилась через туман яркая ослепляющая вспышка. — Не-е-ет!!! Так нельзя! Ты погибаешь! Ты сдаешься! А ведь ты никогда не сдавался! Костоправ! Костопра-а-ав!!! Очнись, приди в себя, черт побери!!!»
Кажется, я умудрился размежить веки. Кажется, я тряхнул головой, отгоняя от себя сладкое сонное наваждение. Кажется, я до крови прокусил губу… Кажется…
— А ну, милой, дай подмогну, — откуда-то издалека донесся до меня мягкий окающий говорок… Или он мне только мерещился?.. Нет. Не-е-ет, на этот раз голос дошел до меня из реальности! Я догадался — не почувствовал, а именно догадался, потому что чувствовать что-нибудь был не в состоянии, — что меня, зацепив за одежду, кто-то втягивает на плот. Кряхтит. Ругается матерно. И с трудом перекатывает мое закоченевшее тело на бревна.
Дьявол, как хорошо!
О спасительные теплые бревна! Впрочем, понять, теплые ли они на самом деле, я был не в состоянии. Зато сумел ощутить чуть слышный аромат смолы, который они издавали. Казалось, так издалека-издалека…
— А теперича ты. Ну-тыко, ну-тыко! Уж больно тяжелый ты, брат. Сам-то один и не сдюжу тебя, а кореш твой сейчас не помощник. Помогай-ко давай. Помогай-ко мне самы-тко…
Я сообразил, что после меня настала очередь Блондина. Теперь наш ангел-спаситель пытается затащить на плот его тушу. А ведь ангел-спаситель — это, конечно, тот мужичок-сплавщик, за которым я наблюдал сегодня в промзоне. Маленький, с кривыми кавалерийскими ножками. И с потухшей «беломориной» в зубах. Куда ему такому управиться с центнером костей и мяса? А я не могу даже пошелохнуться, чтобы помочь. Хана, похоже, Блондину!
— …Ну-тыко, ну-тыко! Вот молодцом! Вот дык сюда ногу давай. Молодцом, паря! А теперича я.
Я оторвал щеку от шершавого, липкого от смолы бревна, сумел чуть-чуть приподнять голову и, сведя глаза в кучу, увидел, как мужичок в телогрейке и резиновых сапогах с подвернутыми голенищами каким-то чудом все же ухитрился затащить Блондина на плот. И теперь стоит над его безжизненным телом этаким победителем, переводит дух, рукавом вытирает со лба испарину.
— Спасибо, братишка, — еле-еле прошептал я в никуда и снова уткнулся щекой в бревно. И, кажется, вырубился на пару минут. Во всяком случае, они напрочь вывалились у меня из башки.
…И следующее воспоминание — это то, как сплавщик вливает мне в рот прямо из горлышка обжигающую, пахнущую квашней жидкость. Я догадываюсь: самогон. И с трудом делаю несколько судорожных глотков, понимая, что это сейчас самое действенное лекарство…
— Вот молодцом. — Мужичок отнял бутылку от моих губ и заткнул горлышко пластмассовой пробкой. — И кореш твой тожа пооклемался малеха. Теперича на солнце еще пообогреетесь и станете будьте нате обое. Хоть на бабу ложи. Вот одёжу ба еще выжать.
Я тем временем сумел перейти в полусидячее положение, опершись локтем о жесткие бревна. И даже смог пробормотать:
— Спасибо, братан.
— Дык ничо, — скромно ответил мне сплавщик. — Энто эвон те тунеянцы, — он кивнул в направлении буксира, — мать их разэдак. Видали жеть, как я с вами корячился. И ить всем насрать. Хотя ба кто спрыганул на плот подмогнуть. Дык ничо. И хер с ними. Ты, главное, не боись. Ментам вас здеся никто не сдаст.
Блондин уже окончательно пришел в себя и на карачках перебрался поближе ко мне.
— Чё, Коста? Как жив? — Он хлопнул меня по плечу. — Доставай спиртик, хлебнем для сугреву.
Я без возражений вытащил из кармана плоскую двухсотграммовую фляжку и с улыбкой наблюдал за тем, как Блондин трясущимися пальцами отвернул блестящую пробку, жадно припал к узкому горлышку, и тут же его уже покрывшуюся здоровым румянцем рожу перекосило в неподражаемой гримасе. Потом от пары глотков не отказался и мужичок-сплавщик. А потом я убрал фляжку назад.
— Ты что, не будешь? — удивился Блондин.
— Нет, — покачал я головой. — Уже согрелся без этого. — И, переведя взгляд на сплавщика, спросил: — А скажи мне, братуха, на сколько мы уже поднялись?
— По течению-та? — без труда понял мой корявый вопрос мужичок, бросил мимолетный взгляд на ближайший берег, однообразно поросший густым сосняком, и, не колеблясь ни единой секунды, дал точный ответ:
— На пять с половиной километров. Это ежли от зоны. — То и имею в виду. Сойти бы нам скоро.
— Дык и сходите. Кто же вас тутока держит. Вот тока искупаться снова придется. Доплывете? На какую вам сторону?
Я молча кивнул на сосновый бор. — Ну дык километра через два мы совсем рядом к нему подойдем. По фарватеру, значит. Тамока и соскочите. Метров тридцать уж доплывете.
Я удовлетворенно кивнул. Еще раз пробормотал:
— Спасибо. Зачтется все это тебе. Как хоть тебя отыскать, если чего?
— Ижменский я. Савва Баранов. Кого не спроси, все тамока знают.
— Найду я тебя, — пообещал я и, растянувшись на бревнах, расслабился, покорно отдал себя в ласковые лучи июньского солнышка, заботливо выпаривавшего из моей мокрой робы влагу.
Как хорошо! Черт, ну как же все-таки хорошо на свободе! Одуряюще пахнущей хвоей и сосновой смолой, речной водой и солярочным выхлопом трудяги-буксирчика. Встречающей меня редкими облаками на бездонном лазурном небе и зарослями тростника вдоль берега Ижмы, мерным рокотом дизельного мотора и терпким вкусом деревенского самогона.
Bay, как мне все это по кайфу!..
Эх, если б я знал, что ломщики кайфа уже набились в три больших лодки с мощными моторами «Ямаха», прихватили с собой парочку злющих ротвейлеров и дюжину автоматов Калашникова и теперь стремительно настигают наш тихоходный караван из плотов… Эх, если б я знал, то не лежал бы так спокойно на бревнышках, не ждал бы безропотно очередных неприятностей.
Мы соскочили бы на берег чуть раньше невозможно, на какое-то время нам удалось бы сбить со следа погоню. И даже добраться до охотничьей избушки, где нас дожидался проводник-таежник с разнообразнейшим снаряжением и богатейшим опытом выживания в местных волчьих условиях. Мы углубились бы вместе с ним в глухую тайгу, и там можно было бы еще загадать, что будет дальше. Возможно, все прошло бы нормально…
Как много «бы»! Какие жалкие бессмысленные стенания: «И почему же я загодя не подложил там, где упал, побольше соломки?! И почему же я, проклятый дурак, позволил себе на какие-то несчастные полчаса преступно утратить бдительность?! Расслабиться?! И дать трем лодкам с цириками и охраной подойти к нашим плотам почти на километр, пока звук их мощных моторов не выделило из однообразного треска буксирного дизеля чуткое ухо Саввы Баранова?!
И почему?!!»
Возможно, заметь я погоню чуть раньше, все было бы совсем по-другому.
Глава 12. Охота на лис
— М-мусора, падлы! — прошипел Блондин, бросив лишь один-единственный взгляд на три стремительно настигающие нас лодки. — Ходу, Коста! В тайгу! — И не произнеся больше ни единого слова, даже не тратя ни секунды на то, чтобы сдернуть с ног тяжеленные кирзачи — и почему, идиоты, раньше об этом не позаботились? — он сиганул с плота и размашистыми саженками поплыл к берегу.
— До встречи, Савва, — на ходу бросил я и кинулся в воду следом за Блондином.
До берега было не более полусотни метров, но когда мы почти достигли его и ломанулись через густые заросли тростника, первая лодка была от нас уже настолько близко, что я, оглянувшись, сумел распознать в одном из сидевших в ней цириков прапорщика Чечева. «Впрочем, эту жирную задницу трудно с кем-нибудь спутать даже с дистанции в полкилометра, — проскользнула мысль у меня в голове. — И, конечно же, никак нельзя было обойтись без этого толстопятого в погоне за мной. Черт, нельзя мне попадать на прицел этому мстительному ублюдку! Ведь он не будет стрелять ни по ногам, ни на поражение. Постарается, сволочь, либо загнать пару пулек мне в брюхо, либо, что еще хуже, прострелить позвоночник».
В тот момент, когда я, оставив за спиной тростник, начал карабкаться на довольно высокий песчаный берег, ощетинившийся на меня обнаженными корнями вековых сосен, сзади гавкнула длинная автоматная очередь. Я вздрогнул от неожиданности и тут же попытался стать ниже ростом, сгорбился, пригнул к груди голову.
— Хрен вам, стрелки!!! — проорал во всю глотку Блондин, обернувшись к реке, и его раскатистый бас, я уверен, долетел до ушей мусоров. — Коста, быстрее! В тайгу!
Я наконец преодолел песчаный уступ и, упершись тупым бессмысленным взором в широкую спину Блондина, устремился следом за ним. Вобравшие в себя литры воды сапоги казались пудовыми гирями. Ноги гудели, как линия высоковольтки. И были готовы отсохнуть в любой момент. «С таким балластом не оторвемся не то что от собак или жаждущих десятидневного отпуска солдат, но даже от Чечева, — решил я. — Впрочем, все равно не оторвемся. Слишком много мы до этого кросса уже затратили сил. И все же…»
— Стой, — крикнул я и с разбегу растянулся на спине перед застывшим Блондином. Вытянул ноги. — Сними сапоги.
Он не заставил просить себя дважды и дернул за мокрый кирзач с такой невероятной силищей, что я было решил: «Сейчас ведь вырвет мне из задницы ногу. Заставь дурака…»
— Аккуратнее, ты! Второй! — И чуть не взвыл от боли, когда Блондин от души рванул на себя и другой кирзач.
После чего я избавил от сапог и его.
А потом мы снова бежали через аккуратный и чистенький, как частный парк в окрестностях Лондона, сосновый бор. И даже примерно не представляли, насколько сумели опередить своих преследователей. И давно уже растратили последние силы, но все же тупо, как роботы, передвигали конечностями, подключив для этого какие-то тайные резервы энергии.
Глаза заливали потоки пота. Босые ступни были разбиты в хлам о пеньки и сучки. Но мы совершенно не ощущали боли. Нам было сейчас не до этого. И нашим ногам было совсем не до этого. Они превратились в какие-то свихнувшиеся протезы, бесчувственные и бесплотные.
Перед глазами плыли круги. В горле стоял огромный горький комок. Грудь сперло жестким корсетом. Я впал в состояние полнейшего отупения, и лишь одна мысль свербела у меня в голове: «Вот она, впереди, широкая спина моего спутника. И пока она у меня перед глазами, пока могу на нее ориентироваться, как на маяк, буду заставлять себя двигать копытами. Но как только потеряю спину из виду, так сразу же и свалюсь. И пропади все оно пропадом — и мусора, и побеги, и зоны. Мне уже на все наплевать. Мне уже просто не хочется жить».
— Т-твою мать! Да катись это все к растакому-то дьяволу! — просипел Блондин, остановился и схватился рукой за ствол высокой березы. Из его широко открытого рта свисала вниз длинная и тягучая паутинка слюны. Из его глотки с оглушительным свистом вырывался переработанный измученными легкими воздух.
Я тут же хлопнулся в высокую траву рядом с ним и попытался хотя бы немного перевести дыхание.
— Быля-а-адь! З-задница! М-мать т-твою через то самое! — продолжал материться Блондин. — Приплыли мы, Коста!
«Чего он там? Что такое случилось? Куда мы приплыли?» — Я с неимоверным трудом отжался на руках, поморгал, прочищая от пота глаза, и попробовал осмотреться.
Сосновый бор сменился сырым лиственным лесом, поросшим березами и ольшаником, а я, полностью сосредоточившись на своих ощущениях во время экстремального кросса, этого даже и не заметил. Оказывается, вместо мягкого серебристого мха мои истерзанные до мяса ступни давно уже топтали черную, пропитанную влагой землю и чахлые кустики вереска, растущие вперемешку с острой, как бритва, осокой.
— Что такое, Блондин? — еле-еле выдохнул я из себя. — Где мы? Где мусора?
— Не знаю! Быля-а-адь! Коста, мы уперлись в болото! Нам звездец! Ты в это въезжаешь?!
Нет, пока что я еще ни во что не въезжал. Сперва надо хотя бы немного прийти в себя. И оглядеться получше, посмотреть, куда занесла нас нелегкая. Я зажмурился, от невероятного усилия скрипнул зубами и заставил себя подняться на ноги. Меня повело в сторону, будто пьяного, и, чтобы не свалиться обратно в траву, пришлось вцепиться в ближайшую то ли ольху, то ли осину. Так-то получше. Так-то полегче… Я обвел взглядом окрестности.
Позади — просторная и светлая березовая роща. Справа — густые заросли ивняка. Слева — ольшаник вперемежку с островками высокой осоки и камыша. А впереди, буквально в нескольких шагах от меня — о, проклятье! — чуть ли не до самого горизонта раскинулось большое
болото. Вода, мох да редкие кочки, усыпанные синеватыми листьями брусничника. Кое-где понатыканы корявые низкорослые березки. Вот и весь пейзаж. Впереди, километрах в пяти — а может, и в десяти — темнела полоска леса. Над ней грозовыми тучами нависали далекие сопки. Или действительно, не сопки, а тучи?
— И правда приплыли, — заметил я. — Потому мусора и не спешат. Знают, что никуда мы отсюда не денемся. Попробуем уйти вправо? Или влево?
— Бесполезняк, — покачал Блондин головой. — Чего же ты думаешь? Нас не взяли уже в кольцо? Взя-а-али… Нет, Коста, вперед. Только вперед!
— Сгинем, — коротко заметил я.
— Лучше в трясине подохнуть, чем опять на кичу. Ты как хочешь, а я пойду. — Блондин достал из ножен охотничий нож и принялся срезать на слегу молодую осинку. Я протер от пота лицо и выбрал себе тоненькую высокую ольху.
«Слега так слега. Болото так — черт с ним! — болото. Все равно живым сдаваться мусорам я не намерен. А что лучше — подлезть под ментовскую пулю или провалиться в трясину, — пока не решил. Да и чего здесь решать?! Составлю Блондину компанию. Вместе бежали, вместе и сдохнем!» — Вот так я решил. Но только судьба распорядилась иначе.
И срезать слегу я не успел.
Они появились из глубины леса, как тени. Словно фантомы. Как воплощение неотвратимости мусорского возмездия. Они были везде. И справа. И слева. И позади нас. И их было много. Как же их было много! С «Калашниковыми» наперевес. С двумя откормленными ротвейлерами на длинных, напоминающих парашютные стропы, поводках.
И ни единого слова… И ни единого выкрика… Даже отлично обученные собаки совершенно молча — без лая, без рыка — рвались со своих поводков и от избытка охотничьего азарта пускали из пастей обильную пену. Впечатление, будто нас просто хотели оттеснить в ту непроходимую многокилометровую трясину (куда мы, впрочем, собирались и сами). Чтобы мы потонули. Чтобы мы сгинули. И не доставляли бы больше мусорам геморроев.
— Проклятье! Кранты! — Блондин затравленно огляделся и отбросил в сторону только что срезанную осинку. В его глазах блеснули безумные огоньки. Из прокушенной губы сбежала по подбородку струйка крови. — Хоть одного, но на нож посажу, — сообщил он мне дрожащим от избытка адреналина голосом. — Один черт, подыхать. А так хоть не даром. — И он медленно, с трудом ступая разбитыми ногами, пошел навстречу нашим преследователям. Я успел заметить, как мощный охотничий нож, блеснув в луче солнца, стремительно крутанулся вокруг ладони и нырнул в широкий рукав арестантского клифта.
Они шли навстречу друг другу — цирики и Блондин. Цирики шли побеждать. Блондин шел убивать. И умирать. Я застыл на месте и с замиранием сердца наблюдал за этой картиной. Пока лишь наблюдал, но точно знал, что за Блондином настанет и моя очередь. Я следующий. И я тоже неплохо умею обращаться с ножом. Ведь тренировался больше трех лет. И у меня был отличный учитель.
— На месте стоять! — гаркнул из глубины леса неприятный пронзительный голос.
Блондин замер, молча поднял вверх руки. В одной из них огромный «охотник». Но мусорам не видно его. И они совершенно уверены в том, что уже одержали победу. А зря! Звездец кому-то из них!
— Лечь! Руки за голову, ноги раздвинуть! Блондин лег. И тут же с разных сторон к нему устремились два солдата и прапорщик. При этом каждому из солдат бежать предстояло метров тридцать. А прапору — в два раза меньше. Он будет возле Блондина первым.
«Тесленко, — отметил я машинально. — Отменная сволочь. Что ж, падла, беги, поспешай. Развлекись. Аз воздастся тебе по заслугам…»
Блондин сумел выдержать паузу и бросил нож, только после того, как Тесленко с разбега заехал ногой ему в ребра. От чудовищного удара Блондина скрутило, его мощное тело отбросило в сторону. Но уже через пару секунд, когда прапор изготовился для второго удара, в лопатоподобной ладони, тыльная стороны которой была усыпана веснушками и наколками, словно из ниоткуда нарисовался блестящи «охотник». Правая рука совершила почти неуловимое стремительное движение…
Тесленко замер на полушаге, растерянно дотронулся до горла, где вместо кадыка теперь красовалась рукоятка ножа, и, подломившись в коленях, опустился на землю. И тут же первозданную тишину тайги разрушила длинная автоматная очередь. Били на поражение. Очень точно. Очень профессионально. С расстояния метров в тридцать, если не больше, но ни одна из пуль, как мне показалось, не ушла в молоко. Они прошили навылет грудь, и я отчетливо видел, как у Блондина из спины вылетают ошметки кровавой плоти. Его мощное здоровое тело трясло, как в лихорадке. Его белобрысая, начинающая лысеть голова запрокинулась назад, и из открытого рта вывалился наружу неестественно ярко-красный язык.
Но вот смолкла автоматная очередь. И тайга опять погрузилась в привычную тишину, нарушаемую лишь испуганным треньканьем потревоженной птахи.
Затих навсегда мой неугомонный братан-корешок. Пришла и ему пора успокоиться. Уткнулся веснушчатым круглым лицом в жесткий вереск, скребанул ногтями черную влажную землю. И все. Он ничего больше не видел, ничего больше не слышал. Ни о чем больше не беспокоился.
Ему уже снились совершенно иные сны, нежели нам, пока еще смертным…
— Прощай, Блондиша. Вернее, до скорого, — прошептал я. — Ликуйте, легавые. Вот только… Сейчас… — Я сжал в руке нож и двинулся им навстречу. — Се-йчас…
— Не стрелять! — донеслась до меня команда. — Брать живым!
Знакомый голос. Я поискал глазами его обладателя.
«Кум! Анатолий Андреевич! Ах ты ж Иуда! Тоже приперся попить моей кровушки! Не устоял против соблазна! Не удержался, паскуда! Ладно, ладнешенько… Фуй ты сейчас отсосешь вместо кровушки! — Я крепче сжал в руке нож. — Где ты? Где же ты, заботливый дядюшка? Ну, покажись!»
Он нарисовался из-за толстого ствола старой березы. С ПМом в руке. Спокойный, словно готовился сейчас пострелять по мишеням на стрельбище, а не по живому человеку, которому к тому же еще и сильно обязан.
— Не стрелять! — еще раз гаркнул он и, облокотившись спиной о березу, одарил меня змеиной улыбочкой. И принялся с интересом наблюдать за тем, как я, даже не пытаясь скрыть прижатый большим пальцем к внутренней стороне ладони, изготовленный для броска охотничий нож, медленно приближаюсь к нему.
«Не стрелять, говоришь? — с каждой секундой все больше и больше закипал я. — Живым брать? Вот уж дудки! Ничего вам здесь, мусора, не обломится! Как ни крути, Анатолий Андреевич, а пострелять тебе сегодня придется. Ничего не попишешь, придется. Тут уж такие разборки, что или ты сейчас меня, или я тебя, падлу. Или-или, и никаких других вариантов. Вот только подойду еще на десяток шагов».
А он все так же стоял, небрежно облокотившись спиной о ствол березы. На губах играла ехидная ухмылочка. В руке стволом вниз был зажат «Макаров».
«Сейчас… Сейчас, падла. Еще чуть поближе, и поглядим, кто же из нас двоих ловчее…»
И в этот момент один из солдат спустил на меня собаку.
Она, словно выпущенная из катапульты, с места набрала максимальную скорость и устремилась ко мне, роняя на вереск белые хлопья пены. Сведя в кучу красные от жажды крови глаза. Выставив наружу желтые клыки. И до меня было не более десяти ее гигантских прыжков. Три секунды. Проклятье! Впрочем, я знал, как поступить с этой тварью.
Я даже и не подумал укрыться за деревом от этого цербера[51] или попытаться в последний момент, когда он уже совершит прыжок, отступить в сторону и достать его в бочину ножом. Нет, я действовал так, как меня учили. Правда, пока только в теории. Но ведь надо когда-нибудь проходить и практику. Я дождался, когда ротвейлер бросится на меня, и легко подался назад, без каких-либо помех позволил опрокинуть себя на спину. Возле лица клацнули мощные челюсти. А я уже поддел собаку под ребра ножом и вот тогда-то и напряг все свои мышцы, даже застонал от неимоверного усилия, но сумел довести до конца кувырок назад, перебросил через себя уже плотно насаженного, как на шампур, на длинное лезвие охотничьего ножа, ротвейлера. И уже через секунду снова стоял на ногах с окровавленным тесаком в правой руке. А в полуметре от меня корчилась в предсмертных судорогах мусорская собачка.
И тут же над головой вжикнули пули и одновременно с этим леденящим душу звуком моих ушей достигла короткая автоматная очередь.
— Не стрелять!!! — отчаянно заголосил кум. — Разин, ложись!
— Жди, — прошептал я. И уже громко добавил: — Иди на хер, Анатолий Андреич.
«Я лягу — меня сразу же скрутят. Хрен вам! Так просто вы не отделаетесь! Где ты там, кум? Я еще не свел с тобой счеты». — И я устремился на звук его голоса…
…И сразу попал под еще одну автоматную очередь. Пули выбили фонтанчики грязи из-под самых моих ступней. Я аж подпрыгнул. И был вынужден застыть на месте. И начал затравленно озираться по сторонам — как волк, попавший в облаву и не видящий ни единого выхода из оцепления красных флажков.
Метрах в десяти от меня из-за дерева вылез солдат и наставил мне в грудь автомат. Маленький зачмошенный солдат в грязном хэбэ, стоптанных сапогах и с настолько косыми глазами, что было странно, как он сквозь эти щелочки может хоть что-нибудь разглядеть. «Из местных, зараза косая, — промелькнуло у меня в голове. — На, здешние зоны любят брать самоедов.[52] Во-первых, неплохо знают тайгу. Во-вторых, тупы и послушны. В-третьих, отлично стреляют, с ружьем в руках чуть ли не с семилетнего возраста. А в-четвертых — и это, пожалуй, самое главное, — они особо не церемонятся, прежде чем открыть огонь по кому-то из зеков. Что пристрелить человека, что насадить на рогатину амикана[53] — для них, дикарей, все равно».
— Ложись, — спокойно попросил меня косоглазый. — Я тебя задержал, мне отпуск за это. Мне хорошо. И тебе хорошо. Не буду в ногу стрелять. Иначе…
— Слышь, ты, самоедина… — проскрипел я.
— Не стрелять!!! — надрывался метрах в двадцати от нас кум, но ближе подойти не решался. — Не стрелять, я сказал!!! Разин, ложись!
— Слышь, ты, пидарас, — передразнил меня солдат и опустил ствол автомата так, что он теперь смотрел мне в колено. — Не понял, что ли, что я тебя задержал? Ляж, или выстрелю.
Я захлебнулся от гнева. Все казавшиеся еще минуту назад самыми злободневными проблемы и долги мгновенно отошли на второй план. А на первом остался косоглазый ублюдок, которому надо было немедленно выставить счет.
Никто никогда не смел называть меня пидарасом! Потому что знали, что за этим последует. И вдруг какая-то грязная косая паскудина, еще вчера арканившая оленей, ни за что ни про что…
Да и пес с ним, с этим кумом! Пусть живет дальше! Все равно своей смертью не сдохнет! Я отменяю разборку с ним. У меня теперь есть должок поважнее.
И в следующую секунду я метнул нож в косоглазого. Одним из способов, которым меня обучили на зоне — «из-под юбки», то бишь снизу, почти без замаха. Промахнуться при этом — раз плюнуть, но зато противник обычно не видит момента броска. И если нож кинут точно, у жертвы нет ни единого шанса успеть от него уклониться. У самоеда и не могло быть никаких шансов! Я не промахнулся. А косоглазый, каким бы он ни был хорошим оленеводом и звероловом, все ж таки проморгал тот момент, когда я швырнул в него нож. И тяжелый «охотник» впился в живот чрезмерно самоуверенного солдатика. «Bay, прямо в печень», — взглядом специалиста оценил я ранение и поспешил сразу же бросить свое тело в сторону, совершил кувырок через голову и укатился за дерево. И вовремя. Вслед мне прогремела длинная автоматная очередь. Отличный стрелок, легко попадающий дробинкой белке в глаз, на этот раз опустошил магазин в молоко, после чего решил, что пора подыхать, и хлопнулся в заросли вереска. А я тут же прикинул, а не успею ли добежать до него и опять завладеть ножом. Нет. Поздно. На меня уже неслась целая армия. И с поводка спустили второго ротвейлера.
«Хотите сказать, что я вам все же достался живым, — подумал я. — Хрен! — И сломя голову припустил к болоту. — Или я потону в трясине, или вы меня расстреляете, пока буду ее искать. Одно из двух. Предоставляю на выбор. Правда, есть еще третье: может быть, кто-нибудь хочет полезть в болото за мной? Ха-ха!»
Я выскочил на берег, опередив гнавшуюся за мной по пятам собаку буквально на пару секунд. И сразу с разбегу влетел в ледяную, совершенно черную воду аж по колено. Ротвейлер же благоразумно остался да берегу. Лишь пару раз гулко гавкнул мне вслед. А я тем временем очень спешил отойти подальше-поглубже. И удивлялся, обнаружив, что ступаю своими босыми ногами по совершенно твердому скользкому дну. «Наверное, донный лед, — предположил я. — Не успел растаять с зимы». И, поднимая фонтаны брызг, двигал подальше от берега.
— Разин, стоять! — раздался у меня за спиной вопль кума. Но в воду он за мной не полез. И попридержал своих рвущихся в бой солдат. — Стоять, я сказал! Стреляю!!!
— Стреляй! — огрызнулся я и выбрался на относительно сухое место — этакий островок с несколькими кривыми березками и кочками, усыпанными брусничником. Здесь можно было прибавить шагу. А до берега, на котором столпились мои преследователи, было уже более полусотни метров.
— Потонешь, дурак!!!
Я обернулся, согнул правую руку в локте, продемонстрировал мусорам неприличный жест. И пошел дальше. Постаравшись расслабиться. И не забивать себе голову тем, что сейчас, вот уже скоро, по мне откроют огонь. И в лучшем случае убьют сразу. В худшем — прострелят хребет или брюхо. И оставят издыхать посреди этого безграничного болота. Нет, лучше об этом не думать.
Я забрел в неглубокую бочажину, провалился по пояс в черную липкую грязь, выбрался из нее с превеликим трудом и опять оказался на сравнительно твердой поверхности. Опять провалился — на этот раз по колено. И опять начал прыгать с кочки на кочку. Как архар со скалы на скалу. Ожидая в любой момент получить в спину пулю. Скорей бы. Неопределенность достала. Ну, чего они тянут? Эх, скорей бы. И, пожалуйста, сразу.
Я хочу умереть! Я очень хочу умереть!!!
Глава 13. Буду умирать молодым
— Анатолий Андреевич, — подошел к куму Чечев. — Разрешите, сниму. — Он щелкнул предохранителем на своем автомате и кивнул в сторону болота.
— Погоди, не спеши.
— Дык ведь уйдет.
— Куда? В трясину?
— Дык ведь…
— Отвали, не мешай… А впрочем. Дай-ка сюда. — Кум протянул руку, и прапор послушно, но не без сожаления вложил в нее автомат. — Я когда-то был в сборной училища по пулевой стрельбе. Вот и погляжу, не разучился ли.
— Я бы его сейчас с первого выстрела, — заныл над самым ухом толстяк Чечев.
— Я тоже. С первого… И вообще, прапор, отвянь. Не мешай целиться. — Кум не торопясь установил регулятор на стрельбу одиночными, дослал в патронник патрон и, отсоединив магазин, протянул его Чечеву. Потом проверил дальность на планке прицела. Вскинул было уже автомат, но в последний момент передумал, опустил ствол и щелкнул предохранителем. Внимательно посмотрел на отделение караульных солдат, столпившихся чуть в стороне, оценил их своим рентгеновским взглядом. — Та-а-ак, ты, ты и ты. Ко мне! — И когда солдаты вытянулись перед ним, отдал приказ: — Портки, сапоги, портянки долой. В воду пойдете сейчас — И при виде кислых солдатских рож, усмехнулся. — Сперва в воду, а потом в отпуск. Я вон того, — он кивнул в сторону болота, — сейчас подобью, вы мне его потом принесете. Не бросать же. Доставите в лучшем виде, отправитесь в отпуск. Команда ясна?
Трое счастливцев радостно взвизгнули и, пока товарищ майор не передумал, принялись торопливо стягивать с себя сапоги. А кум опять снял «калаш» с предохранителя и встал вполоборота к удалившейся уже метров на сто пятьдесят цели. Он, словно в тире, не спеша раздвинул ноги на ширину плеч, выпятил вперед левое бедро и опер на него левый локоть. Вдавил приклад в плечо, покачал стволом, поудобнее фиксируя автомат и руках. — Костоправ, — ухмыльнулся он и навел АК-74 на цель. — Ишь, Костоправ. Идиот… — Кум затаил дыхание перед выстрелом и коснулся тугого спускового крючка. Еще не надавил, только коснулся, точно зная, что вторым движением пальца он произведет выстрел уже обязательно.
И к этому выстрелу надо отнестись очень ответственно. Здесь дается только одна попытка. А промахнуться нельзя. Нельзя ни в коем случае! Ведь этот выстрел, возможно, будет самым важным за всю его жизнь. Этот выстрел будет финальным!
Промахнуться нельзя!
* * *
Я наткнулся на какой-то незнакомый мне болотный цветок, сорвал его, ароматный и яркий, и, уже приноровившись к скачкам с кочки на кочку, довольно уверенно продвигался в неведомые глубины болота. Туда, где в недосягаемой для меня дали темнела полоска тайги. И совсем уж далекие то ли сопки, то ли грозовые тучи. До них мне никогда не добраться.
Я уверенно пер вперед. В никуда. В неизвестность. С кочки на кочку. От березки к березке. Иногда поднося к измазанному черной грязью лицу незнакомый цветок и жадно вдыхая его аромат. И с нетерпением дожидаясь пули, которая должна прилететь с ближнего берега. Скорей бы. Мне надоело играть в войну. Я очень устал. И я давно ощутил себя камикадзе, который, оставив на взлетной полосе аэродрома шасси от «нуля», отправился в свой последний полет. И отсчитывает остатние минуты, отмеренные жизнью. Нет, даже не минуты. Секунды…
Я перешагнул на очередную кочку и снова поднес к лицу нарядный цветок. Шумно втянул в себя воздух.
Уф-ф, хорошо! Никогда не подумал бы раньше, что умирать так легко.
Эпилог
Девочка вышла из дома и облокотилась на невысокие перила крыльца. Трясущейся рукой достала из кармана халатика изломанный коробок и, сломав несколько спичек, наконец смогла прикурить сигарету. Уже четвертую за последние полтора часа. Вообще-то курила она очень мало, но сегодня — совершенно другое дело. С того момента, как проснулась в половине двенадцатого дня, на нее сразу же навалились какие-то особенно изощренные кумары. Хуже было только тогда, когда переламывалась, но она плохо запомнила эти жуткие дни. Потом тоже, конечно, было не сахар. Нахлобучка следовала за нахлобучкой; по любому малейшему поводу, а чаще и вообще беспричинно ее пробивало на слезняк. Постоянно давила депрессия. Но сегодня — почему именно сегодня эта депрессия приобрела какие-то ужасные размеры. Может быть, толчком к этому послужило то, что проснулась сегодня под аккомпонемент сирены, которая выла в дядиной зоне и оглашала все окрестности. Девочке доводилось слышать ее и раньше. Почти каждый день, а то и по несколько раз на дню в какой-нибудь из почти что десятка колоний, расположенных недалеко от поселка, срабатывала сигнализация, но ее сразу же отключали. А вот сегодня сирена вопила все то время, пока она, еще лежа в постели, курила первую сигарету; пока умывалась и чистила зубы; пока ругалась с мамашей, пытавшейся напоить ее чаем. Да ладно бы только сирена. Девочке показалось, что она слышала еще и автоматные — или пулеметные? — очереди. Нет, даже не «показалось». На зоне действительно стреляли. А минут через сорок палили из автомата еще раз, но где-то совсем далеко. Она тогда точно так же вышла покурить на крыльце, и ветер донес до нее отчетливый отзвук длинной автоматной — или все-таки пулеметной? — очереди. А может быть, она это просто придумала? Ведь она совершенно не знает, как должны звучать отдаленные выстрелы…
Вой сирены в колонии прекратился, наверное, не ранее чем через полчаса. И от наступившей неожиданно тишины Кристина почувствовала себя неуютно. Мягко сказать: неуютно. От тишины заложило уши!.. Да. Наверное, именно от тишины начался такой колотун, какого еще не бывало со времен ломки. И, конечно, депрессия. И, естественно, нахлобучка. И, что удивительно, на этот раз не насчет того, чтобы хотя бы разочек поставиться, хотя бы глотнуть колес. Нет, наркотики сегодня отошли на второй план, и их место заняла другая головная боль: что там у них произошло, в этой колонии? Что-то плохое? Кто-то сбежал? Кого-то убили? Как там дядя Толя? И главное, как там Костя?..
Позавчера он заскочил к ним только на пару часов. Наскоро перепихнулся с мамашей, пока Кристина тактично вышла из дома за молоком и долго гуляла по Ижме, заставляя себя не спешить с возвращением. Потом, когда она наконец вернулась, Костя провел с ней полчасика, сослался на занятость и был таков. А ведь ей так хотелось провести с ним весь день. Сходить на берег реки, выпить по баночке пива. Естественно, потрепать ему нервы… А может, он из-за того и сбежал, что она постоянно нахлобучивает не только себя, но и его. Орет, ревет, закатывает истерики. Выдумывает какие-то обиды, требует от него героина. Один раз даже пыталась огреть его палкой… Да, плохая! Да, совершенно невыносимая! Да, думать и разговаривать может только о герыче! Но ведь Костя должен понимать, насколько ей сейчас плохо. Как сильно ее кумарит. Как трудно ей бороться с собой. И с обстоятельствами. Он ведь врач и, в отличие от всех остальных окружающих ее недоумков, которые смотрят на нее не иначе как на наркоманское отребье, обязан видеть в ней человека, который всего лишь не дружит с башкой. Как на больную девчонку, которая обязательно выздоровеет уже меньше чем через год. И станет ничуть не хуже других девчонок, ни разу в жизни не торчавших на герыче, не нюхавших марафета и не глотавших колес, отличаясь от них только тем, что на руках у нее еще надолго останутся следы от дорог…
Кристина достала из пачки еще одну сигарету, собралась уже было чиркнуть спичкой, но… Она насторожилась. Ей показалось, что расслышала откуда-то с юга еще один отзвук выстрелов. Или ей померещилось? Она сосредоточилась. Она вся обратилась в слух… Еще одна короткая очередь. А буквально через десяток секунд — длинная. Теперь она была почти на сто процентов уверена, что где-то стреляют. Далеко-далеко. Интересно, и что у них там происходит? Может быть, в том районе находится полигон? Надо будет спросить у дяди.
Девочка еще долго внимательно вслушивалась в доносившиеся до нее звуки — шум редких машин, лай собак, крики детей, петушиные вопли. Но из всего этого скудного аккомпанемента поселковой жизни она еще только раз смогла выделить нечто похожее на одиночный выстрел. Это случилось минут через десять после последней, длинной, очереди. И все. И тишина… Если что-то и было еще, то его заглушил другой шум. И все-таки интересно, что за война там приключилась?
Еще не менее часа Кристина стояла на высоком крыльце, опершись на перила. Если брать в расчет и двор и дом, то только с этого «наблюдательного пункта», крыльца, — не считая, конечно, крыши — через высокий глухой забор можно было увидеть небольшой участок реки и короткий отрезок пыльной разбитой дороги, на котором сейчас обосновалась небольшая колония кур.
…Почему-то Костя вчера не пришел. Правда, такое раньше случалось не раз, когда он не появлялся у них и день, и два подряд. Но тогда он всегда предупреждал: «Крис, малышка. Завтра я занят. Так что придется тебе поскучать». А вот позавчера…
Кристина наморщила лобик, пытаясь припомнить, говорил ли Костя позавчера что-нибудь насчет того, что на следующий день будет занят.
…Вроде бы нет. Даже точно, нет. И более того, она отлично помнит, что он обещал прийти обязательно. И не пришел. Вот ведь!.. И сегодня им и не пахнет. Дрянь!..
Девочка грязно выругалась сквозь зубы. Хотела закурить еще одну сигарету, но пачка оказалась пустой. Она зло швырнула ее на дорожку возле крыльца. Потом извлекла из кармана несколько мятых десяток и целую горсть медяков. Дважды пересчитала деньги и удовлетворенно хмыкнула. Она уже пришла к решению. Вынесла приговор, окончательный и бесповоротный. И теперь точно знала, что будет делать.
…Никому она не нужна. Ни матери, ни дяде Толе, ни этому Костоправу, будь он неладен. Хотя до сегодняшнего утра о последнем она была лучшего мнения. А оказалось, что он такой же лживый мерзавец, как и все остальные. Ну, ничего! Она им покажет! Она им докажет, чего все они стоят, когда скушает на ночь пару коробочек ноксерона и оставит возле своей кровати записку… Такую записку!.. Такую предсмертную записку, что все эти взвоют!
Вот только она сначала дождется дядьку и точно выяснит, что произошло с этим Костей, почему не приходит. Может быть, он заболел; может быть, сломал ногу. Тогда все хорошо. Тогда его еще можно простить. Но если окажется, что она просто ему надоела, и он больше сюда не придет, тогда пойдут в дело «колеса». И… умойтесь, ублюдки!
Она так и напишет в записке, что жизнь без Кости для нее вовсе не жизнь. Что считала его единственным дорогим для себя человеком. Единственным, кто, как ей казалось, ее понимает. Но все оказалось иначе, и этот мудак оказался полнейшим дерьмом…
Кристина сильно стукнула кулачком по перилам и скривилась от боли. Она тряхнула отбитой рукой.
…Точно так и напишет: «Мудак». И отравит себя — все равно без него ей не жить! Решено!!!
Дверь из дома приоткрылась, и из-за нее нарисовалась мамашина рожа.
— Ты здесь, доча? Пошли пообедаем. Ты же сегодня так ничего и не ела.
«А не пошла бы ты, сучка! — беззвучно шевельнулись Кристины губы. — Тварь похотливая! Кошка ебливая, чтобы тебя!»
Но вслух девочка произнесла:
— Хорошо, мама. Сейчас.
«Пожру и пойду в аптеку за ноксероном» — спланировала она.
Кристина бросила последний взгляд на кур, копошащихся за забором в дорожной пыли, и оторвалась от перил. И зловеще улыбнулась неплотно прикрытой двери, ведущей в дом.
Вот так-то, милая мамочка, у твоей дочи уже все решено.
Решено!!!
Вот так-то, дорогой Костоправ!
…Я окончательно пришел в себя. Выкарабкался с неимоверным трудом из отключки. Победил амнезию. И вспомнил все до мельчайших подробностей. До той последней секунды, когда на болоте цирики отключили меня, уже раненого, ударом по голове.
Вспомнил и застонал от бессилия. И от злости, в первую очередь, на себя-неудачника, которого, будто ребенка, перехитрили сволочи мусора. Я не сумел соскочить — ладно, смиримся. Но я и не сумел достойно уйти из жизни. И, словно безропотный кролик, позволил себя изловить. И бросить в кичман.
Теперь я знал, где нахожусь. Теперь я представлял, что меня ждет. И от мысли об этом могучая волна животного страха прокатилась по всему телу, вытеснив на какое-то время боль. Я опять чуть было не потерял сознание, но скрипнул зубами и нашел в себе силы сохранить ненадолго здравый рассудок. Мне еще надо было кое-что кое-кому сказать.
Обязательно сказать и уж тогда с чистой совестью вырубаться.
Я с огромным трудом поглубже втянул в себя воздух и попробовал подать голос. Получился чуть слышный сип. Еще одна попытка. Уже лучше, прогресс налицо — сип получился заметно более громким. Еще раз. Уже не сип, уже хрип. Ну! Ну же!!!
Я собрал в кулак остатки силенок, сосредоточился… и у меня наконец получилось. Не слишком-то громко, но зато разборчиво я простонал:
— Мусора, падлы…
Зажмурил глаза, немного передохнул и повторил, на этот раз в полный голос, очень надеясь на то, что кто-нибудь меня слышит:
— С-суки немытые! Я Костоправ, а вы собачье дерьмо. И когда-нибудь я это дерьмо растопчу. Хотя и перемажусь… Ч-черт… — Я перевел дыхание и продолжил: — Вы дерьмо, а я Костоправ. В этом вся разница. И не ликуйте раньше срока, юродивые. Проблемы у вас только ещё начинаются. Все еще впереди!
Кажется, я хотел еще что-то добавить, но столь длинный монолог и так отнял у меня остатки силенок.
И я опять потерял сознание, стукнувшись многострадальным затылком о бетонный пол ШИЗО.
Примечания
1
Собачник (уголовн.) — камера карантина при тюрьмах и следственных изоляторах.
(обратно)2
Фронтмен питерской рок-группы «Пикник»
(обратно)3
Фронтмен свердловской рок-группы «Урфин Джюс»
(обратно)4
Автор текстов к песням рок-групп «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус», Вячеслава Бутусова и Насти Полевой.
(обратно)5
Питерский автор-исполнитель рок-музыки
(обратно)6
Психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова в г. Санкт-Петербурге.
(обратно)7
Барыга (нарк.) — здесь: торговец наркотиками.
(обратно)8
Герыч (нарк.) — героин.
(обратно)9
Намордник (уголовн.) — металлические жалюзи на тюремном окне
(обратно)10
Катран (уголовн.) — от слова "катать". Помещение (о6ычно квартира), которое используется для игры в карты на интерес
(обратно)11
Доктор (уголовн.) — адвокакат
(обратно)12
Александр Мадуев, сумевший настолько охмурить женщину-прокурора, которая вела его дело, что та передала ему во время одного из допросов пистолет, с которым Червонец и пытался бежать. По воровской легенде погоняло «Червонец» он получил за то, что всегда расплачивался в такси десятирублевой купюрой.
(обратно)13
Тюремная больнице им. проф. Газза в г. Санкт-Петербурге
(обратно)14
Собачник (уголовн.) — камера карантина.
(обратно)15
Шестой корпус в «Крестах» отведен для уже осужденных и ожидающих этапа.
(обратно)16
Фуфло (уголовн.) — невыплаченный карточный долг; фуфлыжник — должник
(обратно)17
Крытка или крытая (уголовн.) — тюрьма, но в данном случае этим словом обозначается следственный изолятор.
(обратно)18
Для игры в «двадцать одно» девятки, десятки и лбы (тузы) красятся (натираются) душистым туалетным мылом. Когда прикупаешь очередную каргу и опасаешься перебора, достаточно коснуться колоды, понюхать руку, и будет ясно, что тебе сейчас придет — мелочь или крупная карта.
(обратно)19
При игре в рамс самыми важными картами являются вальты. Если они несколько (незаметно длия непосвященного) больше по размерам, чем остальная колола, то нетрудно при сдаче сделать так, чтобы вальты легли тебе на руку
(обратно)20
Баклан (уголовн.) — хулиган.
(обратно)21
Лепила (уголовн.) — врач, фельдшер.
(обратно)22
Дальняк (уголовн.) — туалет.
(обратно)23
Заботами современных писателей и исполнителей шансона понятие «фраер» приобрело некую извращенную форму. Мол, фраер — это некий инфантильный упакованный лох, которого веселая братва лихо кидает на бабки, а он даже не может ответить. На самом деле фраер на зоне — это человек авторитетный, стоящий разве что на одну ступеньку ниже вора.
(обратно)24
Кум (уголовн.) — начальник оперативной части колонии.
(обратно)25
Абвер (уголовн.) — оперативная часть колонии.
(обратно)26
Размер шелковой нити для наложения швов.
(обратно)27
Правило (уголовн.) — воровской суд.
(обратно)28
Баян — шприц.
(обратно)29
Восьмиконечные звезды, наколотые на коленях у зека, означают буквально то, что этого зека никогда ни перед кем на колени не поставить.
(обратно)30
Кичман (уголовн.) — ШИЗО, штрафной изолятор.
(обратно)31
БУР — барак усиленного режима. Официальное название — ПКТ, помещение камерного типа.
(обратно)32
УИН — Управление исправления наказаний.
(обратно)33
Помиловка (уголовн.) — УДО, условно-досрочное освобождение.
(обратно)34
Масштаб карты 1:5 000 000 (в 1 см 50 км).
(обратно)35
Купчик — крепко заваренный чай, но не чифир.
(обратно)36
Передоз (нарк.) — передозировка наркотика.
(обратно)37
Сучья или красная — «ментовская» зона, на которой мазу держат суки (активисты администрации); Черная — «воровская» зона, где администрация не в силах полностью контролировать режим.
(обратно)38
Стихи автора.
(обратно)39
Гипотермия — переохлаждение организма.
(обратно)40
В лагерях, где зеки заняты на работах по обработке и сплаву леса, промзона называется биржей и состоит, как правило, из деревообрабатывающего завода (ДОЗа) — пилобиржи и сплавного участка — лесобиржи.
(обратно)41
Волына или волын (уголовн.) — пистолет.
(обратно)42
Барбитулы (нарк.) — наркосодержащие лекарства из группы барбитулатов, которые применяются для облегчения ломки. Переламываться насухую — переламываться без применения смягчающих ломку препаратов.
(обратно)43
В стошечном (т. е. продающемся барыгой за сто рублей) чеке содержится примерно 1/8 г героина.
(обратно)44
Гюстав Доре — французский график, проиллюстрировавший «Ад» Данте.
(обратно)45
ЦПХ — Центральное пиздохранилище, народное название медицинского училища в Красносельском районе г. Санкт-Петербурга.
(обратно)46
Джефф (нарк.) — эфедрон.
(обратно)47
Столыпин (уголовн.) — вагон, оборудованный для перевозки заключенных.
(обратно)48
Охотник — охотничий нож; шабер — нечто среднее между ножом и пикой с толстым клинком, оставляющим тяжелые рваные раны.
(обратно)49
Лесотаска — механическое приспособление для транспортировки бревен на небольшие расстояния.
(обратно)50
«Нуль» — модель японского истребителя времен Второй мировой войны.
(обратно)51
Цербер или Кербер — в античной мифологии собака-чудовище, охранявшая подземное царство мертвых и прирученная Гераклом.
(обратно)52
Самоед — устаревшее название ненцев.
(обратно)53
Амикан — у некоторых народностей Севера название медведя.
(обратно) (обратно)

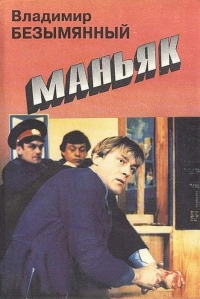



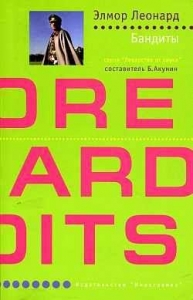
Комментарии к книге «Знахарь. Путевка в «Кресты»», Б. К. Седов
Всего 0 комментариев