Артур Конан Дойл Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2009
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2009
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
Тень великого человека
Глава I Ночь сигнальных огней
Мне, Джоку[1] Калдеру из Вест-инча, кажется удивительным, что я живу в самой середине девятнадцатого века, мне всего-то пятьдесят пять и моя жена ну, может быть, раз в неделю замечает у меня на виске новый седой волосок, но я помню еще те времена, когда жизнь и даже мысли людей были настолько непохожи на современные, словно жили они на другой планете. Выходя в поле, я вижу белые хлопья дыма, который выпускает несущийся через Бервикшир{1} столапый питающийся углем зверь, в чьем брюхе сидит тысяча человек. В солнечный день я даже вижу, как блестят медью его бока, когда он поворачивает рядом с Корримьюром{2}, а переводя взгляд в море, я вижу такого же зверя или даже целую дюжину подобных ему зверей, которые, оставляя за собой черные следы в небе и белые на воде, несутся навстречу ветру так же легко, как лосось, выпрыгивающий из Твида{3}. То, на что совершенно спокойно взираю я, заставило бы моего старого доброго отца онеметь от изумления и глубокого возмущения, потому что больше всего на свете он боялся идти против замысла Создателя, и желание быть ближе к природе заставляло его воспринимать все новое чуть ли не как богохульство. Поскольку лошадь была создана Богом, а паровоз – человеком из Бирмингема{4}, мой отец предпочел бы седло и шпоры.
Однако он бы удивился еще больше, если бы узнал, насколько миролюбивы и добры стали в наши времена люди, сколько в газетах и на сходках твердят о мире, о том, что войн больше не будет… ну, разве что с чернокожими или другими цветными. Ведь когда он умер, мы, с небольшим перерывом в два года, воевали чуть ли не четверть века{5}. Подумайте об этом, вы, живущие ныне такой спокойной и мирной жизнью! Дети, родившиеся во время войны, выросли и обзавелись собственными детьми, а война все продолжалась. Те, кто начинал эту войну, успели состариться и превратиться в стариков, а корабли и армии все так же сражались. Неудивительно, что в конце концов люди стали воспринимать войну как нечто повседневное, должное, и жизнь без войны стала казаться им чем-то противоестественным и непривычным. Мы воевали с голландцами, мы воевали с датчанами, мы воевали с испанцами, турками, американцами, монтевидеанцами{6}, пока наконец не стало казаться, что в этой вселенской борьбе любой народ, каким бы близким или далеким от нас по крови он ни был, все равно может стать нашим врагом. Но больше всего мы воевали с французами, и человек, которого мы больше всего ненавидели, боялись и которым больше всего восхищались, был их великим полководцем, правителем именно этого народа.
Да, можно было рисовать карикатуры на него, петь о нем песенки или считать его самозванцем, но, можете мне поверить, ужас перед этим человеком накрыл черной тенью всю Европу, и были времена, когда неожиданный свет, показавшийся ночью на горизонте, заставлял всех женщин падать на колени и молиться, а всех мужчин – хвататься за мушкеты. Он всегда побеждал, и это было самое страшное. Можно было подумать, что его хранили сами мойры, богини судьбы{7}. И вот в один прекрасный день мы узнали, что он приближается к нашему северному берегу и ведет за собой сто пятьдесят тысяч опытных, проверенных в боях солдат и армаду кораблей. Впрочем, это старая история о том, как под оружие встала треть всего взрослого населения нашей страны и как один наш маленький одноглазый и однорукий человечек сумел разбить их могущественный флот{8}. В Европе еще осталась земля, где можно было свободно мыслить и говорить.
Когда-то на одном из холмов в устье Твида была сооружена огромная куча из бревен и старых смоляных бочек, которая в случае опасности должна была вспыхнуть и превратиться в сигнальный огонь, и я прекрасно помню, как напрягал глаза, пытаясь разглядеть, не загорелась ли вдали тревожная точка. Мне было всего восемь лет, но в таком возрасте любое большое горе становится твоим собственным, и мне представлялось тогда, что судьба всей страны зависела от меня и моей бдительности. И вот однажды вечером мне вдруг показалось, что на склоне далекого холма я увидел мерцание, крошечная искорка затрепетала во тьме. Помню, как я сперва протер глаза, потом ущипнул себя и ударил костяшками пальцев по каменному подоконнику, чтобы убедиться, что не сплю и это мне не снится. Потом языки далекого пламени взметнулись выше, по воде между нами прошел красный колышущийся отблеск, и я бросился на кухню, к отцу, с криком о том, что идут французы и загорелся сигнальный огонь. Отец в это время разговаривал со студентом-юристом из Эдинбурга, и я помню, как он выбил трубку о край камина и посмотрел на меня поверх своих очков в роговой оправе, так, словно это было вчера.
– Ты не ошибся, Джок? – спросил он.
– Да чтоб мне умереть! – крикнул я, задыхаясь от волнения.
Он взял со стола Библию и раскрыл у себя на коленях, как будто собирался почитать нам, но, так и не произнеся ни слова, захлопнул ее и быстрым шагом вышел во двор, а оттуда к калитке рядом с дорогой. Мы, я и студент, последовали за ним. Теперь сомнений не было, большой сигнальный огонь в устье Твида уже полыхал вовсю, к тому же с северной стороны, в Айтоне, показался еще один огонек, поменьше. Мать, чтобы мы не замерзли, принесла пледы, так мы и простояли до самого утра, почти не разговаривая. Те несколько слов, которыми мы обменялись, были произнесены шепотом. На дороге сделалось как никогда людно, потому что многие фермеры в наших краях записались в бервикские{9} добровольческие полки и теперь, кто пешим ходом, кто верхом, устремились на мобилизационный пункт. Кое-кто успел пропустить кружку-другую на посошок. Я до сих пор не могу забыть одного из наших соседей, который, как призрак в лунном свете, промчался мимо нас на огромной белой кобыле, размахивая старым ржавым мечом. Кто-то из проходящих мимо крикнул, что и в Норт-Бервик-ло{10} горит сигнальный огонь и что, похоже, тревогу подняли в эдинбургском замке. Несколько всадников проскакали в обратном направлении, гонцы в Эдинбург, сын нашего лэрда[2], мастер Клейтон, помощник шерифа и им подобные. От общего потока отделился всадник на чалой лошади и направился к нам. Это был широкоплечий крупный мужчина, он остановился у калитки и что-то спросил про дорогу. Когда он снял шляпу, я увидел, что у него доброе вытянутое лицо и высокий лоб, окаймленный песочными волосами.
– Сдается мне, это не ложная тревога, – сказал он. – Хотя, может, и стоило посидеть, подождать немного, может, все и уляжется, но теперь-то уж поздно возвращаться, завтракать, видно, придется уже в полку.
Он вонзил шпоры в бока лошади и поскакал вдоль холма.
– А я его знаю, – сказал наш студент, кивнув вслед всаднику. – Это адвокат из Эдинбурга, он еще и неплохой поэт, Ватти Скотт его зовут{11}.
Ни мне, ни отцу имя это тогда не было знакомо, но уже очень скоро о нем узнала вся Шотландия, и потом мы много раз вспоминали, как в ту ночь страха он спрашивал у нас дорогу.
Под утро мы начали понемногу успокаиваться. Было холодно и пасмурно, и, когда мать пошла в дом заварить нам чаю, на дороге показалась двуколка, в которой ехали доктор Хорскрофт из Айтона с сыном Джимом. Большой воротник его коричневого пальто был поднят и закрывал уши. Настроение у доктора было прескверное, потому что Джим, которому было всего пятнадцать, как только была поднята тревога, сбежал из дому и, прихватив новенькое охотничье ружье отца, направился в Бервик вступать в армию. Всю ночь доктор гонялся за ним и теперь вез домой вместе с украденным ружьем, ствол которого торчал из-за сиденья. У Джима настроение было не лучше, чем у отца, он сидел, засунув руки в карманы, дулся и выпячивал нижнюю губу.
– Все неправда! – крикнул доктор, проезжая мимо нас. – Никакой высадки не было. Все эти болваны всю ночь болтались по дорогам совершенно напрасно.
Джим буркнул на это что-то неразборчивое, за что тут же получил по голове кулаком от отца, отчего челюсть у него отвисла, как будто удар оглушил его. Мой отец покачал головой – Джим ему нравился, и сразу после этого мы все втроем вернулись в дом. Теперь, когда после бессонной ночи мы узнали, что бояться нечего, глаза у нас начали слипаться, головы – клониться на грудь, но на душе было такое счастье, которое за всю мою последующую жизнь мне доводилось испытывать лишь раз или два.
Впрочем, все это почти не имеет отношения к тем событиям, ради описания которых я взялся за перо, но, если у человека хорошая память и довольно посредственный талант, он просто не может выразить одну мысль, попутно не сопроводив ее дюжиной других. И все же, начиная задумываться, я прихожу к выводу, что связь все-таки существует, поскольку та ссора Джима Хорскрофта с отцом оказалась настолько серьезной, что доктор не выдержал и спровадил сына в Бервикскую академию, а поскольку мой отец давно хотел, чтобы я там учился, он не преминул случая отправить туда и меня.
Но прежде, чем я напишу хоть слово об этой школе, я вернусь к тому, с чего должен был начать, – расскажу немного о себе, поскольку может статься, что строки эти будут читать люди, живущие за границей и никогда не слыхавшие о Калдерах из Вест-инча.
Название Вест-инч, может быть, звучит и внушительно, но это не благородное поместье с возвышающимся на холме прекрасным особняком, нет, это всего лишь большая старая, побитая ветром овечья ферма, растянувшаяся вдоль морского берега. Человек бережливый и работящий может здесь свести концы с концами и заработать на масло вместо патоки по воскресеньям. Прямо посреди фермы стоит дом из серого камня с шиферной крышей, с коровником на заднем дворе и надписью «1703», выбитой на каменной перемычке над дверью. Здесь наши предки жили более ста лет, и несмотря на то, что никогда не были богачами, стали считаться уважаемыми людьми в округе, потому что у нас в деревнях старых фермеров порой уважают больше, чем новых лэрдов.
У нашего дома была одна интересная особенность. Инженеры и другие ученые люди высчитали, что граница между двумя странами проходит прямехонько через его середину, разделяя нашу спальню на английскую и шотландскую половины. Детская кровать, в которой я спал, была расположена так, что голова моя находилась к северу от границы, а ноги – к югу. Мои друзья шутят, что, если бы я ложился по-другому, голова у меня не была бы такой рыжей, а характер был бы попроще. И я с ними согласен, потому что не раз со мной случалось такое, что, когда мои шотландские мозги не видели выхода из какой-либо опасной ситуации, на выручку мне приходили крепкие мускулистые английские ноги, которые уносили меня туда, где мне ничто не угрожало. Но, когда я учился в школе, все это доставляло мне сплошные неприятности, мне даже прозвища давали соответствующие: Джок-половинка, Великобритания или Юнион Джек{12}. Когда шотландские мальчишки дрались с английскими, одна из сторон пинала меня по лодыжкам, а вторая колотила по ушам, пока обе враждующие стороны вдруг не останавливались и не начинали дружно хохотать, как будто в этом было что-то смешное.
Поначалу мне показалось, что худшего места, чем Бервикская академия, в мире просто не существует. У меня было два учителя, Бертвистл и Адамс, и оба они мне ужасно не нравились. Вообще я был скромным, даже пугливым ребенком и плохо сходился как с остальными ребятами, так и с учителями. От Бервика до моего родного Вест-инча, если напрямик, девять миль, если по дороге – одиннадцать с половиной, и, когда я думал, как далеко сейчас от меня моя мама, мне все время хотелось плакать. Однако учтите, любой мальчишка в таком возрасте делает вид, что он уже достаточно взрослый и может обходиться без материнской заботы, но как же горько ему приходится, когда бывает нужно доказать это на деле! Как-то раз я подумал, что больше этого не вынесу и твердо решил сбежать из школы и как можно скорее вернуться домой. Но случилось так, что в самую последнюю минуту мне удалось заслужить похвалу и вызвать восторг и восхищение всей школы, от самого директора до одноклассников, что значительно упростило мою жизнь в Бервике и сделало ее намного более приятной. И все благодаря тому, что я случайно выпал из окна третьего этажа.
Произошло это так. Однажды вечером меня отлупил Нед Бартон, главный задира в школе, и эта неприятность, соединившись с остальными обидами, переполнила мою маленькую чашу терпения. Ночью, утирая слезы под одеялом, я дал себе слово, что утро встречу либо дома в Вест-инче, либо на подходе к нему. Наша общая спальня находилась на третьем этаже, но у меня были цепкие руки и я совершенно не боялся высоты. Как-то раз в Вест-инче я даже забрался с веревкой на крышу, привязал один ее конец к какому-то выступу, а другой обмотал вокруг бедра, спрыгнул и стал раскачивать над землей. И это при том, что от земли до крыши там никак не меньше пятидесяти трех футов! Но я тогда был настолько мал, что не задумывался над тем, как это опасно. В общем, побег из школьной спальни казался мне плевым делом. Я еле дождался, пока вокруг меня утихнут покашливание и возня и длинный ряд деревянных кроватей погрузится в полную тишину. Потом тихонько встал, оделся, взял в руку ботинки и на цыпочках подошел к окну. Раскрыв рамы, я высунулся. Окно выходило в сад, и прямо перед ним росла старая груша, ветви которой почти упирались в стену. Для ловкого парня лучшей лестницы не придумать. Спустившись вниз по дереву, я должен был лишь перелезть через пятифутовую стену, а дальше путь домой был открыт. Одной рукой я крепко взялся за толстую прочную ветку, коленом уперся в другую и уже собирался перенести вес с подоконника на дерево, как вдруг словно окаменел.
Над стеной, окружающей сад, я увидел лицо, обращенное на меня. Оно было таким белым и неподвижным, что сердце мое сжалось от ужаса. Призрачный свет луны блеснул на этом жутком лике, глаза его медленно повернулись сначала в одну сторону, потом в другую, а после этого лицо какими-то рывками поползло вверх, и над стеной показались сперва шея, потом плечи, талия и колени. Человек уселся на стене, повернулся и одним рывком поднял и усадил рядом с собой мальчика примерно моего возраста, который время от времени набирал полную грудь воздуха, как будто сдерживая плач. Мужчина тряхнул его, шепнул что-то резкое, после чего они вместе спрыгнули со стены в сад. Я все еще стоял одной ногой на ветке, а второй на карнизе, не осмеливаясь шелохнуться, чтобы не привлечь к себе их внимание, потому что слышал, как они пробираются по саду, держась тени здания. И вдруг прямо у меня под ногой раздался тихий скрежещущий звук, потом тонко звякнуло стекло.
– Готово, – прошептал торопливый мужской голос. – Давай, лезь.
– Но тут же края острые! – жалобно попытался возразить дрожащий детский голос.
Мужчина выругался так, что у меня мурашки забегали по спине.
– Кому сказал, лезь внутрь, щенок, – прорычал он, – а не то…
Мне было не видно, что произошло внизу, но я услышал короткий сдавленный вскрик от боли.
– Лезу! Лезу! – захныкал мальчик.
Больше я не услышал ничего, потому что внезапно все закружилось у меня перед глазами, нога соскользнула с ветки, и я, издав истошный вопль, обрушился своими девяносто пятью футами веса прямехонько на согнутую спину грабителя. И сейчас, если вы меня спросите, я не смогу с уверенностью сказать, произошло это случайно или по моему желанию. Может быть, пока я размышлял над тем, стоит ли это делать, случайность сама все за меня решила. Мужчина в ту секунду стоял, наклонив голову, и пропихивал мальчика через маленькое окошко, и я упал на него как раз в том месте, где шея соединяется с позвоночником. Он, издав какой-то свистящий звук, повалился лицом в траву и три раза перекатился, дергая ногами. Его маленький помощник опрометью бросился через сад и в мгновение ока скрылся за стеной. Я же схватился за ногу, которая вдруг заболела так, словно ее затянули в раскаленный железный обруч, и заревел во все горло.
Можно не сомневаться, что уже в следующую минуту в саду с лампами и фонарями собрались все обитатели школы, от директора до помощника конюха. Долго ломать голову над тем, что произошло, не пришлось, мужчину положили на ставень и унесли, я же, весь в слезах, но с гордым видом позволил себя перенести в кабинет врача, где доктор Поди, младший из двух братьев с этой фамилией, благополучно вправил мне лодыжку. Что касается грабителя, вскоре выяснилось, что у него парализовало обе ноги, и доктора не могли сойтись во мнении, сможет ли он когда-либо встать на них. Впрочем, закон не дал им возможности выяснить это, потому через шесть недель после выездной сессии суда присяжных в Карлайле{13} его повесили. Оказалось, что это был один из самых отчаянных бандитов на севере Англии, на его счету было три убийства, и по совокупности обвинений его можно было осудить на десять смертных казней.
Ну вот, я не мог обойти вниманием такой случай, поскольку это самое важное, что произошло со мной в детстве. Но больше я не буду отвлекаться, ибо, думая о том, сколько еще мне предстоит рассказать, я прекрасно понимаю, что, если уходить в сторону от главной темы, я могу вообще никогда не добраться до конца. Дело в том, что, даже когда кто-либо, не профессиональный литератор, собирается изложить на бумаге всего лишь историю своей скромной жизни, даже это может отнять у него все время, однако, если уж ему случилось стать участником таких грандиозных событий, о которых придется вести рассказ мне, это задание может оказаться и вовсе невыполнимым. Но все же память моя, слава Богу, крепка, и я буду пытаться довести начатое до конца.
Именно благодаря этой истории с грабителем я подружился с Джимом Хорскрофтом, докторским сыном. В академии его с первого же дня стали считать первым силачом, потому что, не пробыв в стенах школы и часа, он подрался с Бартоном, считавшимся самым сильным до него, и от одного из его ударов Бартон так отлетел на большую классную доску, что та рассыпалась на мелкие кусочки. Для Джима в жизни всегда главными были мускулы и сила, и уже тогда он был высоким, крепким и немногословным. Больше всего он любил стоять где-нибудь в сторонке, прислонившись широкой спиной к стене и засунув руки глубоко в карманы штанов. Я даже помню, что он имел привычку жевать соломинку в том самом углу рта, в котором потом держал трубку. Если честно, я никогда не понимал, к чему он больше склонен, к добру или к злу.
Боже, какими восхищенными глазами мы смотрели на него! Мы ведь тогда все были маленькими дикарями и питали первобытное уважение к силе. С нами учился Том Карндейл из Эпплби, который сочинял стихи и орудовал алкеевой строфой{14} не хуже, чем обычным пентаметром или гекзаметром{15}, но никто даже не смотрел в его сторону. Был у нас и Вилли Эрншоу, который помнил и в любую секунду мог назвать точную дату почти любого события в истории человечества, чуть ли не с убийства Авеля{16}, даже учителя обращались к нему за помощью, когда что-то забывали. Но он был щуплым, тщедушным пареньком с узкой грудью, и никакие знания не могли помочь ему, когда Джек Симонс гонял его по коридору, размахивая ремнем с пряжкой. Но к Джиму Хорскрофту у всех было совершенно другое отношение. Какие слухи ходили о его силе! Рассказывали, что однажды он голым кулаком пробил дубовую дверь спортивного зала, что как-то раз во время игры в регби, когда Длинный Мерридью вел мяч, он его перехватил, сунул себе под мышку вместе с мячом и, легко миновав защитников, добежал до зачетного поля соперника. Никому из нас и в голову не могло прийти, что такой человек, как он, может думать о спондеях и дактилях{17} или интересоваться тем, кто подписал Великую хартию вольностей{18}. Когда на одном из коллоквиумов{19} он сказал, что это сделал король Альфред{20}, все мальчики в классе подумали, что скорее всего так и было и Джиму, очевидно, виднее, чем автору учебника.
Как бы то ни было, случаем с грабителем я привлек к себе его внимание. Помню, как он подошел ко мне, потрепал по волосам и назвал храбрым чертенком, после чего я целую неделю ходил с задранным носом. На два года мы стали лучшими друзьями. И несмотря на разницу в возрасте, несмотря на то что много раз он нарочно или случайно, просто не рассчитав силы, оставлял на моем теле жуткие синяки или ссадины, я любил его как брата, и, когда в конце концов он уехал в Эдинбург, чтобы пойти по стопам своего отца, я так сильно плакал, что моими слезами, наверное, можно было бы до краев наполнить чернильницу. После этого я еще пять лет провел в классе Бертвистла и под конец учебы понял, что сам превратился в главного школьного силача, потому что тело мое стало гибким, а мышцы упругими, как китовый ус{21}, хотя кряжистости и силы своего великого предшественника я так никогда и не достиг. В 1813 году я распрощался с академией и вернулся домой, где на три года погрузился в изучение искусства выращивания овец; но боевые корабли все так же бороздили моря, армии все так же сходились в битвах, и великая тень Бонапарта все так же лежала на нашей стране. Разве могло мне тогда прийти в голову, что я приложу руку к тому, чтобы навсегда избавить ее от этой тени?
Глава II Кузина Эди из Аймута{22}
За несколько лет до этого, когда я был еще мальчишкой, к нам на пять недель приезжала погостить единственная дочь брата моего отца. Сам Вилли Калдер жил в Аймуте и промышлял плетением рыболовных сетей. Своими неводами и мережами{23} он зарабатывал столько, что нам с нашими овцами и не снилось. Поэтому дочь его приехала в нарядном красном платье и шляпке за пять шиллингов, да еще привезла с собой целый сундук таких вещей, от которых у моей милой матушки глаза полезли на лоб. Чуднó нам было видеть, что у такой молодой девчонки денег куры не клюют – с носильщиком она расплатилась сама, дала столько, сколько он запросил, не торгуясь, да еще два пенса сверху. Имбирный эль{24} для нее был что для нас вода, чай она пила с сахаром, а хлеб мазала маслом, прямо как англичанка.
В то время девочки меня мало интересовали, потому что я не понимал, для чего они нужны. В классе Бертвистла никто о них и не думал, но считалось, что чем девочка младше, тем больше в ней ума, потому что, начиная взрослеть, они сразу же глупели. Никто из нас, мальчишек, не видел смысла водиться с существом, которое драться не умеет, истории рассказывает плохо и не может даже толком швырнуть камень, чтобы не замахать руками, как сохнущая тряпка на ветру. А как они важничали! Можно было подумать, что они и мать, и отец в одном лице. Вечно лезли в наши игры со своими «Джимми, у тебя палец из ботинка торчит» или «Эй, грязнуля, живо домой умываться». В конце концов от одного их вида нас начинало с души воротить.
Поэтому, когда к нам в Вест-инч приехала одна из них, особой радости я не испытал. Дело было на каникулах, мне тогда было двенадцать, ей – одиннадцать. Она была высокой худенькой девочкой с черными глазами и непривычными нам манерами. То и дело замирала и смотрела прямо перед собой, приоткрыв рот, как будто увидела что-то необычное; но, когда я подходил к ней сзади и смотрел в ту же сторону, я не видел ничего, кроме какой-нибудь обычной поилки для овец, или навозной кучи, или отцовских портков, болтающихся на веревке. Зато, если она замечала куст вереска, папоротник или что-нибудь подобное, тут же лезла в них носом, словно ее начинало тошнить, и кричала: «Ах, как красиво! Изумительно!», словно они были нарисованы на картине. Игры она не любила. Иногда я все-таки заставлял ее поиграть в салки, но это было не весело, потому что я всегда догонял ее за три прыжка, а меня она никогда не могла поймать, хоть при этом шумела и визжала, как десять мальчиков, вместе взятых. Когда я прямо говорил ей, что от нее нет никакого толку и что ее отец – дурак, раз вырастил ее такой, она начинала плакать, обзывала меня грубым, невоспитанным мальчишкой, грозилась уехать домой тем же вечером и говорила, что не простит меня до конца жизни. Правда, уже через пять минут она все это забывала. Самым странным было то, что я нравился ей намного больше, чем она мне. Она не отходила от меня ни на шаг; как только я скрывался из виду, тут же мчалась за мной следом и потом говорила: «А, ты здесь», как будто не ожидала меня увидеть.
Но вскоре я понял, что от нее тоже может быть какая-то польза. Иногда она давала мне монетки, и один раз у меня в кармане даже собралось целых четыре однопенсовика! Но самое лучшее в ней было то, что она рассказывала интересные истории. Она до смерти боялась собак, поэтому я, бывало, приводил к ней какого-нибудь пса и заявлял, что если она сейчас же не расскажет какую-нибудь историю, я заставлю его вцепиться ей в горло. Это всегда помогало ей начать, а там уж слушать ее было одно удовольствие. Ей было что рассказать, потому что в ее жизни происходили самые невероятные вещи. В Аймуте жил магрибский{25} пират, который раз в пять лет приплывал на своем пиратском корабле, набитом золотом, и предлагал отдать его ей, если она согласится стать его женой. Бывал у них и благородный рыцарь, он подарил ей кольцо и обещал вернуться, когда настанет время. Она показывала мне это кольцо, которое по виду ничем не отличалось от тех колец, на которых висела шторка у моей кровати, но она говорила, что ее кольцо сделано из чистого золота. Я спрашивал у нее, что будет, если этот рыцарь встретится с магрибским пиратом, и она отвечала, что тогда он отрубит ему голову своим сверкающим мечом. Что они в ней находили, для меня было загадкой. Еще она рассказывала, что, когда ехала в Вест-инч, за ней следом ехал принц, переодетый так, чтобы его никто не узнал. Когда я спросил у нее, как она догадалась, что это принц, она ответила: «Потому что он был переодет». Как-то раз она сообщила, что ее отец составляет загадку. Когда она будет готова, он напечатает ее в газете, и тому, кто сумеет ее разгадать, достанется половина его богатств и его дочь. Я сказал, что люблю разгадывать загадки и она должна будет прислать мне эту газету. Тогда она добавила, что загадка будет напечатана в «Бервик газетт», и спросила, если я разгадаю загадку отца, что я собираюсь с ней делать, когда она достанется мне. Я ответил, что продам на ярмарке тому, кто заплатит дороже. Больше в тот вечер она ничего мне не рассказывала, потому что иногда бывала очень обидчивой.
Когда кузина Эди гостила у нас, Джима Хорскрофта в Вест-инче не было, но вернулся он через пару дней после того, как она уехала. Помню, я очень удивлялся, почему это он расспрашивает о ней. Что вообще могло быть интересного в какой-то девчонке? Он спросил, красивая ли она, а когда я ответил, что не обратил внимания, рассмеялся, обозвал меня кротом и сказал, что когда-нибудь я прозрею. Но уже очень скоро он утратил к ней интерес, я же не вспоминал Эди до тех пор, пока однажды она не взяла мою жизнь в свои руки и не перевернула ее так, как я могу перевернуть эту страницу.
Было это в 1813 году, после того как я закончил школу, когда мне уже исполнилось восемнадцать. На губе у меня было целых сорок волос, и я надеялся, что скоро их станет намного больше. После школы я изменился. Игры уже не так занимали меня, как раньше. Теперь мне было куда интереснее ходить к морю и проводить время на берегу, где глаза и губы у меня иногда раскрывались так же, как когда-то у Эди. Раньше, чтобы почувствовать себя счастливым, мне достаточно было знать, что я бегаю быстрее своих друзей или могу прыгнуть выше, чем любой из них, но теперь все это стало казаться таким не важным. Меня охватила тоска, жуткая тоска. Я смотрел на прозрачный купол неба, на плоское синее море и чувствовал, что в моей жизни чего-то не хватает, но в причине своей тоски я боялся признаться даже себе. К тому же от этого у меня испортился характер. Когда мать спрашивала, что со мной происходит, или отец говорил, что мне пора бы уже заняться делом, я отвечал им так грубо, что потом не раз об этом горько жалел. Человек может сменить несколько жен, у него может быть несколько детей или друзей, но у него не может быть больше одной матери, так жалейте же своих матерей, заботьтесь о них, пока они рядом.
Однажды, вернувшись из овчарни, я застал отца с письмом в руках, что было очень необычно, потому что, кроме как записок от управляющего имением с напоминанием о том, что пора платить ренту, писем мы почти никогда не получали. Подойдя к отцу, я вдруг заметил, что он плачет, и это меня удивило, поскольку я считал, что взрослые мужчины никогда не плачут. Его коричневую щеку пересекала такая глубокая складка, что слезы не могли преодолеть ее, им приходилось скатываться вдоль нее к уху, и уже оттуда они срывались и падали на лист бумаги. Мать сидела рядом с ним и гладила его руку, как кошачью спину.
– Это о Вилли, – сказал отец. – Понимаешь, Джинни, его больше нет. Письмо от адвоката, он пишет, что это случилось неожиданно, иначе они вызвали бы меня раньше. Карбункул{26}… и кровоизлияние в мозг.
– Ох! Ну, теперь все его беды позади.
Отец вытер щеки краем скатерти.
– Все сбережения он оставил дочке, – сказал он. – Если она не изменилась с тех пор, как жила с нами под одной крышей, она же их по ветру пустит. Помнишь, как ей не понравился наш чай, тот, по семь шиллингов за унцию? – Мать покачала головой и посмотрела куда-то вверх, где с потолка свисали свиные окорока. – Он не пишет сколько, но говорит, что сумма порядочная. И она переедет жить к нам, такова была последняя воля Вилли.
– А мы будем ее содержать? – недовольно воскликнула мать. Мне не понравилось, что в такую минуту она думает о деньгах, но, если бы она не была такой хозяйственной, мы бы уже через год пошли по миру.
– Да нет, платить она будет. И приезжает она сегодня. Джок, парень, поедешь в Айтон, встретишь вечерний дилижанс. В нем приедет твоя кузина Эди. Привезешь ее в Вест-инч.
И в четверть шестого я запряг нашего пятнадцатилетнего длинногривого Джонни в телегу с недавно выкрашенным задком, которую мы использовали только по праздникам, и отправился встречать кузину. В Айтон я прибыл одновременно с дилижансом, и, как самый настоящий деревенский олух, позабыв о прошедших годах, принялся высматривать в толпе перед остановкой девочку в короткой юбочке до колен. Когда я уже забеспокоился и начал вытягивать шею и крутить во все стороны головой, думая, не напутал ли я чего, кто-то тронул меня за руку. Обернувшись, я увидел леди в черном платье и понял, что это моя кузина Эди.
Я-то это понял, но все же, если бы она сама не тронула меня тогда за руку, я бы мог еще десять раз пройти мимо нее и не узнать. Поверьте, если бы Джим Хорскрофт тогда спросил меня, красивая она или нет, я бы знал, что ответить! У нее были темные волосы, намного темнее, чем у наших девушек, но на щеках ее пробивался такой изумительный легкий румянец, который можно увидеть разве что на самых нежных лепестках розы. Губы у нее были яркие, добрые и четкие, словно очерченные. С первого же взгляда на нее я заметил насмешливые, озорные огоньки, пляшущие в глубине ее огромных карих глаз. Она окинула меня взглядом так, словно я был частью доставшегося ей наследства, протянула руку, выдернула из беспокойной толпы и подтащила к себе. Как я уже сказал, она была в черном, как мне тогда показалось, нелепом платье, и шляпке с откинутой вуалью.
– Ах, Джек! – воскликнула она на чопорный английский манер, которому научилась в пансионе. – Нет-нет, мы слишком взрослые для этого… – Она отстранилась от меня, когда я, вытянув губы, приблизил к ней свою глупую физиономию, чтобы поцеловать, как в последний раз, когда мы с ней виделись. – Просто веди себя как приличный молодой человек. Дай поскорее шиллинг проводнику, он был так мил со мной во время поездки.
Я покраснел как рак, потому что в кармане у меня был всего лишь один четырехпенсовик. Еще никогда в жизни деньги, вернее, их отсутствие не значили для меня так много, как в тот миг. Но она сразу смекнула, что к чему, тут же достала откуда-то молескиновый{27} кошелек с серебряной застежкой и сунула его мне в руку. Я расплатился и хотел вернуть ей кошелек, но она жестом дала мне понять, чтобы я оставил его у себя.
– Будешь моим провожатым, Джек, – рассмеявшись, сказала она. – Это наш экипаж? Какой смешной! И куда мне садиться?
– На мешок.
– А как мне туда забраться?
– Ставь ногу на ступицу{28}, – сказал я. – Я помогу.
Я вскочил на телегу и взялся за протянутые мне две маленькие руки в перчатках. Когда она запрыгнула на бортик, ее дыхание, теплое и сладкое, попало мне на лицо, и в тот же миг снедавшие меня тоска и смятение улетучились из моей души. Мне показалось, что вдруг я преобразился, перестал быть старым собой и стал новым, правильным человеком. Преображение это было стремительным, заняло времени не больше, чем взмах лошадиного хвоста, но все же я почувствовал его необыкновенно остро. Где-то рухнул некий барьер, и я понял, что отныне заживу полной, настоящей жизнью. Все эти мысли промелькнули у меня в голове за долю секунды, но я ведь был скромным, даже пугливым юношей, поэтому охватившие меня чувства проявились лишь в том, что я разгладил для нее мешок. Она в это время провожала взглядом удаляющийся дилижанс, который поехал дальше в Бервик, и вдруг помахала в воздухе платком.
– Он снял шляпу, – пояснила она. – По-моему, это офицер. Какой приятный молодой человек. Ты обратил на него внимание? Вон тот джентльмен в коричневом пальто, с мужественным лицом. – Я покачал головой, чувствуя, как внезапный прилив счастья уступает место глупому чувству недовольства. – Ах, впрочем, я никогда его больше не увижу. Кругом все те же зеленые склоны холмов и коричневая извилистая дорога, уходящая вдаль. Да и ты, Джек, тоже почти не изменился. Надеюсь, манеры у тебя стали лучше, чем когда-то. Ты же не станешь бросать мне на спину лягушек, правда?
Я содрогнулся от подобного предположения.
– Мы сделаем все, чтобы тебе в Вест-инче понравилось, – сказал я, теребя в руках кнут.
– Очень мило с вашей стороны приютить у себя бедную одинокую девушку, – сказала она.
– С твоей стороны очень мило было приехать к нам, кузина Эди, – запинаясь, произнес я. – Но боюсь, тебе будет у нас скучно.
– У вас тут, должно быть, очень тихо, а, Джек? Мужчин почти нет, насколько я помню.
– Есть майор Эллиот, он живет ближе к Корримьюру. Вечером он проезжает мимо нас. Это настоящий старый солдат, когда он служил у Веллингтона{29}, ему в колено попала шрапнель{30}, и…
– Джек, когда я говорю о мужчинах, я не имею в виду стариков со шрапнелью в коленях. Я имею в виду людей нашего возраста, с которыми можно подружиться. Кстати, у старого ворчливого доктора, кажется, был сын, я не ошибаюсь?
– Да, Джим Хорскрофт, мой лучший друг.
– Он дома?
– Нет. Но скоро должен приехать. Он все еще в своем Эдинбурге учится.
– Ах, значит, пока он не вернется, придется довольствоваться компанией друг друга. Джек, я очень устала, давай поскорее поедем в Вест-инч.
В тот день старичок Джонни бежал так резво, как не бегал ни до, ни после того, и уже через час Эди сидела за столом, на который мать выставила не только масло, но еще и стеклянное блюдо с крыжовенным вареньем, красиво поблескивающим в свете свечи. Я не мог не заметить, что родители тоже удивились произошедшим с ней переменам, хотя их удивление было несколько иного рода. Маму настолько сразила штука из перьев, которая была обмотана у нее вокруг шеи, что вместо Эди она начала называть ее мисс Калдер, пока кузина не стала с милой улыбкой поднимать указательный палец всякий раз, когда она это делала. После ужина, когда Эди пошла отдыхать, они весь вечер говорили только о том, как она изумительно выглядит и в какую леди превратилась.
– Между прочим, – под конец заметил отец, – что-то непохоже, чтобы она очень горевала о смерти моего брата.
И тогда я впервые подумал о том, что с тех пор, как я ее встретил, она не обмолвилась об этом ни словом.
Глава III Тень на воде
Очень скоро кузина Эди превратилась в королеву Вест-инча, а мы все – в ее верных подданных. Денег у нее было более чем достаточно, хотя никто из нас не знал, сколько именно. Когда мать сказала, что четырех шиллингов в неделю вполне хватит, чтобы покрыть траты на ее содержание, она от себя увеличила эту сумму до семи шиллингов шести пенсов. Южная комната, самая солнечная в доме, с поросшим жимолостью окном, была отдана ей, и она обставила ее всякими удивительными штуками, которые привезла с собой из Бервика. Дважды в неделю она выезжала на прогулку, но наша телега ее не удовлетворяла, поэтому она брала напрокат двуколку у Энгеса Вайтхеда, ферма которого располагалась за холмом. И редко когда она не возвращалась с каким-нибудь подарком для кого-то из нас. Отцу она как-то подарила деревянную трубку, матери – шерстяной плед, мне – книгу, а Робу (нашему колли) – медный ошейник. Она была очень щедрой.
Но больше всего мы радовались самому ее присутствию. Для меня с ее приездом изменилось все, и не только внутри меня. Солнце стало светить ярче, трава стала зеленее, а воздух чище и слаще. Теперь, когда появилась она, нашу жизнь нельзя было назвать скучной. Дом наш перестал быть унылым с того самого дня, когда она перешагнула… коврик перед его дверью. И дело было не только в ее лице (хотя она была настоящей красавицей) и не только в ее фигуре (хоть я никогда не видел девушки, сложенной лучше, чем она). Главное, что восхищало в ней, – ее дух, ее веселый бесшабашный нрав, непривычная для нас манера говорить, благородный жест, которым она оправляла платье, царственное вздергивание головы, от которого тебе казалось, что ты не достоин быть землей под ее ногами, и быстрая перемена в глазах, какое-нибудь доброе слово, которое снова поднимало тебя на один уровень с ней.
Однако все же я никогда не чувствовал себя с ней на равных. Для меня она всегда была каким-то высшим существом. Я мог заставлять себя думать иначе, мог обвинять себя в слабости духа, но я не мог поверить, что в наших венах течет одинаковая кровь, что она – такая же обычная деревенская девчонка, как и я – самый обычный деревенский парень. Чем больше я любил ее, тем больше боялся. И она заметила этот страх задолго до того, как распознала любовь. Без нее мне было неуютно и тоскливо, но, когда она была рядом, я дрожал от ужаса, боясь своими деревенскими разговорами утомить ее или обидеть. Если бы я знал женщин получше, может быть, мне было бы проще.
– А ты совсем не такой, каким был раньше, Джек, – как-то сказала она, бросив на меня взгляд из-под черных бархатных ресниц.
– Когда мы встретились, ты говорила иначе, – ответил я.
– Ах, тогда я говорила о том, как ты выглядишь, а сейчас говорю о твоем поведении. Ты ведь был таким грубым, держался как командир и все делал по-своему, как маленький мужчина. До сих пор помню твои взъерошенные волосы и насмешливый взгляд. А сейчас ты стал таким вежливым, спокойным и разговариваешь так тихо.
– Надо же мне было когда-то научиться вести себя.
– Но, Джек, тогда ты мне намного больше нравился!
Тут, надо сказать, я вытаращил глаза от изумления, потому что до сих пор был уверен, что она так до конца и не простила меня за то, как я тогда с ней обращался. Как такое могло нравиться нормальному человеку, было выше моего понимания. Я вспомнил, как, когда она читала у двери, я выходил на задний двор, скатывал шарики из грязи и обстреливал ее из самодельной пращи, пока она не начинала плакать. Потом вспомнил, как однажды поймал угря в Корримьюрском ручье и гонялся за ней с ним, пока она с визгом, едва живая от страха, не спряталась под фартук моей матери. Отец тогда взялся за палку и так всыпал мне, что я вместе со своим угрем забился под буфет на кухне и до вечера боялся нос оттуда высунуть. И об этом она скучала! Ну что ж, ей придется скучать и дальше, потому что у меня скорее отсохли бы руки, чем я сейчас стал бы делать что-то похожее. Но тогда я впервые начал понимать, сколько странного заложено в женщине и что мужчина не должен ломать себе голову, пытаясь понять ее, все, что ему остается, – это наблюдать и стараться запомнить ее причуды.
Через какое-то время роли наши распределились окончательно. Она поняла, что может делать что ей хочется и как ей хочется, я же, что называется, «бегал за ней», как старина Роб бегал за мной, и был всегда готов к услугам. Вы, возможно, сочтете меня глупцом, раз я так повел себя, и, может быть, я им и был, но не забывайте, как мало опыта общения с женщинами у меня было в ту пору и в какой близости нам приходилось жить. Она была из тех девушек, которые встречаются раз на миллион, и нужно было обладать поистине каменным сердцем, чтобы не поддаться ее чарам.
Да вот хотя бы майор Эллиот, мужчина, схоронивший трех жен, участвовавший в двенадцати сражениях, – Эди, эта вчерашняя школьница, могла из него веревки вить, стоило ей лишь слово сказать. Я встретил его, когда он ковылял домой из Вест-инча, после того как впервые увидел ее. Я его с трудом узнал: щеки горят, глаза блестят, грудь колесом, он словно помолодел на десять лет. Здоровой ногой он маршировал, как волынщик на параде, да еще на ходу подкручивал седые усы. Уж не знаю, что такое она ему сказала, но кровь явно бурлила у него в жилах.
– Хотел я тебя дождаться, парень, – сказал он мне, – но теперь уж мне пора домой. Но визит мой не был напрасным, поскольку я имел удовольствие познакомиться с la belle cousine[3]. Очаровательная юная леди!
Он всегда разговаривал как-то по-казенному, да еще любил вставить слово-другое на французском, которого набрался, когда воевал на Пиренейском полуострове. Он бы и дальше говорил о кузине Эди, но я заметил уголок газеты, торчавший у него из кармана, и понял, что он приходил для того, чтобы, как всегда, поделиться новостями, потому что мы в Вест-инче были почти совсем оторваны от мира.
– Что новенького, майор? – спросил я.
Немного смутившись, он вытащил из кармана газету.
– Союзники одержали победу в важной битве, – сказал он. – Думаю, Наполеону после этого долго не продержаться. Саксонцы отбросили его далеко назад и под Лейпцигом задали ему хорошую трепку{31}. Веллингтон перешел Пиренеи, а грэмовцы{32} уже со дня на день будут в Байонне{33}.
Я сорвал с головы шапку.
– Так, значит, скоро войне конец! – вскричал я.
– Да, и пора уж, – вздохнул он. – Столько крови пролито! Но сейчас мне уж, видно, не имеет смысла рассказывать, какие у меня были насчет тебя мысли.
– Это какие же?
– Ну, парень, ты ведь здесь все равно без толку болтаешься. Сейчас, когда колено у меня начало заживать, я уж начал подумывать, не вернуться ли мне снова на службу. И, может, ты бы хотел немного послужить под моим началом?
Мое сердце взволнованно заколотилось.
– Вы еще спрашиваете!
– Да только мне еще придется с полгода подождать, чтоб комиссию пройти, а за это время с Бонапартом уж наверняка покончено будет.
– А тут еще мама, – добавил я. – Она меня точно не отпустит.
– А ты теперь можешь ее и не спрашивать, – бросил он и пошел дальше своей дорогой.
Я уселся на кочку между вересками и задумался, глядя в спину майору. Бывалый солдат в старенькой коричневой куртке, прихрамывая, поднимался по склону холма, на спине его покачивался переброшенный через плечо угол серого пледа. А что меня ждет здесь, в Вест-инче? Со временем я займу место отца, но что я увижу в своей жизни, кроме этих пустошей, этого ручья, этих овец и нашего старого серого дома? Но там, за этим синим морем… Да, вот там настоящая жизнь для мужчины. Даже майор, уже, можно сказать, старый человек, раненый и немощный, и тот собирается вернуться к работе. А я? Полный сил молодой парень, отсиживаюсь тут, на этих холмах! Горячая волна стыда захлестнула меня. Я вскочил, меня вдруг затрясло от желания куда-то бежать, что-то делать, сыграть свою достойную роль в развитии этого мира.
Два дня я думал только об этом, а на третий случилось нечто такое, что сначала наполнило меня решимостью наконец воплотить мысли в дело, а потом развеяло ее, словно облако дыма на ветру.
Днем мы с кузиной Эди и Робом отправились на прогулку и случайно забрели на большой холм, который одним выступом спускался к пляжу. Была поздняя осень, и дюны казались холодными, словно выцветшими, но солнце все еще светило ярко и южный ветер все еще приносил тепло и гонял по бескрайнему синему морю широкие пенистые волны. Я нарвал папоротника, чтобы сделать Эди подстилку. Она улеглась на это нехитрое ложе и закрыла глаза от удовольствия, потому что, похоже, ничто в жизни не доставляло ей столько удовольствия, как тепло и свет. Я сел рядом на пучок травы, а Роб положил мне голову на колени. Так мы и сидели посреди безмятежной природы, словно оторванные от всего мира, но даже тогда нам пришлось столкнуться с тенью этого великого человека, имя которого красными буквами было начертано на карте Европы.
Мимо проплывало судно. Это было старое почерневшее от времени торговое судно, которое, должно быть, держало курс на Лит{34}. Оно медленно шло по ветру, распустив паруса. Неожиданно с северо-восточной стороны показались два уродливых больших похожих на люггеры{35} одномачтовых судна, с квадратными коричневыми парусами. Казалось бы, что может быть прекраснее, чем, лежа на берегу, наблюдать, как мимо проплывают сразу три парусника, но вдруг на одном из люггеров блеснуло пламя и вверх взвилось облачко голубоватого дыма. Потом то же произошло со вторым люггером. В следующую секунду со стороны торгового судна донеслось: бах-бах-бах, и в мгновение ока рай сменился адом. На воде воцарились ненависть, жестокость, кровь.
Мы вскочили, и Эди положила дрожащую руку мне на плечо.
– Они сражаются, Джек! – воскликнула она. – Но почему? Кто они?
Сердце у меня в груди стучало громче пушечных выстрелов. Мне пришлось собраться с силами, чтобы ответить ей.
– Это французские каперы{36}, Эди, – срывающимся от волнения голосом произнес я. – «Шассе-маре»{37}, как они себя называют. А вон то – наше торговое судно, и они наверняка возьмут его. Люди говорят, что эти каперы всегда вооружаются тяжелыми пушками и на каждом корабле у них людей, как селедок в бочке. Что ж он, дурак, в Твид-то не заходит?
Но паруса торгового судна не опустились ни на дюйм, оно продолжало все так же степенно плыть вперед, пока маленькое черное ядро не угодило в один из реев{38} и задний парус, заструившись, не полетел вниз. Потом снова послышалось «бах-бах-бах» его маленьких пушек. Мощные каронады{39} люггеров громыхнули в ответ: «бум! бум!», и в следующий миг они настигли торговое судно. Словно благородный олень, в бока которого вцепились волки, продолжало оно медленно двигаться вперед. Сквозь окутавшее их облако густого дыма почти ничего нельзя было разглядеть, лишь сверху торчал конец мачты торгового судна с развевающимся флагом. Сквозь клубы дыма проблескивали частые вспышки, стоял дьявольский грохот пушек, были слышны даже крики, вопли и стоны. Эти звуки преследовали меня еще много недель. Целый час это адское облако медленно плыло по воде, и все это время мы, замерев от ужаса, продолжали высматривать флаг, больше всего боясь не увидеть его гордого трепетания. Потом неожиданно торговое судно, показавшееся еще более гордым и благородным, ушло вперед, а, когда дым начал рассеиваться, мы увидели, что один из люггеров накренился и, как утка с поломанным крылом, плавает на месте, медленно погружаясь под воду, а второй стоит рядом и спешно собирает к себе на борт его команду.
Весь этот час я жил тем боем. Ветер сорвал у меня с головы картуз, но я не заметил этого. Теперь же, переполненный чувствами, я обернулся к кузине Эди, и ее вид унес меня на шесть лет назад. Те же широко распахнутые глаза, те же приоткрытые губы, сейчас она ничем не отличалась от той, прежней девочки. Ее маленькие кулачки были сжаты так сильно, что кожа на суставах пальцев побелела, как слоновая кость.
– Ах, капитан! – мечтательно прошептала она. – Вот это настоящий мужчина, такой сильный, такой решительный.
– О да, он здорово с ними разделался! – горячо поддержал я.
Она удивленно посмотрела на меня, как будто только что заметила.
– Я бы отдала год жизни за то, чтобы познакомиться с таким мужчиной, – сказала она. – Но вот что значит жить в деревне. Тут тебя окружают только люди, не способные на что-то большое.
Не знаю, сказала ли она это нарочно, чтобы обидеть меня. Она всегда это отрицала, но слова ее тогда резанули меня, как ножом по сердцу.
– Что ж, хорошо, кузина Эди, – говоря это, я изо всех сил старался оставаться спокойным. – Тогда решено. Сегодня же вечером я пойду в Бервик и запишусь в армию.
– Джек! Ты – в армию?
– Да, чтобы ты не думала, что, если мужчина живет в деревне, значит, он трус.
– О, тебе так пойдет красный мундир, Джек. Знаешь, а ты намного лучше выглядишь, когда злишься. Как бы я хотела, чтобы у тебя в глазах всегда горел такой огонь, вот как сейчас. Ты сразу такой красивый, такой мужественный делаешься. Но ты же это в шутку говоришь, насчет армии.
– Увидишь, какая это шутка! – выкрикнул я и бросился прочь.
Без остановки я мчался через холмы, пока не добежал до дома и не ворвался в кухню, где мать с отцом сидели перед очагом.
– Мама! – крикнул я. – Я иду в солдаты!
Если бы я сказал, что иду грабить соседей, они бы и то не были так ошарашены, потому что в те времена среди крестьян служить в армии считалось делом недостойным и к добровольцам относились как к паршивым овцам. Но кто знает, что было бы с нашей страной, если бы не эти паршивые овцы! Мать схватилась руками за щеки, а отец нахмурился.
– Ты что, Джок, с ума сошел? – страшным голосом произнес он.
– Сошел, не сошел, но я уже решил.
– Тогда благословения от меня ты не получишь.
– Значит, обойдусь без него.
И тут мать не выдержала, вскрикнула и бросилась мне на шею. Больше всего мне запомнились ее ладони, сухие, крепкие, мозолистые ладони, огрубевшие от постоянной работы, которой ей приходилось заниматься, чтобы вырастить меня. Эти ладони произвели на меня большее впечатление, чем любые слова. Сердце мое затрепетало от жалости к ней, но решимости у меня не убавилось ни на йоту. Я поцеловал мать, усадил ее обратно на стул и бросился в свою комнату собирать вещи. На улице уже начинало темнеть, а путь мне предстоял неблизкий, поэтому я наспех собрал самое необходимое, свернул узелок и торопливым шагом направился к двери. Когда я выходил, кто-то тронул меня за плечо. Это была Эди.
– Глупый, – сказала она. – Ты же не собираешься на самом деле уходить?
– Да? Посмотрим.
– Но твой отец ведь против. И мать не хочет тебя отпускать.
– Я знаю.
– Тогда почему ты уходишь?
– Думаю, ты и сама это знаешь.
– Нет. Почему?
– Потому что тебе так хочется.
– Но я не хочу, чтобы ты уходил, Джек.
– Ты сама сказала. Ты сказала, что в деревне живут люди, недостойные чего-то большего. Я для тебя значу не больше, чем те голуби в хлеву. Я для тебя пустое место. Но я покажу тебе, чего я стою на самом деле.
Все, что скопилось у меня на душе, теперь вылетало вместе с этими короткими рублеными фразами. Эди вспыхнула и бросила на меня взгляд, насмешливый и в то же время нежный.
– По-твоему, я так о тебе думаю? – спросила она. – И поэтому ты уходишь? Хорошо, Джек, а если я… если я буду к тебе добрее, ты останешься?
Мы стояли очень близко, лицо в лицо. И все произошло стремительно. Я обнял ее и стал целовать, целовать, целовать, в губы, в щеки, в глаза, прижал к себе, зашептал, что она для меня все, все, что я не могу жить без нее. Она ничего не сказала, но долго не отворачивала лицо, а когда оттолкнула, то несильно.
– Ах, ты все тот же грубиян, такой же дерзкий, каким был раньше! – произнесла она, обеими руками приглаживая волосы. – Ты застал меня врасплох, Джек. Я даже не представляла себе, что ты можешь быть таким решительным!
Глава IV Выбор Эди
А потом были десять недель, которые показались мне прекрасным сном, да и сейчас кажутся мне прекрасным сном, когда я вспоминаю о них. Не хочу утомлять вас рассказом обо всем, что было между нами за это время, но мне тогда казалось, что в моей жизни нет, не было и никогда не будет ничего более искреннего, важного и судьбоносного. Ее причуды; ее вечно меняющееся настроение, то светлое, то сумрачное, как луг под проносящимися облаками; ее беспричинная злость; ее неожиданные раскаяния, из-за которых мое сердце то трепетало от счастья, то ныло от тоски. Вот чем я жил тогда, и все остальное для меня не существовало. Однако помимо этого глубоко в душе я чувствовал какое-то смутное беспокойство, меня не покидал страх, ощущение того, что мои отношения с Эди – не более чем любование радугой, настоящая Эди Калдер, какой бы близкой она ни казалась, в действительности далека и недостижима.
Как же трудно было ее понять! По крайней мере, такому простому деревенскому парню, как я. Если я начинал рассказывать о том, что действительно могло ждать нас в будущем, о том, что мы сможем расширить хозяйство, зарабатывать сверх того, что имеем, сто фунтов и, может быть, когда поженимся, даже сможем пристроить к нашему дому отдельную светелку специально для нее, она надувала губы и опускала глаза, словно слушать меня ей было невмоготу. Зато, когда она начинала фантазировать о том, кем бы я мог стать, если бы, например, нашел какой-нибудь старинный документ, по которому выходило бы, что я являюсь истинным наследником нашего лэрда, или если бы я без вступления в армию – об этом она и слышать не хотела – стал великим полководцем, известным на всю страну, вот тогда она прямо-таки светилась, как ясное солнышко. Я как мог поддерживал ее игру, но вскоре какое-нибудь неосторожное слово выдавало во мне обычного Джока Калдера из Вест-инча, и она снова презрительно поджимала губы. Так мы и жили, она – в облаках, я – на земле, и рано или поздно раскол между нами должен был произойти.
Случилось это после Рождества. Зима тогда была мягкая, холода хватило лишь на то, чтобы заморозить торфяные болота. Одним ясным утром Эди вышла на прогулку пораньше и вернулась к обеду с раскрасневшимися щеками.
– Джек, а твой друг, сын врача, еще не вернулся? – спросила она.
– Я слышал, его ждут со дня на день.
– Тогда, наверное, это его я встретила на торфянике.
– Что? Ты встретила Джима Хорскрофта?
– Наверняка это был он. Безумно красивый мужчина… Герой, с вьющимися черными волосами, коротким прямым носом и серыми глазами. Плечи у него как у античного бога, а рост… Думаю, твоя макушка, Джек, пришлась бы как раз вровень с его булавкой для галстука.
– Я ниже его всего на полголовы, Эди! – возмущенно поправил ее я. – Конечно, если это был Джим. Но скажи, у него была в зубах коричневая деревянная трубка?
– Да, он курил. Одет он был во все серое, а еще у него прекрасный низкий голос.
– Ах, так вы даже разговаривали!
Она слегка смутилась.
– Там в одном месте земля не промерзла, и он предупредил меня об этом, – пояснила она.
– Да, это похоже на старину Джима, – заметил я. – Если бы у него в мозгах было столько же сил, сколько в руках, он бы уже много лет назад стал доктором. О, а вот и он сам! Легок на помине.
Разговор наш происходил в кухне, и, увидев старого друга в окно, я сразу же бросился во двор с недоеденной лепешкой в руке. Он тоже помчался мне навстречу, протягивая огромную руку. Глаза его блестели от радости.
– Джок, дружище! Как я рад тебя видеть!
Но вдруг он остановился и с открытым ртом уставился мне за спину. Я обернулся и увидел Эди, которая с очаровательной улыбкой появилась в дверях. Надо сказать, в эту секунду меня охватила гордость и за нее, и за себя.
– Джим, это моя кузина, мисс Эди Калдер! – сказал я.
– Вы все время гуляете перед обедом, мистер Хорскрофт? – спросила она, продолжая мило улыбаться.
– Да, – ответил он, глядя на нее во все глаза.
– Вот как! Я тоже, и обычно именно в том месте, – сказала он. – Но что же ты так друга встречаешь, Джек? Прими гостя как положено, или мне придется взять роль хозяйки на себя.
Через минуту мы уже сидели в кухне вместе с родителями, и перед Джимом стояла тарелка с овсяной кашей. Но он не произносил ни слова, сидел с ложкой в руке и глядел на кузину Эди. Она же то и дело бросала в его сторону быстрые взгляды, и мне казалось, что ее забавляло его внезапное отупение и что она изо всех сил старалась ободрить его.
– Джек рассказывал, что вы учитесь на врача, – заметила она. – Должно быть, это ужасно сложное и долгое занятие.
– Да, времени это отнимает немало, – с сожалением в голосе сказал он. – Но я добьюсь своего.
– О, вы отчаянный человек. Решительный. Ставите перед собой цель и устремляетесь к ней, не обращая внимания на преграды.
– На самом деле, мне особо хвастать нечем, – честно признался он. – Многие из тех, кто начинал одновременно со мной, уже давно практикуют, а я все еще в студентах хожу.
– Это вы от скромности, мистер Хорскрофт. Говорят ведь, что сильные духом всегда скромны. Но ведь, когда вы закончите обучение, какая прекрасная карьера у вас… Вы будете лечить людей, помогать страждущим, какая профессия может быть гуманнее?
От этих слов честный Джим немного поежился.
– Боюсь, что мною движут не такие высокие помыслы, мисс Калдер, – сказал он. – Мне просто нужно чем-то зарабатывать на жизнь, и я решил пойти по стопам отца, вот и все. Одной рукой я сею добро, а другой готов пожинать плоды.
– Никогда не встречала столь искреннего человека! – воскликнула она.
Их разговор продолжался в том же духе. Она наделяла его все новыми и новыми достоинствами, перекручивала любые произнесенные им слова в его пользу, в общем, вела ту игру, которая была мне хорошо знакома. Прежде чем встали из-за стола, голова у него уже шла кругом от ее красоты и льстивых речей. Меня же распирало от гордости при мысли о том, что он так хорошо думает о ком-то из моих родственников.
– Разве она не прелесть, Джим? – не удержался и спросил я, когда мы вышли во двор и он стал раскуривать трубку, собираясь отправиться домой.
– Прелесть! – вскричал он. – Да я в жизни не встречал девушек прекраснее, чем она!
– Мы собираемся пожениться, – добавил я.
Услышав эти слова, он замер и уставился на меня. Даже трубка выпала у него изо рта. Потом он поднял трубку и молча ушел. Я думал, что он вернется, но он уходил все дальше и дальше, низко склонив голову и не оборачиваясь, пока не скрылся вдалеке за одним из холмов.
Но забыть в тот день о Джиме мне было не суждено. Сначала кузина Эди засыпала меня вопросами о нем. Ее интересовало буквально все: каким он был в детстве, его сила, женщины, с которыми он мог быть знаком, и так далее. А потом я снова услышал о нем, но известие это было не из приятных.
Отец, вернувшись вечером домой, рассказал, что стряслось с бедным Джимом. Днем он сильно напился и отправился в Вестхаусские дюны, где стояли табором цыгане, чтобы подраться с их главным силачом, и отделал его так, что теперь неизвестно, доживет ли бедняга до утра. Отец встретил Джима на дороге, он был хмур как туча и зол как черт.
– Боже, Боже! – вздохнул старик. – Из него скорее выйдет хороший костолом, чем врач.
Выслушав рассказ отца, кузина Эди рассмеялась. И я засмеялся, потому что ей стало весело, хотя и не был уверен, что в этом есть что-то смешное.
Через три дня я в поисках отбившейся от стада овцы шел по холмам в сторону Корримьюра, когда встретил – кого бы вы думали? – самого Джима. Но теперь он не был похож на того прежнего доброго здоровяка, который на днях уплетал овсянку у нас на кухне. Грудь у него была раскрыта, на шее – ни воротничка, ни галстука, волосы всклокочены, лицо какое-то помятое, как у человека, который долго и много пил. В руках у него была ясеневая трость, и он молотил ею кусты у тропинки.
– Джим! – удивленно воскликнул я.
Он посмотрел на меня так, как иногда смотрел в школе, когда злое начало брало над ним верх, и он это понимал и радовался этому. Не сказав ни слова, он обошел меня стороной и пошел дальше, все так же размахивая своей палкой.
Нет, я не рассердился. Мне просто было его жаль, очень жаль, вот и все. Конечно, я не был слепцом и прекрасно понимал, что происходит. Он влюбился в Эди, и мысль о том, что она достанется мне, была для него невыносимой. Бедняга, что ему оставалось делать? На его месте и я, может быть, вел бы себя так же. В былые времена я бы ни за что не поверил, что такое может происходить с мужчиной из-за девушки, но теперь я разбирался в жизни намного лучше.
После этой встречи я две недели ничего не слышал о Джиме Хорскрофте, а потом наступил четверг, который изменил всю мою жизнь.
В тот день я проснулся рано и с ощущением радости, которое редко бывает таким отчетливым, когда утром только раскрываешь глаза. Вчера Эди была со мной приветливее, чем обычно, поэтому я ложился спать с мыслью о том, что, может быть, наконец мне удалось поймать радугу и что теперь она станет любить простого неотесанного Джока Калдера из Вест-инча по-настоящему, без притворства, без оглядки. Именно эта засевшая у меня в сердце мысль и подняла мое настроение с самого утра. Эди имела привычку выходить гулять с первыми петухами, и я подумал, что, если потороплюсь, то, может быть, еще успею застать ее дома.
Но я опоздал. Когда я подошел к ее двери, она была приоткрыта, а в комнате никого не было. Что ж, подумал я, по крайней мере я могу найти ее, и мы с ней вместе вернемся домой. С Корримьюрского холма видно всю округу, поэтому, захватив трость, я направился к нему. Утро было солнечным, но холодным, помню, море тогда сильно шумело, хотя ветра не было уже несколько дней. Я поднимался по извилистой тропинке, ведущей в гору по склону холма, вдыхая полной грудью чистый, свежий утренний воздух, и что-то напевал, пока, несколько запыхавшись, не добрался до зарослей утесника на вершине. Взглянув вниз на противоположную сторону, уходящую длинным покатым склоном вниз, я, как и ожидал, увидел кузину Эди. А еще я увидел Джима Хорскрофта, идущего с ней рядом.
Мне было их прекрасно видно, они же были слишком заняты друг другом, чтобы заметить меня. Она шла медленно, капризно склонив набок свою изящную головку, стараясь не смотреть в его сторону, и время от времени что-то говорила. Он шел рядом, не отрывая от нее глаз, и что-то взволнованно рассказывал, иногда в пылу разговора кивая головой. Потом, после каких-то его слов, она повернулась к нему, ласково положила ладонь ему на плечо, и он в тот же миг страстно обнял ее и стал осыпать поцелуями. От этой картины я словно онемел. Не в силах пошевелиться, я наблюдал за ними с высоты холма и чувствовал, как сердце мое наливается свинцом, а лицо каменеет. Она оплела рукой его шею, и я понял, что его поцелуи ей приятны не меньше, чем мои.
Потом он отпустил ее, и стало ясно, что так они попрощались. И действительно, пройди они еще шагов сто, их уже можно было бы увидеть из окон дома. Она медленно пошла дальше, пару раз обернулась и махнула рукой, он же остался на месте и смотрел, как она уходит. Дождавшись, пока она отойдет подальше, я пошел вниз. Но Джим был так увлечен своим занятием, что не услышал моих шагов и обернулся, лишь когда я был уже рядом.
– А, Джок, – промолвил он. – Что, сегодня вышел пораньше?
– Я видел вас! – задыхаясь, вскричал я, и в горле у меня сделалось сухо, как у больного ангиной.
– Видел? – переспросил он и присвистнул. – А знаешь, Джок, это и хорошо. Я как раз сегодня собирался прийти в Вест-инч и все тебе рассказать. Может, так оно и лучше будет.
– А я считал тебя другом! – голосом, полным презрения, произнес я.
– Ну, Джок, будь благоразумным. – Он засунул руки в карманы и стал покачиваться с пятки на носок. – Давай я расскажу тебе, как обстоят дела. Посмотри мне в глаза, и ты поймешь, что я не лгу. Значит, так. Я встретился с Эди, то есть с мисс Калдер, в то утро еще до того, как пришел к вам, но у меня были причины посчитать, что она свободна. Поэтому я и позволил себе увлечься ею. А потом ты вдруг сказал мне, что она несвободна и вы собираетесь пожениться. Для меня это было настоящим ударом. У меня тогда мозги набекрень пошли. Несколько дней я вел себя, как распоследний дурак, и слава Богу, что до сих пор не загремел под фанфары. Потом я случайно снова с ней встретился… Клянусь тебе, Джок, совершенно случайно. И когда я рассказал ей о тебе, она рассмеялась и заверила меня, что вы относитесь друг к другу как кузены, а насчет того, что она несвободна или что ты ей больше чем друг, – это все глупости. Так что видишь, Джок, я не так уж виноват, тем более она обещала, что своим поведением даст тебе понять, как ты ошибаешься, думая, что имеешь на нее права. Ты же наверняка заметил, что она две последние недели с тобой почти не разговаривает.
Я горько рассмеялся.
– Да только вчера вечером, – возразил я, – она говорила, что я – единственный в мире мужчина, которого она может полюбить.
Джим Хорскрофт положил задрожавшую руку мне на плечо и заглянул в глаза.
– Джок Калдер, – сказал он, – я никогда не считал тебя лжецом. Ты что, хочешь обмануть меня? Признайся как мужчина мужчине.
– Я говорю правду, – подтвердил я.
Какое-то время он продолжал всматриваться в мое лицо с выражением человека, в душе которого происходит ужасная борьба. Прошло долгих две минуты, прежде чем он снова заговорил.
– Послушай, Джок! – с волнением в голосе начал он. – Эта женщина водит за нос нас обоих. Слышишь? Обоих. В Вест-инче она любит тебя, а здесь, на холмах, – меня, но на самом деле в ее дьявольском сердце нет никакого чувства ни к тебе, ни ко мне. Нам с тобой нужно объединить силы и вывести на чистую воду эту дрянь!
Но для меня это было уже слишком. Я никогда бы не позволил себе плохо подумать о ней и уж тем более не мог позволить оскорблять ее кому-либо, даже своему лучшему другу.
– Не смей о ней так говорить! – вскричал я.
– Что с тобой? Будь мужчиной! Я буду говорить о ней так, как она того заслуживает!
– Значит, так? – Я сбросил с себя куртку. – Вот что, Джим Хорскрофт, если ты скажешь о ней еще хоть одно плохое слово, я тебе его обратно в глотку засуну! Ты у нас хоть и великан, но я уж с тобой справлюсь, можешь поверить!
Он спустил свою куртку до локтей, потом медленно снова натянул ее на плечи.
– Не будь дураком, Джок! – сказал он. – Тебе все равно со мной не справиться. Старые друзья не должны ссориться из-за такой… Хорошо, не буду говорить кого. О, а вот, может быть, она сама хочет померяться со мной силой?
Я обернулся и увидел ее. Она стояла всего ярдах в двадцати от нас и спокойно улыбалась.
– Я уже почти дошла до дома, – сказала она, – когда увидела, что вы, мальчики, о чем-то оживленно разговариваете, и мне захотелось узнать, о чем это вы. Поэтому и вернулась.
Хорскрофт подбежал к ней. Увидев, какое у него лицо, она испуганно вскрикнула, но он схватил ее за руку и подтащил ко мне.
– Все, с меня хватит, Джок! – воскликнул он. – Вот она. Спросим у нее самой, кого из нас она предпочитает. Когда мы вместе, ей не удастся никого обмануть.
– Согласен, – сказал я.
– Отлично. Если она выберет тебя, клянусь, я больше никогда даже не посмотрю в ее сторону. А что ты скажешь?
– Если она выберет тебя, я поступлю так же.
– Хорошо. Ну вот что, мы с Джоком – честные люди и друзья, поэтому никогда не обманываем друг друга и теперь знаем о твоем двуличии. Я знаю, что ты говорила ему вчера, он знает, что ты говорила мне сегодня. Все понятно? А теперь ответь, честно и откровенно, реши раз и навсегда, кого ты выбираешь, Джока или меня?
Я ожидал, что она зальется краской от стыда или убежит прочь, но вместо этого глаза ее вспыхнули, да так ярко, что, готов поклясться, для нее это был самый счастливый день в жизни.
Никогда еще Эди не казалась мне столь прекрасной, как в ту минуту, когда она, озаряемая холодным утренним солнцем, переводила взгляд с меня на Джима. Я уверен, что и он это заметил, потому что отпустил ее руку и искаженное гневом лицо его разгладилось.
– Говори, Эди, кого ты выбираешь? – повторил он.
– Вы ведете себя как мальчишки! – сказала она. – Джек, ты же знаешь, как я к тебе привязана.
– О, так иди же к нему, – воскликнул Хорскрофт.
– Но люблю я Джима. Никого в мире я не люблю так, как Джима.
Она прильнула к нему и прижалась щекой к его груди.
– Понял, Джок? – сказал он, приобняв ее.
Да, я понял. Не произнеся ни слова, я побрел в Вест-инч, откуда совсем недавно вышел совершенно другим человеком.
Глава V Пришелец с моря
Я был не из тех людей, которые долго горюют над пролитым молоком. Если ничего исправить нельзя, настоящий мужчина должен найти в себе силы смириться с этим. Несколько недель сердце болело нестерпимо, да и сейчас, после стольких лет и счастливого брака, когда я вспоминаю об этом, та боль порой дает о себе знать легким покалыванием где-то глубоко в груди. Однако держался я стойко и делал вид, что ничего не случилось. Более того, я держал обещание, данное в тот день на склоне холма, и вел себя с ней как брат, хотя нередко мне приходилось сдерживать себя, потому что даже после того, что произошло, она все еще разговаривала со мной вкрадчивым голосом, а то и жаловалась на Джима, говорила, какой он грубый и как она была счастлива, когда я был к ней чуточку ближе. Что поделать, это было у нее в крови. Видно, вести себя иначе она не могла.
Впрочем, по большому счету, они с Джимом были вполне счастливы. Всей округе уже было известно, что они собираются пожениться, когда он наконец получит диплом. Четыре раза в неделю он являлся к нам в Вест-инч на ужин. Мои родители были рады такому повороту событий, и я старался радоваться вместе с ними.
Может быть, поначалу наши с Джимом отношения несколько охладели, о былом доверии двух школьных товарищей уже не могло быть и речи, но потом я начал думать, что с моей стороны было бы несправедливо держать камень за пазухой, ведь он повел себя честно и действовал в открытую. Поэтому мы снова стали дружить. Что касается ее, он позабыл всю былую горечь и готов был целовать землю, по которой она ходила. Иногда мы с Джимом вместе гуляли, и об одной из таких прогулок я хочу сейчас рассказать.
Мы перешли через Брэмстоунскую пустошь и теперь обминали небольшую еловую рощицу, которая защищает дом майора Эллиота от ветра с моря. Весна в том году наступила рано. Был еще конец апреля, а на деревьях уже зеленели листья. Тепло было, как летом, поэтому мы порядком удивились, когда увидели, что на лужайке перед домом майора полыхает огромный костер. Похоже, что горела половина елки, и пламя было таким огромным, что доставало до окон спальни. Мы с Джимом в удивлении остановились, но еще больше удивились, когда дверь дома распахнулась и из нее выбежал майор с огромной кружкой в руке, а следом за ним показались его старшая сестра, которая вела у него домашнее хозяйство, и двое служанок. Все четверо принялись плясать вокруг костра. Вся округа знала майора как вполне спокойного, уравновешенного мужчину, мы же увидели какого-то одержимого, скачущего в безумном танце и размахивающего над головой кружкой с выпивкой. Мы бросились к нему, а он, заметив нас, казалось, пришел в еще более веселое расположение духа.
– Мир! – заголосил он. – Ура, мальчики! Мир!
И от этих слов мы сами пустились в пляс и закричали от радости, потому что мы прожили с мыслью о войне всю жизнь, тень ее так долго накрывала нас своим крылом, что внезапное ощущение свободы наполнило наши сердца невыразимым счастьем. В то, что войне настал конец, было трудно поверить, но майор своим счастливым смехом развеял сомнения.
– Да, да, – кричал он, – это правда! Союзники взяли Париж, Бонапарт признал себя побежденным, его армия уже присягает на верность Луи Восемнадцатому.
– А император? – спросил я. – Его казнят?
– Говорят, его хотят отправить на Эльбу. Там уж он никому не навредит. Вот только его офицеры – некоторые из них так просто не отступятся. За последние двадцать лет они много чего натворили, и не все можно забыть. Кое-кому придется ответить по счетам. Но войне-то конец! Конец войне! Мир!
И он снова запрыгал вокруг костра, размахивая кружкой.
Еще какое-то время мы с Джимом провели у майора, а потом пошли к морю, обсуждая эту важную новость и то, к чему она приведет. Он в политике разбирался мало, я еще меньше, но мы все равно принялись обсуждать, как теперь начнут снижаться цены, как станут возвращаться домой наши бравые воины, как суда снова смогут плавать, не опасаясь каперов, и как мы разберем все заготовленные для сигнальных огней поленницы, потому что теперь не нужно бояться приближения врага. Разговаривая, мы приближались к берегу по чистому, твердому песку, поглядывая на седое Северное море. И, шагая рядом со мной, Джим, такой веселый, такой беззаботный, не догадывался, что в тот миг жизнь его достигла наивысшего пика и что теперь ему уготован только спуск вниз!
Хоть солнце скоро и разогнало утреннюю мглу, над гладью моря все еще висела легкая дымка. И вот, бросив очередной взгляд на море, мы вдруг заметили парус небольшого судна, которое сквозь туман медленно приближалось к берегу. Вскоре мы рассмотрели, что в лодке сидел всего лишь один человек. Суденышко нерешительно покачивалось на легких волнах, словно тот, кто управлял им, не знал, то ли пристать к берегу, то ли плыть дальше. Наконец, может быть, заметив нас, он направил свое судно в нашу сторону, и его киль с шелестом выехал на гальку прямо к нашим ногам. Незнакомец свернул парус, выпрыгнул из лодки и втащил ее на берег.
– Надо полагать, это Великобритания? – спросил он, энергично повернувшись к нам.
Это был мужчина среднего роста, но чрезвычайной худобы. У него были внимательные близко посаженные глаза, вытянутый острый нос и топорщащиеся по-кошачьи жесткие коричневые усы. Одет он был вполне прилично: коричневый костюм с медными пуговицами, но на ногах – ботинки, загрубелые и потерявшие свой первоначальный цвет от морской воды. Лицо и руки у него были до того темные, что его можно было принять за испанца, но, когда он снял шляпу, мы увидели, что верхняя часть лба у него белая, и нам стало понятно, что причиной его смуглости был загар. Он окинул нас взглядом, и в его серых глазах я заметил такое выражение, которого раньше мне никогда видеть не приходилось. В них читался вопрос, но за вопросом этим скрывалось что-то недоброе, даже грозное, как будто, обратившись к нам, он оказал нам честь.
– Великобритания? – повторил он и несколько раз топнул по гальке.
– Да, – сказал я, а Джим рассмеялся.
– Англия? Шотландия?
– Шотландия. Но Англия начинается вон за теми деревьями.
– Bon![4] Наконец-то я знаю, где нахожусь. Я без компаса плавал в тумане почти три дня и уже потерял надежду когда-нибудь снова увидеть землю.
По-английски он говорил бегло, но время от времени в его речи проскакивал какой-то непонятный акцент.
– Откуда же вы плывете? – поинтересовался Джим.
– Спасся с тонущего корабля, – коротко ответил он. – А что это там за город?
– Бервик.
– Что ж, хорошо, но мне надо бы набраться сил, прежде чем продолжать путь.
С этими словами он порывисто развернулся к лодке, но при этом пошатнулся и непременно упал бы, если б не схватился за ее нос. Он присел и оглянулся вокруг. Лицо его вспыхнуло, а глаза загорелись, как у дикого зверя.
– Voltigeurs de la Garde! – пророкотал он трубным голосом, а потом снова: – Voltigeurs de la Garde![5]
Он помахал шляпой над головой и вдруг повалился лицом вниз и замер на гальке бесформенной бурой грудой.
Мы обменялись удивленными взглядами. Появление этого человека было таким неожиданным, потом его вопросы, а тут еще это! Мы взяли его за плечи и перевернули на спину. Длинный нос его гордо устремился вверх, но в губах у него не было ни кровинки, а дыхание было таким слабым, что почти не чувствовалось.
– Джим, он умирает! – воскликнул я.
– Точно, от голода и жажды. В его лодке ни еды, ни питья. Может, что-то в сумке у него найдется?
Он достал из лодки черную кожаную сумку. Кроме этой сумки и большого серо-голубого пальто, в лодке не было ничего. На сумке была застежка, но Джиму не составило труда с ней справиться. Оказалась, что сумка наполовину заполнена золотыми монетами.
Ни Джим, ни я никогда не видели столько золота… Даже десятой доли. Там были сотни новеньких блестящих английских соверенов. Нас это так поразило, что мы совершенно забыли о хозяине этого сокровища и вспомнили о нем лишь тогда, когда раздался его тихий стон. Губы его посинели, рот приоткрылся, обнажив ряд белых острых зубов.
– Господи Боже! – очнулся Джим. – Он сейчас концы отдаст. Джок, беги скорее к ручью, набери в шапку воды и неси сюда. Скорее, парень, а не то будет поздно. Я пока расстегну его.
Я опрометью кинулся к ручью и принес столько воды, сколько уместилось в моем гленгарри[6]. Джим расстегнул куртку и сорочку мужчины, мы плеснули ему водой на грудь и влили немного в рот. Наши старания увенчались успехом, потому что через какое-то время он приподнялся и медленно протер глаза, как человек, очнувшийся от глубокого сна. Но ни Джим, ни я не смотрели на его лицо, потому что наши взгляды были прикованы к его обнажившейся груди.
Два небольших алых шрама горели на ней, один прямо под ключицей, один ниже и чуть ближе к правому боку. До того места, где начинался загар на шее, кожа у него была совершенно белой, отчего страшные отметины были еще заметнее. Глядя сверху, я заметил, что на спине у него было похожее пятно, но только одно. Хоть до этого мне никогда не приходилось рассматривать раны, но даже я смог понять, что это означает. Его грудь пробили две пули. Одна прошла навылет, а вторая осталась внутри.
Но совершенно неожиданно он вскочил на ноги и прикрыл рубашкой грудь, бросив на нас косой взгляд.
– Что я делал? – спросил он. – Я был в беспамятстве, так что не обращайте внимания на то, что я мог сказать. Я не кричал?
– Вы закричали перед тем, как упасть.
– Что я кричал?
Я попытался передать ему его крик, хотя не понимал, что значили эти слова. Он внимательно посмотрел на нас, потом пожал плечами.
– Это слова из песни, – сказал он. – Но сейчас важно другое: что теперь делать мне? Я не думал, что так слаб. Где вы взяли воду?
Я показал на ручей. Он помчался к нему, бросился на живот, приник к воде и начал пить. Пил он жадно, шумно и так долго, что мне уж начало казаться, что он никогда не напьется. Его длинная тощая шея вытянулась, как у лошади на водопое. Наконец он поднялся, удовлетворенно вздохнул и вытер усы рукавом.
– Ну вот, уже лучше, – сказал он. – Какая-нибудь еда у вас есть?
Выходя из дому, я сунул в карман два куска овсяной лепешки. Когда я отдал их ему, он запихнул их себе в рот и с жадностью проглотил. Потом расправил плечи, выпятил грудь и похлопал себя по ребрам.
– Я перед вами в большом долгу, – сказал он. – Вы были очень добры с незнакомцем. Но, я вижу, вы уже заглянули в мою сумку.
– Когда вы лишились чувств, мы подумали, что там может быть вино или бренди.
– У меня там ничего, кроме кое-каких… Как вы это называете? Сбережений. Там немного, но я собираюсь тихо жить на эти деньги, пока не найду, чем заняться дальше. А тут, похоже, вполне можно жить тихо. Здесь удивительно спокойное место. Картину испортил разве что gendarme[7], которого я видел у того города.
– Но вы еще не сказали нам, кто вы, откуда и чем занимаетесь, – напрямик спросил Джим.
Незнакомец смерил его взглядом с головы до пят и воскликнул:
– А из тебя вышел бы отличный гренадер для фланговой роты! – воскликнул он. – А что касается твоих вопросов, я бы мог посчитать их оскорбительными, если бы их задал кто-нибудь другой, но вы имеете право знать, поскольку приняли меня столь любезно. Меня зовут Бонавентура де Лапп. По профессии я военный и путешественник, а прибыл из Дюнкерка, в чем вы можете убедиться, взглянув на надпись на борту лодки.
– А я думал, вы спаслись с тонущего судна! – удивился я.
Он прямо посмотрел на меня широко раскрытыми честными глазами.
– Так и есть, – сказал он. – Судно шло из Дюнкерка, а это спасательная лодка. Команда спаслась на шлюпке, но судно пошло ко дну так быстро, что я не успел взять с собой никаких вещей. Произошло это в понедельник.
– А сегодня четверг. Вы не ели и не пили три дня!
– Это много, – согласился он. – До этого мне дважды приходилось обходиться без еды и питья два дня, но так долго – впервые. Лодку я оставлю здесь. Пойду посмотрю, удастся ли снять жилье в одном из тех серых домов на холме. А что там так сильно горит?
– А, это один наш сосед, он воевал против французов, а теперь празднует наступление мира.
– Так значит, среди ваших соседей есть военные! Рад это слышать, потому что мне самому приходилось немного ходить в строю.
Однако по лицу его не было заметно, чтобы он сильно обрадовался, наоборот, он даже помрачнел.
– Вы ведь француз? – спросил я, когда мы втроем двинулись к холму. Наш новый знакомый в одной руке нес свою сумку, а другой поддерживал пальто, перекинутое через плечо.
– Я родом из Эльзаса{40}, – ответил он. – Эльзасцы ближе к немцам, чем к французам. Но я так много странствовал по свету, что чувствую себя как дома в любой стране. Меня можно назвать великим путешественником. Так где бы мне снять жилье?
Сейчас, по прошествии тридцати пяти лет, я не могу точно вспомнить, какое впечатление произвел тогда на меня этот удивительный человек. Думаю, я не доверял ему, но одновременно с этим был им очарован, потому что его поведение, взгляд, манера говорить – положительно все в нем казалось необычным и достойным удивления. Джим Хорскрофт был хорошим и добрым человеком, майор Эллиот – храбрым, но не было в них той искорки, той неуловимой притягательности, которой обладал этот странник. Острый взгляд, молнии в глазах – различие это можно почувствовать, но нельзя передать словами. К тому же тогда на берегу моря мы спасли его, а к тому, кому когда-то помог, всегда чувствуешь особое расположение.
– Идемте со мной, – сказал я. – День-два вы можете пожить у нас, пока не подыщете себе жилье.
Он снял шляпу и галантно поклонился. Но Джим Хорскрофт взял меня за рукав и потянул в сторону.
– Ты что, с ума сошел, Джок? – громко зашептал он. – Это ж обычный проходимец! Зачем тебе с ним связываться?
Но по части упрямства я мог заткнуть за пояс любого, и ничто не могло уверить меня в собственной правоте больше, чем чьи-либо попытки объяснить мне, что я поступаю неправильно.
– Он – чужестранец, и мы обязаны помочь ему, – сказал я.
– Смотри, пожалеешь, – покачал головой он.
– Может быть.
– Не думаешь о себе – подумай о кузине.
– Эди сама о себе может прекрасно позаботиться.
– Ну и черт с тобой, делай что хочешь! – вслух сказал он, и лицо его покраснело от злости. Не попрощавшись ни со мной, ни с эльзасцем, он развернулся и ушел по тропинке, ведущей к дому его отца.
Когда мы остались вдвоем, Бонавентура де Лапп улыбнулся.
– Вижу, я ему не понравился, – сказал он. – Вы поссорились из-за того, что ты хочешь отвести меня к себе домой. Интересно, за кого он меня принял? Может, он думает, что золото в моей сумке краденое? Чего он испугался?
– Да кто его знает? Мне все равно, – ответил я. – Любой странник, проходящий мимо нашего дома, может рассчитывать на кусок хлеба и крышу над головой.
Охваченный гордостью и чувствуя себя гостеприимным хозяином, а вовсе не самым отъявленным дураком к югу от Эдинбурга, я зашагал по тропинке вместе со своим новым знакомым.
Глава VI Странствующий орел
Как выяснилось, если бы мой отец участвовал в нашем с Джимом Хорскрофтом споре, он всецело поддержал бы моего друга, а не собственного сына. Увидев у себя дома незнакомого человека, он настороженно смерил его взглядом и нахмурился. Все же он пригласил гостя за стол и поставил перед ним тарелку с маринованной селедкой. Я заметил, что, после того как незнакомец съел девять рыб, тогда как мы обычно ели по две, отец начал смотреть на него еще более недоверчиво. Когда Бонавентура де Лапп наелся, веки его потяжелели и глаза начали слипаться – наверное, последние три дня он не только не ел и не пил, но еще и не спал. Ему выделили самую убогую комнату, но, когда я провел его туда, он сразу же повалился на старый лежак, завернулся в свое большое серо-голубое пальто и тотчас заснул. Его крепкий сон сопровождался удивительно громким храпом, и, поскольку моя комната находилась рядом, о том, что у нас в доме появился новый обитатель, забыть я не мог ни на секунду.
Утром я обнаружил, что он встал раньше меня: зайдя на кухню, я увидел, что он сидит напротив отца за столиком у окна. Склонив головы и чуть ли не соприкасаясь лбами, они смотрели на небольшой столбик золотых монет. Когда отец посмотрел на меня, я поразился: никогда еще я не видел у него таких алчных глаз. Он поспешно сгреб монеты и сунул их в карман.
– Что ж, мистер, – произнес он, – комната ваша. Значит, платите вы по третьим числам месяца.
– О, вот и мой первый друг, – вскричал де Лапп и протянул мне руку. Он широко улыбнулся, но улыбка его была на удивление благодушной, так хозяин улыбается своей собаке. – Прекрасно поужинав и отоспавшись, я снова пришел в себя. Голод – главный враг мужества. За ним идет холод.
– О да, – поддержал его отец. – Мне как-то пришлось пережидать метель на болотах. Я провел там тридцать шесть часов, так что знаю, что это такое.
– Я однажды видел, как три тысячи человек умерли от голода, – заметил де Лапп, протягивая к огню руки. – День ото дня они худели и делались все больше похожими на обезьян. Они подходили к краю понтонов{41}, на которые мы загнали их, и выли от злости и боли. Первых несколько дней их крики разносились по всему городу, но уже через неделю их не слышали даже наши караульные на берегу, так они ослабели.
– И все они умерли? – потрясенно воскликнул я.
– Они долго держались. Это были австрийские гренадеры из корпуса Старовица, здоровые сильные мужчины, такие же, как твой вчерашний друг, но, когда город пал, в живых осталось лишь четыреста человек и любой наш солдат легко мог поднять троих их. Жалко было на них смотреть. Но, друг мой, окажите мне честь, познакомьте меня с мадам и мадемуазель.
Это на кухню зашли мать и Эди. Вчера он их не видел, но сейчас я с большим трудом справился со своей челюстью, которая поползла вниз, когда он вместо обычного принятого у нас кивка головы вдруг согнулся чуть ли не пополам, как выпрыгивающая из воды форель, шаркнул ногой и приложил к груди, там где сердце, руку. Мать замерла на месте и широко распахнула глаза, посчитав, что это он решил так над ней подтрунить, но кузина Эди тут же поддержала эту игру и присела в таком глубоком реверансе, что мне показалось, будто она собралась усесться прямо на пол посреди кухни. Но нет, легко, как пушинка, она поднялась, и мы, придвинув стулья, уселись за стол и принялись за овсяную кашу и пшеничные лепешки с молоком.
С женщинами этот человек вел себя очень галантно. Если бы я или Джим Хорскрофт стали вести себя так, как он, все бы решили, что мы валяем дурака, и любая девушка засмеяла бы нас сразу. Но его поведение так вязалось с его выражением лица и манерой разговаривать, что мы очень быстро привыкли к нему и стали воспринимать как должное. Прежде чем спросить что-то у моей матери или кузины Эди (а особенной застенчивостью он, надо сказать, не отличался), де Лапп всегда кланялся с таким видом, будто, обращая на него внимание, они оказали ему огромную честь. А когда они отвечали, он слушал их с таким выражением лица, словно каждое их слово было бесценной жемчужиной, достойной того, чтобы украсить собой сокровищницу человеческой мудрости. И все же, даже несмотря на подобную кротость с женщинами, в его взгляде неизменно горел какой-то затаенный надменный огонек, как будто говорящий о том, что, когда нужно, он может быть достаточно жестким человеком. Каким-то непонятным образом моей матери он сумел внушить такое доверие, что уже через полчаса после знакомства она рассказала ему о своем дяде, который был хирургом в Карлайле и считался самым успешным из наших родственников по ее линии. Она поведала ему о смерти моего брата Роба, хотя прежде не разговаривала об этом ни с одной живой душой, и я готов поклясться, что слезы показались в глазах этого человека… который только что рассказал нам о том, как наблюдал за голодной смертью трех тысяч солдат. Что касается Эди, она почти не разговаривала, но время от времени бросала на гостя быстрые косые взгляды, а он пару раз посмотрел на нее очень внимательно. Когда после завтрака де Лапп отправился к себе, отец достал из кармана восемь золотых монет и разложил их на столе.
– Что скажешь, Марта? – спросил он.
– Так ты все-таки продал тех двух черных баранов?
– Нет, это друг Джока заплатил за жилье за месяц вперед. И он так собирается платить каждые четыре недели.
Но мать эта новость не обрадовала.
– Два фунта в неделю – это слишком много, – покачала она головой. – Бедному джентльмену здесь просто некуда было податься, и мы не должны пользоваться его бедой.
– Что ты! – воскликнул отец. – Он очень даже может себе это позволить. У него вон полная сумка таких монет. К тому же он сам предложил эту цену.
– Эти деньги нам добра не принесут, – сказала мать.
– Вот что, женщина, он просто заморочил тебе голову своими манерами иностранными! – вскричал отец.
– А нашим-то шотландским мужчинам не мешало бы кое-чему у него научиться!
И это был единственный раз в жизни, когда она его осадила.
Вскоре наш гость вновь появился в кухне и пригласил меня прогуляться с ним. Когда мы вышли во двор, он достал откуда-то небольшой крестик из красных камней. Такой красоты мне никогда еще не приходилось видеть.
– Это рубины, – сказал он. – Ко мне эта вещица попала в Испании, в городке Тудела. У меня их было два, но второй я подарил одной литовской девушке. Прошу, прими его от меня в знак благодарности за то доброе дело, которое ты сделал вчера. Думаю, им можно украсить булавку твоего галстука.
Я с трудом подобрал слова благодарности за подарок, который был ценнее всего, что мне когда-либо приходилось держать в руках.
– Мне нужно сходить на дальнее пастбище пересчитать овец, – сказал я. – Может быть, вы хотите пройтись со мной, осмотреть округу?
Немного подумав, он покачал головой.
– Мне нужно как можно скорее написать несколько писем, – ответил он. – Думаю, сегодняшнее утро я посвящу этому.
Весь день я бродил по дюнам, и, конечно же, все мои мысли вертелись вокруг этого странного человека, которого судьба занесла в наш дом. Откуда в нем эти властные манеры, этот высокомерный блеск в глазах? А эти его воспоминания! Какую жизнь должен прожить человек, чтобы столь беззаботно рассказывать о таких событиях? С нами он был добр и обходителен, и все же меня не покидало ощущение, что этому человеку нельзя доверять. Пожалуй, Джим Хорскрофт был прав, когда отговаривал меня вести его в Вест-инч.
Если бы кто-нибудь другой увидел ту картину, которую увидел я, когда вернулся домой, он наверняка решил бы, что Бонавентура де Лапп родился и вырос на нашей ферме. Он сидел у камина в большом деревянном кресле, держа на вытянутых ладонях моток шерстяной пряжи, которую мать энергично сматывала в клубок, и на коленях у него посапывала черная кошка. В соседнем кресле сидела кузина Эди. По ее глазам было видно, что она плакала.
– Эди! – воскликнул я, глядя на нее. – Что-то случилось?
– Ах, мадемуазель, как любая настоящая женщина, обладает чутким сердцем, – ответил вместо нее наш гость. – Я не подумал, что мои слова произведут на нее такое впечатление, иначе не стал бы ничего рассказывать. Рассказ мой был о том, какие страдания пришлось перенести одному военному отряду, с которым мне как-то довелось провести время, когда он пересекал Гвадарраманские{42} горы зимой 1808 года. Да, это была жуткая картина. То были хорошие солдаты и хорошие лошади… Как-то странно видеть, как людей сдувает ветром в пропасть, но там было ужасно скользко, и им просто не за что было держаться. Ротам пришлось соединить руки и идти цепочкой, это хоть как-то помогало. Правда, когда я взял за руку одного артиллериста, она оторвалась, потому что он отморозил ее еще за три дня до того. – Я слушал, глядя на него немигающими от удивления и ужаса глазами. – А старые гренадеры! У них уже не было сил успевать за остальными, часто они отставали, и тогда крестьяне ловили их и распинали на амбарных дверях вверх ногами, да еще разводили снизу огонь. Незавидная участь для старых солдат! Интересно было наблюдать за ними, когда они понимали, что дальше идти уже не смогут. Они бросали на землю старое седло или ранец, садились на него и молились, потом снимали сапоги и чулки, ставили подбородок на дуло мушкета, большим пальцем ноги упирались в спусковой крючок, и бух! Все, на этом страдания этих старых вояк заканчивались. Несладко нам пришлось в тех Гвадарраманских горах!
– А что это была за армия? – спросил я.
– О, я служил в стольких армиях, что иногда начинаю их путать. Да, я много воевал. Между прочим, как воюют ваши шотландцы, мне тоже приходилось видеть. Отважные fantassins![8] Но по тому, что я видел, я решил, что здесь у вас все носят… как это по-вашему… юбки.
– Килты. Но их носят только горцы.
– А, в горах, понятно. Но я вижу, к нам направляется какой-то человек. Должно быть, это один из тех, о ком говорил твой отец. Они будут носить на почту мои письма.
– Это один из работников с фермы Вайтхеда. Передать ему письма?
– Да, он будет с ними поаккуратнее, если получит их из твоих рук.
С этими словами он достал из кармана несколько писем и передал мне. Я поспешил во двор и, когда вышел на улицу, случайно взглянул на верхний конверт. На нем крупными четкими буквами было написано:
À. S. Majesté,
Le Roi du Suède,
Stockholm[9].
Французского я почти не знал, и все же смог догадаться, кому было адресовано это послание. Что же это за орел залетел в наше скромное гнездышко?
Глава VII Корримьюрская башня
Я не хочу утомлять себя и, в первую очередь, вас подробным описанием того, как изменилась наша жизнь с появлением этого человека или как ему удалось постепенно расположить к себе всех нас. С женщинами это было просто, но вскоре он растопил и сердце отца, что было намного сложнее, а также сумел завоевать благосклонность Джима Хорскрофта и мою. Рядом с ним мы вообще чувствовали себя какими-то большими мальчиками, потому что этот человек, казалось, побывал везде и видел все, и по вечерам, слушая его рассказы, мы переносились из нашей тесной кухни на маленькой ферме в королевские дворцы, военные биваки и на поля боев, видели все чудеса мира. Сначала Хорскрофт относился к нему достаточно настороженно, но де Лапп, благодаря своему такту и простоте манер, заставил его изменить свое мнение в прямо противоположную сторону. Джим садился рядом с кузиной Эди, брал ее за руку, и они вместе с замиранием сердца слушали его истории. Обо всем этом я не стану рассказывать, но и сейчас, после всех этих лет, я прекрасно помню, как неделя за неделей, месяц за месяцем словами и делами он лепил из нас то, что было нужно ему.
Начал он с того, что отдал лодку, на которой приплыл, отцу, оставив за собой лишь право пользоваться ею в случае надобности. Той осенью сельдь подошла близко к берегу, а дядя мой перед смертью передал нам набор прекрасных сетей, поэтому подарок этот мог принести нам много фунтов. Иногда де Лапп сам выходил в море на этой лодке, и летом, бывало, целый день плавал вдоль берега, медленно гребя веслами, останавливаясь через каждые несколько гребков, чтобы закинуть за борт камень на леске. Я не мог понять, что он делает, до тех пор, пока он как-то сам не рассказал мне.
– Я люблю изучать все, что связано с военным делом, – сказал он, – и, если выпадает такая возможность, стремлюсь не упускать ее. Я хочу выяснить, смог бы на этом побережье высадиться военный десант.
– Только не при восточном ветре, – заметил я.
– Да, верно, только не при восточном ветре. У вас здесь когда-нибудь проводились замеры глубин?
– Нет.
– Линейным кораблям{43} к берегу не приблизиться, но сорокапушечный фрегат может подойти на расстояние мушкетного огня, глубина позволяет. Высаживаем на лодках tirailleurs[10], разворачиваем их вон за теми песчаными холмами, потом возвращаем лодки и десантируем еще один отряд, все время поливая берег с фрегатов крупной картечью. Да, это возможно! Определенно, возможно!
Усы его по-кошачьи затопорщились, глаза засверкали, и я понял, что мысленно он уже представляет себе, как это происходит.
– Но вы забыли, что на берегу будут наши войска! – с негодованием воскликнул я.
– Да ну! – отмахнулся он. – Разумеется, битвы без противника не бывает. Но давай посмотрим, давай разберем, как это может происходить. Сколько вы можете собрать? Скажем, двадцать-тридцать тысяч. Несколько неплохих пехотных полков, только и всего. Все остальное – пшик. Рекруты, ополчение. Как вы их называете… волонтеры?
– Храбрецы! – вскричал я.
– О да, очень храбрые воины. Но совершенно безголовые. Ах, mon Dieu[11], какие все-таки они безголовые! Я имею в виду не только ваших, всех новобранцев. Они боятся показаться трусами, поэтому совершенно не думают об осторожности. Уж я их повидал на своем веку! В Испании я как-то наблюдал, как батальон рекрутов пошел в атаку на батарею из десяти орудий. Они ринулись в гору, не ведая страха, а через какое-то время весь склон с того места, где стоял я, стал казаться похожим на… как это по-английски… малиновый пирог. Потом еще один батальон рекрутов попытался взять эту высоту, они пошли вперед с бравыми криками, но разве шрапнель перекричишь? И этот батальон мы потеряли. А потом приказ подавить батарею противника был отдан гвардейскому отряду chasseurs[12], и что сделали эти опытные воины? В их наступлении не было ничего геройского: никаких шеренг, никаких криков, никто не был убит. Всего лишь несколько разрозненных линий tirailleurs и пара pelotons[13] в поддержку. Но уже через десять минут пушки замолчали, а испанские канониры{44} были изрублены на куски. Войне надо учиться, мой юный друг, так же как разведению овец.
– Тьфу! – презрительно сказал я, чтобы дать отпор спесивому иностранцу. – Да если там на холмах вас будут поджидать тридцать тысяч наших воинов, вы сразу же запроситесь обратно на свои фрегаты.
– На холмах? – Он обвел заинтересованным взором линию возвышенностей. – Да, если ваш полководец будет иметь голову на плечах, свой левый фланг он расположит у твоего дома, центр – у Корримьюра, а правый фланг – недалеко от дома врача. Центр он прикроет мощным заслоном из tirailleurs, конница, безусловно, попытается отрезать наш десант на берегу. Но, если нам удастся собраться, мы сразу же ответим. Здесь есть слабое место, вон там, где низина. Сначала я пройдусь по ней пушками, потом направлю туда свою кавалерию, продвину большими колоннами пехоту, и крыло займет позицию на высоте. И что тогда будет с твоими волонтерами, Джок?
– Погонят ваши отряды в хвост и в гриву! – ответил я, и мы рассмеялись, чем обычно и заканчивались подобные разговоры.
Иногда, когда он что-то рассказывал, мне казалось, что он шутит, но иногда степень его серьезности было не так-то легко определить. Я хорошо помню, как однажды летним вечером, когда мы: отец, Джим, я и он – засиделись на кухне после того, как женщины ушли, он завел разговор о Шотландии и ее отношениях с Англией.
– Когда-то у вас был свой король, вы жили по своим собственным законам, которые принимались в Эдинбурге, – сказал он. – Ваши сердца не наполняются гневом и отчаянием оттого, что теперь вами управляют из Лондона?
Джим вытащил изо рта трубку.
– Это наш король стал править Англией{45}, так что, если чьи-то сердца и должны наполняться отчаянием, то не наши, – сказал он.
Очевидно, для иностранца это было новостью, на минуту он замолчал.
– Хорошо, но вы живете по законам, которые принимают они, разве это правильно? – после некоторого раздумья спросил он.
– Нет, конечно, было бы неплохо, если бы Парламент переехал обратно в Эдинбург, – сказал отец, – но я так занят своими овцами, что у меня нет времени думать еще и об этом.
– Об этом должны думать молодые, – посмотрел де Лапп на нас с Джимом. – Когда по стране нанесен удар, вставать на ее защиту надлежит молодым людям.
– Да, эти англичане действительно иногда слишком много на себя берут, – поддержал его Джим.
– Если здесь многие так считают, почему бы не сформировать батальоны и не пойти маршем на Лондон? – горячо вскричал де Лапп.
– Это будет неплохая прогулка, – усмехнулся я. – Кто же поведет нас?
Эльзасец вскочил и коротко поклонился, приложив руку к сердцу.
– Для меня это было бы честью! – отчеканил он, но потом, услышав, как мы захохотали, рассмеялся и сам. И все-таки мне кажется, в тот миг он не шутил.
Возраст его оставался для меня загадкой. Для Джима Хорскрофта тоже. Иногда мы думали, что он уже довольно стар, только выглядел молодо. Иногда, наоборот, он казался нам молодым человеком, который выглядит старым. Его жесткие коротко стриженные каштановые волосы на макушке сильно редели, так что была видна блестящая кожа, к тому же тысяча тонких морщинок покрывала его, как я уже говорил, сильно загорелое лицо. Однако двигался он как молодой, полный сил человек, был силен и вынослив, мог целыми днями ходить по холмам или плавать на лодке по морю. В конце концов мы решили, что ему, пожалуй, где-то около сорока или сорока пяти, хотя для нас оставалось загадкой, как в таком возрасте ему удалось столько повидать. Но однажды, когда мы разговорились о возрастах, он нас удивил.
В разговоре я упомянул, что мне двадцать лет, а Джим сказал, что ему двадцать семь.
– Значит, из нас троих я старше всех, – заметил де Лапп. Мы рассмеялись, потому что, по нашим подсчетам, он чуть ли не в отцы нам годился. – Но я ненамного старше, – уточнил он, удивленно подняв брови. – В декабре мне исполнилось двадцать девять.
И это даже больше, чем все его рассказы, заставило нас понять, какой необыкновенной была жизнь этого человека. Увидев наше изумление, он засмеялся.
– Да, я много чего повидал в жизни! – воскликнул он. – Можно сказать, жил и днем и ночью. Когда мне было всего четырнадцать, я командовал ротой в битве{46}, в которой сошлись пять наций. Когда мне было двадцать, я ездил в карете с королем, и он бледнел от того, что я ему говорил. В том году, когда я достиг совершеннолетия, я участвовал в разделе великого королевства и помог занять трон новому королю{47}. Mon Dieu, довелось мне пожить!
И это было самое большое признание о прошлой жизни, которое я от него слышал. Когда мы попытались еще что-то из него выудить, он лишь рассмеялся и покачал головой. Порой нам казалось, что все его рассказы – сплошная выдумка и он сам всего лишь умный проходимец. Неужели такой большой и талантливый человек, каковым он себя выставлял, стал бы терять время здесь, у нас в Бервикшире? Но однажды произошло нечто убедившее нас в том, что он действительно не так-то прост. Вы наверняка помните, что недалеко от нас жил старый офицер, тот самый, который плясал вокруг костра с сестрой и двумя служанками. Он уехал в Лондон прояснять какие-то вопросы со своей пенсией, пособием по ранению и возможным продолжением службы и задержался там до конца осени. Через пару дней после возвращения он пришел навестить нас и впервые тогда встретился с де Лаппом. Никогда еще я не видел, чтобы человек так удивлялся. Глаза у него полезли из орбит, и он, словно потеряв дар речи, целую минуту молча смотрел на нашего друга. Де Лапп все это время так же внимательно всматривался в его лицо, но, похоже, не узнавал.
– Сэр, я вас не знаю, – наконец сказал он, – но вы смотрите на меня так, словно видели раньше.
– Видел, – сглотнув, ответил майор.
– Боюсь, что вы ошибаетесь.
– Я могу поклясться, что видел.
– Где же?
– В деревне Асторга, в восьмом году{48}.
Де Лапп вздрогнул и с новым интересом посмотрел на нашего соседа.
– Mon Dieu, какое совпадение! – воскликнул он. – А вы были английским парламентером, так? Ну конечно же, теперь я вас вспомнил, сэр. Позвольте мне шепнуть вам пару слов.
Он отвел его в сторону и целых пятнадцать минут оживленно разговаривал с ним по-французски, что-то показывая руками и объясняя, а майор, внимательно слушая, изредка кивал седой головой. Наконец они, похоже, о чем-то договорились. Я слышал, как майор несколько раз повторил «Parole d’honneur»[14], а в конце – «Fortune de la guerre»[15], слова, которые я без труда понял, так как, что ни говори, а Бертвистл был хорошим учителем. После этого я замечал, что майор никогда не разговаривал с нашим постояльцем так же свободно, как мы. Обращался к нему он с почтительным поклоном и вообще проявлял огромное уважение. Много раз я спрашивал майора, что ему известно об этом человеке, однако он всегда уходил от ответа, и ничего добиться от него я так и не смог.
Все лето Джим Хорскрофт провел дома, а осенью поехал обратно в Эдинбург на зимний триместр{49}. Поскольку мой друг собирался с головой уйти в учебу, чтобы следующей весной наконец получить диплом, он заранее объявил, что до Рождества не вернется. Во время прощания с кузиной Эди он пообещал, что они поженятся, как только он получит право практиковать. Если когда-нибудь мужчина и любил всем сердцем женщину, то это был Джим, и она его тоже сильно любила, потому что во всей Шотландии ей было не найти мужчину более красивого, чем он. Однако, когда он заговорил о свадьбе, она, по-моему, легонько вздрогнула от мысли, что ее прекрасным мечтам суждено обернуться жизнью с простым сельским врачом. Но выбор у нее был небольшой – я и Джим, и она выбрала лучшего из нас.
Конечно, был еще де Лапп, но нам он всегда казался не нашего поля ягодой, поэтому на его счет никто не задумывался. Я тогда не мог с уверенностью сказать, что вообще Эди о нем думает. Когда Джим был дома, они почти не замечали друг друга, но после того, как он уехал, немного сблизились, и это было понятно, потому что теперь у нее стало больше времени. Пару раз она заговаривала со мной о де Лаппе, и, насколько я мог понять из ее слов, он ей не нравился. И все же я замечал, что, если по вечерам он где-то задерживался, она начинала беспокоиться, а рассказы его так вообще слушала с упоением и каждый раз забрасывала его кучей вопросов. Она допытывалась у него, что носят королевы и по каким коврам они ходят, пользуются ли заколками для волос, сколько перьев у них в шляпах… Мне в конце концов начинало казаться, что человек просто не может помнить всех этих мелочей, но ни один из ее вопросов не оставался без ответа. Де Лапп с такой охотой и так обстоятельно отвечал, был так галантен, что я даже удивлялся, почему она его недолюбливает.
Итак, прошло лето, миновала осень и добрая часть зимы, мы по-прежнему жили не тужили в нашем старом Вест-инче. Наступил 1815 год. Великий император все так же томился на острове Эльба. Послы всех стран собрались в Вене, чтобы решить, что делать со шкурой поверженного льва{50}. Мы в нашем тихом уголке Европы занимались своими делами, разводили овец, ездили на ярмарки в Бервик, по вечерам собирались у камина, который топили торфом, и разговаривали. Нам не приходило в голову, что все эти великие и могущественные люди могут иметь к нам какое-то отношение. Что касается войны, все были уверены, что великая тень ушла навсегда и что, если союзники не перессорятся между собой, ближайшие лет пятьдесят в Европе не прогремит ни один выстрел.
Однако одно происшествие, которое случилось в то время, мне запомнилось особенно. Было это где-то в середине февраля, и, прежде чем продолжить свое повествование, я хочу вам о нем рассказать.
Я не сомневаюсь, что вы прекрасно представляете, как выглядят старинные замки, которые стоят на границе Шотландии и Англии. Это простые четырехугольные громадины, предназначавшиеся для того, чтобы местные жители могли укрываться в них от набегов разбойников. Когда Перси со своими людьми переходил границу, фермеры загоняли скот на двор замка, запирали большие ворота и разжигали огонь на башне, который должны были заметить на всех соседних башнях, где тоже зажигали огни, и так известие о вторжении летело по горам Ламмермура и достигало Пентлендс{51} и Эдинбурга. Но эти старые крепости, конечно же, давно утратили свое значение и теперь постепенно ветшали и разрушались, служа пристанищем разве что для диких птиц. Много прекрасных яиц я насобирал для своей коллекции на башне корримьюрской крепости.
Как-то раз мне нужно было отнести записку в Лайдлоу Армстронгам, которые жили в двух милях от Айтона, и, поскольку путь был очень неблизкий, вечер застал меня в дороге. Было пять часов, солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом, и тропинка завела меня на вершину очередного холма. Там я остановился. Далеко впереди уже показался фронтон Вест-инча, но я смотрел в левую сторону, где возвышалась старая башня. Это была очень живописная картина: закат окрасил ее стены в красный цвет, позади широкой синей полосой раскинулось море. Любуясь этой красотой, я неожиданно заметил, что в одном из проломов в стене башни мелькнуло лицо.
Зачем кому-то понадобилось туда лезть, если пора гнездования еще не наступила? Меня это настолько удивило, что я решил в этом разобраться. Я свернул с тропинки и быстро зашагал к башне. Холмы вокруг старой крепости покрыты густой травой, поэтому я почти бесшумно подошел к полуразрушенной арке с осыпающимися стенами, где когда-то были ворота. Я осторожно заглянул во двор и увидел Бонавентуру де Лаппа, который стоял в проломе, в котором я его и заметил. Он стоял ко мне боком, и мне стало понятно, почему он меня не видел: он очень напряженно смотрел в сторону Вест-инча. Когда я сделал следующий шаг, каменная щебенка скрипнула у меня под ногами, и он резко повернулся.
Де Лапп был не из тех людей, которых легко привести в замешательство. Ни один мускул не дрогнул у него на лице, словно он уже битый час именно меня тут дожидался, и все же что-то в его взгляде указывало на то, что он дорого бы заплатил за то, чтобы я вернулся обратно на тропинку и пошел своей дорогой.
– Вот так так! – воскликнул я. – Что это вы тут делаете?
– Я могу спросить у тебя то же самое, – ответил он.
– Я пришел, потому что заметил ваше лицо в проломе.
– А я – потому что, как тебе известно, меня очень интересует все, что может быть связано с военными действиями, а крепости, разумеется, входят в это число. Извини, дорогой мой Джок, я на секунду.
И он неожиданно сделал шаг вперед и скрылся из виду в глубине пробоины. Но любопытство мое уже настолько разгорелось, что я тут же прошел в глубину двора, чтобы видеть, чем это он там занят. Оказалось, он стоял, далеко высунувшись наружу, и энергично махал рукой, словно подавал кому-то знак.
– Что вы делаете? – крикнул я, подбежал к нему и выглянул через его плечо, пытаясь рассмотреть, кого это он подзывает.
– Что вы себе позволяете, сэр! – сердито вскричал он. – Умерьте прыть. Джентльмен имеет право делать то, что ему заблагорассудится, и не опасаться, что за ним будут шпионить. Если хочешь, чтобы мы остались друзьями, ты не должен вмешиваться в мои дела.
– Мне не нравится, что вы тут что-то затеваете, – ответил я. – И отцу это тоже не понравится.
– Твой отец пусть сам за себя отвечает, а я ничего не затеваю. – Голос его сделался грубым. – Это все твои выдумки, и знаешь, подобная глупость выводит меня из терпения.
И, не сказав больше ни слова, он развернулся и торопливым шагом пошел к Вест-инчу.
Мне оставалось только последовать за ним. У меня вдруг появилось ощущение, что назревает что-то недоброе, хотя мне был совершенно непонятен смысл того, что только что произошло. По дороге я снова начал думать о том, как этот загадочный человек появился и поселился у нас. Интересно, с кем это он мог встречаться в башне? Может быть, этот парень – шпион и призывал на встречу какого-то своего подельника? Нет, это была бредовая идея. Зачем шпионам торчать в таком месте, как Бервикшир? И кроме того, есть же майор Эллиот, который его прекрасно знает, и, если бы с ним что-то было не так, он не стал бы так к нему относиться.
Как только ход моих рассуждений дошел до этой точки, кто-то меня окликнул, и я увидел самого майора, который с жизнерадостной улыбкой спускался по склону холма, ведя на поводке своего здоровенного бульдога по кличке Баундер. Эта собака отличалась крайне свирепым нравом и не раз становилась причиной шумных скандалов, потрясавших нашу округу, но майор ее очень любил и постоянно, выходя из дому, брал ее с собой, правда, всегда держал на прочном кожаном поводке. И надо ж было такому случиться, что, пока я дожидался его внизу, майор зацепился своей хромой ногой за ветвь утесника и упал. Поднимаясь, он каким-то образом выпустил из рук поводок, и его пес тут же с раскрытой пастью понесся вниз по склону прямо на меня.
Должен вам сказать, мне это совершенно не понравилось, потому что нигде рядом не было ни палки, ни камня, а я хорошо знал, каким лютым нравом отличался этот зверь. Майор закричал ему вслед, но, по-моему, эта тварь решила, что хозяин его на меня науськивает, и только поддала скорости. И тут я подумал: я же знаю, как его зовут, может быть, столь близкое знакомство с ним как-то поможет мне? Поэтому, глядя на его ощетинившийся загривок и нос, блестящий между двумя налитыми кровью глазами, я набрал в легкие побольше воздуха и закричал: «Баундер! Баундер!» Должно быть, это произвело на него какое-то воздействие, потому что пес, рыкнув, промчался мимо меня и устремился дальше по тропинке в сторону Бонавентуры де Лаппа.
Он повернулся на крик и, похоже, сразу же понял, что происходит. Странно, но он совершенно спокойно продолжил путь. Душа в пятки ушла у меня, собака-то никогда его раньше не видела! Я со всех ног бросился к ним, собираясь оттаскивать пса, но тут произошло неожиданное. Де Лапп опустил к земле руку и потер большим пальцем об указательный. Собака, подбежав к нему, остановилась, ее злость словно испарилась, и она начала изо всех сил крутить своим куцым хвостом и игриво подпрыгивать.
– Ваша собака, майор? – спросил он, когда, прихрамывая, подбежал ее хозяин. – Хороший зверь. Красавец!
Майор с трудом переводил дыхание, потому что бежал почти с такой же скоростью, что и я.
– Я испугался, что он может покусать вас, – задыхаясь, сказал он.
– Ну что вы! – воскликнул де Лапп. – Такая хорошая умная собака. Я люблю собак. Но я рад, что встретился с вами, майор. Видите ли, вот этот юный джентльмен, которому я стольким обязан, решил, что я шпион. Верно, Джок?
Его догадка меня так удивила, что я даже не нашелся, что ответить, только покраснел и смущенно опустил голову, как какой-нибудь деревенский простофиля, каким я и был.
– Вы знаете, кто я, майор, – продолжил де Лапп, – и я уверен, что вы объясните ему, что это не так.
– Нет, нет, Джок! Конечно же, нет! – всполошился майор.
– Благодарю вас, – сказал де Лапп. – Надеюсь, ваше колено уже зажило и скоро вы снова будете командовать своим полком.
– Да я уже достаточно здоров, – ответил майор. – Но они все равно не дадут мне место, если, конечно, не случится новой войны. Я думаю, что на моем веку войн больше не будет.
– Вы так думаете? – улыбнулся де Лапп. – Что ж, nous verrons! Поживем – увидим, мой друг.
На прощание он махнул шляпой, развернулся и быстро зашагал в сторону Вест-инча. Майор долго провожал его задумчивым взглядом, а потом повернулся ко мне и спросил, что заставило меня думать, что де Лапп – шпион. Когда я все рассказал, он промолчал, лишь задумчиво покачав головой.
Глава VIII Яхта
После этого небольшого происшествия в корримьюрской крепости мое отношение к нашему постояльцу изменилось. Меня теперь не покидало ощущение, что он что-то скрывает от меня… Что он сам был сплошной загадкой, ведь его прошлое до сих пор находилось под завесой тайны, и когда эта завеса хоть чуть-чуть приподнималась, под ней всегда обнаруживалось что-то кровавое, жестокое и внушающее ужас. Даже на его тело нельзя было смотреть без содрогания. Однажды летом, когда мы вместе пошли купаться, я увидел, что он весь покрыт ранами. Кроме семи-восьми следов от пуль и сабель, ребра у него на одной стороне были как бы выкручены, а на икре был ужасный шрам, словно из нее просто вырвали кусок. Он, как всегда, беззаботно рассмеялся, когда заметил, как я рассматриваю его.
– Это казаки! Казаки! – сказал он, проведя рукой по шрамам. – А ребра поломаны артиллерийской подводой. Когда по тебе проезжает пушка – это дело серьезное. Кавалерия – сущие пустяки. Лошадь всегда смотрит под ноги, как бы быстро она ни скакала. Однажды по мне прошлись полторы тысячи кирасиров и русские гусары из Гродно{52}, и ничего, на мне царапины не было. Но пушки – другое дело.
– А нога? – спросил я.
– Ерунда! Всего лишь волчий укус, – небрежно сказал он. – Хотя ты ни за что не догадаешься, как это произошло! Рядом со мной разорвался снаряд. Лошадь убило, но я выжил, хоть подводой мне и перебило ребра. Было очень холодно… очень, просто ужасно холодно! Земля твердая, как железо. Вокруг никого, кто мог бы помочь раненым. Люди замерзали в таких позах, что, если бы ты их увидел, рассмеялся бы. Я тоже почувствовал, что замерзаю. Что делать? Я вытащил из ножен саблю, вспорол своему мертвому коню брюхо, выпотрошил его кое-как, залез внутрь и закрылся, оставив только небольшое отверстие, чтобы было чем дышать. Sapristi![16] Внутри было достаточно тепло, да только слишком мало места, поэтому ступни и часть ноги остались снаружи. Потом, ночью, когда я заснул, пришли волки. Они набросились на лошадь, ну, и от меня, как видишь, кусок отгрызли. Но тут я, конечно, проснулся. У меня был пистолет, поэтому больше они не возвращались. Так я жил в тепле и уюте десять дней.
– Десять дней! – изумился я. – Что же вы ели?
– Лошадь, конечно же. Это было, как вы говорите, проживание с питанием. Разумеется, у меня хватило ума есть ноги, а жить в теле. Меня окружало множество убитых, у которых были фляги с водой, так что я ни в чем не нуждался. На одиннадцатый день меня нашел кавалерийский патруль, и все кончилось.
Лишь такими случайными разговорами, которые вряд ли стоит повторять, мне и удавалось узнавать хоть что-то о его жизни в прошлом. Однако близился тот день, когда мы узнали все, и о том, как это случилось, я сейчас попытаюсь рассказать.
Зима в том году была холодной и безрадостной, но с приходом марта появились первые признаки весны, целую неделю светило солнце и дул теплый южный ветер. Седьмого должен был вернуться из Эдинбурга Джим Хорскрофт. Триместр закончился первого, но ему еще нужно было сдать экзамены. Шестого мы с Эди, выйдя на прогулку, забрели на морской берег. Всю дорогу я разговаривал только о своем старом друге, да и о ком мне было разговаривать, если в то время других друзей одного со мной возраста у меня не было.
Эди, правда, все больше отмалчивалась, что было для нее необычно, но с улыбкой внимательно слушала все, что я говорю.
– Бедный, бедный Джим, – пару раз произнесла она вполголоса.
– А если он получит свой диплом, – говорил я, – конечно же, он заведет себе практику, станет жить отдельно, и мы потеряем нашу Эди.
Я старательно делал вид, что шучу, но слова застревали у меня в горле.
– Бедный, бедный Джим, – снова повторила она, и тут на глазах у нее появились слезы. – И бедный, бедный Джок! – вдруг добавила она и взяла меня за ладонь. – Ты ведь тоже когда-то меня любил, правда, Джок? О, смотри, какой красивый кораблик!
Это была изящная тридцатитонная яхта, судя по очертаниям мачт и плавным обводам бака{53}, очень быстроходная. Она приближалась к нам с южной стороны под кливером, фоком и гротом{54}, но, пока мы наблюдали за ней, белоснежные паруса свернулись, словно чайка сложила крылья, и мы увидели всплеск прямо у нее под бушпритом{55}, это был сброшен якорь. От берега до нее было меньше четверти мили, поэтому я без труда рассмотрел на ее борту высокого человека в фуражке, который через подзорную трубу рассматривал берег.
– Интересно, что им здесь нужно? – спросила Эди.
– Это богатые англичане из Лондона, – ответил я, потому что так мы, жители приграничных графств, объясняли все, что было выше нашего разумения. Почти час мы любовались красивым судном, а потом, когда солнце начало опускаться за облачную гряду и от холодного вечернего воздуха начало пощипывать кожу, мы вернулись в Вест-инч.
Если подходить к дому спереди, то сперва нужно пройти через сад, в который можно попасть через калитку, выходящую на дорогу. Это та самая калитка, у которой мы стояли в ночь сигнальных огней, когда видели Вальтера Скотта, едущего в Эдинбург. Так вот, справа от нее, со стороны сада, стояла небольшая декоративная каменная горка, которую, как рассказывали, много лет назад построила мать моего отца. Она была украшена изъеденными водой морскими камнями и ракушками и уже давно поросла мхом и папоротником. Когда мы прошли через калитку, мой взгляд случайно упал на эту горку, и я заметил, что в одной из трещин наверху белеет небольшой клочок бумаги. Я сделал шаг к горке, чтобы рассмотреть, что это, но Эди проворно выскочила вперед, выхватила эту бумажку и сунула себе в карман.
– Это мне, – со смехом сказала она.
Но я замер на месте и посмотрел на нее так, что улыбка сошла с ее лица.
– Это от кого, Эди? – спросил я.
Она недовольно надула губки, но ничего не ответила.
– От кого это? – уже громче спросил я. – Неужели ты обманываешь Джима так же, как обманывала меня?
– Какой ты грубиян, Джок! – воскликнула она. – Было бы очень хорошо, если бы ты не лез не в свое дело.
– Эта записка может быть только от одного человека, – закричал я. – Это от него, от де Лаппа!
– Ну, а если ты и прав, Джок, что тогда?
Спокойствие женщины удивило и взбесило меня.
– Так ты признаешь это! – взъярился я. – У тебя что, совсем стыда не осталось?
– А почему это я не могу получать письма от этого джентльмена?
– Да потому что это гнусно!
– Это почему же?
– Потому что он тебе совершенно посторонний человек!
– Совсем даже нет, – сказала она. – Он мой муж!
Глава IX Что происходило в Вест-инче
Я прекрасно помню тот миг. От других я слышал, что от внезапного потрясения чувства притупляются. Но со мной такого не произошло. Наоборот, я начал слышать, видеть и понимать все намного отчетливее, чем раньше. Я помню небольшое, шириной с мою ладонь, вкрапление мрамора в одном из серых камней горки, по которому скользнул тогда мой взгляд. Я даже успел подумать, как красиво расположены на нем пятнышки. Но все равно выражение лица, наверное, у меня сильно изменилось, потому что кузина Эди вскрикнула и бросилась в дом. Я пошел следом за ней и постучал в ее окно, увидев, что она уже была в своей комнате.
– Уходи, Джок! Уходи! – крикнула она из-за стекла. – Ты собираешься ругаться, а я этого не хочу! Окно я не открою. Уходи.
Но я продолжал стучать.
– Мне нужно с тобой поговорить!
– Ну, что тебе нужно? – крикнула она, приподняв окно на три дюйма. – Если только начнешь ругаться, я тут же закрываю окно.
– Ты на самом деле вышла замуж, Эди?
– Да.
– Кто вас обвенчал?
– Отец Бреннан из католического храма в Бервике.
– Но ты же пресвитерианка{56}.
– Он захотел, чтобы это проходило в католическом храме.
– Когда вы обвенчались?
– В среду.
Я вспомнил, что в тот день она ездила в Бервик, а де Лапп отправился на долгую прогулку по холмам, так он сказал.
– А как же Джим? – спросил я.
– О, Джим меня простит!
– Ты разобьешь ему сердце. Ты же разрушишь всю его жизнь!
– Нет-нет, он простит меня.
– Он убьет де Лаппа! О Эди, как ты могла так опозорить нас?
– Ну вот, ты ругаешься! – воскликнула она, и окно захлопнулось.
Я еще постоял под окном, постучал, потому что много еще о чем хотел спросить, но она не подходила. Мне показалось, что я слышал ее плач. Через какое-то время я сдался и решил идти в дом, уже почти стемнело, но тут неожиданно скрипнула садовая калитка и показался сам де Лапп.
Однако, глядя на то, как он вышел на тропинку, я решил, что он либо сошел с ума, либо пьян. Он вышагивал, пританцовывая, щелкал в воздухе пальцами, а глаза его блестели, как два светляка. «Voltigeurs! – выкрикнул он. – Voltigeurs de la Garde!» – точно так, как тогда на берегу, когда потерял сознание. А потом вдруг добавил: «En avant! En avant!»[17] и, размахивая тростью над головой, двинулся к дому. Сделав пару шагов, он увидел меня и остановился, даже как будто слегка смутившись.
– О Джок! – воскликнул он. – Не думал я, что здесь кто-то будет. Сегодня вечером у меня отличное настроение.
– Я вижу, – мрачно сказал я. – Завтра, когда вернется мой друг Джим Хорскрофт, оно у вас может сильно испортиться.
– А, так он завтра возвращается! И почему же мое настроение должно от этого испортиться?
– Да потому, что он вас сотрет в порошок.
– Ого! – вскричал де Лапп. – Ты, я вижу, уже знаешь о нашей свадьбе. Эди рассказала тебе. Джим может поступать так, как ему вздумается.
– Хорошо вы нас отблагодарили за то, что мы вас приютили.
– Мой дорогой друг, – сказал он, – я, как ты говоришь, очень хорошо отблагодарил вас. Я забираю Эди из той жизни, которая ее не достойна, а женившись на ней, я соединил вас с благородным родом. Однако сегодня мне еще надо написать несколько писем, об остальном мы можем поговорить завтра, в присутствии твоего друга.
Он шагнул в сторону двери, и тут меня осенило.
– Теперь ясно, кого вы поджидали в башне!
– Смотри-ка, Джок, ты умнеешь прямо на глазах, – с издевкой произнес он, и в следующую секунду дверь в его комнату захлопнулась, а в замке повернулся ключ.
Я уж думал, что в тот вечер больше его не увижу, но через несколько минут он вошел на кухню, где я сидел с родителями.
– Мадам, – сказал он и, как всегда, поклонился и приложил руку к груди. – Вы были ко мне настолько добры, что воспоминание об этом навсегда останется в моем сердце. Благодаря вам в этом тихом уголке я испытал такое счастье, о котором даже и не помышлял. Надеюсь, вы примете от меня эту безделицу, которую я хочу преподнести вам в знак признательности. Сэр, для меня будет честью, если и вы примете этот скромный подарок.
Он выложил на стол рядом с их локтями два бумажных пакетика и, поклонившись еще три раза матери, удалился.
Мать в своем пакетике обнаружила брошь с зеленым камнем посередине, который окружала дюжина сверкающих камушков поменьше вокруг. Раньше мы таких камней никогда не видели и не знали, как они называются, лишь потом в Бервике нам объяснили, что большой камень – это изумруд, а маленькие – бриллианты и что они стоят намного больше, чем все наши овцы, вместе взятые. Теперь, когда моей дорогой мамы уже давно нет на свете, брошь эта сверкает на шее моей старшей дочери, когда она выходит в свет, и, когда я ее вижу, я всегда вспоминаю внимательные глаза, длинный тонкий нос и кошачьи усы нашего постояльца в Вест-инче. Отец получил в подарок прекрасные золотые часы с крышечкой. Более гордого человека было не сыскать, когда он поднес их к уху и прислушался к тиканью. Не знаю, кто из них был больше рад своему подарку, потому что в тот вечер ни о чем другом, кроме как о подарках де Лаппа, отец и мать не говорили.
– Он вам еще один подарочек сделал, – через какое-то время не выдержал и сказал я.
– О чем ты, Джок? – спросил отец.
– Кузина Эди теперь его жена, – ответил я.
Сначала они подумали, что это шутка, но, поняв, что я говорю серьезно, так обрадовались, словно я принес им весть о том, что она вышла замуж за самого лэрда. Увы, бедный Джим после той попойки и драки действительно не считался у нас в округе завидным женихом, и мама часто говорила, что ничего хорошего из их союза не вышло бы. Де Лапп – другое дело, насколько мы знали, он был человеком уравновешенным, достойным и богатым, и то, что он женился на кузине Эди тайно, тоже их не смутило, потому что в то время тайные браки в Шотландии были обычным делом. Процедура заключения священного союза была очень простой, и никто особо об этом не задумывался. Родители мои пришли в такой восторг, словно им понизили ренту, но мне по-прежнему было неспокойно на душе, я не мог отделаться от мысли, что с моим другом поступили жестоко, и я знал, что он не тот человек, который легко с этим смирится.
Глава X Тень возвращается
На следующее утро я проснулся с тяжелым сердцем, потому что скоро должен был приехать Джим, и день обещал быть беспокойным. Но то, каким беспокойным этот день окажется в действительности и какие необратимые последствия будет иметь для нас всех, не могло мне присниться даже в кошмарном сне. Однако позвольте рассказать все по порядку.
В тот день встал я очень рано, потому что как раз тогда начался период первого ягнения, и мы с отцом выходили на болота с первыми лучами солнца. Когда я вышел из своей комнаты, я почувствовал у себя на лице дуновение ветра: оказывается, входная дверь была открыта нараспашку и стены коридора озарял тусклый солнечный свет. Присмотревшись, я заметил, что и дверь комнаты Эди приоткрыта, у де Лаппа тоже было не заперто. Тут я понял, каков был истинный смысл вчерашних подарков. Это было своего рода прощание, и ночью они вместе сбежали.
Чувствуя в душе горечь, я заглянул в комнату кузины Эди. Подумать только, ради этого незнакомца она бросила нас, даже не попрощавшись, даже не пожав руку. А он! Вчера я боялся думать, что случится, когда он встретится с Джимом, но теперь побег его показался мне довольно трусливым поступком. Охваченный одновременно злостью, болью и тоской, я, не сказав отцу ни слова, вышел на улицу и взбежал на ближайший холм, чтобы остудить голову.
Выйдя к Корримьюру, я в последний раз увидел кузину Эди. Небольшая яхта стояла на якоре там же, где остановилась вчера, но со стороны берега к ней подплывала лодка. На носу лодки ярким красным пятном выделялась ее шаль. Я подождал, пока лодка доплыла до яхты, и те, кто плыл в ней, поднялись на борт. Потом якорь яхты поднялся, она вновь распустила свои белые крылья и понеслась в открытое море. Пока она не скрылась за горизонтом, я все еще мог различить на ее палубе красное пятнышко и стоящего рядом де Лаппа. Они меня тоже видели, потому что фигура моя возвышалась на фоне неба, и долго-долго махали руками, пока наконец не поняли, что я не отвечу им.
В самом мрачном настроении я стоял, скрестив на груди руки, и провожал взглядом яхту, пока она крошечной белой точкой не затерялась в утренней дымке, нависшей над морем. Домой я вернулся только к завтраку, когда на столе уже стояли тарелки с овсяной кашей, но мне не хотелось есть. Родители восприняли известие о том, что произошло, довольно спокойно. Мать вообще ничего не сказала, потому что они с Эди никогда не питали друг к другу каких-то нежных чувств, а в последнее время так особенно.
– Он оставил письмо, – сказал отец, указывая на сложенный листок бумаги на столе. – Оно было в его комнате. Будь добр, прочитай.
Они даже не заглядывали в него. По правде говоря, мои старики с трудом разбирали написанное от руки чернилами, хотя и довольно хорошо читали большие и четкие печатные буквы.
Вверху было крупно написано: «Добрым людям Вест-инча». И далее я приведу весь текст записки, которая, пожелтевшая и потрепанная, сейчас, когда я пишу эти строки, лежит передо мной.
«Друзья мои!
Не думал я, что мне придется покинуть Вас столь неожиданно, но не в моей власти изменить обстоятельства. Долг и честь призывают меня вернуться к моим старым товарищам, и я уверен, что в скором будущем Вы поймете, о чем я говорю. Вашу Эди я забираю с собой как жену, и, может быть, когда-нибудь мы еще увидимся с Вами в Вест-инче. А тем временем примите мои заверения в безграничной преданности и поверьте, что я никогда не забуду тех месяцев умиротворения и спокойствия, которые я провел с Вами, тогда как, попади я в руки союзников, жить мне осталось бы не более недели. Почему так произошло, Вы, возможно, тоже поймете со временем.
Ваш,
Бонавентура де Лиссак (Colonel des Voltigeurs de la Garde, et aide-de-camp de S.M.I. L’Empereur Napoleon)[18]».
Прочитав слова, написанные после имени, я присвистнул, потому что, хотя я давно и понял, что постоялец наш может быть только одним из тех замечательных воинов, о которых мы столько слышали и которым покорились все европейские столицы, кроме нашей, я даже представить себе не мог, что мы жили под одной крышей с самим адъютантом Наполеона и полковником его гвардии.
– Так, значит, его зовут де Лиссак, а не де Лапп, – сказал я. – Полковник он или нет, но ему повезло, что он убрался отсюда до того, как вернулся Джим. А вот, кстати, и он, – добавил я, выглянув в окно кухни, – бежит через сад.
Я бросился к двери, чтобы приветствовать его, хотя в тот миг мне больше всего хотелось бы, чтобы он еще какое-то время побыл в Эдинбурге. Мой друг бежал, размахивая над головой какой-то бумажкой, и я подумал, что это, наверное, письмо от Эди и ему уже все известно, но, когда он приблизился, я увидел, что это большой плотный лист желтого цвета, а глаза у Джима светятся от счастья.
– Ура, Джок! – закричал он, завидев меня. – Где Эди? Где Эди?
– А что это? – спросил я.
– Где Эди?
– Что это у тебя там?
– Диплом! Джок, теперь я могу начинать собственную практику, когда захочу. Теперь все будет хорошо. Я хочу поскорее показать его Эди.
– Лучше тебе навсегда забыть об Эди, – сдержанно произнес я.
Ни у кого еще лицо не менялось так стремительно, как у моего друга после этих слов.
– Что? О чем это ты, Джок Калдер? – с запинкой спросил он.
В это мгновение ветер вырвал из его руки диплом, и он полетел желтым листком через сад и через болота, пока не зацепился и не затрепетал на ветке утесника, но Джим даже не заметил этого.
Глаза его были устремлены на меня, и я увидел, как в их глубине вспыхнули дьявольские огоньки.
– Она не стоит тебя, – сказал я.
Он схватил меня за плечо.
– Что ты натворил? – зашипел он. – Не валяй дурака! Говори, где она?
– Она уехала с французом, который жил у нас.
Я думал, как помягче сообщить ему эту новость, но я не особенный мастер говорить, поэтому ничего лучше так и не придумал.
– О! – только и сказал он и медленно закивал головой, глядя на меня с высоты своего роста, хотя я точно знал, что в ту секунду он не видит ни меня, ни дом, ничего. Так и простоял он, сжимая кулаки и кивая головой, целую минуту или даже больше. Потом вдруг глубоко вздохнул и заговорил странным сухим и хриплым голосом.
– Когда это произошло?
– Сегодня утром.
– Они обвенчались?
– Да.
Он пошатнулся и схватился за дверной косяк.
– Мне что-нибудь она передала?
– Сказала, что ты простишь ее.
– Я скорее в ад пойду, чем прощу ее! Куда они направились?
– Я думаю, что во Францию.
– Если не ошибаюсь, его зовут де Лапп?
– Его настоящее имя де Лиссак, и, оказывается, он ни много ни мало полковник личной гвардии Бонапарта.
– Ага, значит, скорее всего, он направился в Париж. Это хорошо, хорошо.
– Ты что? – закричал я. – Папа! Папа! Принеси бренди!
Его колени на секунду подогнулись, но он снова пришел в себя еще до того, как с бутылкой в руках прибежал отец.
– Уберите! – сказал он.
– Хлебните, мистер Хорскрофт, – отец втиснул ему в руку бутылку. – Это придаст вам сил.
Он швырнул бутылку за кусты, которые служили живой изгородью нашего сада.
– Для тех, кто хочет что-то забыть, это прекрасное лекарство, но я не собираюсь ничего забывать, я запомню все!
– Прости тебя Господи за то, что ты таким добром разбрасываешься! – в негодовании вскричал отец, глядя вслед бутылке.
– И за то, что чуть не вышиб мозги офицеру пехоты его величества! – неожиданно раздался голос старика майора Эллиота, и его голова показалась над кустами. – Я понимаю – пропустить немного после утренней прогулки, но, когда у тебя мимо уха пролетает целая бутылка, это что-то новенькое. Но что случилось, почему это вы собрались и стоите тут, как на похоронах?
В нескольких словах я описал ему, что у нас стряслось. Пока я говорил, Джим стоял, прислонясь к дверному косяку, и, сдвинув брови, напряженно думал. После моего рассказа лицо майора сделалось таким же мрачным, как у нас, потому что и Джим, и Эди ему очень нравились.
– Те-те, – покачал головой он. – Я боялся чего-то такого еще с того дня, когда мы встретились у башни. Французы все такие, не могут пройти мимо красивой женщины. Де Лиссак по крайней мере женился на ней. Уже хорошо. Но сейчас не время думать о наших мелких бедах. Вся Европа снова гудит! Нам предстоит очередная война лет на двадцать.
– Вы это о чем? – спросил я.
– Как, вы не знаете? Наполеон вернулся с Эльбы, его старая армия тут же стала под его крыло, а Луи сбежал{57}. Сегодня утром я узнал это в Бервике!
– Боже правый! Так, значит, теперь все сначала!
– Мы-то думали, что избавились от этой тени, ан нет. Веллингтона уже вызвали из Вены готовить отпор Наполеону. Ох, тяжелые времена настанут! Я только что получил известие, что меня снова назначают в Семьдесят первый старшим майором. – Я с радостью пожал руку нашему доброму соседу, потому что знал, насколько важно ему было не чувствовать себя никому не нужным калекой. – И я собираюсь как можно раньше отправиться в свой полк. Через месяц мы будем на континенте, а еще через месяц, глядишь, и в самом Париже.
– О, тогда я еду с вами, – вскричал тут Джим Хорскрофт. – Я согласен носить мушкет, если вы поможете мне встретиться с этим французом!
– Друг мой, я был бы рад, если бы ты служил у меня, – сказал майор. – А этот де Лиссак… Найти его легко. Он будет рядом с императором.
– Вы же его знаете, может, расскажете нам, что он за человек? – попросил я.
– Во всей французской армии нет лучшего офицера, а это, скажу я вам, чего-то да стоит. Ему пророчили маршальское звание, но он предпочел остаться с императором. Я встретился с ним за два дня до Ла-Коруньи{58}, когда меня направили к французам провести переговоры о раненых. Он тогда состоял при Сульте. Я его сразу узнал, когда увидел.
– И я сразу узнаю его, когда увижу, – с каменным лицом произнес Хорскрофт.
И в тот же миг у меня словно вспыхнуло что-то в голове. Я вдруг понял, какой жалкой и бессмысленной будет моя жизнь здесь, в то время как наш добрый знакомый старый раненый офицер и мой друг детства будут находиться в самом сердце бушующего урагана. Решение было принято.
– Я тоже иду с вами, майор, – вскричал я.
– Джок! Джок! – воскликнул отец и всплеснул руками.
Джим ничего не сказал, лишь положил руку мне на плечо и крепко обнял. Глаза майора вспыхнули, он взмахнул тростью.
– Вот это да, я приведу с собой двух отличных новобранцев! – восторженно произнес он. – Ну что ж, нельзя терять время, так что оба будьте готовы к вечеру.
Вот какими событиями был наполнен тот день. А ведь как часто бывает, что целые годы проходят совершенно незаметно, не оставляя в памяти никакого следа! Подумайте только, как изменилась наша жизнь за те двадцать четыре часа! Уехал де Лиссак. Уехала Эди. Вырвался на свободу Наполеон. Началась война. Джим Хорскрофт потерял все, и теперь мы с ним должны были отправиться воевать с французами. Все было как во сне, но лишь до тех пор, пока вечером, выйдя из дому, я не оглянулся и не увидел серое каменное здание и две маленькие одинокие фигурки, стоящие у калитки: маму, накинувшую на голову шерстяную шаль, и отца, машущего на прощание своим фермерским хлыстом.
Глава XI Встреча народов
А теперь я подхожу к той части своего повествования, к тем событиям, при мысли о которых у меня и сейчас захватывает дух и я начинаю жалеть, что вообще взял на себя труд рассказывать о них. Мне нравится, чтобы события, которые я описываю, развивались размеренно, неторопливо, последовательно, подобно овцам, выходящим из загона. В Вест-инче так и было. Но теперь мы оказались вовлечены совсем в другую жизнь, как крошечные кусочки соломы, которые сперва плывут по какой-нибудь тихой канаве, а потом неожиданно оказываются в стремительной бурлящей реке, и поэтому мне, привыкшему писать просто, будет нелегко идти наравне со всем этим. Впрочем, о причинах и обстоятельствах того, что творилось тогда, вы можете прочитать в книгах по истории, посему я на этом останавливаться не буду, а перейду сразу к тому, что видел собственными глазами и слышал собственными ушами.
Полк, в который был назначен наш друг, носил название Семьдесят первый хайлендский{59} легкий пехотный полк. Форма его состояла из красных мундиров и брюк, и размещался он в Глазго. Туда мы и направились в экипаже все втроем. Майор был в прекрасном настроении, сыпал историями про то, как воевал в Испании, и про славного герцога Веллингтона, а Джим всю дорогу сидел мрачнее тучи, и, видя, как время от времени глаза его начинали блестеть, а кулаки сжиматься, я понимал, что в ту минуту он представлял себе, как будет убивать де Лиссака. О себе могу сказать, что я не совсем понимал, то ли мне радоваться, то ли печалиться, ведь дом есть дом и всегда тяжело уезжать из него, понимая, что от матери тебя будет отделять половина Шотландии.
В Глазго мы прибыли на следующий день. Майор отвел нас в учебную часть, где какой-то солдат с тремя нашивками на рукаве, улыбаясь во весь рот, обошел три раза вокруг Джима, рассматривая его, словно карлайловский замок.
Потом он подошел ко мне, ткнул в ребра, пощупал мускулы и остался почти так же доволен, как Джимом.
– Вот это ребята, ай да молодцы, – несколько раз повторил он. – Нам таких тысчонку, и мы любую бонапартовскую гвардию разделаем.
– А что у вас? – поинтересовался майор.
– Слабенько, – пожаловался тот. – Лучшие части сейчас в Америке{60}, приходится иметь дело с ополченцами и новобранцами. Но ничего, и их обучим, вымуштруем, поставим на ноги.
Майор поцокал языком и сказал:
– Нам-то придется воевать со старыми, опытными солдатами. Эх! Вы двое, если будет нужна помощь, обращайтесь ко мне.
И, кивнув на прощание, он ушел, а мы поняли, что между майором – командиром и майором – соседом большая разница.
Но к чему мне утомлять вас всем этим? Я мог бы исписать не одно перо, рассказывая о том, чем мы с Джимом занимались в учебной части в Глазго, как знакомились с офицерами и сослуживцами, как они стали нашими товарищами. Вскоре пришла весть, что люди, которые заседали в Вене и делили Европу, как пирог с бараниной, все разъехались по своим странам, и теперь каждый солдат, каждая лошадь их армий смотрели в сторону Франции. Слышали мы и о том, что в Париже подготовка к войне идет полным ходом, что Веллингтон был уже во всеоружии и что первый удар придется по нам и по пруссакам. Правительство в спешном порядке отправляло людей на континент, все порты на восточном берегу были забиты оружием, лошадьми и продовольствием. Третьего июня и мы получили приказ о выступлении; в тот же день вечером нас погрузили на корабли в Лите, и уже следующей ночью мы были в Остенде. Впервые в жизни увидел я тогда чужие края, да и большинство моих новых товарищей тоже, потому что в основном это были совсем еще молодые люди. До сих пор я помню синюю полосу моря, желтый песчаный берег и странные ветряные мельницы, которые не только крутили крыльями, но еще и поворачивались вокруг себя. Нигде в Шотландии таких диковинных штук не было. Это был чистый, ухоженный город, только люди жили в нем какие-то низкорослые и нигде невозможно было достать ни эля, ни овсяных лепешек.
Оттуда нас направили в город под названием Брюгге, а затем – в Гент{61}, где наш полк соединился с Пятьдесят вторым и Девяносто пятым и была сформирована бригада. В Генте меня поразили красотой церкви и каменные дома, хотя ни в одном городе из тех, в которых мы побывали, я не видел церквей красивее, чем в Глазго. Оттуда мы двинулись к местечку под названием Ат, это небольшая деревушка на реке, или, правильнее будет сказать, на ручье под названием Дендер. Там нас расквартировали, хотя большинству пришлось жить в палатках. Хорошо, что было лето и погода стояла теплая. Наша бригада принялась усиленно готовиться к предстоящему сражению. Самым главным командиром над нами был генерал Адамс, полковника нашего звали Рейнелл, и оба они были старыми опытными вояками. Но больше всего нас согревала мысль о том, что всеми нами руководил Железный Герцог{62}, потому что имя его было для нас как сигнал горна, по которому все мы были готовы идти хоть в огонь, хоть в воду. Сам он находился в Брюсселе, где были расположены главные части, но мы знали, что, как только возникнет необходимость, он окажется рядом с нами.
Никогда еще я не видел столько англичан сразу. Если честно, я относился к ним с некоторой долей презрения, как любой живущий на границе человек относится к своим соседям. Но в тех двух полках, к которым мы присоединились, оказались отличные ребята, и мы уживались с ними вполне мирно. Пятьдесят второй полк состоял из тысячи человек, и среди них было много ветеранов, воевавших с Наполеоном еще в Испании{63}. В большинстве своем это были оксфордширцы{64}. Девяносто пятый был стрелковым полком, и носили они не красные, а темно-зеленые мундиры. Странно было смотреть, как они запихивали в стволы завернутые в тряпье ядрышки, потом еще забивали их деревянными колотушками, а после этого стреляли дальше и точнее, чем мы. В то время вся эта часть Бельгии кишела британскими войсками. Недалеко от нас, возле Энгиена{65}, стояла гвардия, а с дальней стороны располагались кавалерийские полки. Понимаете, Веллингтону было очень важно развернуть все силы, потому что Бонапарт засел за своими крепостями и никто не мог точно предугадать, откуда он нанесет первый удар. С уверенностью можно было сказать лишь одно: выступит он там, где мы его меньше всего ожидаем. С одной стороны, он мог бы начать продвижение между нами и морем, чтобы отрезать нас от Англии, а с другой – вполне мог попытаться вклиниться между нашими и прусскими войсками. Но наш Герцог был не глупее, он окружил себя конницей и пехотой, как паутиной, поэтому, как только француз сделал бы первый шаг, он тут же мог направить туда всю свою мощь.
Мне в Ате жилось прекрасно, люди в моем полку подобрались добрые, уживчивые. Наш лагерь располагался на поле, принадлежавшем фермеру по фамилии Буа, прекрасному человеку, который подружился со многими из нас. В свободное время мы построили ему деревянный сарай, и много раз мы с Джебом Ситоном, парнем, который стоял в строю сразу за мной, развешивали на веревках его выстиранное белье, чтобы почувствовать запах мокрой ткани, напоминавший нам о доме. Интересно, живы ли еще этот добрый человек и его жена? Хотя вряд ли, уже тогда они были довольно пожилыми людьми. Иногда к нам присоединялся и Джим. Когда мы собирались на большой кухне этих фламандцев, он садился в стороне и попыхивал трубкой, но это был уже не тот Джим, которого я знал когда-то. Он и раньше был довольно жестким человеком, но после того, что произошло, и вовсе превратился в кремень. Улыбка исчезла с его лица, он даже почти перестал разговаривать. Ни о чем другом, кроме как о мести де Лиссаку за разлуку с Эди, он думать не мог. Бывало, он часами сидел, подперев голову рукой, и хмуро глядел в одну точку, погруженный в свои мысли. Сначала это сделало его мишенью для насмешек наших однополчан, но потом, когда они узнали его получше и поняли, что с этим человеком шутки плохи, на него перестали обращать внимание.
Вставали мы рано. С первыми лучами солнца вся бригада, как правило, была уже на ногах. Однажды утром, было это шестнадцатого июня, мы, как обычно, выстроились в шеренги. Генерал Адамс сидел на лошади прямо передо мной и давал какие-то указания полковнику Рейнеллу, однако внезапно он замолчал и стал всматриваться в дорогу, ведущую на Брюссель. Полковник тоже повернулся. Никто из строя пошевелиться не осмелился, но все до единого начали коситься на дорогу, и вскоре на ней показался офицер с кокардой генеральского адъютанта, который несся к нам на огромном сером в яблоках коне. Он уткнул лицо в гриву скакуна и изо всех сил хлестал его по шее концом уздечки, как будто спасался от какой-то ужасной опасности.
– Глядите-ка, Рейнелл, – воскликнул генерал. – Похоже на что-то серьезное. Как вы думаете, в чем дело?
Они оба пустили своих лошадей легким галопом ему навстречу, и Адамс вскрыл депешу, которую вручил ему гонец. Не успел разорванный конверт упасть на землю, как Адамс развернулся и, махнув над головой письмом, словно саблей, закричал:
– Разойтись! Общее построение и марш через полчаса.
И в следующую секунду все перемешалось. Топот, крики, – мы тут же узнали, что Наполеон еще вчера пересек границу, оттеснил прусскую армию и уже глубоко вклинился на нашу территорию со ста пятьюдесятью тысячами солдат к востоку от нас. Все поспешно разбежались по своим палаткам, чтобы успеть собрать вещи и поесть, и уже через час мы навсегда покинули Ат и Дендер. Причины для такой спешки были достаточно веские, потому что пруссаки ничего не сообщили Веллингтону, и несмотря на то, что, как только до него долетели первые известия о случившемся, он бросился из Брюсселя к ним на выручку, вряд ли ему хватило бы времени, чтобы успеть помочь нашим союзникам.
Утро было ярким и жарким, наша бригада маршировала по широкой бельгийской дороге, поднимая клубы пыли, и все мы с огромной благодарностью думали о том человеке, который додумался высадить по бокам дороги тополя, тень которых освежала нас лучше, чем вода. И с правой, и с левой стороны простирались поля, за ними шли другие дороги, одна поближе, а другая дальше, примерно в миле или даже больше от нас. По ближней дороге шла колонна пехотинцев, и мы устроили с ними настоящую гонку. Они так пылили, что нам было видно лишь стволы их ружей, да иногда через эту завесу проглядывали меховые киверы. Над всем этим возвышался их офицер, едущий верхом, и разноцветные, развевающиеся на ветру флаги. Это была одна из гвардейских бригад, но мы не могли понять, какая именно, потому что в этой кампании участвовало две бригады. Над дальней дорогой тоже клубилась пыль, но сквозь нее то и дело сверкали яркие вспышки, как от сотни нанизанных на нить серебряных бусин, и ветер доносил с той стороны такой грохот, такое бряцание и лязг, какого я никогда раньше и не слышал. Сам бы я ни за что не догадался, что это такое, но наши капралы и сержанты были опытными воинами, а рядом со мной как раз шел один из них с алебардой{66} на плече. Всю дорогу он поучал меня и давал советы.
– Это тяжелая кавалерия, – сказал он. – Видишь, двойной блеск? Это значит, что на них и каски, и кирасы{67}. Их называют Королевские драгуны, или Эннискилленцы, или Придворная гвардия. Слышишь, как гремят их доспехи? Но французские тяжелые кавалеристы нашим не чета. Во-первых, их в десять раз больше, а во-вторых, все они опытные воины. Стрелять по таким нужно или в лицо, или по лошади. Если такие пойдут на тебя, тут уж смотри в оба, а не то получишь в печень четырехфутовый меч, так что пикнуть не успеешь. Но что это? Слышишь? Старая музыка!
Пока он говорил, откуда-то издалека, с восточной стороны, донесся глухой и хриплый грохот канонады, похожий на рык какого-то кровожадного зверя – людоеда. И в ту же секунду сзади раздался крик: «Дорогу! Дорогу!», а потом: «Пропустить пушки!» Обернувшись, я увидел, что хвост колонны как бы раздвоился, люди бросились в разные стороны, уступая дорогу шести каурым лошадям, запряженным попарно, которые, таща за собой двенадцатифунтовую пушку, вклинились в образовавшуюся брешь. За ними шли еще и еще, всего я насчитал двадцать четыре упряжки, везущих пушки и подводы, на которых сидели люди в синих мундирах. Они с грохотом неслись по дороге, лязгали цепи, разносились страшные крики возниц, щелкающих кнутами; развевались гривы и хвосты лошадей, звенела сбруя. Потом раздался рев стоящих на обочине пехотинцев, который подхватили канониры, и я увидел надвигающееся на нас клубящееся серое облако, в котором мелькало бесчисленное множество гусарских киверов. Когда и оно скрылось впереди, мы снова сомкнулись, но грохот сделался еще более громким и грозным.
– Это были три батареи{68}, – сказал сержант. – Батарея Булла, батарея Веббера Смита и какая-то новая. А впереди есть еще – видишь, вот следы от девятифунтовки, эти же все были двенадцатифунтовыми. Если выбирать, под кого подставляться, лучше уж под двенадцатифунтовую, потому что девятифунтовая тебя перемалывает, а двенадцатифунтовая только рубит, как морковку. – И тут он принялся рассказывать о самых страшных ранах, которые ему довелось видеть, и от рассказа его я почувствовал, что кровь стынет у меня в жилах и словно превращается в лед. Все, кто маршировали рядом со мной, тоже побелели, словно лица их намазали мелом. – Да что там, – видя, какое впечатление произвели на меня его живописания, добавил он, – ты еще не так скривишься, когда тебе в брюхо заряд картечи влупит.
А потом я услышал, как рассмеялся один из старых солдат, и тут начал понимать, что этот человек пытается запугать нас. Тогда я тоже рассмеялся, и все, кто шел рядом, присоединились ко мне. Только смех этот звучал не слишком уверенно.
Солнце уже почти достигло зенита, когда мы остановились в небольшом местечке под названием Хал. Там был старый колодец, из которого я напился, и вода эта показалась мне слаще самого лучшего шотландского эля. Пока мы стояли, мимо нас проехали еще несколько батарей, потом три полка гусар, все бравые молодцы на красивых гнедых лошадях. Теперь грохот пушек сделался еще громче, и от этого звука я ощутил такую же внутреннюю дрожь, как несколько лет назад, когда, стоя на берегу с Эди, наблюдал за сражением торгового судна с каперами. Звук был такой оглушительный, будто битва происходила совсем рядом, прямо за рощей, которая виднелась неподалеку. Но мой товарищ сержант был опытнее меня.
– Это милях в двенадцати-пятнадцати, – объяснил он. – Можешь не сомневаться, генералам мы пока не нужны, а то как же, стали бы мы прохлаждаться здесь в Хале.
И он оказался прав, потому что буквально в следующую минуту к нам явился полковник и дал приказ составлять ружья в козлы и располагаться биваком. Весь день мы оставались на этом месте, пока мимо нас непрерывным потоком текли вереницы пехотинцев, кавалеристов, пушек, англичан, голландцев и ганноверцев{69}. Дьявольская канонада не затихала до вечера, то превращаясь в настоящий рокот, то затихая, пока в восемь часов вдруг не смолкла. Конечно же, всем нам хотелось узнать, что это означает, но мы понимали, что Железный Герцог знает, что делает, поэтому терпеливо ждали развития событий.
Следующее утро бригада провела в Хале, но около двенадцати часов прибыл связной от Герцога, и мы тут же двинулись дальше, дошли до деревушки, название которой я забыл, помню лишь, что оно начиналось на «Брен». Там мы остановились, и время остановилось вместе с нами, потому что совершенно неожиданно нас накрыла сильная буря. Сильнейший ливень превратил землю и все дороги в болото и настоящую трясину. Спасаясь от дождя, мы бросились в большой амбар и там обнаружили двух солдат, отставших от своих частей. Один из них был в килте, а второй оказался немцем из Немецкого легиона, который поделился с нами историей такой же мрачной, как и погода.
Бонапарт разгромил пруссаков еще вчера, так что нашим пришлось самим противостоять Нею{70}, но им удалось отбросить его назад. Вам-то сейчас все это кажется старыми рассказами из учебников истории, но представьте себе, как мы тогда толпились вокруг тех двух солдат в старом амбаре, толкались и дрались, чтобы услышать лишнее слово, как потом тех, кто что-то услышал, окружали толпы не услышавших. Как мы то смеялись, то ликовали, то хмурились, когда узнавали, как Сорок четвертый полк встретил кавалерию, как отступали голландцы и бельгийцы, как Королевский хайлендский полк окружил отряд отдыхающих улан и перебил их, пока они не успели взяться за оружие. Как уланы потом поквитались с ними, когда им удалось смять сопротивление Шестьдесят девятого и захватить одно из его знамен. Вдобавок мы узнали, что Герцогу пришлось отступать, чтобы не быть отрезанным от пруссаков, и пошел слух, что он намеревается собраться с силами и провести очередное большое сражение именно в том месте, где находились мы.
И скоро мы убедились, что это действительно так. К вечеру погода улучшилась, и мы пошли на располагавшуюся неподалеку гряду холмов, чтобы осмотреться. Мы увидели изумительно красивое хлебное поле, переливающееся золотом, с налитыми колосьями ржи почти в человеческий рост, и зеленое пастбище рядом с ним. Более умиротворяющей картины нельзя себе и представить. Вокруг, куда ни посмотри, из-за янтарно-желтых холмов среди тополей выглядывали шпили деревенских церквушек.
Но всю эту красоту перечеркивала ломаная линия красных, зеленых, синих и черных мундиров. Один край этого бесконечного строя проходил настолько близко к нам, что мы могли бы перекрикиваться с солдатами, которые составляли в козлы свои мушкеты, а другой терялся вдалеке среди деревьев справа от нас. Потом на дорогах мы заметили лошадей, натужно тянущих по размытой грязи подводы и пушки, холодно поблескивающие на солнце, и спины людей, которые по колено в бурой каше изо всех сил толкали руками вязнущие колеса. Пока мы стояли и смотрели на все это, все новые и новые полки выходили на поле, все новые и новые бригады занимали позиции на холмах, и, прежде чем зашло солнце, более шестидесяти тысяч человек выстроились в линию, которая должна была не пропустить Наполеона в Брюссель. Но потом снова хлынул дождь, и мы, Семьдесят первый полк, бегом вернулись в свой амбар, где нам было намного уютнее, чем большинству наших товарищей, которые лежали в грязи под проливным дождем до самого утра.
Глава XII Тень на земле
Утром все еще моросило. Свинцовые тучи медленно проплывали низко над землей, дул холодный пронизывающий ветер. Меня охватило странное ощущение, когда я открыл глаза и подумал, что сегодня я буду участвовать в битве, хотя никто из нас тогда и не догадывался, что это будет за битва. С первыми лучами солнца все уже были на ногах. Открыв дверь нашего амбара, мы вдруг услышали удивительную музыку, которая доносилась откуда-то издалека. Никогда мне еще не приходилось слышать таких чарующих звуков. Все замерли, прислушиваясь. Музыка была красивой, невинной и немного грустной. Но наш сержант рассмеялся, увидев, как она захватила нас.
– Это военные сигналы французов, – сказал он. – Выходите, полюбуйтесь на утро, некоторые из вас до следующего не доживут. Там есть на что посмотреть.
Мы вышли, все еще прислушиваясь к музыке, и поднялись на высотку, у подножия которой располагался наш амбар. С другой стороны на расстоянии половины мушкетного выстрела на склоне пригорка располагался аккуратный фермерский домик с крошечным яблоневым садом, обнесенным невысокой оградой. Вокруг домика копошились люди в красных мундирах и высоких меховых шапках, они заколачивали окна и баррикадировали двери.
– Это легкая батарея гвардии, – пояснил сержант. – Они будут держать эту ферму до последнего вздоха. Но посмотрите туда. Видите огни? Это костры французов.
Мы посмотрели на противоположный край долины, где тянулась цепочка невысоких холмов, и увидели тысячу желтых точек, над которыми густой черный дым медленно поднимался в пропитанный влагой воздух. На другой стороне поля белел еще один фермерский домик. Неожиданно на горке рядом с ним показался небольшой отряд всадников. Они остановились и стали смотреть в нашу сторону. Дюжина гусар осталась чуть позади, вперед выехали пять человек, трое из которых были в шлемах, один с длинным прямым красным пером на высокой шапке и еще один в низкой шапочке.
– Черт возьми, это же он! – закричал наш сержант. – Это же Бонапарт! Вот тот на серой лошади. Даю свой месячный оклад, это он!
Я напряг глаза, чтобы получше рассмотреть человека, который своей тенью накрыл всю Европу, из-за которого многие народы четверть века не ведали покоя, который дотянулся даже до нашей маленькой оторванной от остального мира овечьей фермы и вырвал нас, меня, Эди, Джима, из той привычной размеренной жизни, которой жили наши предки. Насколько я мог рассмотреть, это был невысокий коренастый мужчина с квадратными плечами, в руках у него была короткая сдвоенная подзорная труба, он прижимал ее к глазам, широко расставив в стороны локти, видимо, осматривал наши позиции. Неожиданно у себя над ухом я услышал дыхание, это был Джим. С горящими, как два уголька, глазами он чуть ли не уткнулся подбородком мне в плечо.
– Это он, Джок, – сипло прошептал мой друг.
– Точно, сам Бонапарт! – кивнул я.
– Нет, нет, это он! Этот де Лапп, или де Лиссак, или как там этого мерзавца зовут. Он.
И в то же мгновение я понял, о ком он говорит. Это был всадник с красным пером в шапке. Даже с такого расстояния я узнал обвод его плеч и посадку головы. Я схватил обеими руками Джима за локоть, потому что увидел, как вскипела его кровь при виде этого человека, и понял, что он был готов на любое безумие. Но как раз в этот миг Бонапарт немного склонился в сторону, сказал что-то де Лиссаку, и весь отряд развернулся и скрылся из виду, а над одним из соседних холмов взвилось белое облачко и раздался звук выстрела. Тут же и над нашей позицией затрубили сбор, и мы бросились к оружию. Вдоль всей позиции загремели выстрелы, и мы уж подумали, что битва началась, но оказалось, что это всего лишь наши отряды проверяют, не отсырели ли за ночь фитили. С наших позиций открывался такой вид, ради которого стоило пересечь море. На наших холмах начиналась и тянулась до деревни в двух милях от нас пестрая линия из красных и синих мундиров. Однако по строю прошел шепот, что синих мундиров было намного больше, чем красных, потому что бельгийцы вчера струсили и отошли, оставив у нас только двадцать тысяч. Впрочем, даже наши британские части наполовину состояли из ополченцев и новобранцев, потому что большинство опытных, обстрелянных полков сейчас только возвращались из-за океана, куда они были направлены воевать с каким-то болваном, чего-то там не поделившим с нашими американскими родственниками. И все же мы видели меховые шапки гвардейцев (там было две мощные бригады), береты шотландских горцев, синие мундиры старого немецкого легиона, красные полоски бригады Пакка и бригады Кемпта{71} и шеренгу одетых в зеленую форму стрелков впереди, и мы знали: что бы ни произошло, эти люди будут стоять на своих позициях, и есть человек, который поведет их всех за собой и будет точно знать, кто где должен находиться.
С французской стороны мы видели лишь костры, да время от времени на холмы выезжали всадники. Но, когда мы всматривались в позиции противника, вдруг раздался громкий рев их горнов и с холмов повалило все их войско. Бригада за бригадой, дивизия за дивизией, пока все склоны по всей длине до самого поля не сделались синими от их кителей и не озарились сверканием их оружия. Казалось, им не будет конца, со склонов стекали все новые и новые синие реки. Наши солдаты наблюдали за этим грандиозным скоплением, опершись о мушкеты, покуривая трубки и слушая наставления бывалых воинов, которым уже приходилось биться с французами. Потом, когда пехота выстроилась у подножия холмов длинными и широкими колоннами, сверху, покачиваясь и подпрыгивая на неровностях, тяжело скатились их пушки. Приятно было наблюдать, как ловко и умело их снимали с передков и готовили к бою. А затем показалась кавалерия, по меньшей мере тридцать полков неторопливой рысью спустились с холмов, покачивая перьями и пиками, блестя кирасами и сверкая саблями, и выстроились с флангов и в арьергарде длинными колышущимися линиями.
– Вот кого надо бояться, когда дойдет до дела! – произнес наш сержант. – Это сущие дьяволы. Видите вон тот полк посередине в больших высоких шапках, там, рядом с фермой? Это старая гвардия, сыны мои, двадцать тысяч, все с пиками… седые черти, которые ничем кроме войны никогда в жизни не занимались. На двоих наших приходится трое их, а пушек у них вдвое больше, чем у нас, и, клянусь Богом, они сделают все, чтобы вы, новобранцы, скоро запросились домой к мамочкам.
Сержант наш был не из тех людей, которые могут поддержать боевой дух перед боем, но он участвовал во всех битвах, начиная с Ла-Коруньи, и на груди его висела медаль с семью планками, поэтому он имел право разговаривать так, как ему хотелось.
Когда французы выстроились в боевые порядки, мы заметили небольшую группу всадников, сверкающих серебром, золотом и пурпуром, которые быстро проскакали между колоннами, и полки приветствовали их громогласными криками, нам даже было видно, как вверх взметнулись десятки рук. Но через миг шум стих. Две армии замерли лицом к лицу в абсолютной грозной тишине… Эту картину я до сих пор часто вижу во снах. Потом неожиданно по стоящим прямо перед нами частям прошла волна, из глубины плотных синих рядов выдвинулась неширокая конная колонна и двинулась на ферму, располагавшуюся прямо под нами. Они не сделали и пятидесяти шагов, как с левой стороны от нас громыхнула пушка английской батареи, и битва при Ватерлоо{72} началась.
Не мне описывать, как проходило это сражение, и, поверьте, я бы даже не стал затрагивать подобную тему, если бы не случилось так, что наши судьбы, судьбы простых людей из маленькой шотландской фермы, волею случая заброшенных на это поле, не оказались бы связанными с ним так же, как судьбы иных королей и императоров. По правде говоря, об этой битве я узнал больше из книжек, чем из того, что видел собственными глазами. Да и что я мог видеть, кроме плеч своих товарищей по бокам да огромного белого облака дыма из своего кремневого ружья впереди? Из книг и из рассказов других я узнал, как выступила тяжелая кавалерия, как она смела знаменитых кирасиров и как была разбита, не успев отступить. Оттуда же я узнал о последовавших за этим атаках, о том, как бельгийцы отступили, а Пакк и Кемпт остались на своих позициях. Сам я могу говорить лишь о том, что нам в течение того длинного дня удавалось разглядеть сквозь клубы дыма и расслышать, когда на какую-то минуту смолкал грохот стрельбы. Об этом я и собираюсь рассказать.
По замыслу Герцога наш полк находился на правом фланге и стоял в резерве, на тот случай, если Бонапарт сумеет обойти наши позиции с этой стороны с тем, чтобы ударить нам в тыл. Поэтому мы, еще одна британская бригада и ганноверцы сначала стояли без дела в ожидании приказов. Рядом с нами находились и две бригады легкой кавалерии, но французы напирали на центр, поэтому мы были брошены в дело только вечером.
Английская батарея, сделавшая первый выстрел, все еще гремела слева от нас, справа чуть дальше грохотали пушки немцев, поэтому все вокруг заволокло дымом. Однако дым этот был не настолько непроглядным, чтобы скрыть нас от линии французской артиллерии, находившейся прямо перед нами. С вражеской стороны грянул залп, ядра засвистели в воздухе и опустились прямо в середину нашей позиции. Услышав этот жуткий свист у себя над головой, я непроизвольно опустил голову, но наш сержант ткнул меня в спину древком алебарды.
– Нечего кланяться, – крикнул он. – Вот когда в тебя попадут, тогда и будешь гнуть шею.
Одно из этих ядер разорвало на куски пятерых человек. Я потом видел его, оно лежало на земле, как мяч, который окунули в бочку с кровью. Другое ядро со звуком, похожим на шлепок камня о жидкую грязь, пробило насквозь лошадь адъютанта, перебив ей позвоночник. Животное рухнуло на землю и осталось неподвижно лежать, напоминая гору красного крыжовника. Еще три ядра опустились чуть правее, и по крикам мы поняли, что и они угодили в цель.
– Эх, Джеймс, вы лишились доброго коня, – воскликнул находившийся прямо передо мной майор Рид, глядя на адъютанта, с сапог и бриджей которого стекала густая кровь.
– Я в Глазго отдал за него целых полсотни, – с жалостью в голосе сказал адъютант. – Майор, вам не кажется, что теперь, когда пушки к нам пристрелялись, людям лучше залечь?
– Нет! – бросил майор. – Они – новобранцы, Джеймс, им это пойдет на пользу.
– Они еще насмотрятся на такое сегодня, – пробурчал адъютант, но в эту секунду полковник Рейнелл увидел, как справа и слева от нас стрелки и Пятьдесят второй полк пошли вниз, и мы получили команду растянуться. Ну и обрадовались же мы, когда услышали, как на то место, где мы только что стояли, буквально за нашими спинами, воя, как голодные собаки, стали опускаться ядра. Но и после этого по частым глухим ударам, разлетающейся во все стороны земле, крикам и топоту ног мы понимали, что несем большие потери.
Все еще моросил редкий дождь, и пропитанный влагой воздух не давал дыму подняться над землей, поэтому мы лишь урывками видели, что творится на поле перед нами, хотя бесперебойный грохот орудий давал понять, что бой кипит по всей линии фронта. Все четыре сотни пушек молотили одновременно, и их рева было достаточно, чтобы разорвать барабанные перепонки. Многие из нас еще много дней после этой битвы не слышали ничего, кроме непрекращающегося свиста в ушах. На холме прямо напротив нас стояла французская пушка, и нам было прекрасно видно копошащихся у нее канониров. Все они были невысокого роста, в обтягивающих лосинах и высоких киверах с торчащими перьями. Но двигались они не переставая, как стригальщики на овечьей ферме, таскали ядра, обтирали орудие, наводили его на цель. Когда я первый раз их увидел, их было четырнадцать, под конец на ногах осталось только четверо, но они все так же усердно трудились, не останавливаясь ни на минуту.
Ферма, которую называли Гугомон, находилась у подножия нашего холма, прямо под нами, и все утро мы наблюдали за тем, какая яростная битва кипела там. Стены, окна и весь фруктовый сад фермы были охвачены огнем и дымом, и оттуда доносились такие ужасные крики и вопли, каких мне еще не приходилось слышать. Этот, судя по виду, бывший замок был сожжен наполовину и почти разрушен ядрами; десять тысяч человек пытались пробиться через его ворота, но четыре сотни защитников удерживали этот бастион утром, и две сотни столь же стойко держались в нем вечером, так что нога француза так и не переступила его порог. Но как же сражались эти французы! Их собственные жизни были для них что грязь под ногами. Был там один, я до сих пор его помню, крепкий рыжий парень на костыле. Когда на какую-то секунду наступило затишье, он сам, прихрамывая, подошел к боковым воротам Гугомона, стал колотить в них и кричать своим людям, чтобы они шли к нему. Пять минут он расхаживал вдоль стены, из каждой щели которой торчали стволы противника, пока наконец брауншвейгский стрелок из сада не снес ему голову одним выстрелом. И таких, как он, было множество, потому что весь день, когда французы не штурмовали Гугомон всеми силами, они подходили к его стенам по двое-по трое, и лица у них были такие, словно за ними идет целая армия.
И так мы пролежали на своем холме все утро, наблюдая с высоты за боем у стен Гугомона. Потом Герцог понял, что с правого фланга ему ничего не угрожает, и решил применить нас для дела.
Французские стрелки, обойдя ферму, выдвинулись вперед и залегли в хлебах, откуда принялись вести прицельный огонь по нашим канонирам. По левую руку от нас полегли три расчета{73} из шести. Но Герцог видел все и успевал всюду. Скоро он подлетел к нам на своем скакуне – худой темноволосый жилистый мужчина с необычайно яркими глазами, горбатым носом и большой кокардой на шляпе. С ним прискакало человек двенадцать офицеров, все веселые, словно это была не война, а охота на лис. К вечеру из этих двенадцати в живых не осталось никого.
– Ну что, Адамс, жарко приходится? – крикнул он, сдерживая коня.
– Очень жарко, ваша светлость, – ответил наш генерал.
– Ничего, выстоим, я думаю. Но нельзя позволить этим стрелкам заглушить батарею! Выбейте их оттуда, Адамс.
И тогда я впервые почувствовал, какой дьявольский огонь проходит по твоим жилам, когда ты идешь в бой. До сих пор мы занимались только тем, что оставались на месте и умирали, а это самое утомительное занятие на свете. Теперь настала наша очередь поработать, и, клянусь Богом, мы были готовы к этому. Мы вскочили, вся бригада, выстроились в четыре шеренги и решительно бросились в ниву. Пока мы бежали к полю, стрелки перевели огонь на нас, но потом, как коростели, бросились врассыпную, сутулясь и пряча головы, с мушкетами за спинами. Половина из них ушла, но половину мы настигли, и первым, кто попался нам под руку, был их офицер: он был очень толстым и не мог бежать быстро. Меня всего передернуло, когда справа от себя я увидел, как Роб Стюарт вонзил штык в его широкую спину, и услышал истошный вопль умирающего. В этом поле пленных не брали и пощады не было никому. Кровь у наших ребят горела, и неудивительно, ведь эти осы все утро жалили нас, когда мы не могли даже их рассмотреть.
Но скоро мы выбежали с поля с противоположной стороны и сквозь дым увидели перед собой всю французскую армию. Нас от вражеской диспозиции отделяло лишь два луга и узкая тропинка между ними. Завидев неприятеля так близко, мы закричали и, если бы были предоставлены самим себе, бросились бы прямо на них, потому что глупые неопытные солдаты никогда не понимают, к чему может привести чрезмерная удаль, пока не попадают в мясорубку, но через поле за нами легким галопом ехал Герцог, и в этот решающий миг он что-то прокричал генералу, после чего офицеры выехали вперед, перекрыли нам дорогу и, угрожая оружием, заставили остановиться. Затрубили горны, началась толкотня и давка, сержанты, бранясь на чем свет стоит, стали оттеснять нас назад и строить в ряды, замахиваясь алебардами, и быстрее, чем я пишу эти строки, нашу бригаду разбили на четыре небольших плотных каре, выстроенных эшелонами, как это называется по-военному, так, чтобы каждый мог стрелять, выставив ствол перед лицом стоящего впереди.
Для нас это оказалось спасением, что было понятно любому, даже такому неопытному солдату, как я. Чуть правее от нас был невысокий отлогий холм, и из-за него донесся такой звук, который может сравниться разве что с рокотом волн на бервикском берегу, когда ветер дует с востока. Земля вдруг задрожала, и этот оглушительный грохот, казалось, наполнил все вокруг.
– Приготовиться, Семьдесят первый! Приготовиться! – донесся откуда-то сзади истошный крик нашего полковника, хотя перед нами был лишь покрытый зеленой травой, усыпанный ромашками и одуванчиками холм.
И тут совершенно неожиданно над склоном появились восемь сотен сверкающих медных шлемов с длинными развевающимися султанами из конских волос, а потом восемь сотен свирепых коричневых лиц, сверкающих глазами между лошадиных ушей. Потом заблестели металлические нагрудники, взвились в воздух сабли, замелькали гривы, раздувающиеся красные лошадиные ноздри, копыта. Тут заговорили наши мушкеты, но пули отскакивали от их кирас, словно град от оконного стекла. Я выстрелил вместе с остальными и тут же начал как можно скорее перезаряжаться, пытаясь что-либо рассмотреть сквозь дым. Мне показалось, что какая-то тонкая и длинная штука закачалась там из стороны в сторону. Но тут прозвучал сигнал прекратить огонь, неожиданный порыв ветра отнес в сторону завесу, скрывающую от нас холм, и мы увидели, что произошло.
Я ожидал увидеть, что половина их полка будет валяться на земле, но то ли их защитила броня, то ли мы по неопытности и от испуга пальнули выше, чем надо, но наша стрельба не причинила им большого урона. На земле лежало около тридцати лошадей, три из них вповалку в каких-то десяти ярдах от меня. Та, что была посередине, лежала на спине всеми четырьмя ногами вверх. Одна ее нога еще дергалась, это ее я разглядел сквозь дым. На земле лежало человек восемь-десять убитых и примерно столько же раненых сидели на траве, приходя в себя после падения. Один из них во всю глотку орал: «Vive l’Empereur!»[19], а еще один, такой же здоровенный парень с черными усами, раненный в бедро, который сидел, привалившись спиной к своей мертвой лошади, поднял свой карабин, прицелился и выстрелил, совершенно спокойно, словно на соревнованиях по меткости. Пуля его попала прямо в лоб Энгесу Майерсу, который стоял через двух человек от меня. Потом раненый потянулся к другому карабину, который валялся рядом, но прежде, чем он успел к нему прикоснуться, большой Ходжсон, из гренадеров, подбежал и проколол ему штыком горло. Мне даже стало жаль этого красивого отважного человека.
Сначала я подумал, что кирасиры, пока висел дым, отступили, но обратить в бегство этих людей было не так-то легко. Они просто свернули в сторону, но там их встретили огнем два остальных наших каре. Тогда они перемахнули через небольшой заборчик, налетели на полк ганноверцев, которые выстроились там цепочкой, и в мгновение ока порубили их на куски. Та же участь ждала бы и нас, если бы мы замешкались хоть на секунду. Странно было наблюдать, как эти здоровенные немцы бегали и кричали, а возвышающиеся над ними кирасиры махали во все стороны длинными тяжелыми саблями, рубили и кололи их, не ведая пощады. Я уверен, что из всего полка в живых осталось не больше сотни человек. Французы поскакали обратно мимо нас, крича и потрясая клинками, красными по самые рукояти. Они это сделали нарочно, чтобы мы начали по ним стрелять, но наш полковник был опытным бойцом и не дал команды открыть огонь, потому что с такого расстояния наши пули причинили бы им мало вреда, а они налетели бы на нас в ту же секунду, когда мы начали бы перезаряжаться.
Потом эти всадники опять скрылись за холмом справа, но мы прекрасно понимали, что, как только мы разомкнем ряды, в ту же секунду они появятся снова. Но и оставаться на месте нам тоже было нельзя, потому что они сообщили о нашем расположении своей артиллерийской батарее из двенадцати пушек, которая располагалась в нескольких сотнях ярдов от нас за холмами. Самих пушек мы не видели, но из-за холмов вдруг полетели ядра и посыпались прямо на наши головы. В военном деле это называется «навесной огонь». Потом на верхушку одного из пригорков выбежал их канонир и воткнул в мягкую влажную землю специальную палку, чтобы скорректировать огонь. И это перед дулами целой бригады. Но никто по нему не выстрелил, подумав, что это сделает кто-нибудь другой. Когда он скрылся, с нашей стороны выбежал Сэмсон, самый младший из прапорщиков в нашем полку, и сбил эту палку, но тут рядом с ним словно из-под земли вырос улан и нанес ему такой мощный удар пикой в спину, что пробил его насквозь. Острие пики вышло наружу прямо между второй и третьей пуговицами его мундира. «Элен! Элен!» – вскрикнул он и повалился лицом в грязь, а улан, которого чуть не разорвали на куски мушкетные пули, упал на него сверху, все еще держась за пику. Это грозное оружие словно связало их, превратив после смерти в единое странное существо.
Но когда батарея снова открыла огонь, нам было уже не до размышлений. Каре – не только прекрасный способ отбить атаку всадников, но и идеальная мишень для пушечных ядер. Мы это поняли, когда наши ряды стали стремительно редеть и воздух переполнился жуткими чмокающими и чавкающими звуками железа, врывающегося в живую плоть и кровь и разрывающего ее на куски. После десяти минут этого ада мы переместили наше каре на сто шагов вправо. Правда, это место тут же занял другой наш отряд из ста двадцати солдат и семи офицеров. Но потом пушки снова нашли нас, и тогда мы попробовали развернуться и выстроиться в линию, однако в ту же секунду из-за холмов на нас снова обрушилась конница, на этот раз уланы.
И поверьте, мы были рады услышать стук копыт их лошадей, потому что знали: это означает, что пушки хоть ненадолго смолкнут, и мы сможем дать сдачи врагу. И удар наш был намного тяжелее, чем в предыдущий раз, потому что теперь мы были злы, хладнокровны и беспощадны. В ту минуту я почувствовал, что для меня жизни этих всадников значат не больше, чем жизни овец на ферме в Корримьюре. Постепенно ты начинаешь забывать о страхе и перестаешь думать о том, как спасти свою шкуру, и вот тогда у тебя возникает желание отомстить кому-то за то, что ты пережил. В тот раз мы отыгрались на этих уланах. Они не были защищены кирасами, и мы выбили из седел человек семьдесят. Может быть, если бы мы увидели семьдесят матерей, оплакивающих своих сыновей, мы не ощутили бы такой радости, но в бою мужчины звереют, и когда ты держишь врага за горло, а он держит тебя, мыслей у вас в голове не больше, чем у бодающихся быков.
Потом наш полковник принял важное и мудрое решение. Предположив, что после кавалерийского налета по нам снова ударит артиллерия противника, он выстроил нас в линию и отвел чуть глубже, в небольшую низину между холмами. Там ядра достать нас не могли, и у нас появилось время немного отдышаться, а нам это было необходимо, потому что полк наш таял, как сосулька на солнце. Но как бы туго ни пришлось нам, другим было еще тяжелее. Все пятнадцать тысяч голландцев и бельгийцев к этому времени уже были разбиты наголову, в наших позициях образовалась брешь, по которой французская кавалерия спокойно перемещалась, как ей вздумается. К тому же у французов пушек было больше и стреляли они лучше, чем мы. От нашей тяжелой кавалерии уже почти ничего не осталось, так что дела у нас шли прескверно. И все же Гугомон, хоть и превратился уже к этому времени в залитые кровью развалины, все еще оставался в наших руках и все британские полки по-прежнему стойко стояли на своих позициях. Хотя, если говорить всю правду, что и надлежит делать любому писателю, среди синих мундиров, отступивших назад, было много и красных. Но это были неопытные новобранцы или просто трусы, которых хватает во всех армиях, поэтому я повторю еще раз: ни один британский полк не дрогнул. Общий ход баталии мы, конечно же, не могли обозреть, но всем было и так понятно, что поля позади нас были полны дезертиров. Мы же свой правый фланг держали крепко. К тому времени уже подошли передовые отряды пруссаков, и Наполеон направил двадцать тысяч своих солдат им навстречу, что уравняло наши силы, хотя мы тогда этого не знали, и, когда в один прекрасный момент французская кавалерия вклинилась между нами и остальными нашими силами, мы решили, что мы – единственная бригада, оставшаяся от всей армии. Стиснув зубы, мы решили отдать свои жизни как можно дороже.
Было уже то ли четыре, то ли пять часов вечера, большинство из нас ничего не ело со вчерашнего вечера, к тому же все мы промокли до нитки. Мелкий дождь не прекращался весь день, но последние несколько часов у нас просто не было времени думать о погоде или еде. Теперь же мы начали потуже затягивать ремни и осматриваться по сторонам, узнавать, кто ранен, кто убит. Я очень обрадовался, когда увидел Джима. Лицо у него почернело от пороха, он стоял справа от меня, опираясь на ружье. Он заметил, что я смотрю на него, и громко спросил, не ранен ли я.
– Я в порядке, Джим, – крикнул я в ответ.
– Боюсь, я тут только трачу время, – мрачно сказал он, когда я к нему подошел. – Но все еще не закончено. Богом клянусь, я его достану, или он достанет меня!
Бедный Джим, он до сих пор думал о нанесенной ему обиде. Видя его взгляд и горящие каким-то нечеловеческим огнем глаза, я начал подозревать, что у него действительно помутился рассудок. Он всегда был очень чувствительным человеком, любую мелочь принимал близко к сердцу, а с тех пор, как Эди покинула его, так и вовсе обезумел.
Примерно в это время мы стали свидетелями двух отдельных схваток. Говорят, что в старые времена, когда людей еще не учили воевать армиями, подобные поединки были обычным делом. Отлеживаясь в низине, мы вдруг увидели двух всадников, которые во всю прыть неслись по одному из холмов перед нами. Впереди, пригнувшись к самой шее лошади, скакал английский драгун, а за ним мчался французский кирасир, седовласый старик на огромной вороной кобыле. Наши ребята недовольно закричали, потому что нам показалось негоже, что англичанин так удирает от француза, но, когда они пронеслись мимо нас, стало понятно, в чем дело. Драгун потерял свою саблю, и подобрать какое-то другое оружие у него просто не было времени, потому что преследователь его был слишком близко. Но потом, может быть, услышав наши крики, он решился на отчаянный шаг. Заметив пику, лежащую на земле рядом с убитым французским воином, он резко натянул поводья, чтобы заставить преследователя проскочить мимо на всей скорости, ловко выпрыгнул из седла и схватился за пику, но противник его был слишком опытен, чтобы купиться на такую уловку. Он остановил свою лошадь почти одновременно с драгуном. Англичанин успел только поднять пику с земли, как кирасир ударил его наотмашь саблей, разрубив чуть ли не пополам. На все ушло не больше секунды. После этого француз пустил свою лошадь легким галопом обратно, обернулся и посмотрел на нас через плечо, осклабившись, как рычащая собака.
В этой схватке победил француз, но вскоре наша сторона отквиталась. Неприятель выдвинул вперед линию стрелков, целью которых были не мы, а батареи, находившиеся справа и слева от нас. Но мы послали им навстречу две роты из Девяносто пятого полка. Странно было слышать стрекочущий звук, который раздался, когда оба отряда начали стрелять одновременно. Среди французов был и офицер, высокий тощий мужчина в накидке, и, когда наши стрелки пошли вперед, он вдруг выбежал и остановился между двумя сторонами в позе фехтовальщика, подняв саблю вверх и слегка запрокинув голову. Я и сейчас помню его холодные глаза, наполовину прикрытые веками, и презрительную улыбку. Видя это, из наших рядов вышел младший офицер стрелков, рослый, красивый парень, и бросился на француза, размахивая странной кривой саблей, которые носят стрелки. Они столкнулись, как два горных барана, потому что бежали навстречу друг другу со всех ног. От удара оба полетели на землю, но француз оказался внизу. Наш парень поломал свою саблю, к тому же француз проткнул его левое плечо, но он был сильнее противника и сумел прикончить его обломком своего клинка. Я подумал, что сейчас французские стрелки изрешетят его пулями, но ни один из них так и не выстрелил, и он вернулся в свой отряд. Одна сабля торчала у него в плече, а вторая, поломанная, была зажата в руке.
Глава XIII Конец бури
Сейчас, когда я вспоминаю тот день, мне кажется, что из всего удивившего меня в этой битве самым поразительным было то, какое воздействие она оказала на моих товарищей. Некоторые из них вели себя так, словно для них все это было привычным повседневным делом, другие от первого до последнего выстрела молились, а третьи ругались и сыпали такими проклятиями, что кровь стыла в жилах. Был там один парень, он стоял рядом со мной, слева, Майк Тредингем его звали, так тот весь день рассказывал о своей тетушке, старой деве по имени Сара, и о том, как после ее смерти выяснилось, что она все свои сбережения завещала на строительство дома для детей погибших моряков, хотя обещала все оставить ему. Не помню, сколько раз он повторил эту историю, но, когда все кончилось, он клялся, что за весь день не произнес ни слова. Что касается меня, то я не могу сказать с уверенностью, говорил я что-то или молчал, но точно помню, что в голове у меня было чисто и ясно как никогда, я все время вспоминал родителей, свой дом, кузину Эди, ее лукавый и насмешливый взгляд и де Лиссака с его кошачьими усами, ну и, разумеется, все те события, происходившие в Вест-инче, которые и привели нас сюда, на это бельгийское поле под дула ста пятидесяти пушек.
Весь день ужасающий грохот пушек не смолкал, но потом они вдруг разом замолчали и появилось такое ощущение, какое бывает, когда во время грозы наступает затишье и ты понимаешь, что сейчас грянет самый страшный удар. С дальнего фланга еще доносился гул, там напирали пруссаки, но до них было две мили. Остальные батареи, как французские, так и английские, молчали. Дым начал постепенно рассеиваться над полем, и армии наконец получили возможность посмотреть друг на друга. Картина, открывшаяся нам, была ужасной, потому что то место, где был расположен немецкий легион, превратилось теперь в сплошное кровавое месиво, а ряды французов казались такими же плотными, как и перед битвой, хотя мы, конечно же, понимали, что и они во время атак потеряли много тысяч. Потом с их стороны донеслись радостные крики, и внезапно все их батареи ударили снова с таким грохотом, по сравнению с которым ад, творившийся здесь раньше, показался детской забавой. Шум стал, может быть, в два раза сильнее, потому что пушки французов переместились вдвое ближе и теперь стояли прямо на краю склонов в окружении защищающей их кавалерии.
Когда разразился этот дьявольский гром, все до последнего барабанщика поняли, что это означает. Наполеон делал последнюю попытку сокрушить нас. Часа через два день закончится, и нам оставалось только выстоять это время. Измученные, голодные, уставшие, мы молились, чтобы у нас хватило сил продержаться.
Их пушки не могли причинить нам особого вреда, потому что мы залегли в защищенном месте и были готовы в любую секунду, если покажется конница, подняться и встретить ее штыками. Но за гулом орудий вдруг послышался более тонкий, резкий звук, похожий на звон, гремящий, дикий, раздирающий душу лязг.
– Это pas-de-charge![20] – закричал кто-то из офицеров. – Вот теперь они возьмутся за нас всерьез!
И, как только он это произнес, мы увидели нечто странное. Какой-то француз в форме офицера гусар галопом мчался в нашу сторону на невысокой гнедой лошади и истошно кричал: «Vive le roi! Vive le roi!»[21], и это было все равно что назвать себя дезертиром, потому что за короля воевали мы, они-то сражались за императора. Проезжая мимо нас, он прокричал по-английски: «Гвардия идет! Гвардия идет!» и скрылся вдали, словно его ветром сдуло. В ту же секунду у наших позиций на взмыленном коне появился адъютант. Никогда еще я не видел, чтобы у человека было такое красное лицо.
– Вы должны их остановить, иначе нам конец! – закричал он генералу Адамсу так, чтобы его услышали и все остальные.
– А как там дела? – спросил генерал.
– От двух полков тяжелой кавалерии осталось два неполных эскадрона, – ответил он и захохотал как человек, у которого начинают сдавать нервы.
– Не хотите ли присоединиться к нам? Мы будем очень рады принять вас у себя, – сказал с поклоном генерал и улыбнулся, словно приглашал его принять участие в чаепитии.
– С огромным удовольствием, – воскликнул он, сдергивая с головы шляпу, и в следующую секунду все наши три полка соединились и бригада растянулась шеренгой в четыре ряда через низину, в которой мы укрывались от пушек, и дальше, до того места, где мы видели французскую армию.
Сейчас их почти невозможно было рассмотреть, только красные вспышки выстрелов мелькали в клубах дыма да черные силуэты неустанно, как духи смерти, носились вокруг пушек, этих орудий смерти. Но над всем этим звон и лязг, сопровождаемый криками и ровным топотом тысяч ног, становился все громче и громче. Потом в дымке появились размытые очертания какой-то огромной черной массы, которая росла и сгущалась, пока мы не увидели, что это сотня человек, быстро марширующих в нашу сторону в один эшелон, в высоких меховых шапках, под которыми сверкали блестящие медные козырьки. За этой сотней последовала еще одна, а за ней еще одна и еще, и еще, они исполинской змеей выходили из пушечного дыма и двигались на нас, и нам начало казаться, что конца им не будет никогда. Впереди колонны бежала группа застрельщиков{74}, за ними – барабанщики. И все вместе они продвигались вперед каким-то легким шагом. По бокам колонны шли офицеры, которые что-то грозно кричали и махали саблями. Впереди колонны были и всадники, человек двенадцать, они пели, и один из них поднимал высоко вверх на сабле свою шапку. Так мужественно, как воевали французы в тот день, не воевал еще никто.
Смотреть на них был тем удивительнее, что они вышли прямо перед своими же пушками, и поэтому никакой помощи получить от них не могли, хотя теперь оказались в зоне обстрела двух батарей, располагавшихся по бокам от нас. За весь день батареи успели прекрасно пристреляться, поэтому по телу этой циклопической черной змеи то и дело проходили длинные кровавые шрамы, но она ни на секунду не замедляла движение. Колонна была уже так близко, что каждый выстрел наших пушек выбивал десяток человек из их строя, но на место погибших сразу же становились те, кто шел следом, и они продолжали идти вперед тем же ровным, четким шагом. Головы их были повернуты в нашу сторону, хотя с одной стороны от них располагался Девяносто пятый полк, а с другой – Пятьдесят второй.
Я уверен, что, если бы мы тогда замешкались хоть на минуту, Гвардия разбила бы нас, потому что шеренга в четыре ряда никак не может сдержать натиск такой колонны. Но в ту секунду Колберн, полковник Пятьдесят второго, развернул свой правый фланг, чтобы вывести его к боку колонны, что заставило их остановиться. Когда это произошло, от их передних рядов до нас оставалось шагов сорок, и мы могли хорошо их рассмотреть. Мне сейчас смешно вспоминать, как я, глядя на них, удивился, потому что всегда считал французов нацией низкорослой. В их передовом отряде не было ни одного, кто не смог бы поднять меня одной рукой, как ребенка, а благодаря высоким шапкам они казались настоящими великанами. Все они до единого были сухими, жилистыми, мускулистыми мужчинами, с морщинами вокруг горящих яростных глаз и усами, грозно торчащими вперед, воины, которые день за днем, неделя за неделей воевали уже много лет. И тут, когда я, держа палец на спусковом крючке в ожидании команды открыть огонь, рассматривал противника, взгляд мой упал на того офицера на лошади, который размахивал шапкой на сабле, и я узнал де Лиссака.
Увидел его и Джим. Я услышал крик и увидел, как он, словно в приступе бешенства, бросился вперед к французской колонне, и тут же вся бригада, офицеры и рядовые, устремились за ним и обрушились на Старую Гвардию, а наши товарищи поддержали нас огнем с флангов. Мы ждали приказа пойти в атаку, и все решили, что он поступил, но я готов голову дать на отсечение, что на самом деле в наступление бригаду повел Джим Хорскрофт.
То, что творилось следующие пять минут, иначе как сущим адом не назовешь. Я помню, как приставил свой мушкет к синему мундиру и выстрелил, а человек этот не упал – так плотно стояла толпа, но я увидел, как на нем образовалось темное пятно, из которого пошел дым, словно тело загорелось внутри. Потом меня понесло и бросило на двух огромных французов, но ни я, ни они не могли поднять оружие, потому что были слишком сильно прижаты друг к другу. Один из них, парень с очень длинным носом, сумел дотянуться до моего горла, и я почувствовал себя беспомощным цыпленком в его руках. «Rendez-vous, coquin; rendez-vous!»[22] – произнес он и вдруг с криком скрючился, потому что кто-то проткнул его штыком. После первого залпа почти не стреляли, воздух наполнился звуками ударов прикладами и штыками, воплями поверженных и отчаянными криками офицеров. А потом они начали отходить, медленно, нехотя, шаг за шагом, но все же они отходили! Эх, ради того мгновения, когда мы почувствовали, что берем верх, стоило пройти через это пекло. Передо мной был один француз, остролицый темноглазый парень, который стрелял, перезаряжал ружье, смотрел по сторонам, выискивая офицера, внимательно целился и снова стрелял, спокойно, словно на учениях. Помню, как я подумал, что неплохо было бы убить такого хладнокровного человека, поэтому бросился к нему и вонзил в него штык. После моего удара он повернулся и выстрелил мне прямо в лицо. Его пуля оставила у меня на щеке шрам, который я буду носить до конца своих дней. Когда он упал, я перешагнул через него, но тут на меня обрушились два огромных тела, и я почти задохнулся под ними. Когда я наконец выбрался из свалки и протер засыпанные порохом глаза, я увидел, что колонна почти разбита, она рассеялась на отдельные группки, которые либо бежали, спасая свои жизни, либо отбивались, прижавшись спинами друг к другу, но наша бригада все наседала и наседала. Мое лицо горело так, словно его поливали расплавленным железом, но ноги и руки у меня двигались, поэтому, ступая по горам убитых и раненых, я бросился догонять свой полк и снова включился в правое крыло.
Там я встретил старого майора Эллиота. Лошадь его застрелили, но сам он был невредим, поэтому, как всегда прихрамывая, с уверенным лицом шел вперед. Он увидел меня и кивнул, потому что времени на приветствия не было. Наша бригада все наступала, но передо мной проскакал генерал, и я заметил, что он смотрит назад, туда, где остались британские позиции.
– Общего наступления нет, – сказал он, – но я не пойду назад.
– Герцог Веллингтон одержал великую победу! – торжественно вскричал адъютант, а потом, поддавшись чувствам, добавил: – Если этот чертов осел додумается все-таки пойти вперед!
И все, кто его услышал, дружно рассмеялись.
Но теперь уже было видно, что французская армия дрогнула. Колонны и эскадроны, которые весь день так мужественно держали позиции, начали рассыпаться. Там, где раньше стояли плотные ряды стрелков, теперь началась суматоха. Гвардия под нашим натиском стремительно редела и отступала. Внезапно мы увидели прямо перед собой жерла двенадцати пушек, но мы не сбавили хода, и через миг я уже видел, как рядом с телом убитого уланом бойца наш младший офицер, совсем еще юный парень, как шаловливый школьник, куском мела выводил на их стволах большие цифры «71». Тут за нашими спинами раздался рев тысяч голосов, это вся британская армия пошла в наступление, обрушившись с холмов на остатки неприятеля. Впереди загремели пушки, наша легкая кавалерия, вернее, все то, что от нее осталось, присоединилась к нашим бригадам с правого фланга. После этого битва была закончена. Мы стояли на тех позициях, которые еще утром занимали французы, их пушки перешли в наши руки, их пехота разбежалась, и только бравая кавалерия все еще могла поддерживать хоть какой-то порядок в своих рядах, да и то лишь для того, чтобы с достойным лицом покинуть поле боя. Потом, когда уже начало смеркаться, наши обессилевшие и голодные воины наконец позволили пруссакам закончить дело, а сами расположились на отдых на завоеванной земле.
Вот и все, что я видел и могу рассказать о битве при Ватерлоо. Могу лишь добавить, что на ужин в тот день я съел двухфунтовую буханку ржаного хлеба, порцию солонины и выпил целый кувшин красного вина, после чего мне пришлось пробивать новую дырку на самом кончике ремня, и все равно он сидел на мне туго, как обруч на бочке. Затем я повалился на солому среди своих товарищей и через минуту уже спал мертвым сном.
Глава XIV Подсчет убитых
На заре, когда первые серые лучи света едва начали просачиваться сквозь длинные узкие щели в стенах нашего амбара, кто-то сильно потряс меня за плечо. Я тут же вскочил и схватился за алебарду, которая стояла рядом у стены, потому что спросонья мне почему-то померещилось, что на нас идут кирасиры. Но потом, увидев ряды лежащих вповалку спящих солдат, я понял, где нахожусь. Однако, увидев, кто меня разбудил, я удивился. Это был майор Эллиот. Вид у него был хмурый, и за его спиной стояли два сержанта с длинными листами бумаги и карандашами в руках.
– Просыпайся, парень, – сказал майор, своим обычным, привычным мне голосом, словно мы с ним снова вернулись в Корримьюр.
– Майор? – не зная, что и думать, неуверенно спросил я.
– Пойдешь за мной. Я ведь в ответе за вас двоих. Это же я увел вас из дому. Джим Хорскрофт пропал.
Это известие меня поразило, потому что вчера я так устал и так хотел есть, что после той атаки, когда Джим бросился на французскую Гвардию и вслед за ним поднялся весь полк, я о нем ни разу и не вспомнил.
– Я иду подсчитывать наши потери, – сказал майор, – и было бы неплохо, если бы ты помог мне.
И мы вчетвером, я, майор и двое сержантов, вышли из амбара. Это было ужасное зрелище! Даже сейчас, когда прошло уже столько лет, я не хочу его вспоминать и попытаюсь рассказать о нем как можно короче. В пылу битвы смотреть на все это было страшно, но сейчас, прохладным ранним утром, когда никто не кричал, не били барабаны и не трубили горны, ратный блеск померк. То, что я увидел, напоминало одну гигантскую мясную лавку. Тела несчастных были изрублены, разорваны на куски, раздавлены, как будто в насмешку над образом Божьим. По горам трупов можно было проследить, как развивалась вчерашняя кампания, шаг за шагом. На земле лежали каре мертвых пехотинцев в окружении атаковавших их кавалеристов. На вершинах холмов вокруг разбитых пушек расположились мертвые расчеты. Колонна Гвардии оставила посреди поля полосу, похожую на след гигантской улитки, и в начале этой линии, там, где произошла первая жестокая схватка, после которой французы отступили, лежала целая гора синих и красных мундиров.
И первое, что я увидел, подойдя к тому месту, был сам Джим. Он лежал на могучей спине, запрокинув голову, лицо его было спокойным; волнение и тревога оставили его, и он снова стал тем прежним Джимом, которого я тысячу раз видел в кровати в школьном общежитии, когда мы учились вместе. Увидев его, я не смог сдержать чувств и вскрикнул. Но, когда я подошел к нему, чтобы рассмотреть то счастливое выражение, которого, я знал, никогда не увидел бы на его лице, будь он жив, у меня не возникло желания скорбеть. Его грудь пробили два французских штыка, умер он мгновенно и без боли, о чем свидетельствовала улыбка, застывшая на его устах.
Когда мы с майором приподняли его голову, надеясь, что в нем еще теплились последние остатки жизни, я услышал рядом с собой хорошо знакомый голос. Обернувшись, я увидел де Лиссака, который лежал, опираясь на локоть, среди груды мертвых гвардейцев. Его шапка с огромным красным плюмажем валялась рядом с ним на земле. Он был очень бледен, под глазами набрякли синие мешки, но в остальном он был таким же, как раньше. Все тот же нос крючком, все те же топорщащиеся усы, и все те же коротко стриженные сильно редеющие к макушке волосы. Веки у него всегда были полуопущены, сейчас же они были почти совсем закрыты.
– Надо же, Джок! – воскликнул он. – Не думал тебя здесь встретить. Хотя мог бы и догадаться, когда увидел твоего друга Джима.
– Мы здесь из-за вас, – ответил я.
– Да ну, – в своей обычной торопливой манере сказал он. – Это было предопределено. Еще в Испании я начал верить в судьбу. Судьба привела вас сюда этим утром.
– Смерть этого человека на вашей совести, – мрачно произнес я, положив руку на плечо Джима.
– А моя – на его, так что мы квиты.
Он откинул в сторону край накидки, и я с ужасом увидел, что на боку его свисает огромный черный ком сгустившейся крови.
– Моя тринадцатая и последняя рана, – улыбнулся он. – Говорят, тринадцать – несчастливое число. У тебя во фляге осталось что-нибудь? – У майора было немного воды и бренди. Де Лиссак жадно выпил, и глаза его оживились, ввалившиеся щеки слегка порозовели. – Это Джим сделал! – сказал он. – Я услышал, как кто-то окликнул меня по имени, повернулся и увидел его. Он стоял, приставив к моему мундиру ружье. Двое моих солдат проткнули его саблями в ту же секунду, когда он выстрелил. Но… Эди того стоила! Не пройдет и месяца, как вы будете в Париже, Джок. Там ты с ней встретишься. Найдешь ее по адресу Рю-миромеснил, дом 11, это рядом с площадью Мадлен.
– Я запомню.
– А как поживает мадам? Твоя мать? Надеюсь, с ней все хорошо? А месье, твой отец? Передавай им от меня сердечный привет и наилучшие пожелания.
Даже сейчас, когда душа его прощалась с телом, он приложил руку к сердцу и слегка поклонился, говоря о моей матери.
– Ваша рана может быть не такой уж страшной, – сказал я. – Я могу привести нашего полкового лекаря!
– Дорогой мой Джок, за последние пятнадцать лет я научился разбираться в ранах и знаю, что не выживу. Да оно и к лучшему, потому что для того, кому я служу, тоже все кончено. Я лучше останусь здесь со своими гвардейцами, чем превращусь в нищего изгнанника. К тому же ваши союзники все равно меня расстреляют, так что я лучше избавлю себя от этого унижения.
– Союзники, сэр, – с долей обиды в голосе произнес майор, – не запятнают себя такими варварскими поступками.
Но де Лиссак покачал головой с той же невеселой усмешкой.
– Вы не понимаете, майор, – сказал он. – Неужели вы думаете, что я стал бы менять имя и прятаться в Шотландии, если бы не знал наверняка, что меня ожидает судьба худшая, чем тех моих товарищей, которые остались в Париже? Теперь я лучше умру, потому что ему уже никогда не вести за собой армию. Но на моей совести такие поступки, за которые мне не будет прощения. Ведь это я возглавлял тот отряд, который захватил и расстрелял герцога Энгиенского{75}. Это я… А-а-а, mon Dieu! Edie, Edie, ma chérie![23]
Он протянул обе руки, слегка пошевелил дрожащими пальцами в воздухе. Затем руки его тяжело упали, а подбородок поник на грудь. Один из наших сержантов бережно вытащил его из-под тел, а другой накрыл его большой синей накидкой. И мы ушли, оставив шотландца и француза, судьбы которых соединились таким причудливым образом, лежать бок о бок безмолвно и мирно на этом пропитанном кровью склоне холма близ фермы Гугомон.
Глава XV Конец истории
Я уже почти добрался до самого конца своей истории и, признаться, невероятно рад этому, потому что начинал я свои воспоминания с легким сердцем, думая, что смогу этим занятием скрасить долгие летние вечера, однако, вспоминая прошлое, я пробудил ото сна тысячи печалей и полузабытых горестей, и теперь душа моя кажется мне такой же изодранной, как кожа плохо стриженной овцы. Если мне все-таки удастся довести это дело до конца, клянусь, я больше не притронусь к перу и бумаге, потому что писательский труд похож на спуск в бурную реку с крутого берега: вначале это кажется таким простым, но не успеешь оглянуться, как ты уже барахтаешься в воде и изо всех сил стараешься выкарабкаться обратно.
Джима и де Лиссака мы похоронили в одной могиле с четырьмястами тридцатью одним французским гвардейцем и нашим легким пехотинцем.
Эх, если бы храбрецов можно было сеять, как зерно, какой урожай взошел бы там!
Потом мы навсегда оставили это орошенное кровью поле и вместе с нашей бригадой перешагнули границу Франции, направляясь к Парижу.
Меня с детства приучали к мысли, что французы – народ недобрый, с черной душой, и, поскольку слышали мы о них исключительно в связи с постоянной войной и убийствами, на суше и на море, нет ничего удивительного в том, что мы ожидали встретиться с людьми злыми и грубыми. Правда, и они слышали о нас ровно столько же и, несомненно, представляли нас такими же злодеями. Но, когда мы прошли по их стране, увидели их красивые маленькие фермы, спокойных и мирных крестьян, обрабатывающих поля, женщин, сидящих под окнами своих домов с вязанием в руках, и одну милую старушку в большом белом чепце, которая хворостинкой учила внучка манерам, все это показалось нам таким домашним, что я просто не мог поверить, что этих милых людей мы так долго боялись и ненавидели. Я думаю, что на самом-то деле ненавидели мы не их, а того человека, который стоял над всеми ими, и теперь, когда его не стало и тень его уже не лежала на этой земле, свет снова пролился на нас всех.
Мы в прекрасном расположении духа прошли по живописной сельской местности и подошли к большому городу. Нам казалось, что здесь нас ждет еще одна битва. Город этот был таким огромным, что, если бы хотя бы каждый двадцатый из его жителей взял в руки оружие, собралась бы целая армия. Но к тому времени они, видно, уже поняли, что незачем из-за одного человека губить всю страну, и сказали ему, чтобы впредь он рассчитывал только на самого себя. Потом мы узнали, что он сдался британцам и ворота в Париж для нас открыты, чему лично я был страшно рад, – с меня было достаточно и одной битвы.
Впрочем, в Париже было полно людей, которые все еще обожали своего Бонапарта, и это неудивительно, ведь он принес им славу и армию свою не бросал никогда. Поэтому, маршем входя в город, мы видели много хмурых лиц, обращенных в нашу сторону. Наша бригада, бригада генерала Адамса, первой ступила на улицы этого города. Мы прошли по мосту, который они называют Нейи (название это проще написать, чем произнести), потом через красивый парк… Буа дэ Булон[24] вышли на Шаз Элизе[25]. Там мы расположились биваком, и очень скоро все улицы вокруг нас наполнились прусскими и английскими солдатами, так что город стал больше походить на лагерь.
Как только у меня появилась возможность отлучиться, я с Робом Стюартом из своей роты (нам не разрешалось покидать лагерь по одному) направился на Рю-миромеснил. Роб остался ждать на улице, а меня провели наверх. Как только передо мной раскрылась дверь, я тут же увидел кузину Эди. Она не изменилась ни капли. Все тот же шальной взгляд. Сначала она меня не узнала, но потом вскочила с дивана, в три шага подбежала и бросилась мне на шею.
– О Джок, это ты! – закричала она. – Как тебе идет красный мундир!
– Да, Эди, я теперь солдат, – сказал я без радости в голосе, потому что, глядя на нее, я видел не ее красивое личико, а то другое лицо, которое смотрело в утреннее небо над бельгийским полем битвы.
– Как здорово! – воскликнула она. – А ты кто, Джок? Генерал? Капитан?
– Я рядовой.
– Как? Один из тех простых солдат, которые носят ружья?
– Да, я ношу ружье.
– О, это не так интересно, – произнесла она и снова села на диван.
Я осмотрелся. Это была прекрасная комната, сплошной шелк, бархат, масса всяких блестящих вещей. У меня даже возникло желание вернуться в прихожую и еще раз вычистить сапоги. Когда Эди села, я вдруг обратил внимание, что она во всем черном. Значит, о смерти де Лиссака она уже знала.
– Я рад, что ты уже все знаешь, – честно сказал я, потому что мне всегда было трудно сообщать людям плохие новости. – Он сказал, что ты можешь забрать все, что находится в сундуках, и что ключи у Антуана.
– Спасибо, Джок, спасибо, – сказал она. – Спасибо, что передал его слова. Мне сообщили примерно неделю назад. Сначала я думала, что сойду с ума… честно. Я теперь до самой смерти буду носить траур, хотя ты видишь, как мне не идет черное. Ах, я никогда не смогу прийти в себя. Я уже решила, что постригусь в монахини и уйду в монастырь.
– Прошу прощения, мадам, – раздался голос служанки, которая заглянула в дверь. – К вам граф де Бетон.
– Джок, дорогой, – воскликнула Эди, вскочив с дивана, – это очень важно. Мне так не хочется прерывать разговор, но ты ведь еще придешь, правда? Когда мне будет уже не так одиноко. И не мог бы ты выйти через заднюю дверь? Спасибо, мой дорогой Джок, ты всегда был таким славным, послушным мальчиком.
После той встречи с кузиной Эди я больше не увиделся. Прощаясь со мной, она стояла, окруженная солнечным светом, с лучезарной улыбкой на устах, и огненные глаза ее сияли. Такой я и запомнил ее навсегда, сияющей и порывистой, как капля ртути. Выйдя на улицу к Робу, я увидел роскошную карету с парой великолепных лошадей и понял, что она попросила меня выйти через черный ход, чтобы ее новые благородные друзья не узнали, с какими простыми людьми ей приходилось общаться в детстве. Про Джима она не спрашивала, и про моих отца и мать, которые были так добры к ней, тоже. Что ж, она просто такой человек и не может измениться, точно так же, как кролик не может отрастить длинный хвост. И все же мне грустно было думать об этом. Через два месяца я узнал, что она вышла замуж за этого самого графа де Бетона и через год или два умерла от родов.
А что касается нас… Наше дело было сделано, великая тень больше не висела над Европой, и уже никогда она не накроет широкие поля, мирные фермы и маленькие деревушки, никогда не омрачит жизни, которые должны были быть такими счастливыми. Отслужив положенный срок, я вернулся в Корримьюр и, когда умер отец, взял на себя управление фермой и женился на Люси Дин из Бервика. С ней мы воспитали семерых детей, которые уже вымахали выше отца и изо всех сил стараются, чтобы он этого не забывал. Но сейчас, когда за окном бесконечной чередой сменяют друг друга спокойные и мирные дни, неотличимые друг от друга, как шотландские овцы, мне трудно заставить своих ребят поверить, что когда-то и здесь у нас кипели настоящие страсти, когда мы с Джимом были молодыми и горячими и на наш берег приплыл человек с топорщащимися кошачьими усами.
Загадка Старка Манро
Подборка из двенадцати писем Дж. Старка Манро, бакалавра медицины, его другу и бывшему однокурснику Герберту Суонборо из Лоуэлла, штат Массачусетс. 1881–1884 гг.
Редакция и упорядочивание – А. Конан Дойл
Мне кажется, что письма моего друга мистера Старка Манро, собранные вместе, складываются в некое неразрывное единое произведение. К тому же они столь живо передают некоторые из тех трудностей, с которыми может столкнуться молодой человек, впервые вступающий на трудовую стезю, что я решил передать их в руки джентльмена, который взялся отредактировать их. Несмотря на то что из двух писем, из пятого и из девятого, пришлось вычеркнуть определенные места, я надеюсь, что в целом они заслуживают того, чтобы быть вынесенными на суд читателя. Я уверен, что мой друг посчитал бы для себя большой честью, если бы какой-нибудь другой молодой человек, утомленный потребностями этого мира и снедаемый сомнениями относительно мира иного, обрел новые силы, читая о том, как его собрат преодолевал свой тернистый путь.
Герберт Суонборо,
Лоуэлл, Массачусетс
Письма Старка Манро
I Дом, 30 марта, 1881.
Дорогой Берти, после твоего возвращения в Америку мне стало очень тебя не хватать, поскольку ты – единственный человек в этом мире, с кем я мог разговаривать совершенно откровенно. Не знаю, что тому причиной, поскольку теперь, размышляя над этим, я вспоминаю, что никогда не имел счастья пользоваться твоим ответным доверием. Впрочем, возможно, что в этом виноват я сам. Может быть, несмотря на мои старания, ты не видел во мне хорошего собеседника. Могу лишь сказать, что для меня ты был именно таким хорошим собеседником, который может не только выслушать, но и понять, и прочувствовать то, что ему говорят. Знаешь, порой меня посещает мысль, что я бываю слишком назойлив. И все же нет, всеми фибрами души я чувствую, что мои откровения не утомляют тебя.
Помнишь ли ты Каллингворта из университета? Занятия по атлетике ты не посещал, поэтому вполне может быть, что не помнишь. Как бы то ни было, я буду исходить из того, что ты его не помнишь, поэтому расскажу все с самого начала. Хотя, может статься, что ты узнал бы его по фотографии, потому что он был самым уродливым студентом на нашем потоке, и на такое лицо просто невозможно не обратить внимание.
Он был хорошим атлетом, одним из самых быстрых и напористых форвардов в университетской команде регби, которых я когда-либо видел, только играл он слишком грубо, поэтому на международные соревнования его не выпускали. Он был высоким, наверное, около пяти футов девяти дюймов, с широкими плечами и развитой грудной клеткой, и у него была своеобразная, какая-то подпрыгивающая походка. Голова у него большая и круглая, как мяч, а волосы – короткие, жесткие и торчащие, словно щетка. Лицо у него удивительно уродливое, но это уродство, так сказать, осмысленное, которое так же привлекательно, как красота. Подбородок и надбровья – угловатые, как будто наспех вырубленные из куска камня, нос хищный с красными ноздрями, водянистые близко посаженные глазки могут принимать как очень веселое, так и исключительно грозное выражение. Верхнюю губу его украшают жесткие усы, зубы у него желтые, крупные и выпирающие. Можно добавить, что он никогда не носит воротничка или галстука, шея его цветом и видом напоминает кору шотландской ели, а голос и в особенности смех – рев быка. Теперь ты можешь себе представить (если, конечно, тебе удастся мысленно соединить все это в одну картину) внешний облик Джеймса Каллингворта.
Однако в этом человеке наиболее интересен был не внешний, а внутренний облик. Я не хочу делать вид, будто знаю, что такое гений. Мне всегда казалось, что Карлейль{76} дал очень хорошее, ясное и лаконичное определение тому, чем гений не является. Помимо того, что гений является бесконечным источником мук, его основной характеристикой я, на основе своих наблюдений, мог назвать то, что он позволяет своему носителю добиваться определенных результатов, так сказать, инстинктивно, в то время как остальные люди могут достичь таких же результатов исключительно тяжелым, упорным трудом. В этом смысле Каллингворт является величайшим гением из всех мне известных. Я никогда не видел, чтобы он работал, и тем не менее награду по анатомии получил именно он, а не остальные студенты, которые корпели над учебниками по десять часов в сутки. Этому можно было бы и не придавать особого значения, ведь могло быть и так, что днем он просто делал вид, что ничего не делает, при этом наверстывая упущенное по ночам, но достаточно было заговорить с ним на какую-то отвлеченную тему, чтобы убедиться в его оригинальности и необычных способностях. Если его спрашивали, допустим, о торпедах, он тут же брал в руки карандаш и на обороте старого конверта, выуженного из кармана, набрасывал схему какого-нибудь хитроумного устройства для пробивания судовых сетей и бортов, которое, несомненно, с технической точки зрения, было невозможным, но выглядело весьма правдоподобным и новым. Рисуя чертеж, он хмурил ершистые брови, от усердия маленькие глазки его блестели, а губы сжимались в тонкую полоску. В завершение он хлопал по работе раскрытой ладонью с восторженным криком. Глядя на него в ту минуту, можно было бы подумать, что изобретение торпед – его единственная цель в жизни. Но уже в следующий миг, стоило лишь высказать удивление по поводу того, как древним египтянам удавалось затаскивать огромные каменные блоки на верхушки пирамид, снова появлялись карандаш и конверт, и он с тем же усердием и энергией погружался в составление схемы, подсказывающей решение с инженерной точки зрения. Эта изобретательская жилка соединялась в нем с необычайной возбудимостью. Расхаживая из угла в угол комнаты своей чудной торопливой походкой после какого-нибудь подобного изобретения, он за пять минут успевал его запатентовать, взять тебя в деловые партнеры, внедрить свою находку во всех странах мира, обозреть все области ее применения, подсчитать возможные барыш´и, придумать, как их выгодно пустить в оборот и, наконец, удовлетвориться самым большим состоянием, когда-либо заработанным одним человеком. И его речи захватывали, ты проделывал каждый шаг вместе с ним, после чего испытывал дикое разочарование, когда опускался с небес на землю, и, идя по улице с керковским учебником физиологии под мышкой, вдруг начинал понимать, что ты всего лишь бедный студент и в кармане у тебя едва ли хватит монет, чтобы как следует пообедать.
Только что я перечитал написанное и понял, что все-таки не сумел передать, как дьявольски умен Каллингворт. Его взгляды на медицину иначе как революционными не назовешь, но я думаю, что, если все пойдет должным образом, у меня еще будет возможность подробно написать об этом. При удивительном и необычном даре, прекрасных физических данных, странной манере одеваться (шляпу он носил исключительно на затылке, а горло никогда не прикрывал), при зычном голосе и безобразном, притягивающем лице, это была настоящая личность, наделенная такой внутренней силой, которой я не встречал больше ни у кого другого.
Тебе, возможно, покажется, что я слишком много внимания уделяю этому человеку, но, поскольку, как мне кажется, его жизнь необычайно тесно переплелась с моей, для меня он представляет особенный интерес. Я пишу все это для того, чтобы, с одной стороны, оживить собственные полузабытые мысли и ощущения, и с другой – в надежде, что рассказ мой покажется тебе занятным и интересным. Поэтому мне кажется, что не лишним будет привести еще один-два примера, которые позволят тебе получше понять его характер.
Он не лишен определенного геройства. Как-то раз он был поставлен перед выбором: либо скомпрометировать леди, либо спрыгнуть с третьего этажа. Не задумываясь ни на секунду, он выбросился из окна, и только чудо помогло ему остаться в живых. Сначала он упал на ветки лаврового дерева и лишь потом свалился на землю, которая после недавнего дождя была достаточно мягкой, так что отделался он лишь синяками и ушибами. Я думаю, это может перевесить многие недостатки, которые у него, конечно же, есть.
В университете он любил шумную мальчишескую возню, но лучше было избегать с ним подобных игр, потому что невозможно было предугадать, чем это закончится. Норов у него был просто дикий. Я видел, как он в секционных залах начинал резвиться с кем-то из друзей, но потом совершенно неожиданно веселость его куда-то уходила, глаза наливались кровью, и в следующую секунду они уже катались под столом, сцепившись, как собаки. Когда их растаскивали, от душащей его злости он даже не мог говорить, только шумно дышал, а жесткие волосы его топорщились, как на загривке у бойцового терьера. Однако эта драчливость порой находила и лучшее применение. Помню такой случай. Однажды наш университет посетил один видный лондонский специалист, и во время лекции кто-то с переднего ряда постоянно что-то выкрикивал с места и мешал ему до такой степени, что профессор наконец не выдержал и обратился к аудитории. «Эти реплики просто невыносимы, джентльмены, – сказал он. – Может меня кто-нибудь избавить от этого шума?» – «Эй, господин на переднем ряду, придержи язык», – гаркнул с места Каллингворт своим зычным басом. – «А кто меня заставит? Может, ты попробуешь?» – ответил на это парень с переднего ряда и презрительно глянул на него через плечо. Тогда Каллингворт закрыл тетрадь и стал спускаться вниз по партам, к радости трехсот зрителей. Довольно забавно было наблюдать за тем, как осторожно он шел, стараясь не наступить на чернильницы. Когда он наконец спустился и спрыгнул на пол, его оппонент встретил его прямым ударом в лицо. Однако Каллингворт вцепился в него бульдожьей хваткой и выволок из аудитории. Что он там с ним делал, я не знаю, но грохот из-за двери раздался такой, будто там выгрузили тонну угля, после чего добровольный блюститель порядка спокойно вернулся в аудиторию, как будто ничего особенного не произошло. Один глаз у него сделался похож на перезрелый тернослив, но, пока он шел на свое место, мы приветствовали его троекратным ура. После этого он вновь углубился в изучение опасностей, которыми чревата placenta praevia{77}.
Склонности к пьянству он не имел, но даже малейшая доля спиртного производила на него сильнейшее воздействие. Если он выпивал, идеи начинали прямо-таки бить из него ключом, причем самые невероятные и неожиданные. И если уж ему случалось что называется перебрать, тут уж он был способен на что угодно. Иногда он начинал буянить, иногда читать проповеди, а иногда просто строить из себя клоуна. Бывало, все эти состояния накатывали на него по очереди, причем сменялись с такой скоростью, что товарищи его просто диву давались. Опьянение сопровождалось и другими маленькими странностями. Например, во хмелю он мог идти или бежать совершенно прямо, но потом всегда подсознательно возвращался на то место, откуда начинал путь, и снова шел по своим следам. Иногда это приводило к непредсказуемым последствиям, как в том случае, о котором я хочу рассказать.
Однажды вечером, когда с виду Каллингворт казался совершенно трезвым и спокойным человеком, но в душе у него клокотал огонь, он пришел на вокзал, наклонился к окошку кассы и самым учтивым голосом поинтересовался у кассира, сколько ехать до Лондона. Когда тот поднял голову, чтобы ответить, Каллингворт мощнейшим ударом через маленькое окошко сбил его со стула. Бедняга закричал от боли и возмущения, и на его крики сбежались несколько полицейских и железнодорожников. Они бросились в погоню за Каллингвортом, но тот выбежал на длинную прямую улицу и с проворством гончей собаки легко оторвался и скрылся в темноте. Преследователи остановились и стали обсуждать странное происшествие, и представь себе их удивление, когда через какое-то время на той же самой улице послышался приближающийся топот и из темноты появился человек, за которым они только что гнались. Он со всех ног мчался прямо на них. В тот вечер одна из его странностей сыграла с ним злую шутку: где-то по дороге он развернулся и побежал в обратном направлении. Разумеется, его поймали, навалились всей гурьбой и после долгой и отчаянной борьбы все-таки смогли отправить в полицейский участок. На следующее утро он предстал перед судом, но выступил в свое оправдание с такой пламенной речью, что сумел добиться сочувствия и даже расположения судьи и в итоге отделался лишь небольшим штрафом. Когда же суд закончился, по его приглашению свидетели и полицейские, участвовавшие в его задержании, отправились в ближайший паб, и дело закончилось грандиозной пирушкой.
Ну что ж, если даже такими примерами я не сумел передать характер этого человека, интересного, талантливого, многостороннего, шального, то вынужден признать, что просто не в состоянии этого сделать, как бы ни старался. Однако я все же надеюсь, что со своей задачей справился, поэтому теперь расскажу тебе, терпеливейший из моих наперсников, какие отношения связывают с ним меня.
Когда я с ним случайно познакомился, он был холостяком. Однако в конце летних каникул он как-то окликнул меня на улице и своим громогласным голосом сообщил, что только что женился, сопроводив эту новость сильным хлопком по плечу. Тут же по его предложению я отправился к нему знакомиться с его супругой, и по дороге он рассказал мне историю своей женитьбы, которая была такой же необычной, как и все остальное, что он делал. Истории его я тебе, дорогой Берти, пересказывать не буду, поскольку и без того чувствую, что вдаюсь в излишние подробности, но это была просто сумасшедшая история, в которой немаловажную роль сыграли запирание гувернантки в ее комнате и перекрашивание волос Каллингворта. Кстати, от последствий второго он так никогда и не смог избавиться, и с тех пор к его особенностям добавилось еще и то, что, когда на его волосы под определенным углом падал солнечный свет, они начинали переливаться всеми цветами радуги и поблескивать.
Мы дошли до его дома, и он представил меня миссис Каллингворт. Это была скромная маленькая сероглазая женщина с милым личиком и тихим голосом, мягкая и спокойная в общении. Достаточно было увидеть, какими глазами она на него смотрит, чтобы понять, насколько она подчинена его власти: что бы он ни делал, что бы ни говорил, большего авторитета для нее не существовало. Ей было не чуждо и упрямство, но мягкое, даже кроткое. Если она и пыталась настоять на своем, то только для того, чтобы доказать его правоту. Однако все это я выяснил позже, а тогда, во время своего первого визита к ним, больше всего меня поразила ее невинная красота.
Жили они довольно своеобразно – снимали крошечную четырехкомнатную квартирку над продуктовой лавкой. У них были кухня, спальня, гостиная и еще одна комната, которую Каллингворт иначе как рассадником заразы не называл и даже избегал заходить в нее, хотя я убежден, что виной всему был запах сыра, который просачивался в нее из магазина внизу. Как бы то ни было, он с присущей ему энергией не только запер ее на ключ, но даже заклеил лакированной бумагой все щели и отверстия в двери, чтобы воспрепятствовать распространению воображаемой инфекции. Мебель у них была только самая необходимая. Помню, в гостиной у них стояло всего два стула, так что, если к ним кто-нибудь приходил (хотя мне кажется, что я был их единственным гостем), Каллингворту приходилось умащиваться в углу на кипу прошлогодних выпусков «Британского медицинского журнала»{78}. У меня до сих пор стоит перед глазами, как он вскакивал со своего низенького сиденья, начинал метаться по комнате и молотить воздух руками, сотрясая стены зычным голосом. При этом женушка его сидела тихонько в углу, слушала мужа и наблюдала за ним влюбленными и восхищенными глазами. Какая была разница нам троим, на чем мы сидели или где жили, если в нас кипела молодость, а души переполняли великие надежды на будущее? До сих пор я вспоминаю те камерные вечера в пустой, пропахшей сыром комнате как одни из самых счастливых в своей жизни.
Я часто бывал у Каллингвортов, потому что удовольствие, которое я получал от посещения их, приумножалось и надеждой на то, что они испытывали еще большее удовольствие от моих визитов. Знакомых у них не было, как и желания с кем-то знакомиться, поэтому я, по сути дела, был единственной ниточкой, которая связывала их с внешним миром. Я даже позволял себе вмешиваться в ведение их крошечного хозяйства. Каллингворт в то время носился с идеей, что все болезни человечества происходят от того, что мы утратили связь с живой природой, и наши предки были здоровее нас, потому что все время жили на открытом воздухе. В результате окна в их квартире перестали закрываться днем и ночью. Поскольку жена его была очень болезненной, но скорее бы умерла, чем позволила себе перечить мужу хоть словом, я решил сам подсказать ему, что мучивший ее кашель не удастся излечить до тех пор, пока она будет проводить все время на сквозняке. Он бросил на меня сердитый взгляд, и я уж подумал, что сейчас мы с ним поссоримся, однако взрыва так и не последовало, а он стал более взвешенно относиться к вопросам вентиляции.
В то время вечера мы проводили за весьма необычными занятиями. Ты, конечно же, знаешь, что существует так называемое «воскоподобное вещество»{79}, которое собирается в тканях тела во время определенных болезней. Патологи поломали уже немало копий, пытаясь выяснить, что это такое и как оно образуется. Каллингворт имел на этот счет свое мнение, он был полностью уверен, что воскоподобное вещество – это тот же самый гликоген{80}, который обычно вырабатывается печенью. Но одно дело иметь убеждение, а другое – суметь доказать его. В общем, перед нами встала задача найти образец этого вещества для проведения исследований. Как ни странно, фортуна оказалась к нам благосклонна. Университетскому профессору патологии удалось где-то раздобыть образец печени с этим веществом. Перед очередным занятием он с гордостью продемонстрировал нам в аудитории этот орган, после чего велел своему помощнику отнести и положить его в ледник для дальнейшего микроскопического исследования на практических занятиях. Каллингворт решил, что упускать такой шанс нельзя, потихоньку выскользнул из аудитории, раскрыл ящик со льдом, обернул жуткую поблескивающую массу своим ольстером{81}, снова закрыл ящик и преспокойно ушел. Я не сомневаюсь, что исчезновение той печени и по сей день является самой большой из неразгаданных загадок для нашего профессора.
Весь тот вечер и много последующих вечеров мы провели за изучением той печени. Для наших опытов требовалось подвергнуть этот орган воздействию очень высокой температуры, чтобы отделить азотистое клеточное вещество от безазотистого воскоподобного вещества. При совершенном отсутствии лабораторных инструментов мы не придумали ничего лучше, как разрезать печень на тонкие ломтики и поджарить их на сковородке, так что несколько ночей подряд случайный свидетель мог бы с удивлением наблюдать, как прекрасная девушка и двое молодых людей с озабоченными лицами готовят фрикасе{82} из человеческой печени. Однако все наши старания оказались напрасными, поскольку, хоть Каллингворт и считал, что подтвердил свою правоту экспериментальным путем и даже написал несколько пространных статей на эту тему в различные медицинские издания, он никогда не умел доступно излагать свои мысли на бумаге, и поэтому, я уверен, у его читателей осталось весьма смутное представление о том, что он хотел им доказать. И кроме того, он ведь тогда был простым студентом, поэтому вряд ли к его работе отнеслись с должным вниманием, по крайней мере, я не слышал, чтобы хоть кто-то его поддержал или помог.
В конце года мы оба успешно сдали экзамены и превратились в имеющих соответствующую квалификацию врачей. Каллингворты куда-то пропали, и с тех пор я о них не слышал, поскольку гордость моего товарища не позволяла ему опуститься до написания писем. Его отец когда-то имел большую и весьма прибыльную практику на западе Шотландии, но несколько лет назад он умер. На основании услышанного, когда-то брошенного вскользь замечания я могу лишь предположить, что он мог отправиться на свою родину проверить, не сослужит ли ему там службу его фамилия. Я же, как ты помнишь из моего предыдущего письма, начал с того, что стал работать ассистентом при своем отце, но ты ведь знаешь, что его практика может принести в лучшем случае семьсот фунтов в год, а никакой надежды на ее дальнейшее развитие нет, так что нам с отцом этого не хватит, да и мои религиозные убеждения порой сильно раздражают старика. Мне кажется, что, по большому счету, все идет к тому, что мне будет лучше отойти от этого дела и заняться чем-то другим. Я подал заявки в несколько пароходных компаний и по меньшей мере в дюжину больниц разослал прошения о принятии на должность хирурга-практиканта, но, хоть эти места могут принести какую-нибудь жалкую сотню в год, конкурс на них такой, словно это пост генерал-губернатора Индии. Как правило, мои документы возвращаются ко мне без всяких комментариев, а это, надо сказать, прекрасно учит смирению. Конечно же, жить при матушке очень даже неплохо, да и мой младший братец Пол мне скучать не дает. Я учу его боксу, и видел бы ты, как он поднимает свои маленькие кулаки и отбивается правой. Сегодня вечером он заехал мне под челюсть, поэтому на ужин я попросил приготовить мне яйца-пашот{83}.
Все это подводит мой рассказ к дню сегодняшнему и к самым последним новостям. Этим утром я получил телеграмму от Каллингворта… Это после девяти месяцев гробового молчания. Отправлена она из Эйвонмута{84}, города, в котором он, по моим предположениям, и должен был обосноваться, и содержит всего несколько слов: «Приезжай немедленно. Ты мне срочно нужен. Каллингворт». Разумеется, я поеду завтра же первым поездом. Невозможно предугадать, что это значит, но где-то очень глубоко в душе я надеюсь, что Каллингворт начинает какое-то дело и хочет предложить мне стать партнером или что-нибудь в этом роде. Мне всегда казалось, что ему рано или поздно все же удастся реализовать какую-нибудь из своих задумок, и, разбогатев, он не забудет своего старого друга. Он ведь знает, что я хоть и не гений, но человек надежный, на которого можно всегда положиться. Все это я веду к тому, Берти, что завтра я встречусь с Каллингвортом и надеюсь, что наконец устроюсь в этой жизни. Я описал его в надежде на то, что у тебя появится интерес к тому, как сложится моя судьба в дальнейшем, чего, вероятнее всего, не произошло бы, если бы ты не знал, какой человек протягивает мне руку.
Вчера у меня был день рождения, мне исполнилось двадцать два. Двадцать два года вращаюсь я вокруг Солнца. И со всей серьезностью, без намека на шутовство, что называется положа руку на сердце, я хочу сказать, что в настоящее время я весьма смутно представляю себе, откуда я пришел, куда иду и для чего я здесь. И не потому, что не задаюсь этими вопросами или мне это безразлично. Я изучил основы нескольких религий, и все они поразили меня тем, какому жестокому насилию придется мне подвергнуть свой разум, если я захочу принять догмы любой из них. Мораль, содержащаяся в них, обычно совершенна. В той же степени, как совершенна и мораль английского общего права. Но теория создания, на которой она строится!.. Для меня самым поразительным, с чем я встречался за время своего недолгого пребывания на этой земле, является тот факт, что столько умнейших людей, глубоких философов, проницательных правоведов и людей, повидавших мир во всем его разнообразии, принимают на веру подобное объяснение самого явления существования жизни в тех ее формах, о которых знаем мы. Конечно, имея в противниках всех этих мудрецов, мое личное скромное мнение так и не осмелилось бы проклюнуться из глубин моего разума, если бы меня не наполняла храбростью уверенность не менее выдающихся правоведов и философов Древнего Рима и Греции в том, что у Юпитера было множество жен и что он был не прочь пропустить чашу-другую доброго вина.
Дорогой Берти, только не подумай, что я собираюсь поучать тебя или кого бы то ни было. Те, кто, подобно мне, требуют терпимости по отношению к себе, первые готовы проявлять терпимость по отношению к другим. Я всего лишь обозначаю свои личные убеждения, как уже много раз делал до этого, и ответ твой мне тоже уже известен. Разве могу я забыть, как ты строгим голосом говорил: «Просто верь!» Твое сознание позволяет тебе так говорить. Но мое отказывает мне в этом праве. Я слишком хорошо понимаю, что слепая вера является не добродетелью, а пороком. Это коза, которую загоняют в овечье стадо. Если человек намеренно закрывает глаза и отказывается пользоваться зрением, любой поймет, что это безнравственно и является насилием над природой. И тем не менее человеку этому со всех сторон советуют отказаться от куда более ценного органа восприятия, от разума, и запрещают пользоваться им для решения самого глубинного вопроса существования.
«Разум не поможет в этом деле», – возразишь ты. Но я отвечу, что говорить так – все равно что признавать поражение в битве, которая еще не была начата. Мне мой разум БУДЕТ помогать, а когда перестанет, тогда я уже смогу обходиться и без помощи.
Уже поздно, Берти, огонь в камине догорает, и мне становится холодно. Ты же, я в этом уверен, уже порядком утомлен моим многословием и ересью, так что я с тобой прощаюсь до следующего письма.
II Дом, 10 апреля, 1881.
Что ж, дорогой мой Берти, и снова это я в твоем почтовом ящике. Еще не прошло и двух недель с того дня, когда я написал тебе то длиннющее письмо, но новостей у меня накопилось достаточно для очередного послания. Говорят, что искусство написания писем утрачено, но, если количество может искупить качество, ты должен признать, что за грехи твои достался тебе друг, который все еще хранит его.
Когда я писал тебе прошлый раз, я собирался ехать к Каллингворту в Эйвонмут, окрыленный надеждой на то, что он предложит мне место. Я должен рассказать, как прошла та поездка, но тут в два слова не уложишься.
Часть пути моим спутником был юный Лесли Данкен, которого ты, по-моему, должен знать. Он был достаточно любезен, чтобы предпочесть третий класс и мое общество первому классу и одиночеству. Тебе известно, что не так давно ему досталось дядюшкино наследство и что после первого экстаза он впал в тяжелейшую депрессию, вызванную тем фактом, что теперь он может иметь все, что его душа пожелает. Какими же нелепыми кажутся жизненные устремления, когда я думаю, что мне, человеку в достаточной степени счастливому и полному энтузиазма, предстоит бороться за то, что не принесло ни выгоды, ни счастья ему! Но все же, если я хоть сколько-нибудь разбираюсь в себе, целью моей является не накопление богатств, нет, мне всего лишь нужно иметь столько денег, сколько нужно для того, чтобы освободить свой разум от низменных забот и иметь возможность спокойно, не думая о хлебе насущном, развивать заложенные в себе таланты, ежели таковые, конечно же, имеются. Лично я человек настолько нетребовательный, что даже не могу представить себе, чем меня может прельстить богатство… Разумеется, кроме возможности иметь удовольствие помочь хорошему человеку или тратить деньги на другие подобные благородные дела. И почему людей почитают за благотворительность? Ведь это величайшее из удовольствий, которое могут принести гинеи. Недавно я подарил свои часы безработному школьному учителю (мелочи в карманах у меня не нашлось), и матушка моя долго ломала голову над тем, чего больше в моем поступке, безумия или благородства. Я мог бы с абсолютной уверенностью сказать ей, что ни первого, ни второго – это было своего рода эпикурейское{85} себялюбие с легким привкусом барства. Все равно мой хронометр не мог принести мне большей радости, чем то чувство спокойного удовлетворения, которое я испытал, когда этот человек показал мне закладную из ломбарда и сказал, что те тридцать шиллингов, которые он выручил, очень пригодились ему.
Лесли Данкен сошел в Карстерзе, и я остался один на один с бодрым седовласым католическим священником, сидевшим в своем уголке и что-то читавшим. У нас завязался очень оживленный разговор, который продолжался до самого Эйвонмута. Я даже так увлекся, что чуть было не проехал нужную мне остановку. Мне показалось, что отец Логен (так его звали) полностью соответствовал моему понятию о том, каким должен быть идеальный служитель алтаря: готовый на самопожертвование, чистый душой, относящийся к себе с долей иронии и наделенный изрядным чувством юмора. Он обладал всеми достоинствами и недостатками своего сословия, поскольку во взглядах своих был совершеннейшим ретроградом. Наш разговор о религии был жарким, и, похоже, развитие его теологии застопорилось где-то на уровне раннего плиоцена{86}. Если бы он разговаривал с кем-нибудь из паладинов Карла Великого{87}, они бы, наверное, жали друг другу руки после каждого предложения. Хотя он признавал это и считал достоинством. Для него это было постоянством. Если бы наши астрономы, изобретатели или законодатели были бы такими же постоянными, что было бы сейчас с нашей цивилизацией? Может быть, религия – единственная область мышления, которая не подвержена прогрессу и обречена всегда вписываться в рамки, обозначенные две тысячи лет назад? Неужели они не понимают, что человеческий мозг в своем развитии требует более широкого взгляда на эти вопросы? Недоразвитый мозг порождает недоразвитого Бога, а кто станет оспаривать то, что человеческий мозг пока еще развит менее чем наполовину? Настоящим священником может быть только мужчина или женщина с головой. Я имею в виду не шарообразный предмет с тонзурой…с тонзурой… – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 410.} на макушке, а шестьдесят унций вещества внутри него, которые и являются истинным признаком избранности.
Я понимаю, что сейчас, Берти, ты готов, презрительно фыркнув, отложить мое письмо, но я больше не стану испытывать твоего терпения. Я прекращаю разглагольствования на эту опасную тему и перехожу к фактам. Боюсь, что рассказчик из меня никудышный, потому что первый же случайный герой моего повествования увел меня в такие дебри, что сама история, которую я хотел рассказать, просто затерялась в них.
Итак, в Эйвонмут мы прибыли ночью, и первое, что я увидел, высунувшись в окно вагона, был старина Каллингворт, который стоял под газовым фонарем в круге света. Сюртук его был распахнут и трепетал полами на ветру, жилет тоже был не застегнут сверху, а шляпа (на этот раз – цилиндр) съехала на затылок, обнажив ежик волос. Если бы не воротничок, он бы ничем не отличался от того прежнего Каллингворта, которого я знал всегда. Увидев меня, он радостно взревел, вытащил меня из вагона, схватил мой саквояж, или дорожную сумку, как ты его называл, и через минуту мы углубились в город.
Я, как ты понимаешь, горел желанием узнать, зачем я ему понадобился, однако, поскольку он сам об этом ничего не говорил, я не стал его расспрашивать, так что во время нашей долгой прогулки мы разговаривали на множество отвлеченных тем, только не о том, что интересовало меня в первую очередь. Сначала мы обсуждали футбол{88}. Помню, говорили о том, сможет ли Ричмонд противостоять Блэкхиту{89}, и о том, что эта новая игра с мячом{90} является всего лишь усеченным вариантом других подобных игр, существовавших издревле. Потом он перешел к изобретениям и до того распалился, что вернул мне саквояж, чтобы иметь возможность подкреплять свои высказывания энергичными жестами и битьем кулака о ладонь. Неожиданно он остановился, слегка выпятив подбородок, и его желтые зубы блеснули в свете фонаря.
– Скажи, дорогой Манро, – так он обычно обращался ко мне, – почему люди перестали пользоваться доспехами, а? Не знаешь? Я скажу тебе почему. Потому что вес металла, который мог бы защитить человека, стал превышать тот вес, который человек может выдержать на себе, стоя на ногах. Но сейчас битвы уже не ведутся стоя. Все пехотинцы лежат на животах, и, чтобы защитить их, нужно очень немного. А как улучшилась сталь, Манро! Представь закаленную сталь! Бессемеровскую{91}! Бессемеровскую сталь. Прекрасно, как ты думаешь, сколько нужно стали, чтобы защитить человека? Всего пара листов четырнадцать на двенадцать дюймов, соединенных под таким углом, чтобы пули от них рикошетили. С одной стороны сделать отверстие для ружья, и готово! Каллингвортовский переносной пуленепробиваемый щит! Вес? О, примерно шестнадцать фунтов. Я уже все просчитал. Каждая рота будет иметь специальную тележку для их перевозки, и перед началом боя их будут раздавать бойцам. Собрать двадцать тысяч метких стрелков, и они пройдут от Кале до Пекина. Подумай об этом, друг мой! Подумай о моральной стороне вопроса. Одна из сторон не несет потерь вовсе, а вторая тратит пули на обстрел стальных пластин. Кто устоит против такого? Та страна, которая первой получит такую защиту, автоматически получает власть над остальной Европой. Ха, перед таким они не смогут устоять. Давай подсчитаем. Каково общее количество служащих в армиях? Около восьми миллионов. Предположим, что половина из них будет экипирована моими щитами. Я говорю половина, потому что не хочу настраивать себя на слишком уж оптимистический лад. Это четыре миллиона, и я при оптовых продажах собираюсь зарабатывать по четыре шиллинга за комплект. Сколько это получается, Манро? Почти три четверти миллиона фунтов стерлингов. Что скажешь, приятель? Неплохо, да?
Я перечитал последний абзац и вижу, что довольно точно передал его манеру говорить. Остается добавить только неожиданные остановки, внезапные переходы на доверительный шепот, громогласные ответы на заданные самим же вопросы, пожимание плечами и размахивание руками. Вот только за все это время он так и не произнес ни слова о том, что заставило его послать мне ту срочную телеграмму, которая привела меня в Эйвонмут.
Я, конечно же, гадал о том, насколько он преуспевает, и, судя по его беззаботному выражению лица и жизнерадостному настроению, сделал вывод, что, скорее всего, у него все благополучно. И все же я, признаться, был несколько удивлен, когда мы проходили по тихой широкой обсаженной деревьями улице между рядами больших частных домов с собственными участками, и он вдруг остановился и открыл железную калитку перед одним из самых красивых из них. Появившаяся на небе луна осветила высокую крышу с фронтонами. Когда он постучал, дверь открыл лакей в красных плисовых{92} штанах до колен, и я подумал, что мой друг все-таки добился большого успеха.
Когда мы спустились на ужин в столовую, мне навстречу поднялась миссис Каллингворт. Я с жалостью заметил, что она была бледна и выглядела уставшей. Но это не помешало нам провести вечер за веселым разговором, как в старые времена. Воодушевление, охватившее ее мужа, отразилось и на ее лице, и я как будто снова ощутил себя в маленькой комнатушке с кипами старых медицинских журналов, заменяющих стулья, с той лишь разницей, что теперь сидели мы в просторном зале с дубовой мебелью, стены которого были увешаны картинами. И все это время по-прежнему ни слова о цели моего приезда.
Когда с ужином было покончено, Каллингворт пригласил нас в небольшую гостиную, где мы с ним закурили трубки, а миссис Каллингворт – сигарету. Какое-то время он сидел молча, но потом вдруг порывисто вскочил, бросился к двери и распахнул ее. Это проявилась еще одна из его необычных особенностей, ему всегда казалось, что окружающие его люди только тем и заняты, что подсматривают за ним, подслушивают его разговоры. Несмотря на внешнюю бесцеремонность, даже грубость и прямоту, в его сложном и неоднозначном характере присутствовала и склонность к подозрительности. Убедившись, что за дверью не притаились шпионы и его никто не подслушивает, он вернулся в свое кресло.
– Манро, – сказал он, ткнув в мою сторону трубкой, – я позвал тебя для того, чтобы сообщить, что я разорен. Совершенно, безнадежно и непоправимо.
Когда он это произнес, я сидел, глубоко откинувшись на спинку стула, и, признаюсь тебе, едва не полетел вверх тормашками на пол. В ту же секунду, словно карточный домик, рухнули все мои надежды на те выгоды, которые сулила мне поездка в Эйвонмут. Да, Берти, я вынужден признаться: первая моя мысль была о себе, а лишь вторая о беде своих друзей. Очевидно, он обладает какой-то дьявольской интуицией, или у меня слишком уж выразительное лицо, поскольку в ту же секунду он добавил:
– Жаль тебя разочаровывать, друг мой. Вижу, ты совсем не это ожидал услышать.
– Что ж, – выдавил из себя я, – это действительно весьма неожиданно. Я решил… Мне показалось, что…
– Дом, лакей и мебель? Ну, их содержание тоже этому способствовало… Все это высосало из меня весь сок, одна кожура осталась. Теперь я пойду по миру, друг мой, разве что… – Тут я заметил в его глазах вопрос. – Разве что какой-нибудь друг поручится за меня и подпишет кое-какие бумаги.
– Я этого делать не стану, Каллингворт, – сказал я. – Некрасиво отказывать в просьбе друзьям, но, поверь, если бы у меня были деньги…
– Не говори, когда тебя не спрашивают, Манро, – резко оборвал он меня, скорчив страшную гримасу. – Да и что мне проку от твоего имени?
– Я бы это тоже хотел знать, – настороженно произнес я.
– Посмотри туда, парень, – продолжил он. – Видишь слева на столе пачку писем?
– Да.
– Это требования от кредиторов. А вон те документы справа на столе видишь? Это повестки в суд. А видишь ли ты вот это? – Он взял небольшую записную книжку и показал три-четыре имени, написанных неровным почерком на первой странице. – Это моя практика, – заревел он диким голосом и захохотал так, что на лбу у него выступили вены. Жена его сердечно рассмеялась, с такой же готовностью, с которой расплакалась бы, если б у него на глазах показались слезы. – Вот так-то, Манро, – отдышавшись после приступа веселья, сказал он. – Ты, может быть, слышал… Вообще-то я и сам тебе рассказывал о том, что у моего отца была лучшая практика в Шотландии. Насколько я могу судить, он был совершенно недалеким человеком, и тем не менее… Это правда. – Я кивнул и закурил. – В общем, он умер семь лет назад, оставив пятьдесят неводов, закинутых в свое озерцо. Однако после окончания университета я решил приехать на его старое место и проверить, удастся ли снова поставить дело на ноги. Фамилия-то наша наверняка еще не забылась, думал я. Но оказалось, что так просто с этим делом не справиться. С ходу возобновить практику оказалось невозможно, потому что пациенты отца были богатыми людьми, привыкшими к роскошным домам и прислуге в ливреях. Мог ли я приглашать их в какой-нибудь дом с эркером за сорок фунтов в год и служанкой-грязнухой? И как я, по-твоему, поступил? Я снял старый отцовский дом, тогда пустовавший… Дом, содержание которого обходилось ему в пять тысяч в год… Я стал жить в нем, вложив все свои сбережения до последнего цента в мебель. Но все напрасно, дружище. Я больше не продержусь. За все это время – два несчастных случая и один припадок эпилепсии… Это принесло мне двадцать два фунта восемь шиллингов и шесть пенсов. Вот и все мои доходы!
– Что же ты собираешься делать?
– Вот об этом я и хотел с тобой посоветоваться. Для этого и послал тебе телеграмму. Я всегда ценил твое мнение, друг мой, и подумал, что сейчас как раз настало время послушать его.
Мне вдруг пришло в голову, что, если бы он попросил у меня совет девять месяцев назад, это имело бы намного больше смысла. Чем мог помочь я сейчас, когда все уже так запуталось? И все же я не мог не почувствовать что-то вроде гордости оттого, что такой независимый парень, как Каллингворт, обратился ко мне за советом.
– Ты действительно уверен, что продолжать работать здесь бесполезно? – спросил я.
Он вскочил и начал ходить взад-вперед по комнате своей торопливой скачущей походкой.
– Послушай, что я тебе скажу, Манро, – сказал он. – Вот тебе еще предстоит начинать. Езжай туда, где тебя никто не знает. Люди пойдут к незнакомцу, но, если они помнят, как ты бегал в шортах и воровал сливы, за что не раз получал щеткой, они не доверят тебе свои жизни. Все разговоры о дружбе и семейной преемственности – вещь, конечно, хорошая, но, когда у человека болит живот, он об этом не думает. Я бы золотыми буквами написал в каждой медицинской аудитории и над воротами университета, что, если ты хочешь обзавестись друзьями, ищи их среди тех, с кем никогда не был знаком. Вот так-то, Манро, и бесполезно мне советовать держаться за это место.
Я спросил, сколько он должен. Оказалось, около семисот фунтов. Только за наем дома он должен был две сотни. Мебель он уже заложил, так что теперь все его состояние составляло меньше десяти фунтов. Разумеется, я мог посоветовать лишь одно.
– Тебе нужно собрать вместе всех своих кредиторов, – сказал я. – Они увидят, что ты молод и полон энергии… И рано или поздно добьешься успеха. Если они загонят тебя в угол сейчас, они могут ничего не получить. Объясни им это. Но если ты начнешь все сначала в каком-нибудь другом месте и что-то заработаешь, ты сможешь полностью расплатиться с долгами. Другого выхода я не вижу.
– Я знал, что ты именно так скажешь, я и сам так думал. Правда, Хетти? Что ж, значит, так тому и быть. Я очень благодарен тебе за совет, и сегодня мы больше о делах говорить не будем. Я сделал свой выстрел и промахнулся. В следующий раз я обязательно попаду, и это произойдет очень скоро.
Похоже, неудача не особенно огорчала его, потому что уже через несколько минут он был весел, как прежде. Принесли виски и содовую, чтобы мы выпили за удачу его следующего начинания. И это едва не обернулось неприятной историей.
Осушив пару бокалов, Каллингворт дождался, когда его жена ушла, и начал жаловаться на то, что в ожидании клиентов ему приходится все время проводить дома, из-за чего у него почти пропала возможность заниматься спортом. Это привело нас к разговору о том, какими физическими упражнениями можно заниматься в помещении, и мы заговорили о боксе. Каллингворт достал из буфета две пары перчаток и предложил провести парочку раундов прямо там, в столовой.
Если бы я не был дураком, Берти, я бы на это не согласился. Но одна из моих многочисленных слабостей заключается в том, что, если мне бросают вызов (вне зависимости от того, кто это делает, мужчина или женщина), я не могу заставить себя не принять его. Хоть я и знал, что за человек Каллингворт, и в прошлом письме сам же описывал тебе его характер, все равно мы отодвинули стол, поставили лампу повыше и встали в стойку друг перед другом.
Как только я посмотрел ему в глаза, я заподозрил что-то неладное. В них горел какой-то очень нехороший, злой огонь. Наверное, в ту секунду он думал о моем отказе подписать его бумаги. Как бы то ни было, выглядел он угрожающе: немного наклонил голову вперед, прищурился, выпятил челюсть, а руки опустил (его манера боксировать, как и все остальное, была чужда условностей).
Я сделал первый выпад, и он тут же пошел молотить меня обеими руками, рыча, как дикий кабан, при каждом ударе. Как видно, о боксе он не имеет ни малейшего представления. Я полминуты защищался, но потом он просто оттеснил меня к стене и сбил с ног, так что я обрушился на дверь и чуть не пробил головой одну из панелей. Но и после этого он не остановился, хотя видел, что мне некуда было отвести локти. Потом он нанес такой удар, от которого я бы вылетел в коридор, если бы не уклонился и не выскочил бы снова на середину комнаты.
– Слушай, Каллингворт, – выкрикнул я. – Что-то это не очень похоже на бокс.
– Да, рука у меня тяжелая.
– Если ты и дальше будешь так бить, я буду вынужден отбиваться, – сказал я. – Мы же хотели только размяться.
Не успел я произнести эти слова, как он снова бросился на меня. Я опять ушел от него, но комната была слишком маленькой, а он двигался быстро, как кошка, поэтому отделаться от него не представлялось возможным. Он еще раз насел на меня, потом толчком, скорее из арсенала игроков в регби, чем боксеров, вывел меня из равновесия и тут же нанес удар сразу двумя руками, левой рукой прямо в нос, а правой в ухо. Я отпрянул назад, споткнулся о скамеечку для ног и тут же получил еще один удар в то же ухо, отчего в голове у меня засвистело, как будто внутри закипел чайник. Он с довольным видом выпятил грудь и ударил по ней кулаками, возвращаясь на середину комнаты.
– Скажешь, когда тебе будет достаточно, Манро, – произнес он.
Это выглядело довольно нагло с его стороны, учитывая, что я выше его на два дюйма, вешу не меньше, да еще и боксирую лучше. Пока что его энергия и размеры комнаты были против меня, но я не собирался сдаваться и решил в следующем раунде показать, на что способен.
Он снова пошел вперед, размахивая руками, как мельница, но на этот раз он не застал меня врасплох. Левой я нанес прямой удар, потом, пригнувшись, ушел в сторону под его локтем и встречным заехал ему в челюсть, отчего он растянулся на коврике перед камином. Он стремительно вскочил, и лицо его исказилось от злости.
– Ах ты свинья! – закричал Каллингворт как безумный. – Ну-ка снимай перчатки и иди сюда!
Он принялся стягивать свои перчатки.
– Не будь таким ослом! – крикнул я в ответ. – Из-за чего нам драться?
Но его охватил такой приступ ярости, что он меня даже не слушал. Сняв перчатки, он швырнул их под стол.
– Черт побери, Манро, – взревел он, – снимешь ты их или нет, я тебя все равно отделаю!
– Выпей содовой, – сказал ему я, но в ответ он нанес удар.
– Ты просто боишься меня, Манро, – прорычал он.
Я понял, что дело заходит слишком далеко. Знаешь, Берти, я вдруг увидел всю глупость того, что происходило. Нет, я не сомневался, что смогу побить его, но силы наши были более-менее равны, и поэтому мы оба могли довольно сильно пострадать, причем без всяких причин. В общем, я решил снять перчатки, и, мне кажется, я принял единственно правильное решение в той ситуации. Если бы Каллингворт подумал, что ты в чем-то сильнее его, он мог бы сделать все, чтобы ты потом об этом пожалел.
Но судьба распорядилась так, что наш небольшой поединок был прерван в самом начале. В ту секунду в комнату вошла миссис Каллингворт и, увидев своего мужа, вскрикнула. Из носа у него сочилась кровь, подбородок был весь красный, так что нет ничего удивительного в том, что она испугалась.
– Джеймс! – Она бросилась к мужу, а потом повернулась ко мне. – Что это значит, мистер Манро?
Ты бы видел, какой ненавистью вспыхнули ее нежные голубиные глазки. Мне тут же захотелось обнять ее и успокоить поцелуем.
– Мы всего лишь немного потренировались, миссис Каллингворт, – сказал я. – Ваш муж жаловался, что ему не хватает физических упражнений.
– Все в порядке, Хетти, – сказал он, натягивая сюртук. – Не глупи. Слуги уже легли спать? Хорошо, сходи-ка на кухню, принеси воды в тазике. Садись, Манро, давай еще покурим. У меня есть куча вопросов, которые я хотел обсудить с тобой.
На этом все и закончилось, остаток вечера прошел совершенно спокойно. Правда, после того, что произошло, его жена всегда будет считать меня задирой и драчуном. А что касается самого Каллингворта… Не знаю, не возьмусь определить, какое впечатление все это произвело на него.
Когда на следующее утро я проснулся, он был в моей комнате. И вид у него был довольно необычный. Халат его лежал на стуле, а он, не прикрытый совершенно ничем, поднимал пятидесятишестифунтовую гантель. Природа не наделила его ни симметричным лицом, ни приятным выражением, но фигурой он походил на греческую статую. С удовольствием я отметил, что под обоими глазами у него проступают темные круги, он же в свою очередь усмехнулся, когда я сел на кровати и, прикоснувшись рукой к уху, почувствовал, что формой и, вероятно, цветом оно стало походить на шляпку мухомора. Впрочем, в то утро он был настроен на мирный лад и начал болтать со мной вполне дружелюбно.
В тот день я должен был вернуться к отцу, но перед отъездом провел еще пару часов с Каллингвортом в его кабинете. Он пребывал в прекрасном настроении, и его, как всегда, переполняли сотни самых безумных идей, которыми ему не терпелось со мной поделиться. Цель первостепенной важности для него состояла в том, чтобы увидеть свое имя в газетах. Он совершенно не сомневался, что именно это ключ к успеху. Мне показалось, что он перепутал местами причину и следствие, но спорить с ним на эту тему я не стал. От некоторых его предложений я хохотал так, что чуть бока не надорвал. Например, я должен был лечь у дороги и притвориться бесчувственным, чтобы собравшаяся толпа сочувствующих отнесла меня к нему, а его лакей тем временем сбегал бы в редакцию газеты с заранее заготовленной заметкой об этом происшествии. Правда, оставалась вероятность того, что толпа понесет меня к его конкуренту, который занимал дом напротив. По-разному гримируясь, я должен был симулировать припадки перед его дверью, тем самым привлекая к нему внимание местной прессы. Или я должен был умереть… в прямом смысле этого слова… после чего вся Шотландия узнала бы о том, как доктор Каллингворт из Эйвонмута воскресил меня. Его беспокойный разум увидел в этой мысли тысячи открывающихся возможностей, так что он и думать позабыл о надвигающемся банкротстве.
Однако вскоре его радужное настроение как рукой сняло. Он, стиснув зубы, принялся ходить из угла в угол, время от времени оглашая комнату проклятиями, когда увидел, как по ступенькам дома Скарсдейла, его соседа напротив, поднимается пациент. Скарсдейл имел весьма оживленную практику и принимал пациентов с десяти до двенадцати у себя на дому, так что при мне Каллингворт много раз вскакивал с кресла, мчался к окну и смотрел через дорогу. Глядя на чужих пациентов, он на глаз ставил диагноз и подсчитывал, сколько они могли бы заплатить.
– Нет, ты полюбуйся! – один раз неожиданно закричал он. – Видишь того хромающего мужчину? Он приходит каждое утро. У него смещение мениска{93} в коленном суставе. Это работа на три месяца. С него можно брать тридцать пять шиллингов в неделю. А это! Да чтоб меня повесили, если это снова к нему не едет на своей инвалидной коляске та женщина с ревматическим артритом{94}. Просто тошно смотреть, как они все к нему рвутся. Было бы к кому! Ты бы его видел! Какого черта ты смеешься? Я лично ничего смешного не вижу.
Да, мой визит в Эйвонмут был недолгим, но, думаю, он запомнится мне на всю жизнь. Тебе уже наверняка до смерти надоела вся эта история, но я ведь начинал этот подробный рассказ, когда еще только собирался ехать. Все кончилось тем, что днем я уехал домой, а Каллингворт на прощание сказал, что последует моему совету и соберет всех своих кредиторов, и пообещал через несколько дней сообщить мне, чем эта встреча закончится. Миссис К. даже не захотела пожать мне руку, когда мы прощались, но после этого она мне начала нравиться еще больше. Он должен быть очень хорошим человеком, раз сумел завоевать такую сильную любовь и преданность этой женщины. Наверное, существует какой-то другой, скрытый от посторонних Каллингворт… Более мягкий и нежный мужчина, который способен любить и вызывать любовь. Если это так, то качества эти скрыты в нем очень глубоко, потому что мне никогда не удавалось разглядеть даже намека на что-либо подобное. Хотя, с другой стороны, я ведь не так уж близко с ним знаком. Кто знает? Наверное, он точно так же не знает истинной сущности Джонни Манро. Но тебе, Берти, она известна, и мне кажется, что на этот раз с тебя хватит этого Каллингворта. Поверь, если бы не твои полные понимания и участия ответы, я бы, наверное, не решился утомлять тебя подобным суесловием.
Ну вот, я уже настрочил столько, сколько почтовое отделение может отправить за пять пенсов, и мне осталось лишь добавить, что прошло уже две недели, а из Эйвонмута нет ни слова, что, в общем-то, меня и не удивляет. Если я все же что-нибудь узнаю, я обязательно сообщу тебе, чем закончилась эта затянувшаяся история.
III Дом, 15 октября, 1881.
Берти, поверь, когда я думаю о тебе, я испытываю сильнейшее чувство стыда. Стыдно мне из-за того, что я послал тебе два длиннейших письма, насколько я помню, перегруженных всякими никому не нужными подробностями, а потом, несмотря на твои ответы, полные дружеского расположения и участия, коих я на самом деле ничем не заслуживаю, позабыл о тебе более чем на полгода. Клянусь тебе своим пером «рондо»{95}, что этого больше не повторится, и нынешнее письмо должно заполнить образовавшийся пробел и ввести тебя в курс моих нынешних дел, состояние которых во всем мире только тебя одного и интересует.
Вначале хочу тебя заверить, что все написанное тобой о религии в твоем прошлом письме меня очень взволновало и заставило по-настоящему задуматься. К сожалению, твое письмо сейчас у меня не под рукой (я дал его почитать Чарли), и я не имею возможности ссылаться на него напрямую, но мне кажется, что я достаточно подробно его помню.
Как ты пишешь, хорошо известно, что человек неверующий может быть таким же страстным фанатиком своих идей, как и самый отъявленный ортодокс{96}, и что человек может быть очень догматичен в своем неприятии догм. Подобные люди мне кажутся истинными врагами свободомыслия. Если что и может заставить меня отойти от своих идей, так это, к примеру, богохульные или глупые картинки в каком-нибудь агностическом{97} журнале.
Но у любой идеи всегда находится толпа бездумных последователей, которые готовы отстаивать ее и навязывать другим. Мы подобны кометам, которые представляют собой сверкающую голову и длинный газообразный хвост, постепенно превращающийся в ничто. Впрочем, каждый человек должен сам говорить за себя, и мне не кажется, что твое обвинение в полной мере касается меня. Я фанатичен только в неприятии фанатизма и считаю это столь же допустимым, как насилие, направленное на искоренение насилия. Когда начинаешь задумываться, какую роль в истории сыграло извращенное понимание религии (войны; христиане и мусульмане; католики и протестанты; гонения и пытки; междоусобицы; мелочная озлобленность, которой запятнали себя абсолютно ВСЕ вероисповедания), поневоле начинаешь удивляться, почему противопоставленный ему голос разума не поставил фанатизм на первое место в списке смертных грехов. Я возьму на себя смелость повторить избитую истину, что ни оспа, ни чума не принесли человечеству столько бед, сколько религиозные разногласия. Я не становлюсь фанатиком, друг мой, если совершенно искренне говорю, что уважаю любого доброго католика и любого доброго протестанта и признаю, что каждая из этих форм веры была мощным инструментом в руках того не поддающегося осмыслению провидения, которое управляет этим миром. Вспоминая историю, можно обнаружить примеры того, как иные преступления приводят к самым благовидным и добрым последствиям, так и религия, несмотря на то что все системы вероисповедания основаны на совершенно неправильном понимании Творца и Его путей, может оказаться незаменимой и практичной вещью для людей или эпох, которые принимают ее. Однако же, если религия эта и удовлетворяет людей, умственный уровень которых подходит для ее принятия, то те, кого она не удовлетворяет, имеют право протестовать против нее. В результате такое противостояние приведет к тому, что все человечество не сможет оставаться таким, каким было прежде, и сделает очередной шажок на долгой дороге к истине.
Католицизм более емок. Протестантизм более рационален. Протестантизм подгоняет себя под современность. Католицизм стремится подогнать современность под себя. Люди с одной толстой ветки перелезают на другую толстую ветку и думают при этом, что это что-то меняет, в то время как обе эти ветки держатся на одном гнилом стволе и в их нынешней форме рано или поздно неизбежно обломаются. Однако движение человеческой мысли, каким бы медленным оно ни было, все равно направлено в сторону постижения истины, и различные религии, которые порождает и от которых избавляется человек на этом пути (при этом каждая из них в свое время считается единой истинной), служат своего рода бакенами{98}, указывающими фарватер{99} его развития.
Но откуда мне известно, что можно считать истиной, спросишь ты. Я не знаю. Однако я точно знаю, что нельзя считать истиной. И это немаловажно. Не истинно то, что великий изначальный Разум, сотворивший все, способен на ревность или месть, жестокость или несправедливость. Эти чувства являются отличительными признаками людей, и та книга, которая приписывает их Всевышнему, написана человеком. Не истинно то, что законы природы могли когда-либо меняться по желанию человека{100}, что змеи могли разговаривать{101}, женщины превращались в соляные столпы{102}, а жезлы высекали воду из камня{103}. Нужно честно признать, что, если бы подобные вещи были явлены нам, когда человечество уже вышло из детского возраста, это вызвало бы лишь улыбку. Не истинно то, что первоисточник здравого смысла может наказать целый народ за несущественное прегрешение одного человека, давно уже умершего{104}, и вдобавок к подобной глупейшей несправедливости в качестве искупления требовать невинного козла отпущения{105}. Неужели в подобном понимании явлений действительности ты не видишь полного отсутствия справедливости и логики, не говоря уже о милосердии? Неужели ты этого не замечаешь, Берти? Не может быть, чтобы ты был настолько слеп! Отвлекись на секунду от частностей и взгляни на всю основополагающую идею Веры. Ее общая сущность согласуется с такими понятиями, как бесконечная мудрость и всепрощение? Если нет, то зачем нужны символы веры, таинства и вообще вся эта система, построенная на такой шаткой основе? Мужайся, друг мой! Настанет время, и все это будет отброшено, так же как человек, восстановивший силы, откладывает костыль, который хорошо послужил ему, когда он был слаб. Но и после этого человеку еще предстоят перемены. Сначала его нетвердая походка станет уверенной, а потом он побежит. И развитию этому нет конца. И конца этого не может быть, поскольку мы имеем дело с вопросом, связанным с таким понятием, как бесконечность. Все эти идеи, кажущиеся тебе сегодня уж слишком передовыми и оторванными от современности, через тысячу лет будут восприниматься как мракобесие и консерватизм.
Раз уж я коснулся этой темы, я позволю себе еще кое-что добавить. Ты говоришь, что критика, подобная моей, деструктивна и что мне нечего предложить взамен того, что я хочу разрушить. Это не совсем верно. Я считаю, что в пределах нашей досягаемости существуют какие-то истины, для принятия которых не нужна вера и которые сами по себе могут превратиться в религию практического толка, поскольку здравого смысла в них достаточно для того, чтобы привлечь к себе думающих людей, а не оттолкнуть.
Когда все мы вернемся к этим изначальным доказуемым фактам, появится надежда на окончание жалкой вражды между различными вероисповеданиями и объединение всего человечества под флагом единой всеобъемлющей системы мышления.
Когда я впервые отступился от той веры, в которой меня воспитывали, я, конечно же, какое-то время чувствовал себя как человек с лопнувшим спасательным поясом. Не будет преувеличением сказать, что я страдал и блуждал в совершеннейшей духовной темноте. Молодость – слишком неподходящая пора для этого. И я чувствовал смутное беспокойство, постоянную нехватку тишины, опустошенность и тяжесть, которых раньше не замечал. Для меня религия и Библия были настолько соединены, что раздельно я их вовсе не воспринимал. Когда выяснилось, что непрочен фундамент, тут же стало понятно, как шаток и весь дом. И тут на выручку пришел старый добрый Карлейль. Частично с его помощью, частично на основании собственных размышлений я выстроил свою небольшую хижину, в которой и ючусь с тех пор и в которой даже находили приют некоторые из моих друзей.
Первое и главное, что мне предстояло сделать, это осознать то, что существование Творца и указание на Его отличительные свойства никоим образом не зависят ни от еврейских поэтов, ни от бумаги, ни от типографской краски. Напротив, все подобные попытки превратить Его в нечто существенное, материальное, могли только умалить Его, низводя бесконечность до уровня ограниченного человеческого мышления, тем более что производились они во времена, когда мышление это было в общем менее духовным, чем в наше время. Даже самые отъявленные из нынешних материалистов содрогнутся, если попытаться представить себе Бога требующим массовых убийств или таким, которого можно умилостивить, принося в жертву царей на алтарях.
Далее, подготовив свой разум для более высокой (или же более неопределенной) идеи божественности, необходимо было перейти к изучению Его по Его творениям, которые нельзя подделать или подтасовать. Природа – вот истинное откровение Бога человеку. Ближайший луг является той страницей, на которой ты можешь прочитать все, что тебе необходимо знать.
Признаюсь, я никогда не понимал позицию атеистов. Фактически я пришел к тому, что перестал верить в их существование и стал воспринимать это название всего лишь как своего рода бранное слово в теологическом мире. Оно может обозначать временное состояние, этап в умственном развитии, резкую реакцию на предлагаемый человекоподобный идеал. И все же в голове у меня не укладывается, как человек, видя природу, может продолжать отрицать существование законов, выстроенных на основании разума и силы. Само существование мира является доказательством существования творца, так же как существование стола указывает на предшествующее существование плотника. Поняв это, можно измышлять какие угодно концепции Творца, но нельзя быть атеистом.
Мудрость, сила и другие ценности, направленные на достижение некоего результата, – все они существуют в контексте Природы. Разве нужны какие-то книги, чтобы доказать это? Если человек, глядя на ночное небо, видит мириады звезд и понимает, что все они вместе с их бесчисленными спутниками безмятежно движутся по своим орбитам, которые не пересекаются и не встречаются, и если такой человек не в состоянии без помощи книги Иова{106} увидеть в этом доказательства существования Творца, то его видение мира находится за рамками моего понимания. Но не только в большом видим мы вечное существование некоей наделенной разумом силы. Ее воздействие проявляется даже в мельчайших вещах. Мы видим, как крошечный хоботок насекомого идеально приспособлен к тому, чтобы проникать в чашечку цветка, как самые микроскопические волоски и железы четко выполняют заложенные в них функции. Какая разница, что сделало их такими – воля Творца или эволюция? Фактически нам известно, что они развились в процессе эволюции, но это лишь устанавливает границы закона. Это не объясняет его.
Если эта сила позаботилась о том, чтобы снабдить пчелу медовым зобиком и специальными органами для сбора пыльцы, а крошечное семя – тысячью приспособлений, с помощью которых оно достигает пригодной для произрастания земли, то может ли быть такое, что она забыла о венце творения, то есть о нас? Это немыслимо. Такая идея несовместима с общим замыслом творения в том виде, в котором мы его себе представляем. Я снова повторю: никакая вера не требуется для того, чтобы убедиться в существовании Провидения.
С убеждением этим мы имеем все, что необходимо для возникновения религии в ее чистом виде. Что происходит с нами после смерти, мы не знаем, но в жизни наши обязанности четко определены, и этические каноны всех вероисповеданий сходятся в этом настолько, что нескольких мнений на сей счет быть не может. Последняя реформация упростила католицизм{107}, грядущая упростит протестантизм. А когда мир будет к этому готов, наступит очередная реформация, которая упростит и те виды религии, которые возникнут в будущем. С развитием разума религия будет раздвигать свои границы, и процесс этот вечен. Разве не прекрасно, что эволюция не закончилась, а по-прежнему происходит; что, если предком нашим была человекообразная обезьяна, то потомками нашими будут архангелы?
Я вообще-то не собирался вываливать на тебя все это, Берти. Я думал, мне будет достаточно одной страницы для того, чтобы изложить суть своего мировоззрения, но ты же видишь, как одно ведет к другому. Даже сейчас мне еще столько всего хотелось бы добавить! Я прекрасно представляю, как ты скажешь мне: «Если ты выводишь наличие доброго Провидения из существования в природе добрых вещей, то что ты скажешь о зле?» Да, именно такой вопрос задашь ты мне, и я тебе отвечу коротко: я склонен отрицать существование зла. И больше к этой теме я не вернусь. Только если ты сам этого захочешь, но тогда уж держись!
Ты, конечно, помнишь, что прошлое письмо я написал, вернувшись домой после поездки в Эйвонмут к Каллингворту, и что он обещал сообщить мне, какие шаги предпримет для того, чтобы успокоить своих кредиторов. Как я и ожидал, с тех пор от него не было ни слова. Правда, из другого источника мне кое-что стало известно, но, поскольку новости эти пришли не из первых рук, есть вероятность того, что они не совсем достоверны. Мне рассказали, что Каллингворт поступил именно так, как я посоветовал. Он собрал вместе всех кредиторов и представил им полный отчет о своем положении. Добрых людей так тронул его рассказ о том, как достойному человеку приходится бороться за свое место под солнцем в этом жестоком мире, что некоторые из них буквально рыдали и что не только было единодушно решено продлить сроки выплат, но даже поступило предложение устроить сбор пожертвований в помощь Каллингворту. Насколько я понял, он уехал из Эйвонмута, но никто не знает куда. Предполагается, что в Англию. Он, конечно, довольно странный парень, но мне бы очень хотелось, чтобы там, куда он направился, удача сопутствовала ему.
Вернувшись домой, я снова стал помогать отцу в надежде на то, что рано или поздно мне что-нибудь подвернется. Ждать пришлось шесть месяцев, и эти полгода дались мне нелегко. Понимаешь, просить у отца деньги я не могу… По крайней мере, я не могу заставить себя взять у него хотя бы пенни на нечто такое, что не является крайней необходимостью, поскольку знаю, как тяжело ему приходится работать, чтобы обеспечить нас двоих крышей над головой да еще и содержать скромный выезд, без которого в его профессии так же не обойтись, как портному не обойтись без утюга. Черт бы побрал этих жадных сборщиков налогов, которые сдирают с нас еще несколько гиней на том основании, что это, видите ли, предмет роскоши! Нам едва удается сводить концы с концами, и мне бы очень не хотелось, чтобы из-за меня отец почувствовал себя в чем-то обделенным. Но ты же понимаешь, Берти, что для человека в моем возрасте унизительно не иметь в кармане денег, которыми можно распоряжаться по своему усмотрению. Я от этого испытываю множество неудобств. Какой-нибудь бедняк поможет мне с чем-то на улице и посмотрит на меня косо, когда я ничем его не отблагодарю. Я могу захотеть купить девушке цветы, но вместо этого мне придется мириться с тем, что я покажусь ей неучтивым. Не знаю, почему мне нужно этого стыдиться, раз сам я не виноват в этом, и я надеюсь, мне удастся сделать так, чтобы никто не заметил, что я этого стыжусь. Но тебе, дорогой мой Берти, я могу признаться, что мое самоуважение от этого ужасно страдает.
Мне часто приходил в голову вопрос, почему ни у кого из пишущей братии не возникает желания попытаться изобразить развитие внутреннего мира юноши с поры полового созревания до того времени, когда он начинает превращаться во взрослого самостоятельного мужчину. Писатели-мужчины с великой охотой анализируют чувства героинь, о которых не могут ничего знать наверняка, и в то же время обходят молчанием развитие своих героев, хотя сами прошли через это. Я бы попробовал заняться этим, но для литературы подобного рода нужно обладать развитым воображением, а с ним у меня нелады. Хотя я прекрасно помню все, что происходило со мной. Поначалу мне (как и всем) казалось, будто я испытывал нечто такое, чего больше никто никогда не испытывал, но, наслушавшись того, что пациенты рассказывали отцу, я пришел к выводу, что, взрослея, все переживают примерно одно и то же. Неуверенность в себе; ужасная стеснительность и, как ответная реакция на нее, вспышки бессмысленной дерзости; стремление найти близких друзей; страдания из-за того, что, как тебе кажется, тебя не воспринимают всерьез; невероятные сомнения относительно своей сексуальной состоятельности; ужас перед несуществующими болезнями; неясное волнение, вызываемое всеми женщинами и граничащее со страхом возбуждение, которое охватывает тебя при виде некоторых из них; агрессивность, вызванная страхом показать свой страх; неожиданные приступы меланхолии; недоверие к самому себе… Готов поспорить, что и ты прошел через все это, Берти, точно так же, как и я, точно так же, как страдает от них любой восемнадцатилетний подросток, которого ты встретишь на улице.
Однако я отхожу от темы. Главное то, что я шесть долгих томительных месяцев просидел дома и что теперь я страшно рад новому витку своей жизни, о котором и хочу тебе рассказать. Врачебная практика здесь хоть и неприбыльна, однако отнимает очень много времени. Все эти консультации по три с половиной шиллинга с пациента и роды, приносящие гинею, – в общем, нам с отцом не приходилось бездельничать. Ты знаешь, как я люблю своего старика, но я боюсь, что интеллектуального понимания между нами не существует. Похоже, он считает, что мои взгляды на религию и политику, которые зародились в самых сокровенных глубинах моего сознания, являются всего-навсего либо выражением безразличия, либо показной удалью. Поэтому я перестал обсуждать с ним важные вопросы, и, хоть мы и делаем вид, что все в порядке, оба знаем, что в этом между нами существует некий барьер. Что касается матери… Ах, она заслуживает отдельного рассказа.
Ты ведь встречался с ней, Берти, и должен помнить ее красивое лицо, чувственный рот, близорукий прищур, то впечатление маленькой толстенькой наседки, которая все еще зорко наблюдает за своими цыплятами. Но ты не можешь представить себе, что она для меня значит. Ее руки, которые всегда готовы помочь! Ее неизменная готовность понять! Сколько я ее помню, она всегда была какой-то странной смесью домохозяйки и писательницы, при этом оставаясь истинной леди. Она всегда леди: и когда торгуется с мясником, и когда ругается с хитрой поденщицей, и когда мешает в кастрюле кашу. Я так и вижу, как она одной рукой сжимает ложку, а другой держит «Revue des deux Mondes»{108} в двух дюймах от носа. Она так любит это издание, что я, думая о ней, всегда представляю себе и его светло-коричневую обложку.
Мама моя – женщина очень начитанная. Она прекрасно разбирается как во французской, так и в английской современной литературе и может часами говорить о Гонкурах{109}, Флобере{110} и Готье{111}. При том, что она все время занята какой-то домашней работой, для меня остается загадкой, как ей удается усваивать знания. Она читает, когда вяжет, читает, когда вытирает пыль, читает, даже когда кормит детей. У нас есть семейная шутка о том, как она когда-то, зачитавшись, засунула ложку сухариков с молоком в ухо моей сестренке, которая отвернула рот. Ее руки огрубели от постоянной работы, но вряд ли найдется другая неработающая женщина такая же начитанная, как она.
Кроме того, для нее всегда на первом месте стояла фамильная гордость. Ты знаешь, как мало занимают меня подобные вещи. Если бы мою фамилию раз и навсегда освободили от приставки «эсквайр»{112}, мне было бы значительно легче. Но, как она любит выражаться, ma foi,[26] при ней об этом я даже не могу заикнуться. По пэкенемской линии (ее девичья фамилия – Пэкенем) семья наша имеет довольно знатных родственников. Я имею в виду по прямой линии, но, если брать ответвления, то во всем мире нет ни одного монарха, который не имел бы родственных связей с этим гигантским генеалогическим древом. Не раз и не два, а целых три раза Плантагенеты вступали в брак с представителями нашего семейства{113}, бретанские{114} Дюки добивались родства с нами, а нортумберлендские{115} Перси прочно связаны фамильными узами с нашим родом. Помню, когда я был совсем маленьким, она рассказывала мне об этом, чистя камин, а я слушал ее, болтая ножками в гольфах, и прямо-таки раздувался от гордости, думая о том, какая пропасть лежит между мною и всеми остальными мальчишками, которые точно так же болтают своими маленькими ногами под столами. Даже сейчас, если я делаю что-то такое, что вызывает ее одобрение, любимая моя мама говорит одно: «Ты настоящий Пэкенем»; но, если мне случается сбиться с пути, она вздыхает: все-таки кое в чем я удался в Манро.
В обычной жизни она очень практичная женщина, с широкими взглядами, хотя и подверженная приступам романтического настроения. Помню, как она приходила на станцию, через которую я проезжал на поезде. До этого мы не виделись с ней шесть месяцев и в следующий раз увиделись через полгода. Мы разговаривали пять минут через открытое окно вагона, и последним советом, который она успела дать мне, когда поезд уже трогался, было: «Фланелевую рубашку, сынок, надевай на голое тело, а в вечные муки не верь». Чтобы закончить ее описание, могу лишь напомнить тебе, что выглядит она достаточно молодо и привлекательно. Недавно на станции, когда она уже села в вагон, а я еще стоял на платформе, проводник сказал ей: «Вашему мужу лучше поторопиться, а то уедем без него». Когда мы отъезжали, мать долго рылась в кармане, и я знаю, что она искала шиллинг для того проводника.
Эх, какой же я болтун! И все это ради одного предложения: я бы не смог прожить дома эти шесть месяцев, если бы не поддержка матери.
Ну, а теперь я хочу рассказать, в какую историю угодил я сам. Наверное, то, что произошло, должно меня расстраивать, но я каждый раз, думая об этом, не могу удержаться от смеха. Я, можно сказать, сообщаю тебе последние новости, поскольку собираюсь рассказать о том, что случилось только на прошлой неделе. Даже тебе, Берти, я не буду называть имен, потому что великое проклятие Эрнульфа, включающее в себя сорок восемь меньших проклятий{116}, падет на голову и остальные части тела того, кто распускает слухи о своих любовных похождениях.
Ты должен знать, что в нашем городе живут две леди, мать и дочь, которых я назову миссис и мисс Лора Эндрюс. Они – давние пациентки моего старика и стали уже кем-то вроде друзей семьи. Мадам – уроженка Уэльса, она обладает восхитительной внешностью, благородными манерами и по убеждениям – сторонница высокой церкви. Дочь немного выше матери ростом, но в остальном внешнее сходство их просто поразительно. Матери тридцать шесть лет, дочери восемнадцать, и обе они необыкновенно очаровательны. Если бы мне пришлось выбирать между ними, я думаю, entre nous[27], что мать привлекла бы меня больше, поскольку я придерживаюсь мнения Бальзака относительно женщин за тридцать{117}. Однако судьбе было угодно распорядиться по-своему.
Впервые мы с Лорой сблизились, когда однажды вместе возвращались с танцев. Ну, ты знаешь, как легко и неожиданно происходят подобные вещи. Все начинается шутливым подтруниванием друг над другом, а заканчивается чувством несколько более горячим, чем дружба. Сначала ты сжимаешь маленькую ладонь, потом касаешься изящной ручки в перчатке и в тени у порога нежно и долго прощаешься. Новорожденный Амур, пробующий свои нежные крылышки, – это так невинно и интересно. Позже он продолжит полет и крылья его еще окрепнут. Нет, между нами ничего такого не было, речь о помолвке не шла, и никто ни перед кем не в обиде. Она ведь знала, что я всего лишь бедняк, без средств к существованию и без надежды на будущее, а я знал, что слово ее матери для нее закон и что ее дальнейшая судьба уже решена. Мы нужны были друг другу для того, чтобы делиться своими маленькими тайнами, иногда встречаться и пытаться сделать наши жизни немного более яркими, не причиняя никому неудобств. Я представляю себе, как ты, прочитав это, сурово покачаешь головой и на правах женатого человека скажешь, что отношения подобного рода весьма опасны. И ты полностью прав, друг мой, но мы с ней об этом не задумывались. Она была слишком невинна для этого, а я слишком беспечен, и с самого начала виноват во всем был только я.
В общем, так обстояли дела, когда на прошлой неделе отцу сообщили, что у миссис Эндрюс захворал слуга, и попросили его срочно приехать. У моего старика разыгралась подагра{118}, так что пришлось мне самому одеваться и идти на вызов. Меня утешало лишь то, что я совмещу работу с более приятным занятием, перекинусь парой слов с Лорой. Ну и, разумеется, подходя по посыпанной гравием дорожке к их дому, я заглянул в окно гостиной и увидел ее. Она сидела спиной к окну, что-то рисовала и, очевидно, не услышала моих шагов. Входная дверь была приоткрыта, и, когда я вошел в прихожую, меня никто не встретил. И тут на меня нашло какое-то шаловливое настроение. Я очень медленно открыл дверь гостиной, прошел на цыпочках внутрь, подкрался к художнице и поцеловал ее в затылок. Вскрикнув, она обернулась. И что ты думаешь? Оказалось, что это была ее мать!
Не знаю, Берти, приходилось ли тебе когда-нибудь попадать в такие переделки, но для меня это был довольно крутой поворот. Помню, что, подкрадываясь к ней, я улыбался, но потом-то мне уж было не до смеха. Даже сейчас, когда я думаю об этом, у меня начинают гореть щеки.
Да, я показал себя полным идиотом. Сначала леди, которая (я, кажется, уже говорил об этом) отличается благородными, если не сказать чопорными, манерами, опешила. Потом, когда до нее дошла вся чудовищность моего поступка, она поднялась и выпрямилась во весь рост. Мне тогда показалось, что я еще никогда в жизни не видел таких высоких и грозных женщин. Когда она заговорила, голос у нее был ледяной. Она спросила, что в ее поведении дало мне повод считать, будто я имею право вести себя подобным образом. Разумеется, я подумал, что мои оправдания поставят под удар бедную Лору. Поэтому я молча стоял, сжимая свой цилиндр, и смотрел в пол, готовый провалиться сквозь землю от стыда. Наверняка я представлял собой довольно жалкую картину. Да и она, надо признать, выглядела довольно нелепо: палитра в одной руке, кисть в другой, на лице выражение крайнего изумления. Я пролепетал что-то вроде того, будто надеялся, что она не будет против, но это только рассердило ее еще больше. «Наверное, вы пьяны, сэр. Другого объяснения вашему поступку я не могу дать. Нам не требуются услуги медика в подобном состоянии». Я не пытался переубедить ее, поскольку ничего лучшего придумать все равно не смог, и полностью деморализованный убрался оттуда как можно скорее. В тот же вечер она прислала моему отцу письмо с описанием того, что произошло, и старик жутко рассердился. Но мама моя, наоборот, решила, что бедная миссис Э. – коварная интриганка, подстроившая ловушку невинному Джонни, и ничто не могло заставить ее изменить свое мнение. В результате они сильно поссорились, но что произошло на самом деле, никто (кроме теперь вот тебя) не знает до сих пор.
Ты, конечно же, понимаешь, что происшествие это отнюдь не сделало мое проживание здесь более приятным, потому что отец так и не смог заставить себя простить меня, и я, честно говоря, понимаю его. Я бы на его месте повел себя точно так же. Ведь все это в его глазах выглядит как самое настоящее глумление над профессиональной честью и пренебрежение его интересами. Если бы он знал правду, он бы наверняка понял, что это была всего-навсего несвоевременная и глупая шутка. Впрочем, правду он не узнает никогда.
Ну, а теперь о том, что за шанс подвернулся мне. Сегодня мы получили письмо от присяжных стряпчих Кристи и Хоудена, в котором они сообщают, что хотели бы поговорить со мной насчет какой-то работы. Мы не представляем, что это значит, но я полон надежд. Завтра утром я еду на встречу с ними и обязательно напишу тебе о результатах.
До свидания, дорогой Берти! Твоя жизнь течет тихо и размеренно, как спокойная река, а моя похожа на бурный поток, и все же я буду держать тебя в курсе всего, что происходит.
IV Дом, 1 декабря, 1881.
Может быть, я к тебе несправедлив, Берти, но твое последнее письмо заставило меня думать, что мое откровенное выражение своих религиозных взглядов показалось тебе неприятным. К тому, что ты не согласишься со мной, я был готов, но то, что ты станешь возражать против свободного и честного обсуждения тех вопросов, которые требуют от человека наибольшей честности, по правде говоря, меня расстроило. Свободомыслящий человек находится в нашем обществе в таком незавидном положении, что, предлагая свою отличную от общепринятых точку зрения, рискует прослыть бескультурным типом, хотя тем, кто с ним не согласен, ничего подобного не грозит. Когда-то, чтобы быть христианином, нужно было обладать мужеством. Теперь же нужно обладать мужеством, чтобы им не быть. Но, право же, если нам приходится вставлять себе в рот кляп и скрывать свои мысли, когда мы пишем доверительные письма своим близким… Но нет. Я отказываюсь в это верить. Мы же с тобой столько раз разговаривали на самые различные темы, Берти, а сколько придумывали разных идей, которые потом развивали до такой степени, что сами переставали понимать их смысл! Прошу тебя, просто напиши мне, как другу, что я осел и ничего не понимаю. До тех пор, пока ты этого не сделаешь, я объявляю карантин на все, что, с моей точки зрения, может хоть как-то показаться тебе обидным.
Берти, тебе не кажется, что сумасшествие – очень странная штука? Как представить себе болезнь души? Только представь себе человека, умного, полного высоких стремлений, которого исключительно материальные причины (как, например, отколовшаяся от внутренней поверхности черепа крошечная спикула{119}, попавшая на поверхность мембраны, покрывающей мозг) могут превратить в жуткое существо, со всеми звериными признаками! Как человеческая личность может принимать такие различные формы и в то же время оставаться единой? Как могут жить одной жизнью настолько противоположные создания? Разве это не поразительно?
Я спрашиваю себя: что такое человек, в чем заключается его истинная сущность? Давай посмотрим, что можно отнять у человека, сохранив при этом его суть. Понятие «человек» не заключается в конечностях, которые являются не более чем инструментами. Не находится оно и во внутренних органах, которые нужны для того, чтобы переваривать пищу или вдыхать кислород. Все это лишь вспомогательные приспособления, рабы на службе заключенного внутри повелителя. А где же сам этот повелитель? Он не в лице, которое выражает эмоции, не в глазах и ушах, надобность в которых при слепоте или глухоте вовсе отпадает, не в костном остове, который является не более чем каркасом, на который природа вывешивает свой балдахин из плоти. Ничто из перечисленного не является носителем человеческой сущности. Что же остается? Куполовидная белесая похожая на замазку масса, весом в пятьдесят с лишним унций с большим количеством тонких белых отростков, свисающих с нее и делающих похожей на тех медуз, которых можно видеть летом у наших берегов. Но эти тонкие ниточки нужны только для того, чтобы передавать нервные импульсы мышцам и органам, выполняющим второстепенные функции. Поэтому сами по себе они не важны. Но отсев лишнего еще не закончен. Эту массу нервного вещества нужно еще обрезать со всех сторон, чтобы приблизиться к тому месту, где заключена душа. Бывало, самоубийцы отстреливали себе передние доли мозга, после чего выживали и имели возможность раскаяться в содеянном. Хирурги иногда удаляют части мозга. Большая часть этого органа отвечает за движения, какая-то часть – за восприятие, но и от них тоже можно избавиться, поскольку цель наших поисков – то, что мы называем душой, духовной составляющей человека. Что же остается? Маленький комок вещества, пригоршня состоящего из комка теста, несколько унций нервной материи, но в ней, где-то в ней и скрывается то крошечное зернышко, для которого все остальное тело всего лишь оболочка. Древние философы, которые вкладывали душу в шишковидную железу{120}, ошибались, но были удивительно близки к истине.
Моя физиология покажется тебе еще хуже моей теологии, Берти. Так получается, что свои истории я рассказываю тебе, начиная с конца. И в этом нет ничего удивительного, если принять во внимание, что я всегда сажусь писать письма под впечатлением последних происходящих со мной событий. Все эти рассуждения о душе и мозге вызваны тем простым фактом, что последние несколько недель я провожу рядом с сумасшедшим. Сейчас я постараюсь рассказать тебе обо всем по порядку.
Ты ведь помнишь из моего прошлого письма, как тяготила меня жизнь дома в кругу семьи и как моя глупейшая ошибка рассердила моего отца и сделала мое положение здесь крайне неудобным. В нем же я, кажется, упомянул и о письме от Кристи и Хоудена, адвокатов. Итак, я достал свою воскресную шляпу, мать встала передо мной на стул и пару раз прошлась по моим ушам платяной щеткой в полной уверенности, что придает воротнику моего пальто более презентабельный вид. Пройдя сей обряд посвящения, покинул я отчий дом, и моя дорогая родительница еще долго стояла у двери, провожая меня взглядом и маша на счастье рукой.
Когда я подходил к дому, в котором должен был состояться наш деловой разговор, меня охватила сильная дрожь, поскольку на самом деле я намного более нервный человек, чем кажусь своим друзьям. Тем не менее меня без промедления провели к мистеру Джеймсу Кристи, подтянутому, аккуратному мужчине с острым взглядом, тонкими губами и несколько резкими манерами. Речь его отличалась той шотландской четкостью выражений, которую иногда можно принять за ясность ума.
– От профессора Максвелла я узнал, что вы подыскиваете себе место, мистер Манро, – сказал он.
Максвелл как-то сказал, что при возможности поможет мне, но ты же помнишь, что подобные обещания он раздавал всем подряд. Впрочем, я всегда считал его надежным человеком.
– Я с радостью рассмотрю любое предложение, – ответил я.
– Вашу медицинскую квалификацию мы можем не обсуждать, – продолжил он, непонятно осматривая меня с ног до головы. – Достаточно того, что вы имеете степень бакалавра медицины. Однако профессор Максвелл посчитал, что именно вы как никто другой подходите для данной работы по физическим признакам. Позвольте узнать, сколько вы весите?
– Четырнадцать стоунов.
– А рост ваш, насколько я могу судить, около шести футов?
– Совершенно верно.
– К тому же вы привычны к разного рода физическим упражнениям. Что ж, вы просто идеально подходите для этой должности, и я буду счастлив рекомендовать вас лорду Солтайру.
– Вы забыли, – заметил я, – что я пока еще не знаю, что за должность вы мне предлагаете и на каких условиях.
Тут он рассмеялся.
– О, прошу меня простить за такую поспешность, – сказал он, – но я не думаю, что по поводу должности и условий у нас с вами возникнут разногласия. Вы, возможно, слышали о том несчастье, которое постигло лорда Солтайра, нашего клиента? Нет? Коротко говоря, его сын, благородный Джеймс Дервент, наследник состояния и единственный ребенок, в прошлом июле отправился на рыбалку, не захватив шляпы, и получил солнечный удар. Мозг его так полностью и не восстановился после того потрясения, и с тех пор он пребывает в состоянии подавленной замкнутости, прерываемом частыми вспышками жестокости. Отец не хочет, чтобы его увозили из их замка в Лохтулли, и поэтому им нужен человек с медицинским образованием, который жил бы у них и постоянно наблюдал за его сыном. Ваша физическая сила, конечно же, позволит справиться с припадками буйства, о которых мне рассказывали. Оплата – двенадцать фунтов в месяц, и приступить к выполнению обязанностей вам будет нужно завтра.
Домой, Берти, я летел как на крыльях, и сердце трепетало у меня в груди от радости. Я наскреб по карманам восемь пенсов и потратил их на хорошую сигарету, которой отметил это событие. Старина Каллингворт всегда считал, что сумасшедшие – самое лучшее начало для карьеры медика. «Найди себе помешанного, друг мой, и успех тебе обеспечен!» – говаривал он. Конечно же, меня интересовала не столько сама ситуация, сколько те возможности, которые она открывала. Я уже представлял себе, как сложится мое будущее. Наверняка в их семье сыщутся и другие болезни… возможно, у самого лорда Солтайра или его супруги. Когда-нибудь случится так, что им понадобится срочная помощь и времени послать за врачом не будет. Тогда они обратятся ко мне. Я, конечно же, помогу, чем заслужу их доверие, а после превращусь в их семейного врача. Они станут рекомендовать меня своим богатым друзьям. Все это казалось мне делом уже решенным. По пути домой я размышлял над тем, стоит ли отказываться от приносящей неплохие барыши частной практики, которая появится у меня, если мне предложат профессуру.
Отец мой воспринял новость достаточно философски, отпустив довольно язвительное замечание по поводу того, что пациент мой и я вполне подходим друг другу. Но для мамы это было настоящее счастье, оборвавшееся, правда, неподдельным ужасом. Как выяснилось, у меня всего лишь три комплекта белья, лучшие мои сорочки как раз послали в Белфаст{121}, чтобы заменить воротнички и манжеты, к ночным рубашкам все еще не подшиты ярлычки… В общем, нашлась тысяча мелочей, о которых обычный мужчина никогда не задумывается. Страшная мысль о том, что леди Солтайр, просматривая мои вещи, может увидеть на одном из моих носков прореху на пятке, совершенно лишила мать покоя. В срочном порядке мы вместе с ней отправились в магазин, и уже к вечеру сердце ее успокоилось, а я лишился своего первого месячного гонорара, под который нам в долг продали все необходимое. Когда мы возвращались домой, она высказала свое мнение о тех знатных людях, у которых мне предстояло работать. «По сути дела, дорогой мой, – говорила она, – они в некотором смысле приходятся тебе родственниками. Ты ведь тесно связан с Перси, а в крови Солтайров есть примесь и Перси. Правда, они связаны с ними по младшей ветви, а ты их близкий родственник по основной, и все же нам не стоит отрицать, что они наши родственники». Потом она заставила меня облиться холодным потом, высказав предположение, что мне, пожалуй, будет проще ужиться с ними, если она напишет лорду Солтайру и объяснит, в каких родственных отношениях находятся наши семьи. В тот вечер я еще не раз слышал, как она с гордым видом вполголоса что-то бормотала о «младших ветвях» и «основных линиях».
Наверное, я самый медлительный из рассказчиков, да? Но ты ведь сам все время просишь меня писать как можно подробнее. И все равно, теперь я буду стараться не тянуть кота за хвост. На следующее утро я отправился в Лохтулли, который, как ты знаешь, находится на севере Пертшира. Замок расположен в трех милях от железнодорожной станции. Это большой серый дом с маленькими башенками на крыше и двумя высокими башнями, которые торчат над сосновым лесом, как уши зайца из травы. Когда мы подъезжали к дому, меня охватило что-то наподобие благоговейного страха… Хотя вряд ли это именно то чувство, которое должен испытывать представитель основной линии, удостоивший визитом младшую ветвь. Когда я вошел в холл, мне навстречу вышел степенный, ученого вида мужчина. Я, поддавшись волнению, уже хотел броситься к нему знакомиться, но, к счастью, он упредил мои объятия, объяснив, что он всего лишь дворецкий. Меня провели в небольшой кабинет, в котором воняло лаком и марокканской кожей{122} и где я должен был дожидаться самого хозяина. И, когда он появился, оказалось, что это самый обычный человек, намного менее внушительного вида, чем его слуга… Даже более того, как только он заговорил, я почувствовал себя даже как-то раскованно. Волосы у него были с проседью, лицо красное, черты угловатые, а взгляд любопытный и в то же время великодушный. В общем, это простоватый, если не сказать грубоватый мужчина. Но жена его, которой я был представлен позже, производит совершенно другое впечатление. Бледная, холодная, лицо продолговатое, с острыми чертами, веки приопущенные, на висках ярко проступают вены. Она снова заморозила меня, когда я только-только отходил после знакомства с ее мужем. Как бы то ни было, меня больше всего интересовал мой пациент. В его комнату меня и провел лорд Солтайр после того, как мы выпили чаю.
Комната эта (большое пустое помещение) находилась в конце длинного коридора. У двери сидел лакей, который должен был присматривать за порядком, пока не прибудет очередной врач. Видно было, что мое появление его очень обрадовало. У окна (перекрытого деревянной загородкой, как в детской комнате) на диване сидел высокий светловолосый и светлобородый молодой человек, который при нашем появлении поднял на нас удивленные голубые глаза. Он листал выпуск «Иллюстрейтед Лондон ньюс»{123} в переплете.
– Джеймс, – обратился к нему лорд Солтайр, – это доктор Старк Манро. Он будет за тобой присматривать.
Пациент мой пробормотал себе в бороду что-то неразборчивое, что показалось мне подозрительно похожим на: «Чтоб ты провалился, доктор Старк Манро!» Похоже, пэру послышалось то же самое, потому что он взял меня за локоть и отвел в сторону.
– Я не знаю, предупредили ли вас, что Джеймс сейчас бывает немного груб, – понизив голос, сказал он. – После этого несчастья, обрушившегося на нас, он как будто стал другим человеком. Вам не следует обижаться на то, что он может сказать или сделать.
– Ну что вы! – воскликнул я.
– Знаете, это у него от моей жены, – еще тише произнес лорд. – У них это родовое. У ее дяди были такие же симптомы. Доктор Петерсон говорит, что солнечный удар всего лишь ускорил процесс, потому что у него уже была предрасположенность к этому. Хочу вам сказать, что в соседней комнате будет находиться лакей, так что если вам понадобится помощь, вы всегда можете его позвать.
Закончилось тем, что лорд с лакеем удалились, и я остался один на один со своим пациентом. Я решил, что будет лучше как можно скорее установить с ним дружеские отношения, поэтому придвинул стул к его дивану и стал спрашивать, как он себя чувствует. Ответа я не получил. Он сидел насупившись и молчал. Заметив на его красивом лице некое подобие ухмылки, я понял, что он меня прекрасно слышит. Я с разных концов пытался к нему подобраться, но так и не смог вытянуть из него ни звука. Поэтому, бросив это дело, я стал просматривать иллюстрированные газеты, которые лежали на столе. Сам он, похоже, не читает, только картинки смотрит. Я сидел вполоборота к нему и читал, когда, к своему огромному удивлению, вдруг почувствовал какое-то легкое прикосновение и увидел, как большая коричневая рука лезет мне в карман пиджака. Я схватил его за запястье и быстро повернулся, но слишком поздно. Благородный Джеймс Дервент успел вытащить мой носовой платок и спрятать его себе за спину. Он смотрел на меня и улыбался, как шкодливая обезьянка.
– Ну ладно, отдавайте. Он мне еще пригодится, – сказал я, пытаясь перевести все в шутку. В ответ он лишь пробормотал что-то невразумительное. Платок отдавать он явно не собирался, но и я решил, что не пойду у него на поводу. Тогда я потянулся за платком, но он с сердитым ворчанием обеими руками перехватил мое движение. Хватка у него оказалась на удивление сильной, но мне удалось вывернуться, схватить его кисть и завернуть так, что он взвыл от боли и наклонился, а я смог вернуть свою собственность.
– Здóрово! – сказал я и сделал вид, что рассмеялся. – Давайте попробуем еще разок. Берите платок, посмотрим, смогу ли я его снова забрать.
Но он не был настроен продолжать эту игру, хотя настроение у него после этого, кажется, улучшилось. Я даже получил от него несколько коротких ответов на свои вопросы.
И вот я добрался до того места, которое и заставило меня вначале написать целую проповедь относительно сумасшествия. Действительно, до чего странная это штука! Этот человек, судя по тому, что я узнал, изменился полностью. Каждая его положительная черта превратилась в отрицательную. Это была уже совершенно иная личность, заключенная в ту же оболочку. Мне рассказывали, что еще совсем недавно, всего лишь несколько месяцев назад, это был утонченный юноша, блестящий рассказчик, любящий со вкусом одеваться, но теперь это был изрыгающий страшные проклятия дикарь. Раньше он прекрасно разбирался в литературе, теперь же смотрит на тебя ничего не понимающими глазами, когда ты говоришь о Шекспире. Но самое странное то, что он был яростным сторонником тори{124}, теперь же во всеуслышание, причем далеко не в парламентских выражениях, ратует за демократические идеалы. Узнав его поближе, я выяснил, что проще всего его втянуть в разговор о политике. По большому счету, лично мне его новые взгляды кажутся более здравыми, чем старые, но сумасшествие заключается не в самих взглядах, а во внезапной и беспричинной их перемене и в том, как он их выражает.
Однако прошло несколько недель, прежде чем мне удалось завоевать его доверие настолько, что мы смогли нормально побеседовать. Очень долгое время он держался замкнуто и отчужденно. Его очень раздражало, что я постоянно внимательно слежу за ним, но это было необходимо, поскольку я в любую секунду ожидал от него самых неожиданных выходок. Как-то раз он завладел моим кисетом и запихнул две унции табака в дуло длинноствольного восточного ружья, которое висит в его комнате на стене. Более того, он еще утрамбовал его шомполом так плотно, что я так и не смог достать свое имущество. В другой раз он выбросил в окно керамическую плевательницу и отправил бы туда же часы, если бы я его не остановил. Каждый день я выводил его на двухчасовую прогулку. Если шел дождь, мы то же время ходили кругами по комнате. Да, моя жизнь там была похожа на болото, унылое и безрадостное.
Я должен был следить за ним весь день с двухчасовым перерывом в полдень. Единственный выходной вечер у меня был в пятницу. Но какой смысл иметь выходной, если живешь не в городе и у тебя здесь нет друзей, к которым можно было бы сходить в гости? Лорд Солтайр позволил мне пользоваться своей библиотекой, поэтому свободное время я стал использовать для чтения. Гиббон{125} подарил мне пару чудесных недель. Ты знаешь, какое он производит впечатление. Читая его, ты представляешь, что паришь где-то высоко под облаками, рассматриваешь под собой игрушечные армии и флотилии, а мудрый наставник нашептывает тебе на ухо внутренний смысл открывающейся внизу величественной панорамы.
Порой сам юный Дервент привносил некоторое оживление в мою жизнь. Однажды, когда мы гуляли во дворе, он внезапно схватил лопату, валявшуюся на газоне, и кинулся на ни в чем не повинного помощника садовника. Бедолага с криком бросился наутек, мой пациент, оглашая двор проклятиями, помчался за ним, а я побежал вдогонку. Когда мне наконец удалось схватить его за воротник, он отшвырнул свое оружие и судорожно захохотал. Это был не припадок буйства, а всего лишь баловство, но когда тот помощник садовника в следующий раз увидел нас снова, его со двора словно ветром сдуло. По ночам специальный человек спал рядом с его кроватью на раскладушке, а сам я ночевал в соседней комнате. Нет, жизнь эту приятной не назовешь.
Когда в доме не было гостей, мы спускались в столовую и ели с его родителями. За столом собирался удивительный квартет: Джимми (он хотел, чтобы я так его называл), мрачный и молчаливый; я, не сводящий с него глаз; леди Солтайр со снисходительно опущенными веками и прожилками на висках и пэр, суетливый и веселый, но сдерживающий себя в присутствии супруги. При взгляде на нее возникало желание предложить ей выпить бокал хорошего вина, а у него вид был такой, словно ему не помешало бы хорошенько отоспаться, поэтому, в соответствии с обычной жизненной несоразмерностью, он пил много, а она не признавала ничего, кроме лимонного сока и воды. Трудно себе представить женщину более невежественную, раздражительную и ограниченную, чем она. Если бы только она умела сдерживать себя и помалкивать, все было бы ничего, но ее невыносимая болтовня не прекращалась ни на минуту, причем она постоянно была чем-то недовольна. Но, в конце концов, она ведь всего-навсего тонкая трубочка для передачи болезни от одного поколения другому. Ее разум был зажат в тисках безумия. Я принял твердое решение избегать любых споров с ней, однако женское чутье подсказало ей, что мы с ней совершенно противоположные по складу характера люди, и, очевидно, поэтому она с удвоенной силой принялась изводить меня. Мне даже показалось, что она поставила перед собой цель выводить меня из себя. Как-то раз она заговорила о том, как это ужасно, когда служитель епископальной церкви исполняет обряды в пресвитерианском храме{126}. Похоже, сие преступление недавно совершил кто-то из местных священников, и если бы его застукали в кабаке, даже это, наверное, вызвало бы у нее меньшее негодование. Хоть я и молчал, взгляд мой, надо полагать, был достаточно красноречив, потому что она вдруг повернулась ко мне со словами:
– Я вижу, вы со мной не согласны, доктор Манро. – Я сказал, что не согласен и попытался сменить тему, но так просто от нее было не отделаться. – А почему, могу я спросить?
Я объяснил, что, на мой взгляд, сегодняшний мир настроен на отказ от этих глупых догматических условностей, которые совершенно бессмысленны и так долго сеяли рознь между людьми, а также надеюсь, что скоро наступит время, когда добрые люди всех вероисповеданий избавятся от всего этого хлама и возьмутся за руки.
Она привстала и дрожащим от возмущения голосом произнесла:
– Значит, вы из тех людей, которые хотят отделить церковь от государства?
– Совершенно верно, – ответил я. Какое-то время она стояла с каменным лицом, пуская из глаз молнии, потом, не произнося ни слова, вышла из комнаты. Джимми захихикал, а его отец озадаченно посмотрел на меня. – Я прошу прощения, если мои взгляды оказались неприятными для леди Солтайр, – сказал я.
– Да, да. Очень жаль, очень, – произнес он. – Конечно же, мы всегда должны говорить то, что думаем, но очень жаль, что вы думаете так… Очень, ужасно жаль.
Я, честно говоря, ожидал, что после этого разговора меня ждет увольнение, и могу сказать, что косвенно оно произошло, поскольку с того дня леди Солтайр разговаривала со мной исключительно грубо и не упускала возможности пройтись по моим взглядам, вернее, по тому, что она понимала под моими взглядами. Я, правда, не обращал на это ни малейшего внимания, но наконец в недобрый час она заговорила со мной напрямую, так что мне не удалось от нее отделаться. Это произошло под конец обеда, когда лакей удалился. Она что-то говорила о поездке лорда Солтайра в Лондон, где ему предстояло участвовать в голосовании в палате лордов.
– Возможно, доктор Манро, – ядовито процедила она, глядя на меня, – и этому учреждению не посчастливилось снискать ваше одобрение?
– Этот вопрос, леди Солтайр, я бы предпочел не обсуждать, – сказал на это я.
– Имейте хотя бы мужество отстаивать свои взгляды, – воскликнула она. – Раз уж вы лишаете права на существование государственную церковь, вполне естественно, что вам захочется и от конституции отказаться. Я слышала, что все атеисты – красные республиканцы.
Тут лорд Солтайр встал, очевидно, собираясь прекратить этот разговор. Мы с Джимми тоже поднялись, но вдруг я увидел, что вместо того, чтобы направиться к двери, пациент мой двинулся в сторону матери. Зная, что от него всего можно ожидать, я взял его за локоть, пытаясь остановить. Однако она это заметила.
– Ты хочешь поговорить со мной, Джеймс?
– Я хочу что-то шепнуть тебе на ухо, мама.
– Прошу вас, сэр, не нужно волноваться, – сказал я, снова пытаясь удержать его на месте. Леди Солтайр повела аристократической бровью.
– Не кажется ли вам, доктор Манро, что вы злоупотребляете данной вам свободой действий, когда вмешиваетесь в отношения сына с матерью? – произнесла она. – Что ты хотел сказать, мой бедный славный мальчик?
Джимми наклонился и прошептал ей на ухо несколько слов. В ту же секунду бледное лицо ее залилось краской и она отпрыгнула, как будто он ударил ее. Джимми начал сдавленно посмеиваться.
– Это все ваше влияние, доктор Манро! – гневно вскричала она. – Вы забили мозги моему сыну и заставляете его оскорблять собственную мать.
– Дорогая! Дорогая! – принялся успокаивать ее муж, а я тем временем взял под руку заупрямившегося Джимми и потащил наверх. Там я спросил у него, что он сказал матери, но в ответ услышал только смешок.
Меня не покидало предчувствие, что этим дело не закончится, и оно меня не обмануло. Вечером лорд Солтайр вызвал меня к себе в кабинет.
– Видите ли, доктор, – начал он, – дело в том, что леди Солтайр ужасно расстроена и недовольна тем, что произошло сегодня во время обеда. Конечно же, вы понимаете, что подобное выражение, прозвучавшее из уст собственного сына, не могло не потрясти ее.
– Уверяю вас, лорд Солтайр, – честно признался я, – я не имею ни малейшего представления о том, что мой пациент сказал леди Солтайр.
– Ну, – несколько смешался он, – не вдаваясь в подробности, я могу сказать, что на ухо матери он прошептал нечестивое желание, выраженное самыми грубыми словами, относительно будущего той верхней палаты, к которой я имею честь принадлежать.
– Мне очень жаль, что так произошло, – ответил я, – но, уверяю вас, я никогда никоим образом не пытался влиять на его радикальные политические взгляды, которые, как мне кажется, являются симптомами его болезни.
– Я не сомневаюсь, что вы говорите истинную правду, – сказал он, – но, к несчастью, леди Солтайр убеждена, что именно вы вложили в его голову эти мысли. Ну, вы же знаете, как трудно порой бывает убедить в чем-то женщину. Однако мне кажется, что все это можно загладить, если вы поговорите с леди Солтайр и сможете убедить ее, что она неправильно поняла ваши взгляды на этот вопрос и что лично вы являетесь сторонником палаты лордов.
Я был загнан в угол, Берти, но я принял решение сразу же. С первого слова этого разговора, с первого смущенного взгляда его маленьких глаз я понял, что меня ожидает отставка.
– Боюсь, что я не готов пойти на такой шаг, – ответил ему я. – Мне кажется, что, поскольку вот уже несколько недель между леди Солтайр и мною существует некоторое недопонимание, будет лучше, если я откажусь от того места, которое занимаю в вашем доме. Однако я был бы счастлив остаться здесь, пока вы не подыщете другого человека, который сменит меня.
– Что ж, мне очень жаль, что все закончилось именно так, но, возможно, вы правы, – с чувством облегчения произнес он. – А по поводу Джеймса можете не волноваться, поскольку завтра утром приезжает доктор Петтерсон.
– Значит, завтра утром, – согласно кивнул я.
– Очень хорошо, доктор Манро. Я прослежу, чтобы вам выписали чек до того, как вы уедете.
Вот так пришел конец моим мечтам о клиентах-аристократах и о выгодных знакомствах! Думаю, что единственным человеком в том доме, кто пожалел о моем увольнении, был Джимми, которого эта новость серьезно опечалила, что, впрочем, не помешало ему утром в день моего отъезда начистить мой новый цилиндр с внутренней стороны. Я это заметил только тогда, когда садился в поезд, так что, уезжая из замка, я, должно быть, представлял собой жалкое зрелище.
Так заканчивается история моей неудачи. Я, как ты знаешь, склонен к фатализму и не верю в существование такого понятия, как «шанс». Поэтому склонен думать, что этот опыт дан мне не просто так, а с определенной целью. Может быть, это была своего рода разминка перед большим заездом. Маму это сильно разочаровало, но она изо всех сил старалась это скрыть. Отец отнесся к тому, что случилось, с определенной долей язвительной иронии. Боюсь, что разделяющая нас брешь стала еще шире. Да, кстати, пока я отсутствовал, пришла странная карточка от Каллингворта. «Ты мой, – написал он. – Учти, когда ты мне понадобишься, ты должен быть у меня». Ни даты, ни обратного адреса на ней не указано, но стоит штамп Брадфилда, что на севере Англии. Как это понимать? Хорошо это для меня или плохо? Чтобы выяснить это, остается только ждать.
До свидания, мой дорогой друг. Жду от тебя такого же подробного письма о том, как обстоят дела у тебя. Не забудь упомянуть, чем закончилась история с Рэттреем.
V Мертон-он-де-мурс, 5 марта, 1882.
Дружище, я был ужасно рад получить твое заверение в том, что ничто из того, что я говорил или могу сказать по поводу религии, не может никоим образом тебя обидеть! Мне даже трудно выразить словами, какое искреннее удовольствие и чувство облегчения доставило мне твое сердечное письмо, ведь мне больше не с кем поговорить на такие темы. Мне приходится держать свои мысли в себе, а невысказанные мысли рано или поздно скисают. Великое дело иметь собеседника, которому можно высказать все, что думаешь… и даже лучше, если он придерживается другого мнения. Это не дает мозгу застаиваться и заставляет собраться.
Те, кого я люблю больше всего, меньше всего сочувствуют моей борьбе. Они говорят о необходимости жить в вере, как будто этого можно достичь волевым актом. Это же все равно, что посоветовать мне иметь черные волосы вместо рыжих. Можно было бы сделать вид, что я отказался пользоваться разумом в религиозных вопросах, но я не могу пренебречь самым ценным даром, которым наградил меня Бог. Я БУДУ пользоваться им. Более добродетельно пользоваться разумом и заблуждаться, чем отказаться от него и считаться правым. Конечно, мой разум не более чем школьная линейка, которой мне предстоит измерить Эверест, но другого орудия у меня нет, и я не выброшу ее до тех пор, пока дышу.
При всем уважении к тебе, Берти, хочу сказать, что придерживаться ортодоксальных взглядов проще всего. Человек, которому больше всего в этом мире нужна внутренняя успокоенность и материальная обеспеченность, конечно же, выберет для себя именно такой путь. Как говорит Смайлс{127}: «По течению может плыть даже дохлая рыба, но плыть против течения под силу немногим». Что может быть более благородным, чем рождение и сам родитель христианства? Как прекрасна борьба за идею, которая похожа на цветок, распустившийся между камней и золы! Но неужели то была последняя из идей? Неужели подобное устройство идеи выше человеческого разума? Неужели этот скромный мыслитель был тем высшим разумом, о телесной сущности которого мы даже не можем помыслить, рискуя быть обвиненными в попрании устоев? Все это является одним из глубочайших заблуждений человечества. Прекрасный рассвет христианства обернулся для человечества безвременьем и лихолетьем. Те, кто призван олицетворять его идеалы, переселились из хижин во дворцы, оставили рыбные сети и стали заседать в палате лордов. Да и позиция другого претендента на это место, живущего в Ватикане в окружении произведений искусства, гвардейцев и винных погребов, в той же мере нелогична. Все они хорошие и умные люди и на рынке умственного труда получают, возможно, столько, сколько действительно стоят, но как они могут считать себя лицом той самой веры, которая, по их же заверениям, основана на стремлении к нестяжательству, смирению и самоотречению? Среди них нет ни одного, кто не стал бы согласно кивать головой, услышав притчу о браке царского сына. Но попытайся кого-нибудь из них на ближайшем королевском приеме сдвинуть с занимаемого места в очереди. Не так давно подобная история приключилась с кардиналом, и вся Англия загудела от его протестов. Каким надо быть слепцом, чтобы не видеть, что можно одним шагом занять истинное первое место этой очереди, если встать в самый ее конец и громко заявить, что это именно то, к чему призывал учитель!
Но что мы знаем? Кто все мы? Бедные глупые недоразвитые существа, выглядывающие из бесконечности, с ангельскими порывами и звериными повадками. Но нас ждет прекрасное будущее. Если же нет, это будет обозначать, что ТОТ, кто сотворил нас, сам является злом, а этого нельзя себе представить. Определенно, нас ждет прекрасное будущее!
Перечитав все это, я ощутил что-то вроде стыда. Разум мой старается поспеть за ходом мыслей, которые переплетаются и образуют бесформенный клубок с торчащими оборванными концами. Попытайся его распутать, дорогой Берти, и поверь, что я все пишу от чистого сердца. Больше всего мне не хотелось бы превратиться в адепта, подгоняющего истину под свои идеи. Я всего лишь хочу иметь возможность взять ее (истину) за руку и идти вслед за ней, лишь бы она время от времени поворачивалась ко мне лицом, чтобы я понимал, за кем иду.
По адресу на этом письме, Берти, ты наверняка понял, что я покинул Шотландию и сейчас нахожусь в Йоркшире{128}. Пробыл я здесь три месяца и теперь собираюсь уезжать, причем обстоятельства, принуждающие меня к этому, весьма и весьма необычны, а моя дальнейшая судьба представляется мне туманной. Старый добрый Каллингворт оказался козырной картой. Я всегда в него верил. Но я, как обычно, начинаю не с того конца. Итак, вот рассказ о том, что произошло.
В прошлом письме я поведал тебе о своем сумасшедшем (в прямом смысле) приключении и об унизительном возвращении домой из замка Лохтулли. Когда я расплатился за фланелевые рубашки, которыми моя матушка снабдила меня перед отъездом, от всех заработанных денег у меня осталось пять фунтов. На них, поскольку это были первые заработанные мною деньги, я купил ей золотой браслет, что сразу же вернуло меня в обычное состояние полного безденежья. Однако осознавать, что я все же хоть что-то заработал, для меня очень важно. Благодаря этому я понял, что смогу это сделать еще не раз.
Не прошло и нескольких дней после моего возвращения, как однажды утром после завтрака отец позвал меня в свой кабинет и завел серьезный разговор о том, как у нас обстоят дела с деньгами. Начал он с того, что расстегнул жилет и попросил послушать пятый межреберный промежуток в двух дюймах слева от грудины. Я выполнил его просьбу и был поражен, услышав отчетливый шум возврата крови.
– Это у меня давно, – сказал он, – но вот в последнее время у меня еще стали отекать лодыжки и появились почечные симптомы. – Я, конечно, стал говорить, как мне жаль и попытался успокоить его, но он довольно резко оборвал меня. – Дело в том, – сказал он, – что ни в одной страховой конторе мою жизнь не застрахуют. Я же из-за конкуренции и постоянно растущих трат не сумел ничего отложить на черный день. Если случится так, что я скоро умру (что, между нами, не так уж маловероятно), забота о матери и детях ляжет на твои плечи. Практика моя настолько зависит от меня лично, что я не могу надеяться передать ее тебе с тем, чтобы ты смог обеспечивать ею семью.
Тогда я вспомнил о совете Каллингворта ехать туда, где тебя никто не знает.
– Мне кажется, что у меня будет больше шансов что-то заработать, если я уеду куда-нибудь в другое место, – сказал я.
– В таком случае, – ответил он, – тебе нужно обустроиться как можно скорее. Если со мной что-нибудь случится в ближайшее время, на тебя упадет очень большая ответственность. Я надеялся, что работа у Солтайров поможет тебе обустроиться, но, мальчик мой, боюсь, что нельзя надеяться начать карьеру с оскорбления религиозных и политических убеждений своих клиентов прямо у них за столом.
Не время было спорить, поэтому я ничего не сказал. Отец взял со стола номер «Ланцета»{129} и нашел страницу, на которой одно из объявлений было обведено синим карандашом.
– Прочитай! – сказал он. Сейчас, когда я пишу эти строки, этот журнал лежит передо мной. Вот это объявление:
«Срочно требуется квалифицированный ассистент. Работа на крупном каменноугольном предприятии в сельской местности. Обязательны глубокие знания в области акушерства и фармацевтики, а также умение ездить верхом и водить коляску. Оклад 70 фунтов в год. Обращаться к доктору Хортону, Мертон-он-де-мурс, Йоркшир».
– Может быть, тебе там повезет устроиться, – сказал отец. – Я знаком с Хортоном и не сомневаюсь, что смогу помочь тебе получить это место. По крайней мере осмотришься там, вдруг какое-нибудь более приличное место сыщется. Что скажешь?
Что я мог сказать? Разумеется, только то, что я готов браться за любое предложение. Однако разговор тот засел у меня в голове и оставил тяжелый осадок в душе, который я ощущаю, даже когда на время забываю о причине, его породившей.
Мне и раньше приходили в голову мысли о том, как страшно остаться один на один с этим миром, не имея ни денег, ни постоянных доходов, но, когда думаешь, что будет, если от меня будет зависеть жизнь матери, сестер и маленького Пола… Это ужасно! Может ли быть что-нибудь страшнее, чем видеть на себе взгляды тех, кого любишь, знать, что им нужна твоя помощь и быть не в состоянии помочь? Но я все же надеюсь, что до этого не дойдет, что отец проживет еще много лет. Как бы ни повернулась моя жизнь, я уверен, что все, что ни происходит, все к лучшему. Хотя, когда хорошее находится от тебя в фурлонге[28], а мы, как жуки, не видим дальше трех дюймов, нужно обладать очень сильной убежденностью, чтобы продолжать следовать этому принципу.
В общем, все было улажено, и я отправился в Йоркшир. Покидал дом я не в самом лучшем настроении, Берти, и, чем ближе я подъезжал к цели своего путешествия, тем хуже оно становилось. У меня не укладывается в голове, как люди могут жить в подобных местах. Чего можно ожидать от жизни на этих уродливых пятнах на теле природы? Здесь нет лесов, мало травы, кругом торчат из земли трубы, вода в ручьях черная, повсюду горы кокса и шлака, а над всем этим возвышаются огромные колеса и насосы шахт. Блеклые поля изрезаны усыпанными угольным мусором тропинками, черными, под стать уставшим шахтерам, которые бредут по ним к пропитанным таким же черным дымом коттеджам. Как может молодой неженатый человек оставаться здесь, пока пустует хоть один гамак на военном корабле или есть свободная койка в кубрике торгового судна? Сколько шиллингов в неделю стоит дыхание океана? Мне кажется, что, если бы я был бедняком… М-да, это «если» звучит довольно смешно, когда вспомнишь, что многие обитатели этих прокопченных коттеджей получают вдвое больше моего, а тратят в два раза меньше денег.
Но, как я уже говорил, настроение у меня падало все ниже и ниже, пока я в окно вагона смотрел на сгущающиеся сумерки. Наконец на фонарном столбе у платформы какой-то унылой и жуткой станции я увидел указатель «Мертон». Я сошел с поезда, поставил чемодан и с коробкой для цилиндра в руках стал ждать носильщика. Но вместо него ко мне подошел парень с радушной улыбкой на лице и спросил, не я ли доктор Старк Манро.
– Я Хортон, – представился он и сердечно пожал мне руку.
В этом тоскливом месте увидеть его было все равно что бесприютной вьюжной ночью заметить горящий вдалеке огонь. Во-первых, он был ярко одет: брюки в клеточку, белый жилет, цветок в петлице. Но мне больше пришлось по душе его лицо: румяные щеки, карие глаза, яркая искренняя улыбка, к тому же он был хорошо сложен. Как только руки наши соединились, я почувствовал, что на этой затянутой туманом грязной станции я встретил прекрасного человека и друга.
Мы сели в его коляску и отправились к нему домой, в небольшое поместье под названием «Мирты», где меня сразу же представили его семье и клиентам. Семья у него не большая, но клиентов масса. Его жена умерла, поэтому домашние дела ведет ее мать, миссис Вайт. С ними живут две очаровательные девчушки, примерно пяти и семи лет. Ассистент, молодой студент ирландец, три служанки и кучер с помощником – вот и все домочадцы доктора Хортона. Если я скажу тебе, что четырем лошадям отдыхать не приходится, ты поймешь, какую большую территорию мы обслуживаем.
Дом, большой кирпичный куб, стоит посреди небольшого сада на невысоком холме, окруженном полями. Это напоминает оазис, поскольку за пределами этого зеленого пятачка начинаются черные земли, покрытые вечными клубами дыма, из которого торчат трубы и вышки шахт. Праздному человеку места эти показались бы ужасными, но наша работа не оставляла нам времени рассматривать виды.
Мы работали днем и ночью, и все же мне приятно вспоминать те три месяца, которые я провел здесь.
Я расскажу тебе, как проходит наш обычный рабочий день. Завтракаем мы примерно в девять, и сразу после этого начинается прием утренних посетителей. Многие из них очень бедные люди, состоящие в шахтерских клубах, организованных по такому принципу: их члены выплачивают чуть больше полпенни в неделю круглый год вне зависимости от того, болеют они или нет, за что имеют право получать медицинское обслуживание бесплатно. «Не слишком большой доход для врача», – скажешь ты, но ты даже не представляешь, сколько желающих получить консультацию врача. Работа не ограничивается одними шахтерами. Кроме того, их взносы совокупно выливаются в довольно крупную сумму. Я уверен, что Хортон на одних только клубах зарабатывает не меньше пяти-шести тысяч в год. Но, с другой стороны, понятно, что члены клубов, раз уж они все равно платят в любом случае, болезней своих не запускают и чуть что, сразу направляются к врачу.
Итак, к половине десятого рабочий день уже в разгаре. Хортон принимает пациентов побогаче у себя в кабинете, я разговариваю с людьми победнее в приемной, а Маккарти, ирландец, пыхтит над изготовлением лекарств. Согласно правилам клуба, пациенты должны приносить свои склянки и пробки. Про склянки они обычно помнят, но вот про пробки постоянно забывают. «Платите пенни или затыкайте горлышко пальцем», – говорит Маккарти. Они считают, что лекарство теряет силу, если бутылочка не закрыта, поэтому уходят от нас с просунутыми в горлышко пальцами. Вообще у них очень своеобразное представление о лекарствах. «Такое крепкое, что в нем можно поставить ложку, и она не упадет», – так высказался один из шахтеров. Больше всего им нравится уходить с двумя бутылочками, когда в одной раствор лимонной кислоты, а в другой карбонат соды. Когда при смешивании микстура шипит и пенится, они начинают понимать, что медицина – тоже наука.
Подобного рода работой (вакцинация, перевязки, мелкая хирургия) мы занимаемся почти до одиннадцати часов, потом собираемся в кабинете Хортона, чтобы составить список. На специальной доске там висят карточки с именами всех пациентов, которые проходят лечение на дому, мы рассаживаемся у нее с раскрытыми тетрадями и начинаем распределять их между собой. В половине двенадцатого, когда распределение закончено, а лошади запряжены, мы разъезжаемся по своим делам. Хортон на паре отправляется к работодателям, я на двуколке – к работникам, а Маккарти на своих крепких ирландских двух отправляется по тем хроническим больным, которым квалифицированный медик ничем не поможет, а неквалифицированный не навредит.
Потом в два часа мы снова собираемся и обедаем. Если кто-то чего-то не успел, нужно продолжить объезд пациентов, если же все нормально, Хортон диктует рецепты и с черной глиняной трубкой в зубах отправляется отдыхать в свою комнату. Такого страстного курильщика, как он, мне еще не приходилось видеть. Вечером он собирает остатки недокуренного табака из всех своих трубок, а утром перед завтраком курит эту смесь на конюшне. Когда он идет отдыхать, мы с Маккарти принимаемся за лекарства. Нам нужно примерно полсотни разных баночек и бутылочек наполнить пилюлями, мазями и т. д. Где-то в полпятого мы заканчиваем и расставляем их по полочкам с фамилиями больных. После этого у нас есть часок отдыха, мы курим, читаем или идем в сарай, где хранится упряжь, и занимаемся там боксом с конюхом. После чая мы снова беремся за работу. С шести до девяти мы принимаем пациентов, они приходят за лекарствами или на обследование. После этого, если есть тяжелые случаи, мы снова разъезжаемся и наконец около десяти, если все благополучно, можем снова покурить или переброситься в карты. Почти не бывает таких ночей, когда кому-то из нас не приходится отправляться на срочный вызов, который может отнять два часа, а может и все десять. Как видишь, довольно напряженная работа, но Хортон такой славный человек и сам работает так напряженно, что ни у кого не возникает желания жаловаться. Вообще у нас сложились прекрасные отношения, мы общаемся как братья, вечно подтруниваем друг над другом, да и пациенты чувствуют себя у нас как дома. Я думаю, что всем нам работа эта приносит удовольствие.
Да, Хортон – действительно славный малый. Сердце у него большое и благородное. В нем нет ничего мелочного, ему нравится видеть, что все вокруг него довольны жизнью и счастливы. И надо признать, что его спортивная фигура и краснощекое лицо немало способствуют этому. Он – прирожденный врачеватель. Заходя в комнату, отведенную для больных, он как будто освещает ее своим внутренним светом. Этот свет я почувствовал еще на железнодорожной станции, когда впервые увидел его. Однако я не хочу, чтобы мое описание этого человека заставило тебя подумать, будто он чересчур мягок. На самом деле Хортон совсем не овечка. Вспыльчив он не менее, чем отходчив. Какая-нибудь ошибка в дозировке лекарства может вывести его из себя, и тогда он врывается в приемную, как ураган, щеки у него начинают гореть, бакенбарды топорщатся, а из глаз сыплются искры. После этого журнал записей с грохотом летит на стол, склянки жалобно звенят, а конторка содрогается от могучего удара кулака. Затем он уходит, и мы слышим, как следом за ним по очереди захлопываются пять дверей. Когда он не в настроении, по этим хлопающим дверям мы можем определить маршрут его движения по дому. Причина его негодования может быть разная: то ли Маккарти пузырек с жидкостью от кашля подписал «Для промывания глаз», то ли послал больному пустую коробочку для пилюль с указанием принимать каждые четыре часа; как бы то ни было, со временем циклон рассеивается, и наша следующая встреча за обеденным столом проходит мирно и весело.
Я говорил, что пациенты чувствуют себя здесь как дома. К нам приходят даже те, кто, что называется, выпил лишнего. Признаюсь, я поначалу даже не разобрался, что к чему. Когда через пару дней после моего приезда ко мне подошел один из членов клуба с бутылкой под мышкой и спросил, не я ли работаю у доктора, я послал его к кучеру на конюшню. Но скоро начинаешь к этому привыкать. Если к тебе обращается такой человек, в этом нет ничего обидного, да и на что тут обижаться? Все они хорошие, добрые люди и, может быть, не питают уважения к твоей профессии, что, конечно же, не очень приятно, но, если тебе удастся расположить их к себе лично, то они вполне дружелюбны и даже преданны. Мне нравится крепкое пожатие их пропитанных угольной пылью темных рук.
Еще одной особенностью этого района является то, что многие владельцы заводов и шахт в прошлом сами были рабочими и до сих пор (по крайней мере, некоторые из них) сохранили свои старые привычки и даже одежду. На днях у миссис Вайт, тещи Хортона, был сильнейший приступ мигрени, и, поскольку все мы любим эту милую старушку, весь день мы старались вести себя как можно тише. Но вдруг кто-то три раза громко постучал дверным молоточком. Через секунду раздалась еще одна серия оглушительных ударов, не таких звонких, как будто привязанный осел хотел вышибить дверную панель. В царившей тишине слышать это было невыносимо. Я бросился к двери, распахнул ее и увидел довольно потрепанного вида мужчину, который как раз занес руку для очередного удара.
– Вы что, с ума сошли? Что случилось? – спросил я, но не ручаюсь, что я не был более экспрессивен в выражениях.
– Боль в челюсти, – пожаловался он.
– Зачем же так шуметь? – сказал я. – Кроме вас ведь здесь и другие больные есть.
– Если я плачу деньги, парень, я имею право шуметь так, как мне хочется, – и с этими словами он опять принялся изо всех сил колотить в дверь.
Он мог бы так барабанить все утро, если бы я его не выдворил и не вывел за калитку сада. Через час в доме захлопали двери, и в приемную ворвался Хортон.
– Манро, как это понимать? – накинулся он на меня. – Мистер Ашер говорит, что ты очень грубо с ним обошелся.
– Приходил тут один из клуба и барабанил в дверь, как сумасшедший, – объяснил я. – Я боялся, что он побеспокоит миссис Вайт, ну, и утихомирил его.
Глаза Хортона непонятно заблестели.
– Друг мой, – сказал он, этот «один из клуба», как ты его называешь, самый богатый человек в Мертоне. Он приносит мне сто фунтов в год.
Я не сомневаюсь, что ему удалось успокоить его заверением, что я буду строжайшим образом наказан или оштрафован или что-нибудь в этом роде, но больше этот случай не вспоминали.
Жизнь здесь, Берти, идет мне на пользу. У меня появилась возможность познакомиться с простыми трудягами из рабочего класса и понять, какие это хорошие люди. Ведь обычно по одному пьянчуге, который в субботу вечером горланит на всю улицу песни, мы судим о девяноста девяти достойных уважения людях, которые в это время спокойно сидят дома у камина. Больше я такой ошибки не совершу. Когда я вижу, с какой душевностью бедные люди относятся друг к другу, мне становится стыдно за самого себя. А их необычайная терпеливость! Теперь-то я понимаю, что, если где-то происходят народные восстания, причины, заставившие их пойти на это, должны быть действительно очень серьезными. Мне кажется, что крайности, до которых доходила толпа во время Французской революции, сами по себе ужасны, но их можно объяснить тем, что веками простой люд жил в нищете и страданиях, накапливая злобу, пока наконец этот вулкан не взорвался. Еще меня восхищает мудрость этих людей. Иногда просто диву даешься, когда читаешь статьи какого-нибудь бойкого газетного писаки о невежестве масс. Они не знают, в каком году была подписана Великая хартия вольностей или на ком женился Джон Гант{130}, но попроси их решить какой-нибудь современный насущный вопрос, и они без промедления выдадут совершенно верный ответ. Разве не они провели билль о реформе парламентского представительства{131}, преодолев противостояние так называемого образованного среднего класса? Разве не они поддержали северян в борьбе с южанами, когда почти все наши лидеры хотели обратного?{132} Когда произойдет всемирное судилище и будет сокращена торговля спиртными напитками, неужели кто-то сомневается, что случится это под давлением этих скромных людей? Их взгляд на жизнь намного проще и честнее. Мне кажется, нужно принять как аксиому, что, чем больше простых людей будет иметь право голоса, тем более мудрым будет управление страной.
Я часто думаю, Берти, существует ли вообще такое понятие, как зло. Если бы мы смогли искренне убедить себя, что его не существует, это очень помогло бы нам сформировать рациональную религию. Но нельзя искажать истину даже ради такой цели. Я признаю, что есть такие формы зла, как, например, жестокость, которым почти невозможно дать объяснение. Разве что можно предположить, что это некий рудиментарный остаток{133} той воинственной свирепости, которая некогда была необходима для защиты сообщества. Нет, буду откровенен, жестокость не вписывается в рамки выстроенной мною системы. Но, когда понимаешь, что другие виды зла, на первый взгляд не менее ужасные, в общечеловеческом измерении в конечном счете оказываются благодеянием, то возникает надежда на то, что и те его виды, которые ставят нас в тупик сегодня, тоже каким-то пока не доступным для нашего понимания образом имеют целью нести добро.
Мне думается, что врач, изучающий жизнь, понимает моральные принципы добра и зла как никто другой. Но, присмотревшись поближе, понимаешь, что вопрос на самом деле заключается в том, может ли то, что общество на данном этапе развития считает злом, оказаться благом для наших потомков. Звучит это, конечно, довольно туманно, но я попробую облечь свою мысль в более простую форму: по-моему, и добро, и зло являются инструментами в тех великих руках, которые управляют развитием мироздания; и первое, и второе нужны для благих целей, только результат первого становится видимым немедленно, а второго – со временем. Мы в оценке добра и зла слишком много думаем о том, насколько это выгодно для общества в настоящее время, и почти не уделяем внимания конечному результату, который может проявиться в отдаленном будущем.
У меня есть свое мнение об устройстве законов природы, хотя я и понимаю, что похож на жука, судящего о Млечном Пути. Однако взгляды мои имеют то преимущество, что они способны облегчить жизнь, поскольку, если бы мы могли откровенно признать, что грех служит определенной цели, и, более того, цели доброй, жизнь казалась бы нам намного более светлой. Я нахожу, что Природа, которая все еще продолжает эволюцию, для укрепления человеческой расы пользуется двумя методами. Во-первых, это развитие тех, кто силен духовно, что достигается увеличением объема знаний, расширением религиозных взглядов. Во-вторых, что не менее важно, это истребление тех, кто духовно слаб. Этой цели служат алкоголь и распущенность. Это две важнейшие силы, работающие на конечное улучшение качества расы. Я представляю их себе руками огромного невидимого садовника, который ухаживает за садом жизни и избавляет его от сорняков. Сейчас нам кажется, что они сеют деградацию и страдания. Но что произойдет через три поколения? Род пьяницы или дебошира, деградировавший как физически, так и морально, либо прекратит свое существование, либо будет близок к этому. Опухоль желез{134}, туберкулезные бугорки{135}, нервная болезнь – все это способствует тому, чтобы отсечь эту загнивающую ветвь, тем самым улучшить общий показатель здоровья расы. Судя по тому, что я успел повидать за свою еще не долгую жизнь, существует некий закон природы, по которому большинство пьяниц либо вообще не производит потомства, либо, если это проклятие передается по наследству, линия их обрывается уже на втором поколении.
Не пойми меня превратно и не говори потом, будто я утверждаю, что чем больше вокруг пьяниц, тем лучше. Ничего подобного. Я хочу сказать, что, если существуют духовно и морально слабые люди, хорошо, что находятся способы избавиться от этих нежизнеспособных отростков. Природа, как великий садовник, имеет свои орудия для борьбы с ними, и пьянство – одно из них. Когда не останется ни одного пьяницы и ни одного распутника, это будет означать, что наша раса вполне усовершенствовалась и больше не требует столь сурового обращения. Тогда вселенский Инженер пустит нас на какой-то новый путь развития.
В последнее время я много думал над смыслом зла и над тем, каким мощным орудием оно является в руках Создателя. Вчера вечером мои раздумья неожиданно выкристаллизовались в небольшую серию четверостиший. Если они покажутся тебе неинтересными, просто пропусти их.
Добро и зло
1.
Господь двулик. Добро всегда в почете, Но зло со временем пройдет. Но лучшее иль худшее на свете Без воли Божьей не произойдет.2.
А если вдуматься, то зла ведь не бывает (Эх, если бы могли мы это понимать!) Но и добро, и зло в руках Господь сжимает, Чтоб или миловать, или карать.3.
Одна рука блудницу направляет На путь, который выбрала она, Святого и распутника благословляет, И мученику длань Его дана.4.
Дорогу к саду с дивными цветами Своею мудростью прокладывает Он, Кромсает ветви похотливыми страстями, А пьянство – резчик для изящных форм кустов.5.
Чтоб дерево здоровым было, гладким Тут святость и богобоязнь важна. Помогут тут чума и лихорадка, Для жизни, как ни странно, смерть нужна.6.
Господь вселяет в легкие микробы, А в мозг – густые кровяные тромбы{136}. Испытывает, изучает, пробует И выбирает к жизни лишь пригодные.7.
Как стеклодув иль антиквар из лавки, Испытывает наше естество. И если брак попался – в переплавку. Он слепит тело, разум заново.8.
Он слизью заполняет новорожденному горло, Ферментов{137} россыпь выпускает на свободу. И в одночасье может с легкостью позволить Артерию трепещущую закупорить.9.
Он фантазера юного мечтами окрыляет, Чтоб мог мечтатель верить и творить. А хворь, ниспосланная свыше, убивает Все чаянья. О них приходится забыть.10.
Дает Он молоко, кормящее младенца. И милостиво притупляет боль. Рождает не одно, а сотни наслаждений, Даруя чувственность, блаженство и любовь.11.
Добро всегда в почете, ветви его пышно Растут в саду средь света и тепла, А ветви омертвевшие Всевышний Срезает с древа ножницами зла.12.
И вот мое творенье, моя мука, Хочу перечеркнуть, исправить кое-где. Но ясно ощущаю, впредь то мне наука, ЕГО рука незримо на моей руке.13.
В глазах туман и темноту я вижу, Боюсь ошибок и сомнительных идей. Свое бессилье и безволье ненавижу Мне оправдание – по воле все Твоей[29].Мне как-то неловко чувствовать, что эти строки получились такими нравоучительными, но все же меня греет мысль о том, что грех существует не просто так, что он служит благому делу. Отец говорит, что я воспринимаю мир так, будто считаю его своей собственностью, и поэтому не успокоюсь до тех пор, пока не буду знать, что все в нем разложено по полочкам. Что ж, признаюсь, на душе у меня теплеет, когда я замечаю проблеск света из-за туч.
Ну, а теперь относительно той важной новости, которая изменит всю мою дальнейшую жизнь. Как ты думаешь, от кого в прошлый вторник я получил письмо? Представь себе, от Каллингворта. Оно не имеет ни начала, ни конца, адрес на нем написан неправильно, к тому же оно неаккуратно нацарапано очень толстым пером на обороте какого-то рецепта. Для меня загадка, как оно вообще нашло меня. Вот что он пишет:
«Устроился здесь в Брадфилде в прошлом июне. Колоссальный успех. Я произведу революцию в практической медицине. Деньги текут рекой. Мое изобретение принесет миллионы. Если наше морское министерство мне откажет, я сделаю Бразилию ведущей морской державой. Как только получишь это письмо, приезжай первым же поездом. У меня для тебя полно работы».
Вот такое удивительное послание. Оно не подписано, что и неудивительно, кроме него, такого никто написать не мог. Я слишком хорошо знаю Каллингворта, чтобы отнестись к его словам с полным доверием. Как он мог так быстро добиться такого грандиозного успеха в городе, в котором совершенно никого не знает? Это невероятно. И все же какая-то доля истины во всем этом должна быть, иначе он не стал бы приглашать меня и писать об успехе как о свершившемся факте. В общем, я решил действовать обдуманно и осторожно, поскольку и на нынешнем месте чувствовал себя вполне счастливо. Более того, у меня появилась надежда на то, что когда-нибудь я смогу начать собственную практику, поскольку сейчас я даже имею возможность понемногу откладывать. Пока что я собрал всего несколько фунтов, но надеюсь, что где-то через год сумма эта значительно возрастет. Так что я отправил Каллингворту ответ, в котором поблагодарил его за то, что он меня не забывает, и объяснил, как обстоят дела.
Мне было очень трудно найти работу, написал я, и поэтому теперь не хочу потерять ее. Заставить отказаться от нее меня может только уверенность в том, что новое занятие будет постоянным.
Десять дней Каллингворт хранил молчание. Потом от него пришла длиннейшая телеграмма.
«Твое письмо получил. Почему бы не назвать меня лжецом в открытую? Говорю тебе, в прошлом году у меня было тридцать тысяч пациентов. Заработал я в общей сложности больше четырех тысяч фунтов. Я настолько занят работой, что, если бы по моей улице проезжала королева Виктория, у меня не было бы времени подойти к окну, чтобы на нее посмотреть. Я бы мог отдать в твои руки все консультации, всю хирургию и все акушерство. Но решать тебе. За первый год гарантирую триста фунтов».
Это уже больше походило на дело… Особенно последнее предложение. Я пошел с этим к Хортону и спросил его совета. Он считает, что я мало что теряю, зато обрести могу многое. Поэтому я телеграфировал Каллингворту, что принимаю предложение о партнерстве (если, конечно, он предлагает партнерство) и завтра утром выезжаю в Брадфилд с большими надеждами и почти пустым бумажником. Я знаю, как интересен тебе Каллингворт, поскольку любой, кто даже опосредованно попадает под его влияние, не может не увлечься этим человеком. Поэтому можешь не сомневаться, что я пришлю тебе полный и подробный отчет о том, что произойдет, когда мы встретимся. Я с нетерпением жду новой встречи с ним и надеюсь, что у нас не будет повода для ссор.
На этом позволь попрощаться, друг мой. Я чувствую, что стою одной ногой на лестнице, ведущей к богатству. Поздравь меня.
VI Пэрейд, 1, Брадфилд, 7 марта, 1882.
Прошло всего два дня после того, как я отправил тебе последнее письмо, дорогой Берти, а у меня уже снова полно новостей. Я приехал в Брадфилд, встретился с Каллингвортом, и оказалось, что все, что он написал мне, правда. Да! Как бы невероятно это ни звучало, этот поразительный человек действительно сумел организовать огромную собственную практику менее чем за один год. При всех его чудачествах он все-таки удивительная личность. И, похоже, ему не удастся в полной мере раскрыться в нашем обществе, поскольку оно попросту не готово к этому. Законы и традиции нашей цивилизации мешают ему, связывают его по рукам и ногам. Случись ему жить во времена Французской революции, он бы оказался на ее переднем фронте. Или, если бы его назначили императором какого-нибудь из маленьких южноамериканских государств, я не сомневаюсь, что через десять лет он бы или лежал в могиле, или завоевал весь материк. Да, Каллингворт способен на игру, в которой ставки намного выше, чем медицинская практика в провинциальном английском городке. Когда я читал про вашего американского Аарона Бурра{138}, я представлял его человеком, похожим на К.
С Хортоном я распрощался очень сердечно. Будь он моим братом, и то я бы не мог ожидать от него подобной заботы обо мне. Я даже не думал, что сумел за столь короткое время завоевать такое расположение этого человека. Его очень интересует, как сложится моя дальнейшая судьба, и я обещал написать ему, как у меня будут идти дела. Когда мы прощались, он подарил мне старую черную пенковую трубку, которую сам выкрасил… Более искреннего подарка от курильщика ожидать нельзя. Мне было приятно осознавать, что есть тихая гавань, куда я мог бы вернуться, если бы в Брадфилде меня постигла неудача. И все же, несмотря на то что жизнь в Мертоне приносила мне удовольствие и давала поистине неоценимый опыт работы, я не могу не думать о том, как ужасно долго мне пришлось бы собирать на то, чтобы выкупить там часть практики… Так долго, что бедный отец мой мог бы и не дожить до этого. Та телеграмма от Каллингворта, в которой он, как ты помнишь, пообещал, что я смогу заработать триста фунтов за первый же год, дала мне надежду на гораздо более стремительную карьеру. Я уверен, ты согласишься, что я поступил разумно, поехав к нему.
По дороге в Брадфилд я стал участником небольшого происшествия. Со мной в одном купе ехала троица, на которую я даже не посмотрел, когда занял свое место и взялся за газету. Это были престарелая леди с алым лихорадочным лицом, в золотых очках и шляпке с красным пушистым пером, и двое молодых людей, насколько я понял, ее дочь и сын. Первая – тихая скромная девушка лет двадцати, во всем черном, второй – невысокий коренастый парень на год-два ее старше. Дамы сели рядышком в углу, а молодой человек занял место напротив меня. Примерно час я ехал, не обращая на эту семейку никакого внимания, ну, разве что до моего сознания доходили какие-то обрывки разговора женщин. У младшей из них, которую они называли Винни, был приятный спокойный голос. Старшую женщину она называла матерью, поэтому я понял, что в распределении ролей не ошибся.
Итак, я спокойно читал свою газету, как вдруг почувствовал, что мой сосед напротив ударил меня ногой в голень. Я немного отодвинул ноги, подумав, что это произошло случайно, но в следующую секунду получил новый удар, еще сильнее предыдущего. Я недовольно опустил газету и в тот же миг понял, что происходит. Его нога конвульсивно дергалась, сжатыми кулаками он колотил себя в грудь, а глаза у него закатились так, что радужные оболочки почти скрылись. Я тут же вскочил, расстегнул молодому человеку воротник и жилет и уложил его на сиденье. Одним каблуком он бил в оконное стекло, но я ухитрился поймать его ноги и усесться на них сверху.
– Не бойтесь! – крикнул я. – Это эпилепсия. Скоро пройдет!
Подняв взгляд, я увидел, что девушка вся побледнела и замерла в углу. Но мать очень спокойно достала из сумочки бутылочку.
– С ним такое часто бывает, – сказала она. – Вот бромид{139}.
– Он уже приходит в себя. Займитесь лучше Винни, – торопливо выкрикнул я, потому что голова у нее затряслась, как будто девушка сама готова была лишиться чувств. Но в следующее мгновение все мы осознали нелепость ситуации, и мать, а за ней и мы с ее дочерью рассмеялись. Тут и молодой человек раскрыл глаза и перестал дергаться. – Прошу прощения, – уже спокойным голосом произнес я, помогая ему подняться, – я не имею чести знать вашу фамилию и так спешил, что говорил, не задумываясь.
Они снова весело засмеялись, и, когда юноша окончательно пришел в себя, мы разговорились. Просто поразительно, как вмешательство каких-либо неожиданных жизненных обстоятельств разрывает паутину принятых правил этикета. Уже через полчаса мы знали друг о друге решительно все, или, по крайней мере, я знал о них все. Мать звали миссис Ла Форс, она была вдова, а молодые люди – действительно ее дети. Они оставили свой дом и находили куда более приятным жить в съемных апартаментах, переезжая с одного водного курорта на другой. Единственным неудобством для них была нервная болезнь сына Фреда. Сейчас они направлялись в Берчспул в надежде, что тамошний бодрящий воздух пойдет ему на пользу. Я порекомендовал им попробовать вегетарианство, потому что знаю, в подобных случаях отказ от мяса иногда дает просто поразительные результаты. Разговор у нас завязался самый душевный, и я думаю, что нам всем было жаль расставаться, когда мы доехали до той станции, где им нужно было делать пересадку. Миссис Ла Форс вручила мне карточку, и я пообещал, что, если буду в Берчспуле, обязательно навещу их.
Впрочем, все это должно казаться тебе пустой болтовней. Но ты ведь наверняка уже привык к тому, как я пишу, и не удивляешься тому, что я постоянно отхожу от основной темы. Но все, теперь я возвращаюсь к главному и попытаюсь больше не отвлекаться.
Итак, время подошло почти к шести часам, и сумерки уже начали сгущаться, когда поезд подъехал к брадфилдскому вокзалу. Первым, что я увидел, выглянув в окно, был сам Каллингворт, точно такой же, каким я его помнил. В распахнутом пальто он шел по платформе своей непонятной подпрыгивающей походкой, выпятив подбородок (вообще, я еще ни разу не встречал человека, у которого нижняя челюсть выступала бы вперед сильнее, чем у него), и зубы у него поблескивали, как у чистокровного бладхаунда. Завидев меня, он радостно взревел, схватил за руку и хлопнул по плечу.
– Старина! – воскликнул он. – Мы с тобой приберем к рукам этот городишко. Можешь поверить, Манро, скоро кроме нас здесь врачей не останется. Им и сейчас-то заработков хватает только на хлеб с маслом, но, когда мы с тобой начнем работать вместе, им останется сушить сухари. Вот смотри, друг мой. В этом городе живет сто двадцать тысяч человек, и всем им позарез нужна консультация врача. Но из местных врачей никто даже не отличит ревенной пилюли{140} от камня из почки. Пациенты сами толпами валят. Я весь день принимаю деньги, пока у меня руки не начинают болеть.
– Но как же так? – поинтересовался я, когда мы стали пробираться через толпу. – Неужели здесь так мало врачей?
– Мало? – вскричал он. – Черт побери, да тут от них прохода нет. В этом городе из окна не выпадешь, чтобы не пришибить какого-нибудь докторишку. Да только среди них… Впрочем, ты сам все поймешь. В Эйвонмуте, Манро, ты ко мне пришел пешком, но в Брадфилде я такого не допущу! А, что скажешь?
Ко входу на станцию подъехал экипаж, запряженный парой прекрасных вороных лошадей. Одетый с иголочки кучер приветливо поклонился, когда Каллингворт открыл дверцу.
– В какой из домов вас отвезти, сэр? – спросил он. Каллингворт покосился в мою сторону, чтобы увидеть, какое впечатление произвел на меня этот вопрос. Если честно, я про себя решил, что он заранее подговорил кучера спросить это. Он ведь всегда любил пускать пыль в глаза, да только никогда не задумывался над тем, что уловки его неглупый человек видит насквозь.
– М-м-м… – как будто задумавшись, он погладил подбородок. – Что ж, я думаю, обед уже почти готов. Едем в город.
– Боже мой, Каллингворт! – воскликнул я, когда экипаж тронулся. – Сколько у тебя домов? Ты что, весь город скупил?
– Как тебе сказать? – засмеялся он. – Сейчас мы едем в тот дом, в котором я живу. Он вполне подойдет нам, хотя я пока не успел обставить там все комнаты. За городом у меня еще есть небольшая ферма с участком в несколько сотен ярдов. Я люблю там отдыхать. И мы отправили туда няню с ребенком…
– О, дружище, а я и не знал, что ты обзавелся ребенком!
– Да, это было досадное недоразумение, но теперь уж никуда не деться. Ферма снабжает нас маслом и другими продуктами. Потом, в центре города у меня, конечно же, есть дом, в котором я работаю.
– Кабинет и приемная, надо полагать?
Во взгляде, которым он одарил меня, было столько же досады, сколько и удивления.
– Ты так до сих пор ничего и не понял, Манро, – констатировал он. – Никогда не встречал людей с таким куцым воображением. Но ничего, я подожду, пока ты сам все увидишь. Посмотрим, может, хоть тогда ты что-нибудь поймешь. Заранее не хочу тебе ничего говорить.
– Да что я такого сказал? – удивился я.
– Сначала я тебе описал свою практику в письме, потом в телеграмме, и после этого ты по-прежнему думаешь, что я работаю в каких-то жалких двух комнатах! Да мне скоро придется главную площадь города снимать, и то мне не будет хватать места! Ты можешь представить себе огромный дом, полностью забитый людьми, в котором даже в подвале в два слоя сидят пациенты, дожидающиеся приема? Вот так выглядит дом, в котором я работаю. Люди ко мне съезжаются из всего графства. За пятьдесят миль едут, берут с собой еду и жуют хлеб с патокой на пороге, чтобы быть первыми, когда приедет хозяин. Санитарный инспектор подал на меня официальную жалобу за то, что в моих приемных собирается слишком много народу. У меня даже конюшня забита людьми. Лошади пошевелиться не могут, потому что вокруг сидят пациенты. Часть их я отдам тебе, друг мой. Посмотрим, может, хоть тогда до тебя наконец дойдет, что здесь творится.
Можешь себе представить, Берти, как меня это озадачило. Даже если принять во внимание обычную для Каллингворта привычку не сдерживаться в оценке своих достижений, такие разговоры не могли появиться на ровном месте. Про себя я повторял, что нельзя терять бдительности и что для начала нужно все увидеть своими глазами. Через какое-то время экипаж въехал на красивую улицу с богатыми домами и остановился.
– Ну вот, это мое гнездышко, – сказал Каллингворт и показал на угловой дом. Это огромное здание больше походило на большую гостиницу, чем на частный жилой дом. К двери вела широкая лестница, и мне пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть пять или шесть этажей и флагшток на крыше. Я потом узнал, что до того, как этот дом занял Каллингворт, здесь располагался один из главных городских клубов, но его руководство решило отказаться от этого помещения из-за слишком большой арендной платы. Дверь открыла аккуратная горничная, и через секунду я уже пожимал руку миссис Каллингворт, которая вышла мне навстречу с радостным выражением лица. По-моему, она уже забыла тот незначительный эпизод в Эйвонмуте, когда мы слегка повздорили с ее мужем.
Внутри дом производил еще более внушительное впечатление, чем снаружи. Каллингворт, помогая мне нести чемодан наверх, сообщил, что в нем больше тридцати комнат. Холл и первая лестница были прекрасно меблированы, пол и ступени устилал роскошный ковер. Но на первой лестничной площадке это великолепие заканчивалось. В моей спальне была только небольшая железная кровать и маленький тазик для умывания, который стоял на упаковочной коробке. Каллингворт взял с каминной полки молоток и стал вбивать гвозди в стену рядом с дверью.
– Сюда будешь вешать одежду, – сказал он. – Поживешь немного в походных условиях, пока мы тут все не обустроим?
– Конечно!
– Понимаешь, – пояснил он, – я не хочу тратить на мебель для спальни сорок фунтов, чтобы потом, когда куплю комплект за сто, выбросить ее в окно. Это же бессмысленно, согласись, Манро. Да что там, я собираюсь обставить этот дом так, как не обставлялся еще ни один дом! Люди будут ехать сюда за сто миль, только чтобы взглянуть на него. Но я должен делать это постепенно, комната за комнатой. Пошли вниз, посмотрим на столовую. Ты, наверное, проголодался в дороге.
И действительно, обстановка в столовой была изумительной. Ничего броского, все подобрано со вкусом. На полу был такой толстый ковер, что мне казалось, будто я ступаю по мху. Миссис Каллингворт уже ждала нас за столом, на котором стояли тарелки с супом, но мой друг потащил меня дальше.
– Подожди, Хетти, – на ходу бросил он жене, – я хочу показать Манро еще кое-что. Видишь эти простые столовые стулья? Сколько, по-твоему, они стоят? А? Как думаешь?
– Пять фунтов, – наугад сказал я.
– Правильно! – довольно закричал он. – Тридцать фунтов за шесть штук. Ты слышала, Хетти? Манро угадал цену с первого раза. Так, мой друг, пойдем дальше. А эти шторы?
Это были отличные темно-красные занавески из тисненого бархата на двухфутовом позолоченном карнизе. Я решил не гадать, чтобы не лишиться только что заработанной репутации.
– Восемьдесят фунтов! – громовым голосом вскричал он, хлопнув по ним тыльной стороной ладони. – Восемьдесят фунтов, Манро! Как тебе это? В этом доме у меня все будет только лучшее. Да вот, посмотри на горничную! Видел когда-нибудь опрятнее?
Он схватил девушку за руку и потянул ко мне.
– Джимми, не глупи, – мягко произнесла миссис Каллингворт, но ее муж лишь захохотал, да так, что под щетинистыми усами можно было рассмотреть все его зубы. Девушка боязливо отошла поближе к хозяйке и сердито поморщилась.
– Да ладно, Мэри, не обижайся! – весело крикнул он. – Манро, дружище, садись за стол. Мэри, принеси шампанского, выпьем за успех.
Обед прошел в приятной атмосфере. Если рядом с тобой Каллингворт, скучно не бывает никогда. Он из тех людей, которых называют душой компании, в их присутствии ты всегда чувствуешь себя на подъеме. У него такой живой ум, а голова переполнена такими странными идеями, что и твои собственные мысли съезжают с привычной колеи, удивляя тебя самого. Ты получаешь удовольствие от того, какой ты изобретательный и своеобразный, хотя на самом деле ты не более чем воробей, взлетевший за облака на спине орла. Старый Петерсон в Линлитгоу{141}, если ты помнишь, производил примерно такое же воздействие.
Посреди обеда он вдруг вскочил, куда-то убежал и вернулся с круглым мешочком величиной с гранат.
– Как думаешь, Манро, что это? А?
– Понятия не имею.
– Наша дневная выручка, да, Хетти? – Он развязал шнурок, и на стол со звоном посыпались золотые и серебряные монеты, которые раскатились между тарелками. Одна из них упала со стола и укатилась в дальний угол. Служанка подобрала ее и принесла обратно. – Что там, Мэри? Полсоверена? Оставь себе. Сколько тут всего, Хетти?
– Тридцать один фунт восемь пенсов.
– Слышишь, Манро? И это за один день! – Он запустил руку в карман брюк, достал пригоршню соверенов и взвесил их на ладони. – Смотри! Это тебе не Эйвонмут, да? Что скажешь?
– Там тоже будут рады узнать, что дела у тебя пошли в гору, – заметил я.
Его лицо в одну секунду изменилось, взгляд, как когда-то, сделался бешеным. Трудно себе представить существо более свирепого вида, чем разгневанный Каллингворт. В светло-голубых глазах его появляется совершенно дьявольское выражение, волосы встают дыбом, как капюшон готовящейся к броску кобры. Его и в добром настроении красавцем не назовешь, но в плохом это истинный феномен. При первых признаках надвигающейся бури его жена отослала горничную в другую комнату.
– Что за чушь ты несешь, Манро! – грозно вскричал он. – Ты что, считаешь, что я собираюсь всю жизнь забивать себе голову мыслями о тех долгах?
– Я думал, ты обещал, – сказал я. – Хотя, конечно же, это не мое дело.
– Надеюсь, что не твое! – разбушевался он. – Деловой человек либо побеждает, либо проигрывает. Он должен учитывать риск невозврата долгов. Если бы тогда я мог вернуть деньги, я бы их вернул. Я не смог, поэтому убрался оттуда и начал с нуля новую жизнь. Ни один идиот не станет тратить заработанные в Брадфилде деньги на эйвонмутских торговцев.
– А если они сами к тебе явятся?
– Тогда и посмотрим. А пока что я плачу наличными всем, кто переступает порог моего дома. Обо мне здесь так хорошо думают, что я мог бы тут настоящий дворец устроить, от водосточных труб до флагштока. Только я хочу обставлять каждую комнату по отдельности, когда буду готов. Здесь, в этой столовой, мебели почти на четыреста фунтов.
В эту секунду в дверь постучали, и вошел мальчик-посыльный.
– Прошу прощения, сэр, вас спрашивает мистер Данкен.
– Передай от меня привет мистеру Данкену и скажи ему, чтобы он катился к черту!
– Джимми! – с укоризной в голосе воскликнула миссис Каллингворт.
– Передай ему, что я обедаю, и, если бы все европейские короли собрались у меня в холле со своими коронами в руках, я бы и то не вышел к ним.
Мальчик исчез за дверью, но тут же появился снова.
– Извините, сэр, но он не хочет уходить.
– Не хочет уходить? То есть как? – Каллингворт удивленно замер с открытым ртом, держа в одной руке вилку, а в другой нож. – Как это понимать? Что ты там лепечешь?
– Это его счет, сэр.
Мальчик испуганно втянул голову в плечи.
Лицо Каллингворта начало медленно наливаться кровью, на лбу проступили вены.
– Ах, его счет! Послушай-ка! – Он достал из кармана часы и положил их на стол. – Сейчас без двух минут восемь. В восемь я выйду, и, если он все еще будет там, я собственноручно вышвырну его на улицу. Он у меня ласточкой через церковь полетит. Передай ему, что у него есть две минуты, чтобы унести отсюда ноги, и одна из них уже почти на исходе.
Мальчишка в ужасе бросился вон из комнаты, через секунду хлопнула входная дверь, и мы услышали дробь торопливых шагов вниз по лестнице. Каллингворт откинулся на спинку стула и громогласно захохотал, у него даже слезы на глазах выступили. Тут и жена его вся задрожала, пытаясь совладать с приступом веселья.
– Он у меня от страха когда-нибудь рехнется, – простонал, еле переводя дыхание, Каллингворт. – Этот Данкен заячья душонка. Стоит мне только посмотреть на него, он становится бледный, как стена. Если я прохожу мимо его лавки, я захожу и начинаю на него смотреть. Ничего не говорю, просто стою и смотрю. Его это просто парализует. Иногда в магазине полно народу и все равно.
– А кто же он такой? – поинтересовался я.
– Он закупает для меня зерно. Я говорил, что тут всем плачу, но он – единственное исключение. Пару раз он надул меня, так что теперь я хочу проучить его. К слову, Хетти, пошли ему завтра двадцать фунтов. Пора уже очередную партию покупать.
Каким же болтуном ты должен меня считать, Берти! Но, когда я берусь за перо, мне все так ясно вспоминается, что я пишу почти машинально. Кроме того, этот человек настолько сложен и многосторонен, что я никогда не смог бы передать тебе его истинную суть, если бы описывал его своими словами. Поэтому я просто пытаюсь передать то, что он говорит и что делает, чтобы ты мог составить собственное представление о нем. Я знаю, что он всегда вызывал у тебя интерес, тем более теперь, когда судьба снова свела нас с ним.
После обеда мы пошли в заднюю комнату, которая представляла собой полную противоположность передней. На полу – линолеум, посередине – простой деревянный стол, вокруг беспорядочно расставлено полдюжины обычных кухонных стульев. В одном конце комнаты – электрическая батарея и большой магнит, в другом – ящик с несколькими пистолетами и целой кучей патронов к ним. Там же, опираясь кончиком ствола на ящик, лежало грачиное ружье. Посмотрев вокруг, я увидел, что все стены комнаты покрыты следами от пуль.
– И что это такое? – спросил я, вращая головой.
– Хетти, что это? – повторил он, вынув изо рта трубку и немного склонив голову набок.
– Превосходство в военно-морской силе и господство на море, – отчеканила она, как школьница, вызубрившая урок.
– Вот именно! – закричал он, ткнув в меня янтарным мундштуком трубки. – Превосходство в военно-морской силе и полное господство на море. Вот оно, прямо у тебя перед глазами. Говорю тебе, Манро, я завтра же мог бы отправиться в Швейцарию и сказать им: «Ребята, у вас нет ни выхода к морю, ни морских портов, но дайте мне корабль, повесьте на него ваш флаг, и я сделаю так, что все океаны будут в вашем распоряжении». После того как я бы прошелся по морям, там бы уже не плавало даже спичечного коробка. Или я мог бы передать их какой-нибудь компании с ограниченной ответственностью, а сам возглавил бы ее после того, как ей перечислили бы деньги. Дружище, вся соленая вода на этой планете у меня в руках, вся до последней капли.
Его жена положила ему на плечо руку и посмотрела на него восхищенными глазами. Я повернулся к камину, чтобы выбить остатки табака из трубки, и улыбнулся.
– О, ты можешь улыбаться, – сказал он (просто удивительно, как он замечает все, что ты делаешь), – но твоя улыбка станет еще шире, когда увидишь, какие это принесет дивиденды. Сколько стоит этот магнит?
– Фунт?
– Миллион фунтов! И ни пенни меньше. И страна, которая купит его у меня, будет рада, что он достался им так дешево. Так и быть, я согласен уступить его за такую цену, хоть мог бы запросить в десять раз больше. Просто не хочется торговаться. Через недельку-другую я пойду с ним к министру военно-морских сил, и если он покажется мне достойным уважения человеком, я буду иметь с ним дело. Не каждый день, Манро, к тебе в кабинет приходят люди с Атлантическим океаном в одной руке и Тихим в другой. Ты чего?
Я понимал, что это разозлит его, но не сдержался и громко рассмеялся. Его жена посмотрела на меня осуждающе, он же сначала помрачнел, но потом тоже захохотал и стал ходить по комнате, размахивая руками.
– Ну конечно же, тебе это кажется бредом сумасшедшего, – громко вещал он, – да и я бы так решил, если бы эту штуку изобрел кто-нибудь другой. Но можешь мне поверить, с ней все в порядке. Хетти подтвердит. Правда, Хетти?
– Все работает, как часы, мой дорогой.
– Я сейчас тебе покажу, Манро. Что ж ты за Фома неверующий такой? Делаешь вид, что тебе это интересно, а про себя смеешься! Во-первых, я изобрел способ… сути его я тебе не раскрою… который позволяет в сотни раз увеличить притягивающую силу магнита. Это до тебя дошло?
– Да.
– Отлично. Я полагаю, тебе известно, что современные снаряды либо делаются из стали, либо снабжаются стальным наконечником. Возможно, тебе когда-нибудь доводилось слышать, что магнит притягивает к себе сталь. А теперь позволь мне кое-что тебе показать. – Он склонился над своим аппаратом, и я неожиданно услышал характерное электрическое потрескивание. – Вот это, – продолжил он, направляясь к ящику с оружием в противоположный конец комнаты, – мой пистолет, и в следующем веке его выставят в музее как оружие, которым было провозглашено начало новой эры. Я заряжаю в него патрон «Боксер»{142}, со специально вставленной стальной пулей. Я целюсь в мазок красного сургуча на стене, который находится в четырех дюймах над магнитом. Я стрелок отменный и никогда не промахиваюсь. Стреляю. А теперь подойди к стене, убедись, что пуля расплющилась о край магнита, и извинись передо мной за ту улыбку.
Я направился к магниту, и все, естественно, оказалось так, как он и говорил.
– А знаешь что? – вскричал он. – Я готов поставить этот магнит Хетти на шляпку, а ты шесть раз выстрелишь ей прямо в лицо. Такая проверка тебя удовлетворит? Ты же не против, Хетти? Ну, что скажешь?
Я не сомневаюсь, что она была бы не против, но я поспешил отказаться от участия в подобном эксперименте.
– Ты, конечно, понимаешь, что здесь все представлено в уменьшенном виде. Мой корабль будущего будет иметь на носу и на корме магнит настолько же больший, насколько большой снаряд больше этой крошечной пули. Или можно будет установить мой аппарат на специальном плоту. Когда такой корабль выплывет в море, что, по-твоему, Манро, будет дальше? Что? Каждый выстрел, произведенный по нему, будет попадать в магнит. Внизу там будет специальный резервуар, куда снаряды попадают после того, как размыкается электрическая цепь. После каждого боя их будут продавать с аукциона как металлолом, а вырученные деньги делить между судовой командой. Но ты только подумай, что это значит! Любой корабль, снабженный моим аппаратом, становится совершенно неуязвимым для снарядов. К тому же это устройство очень дешево в изготовлении. Можно отказаться от брони, для защиты больше вообще ничего не нужно! В будущем боевой корабль будет стоить семь-десять фунтов. Вот ты опять улыбаешься, но дай мне магнит и брикстонский траулер{143} с семифунтовой пушкой, и я готов потягаться с лучшим боевым кораблем.
– Здесь наверняка должен быть какой-то подвох, – сказал я. – Если у тебя такой сильный магнит, твои же выстрелы будут возвращаться к тебе.
– Ничего подобного! Существует огромная разница между снарядом, летящим от тебя с определенной начальной скоростью, и снарядом, летящим на тебя, которому требуется лишь небольшое воздействие, чтобы он отклонился от траектории и попал в магнит. К тому же, разомкнув электрическую цепь, я могу снять воздействие магнитного поля, когда буду сам стрелять. Сделав залп, я вновь включаю магнит и опять становлюсь неуязвимым.
– А всякие гвозди, шурупы?
– Корпуса боевых кораблей будущего будут скрепляться деревом.
В общем, весь вечер мы разговаривали только об этом чудесном изобретении. Скорее всего, все это полная бессмыслица… По крайней мере, мне так кажется. Но тем не менее этот пример показывает, насколько разноплановая натура у этого человека. Он даже не вспомнил о своем поразительном успехе в этом городе (о чем мне, естественно, больше всего хотелось услышать) и ни словом не обмолвился о нашем партнерстве. Все его мысли заняты военными кораблями будущего. Скорее всего, через неделю он уже забудет об этом и начнет думать о том, как объединить евреев со всего света и поселить их на Мадагаскаре. И все же, судя по тому, что я вижу, и по тому, что он говорит, нет никакого сомнения в том, что он каким-то невероятным образом добился действительно значительного успеха, и завтра я дам тебе знать о том, что мне удастся выяснить. Чем бы все это ни закончилось, я рад, что приехал сюда, поскольку дело обещает быть серьезным. Пусть это будет конец не письма, а абзаца. Конец письма ты получишь завтра, в крайнем случае, в четверг. Всего доброго, и привет Лоуренсу, если ты с ним видишься. Как там дела у твоего друга по Йелю?
VII Пэрейд, 1, Брадфилд, 9 марта, 1882.
Как видишь, Берти, я держу свое слово. Перед тобой – исчерпывающий отчет об этой маленькой перипетии, вырванной из действительной жизни, и я надеюсь, что кроме тебя письма этого не увидит никто. Я написал Хортону и, конечно же, матери, но им я не сообщаю всех подробностей, которыми делюсь только с тобой. Ты уверяешь меня, что тебе это нравится, и если постепенно чтение моих писем превратится для тебя в тягостную обузу, тебе некого будет винить, кроме самого себя.
Проснувшись на следующее утро и увидев вокруг себя голые стены и тазик на упаковочном ящике, я не сразу понял, где нахожусь. Однако в следующую секунду дверь отворилась и в комнату ворвался Каллингворт в домашнем халате. Он подошел к моей кровати, взялся руками за спинку и, сделав кувырок, опустился ногами на мою подушку. Тут уж я вспомнил все. Он был в отличном настроении, и, пока я одевался, сел на корточках на краю моей кровати и принялся рассказывать о своих планах.
– Знаешь, чем я хочу заняться, Манро? – сказал он. – Я заведу собственную газету. Мы будем выпускать здесь еженедельную газету, ты и я. Ошарашим их всех. У нас будет собственный печатный орган, как у любого политика во Франции. Если кто-то захочет перейти нам дорогу, он пожалеет, что на свет родился. Ну что, парень? Что скажешь? И это будет такая умная газета, Манро, что все, абсолютно все захотят ее читать. А статьи будут такими язвительными, что после каждого номера на нас будут подавать в суд. Как думаешь, сможем?
– И какие политические взгляды будем мы поддерживать?
– Какая, к дьяволу, политика? Побольше красного перца и хорошо натереть – вот мое представление о газете. Назовем ее «Скорпион». Мы пройдемся по мэру и городскому совету так, что они соберут на главной площади народ и повесятся. Я буду писать едкие статьи, а ты рассказы и стихи. Мне эта идея пришла в голову ночью, и Хетти уже написала Мэрдоку, чтоб узнать приблизительно, сколько будет стоить печать. Первый номер можем выпустить уже на этой неделе.
– Но как же… – Я так растерялся, что даже не знал, что сказать.
– Я хочу, чтоб сегодня же утром ты взялся за роман. Много пациентов у тебя поначалу не будет, так что времени у тебя навалом.
– Но я ведь и строчки в жизни не написал.
– Гармонично развитый человек может браться за любое дело. Все необходимые качества у него есть, и все, что ему нужно, – это желание их развить.
– А ты сам мог бы роман написать? – спросил я.
– Конечно! И это был бы такой роман, прочитав первую главу которого, публика просто застонала бы от предвкушения второй. Они бы собирались перед моей дверью толпами в надежде узнать, что будет дальше. Черт возьми, я сейчас же этим займусь!
Проделав еще одно сальто над спинкой кровати, он выбежал из комнаты так стремительно, что кисточки на поясе его халата развевались у него за спиной.
Мне кажется, что к этому времени ты уже пришел к заключению, что Каллингворт – не более чем интересный объект для изучения с медицинской точки зрения… человек в начальной степени умопомешательства или умственного бессилия. Но, если бы ты познакомился с ним поближе, ты бы так не думал, поскольку свои самые безумные идеи он подкрепляет делами. Это звучит дико, если рассматривать все в черно-белых тонах, но ведь и год назад, если бы кто-нибудь сказал, что менее чем за двенадцать месяцев он обзаведется огромной практикой, это прозвучало бы точно так же дико. И тем не менее мы видим, что он это сделал. Его возможности безграничны. За всеми его изобретениями и идеями стоит поистине неиссякаемая энергия.
Вспоминая все, что я тебе писал, я не могу избавиться от чувства, будто даю тебе неверное представление об этом человеке, уделяя больше внимания тем случаям, в которых проявляются его странность и несдержанность, и не говоря ни слова о том, что происходит в промежутках между этими вспышками, когда на передний план выходят его мудрость и проницательность. Речь его, когда он не охвачен какой-нибудь очередной затеей, вполне рассудительна и даже мудра. «Лучшим из когда-либо воздвигнутых памятников Наполеону Бонапарту является британский национальный долг»{144}, – сказал он вчера. И еще: «Нельзя забывать, что главный вклад Великобритании в развитие Соединенных Штатов – это создание самих Соединенных Штатов»{145}. Или еще, о христианстве: «То, что не кажется здравым с точки зрения разума, не может быть здравым с точки зрения морали». В течение одного вечера он выдает целую серию афоризмов. Жаль, что рядом с ним не сидит человек с записной книжкой и не записывает его мысли. Нет, мне бы очень не хотелось, чтобы из-за меня у тебя сложилось неверное впечатление об этой личности. Хотя, с другой стороны, было бы нечестно отрицать, что я считаю его достаточно бессовестным человеком с очень грубыми замашками. И все же я ошибусь, если скажу, что у него злая душа. Он в равной степени способен и подняться ввысь, и низко пасть.
Итак, позавтракав, мы сели в экипаж и направились на рабочее место.
– Ты, наверное, удивлен, что с нами едет и Хетти, – сказал Каллингворт, хлопнув меня по колену. – Хетти, Манро тут спрашивает, какого черта ты за нами увязалась. Только он слишком вежливый человек, чтобы сказать это вслух. – Если честно, мне действительно показалось очень странным, что она поехала на работу вместе с нами. – Поймешь, когда приедем на место, – рассмеявшись, воскликнул он. – Мы работаем так, как сами считаем нужным.
Ехать было недалеко, поэтому вскоре мы остановились перед квадратным зданием с выбеленными стенами, где рядом с дверью красовалась огромная медная вывеска, на которой большими буквами было написано «Доктор Каллингворт». Снизу была приписка: «Бесплатные консультации с десяти до четырех». Через открытую дверь в прихожей была видна толпа людей.
– Сколько здесь? – спросил Каллингворт у мальчика-привратника.
– Сто сорок человек, сэр.
– Все приемные забиты?
– Да, сэр.
– А внутренний двор?
– Тоже, сэр.
– Конюшня?
– Тоже, сэр.
– Каретный сарай?
– В каретном сарае место еще осталось, сэр.
– О, жаль, что сегодня не самый людный день, Манро, – воскликнул он. – Мы, конечно же, не можем влиять на такие вещи, поэтому приходится мириться с тем, что есть. Хорошо, хорошо, расступитесь, будьте добры, расступитесь, – это он говорил уже пациентам. – Иди за мной, посмотришь на приемную. Фу! Что за воздух тут! Вы что, не можете сами окна открыть? Ну что за люди! В этой комнате тридцать человек, Манро, и ни у одного из них не хватило ума открыть окно, чтобы не задохнуться.
– Я попытался, сэр, но рама завинчена шурупом, – крикнул какой-то парень.
– Мальчик мой, ты ничего не добьешься в этой жизни, если не знаешь, как впустить в комнату воздух, не поднимая рамы, – сказал Каллингворт, хлопнув его по плечу, после чего взял из его рук зонтик и проткнул два стекла в раме подъемного окна. – Вот и все! – бросил он. – Мальчик, проследи, чтобы шуруп вывинтили. Ладно, Манро, пошли, пора и за работу приниматься.
Мы поднялись по деревянной лестнице без ковра. Насколько я успел заметить, все комнаты внизу были запружены пациентами. На втором этаже я увидел пустой коридор с двумя комнатами, расположенными друг напротив друга в одном конце и еще одной комнатой в другом.
– Это мой кабинет для консультаций, – сказал он, заходя в одну из комнат. Это было просторное квадратное помещение, совершенно пустое, если не считать двух простых деревянных стульев и некрашеного стола, на котором лежали две книги и стетоскоп. – Не похоже на кабинет, который приносит четыре или пять тысяч в год, не правда ли? Напротив точно такая же комната, ты можешь ее забрать себе. Я буду посылать к тебе пациентов, нуждающихся в помощи хирурга. Но сегодня тебе, наверное, будет лучше пока побыть рядом со мной, посмотреть, как я работаю.
– Мне бы очень этого хотелось, – сказал я.
– Работая с пациентами, нужно соблюдать пару правил, – заметил он, усевшись на стол и болтая ногами. – Самое очевидное – нельзя показывать им, что ты в них нуждаешься. Все должно выглядеть так, будто ты оказываешь им честь, удостаивая их вниманием. Чем больше тебя будет что-то отвлекать от них, тем лучше. Не давай им много говорить. И главное – никогда не разговаривай с ними вежливо. Многие глупые молодые люди впадают в эту непростительную ошибку и в результате губят свою карьеру. Смотри, как это делаю я… – Он спрыгнул со стола, подошел к двери, открыл и, приложив руки ко рту, закричал: – Эй там, внизу! Сколько можно галдеть? Такое впечатление, что я над птичьим двором живу! Ну вот, видишь? – добавил он, поворачиваясь ко мне. – От этого они только с бóльшим уважением будут на меня смотреть.
– А разве они не обижаются? – удивился я.
– Боюсь, что нет. Все уже знают, что я такой, поэтому другого поведения от меня и не ждут. Но, чтоб ты знал, обиженный пациент (я имею в виду по-настоящему обиженного) – это самая лучшая реклама в мире. Если это женщина, она побежит по подругам, и скоро в округе не останется такого дома, в котором не знали бы твоего имени, причем все эти люди, делая вид, что сочувствуют ей, на самом деле станут считать тебя просто удивительно проницательным человеком. Я тут однажды поспорил с одним пациентом о его желчном протоке{146}. Закончилось тем, что я спустил его с лестницы. И что в результате? Он столько об этом говорил, что вся деревня, из которой он приехал, больные и здоровые, собралась под моим домом, чтобы на меня посмотреть. Их местный врач, который четверть века перед ними лебезил, понял, что может закрывать свою лавочку. Такова природа человека, друг мой, и с этим ничего не поделаешь. Будешь вести себя как дешевка, в дешевку и превратишься. Если сразу задашь себе высокую цену, тебя по ней и будут ценить. Предположим, завтра я открою кабинет на Харли-стрит{147} с приемом с десяти до трех и буду вести себя вежливо и любезно. Думаешь, я заполучу хоть одного пациента? Да я раньше умру с голоду. Как бы я это сделал? Я бы объявил, что принимаю только с полуночи до двух утра и что лысые должны платить по двойному тарифу. Узнав об этом, люди начали бы говорить, у них бы разыгралось любопытство, и через четыре месяца по ночам по этой улице нельзя было бы проехать от столпотворения. Да-да, друг мой, можешь сам проверить. У меня такой принцип. Я часто прихожу сюда утром и говорю, чтобы все расходились и занимались своими делами, потому что мне нужно съездить на день в деревню. Я теряю сорок фунтов дневного дохода, но знаю, что этот рекламный трюк принесет мне четыреста!
– Но на вывеске написано, что консультации бесплатные.
– Так и есть, но они платят за лекарства. К тому же, если пациент хочет попасть на прием вне очереди, он может заплатить полгинеи. В день обычно находится человек двадцать, которые предпочитают заплатить, чем несколько часов ждать. Только учти, Манро, у меня бы ничего не вышло, если бы за всем этим не было главного – я действительно исцеляю их. Все дело в этом. Я берусь за случаи, от которых остальные врачи отказываются, и лечу людей. Остается только сделать так, чтобы они пришли ко мне. Ну, а уж после этого я своего не упущу. Если бы я им действительно не помогал, все это продлилось бы очень недолго. Теперь пойдем посмотрим, чем занимается Хетти.
Мы прошли по коридору в дальнюю комнату, оборудованную под фармацевтический кабинет. Когда мы вошли, миссис Каллингворт в аккуратном чистеньком переднике лепила пилюли. Она, закатив рукава, сидела за столиком, заставленным всевозможными склянками, и счастливо улыбалась, как ребенок в окружении игрушек.
– Самый лучший фармацевт в мире! – громко сказал Каллингворт и потрепал жену по плечу. – Видишь, как это у меня происходит, Манро? Я пишу на листке рецепт и ставлю условный значок, сколько нужно взять с пациента. Пациент идет по коридору и передает рецепт через окошко. Хетти берет рецепт, выставляет бутылочку с лекарством и принимает оплату. Ну, а теперь пойдем, освободим немного дом.
У меня не хватит слов, чтобы описать тебе этот бесконечный поток пациентов, которые час за часом проходили через пустую комнату и покидали ее, одни – удивленные, другие – испуганные, с рецептами в руках. Глядя на то, как ведет себя Каллингворт, я просто не мог поверить своим глазам. Я смеялся так, что чуть не упал со стула. Он кричал, бесновался, ругался, расталкивал пациентов, бил их по спинам, расставлял у стены, иногда выбегал к лестнице и обращался ко всем ожидающим внизу. И в то же время, посреди всего этого шутовства, наблюдая за его непосредственным общением с больными, я не мог не заметить быстроту диагноза, научную проницательность, смелое и нешаблонное использование лекарственных препаратов. То, что я видел, убедило меня в том, что он не кривил душой, когда говорил, что все это шарлатанство – лишь внешняя сторона его успеха, который на самом деле имеет крепкую медицинскую основу. Вообще-то слово «шарлатанство» вовсе не подходит к данному случаю, ведь шарлатаном можно скорее назвать врача, который при общении с пациентами ведет себя не натурально, так сказать, надевает на себя маску, чем того, который действует в полном соответствии со своим необычным, но присущим именно ему характером.
Некоторым пациентам он вообще не говорил ни слова и, кроме того, не разрешал им ничего говорить. С громким «Т-с-с-с!» он подходил к ним, стучал по груди, слушал сердце, тут же выписывал рецепт, разворачивал и выдворял из комнаты. Одну бедную старушку он перепугал до полусмерти, когда, едва она раскрыла дверь, закричал: «Вы пьете слишком много чая! У вас отравление чаем!» После этого, не дав ей произнести ни слова, взял ее за край черной накрахмаленной пелерины, подтащил к столу, схватил и протянул ей копию Тейлоровской «Судебной медицины»{148} и затем громовым голосом закричал: «Положите руку на книгу и поклянитесь, что четырнадцать дней не будете пить ничего кроме какао!» Она, закатив глаза, поклялась, тут же получила свой рецепт и была выдворена в коридор. Не сомневаюсь, что до конца своих дней пожилая леди будет рассказывать о своей встрече с доктором Каллингвортом. Конечно же, теперь из деревни, из которой она приехала, хлынет целый поток желающих встретиться с ним.
Еще одного дородного господина, когда тот только раскрыл рот, чтобы начать описывать свои симптомы, Каллингворт схватил за грудки, потащил через коридор, потом вниз по лестнице и наконец выставил на улицу, к неимоверной радости собравшихся там пациентов. «Вы слишком много едите, пьете и спите, – прокричал он вслед пустившемуся наутек толстяку. – Найдите полицейского, сбейте его с ног, потом, когда вас отпустят, приходите ко мне снова». Другой пациент пожаловался на то, что его не покидает ощущение, будто силы его «тают с каждым днем», на что Каллингворт ответил: «Дорогой мой, примите лекарства, а если это не поможет, отправляйтесь на Северный полюс, там у вас точно ничего не растает».
Насколько я могу судить, все сборище пациентов воспринимало утро, проведенное в доме Каллингворта, как захватывающее представление. Их волновало лишь то, как бы самим не превратиться во всеобщее посмешище.
С тридцатиминутным перерывом на обед это необыкновенное действо продолжалось почти до четырех часов. Когда ушел последний пациент, Каллингворт направился в фармацевтический кабинет, где на стойке были разложены все заработанные за день деньги в отдельные кучки по достоинству. Всего там было семнадцать монет в полсоверена, семьдесят три шиллинга и сорок шесть флоринов, то есть тридцать два фунта восемь шиллингов и шестипенсовик. Каллингворт пересчитал их, потом сгреб и золото, и серебро в одну кучу, запустил в нее пальцы и какое-то время перебирал монеты. Наконец ссыпал их в холщовый мешочек, который я видел накануне, и затянул шнурок.
Домой мы пошли пешком, и эта прогулка оказалась самым сильным впечатлением, которое я получил в тот день. Каллингворт медленно и важно шел по центральным улицам города, держа перед собой этой холщовый мешочек с деньгами в вытянутой руке, а его жена и я шли по обе стороны от него, как два алтарника рядом со священником. Люди останавливались и провожали нас удивленными взглядами.
– Я всегда специально прохожу по тем кварталам, где живут врачи, – сказал Каллингворт. – Сейчас мы как раз по ним идем. Они смотрят в окна, скрежещут зубами и бьются головами о стену, пока я не скроюсь из виду.
– Но зачем тебе ссориться с ними? За что ты их так не любишь? – изумленно спросил я.
– Что греха таить, – сказал он, – мы все готовы друг другу глотку перегрызть, и нечего тут лицемерить. Никто из них мне слова доброго не сказал. Ни один человек. Поэтому мне доставляет удовольствие выводить их из себя.
– Должен сказать, я не вижу в этом смысла. Они же твои братья по профессии, с таким же образованием, с такими же знаниями. Зачем становиться в позу и обижаться на них?
– Вот что я вам скажу, доктор Манро, – воскликнула тут его жена. – Ужасно неприятно чувствовать, что тебя со всех сторон окружают враги.
– Хетти сердится, потому что их жены не хотят с ней знакомиться, – воскликнул он. – Послушай-ка лучше это, дорогая, – позвенел он монетами в мешочке. – Это намного приятнее, чем слушать пустую болтовню безмозглых куриц, пьющих чай у нас в гостиной. Я заказал табличку, Манро, на которой написано, что мы не хотим расширять круг наших знакомств. Служанке велено показывать ее любому подозрительному человеку, который появляется у нас на пороге.
– Не понимаю, почему нельзя зарабатывать деньги и оставаться при этом друзьями с коллегами? – сказал я. – Ты говоришь так, будто эти вещи несовместимы.
– А так и есть. Будем говорить прямо, парень. Мои методы напрочь непрофессиональны, и я нарушаю все мыслимые и немыслимые законы медицинской этики. Ты ведь наверняка понимаешь, что Британская медицинская ассоциация{149} пришла бы в ужас от того, что ты сегодня видел.
– Ну а почему бы не соблюдать эти самые законы профессиональной этики?
– Потому что мне лучше знать, как мне работать. Друг мой, я сын врача и видел достаточно. Я родился внутри этой машины и знаю все ее шестеренки. Все эти правила не более чем уловка, обман, цель которого – сохранить дело в руках стариков. Они нужны для того, чтобы держать в стороне молодых, забить щели, через которые они могут пролезть вперед. От своего отца я слышал это миллион раз. У него была самая большая практика в Шотландии, и это при том, что ума у него не было ни на грош. Он получил ее по праву старшинства, потому что того требует закон. Ему не нужно было работать локтями и пробиваться, он просто дождался своей очереди. Пожалуйста, я ничего не имею против, когда ты – первый в очереди, но что делать тому, кто только встал в хвост? Когда я попаду в первые ряды, я со своей высоты посмотрю вниз и скажу: «Так, молодежь, у нас здесь очень строгие правила, и я хочу, чтобы вы все ходили на цыпочках и чтобы никто не беспокоил меня на моем очень удобном месте». Хотя, если они будут вести себя так, как я им велю, я буду считать их стадом баранов. Что скажешь на это, Манро?
Я смог лишь еще раз повторить, что он слишком плохо думает о своей профессии и что я не согласен ни с одним его словом.
– Можешь не соглашаться, сколько тебе хочется, друг мой, но, если ты хочешь работать со мной, тебе нужно забыть про этику!
– Я не могу пойти на это.
– Что ж, если ты боишься руки замарать, можешь проваливать. Мы не можем держать тебя здесь против твоей воли.
Я ничего не ответил, но, когда мы вернулись, я пошел наверх собирать вещи, намереваясь вечерним поездом вернуться в Йоркшир. Когда Каллингворт зашел ко мне и увидел, чем я занят, он стал извиняться.
– Дружище, ты можешь работать так, как хочешь. Не нравятся мои методы, придумывай свои, пожалуйста.
– Это хорошо, – сказал я, – но довольно неприятно слышать «проваливай» каждый раз, когда возникает какое-то расхождение во взглядах.
– Ну-ну, я не хотел тебя обидеть. Такое больше не повторится. Пойдем лучше вниз пить чай.
На этом неприятный инцидент был исчерпан, но я боюсь, Берти, что нечто подобное случится еще не раз. Мое положение здесь рано или поздно станет невыносимым, я это чувствую, но все же буду стараться отстаивать свое мнение до тех пор, пока он будет это терпеть. Каллингворт – такой человек, который любит ощущать себя главным, любит, чтобы люди, которые его окружают, зависели от него. Я же привык думать сам и принимать решения самостоятельно. Если он позволит мне занимать такую позицию, мы с ним прекрасно уживемся, да только я его слишком хорошо знаю. Он потребует подчинения, а я пойти на это не могу. Я, конечно же, признаю, что он имеет право на благодарность с моей стороны, ведь он дает мне возможность наконец зарабатывать деньги, которые мне сейчас очень нужны. Но даже ради этого я не пойду на сделку со своей совестью. Отказ от своих убеждений и принципов – слишком высокая цена для меня.
В тот вечер произошел случай настолько показательный, что я не могу тебе о нем не рассказать. У Каллингворта есть духовое ружье, которое стреляет маленькими стальными дротиками. Он тренируется с ним в задней комнате, и, надо сказать, стреляет прекрасно, в цель с двадцати футов (такова длина комнаты) бьет без промаха. После обеда, когда мы пошли туда пострелять, он предложил мне взять большим и указательным пальцами полупенсовик и позволить ему выбить его у меня из руки. Полупенсовика под рукой не оказалось, поэтому он достал из кармана жилета бронзовую медаль, я взял ее и отошел на нужное расстояние. Ружье с металлическим щелчком выбросило дротик, и монета полетела на пол.
– В яблочко! – довольно произнес он.
– Напротив, – сказал я. – Ты вообще не попал.
– Как не попал? Я должен был попасть!
– Я уверен, что ты не попал.
– А где же тогда дротик?
– Здесь, – сказал я и показал залитый кровью указательный палец с торчащим дротиком.
Еще никогда в жизни я не видел, чтобы человек так убивался. Он готов был рвать на себе волосы, произносил такие слова, которые поразили бы меня, даже если бы он отстрелил мне руку или ногу. Мы с ним как будто поменялись ролями: он рухнул на стул, я же, по-прежнему с дротиком в пальце, стал успокаивать его и говорить, что ничего страшного не произошло. Миссис Каллингворт сбегала за теплой водой, и мы вытащили дротик пинцетом. Боли почти не было (сегодня палец болит намного сильнее, чем вчера), но, если когда-нибудь тебя позовут опознавать мое тело, ищи у меня звезду на конце указательного пальца правой руки.
Когда операция по извлечению дротика (во время которой Каллингворт беспрерывно стонал и корчился, словно от боли) была закончена, мой взгляд случайно упал на медаль, которую я выронил на ковер. Я ее поднял, намереваясь найти более приятную тему для разговора. На медали было вычеканено: «Джеймсу Каллингворту за спасение утопающих. Январь, 1879».
– Вот это да, Каллингворт, – воскликнул я. – Ты мне никогда об этом не рассказывал!
К нему тут же вернулось обычное радостное расположение духа.
– О чем? О медали? А у тебя что, такой нет? Я думал, у всех такая есть. Признавайся, ты просто хочешь быть не таким, как все, да? Это был мальчик. Ты представить себе не можешь, скольких трудов мне стоило сбросить его в воду.
– Ты хотел сказать, вытащить его из воды?
– Друг мой, ты не понимаешь! Любой может вытащить ребенка из воды. Сложность в том, как его туда засунуть. Это стоит медали. Потом, свидетели, своим я плачу по четыре шиллинга в день и кварту пива вечером выставляю. Ты же не можешь просто взять ребенка, отнести его на пирс и бросить в воду. С родителями придется выяснять отношения. Поэтому приходится набираться терпения и ждать, пока повезет. Я себе тонзиллит заработал, пока ходил по пирсу в Эйвонмуте, дожидаясь своего случая. Это был такой вялый и толстый мальчонка, он сидел на самом краю с удочкой. Я его так пнул в спину, что он улетел у меня, как птичка. Потом, когда я его доставал из воды, правда, возникли сложности, его леска у меня вокруг ног два раза закрутилась, но все закончилось хорошо, и свидетели нашлись. На следующий день этот мальчик пришел меня благодарить, он сказал, что совсем не пострадал, если не считать синяка внизу спины. Его родители с тех пор мне каждый год на Рождество связку куропаток присылают.
Я слушал эту чушь, держа палец в теплой воде. Закончив, он выбежал из комнаты за табакеркой, и с лестницы донесся его довольный хохот. Я все еще смотрел на медаль, которая, судя по многочисленным вмятинам, часто использовалась как мишень, когда почувствовал легкое прикосновение к руке. Это была миссис Каллингворт. Страдальчески сдвинув брови, она заглянула мне в глаза.
– Не нужно верить всему, что говорит Джеймс, – сказала она. – Вы ведь его совсем не знаете, мистер Манро. Чтобы его понять, нужно просто смотреть на вещи его глазами. Нет-нет, не подумайте, что он говорит неправду, просто у него такое живое воображение, он так увлекается смешными идеями, которые приходят ему в голову, что совершенно забывает о том, что о нем могут подумать люди. Мне очень больно видеть, мистер Манро, что единственный человек в мире, к которому он испытывает дружеские чувства, совершенно не понимает его. Когда вы молчите, на вашем лице написано все, что вы думаете.
В ответ я смог лишь кое-как, запинаясь, сказать, что мне очень жаль, если я составил себе ошибочное мнение о ее муже и что я очень высоко ценю некоторые его качества.
– Я видела, как хмуро вы смотрели на него, когда он рассказывал эту совершенно безумную историю про то, как он якобы столкнул в воду мальчика, – продолжила она, извлекая откуда-то из-за лифа сильно потрепанный листок бумаги. – Вот, почитайте, доктор Манро.
Это была вырезка из газеты, в которой рассказывалось о том, как все произошло на самом деле. Во-первых, это случилось зимой. Мальчик провалился под лед, и Каллингворт на самом деле вел себя как настоящий герой. Его самого вытащили на берег без сознания, он прижимал ребенка к себе так сильно, что их смогли разделить только после того, как он пришел в чувство. Едва я успел дочитать, как с лестницы послышались шаги, и она, торопливо спрятав вырезку на груди, снова превратилась в молчаливо-настороженную женщину.
Ну, разве этот человек не загадка? Если он заинтересовал тебя даже на расстоянии (а я не сомневаюсь, что твои реплики в ответных письмах – не обычное проявление вежливости), можешь себе представить, какое впечатление он производит при непосредственном общении. И все же я должен признаться, что меня не покидает ощущение, будто я живу рядом с каким-то капризным и раздражительным существом, которое может в любую секунду зарычать и даже укусить. Что ж, я думаю, мое следующее письмо не заставит долго себя ждать, и к тому времени я уже пойму, задержусь ли я тут надолго. Я был очень огорчен, узнав о недомогании миссис Суонборо. Ты же знаешь, как мне небезразлично все, что касается тебя. Мне тут все говорят, что я хорошо выгляжу, но мне кажется, я просто потолстел.
VIII Пэрейд, 1, Брадфилд, 6-е апреля, 1882.
Дорогой Берти, я пишу эти строки на маленьком столике, который теперь стоит у окна в моей спальне. Сейчас все в доме спят, кроме меня, и не слышно обычного городского шума. Но мой мозг как никогда активен, поэтому я и решил, что лучше напишу тебе письмо, чем буду всю ночь ворочаться в кровати без сна. Мне днем часто говорят, что я выгляжу каким-то сонным, но природа уравнивает чаши весов тем, что частенько не дает мне заснуть ночью.
Ты когда-нибудь замечал, как успокаивают звезды? По-моему, это самая умиротворяющая вещь в природе. И я с гордостью могу сказать, что не знаю названия ни одной из них. Если бы они были классифицированы и на каждую был бы повешен ярлычок с названием, ореол романтики и чарующая сила загадки развеялись бы в одну секунду. Но, когда человек возбужден и взволнован, когда он охвачен своими ничтожными суматошными чувствами и бесконечно малыми бедами, нет ничего лучше, чем принять звездную ванну. Они такие большие, такие безмятежные и такие красивые! Глядя на них, я думаю о том, что пространства между планетами полны остатками разрушившихся астероидов, и, следовательно, возможно, даже там существуют такие вещи, как болезнь и смерть. Одного взгляда на ночное небо должно быть достаточно человеку, чтобы понять, насколько он незначителен… Все человечество – это что-то вроде мельчайшего порошка на поверхности одного из самых незначительных маховиков исполинской машины. Но в этом циклопическом механизме существует строжайший порядок, Берти. А там, где есть порядок, должен быть и разум, а там, где есть разум, должно быть и чувство справедливости. Я не сомневаюсь в том, что этот великий лежащий в основе всего Разум существует или что он обладает определенными неотъемлемыми свойствами. Понять это мне помогают звезды. Когда смотришь на них, кажется странным, что церкви здесь у нас все еще пререкаются по таким вопросам, как что больше угодно Всевышнему: чтобы на головы наших младенцев сразу после рождения выливали ложку воды или же нужно ждать несколько лет и погружать их в купель полностью. Это могло бы показаться смешным, если бы не было столь печальным.
Все эти мысли вызваны спором, который произошел у нас с Каллингвортом этим вечером. Он уверен, что человеческая раса ухудшается как умственно, так и нравственно. Он приводит в пример тупоумие, которое в молодом еврейском философе увидело самого Создателя. Я попытался доказать ему, что это не является доказательством вырождения, поскольку тот еврейский философ, по крайней мере, нес некую нравственную идею и поэтому находится на несравненно более высоком уровне, нежели античные мыслители с их материалистическим представлением о божествах. Его личные взгляды на природу Создателя кажутся мне куда более ярким примером вырождения. Он говорит, что, глядя на окружающую его жизнь, не видит ничего, кроме жестокости и безжалостности. «Или Создатель не всемогущ, или он не так уж всемилостив, – говорит он. – Либо Он может прекратить этот повсеместный ужас, но не хочет этого делать, и значит, Он не всемилостив; либо Он этого хочет, но это Ему не под силу, и тогда он не всемогущ». Это сложная дилемма для человека, который ищет ответы в логике и здравом смысле. Конечно, если обращаться к вере, выпутаться можно из любой ситуации. Мне пришлось прикрыться тем же щитом, которым ты, Берти, так много раз спасался от моих нападок. Я сказал, что дилемма эта возникла из-за того, что мы принимаем как данное, что то, что кажется нам злом, является ЗЛОМ. «Попробуй доказать, что это не так», – ответил на это он. – «Мы можем надеяться, что это не так», – сказал я. – «Вот если у тебя вдруг найдут рак преддверия привратника желудка{150}, посмотрим, что ты тогда скажешь», – выкрикнул он и повторял это каждый раз, когда я пытался возобновить спор.
И все же, при трезвом взгляде на эти вопросы, я действительно считаю: очень многое из того, что кажется нам наибольшим злом в жизни, при правильном восприятии вовсе таковым не является. Я уже пробовал обрисовать тебе свои взгляды на это на примере пьянства и распущенности. Однако в физическом плане, мне кажется, это еще более очевидно, чем в нравственном. Любое существующее зло физическое высшей точкой имеет смерть. Но, по моим наблюдениям, смерть сама по себе не является болезненным или ужасным процессом. Во многих случаях смертельная болезнь причиняет умирающему человеку не больше боли, чем ногтоеда{151} или воспаление десны. И часто те виды смерти, которые кажутся самыми страшными для наблюдателя, приносят меньше всего страданий тому, кто умирает. Например, человек попадает под поезд, и его разрывает на части, или человек падает с пятого этажа и превращается в мешок, набитый обломками костей и разбитыми внутренностями. Те, кому пришлось стать свидетелем этого, содрогаются от ужаса и начинают поносить провидение за то, что оно допускает подобное. И в то же время умерший, если бы можно было каким-то образом узнать его мнение, сказал бы, что ничего не помнит о случившемся. Мы, медики, знаем, что боль чаще всего сопровождает разные виды рака и заболевания внутренних органов, но всевозможные лихорадки, апоплексия, заражения крови, легочные заболевания, короче говоря, большинство серьезных болезней не причиняет больным физических страданий.
Я помню, как был поражен, когда первый раз наблюдал прижигание, которое проводили одному пациенту с больным позвоночником. Раскаленное добела железо крепко прижали к его спине без всякой анестезии. От вида этой операции и от тошнотворного запаха горелого мяса я едва не лишился чувств, меня чуть не вывернуло наизнанку. Но, к моему величайшему удивлению, на лице самого пациента не дрогнул ни один мускул. Когда потом я спросил у него об этом, он сказал, что процедура была совершенно безболезненной, и это подтвердил и хирург. «Нервные окончания подвергаются такому разрушению, – объяснил он мне, – что просто не успевают передать болезненные ощущения в мозг». Если это действительно так, как же быть со всеми теми мучениками, жертвами краснокожих и остальными бедолагами, о страданиях и стойкости которых мы наслышаны? Может быть, Божественное провидение не только не жестоко само по себе, но и не дает человеку быть жестоким? Попробуй сотворить какое-либо зверство, оно вмешается и скажет: «Нет, я не позволю, чтобы мое бедное дитя страдало», и тогда происходит омертвение нервов и летаргия, которая делает жертву недосягаемой для мучителя. Дэвид Ливингстон{152} в лапах льва должен был выглядеть как образцовый пример сил зла в действии, между тем сам он потом вспоминал, что испытывал скорее приятные ощущения, чем какую-то боль. Я совершенно уверен, что если бы новорожденный ребенок и только что умерший человек смогли сравнить свои ощущения, бóльшим страдальцем оказался бы первый. Не зря ведь ребенок, только что появившись на этот свет, первым делом открывает свой беззубый рот и изо всех сил выражает недовольство.
Каллингворт сочинил притчу для нашей замечательной новой еженедельной газеты.
«Как-то маленькие сырные клещи завели спор о том, – написал он, – кто сделал сыр. Некоторые из них сказали, что они слишком мало знают, чтобы найти ответ на этот вопрос. Некоторые заговорили о затвердевании пара или о центробежном притяжении атомов. Кое-кто предположил, что появление сыра каким-то образом связано с тарелкой, но даже умнейшие из них не смогли догадаться о существовании коровы».
Мы оба, Каллингворт и я, считаем, что бесконечное находится вне пределов нашего восприятия. Единственное различие в наших взглядах заключается в том, что в устройстве вселенной он видит зло, а я добро. Все-таки во всем этом заключена великая загадка! Главное для нас – быть честными и уважать друг друга. Над крышей дома напротив я вижу выстроившиеся цепочкой звезды. Они подмигивают мне… хитро подмигивают глупому маленькому человечку с пером в руке и листом бумаги на столе, который силится понять то, что понять ему не дано.
Ну что ж, теперь я, пожалуй, вернусь с небес на землю. Прошел уже почти месяц с тех пор, как я писал тебе в последний раз. Я хорошо запомнил дату предыдущего письма, потому что за день до того Каллингворт прострелил мне палец дротиком из духового ружья. Рана загноилась, поэтому я пару недель никому не мог писать, но сейчас уже все прошло. Мне столько всего хочется тебе рассказать, но, когда я начинаю все обдумывать, оказывается, что писать-то особо и не о чем.
Во-первых, о практике. Я уже говорил, что Каллингворт отвел мне кабинет прямо напротив своего, с тем чтобы отправлять больных, нуждающихся в хирургии, ко мне. Первые несколько дней я сидел без работы и слушал, как он кричит и ругается с пациентами или произносит речи с лестницы для ожидающих внизу. Внизу, рядом с дверью напротив таблички с его именем, повесили и мою: «Доктор Старк Манро, хирург». Знал бы ты, как возгордился я, когда впервые ее увидел! На четвертый день ко мне зашел первый пациент. Он даже не догадывался о том, что был первым пациентом, которого я принимал в своей жизни, имея собственный кабинет. Если бы он это знал, он бы, вероятно, не так радовался.
Этому бедолаге, правда, и так особо радоваться было нечему. Это был старый солдат, который остался почти без зубов, но все же умудрялся каким-то образом держать во рту короткую черную глиняную трубку. Не так давно у него на носу появился небольшой нарыв, который стал увеличиваться и покрылся коркой. Я его ощупал, это было плотное, как застывший клей, образование, в котором пациент чувствовал стреляющие боли. Диагноз сомнений не вызывал: эпителиоматозный рак{153}, причиной которого было раздражение, вызванное горячим табачным дымом. Я отослал его обратно в деревню, из которой он приехал, но через два дня сам съездил к нему на каллингвортовой двуколке и удалил опухоль. За работу я получил лишь соверен. Но это может быть хорошим началом для моей карьеры. Старик держался молодцом, он как раз недавно заезжал ко мне (теперь у него появились пышные закрученные аристократические усы, которые скрывают ноздри), чтобы сообщить, что купил целую коробку «церковных старост»[30]. Это была моя первая операция, и я, проводя ее, волновался больше, чем пациент, но результат придал мне уверенности в своих силах. Я твердо решил не отказываться ни от чего. Будь что будет, я готов работать. Зачем дожидаться чего-то лучшего? Я знаю, многие ждут своего шанса всю жизнь, но ведь, если двадцать лет просидеть без работы, и нервы крепче не станут, и знания утратят свежесть.
Работы у меня не много (люди ко мне приходят очень бедные и платят крохи), и все же я ею очень дорожу. За первую неделю я заработал, включая гонорар за ту операцию, один фунт семнадцать шиллингов и шесть пенсов. За вторую – ровно два фунта. За третью я разбогател на два фунта пять шиллингов, а эта неделя, как я только что подсчитал, принесла мне два фунта восемнадцать шиллингов, так что я иду в правильном направлении. Конечно же, эти цифры звучат смешно по сравнению с двадцатью фунтами в день, которые имеет Каллингворт, и моя практика кажется тихой маленькой заводью по сравнению с бушующим потоком, который протекает через его кабинет. И все же я вполне доволен и не сомневаюсь, что смогу заработать те триста фунтов в год, которые он мне обещал. Особое удовольствие мне доставляет мысль о том, что, если что-нибудь все-таки случится дома, я смогу оказать помощь родным. Если все и дальше пойдет так же хорошо, я крепко стану на ноги.
Кстати сказать, мне пришлось отказаться от предложения, о котором несколько месяцев назад я мог только мечтать. Ты, наверное, знаешь (может быть, я тебе об этом говорил), что, сдав выпускные экзамены, я сразу же подал заявки на место хирурга в несколько крупных пароходных компаний. Я и не надеялся получить от них ответ, поскольку обычно нужно ждать несколько лет, прежде чем очередь дойдет до тебя. Так вот, через неделю после того, как я приступил к работе здесь, я получил телеграмму из Ливерпуля: «Вы приняты на пароход „Деция“ хирургом. Будьте завтра не позже восьми вечера». Телеграмма была от «Стаунтон энд Меривейл», известной южноамериканской компании, а «Деция» – это прекрасное пассажирское судно водоизмещением в шесть тысяч тонн, курсирующее от Баии{154} и Буэнос-Айреса до Рио и Вальпараисо{155}. Четверть часа я провел в мучительных раздумьях. Не помню, чтобы когда-нибудь в своей жизни я так мучительно колебался с принятием решения. Каллингворт и слышать не хотел о том, чтобы я уезжал, и его мнение оказалось решающим.
«Друг мой, – говорил он, – ты поссоришься там со старпомом, и он тебя ганшпугом{156} уложит! Тебя привяжут к снастям за большие пальцы рук! Тебя будут поить гнилой водой и кормить заплесневелым печеньем! Я читал роман о службе в торговом флоте, так что знаю, как это бывает».
Когда я посмеялся над его представлением о современном мореплавании, он попробовал зайти с другой стороны.
«Если примешь их предложение, ты окажешься еще большим дураком, чем я думал, – сказал он. – Ну поразмысли сам, что это тебе даст? Все, что ты заработаешь, тебе придется потратить на синий китель. Тебе кажется, что ты попадешь в Вальпараисо, а на самом деле ты окажешься в приюте для нищих. Чем тебе здесь плохо? Тут уже все готово, бери да зарабатывай! Второй такой возможности у тебя не будет».
Мои сомнения окончились тем, что я позволил ему послать от моего имени телеграмму о том, что я не могу приехать. Странное чувство, когда ты доходишь до того места, где дорога твоей жизни раздваивается и тебе приходится делать выбор, куда свернуть, не видя перед собой указательного столба. Все же, мне кажется, я сделал правильный выбор. Судовой лекарь всегда будет всего лишь судовым лекарем, здесь же мои возможности ничем не ограничены.
Сам Каллингворт теперь ходит довольный собой, как никогда. Ты в последнем письме спрашивал, как ему удалось за такое короткое время привлечь к себе столько людей. Это как раз тот вопрос, ответ на который я нашел с большим трудом. Он рассказывал мне, что первый месяц здесь у него вообще не было ни одного пациента, и это его так огорчало, что он уже готов был бежать из этого города ночью, чтобы не платить за квартиру, которую тогда снимал. Но, наконец, к нему обратилось несколько человек… И он провел такое удивительное лечение… точнее сказать, настолько поразил их своим поведением, что после этого по городу о нем поползли слухи. В местных газетах появилось несколько восторженных статей о его методах лечения, хотя после того, что мне довелось видеть в Эйвонмуте, я не поручусь, что он сам же их не сочинил. Каллингворт как-то показал мне календарь, который разошелся здесь большим тиражом. Записи там были расположены в таком порядке:
15 августа: Принятие билля о второй реформе парламентского представительства, 1867.{157}
16 августа: Рождение Юлия Цезаря{158}.
17 августа: Выдающееся исцеление водянки доктором Каллингвортом в Брадфилде, 1881.
18 августа: Сражение при Гравлот – Сен-Прива, 1870.{159}
Подано сие так, словно это одно из самых выдающихся событий второй половины века. Я спросил у него, как его имя туда попало, но в ответ услышал лишь, что талия у той пациентки была пятьдесят шесть дюймов и что он прописал ей elaterium[31].
Это приводит меня к очередному вопросу. Ты интересуешься, действительно ли он такой уж выдающийся врач, и если да, то какой системой пользуется. Без колебаний могу сказать, что он действительно гениальный врач, я даже готов назвать его Наполеоном медицины. Он придерживается мнения, что в фармакопее дозировки почти всех лекарств занижены до такой степени, что они практически не оказывают никакого воздействия на болезнь.
Люди, занимающиеся медициной, по его мнению, слишком боятся отравить больных своими лекарствами. Сам же он, наоборот, считает, что искусство врачевания заключается в умеренном отравлении, и когда случай серьезный, то и дозировка соответственно увеличивается. Если при эпилепсии я бы порекомендовал принимать больному тридцать гранов{160} бромида или хлорала{161} по три раза в день, то он пропишет две драхмы{162} по четыре раза. Несомненно, тебе подобный способ лечения покажется похожим на игру со смертью, да я и сам боюсь, как бы карьера моего друга не закончилась рядом коронерских расследований, но пока что ни одного публичного скандала не разразилось, зато случаев исцеления умирающих насчитывается множество. Каллингворт, кажется, вовсе не знает, что такое страх. Один раз я наблюдал, как он вливал в больного дизентерией опиум такими дозами, что у меня волосы на голове зашевелились. И все же то ли его знания, то ли простое везение всегда спасают его.
Кроме того, бывают такие случаи, когда пациентов, как мне кажется, излечивает единственно его личный магнетизм. Он сам настолько крепок, громкоголос и общителен, что слабый и нервный пациент от одного общения с ним наполняется жизненными силами. Он настолько уверен, что может их исцелить, что и они перестают сомневаться в этом. А тебе ведь, бесспорно, известно, как при нервных заболеваниях мысли могут влиять на физическое состояние. Если бы подобно тому, как это делали в средневековых церквях, он оставлял у себя костыли и палки излеченных, он мог бы обвешать ими все стены своего кабинета так, что свободного места не осталось бы. Когда к нему приходит какой-нибудь впечатлительный пациент, он чаще всего прибегает к своему излюбленному способу лечения – называет точное время, когда произойдет исцеление. «Дорогая моя, – говорит он какой-нибудь девочке, раскачивая ее за плечи и приблизив свой нос к ее на три дюйма, – завтра без четверти десять ты почувствуешь, что тебе стало лучше, а в двадцать минут одиннадцатого ты будешь совершенно здорова. Так что смотри на часы, не пропусти время». И можно быть уверенным, что на следующий день к нему явится ее мать, утирающая слезы счастья, и на счет Каллингворта запишется еще одно чудо. Все это смахивает на врачебное шарлатанство, но больным это явно идет на пользу.
И все же больше всего в Каллингворте меня раздражает то, как он презирает нашу профессию. Я с его взглядами не могу примириться и его заставить принять мои тоже не могу, поэтому между нами могут возникнуть разногласия, которые рано или поздно перерастут в непреодолимую пропасть. Филантропической стороны своей профессии мой друг не признает вовсе. Он не скрывает, что занимается медициной исключительно ради денег. То, что он помогает при этом другим людям, для него имеет лишь второстепенное значение.
«А чего ради мы должны творить только добро, Манро? – кричит он мне. – Можешь ответить? Мясник тоже бы считался благодетелем человечества, если бы швырял из окна бесплатную мясную вырезку. Ан нет, он продает ее по шиллингу за фунт. А возьми не мясника, а доктора, который занимается санитарией, того, который прочищает сточные канавы и борется с распространением инфекций. Ты и его назовешь благодетелем? А вот я считаю его предателем! Да-да, предателем и изменником! Ты когда-нибудь слышал, чтобы конгресс адвокатов решил упростить законы или отменить судебные процессы? Для чего существуют Медицинская ассоциация, Генеральный совет и остальные подобные организации? Скажи-ка мне, парень, а? Чтобы отстаивать интересы представителей профессии. Ты предполагаешь, что, оздоровив нацию, они этого добьются? Да нам, практикующим врачам, уже пора забастовку устраивать. Если бы я распоряжался половиной тех денег, которые имеет ассоциация, я бы часть их пустил на то, чтобы позабивать сточные канавы, а остальную часть потратил бы на распространение микробов и заражение питьевой воды».
Разумеется, я сказал ему, что подобный взгляд на эти вопросы бесчеловечен, но не стал (памятуя предупреждения его жены) принимать его слова на веру. Сначала он всегда говорит искренне и серьезно, но потом у него разыгрывается воображение, он начинает думать о том, как было бы смешно довести ту или иную ситуацию до абсурда, это его захватывает, и заканчивает он такими идеями, которые никогда бы не пришли ему в голову просто так. И все же факт остается фактом, мы с ним придерживаемся очень разных взглядов на медицину, и я боюсь, что добром это не кончится.
Как думаешь, чем мы занимаемся в последнее время? Представь себе, строим конюшню. Каллингворт возжелал, чтобы и на работе у него была конюшня, хотя, мне кажется, она нужна ему не столько для лошадей, сколько для пациентов. Конечно же, он решил, что мы можем сами ее построить. Чем мы и занялись – он, я, миссис Каллингворт и конюх с женой. Мы вырыли котлован под фундамент, на телеге привезли кирпичей, изготовили строительный раствор, и, похоже, у нас совсем неплохо получается. Кладка не такая ровная, как хотелось бы, и, если бы я был лошадью, я бы поостерегся чесать бока о стены, но в целом, когда все будет закончено, постройка наша вполне сможет защитить от ветра и дождя. Каллингворт подумывает о том, чтобы построить новый дом и для нас самих, но, поскольку в нашем распоряжении уже и так три больших здания, срочной надобности в этом нет.
Кстати, о лошадях: на днях у нас приключилась одна история. Каллингворт вбил себе в голову, что ему нужна первоклассная верховая лошадь, и, поскольку ни одна из тех лошадей, которые у него уже есть, его не удовлетворила, он нанял торговца лошадьми, чтобы тот подыскал хорошего скакуна. Этот человек сказал, что знает одного офицера в местном гарнизоне, который как раз продает свою лошадь. Он не стал скрывать того, что офицер этот хочет избавиться от лошади по той причине, что считает ее опасной, однако добавил, что капитан Лукас отдал за нее сто пятьдесят фунтов, но готов уступить за семьдесят. Это привело Каллингворта в восторг, он тут же распорядился оседлать животное и привести к нему. Это было изумительно красивое создание: угольно-черное, с великолепной шеей и плечами, только неприятный взгляд и немного наклоненные уши выдавали его норовистый характер. Торговец сказал, что наш двор слишком мал для того, чтобы испытать лошадь, но Каллингворт, не слушая его, взобрался в седло и ударом костяной рукоятки хлыста между ушей лошади дал понять, что покупает ее. Не знаю, хватит ли у меня слов описать то, что происходило следующие десять минут. Лошадь полностью оправдала свою репутацию, эта бестия перепробовала все: срывалась с места вперед, потом пятилась, шла боком, поднималась на передние ноги и вставала на дыбы, гнула спину, прыгала, взбрыкивала и лягалась, но Каллингворт, хоть и не был хорошим наездником, вцепился в нее, как клещ. Сидел он то на загривке, то на крупе, но только не в седле. Почти сразу он потерял оба стремени, ноги его подогнулись, а каблуки глубоко вонзились между ребер животного. Руками он хватался за все, что появлялось у него перед глазами: за гриву, за седло, за уши, и все же хлыста не выпустил, и каждый раз, когда лошадь начинала успокаиваться, снова бил ее между ушей. Я думаю, что таким образом он хотел сломить ее дух, но задача эта оказалась ему не под силу. В конце концов животное собрало все четыре ноги вместе, нагнуло голову, выгнуло спину, как зевающая кошка, и три раза высоко подпрыгнуло. Во время первого прыжка колени Каллингворта взлетели над седлом, во время второго он еще кое-как удержался лодыжками, а во время третьего полетел вперед, как камень, выпущенный из пращи, и, лишь благодаря счастливому случаю разминувшись с каменным выступом вверху стены, ударился головой о железный столб, к которому крепилась сетка, после чего с глухим звуком шлепнулся на землю. Однако тут же вскочил и, не обращая внимания на кровь, заструившуюся по лицу, бросился в недостроенную конюшню, схватил топор и с ревом ринулся на лошадь. Я схватил его за полу плаща и неимоверным усилием смог ненадолго задержать. Этого времени хватило побледневшему как мел торговцу, чтобы вместе с лошадью убежать с нашего двора на улицу. Каллингворт вырвался из моих рук и, изрыгая какие-то неразборчивые проклятия, с залитым кровью лицом, размахивая над головой топором, помчался в погоню. Более демонического вида существа в своей жизни я еще не видел. К счастью, барышник сразу же взял хороший старт, так что Каллингворта удалось уговорить вернуться и умыться. Мы перевязали ему голову и выяснили, что рана оказалась неглубокой. Больше пострадал не он сам, а его самомнение. Я почти уверен, что он готов был не пожалеть семидесяти фунтов за то, чтобы дать волю своему безумному гневу и расквитаться с непокорным животным.
Мне кажется, тебя должно удивлять то, что я так много внимания уделяю этому человеку и почти ничего не рассказываю о ком-нибудь еще. Дело в том, что я больше никого и не знаю, мой круг общения ограничивается моими пациентами, Каллингвортом и его женой. Они ни к кому не ходят в гости, и никто не приходит к ним. То, что я живу с ними, сделало и меня изгоем в среде местных врачей, хотя сам я не делаю ничего, что могло бы показаться им предосудительным. Зато недавно я встретил на улице – кого бы ты думал? Макфарлейнов, которых ты должен помнить по Линлитгоу. Когда-то по глупости своей я сделал Мэйми Макфарлейн предложение, но она, проявив достаточно здравого смысла, ответила мне отказом. Если честно, я даже не могу себе представить, как бы я сейчас жил, если бы она тогда приняла мое предложение. Было это три года назад, а сейчас я связан по рукам и ногам и не готов к семейной жизни даже больше, чем тогда. Впрочем, нет никакого смысла мечтать о том, что никогда не будет твоим, и я не хочу никому жаловаться, но все-таки жизнь – ужасно унылая и безотрадная штука для человека, когда рядом с ним нет родной души. Что заставляет меня сейчас сидеть, смотреть на звезды и писать тебе это письмо, если не желание почувствовать понимание и близость по духу? И ты даешь мне это ощущение в той мере, в которой это доступно между друзьями… И все же моя душа наделена такими гранями, которые не доступны пониманию ни жены, ни друга, ни кого-либо другого. Если хочешь идти своей собственной дорогой, будь готов к тому, что ты будешь идти по ней один.
Надо же! Оказывается, уже скоро утро, а у меня сна ни в одном глазу. Сейчас прохладно, и я завернулся в шерстяное одеяло. Я где-то слышал, что в это время совершается больше всего самоубийств. Наверное, это так, потому что и на меня нашла тоска и грусть. Лучше я настрою себя на более жизнерадостный лад, приведу отрывок из последней статьи Каллингворта. Должен сказать, что он еще не охладел к идее издавать собственную газету. Мозг его то и дело извергает разнообразные язвительные фельетоны, нескладные стихи, очерки на всякие житейские темы, пародии и статейки. Все это он приносит мне, и мой стол уже завален его рукописями. Вот его последняя статья, он принес ее мне вечером, уже после того, как разделся ко сну. Это его своеобразный ответ на брошенное мною замечание о том, как трудно будет нашим далеким потомкам понять назначение некоторых вещей, которые нашей цивилизации кажутся самыми обыденными, и вывод о том, что мы должны быть очень осторожны в своей оценке жизни древних римлян и египтян.
«Во время третьего ежегодного собрания Археологического общества Новой Гвинеи был зачитан доклад о последних раскопках на месте предположительного расположения Лондона, в котором также содержались некоторые размышления относительно предназначения полых цилиндров, имевших широкое хождение среди древних лондонцев. Несколько экземпляров этих металлических цилиндров или трубок было выставлено в зале собрания и передано в аудиторию для рассмотрения. Выступающий предварил свой доклад словами о том, что, поскольку нас от тех дней, когда Лондон был процветающим городом, отделяет неимоверно большой временной промежуток, необходимо быть предельно осторожными в выводах относительно привычек и обычаев его древних обитателей. Недавние исследования с большой долей вероятности установили, что время падения Лондона приходится на эпоху, последовавшую за возведением египетских пирамид. Не так давно рядом с руслом некогда протекавшей в тех местах реки Темза были обнаружены остатки крупной постройки. Дошедшие до наших дней записи не оставляют сомнения в том, что именно в этом здании когда-то заседал законодательный совет древних британцев, или англиканцев, как их иногда называли. Далее докладчик обратил внимание слушателей на то, что под руслом Темзы были прорыты туннели. Это было сделано во времена короля Брунеля, который, по мнению некоторых историков, сменил на престоле Альфреда Великого. Выступающий заметил, что открытые пространства в Лондоне, очевидно, представляли собой весьма опасные места, поскольку во время раскопок Риджентс-парка{163} были найдены кости львов, тигров и других вымерших представителей отряда хищников. Упомянув вкратце о загадочных устройствах, известных под названием „почтовые ящики“, которые археологи находят на территории всего городища и которые имеют либо культовое предназначение, либо указывают на места захоронения англиканских вождей, докладчик перешел к вопросу о цилиндрических трубках. Представители патагонской{164} школы считают, что эти предметы являются остатками существовавшей в те далекие времена всемирной системы громоотводов. Однако он (докладчик) не согласился с данной теорией. В результате многомесячных исследований ему удалось сделать важное открытие. Как выяснилось, все эти трубы неизменно приводят к большим железным резервуарам, которые связаны с печами. Таким образом, любой, кому известно пристрастие древних британцев к использованию табака, может догадаться о предназначении этих систем. Очевидно, большие массы этого растения сжигались в центральных камерах, и ароматические и наркотические испарения устремлялись в дома жителей города с тем, чтобы они имели возможность вдыхать их, когда у них возникнет в этом потребность или желание. Проиллюстрировав выступление серией диаграмм, докладчик закончил свою речь сообщением о том, что, хоть истинная наука весьма осторожна в выводах, сейчас уже можно с уверенностью утверждать, что старый Лондон являлся таким освещенным местом, любое действие обитателей которого становилось известно властям, от утреннего принятия ванны до обычного глотка пива и посинения на ночь».
В конце концов, я не могу утверждать, что это объяснение лондонской системы газовых труб более абсурдно, чем некоторые наши догадки относительно предназначения египетских пирамид или жизни в Вавилоне.
На этом я закончу свое письмо, которое получилось ужасно глупым и непоследовательным, но жизнь в последнее время стала более спокойной и менее интересной. Надеюсь, в следующем послании мне удастся рассказать о чем-нибудь более интересном.
IX Пэрейд, 1, Брадфилд, 23 апреля, 1882.
Насколько я помню, дорогой Берти, недели три назад я написал тебе довольно бестолковое и бессвязное письмо, которое закончил выражением надежды на то, что в своем следующем письме смогу рассказать о чем-нибудь более интересном. Что ж, так и вышло. Я распрощался с Каллингвортом, и теперь мне предстоит искать новое место. Он пошел своей дорогой, а я своей, и все же я рад, что это произошло спокойно и без ссоры. Как обычно, я начал с конца, но на этот раз я заранее продумал, как буду писать, так что ты узнаешь все по порядку.
Но сначала огромное тебе спасибо за те два длинных письма, которые сейчас лежат передо мной. В них мало новостей о том, как поживаешь ты сам, но я понимаю, что счастливая и размеренная семейная жизнь не богата событиями, достойными упоминания. Но, с другой стороны, я имею возможность лишний раз удостовериться в том, что твоя внутренняя жизнь, которая для меня намного интереснее, тоже не замирает. В конце концов, ничто ведь не мешает нам в чем-то не соглашаться. Ты считаешь доказанными некоторые вещи, в существование которых я не верю. Ты находишь поучительными примеры, которые я таковыми не считаю. И тем не менее я знаю, что ты человек искренний в своих убеждениях и меня считаешь таким же. Будущее покажет, кто из нас прав. Выживает только самая истинная из истин, это закон природы, хотя нужно признать, что отмирание остальных истин происходит очень и очень медленно.
Однако ты ошибаешься, считая, что людей, думающих так же, как я, крайне мало. Для таких, как я, главным является независимость и собственное мнение, поэтому мы не объединяемся в отдельные конфессии, как это делают церкви, и не имеем возможности, так сказать, померяться силами. Конечно же, в нашей среде существует великое разнообразие мнений, но включи в наше число тех, чьи сердца не приемлют общепринятых доктрин, и тех, кто считает, что сектантские церкви несут больше зла, чем добра, и я думаю, ты удивишься, узнав, насколько многочисленны наши ряды. Прочитав твое письмо, я составил список людей, с которыми когда-либо беседовал на подобные темы. Набралось семнадцать имен, среди которых четыре священника. Каллингворт тоже составил подобный список, и у него вышло двенадцать имен и один священник. Со всех сторон то и дело слышатся жалобы церковников на то, что все меньше мужчин обращаются к вере. На трех женщин приходится один мужчина. В чем же дело? Может быть, женщины более серьезны и основательны? Думаю, как раз наоборот. Для мужчин важнее голос разума, а для женщин – эмоции. Традиционная церковь до сих пор существует исключительно благодаря женщинам.
Нет, не стоит тебе так уж уверенно заявлять, что таких, как ты, большинство. Если взять научные, медицинские, профессиональные круги, я сомневаюсь, что в них вообще сыщутся сторонники твоих идей. Духовенство, которое варится в своем собственном котле и общается лишь с теми, кто поддерживает его, даже не понимает, насколько далеко вперед по сравнению с ними ушло новое поколение. И (за редким исключением, наподобие тебя) не самые равнодушные, а лучшие из молодых людей, самые думающие, те, у кого самое большое сердце, сумели освободиться от старой теологии. Для них невыносимо ее безучастие, ее исковерканное понимание Божественного благоволения, ее стремление взять на себя роль Провидения, ее закоснелость, нежелание признавать свои ошибки и неприятие истин, которые мы принимаем за очевидные. Мы знаем наверняка, что человек в развитии движется вперед, а не назад, поэтому мировоззренческие построения, основанные на уверенности в его падении, бессмысленны. Мы знаем наверняка, что мир не был создан за шесть дней{165}, что Солнце не могло быть остановлено{166}, поскольку оно никогда и не двигалось, что ни один человек не может прожить три дня во чреве рыбы{167}. Исходя из этого, как можно верить книге, в которой содержатся подобные заявления? «Истина! Пусть даже небеса обрушатся на меня всей своей тяжестью!»[32]
Видишь, Берти, что происходит, когда ты начинаешь махать у меня перед носом красной тряпкой! Но в качестве примирения позволь мне сделать признание. Я действительно считаю, что христианство в его различных формах – это лучшее, что случилось с человечеством в языческие времена. Конечно же, лучшее, иначе Провидение не допустило бы его развития. Механик знает, какими инструментами пользоваться, чтобы улучшить работу своей машины. И все же, когда ты заявляешь, что это лучший из инструментов и единственный, которым можно пользоваться, ты слишком категоричен.
Но вернемся к нашим баранам. Во-первых, я хочу рассказать, как обстояли дела с моей практикой. Следующая неделя после моего предыдущего письма была не такой удачной. Я заработал всего два фунта. Зато следующая неожиданно принесла мне аж три фунта семь шиллингов, а на этой неделе я положил в карман три фунта десять шиллингов. То есть постепенно дела мои шли в гору, и я уже начал думать, что нашел свое место в жизни. Но неожиданно грянул гром. Однако у меня были причины не слишком сильно жалеть о том, что произошло, и ты должен о них узнать.
Рассказывая тебе о своей милой матушке, я, помнится, упомянул о том, насколько важно для нее доброе имя нашей семьи. Она действительно пытается жить достойно Перси и Плантагенетов, кровь которых, как считается, течет в наших венах, и только наши пустые карманы не позволяют ей идти по жизни легко, как и подобает гранд-даме, которой она себя видит, соря деньгами направо и налево, не задумываясь о мелких житейских трудностях. Я часто слышал, как она говорила (и я думаю, что это говорилось вполне искренне), что для нее легче было бы смириться с нашей смертью, чем с известием о том, что кто-то из нас совершил какой-либо бесчестный поступок. Да, при всей ее мягкости и женственности, она становилась холодной как лед при одной мысли о подлости. Я не раз видел, как она вся, от белого чепца до кружевного воротника, бледнела, когда слышала о каком-либо недостойном поступке.
Когда я только познакомился с Каллингвортами, они ей не очень понравились. После случая в Эйвонмуте ее мнение о них стало еще хуже. Она была против того, чтобы я ехал к ним в Брадфилд, и только мой неожиданный отъезд помешал ей дать мне формальный запрет. Когда я приехал сюда и написал ей, как они разбогатели, первым делом она поинтересовалась, расплатились ли они со своими кредиторами из Эйвонмута. Мне пришлось ответить, что нет. В ответном письме она умоляла меня вернуться и писала, что, как бы ни нуждалась наша семья, никто из нас никогда не опускался до того, чтобы вступать в деловые отношения с человеком, совесть которого нечиста, а происхождение сомнительно. Я ответил ей, что Каллингворт иногда говорит о том, чтобы вернуть долги, что миссис Каллингворт тоже этого хочет и что было неразумно отказываться от хорошей карьеры из-за того, к чему я лично не имею никакого отношения. Я заверил ее, что, если Каллингворт в будущем совершит хоть какой-нибудь поступок, который покажется мне недостойным, я тут же расстанусь с ним, и упомянул, что уже отказался от кое-каких его методов. В ответ мать прислала гневное письмо, в котором изложила все свои мысли о Каллингворте. Мне пришлось снова его защищать, я привел несколько примеров, доказывающих, что он не лишен благородства и других положительных качеств, и получил в ответ еще более раздраженное послание. Так и продолжалась наша переписка; она обрушивалась с нападками на Каллингворта, я же защищал его, и дело уже шло к серьезной ссоре. Отец мой, судя по той короткой записке, которую я от него получил, считал сложившуюся ситуацию из ряда вон выходящей и отказывался верить моим рассказам о методах работы Каллингворта и о том, какие лекарства он прописывает больным. Это двойное противостояние со стороны самых дорогих для меня людей и привело к тому, что я воспринял разрыв с Каллингвортом не так болезненно, как можно было бы ожидать. Если честно, я сам искал повода порвать с ним, но судьба решила все за меня.
Теперь о Каллингвортах. Мадам, как всегда, любезна и приветлива, но только (если мои глаза меня не обманывают) в последнее время ее отношение ко мне несколько изменилось. Не раз я случайно успевал перехватить ее взгляд, который иначе как злобным не назовешь. Да и в других мелочах начала проявляться какая-то жесткость, ранее для нее совершенно нехарактерная. Может быть, дело в том, что я слишком глубоко вторгся в их семейную жизнь? Неужели я встал между мужем и женой? Я изо всех сил, используя весь свой такт, старался избежать этого, но, увы, много раз ощущал, насколько непрочно мое положение в этом доме. Возможно, я придаю слишком большую важность женским взглядам и жестам, приписываю им определенное значение, в то время как на самом деле они вызваны лишь каким-нибудь мимолетным капризом? И все же, я уверен, мне не в чем себя винить, да и в любом случае все это скоро закончится.
Нечто подобное я замечал и за самим Каллингвортом. Но он такое загадочное существо, что я никогда не придавал значения переменам его настроения. Иногда он смотрит на меня, как разъяренный бык, но, когда я спрашиваю, в чем дело, он рычит в ответ: «Ни в чем!» и отворачивается. Иногда он, напротив, настолько весел и общителен, что это кажется подозрительным и я начинаю думать, уж не прикидывается ли он. Наверное, ты сейчас думаешь, что я проявляю неблагодарность, отзываясь так о человеке, который столько для меня сделал, да я и сам это чувствую, но я говорю правду, его поведение действительно иногда производит такое впечатление. Хотя все это, конечно же, звучит смешно. Что может заставить его жену и его самого изображать ко мне расположение, если на самом деле его не существует? И все-таки ты, бесспорно, знаешь, каково это, когда тебе улыбаются губами, а не глазами.
Как-то мы зашли в гостиницу «Сентрал» сыграть партию в бильярд. Силы наши примерно равны, так что мы могли бы чудесно провести время, если бы не странности его характера. Весь день он был угрюм, а когда я к нему обращался, делал вид, что не слышит, или же отвечал раздраженно, с недовольной миной. Я решил не доводить дело до выяснения отношений, поэтому не стал поддаваться на его провокации, что не успокаивало, а похоже, злило его еще больше. В конце партии, когда мне не хватало до победы двух очков, я загнал в лузу белый шар, находившийся в самом углу стола. Каллингворт тут же закричал, что это дурной тон. Я возразил, что не воспользоваться такой возможностью, когда решается исход партии, было бы просто глупо, но, поскольку он продолжал отпускать замечания, я обратился к маркеру, который поддержал меня. После этого он разозлился еще больше и неожиданно разразился ужасной бранью в мой адрес. Тогда я сказал:
– Каллингворт, если ты хочешь что-то сказать мне, давай выйдем на улицу. Воспитанным людям не пристало так разговаривать в присутствии маркера.
Он поднял кий, и я подумал, что сейчас он меня им ударит, но он швырнул его на пол, потом бросил маркеру полкроны, и мы пошли на улицу. Там он заговорил своим обычным нагловатым тоном.
– Ну все, Каллингворт, – воскликнул я, – с меня хватит. Я больше не намерен этого терпеть.
Мы стояли в ярком свете витрины магазина. Он посмотрел на меня, потом посмотрел еще раз, словно не зная, на что решиться. У меня чувство было такое, что в любую секунду я мог быть вовлечен в грязную уличную потасовку со своим деловым партнером. Я старался держаться спокойно, но внутренне весь собрался, готовясь отразить атаку. К моему огромному облегчению, он вдруг рассмеялся, вернее сказать, громогласно захохотал так, что люди на другой стороне улицы стали останавливаться, поглядывая на нас, потом взял меня под руку и потащил за собой.
– Ну и характерец у тебя, Манро, – сказал он. – Слушай, да с тобой опасно на улицу выходить. Никогда не знаешь, чего от тебя ожидать. Да уж! Только на меня-то тебе нечего сердиться, я ничего плохого тебе не сделал и не собирался делать. Что ты на меня накинулся, в самом деле?
Я эту небольшую сцену описываю тебе, Берти, для того, чтобы ты представлял себе, как ведет себя Каллингворт, когда у нас с ним доходит до ссор. На ровном месте, без каких-либо видимых причин он вдруг начинает разговаривать самым оскорбительным тоном, а потом, убедившись, что терпение мое на исходе, переводит все в шутку. В последнее время подобные случаи все более учащаются, и, если прибавить к ним еще и перемены в поведении миссис Каллингворт, становится очевидным, что в наших отношениях что-то изменилось. Даю слово, об этом «что-то» я знаю не больше, чем ты. Все это, да еще и неприятная переписка с матерью заставляют меня жалеть о том, что я отклонил предложение из пароходной компании.
Сейчас Каллингворт готовит к выпуску нашу газету. За это дело он взялся со всей присущей ему энергией, однако он слишком мало осведомлен о том, что происходит в городе, чтобы писать об этом, так что вопрос стоит так: удастся ли ему заинтересовать читателей чем-то другим? В настоящее время мы заняты следующим: собираемся выпускать собственную газету, по семь часов в день принимаем пациентов, строим конюшню, а в свободное время работаем над магнитной защитой для кораблей. Каллингворт до сих пор относится к этой идее с огромным воодушевлением. Только прежде, чем идти с ней в Адмиралтейство{168}, хочет максимально усовершенствовать свою конструкцию.
Сейчас он увлекся кораблестроением. В последнее время он занят тем, что изобретает способ сделать борта деревянных кораблей неуязвимыми для артиллерийского огня. О его магнитном улавливателе я много не задумывался, поскольку посчитал, что, даже если его изобретение приобретет ожидаемый успех, все это приведет к тому, что при производстве снарядов станут использовать не сталь, а какой-нибудь другой металл. Однако его новый замысел обещает быть более интересным. Вот суть идеи, как объясняет ее сам Каллингворт. (Последние два дня ни о чем другом он не говорит, поэтому я волей-неволей запомнил его слова.)
«Если повесишь на борта броню, это тебя не спасет, парень, – говорит он. – Прицепи хоть сорок футов стали, я все равно построю такую пушку, которая превратит ее в порошок. После первого же моего выстрела подует ветерок и твои люди задохнутся от кашля. Но! Снаряды не смогут пробить броню, которая опускается после того, как они пролетят. Ты спросишь, какой смысл в такой броне? Она не будет давать воде затекать в корпус судна. Ведь, в конце концов, для корабля это главное. Я назову это „Водонепроницаемый экран Каллингворта“. Ну, что скажешь, Манро? Меньше чем четверть миллиона за эту идею я не возьму. Опускающийся экран наподобие свертывающихся штор будет установлен по всей длине фальшборта{169}, там, где раньше крепились подвесные койки. Он будет разбит на секции шириной, скажем, в три фута. Длина каждой секции будет такой, которая позволит перекрыть корпус судна до самого киля. Дальше. Враг пробивает выстрелом корпус корабля в секции А. Тут же опускается защитная секция А. Это будет всего лишь тонкая штора, плотно прилегающая к корпусу, но этого достаточно, чтобы временно закрыть пробоину. Затем вражеский таран проламывает в корпусе секции B, C, D. Что делать? Идти ко дну? Ничего подобного. Просто опускаем B, C и D-секции „Водонепроницаемого экрана Каллингворта“. Таким же образом можно защититься и от подводных камней. Просто смешно, что до сих пор огромные корабли тонули из-за того, что еще никто не додумался до такого простого способа защиты. Эту идею можно применить и к броненосцам. Выстрел зачастую не пробивает обшивку, а деформирует ее, что и позволяет воде проникать внутрь. И снова на помощь может прийти мой щит».
Вот такое изобретение. Сейчас Каллингворт готовит модель этого устройства из корсета жены. Звучит все это правдоподобно, но, если позволить ему приходить в раж, что угодно начинает звучать правдоподобно.
Мы оба пишем романы, но, боюсь, результат этих трудов не подтвердит его теорию о том, что человеку под силу выполнить любую работу, если на то у него есть желание. Я думал, что у меня выходит довольно неплохо (я написал уже девять глав), но Каллингворт говорит, что все это уже читал раньше и что мне не хватает новизны. Мы должны писать так, чтобы захватить читателя первой же строчкой, говорит он. Очевидно, он полагает, что у него это выходит, хотя мне его сочинения кажутся совершенной галиматьей. Единственным более-менее терпимым местом во всем его романе я считаю окончание первой главы. Коварный старый баронет мошенничает на скачках. Его недавно достигший зрелости сын – наивный молодой человек, который ни о чем не догадывается. Только что получены новости с самой крупной гонки года.
«Сэр Роберт неверной походкой вошел в комнату. Губы его пересохли, лицо было мертвенно-бледным.
– Мой бедный мальчик! – слабым голосом произнес он. – Приготовься услышать худшее!
– Неужели наша лошадь пришла последней? – воскликнул молодой наследник, вскочив с кресла.
Скривившись, словно от боли, старик опустился на ковер.
– Нет, нет! – пронзительно закричал он вдруг. – Она пришла первой!»
Большая часть его текста вообще никуда не годится, и мы пришли к обоюдному согласию, что романисты из нас никудышные.
Но на этом хватит о делах домашних, которые, как ты говоришь, так тебя интересуют. Теперь я должен рассказать о той большой перемене, которая произошла в моей жизни, и о том, что ее вызвало.
Как я уже говорил, Каллингворт с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. Сегодня утром, когда мы шли в свои кабинеты, я вообще не смог добиться от него ни слова. Дом, как всегда, был забит людьми, но на мою долю пациентов пришлось меньше, чем обычно. Закончив с ними, я сочинил очередную главу своего романа и стал дожидаться, пока он с женой приготовится к ежедневной демонстрации проноса мешка с деньгами.
В половине четвертого они были готовы, и в коридоре раздались его шаги, через миг он с грохотом распахнул дверь в мой кабинет. Я сразу понял, что настал момент истины.
– Манро, – выкрикнул он, – эта практика летит к черту!
– То есть как? – не понял я.
– Все разваливается на мелкие кусочки, Манро. Я все просчитал и знаю, о чем говорю. Месяц назад я принимал шестьсот человек в неделю. Потом число пациентов уменьшилось до пятисот восьмидесяти, потом до пятисот семидесяти пяти, а теперь вышло пятьсот шестьдесят. Что скажешь?
– Если честно, я не вижу в этом ничего страшного, – ответил я. – Приближается лето. Люди меньше кашляют, болеют простудой и ангиной. У всех врачей в это время становится меньше пациентов.
– Все это очень хорошо, – заметил он, расхаживая по комнате, засунув руки в карманы и хмуря косматые брови. – Только я считаю, тут дело в другом.
– В чем же, по-твоему, дело?
– В тебе.
– Почему это? – изумился я.
– Ну, – сказал он, – я думаю, ты согласишься, что это довольно странное совпадение (если это совпадение, конечно), что с того дня, как на этом доме появилась вывеска с твоим именем, дела в моей практике стали идти все хуже и хуже.
– Мне очень жаль, если причина действительно в этом, – ответил я. – Чем же, по-твоему, мое присутствие вредит тебе?
– Скажу тебе честно, старина, – он неожиданно улыбнулся; в таких его улыбках я всегда замечал оттенок насмешки. – Понимаешь, многие из моих пациентов – простые деревенские люди, большей частью безмозглые. Но полкроны от безмозглого идиота ничем не хуже любой другой полкроны. Они приходят к двери моего дома и видят две вывески с разными именами. У них отвисают их глупые челюсти, и они говорят друг другу: «А их тут двое. Мы хотим к доктору Каллингворту, но, если мы войдем, нас же могут отправить к доктору Манро», и в конце концов некоторые из них вообще не заходят. А женщины! Женщинам все равно, кто ты, Соломон или вчерашний пациент психушки. Для них важно личное общение. Ты или нравишься им, или не нравишься. Я знаю, как с ними себя вести, но они не пойдут ко мне, если будут думать, что их отправят к кому-то другому. Вот чем я объясняю спад.
– Что ж, это легко исправить, – сказал я, вышел из кабинета и направился вниз.
Каллингворт и его жена пошли за мной следом. Я спустился во двор, взял большой гвоздодер и пошел к парадной двери, Каллингворты не отставали. Подцепив вывеску с моим именем, я сильным рывком отодрал ее от стены. Табличка со звоном полетела на тротуар.
– Все, теперь тебе никто не мешает, – сказал я.
– И чем теперь ты намерен заняться? – спросил Каллингворт.
– О, у меня полно работы. Об этом не беспокойся, – ответил я.
– Проклятье! – воскликнул он, нагнулся и подобрал вывеску. – Неправильно это. Давай поднимемся наверх и обсудим все.
Мы снова вошли в здание. Впереди он с огромной вывеской «Доктор Манро» под мышкой, за ним его миниатюрная жена, а за ней я, совершенно растерянный и сбитый с толку. В кабинете они сели за стол, как ястреб и горлица на одной ветке, а я, засунув руки в карманы, прислонился плечом к камину. Выглядело все совершенно обыденно и непринужденно, но я знал, что в ту секунду решалась моя судьба. До этого мне лишь приходилось выбирать одну из двух дорог, но теперь мой путь неожиданно оборвался, и мне предстояло либо пойти в обратную сторону, либо найти параллельную дорогу.
– Вот что, Каллингворт, – первым заговорил я, – я очень благодарен и тебе, и вам, миссис Каллингворт, за вашу доброту и участие, но я приехал сюда не для того, чтобы доставлять вам хлопоты или портить карьеру. После того, что вы мне рассказали, я считаю, что наша дальнейшая совместная работа невозможна.
– Ну, друг мой, – сказал он, – я и сам склонен думать, что нам будет лучше расстаться. Хетти тоже со мной согласна, только она слишком вежлива, чтобы сказать об этом.
– Будем говорить откровенно, – ответил я. – Мне кажется, мы должны понять друг друга. Если из-за меня пострадала ваша практика, поверьте, мне очень жаль, и я сделаю все, чтобы возместить вам убытки. Мне нечего добавить.
– А дальше чем планируешь заниматься? – спросил Каллингворт.
– Или подамся в море, или начну собственную практику.
– Но у тебя ведь нет денег.
– У тебя тоже их не было, когда ты начинал.
– Ну, я дело другое. Хотя, может, ты и прав. Поначалу тебе придется непросто.
– О, я вполне готов к этому.
– Ну что ж, знаешь, Манро, я чувствую, что в какой-то степени я за тебя в ответе. Ведь это я не так давно отговорил тебя принимать то предложение от пароходной компании.
– Да, жаль, что так вышло, но все равно ведь изменить ничего уже нельзя.
– Но теперь надо решить, как мы можем поправить ситуацию. Вот послушай, что я думаю. Сегодня утром я разговаривал с Хетти, и она со мной согласилась. Мы могли бы давать тебе один фунт в неделю, пока ты не станешь на ноги. Так тебе проще будет начать свое дело, а деньги вернешь, когда сможешь.
– Спасибо, это очень любезно с вашей стороны, – сказал я. – Если вы не требуете немедленного ответа, я бы хотел немного погулять и все обдумать.
Так что сегодня Каллингвортам пришлось самим проносить их денежный мешок через докторский квартал. Я же пошел в парк, сел на скамью, закурил сигару и все хорошенько обдумал. Сначала на меня накатила тоска, но потом приятный воздух, запах весны и начавших распускаться цветов снова вернули мне хорошее настроение. Прошлое письмо я начинал писать, глядя на звезды, а это хочу закончить в окружении цветов, потому что, когда у человека скверно на душе, он редко имеет таких спутников. Большинство приятных вещей в этом мире – от женской красоты до вкуса персика – являются своего рода приманкой, нужной Природе для того, чтобы соблазнять своих глупых пескарей. Люди ведь должны есть, должны размножаться, вот они и устремляются по указанной дорожке, думая, что доставляют себе удовольствие. Но за запахом и красотой цветов не скрывается никаких крючков, они прекрасны просто так, без всякого затаенного смысла.
Итак, я сидел в парке и думал. Вряд ли Каллингворт поднял тревогу из-за такого мизерного уменьшения количества пациентов. Нет, из-за этого он не стал бы отстранять меня от своей практики. Несомненно, я каким-то образом стал мешать ему в его домашней жизни, а работа – не более чем благовидный предлог, необходимый, чтобы отделаться от меня. Как бы то ни было, с моими мечтами об успешной карьере хирурга, которая развивалась бы параллельно с его медицинской практикой, можно было распрощаться навсегда. По большому счету, учитывая недовольство матери и не прекращающиеся последние несколько недель ссоры с ним, нельзя сказать, чтобы я был сильно огорчен. Напротив, где-то поглубже диафрагмы я неожиданно почувствовал приятное щекотание. Стая грачей, галдя, пролетела у меня над головой, и меня вдруг накрыло теплой волной счастья.
По дороге домой я задумался над тем, как мне ответить на предложение Каллингворта. Деньги это небольшие, но было бы безумием отказываться от них, ведь все, что мне удалось накопить, работая у Хортона, я отправил домой. Всего у меня за душой было шесть фунтов. Подумав, я пришел к выводу, что для Каллингворта при его огромных доходах эта сумма не делала погоды, в то время как для меня это были большие деньги. Вернуть их ему я смогу самое меньшее через год. А может быть, мне повезет, и я вообще смогу обходиться без его помощи. Действительно, только из-за его посулов относительно моей карьеры в Брадфилде я отклонил выгодное предложение пароходной компании. Следовательно, если я какое-то время буду принимать его помощь, в этом не будет ничего зазорного. Дома я объявил ему, что принимаю его предложение и одновременно поблагодарил за великодушие.
– Да, ерунда, – легкомысленно произнес он. – Хетти, дорогуша, принеси бутылку вина, выпьем за успех нового начинания Манро.
Кажется, только вчера он пил за начало нашей совместной работы, и вот мы той же компанией пьем за ее окончание! Боюсь, что на этот раз оба мы были более искренни.
– Мне нужно решить, где начинать, – заметил я. – Меня бы, конечно, больше всего устроил какой-нибудь маленький городок, в котором все жители богатые и больные.
– Здесь, в Брадфилде, ты не захочешь обосноваться? – спросил Каллингворт.
– Не вижу в этом смысла. Если я мешаю тебе как партнер, как конкурент я буду мешать тебе еще больше. Если дела у меня пойдут в гору, ты от этого пострадаешь в первую очередь.
– Что ж, – согласно произнес он, – выбирай город, а мое предложение остается в силе.
Мы нашли атлас и расстелили на столе карту Англии. От бесчисленных городов и сел у меня зарябило в глазах, но ничто не могло помочь мне остановить выбор на каком-то одном из них.
– Я считаю, это должно быть более-менее крупное место, чтобы у тебя была возможность развиваться, – заметил он.
– И не слишком близко к Лондону, – добавила миссис Каллингворт.
– А главное, чтобы я там никого не знал, – сказал я. – Сам-то я могу смириться с неудобствами, но не хотелось бы ударить лицом в грязь, если ко мне начнут ходить гости.
– Что скажешь о Стоквелле? – Каллингворт показал янтарным мундштуком на городок в тридцати милях от Брадфилда.
Я впервые слышал это название, но поднял бокал.
– За Стоквелл! – воскликнул я. – Завтра утром съезжу туда на разведку.
Мы выпили, и ты, несомненно, поддержишь этот тост у себя в Лоуэлле. Можешь быть уверен, я пришлю тебе самый полный и подробный отчет о том, чем это закончится.
X Кадоган-террас, 1, Берчспул, 21 мая, 1882.
Дорогой мой друг, за это время много чего произошло, и я должен рассказать тебе обо всем подробно. Дружба – странная вещь. Вот мы с тобой не встречаемся, но я знаю, что ты у себя в Новой Англии{170} не забываешь обо мне и что тебе интересно знать, как я живу и что думаю, и от одной мысли об этом моя жизнь здесь, в старой Англии становится намного интереснее. Ты для меня что-то вроде опоры.
Моя жизнь так наполнена неожиданностями, что они уже как бы перестают ими быть. Как ты знаешь из моего прошлого письма, я лишился работы и собирался ехать в небольшой провинциальный городок Стоквелл, дабы узнать, подходит ли он для того, чтобы начать там практику. И вот утром перед завтраком, когда я собирал вещи, раздался робкий стук в дверь, и в комнату вошла миссис Каллингворт. Она была в длинной домашней кофте и с распущенными волосами.
– Вы не могли бы спуститься к Джеймсу, доктор Манро? – с тревогой в голосе произнесла она. – Он всю ночь был какой-то странный. По-моему, он заболел.
Я спустился к Каллингворту. С красным лицом и каким-то безумным блеском в глазах он сидел на кровати, ворот его ночной сорочки был распахнут и обнажал волосатую грудь. На одеяле перед ним лежали лист бумаги, карандаш и ртутный градусник.
– Чертовски интересная штука, Манро, – сказал он. – Иди посмотри на этот график изменения температуры. После того как я понял, что не могу заснуть, я стал каждые полчаса ее измерять. Она то подскакивает, то падает. Теперь это похоже на изображение гор в книгах по географии. Нужно будет привезти какие-нибудь лекарства, и, черт возьми, мы совершим революцию в лечении лихорадки! Я напишу книгу на основании личного опыта, после которой старые медицинские книги уже никому не будут нужны. Им останется разорвать их все и заворачивать в них бутерброды.
Он говорил быстро и неразборчиво, как человек, который чувствует приближение беды. Я посмотрел на его график. Температура у него доходила до 102 градусов[33]. Я пощупал пульс и услышал настоящий барабанный бой, лоб у него горел огнем.
– Есть какие-нибудь симптомы? – спросил я, садясь рядом с ним на кровать.
– Язык похож на терку, – сказал он и для наглядности высунул его изо рта. – Фронтальные головные боли, резь в почках, отсутствие аппетита, в левом локте такое ощущение, будто там сидит мышь и грызет его изнутри. Пока все.
– Все понятно, Каллингворт, – сказал я. – Это ревматизм. Тебе придется немного полежать.
– Какое там полежать! – закричал он. – Меня сегодня ждут сотни людей. Друг мой, да если бы я даже лежал на смертном одре, я бы все равно встал и пошел туда. Я не для того создавал эту практику, чтобы позволить нескольким унциям молочной кислоты{171} разрушить ее.
– Ну что ты, Джеймс, создашь новую, – мягко проворковала его жена. – Ты должен делать то, что велит доктор Манро.
– Вот что, – сказал я. – И за тобой нужен уход, и практику твою нельзя бросать. Я готов взять на себя и первое, и второе. Но при одном условии: ты дашь слово делать то, что я буду говорить.
– Если уж меня нужно лечить, то кроме тебя, дружище, это делать некому, – сказал он, – потому что, если бы я даже лежал брюхом кверху на главной площади, тут никто бы не подошел ко мне. Местные врачи для меня готовы разве что свидетельство о моей смерти подписать. Точно, если бы они взялись меня лечить, они бы выписали мне соль со щавелевой кислотой. Но я все равно должен на работу съездить.
– Это исключено. Ты знаешь, какие могут быть осложнения. У тебя появятся эндокардит{172}, эмболия{173}, тромбоз{174}, метастатические абсцессы{175}… Чем это грозит, ты знаешь не хуже меня.
Рассмеявшись, он повалился на подушку.
– Благодарю покорно, лучше уж пусть эти осложнения появляются по одному, – воскликнул он. – Я не такой жадный, чтобы хотеть заполучить их все сразу… Да-а-а, Манро… – Все четыре ножки кровати затряслись от его хохота. – Хорошо, делай то, что считаешь нужным, но смотри, чтоб никаких глупостей на моей могиле, если что-нибудь случится. Положишь туда хоть один камушек, я явлюсь к тебе посреди ночи и воткну его тебе в ребра.
Прошло почти три недели, прежде чем мы смогли поставить его на ноги. Каллингворт оказался не таким уж плохим пациентом, только он значительно усложнил лечение тем, что постоянно вливал в себя всякие лекарства и глотал разные порошки, экспериментируя с собственными симптомами. Утихомирить его казалось невозможным, и единственное, что могло заставить его не вставать с кровати, – это разрешение заниматься той работой, которую он был в состоянии выполнять.
Он много писал, строил модели своего водонепроницаемого экрана и стрелял из пистолетов по магнитной ловушке, которую укрепил над каминной доской. Впрочем, природа одарила его стальным телом, так что он переносил болезнь легче и шел на поправку намного быстрее, чем самые послушные из больных.
Тем временем миссис Каллингворт и я вместе занимались практикой. В качестве замены ему я полностью провалился. Никто из пациентов в меня не верил, я чувствовал, что для них я как чистая вода после шампанского. Я не кричал на них с лестницы, не расталкивал очереди, не давал предсказания анемичным{176} женщинам. Я был слишком серьезен и спокоен по сравнению с тем, к чему они привыкли. Но я старался изо всех сил, и не думаю, что, когда он снова вернулся к практике, она оказалась в худшем состоянии, чем если бы он сам ею занимался. Я не мог позволить себе опуститься до методов, которые считаю непрофессиональными, но все же мне удалось удержать ее на плаву.
Зная, что я просто ужасный рассказчик, я всего лишь хочу, чтобы мой рассказ как можно больше соответствовал истине. Если бы я только знал, как его приукрасить, тебе бы, наверное, было не так скучно все это читать. Когда я пишу о чем-то одном, я еще могу кое-как с этим справиться, но, когда приходится вводить вторую сюжетную линию, тут я начинаю понимать, как прав К., говоря, что пером имени себе я не заработаю.
Вторая сюжетная линия здесь – это письмо матери, которое я написал в тот же день, что и последнее письмо тебе. Я сказал ей, что теперь между нами не будет непонимания, поскольку уже все решено и я немедленно расстаюсь с Каллингвортом. Потом, после некоторого перерыва, мне пришлось сообщить ей, что мой отъезд откладывается на неопределенное время, и более того, теперь я веду его практику. Что сказать, старая добрая леди была очень недовольна. По-моему, она не совсем поняла, какая крайняя необходимость заставила меня изменить свои планы, что я просто не мог покинуть Каллингворта в беде. Почти три недели от нее не было ни строчки, потом пришло очень едкое письмо (надо сказать, она, когда хочет, может быть довольно выразительной в употреблении прилагательных). Она даже назвала Каллингворта «бессовестным проходимцем» и заявила, что, продолжив общение с ним, я втоптал честь нашей семьи в грязь. Это письмо пришло утром самого последнего дня, когда мой пациент должен был оставаться дома. Вернувшись с работы, я застал его внизу. Он в халате сидел в гостиной вместе с женой. Поздравив его с тем, что он снова может браться за работу, я, к своему удивлению, заметил, что настроение его (которое во время болезни оставалось самым радужным) сделалось таким же мрачным, как и до нашего последнего объяснения. Жена его тоже избегала смотреть мне в глаза и, обращаясь ко мне, говорила стальным голосом.
– Да, завтра я возвращаюсь, – произнес он. – Сколько я тебе должен за помощь?
– Ну, что ты, это же входило в круг моих обязанностей, – ответил я.
– Спасибо, но я бы хотел по-деловому решить этот вопрос, – сказал он и добавил: – Чтобы знать, чего ожидать в будущем. Однако услуга – вещь такая, которую трудно оценить. Сколько ты хочешь?
– Я пока об этом как-то не думал.
– Так подумай сейчас. Временный заместитель обошелся бы мне в четыре гинеи в неделю. За четыре недели – шестнадцать. Пусть будет двадцать. Я обещал давать тебе фунт в неделю с тем, чтобы ты их потом вернул. Я положу их на твой кредитный счет, и ты будешь получать их каждую неделю.
– Спасибо, – сказал я. – Раз уж тебе хочется, чтобы все это выглядело так официально, пожалуйста.
Я и тогда не понимал, и до сих пор не понимаю, что могло произойти. Думаю, они до моего прихода обсудили ситуацию и пришли к выводу, что я возомнил, будто теперь все снова будет как раньше, и решили напомнить мне, что я должен покинуть их. Могли бы сделать это и поделикатнее.
Короче говоря, в тот же день, когда Каллингворт вернулся к своей практике, я выехал в Стоквелл, взяв с собой только сумку с самым необходимым, поскольку это была лишь своего рода разведывательная экспедиция и я собирался вернуться за своими вещами, если бы увидел, что там есть на что надеяться. Увы! Ничего подобного я не увидел. Вид этого места способен охладить пыл даже самого жизнерадостного из людей. Это один из тех живописных английских городков, которые не примечательны ничем, кроме своей истории. Древнеримский ров и норманнская крепость{177} – вот что привлекает сюда туристов, за счет которых и живут местные обитатели. Однако меня больше всего поразило то, что этот городок был просто-таки наводнен врачами. На главной улице буквально на каждом доме в два ряда висели медные таблички с их именами. Я представить себе не мог, где они находят клиентов, разве что лечат друг друга. Трактирщик в «Быке», куда я зашел перекусить, несколько прояснил ситуацию. Он рассказал, что здесь вокруг миль на двенадцать нет ни одной деревни, и поэтому в Стоквелл съезжаются все обитатели разбросанных по округе ферм. Пока я беседовал с ним, мимо трактира прошел средних лет мужчина в запыленных башмаках.
– Это доктор Адам, – указал на него трактирщик. – Он у нас человек новый, но говорят, что когда-нибудь он будет в карете разъезжать.
– Что вы имеете в виду, говоря «новый»? – поинтересовался я.
– О, да он всего лет десять как приехал, – ответил хозяин трактира.
– Благодарю вас, – сказал я. – Не подскажете, во сколько ближайший поезд до Брадфилда?
В общем, вернулся я с тяжелым сердцем. Двенадцать шиллингов на поездку были потрачены зря. Однако это показалось мне не такой уж страшной потерей, когда я подумал о том перспективном стоквелльском враче в запыленных башмаках и с десятью годами практики за спиной. Я, конечно, готов преодолевать трудности на пути к успеху, но храни меня судьба от подобного cul-de-sac[34]!
Каллингворты встретили меня без особой радости. У них обоих был одинаковый взгляд, говоривший, как мне показалось, о том, что они очень сожалеют, что им не удалось от меня отделаться с первого раза. Если вспомнить, какими веселыми и общительными они были всего пару дней назад, я не могу себе представить, что могло так сильно повлиять на их отношение ко мне. Я напрямую спросил Каллингворта, что все это значит, но в ответ он лишь принужденно рассмеялся и что-то пробормотал насчет того, что у меня слишком тонкая кожа. Я считаю себя человеком, менее всего склонным обижаться по пустякам, и все же я твердо решил покончить с этим всем раз и навсегда и немедленно уехать из Брадфилда. Когда я возвращался из Стоквелла, мне в голову пришла мысль, что Берчспул мог бы стать неплохим местом для начала самостоятельной практики. Поэтому на следующий же день, собрав все свои вещи, я наконец распрощался с Каллингвортами.
– Можешь рассчитывать на меня, парень, – сказал он с оттенком былой приязни, когда мы жали руки на прощание. – Заведи хороший дом в центре города, повесь табличку и зубами держись за свое место. Пока не обзаведешься связями, бери мало или вообще ничего и, если не хочешь сразу прогореть, всегда веди себя уверенно. Я как-нибудь к тебе наведаюсь, прослежу, чтоб ты не замерз из-за того, что тебе угля не за что будет купить.
Итак, выслушав это доброе напутствие, я оставил их на платформе брадфилдского вокзала. Не правда ли, теплые слова? И все же меня очень сильно тревожит мысль об этих деньгах. Я бы с радостью отказался от них, если бы знал, что смогу заработать себе на хлеб и кров. Но отказаться от них сейчас было бы равносильно тому, чтобы сбросить с себя спасательный пояс, не умея плавать.
По дороге в Берчспул у меня было много времени на то, чтобы обдумать виды на будущее и свое нынешнее положение. Мой багаж состоял из медной вывески, небольшого кожаного чемодана и шляпной коробки. Вывеску со своим именем я положил на полку у себя над головой. В чемодане лежали стетоскоп, несколько книжек по медицине, сменная пара обуви, два костюма, белье и туалетные принадлежности. С этим набором и пятью фунтами восемнадцатью шиллингами, оставшимися в моем кошельке, я ехал в неизвестность, для того чтобы завоевать право жить за счет своих сограждан и освободить еще больше места для посетителей в приемных Каллингворта. Но в этом, по крайней мере, была надежда на какое-то постоянство; если мне предстояло узнать на своем опыте, что такое нищета и невзгоды, моя новая жизнь сулила мне и свободу. Леди Солтайр не будет задирать передо мной нос из-за того, что у меня есть собственный взгляд на вещи, Каллингворт не будет ни с того ни с сего налетать на меня. Я буду принадлежать только себе… Себе и никому больше. Я вскочил и стал взволнованно расхаживать по купе. В конце концов, передо мной ведь открывается весь мир, и терять мне совершенно нечего. Я молод, силен, энергичен, в голове у меня собраны все медицинские знания, доступные сегодня человеку. Меня охватила такая радость, будто в конце пути меня ждала уже готовая практика.
Проехав пятьдесят три мили, я сошел в Берчспуле около четырех часов вечера. Тебе название этого города, скорее всего, ничего не говорит, да и сам я, пока не оказался здесь, не знал о Берчспуле ровным счетом ничего, но теперь мне известно, что живет в нем сто тридцать тысяч душ (примерно столько же, сколько в Брадфилде), это тихий промышленный городок, расположенный в часе езды от моря, здесь имеется аристократический западный пригород с минеральным источником, и места, окружающие его, удивительно красивы. Он достаточно мал, чтобы иметь собственный характер, и достаточно велик, чтобы в нем можно было предаться уединению. После деревни, где вся жизнь напоказ, это одна из самых приятных особенностей жизни в городе.
Оказавшись на платформе с медной вывеской, чемоданом и шляпной картонкой, я первым делом сел и задумался над тем, каким будет мой первый шаг на новом месте. Теперь для меня будет важен каждый пенни, и мне нужно продумать свои дальнейшие действия в соответствии с мизерной толщиной моего кошелька. Пока я сидел, погруженный в раздумья, произошло нечто неожиданное. С дальнего от меня конца станции вдруг донесся возбужденный гомон голосов, и затрубил оркестр. На противоположную платформу начали строем заходить сначала пионеры{178}, а за ними первые шеренги военного полка. Они были в белых широкополых шляпах от солнца и собирались ехать на Мальту{179} дожидаться начала войны в Египте{180}. Все это были молодые люди, англичане, судя по белой отделке мундиров. Их сопровождал полковник с усами до плеч и большое количество бойких длинноногих младших офицеров. Мне больше всего запомнился один из сержантов-знаменщиков, богатырского телосложения мужчина со свирепым лицом. Он опирался на свою «Мартини»{181}, и из его ранца с двух сторон выглядывали два маленьких белых котенка. Вид этих молодых солдат, едущих воевать за свою родину, так меня тронул, что я вскочил на свой чемодан, сорвал с головы шляпу и прокричал троекратное ура. Сначала люди, сидевшие рядом со мной, повернули на меня свои пустые лица (напомнив мне коров, выглядывающих над оградой стойла), потом несколько голосов поддержали меня, а потом и вся станция огласилась приветственными криками. После этого я развернулся и пошел своей дорогой, а эти юные солдаты – своей. Интересно, кого из нас ожидает более жестокое и долгое сражение?
Я оставил багаж в камере хранения, а сам запрыгнул в трамвай, проезжавший мимо вокзала, намереваясь найти себе подходящую съемную комнату, посчитав, что это будет дешевле, чем снимать номер в гостинице. Кондуктор очень искренне поинтересовался моими делами, заставив меня думать, что небогатые слои английского общества – одни из добрейших людей на свете. Полицейские, почтальоны, проводники поездов, водители омнибусов – какие же это добрые и отзывчивые люди! Узнав, что я ищу жилье, он тут же рассказал, что улица, по которой мы проезжали, считалась в их городе главной, но дорогой, а следующая была расположена дальше от центра, но комнаты там дешевые. Наконец он высадил меня на средней запущенности улочке, посоветовав присмотреться к ней повнимательнее. Это место называлось Кадоган-террас, и было видно, что обитатели ее живут небогато, но стараются не выставлять этого напоказ.
На отсутствие выбора я пожаловаться не мог, поскольку таблички с надписями «сдается» и «внаем» стояли чуть ли не в каждом втором окне. Я зашел в первый же привлекший мое внимание дом и поговорил с его хозяйкой, туповатой, но хваткой старой леди. Совмещенная спально-гостиная комната стоила тринадцать шиллингов в неделю. Поскольку никогда раньше мне не приходилось снимать жилье, я понятия не имел, дешево это или дорого. Думаю, дорого, потому что, как только я для проверки удивленно поднял брови, она сразу же сбавила цену до десяти шиллингов шести пенсов. Я попробовал еще раз изобразить удивление, даже переспросил, мол, не ослышался ли, но, поскольку больше уступать она не захотела, я заключил, что это нижний предел.
– А в комнатах у вас чисто? – спросил я, так как заметил, что стены в доме обшиты деревянными панелями, а это могло говорить о чем угодно.
– Чисто, сэр.
– Насекомых нет?
– У меня останавливаются офицеры из гарнизона.
Ее ответ заставил меня задуматься. Звучало это не очень обнадеживающе, но я понял так, что, поскольку этих джентльменов они устраивают, в чистоте ее комнат можно не сомневаться. Итак, сделка была заключена, я попросил через час сделать мне чай, а сам отправился на вокзал за вещами. Носильщик донес мои вещи за восемь пенсов (четыре пенса экономии на кебе, друг мой!), и вот я оказался в самом сердце Берчспула, имея в своем распоряжении опорный пункт для начала новой карьеры. Я посмотрел в маленькое окошко своей комнатки, увидел черные трубы и серые покатые крыши, между которыми торчала пара-тройка шпилей, вызывающе помахал им чайной ложечкой и произнес: «Ну что, посмотрим, кто кого?»
Бьюсь об заклад, ты не поверишь, что человек, попавший в незнакомый город, в первый же день может угодить в историю, но со мной это произошло. Ничего особенного, конечно, но поволноваться мне пришлось. Все это больше похоже на случай из какой-нибудь книги, но, даю тебе слово, все было именно так.
Допив чай, я написал пару писем (одно Каллингворту и одно Хортону), после чего, благо погода тем вечером была прекрасной, решил выйти и пройтись по городу, посмотреть на место, куда забросила меня судьба. Для первого выхода нужно выглядеть так, как ты собираешься выглядеть потом все время, подумал я, поэтому надел сюртук, водрузил на голову тщательно начищенный цилиндр и, прихватив свою солидную трость с металлической ручкой, отправился на прогулку.
Я прогулялся до парка, который считается самым центром города, и пришел к выводу, что мне понравилось все, что я увидел по дороге. Вечер был чудесный, воздух чистый и приятный. Примерно час я просидел на скамье, слушая оркестр, рассматривая отдыхающих и борясь с ощущением одиночества. Музыка почти всегда наводит на меня грусть, поэтому, почувствовав, что больше не вынесу, я встал и отправился в обратный путь. В целом Берчспул произвел на меня впечатление города, в котором вполне можно прожить спокойную счастливую жизнь.
С одной стороны Кадоган-террас (где я снимаю комнату) выходит на небольшую площадь, на которой встречаются несколько улиц. В самой ее середине на широком каменном пятачке высотой примерно фут, а шириной футов десять-двенадцать стоит фонарный столб. И вот, выйдя на эту площадь, я увидел, что у этого столба что-то происходит. Вокруг него собралась толпа, внутри которой было заметно какое-то движение. Я, конечно же, совершенно не собирался встревать ни в какие драки, но не смог удержаться от того, чтобы протиснуться в толпу и посмотреть, что же там делается.
Картина была неприятная. Я увидел женщину, грязную, в обносках, с маленьким ребенком на руках, на которую наседал дородный детина, муж, судя по тому, как он к ней обращался. Это был один из тех краснолицых темноглазых людей, которые могут выглядеть очень угрожающе, если захотят. Мне все стало понятно: он напился в каком-то притоне, она попыталась его оттуда вытащить, за что он и набросился на нее. Я как раз подоспел вовремя, чтобы увидеть, как он, не обращая внимания на неодобрительный гул толпы, ударил ее кулаком и, пошатываясь, пошел вперед с явным намерением продолжить избиение. Из толпы послышались крики «Как вам не стыдно! Что же это творится!», но никто не вмешивался.
В прежние студенческие дни, Берти, я бы сразу же ринулся на защиту несчастной женщины, как ты или любой другой из наших знакомых. Кулаки у меня сжались, но мне нужно было думать о том, кто я, где нахожусь и с какой целью приехал в этот город. И все же существуют вещи, которые ни один настоящий мужчина не может стерпеть. Я сделал пару шагов вперед, положил руку на плечо этого негодяя и самым примирительным и доброжелательным голосом, на который был способен, произнес: «Ну ладно, ладно, парень, хватит! Возьми себя в руки».
Но вместо того, чтобы «взять себя в руки», он чуть не сбил с ног меня. Я на какую-то секунду замешкался, он же резко повернулся и ударил меня по горлу чуть ниже подбородка. Признаться, это заставило меня пару раз сглотнуть, но, каким бы неожиданным ни был этот выпад, я успел нанести встречный удар. Это произошло даже неосознанно, любой, кто хоть как-то знаком с боксом, знает, как это бывает. Удар был легкий, от плеча, вес тела не участвовал, но этого хватило, чтобы на какое-то время удержать его на расстоянии, и я смог перевести дыхание. А потом он бросился на меня, толпа вокруг тут же пришла в возбуждение, окружила нас плотным кольцом. Со всех сторон раздались восторженные вопли, крики «Давай, давай!», «Покажи ему, коротышка!». Люди уже забыли о том, что послужило причиной стычки, они видели лишь то, что мой противник на два дюйма ниже меня ростом. Вот так, дорогой Берти, спустя несколько часов после приезда я, в сползшем на самые уши цилиндре, парадном сюртуке и лайковых перчатках, оказался втянутым в драку с каким-то красномордым здоровяком в самом оживленном месте города посреди беснующейся толпы зрителей, настроенных явно против меня. Ну не злая ли шутка судьбы?!
Каллингворт до моего отъезда говорил мне, что Берчспул – довольно оживленное место. Через несколько минут мне начало казаться, что это самое оживленное место из всех, которые мне когда-либо доводилось видеть. Противник мой был правшой, но он оказался так силен, что следить за ним нужно было очень внимательно. Боковой удар, как ты знаешь, опаснее прямого, если он достигает цели, поскольку угол челюсти, ухо и висок – это три самых слабых места на голове. Разумеется, я в первую очередь следил за тем, чтобы отбить его удары, но мне приходилось думать еще и о том, чтобы не сильно травмировать его. Он пошел в атаку, наклонив голову, и я, как дурак, разбил руку о его непробиваемый череп. Конечно же, теоретически мне следовало либо отступить назад и попытаться подрезать его, либо взять его в захват левой рукой, но должен признаться, что в ту секунду еще не отошел от полученного удара и неожиданности, с которой все это завертелось. Однако я постепенно приходил в себя и наверняка продолжил бы поединок более грамотно, если бы он не завершился самым внезапным и неожиданным образом. И произошло это из-за того, что толпа вокруг нас пришла в слишком сильное возбуждение. Задние ряды зрителей, желая получше рассмотреть, что происходит, стали напирать на передние, пока несколько человек (по-моему, среди них даже была и какая-то женщина) не повалились прямо на нас. Один из них, грубый, похожий на моряка парень в вязаном свитере оказался между нами, и мой противник, ослепнув от ярости, ударил его свингом в ухо{182}. «Что? Ах ты …!» – взревел моряк и в ту же секунду с воодушевлением принялся молотить обеими руками моего красавца. Подняв свою трость, которая валялась под ногами, я стал пробиваться сквозь толпу. Конечно, вид у меня был довольно растрепанный, но в целом я был рад, что отделался так дешево. По тем крикам, которые я все еще слышал, когда дошел до своего дома, я понял, что свалка продолжается.
Как видишь, только благодаря счастливому случаю мое первое знакомство со своими будущими клиентами в Берчспуле не закончилось в полицейском участке. Здесь поручиться за меня некому, так что, если бы меня арестовали, я бы оказался в одинаковом положении со своим противником. Уверен, ты думаешь, что я повел себя глупо, но скажи на милость, как я мог поступить в той ситуации иначе? Сейчас я не чувствую ничего, кроме одиночества. Ты счастливый человек, потому что у тебя есть жена и ребенок!
Я все больше и больше начинаю убеждаться в том, что и мужчины, и женщины, до тех пор пока они одиноки, остаются неполными, несовершенными, увечными существами. Как бы они ни старались убедить себя, что счастливы в таком положении, их все равно преследует смутное ощущение беспокойства, неясное и плохо определимое чувство неудовлетворенности, их мысли и поступки начинают сводиться к заботе исключительно о себе. Одинокий человек – существо половинчатое, естество которого требует соединения со второй половиной. Соединившись, они образуют полное и симметричное целое, дополняют друг друга там, где у каждой из половинок есть какая-то слабина. Я часто думаю, что, если после смерти наши души не умирают (в чем я уверен, хотя основания для моей уверенности коренным образом отличаются от твоих), то каждая мужская душа соединяется или сливается с женской душой, чтобы принять совершенную форму. Так же считал и старик мормон{183}, если помнишь, и идею эту он использовал для привлечения новых сторонников в свою веру. «Железнодорожные акции на тот свет вы с собой не возьмете, – говорил он. – Но жены и дети наши помогут нам начать новую жизнь».
Я думаю, читая эти строки, ты, имеющий за спиной два года супружеской жизни, улыбаешься. Но пройдет еще немало времени, прежде чем я сам смогу воплотить свои идеи в жизнь.
Что ж, до свидания, мой дорогой друг. Как я сказал в начале письма, мысль о тебе успокаивает меня, и именно сейчас, когда я оказался один в незнакомом городе, без надежды на успех и с тревогой на душе, я это чувствую как никогда. Мы с тобой различаемся, как полюса, и, сколько я тебя помню, всегда были такими. Ты признаешь веру, я – разум; для тебя главное то, во что верили твои родители, для меня – мои собственные мысли; но дружба наша доказывает, что истинная суть человека и его способности сближаться с другими людьми определяются вовсе не его взглядами на отвлеченные вопросы. Могу сказать совершенно искренне, мне бы очень хотелось сейчас видеть тебя перед собой, со старой трубкой из кукурузного початка в зубах на поскрипывающем кресле, обитом американской кожей, с жуткой салфеткой на спинке. Если бы ты все время не повторял, что тебе интересно знать, как я живу, я бы ни за что не осмелился занимать твое внимание рассказами об этом. Сейчас будущее представляется мне очень туманным. Первое, что мне теперь предстоит сделать, это подыскать дом поприличнее, а второе – убедить его хозяина позволить мне его занять без предварительной оплаты. Займусь этим прямо завтра с утра, когда что-то прояснится, сразу же напишу тебе. Между прочим, знаешь, от кого я недавно получил письмо? От Арчи Маклэгана. Конечно же, он просит денег. Ты сам можешь судить, какие мне предстоят расходы, но я, поддавшись душевному порыву, послал ему десять шиллингов, о чем сейчас горько сожалею.
С наилучшими пожеланиями тебе и всем твоим, включая твой город, твой штат и твою великую страну.
Как всегда, искренне твой.
XI Окли-виллас, 1, Берчспул, 29 мая, 1882.
Берчспул – действительно прекрасное место, дорогой Берти. После того как я за последние семь дней добрую сотню миль прошел по его улицам, мне это известно, как никому другому. Его минеральные источники были довольно популярны лет сто назад, и в нем еще сохранились следы аристократического прошлого, которые он несет с гордостью, как французская графиня в изгнании, надевающая увядшее платье, которое когда-то покоряло Версаль. Я забыл про новые шумные пригороды с их растущими заводами и богатеющими обитателями и живу в этом странном благодатном для здоровья старом городе. Эти места давно перестали привлекать к себе аристократическую публику, но наводящие на грустные мысли остатки былой респектабельности еще кое-где заметны. На Хай-стрит на оградах сохранились длинные железные гасители, в которых факельщики гасили огонь, вместо того чтобы затаптывать его или тушить о дорогу, как это было принято в кварталах победнее. На этой улице очень высокие бордюры, которые нужны были для того, чтобы какая-нибудь леди Тизл или миссис Снирвел могла выйти из кареты или паланкина{184}, не запачкав свои изящные атласные туфельки. Меня это наводит на мысли о том, каким изменчивым химическим соединением является человек. Декорации остались теми же, но все актеры, когда-то выступавшие на этой сцене, уже распались на водород, кислород, азот и углерод с примесью железа, кварца и фосфора. Поднос с кучкой химикатов и три ведра воды – вот материал, из которого состояла моя леди в паланкине! Довольно любопытная двойная картинка получается, когда представляешь себе это. С одной стороны, высокородные денди, чопорные леди и коварные придворные, строящие козни, плетущие интриги и подсиживающие друг друга для достижения своих жалких целей. Но вот проходит сто лет. Что это там в углу старого склепа? Жировоск{185}, холестерин{186}, соли угольной и серной кислоты, трупный яд. Мы в отвращении отворачиваемся и уходим, не задумываясь о том, что носим в себе все это каждый день.
Однако не забывай, Берти, что я очень уважаю человеческое тело и считаю, что священники и богословы незаслуженно презирают его. «Бренная оболочка», «оковы плоти» – на мой взгляд, эти выражения скорее богохульны, чем богоугодны. Вряд ли Творца может порадовать подобное отношение к творению рук Его. Какой бы теории или веры мы ни придерживались в отношении души, я полагаю, не может быть сомнения в том, что тело вечно. Вещество, из которого оно состоит, может изменять форму (и в этом случае может быть изменено в обратную сторону), но уничтожить его невозможно. Если наш шарик столкнется с какой-нибудь кометой и развалится на миллиарды частей, которые разнесет по всей солнечной системе, или же если ее огненное дыхание слижет с Земли верхнюю оболочку, сделав ее похожей на чищеный апельсин, все равно и через сотни миллионов лет каждая из мельчайших частиц, составляющих наши тела, будет продолжать существовать… В иной форме, в иных сочетаниях, это верно, но тем не менее это будут те же атомы, из которых состоит указательный палец, которым ты сейчас водишь по этим строчкам. Это похоже на игру ребенка с деревянными кубиками. Он строит из них стену и разваливает ее, потом строит башенку и снова разваливает. Так может продолжаться бесконечно, но кубики-то остаются все те же.
Но как быть с нашей личностью? Интересно, не несут ли в себе наши атомы какую-то частицу ее… Будет ли пыль от Джонни Манро чем-то похожа на него, будет ли она отличаться от пыли Берти Суонборо? Наверное, мы все-таки оставляем собственный отпечаток на атомах, составляющих наши тела. Есть факты, которые свидетельствуют о том, что каждая из крошечных органических клеток, из которых состоит человек, похоже, несет в своем микрокосме точную копию того существа, частью которого она является. Яйцеклетка, из которой все мы появляемся, как тебе известно, настолько мала, что ее нельзя пронзить кончиком даже самой острой иглы, и все же в этом микроскопическом шарике заложены силы, позволяющие воспроизвести не только внешние черты двух разных людей, но даже их привычки, манеру поведения и мышления. Значит, если одна клетка может вмещать в себя так много, то и молекулы и атомы могут являться чем-то большим, чем мы их считаем.
Тебе когда-нибудь приходилось самому исследовать дермоидную кисту{187}? Нам с Каллингвортом перед его болезнью выпала такая возможность, и нас обоих это очень взволновало. Мне это показалось чем-то похожим на маленькую щелку, через которую можно подсмотреть за работой природы. В том случае к нам обратился мужчина, работающий в почтовом отделении, с опухолью над бровью. Мы вскрыли ее, посчитав, что это нарыв, и обнаружили внутри волосы и рудиментарную челюсть с зубами. Ты знаешь, что в хирургии такие случаи нередки, и в любом музее анатомии есть подобные экспонаты. Но о чем нам это говорит? Такое необычное явление должно иметь глубокий смысл, и заключается он, как мне кажется, в том, что каждая клетка тела содержит в себе скрытую силу, позволяющую воспроизвести весь организм. И иногда, при определенном стечении обстоятельств, происходит некое возбуждение нервов или сосудов, которое приводит к тому, что механизм включается и один из этих микроскопических элементов конструкции совершает подобную попытку.
Но в какие дебри меня занесло! А ведь все началось с фонарных столбов и бордюрных камней. К тому же я садился за письмо с единственной мыслью рассказать тебе о последних новостях. Впрочем, я разрешаю тебе в ответном письме не сдерживать свои нравоучительные порывы и быть настолько догматичным, насколько ты посчитаешь нужным. Каллингворт говорит, что голова моя напоминает семенную коробочку недотроги{188}, которая при прикосновении взрывается и разбрасывает во все стороны семена. В том числе, боюсь, и дурные. Но некоторые из них все же попадут на благодатную почву и укоренятся… а может, и нет, это уж как распорядится Судьба.
Предыдущее письмо тебе я писал вечером того дня, когда приехал в этот город. На следующее утро я приступил к выполнению данного себе задания. Ты бы удивился (по крайней мере, сам я был очень этим удивлен), узнав, каким деловитым и целеустремленным могу я быть. Первым делом я пошел на почту и потратил шиллинг на большую карту Берчспула. Потом отправился домой и повесил ее над столом в своей комнате. После этого я сел, тщательно изучил ее и распланировал серию пеших прогулок, которые позволят мне обойти все улицы этого города. Если бы я тогда понимал, насколько утомительным будет это занятие, может быть, я бы составил какой-нибудь другой план действий. Я завтракал, выходил из дому часов в десять, до часу ходил по городу, потом обедал (мне вполне достаточно еды, которую можно купить на три пенса), после чего продолжал обход и где-то в четыре возвращался домой и записывал результаты. На своей карте крестиками я отмечал пустующие дома, а кружочками – дома, в которых принимают врачи. В конце концов у меня выстроилась полная картина всего города, и мне стало понятно, где можно обустроить собственную практику и с какой конкуренцией придется там иметь дело.
Тем временем у меня появился неожиданный союзник. На второй день вечером в мою комнату вошла дочь хозяйки и с торжественным видом вручила мне карточку жильца, снимавшего квартиру подо мной. На ней было написано имя: «Капитан Вайтхолл», а пониже в скобках: «Бронированный транспортник». Перевернув карточку, на ее обратной стороне я прочитал: «Капитан Вайтхолл (бронированный транспортник) выражает почтение доктору Манро и приглашает его к себе на ужин в 8.30». Я послал ему ответ: «Доктор Манро выражает почтение капитану Вайтхоллу (бронированный транспортник) и с огромным удовольствием принимает его любезное приглашение». Я понятия не имел, что такое «бронированный транспортник», но решил упомянуть его, поскольку сам капитан Вайтхолл, похоже, придавал этим словам особое значение.
Спустившись, я увидел необычного вида человека в сером домашнем халате с фиолетовым плетеным поясом. Это был уже не молодой мужчина. Волосы его еще не совсем поседели, но были несколько светлее того цвета, который называют мышиным, хотя борода и усы у него были русыми. Одутловатое лицо покрывала густая сетка мелких морщин. Под поразительного небесно-голубого оттенка глазами висели мешки.
– Ей-богу, доктор Манро, сэр, – говорил он, пожимая мне руку, – вы оказали мне огромную честь, приняв неофициальное приглашение! Честное слово, сэр, ей-богу!
Это приветствие, как выяснилось, полностью передавало особенности его речи, поскольку почти каждое свое предложение он начинал и заканчивал божбой или ругательством, но в середину неизменно вставлял слова вежливости. Формуле этой он следовал так неукоснительно, что я даже буду пропускать эти элементы, но ты помни, что я слышал их каждый раз, когда он открывал рот. Время от времени многоточия будут напоминать тебе об этом.
– Доктор Манро, сэр, я завел себе привычку знакомиться со своими соседями. И знаете, у меня бывали просто удивительные соседи. Ей …, сэр, не смотрите, что я такой неказистый с виду. Я, бывало, сиживал с генералом с одной стороны и адмиралом с другой, а передо мной сидел британский посол. Это было, когда я водил бронированный транспортник «Хиджра» в Черном море в пятьдесят пятом. В Балаклавской бухте, сэр, штормом его разнесло на такие мелкие куски{189}, что и собирать было нечего.
В комнате висел сильный запах виски, на каминной полке я увидел и открытую бутылку. Капитан слегка заикался, что я сначала принял за врожденный дефект речи, но, когда он развернулся и нетвердой походкой направился к своему креслу, стало понятно, что он просто сильно пьян.
– Особо предложить мне вам нечего, доктор Манро, сэр. Задняя ножка… утки и компания старого моряка. Нет, сэр, к Королевскому военно-морскому флоту отношения я не имею, хотя манерам обучен не хуже этих господ… Нет, сэр, под чужими флагами я не плаваю, и R. N.[35] к своей фамилии не приписываю, но я тоже служу Ее Величеству, ей …! Нет-нет, я не из торгового флота, сэр. Не хотите горло промочить? Ох и знатная штука! Уж я-то выпил за свою жизнь достаточно, чтобы почувствовать разницу.
Итак, слово за слово, я, слегка подкрепившись и разогревшись спиртным, разговорился и поведал своему новому знакомому о себе и о своих намерениях. Я и не представлял, насколько одиноко мне было, пока не почувствовал, какое удовольствие мне доставляет живой разговор. Пока я рассказывал, он смотрел на меня сочувствующим взглядом, после чего, к моему ужасу, залпом выпил за мой успех целый бокал неразбавленного виски. Он так озаботился моим будущим, что мне с трудом удалось удержать его от второго бокала.
– У вас все получится, доктор Манро, сэр! – вскричал он. – Я разбираюсь в людях и точно вам скажу, все у вас получится. Вот моя рука, сэр! Я с вами! И вам не придется стыдиться, что вы ее жмете. Ей…, хоть я и сам это говорю, но с тех пор, как я начал молоко сосать, я всегда протягивал ее бедным, а всяким там гордыбакам никогда! Да, сэр, отличный вы товарищ, я б с вами в море пошел, и, знаете, я … рад, что вы поднялись ко мне на борт.
Весь остаток вечера он пребывал в уверенности, что я прибыл к нему на службу, и долго и пространно рассказывал мне о правилах судовой дисциплины, хотя все время обращался ко мне «доктор Манро, сэр». Но в конце концов слушать его стало невыносимо. Пьяный молодой человек – зрелище неприятное, но пьяный старик – самое отвратительное, что может быть на свете. Люди с сединой в волосах, как и горы с заснеженными пиками, всегда вызывают уважение, но это чувство иногда оказывается ложным. Я встал и попрощался. Когда я последний раз взглянул на него, он сидел в своем кресле в распахнутом халате и косился на меня, как сатир, затуманенными глазами. Во рту у него торчал размякший окурок изжеванной сигары, а борода вся пропиталась виски. Мне пришлось выйти на улицу и с полчаса побродить у дома, пока я наконец не почувствовал, что достаточно очистился, чтобы ложиться спать.
У меня не было никакого желания снова встречаться со своим соседом, но утром, когда я завтракал, он спустился и подошел ко мне, обдав меня запахом дешевого табака. Впечатление было такое, что у него из каждой поры сочится вчерашнее виски.
– Доброе утро, доктор Манро, сэр, – сказал он, протягивая трясущуюся руку. – А вы … прекрасно выглядите! А у меня в голове все гремит, как в магазине игрушек. Мы вчера приятно провели вечер, и я вообще-то ничего такого и не собирался… Но это на меня так здешняя обстановка действует. Я расслабляюсь и уже ничего не могу с собой поделать. В прошлом году я чуть было не допился до крышки, боюсь, как бы и сейчас это не повторилось. Вы на охоту отправляетесь?
– Да, сейчас доем и выхожу.
– Знаете, меня все это чертовски заинтересовало. Может, вам с моей стороны … наглостью покажется, но уж такой я человек. Покуда я могу ходить под парами, я всегда брошу концы тому, кого надо взять на буксир. Вот что я вам скажу, доктор Манро, сэр. Давайте на карту вашу поглядим, и я двинусь одним курсом, а вы другим. Ежели я найду что подходящее, дам вам знать.
Вопрос стоял так: либо брать его с собой, либо позволить ему идти самому, поэтому мне пришлось поблагодарить его и предоставить полную свободу действий. По вечерам он возвращался, как правило, на подпитии, отходив свои десять-пятнадцать миль не менее добросовестно, чем я сам, и сообщал мне результаты. Иногда он приходил ко мне с самыми неожиданными предложениями.
Один раз он даже начал договариваться с владельцем огромного помещения со стойкой в шестьдесят футов, в котором раньше размещался магазин. Объяснил он свой выбор тем, что был хорошо знаком с владельцем гостиницы, размещавшейся чуть дальше на той же улице, дела у которого шли очень даже неплохо. Усердие, с которым трудился бедный старый «бронированный транспортник», не могло не тронуть меня. Я был очень благодарен ему за помощь, но, если честно, я бы предпочел, чтобы он прекратил этим заниматься, поскольку для агента выглядел он слишком уж отталкивающе, и о том, что он выкинет от моего имени в следующий раз, я мог только догадываться. Он познакомил меня с двумя своими знакомыми. Первый – странное существо по имени Тéрпи. Этот бывший моряк перебивался на пенсию по ранению с тех пор, как еще в бытность свою старшим корабельным курсантом во время сражения у какого-то маорийского{190} поселения с совершенно непроизносимым названием был ранен, после чего у него отнялась рука и он ослеп на один глаз. Второй – мужчина с грустным лицом поэта, судя по всему, из хорошей семьи, родственники которого отказались от него после того, как он сбежал из дому с кухаркой. Фамилия его была Карр; главная его особенность заключалась в том, что он был необыкновенно пунктуален в своих вредных привычках: так, в течение дня по степени своего опьянения мог даже определять время. Он закатывал глаза, прислушивался к своим ощущениям, после чего довольно точно называл час. Впрочем, выпивка в неурочное время могла дезориентировать его, и если кто-нибудь угощал его с утра, то часа в четыре он раздевался и ложился спать с полной уверенностью, что все часы вокруг него сошли с ума. Эти два чудака были из числа тех, кого Вайтхолл, по его выражению, «взял на буксир». По вечерам, ложась спать, я еще долго слышал, как они внизу звенят бокалами и выбивают трубки о каминную решетку.
Итак, закончив наконец осмотр города, я выяснил, что есть одна вилла, которая подходит для моих целей намного больше остальных мест. Во-первых, относительно дешевая, сорок фунтов, со всеми налогами – пятьдесят. Выглядела она вполне прилично. Сада у нее не было. С одной стороны от этого дома находился бедный квартал, с другой – квартал побогаче. Наконец, рядом с виллой находился перекресток четырех дорог, одна из которых представляла собой довольно оживленную магистраль. В целом для начала практики я не мог желать лучшего. Меня очень беспокоило только одно – чтобы кто-нибудь не занял ее до меня, поэтому, не теряя времени, я бросился в агентство, где своим взволнованным видом сильно удивил полусонного служащего.
Разговор с ним меня обнадежил. Дом все еще был свободен. Выставляться он должен был в следующем квартале, но я, если хотел, мог вступить во владение прямо сейчас. Мне нужно было подписать соглашение об аренде на один год, а в их агентстве было принято брать арендную плату за квартал вперед.
Не знаю, изменился ли я в лице при этом известии.
– Вперед? – переспросил я самым беззаботным голосом, на который был способен.
– Да, обычно мы берем аванс.
– Или будет достаточно поручительства?
– Это, разумеется, зависит от того, кто выступит поручителем.
– Да мне вообще-то все равно, – сказал я (да простятся мне эти слова!). – Но, если и для агентства это не имеет значения, то я, конечно, могу и аванс выплатить.
– А кто может за вас поручиться? – решил уточнить он.
Мое сердце радостно затрепетало, потому что я понял, что все идет как надо. Ты знаешь, что мой дядя службой в артиллерии заработал рыцарское звание. Я его ни разу в жизни не видел, но знал, что именно сейчас он может помочь мне.
– Можете обратиться к моему дяде, сэру Александру Манро, Лисмор-хаус, Дублин, – сказал я. – Он с радостью ответит на любые вопросы, как и мой друг доктор Каллингворт из Брадфилда.
Оба выстрела достигли цели. Я это увидел по его глазам и по изгибу спины.
– О, этого вполне достаточно, – с почтением произнес он. – Не изволите ли подписать договор?
И я поставил подпись. Рубикон был перейден. Жребий брошен{191}. Будь что будет, отныне на двенадцать ближайших месяцев дом номер 1 по улице Окли-виллас находится в моем расположении.
– Хотите получить ключ прямо сейчас?
Я едва сдержался, чтобы не выхватить ключ у него из рук. Потом я вышел из агентства и помчался осматривать свое имущество. Никогда, дорогой Берти, я не забуду, какие чувства меня охватили, когда ключ щелкнул в замке и передо мной распахнулась дверь. Это был мой дом! Весь дом принадлежал только мне! Я вошел и снова закрыл дверь. Шум улицы стих, и в этом темном пыльном холле меня накрыло таким сладким чувством уединения, которого я не испытывал еще никогда в жизни. Впервые у меня под ногами были половицы, за которые не платил кто-то другой.
Затем я отправился исследовать комнаты, подгоняемый волнением сродни тому, которое испытывают первопроходцы на новых неизведанных землях. Первый этаж занимали две комнаты, обе площадью шестнадцать на шестнадцать футов. С удовлетворением я отметил, что обои на стенах выглядят вполне прилично. Передняя будет приемной, а во второй я устрою свой кабинет. Тогда я, правда, не задумывался над тем, что для приема пациентов хорошо бы обзавестись прислугой. У меня было такое прекрасное настроение, что, входя в каждую новую комнату, я приплясывал.
Потом я спустился в подвал, где располагались кухня и помещение для мытья посуды. Пол там был покрыт асфальтом, царил полумрак. Зайдя в судомойню, я обомлел. Из каждого угла мне улыбались человеческие челюсти, сложенные аккуратными горками. Это место – склеп! В полумраке мне вдруг показалось, что я попал в какое-то царство мертвых. Но, когда я подошел и поднял одну из челюстей, загадка разрешилась. Это оказались гипсовые слепки, видимо, оставшиеся здесь от предыдущего владельца, очевидно, зубного лекаря. Меня порадовал вид огромного деревянного буфета с выдвижными полками и сервант в углу. Оставалось добавить стол со стульями, и это помещение вполне могло сойти за комнату.
Потом я снова поднялся наверх и пошел на второй этаж. Там были еще две просторных комнаты. Одна будет моей спальней, а вторая – гостиной. Третий этаж вмещал тоже две комнаты, одну – для прислуги (когда я обзаведусь ею), вторую – спальню для гостя.
Из окон открывался вид на серые предместья города, оживленные зелеными лесистыми холмами. День был ветреный, стремительно плыли густые облака, лишь изредка обнажая голубые лоскуты неба. Не знаю, как это получилось, но, пока я стоял в той пустой комнате и смотрел сквозь грязное окно на небо, меня вдруг охватило необыкновенно яркое и всепоглощающее ощущение собственной значимости и ответственности перед какой-то высшей силой. В моей жизни начиналась новая глава. Чем она завершится? Я наделен силой и знаниями, как мне предстояло применить их? Мне показалось, что весь мир, вся улица, кебы, дома – все вдруг исчезло, и жалкий человечек и невыразимый в своем величии Управитель Вселенной на какой-то миг оказались лицом друг к другу. Я пал на колени… Это произошло против моей воли, я в этом уверен, и даже тогда у меня не нашлось слов. Только смутные порывы, душевное волнение и идущее от самого сердца желание приложить и свое плечо к великому колесу добра. Да и что я мог сказать? Любая молитва основывается на представлении Господа эдаким невероятно увеличенным человеком, на идее о том, что у него нужно просить позволения, восхвалять, благодарить. Должна ли скрипучая шестеренка механизма воздавать хвалу механику? Лучше ей меньше скрипеть и быстрее вращаться. Да, признаюсь, я попытался выразить охватившее меня волнение словами. Тогда мне казалось, что это было чем-то вроде молитвы, но, когда я потом вспомнил все «если предположить, что…» и «в случае если…», которыми было пересыпано мое обращение, я понял, что это больше смахивало на юридический документ. И все же из той комнаты я вышел намного более счастливым и умиротворенным.
Все это я рассказываю тебе, Берти, по той причине, что, если я и ставлю разум выше чувств, то вовсе не хочу делать вид, будто сам я не подвержен последним. Я чувствую, что все мои разговоры о религии слишком сухи и холодны, и я понимаю, что во всем этом должно быть больше теплоты, больше сердца. Но, если ты предложишь мне принять это как доказательство истинности твоих взглядов, против которых вопиет все, что в моей душе хоть как-то приближено к понятию божественности, я отвечу: ты продаешь свой опиум по слишком дорогой цене. Я сам готов с именем Бога на устах в первых рядах идти на амбразуру, но только если буду видеть перед собой развевающийся флаг истины.
Итак, моим следующим шагом была покупка медикаментов и мебели. Насчет первых я не сомневался, что смогу приобрести их в долгосрочный кредит, но со второй я решительно настроился не влезать в долги. Я написал в Аптекарское общество, упомянув имена Каллингворта и отца, и заказал на двенадцать фунтов настоек, растворов, пилюль, порошков, мазей и флаконов. Я подумал, что Каллингворт, должно быть, считался у них одним из самых важных клиентов, так что к моему заказу должны бы отнестись с должным вниманием.
Осталось решить более серьезный вопрос с мебелью. Я подсчитал, что, расплатившись за съемную комнату, я еще смогу позволить себе потратить четыре фунта на мебель… Не такая уж баснословная сумма для большой виллы. После этого у меня останется несколько шиллингов, и, прежде чем они закончатся, я получу каллингвортовский фунт. Однако его фунты все пойдут на аренду, поэтому о том, чтобы тратить их на свои повседневные нужды, я не мог даже думать. В «Берчспул Пост» я нашел объявление о том, что вечером должна состояться распродажа мебели, и отправился на аукцион. Против моей воли за мной увязался капитан Вайтхолл. Он был сильно пьян и очень возбужден.
– Ей-богу, доктор Манро, сэр, я вас одного не оставлю. Я всего лишь старый моряк, в котором виски, может, больше, чем мозгов, но все равно я слуга Ее Величества. Долгов не имею. В военно-морском флоте я не служил, но и в торговом тоже. Гнию себе в этих меблирашках, но ей …, доктор Манро, сэр, это я доставил семь тысяч вонючих турок из Варны{192} в Балаклавскую бухту. Я пойду с вами, доктор Манро, и мы вместе обтяпаем это дело.
Мы зашли в аукционный зал и заняли место в задних рядах толпы. Наконец, выставили очень аккуратный маленький столик. Назначили цену, я кивнул и за девять шиллингов стал его обладателем. Следующим лотом были три довольно необычных стула из черного дерева с сиденьями из лозы. За них я отдал двенадцать шиллингов, по четыре шиллинга за штуку. После этого за четыре шиллинга и шесть пенсов я купил подставку для зонтов. Это уже было излишество, но я, что называется, вошел во вкус. Затем в торг поступил общий лот, несколько связанных и упакованных штор. Кто-то предложил пять шиллингов. Аукционист посмотрел на меня, я кивнул. Пять шиллингов и шесть пенсов, и они стали моими. Еще я купил квадрат красной шерстяной материи для половиков за полкроны, маленькую железную кровать за девять шиллингов, три акварели («Весна», «Мужчина с банджо» и «Виндзорский замок») за пять шиллингов, маленькую каминную решетку – тоже полкроны, набор туалетных принадлежностей – пять шиллингов и еще один совсем маленький квадратный столик – три шиллинга шесть пенсов. Каждый раз, когда я кивал головой, Вайтхолл вскидывал вверх свою терновую трость, пока я не заметил, что он делает это даже тогда, когда я вовсе не собирался покупать выставленный лот. По его милости я чуть было не купил за четырнадцать шиллингов шесть пенсов чучело ары под стеклянным колпаком.
– Но ведь здорово смотрелось бы, если бы вы его в холле повесили, доктор Манро, сэр, – начал оправдываться он, когда я упрекнул его.
– Если я так буду тратить деньги, мне скоро самому придется в холле повеситься, – ответил я. – Я уже потратил все, что мог. На этом остановимся.
Когда аукционный торг закончился, я расплатился, товары мои погрузили на тележку, и грузчик вызвался подвезти мне их к дому за два шиллинга. Выяснилось, что я ошибся в большую сторону, подсчитывая, во сколько мне обойдется меблировка, поскольку в общем мои затраты составили лишь чуть больше трех фунтов. Мы дошли пешком до Окли-виллас, и, преисполненный гордости, я выгрузил свои покупки в холле. И тут произошло нечто такое, что лишний раз убедило меня в доброте и отзывчивости людей из низших слоев населения. Грузчик, после того как я с ним расплатился, вышел к своей тележке и вернулся с огромным пакляным половиком совершенно ужасного вида. Он расстелил его в холле и, не произнося ни слова и не дав мне возможности ни отказаться, ни поблагодарить его за этот подарок, скрылся в ночи вместе с тележкой.
На следующее утро я, рассчитавшись с хозяйкой за квартиру, окончательно переселился в свой новый дом. СВОЙ дом, друг мой! Счет за квартиру оказался несколько больше, чем я ожидал. Я ведь там только завтракал и пил чай, обедая «вне дома», как я это обтекаемо называл. Впрочем, не став торговаться, я заплатил и, чувствуя необыкновенное облегчение, чуть ли не бегом со своей шляпной коробкой в руках отправился на Окли-стрит. Жестянщик накануне за полкроны прикрепил на ограждении вывеску с моим именем. Приближаясь к дому, я издали увидел ее яркое сияние, и, надо сказать, испытал при этом некоторый стыд. Я юркнул в дверь, охваченный таким чувством, будто на меня смотрят из каждого окна на улице.
Впрочем, дома нужно было столько еще всего сделать, и я не знал, за что браться в первую очередь. Первым делом за шиллинг девять пенсов я купил швабру и принялся за уборку. Ты, конечно, заметил, что я точно указываю все цены. Я делаю это, потому что для меня сейчас даже такие мизерные суммы имеют огромное значение. Во дворе я нашел дырявое цинковое ведро, которое оказалось очень полезным, в нем я повыносил челюсти, которыми была забита моя кухня. Затем я снял сюртук, повесил его на газовый рожок, закатил рукава рубашки и подмел своей новой шваброй все комнаты на первом этаже и холл. Сор я вымел во двор. После этого подмел комнаты на втором этаже, в результате чего несколько квадратных ярдов пыли снова оказались на полу холла, что привело меня в некоторое уныние, но, по крайней мере, научило в следующий раз начинать с верхнего этажа. Под конец этой работы я весь был такой грязный и взмыленный, словно отыграл тайм на футбольном поле. Мне вспомнилась всегда опрятная и аккуратная поденщица, которую мы нанимали для уборки в нашем доме. Представляю, в какой прекрасной физической форме она должна быть!
Затем я взялся за расстановку мебели. С холлом я управился быстро, потому что стены там обшиты темными деревянными панелями, которые сами по себе неплохо смотрятся. Пакляной половик и подставка для зонтов придали ему законченный вид, но, кроме того, я купил за шесть пенсов три крючка, прикрепил их к стене и завершил картину, повесив на них обе свои шляпы. И наконец, поскольку непокрытый пол смотрелся как-то угнетающе, я повесил примерно на середине стены штору, завернув один угол, чем придал ей восточный вид с намеком на то, что и за ней тоже имеются комнаты. Выглядело все прекрасно, и я остался весьма доволен своей работой.
После этого я приступил к самому важному – обустройству своего кабинета. Работа с Каллингвортом научила меня по крайней мере одному: если пациенты уверены, что ты их вылечишь, им совершенно наплевать на то, как выглядит твой дом. Заставь их в это поверить, и ты сможешь принимать хоть в стойле на конюшне, выписывая рецепты на кормушке. И все же, раз уж это будет единственной меблированной комнатой в доме еще очень долгое время, стоило приложить усилия к тому, чтобы она выглядела как можно лучше.
Посреди комнаты я постелил красный квадратный половик и прибил его гвоздями с медными шляпками. На вид он оказался намного меньше, чем я рассчитывал – крошечный красный островок в океане деревянных половиц, или почтовая марка, наклеенная на середину конверта. На половик я поставил стол, на него с одной стороны положил три книги по медицине, с другой – стетоскоп и коробку с инструментами. Один из стульев, разумеется, встал рядом со столом, но вот следующие десять минут я потратил на то, что пытался определить, как будут выгоднее смотреться оставшиеся два: рядом, создавая видимость массы, или же разрозненно: при беглом взгляде может показаться, что все помещение наполнено мебелью. В конце концов, один стул я поставил к правой стене, а второй – перед столом. Затем установил каминную решетку и повесил «Весну», «Мужчину с банджо» и «Виндзорский замок» на три стены, дав себе мысленное обещание потратить первые же свободные полкроны на покупку картины для четвертой стены. У окна я расположил маленький столик, куда поставил фотографию в красивой гипсовой рамке с подставкой из слоновой кости, которую привез в чемодане. Напоследок из купленного на аукционе комплекта я выбрал две коричневые шторы, повесил их на окно и близко сдвинул, чуточку затемнив комнату. От этого мрак в углах комнаты сгустился, и начинало казаться, что там стоит мебель. Осмотревшись по сторонам, я с удовольствием отметил, что вряд ли кто-то догадается, будто вся обстановка комнаты стоит около тридцати шиллингов.
Затем я втащил наверх железную кровать и установил ее в комнате, которую с самого начала решил сделать своей спальней. Во дворе я нашел старый ящик, очевидно, в суете отъезда оставленный там моим предшественником. Из него вышел прекрасный столик для умывальных принадлежностей. Когда все было расставлено, я, раздуваясь от гордости, еще раз прошелся по своим комнатам и, передвинув что-то в одном месте, повернув что-то в другом, довел их вид до совершенства. Хотелось бы мне, чтобы все это увидела мама… Хотя нет, подумав хорошенько, я пришел к выводу, что мне бы этого не хотелось, так как она бы первым делом подогрела несколько галлонов{193} воды и с пемзой вычистила бы весь дом, от чердака до подвала. А я-то теперь уж знаю, каково это.
Ну вот и все, о чем я пока могу тебе рассказать. Мне кажется, что нет такого человека в мире, кого могли бы заинтересовать все эти мелкие бытовые подробности… Ну, разве что троих. И все же писать мне нравится, пока, конечно же, имею твои заверения в том, что тебе нравится все это читать. Прошу тебя, передавай мой самый сердечный привет жене и Кэмелфорду, если как-нибудь встретишься с ним. Когда я последний раз о нем слышал, он был на Миссисипи.
XII Окли-виллас, 1, Берчспул, 5 июня, 1882.
Проведя все те работы, о которых я столь нудно и многословно рассказал в прошлом письме тебе, дорогой мой Берти, я сел в своем кабинете за стол и разложил перед собой все, что осталось от моих сбережений. Посмотрев на них, я испугался. Три полукроны, флорин и четыре шестипенсовика, или всего одиннадцать шиллингов шесть пенсов. Я ожидал, что к тому времени Каллингворт со мной свяжется, по крайней мере, меня согревала мысль о том, что у меня есть старый надежный друг. Сразу после подписания договора на дом я написал ему очень подробное письмо, сообщил, что снял дом на год, но заверил его, что вполне смогу держаться на плаву самостоятельно с той помощью, которую он обещал мне предоставлять. Я описал, в каком выгодном месте расположен дом и все подробности относительно аренды и соседства. У меня не возникало сомнений, что с ответом на это письмо он пришлет мне и еженедельный денежный перевод. Я для себя решил: как бы ни было мне тяжело, какие бы трудности ни встали на моем пути, я преодолею их, не обращаясь за помощью домой. Конечно же, я знал, что моя мама продала бы все, вплоть до своих золотых очков, чтобы помочь мне, и что все наши недавние разногласия не заставили бы ее задуматься даже на секунду, но мужчины, видишь ли, тоже наделены чувствами. Мне не хотелось, чтобы вся эта ситуация выглядела так, будто я ослушался ее воли, а потом, скуля, прибежал к ней же за помощью.
Весь день я просидел в своем доме, упиваясь тем чувством уединения и новизны, которое охватило меня в тот миг, когда я впервые вошел сюда с улицы и закрыл за собой дверь. Вечером я совершил вылазку и купил буханку хлеба, полфунта чая («отсев», как они его называют, стоит восемь пенсов), жестяной чайник (пять пенсов), фунт сахара, банку сгущенного молока и банку американских мясных консервов. Я много раз слышал мамины жалобы на то, как дорого нынче стоит прокормить семью, и теперь я понимаю, что она имела в виду. Два шиллинга девять пенсов улетели за секунду, но, по крайней мере, на несколько дней этого мне хватит.
В задней комнате имеется очень удобный газовый рожок. Я вколотил в стену над ним деревянный колышек, и получилась ручка, на которой я теперь могу вешать кипятиться свой маленький чайник. Самым привлекательным в этой конструкции было то, что не понадобилось никаких трат, а до того дня, когда мне придется оплачивать счет за газ, многое может измениться. Таким образом, задняя комната теперь выполняет функции и кухни, и столовой. Из мебели там был только мой чемодан, который одновременно служит буфетом, столом и стулом. Съестные продукты лежали внутри, так что, когда я хотел есть, мне нужно было лишь достать их и положить на крышку чемодана, оставив место, чтобы сесть самому.
Только вечером, зайдя в спальню, я понял, чего не учел, продумывая обстановку. У меня не было ни матраца, ни подушки, ни постельного белья. Мысли мои настолько сконцентрировались на будущей практике, что о своем личном удобстве я даже не думал. В ту ночь я спал на голой железной кровати и на следующее утро, когда встал, выглядел как святой Лаврентий, поднявшийся с железной решетки. Мой сменный комплект белья вместе с «Принципами медицины» Бристоу прекрасно заменил подушку, и в теплую июньскую ночь мужчина вполне может спать, завернувшись в пальто. Покупать старое постельное белье на распродаже мне не хотелось, и я решил, что до тех пор, пока не смогу позволить себе купить новое, сделать себе подушку из соломы и, если будут холодные ночи, укрываться всей имеющейся у меня одеждой. Через два дня, однако, вопрос решился более приятным для меня образом. Я получил огромную коричневую жестяную коробку от матери. Для меня это было все равно что неожиданно выиграть в лотерею. Робинзон Крузо, наверное, испытал меньше радости, когда у берегов его острова разбился испанский корабль, чем я, вскрывая эту сокровищницу! Там было два теплых одеяла, две простыни, стеганое покрывало, подушка, складной табурет, пара набитых соломой медвежьих лап (что за странный выбор!), две терракотовых{194} вазы, чехол на чайник, две картины в рамах, несколько книг, фигурная чернильница, целая пачка защитных салфеток для спинок кресел и разноцветных скатертей. Истинное назначение декоративного столового белья узнаешь только тогда, когда у тебя появляется деревянный неполированный стол с ножками из красного дерева. Сразу же после первой посылки пришла вторая, большая корзина с крышкой от Аптекарского общества с заказанными мною медикаментами. Когда я в столовой расставил их у стен, ряд бутылочек занял целиком одну стену и половину другой. Пройдясь по дому и окинув взглядом свои разнообразные пожитки, я подумал о том, что мои взгляды на право собственности, пожалуй, слишком уж радикальны. Наверное, все-таки в нем что-то есть.
Неожиданно пришедшая в голову замечательная мысль позволила мне еще лучше благоустроить спальню. Взяв один из упаковочных мешков, я набил его соломой из корзины для медикаментов, и у меня вышел отличнейший матрац.
Кроме того, из трех ставень я соорудил чудный приставной столик для своей комнаты. Пациенты могут думать что угодно, но, если его накрыть красной скатертью и украсить медвежьими лапами, он вполне выглядит не меньше, чем на двенадцать гиней.
Я с легким сердцем занимался бытовыми делами, пока сокрушительный удар, о котором я хочу тебе рассказать, не выбил землю у меня из-под ног.
С самого начала было понятно, что ни о какой прислуге не может быть и речи. Я не мог бы ни оплатить труд помощника, ни хотя бы его прокормить. У меня даже не было кухонной мебели. Своим пациентам мне самому придется открывать дверь, и пусть они что хотят, то и думают. Мне придется самому натирать свою вывеску на ограде и следить за тем, чтобы стены моего дома оставались чистыми. И эти обязанности нужно соблюдать неукоснительно, что бы ни происходило, ведь перед людьми необходимо выглядеть презентабельно. Впрочем, особой проблемы я в этом не видел, потому что мог все делать под покровом ночи, но я получил предложение от матери, которое в огромной степени все упрощало. Она написала мне, что, если я хочу, она может прислать ко мне Пола, моего младшего брата, вместе нам будет веселее. Я с радостью согласился, о чем тут же написал ей. Ему девять лет, он славный и отважный мальчуган, и я не сомневаюсь, что Пол с радостью разделит со мной мои трудности. Если положение совсем ухудшится, я снова отправлю его домой. Приехать он сможет лишь через несколько недель, но все же мысль о брате меня согревала. Кроме того, что с ним будет веселее, еще тысячу раз мне может понадобиться его помощь.
На следующий день ко мне явился капитан Вайтхолл. Я был у себя в задней комнате, где выяснял, на сколько ломтиков можно нарезать фунт консервированной говядины, когда он позвонил в дверь. От неожиданного звука сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди.
Как удивительно громко звенит дверной колокольчик в пустом доме! Однако, выйдя в холл, я сразу понял, кто ко мне пришел. На моих дверях средние панели сделаны из матового стекла, поэтому через них виден размытый силуэт того, кто за ними стоит.
Я тогда еще не определился с чувствами, которые вызывал у меня этот человек, то ли презрение, то ли симпатию. Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы в одном человеке так же, как в нем, соединялись истинное бескорыстие и непреодолимое пристрастие к выпивке, безмерное беспутство и искренняя готовность жертвовать собой ради другого. Но с его появлением в моем доме стало как-то веселее, я почувствовал надежду. Пришел капитан с большим желтым бумажным свертком в руках. Когда он развернул его у меня на столе, оказалось, что внутри был большой коричневый кувшин. Он отнес его к камину и поставил сверху на середину полки.
– Вы позволите, доктор Манро, сэр, оставить эту вещицу в вашей комнате. Это лава, сэр, лава Везувия, а сам кувшин изготовлен в Неаполе. Ей…, вам может показаться, что он пуст, доктор Манро, сэр, но он доверху забит моими наилучшими пожеланиями, и, когда ваша практика станет лучшей в городе, вы будете показывать его своим пациентам и рассказывать о том, что вам его подарил старый шкипер бронированного транспортника, который был с вами с самого начала.
Поверь, Берти, слезы навернулись у меня на глаза, я с трудом смог поблагодарить его. Какое поразительное смешение качеств в одном человеческом сердце! И дело было не в его поступке или словах, а в почти женском выражении в глазах этого опустившегося и спившегося старого моряка… в той душевной доброте и в тоске по чему-то доброму, которые я увидел в них. Хотя длилось это какой-то миг – его лицо почти сразу снова приобрело свой обычный беспечный и нагловатый вид.
– Есть еще кое-что, сэр. Я тут давеча подумал, что мне и самому хорошо бы здоровье свое проверить. Я бы с радостью доверился вам, ежели б вы согласились осмотреть меня.
– А что у вас? – спросил я.
– Доктор Манро, сэр, – сказал он. – Я ходячий музей. Список того, чего у меня нет, поместился бы на обратной стороне … визитной карточки. Если вам какую болезнь надо особо изучить, милости прошу ко мне, думаю, во мне мы отыщем то, что вас интересует. Не каждый может похвастать тем, что трижды переболел холерой и сам себя вылечил красным перцем и бренди. Заставь этих … микробов чихать, и они скоро сами от тебя отстанут, я так себе представляю холеру, и вы запомните мои слова, доктор Манро, сэр, потому как мне доводилось плавать с полсотней мертвецов на борту, когда я водил «Хиджру» по Черному морю, и я … хорошо знаю, о чем толкую.
Я заменяю крепкие выражения и божбу Вайтхолла многоточиями, понимая, что пытаться передать все их разнообразие и выразительность другими словами, – бесполезная затея. Когда он разделся, глаза у меня полезли на лоб от удивления. Все его тело было покрыто разнообразными татуировками. Прямо над сердцем у него красовалась большая синяя Венера.
– Стучите громче, – сказал он, когда я начал выстукивать его грудную клетку, – все равно … никого дома нет. Все разошлись по гостям. Несколько лет назад сэр Джон Хаттон пробовал достучаться. «Что за черт, где твоя печень? – говорил он. – Такое впечатление, будто у тебя внутри кто-то все перемешал здоровенной палкой. Все органы смещены». – «Все, кроме сердца, сэр Джон, – сказал ему я. – Оно не снимется с якоря …, пока стучит».
Осмотрев его, я пришел к выводу, что он не так уж сильно преувеличивает. Я обследовал все тело с головы до пят и выяснил, что немногое осталось в нем в том состоянии, в каком было создано природой. У него была митральная регургитация{195}, цирроз печени{196}, Брайтова болезнь{197}, увеличенная селезенка и водянка{198} в начальной стадии. Я прочитал ему целую лекцию об умеренности в употреблении спиртного, призвал вовсе от него отказаться, но, боюсь, мои слова не произвели никакого впечатления. Он посмеивался и издавал какие-то булькающие звуки горлом, пока я говорил, но что это было, согласие или выражение протеста, я не могу сказать.
Когда я закончил, он достал кошелек, но я попросил его считать мою небольшую услугу проявлением дружбы. Однако это на него не подействовало, капитан, похоже, был так решительно настроен, что мне оставалось лишь смириться и уступить.
– Раз вы настаиваете, за осмотр я беру пять шиллингов.
– Доктор Манро, сэр, – вскипел он, – меня обследовали люди, на которых я бы и ведра воды не плеснул, если бы они горели у меня на глазах, и то я платил им не меньше гинеи. Но раз уж я пришел к джентльмену и другу, повесьте меня, если я заплачу хоть фартингом меньше.
После долгих препирательств дело закончилось тем, что этот добрый человек ушел, оставив на краешке моего стола соверен и один шиллинг. Признаться, деньги эти жгли мне руки, ведь я знал, что пенсия у него мизерная, но, раз уж мне не удалось отказаться от них, не стоило утверждать, что они мне сейчас не нужны. Я вышел из дому и потратил шестнадцать шиллингов на новый соломенный матрац, который положил под свой старый на железной кровати. Как видишь, в благоустройстве своего быта я даже позволил себе некоторую роскошь. Свое растревоженное сознание я успокоил мыслью о том, что маленькому Полу придется спать рядом со мной, когда он приедет.
Однако мой рассказ о визите Вайтхолла еще не закончен. Вернувшись домой, я взял посмотреть прекрасный лавовый кувшин и внутри обнаружил его карточку. На ее обороте было написано: «Вот вы и отправились в плавание, сэр. Как сложится ваша судьба, я не знаю, вы можете либо наскочить на подводные камни, либо спокойно плыть к цели, но вижу я, что борта у вас крепкие и течи не дадут. Теперь только от вас зависит, умрете вы на последнем куске обшивки или придете в порт с вымпелом на мачте».
Замечательно, правда? Когда я это прочитал, у меня закипела кровь, а в голове словно заиграл горн. Записка Вайтхолла вдохнула в меня новые силы. Не догадывался я тогда, что силы эти понадобятся мне очень скоро. Я переписал эти слова и повесил на стенку камина. На противоположную стенку я повесил отрывок из Карлейля, который тебе, я надеюсь, знаком так же, как мне. «Так или иначе, весь свет и вся энергия, которые мы излучаем, все добрые поступки, которые мы совершаем, попадают прямиком в сокровищницу Господа, где продолжают существовать и трудиться целые вечности. Мы не исчезаем… ни один наш атом… никого из нас»[36]. Вот религиозное предложение, которое я считаю интеллектуально обоснованным, а посему морально здравым.
Эта цитата подводит меня к рассказу о втором посетителе. Встреча с ним закончилась отвратительным спором! Мне, наверное, не нужно тебе об этом рассказывать, поскольку я знаю, ты будешь не на моей стороне, но, по крайней мере, это, возможно, приведет к тому, что в своем следующем письме ты обрушишься на меня с возражениями и увещеваниями, а для меня это сплошное удовольствие.
Итак, второй человек, которого я впустил в свой дом, был викарий местного прихода высокой церкви{199}… По крайней мере, форма его воротника и цепочка, свисающая из кармашка для часов, указывали на то, что он представляет именно высокую церковь. Это был рослый крепкий мужчина… Вообще-то, справедливости ради, я должен честно признать, что чахлых, равнодушных ко всему викариев я встречал только на страницах «Панча»{200}. В целом по степени развитости (я имею в виду развитости физической, а не умственной) они могут сравниться с адвокатами или врачами. Хотя то, как они одеваются, мне не нравится. Как хлопок, который сам по себе является самым безобидным веществом на свете, становится опасен, когда его окунают в азотную кислоту, так и тишайший из смертных превращается в весьма грозное существо, если хотя бы раз погружается в сектантскую религию. Если природа заложила в него хоть каплю злости или жестокости, это обязательно проявится. Вот почему я не особенно обрадовался своему второму гостю, хотя, думаю, принял его со всей должной учтивостью. Быстрый удивленный взгляд, который он бросил по сторонам, зайдя в мой кабинет, свидетельствовал о том, что он увидел не совсем то, что ожидал.
– Видите ли, наш приходской священник уж два года как в отъезде, – объяснил он, – и, пока его нет, нам приходится самим управляться. У него слабые легкие, поэтому он не может оставаться в Берчспуле. Я живу прямо напротив вас, и, увидев, что на доме появилась вывеска с вашим именем, решил зайти к вам и пригласить в наш приход.
Я сказал ему, что очень благодарен за внимание. Если бы он на этом остановился, ничего страшного не произошло бы, мы бы мило побеседовали и разошлись, но, надо полагать, чувство долга не позволило ему этого.
– Я все же надеюсь, – сказал он, – что мы скоро увидим вас у нас в церкви святого Иосифа.
Я был вынужден ответить, что это невозможно.
– Вы католик? – спросил он голосом, не лишенным неприязни. Я покачал головой, но и это не остановило его. – Надеюсь, не диссентер?{201} – воскликнул он, и доброе лицо его вдруг сделалось суровым. Я снова покачал головой. – Ах, понятно, так сказать, не совсем определились! – повеселел он, облегченно вздохнув. – С занятыми людьми такое часто бывает. Им не до богословских споров. Слишком многое их отвлекает. Но, по крайней мере, вы признаете основополагающие истины христианства, не так ли?
– Я всем сердцем верю, – сказал я, – что основатель его был достойнейшим и добрейшим из известных нам людей, живших на этой планете.
Однако вместо того, чтобы успокоить его, мой примирительный ответ, похоже, показался ему вызовом.
– Я полагаю, – сурово произнес он, – что вера ваша этим не ограничивается. Вы наверняка готовы признать, что Он был воплощением самого Творца.
Я начал чувствовать себя, как старый барсук, сидящий в своей норе, которому приходится отбиваться от свирепой собаки, когда та изо всех сил старается вытащить его оттуда.
– Вам не кажется, – сказал я, – что, если бы Он был таким же обычным смертным, как мы с вами, Его жизнь имела бы гораздо более глубокое значение? Тогда она бы могла стать идеалом, к которому мы должны стремиться. Но, с другой стороны, если Он в действительности имел природу, не сходную с нашей, в таком случае Его существование утрачивает смысл, поскольку Его и наши цели не совпадают. Лично мне кажется очевидным, что высказанное вами предположение лишает вас права считать Его жизнь удивительной и назидательной. Если природа Его была божественной, он не мог грешить, и на этом вопрос исчерпан. Мы не божественны и можем грешить, так что Его жизнь ничему не может нас научить.
– Он победил грех, – сказал мой гость, словно считая это серьезным доводом.
– Дешевая победа! – ответил на это я. – Помните того римского императора, который в доспехах и полном вооружении выходил на арену сражаться с несчастным калекой, защищенным лишь тонкой свинцовой фольгой, расходившейся от любого удара?{202} По вашей теории о жизни вашего Учителя получается, что Он столкнулся с искушениями нашего мира, имея такое же преимущество перед ними, как если бы они были безобидной фольгой, а не вооруженным до зубов противником, которыми они нам представляются. Признаюсь, что лично для меня Его слабости так же важны, как Его мудрость и Его благие дела. Я думаю, что они мне даже ближе, потому что я сам слабый человек.
– Может быть, вы изволите уточнить, что именно в Его поведении кажется вам слабостью? – сухо спросил мой гость.
– Ну, Его человеческие черты… Наверное, «слабость» не совсем подходящее слово. Например, Его осуждение субботствующих евреев{203}; Его нападки на торговцев{204}; Его неприятие фарисеев{205}; необъяснимое раздражение, которое вызывала у Него смоковница из-за того, что не принесла плодов, хотя сезон плодов еще не наступил{206}; Его очень человеческие чувства по отношению к женщине, которая заботилась о Нем, пока Он проповедовал в ее доме{207}; удовлетворение, которое получал Он оттого, что миро оставляли для Него, а не раздавали нищим{208}; Его сомнения в самом себе перед решающим моментом{209}… Вот что помогает мне понять этого человека и полюбить Его.
– Так, может, вы унитарий{210} или скорее даже обычный деист{211}? – запальчиво воскликнул викарий.
– Можете называть меня, как хотите, – ответил я, и, боюсь, что перешел при этом на проповеднический тон. – Я не делаю вид, будто знаю, что является истиной, поскольку истина бесконечна, а я ограничен, но мне хорошо известно, что НЕ является истиной. Не истинно то, что религия достигла предела в своем развитии девятнадцать столетий назад и что мы имеем право лишь оглядываться назад, на то, что было написано и сказано тогда. Нет, сэр, религия – это живой, развивающийся организм, и поныне растущий и работающий, способный изменяться и эволюционировать, как и любая другая область мысли. Много вечных истин было высказано и записано в стародавние времена в книгу, некоторые части которой действительно можно назвать святыми. Но существуют и другие истины, которые еще предстоит открыть, и если мы будем отвергать их, потому что о них ничего не сказано на страницах этой книги, мы уподобимся ученому, отрицающему закон излучения Кирхгофа{212} на основании того, что о нем не упоминает Альберт Великий{213}. Современный пророк может носить мирскую одежду и писать в журналы, но, тем не менее, он всего лишь маленькая пипетка, набирающая капли в огромном океане истины. Вот послушайте! – вскричал я, вскочил и прочитал ему свой отрывок из Карлейля. – Слова эти принадлежат не иудейскому пророку, а обычному налогоплательщику из Челси{214}. И он, и Эмерсон{215} тоже являются пророками. Всемогущий еще не закончил разговор с человеческой расой, и Он может обращаться к нам устами шотландца или жителя Новой Англии так же свободно, как и устами еврея. Библия, сэр, это книга, написанная главами, и в конце ее стоит «Продолжение следует», а не «Конец».
Гость мой во время моей долгой речи беспокойно ерзал на стуле. Наконец, он вскочил и схватил со стола свою шляпу.
– Убеждения ваши чрезвычайно опасны, сэр, – воскликнул он. – Мой долг велит мне предупредить вас об этом. Ваше безверие безгранично.
– Я верю в то, что власть и доброта Всемогущего безграничны, – ответил я.
– Все это внушает вам собственная духовная гордыня и высокомерие, – с жаром произнес он. – Почему же вам не обратиться к тому Богу, имя которого вы называете? Почему не склонить голову перед ним?
– А откуда вы знаете, что я этого не делаю?
– Вы сами сказали, что не ходите в церковь.
– Моя церковь находится у меня в голове, – сказал я. – Из кирпичей и раствора лестницу в небо не построишь. Я так же, как ваш Учитель, верю в то, что лучший храм – тот, который находится у человека в сердце. Мне очень жаль, что в этом вопросе ваши мнения расходятся.
Наверное, не стоило мне этого говорить, я вполне мог защититься, и не переходя в наступление. Как бы то ни было, после этого разговор наш, который все больше начинал походить на перепалку, был окончен. Посетитель мой был слишком возмущен, чтобы ответить, и выскочил из комнаты, не сказав на прощание ни слова. Я видел в окно, как торопливо он шел по улице, озлобленное мелкое черное создание, раздраженное тем, что не может измерить всю вселенную своим карманным угольником и компасом.
Подумай об этом, Берти, и подумай над тем, что есть он, атом среди атомов, находящийся в точке соприкосновения двух вечностей! Но кто я? Всего лишь такой же атом. Имею ли я право судить его?
Скорее всего, ты скажешь, что было бы лучше, если бы я не стал излагать свои взгляды, а прислушался бы к тому, что хотел сказать он. Но ведь истина обязана быть такой же широкой, как и та вселенная, которую она хочет охватить, и, следовательно, намного более широкой, чем все, что в состоянии постичь человеческий разум. Неприятие сектантства всегда является стремлением постичь главную истину. Кто решится заявить монопольное право на Всемогущего? Подобное заявление является оскорбительным высокомерием по отношению к солнечной системе, но мы видим, что сотни мелких клик непонятного толка торговцев верой делают это каждый день. В этом заключается настоящее неуважение к Истине.
Что ж, дорогой Берти, вот и развязка всего этого: я начал свою практику с того, что сделался врагом единственного человека в округе, который может настроить против меня весь приход. Я знаю, что подумал бы мой отец, если бы узнал об этом.
А сейчас я подхожу к тому, из-за чего я с самого утра не могу успокоиться и судорожно перевожу дыхание, как после удара в солнечное сплетение. Этот негодяй Каллингворт отказался от меня и бросил на произвол судьбы.
Почту приносят мне в восемь часов утра, и я обычно беру письма и читаю их, лежа на кровати. Сегодня утром пришло только одно письмо, адрес на конверте был написан его странным, хорошо узнаваемым почерком. Я, разумеется, решил, что обнаружу в нем обещанный денежный перевод, поэтому вскрывал конверт с особенным чувством предвкушения радости. Вот что я прочитал:
«Когда после твоего отъезда служанка убирала твою комнату, из-под каминной решетки она вымела несколько клочков разорванной бумаги. Увидев на них мое имя, она посчитала своим долгом отнести их хозяйке, которая склеила их и обнаружила, что это письмо от твоей матери, в котором она называет меня „бессовестным проходимцем“ и „бесстыжим Каллингвортом“. Я могу лишь сказать, что мы поражены тем, что ты участвовал в подобной переписке, пользуясь моим гостеприимством, и отныне отказываемся иметь с тобой какие бы то ни было дела».
Не правда ли, приятное утреннее приветствие? И это после того, как я, положившись на его обещание, начал практику с того, что снял на год дом, имея на руках всего несколько шиллингов. В целях экономии я отказался от курения, но тут почувствовал, что дело это стоит того, чтобы выкурить трубку. Я выбрался из постели, выгреб последние крошки табака из кармана и перекурил эту новость. Спасательный пояс, на который я так надеялся, лопнул, и теперь мне предстояло самому пытаться удержаться на поверхности очень глубокого водоема. Я перечитал письмо несколько раз и, несмотря на безвыходность положения, не смог не рассмеяться при мысли о том, насколько все это выглядит глупо и неправдоподобно. Кто поверит, что хозяин с хозяйкой станут склеивать обрывки какого-то письма, оставшегося после гостя? Глупость была и в том, что даже ребенку понятно, что несдержанность моей матери была вызвана тем, что я защищал его. Зачем нам было писать друг другу одно и то же? В общем, для меня все это по-прежнему большая загадка, и я не имею ни малейшего представления о том, что мне теперь делать. Скорее всего, мне предстоит умереть на последнем куске обшивки, а не прийти в порт с вымпелом на мачте. Я хочу все обдумать и сообщить тебе результат. Что бы ни случилось, я с уверенностью могу сказать лишь одно: я в счастье и в горе был, есть, и остаюсь твоим искренним, преданным и многословным другом.
XIII Окли-виллас, 1, Берчспул, 12 июня, 1882.
Когда я писал последнее письмо, дорогой мой Берти, после окончательного разрыва с Каллингвортом я все еще задыхался, как выброшенная на берег треска. Однако, излагая все это на бумаге, я почувствовал, что настроение мое улучшается и мне становится легче. Я как раз подписывал конверт (обрати внимание, каким подробным получается мой рассказ), когда внезапно прозвучавший звонок заставил меня буквально подскочить на месте. Через стеклянную дверь было видно, что на пороге стоял почтенного вида господин с бородой и в цилиндре. Пациент! Наверняка это пациент, решил я. И вот тогда я впервые почувствовал, какая огромная разница между тем, чтобы лечить чужих пациентов (как это было у Хортона) или работать на практику другого врача (чем я занимался у Каллингворта), и тем, чтобы на свой страх и риск принимать в своем доме совершенно незнакомого человека. Меня это чрезвычайно взволновало, и у меня даже вдруг возникло желание затаиться, сделать вид, что никого нет дома, и не пускать его. Но, конечно же, это была лишь секундная слабость. Я открыл дверь, делая вид (боюсь, уж слишком усердно), что его звонок застал меня в холле и мне не составило труда самому впустить посетителя, чтобы не заставлять его ждать, пока сверху спустится служанка.
– Доктор Старк Манро? – спросил он.
– Прошу вас, проходите, – ответил я и жестом пригласил его в свою приемную. Это был преисполненный важности, грузный мужчина с тяжелой походкой и густым голосом, но мне он показался ангелом, спустившимся с небес. Он сел и хрипло кашлянул. Я нервничал и одновременно до того боялся, что он может заметить мою нервозность и утратить ко мне доверие, что неожиданно для себя заговорил так, будто мы знакомы с ним уже сто лет. – Так-так, – сказал я (я всегда гордился тем, как быстро мог поставить диагноз). – Это последствия бронхита, как я посмотрю. Ох уж эти зимние холода!
– Да, – сказал он, – иногда это у меня бывает.
– Но ничего, при должном уходе и лечении… – начал я и сделал паузу. Однако в ответ он вздохнул и покачал головой.
– Я пришел не за этим, – произнес он.
– Не за этим? – Мое сердце замерло.
– Нет, доктор, – достал он пухлую записную книжку. – Дело в небольшой сумме.
Ты будешь смеяться, Берти, но мне было не до смеха. Он хотел получить с меня восемь шиллингов шесть пенсов на основании того, что предыдущий съемщик этого дома что-то там недоплатил или что-то не так сделал. В противном случае его компания грозилась снять газомер. Он, наверное, и не догадывался, что поставил меня перед выбором: либо лишиться большей части своего капитала, либо отказаться от приготовления пищи! В конце концов мне удалось выторговать у него небольшую отсрочку на том основании, что мне нужно самому разобраться в этом деле. Итак, я был потрясен, но пока остался при деньгах. Он еще долго рассказывал мне о своей трахее, но я утратил к этой теме всякий интерес, когда узнал, что лечится он у своего клубного врача.
То было первое из происшествий, случившихся тем утром. И второе не заставило себя долго ждать. Снова звякнул колокольчик, и со своего наблюдательного пункта в холле я увидел, что перед домом остановился цыганский фургон, увешанный корзинами и плетеными стульями. Похоже, что у двери стояло два-три человека. Я решил, что они хотят предложить мне купить что-то из своих товаров, поэтому, приоткрыв дверь дюйма на три, сказал:
– Спасибо, не надо, – и тут же захлопнул дверь снова.
Наверное, они не расслышали меня, потому что снова позвонили. На это я раскрыл дверь пошире и отчетливее повторил свои слова, но, к моему удивлению, колокольчик прозвенел в третий раз. Тут уж я настежь распахнул дверь, собираясь спросить, что означает подобная дерзость, но тут из небольшой компании, стоящей на пороге, донесся голос:
– Простите, сэр, у нас ребенок.
Такой быстрой перемены, какая произошла со мной, свет еще не видывал. Разъяренный домовладелец превратился в деловитого профессионала в мгновение ока.
– Прошу вас, мадам, входите, – сказал я самым вежливым голосом, на который был способен, и они вошли, муж, брат, жена и ребенок. У последнего была корь в начальной стадии. Это были бедные обездоленные люди, и вряд ли у них нашлось бы хотя бы шесть пенсов, поэтому, когда после консультации я поднял вопрос об оплате, это закончилось тем, что я сперва отказался от платы за лекарство, а потом еще добавил от себя пять пенсов медяками. Больше мелких денег у меня не нашлось. Еще несколько таких пациентов, и я буду разорен полностью.
Впрочем, эти два случая помогли мне отвлечься и вынести удар, который нанесло мне письмо от Каллингворта. Мысль о том, что тот, кого я принял за случайного посетителя, оказался пациентом, а тот, кого я посчитал верным пациентом, был случайным посетителем, рассмешила меня. Поэтому я снова направился к себе в комнату, готовый взглянуть свежими глазами на этот в высшей степени интересный документ и решить, что мне теперь делать.
И тогда я впервые намерился глубоко покопаться в сложном и неоднозначном характере Каллингворта. Начал я с того, что попытался вспомнить, почему я решил разорвать письма матери, ведь обычно я не уничтожаю бумаги подобным способом. Я довольно часто становился объектом насмешек из-за того, что забивал ими карманы, пока те чуть ли не лопались. Чем больше я об этом думал, тем больше убеждался в том, что я не мог сделать ничего подобного. Я порылся в содержимом карманов своего старого короткого пиджака, который обычно носил в Брадфилде, и – что бы ты думал, Берти? – это письмо было там! Почти первый открытый мной конверт содержал в себе именно то письмо, на которое ссылался Каллингворт, где моя матушка характеризовала его в довольно резких выражениях.
Тут-то я призадумался. Я всегда считал подозрительность одним из самых нехарактерных для меня качеств, и из-за присущей мне беспечности никогда даже мысли не допускал, что человек, с которым мне приходится общаться, может замышлять что-либо против меня. Мне такое просто не приходит в голову. Но, как только я начинаю думать об этом, едва у меня появляется повод что-то такое заподозрить, мое доверие к этому человеку тут же исчезает без следа. Теперь я вижу объяснение многим вещам, которые озадачивали меня в Брадфилде. Те внезапные припадки дурного настроения, плохо скрываемая враждебность Каллингворта… Не совпадали ли они по времени с приходом писем от моей матери? Я пришел к выводу, что совпадали. Выходит, он их читал… доставал из кармана моего пиджака, который я столь легкомысленно оставлял в холле, когда надевал другой пиджак, уходя на работу. Я, к примеру, помню, как неожиданно изменилось поведение Каллингворта в конце его болезни, когда пришло последнее письмо от матери. Да, теперь не может быть сомнений, он читал эти письма с самого начала.
Однако мне предстояло окунуться в еще более темные глубины его вероломства. Если он читал их и если был настолько безумен, что решил, будто я позволяю себе такой наглый обман, почему он не сказал об этом сразу? Зачем он тянул канитель, дулся, затевал ссоры по пустякам, выжимал из себя улыбку, когда я напрямую спрашивал, что происходит? Самый очевидный ответ: он не мог назвать причин своего поведения, не выдав себя, сказав, каким образом он узнавал содержание нашей с матерью переписки. Но я слишком хорошо знал Каллингворта, чтобы не чувствовать, как легко он способен решить подобную задачу. Сказка про служанку и разорванное письмо как раз очень хорошо это доказывает. Его должна была сдерживать более веская причина. Воскресив в памяти развитие наших с ним отношений, я пришел к выводу, что он подобными провокациями хотел заставить меня выдать себя, а после выставить на улицу, чтобы я сам разбирался со своими будущими кредиторами… В точном соответствии с той характеристикой, какую дала ему моя мать.
Но, если это так, то он должен был планировать это почти с самого начала моего пребывания с ним под одной крышей, потому как письма, клеймящие позором его поведение, я начал получать чуть ли не с первого дня. Значит, какое-то время он раздумывал, как поступить. Потом сочинил благовидный предлог, чтобы отделаться от меня (показавшийся мне, если помнишь, надуманным): заявил, что из-за меня падают его доходы. Следующим его шагом было попытаться убедить меня начать собственную практику, а, поскольку это было невозможно сделать без денег, пообещал каждую неделю переводить мне небольшую сумму. Я вспомнил, как он советовал мне не бояться заказывать мебель и другие вещи, потому что торговцы предоставляют молодым врачам долгосрочные кредиты и я всегда могу рассчитывать на помощь с его стороны. Кроме того, по собственному опыту он знал, что минимальный срок, на который арендодатель согласится сдать дом, – один год. Затем он дождался, пока я сообщу ему, что наконец устроился, и в своем обличительном письме поставил меня перед фактом о разрыве наших отношений. Это была столь продуманная и продолжительная хитрость, что я впервые испытал что-то вроде страха при мысли о Каллингворте. Чувство было такое, будто под человеческой оболочкой мне вдруг удалось разглядеть какое-то чудовище или какое-то настолько далекое от моего понимания существо, перед которым я бессилен.
И все же я написал ему ответ… короткую записку, но, надеюсь, достаточно едкую. Я поблагодарил его за письмо, сказав, что оно устранило единственный повод для существовавших между мною и моей матерью разногласий. Она всегда считала его подлецом, я же всегда его защищал. Но теперь я убедился, что она была права с самого начала. Думаю, этого вполне хватило, чтобы он понял, как я раскусил весь его хитроумный замысел. В конце я уверил его в том, что, если ему кажется, будто он сумел навредить мне, то он впадает в большую ошибку, поскольку, сам того не понимая, подтолкнул меня к началу той карьеры, о которой я так давно мечтал.
Поставив последнюю точку в своем бравурном послании, я почувствовал себя несколько лучше и снова обдумал общее положение дел. Я был один в чужом городе, без связей, без знакомств, почти без денег и без надежды найти способ отделаться от взятых на себя обязательств. Обратиться за помощью мне было не к кому, поскольку из последних писем из дому я знал, что и там дела идут далеко не самым лучшим образом. Здоровье и доходы бедного отца сокращались в равной степени. Хотя, с другой стороны, не все было так уж плохо. Я молод, полон сил, привычен к превратностям жизни и готов противостоять им. К работе своей я подготовлен прекрасно и не сомневаюсь, что рано или поздно у меня появятся пациенты. Дом мой превосходно подходит для моих целей, и вся необходимая мебель уже куплена. Игра еще не окончена. Я вскочил, сжал кулаки и дал клятву висевшей под потолком люстре, что игра не будет закончена до тех пор, пока мне не придется взывать о помощи, высунувшись из окна.
Следующих три дня колокольчик на моей двери не шелохнулся ни разу. Я был полностью оторван от окружающего мира. Несколько раз я развлекал себя тем, что шел наверх, садился у окна и подсчитывал, сколько прохожих остановилось, чтобы прочитать надпись на моей вывеске. Однажды (в воскресенье утром) за один всего лишь час таких насчиталось больше сотни, и часто по тому, как они, продолжив путь, оглядывались, я понимал, что они думают или говорят о появившемся в их районе новом враче.
Это меня подбадривало и заставляло думать, что хоть что-то происходит.
Каждый вечер между девятью и десятью я выскальзывал из дому и шел в магазин за скромными покупками, предварительно составив меню на следующий день. Обычно я покупал буханку хлеба, жареную рыбу и связку копченых сосисок. Вернувшись домой и дождавшись, пока улица опустеет, я выходил и чистил фасад дома. Если на горизонте появлялся какой-нибудь прохожий, я прислонял швабру к стене и устремлял задумчивый взгляд на звезды. После этого, уже совсем поздно, я брал полировальную пасту, тряпку и кусочек замши, и, уверяю тебя, если бы блеск вывески врача соответствовал успешности его практики, я считался бы лучшим врачом в этом городе.
Ты ни за что не догадаешься, кем оказался человек, первым нарушивший мое затворничество. Это был тот хулиган, с которым я подрался у фонарного столба. Оказалось, что он точильщик ножниц, и ко мне он зашел узнать, нет ли у меня для него работы. Открыв дверь и увидев, кто передо мной стоит, я не мог сдержать усмешку, хотя он, похоже, меня не узнал. Да это и неудивительно.
Следующим, кто нанес мне визит, был самый настоящий пациент, хотя и довольно скромный. Дряблая старушка-горничная, убежденный ипохондрик{216}, насколько я мог судить. Она, должно быть, обходила всех врачей в городе и решила узнать, что собой представляет новичок. Не знаю, какое я на нее произвел впечатление. Она сказала, что придет еще раз в среду, правда, опустив при этом глаза. Заплатить она смогла лишь шиллинг шесть пенсов, но и эти деньги для меня были очень важны. На один шиллинг и шесть пенсов я могу прожить три дня.
Мне кажется, я довел экономию до предела. Я не сомневаюсь, что какое-то время смог бы даже прожить, тратя пару пенсов в день, однако мой нынешний образ жизни – это не временное испытание на прочность, так мне предстоит жить еще многие и многие месяцы. В день я потребляю чаю, сахара и молока (сгущенного) на одно пенни. Буханка хлеба стоит два пенса три фартинга, ее мне хватает на день. Обед мой обычно состоит либо из одной трети фунта свиной грудинки, поджаренной на газу (два пенса полпенни), либо из четверти восьмипенсовой банки чикагской тушенки (два пенса). С водой и хлебом это вполне питательно. От масла я пока отказался. В общей сложности на еду в день я трачу меньше шести пенсов, но, кроме того, моя страстная приверженность к чтению стоит мне еще полпенни в день, которые я трачу на вечернюю газету. Сейчас в Александрии происходят такие события{217}, что я не могу позволить себе не следить за новостями. Хотя часто я упрекаю себя за эту расточительность, потому что, если выходить по вечерам на улицу и присматриваться к рекламным щиткам у газетных лотков, я могу быть в курсе событий совершенно бесплатно. Да, полпенни в день кажется совершенно незначительной суммой, но в месяц это составляет шиллинг! Ты, наверное, уже представляешь меня этаким чахлым обескровленным заморышем. Да, лишнего веса у меня нет, но я еще никогда не чувствовал себя в лучшей форме. Я так полон энергии, что иногда выхожу из дома в десять и до двух-трех часов утра гуляю по городу. Днем я сижу дома, потому что боюсь пропустить пациента. Мать я попросил не присылать Пола, пока не обустроюсь получше.
На днях ко мне зашел Вайтхолл. Приходил он для того, чтобы пригласить меня на обед, а обед устраивался для того, чтобы отпраздновать начало моей практики. Я чувствую, что, если бы я был родным сыном этого доброго старика, он и то не относился бы ко мне с бóльшим участием.
– Ей…, доктор Манро, сэр, – сказал он, – я опросил всех в Берчспуле, у кого хоть что-то болит. Не пройдет и недели, как у вас от пациентов отбою не будет! Вот Фрейзер, у него что-то там с печенью и почками, обещал прийти. Потом Саундерс, с тем вообще только и разговоров, что про его … селезенку. Я про нее уже слышать не могу! Но я и его пригласил. Да, еще Терпи с его раной! Она у него на сырую погоду жутко ноет, но его врач ничем помочь ему не может, только вазелином мажет. И Карр, этот скоро до смерти сопьется. Тут-то врачи, конечно, не помогут, но все, что вы у него найдете, все ваше.
Весь следующий день он забегал ко мне, уточнять всякие мелочи насчет обеда. Что лучше заказать, бульон или суп из бычьих хвостов? Что, по-моему, лучше: бургундское или портвейн и шерри{218}? Само празднование было назначено на следующий день. Он зашел рано утром сразу после завтрака и сообщил мне, как все планируется провести. Готовкой будут заниматься в какой-то кондитерской, а роль официанта возьмет на себя сын хозяйки. С сожалением я отметил, что у Вайтхолла заплетается язык, он уже явно успел основательно подготовиться к праздничному обеду. В полдень он еще раз заглянул ко мне напомнить, как здорово мы проведем время. Тот-то знал тысячу разных историй и рассказывал их так, что заслушаешься, у того-то был просто золотой голос. Сам он к этому времени был уже настолько пьян, что я, позволив себе выступить в роли врача-консультанта, решился поговорить с ним об этом.
– Дело не в выпивке, доктор Манро, сэр, – с убеждением в голосе сказал он. – Это здешний воздух на меня так расслабляюще действует. Но ничего, я сейчас пойду домой, залягу на боковую и, когда начнут собираться гости, буду как стеклышко.
Однако ожидание надвигающегося веселья оказалось для него непосильным испытанием. Когда я пришел к нему в без пяти минут семь, меня встретил Терпи, раненый лейтенант. Его лицо не предвещало ничего хорошего.
– Вайтхоллу крышка, – сказал он.
– То есть как?
– Он ничего не видит, лежит, как бревно, и двух слов связать не может. Заходите, полюбуйтесь.
Стол в его комнате был празднично накрыт, несколько графинов и большой холодный пирог стояли на буфете. На диване лежало распростертое тело несчастного хозяина. Голова его была запрокинута, раздвоенная борода указывала на карниз, рядом на стуле стоял недопитый бокал виски. Как мы ни кричали, как ни трясли его, все было напрасно, пробиться сквозь стену пьяного забытья мы не могли.
– Что же делать? – взволнованно спросил Терпи.
– Нельзя, чтобы его видели в таком виде. Нужно его куда-то перенести, пока никто не пришел.
Мы подняли его и перенесли в спальню на кровать. Пока мы его несли, голова и руки у него болтались, ноги сгибались, и мне он показался похожим на гигантского мертвого питона. Как только мы закончили возиться с ним, прибыло еще трое гостей.
– Очень жаль, но Вайтхолл плохо себя чувствует, – сказал им Терпи. – Доктор Манро думает, что ему будет лучше пока полежать.
– На самом деле я запретил ему подниматься, – добавил я.
– В таком случае предлагаю, чтобы роль хозяина взял на себя мистер Терпи, – сказал один из вновь пришедших, и предложение это ни у кого не вызвало возражений.
Через какое-то время пришел еще один гость, но обед все не несли. Мы прождали еще четверть часа – ничего! Тогда решили позвать хозяйку, но и она не смогла прояснить ситуацию.
– Капитан Вайтхолл заказал обед в кондитерской, сэр, – ответила она на вопрос лейтенанта. – Он не уточнял, в какой именно. Тут вокруг есть четыре-пять таких заведений, и он мог обратиться в любое из них. Он только сказал, что ему пообещали все сделать вовремя, и попросил меня испечь яблочный пирог.
Прошло еще пятнадцать минут, у всех уже начинало сводить животы. Стало ясно, что Вайтхолл что-то напутал. Мы начали коситься на яблочный пирог, как корабельная команда на мальчика в романах о кораблекрушениях. Один из гостей, рослый волосатый мужчина с татуировкой в виде якоря на руке, встал, взял с буфета пирог и поставил его перед Терпи.
– Что скажете, джентльмены? Порезать?
Все мы тут же устремились к столу с такой решительностью, которая делала слова совершенно излишними. Через пять минут на тарелке не осталось ни крошки. Но вместе с пирогом исчезло и наше невезение. Не прошло и минуты, как появился сын хозяйки с супом, заливным из трески, ростбифом, дичью и мороженым, которые подавались на стол по очереди. Задержка вышла в результате какого-то недоразумения со временем. Но, несмотря на необычное hors d’œuvre[37], с которого мы начали, все было съедено подчистую, и более приятного обеда или веселого вечера я в своей жизни почти не помню.
Вайтхолл пришел ко мне извиняться на следующее утро.
– Простите, что я так вас подвел вчера, доктор Манро, сэр, – сказал он. – Понимаете, мне бы жить в горах, на свежем воздухе, а не на этой … крокетной площадке. И я … рад, что вы хорошо провели у меня время. Надеюсь, вам все понравилось.
Я уверил его, что все было замечательно, только про пирог рассказать не решился.
Все это я рассказываю тебе, Берти, только для того, чтобы ты не думал, будто мне так уж плохо живется. Несмотря на ту ситуацию, в которой я оказался, в жизни моей есть место и веселью. Однако я бы хотел вернуться к более серьезному вопросу. Я был страшно рад получить твое письмо, в котором ты осуждаешь догматическую науку. Но не думай, что сейчас я начну выпускать когти, ибо я согласен почти с каждым твоим словом.
Человек, заявляющий, что мы не можем познать ничего, по моему мнению, заблуждается не меньше, чем тот, кто утверждает, будто божественной силой нам было открыто все. Больше всего на свете я не выношу самодовольных ученых, которые прекрасно разбираются в своей области науки, но которым не хватает воображения для того, чтобы понять, какой крохотной песчинкой являются собранные в их головах сомнительные знания по сравнению с огромным берегом нашего невежества. Такие люди считают, что все мироздание можно объяснить с помощью набора определенных законов, забывая о том, что сами законы требуют толкования вселенского масштаба! Работу двигателя можно объяснить законами физики, но это не делает вышеупомянутое существование инженера менее очевидным. Однако прекрасное равновесие нашей жизни частично основывается на том, что, как только где-нибудь появляется ярко выраженный фанатик, сразу же возникает другой фанатик, отстаивающий совершенно противоположные взгляды, который нейтрализует его воздействие на этот мир. На каждого сарацина{219} найдется крестоносец, на каждого фения{220} найдется оранжист{221}. Каждое действие имеет противодействие. Таким образом, присутствие всех этих ограниченных ученых уравновешивает существование тех господ, которые до сих пор уверены, что мир был создан в 4004 году до нашей эры{222}.
Если вдуматься, истинная наука должна быть синонимична религии, поскольку наука служит для накопления фактов, а факты – это то единственное, что может помочь нам понять, кто мы и какова наша цель в этом мире. Но чем больше мы задумываемся о том, каким образом нам достаются факты, тем больше понимаем, насколько важна и невообразимо сложна та невидимая сила, которая кроется за ними. Сила, которая несет Солнечную систему через Вселенную, наполненную другими космическими объектами, не сталкивая их между собой, и которая придает хоботку насекомого именно такую длину, которая нужна для того, чтобы достать до дна медоносного цветка. Чем же является эта глубинная всеобъемлющая сила? Можно вооружить твоего ученого-догматика мощнейшим микроскопом и телескопом с шестифутовым рефлектором{223}, но ни в малом, ни в большом он не обнаружит и следа этой великой движущей силы.
Давай представим себе человека, которому принесли великолепную картину, но он, засомневавшись в ее истинной стоимости, тут же заключает, что ее никто вообще не писал или, по крайней мере, заявит о том, что не располагает фактами, доказывающими существование живописца. Что подумаем мы о таком человеке? Мне кажется, что некоторые самые воинственно настроенные агностики занимают примерно ту же позицию. «А само существование картины не является доказательством того, что над ней потрудился талантливый художник?» – может спросить кто-нибудь. «Конечно же, нет! – ответит на это сомневающийся. – Ведь есть вероятность того, что картина эта возникла сама по себе, вследствие неких законов. И, кроме того, когда картину эту первый раз показали мне, меня уверили, что на ее создание ушло не более недели, но я-то вижу, что для того, чтобы написать такое полотно, понадобилось бы намного больше времени. Это и заставляет меня сомневаться в том, что ее вообще кто-то писал».
Отодвинув сию преувеличенную научно обоснованную осторожность в одну сторону, а веру, как нечто в той же степени несостоятельное, в другую, мы увидим перед собой прямую и короткую дорогу, ведущую к пониманию того, что наличие Вселенной предполагает и наличие создателя Вселенной и что на основании этого мы можем определить некоторые из Его свойств: Его могущество, Его мудрость, Его внимание к мелочам, избыточность, с которой Он обеспечивает нужды своих созданий. Но, с другой стороны, мы не имеем права на основании этого лицемерно закрывать глаза на тайну существования боли, жестокости, всего того, что кажется нам недостатком Его работы. Все, что нам остается, это надеяться, что в них заключено какое-то доброе начало, пока еще недоступное нашему пониманию, и что нужны они для достижения какой-то высшей цели. Крику истязаемого ребенка или мучаемого животного труднее всего дать философское объяснение.
Что ж, дружище, позволь мне на этом закончить. Я рад, что, по меньшей мере, в одном наши с тобой мысли сходятся.
XIV Окли-виллас, 1, Берчспул, 15 января, 1883.
Дорогой мой Берти, ты обижаешься и пишешь, что разлука, должно быть, ослабила нашу дружбу, поскольку за все эти долгие семь месяцев я не послал тебе ни единой строчки. Но в действительности дело в том, что я просто не решался писать тебе до тех пор, пока не смогу сообщить какую-нибудь радостную новость. Но как же долго пришлось ждать этой новости! Сегодня я, по крайней мере, могу тебе сообщить, что нависшая надо мной туча, похоже, начинает понемногу светлеть по краям.
По адресу, написанному в начале письма, ты уже понял, что я все еще держусь за свое место, но, если честно, удержаться здесь было чрезвычайно трудно. Не раз я начинал думать, что тот кусок обшивки, о котором писал старый добрый Вайтхолл, начинает выскальзывать из моих рук. Меня то прибивало к берегу, то снова уносило в открытое море. Иногда я оставался почти без денег, иногда вовсе без них. Даже в лучшие времена жилось мне нелегко, а в худшие я чуть ли не голодал. Я жил, ограничивая свое питание одной буханкой хлеба в день, когда в моем столе лежали десять серебряных фунтов. Но эти фунты, собранные по крохам, были предназначены для квартальной арендной платы, и хоть пенни из них я бы потратил на еду лишь в том случае, если бы мне пришлось до этого не есть целые сутки. Два дня мне просто не за что было купить почтовую марку. Прочитав в вечерней газете о лишениях наших ребят в Египте, я улыбнулся. Их дневной паек для меня был бы настоящим пиршеством. Впрочем, какая разница, откуда ты получил углерод, азот и кислород, раз уж ты их получил. Гарнизон Окли-виллас выдержал худшие времена и сдаваться не собирается.
Не то чтобы у меня совсем не было пациентов. Конечно же, люди приходили. Некоторые, как та старая горничная, первая из них, больше не возвращались. Я думаю, они просто не доверяли врачу, который сам открывает дверь посетителям. Некоторые стали моими постоянными пациентами, но почти все они были людьми очень бедными, и, если ты подумаешь о том, сколько нужно шиллингов и шестипенсовиков, чтобы собрать пятнадцать фунтов, которые я каждый квартал где-то должен брать на аренду, налоги, газ и воду, ты поймешь, что даже при определенном успехе для меня очень сложно хоть что-то откладывать в свой чемодан, который одновременно служит мне кладовой для продуктов. И все-таки, друг мой, два квартала оплачены, и в третий квартал я вхожу с высоко поднятой головой. Я похудел почти на стоун{224}, но сердце мое все так же горячо.
Я уже плохо помню, когда именно писал тебе последний раз. По-моему, недели через две после переезда в Берчспул, сразу же после разрыва с Каллингвортом. За это время произошло столько всего, что я даже не представляю, с чего лучше начать. Жизнь моя была наполнена множеством маловажных и не связанных между собой событий. Правда, тогда мне они таковыми не казались, но сейчас-то, когда с тех пор утекло уже столько воды, мне кажется, что всему этому не стоит уделять особого внимания. Раз уж я упомянул Каллингворта, начну с того немногого, что могу рассказать о нем. Я послал ему ответ, о чем, кажется, уже рассказывал, и не думал, что когда-либо услышу о нем снова, но моя короткая записка, похоже, задела его за живое. Я получил ответное письмо в резких выражениях, в котором он говорил, что, если я хочу, чтобы он поверил моим «bona-fide»[38] (не знаю, что он хотел этим сказать), то мне бы следовало вернуть ему все те деньги, которые я получил, работая с ним в Брадфилде. На это я ответил, что сумма эта составляет примерно двенадцать фунтов и что у меня все еще хранится его письмо, в котором он гарантировал, что я получу триста фунтов, если приеду в Брадфилд, таким образом разница в двести восемьдесят восемь фунтов была в мою пользу, и, если я в ближайшее время не получу чек на обозначенную сумму, я передам это дело в руки своему адвокату. На этом наша переписка прекратилась.
Однако произошел еще один случай. Однажды, месяца через два после начала практики, я случайно обратил внимание на с виду ничем не примечательного бородача, который прогуливался напротив моего дома по противоположной стороне улицы. Днем, выглянув в окно приемной, я снова его увидел. На следующее утро я опять его заметил, и у меня возникли определенные подозрения, которые переросли в уверенность, когда через день или два после этого, выходя из дому одного из своих небогатых пациентов, я увидел этого субъекта у зеленной лавки через дорогу. Я прошелся до конца улицы, свернул за угол и остановился. Через недолгое время торопливой походкой из-за угла вышел и он.
«Возвращайтесь к доктору Каллингворту и передайте ему, что я сам решаю, как мне работать и сколько мне работать, – сказал я. – Если вы и после этого не прекратите шпионить за мной, пеняйте на себя».
Он смешался и покраснел, я же пошел своей дорогой и больше его не встречал. Каллингворт – единственный человек в мире, кого может интересовать, чем именно я занимаюсь, и молчание этого человека – лучшее доказательство тому, что я не ошибся. С тех пор о Каллингворте я не слышал.
Вскоре после начала моей работы здесь я получил письмо от моего дядюшки-артиллериста, Александра Манро. Он написал, что узнал о моих делах от моей матери, и пожелал скорейшего успеха в моем начинании. Он, о чем я, кажется, тебе говорил, ревностный методист-веслианец{225}, как и остальные мои родственники по отцовской линии. Так вот, он написал, что глава местного веслианского отделения в Берчспуле – его старый друг, и от него он знает, что у веслианцев нет своего врача; поэтому, поскольку я сам происхожу из семьи веслианцев, я мог бы обратиться к нему с прилагаемым рекомендательным письмом, что, бесспорно, значительно расширило бы круг моих пациентов. Я обдумал его предложение, Берти, и решил, что с моей стороны было бы низостью использовать религиозную организацию для своей выгоды, раз я отвергаю религию в общем. Искушение было очень велико, но я уничтожил то письмо.
Могу сказать, что один-два раза мне повезло случайно найти клиента. Один раз (и для меня тогда это было чрезвычайно важно) бакалейщик по фамилии Хейвуд упал в приступе перед своим магазином. Я как раз проходил мимо, направляясь к одному из своих безденежных пациентов, больному брюшным тифом. Ты сам понимаешь, что мне это показалось знаком судьбы. Я тут же бросился к нему, помог справиться с приступом, успокоил его жену, пощекотал ребенка, в общем, как мог, постарался расположить к себе всех его домочадцев. Эти приступы случались у него периодически, поэтому он предложил мне и дальше следить за его здоровьем с тем, чтобы расплачиваться со мной своими товарами. Это была какая-то дьявольская сделка, потому что каждый припадок Хейвуда сулил мне масло и свиную грудинку, а приступ здоровья означал для меня черствый хлеб и копченые сосиски. И все-таки благодаря этому мне удалось отложить на арендную плату немало шиллингов, которые в противном случае были бы потрачены на еду. Потом бедняга умер, и на этом наш контракт утратил силу.
Еще два случая произошло рядом с моей дверью (перекресток там довольно оживленный), и хоть оба раза они мне практически ничего не принесли, но, по крайней мере, я получал удовлетворение, когда потом отправлялся к газетному ларьку и видел в вечернем номере, что «кучер, хотя и был в большой степени потрясен, по заключению доктора Старка Манро из Окли-виллаc, серьезных травм не получил». Как когда-то говорил Каллингворт, молодому врачу очень сложно пропихнуть свое имя в газеты, и поэтому нужно пользоваться любым шансом. Возможно, корифеи моей профессии и не посчитали бы упоминание фамилии в какой-то провинциальной газетенке чем-то достойным уважения, но мне до сих пор не приходилось слышать о том, чтобы хоть кто-нибудь из них возражал против того, что их имена упоминались в публикуемых в «Таймс» сводках о состоянии здоровья некоторых наших государственных мужей.
А потом случилось нечто более серьезное. Это произошло через два месяца после моего начала, хотя сейчас я уже с трудом вспоминаю, в какой последовательности происходили события. По моей улице как-то проезжал на лошади известный в городе адвокат по фамилии Диксон, и вот прямо напротив моего дома лошадь его вдруг чего-то испугалась, встала на дыбы и упала на спину, придавив хозяина. Я в это время ел сосиски в задней комнате, но, услышав шум, побежал к выходу и как раз встретился с толпой, которая несла его к моей двери. Мой холл тут же наполнился людьми, которые истоптали мне всю приемную и даже зашли в заднюю комнату, в тот момент художественно оформленную чемоданом с недоеденным куском хлеба и холодными копчеными сосисками на крышке.
Однако в то время я думал только о своем пациенте, который громко стонал. Я убедился, что ребра у него целы, проверил суставы, ощупал руки и ноги и пришел к выводу, что переломов или смещений у него не было, но он потянул себе мышцы таким образом, что ему было больно сидеть или ходить. Поэтому я послал за открытым экипажем и препроводил его домой. Причем ехали мы так: он стоял, а я с очень серьезным видом сидел рядом с ним и держал его обеими руками. Коляска ехала медленно, поэтому вся толпа свидетелей происшествия шла за нами, и из каждого окна высовывались привлеченные шумом любопытные лица. Лучшей рекламы нельзя и придумать. Все это напоминало цирковой парад. Впрочем, когда мы приехали к его дому, профессиональная этика потребовала, чтобы я передал пострадавшего в руки их семейного врача, что я и сделал, соблюдая все правила учтивости… хотя и не без затаенной надежды на то, что старый врач скажет мне: «Доктор Манро, вы проявили такую заботу о моем пациенте, что для меня было бы огромной честью, если бы вы согласились взять на себя дальнейшую опеку над ним». Но он, напротив, жадно вырвал его из моих рук, и мне осталось только удалиться, радуясь тому, что заслужил некоторую репутацию, получил рекламу и заработал гинею.
Это несколько более-менее интересных примеров, выделяющихся на фоне рутины моей жизни… довольно незначительных, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. В общем же жизнь моя все это время была монотонной и до отвращения неинтересной: заработал шиллинг, потратил шиллинг, накопил на то, накопил на се, получил очередную квитанцию из рук жизнерадостного сборщика налогов, который, наверное, и не догадывался, каким бременем является для меня этот голубой листок бумаги. То, что мне приходилось выплачивать налог в пользу бедных, меня даже забавляло, ведь мне самому было впору получать эти деньги. Трижды в самые тяжелые времена я закладывал свои часы, и трижды мне удавалось выкупить их. Но могут ли заинтересовать тебя подробности такой жизни? Вот если бы благородная графиня поскользнулась на апельсиновой корке рядом с моей дверью, или невероятным tour-de-force[39] мне бы удалось спасти безнадежно больного местного толстосума, или под покровом ночи в мою дверь постучали бы и предложили поехать в какой-нибудь уединенный дом для того, чтобы оказать помощь безымянному незнакомцу, пообещав по-королевски заплатить при условии, что я буду держать язык за зубами, вот тогда мне было бы чем занять твое внимание. Но бесконечное выслушивание биения сердца старой поденщицы или хрипов в легких торговца зеленью мало чем может заинтересовать. Добрые ангелы мне не встречались.
Хотя нет, подожди! Один таки встретился. Как-то раз в шесть часов утра меня разбудил звонок в дверь. Подкравшись к прихожей и осторожно выглянув из-за угла, я через стекло в двери увидел высокого джентльмена в цилиндре. В сильном возбуждении, переполненный всевозможными предположениями о том, что может означать этот ранний визит, я бегом вернулся в свою комнату, кое-как оделся, помчался обратно, открыл дверь и увидел перед собой Хортона. Этот славный человек приехал из Мертона на экскурсионном поезде. Он провел в дороге всю ночь. Под мышкой он держал зонтик, а в руках – две большие соломенные корзины, в которых, как потом выяснилось, были холодная баранья нога, полдюжины бутылок пива, бутылка портвейна, разнообразные пирожки и другая аппетитная всячина. Мы провели великолепный день вместе, и, когда вечером он поехал дальше со своей экскурсией, мне было грустно с ним расставаться.
Кстати, о грусти. Ты, Берти, неправильно меня понимаешь, если думаешь (о чем я сужу по твоему письму), что я впал в меланхолию. Да, я отказался от некоторых форм утешения и сострадания, которые доступны тебе, но по той причине, что я не могу убедить себя в их искренности, и все же, по крайней мере в этом мире, я вижу массу причин не терять надежду. Ну, а насчет другого, тут я не сомневаюсь, что все будет хорошо. Что бы ни было уготовано мне тайным планом великого Конструктора, от полного уничтожения до вершин блаженства, я готов принять судьбу.
В этом мире есть множество вещей, которые наполняют твое сердце ощущением полного счастья. Добро поднимается, а зло опускается на дно, как масло и вода в банке. Человеческая раса улучшается. Все меньше выносится обвинительных приговоров, образование становится все более доступным. Люди меньше грешат и больше думают. Когда я встречаю человека с недобрым лицом, я думаю, что скоро он и похожие на него превратятся в такой же исчезающий вид, как большая гагарка. И я не думаю, что, исходя из разных «…ологических» интересов, нам стоит хранить в заспиртованном виде несколько образцов всяких Биллов Сайксов, чтобы потомки наши имели возможность представить себе, как выглядели такие люди.
И чем больше мы совершенствуемся, тем большую склонность к совершенствованию обретаем. Мы развиваемся не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Нас интересует весь без исключений багаж знаний и добродетелей, который накапливается человечеством с незапамятных времен. Считается, что человека эпохи палеолита{226} и человека эпохи неолита{227} разделяет около восьмидесяти тысяч лет. И за все это время человек всего лишь научился точить свои каменные орудия вместо того, чтобы оббивать их. А каких только перемен не произошло за последние лет пятьдесят! Появились поезда, телеграф, хлороформ{228} и электричество. Сейчас десять лет значат больше, чем раньше тысячелетие, и происходит это не из-за того, что мы становимся умнее, а в большей степени из-за того, что свет, заложенный в нас, указывает нам направление, в котором нужно развиваться. Первобытный человек брел, не разбирая дороги, медленно и спотыкаясь. Мы же идем стремительным шагом к нашей невидимой цели.
Что же это за цель? Я имею в виду, относительно нашего мира. С того самого дня, когда человек впервые нацарапал иероглифы на глиняной вазе или написал их сепией{229} на папирусе, он задумывался над этим вопросом так же, как мы сегодня. Да, наверное, мы действительно знаем о мире немного больше, чем они. Нам было дано около трех тысяч лет, чтобы сейчас жить той жизнью, о которой будут рассуждать наши потомки. Но этот крошечный срок настолько мал по сравнению с теми огромными временными промежутками, которыми оперирует Провидение, воплощая в жизнь свои планы, что любые наши выводы, пожалуй, можно считать сомнительными. Погрязнет ли цивилизация в болоте варварства? Такое уже случалось раньше по той причине, что очаги цивилизованности были всего лишь маленькими искрами в окружении темноты. Но что, к примеру, может сломить ту великую страну, в которой живешь ты? Нет, наша цивилизация будет развиваться и становиться все более и более сложной. Люди научатся жить в воздухе и под водой. Профилактическая медицина разовьется до такой степени, что естественное старение организма останется единственной причиной смерти. Образование и более социалистически ориентированное устройство общества покончит с преступлениями. Все говорящие на английском языке народы объединятся под флагом Соединенных Штатов. Постепенно Европейские Штаты последуют их примеру. Войны станут редкостью, но будут они намного страшнее войн современных. Различные формы религии исчезнут, останется лишь ее суть, и единая всеобщая конфессия охватит весь цивилизованный мир и станет проповедовать веру в ту основополагающую силу, которая и тогда будет оставаться столь же непознанной, как и сейчас.
Вот каким я вижу наше будущее, ну а что будет после этого, решать Солнечной системе. Хотя Берти Суонборо и Старк Манро будут носиться с западным ветром и оседать пылью на окнах чистоплотных домохозяек задолго до того, как пройдет хотя бы половина этого срока.
Конечно же, изменится и сам человек. Зубы у людей ухудшаются стремительно. Чтобы в этом убедиться, достаточно подсчитать количество зубных врачей в Берчспуле. Волосы тоже. Как и зрение. Когда мы думаем о том, как будет выглядеть более развитый человек будущего, мы подсознательно представляем его себе лысым и в очках. Я в этом отношении – совершенное животное, единственный признак моей развитости – отсутствие двух задних зубов. Хотя, с другой стороны, есть доказательства, свидетельствующие о развитии шестого чувства – сверхчувственного восприятия. Если бы я им обладал, я бы уж наверняка почувствовал, как утомили тебя мои обобщения и догматизм.
Но в любых рассуждениях о будущем должна присутствовать определенная доля догматизма, поскольку откуда мы можем знать, что природа в своем развитии не свернет на такие дороги, о существовании которых мы и не догадываемся? Ведь если приравнять среднюю продолжительность жизни человека к одной секунде, а существование Земли – к одному дню, то нам о его истории известно не больше нескольких минут. Если человек проживает одну секунду дня, его сын еще одну, а сын сына еще одну, может ли наша общая память каким-то образом подготовить наших потомков, которые будут жить через сотни поколений, к встрече с таким феноменом, как ночь? Так что вся наша история, все наши знания не могут дать гарантии того, что земле нашей не уготованы такие перемены, которых мы не можем даже себе представить.
Однако возвратимся от разговора о судьбах вселенных к обсуждению существования такой ничтожной букашки, как я. Мне кажется, что о первых шести месяцах своей жизни в Берчспуле я уже рассказал все, что могло бы тебя заинтересовать. Ближе к концу этого срока приехал мой младший брат Пол… И лучшего компаньона я бы себе не пожелал! Мои маленькие бытовые неудобства вызывают у него лишь веселую улыбку, он всегда поднимает мне настроение, он гуляет со мной, ему интересно все, что интересно мне (я всегда разговариваю с ним как с ровесником), и он помогает мне во всем, от чистки обуви до расстановки в нужном порядке лекарств. Единственные лишние расходы, которые он приносит, вызваны тем, что он любит вырезать из бумаги армии маленьких солдатиков. В тех редких случаях, когда у нас появляются хоть какие-то деньги, мы покупаем свинцовых. Было такое, что я, пригласив пациента в приемную, обнаруживал у себя на столе выстроившиеся в походном порядке отряды кавалерии, пехоты и артиллерии. Бывало, я и сам подвергался атакам, когда, возясь с какими-то бумагами у себя за столом, поднимал глаза и вдруг наталкивался взглядом на надвигающиеся на меня передовые отряды стрелков с колоннами пехоты в арьергарде, кавалерийские эскадроны, обходящие меня с флангов, артиллерийскую батарею, развернувшуюся на моем медицинском словаре и обстреливающую мои позиции продольным огнем… и круглое улыбающееся лицо генерала за ними. Не знаю, сколько полков было под его командованием в мирное время, но я уверен, что случись что, под ружье встал бы каждый лист бумаги в доме.
Однажды утром мне в голову пришла идея, которая должна была произвести революцию в нашей внутренней домашней экономике. Это случилось, когда худшие времена были уже позади. Мы тогда даже стали позволять себе масло, иногда я покупал табак, и каждый день к нам наведывался молочник. Все это дает изрядный повод гордиться собой, если для тебя это вещи непривычные.
– Пол, мальчик мой, – воскликнул я, – я придумал, как собрать в этом доме полный штат слуг, не потратив при этом ни пенса.
Он, кажется, был рад, но совершенно не удивился. Он вообще свято верил в мои силы (хотя и совершенно необоснованно), поэтому, если бы я вдруг заявил, что знаю, как спихнуть с трона королеву Викторию и занять ее место, он бы, не задавая лишних вопросов, сделал все, о чем я бы его попросил, чтобы помочь мне.
Я взял чистый лист бумаги и написал: «Сдается подвальный этаж в обмен на помощь по дому. Обращаться на Окли-стрит, дом 1».
– Вот, держи, Пол, – сказал я. – Сбегай в контору «Ивнинг ньюс», отдай объявление и заплати шиллинг, чтоб оно вышло в трех номерах.
Трех номеров не понадобилось. Хватило и одного. Уже спустя полчаса после выхода первого номера газеты с объявлением в мою дверь позвонили. Весь остаток вечера Пол водил ко мне кандидатов, и я разговаривал с ними почти без перерыва. Вначале я был согласен принять к себе любого, кто носит юбку, но, увидев подобный наплыв желающих, мы резко повысили свои требования к кандидатам. Белые передники, опрятное платье при встрече посетителей, застилка кроватей, чистка обуви, готовка… Мы становились все более и более требовательными. Наконец мы сделали выбор. Мисс Воттон, которая попросила разрешения привести с собой сестру. Это была женщина с грубыми, даже неприятными чертами лица и довольно бесцеремонными манерами, появление которой в холостяцком доме не вызвало бы пересудов. Один ее нос мог послужить свидетельством целомудренности наших отношений. Мы договорились, что она привезет в подвальный этаж мебель, а в качестве спальни я предоставлю в ее распоряжение одну из двух комнат наверху.
Они въехали через несколько дней, когда меня не было дома. Вернувшись, я увидел первое, что указало мне на произошедшие в доме перемены, – это три маленьких собачонки у меня в холле. Я вызвал ее к себе и объяснил, что это нарушение контракта и что в мои планы вовсе не входило содержание зверинца. Она стала так умолять разрешить ей оставить собачек (похоже, это были мать и две дочери какой-то особо редкой породы), что в конце концов я уступил. Вторая сестра вела совершенно скрытный пещерный образ жизни. Иногда мне удавалось замечать край ее платья, мелькнувший за углом, но прошел целый месяц, прежде чем я смог бы узнать ее на улице в лицо.
Какое-то время все шло замечательно, но потом начались осложнения. Однажды утром, спускаясь раньше, чем обычно, я в своем холле увидел невысокого бородатого мужчину, который снимал с цепочки дверь. Прежде чем он успел это сделать, я схватил его за руку.
– Что это значит? – спросил я.
– Видите ли, сэр, – сказал он, – я муж мисс Воттон.
У меня тут же возникли ужасные подозрения относительно своей экономки, но, вспомнив ее нос, я успокоился. Расследование по горячим следам выявило все. Во-первых, она была замужней женщиной. Дальше – больше. Муж ее был моряком. Она назвалась мисс, потому что посчитала, что я скорее соглашусь принять к себе одинокую экономку. Муж неожиданно вернулся из длительного плавания и пришел к ней вчера вечером. Кроме того (интрига внутри интриги), вторая женщина была ей не сестра, а подруга, которую звали мисс Вильямс. Она подумала, что я охотнее пущу в свой дом сестер, чем подруг. Таким образом, мы наконец узнали, с кем имеем дело, и я, позволив Джеку остаться, выделил вторую верхнюю комнату мисс Вильямс. Если раньше меня в определенной степени беспокоило одиночество, то теперь я быстро превращался в содержателя ночлежки для бедняков.
Нам всегда доставляло огромное удовольствие наблюдать по вечерам процессию, направляющуюся в свои комнаты. Сначала проходила собака, потом мисс Вильямс со свечой в руке, за ней Джек, следом за ним вторая собака и, наконец, миссис Воттон с третьей собакой под мышкой и свечой в другой руке. Джек оставался у нас три недели, и, поскольку он по моему поручению дважды в неделю натирал пемзой полы во всем доме так, что они блестели, как квартердек{230}, его пребывание под нашей крышей принесло нам хоть какую-то пользу.
Примерно в это же время, обнаружив у себя несколько свободных шиллингов и не имея каких-либо срочных выплат, я заложил свой личный «винный погреб» в виде бочки пива в четыре с половиной галлона, дав себе строгое обещание прикасаться к ней только по праздникам или когда надо будет отметить какое-нибудь радостное событие либо принять гостей.
Вскоре после этого Джек снова ушел в море, и после его отъезда мы стали свидетелями нескольких очень серьезных ссор между женщинами внизу. Их крики, упреки и ответы разносились по всему дому. Все это закончилось тем, что однажды вечером ко мне, вся в слезах, пришла мисс Вильямс (это та, которая тихая) и сказала, что должна покинуть мой дом. Миссис Воттон сделала ее жизнь невыносимой, сказала она. Но теперь она была намерена вести независимый образ жизни. Она собиралась открыть магазинчик в бедном квартале города и отправлялась туда сейчас же.
Я расстроился, потому что мисс Вильямс мне нравилась, о чем я и сказал ей. Дойдя до холла, она, беспокойно шурша юбками, вернулась обратно в приемную, крикнула: «Выпейте пива!» и снова исчезла.
Прозвучало это как некое иносказательное проклятие. Если бы она сказала что-нибудь вроде «затяните ремень потуже!», я бы не так удивился. Но тут страшный смысл ее слов дошел до моего сознания, и я бросился в погреб. Бочка, лежавшая на козлах, была немного сдвинута с места. Я ударил по ней кулаком и услышал глухой барабанный звук. Я повернул кран, из него не вылилось ни капли. Я умолчу о последовавшей ужасной сцене, достаточно сказать, что миссис Воттон получила немедленный расчет, и на следующее утро мы с Полом снова остались одни в пустом доме.
Но комфортная жизнь последних нескольких недель подействовала на нас разлагающе. Мы уже не могли обходиться без помощника… Особенно сейчас, зимой, когда нужно заниматься отоплением дома, ведь для мужчины нет более угнетающего занятия. Я вспомнил о тишайшей мисс Вильямс и разыскал ее. Мое предложение вернуться она приняла с радостью, поскольку это позволило бы ей экономить на жилье, однако встал вопрос о ее товарах. Сначала это несколько испугало меня, но, когда выяснилось, что весь товар в общей сложности стоит одиннадцать шиллингов, у меня отлегло от сердца. Через тридцать минут мои часы были заложены, чем дело и завершилось. У меня в доме появилась отличная экономка и огромная корзина с дешевыми шведскими спичками, шнурками, кусками графита и фигурками из сахара. Я бы ни за что не поверил, что все это может стоить таких мизерных денег, если бы не убедился в этом на собственном опыте. Так что пока в моем доме наступил мир и покой, и я надеюсь, что ничего плохого больше не случится.
До свидания, дорогой мой друг, и не думай, что я забываю о тебе. Все твои письма читаются и перечитываются многократно. По-моему, у меня собрано все до последней строчки из того, что я когда-либо получал от тебя. Я очень рад, что тебе удалось выпутаться из того дела с пивоваренным заводом. Одно время я даже с ужасом думал, что ты либо лишишься денег, либо проиграешь на акциях. Огромное спасибо за предложение выслать мне незаполненный чек.
То, что ты так легко влился в свою прежнюю американскую жизнь после нескольких лет, проведенных в Англии, меня очень радует. Как ты говоришь, это не разные страны, а всего лишь две вариации одной общей идеи. Не правда ли, странно наблюдать за тем, как великих братьев сталкивают лбами? Если человек пишет клеветнический донос на соседа, он несет за это наказание (по крайней мере, у нас), хотя ни к каким тяжелым последствиям это привести не может. Однако же другой человек может осквернить целую страну, что несоизмеримо более гнусный и страшный поступок, и в мире нет такого закона, по которому он мог бы быть наказан. Ты только представь себе всю эту толпу презренных журналистов и жалких сатириков, которые только тем и заняты, что изображают англичан высокомерными кокни, а американцев – вульгарными фермерами. Если бы сыскался такой миллионер, который отправил бы их всех в кругосветное путешествие, нам всем хоть на время стало бы намного легче жить… Если бы судно это сгинуло где-нибудь в океане, это было бы еще лучше. А если бы еще и все ваши политики, алчные до голосов избирателей, вместе со своими командами прихлебателей, да еще и наши редакторы еженедельных газет, которые не чувствуют земли под ногами от тщеславия, были на том судне, насколько чище мы бы стали! Еще раз adieu[40] и удачи!
XV Окли-виллас, 1, Берчспул, 3 августа, 1883.
Ты веришь в удачу? Неожиданный вопрос для начала письма, но, прошу тебя, брось взгляд на свое прошлое и ответь, считаешь ли ты, что наша жизнь подчинена случаю? Ты ведь знаешь, что то, на какой поворот ты свернешь на улице, либо примешь какое-нибудь приглашение или нет, может направить течение жизни в совершенно новое русло. Кто мы? Всего лишь листья, которые треплет в разные стороны ветер, или же (хоть мы и считаем себя свободными) некая сила несет нас к определенной и заранее установленной цели? Признаюсь, что, чем дольше я живу, тем большим фаталистом становлюсь.
Взгляни на это вот с такой стороны. Нам известно, что многие из постоянных феноменов Вселенной не являются случайными. Не по воле случая небесные тела не сталкиваются, не по воле случая каждое семя снабжено механизмом, позволяющим ему прижиться в благоприятной почве, не по воле случая внешний вид животных приспособлен к среде их обитания. Вспомни кита с его огромным слоем жира. Какие еще тут нужны доказательства? Однако, с точки зрения логики, мне кажется, что ВСЕ в мире должно являться результатом либо замысла, либо случайности. Я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь провел через все мироздание черту и заявил: все, что справа, случайно, а все, что слева, предопределено. В таком случае нам пришлось бы признать, что между вещами, якобы принадлежащими к одной и той же категории, на самом деле лежит непреодолимая пропасть и что одна их половина управляема, а вторая нет. Нам, например, пришлось бы признать, что количество сочленений в задней лапке блохи является результатом непосредственного замысла Создателя, в то время как причиной несчастного случая, погубившего тысячу людей во время пожара в театре, является случайно оброненная на пол восковая спичка, и что это всего лишь досадная непредвиденность. Мне это кажется невероятным.
Не стоит думать, что если человек называет себя фаталистом, то он отказывается бороться и безропотно дожидается того, что преподнесет ему судьба. Тот, кто так считает, забывает о том, что нам, жителям севера, кроме всего прочего предопределено судьбой и то, что мы должны бороться и не сидеть сложа руки. И только тогда, когда человек сделал все, что в его силах, перепробовал все способы, и тем не менее, несмотря на все усилия, так и не смог чего-то изменить, и то он прождет еще десять лет, прежде чем скажет, что ему просто не повезло. И только тогда он признает, что это было написано у него на роду и что поделать с этим ничего нельзя. Человек лишается богатства и в результате становится философом. Теряет зрение, и это приводит его к духовности. Девушка утрачивает красоту и становится отзывчивее. Нам кажется, что мы сами прокладываем себе дорогу, но на самом деле нас всего лишь ведут за руку.
Ты, наверное, удивишься, почему это я начал свое письмо с подобных рассуждений. Только потому, что я столкнулся с этим в своей собственной жизни. Впрочем, как обычно, я начал с конца, так что теперь я снова вернусь и продолжу рассказ с того места, на котором прервал его в своем прошлом письме. Во-первых, хочу сказать, что тучи, которые начинали светлеть тогда, в скором времени вовсе развеялись, и в течение последних месяцев небо над нами остается чистым.
Ты помнишь, что мы (Пол и я) приняли к себе некую мисс Вильямс на должность экономки. Я почувствовал, что должный контроль за всем происходящим в доме вряд ли будет обеспечен на прежних условиях: жилье за выполнение услуг. Поэтому было выработано более деловое соглашение. Отныне за ее работу я буду платить деньги, хотя, увы, смехотворную сумму. Я был бы счастлив, если бы мог платить в десять раз больше, потому что более усердного и преданного работника не было еще ни у кого. Казалось, после того, как она вернулась в дом, наши доходы начали расти день ото дня.
Шли недели, месяцы, и практика моя начала потихоньку расширяться и крепнуть. Было и так, что никто не заходил ко мне по нескольку дней кряду, и тогда нам начинало казаться, что счастье снова отвернулось от нас, но потом наступал день, когда в моем списке принятых пациентов сразу появлялось имен восемь-десять. Откуда брались пациенты, спросишь ты. Вайтхолл направлял ко мне кого-то из своих необычных знакомых, кто-то попадал случайно, бывало, заходили люди, недавно приехавшие в этот город, кто-то приходил по рекомендации тех, с кем я впервые познакомился случайно. Например, страховой агент прислал мне нескольких своих друзей, и мне это очень помогло. Главное, что я понял и хотел бы шепнуть на ухо каждому, кто только-только начинает свою карьеру в незнакомом месте среди чужих людей: не думайте, что практика придет к вам, идите к ней сами! Можно просиживать штаны в кресле в своем кабинете, пока оно под вами не развалится, но без общения с другими людьми на успех вы не можете рассчитывать. Чтобы дело пошло, вам нужно выходить из дому почаще, знакомиться с людьми везде, где бываете, рассказывать о себе. Часто вы будете возвращаться домой и экономка расстроенным голосом будет сообщать вам, что кто-то приходил к вам, пока вас не было. Не берите в голову! Выходите снова. Какой-нибудь шумный концерт в парке, где в толпе курящих слушателей вы попадетесь на глаза восьмидесяти человек, для вас достижение большее, чем один-два пациента, которых вы приняли бы в тот день, если бы остались дома. Мне, чтобы понять это, понадобилось немало времени, но теперь я говорю об этом с уверенностью.
Но… Во всем этом есть одно большое «но». Вам нужно все время следить за собой и оставаться в форме. До тех пор, пока вы не будете уверены (совершенно уверены), что справитесь со всем этим, лучше оставайтесь дома. Вы не имеете права ни на секунду расслабляться. Вы должны все время помнить о своей цели. Вы должны вызывать к себе уважение. Будьте открыты, общительны, веселы, проявляйте любые другие качества, но только разговаривайте и ведите себя как джентльмен. Если вы добьетесь того, что будете нравиться людям, что вас будут ценить, в любом клубе, в любом обществе, к которому вы присоединитесь, вы найдете для себя будущих пациентов. Но остерегайтесь выпивки! Больше всего на свете остерегайтесь выпивки! То общество, в котором вы вращаетесь, может мириться с этим в своей среде, но человеку, который претендует на то, чтобы отвечать за их здоровье и жизни, они этого не простят. Для вас опасно даже подозрение. Если вы хоть раз оступитесь – можете ставить крест на своей карьере. Сделайте это для себя правилом и придерживайтесь его неукоснительно, как бы вас ни подталкивали к противоположному, как бы ни упрашивали. Уже на следующее утро вы поймете, какую выгоду это вам принесет.
Разумеется, я говорю не только о тех клубах, в которых люди весело проводят время. Литературные, дискуссионные, политические, социальные, спортивные, любые клубы – орудие в ваших руках. Но вы всегда должны держать себя на высоте. Влейтесь в их ряды увлеченно и энергично, и тогда скоро вы окажетесь среди руководства, а то и в секретарском или президентском кресле. Не жалейте сил даже в тех делах, доход от которых будет нескорым или непрямым. Это те ступеньки, по которым должен пройти каждый.
Я сам поступал именно так, когда передо мной встала задача расширить свою практику. Я записался в разные клубы. Я знакомился с людьми везде, где бывал. Я занялся спортом, и это не только значительно укрепило мое здоровье, но и пошло на пользу практике. Я играю в крикет и в этом сезоне приносил своей команде в среднем по 20 очков бэтсменом и 9 очков боулером{231}.
Впрочем, я допускаю, что моя система поиска пациентов вне дома и не была бы столь успешной, если бы не моя замечательная экономка. Она само благоразумие, и то, что она жертвует своей личной жизнью ради моей практики, камнем лежит на моей душе. Она высокая, худая женщина с печальным лицом и прекрасными манерами. Если в мое отсутствие приходит пациент, она обычно встречает его с таким видом, что тому становится сразу понятно, что я настолько занят неотложными делами своей обширнейшей практики, что любому, кто хочет получить у меня консультацию, попасть ко мне можно только по предварительной записи и что записываться нужно заранее и на точное время. На ее лице даже отражается некоторое удивление оттого, что кто-то в городе еще может этого не знать.
«Надо же! – говорит она какому-нибудь посетителю. – У него опять срочный вызов. Если б вы пришли хотя бы на полчаса раньше, он, возможно, и смог бы уделить вам минутку. Знаете, сколько я работаю, а такого еще не видела, – переходит она на доверительный тон. – Скажу вам честно, мне кажется, он долго так не выдержит. Если он не начнет себя жалеть, скоро сам сляжет. Но проходите, я посмотрю, что могу для вас сделать».
Потом, усадив пациента в приемной, она идет к маленькому Полли. «Бегите на лужайку для боулинга, мастер Пол, – говорит она. – Хозяин, я думаю, сейчас там. Скажите, его ждет пациент».
Разговорами с пациентами она как будто вселяет в них какое-то благоговейное чувство, словно им посчастливилось попасть в священное место и их ждет встреча, которая изменит всю их последующую жизнь. В результате, благодаря стараниям мисс Вильямс, посетитель проникается глубочайшим почтением к моей персоне еще до того, как я сам появляюсь дома.
Иногда, чтобы не упустить пациента, она пользуется другим приемом из своего арсенала: поскольку в данную минуту сам я ужасно занят (игрой в крикет), она очень точно указывает время приема.
«Посмотрим! – говорит она, раскрывая тетрадь записей. – Сегодня вечером он освобождается в семь минут девятого. Да, я думаю, у него как раз останется время принять вас. С семи минут до четверти девятого у него свободно». И точно в назначенное время в мой кабинет торопливой походкой входит пациент и ведет себя, как человек, стоящий в очереди за тарелкой горячего супа на железнодорожной станции. Если бы он знал, что за весь день у меня, кроме него, возможно, вообще не было ни одного пациента, он бы так не торопился… или не ценил бы мое мнение так высоко.
Однажды ко мне зашла одна любопытная пациентка, оказавшаяся очень для меня полезной. Эта преисполненная достоинства вдова по фамилии Тернер – истинный образчик величественной скорби. Какое-нибудь ходячее воплощение морали рядом с ней показалось бы ее ветреной младшей сестрой. Живет она в небольшом доме с одним слугой. И вот каждые два месяца она вдруг начинает жутко пить. Запои эти продолжаются в среднем неделю и заканчиваются так же неожиданно, как и начинаются, но, когда это случается, все соседи об этом знают. Она орет благим матом, воет, поет, бросается на слугу и из окна швыряет в прохожих тарелки. Конечно же, все это совсем не смешно, это жалкое и отвратительное зрелище… Но все же трудно удержаться от смеха, наблюдая подобное поведение при таком внешнем виде. Первый раз она сама пригласила меня к себе, и мне довольно быстро удалось привести ее в нормальное состояние, но теперь уже соседи старой вдовы зовут меня на помощь, как только из окна ее дома начинает вылетать посуда. Она не бедна, поэтому эта ее небольшая причуда является хорошим подспорьем для моей арендной платы. Кроме того, у нее дома хранится целая коллекция интересных кружек, статуэток и картин, и кое-что из них она дарит мне во время своих приступов, не принимая никаких возражений с моей стороны. Поэтому после посещения вдовы я выхожу из ее дома, как наполеоновские генералы из Италии{232}. Впрочем, у старой леди достаточно здравого разума, чтобы потом, выздоровев, присылать ко мне посыльного с вежливой просьбой вернуть ее картины.
Ну а теперь я наконец смогу объяснить тебе, как я понимаю, что такое судьба. Живущий рядом со мной врач-практик (Портер его фамилия) – человек добрый и отзывчивый. Он был свидетелем того, с каким трудом мне пришлось пробиваться наверх, и несколько раз даже уступал своих пациентов мне. И вот как-то раз, недели три назад, утром после завтрака он зашел в мой кабинет.
– Не хотите съездить со мной на консультацию? – спросил он.
– С удовольствием, – ответил я.
– Экипаж ждет.
Дорогой он посвятил меня в суть дела. Больной, молодой человек, единственный сын в семье, долгое время страдал расстройством нервной системы, а в последнее время начал жаловаться на сильную головную боль. «Его родители живут с моим пациентом, генералом Вейнрайтом, – сказал Портер. – Симптомы ему очень не понравились, поэтому он решил обратиться к специалисту».
Мы подъехали к дому, большому, с парком, и, прежде чем встретиться с больным, поговорили с его владельцем, седовласым загорелым ветераном индийской войны{233}. Он как раз рассказывал нам, какую чувствует ответственность за нашего пациента, который приходится ему племянником, когда в комнату вошла женщина.
– Это моя сестра, миссис Ла Форс, – представил он ее нам. – Мать джентльмена, с которым вы сейчас встретитесь.
Я узнал ее сразу. Мы уже встречались с ней раньше и при весьма забавных обстоятельствах. (Далее доктор Старк Манро еще раз рассказывает о том, как он повстречался с Ла Форсами, очевидно, позабыв, что уже описывал это в шестом письме.) Когда ее представили нам, я понял, что она не узнала во мне того молодого врача, с которым познакомилась в поезде. И меня это не очень удивило, поскольку я начал отпускать бороду, надеясь, что она придаст мне солидности. Она, понятное дело, была очень взволнована состоянием здоровья своего сына, поэтому сразу же повела нас (Портера и меня) наверх в его комнату. Бедняга! Как он сдал за это время! Черты лица его заострились, кожа стала желтовато-землистой. Мы осмотрели его, согласились на том, что недуг его носит хронический характер, и через какое-то время ушли. О нашей предыдущей встрече миссис Ла Форс я напоминать не стал.
На этом все могло и закончиться, но через три дня ко мне в кабинет вошла, кто бы ты думал, сама миссис Ла Форс с дочерью. По тому, как последняя внимательно на меня посмотрела, мне показалось, что мое лицо показалось ей знакомым, но она не могла вспомнить, где именно со мной встречалась. Я же помогать ей не стал. Обе они были очень расстроены… У девушки даже дрожали губы и на глазах выступали слезы.
– Доктор Манро, нас к вам привело страшное горе, – сказала миссис Ла Форс. – Мы были бы очень благодарны вам за совет.
– Вы меня ставите в очень неловкое положение, миссис Ла Форс, – ответил я. – Видите ли, мне ведь известно, что вы – пациенты доктора Портера, а профессиональная этика не позволяет мне без его согласия принимать у себя его пациентов.
– Это он направил нас к вам, – сказала она.
– О, это полностью меняет дело.
– Он сказал, что сам не поможет в нашем деле, но вы, возможно, сможете.
– Прошу вас, скажите, что я могу для вас сделать.
И она стала рассказывать, но, попытавшись выразить словами свою беду, не сдержалась. Речь ее вдруг сбилась и сделалась неразборчивой. Дочь наклонилась к матери и нежным поцелуем попыталась успокоить ее.
– Я вам все расскажу, доктор, – сказала она. – Бедная мама совсем измучалась. Фреду… моему брату, стало хуже. Он начал шуметь и уже не успокоится.
– А мой брат генерал, – подхватила миссис Ла Форс, – конечно же, не ожидал такого, когда предложил нам пожить у себя. Он очень раздражительный человек, и ему это трудно выносить. Долго так продолжаться не может. Он сам так сказал.
– Но что же делать маме? – воскликнула девушка, возвращаясь к главному. – Ни в один отель, ни в один дом нас не примут, пока бедный Фред в таком состоянии, а в клинику мы сами не хотим его отдавать. Дядя больше не хочет терпеть нас у себя дома, но нам некуда идти, – серые глаза ее мужественно сверкали, но уголки рта поползли вниз.
Я встал и начал ходить по комнате, пытаясь найти выход из положения.
– Я пришла к вам для того, чтобы спросить, – сказала миссис Ла Форс, – может быть, вы знаете какого-нибудь врача или можете порекомендовать какое-либо частное учреждение, которое занимается подобными случаями… Такое, в котором мы могли бы видеться с Фредом каждый день. Но только нам нужно отправиться туда сегодня же, поскольку терпение моего брата уже иссякло полностью.
Я вызвал экономку.
– Мисс Вильямс, – сказал я, – мы можем поселить у себя больного? Ему потребуется отдельная спальня.
Не перестаю удивляться самообладанию этой женщины.
– Запросто, сэр, если только остальные пациенты согласятся отпустить меня. Когда тебя вызывают по тридцать раз в час, трудно сказать, смогу ли я разорваться.
Этот ответ вместе с незадачливым выражением лица мисс Вильямс заставил моих посетительниц рассмеяться, и сразу у всех немного потеплело на душе. Я сказал, что к восьми часам комната будет готова. Миссис Ла Форс пообещала привезти сына точно в указанное время, и обе женщины горячо поблагодарили меня, хотя я этого вовсе и не заслуживал, поскольку, по большому счету, для меня это была всего лишь работа, и постоянный пациент, наоборот, был для меня как находка. Я сумел убедить миссис Ла Форс, что мне уже приходилось сталкиваться с подобным случаем… имея в виду, конечно же, бедного Джимми, сына лорда Солтайра. Миссис Вильямс провела их до двери и не преминула случая шепнуть, что им необыкновенно повезло застать меня дома, поскольку я как раз собирался уезжать на срочный вызов.
Времени было мало, но к назначенному часу мы все успели подготовить. Нашими совместными усилиями ковер, постель, мебель, шторы – все было собрано в одной комнате, расставлено, развешано и разложено. Ровно в восемь прибыл кеб, и я провел Фреда в его спальню. С первого взгляда на него я заметил, что выглядит он намного хуже, чем в последний раз, когда я осматривал его вместе с доктором Портером. Хроническая болезнь мозга резко обострилась.
Дикие глаза, горящие щеки, губы, слегка отстающие от зубов. Температура у него была 102 градуса[41], он все время бормотал что-то невразумительное и не обращал внимания на мои вопросы. Мне сразу стало понятно, что ответственность, которую я взял на себя, очень велика.
Но теперь уже пути назад не было. Пока мисс Вильямс варила для нашего нового пациента марантовый суп{234}, я раздел его и уложил в постель. От еды он отказался, но лекарства принял. Убедившись, что он успокоился, мы оставили его одного. Его комната находилась рядом с моей, и, поскольку стена между ними была тонкой, я слышал каждое малейшее движение. Два или три раза он что-то пробормотал, постонал и наконец затих, после чего и я смог заснуть.
В три часа утра меня разбудил страшный грохот. Вскочив с кровати, я кинулся в соседнюю комнату. Бедный Фред стоял в длинной ночной рубашке и в первых тусклых лучах зари казался очень несчастным и жалким. Он перевернул столик для умывальных принадлежностей (зачем – знал только он сам), и теперь весь пол был залит водой, только островками выделялись черепки разбитого кувшина. Я снова уложил его в постель. Глаза его дико бегали из стороны в сторону, сквозь рубашку просвечивалось тощее тело. Стало ясно, что оставлять его одного нельзя, поэтому остаток ночи мне пришлось клевать носом и зябко поеживаться в кресле у его кровати. Нет, все-таки огромный груз я взвалил на свои плечи.
Утром я зашел к миссис Ла Форс сообщить о ночном происшествии. После того как больной родственник покинул дом, к ее брату вернулось его безмятежное спокойствие. Если я не ошибаюсь, он кавалер креста Виктории{235} и, кажется, служил в том небольшом гарнизоне, который столь героически защищал Лакхнау в разгар восстания сипаев{236}. Однако теперь этот человек вздрагивает от неожиданного скрипа двери и покрывается холодным потом, если на пол падают каминные щипцы. Какие все-таки мы странные существа!
Днем Фреду стало лучше, он, похоже, даже узнал сестру, которая утром принесла ему цветы. Ближе к вечеру температура его упала до 101,5°[42], и он впал в какой-то ступор. Случилось так, что где-то после ужина ко мне заглянул доктор Портер, и я предложил ему взглянуть на моего пациента. Он согласился, и мы отправились наверх. Когда мы вошли в комнату Фреда, он мирно спал. Вряд ли я мог себе представить, что столь незначительное событие окажется одним из поворотных пунктов в моей жизни. Портер оказался тогда в моем доме совершенно случайно.
В это время Фред должен был принимать лекарство. Я дал ему обычную дозу хлорала и, когда он вроде бы задремал, отправился в свою комнату отдыхать. В тот день я очень устал, и мне необходимо было выспаться. В восемь утра меня разбудил дребезг ложки о край тарелки и шаги мисс Вильямс за моей дверью. Как я и распорядился вечером, она приготовила Фреду на завтрак марантовый суп. Я услышал, как она открыла дверь в его комнату, и в следующий миг сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди, когда раздался ее истошный крик и поднос с тарелкой и чашкой со звоном полетел на пол. Через секунду она ворвалась ко мне и с перекошенным от ужаса лицом закричала:
– Господи Боже! Он умер!
Я подхватил халат и, на ходу просовывая руки в рукава, бросился в соседнюю комнату.
Несчастный Фред лежал распростертый поперек кровати. Он был мертв. Похоже, перед смертью он хотел встать, но не смог и упал на спину. На его ясном умиротворенном лице сияла такая безмятежная улыбка, что я с трудом узнал в нем вчерашнего измученного жаром страдальца. Мне кажется, что на лицах мертвых отпечатывается великая надежда. Говорят, это всего лишь посмертное расслабление мышц, но мне бы очень хотелось верить, что в этом наука ошибается.
Эта смерть нас так потрясла, что мы с мисс Вильямс простояли над телом пять минут, не произнося ни слова. Потом мы положили его головой на подушку и накрыли одеялом. Расплакавшись, она опустилась на колени и прочитала молитву, я же сел на кровать и взял в руку его холодную ладонь. И тут я вспомнил о том, что мне предстоит сообщить о смерти Фреда его матери.
Однако весть о смерти сына не стала для нее потрясением. Когда я пришел, они все втроем завтракали в столовой: генерал, миссис Ла Форс и дочь. Каким-то образом по моему виду они сразу поняли, что произошло, и, повинуясь женскому инстинкту, в первую очередь посочувствовали мне, тому потрясению, которое я пережил, тем хлопотам, которые доставила их беда моим домашним. Я из утешителя превратился в утешаемого. Час или даже больше мы говорили о Фреде, я объяснил им то, что, как я надеялся, они и сами понимали. Поскольку бедный мальчик не мог рассказать мне о своих симптомах, я не мог знать, насколько была близка опасность. Не было сомнений в том, что снижение температуры и охватившее его спокойствие, которые мы с Портером приняли за добрый знак, на самом деле были предвестниками конца.
Миссис Ла Форс попросила меня сделать все необходимое, соблюсти формальности, оформить смерть и организовать похороны. Была среда, и мы решили, что погребение лучше назначить на пятницу. Я поспешил домой, не зная, за что браться в первую очередь. В кабинете меня дожидался старый Вайтхолл. Выглядел он по-праздничному, в петлице у него торчала камелия. Подумать только, у этого человека все внутренние органы вверх дном, а он носит камелию в петлице!
Честно говоря, я не был рад его видеть, потому что у меня было не то настроение, но от мисс Вильямс он уже узнал, что случилось. И только тогда я впервые по-настоящему понял, какой добрый и тактичный человек на самом деле скрывается за той стеной похабщины и бесстыдства, которой он обычно отгораживался от внешнего мира.
– Я пройдусь с вами, доктор Манро, сэр. Когда такое случается, мужская компания ничуть не хуже женской. Если хотите, я всю дорогу и рта не раскрою, сэр, но мне ведь все равно нечем заняться, так что для меня было бы честью, ежели б вы позволили мне побыть рядом с вами сегодня.
Он остался и оказался весьма кстати. Похоже, о том, как организовать похороны, он знал все. («Двух жен схоронил, доктор Манро, сэр!») Свидетельство о смерти я подписал сам, передал его в магистрат{237}, получил разрешение на похороны, отнес его секретарю прихода, договорился о времени проведения церемонии, потом сходил в похоронное бюро и вернулся домой. То утро кажется мне ужасным, когда я вспоминаю о нем. Единственное, что меня успокаивало, это присутствие и дружеская поддержка моего старого чудака, в двубортной куртке, с терновой тростью в руке, с изрезанным морщинами бородатым лицом и камелией в петлице.
Короче говоря, похороны прошли, как и было запланировано. Генерал Вейнрайт, Вайтхолл и я были единственными скорбящими. Капитан не был знаком с бедным Фредом и даже ни разу не видел его, но захотел «довести дело до конца, сэр», поэтому и пошел со мной на кладбище. Церемония началась в восемь, и на Окли-виллас мы смогли вернуться только к десяти. У дверей нас дожидался дородный мужчина с кустистыми бакенбардами.
– Вы доктор Манро, сэр? – спросил он.
– Да.
– Я следователь из местного отделения. Мне поручено расследовать смерть молодого человека, который недавно умер в вашем доме.
Такого удара я не ожидал! Если огорченное лицо может служить признаком вины, то меня, наверное, можно было бы признать злоумышленником прямо на месте. Мысль о чем-то подобном мне даже не приходила в голову. Однако, надеюсь, я очень быстро пришел в себя.
– Прошу, заходите! – сказал я. – Любая информация, которую я могу предоставить, к вашим услугам. Вы не возражаете, если при нашем разговоре будет присутствовать мой друг капитан Вайтхолл?
– Ничуть.
И мы с капитаном вошли в дом в сопровождении этого вестника беды.
Впрочем, он оказался человеком тактичным и воспитанным.
– Конечно же, доктор Манро, – сказал он, – вы – человек в городе достаточно известный, чтобы кто-нибудь мог серьезно отнестись к этому делу, но, видите ли, сегодня утром мы получили анонимное письмо, в котором говорилось, что вчера в вашем доме умер молодой человек и что похороны его назначены на необычное время, и обстоятельства этой смерти весьма подозрительны.
– Умер он позавчера. Похороны были назначены на восемь утра, – поправил его я и рассказал всю историю с самого начала. Он слушал очень внимательно и пару раз что-то чиркнул в свою записную книжку.
– Кто засвидетельствовал смерть? – спросил он.
– Я сам, – ответил я.
Его брови слегка приподнялись.
– Получается, что ваши слова подтвердить некому?
– Почему же? Доктор Портер осматривал больного накануне его смерти. Он тоже все знает.
– Этого достаточно, доктор Манро, – сказал он. – Я, разумеется, обязан встретиться и с доктором Портером, но ни на секунду не сомневаюсь, что его показания совпадут с вашими, поэтому заранее прошу у вас прощения.
– И еще кое-что, мистер следователь, сэр, – неожиданно вмешался Вайтхолл. – Я человек небогатый, сэр, всего лишь… шкипер бронированного транспортника, но ей…, сэр, я вам целую шапку монет заплачу, если вы узнаете имя этого … мерзавца, который состряпал эту анонимку. Ей …, вот тогда уж вам придется расследовать настоящее дело!
И он воинственно потряс над головой своей терновой тростью.
На том и закончилось это неприятное дело, Берти. От каких все-таки мелочей зависит судьба! Если бы Портер не осмотрел его тогда вместе со мной, наверняка дошло бы до эксгумации{238}. А потом… В теле нашли бы хлорал. Смерть этого парня действительно могла принести некую выгоду… Какой-нибудь дотошный адвокат мог бы из этого раздуть настоящее дело. В любом случае, даже малейшее подозрение подрубило бы мою маленькую, только-только формирующуюся практику под корень. Какие ужасы сулят нам темные закоулки жизни, мимо которых мы проходим каждый день!
Так ты все-таки собрался в путешествие? Что ж, пока я не узнаю, что ты вернулся с островов, я не буду писать. Надеюсь, что тогда смогу тебе рассказать о чем-нибудь более приятном.
XVI Окли-виллас, 1, Берчспул, 4 ноября, 1884.
Сейчас я пишу, глядя в окно своего кабинета, Берти. Свинцовые тучи с рваными краями медленно плывут по небу. Между ними виднеются тучи, которые находятся выше их, они чуть светлее. Я слышу, как мелкий дождь мелодично шуршит по листьям на деревьях и бьет по гравию на дорожке. Иногда капли становятся тяжелыми и падают совсем отвесно, и тогда воздух принимает мягкий серый оттенок, и водяная пыль миллионами крохотных брызг туманом поднимается над землей на полфута. Потом, без какой-либо перемены на небе, все это вдруг исчезает. У двери моего дома собрались большие лужи, дорога превратилась в небольшую речку, покрытую рябью от падающих дождинок. Даже в доме чувствуется насыщенный запах мокрой земли, и мокрые ветки лавровых кустов светятся там, где на них падают редкие косые лучи пробивающегося солнца. Калитка сверкает так, будто ее только сегодня вычистили, на верхней ее планке висит бахрома из тяжелых чистых капель.
Такая погода в ноябре – лучшее, чем может побаловать нас природа на нашем маленьком дождливом островке. Ты, наверное, упиваясь роскошью американской осени, думаешь, что все это должно наводить ужасную тоску. Но, дорогой мой друг, ты заблуждаешься. Обыщи все Штаты от Детройта до Мексиканского залива, и ты не найдешь человека более счастливого, чем я. Что, по-твоему, сейчас находится в моем кабинете? Комод? Книжный шкаф? Нет. Я знаю, что ты наверняка уже разгадал мою тайну. В моем большом кресле сидит ОНА. И она – самая лучшая, самая добрая и самая красивая женщина во всей Англии.
Да, я женат уже шесть месяцев… Календарь указывает на месяцы, хоть я бы подумал, что прошло всего шесть недель. Конечно, мне нужно было бы послать торт и открытки, но тогда я не был уверен, что ты уже вернулся с островов. Прошло уже около года с тех пор, как я писал тебе в последний раз (на что ты надеялся, когда давал мне такой неопределенный адрес?), но за это время я думал и говорил о тебе достаточно часто.
Что ж, ты, как человек давно женатый и опытный, наверняка уже догадался, кто стал моей избранницей. Благодаря какому-то внутреннему инстинкту мы знаем о своем будущем больше, чем нам самим кажется. Вот, к примеру, я помню, что несколько лет назад название Брадфилд всегда казалось мне смутно знакомым, хотя тогда у меня на это не было ровным счетом никаких причин. Теперь же, как тебе известно, вся моя жизнь связана с этим городом. Точно так же, когда я впервые увидел Винни Ла Форс в купе железнодорожного вагона, даже не обменявшись с ней ни единым словом, еще не зная ее имени, я почувствовал непостижимое влечение и интерес к ней. Тебе когда-нибудь приходилось чувствовать что-нибудь подобное? А может быть, дело в том, что она тогда показалась мне застенчивой и беззащитной, и это пробудило мужское начало, заложенное во мне? Как бы то ни было, я это каким-то образом уловил и потом каждый раз, встречаясь с ней снова и снова, опять испытывал это чувство. У кого-то из русских писателей есть прекрасное высказывание о том, что тот, кто любит одну женщину, знает обо всем женском роде больше, чем тот, у кого были мимолетные отношения с тысячью!{239} Когда-то мне казалось, что я разбираюсь в женщинах. Пожалуй, так считает каждый студент-медик. Но сейчас я вижу, что на самом деле я ничего не знал о них. Все мои познания были поверхностны. Я не знал женской души, этого бесценного подарка, уготованного Провидением для каждого мужчины, который, если мужчина этот своими собственными руками не разрушит его, способен довести до предела все то хорошее, что есть в нем. Я и не догадывался о том, как любовь женщины может придать привкус бескорыстия всей жизни мужчины, каждому его поступку. Я и не знал, как просто быть благородным человеком, когда кто-то другой уверен в твоем благородстве, или насколько интереснее и многограннее становится жизнь, если смотреть на нее не двумя, а четырьмя глазами. Мне еще столько всего предстояло узнать, но мне кажется, что теперь уже этот этап позади.
Разумеется, смерть несчастного Фреда свела меня ближе с его семьей. Его холодная рука, которую я сжимал в то утро, сидя рядом с ним на кровати, привела меня к счастью. Я стал часто у них бывать, и мы нередко ходили на прогулки вместе. Потом моя милая мама приехала ко мне погостить на какое-то время, и у мисс Вильямс лицо бледнело от ужаса, когда она начинала выискивать пыль в самых недоступных местах или молча, с многозначительным видом, вооружившись веником и совком, шла в атаку на паука, которого обнаружила где-нибудь в дальнем углу пивного погреба. Ее присутствие позволило мне ответить на то гостеприимство, которое оказали мне Ла Форсы, и мы сблизились еще больше.
Я по-прежнему не рассказывал им о нашей первой встрече. И вот как-то раз, вечером, когда разговор зашел о ясновидении, выяснилось, что миссис Ла Форс напрочь отметает существование подобного явления. Тогда я взял ее кольцо, приложил ко лбу и сделал вид, что вглядываюсь в ее прошлое.
– Я вижу вас в купе поезда, – сказал я. – На вас шляпка с красным пером. Мисс Ла Форс в чем-то темном. С вами едет незнакомый молодой человек. Он имеет наглость называть вашу дочь Винни, хотя даже не…
– Мама, мама! – вскричала она. – Ну, конечно же, это он! А я никак не могла вспомнить, где я видела это лицо.
Есть такие вещи, которые мы не обсуждаем с другими мужчинами, даже если знаем друг друга так же хорошо, как я знаю тебя, Берти. Да и нет в этом смысла, если то, что для нас важнее всего, заключается в едва заметном переходе от дружбы к близости, а от близости к чему-то еще более святому, о чем едва ли можно писать и в еще меньшей степени можно писать так, чтобы это было интересно читать кому-либо постороннему. Наконец настало время, когда им нужно было уезжать из Берчспула, и мы с матерью пошли попрощаться с ними. При встрече мы с Винни бросились друг к другу.
– Когда вы вернетесь в Берчспул? – спросил я.
– Мама не знает.
– А вы сможете вернуться поскорее и стать моей женой?
Я весь вечер думал о том, как красиво и осторожно подведу наш с ней разговор к этому… И вот результат! Что ж, может быть, даже эти простые слова сумели выразить то, что было у меня на сердце. Судить об этом мог лишь один человек, и она, похоже, поняла это.
Когда мы с матерью возвращались от них, я был настолько погружен в свои мысли, что открыл рот, лишь когда мы дошли до самой Окли-стрит.
– Мама, – заговорил я наконец, – я сделал предложение Винни Ла Форс, и она приняла его.
– Мальчик мой, – сказала она, – ты настоящий Пэкенем.
Я понял, что услышал высшую похвалу, которая только могла слететь с ее уст. И прошло целых четыре дня, прежде чем старая добрая леди (после того, как чистоте и гвалту я предпочел пыль под книжным шкафом и тишину) вновь обнаружила во мне наследственные черты Манро.
Изначально свадьбу планировали сыграть через шесть недель, но постепенно мы свели этот срок к пяти, а потом к четырем месяцам. К тому времени доход мой уже возрос до двухсот семидесяти фунтов, и Винни согласилась (загадочно при этом улыбаясь), что мы вполне можем прожить на такие деньги… тем более, что от женитьбы доходы врача возрастают. Ее улыбка объяснилась, когда за несколько недель до свадьбы я получил внушительного вида документ, в котором «Мы, Браун и Вудхауз, адвокаты Винифред Ла Форс…» самым дурным английским языком извещали меня о множестве разнообразных вещей. Смысл всего этого, после того как были выброшены всевозможные «принимая во внимание» и «вышеупомянутые», свелся к тому, что Винни имела собственный доход в триста фунтов в год. Это не могло заставить меня любить ее еще больше, но я, конечно же, не могу не сказать, что был рад этому известию и что благодаря этому устроить свадебную церемонию оказалось легче, чем я думал.
Бедный Вайтхолл пришел ко мне утром в день свадьбы. Он сгибался под тяжестью красивого японского шкафчика, который раньше стоял у него в квартире. Я пригласил его в церковь на церемонию, поэтому престарелый джентльмен был в ослепительном белом жилете и шелковом галстуке. Честно говоря, я немного беспокоился, как бы его возбужденное состояние не наделало беды, как тогда, с праздничным обедом, но в тот день поведение и внешний вид его были просто безукоризненными. С Винни я познакомил его за несколько дней до этого.
– Простите, что я это говорю, доктор Манро, сэр, но вы … везучий парень, – сказал он. – Вы засунули руку в мешок, сэр, и с первого же раза вытащили из него угря. Это ж любой, у кого хоть полглаза есть, видит. Я вот три раза совал в мешок руку и вытаскивал только змей. Ежели б со мною рядом всегда была добрая женщина, я бы, может, сейчас не был жалким бывшим шкипером бронированного транспортника.
– Я думал, вы были женаты дважды, капитан.
– Трижды, сэр. Я похоронил двух жен. Третья живет в Брюсселе. Ну, до встречи в церкви, доктор Манро, сэр, и уж поверьте, никто не желает вам счастья больше, чем я.
В церкви собралось много людей, которые пришли пожелать нам счастья. Слух о моей свадьбе дошел и до моих пациентов, так что в церкви свободных мест не было, и я даже немного забеспокоился, увидев, какими здоровыми все они выглядели. Мой сосед доктор Портер тоже пришел поддержать меня, а старый генерал Вейнрайт вел Винни под венец. Моя мать, миссис Ла Форс и мисс Вильямс сидели на первом ряду, а в глубине на одном из дальних рядов я заметил раздвоенную бороду и морщинистое лицо Вайтхолла. Рядом с ним сидели раненый лейтенант, человек, который сбежал из дому с кухаркой, и еще с десяток людей, которых он «тянул на буксире». Потом, после того как заветные слова были произнесены и некто в людском обличье попытался освятить то, что и так было свято, под звуки «Свадебного марша» мы подошли к алтарю, где моя милая мама сняла напряжение ситуации, поставив свою подпись в учетной книге в неправильном месте, так что по всему выходило, что это она только что вышла замуж за священника. И потом среди поздравлений и счастливых лиц мы вышли из церкви, остановились на лестнице, ее рука в моей, и увидели перед собой знакомую дорогу. Но у меня перед глазами стояла другая дорога, дорога нашей жизни… Широкая и прямая дорога, которой нам теперь предстояло пройти, дорога, по которой так приятно шагать, но которая окутана туманом. Длинна эта дорога иль коротка? Идет она вверх иль спускается вниз? Для моей любимой она все равно будет гладкой, если только сделать ее такой под силу мужской любви.
Несколько недель мы провели на острове Мэн{240}, а потом вернулись на Окли-виллас, в дом, в котором благодаря усилиям мисс Вильямс даже моя матушка теперь не нашла бы ни пылинки. Добрая экономка уже почти истощила запас своего воображения, придумывая благовидные объяснения моему затянувшемуся отсутствию толпам осаждающих дом пациентов. Моя практика действительно быстро и значительно расширилась, так что последние полгода или около того я не то чтобы занят по горло, но без дела не сижу. Ко мне приходят небогатые люди, поэтому мне приходится много работать за небольшие гонорары. Но я не забываю и о своем образовании. Я хожу в местную больницу и слежу за развитием медицинской науки. Бывает, что я жалею о том, что не достиг больших вершин, но счастлив, и счастье мое полно, и, если судьба не строит на мой счет каких-либо особенных планов, я согласен до конца дней своих прожить так, как живу сейчас.
Тебе, возможно, захочется узнать, как складываются наши с женой отношения в религиозных вопросах? Могу сказать, что и она, и я не зависим друг от друга. К чему мне навязывать ей свои взгляды? Ради абстрактной правды я не стану отнимать у нее ту наивную детскую веру, благодаря которой жизнь ей кажется проще и ярче. Я не сумел в своих письмах правильно изложить тебе свои взгляды, если ты заподозрил меня в воинственном неприятии общепринятых религиозных систем. Я вовсе не утверждаю, что все они неправы. Скорее я считаю, что истинны они все. Провидение не создало бы их, если бы они не были лучшими инструментами для достижения определенных целей. Поэтому все они священны. То, что они конечны и не подвержены дальнейшему развитию, я отрицаю. Более простая единая для всего мира религия займет их место, когда человечество будет готово к этому, и я верю, что в основе этой религии будет лежать та абсолютная и абсолютно доказуемая истина, о которой я уже говорил. Впрочем, есть такие люди и такие эпохи, которым лучше всего подходят именно старые религиозные системы. Если Провидение считает возможным пользоваться ими, то и люди могут придерживаться их. Нам остается только дождаться, пока останется самая истинная из них. Если я позволил себе враждебные слова в их адрес, то на самом деле они были направлены на тех, кто из кожи вон лезет, чтобы доказать, будто Всемогущий благоволит лишь их маленькой клике{241}, или на тех, кто хочет окружить религию китайской стеной{242}, целенаправленно отвергая любые новшества и отказываясь от дальнейшего развития. С такими людьми пионеры прогресса не вступают в перемирие. Что до моей жены, то мне хочется прерывать своими наставлениями ее невинные молитвы не больше, чем ей хочется выносить из моего кабинета философские книги, которые лежат у меня на столе. Узость взглядов ей не свойственна, хотя, если кому-то удастся взобраться на самую верхнюю точку интеллектуальной развитости, оттуда он увидит, что и ограниченность имеет свою цель.
Около года назад я получил новости о Каллингворте. О нем мне рассказал Смитон, с которым мы играли в одной университетской футбольной команде. До встречи со мной он заезжал в Брадфилд. Рассказ его не был радостным. Практика Каллингворта значительно сократилась. Наверняка люди просто привыкли к его странностям и перестали удивляться. Кроме того, пару раз он становился объектом коронерских расследований, после чего среди его пациентов сложилось мнение, что он слишком уж свободно использует сильнодействующие лекарственные препараты. Если бы коронеры эти видели сотни исцелений, которые стали возможны именно благодаря тому, что Каллингворт не боялся увеличивать дозировку лекарств, возможно, они были бы к нему не так строги. Но, как ты сам понимаешь, никто из конкурентов Каллингворта не стал бы защищать его. Сам он ведь никогда с ними не считался.
Помимо упадка практики, я с сожалением узнал и о том, что у К. вновь обострилась его непонятная подозрительность, которая всегда казалась мне его самым главным безумством. Его отношение ко мне – прекрасный тому пример, но, насколько я помню, для него это было характерно всегда. Я припоминаю, что даже в те далекие дни, когда они жили в четырех комнатах над продуктовой лавкой, он заклеивал все щели, чтобы обезопасить себя от какой-то воображаемой инфекции. Еще его постоянно преследовала мысль о том, что его подслушивают, из-за чего он часто, оборвав разговор на полуслове, бросался к двери, распахивал ее и выбегал в коридор, в надежде поймать шпиона на горячем. Был случай, когда он при мне «застукал» служанку с чайным подносом. У меня до сих пор стоит перед глазами ее изумленное лицо в обрамлении разлетающихся во все стороны чашек и кусков сахара.
Смитон рассказал, что сейчас это приобрело другую форму: теперь Каллингворт уверен, что вокруг него плетется заговор с целью отравить его медью, и, стремясь уберечься, он принимает самые неожиданные меры предосторожности. Чтобы понять масштабы, которых достигает его странность, говорит Смитон, достаточно увидеть, как он ест. Его обеденный стол весь уставлен химическими приборами, многочисленными ретортами и склянками, с помощью которых он проверяет каждое блюдо. Когда Смитон все это описывал, я не мог удержаться от смеха, и все же это был смех сквозь слезы, потому что нет упадка печальнее, чем упадок великого человека.
Я не думал, что когда-нибудь снова увижу Каллингворта, но судьбе было угодно еще один раз свести нас вместе. Даже несмотря на то, что он так жестко обошелся со мной, я не утратил расположения к нему. Много раз я думал, как мне стоит поступить, если мы с ним встретимся: вцепиться в горло или пожать руку. Тебе, возможно, будет интересно узнать о том, как это произошло в действительности.
Где-то неделю назад, когда я как раз собирался выходить из дома, мальчишка-посыльный принес мне записку. Увидев знакомый почерк, я понял, что Каллингворт находится в Берчспуле, и немало взволновался. Я позвал Винни, и мы вместе прочитали записку.
«Дорогой Манро, – говорилось в ней. – Джеймс остановился в Берчспуле на несколько дней. Мы в скором времени покидаем Англию, но, пока мы все еще здесь, он был бы рад по старой дружбе встретиться и поговорить с Вами.
Искренне Ваша,
Хетти Каллингворт».
Почерк и манера обращения, несомненно, принадлежали ему, поэтому было понятно, что это одна из тех его маленьких прозрачных хитростей, которые так для него характерны. Не желая показывать, что решил идти на попятную, он сделал вид, будто записку писала его жена. Странное совпадение: остановился он в том же доме на Кадоган-террас, в котором когда-то снимал комнату я, только двумя этажами выше.
У меня не лежала душа к этой встрече, но Винни всегда была за мир и всепрощение. Женщины, которые ничего не требуют, всегда получают то, чего хотят, поэтому и моя милая маленькая спутница неизменно добивается своего. Уже через полчаса я был на Кадоган-террас, охваченный самыми разными чувствами, впрочем, по большей части добрыми. Я попробовал убедить себя, что отношение Каллингворта ко мне было результатом некоей патологии, порождением нездорового мозга. Ведь если бы меня ударил пьяный, я бы не стал на него за это злиться. Примерно так я воспринимал и то, что произошло между нами.
Если Каллингворт и держал против меня камень за пазухой, то ничем не проявил этого. Впрочем, я по своему опыту знал, что за его нагловатой и напористой типично английской манерой вести себя могло скрываться что угодно. Жена его была более открыта, и по ее плотно сжатым губам и холодным серым глазам я видел, что она не забыла старую ссору. Сам Каллингворт почти не изменился и был, как всегда, энергичен и полон жизни.
– Здоров, как бык, друг мой! – гаркнул он и постучал себя по груди кулаками. – Вчера играл за «Лондон скоттиш» в отборочном туре. Не выпускал мяч от свистка до свистка. В рывке скорость уже не та (да и ты, Манро, тоже, наверное, не молодеешь, а?), но в нападении я жару дал, это уж точно! Не знаю, когда еще удастся поиграть, я на следующей неделе в Южную Америку отправляюсь.
– Выходит, ты из Брадфилда насовсем уехал?
– Слишком провинциальный городишко, друг мой! Зачем мне какая-то деревенская практика, приносящая жалкие три тысячи в год? Там совершенно негде развернуться. Голова моя торчала с одного края Брадфилда, а ноги с другого. Да что я, там даже Хетти места не хватало! Теперь я занялся глазами, другой мой. Люди платят полкроны, чтобы вылечить грудь или горло, и то с неохотой, но, если у них что-то с глазами, они не задумываясь готовы расстаться с последним пенсом. В ушах тоже есть деньги, но глаза – это настоящее золотое дно.
– А при чем тут Южная Америка? – удивился я.
– Именно Южная Америка! – вскричал он и принялся расхаживать взад-вперед по обшарпанной комнате. – Вот послушай, приятель. Существует огромный материк, от экватора до айсбергов и, представь, на всем этом материке нет ни одного человека, который мог бы вылечить астигматизм. Что им вообще известно о строении глаза и современных методах его хирургии? Да ничего! В Англии в провинции об этом ни черта не знают, что уж тут говорить про Бразилию! Подумай только, там толпы полуслепых миллионеров, которые сидят на своих мешках с деньгами и ждут, когда же к ним приедет окулист. Что скажешь, Манро? Дьявол, когда я оттуда вернусь, я куплю весь этот Брадфилд и отдам его официанту вместо чаевых!
– Значит, ты хочешь осесть в каком-нибудь большом городе?
– Городе! Зачем мне нужен какой-то там город? Я еду туда, чтобы взять в свои руки весь материк! Пока я буду обрабатывать один город, мой агент будет ехать в следующий и сообщать там о моем прибытии. «Возможность, которая выпадает раз в жизни! – будет кричать он на каждом углу. – Незачем возвращаться в Европу! Европа сама едет к вам! Косоглазие, катаракта{243}, ирит{244}, глаукома{245}! Любые глазные болезни! Скоро в ваш город приезжает великий синьор Каллингворт! Он готов излечить каждого!» Разумеется, они на это клюнут, на площадях будут собираться толпы, ну а потом приезжаю я и собираю деньги! Вот мой багаж! – Он указал на две большие корзины в углу комнаты. – Это очки, друг мой! С вогнутыми линзами, с выпуклыми, сотни разных очков. Я проверяю зрение, тут же подбираю очки, и осчастливленный пациент с криками бежит домой. Потом я нанимаю теплоход и возвращаюсь домой. Если мне, конечно же, не захочется прикупить какой-нибудь из их штатов и заняться его управлением.
В его изложении все это, разумеется, звучало совершенно нелепо, но вскоре я увидел, что он очень тщательно все продумал и крайне серьезно относится к этой затее.
– Пока я работаю в Баие, мой агент готовит Пернамбуку{246}, – увлеченно расписывал он. – Выдоив все, что можно, из Баии, я еду в Пернамбуку, а агент направляется в Монтевидео. Так мы объедем весь материк и засыплем его очками. Все будет работать, как часы.
– Там тебе придется разговаривать на испанском.
– Ерунда, – отмахнулся он. – Чтобы ткнуть человеку ножом в глаз, не нужно изучать испанский. Единственное, что мне нужно будет уметь сказать, это «Оплата на месте. В кредит не работаем». Мне и этого вполне хватит.
Мы долго и интересно разговаривали о том, что примечательного случилось с нами за то время, пока мы не виделись, ни словом при этом не вспомнив о ссоре. Он отказывался признать, что покинул Брадфилд, потому что его практика пошла на убыль, продолжая утверждать, что ему сделалось тесно в этом городе. Его опускающийся защитный экран, по его же словам, очень понравился одной из первых частных судостроительных компаний на Клайде{247}, и есть очень большая вероятность того, что они возьмут его на вооружение.
– А что касается магнита, – сказал он, – мне очень жаль свою страну, но скоро она перестанет быть хозяйкой морей. Мне придется передать свое изобретение немцам. И не моя в этом вина. Не надо винить меня, когда Англия получит сокрушительный удар. Я представил свою идею в морское министерство. Мне проще было бы объяснить свою идею в какой-нибудь сельской школе. Ты бы видел, какие ответы я получал, Манро! Просто бред сумасшедшего на бумаге с печатью. Когда начнется война и я покажу эти бумаги, кого-нибудь за это повесят. Объясни им то, объясни им это… В конце они спросили, к чему я предлагаю крепить магнит. Я ответил: к любому твердому, непробиваемому предмету, такому, как голова любого из чиновников их министерства. На этом все и закончилось. Они написали мне вежливое письмо с благодарностью, и я написал им вежливое письмо с пожеланием провалиться к дьяволу. Этим великий исторический инцидент был исчерпан. Как тебе такое, а?
Расстались мы тепло, по-дружески, и все же, я думаю, некоторая настороженность осталась с обеих сторон. Напоследок он посоветовал мне как можно скорее бросить Берчспул.
– Ты способен на большее… На большее, приятель, – несколько раз повторил он. – Не сиди на месте, обыщи весь свет, и как только найдешь уютное местечко, тут же бросайся туда и старайся изо всех сил. Для человека, который готов драться, таких мест полно.
Это были последние его слова и, очевидно, наша последняя с ним встреча, поскольку почти сразу после этого он отправляется в свое авантюрное путешествие. Ему должно повезти. Он такой человек, которого ничто не может остановить. Расстались мы друзьями, и я искренне желаю ему удачи, хотя в глубине души все-таки не доверяю ему и буду рад знать, что нас с ним разделяет Атлантический океан.
Ну, а нас, Берти, ждет хоть и не такое великое, но счастливое и спокойное будущее. Сейчас нам обоим по двадцать пять, и я надеюсь, что еще самое меньшее лет тридцать пять есть в нашем распоряжении. Я предвижу, что со временем работа станет мне все больше и больше приедаться, круг моих знакомых будет расширяться и дальше, скорее всего, я примкну к тому или иному местному движению и в результате на склоне лет стану судьей или, по крайней мере, членом городского совета. Не слишком захватывает дух, правда? Но меня это устраивает и иного пути я не вижу. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что благодаря мне мир станет хоть чуточку лучше. Даже на таком незначительном уровне в каждом человеке существует некое противостояние, и я уверен, что жизнь нашу можно изменить к лучшему, если каждый встанет на сторону разума, терпимости, сострадания, умеренности, миролюбия и добра по отношению как к людям, так и к животным. Никто из нас не в силах отправить противника в нокаут одним ударом, но ведь каждый, даже самый слабый удар приносит очко.
До свидания, дорогой мой друг, и помни, что, если ты когда-либо приедешь в Англию, в нашем доме ты всегда желанный гость. В любом случае теперь, когда у меня наконец есть твой адрес, я обязательно в скором времени напишу тебе снова. Передавай искренний привет и наилучшие пожелания миссис Суонборо.
Всегда твой,
Дж. Старк Манро
%%%
Это оказалось последним письмом, которое мне суждено было получить от своего несчастного друга. В том году (1884)на Рождество он отправился к родителям и вблизи Ситтингфлита попал в страшную железнодорожную катастрофу. Экспресс, на котором он ехал вместе с женой, столкнулся со стоящим на станции товарным составом. Доктор и миссис Манро были единственными пассажирами первого за локомотивом вагона и погибли мгновенно, как и тормозной кондуктор{248} товарного состава и еще один пассажир. Все, кто их знал, согласились, что такой конец они наверняка выбрали бы себе сами, потому что так никому из них не пришлось оплакивать другого. Его страхового полиса в тысячу сто фунтов хватило, чтобы покрыть нужды его семьи. После того как здоровье его отца сильно пошатнулось, это было единственное, что могло вызвать у него тревогу.
Г. С.
Комментарии
ТЕНЬ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА (THE GREAT SHADOW)
1891–1892 годы – один из самых плодотворных периодов в творчестве А. Конан Дойла, что напрямую связано с его решением навсегда оставить медицину и посвятить свою жизнь всецело литературному труду. В это время им были написаны «Приключения Шерлока Холмса» и «Записки о Шерлоке Холмсе», исторический роман «Изгнанники», пьеса «Ватерлоо», повесть «Приключения в загородном доме»; к этому же периоду относится и небольшой исторический роман «Тень великого человека», над которым писатель работал с апреля по середину лета 1892 года. За новое историческое произведение А. Конан Дойл взялся по заказу издательского дома «Эрроусмит». «Поездка на шотландское побережье (непосредственно предшествовавшая работе над романом – А. К.) дала ему фон для начальных глав, а кульминация наступала в битве при Ватерлоо. Но само Ватерлоо, как и в „одноактке“ (пьесе „Ватерлоо“ – А. К.), было для него не просто фактом из учебника истории. Оно было эпизодом из его семейной хроники, эпизодом вполне реальным и осязаемым до мелочей, вплоть до цветов мундиров и вида киверов. И не однажды упоминал он о своих предках на этом поле брани. „Пятеро наших билось там, – говорил он, – и трое наших там полегло“» (Карр Дж. Д. Жизнь сэра Артура Конан Дойла: Пер. с англ. // Карр Дж. Д.; Пирсон Х. Артур Конан Дойл. – М.: Книга, 1989. – С. 75–76).
«<…> название (романа – А. К.) указывало на фигуру Наполеона Бонапарта, который „алыми буквами начертал свое имя на карте Европы“. Эпоха Наполеона с детства занимала Конан Дойла, который всю жизнь в разных сочинениях использовал свои обширные знания по истории этого периода. Однако, несмотря на его воодушевление, „Великая тень“ (так в данном переводе – А. К.) обернулась новым разочарованием. При всем великолепии батальных сцен роману не хватало динамизма „Белого отряда“ (исторический роман А. Конан Дойла, вышедший в 1891 году – А. К.). Впоследствии писатель нашел лучшее применение этому материалу и написал цикл повестей и рассказов о бригадире Жераре» (Сташауэр Д. Рассказчик: Жизнь Артура Конан Дойла: Пер. с англ. // Иностранная литература. – 2008. – № 1. – С. 36).
Когда биограф говорит о «новом разочаровании», он, видимо, в большей степени имеет в виду разочарование читательское, ибо сам автор отзывался о своем романе очень высоко: «Живя в Норвуде (решив оставить врачебную практику, А. Конан Дойл в июне 1891 года подыскал большой кирпичный дом в Южном Норвуде – тихом районе на юге Лондона – и, покинув центр города, переехал туда с семьей: женой, двухлетней дочерью и сестрами – А. К.), я действительно много работал, потому что помимо „Изгнанников“ написал „Великую тень“ – книгу, которую по ее достоинствам я отношу к лучшим своим произведениям <…>» (Конан Дойл А. Воспоминания и приключения: Пер. с англ. // Конан Дойл А. Жизнь, полная приключений. – М.: Вагриус, 2003. – С. 104). Правда, чуть ниже с горечью признается: «Все эти книги (кроме упомянутых речь идет также о повестях „Паразит“ и „Приключения в загородном доме“ – А. К.) прошли со средним успехом, ни одна из них не была выдающейся» (там же, с. 104).
«Тень великого человека» вышла – под одной обложкой с «Приключениями в загородном доме» – в том же году, когда и была написана – 1892-м, в издательстве «Эрроусмит».
ЗАГАДКА СТАРКА МАНРО (THE STARK MUNRO LETTERS)
Этот роман отличает то, что он целиком автобиографичен: жизненные перипетии и религиозно-философские поиски начинающего врача Старка Манро повторяют события жизни и богоискательство самого А. Конан Дойла. За редким исключением (например, отец Старка Манро – тоже врач, а отец А. Конан Дойла был архитектором и художником) и все остальные герои романа имеют своих реальных прототипов: мать Старка один в один списана с матери писателя – Мэри Дойл; история знакомства Старка с Виннифред Ла Форс и женитьба на ней – практически без изменений жизненная история самого писателя и его первой жены Луизы Хокинз; под именем Джеймса Каллингворта выведен университетский приятель, а после и несостоявшийся партнер А. Конан Дойла по работе Джордж Бадд; младший брат героя Пол – это младший брат А. Конан Дойла Иннес и т. д.
Трагический финал романа тоже обусловлен событиями личной жизни писателя: незадолго до того, как приняться за эту книгу, он пережил смерть отца и узнал, что его жена неизлечимо больна тяжелой формой туберкулеза и может умереть в любой момент.
Что же касается религиозно-нравственной составляющей романа, то в нем огромное место отведено размышлениям героя о Боге – как его понимает христианская доктрина – и каким он должен быть, лишенный ее догм. «Я не могу оценить ее, – писал Конан Дойл о книге. – Она явится если не литературной, то религиозной сенсацией» (цит. по: Карр Дж. Д. Жизнь сэра Артура Конан Дойла… – С. 82), – и затем неоднократно в своих мемуарах и публицистике повторял, что задача этого романа прежде всего философская, а уж потом – художественная, беллетристическая. Так, в статье, опубликованной в газете «Скотсмен» 15 октября 1900 г., он напишет: «Я не являюсь последователем Римской католической церкви; более того, не был им со школьной скамьи. В течение двадцати лет я страстно выступал в поддержку полной свободы совести и считаю, что любая заскорузлая догма недопустима и в сущности антирелигиозна, поскольку голословное заявление она ставит, вытесняя логику, во главу угла, чем провоцирует озлобленность в большей степени, нежели любое иное явление общественной жизни. Нет, наверное, ни одной книги, в которой я не пытался бы выразить это свое убеждение; одна из них – „Письма Старка Манро“ (так в данном переводе – А. К.) – целиком посвящена этой теме» (Конан-Дойль А. Доктор Конан-Дойль и Католическая церковь: Пер. с англ. // Конан-Дойль А. Уроки жизни. – М.: Аграф, 2003. – С. 120–121); а в мемуарах – «<…> моя философия материалиста, выраженная в „Письмах Старка Манро“ <…>» (Конан Дойл А. Воспоминания и приключения… – С. 122).
Над «Загадкой Старка Манро» А. Конан Дойл работал с ноября 1893-го и закончил роман в начале 1894 г. В это время он жил в Давосе – швейцарском горно-климатическом курорте – вместе с женой, которой врачи предписали лечение целебным альпийским воздухом. По окончании работы над романом А. Конан Дойл послал рукопись своему другу, известному писателю Джерому Клапке Джерому – редактору журнала «Айдлер» («Лентяй»), где «Загадка Старка Манро» и была опубликована по частям, в нескольких выпусках, после чего, в 1895 г., вышла отдельной книгой в лондонском издательстве «Longmans, Green and Company».
Примечания
1
Джок – шотландский вариант имени Джек (Примеч. ред.).
(обратно)2
Лэрд – помещик, землевладелец в Шотландии (здесь и далее примеч. перев.).
(обратно)3
Прекрасной кузиной (фр.).
(обратно)4
Хорошо (фр.).
(обратно)5
Гвардейские стрелки! (Фр.)
(обратно)6
Шотландская шапка без полей с ленточками сзади.
(обратно)7
Жандарм (фр.).
(обратно)8
Пехотинцы (фр.).
(обратно)9
«Его величеству королю Швеции. Стокгольм» (фр.).
(обратно)10
Снайперов (фр.).
(обратно)11
Боже мой (фр.).
(обратно)12
Егерей (фр.).
(обратно)13
Взводов (фр.).
(обратно)14
Слово чести (фр.).
(обратно)15
Военная удача (фр.).
(обратно)16
Черт возьми! (Фр.)
(обратно)17
Вперед! Вперед! (Фр.)
(обратно)18
Полковник гвардейских стрелков, адъютант императора Наполеона (фр.).
(обратно)19
Да здравствует император! (Фр.)
(обратно)20
Ускоренный шаг (фр.).
(обратно)21
Да здравствует король! Да здравствует король! (фр.).
(обратно)22
Ну, привет, каналья, привет! (Фр.)
(обратно)23
Боже! Эди, Эди, любимая! (Фр.)
(обратно)24
Булонский лес.
(обратно)25
Елисейские поля.
(обратно)26
Право же! (Фр.)
(обратно)27
Между нами; честно говоря (фр.).
(обратно)28
Фурлонг – английская и американская единица измерения, равная ~ 200 м.
(обратно)29
Перевод Виктории Меренковой.
(обратно)30
Курительная трубка с длинным мундштуком.
(обратно)31
Настойка из бешеного огурца, используемая как слабительное (лат.).
(обратно)32
Выражение Томаса Карлейля.
(обратно)33
102° по температурной шкале Фаренгейта равняются примерно 38,9° по шкале Цельсия.
(обратно)34
Безвыходное положение (фр.).
(обратно)35
Royal Navy – военно-морской флот Великобритании (англ.).
(обратно)36
Из письма Томаса Карлейля жене Джейн Уэлш от 21 августа 1845 года.
(обратно)37
Закуска, подаваемая перед основными блюдами для аппетита (фр.).
(обратно)38
Истинность, подлинность (лат.). Здесь – честность намерений.
(обратно)39
Проявление таланта, мастерства (фр.).
(обратно)40
До свидания (фр.).
(обратно)41
Примерно 38,9° по шкале Цельсия.
(обратно)42
Примерно 38,6° по шкале Цельсия.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
…Бервикшир… – Графство на юго-востоке Шотландии.
(обратно)2
…рядом с Корримьюром… – Корримьюр – небольшой шотландский городок – А. Конан Дойл посетил в ходе своего шотландского путешествия, о котором говорилось выше. В Корримьюре А. Конан Дойл останавливался у своего близкого друга писателя Джеймса Барри, который был родом из тех мест.
(обратно)3
…из Твида. – Твид – река, по течению которой проходит граница между Англией и Шотландией.
(обратно)4
Поскольку лошадь была создана Богом, а паровоз – человеком из Бирмингема… – Первые паровозы были созданы в Великобритании: в 1803 г. – Ричардом Тревитиком (1771–1833) – и в 1814 г. – Джорджем Стефенсоном (1781–1848). В данном случае имеется в виду живший и работавший в Бирмингеме Стефенсон.
(обратно)5
…мы, с небольшим перерывом в два года, воевали чуть ли не четверть века. – Речь идет о войнах Англии сначала с революционной, а затем – с наполеоновской Францией, начавшихся 1 февраля 1893 г. объявлением Францией войны Англии и закончившихся 22 июня 1815 г. вторичным отречением Наполеона от французского престола после поражения при Ватерлоо. Перерыв между англо-французскими войнами продлился не два, а немногим более года: в марте 1802 г. Англия подписала Амьенский мирный договор с Францией и ее союзниками – Батавской республикой и Испанией, а в мае 1803 г. дипломатические отношения между Англией и Францией были прерваны и англо-французская война возобновилась.
(обратно)6
Мы воевали с голландцами, мы воевали с датчанами, мы воевали с испанцами, турками, американцами, монтевидеанцами… – Перечисляются народы, страны которых в разное время в ходе наполеоновских войн были политическими противниками Британии и союзниками Франции.
(обратно)7
…мойры, богини судьбы. – В древнегреческой мифологии мойры (гр. moira – часть, доля) – дочери Зевса и Фемиды (варианты: Никты, Ананке). В ранних представлениях у каждого человека была своя мойра; в развитой олимпийской религии фигурируют три мойры – старухи, живущие в загробном мире и ведающие нитью человеческой судьбы: Клото прядет нить, Лахесис проводит ее через испытания, Атропос перерезает ее, обрывая жизнь.
(обратно)8
…один наш маленький одноглазый и однорукий человечек сумел разбить их могущественный флот. – Имеется в виду британский адмирал Горацио Нельсон, 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар разгромивший франко-испанский флот (подробнее см. в т. 6 («Подвиги бригадира Жерара. Приключения бригадира Жерара») наст. изд., комментарий на с. 433).
(обратно)9
…бервикские… – Бервик-на-Твиде – административный центр графства Бервикшир.
(обратно)10
…Норт-Бервик-ло… – Город севернее Бервика-на-Твиде, в шотландской области Восточный Лотиан.
(обратно)11
Это адвокат из Эдинбурга, он еще и неплохой поэт, Валли Скотт его зовут. – Национальный шотландский писатель, основоположник жанра исторического романа Вальтер Скотт (1771–1832) начинал как поэт (сборник народных баллад «Песни шотландской границы», 3 тома, 1802–1803 гг.) и всю жизнь служил по юридическому ведомству, сначала занимаясь адвокатурой, потом – на должности окружного шерифа.
(обратно)12
…Юнион Джек… – См. т. 5 наст. изд. («Приключения Шерлока Холмса. Убийца, мой друг»), примечание на с. 285.
(обратно)13
…в Карлайле… – Карлайл – город на северо-востоке Англии, недалеко от границы с Шотландией, столица графства Камбрия.
(обратно)14
…алкеевой строфой… – Алкеева строфа (горациева строфа) – в античной поэзии и ее имитациях строфа из двух одиннадцатисложных, девятисложного и десятисложного стихов. Названа по имени древнегреческого поэта-лирика Алкея (кон. VII – пер. пол. VI вв. до н. э.), оказавшего большое влияние на Горация (отсюда и другое название).
(обратно)15
…пентаметром или гекзаметром… – Гекзаметр (гр. hexametron от hex – шесть – и metron – мера) – стихотворный размер античной эпической поэзии: шестистопный дактиль (см. ниже), в котором первые четыре стопы могут заменяться спондеями (см. ниже). Пентаметр (гр. pentametros от pente – пять – и metron) – стихотворный размер античных элегий и эпиграмм: стяженный за счет безударных слогов гекзаметр, в сочетании с полным образующий двустишие (элегический дистих).
(обратно)16
…любого события в истории человечества, чуть ли не с убийства Авеля… – Авель – в библейской мифологии сын Адама и Евы, «пастырь овец», убитый из зависти старшим братом Каином – земледельцем, когда бог Яхве предпочел дары Авеля дарам Каина (Бытие, 4:2–8).
(обратно)17
…о спондеях и дактилях… – Спондей (гр. spondéios от spondē – жертвенное возлияние) – в метрическом стихосложении стопа из двух долгих слогов, по общей долготе равная дактилю. Дактиль (гр. dáktylos, буквально – палец) – трехсложный стихотворный размер, стопа которого содержит один ударный (долгий) и два безударных (кратких) слога.
(обратно)18
…кто подписал Великую хартию вольностей. – Великую хартию вольностей – грамоту, в интересах аристократии ограничивающую права короля и дающую определенные привилегии рыцарству, верхушке свободного крестьянства и городам – подписал в 1215 г. английский король Иоанн Безземельный (1167–1216; правил с 1199 года). Великая хартия вольностей входит в число действующих конституционных актов Великобритании.
(обратно)19
…коллоквиумов… – Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) – 1) одна из форм учебных занятий – беседа преподавателя с учащимися для выяснения знаний; 2) научное собрание, на котором обсуждаются доклады.
(обратно)20
…король Альфред… – Альфред Великий (ок. 849 – ок. 900) – король англосаксонского королевства Уэссекс с 871 г.; объединил под своей властью ряд соседних англосаксонских королевств.
(обратно)21
…китовый ус… – Роговые пластины на верхней челюсти у беззубых китов (до 400 штук). Применяются для различных поделок.
(обратно)22
…из Аймута. – Аймут – город на юго-востоке Шотландии, на побережье Северного моря.
(обратно)23
…мережами… – Мережа (вентерь) – ставное рыболовное орудие типа ловушки.
(обратно)24
Имбирный эль… – Имбирь – род многолетних трав; имбирь обыкновенный – пряная и лекарственная культура (в корневищах содержатся эфирные масла и фенолоподобное вещество). Эль (англ. ale от старогерманского названия пива – Ali, Alo, Ealo) – светлое английское пиво из ячменного солода, густое и крепкое. Имбирный эль – сладкий сильногазированный напиток с ароматом имбиря; имбирный квас. К пиву (и вообще алкогольным напиткам), вопреки названию, не имеет никакого отношения.
(обратно)25
…магрибский… – Мáгриб (араб. – запад) – регион на севере Африки, включающий Тунис, Алжир, Марокко (собственно Магриб), а также Ливию, Мавританию, Западную Сахару, образующих вместе с собственно Магрибом Большой Магриб, или Арабский Запад.
(обратно)26
Карбункул… – В данном случае – воспаление глубоких слоев кожи и подкожной клетчатки вокруг группы сальных желез, чаще на задней поверхности шеи, спине, лице. Сопровождается ознобом, повышением температуры.
(обратно)27
…молескиновый… – Молескин (от англ. moleskin, буквально – кротовая кожа) – хлопчатобумажная ткань, отличающаяся плотностью, прочностью и значительной толщиной, обыкновенно окрашенная в темный цвет («чертова кожа»); применяется для изготовления рабочей, спортивной, специальной форменной одежды, верха обуви и т. п.
(обратно)28
Ставь ногу на ступицу… – Ступица – средняя часть колеса, в которой укрепляются спицы, с отверстием для оси.
(обратно)29
…служил у Веллингтона… – Веллингтон – см. т. 4 («Маракотова бездна. Страна туманов») наст. изд., комментарий на с. 408.
(обратно)30
…шрапнель… – Артиллерийский снаряд, корпус которого заполнялся сферическими пулями (стержнями, стрелами и т. п.), поражавшими открытые живые цели. Разрывался в заданной точке траектории; применялся в XIX – начале XX вв.; вытеснен осколочными и осколочно-фугасными снарядами. Англ. shrapnel – по имени изобретателя Генри Шрапнеля (1761–1842).
(обратно)31
Саксонцы отбросили его далеко назад и под Лейпцигом задали ему хорошую трепку. – См. т. 6 наст. изд., комментарии на с. 435.
(обратно)32
…грэмовцы… – Томас Грэм (1748–1843) – английский генерал, в 1813 г. возглавлял левое крыло армии Веллингтона.
(обратно)33
…в Байонне. – Байонна – город на юго-западе Франции, недалеко от Испании.
(обратно)34
…Лит. – Город на юго-востоке Шотландии, рядом с Эдинбургом.
(обратно)35
…люггеры… – Люггер (люггер; англ. lugger – вероятно, от ср. – англ. lugge – жердь, шест) – в XIX веке трехмачтовое парусное военное судно.
(обратно)36
…каперы… – Кáпер (голл. kaper – морской разбойник) – вооруженное частное торговое судно, занимающееся каперством – захватом (с ведома своего правительства) торговых неприятельских судов или судов нейтральных стран, перевозящих грузы для неприятельского государства. Каперство было запрещено Парижской декларацией о морской войне 1856 года.
(обратно)37
…«Шассе-маре» – Устаревшее название быстроходного конного экипажа для подвоза свежей рыбы. Французское выражение «Aller un train de chasse-maree» (буквально – «нестись, как шассе-маре») примерно соответствует русскому «спешить как на пожар».
(обратно)38
…в один из реев… – Рей (рея; от голл. ree – жердь, шест) – металлический или деревянный поперечный брус, прикрепленный к мачте судна; предназначен для крепления прямых парусов и поднятия сигналов.
(обратно)39
…каронады… – Каронада (коронада) – короткая корабельная пушка. Англ. carronade – от Каррон – места первоначального изготовления таких пушек (Шотландия).
(обратно)40
…из Эльзаса… – Эльзас – см. т. 6 наст. изд., комментарий на с. 429.
(обратно)41
…понтонов… – Понтон (фр. ponton от лат. pons (pontis) – мост) – плоскодонное судно, служащее плавучей опорой для наплавных (понтонных) мостов (называемых часто также понтонами), плавучих кранов и т. п.
(обратно)42
…Гвадарраманские горы… – Горная цепь в Испании.
(обратно)43
Линейным кораблям… – Линейный корабль (линкор) – в парусном военном флоте XVII – первой половины XIX вв. большой трехмачтовый военный корабль с двумя-тремя палубами; имел от 60 до 130 орудий и до 800 человек экипажа; предназначался для ведения боя в линии баталии (отсюда и название).
(обратно)44
…канониры… – Канонир (нем. Kanonier от итал. cannone – пушка) – солдат в артиллерии.
(обратно)45
Когда-то у вас был свой король, вы жили по своим собственным законам, которые принимались в Эдинбурге, – сказал он. – Ваши сердца не наполняются гневом и отчаянием оттого, что теперь вами управляют из Лондона? <…> Это наш король стал править Англией… – Шотландское королевство сложилось в XI веке. Все попытки Англии, начиная с конца XIII века, покорить Шотландию наталкивались на сопротивление шотландцев, которым в 1314 г. удалось разгромить английскую армию. В 1603 г. после смерти бездетной английской королевы Елизаветы I на английский престол взошел шотландский король Яков VI (на этом престоле он принял имя Якова I), после чего Шотландия была объединена с Англией личной унией – т. е. союзом государств под властью одного монарха. Однако в 1651–1652 гг. Шотландия была насильственно присоединена к Англии и в 1707-м официально объединена с нею в одно государство.
(обратно)46
Когда мне было всего четырнадцать, я командовал ротой в битве… – Возможно, имеется в виду битва при Цюрихе (см. т. 6 наст. изд., комментарий на с. 432) или при Маренго (см. там же, с. 437).
(обратно)47
В том году, когда я достиг совершеннолетия, я участвовал в разделе великого королевства и помог занять трон новому королю. – Вероятно, речь идет о Прусском королевстве, разгромленном наполеоновскими войсками и в 1807 г. (согласно мирному договору с Францией) потерявшем часть своей территории: так, из отобранных у Пруссии польских земель образовалось Великое герцогство Варшавское, главой которого Наполеон поставил своего союзника – саксонского короля, а из западных областей Пруссии и некоторых других немецких государств Наполеон образовал вассальное Вестфальское королевство, на трон которого посадил своего брата Жерома Бонапарта.
(обратно)48
В деревне Асторга, в восьмом году. – В 1808 г. Асторга (Испания) некоторое время благодаря своему мосту удерживала натиск наполеоновского войска.
(обратно)49
…триместр. – Часть учебного года (три месяца) в высших учебных заведениях некоторых стран. От лат. trimestris – трехмесячный.
(обратно)50
Послы всех стран собрались в Вене, чтобы решить, что делать со шкурой поверженного льва. – На Венском конгрессе 1814–1815 гг., по окончании войны коалиций европейских стран с Наполеоном, были заключены договоры, направленные на восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц; закреплена политическая раздробленность Германии и Италии, Варшавское герцогство разделено между Россией, Пруссией и Австрией, а Франция лишена своих завоеваний.
(обратно)51
…летело по горам Ламмермура и достигало Пентлендс… – Ламмермур и Пентлендс – гористые местности на юго-востоке Шотландии.
(обратно)52
…русские гусары из Гродно… – См. т. 6 наст. изд., комментарий на с. 441.
(обратно)53
…бака… – Бак (от голл. bak – корыто) – носовая часть верхней палубы корабля, а также надстройка на носовой палубе.
(обратно)54
…под кливером, фоком и гротом… – Кливер (голл. kluive – «рассекатель»), фок (голл. fok от fokken – распространять, разворачивать), грот (голл. groot, буквально – большой) – типы парусов: первый – носовой, треугольный, ставится впереди фок-мачты (передней на судне), второй – нижний прямой (на одномачтовом судне – косой) на передней мачте, третий – самый нижний на второй мачте от носа (грот-мачте).
(обратно)55
…под бушпритом… – Бушприт (бугшприт; гол. boegspieth от boeg – нос корабля – и spriet – шест) – горизонтальный или наклонный брус, выставленный вперед с носа парусного судна; служит главным образом для крепления носовых парусов, для улучшения маневренных качеств судна.
(обратно)56
…пресвитерианка. – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 397–398.
(обратно)57
Наполеон вернулся с Эльбы, его старая армия тут же стала под его крыло, а Луи сбежал. – См. т. 6 наст. изд., комментарий на с. 437–438.
(обратно)58
…до Ла-Коруньи… – Ла-Корунья (Корунья) – город в Испании, порт на Атлантическом океане, административный центр автономной области Галисия и провинции Ла-Корунья. В битве у Ла-Коруньи в 1809 г. французская армия под командованием генерала Сульта (см. т. 6 наст. изд., комментарий на с. 433) выдержала кровопролитное сражение с английским экспедиционным корпусом генерала Дж. Мура.
(обратно)59
…хайлендский… – Хайленд – историческая область на севере Шотландии.
(обратно)60
Лучшие части сейчас в Америке… – Речь идет о второй англо-американской войне 1812–1814 гг., начавшейся в результате стремления США установить свободную торговлю с военными противниками Великобритании, а также захватить территорию Канады, бывшей в то время английской колонией. Сначала американцы одержали ряд побед над британскими войсками, но потом в ходе войны наступил поворот и вооруженные силы США были изгнаны из Канады, британский флот блокировал побережье, а в августе 1814 года английский десант захватил и сжег большую часть столицы США Вашингтона. В дальнейшем война шла с переменным успехом и закончилась подписанием мирного договора, восстанавливающего довоенные границы.
(обратно)61
…Остенде <…> Брюгге <…> Гент… – Фламандские города, первые два – порты на Северном море; в 1714–1815 гг. – в составе Австрии, в 1815–1830 гг. – Нидерландов, ныне – территория Бельгии.
(обратно)62
…Железный Герцог… – Имеется в виду Артур Вэлсли, герцог Веллингтонский – см. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 408.
(обратно)63
…воевавших с Наполеоном еще в Испании. – См. т. 6 наст. изд., комментарий на с. 431.
(обратно)64
…оксфордширцы. – Оксфордшир – графство в центральной части Англии.
(обратно)65
…возле Энгиена… – Энгиен – город в Бельгии.
(обратно)66
…с алебардой… – Алебарда (фр. hallebarde от средневек. нем. helmbarte, буквально – топор с крюком) – холодное оружие в виде длинного копья с боевым топориком на конце. Была на вооружении у пехоты ряда европейских стран в XIV–XVI вв., как парадное оружие использовалась до XVIII в.
(обратно)67
…кирасы. – См. т. 6 наст. изд., комментарий на с. 427.
(обратно)68
…батареи… – Батарея (фр. batterie от battre – бить) – огневое и тактическое подразделение артиллерийского дивизиона (полка); состоит из двух-трех огневых взводов, взвода управления, имеет от двух до восьми орудий.
(обратно)69
…ганноверцев. – Ганновер – герцогство в средневековой Германии, с 1692 г. – курфюршество (курфюрст – князь, за которым закреплено право избрания императора Священной Римской империи), после 1814–1815 гг. – королевство; ныне – часть земли Нижняя Саксония в ФРГ. В 1714–1837 гг. Ганновер состоял в личной унии с Великобританией.
(обратно)70
…Нею – Ней – см. т. 6 наст. изд., комментарий на c. 428.
(обратно)71
…Кемпта… – Джеймс Кемпт (1765–1854) – английский генерал, участник сражений с Наполеоном, в т. ч. при Ватерлоо.
(обратно)72
…битва при Ватерлоо… – См. т. 6 наст. изд., комментарий на с. 430.
(обратно)73
…расчета… – Расчет – группа военнослужащих, непосредственно обслуживающих орудие.
(обратно)74
Впереди колонны бежала группа застрельщиков… – Застрельщик – солдат в передовом рассыпном строю, начинающий перестрелку с неприятелем.
(обратно)75
Ведь это я возглавлял тот отряд, который захватил и расстрелял герцога Энгиенского. – Луи Антуан, герцог Энгиенский (1772–1804) – французский принц, представитель боковой ветви Бурбонов (дома Конде). С начала Великой французской революции – в эмиграции. Заподозренный Наполеоном в намерении занять французский престол, был вывезен в 1804 г. отрядом французских драгун во Францию, обвинен в участии в заговоре противника Наполеона Жоржа Кадудаля и расстрелян.
(обратно)76
…Карлейль… – Об отношении А. Конан Дойла к английскому писателю и философу Томасу Карлейлю – см. т. 1 («Собака Баскервилей. Этюд в багровых тонах») наст. изд., комментарий на с. 389–390.
(обратно)77
…placenta… – Плацента (лат. placenta от греч. plakús – лепешка) (детское место) – орган, осуществляющий связь и обмен веществ между организмом матери и зародышем в период внутриутробного развития. Предлежание плаценты – неправильное прикрепление ее в матке, при котором плацента находится на пути рождающегося плода.
(обратно)78
…«Британского медицинского журнала». – См. т. 3 наст. изд., комментарий на с. 437.
(обратно)79
…«воскоподобное вещество»… – Образуется при брюшном тифе и некоторых других заразных заболеваниях вследствие свертывания мышечного белка: мышечные волокна становятся похожими на воск.
(обратно)80
…гликоген… – Животный крахмал, основной запасной углевод животных и человека; образуется из сахара крови в печени и мышцах и откладывается там же. При недостатке в организме глюкозы гликоген под воздействием ферментов расщепляется до глюкозы, которая поступает в кровь. Регуляция синтеза и распада гликогена осуществляется нервной системой и гормонами. От гр. glykýs – сладкий – и – genē´s – рождающий, рожденный.
(обратно)81
…ольстером… – См. т. 5 наст. изд., примечание на с. 385.
(обратно)82
…фрикасе… – Нарезанное мелкими кусочками жареное или вареное мясо с какой-либо приправой. Фр. fricassée, от fricasser – тушить, поджаривать.
(обратно)83
…яйца-пашот. – Яйца, сваренные без скорлупы в кипятке. От фр. pocher – опускать в кипящую воду.
(обратно)84
…из Эйвонмута… – Эйвонмут – небольшой городок на западном побережье Англии, недалеко от Бристоля.
(обратно)85
…эпикурейское… – См. т. 5 наст. изд., комментарий на с. 394.
(обратно)86
…плиоцена. – Плиоцен (гр. pleiōn – больший – и kainos – новый) – эпоха в истории Земли, верхнее подразделение неогена, начавшегося 23,5—25 млн. лет назад и длившегося 22–23 млн. лет, в течение которых растительный и животный мир стали близкими к современному.
(обратно)87
…паладинов Карла Великого… – Паладин (фр. paladin от ср. – лат. palatinus – придворный) – в средневековой западно-европейской литературе название сподвижников Карла Великого (742–814) – франкского короля (с 768 г.), чьи завоевания привели к образованию обширной империи; позднее паладином стали называть доблестного рыцаря, преданного своему государю или даме.
(обратно)88
…футбол <…> эта новая игра с мячом… – Современный футбол зародился в Англии в середине XIX века.
(обратно)89
…Ричмонд <…> Блэкхиту… – См. т. 2 («Затерянный мир. Отравленный пояс. Когда мир вскрикнул») наст. изд., комментарий на с. 399, и т. 7 («Возвращение Шерлока Холмса. Долина Ужаса»), комментарий на с. 464 – соответственно.
(обратно)90
Футбол
(обратно)91
Представь закаленную сталь! Бессемеровскую! – Генри Бéссемер (1813–1898) – английский изобретатель, нашедший способ (патент 1856 г.) передела жидкого чугуна в сталь без подвода теплоты – продувкой воздухом.
(обратно)92
…плисовых… – См. т. 5 наст. изд., комментарий на с. 386.
(обратно)93
…смещение мениска… – Мениск (от гр. mēnískos – полумесяц) – внутренние и наружные серповидные хрящи коленного сустава, выравнивающие несоответствие кривизны составляющих его костей и смягчающие резкие толчки в суставе.
(обратно)94
…ревматическим артритом. – Артрит (от гр. arthron – сустав) – воспаление сустава. Бывает основным заболеванием и проявлением основных заболеваний; ревматический артрит – проявление ревматизма.
(обратно)95
…пером «рондо»… – Рондо – специальное перо с широким тупым концом для письма особым закругленным способом. Фр. roundeau от rond – круг.
(обратно)96
…ортодокс… – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 401.
(обратно)97
…агностическом… – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 402.
(обратно)98
…бакенами… – Бакен (бакан; голл. baken от bak – сигнал, знак) – плавучий знак, устанавливаемый для указания опасных мест на пути следования судов или для ограждения фарватеров (см. ниже).
(обратно)99
…фарватер… – Путь для безопасного прохода судов. Голл. vaarwater от vaar – чистый – и water – вода.
(обратно)100
Не истинно то, что законы природы могли когда-либо меняться по желанию человека… – Может иметься в виду, например, тот эпизод из библейской книги Иисуса Навина, где он приказывает солнцу и луне остановиться, и они останавливаются (Книга Иисуса Навина, 10:12–13).
(обратно)101
…что змеи могли разговаривать… – Очевидно, намек на библейскую легенду о змее, уговорившем Еву съесть запретный плод с дерева познания (Бытие, 3:1–6).
(обратно)102
…женщины превращались в соляные столпы… – Согласно библейской мифологии, решив за грехи уничтожить город Содом, бог Яхве перед тем вывел из него семью праведника Лота и велел им уходить, не оборачиваясь. Жена Лота нарушила запрет и обернулась, за что была превращена в соляной столп (Бытие 19:26).
(обратно)103
…жезлы высекали воду из камня. – В библейской книге «Числа» рассказывается в частности о том, как Моисей, ведущий евреев по пустыне из Египта в «землю обетованную», по слову Бога высекает жезлом из скалы воду, чтобы напоить народ (Числа 20:7—11).
(обратно)104
…Не истинно то, что первоисточник здравого смысла может наказать целый народ за несущественное прегрешение одного человека, давно уже умершего… – Согласно библейской мифологии созданный Богом первочеловек Адам после того, как он, ослушавшись запрета, съел плод с дерева познания, был проклят Богом и изгнан из рая, а потомки Адама и Евы, т. е. все человечество, несут на себе печать греха первопредков.
(обратно)105
…в качестве искупления требовать невинного козла отпущения. – Во входящей в Ветхий Завет книге Левит, рассказывающей о законах, установленных богом Яхве еврейскому народу, описывается ритуал жертвоприношения Богу для искупления человеческих грехов, согласно которому в день искупления священнику следует взять двух козлов, по жребию выбрать одного из них и заколоть в жертву Богу, а на второго возложить все совершенные к тому времени грехи и отпустить в пустыню. Последний и называется козлом отпущения (Левит, 16:5—22).
(обратно)106
…книги Иова… – Во входящей в Ветхий Завет Книге Иова рассказывается о праведнике Иове, которому Бог посылает все новые испытания, чтобы проверить на крепость его веру.
(обратно)107
Последняя реформация упростила католицизм… – Реформация (от лат. reformatio – преобразование) – широкое общественно-политическое и религиозное движение в Западной и Центральной Европе XVI века. Идеологи Реформации, выдвинувшие тезисы, которыми фактически отрицалась необходимость католической церкви с ее иерархией и духовенства вообще, единственным источником религиозной истины провозглашали Библию, требовали «дешевой церкви», отрицали права церкви на земные богатства и т. д. Реформация положила начало протестантизму, в ряде стран возникли различные протестантские церкви: лютеранская, кальвинистская, в Англии – англиканская, и др.
(обратно)108
…«Revue des deux Mondes»… – «Журнал двух миров» – крупнейший в XIX в. французский двухнедельный литературно-политический журнал, издается с 1829 г. и до сих пор; задуман как площадка для франко-американских (отсюда и название) дебатов о политике, экономике и культуре, но быстро превратился в самый влиятельный печатный орган страны и – шире – общекультурный журнал Европы, в котором было место как политическим спорам, так и литературным открытиям: именно в нем были впервые опубликованы многие известные романы и рассказы П. Мериме, О. де Бальзака, Жорж Санд и Ф. Стендаля. Во время Первой мировой войны утратил свое ведущее литературное и культурное положение.
(обратно)109
…о Гонкурах… – Братья Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) Гонкуры – французские писатели, соавторы романов из жизни разных слоев французского общества. По завещанию Эдмона Гонкура в 1896 году основана Гонкуровская академия, с 1903 г. ежегодно вручающая Гонкуровскую премию – ныне высшую литературную премию во Франции.
(обратно)110
…Флобере… – См. т. 5 наст. изд., комментарий на с. 386.
(обратно)111
…Готье. – Теофиль Готье (1811–1872) – французский писатель и критик.
(обратно)112
…«эсквайр»… – Эсквайр (англ. esquire от лат. scutarius – щитоносец) – почетный титул в Великобритании (в раннее средневековье – оруженосец рыцаря), указывающий на принадлежность к низшему дворянству.
(обратно)113
…три раза Плантагенеты вступали в брак с представителями нашего семейства… – См. т. 5 наст. изд., комментарий на с. 393.
(обратно)114
…бретанские… – Бретань – историческая область на северо-западе Франции на одноименном полуострове.
(обратно)115
…нортумберлендские… – См. т. 1 наст. изд., комментарий на с. 386.
(обратно)116
…великое проклятие Эрнульфа, включающее в себя восемь меньших проклятий… – Эрнульф (ум. 1124) – епископ Рочестерский; его огромное, многоступенчатое проклятье приводится в романе английского писателя Лоренса Стерна (1713–1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760–1767).
(обратно)117
…я придерживаюсь мнения Бальзака относительно женщин за тридцать. – В романе «Тридцатилетняя женщина» (1844) французского писателя Оноре де Бальзака (1799–1851) тридцатилетний возраст женщины понимается как период достижения полной зрелости и обретения физических и духовных сил; этому возрасту отдается предпочтение перед наивной и восторженной юностью, так как тридцатилетняя женщина вручает избраннику свое сердце осознанно, умеет выбирать и различать людей – и, следовательно, ее любовь имеет больше цены и дарит больше счастья. Отсюда и происхождение понятия «женщина бальзаковского возраста».
(обратно)118
…подагра… – Хроническое заболевание, обусловленное нарушением обмена веществ; проявляется острыми приступами артрита, деформацией суставов, нарушением их функции. Причина: наследственность, переедание (главным образом злоупотребление мясом и алкоголем). Гр. podágra, буквально – капкан для ног.
(обратно)119
…спикула… – Скелетный элемент у некоторых беспозвоночных (губок, иглокожих и т. п.). Здесь: мельчайшая частица кости. От лат. spiculum – кончик, острие, жало.
(обратно)120
…в шишковидную железу… – Шишковидная железа (эпифиз) – орган позвоночных животных и человека, расположенный в промежуточном мозге; вырабатывает биологически активное вещество (мелатонин), которое регулирует (тормозит) развитие половых желез и секрецию ими гормонов.
(обратно)121
…в Белфаст… – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 406.
(обратно)122
…марокканской кожей… – Марокканская кожа – то же, что сафьян (тонкая, мягкая, обычно ярко окрашенная кожа, выделанная из шкур коз и овец).
(обратно)123
…«Иллюстрейтед Лондон ньюс»… – Иллюстрированный журнал консервативного направления; основан в 1842 г.; выходит шесть раз в год; печатает материалы о текущих внутренних и международных событиях, статьи по археологии, искусству, этнографии, социологии; помещает много фотографий.
(обратно)124
…тори… – Политическая партия в Англии в XVII–XIX вв., представлявшая интересы крупных землевладельцев-дворян, предшественница современной партии консерваторов; чередовалась у власти с партией вигов. Англ. tory от toraighe – слова, используемого для обозначения ирландских партизан во время гражданской войны в Великобритании в XVII в., буквальное значение – преследуемый человек.
(обратно)125
…Гиббон… – Эдуард Г´иббон (1737–1794) – английский историк, автор труда «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788).
(обратно)126
…как это ужасно, когда служитель епископальной церкви исполняет обряды в пресвитерианском храме. – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 397–398.
(обратно)127
…Смайлс… – Сэмюэл Смайлс (1812–1904) – английский писатель-моралист, автор книг «Помощь себе», «Бережливость», «Жизнь и труд», «Самодеятельность».
(обратно)128
…я покинул Шотландию и сейчас нахожусь в Йоркшире. – Йоркшир – графство на севере Англии, сравнительно недалеко от Шотландии.
(обратно)129
…номер «Ланцета» … – «Ланцет» – английский старейший (первый в мире) медицинский журнал. Основан в 1823 г. Томасом Вокли; выходит до сих пор.
(обратно)130
…на ком женился Джон Гант… – Джон Гонт (1340–1399) (у Шекспира в исторической драме-хронике «Ричард II» (1595) – Джон Гант, – и с тех пор именно такое произношение и написание фамилии стало распространенным) – известный политический деятель Англии, оставивший немалый след в истории страны; сын короля Англии Эдуарда III, дядя короля Ричарда II, отец короля Генриха IV, первый герцог Ланкастерский (основатель дома Ланкастеров), один из крупнейших феодалов Европы своего времени, один из ведущих военачальников короля Эдуарда в Столетней войне и т. д.; был женат три раза: его первая жена – Бланш – умерла в 1369 г., вторая – Констанция – в 1394-м, в третий раз он женился в 1396 г. на Екатерине Суинфорд.
(обратно)131
…билль о реформе парламентского представительства… – Принят британским парламентом в июне 1832 г. после напряженной политической борьбы, в интересах крупной буржуазии. Согласно этому биллю (закону) были ликвидированы так называемые «гнилые местечки» – обезлюдевшие избирательные округи в сельских местностях, где депутатов фактически назначал лендлорд – крупный землевладелец, и созданы новые избирательные округи, преимущественно в новых промышленных городах, ранее не имевших представительства в парламенте.
(обратно)132
Разве не они поддержали северян в борьбе с южанами, когда почти все наши лидеры хотели обратного? – Имеется в виду Гражданская война в США (см. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 440), во время которой английские рабочие активно выступали против планов вооруженной интервенции Англии в поддержку рабовладельцев американского Юга; английское же правительство всемерно помогало южанам, снабжая их оружием, продовольствием и деньгами и строя для них на своих верфях военные корабли.
(обратно)133
…рудиментарный остаток… – Т. е. пережиток исчезнувшего явления. От лат. rudimentum – зачаток, начальная ступень.
(обратно)134
Опухоль желез… – Т. е. опухоль гормональная – состоящая из клеток, продуцирующих какой-либо гормон, что вырабатывают железы.
(обратно)135
…туберкулезные бугорки… – Органическое воспалительное разрастание ткани (гранулема) тела, являющееся главным признаком заболевания туберкулезом.
(обратно)136
…А в мозг – густые кровяные тромбы. – Тромб (от гр. trómbos – ком, сгусток) – плотная желеобразная масса, выделяющаяся из свернувшейся крови при долгом ее застое. Вызывает прекращение кровотока и нарушает доступ крови к ткани, которую снабжает кровью данная артерия. Закупорка любой артерии головного мозга тромбом ведет к инсульту (см. т. 3 наст. изд., комментарий к «Апоплексический удар» на с. 437).
(обратно)137
…Ферментов… – Ферменты (энзимы, биокатализаторы; от лат. fermentum – закваска) – вещества белковой природы, присутствующие во всех живых клетках животных, растений и микроорганизмов, регулирующие и многократно ускоряющие биохимические процессы в них; играют важнейшую роль в обмене веществ.
(обратно)138
…вашего американского Аарона Бурра… – Аарон Бурр (1756–1836) – третий вице-президент США (1801–1805), герой американской революции и войны за независимость; путешественник и авантюрист.
(обратно)139
…бромид. – Лекарственное средство, содержащее бром и его соединения. В прошлом бромиды широко применялись в медицине как успокоительные средства.
(обратно)140
…ревенной пилюли… – Ревень – род многолетних трав семейства гречишных, овощная культура. В медицинской практике препараты из корней и корневищ ревеня применяются как слабительное средство.
(обратно)141
…Линлитгоу… – Городок в Шотландии, недалеко от Эдинбурга.
(обратно)142
…патрон «Боксер»… – Употреблявшийся в Англии во второй половине XIX в. составной патрон с корпусом из металлической ленты (до этого у патронов корпус был картонным), намотанной в два слоя, изобретен в 1864 г. англичанином Эдвардом М. Боксером.
(обратно)143
…брикстонский… – Брикстон – район Лондона на южном берегу Темзы, в XIX в. – богатый пригород на пути в Брайтон. …траулер… – Морское рыболовное судно для ловли рыбы тралом (см. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 390) и ее первичной обработки. Англ. trawler от ср. – голл. traghelen – тащить.
(обратно)144
…«Лучшим из когда-либо воздвигнутых памятником Наполеону Бонапарту является британский национальный долг»… – См. т. 6 наст. изд., комментарий к «гинеи Питта» на с. 442.
(обратно)145
…«Нельзя забывать, что главный вклад Великобритании в развитие Соединенных Штатов – это создание самих Соединенных Штатов» – Имеется в виду, что первыми поселенцами-колонистами на территории США, еще в начале XVI в., были англичане.
(обратно)146
…желчном протоке. – Желчный проток, образующийся при слиянии протоков желчного пузыря и печени, открывается в двенадцатиперстную кишку.
(обратно)147
…Харли-стрит… – См. т. 3 наст. изд., комментарий на с. 440.
(обратно)148
…Тейлоровской «Судебной медицины»… – Альфред Свейн Тейлор (1806–1880) – английский токсиколог, основоположник британской судебной медицины. Автор капитальных трудов «Пособие по судебной медицине» (1844) и «Судебная медицина» (1845).
(обратно)149
…Британская медицинская ассоциация… – Основана в 1832 г. для содействия развитию медицинских и смежных наук, защиты чести и интересов медицинских профессий в Объединенном Королевстве.
(обратно)150
…преддверия привратника желудка… – Преддверие – полость, расположенная у входа в какую-либо полую часть органа. Привратник – суженная часть желудка в месте его перехода в двенадцатиперстную кишку, снабжен круговой мышцей, сокращения которой приводят к закрытию отверстия канала, соединяющего желудок и двенадцатиперстную кишку.
(обратно)151
…ногтоеда… – Болезнь, гнойное воспаление ногтевых структур с переходом на мягкие ткани фаланги.
(обратно)152
…Дэвид Ливингстон… – Дэвид Ливингстон (1813–1873) – шотландский исследователь Африки, с 1840 г. совершил ряд длительных путешествий по южной и центральной части этого континента, сделал множество географических открытий.
(обратно)153
…эпителиоматозный рак… – Т. е. раковая болезнь, вызванная эпителиомой (от гр. epi – на, над, сверх, при, после; thēlē´ – сосок – и – ōma – опухоль) – опухолью на коже.
(обратно)154
…от Баии… – Баия-Бланка – город-порт в Аргентине.
(обратно)155
…Вальпараисо. – Город в Чили.
(обратно)156
…гандшпугом… – Гандшпуг – деревянный или металлический рычаг для подъема и передвижения тяжестей на корабле. Голл. handspaak от hand – рука – и spaak – рычаг.
(обратно)157
Принятие билля о второй реформе парламентского представительства, 1867. – Этот избирательный закон, принятый после «хлопкового голода» 1863–1864 гг., экономического кризиса 1866 г. и многотысячных митингов в крупнейших городах страны, снизил имущественный ценз и расширил число избирателей с 1 млн. до 2,5 млн. человек за счет мелкой буржуазии и рабочих.
(обратно)158
…Юлия Цезаря. – Гай Юлий Цезарь (102 или 100—44 до н. э.) – римский полководец и диктатор (в 49, 48–46, 45 и с 44 г. – пожизненно), фактически монарх.
(обратно)159
18 августа: Сражение при Гравлот – Сен-Прива, 1870. – Между местечками Гравлот и Сен-Прива (на севере Франции, в Лотарингии) в ходе Франко-прусской войны прусские войска нанесли сокрушительное поражение французам.
(обратно)160
…гранов… – См. т. 5 наст. изд., примечание на с. 186.
(обратно)161
…хлорала… – Хлорал – бесцветная маслянистая жидкость характерного запаха, применявшаяся в медицине как снотворное средство.
(обратно)162
…драхмы… – Драхма (от гр. drachmē´ – горсть) – единица массы в системе английских мер, составляет 1/18 унции, равна 1,772 грамма; как единица вышедшего из употребления аптекарского веса аптекарская драхма составляла 1/8 унции и – в системе английских мер – равнялась 3, 888 грамма.
(обратно)163
…Риджентс-парка… – Риджентс-парк – крупный парк в северной части Лондона.
(обратно)164
…патагонской… – Патагония – природная область на юго-востоке Южной Америки, в Аргентине.
(обратно)165
Мы знаем наверняка, что мир не был создан за шесть дней… – Согласно библейской мифологии Бог создал мир за шесть дней (Бытие, 1:1—31).
(обратно)166
…что Солнце не могло быть остановлено… – См. комментарий на с. 353.
(обратно)167
…что ни один человек не может прожить три дня во чреве рыбы. – Намек на библейскую легенду об Ионе, который, будучи проглочен китом, пробыл в его чреве три дня и молился Богу, после чего кит извергнул его обратно (Книга пророка Ионы, 2:1—11).
(обратно)168
…Адмиралтейство… – См. т. 7 наст. изд., комментарий на с. 466.
(обратно)169
…фальшборта… – Фальшборт (нем. Falschbord, буквально – ложный борт) – продолжение бортовой обшивки судна выше верхней палубы, служит для ее ограждения и уменьшает накат волн на нее.
(обратно)170
…в Новой Англии… – Новая Англия – название исторически сложившегося региона в северо-восточной части США, предложенное в 1614 г. английским капитаном Джоном Смитом. В Новую Англию входят штаты Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд. Главный экономический центр – Бостон.
(обратно)171
…молочной кислоты… – Молочная кислота – важный промежуточный продукт обмена веществ у животных, растений и микроорганизмов.
(обратно)172
…эндокардит… – Воспалительное заболевание внутренней оболочки сердца, ведущее к поражению сердечных клапанов и образованию пороков сердца. От гр. éndon – внутри – и kardíа – сердце.
(обратно)173
…эмболия… – Закупорка сосудов эмболом – принесенной с током крови частицей (оторвавшийся тромб, жир из поврежденных тканей или воздух, попавшие в сосуд, и т. д.). Эмболия легочной артерии, мозга, сердца может быть причиной смерти. От гр. embolē´ – вбрасывание.
(обратно)174
…тромбоз… – Образование тромбов – см. комментарий на с. 356.
(обратно)175
…метастатические абсцессы… – Абсцесс (лат. abscessus – гнойник, нарыв) – скопление гноя в тканях или органах вследствие их воспаления. Развивается остро, с болью, повышением температуры, нарушением функции органа; требует хирургического вмешательства. Метастатический (от гр. metástasis – перемещение) абсцесс развивается вследствие переноса возбудителей гнойной инфекции из отдаленного очага кровью или лимфой.
(обратно)176
…анемичным… – Анемичный – малокровный, бледный, вялый. Анемия – малокровие – от гр. an – не – и hаíma – кровь.
(обратно)177
Древнеримский ров и норманнская крепость… – В I в. н. э. большая часть британских островов была завоевана римлянами, а после их ухода в V–VI вв. – германскими племенами англов и саксов. Нормандское (норманны – викинги, варяги) завоевание Англии состоялось в 1066 г.
(обратно)178
…пионеры… – См. т. 7 наст. изд., комментарий на с. 356.
(обратно)179
…на Мальту… – Мальта – островное государство в центральной части Средиземного моря. С 1800 г. – колония и военно-морская база Великобритании. В 1921 г. получила самоуправление, с 1964 г. – независимое государство в составе Содружества.
(обратно)180
…начала войны в Египте. – Имеется в виду Англо-египетская война 1882 г., завершившаяся захватом Великобританией Египта.
(обратно)181
…опирался на свою «Мартини»… – См. т. 3 наст. изд., комментарий на с. 431.
(обратно)182
…ударил его свингом в ухо. – Свинг (англ. swing – размах) – в боксе – боковой удар с дальнего расстояния.
(обратно)183
…мормон… – См. т. 1 наст. изд., комментарий на с. 395.
(обратно)184
…паланкина… – Паланкин (португ. palanquim – из санскр. paryanka – постель, ложе) – носилки в форме креста или ложа, укрепленные на двух длинных шестах, концы которых лежат на плечах носильщиков.
(обратно)185
Жировоск… – Вещество, в которое превращаются ткани трупа в условиях повышенной влажности при отсутствии или недостатке воздуха; представляет собой соли пальмитиновой и стеариновой кислоты (мыла); приводит к длительному сохранению трупа.
(обратно)186
…холестерин… – Вещество, содержащееся в нервных и жировых тканях, печени и др. Избыток холестерина в организме человека приводит к образованию желчных камней, отложению холестерина в стенках сосудов и другим нарушениям обмена веществ. От гр. cholē´ – желчь.
(обратно)187
…дермоидную кисту? – Дермоидная (гр. dérma – кожа) киста (от гр. kýstis – пузырь) – патологическое образование с плотными стенками и полостью, заполненной роговыми массами, волосами и т. п.; возникает при нарушениях зародышевого развития.
(обратно)188
…семенную коробочку недотроги… – Недотрога (бальзамин) – род травянистых растений. Плоды недотроги разбрасывают семена, раскрываясь от малейшего прикосновения (отсюда и название).
(обратно)189
Это было, когда я водил бронированный транспортник «Хиджра» в Черном море в пятьдесят пятом. В Балаклавской бухте, сэр, штормом его разнесло на такие мелкие куски… – Или автор, или рассказчик романа, или персонаж – капитан Вайтхолл – путается в датах. Памятный англичанам (см. «Крымская война» – в т. 3 наст. изд., комментарий на с. 437) шторм в Балаклавской бухте, во время которого одиннадцать английских судов, стоявших на рейде у входа в бухту, были выброшены на прибрежные скалы, произошел не в 1855-м, а 2 ноября 1854 года.
(обратно)190
…маорийского… – Маори – полинезийский народ в Новой Зеландии. В 1843–1872 гг. происходили вооруженные сопротивления маори английским колонизаторам, получившие название маорийских войн.
(обратно)191
Рубикон был перейден. Жребий брошен. – Рубикон – древнее название реки, впадающей в Адриатическое море, которую в 49 г. до н. э. Юлий Цезарь, вопреки запрещению сената, перешел со своими легионами, воскликнув: «Alea jacta est!» («Жребий брошен!»), – и это стало началом гражданской войны. «Перейти Рубикон» – означает совершить решительный поступок, принять бесповоротное решение.
(обратно)192
…из Варны… – Варна – город в Болгарии, порт на Черном море.
(обратно)193
…галлонов… – Галлон (англ. gallon) – единица объема и емкости (вместимости) в США, Великобритании и других странах, содержит 8 пинт. В Великобритании 1 галлон для жидкости равен 4,546 литра.
(обратно)194
…терракотовых… – Терракота (ит. terra cotta, буквально – обожженная земля) – обожженная цветная глина, а также неглазурованные изделия, разновидность керамики.
(обратно)195
…митральная регургитация… – Регургитация (от лат. re– обратно – и gurgitus – хлынувший) – перемещение содержимого полого органа в направлении, противоположном физиологическому, в результате сокращения его мышц (например, рвота слизью, пищей непосредственно после ее приема; обратное истечение проглоченной жидкости через нос при параличе неба). Митральная (см. т. 3 наст. изд., комментарий к «митральному клапану» на с. 430) регургитация – обратный ток крови через отверстие сердца из-за недостаточности клапана.
(обратно)196
…цирроз печени… – Цирроз (от гр. kirros – рыжий, лимонно-желтый) – разрастание в каком-либо органе плотной соединительной ткани, замещающей функциональные элементы органа. Цирроз печени происходит вследствие ее поражения при вирусном гепатите и других инфекционных заболеваниях, а также при алкоголизме.
(обратно)197
…Брайтова болезнь… – Ричард Брайт (1789–1858) – английский врач, один из основоположников нефрологии – медицинской науки, изучающей строение, функции почек, их болезни и предлагающей способы лечения. В 1827–1836 гг. описал происхождение и протекание болезней почек – нефрита. Брайтова болезнь – собирательное название для обозначения всех видов воспаления почек.
(обратно)198
…водянка… – Скопление жидкости в полостях тела, подкожной клетчатке и других тканях при болезнях сердца, почек, токсикозе беременных и др.
(обратно)199
…высокой церкви… – Высокая церковь – название одной из трех (остальные две – «широкая» и «узкая») партий в англиканской церкви; на первый план выдвигает идею церкви как богоустановленного общества, имеющего строгую иерархическую организацию и обладающего особым, от апостолов унаследованным, священным авторитетом.
(обратно)200
…на страницах «Панча». – «Панч» – английский сатирико-юмористический журнал консервативного направления. Основан в 1841 году. Назван по имени героя кукольного представления «Панч и Джуди».
(обратно)201
…диссентер? – Диссентеры (англ. dissenters от лат. dissentire – быть несогласным) – распространенное в XVI–XVII вв. в Англии название лиц, не согласных с вероучением и культом англиканской церкви.
(обратно)202
Помните того римского императора, который в доспехах и полном вооружении выходил на арену сражаться с несчастным калекой, защищенным лишь тонкой свинцовой фольгой, расходившейся от любого удара? – Речь идет о римском императоре Кóммоде Антонине (161–192), правившем с 180 г., который – вопреки своему положению – участвовал в гладиаторских боях. Упомянутая история рассказана Элием Ламбридием, одним из шести авторов сборника «Авторы жизнеописаний Августов» (IV в.).
(обратно)203
…Его осуждение субботствующих евреев. – Согласно ветхозаветному закону Моисея суббота у евреев – выходной день, в который категорически нельзя выполнять никакой работы. В Новом Завете Иисус показан противником слепого следования догмам и ритуалам, в Евангелиях рассказывается, как он вступился за своих учеников, которых упрекнули за то, что они в субботний день рвали, чтобы насытиться, колоски с поля, а также исцелял в субботу больных. Субботствующим евреям Иисус сказал: «<…> суббота для человека, а не человек для субботы» (Марк, 2:27).
(обратно)204
…Его нападки на торговцев… – Имеется в виду следующий эпизод из Нового Завета: «И вошед в [Иерусалимский] храм, [Иисус] начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: написано „дом Мой есть молитва“; а вы сделали его вертепом разбойников» (Лука, 19:45–46).
(обратно)205
…Его неприятие фарисеев… – Фарисеи (гр. pharisáioi от др. – евр. перушим – отделившиеся) – представители религиозно-политической секты в Иудее во 2 в. до н. э. – 2 в. н. э.; отличались фанатизмом и лицемерным исполнением правил благочестия. В Новом Завете Иисус постоянно порицает и даже проклинает фарисеев – например, так: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за что примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшее вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: „если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен“. Безумцы и слепые! Что больше: золото или храм, освящающий золото? <…> Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. <…> Змии, порождения ехидны! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле <…>» (Матфей, 23:13–35).
(обратно)206
…необъяснимое раздражение, которое вызвала у Него смоковница из-за того, что не принесла плодов, хотя сезон плодов еще не наступил… – «На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики Его. <…> Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла» (Марк, 11:12–21).
(обратно)207
…Его очень человеческие чувства по отношению к женщине, которая заботилась о Нем, пока Он проповедовал в ее доме… – «Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Ему волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен <…>. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря» (Иоанн, 11:2–5).
(обратно)208
…удовлетворение, которое получал Он оттого, что миро оставляли для Него, а не раздавали нищим… – Миро(гр. mýron – масло) – благовонное масло или душистое маслянистое вещество. Речь идет о следующем эпизоде из Нового Завета: «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня; ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возливши миро сие на Тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (Матфей, 26:6—13).
(обратно)209
…Его сомнения в самом себе перед решающим моментом… – «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И отошед немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. Еще, отошед в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово» (Матфей, 26:36–44).
(обратно)210
…унитарий… – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 398.
(обратно)211
…деист? – Деизм (фр. déisme от лат. dues – бог) – религиозно-философское учение, распространенное в XVII–XVIII вв., признающее Бога творцом мира, но отвергающее его участие в жизни природы и общества. Деисты считали Бога безличной первопричиной, отвергали религиозный фанатизм и отстаивали свободу вероисповедания.
(обратно)212
…закон излучения Кирхгофа… – Густав Роберт К´ирхгоф (1824–1887) – немецкий физик, в 1859 г. открыл закон излучения, названный его именем. Согласно этому закону отношение испускательных и поглощательных способностей любого тела равно испускательной способности абсолютно черного тела (т. е. тела, которое полностью поглощает падающее на него излучение) при той же температуре.
(обратно)213
…Альберт Великий. – Альберт Великий (Альберт фон Больштедт; ок. 1193–1280) – немецкий философ и теолог, начал энциклопедическую систематизацию католического богословия; преподавал в Кельне и Париже; автор трактатов о минералах, растениях, животных и др.
(обратно)214
…Челси… – Район Лондона.
(обратно)215
…Эмерсон… – Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский философ, эссеист, поэт, крупнейший американский романтик.
(обратно)216
…ипохондрик… – См. т. 3 наст. изд., комментарий на с. 430.
(обратно)217
Сейчас в Александрии происходят такие события… – Имеется в виду Англо-египетская война – см. комментарий на с. 359.
(обратно)218
…шерри… – Английское название хереса – крепкого вина, производимого в Испании, возле города Херес-де-ла-Фронтера.
(обратно)219
…сарацина… – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 396.
(обратно)220
…фения… – Фении (от ирл. fiann – название легендарной военной дружины III в.) – ирландские революционеры-республиканцы второй половины XIX – начала XX вв., борцы за независимость Ирландии от Англии, члены тайных заговорщицких организаций «Ирландского революционного братства» (основано в 1858 г.). Действовали в Ирландии, Великобритании, США, Канаде, странах Южной Америки. Восстания фениев в 1867 г. потерпели поражение.
(обратно)221
…оранжист. – В Ирландии (католической стране) – член протестантской партии, противник ирландского самоуправления и сторонник английского владычества над Ирландией; изначально – сторонник английского короля Вильгельма III Оранского (1650–1702) – отсюда и название.
(обратно)222
…уравновешивает существование тех господ, которые до сих пор уверены, что мир создан в 4004 году до нашей эры. – Т. е. христианских богословов (и – шире – всех приверженцев христианства), на основании изучения Библии вычисливших, что мир был создан Богом – по разным версиям (всего было около двухсот различных вариантов даты сотворения мира) – от 3483 до 6984 года до Рождества Христова. 4004 г. до н. э. – одна из общепринятых, начиная с Тридентского собора 1545–1563 гг., в католической церкви дат (так называемая «короткая» хронологическая шкала).
(обратно)223
…рефлектором… – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 391.
(обратно)224
…стоун… – Единица массы в английской системе мер, содержит 14 фунтов (6,35 кг).
(обратно)225
…методист-веслианец… – Методисты (от гр. méthodos – путь исследования, теория, учение) – протестантская церковь, главным образом в США и Великобритании. Возникла в XVIII в., отделившись от англиканской церкви и требуя последовательного, методического соблюдения религиозных обрядов, предписаний. Проповедует религиозное смирение, терпение, строжайшую дисциплину. Основателями методизма были братья Джон (1703–1791) и Чарлз (1707–1788) Весли.
(обратно)226
…человека эпохи палеолита… – Палеолит (от гр. palaios – древний – и lithos – камень) – древнейший период каменного века. В начале палеолита на Земле появляются древнейшие обезьяноподобные люди (свыше 2 млн. лет назад), конец относится к временному периоду приблизительно 10 тыс. лет назад.
(обратно)227
…человека эпохи неолита… – Неолит (от гр. neos – новый – и lithos) – последняя эпоха каменного века (VIII–III тыс. до н. э.), характеризуется оседлостью населения, появлением скотоводства и земледелия, изобретением керамики.
(обратно)228
…хлороформ… – Органическое соединение, бесцветная жидкость со сладковатым запахом, хороший растворитель жиров, смол и других веществ; получают синтетически; входит в составы для растирания, используемые при мышечных и невралгических болях. В XIX и начале XX вв. применялся для наркоза, впоследствии был заменен более безопасными веществами. В настоящее время используется в качестве растворителя в фармакологической промышленности, а также для производства красителей и т. д. Впервые получен в 1831 г. в качестве растворителя каучука С. Гутри. Формулу хлороформа установил французский химик Жан Батист Дюма (1800–1884), он же в 1834 г. придумал название (фр. chloroforme от гр. chlōros – зеленовато-желтый – и лат. forma – форма).
(обратно)229
…сепией… – Сепия (от гр. sē´рíа – каракатица) – светло-коричневая краска, получаемая из красящего вещества, вырабатываемого особым органом («чернильным мешком») в теле морского моллюска (сепии). Использовалась европейскими художниками с середины XVIII в. при рисовании пером и кистью. В XX в. заменена искусственными красителями типа акварели.
(обратно)230
…квартердек… – Приподнятая часть верхней палубы в кормовой части судна. Англ. quarter-deck от quarter – четверть, четвертая часть – и deck – палуба.
(обратно)231
…бэтсменом <…> боулером. – В крикете: бэтсмен – игрок, специализирующийся на подачах; боулер – игрок, специализирующийся на отбивании мяча битой.
(обратно)232
…как наполеоновские генералы из Италии. – В апреле 1796 г. директория поставила молодого генерала Наполеона во главе французской армии, направленной в Северную Италию, и он принудил Сардинское королевство, а затем и другие итальянские государства заключить мир с Францией, после чего нанес ряд решающих поражений австрийцам (в то время часть территории Италии принадлежала Австрии), поочередно разгромив четыре австрийских армии, одна за другой переброшенные в Италию. Заключив с побежденной Австрией перемирие, Наполеон потребовал многомиллионных контрибуций, захватывал и вывозил из Италии во Францию уникальные памятники искусства и огромные материальные ценности.
(обратно)233
…индийской войны. – Имеется в виду восстание сипаев – см. т. 3 наст. изд., комментарий на с. 432.
(обратно)234
…марантовый суп… – Маранта – тропическое растение, из корневищ которого получают аррорут – крахмал, по питательным свойствам близкий к крахмалу картофеля.
(обратно)235
…кавалер креста Виктории… – См. т. 4 наст. изд., комментарий на с. 406.
(обратно)236
…служил в том небольшом гарнизоне, который героически защищал Лакхнау в разгар восстания сипаев. – Лакхнау – индийский город, столица княжества Ауд, с начала восстания сипаев один из трех (остальные два – Дели и Канпур) самостоятельных очагов освободительной борьбы. В конце мая 1857 г. вся территория Ауда, кроме Лакхнау, была захвачена восставшими. Через месяц сипаи, разгромив английские отряды, ворвались в Лакхнау, и англичане, жившие в этом городе, а также бежавшие туда из восставших районов, засели в хорошо укрепленной и обеспеченной продовольствием и боеприпасами английской резиденции, находившейся под городом, у реки Гумти. В июле английскому генералу Хавелоку, пришедшему выручать осажденных в Лакхнау англичан, удалось пробиться к нему, но вывести осажденных он не смог и был вынужден запереться вместе с ними в резиденции. 23 февраля 1858 года присланный из Англии генерал Кэмпбелл выступил из Канпура в Лакхнау во главе сорокатысячной армии и после длившегося двадцать дней боя отбил у сипаев Лакхнау.
(обратно)237
…магистрат… – Городское управление, муниципалитет. От лат. magistratus – начальник.
(обратно)238
…до эксгумации. – Эксгумация (от лат. ex – бывший – и humus – земля) – извлечение из земли захороненного трупа для судебно-медицинской, криминалистической экспертизы или патологоанатомического исследования.
(обратно)239
У кого-то из русских писателей есть прекрасное высказывание о том, что тот, кто любит одну женщину, знает обо всем женском роде больше, чем тот, у кого были мимолетные отношения с тысячью! – «…фраза эта обнаружилась в „Анне Карениной“, только произносит ее не автор, а приятель Вронского Серпуховской, которому подобная банальность вполне простительна …» (Чертанов М. Конан Дойл. – М.: Молодая гвардия, 2008. – С. 109). В романе Л. Толстого это звучит так: «– Ты сказал, чтобы все было, как было. Я понимаю, что это значит. Но послушай: мы ровесники; может быть, ты больше числом знал женщин, чем я. – Улыбка и жесты Серпуховского говорили, что Вронский не должен бояться, что он нежно и осторожно дотронется до больного места. – Но я женат, и поверь, что, узнав одну свою жену (как кто-то писал), которую ты любишь, ты лучше узнаешь всех женщин, чем если бы ты знал их тысячи» (Толстой Л. Собрание сочинений: В 12 т. – М.: Правда, 1987. – Т. 7: Анна Каренина (части первая – четвертая). – С. 346–347).
(обратно)240
…Мэн… – Остров в Ирландском море, в составе Великобритании.
(обратно)241
…клике… – Клика (от фр. clique – шайка, банда) – группа людей, стремящихся любыми средствами достигнуть каких-либо корыстных, неблаговидных целей.
(обратно)242
…окружить религию китайской стеной… – Китайская стена – непреодолимая преграда, полная изолированность от кого-либо или чего-либо. По названию огромной древней стены, отделявшей Китай от Монголии.
(обратно)243
…катаракта… – См. т. 3 наст. изд., комментарий на c. 436.
(обратно)244
…ирит… – Воспаление радужной оболочки глаза. От гр. iris – радужная оболочка глаза.
(обратно)245
…глаукома! – Заболевание глаз, основными признаками которого являются повышение внутриглазного давления и снижение зрения. Гр. glaukōma от glaukus – светло-зеленый (при глаукоме область зрачка иногда отсвечивает серым или зеленовато-голубым цветом).
(обратно)246
…Пернамбуку… – Город и штат в Бразилии.
(обратно)247
…на Клайде… – Клайд – река на юге Шотландии.
(обратно)248
…тормозной кондуктор… – Работник, сопровождающий железнодорожный поезд, в чьи обязанности входит проверка тормозов.
(обратно)(обратно)



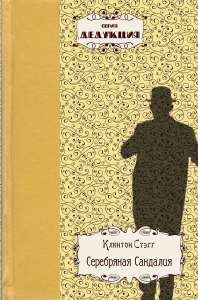


Комментарии к книге «Тень великого человека. Загадка Старка Манро», Артур Конан Дойль
Всего 0 комментариев