Хорст Бозецкий Для убийства нужны двое
Основные персонажи:
Ханс Иоахим Томашевский
…стоит на пороге банкротства и пытается предотвратить его неординарными средствами;
Ваххольц
…погибает от неординарных средств;
Гюнтер Фойерхан
…оказывается в смертельной опасности, поскольку может опознать человека, ограбившего банк;
Джон Шеффи
который, собственно, именуется Иоганном Томашевским и который поступает из лучших побуждений;
Бухгалтер Паннике
объединяет их только одно: оба и фрау Пошман любят появляться не вовремя и некстати;
Сузанна Томашевская
…женщина с проблемами, сложным характером и гениальными идеями;
Комиссар Ханс Манхардт
…мужчина с проблемами, сложным характером и смелыми версиями.
1. Ханс Иоахим Томашевский
Томашевский чувствовал себя усталым, смертельно усталым, и разочарованным. Даже мчась в краденом «фольксвагене» по широкой набережной Курта Шумахера, он не в силах был превозмочь мучительной усталости, от которой закрывались глаза, и напрасно пытался сдержать слезы, стекавшие на верхнюю губу. Джин, которого он успел хлебнуть, только усилил чувство жалости к самому себе. Он все еще ощущал холодное дуло «беретты» у правого виска. Почему ему нехватило сил нажать курок, чтобы обрести покой, о котором он так мечтал? Почему он не умер еще ребенком, скажем, в двенадцать лет, прежде чем его одолела жизнь со всеми ее проблемами? Бой, непрерывный бой: за лучшие марки, лучших девушек, новые заказы… Война — и никакого мира.
А теперь еще эта затея, которая была ему так отвратительна и которую он уже не мог предотвратить…
Наверху на Мюллерштрассе ему пришлось затормозить на красный свет. «Ты дурак, — бормотал он, — засранец, козел!», — и ненавидел себя за собственную слабость. Чтобы довести задуманное до конца, нужно быть хладнокровным мужчиной, а не беспомощным ребенком. Его налет на Бранденбургский земельный банк был безумием. Полным безумием.
Он свернул налево, чтобы через Тегель добраться до Гермсдорфа. Этот маршрут займет лишних десять минут. Убийственно долго… Почему он не может остановиться, зайти в ближайшую забегаловку и обо всем забыть? Что его гонит вперед? Он не знал.
Время поджимало. Был вторник, и если на неделе не выплатить кредиторам больше ста тысяч марок, можно объявлять о распродаже. А потом и о банкротстве.
Но тогда уже все едино…
Мысль о необычности и безумии собственного плана отчасти привела его в чувство. Он даже удивился. Боже, ведь он поставил все на одну карту, рискует головой, авантюрист чертов!
Тут ему как раз попался двухэтажный автобус, и в нем вспыхнула гордость при виде рекламных плакатов его фирмы:
МЕБЕЛЬ ОТ ГТ? ХОРОШАЯ ИДЕЯ!
Добрый знак.
Настроение сразу изменилось. Его охватило странное желание овладеть всем миром, как томной женщиной. Он едва не притормозил, чтобы заговорить с девицей, торчавшей на одной из остановок. Вас не подвезти? Он не сомневался, что девица согласится. Эти бронзовые бедра!.. Если повезет с главной добычей, он заполучит десятки таких девиц. На элегантных, щедрых, неженатых бизнесменов вроде него всегда есть спрос.
Внезапная эрекция тут же прогнала страх.
Может быть, следовало подыскать машину побыстрее. Но «фольксваген», к тому же еще серый, был самым неприметным. «Беретта» в левом нагрудном кармане серого фланелевого костюма упиралась стволом в ребра. Сняв правую руку с руля, уже блестевшего от пота, он сунул пистолет в боковой карман. Кончиками пальцев погладил нежную ткань нейлонового чулка. Чулок Сузанны. Он обнаружил его в забытом ящике комода. Сколько времени прошло с тех пор, как она его надевала? Сколько раз он гладил и целовал его верхний краешек?! Но все уже позади. Раз и навсегда. Теперь чулок станет маской.
Все как перед операцией. Он хотел потянуть время, отказывался сознавать, что именно вскоре произойдет, но знал, что все должно пойти именно так, как он планировал. Он был рабом собственной воли, которая стала самостоятельной силой, сделав его всего лишь послушной куклой.
Может быть, остановиться и купить сигарет? Да, но тут же вернуться!
Он нашел место на стоянке и вылез из тесной машины.
Неподалеку от станции метро заметил автомат с сигаретами. Со звоном упала монетка, он потянул рычаг и сунул в карман пеструю пачку. Курить совсем не хотелось.
Неторопливо он дошел до угла и заглянул в один из узких переулков. Там он заранее оставил свой «опель». Если при бегстве что-нибудь случится, здесь он без проблем пересядет.
Но что может случиться?
Почему, собственно, ничего не случилось? Почему какой-нибудь грузовик не смял украденный «фольксваген», почему он не упал в обморок, почему все банки сразу не закрылись из-за какого-нибудь валютного кризиса? Могло случиться что угодно. Но краденая машина спокойно ждала, греясь на полуденном солнышке, а его пульс ничто не нарушало. Придется действовать… Ах, если бы кто-нибудь избавил его от этих мучений нерешительности!
Но что еще ему было делать? У него не осталось уже никаких возможностей спасти фирму. Или начать бегать по домам, как мелкий коммивояжер, и предлагать стиральный порошок? Нет! Тогда поехали!
Томашевский подчинился своему внутреннему голосу. И так все было бессмысленно, ужасно бессмысленно! Ах, если бы его схватили и посадили лет на десять! По крайней мере, сразу отпали бы все заботы и проблемы. Весь мир плевал на Ханса Иоахима Томашевского. Что изменится от того, ограбит он или не ограбит восьмое отделение Бранденбургского земельного банка? Это ничего не изменит и ничего не значит. Ну и что?
Всего через четверть часа этому суждено случиться. Отделение у гермсдорфской железнодорожной станции он знал по десяти визитам. Оно было маленькое. Два кассира и пожилая дама, которая около двенадцати уходит на обед. От бывшей приятельницы, которая когда-то работала в Бранденбургском земельном банке, он знал, что во вторник в сейфах всегда даже больше денег, чем ему нужно. А самое удачное, что там еще понятия не имели о пуленепробиваемых стеклах и прочих средствах безопасности.
Томашевский начал насвистывать, его сразу охватило беспричинное веселье. Проезжая через густой лес, отделявший Гермсдорф от Тегеля, он вспомнил о тех выходных, когда играл тут с друзьями. Ешке, Буш, Фойерхан и Фидлер! Кем они стали? Наверняка все уже почтенные отцы семейств с талантливыми отпрысками. Если его схватят и его история с грубо отретушированным фото появится в газетах, все о нем сразу вспомнят и станут рассказывать женам и коллегам всякие небылицы. «От Томи я бы этого не ожидал, только не от него!»
Он бросил взгляд в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, похож ли он на преступника. Широкое мясистое лицо ему опротивело. Просто непереносимо — всю жизнь так выглядеть. Водянистые глаза посажены слишком близко, недоделанный подбородок переходит сразу в ясирную шею. «Что еще от такого можно ожидать?» — скажут люди, когда в газетах появится сообщение о его аресте. И будут совершенно правы.
«Наброски!» — мелькнуло вдруг у него в голове, и он машинально нажал на тормоз, так что машину даже занесло. Два листка формата А4, на которых он в деталях разрисовал внутренность банка и улицу перед ним. Вчера хотел сжечь их, но что-то ему помешало. Может, вернуться? Нет! Если все провалится, будет все равно, если нет — никто их не найдет.
Он опять нажал на газ.
Если бы только так не болел желудок! Левой рукой он отпустил руль и помассировал живот. Его раздражало, что живот перевешивается через ремень. Он все толстел, и девицы, которыми он скрашивал свое одиночество, уже начинали над этим подшучивать.
— Томашевский опускается все ниже, — вслух сказал он с каким-то странным удовлетворением. — Томашёвскому приходит конец!
Голос звучал хрипловато. И вообще, разве это его голос? Все казалось каким-то нереальным.
Боже мой, почему я всегда хватаюсь за такие невозможные вещи!
Нет, план был хорош. Даже исключителен. Наконец-то он нашел силы действовать. Был мужественен и тверд; не отступал и не сдавался — нет, он решил сражаться. И вдруг почувствовал себя большим и сильным, бесконечно превосходящим слабаков и подхалимов.
Он знал, что приближается к Бакнагерштрассе, совершенно машинально притормозил и свернул направо. В конце улицы замаячила высокая насыпь, по которой ходили поезда, а перед ней — приземистое здание Бранденбургского земельного банка.
Оставалось сто метров…
Еще можно вернуться.
Он снял ногу с педали газа. Если бы только знать, куда это все заведет… Станет ли это его спасением или погубит? Одно было ясно: если в пятницу он не добудет сто тысяч, ему конец.
Банкротство, публичная распродажа имущества… короче, конец!
До самой смерти придется гнуть спину, чтобы расплатиться с долгами. Он стал бы нищим, который уже ничего себе позволить не сможет. Конец походам по барам, поездкам в Танганьику или на Цейлон, женщинам, которых нужно завоевывать норковыми шубками, конец воскресеньям на поле для гольфа… И нечего мечтать ни о какой вилле, никаких костюмов из Лондона, а когда возникнут проблемы с желудком, нечего и рассчитывать обратиться к какому-нибудь светилу! Только к жалкому лекаришке через страховую кассу… Нет, это уже не жизнь!
Дети играли в садах, в струях поливальных машин сверкала радуга, улыбающийся почтальон вручал дряхлой старушке заказное письмо, два старика делились друг другу на ухо воспоминаниями о Кенигсберге… Его затея не вписывалась в этот безгрешный мир. Он вдруг испугался, что навредит всем этим людям.
Но в конце концов он сделал все, что мог, чтобы честно добыть эти деньги. Но ни одна сволочь не одолжила ни гроша.
«Очень жаль, герр Томашевский, но мы ничем не можем вам помочь. Объем продаж у вас из месяца в месяц падает. Вы не можете предоставить достаточных гарантий. И к тому же ваши бухгалтерские документы… Вы закупаете товар слишком дорого, держите сверхнормативные запасы, да и ваши личные расходы слишком высоки…»
Возможно, он и продержался бы, не обанкроться один из главных должников. И не его вина, что все так вышло.
То, что он задумал, было просто безумием, настоящим безумием. И тем не менее — единственным выходом. Ну и что, если он облегчит банк на сто тысяч марок? Банковским служащим только пойдут на пользу три минуты смертельного страха — слишком часто они ему отказывали. Он ненавидел этих холодных отвратительных типов и их бездушную вежливость.
Ему повезло: перед самым банком нашлось свободное место для машины. Ни минуты не колеблясь, он тут же свернул к тротуару. Скользнул взглядом по Хайнсештрассе и обратно. Наверху как раз остановился поезд и через турникет прошла кучка женщин, которые тут же исчезли из виду. Полуденная жара заставила людей носа не высовывать на улицу. В супермаркете напротив еще толпились покупатели, но его это не волновало. Парень из турбюро как раз собирался на обед. Внутри банка он разглядел двух мужчин. Один был довольно стройным и милым стариканом, второй выглядел гораздо моложе и серьезнее.
В этот миг Томашевский почувствовал, что решился окончательно. Жребий брошен… Он хотел это сделать. Иначе зачем все приготовления, «беретта», угнанная машина? Спокойствие улиц раздражало; его нужно было нарушить.
Томашевский достал из кармана чулок и приготовил его. Он потел всем телом и отчетливо ощущал, как пот стекает по спине. В нос бил кислый запах. Запах собственного тела был ему отвратителен. Руки, в которых он держал черную сумку, тряслись. Поместятся ли в ней все деньги?
Он уже собрался было решительно двинуться вперед, когда мужчина в белом плаще отворил окованные бронзой двери и исчез внутри банка. Похоже, владелец магазина радиотоваров, что в конце улицы. Для Томашевского это означало новую отсрочку. Хотя страх его с каждой секундой все нарастал, он уже и не думал отступать.
Вспомнил о своем первом полете. Тогда ему было восемнадцать или даже семнадцать лет. И ему хотелось кричать от страха, пока машина выруливала на старт. Но отступать было нельзя: ведь он уже вошел в самолет и за ним закрыли двери. И теперь от него совершенно ничего не зависело.
Томашевский чувствовал, как сердце его бьется все быстрее и беспорядочнее, и левую его руку пронзила тупая боль. В правом ухе звенело. Проклятое давление! Вместо джина нужно было принять успокаивающую таблетку.
Тип в белом плаще торчал в банке уже три минуты. Пошевеливайся, идиот! Господи, лишь бы все поскорее кончилось! Что же будет через десять минут? За ним будут гнаться по всему городу? Или он сразу врежется в какое-нибудь дерево?
Будь тут Сузанна… Помешала бы она сделать то, что он задумал? Вряд ли. Сузанна, Сузи. Черт бы ее побрал, мерзавку! Не брось она его, не сидел бы он тут, жил бы совсем иначе и его фирма не пришла бы в такой упадок… Может быть, он все делал только ради нее. Если он лишится фирмы, Сузанна будет торжествовать и с полным основанием заявит, что он неудачник. Нет, такого удовольствия он ей не доставит!
Тут банк покинул последний клиент. Массивные двери еще несколько мгновений качались взад-вперед. Человек в плаще довольно быстро удалялся по улице.
Нигде никого. Исключительно удобный случай. Ожидание закончилось — теперь вперед!
Томашевский натянул чулок на голову, левой рукой подхватил сумку, открыл дверь и выскочил из машины. На бегу он выхватил из свертка «беретту». Все движения казались ему такими привычными, словно он их совершал уже сотни раз. «Как профессиональный гангстер», — подумал он, наполняясь гордостью. Но тут же задрожали колени и он задохнулся — у него почти не было сил. Пройти эти четыре-пять метров казалось совершенно непосильной задачей. Сколько глаз наблюдали за ним, сколько человек уже бросились к телефону, чтобы набрать номер 110?[1] Он казался себе зайцем, скачущим через поляну, вокруг которой стоят десятки охотников. Улица крутилась у него перед глазами; казалось, он падает внутрь Земли…
Наконец он оказался у дверей. Распахнул их правой ногой и помчался дальше. Вот и кассовый зал.
Внутри было прохладно, тихо и уютно, и он казался себе безнадежно затерянным и бессильным. Как ему не хотелось, чтобы это оказалось неправдой!
Боже, этого просто не может быть! Это мне только снится. Господи, пусть все это окажется сном!
Что происходит? Он утратил всякое ощущение времени и пространства. Мечтал, что сейчас войдет мама и все объяснит. «У моего сына нервы не в порядке, это ничего не значит, я сейчас вам принесу справку!»
Все оказалось ошибкой. Он этого вовсе не хотел. Лучше уж банкротство и потеря фирмы, чем такое…
В этот миг его заметил кассир за перегородкой. Это был тот самый милый старичок за шестьдесят, с растущей лысиной и восковым лицом. Он собирал марки с репродукциями произведений искусства и как раз высчитывал, сколько денег останется в этом месяце на его хобби.
Старик вскрикнул. Это был слабый жалобный писк, как мяукание кошки.
— Тихо! — взревел Томашевский и подскочил к окну. Он действовал вопреки своей воле, воспитанию и всей натуре. Его поступки ему самому казались чужими, ненормальными. — Заткнись и гони деньги! — Говорил он, как в детстве, когда играли в разбойников.
Да, вот именно, все это было лишь игрой. Игрой, в которой он вообще не участвовал. Вместо него был только робот, и всем, что он делал, управлял встроенный компьютер. Настоящий Томашевский сидел снаружи в машине и смотрел на все это.
Кассир повиновался и стал складывать пачки банкнот в приготовленную сумку. При этом он старался не смотреть на Томашевского. Пальцы у него дрожали. Изо рта старика дурно пахло, и Томашевский невольно подался назад. Все шло блестяще. Сумка уже наполнялась…
За спиной Томашевского что-то скрипнуло. Двери, ведущие в заднюю комнату, распахнулись. Оттуда вынырнул парень помоложе с квадратным черепом. На нем был явно дорогой костюм отвратительного ржаво-рыжего цвета. Хоть перед налетом Томашевский и заметил в банке двоих служащих, но уже успел забыть про второго. Молодой кассир ни на миг не растерялся. Слишком часто он мечтал о подобной ситуации, чтобы отличиться. И без колебаний ринулся вперед.
Томашевский видел, как парень летит прямо на него. Его охватила паника. Инстинктивно он чувствовал, что атакующий гораздо сильнее и решительнее, чем он сам. И уже представлял страшные удары, которыми осыпают его могучие кулаки противника.
«Он меня линчует… Прикончит… Самозащита!..» Рука с «береттой» стремительно взлетела вверх.
— Нет! Не стреляйте!
Но Томашевский уже согнул указательный палец на роковой миллиметр. Кассир вскрикнул, прижал руки к животу и рухнул.
Совершенно отупевший Томашевский уставился на него. Он не видел и не хотел видеть связи между своим выстрелом и убитым человеком. Этого не может быть! Этого вообще не может быть, ведь он сидит там, снаружи, в машине. И именно сейчас он решил, что делать ничего не будет и вернется домой…
Второй кассир все еще бросал банкноты в сумку — боялся, что., если остановится, пристрелят и его.
— Хватит! — взвизгнул Томашевский. Его одолел приступ кашля. «Прочь отсюда, прочь! Человек на полу мертв? Похоже, да. Убийца! Убийца! Прочь отсюда, прочь!» Он схватил сумку и кинулся к дверям.
И в этот момент в зал вошел высокий, элегантно одетый мужчина. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что случилось. Тело на полу говорило само за себя. Чтобы избежать подобной участи, он отскочил в сторону, освобождая путь грабителю. Лучше быть живым трусом чем мертвым героем.
Но Томашевский замер на месте, словно окаменев. Ведь это… Он вытаращил на пришельца глаза.
Гюнтер Фойерхан!
— Томи, ты?! — воскликнул в этот миг Фойерхан, узнав Томашевского, несмотря на маску.
Томашевский несколько секунд размышлял. Бросить папку и сдаваться? «Сдайся. Сдайся — и все. Ведь теперь все потеряло смысл».
Фойерхан был растерян не меньше него. Побледнев, он попытался прикрыться руками. На полу стонал и сыпал проклятиями молодой кассир. Его коллега замер за окошком, как вкопанный. Как в кабинете восковых фигур в Лондоне. Что теперь? Ведь должен же кто-то что-то сделать! Глаза у него горели, к горлу подступала тошнота. Больше он терпеть не мог.
«Боже мой, где же полиция? Фойерхан, проклятый идиот! Что он тут делает? Этот осел провалил все дело, плейбой чертов, пижон проклятый…» Во взбудораженном мозгу в бешеном темпе носились безумные мысли. «Пристрели его! Мертвый он тебе ничего сделать не сможет!»
Нет, так нельзя: ведь Фойерхан давал ему списывать математику. Или латынь? Томашевского раздражало, что он и этого не может вспомнить… Но в любом случае Фойерхана он не может… не может пристрелить никого из друзей и приятелей… «Тогда пусти пулю в лоб — и с проблемами будет покончено!.. Ну давай, сделай что-нибудь наконец!»
Томашевский покачнулся; ему пришлось сделать шаг в сторону, чтобы не упасть. Парень на полу из последних сил полз к дверям, но едва смог сдвинуться с места. Одну руку он прижимал к животу, кровь пробивалась между пальцами и растекалась по полу. Томашевский отвернулся. Кровь… Его затошнило.
И давно он так тут стоит? Никто за него не решит! Но исключено, чтобы он ушел просто так и оставил тут Фойерхана. Это погубит все дело…
«Тогда возьми его с собой!»
— Давай пошевеливайся, — завопил Томашевский тонким голосом. — Выйди и садись в тот серый «фольксваген», видишь? Попытаешься бежать — пристрелю!
Фойерхан подчинился и, как загипнотизированный, вышел на залитую солнцем улицу. Через минуту оба сидели в машине, и Томашевский нажал на газ. Он испытывал огромное облегчение, его охватила никогда прежде не испытанная эйфория, он готов был петь и танцевать. Он справился!
Ограбление не заняло и четырех минут.
2. Комиссар Манхардт
Манхардт задумчиво смотрел на шахматную доску. Он только что сыграл сам с собой партию, которая, разумеется, закончилась вничью, и теперь углубился в проблему, как использовать слабость черного слона и поэффектнее атаковать пешку на f 7. Ведь пешка на f 7 стояла перед слоном и защищал ее только король. Манхардт вообще-то не был большим любителем шахмат, но репутация мыслящего криминального комиссара требовала, чтобы он хоть как-то умел в них играть. Тут его отвлекли шаги. Подняв глаза, он приветствовал Лили, которая вернулась из похода по магазинам.
— С твоей фигурой лучше бы толкать ядро, а не в шахматы играть!
Он кивнул, хотя предпочел бы лечь на диван и дочитать «Любимых, суженых» Фонтане. Со времени их свадьбы прошло уже почти пятнадцать лет. Ради покоя и гармонии он научился отказываться от собственных желаний. Нет, он не жалел, что женился на Лили, но он ничего не мог с собой поделать, и его воображение все время рисовало ему заманчивые картины: он то одинокий путешественник в амазонских джунглях, то загоревший дочерна инженер, ищущий нефть в ливийской пустыне, то обожаемый врач, исцеляющий в перуанских Андах несчастных индейских детей.
— Я приготовлю мусс, — обрадовала она. — Косточки из черешни я уже вытащила.
— Прекрасно, — буркнул он.
После вторых родов она сильно растолстела. Цветастое оранжевое платье с зеленым орнаментом было уже явно мало. Что-то напевая, она исчезла в доме. Что еще ему оставалось, кроме как до конца жизни любить ее… В этом году его уже явно не повысят до главного комиссара, не помогло даже то, что он вступил в ХДС.
Он решительно скинул шахматные фигурки в коробку из-под сигар, собрал утренние газеты, которые Лили положила на красный полированный столик, и просмотрел заголовки. Все равно, что читать эти глупости, что нет.
Из холодильника достал бутылку пива, открыл ее и не спеша перелил золотистую жидкость в пивную кружку. Что с ним происходит? У него выходной, он здоров, на улице светит солнце, а ему все так осточертело… Сев на шаткий деревянный стул, он нагнулся вперед и почесал в густой шевелюре, так что снежинками посыпалась перхоть.
Нет, нужно было стать учителем физкультуры, географии или истории. До сих пор он еще мог перечислить столицы всех стран или пятьдесят американских штатов. Мог бы воспитывать молодежь, а теперь был обречен до конца дней своих охотиться на неудачников и извращенцев. Если бы ему хватило сил противостоять своему отцу! Хочешь учиться? Получить степень? Все это глупости. Мой отец был полицейским, и я в полиции — и оба мы нашли там счастье. А из тебя явно выйдет нечто большее, чем старший вахмистр… И в самом деле он достиг большего. Приятели завидовали его профессии. И телевидение, крутившее детективы по вторникам и пятницам, способствовало тому, что престиж ее все больше возрастал. Его просто должно было бы распирать от счастья.
— Ханс!
Голос жены резанул по нервам. Он вздрогнул, словно ужалила оса.
— Что случилось?
— Телефон!
— Ты же знаешь, что меня нет дома!
— Звонит коллега…
— Кто?
— Кох.
— Да ну его…
— Он утверждает, это срочно.
— Наверняка выиграл в тотализатор.
— Нет, говорит, у него для тебя приказ от начальства.
Начальство — это главный криминальный советник доктор Вебер. Кох, вахмистр Герхард Кох, был всего лишь его подчиненным, и на его звонок он мог бы не отвечать, но если от него чего-то хотел главный, гораздо разумнее было бы взять трубку.
Манхардт устало и тяжеловесно поднялся и заковылял по свежескошенному газону. Скоро ему будет сорок, взрослый мужик с двумя детьми, но как только свистнет начальник, он должен прыгать, как зайчик. Как же это унизительно! Но если не лизать им зад, повышения не дождешься.
«Места у нас занимают по квалификации и достижениям». Ну да, черта с два!
Пытаясь держаться непринужденнее, он пересек свежевымытую террасу. Разумеется, Лили рада была бы видеть, как он бежит к телефону сломя голову. Она страшно боялась, что в один прекрасный день мужа уволят, потому что он слишком часто возражает и всегда проводит четкий водораздел между службой и отдыхом. Когда доктор Вебер внушает новым сотрудникам: «Наше дело требует человека целиком!», Манхардту хочется его задушить. Вместо этого дурацкого дома лучше бы он купил маленькую лавочку — табак, напитки, газеты, мороженое и все такое прочее… Зато стал бы сам себе хозяин.
Наконец он добрался до телефона и с отвращением снял трубку.
— Ну, повар[2], что там у вас опять подгорело?
— Господи, где ты так долго торчал?
— А ты бы смог оторваться от такого удовольствия?
— Ах так! — Кох, которого крайне возбуждали сексуальные намеки и шуточки, плотоядно захихикал. — Еще получается?
— Еще как! Что случилось?
— Ограбление банка. Прямо у тебя за углом. Ничего не заметил?
— Нет. У станции Гермсдорф?
— Да. Бранденбургский земельный банк. Один человек. Мужчина. Украл немного…
— Ну тогда сами справитесь, — буркнул Манхардт.
— Подожди, главное еще впереди: он подстрелил банковского служащего и забрал с собой случайного свидетеля… похитил, увез — называй, как хочешь.
— Совсем здорово!
— Главный хочет, чтобы делом занялся ты.
— Этого только не хватало!
— Сказал, что делом должен заняться его лучший специалист.
Манхардт сплюнул.
— Да будет воля его! Сейчас приеду. Пока — и до встречи.
— Ну-ну. Я жду тебя перед банком.
Манхардт бросил трубку. Лили пришла с кухни и сочувственно, озабоченно уставилась на него. Она всегда им гордилась. Приятельницы ей завидовали — как же, такой интересный муж! На лице ее появилась нежная улыбка, но Манхардта это еще больше разъярило.
— Черт, чем дальше, тем хуже! — воскликнул он. — Нужно искать другую работу!
— Ханс! — предостерегающе одернула Лили. — Окно открыто!
— Пусть твои проклятые соседи идут к черту!
— Можно подумать, что ты извозчик, а не государственный служащий, — укоризненно заметила она.
— Ах, перестань!.. — Он был зол до слез. Похоже, ждала нелегкая работа. Швырнув пижаму в угол, он схватил рубашку и штаны и быстро оделся.
— Уходишь? — спросила Лили.
— Нет! — съязвил он. — Просто примеряю костюм, проверить, впору ли.
— Ты просто непереносим!
— Ухожу-ухожу, оставляю тебя в покое.
— Что, собственно, случилось?
Он рассказал. Она слушала, удивленно открыв рот. Его работа была для нее таинственным миром, полным приключений. Работай он где-нибудь в конторе, она бы никогда не вышла за него замуж… Мысль эта настроение ему отнюдь не улучшила.
Через пять минут Манхардт уже поправлял галстук в тесной прихожей. Светло-серый летний костюм сидел как влитой. Но его раздражало, что он похож в нем на боксера, а не на чиновника криминальной полиции с высокими интеллектуальными способностями.
— Пока! — Лили поцеловала его мягкими губами. — Будь осторожнее!
— Гм… — Он притянул жену к себе, обеими руками стиснул бедра, ощутил зародившуюся легкую дрожь и подумал, как прекрасна была бы жизнь, если бы ему не приходилось день изо дня разгребать отбросы общества. Потом отстранился и вышел из дому.
К ограбленному филиалу банка у станции Гермсдорф пешком ему было пять минут. Так что не стоило даже выгонять машину из гаража. И что случится, если на месте преступления он появится на несколько минут позднее? Парня с деньгами давно уже след простыл, ищи ветра в поле…
Манхардт вынужден был признать, что испытывает к грабителю известную симпатию. Не любил он капиталистов.
Хорошо, что начальникам были неведомы его самые тайные мысли; за такое явно по головке не погладили бы. Но не волнуйтесь, господа, я постараюсь, чтобы виновник не избежал справедливого наказания. В конце концов я давал присягу. «Пусть освещает твой путь ясный свет долга…»
Густая толпа перед неприметным зданием банка рассеяла тайное подозрение Манхардта, что Кох подстроил ему злую шутку. Теперь он даже улыбнулся. Но что тут высматривают все эти люди? Впрочем, среди них было несколько крепких парней, которые щелкали фотоаппаратами, что-то измеряли и пытались завязать разговор с немногими свидетелями.
Манхардт протиснулся между двумя взволнованными продавщицами, споткнулся об оставленную коляску, вызвал гнев бдительного стража, показал ему свой служебный значок и наконец пробрался ко входу восьмого филиала Бранденбургского земельного банка.
Кох поспешил к нему, кипя рвением. Добродушное детское лицо его просияло.
— И как тут обстоят дела? — спросил Манхардт.
— Да никак. — Кох пригладил редкие русые волосы. — Ваххольц, тот раненый сотрудник, уже в больнице Вирхова и ему предстоит операция… Пуля попала в живот, к тому же повредила селезенку… Посмотрим, как он выкарабкается…
— А второй?
— Он у врача, ему делают успокаивающую инъекцию.
— Пережил изрядный шок?
— Наверное, его постараются поскорее спровадить на пенсию.
— Вот, значит, и все, что мы имеем… Судя по всему, парень уехал на машине, так?
— Ага, в сером «фольксвагене». Но ни одна живая душа не запомнила номера. — Кох был явно огорчен.
— Возможно, кто-нибудь еще найдется. Не теряйте надежду. Кто этот джентльмен там позади у сейфа — манекенщик от «Кардена»? Купи ты себе такой костюм, сразу отыскал бы подругу жизни!
— Это управляющий Бертрам, — сообщил Кох. У него была слабость к званиям и титулам. Кох всегда чувствовал себя польщенным, когда с ним по-дружески беседовали зарабатывавшие вдвое больше него.
— Так… — Манхардт не спеша подошел к элегантному менеджеру и отметил довольно резкий аромат духов. — Позвольте представиться, комиссар Манхардт. Я возглавляю расследование.
— Бертрам. Очень приятно. Я вас уже жду.
— Знаю. — Манхардт не принимал стройного господина слишком всерьез. — Сколько, собственно, недостает?
— Если я прикинул верно, примерно девяноста тысяч марок. Но точно будем знать, только когда вернется герр Грабовский.
— Тот, который в шоке?
— Да.
Манхардта все это слишком утомляло. Пока оставалось только ждать. Судя по всему, коллеги еще не обнаружили ничего интересного. Молодой эксперт хотел было принести гильзу, но Манхардт жестом остановил его. Когда поблизости зазвонил телефон, велел Коху взять трубку. Кох некоторое время слушал, потом что-то одобрительно буркнул и повернулся.
— Врач… Говорит, Грабовский уже может отвечать на вопросы, но пока его не отпускают обратно в банк. Лучше бы нам сходить туда.
— Почему бы и нет. Пошли…
Они вышли на улицу, где стало жарче еще на несколько градусов, протиснулись сквозь шептавшуюся толпу и стали искать кабинет врача, где отлеживался старик-кассир.
— Что сообщают патрульные машины? — спросил Манхардт.
— Ничего. Никто ничего не заметил. Тревогу объявили слишком поздно. Парень уже давно сидит в своей берлоге и пересчитывает денежки.
— Пожалуй, это здесь… — Манхардт остановился, читая табличку: «Доктор медицины Вальтер Пассман».
— Вальтер, Вальтер, где твой стартер? — ухмыльнулся Кох.
— Ты как ребенок; неудивительно, что никак не женишься! Господи, но как тут воняет дезинфекцией!
— Добрый день, господа! — В дверях их ждала крупнотелая медсестра. — Вы из уголовной полиции?
— А что, по нам заметно? — спросил Манхардт.
— Нет-нет! — Сестра отчаянно покраснела. — Но я подумала…
— И правильно подумали, — кивнул Манхардт. — Удалось ли вам вернуть к жизни нашего коронного свидетеля?
— Он уже ждет вас. Прошу, входите…
Эрих Грабовский, родившийся 12 февраля 1911 года в Нойхагене под Берлином, женатый, двое детей, дипломированный банковский служащий, восемь лет проработавший в Бранденбургском земельном банке, ожидал их в гинекологическом кресле смотрового кабинета. Маленький невзрачный человечек, который напомнил Манхардту хорошо сохранившуюся египетскую мумию.
— Добрый день, герр Грабовский, — приветствовал его Манхардт. — Ну что, еще раз вам повезло и удалось уцелеть? Прошу вас, не вставайте!
Они сели на кушетке и подождали, пока медсестра не закроет двери в кабинет врача. Доктор Пассман уже ушел обедать.
Манхардт закурил, и Кох тут же открыл окно. Он старался не дышать табачным дымом, считая, что это вредно для здоровья. Кох славился как бегун на 400 метров, его лучший результат — 50,5. Не веди он столь беспорядочную половую жизнь, пробежал бы и за 49,0.
— Как дела у моего коллеги? — спросил Грабовский.
— Выживет, — заверил его Манхардт, хотя понятия не имел, так ли это.
— Подлый бандит! Его следует повесить! Да, повесить! Манхардт поморщился, так неприятен был писклявый, как у кастрата, голос Грабовского. Несмотря на нестерпимую жару, тот был в шерстяном костюме. «Наверняка еще и кошачьей шерстью обернул поясницу», — подумал Манхардт.
— Как, собственно, этот тип выглядел? — спросил Кох.
— Откуда мне знать? Ведь он на голову натянул чулок!
— Я имею в виду, какого он был роста? — уточнил Кох.
— Ну, примерно с вас, правда, немного толще.
— Никакого акцента не заметили?
— Нет, не заметил. Он только крикнул: «Заткнись и давай деньги!», а потом: «Хватит!» — и все.
— Вряд ли грабитель станет произносить речи, — буркнул Манхардт.
— И угрожал вам пистолетом? — продолжал расспрашивать Кох.
— Да, разумеется! — Вопросы явно казались Грабовскому бессмысленными. — Иначе я не отдал бы ему деньги.
— Верно! — Кох попытался выжать ободряющую улыбку. — И как выглядело оружие?
— Ну, как пистолет…
— И потом он сразу выстрелил в вашего коллегу?
— Да. Ваххольц хотел на него броситься, и тут… Боже!.. — Грабовский закрыл руками лицо. — Это было ужасно!
— Мы вам верим, герр Грабовский. — Манхардт укоризненно взглянул на Коха. — Прошу вас… от ваших показаний очень многое зависит. И тут в дверях показался клиент…
— Я вынужден был отдать ему деньги, иначе я не мог! Дома у меня больная жена, я не мог рисковать…
— Вам не в чем упрекнуть себя, герр Грабовский. То, что сделал Ваххольц, было неверно и неразумно; правильно поступили именно вы!
Грабовский наградил Манхардта благодарным взглядом, потом презрительно покосился на Коха.
— И тут в дверях показался клиент…
— Да. Насколько я мог видеть, в таком рыжеватом костюме, как… как карамельный пудинг.
— Высокий? Толстый?
— Нет-нет! Скорее невысокий и стройный. Пожалуй, он больше смахивал на француза или итальянца… По крайней мере брюнет — это точно.
— Но он не был иностранцем, верно?
— Нет, ни в коем случае.
— Сколько ему могло быть лет? — вмешался Кох. — Я имею в виду — грабителю.
Грабовский задумался.
— Думаю, за тридцать.
— Бороды не было?
— Нет… нет.
— Вы не заметили у него на лице ничего особенного? Скажем, заячью губу, орлиный нос, ямочку на подбородке, мешки под глазами, шрамы, морщины?
Старик даже застонал. От него явно хотели слишком многого.
— Все случилось так быстро… я… нет, при всем желании не смогу помочь. Возможно, я еще сумею что-нибудь вспомнить, но сейчас…
Манхардту стало жаль беднягу, не хотелось мучить его дальше. Но служба есть служба, и чувства тут неуместны.
— Во что он был одет?
— Серый фланелевый костюм.
— Какого цвета была сумка, в которую он собирал деньги? И из какого материала?
Манхардта самого утомлял этот допрос, но, даже рискуя разозлить главного свидетеля, он был обязан зафиксировать все детали. Дурацкая профессия!
— Сумка? — Грабовскому всегда требовалось некоторое время, чтобы сообразить. — Гм… Полагаю, черная.
— Дорогая, купленная где-нибудь на Кудамме, или дешевая, скажем от «Вулворта» или «Неккермана»?
— Ну, я не знаю… Все произошло так быстро…
— Разумеется, герр Грабовский.
У Манхардта в зубах застрял кусочек рыбы. Да, придется, видно, выбираться к стоматологу. Ах, как он ненавидел этих халтурщиков, загребавших бешеные деньги только за то, что они копаются у порядочных людей во рту.
— Вы видели руки этого типа, когда он держал сумку?
— Нет. Ведь он был в перчатках — темно-коричневых кожаных перчатках.
— Ага! Скажите, к какому социальному слою вы бы его отнесли? Принадлежал он к низам, ну, скажем, подсобник или разнорабочий, или по манерам и выговору относился скорее к среднему или даже верхнему слою?
— Тут я помочь вам не могу…
«Идиот!» — подумал Манхардт. Он хотел знать, в каких кругах искать преступника. Это могло бы здорово помочь. Постепенно он начинал терять терпение. А этот Грабовский какой-то заторможенный. Да еще непрестанно постукивает ногтями больших пальцев, что постепенно стало очень раздражать Манхардта.
— Бандит действовал привычно? — спросил он, одновременно распуская галстук и начав массировать затылок. — Я имею в виду, по вашему мнению, этот тип что-то подобное совершал уже неоднократно или вам показалось, что это было его первое ограбление?
Грабовский наморщил лоб. Он чувствовал себя как в школе на уроке и боялся каждого следующего вопроса.
— Не могу сказать, ведь…
— …все произошло так быстро. Я знаю, — подхватил Манхардт.
Грабовский обрадованно кивнул.
Пока они молчали, Кох получил возможность дополнить стенограмму. Ему все показалось весьма занимательным и поучительным. Он отчаянно жаждал повышения, и потому все время должен был быть наготове. На этот раз ему казалось, что пришло время встрять с вопросом.
— Этот человек уже был когда-нибудь в вашем отделении? Понимаю, у него на голове был чулок, но ведь тот, которого он похитил, явно узнал его. Возможно, вам была знакома фигура или голос…
— Об этом лучше вам спросить герра Ваххольца. — Грабовский, судя по всему, думал только, когда же кончится допрос.
— А тот, в рыжем костюме, он тоже был вашим клиентом? — спросил Манхардт.
— Нет, не думаю.
— Он ничего не говорил?
Грабовский на миг задумался и опять вытер пот со лба. Похоже, он постепенно терял последние силы.
— Нет…
— Как следует подумайте! — настаивал Манхардт.
— Он замер как вкопанный — явно узнал бандита даже маске. И тот его сразу же узнал, это точно! — Грабовский боролся с нараставшей дурнотой, но пытался держаться. Увядшее лицо его сразу прояснилось. — Да, клиент что-то воскликнул… Минутку…
— Что именно? — Коха охватило возбуждение.
— «Томи, ты?» — вот что он воскликнул. Да, именно так. Видно, он был сильно удивлен. Просто ошеломлен.
— Томи, — машинально повторил Кох. — Томи… Это, видимо, Томас. Ну конечно, грабителя звали Томас. Или это прозвище… Хоть какой-то след!
— Пока мы не опознаем человека в рыжем костюме, все будет без толку, — охладил его Манхардт. — Правда, потом это может стать очень важным. Еще вы что-нибудь заметили, герр Грабовский?
— Ну… — Старик долго размышлял, борясь с одолевавшей слабостью. — Потом оба исчезли за дверью. Я побежал к телефону и… Был настолько взволнован, что дважды перепутал номер. Я… Я… Да, это лишило меня последних сил.
Манхардт и Кох встали, и в тот же миг вошла сестра, чтобы позаботиться о Грабовском.
— До скорой встречи, герр Грабовский, — сказал Манхардт. — И большое спасибо: вы нам очень помогли.
Распрощавшись, они вышли на улицу. Манхардт еще не успел привыкнуть к мысли, что все это действительно произошло. Не раз он чувствовал себя как актер, который элегантно и небрежно сыграет, что требуется, но потом снова будет ждать момента, чтобы блеснуть в своей главной роли.
— Что делать, все под Богом ходим, — вздохнул Кох.
— Когда Грабовский немного отойдет, пошли к нему наших художников; может быть, удастся хоть составить портрет таинственного посетителя. Теперь уже не осталось сомнений, что эти двое были хорошо знакомы. И если выясним, кто он такой, узнаем, кто забрал деньги!
Манхардт был удивлен своей торжественной речью. Его всегда расстраивало, когда он отклонялся от сути.
— Что он может сделать с жертвой? — задумался Кох.
— Возможно, ему нужен был человек накопать картошки, — съязвил Манхардт.
— Тогда не остается ничего, кроме убийства.
— Вообще-то да. Если раненый кассир умрет, тогда точно.
— Не хотел бы я оказаться в его шкуре.
— Кто знает, как кончим мы с тобой, — буркнул Манхардт. — Если жалеть каждого, кто в это время умирает насильственной смертью или мечется в смертельном страхе, придется рыдать без перерыва. Мы сделаем все, чтобы спасти того типа в рыжем костюме, но он сам виноват.
Кох покачал головой, но отказался от дальнейшей дискуссии.
— Пойдем перекусим? — спросил он Манхардта.
— Почему бы и нет? Что нам, поститься, чтобы умилостивить высшие силы?
3. Сузанна Томашевская
Стоял летний день из тех, о которых мечтаешь, когда осенью дожди полощут улицы. Жарко, но не душно, и воздух едва колышется. Мелкие белые облачка висели в вышине; белый след от реактивного самолета медленно расплывался между ними. От высокой травы за скамейкой тянуло сладковатым запахом, которого она не любила. Почему-то ей всегда приходили на ум пышные, кипящие жизнью девчата, которые отдаются на сене загорелым парням, и одновременно просыпалась жалость за свою напрасно растраченную молодость. Годы уроков фортепиано, пения, школьных пятерок и отпусков с родителями.
Уже полчаса она сидела в Народном парке Вимерсдорфа и ужасно скучала. С тех пор как Сузанна осталась одна, время потеряло смысл. Ей не оставалось ничего, только ждать, ждать счастливого поворота судьбы, ждать случая, который вернул бы ей смысл жизни. Она старела, жизнь ускользала, не оставляя после себя никаких следов. Хорошо еще она ни в чем себе не отказывала, поддерживая тем самым торговлю и промышленность, но и только. Умри она, никого бы это особо не тронуло. Целые дни она пребывала в какой-то дреме. Деньги на жизнь в конце каждого месяца поступали на счет — унаследовала она более чем достаточно. Кроме того, у нее был приличный пай в фирме Ханса Иоахима Томашевского, но он теперь почти не приносил дохода. Хозяйством ее занималась заботливая вдова, которая готовила и освобождала ее от походов по магазинам. Да, она могла вести сладкую жизнь — ведь она была еще вполне молода, эффектнее многих, легко могла бы попасть в избранное общество и менять мужчин по своему выбору. Но она слишком ненавидела людей вообще и мужчин в особенности. Будь ее воля, тут же вздорвала бы все атомные бомбы во всех арсеналах.
— Добрый день, фрау Томашевская, — поздоровалась с ней сгорбленная соседка.
Мерзкая старая коза! Из ее уст фамилия Томашевского звучала еще отвратительнее, чем в действительности. Соседка шепелявила. Сузанна готова была ее придушить.
Слава Богу, после развода она сможет вернуть себе девичью фамилию — Зоненберг. Она звучит куда лучше. Но Томашевский никак не хотел разводиться. Вероятно, боялся, что она заберет из фирмы свой пай. «Надеюсь, он не думает, что я с ним еще когда-нибудь буду жить?» — подумала она.
Странно, она о нем думала именно как о Томашевском, а не Хансе Иоахиме или Хайо. Нет, она прекрасно понимала, что жизнь ее по-прежнему крутится только вокруг Томашевского. Но если считать по большому счету, она уже не переживала, когда у него воспалился желчный пузырь, не сочувствовала, не писала ему розовых записок, чтобы он бросал свои совещания и срочно шел домой — нет, теперь она его только ненавидела и придумывала, как его уничтожить. Только эти мысли придавали ее жизни хоть какой-то смысл. Время от времени она еще переводила короткие рассказики для совершенно неизвестных журналов — когда-то она несколько семестров изучала английский, — но это все.
А ее так называемые приятельницы? Ограниченные лесбиянки, экзальтированные и декадентствующие…
Господи, сколько времени прошло, как они, с Томашевским расстались! Она сразу почувствовала себя старой, потрепанной да просто увядшей.
По дорожке проскакал черный дрозд и остановился всего в метре от нее. Перья его сверкали на солнце, он вопросительно уставился на нее темными круглыми глазками.
Но она топнула ногой, и перепуганная птица упорхнула в кусты. Подобные идиллические сцены ее расстраивали и раздражали. Слишком хорошо она помнила, как любил дроздов Йене. Когда-то даже вылечил одного со сломанной ногой.
Она хорошо представляла, как бы он сейчас выглядел. Рослый, крепкий, но с мягким, немного рассеянным лицом.
Одиннадцатилетний. Да, они с ним плавали бы сейчас в Ванзее. И все завидовали бы такой молодой матери.
Надо же было Томашевскому все испортить!
Сузанна взглянула на ручные часы. Без десяти двенадцать. Пожалуй, пора перекусить. Старушки, сплетничавшие на соседних скамейках, дружно оглянулись на нее, когда она встала, пригладила короткую юбку и ушла. Их шепоток явно относился к ней.
Жила она на Куфштайнштрассе, недалеко от радиостудии. Прикидывала, может, зайти к ним, спросить, не нужен ли им диктор. Знала, что голос у нее четкий и приятный. Но что с того?
Весь фасад ее четырехэтажного дома завил плющ, что придавало дому ежедневно выводивший ее из себя романтический настрой. Ее окна на втором этаже были открыты настежь. Но отворенное окно, за которым тебя никто не ждет, только расстраивает.
Войдя в квартиру, она обнаружила на кухонном столе листок с каракулями домработницы. С трудом разобрала: «Пришлось пойти к зубному, еда на плите». Поморщившись, включила большую конфорку на тройку. Овсянка с ветчиной — это она всегда любила.
Лениво побрела в ванную, сбросила цветастое летнее платье, слегка умылась, брызнула под мышками дезодорантом и провела ладонями по животу и груди. Нет, на тридцать четыре года она не выглядит. И сразу затосковала по мужчине, по поцелуям, объятиям, страсти.
В комнате зазвонил телефон. Испуганно вздрогнув, Сузанна кинулась к нему и, едва переводя дыхание, схватила трубку:
— Это ты, Сузи? — послышался скрипучий голос. — Да… А кто говорит?
— Это же я — Джон.
— Ах, дядя Джон… — Дядя Томашевского, брат его отца. Собственно, звали его Иоганн Томашевский, но, пожив в Америке, он переименовал себя в Джона Шеффи. Старого чудака она любила. Точнее, любила бы, будь на свете люди, которых бы она любила.
— Я на пару дней в Берлине… Найдешь для меня минутку? Чтобы вместе поужинать?
— Ну разумеется, Джон, разумеется, — заверила она, одолевая внутреннее отвращение.
— Ладно, вечером я загляну… Часов в семь?
— Годится… До свидания!
Едва положив трубку, она тут же пожалела, что приняла приглашение. Ненавидела всех Томашевских, с удовольствием отравила бы всю семейку! Но визит Джона вносил хоть какое-то разнообразие в ее серую жизнь.
Без аппетита поев, она упала на кушетку, но уснуть удалось лишь через полчаса. Обычно днем она спала, зато потом всю ночь ворочалась без сна и размышляла.
Проснулась Сузанна около шести, но прошло не меньше четверти часа, прежде чем она встала и добралась до ванной. Кое-как умылась, причесалась и всмотрелась в большое, косо висящее зеркало. Больше всего ее раздражали резкие морщинки, прямо складки, которые тянулись от носа к поникшим уголкам пухлых губ. Они придавали лицу суровое выражение, а когда она была серьезной или задумывалась о чем-нибудь, то выглядела старой. Сузанна в упор разглядывала себя, пока не позабыла, что перед ней ее собственное отражение в зеркале. Оттуда на нее смотрела совершенно чужая женщина. И выглядела зловеще, словно отравительница, врачиха из концлагеря или детоубийца.
Сузанна ухмыльнулась, потом рассмеялась. Страшилище исчезло. Теперь она трезво отметила очарование, которым так и лучилась, зрелость, обещание исполнения многих желаний, какое-то материнское чувство…
Успокоившись, приняла душ и выбрала белый костюм. Потом рассеянно причесалась и накрасилась, не слишком себя утруждая, — ей все было безразлично. Наконец надела бусы из красных кораллов — свои любимые. Летом 1957 года эту дешевую безделушку ей подарил Гюнтер Фойерхан…
Воспоминания о днях, полных дотоле не познанных наслаждений, оказались слишком болезненными. Она уже достигла того возраста, когда мечты ведут к отупению и апатии, поскольку все они уже когда-нибудь исполнились.
Незадолго до семи Сузанна вышла из квартиры и спустилась на улицу. И едва захлопнула двери, как увидела Джона Шеффи, выходящего из такси.
Шеффи был тучным, просто огромным человеком с маленькой головой. Обликом, черным костюмом и шаркающей походкой он напоминал пингвина. Остановившись, Джон ждал Сузанну.
В памяти Сузанны он был гораздо стройнее и, главное, мужественнее. Впрочем, возможно, он считал своим долгом быть толстым и жизнерадостным, раз уж он возглавлял сеть торговых центров. Сузанне вовсе не понравилось, что он ее разглядывал, как проститутку. «Надеюсь, от меня он ничего не захочет», — подумала она.
— Хэлло, Сью! — приветствовал он.
— Хэлло, Джон!
Он поцеловал ее в левую щеку, и так пронзительно потянуло лосьоном после бритья, что она едва не чихнула.
— Чудесно! — воскликнул он. — Дитя мое, ты выглядишь чудесно!
Отступив на шаг, словно модный кутюрье, он восхищенно наблюдал, как она кокетливо тряхнула медными волосами.
— Ну, мы идем ужинать? — спросила Сузанна. Не ожидает же он, что она пригласит его в квартиру?
— Ну разумеется! Я тебя приглашаю. Тут поблизости есть миленькая пиццерия…
Они сели в ожидавшее такси, по дороге поговорили о погоде, о берлинских достопримечательностях, о проблемах управления торговой сетью и прежде всего об Эрнестине, его второй жене, которая осталась в Нью-Йорке приглядывать за делами. Сузанна кроме прочего узнала, что он провел две недели в Гармиш-Партенкирхене, а теперь приехал на несколько дней в Берлин, чтобы оживить старые воспоминания. И разумеется, чтобы увидеть ее.
За ужином — оба заказали пиццу с шампиньонами — Шеффи заговорил о племяннике и их браке. Сузанна наблюдала за прохожими, едва его слушая. Зачем она тут, собственно, сидит?
— Вы в самом деле хотите развестись? — спросил Шеффи и с аппетитом принялся за еду. Лазурит в золотом перстне на его мизинце сверкал в свете люстр.
— Мы? — вопросом на вопрос ответила она и в первый миг вообще не поняла, что он от нее хочет. «Да, старческий пигмент у него все сильнее», — заметила она. — Конечно разведемся. Ведь мы уже с января живем раздельно.
— Раздельный стол, раздельная постель… Ведь у вас еще могли бы быть дети…
— Да я ему скорее бы голову свернула!
Шеффи смущенно умолк — столь явный взрыв враждебности его просто ошеломил. Он лишь весьма неясно помнил, что разыгралось два года назад в феврале. Заметно было, как он погрузился в воспоминания.
Сузанна могла бы ему помочь, но не любила говорить о дне, который произвел решающий поворот в ее жизни. С той поры и ее жизнь, и их семья катились под откос. Для нее Томашевский стал убийцей их ребенка. Она и сегодня могла бы восстановить и заново пережить каждую секунду того рокового дня. Девятилетний Йене не только принес из школы две пятерки[3], но сразу после этого стащил у отца десять марок, в чем упорно не сознавался. Тогда Томашевский вышел из себя и принялся молотить сына. Пытаясь оторвать его от мальчика, Сузанна лишь сильнее накаляла его ярость. Муж опомнился, когда у нее пошла носом кровь, тут же кинулся на кухню за бумажными салфетками. Йене воспользовался этим и убежал из дому. Хотя полиция была оповещена, найти его не удалось. Потом, под вечер, он оказался на озере, ступил на тонкий лед и утонул.
— Человек должен уметь забывать, — не слишком убежденно произнес Шеффи.
Сузанна поджала губы. Он оглянулся в поисках официантки.
Немного помолчали. Собственно, им не о чем было говорить. Сузанна уже начала жалеть, что согласилась встретиться с Шеффи.
— Ну… — Шеффи выглядел несчастным. Молчащий мир всегда пугал его. — Тут как раз такое приключилось… — Он протолкнул большой кусок глотком пльзеньского. — Тут, в филиале… — Он поперхнулся, закашлялся и побагровел.
— О чем ты? — спросила она. «Как он похож на гуся, на раскормленного гуся, — пришло вдруг ей в голову. — Уже полуощипанного». Раньше она этого никогда не замечала.
Вместе у них случались и веселые минутки. А на их свадьбе он был очень даже ничего.
— Про филиал банка, — он постепенно перевел дух. — Сузи, ты слушала сегодня радио?
— Нет. А зачем?
С тех пор как она жила одна, Сузанну уже почти не интересовало, что происходит вокруг. Она прекрасно жила и без этого.
Когда она открывала газеты, в глаза били только дурацкие рекламы Томашевского:
МЕБЕЛЬ ОТ ГТ? ПРЕКРАСНАЯ ИДЕЯ!
— Ограбление банка, — охотно пояснил Шеффи. — У станции Гермсдорф… Грабитель утащил всего девяносто тысяч марок, зато забрал с собой свидетеля. Похитил его, захватил заложником.
— Надо же! — машинально ответила Сузанна и сразу почувствовала себя усталой, разбитой, заболела голова.
— Я думаю! — Шеффи бросил в свои бездонные глубины последний кусок и с трудом сдержал отрыжку. — Разумеется, тот его узнал. Не забери он его с собой, тут же был бы разоблачен.
— Да, в самом деле…
— И до сих пор никаких следов… Фройляйн, еще одно пиво!
— Бедняжка! — Сузанна собрала в стопку пять пивных подкладок, положила на край стола, подтолкнула снизу ногтями и попыталась поймать в воздухе. Но фокус не вышел — подкладки рассыпались по грязному полу.
— Подожди. — Шеффи поднял их, прижимаясь при этом к ее коленям.
— Спасибо…
— Я ссужу Хайо сорок тысяч марок, — сообщил Шеффи лихо и в то же время недовольно, отрезал кончик сигары и закурил. Должен же он был найти тему, которая бы ее заинтересовала. — Твой муж угодил в изрядную переделку. Я выплачу ему эти деньги и стану, можно сказать, негласным компаньоном.
— Да? — протянула Сузанна.
— Завтра он получит деньги.
— Это прекрасно. — Сузанна подождала, пока официантка не подаст десерт — продолговатые ломти мороженого на серебряной миске. — Тогда он выкрутится…
— Что ты имеешь в виду?
— То, что сказала.
— Какая-то ты сегодня странная! — Он бросил салфетку на стол. — Я так ждал этой встречи…
— Ах, Джон, ты тут ни при чем.
— Я люблю Хайо, но… Ведь он сделал все, что мог.
— Разумеется, — с деланой улыбкой пробормотала она. — Он всегда обо мне заботился. Поскольку знал, что вечером перед сном я люблю немного почитать, резвился со своими секретаршами. И как! Лишь бы меня не беспокоить!
— Ну… — В последний миг он подавил ухмылку.
— Боже мой, если бы я с ним не познакомилась, вся жизнь моя могла сложиться совершенно иначе! — Заметив взгляд Шеффи, Сузанна провела рукой по лбу. «Сейчас он прикидывает, каково бы было на мне кончить, — подумала она, — а сам считает меня извращенной и экзальтированной… Свинья!»
Из кармана его пиджака она вытащила смятый выпуск бульварной газетенки и тщательно его разгладила, ясно давая понять, что не имеет желания продолжать разговор. От скуки поискала репортаж об ограблении банка, который упоминал Шеффи.
— А тут про ограбление еще ничего нет…
— И быть не может. Это случилось перед самым обедом. — Шеффи откинулся назад. — Я слышал репортаж в машине. Сенсационная история! Грабителя узнали… Я это уже говорил, нет? Друг или просто знакомый — точно никто не знает, ведь он его забрал с собой! Похитил. Бандит похитил человека, который его опознал. Несмотря на маску. У того на лице был чулок, понимаешь? «Томи», — окликнул он бандита. И тот заставил его…
ТОМИ… Поток слов продолжал журчать, но Сузанна уже не слышала. ТОМИ… В ней что-то просто взорвалось. Внезапно, словно молния, пронзила мысль: «Ведь так его звали в школе…»
— Как-как?
— Ты меня совсем не слушаешь!
— Да нет, конечно, слушаю. — Она даже закашлялась, лишь с трудом подавив стремительно нахлынувшую волну жара. «Дышать поглубже! Только спокойнее…» — Как этот тип вообще-то выглядел? Есть хоть какое-то описание?
— Кого? — Шеффи явно обрадовался, что она наконец разговорилась. — Грабителя или его приятеля?
— Грабителя! — нетерпеливо перебила она.
— Ну, так… — Шеффи пожал плечами. — Полный, невысокий, немного нескладный… — он немного подумал, но больше ничего не пришло в голову. — А другой был парень стройный, чуть за тридцать, южного типа. Видимо…
«Полный, нескладный… Томи. Стол… Эскиз в его столе… Набросок окрестностей станции Гермсдорф, тамошнего филиала… Если бы я недавно не копалась в его комнате… Если бы не сохранила ключ от дома… И вырезки про ограбления банков… И фирма на мели…»
— Ты совсем не слушаешь! Что с тобой?
— Да ничего! — Она ослепительно улыбнулась. — Пойдем потанцуем?
4. Гюнтер Фойерхан
Фойерхан валялся на старом диване, уставившись в плохо выбеленный потолок, освещенный лампой в пыльном плафоне.
Бурая бабочка с равномерными интервалами ударялась в стекло, и монотонная бессмысленность ее движений раздражала Фойерхана не меньше, чем тупые удары. Раз за разом ощущал он нестерпимое желание вскочить и удариться лбом об стену. Как попала бабочка в подвал? Вероятно, влетела следом за Томашевским, когда он приносил ему еду. Два бутерброда с обрезками какого-то мяса на пластмассовом подносе. Он просунул их через зарешеченную дверь. Они не обменялись ни словом, и Томашевский удалился, не погасив свет. Поскольку выключатель находился по ту сторону зарешеченных дверей, Фойерхану пришлось смириться с раздражающим холодным светом. Может, это и к лучшему, темнота была еще хуже. Свет по крайней мере означал, что снаружи функционирует электростанция, работают люди, люди, которые не останутся равнодушными к его судьбе. Через несколько часов выйдут утренние газеты и о нем заговорит весь город. Ну а телевидение, вероятно, уже дало репортаж о его похищении, вечерние новости не могли упустить такую сенсацию. Он был уверен, что приложат все силы, чтобы его найти.
Фойерхан зевнул и закрыл воспаленные глаза. Уже почти пятнадцать часов он торчал в подвале у Томашевского… Идеальная тюрьма. Он знал, что старый Томашевский построил бункер, когда начались бомбардировки Берлина, и как убежище, и как хранилище. Сюда он спрятал деньги, драгоценности и самые важные документы, а семья скрывалась тут от налетов союзников. Не будь этого подвала, Томашевский мог бы пристрелить его на месте. Ведь в новостройке без приличной звукоизоляции пленника не спрячешь. Но тут… Можно кричать часами, и никто тебя не услышит.
Пришлось набросить на голову пиджак, чтобы избавиться от безжалостного пронзительного света. Теперь он мог полностью сосредоточиться на своих ощущениях. У него дергалось левое веко. Голова болела не сильно, но в висках приглушенно стучал пульс. Нарушилось кровообращение в левой руке, она непрерывно затекала и, когда он пробовал поднять ее правой, тяжело падала вниз. Чтобы отвлечься от всего этого кошмара, Фойерхан попытался представить всех девушек, с которыми переспал за последние годы. Лица, груди, животы и бедра громоздились и исчезали, но член его оставался вялым. Его это выводило из себя, потому что он не против был отвлечься и утешиться.
Ощущал, что постепенно теряет контроль над мятущимися мыслями. Временами ему казалось, что он лежит в затонувшей подводной лодке на глубине три тысячи метров. И тогда на лбу его сразу выступал пот.
Он вскочил и как ненормальный стал трясти решетку.
— Открой! Выпусти меня! Томи, спустись сюда! Томи, ты меня слышишь?
Краткий приступ ярости был как падение в спасительную пустоту, он захватил и даже подавил страх. Когда его оставили силы, Фойерхан снова упал на диван. Хотел закурить, но, пока искал пачку, судорога свела желудок и ему пришлось прижать обе руки к животу. Несколько секунд боролся с рвотными позывами. Потом стянул брюки и кинулся к унитазу с полустершейся надписью: ТОЛЬКО ДЛЯ БОМБОУБЕЖИЩ. Начался ужасный понос. Тошнотворный запах вмиг заполнил ограниченное пространство. Но он все-таки испытал облегчение. Подтеревшись газеткой, снова сел и устало закурил.
«Почему? Почему?» — непрерывно стучало у него в мозгу. Почему это должно было случиться именно с ним? Почему он не вошел в банк на пару минут позже или раньше? Ведь он просто хотел оказать любезность матери и предложил перед отъездом заплатить за квартиру. И так влипнуть! Просто плакать хотелось! И зачем он через десять лет с первого взгляда узнал Томашевского? Почему чулок у того на физиономии был такой прозрачный?
Может ли ему помочь полиция? Попытался вжиться в положение следователей. Они опросят всех его друзей и знакомых. Но вряд ли при этом наткнутся на Томашевского — дружили они слишком давно.
Думая о Томашевском, он не мог не думать и про Сузанну. Сузи… Перед ним встал образ высокой, очень эффектной девушки. Мягкие губы, улыбка, которая столько обещала: нежность, чувственность, верность, преданность… Начиналось все так романтично, страстно, горячо, боязливо, и так нелегко было решиться на признание. Они вместе ходили купаться, рука об руку открывали тихие лесные тропинки, проходя незнакомыми местами. И в итоге неизбежно и неотвратимо стали близки. Все развивалось так, как всегда бывает в подобных случаях. Но после этого последнего шага они растерялись — никаких надежд на общее будущее не было. Он еще работал учеником, низкооплачиваемым подмастерьем; она была одержима мечтой стать великой певицей. Их встречи превратились в меланхолическое повторение пройденного, и никто из них не играл никакой роли в жизни другого. Томашевский, который все годы, пока они учились вместе в школе, только и ждал кризиса в их отношениях, после многих утомительных сцен предложил Сузанне убежище. Он был серьезен, уравновешен и надежен, мог стать опорой ее жизни. Она выбрала его, и через несколько лет Томашевский стал преуспевающим бизнесменом. Но, похоже, дела его покатились под гору…
Фойерхан знал, что у него остается одна надежда: Сузанна. Когда-нибудь она обнаружит, что он заперт внизу, в подвале. Ему не хотелось верить, что она могла быть заодно с Томашевским. Но почему? Ведь она — совладелица фирмы, дела которой явно оказались плохи.
Тут было совершенно тихо, и когда он выпустил газы, даже сам испугался. Дезодорант, которым он утром опрыскал подмышки, давно улетучился; с отвращением он отметил непрерывно усиливающийся запах пота. Руки стали липкими, из-под ногтей пахло фекалиями. Во рту пересохло, зубы ныли. Вероятно, изо рта воняет… Вчера вечером, как раз в это время, да и ночью он был воплощенное мужество, и Клаудия, с которой он прошвырнулся по всем барам, его обожала. В нормальных обстоятельствах он прекрасно выглядел, и женщины его любили. Он полностью соответствовал традиционным немецким представлениям о французе: стройный брюнет с грациозными движениями, мелодичным голосом, выразительным лицом и крепким подбородком. Так выглядели герои вестернов, которые освобождали от бандитов поселки в прерии, или благородные римляне, развлекавшиеся с Клеопатрой. Столь совершенное тело нельзя подставлять пулям, это холеное лицо не должно превратиться в восковую маску!
Часто он задавал себе вопрос, как он умрет. В дорожной аварии, в авиакатастрофе, в богадельне от рака, от инфаркта. Этот вопрос не давал ему спать ночами, и избавляла от него только приличная доза виски. И теперь стать жертвой такой позорной смерти, умереть, так ничего в жизни и не добившись… Он не переносил мысли, что уйдет со сцены маленьким человечком, просто никем. До сих пор он ничего в жизни не достиг, до сих пор жил впустую. Не был ни богат, ни знаменит, ни влиятелен, ни властен. Его имя еще никогда не появлялось в газетах.
«Застрелит он меня на рассвете? Или подождет еще? Пожалуй, поспешит, чтобы все уже осталось позади».
Фойерхан вспоминал дни, когда вместе с Томашевским пережил нечто необычное. Может, познание глубинных движений души позволит его психологически обезвредить?
Но рассуждения не помогали. Томашевский не раз попадался на кражах: раз — двадцати марок из материного кошелька, раз — велосипеда или футбольного мяча в летнем лагере. В старших классах какое-то время увлекался Марксом и Прудоном. Собственность есть кража. Но нельзя было представить, что он стал убежденным антикапиталистом или даже анархистом. Правда, он мог не признавать некоторых общепринятых норм, скажем, уважения к собственности…
Но и что отсюда следует? Ничего. Наоборот, если все так и есть, нужно опасаться, что Томашевский не принимает всерьез и Писание, которое запрещает убивать.
Фойерхан застонал. Может, Томашевский этим поступком лишь освободился, наконец подчинив свою жизнь исключительно собственной воле? С рождения им непрерывно руководили другие. Мебельная фирма Томашевских требовала наследника; это должен был быть относительно честный, приличный, образованный и способный наследник, который умеет держать себя в обществе, вести переговоры и одеваться, как джентльмен. Парадоксально, что он пытался спасти фирму, вместо того чтобы от нее освободиться.
Фойерхан в приступе черного юмора решил, что как следует запомнит эту мысль, чтобы позднее изложить ее в зале суда. Похоже, он действительно станет звездой процесса.
Но, возможно, Томашевский и там будет играть первую скрипку. Томашевский везде и всегда хотел быть первым, не терпел, если кто-то обходил его или получал лучшие оценки. Он был самый богатый в своей компании, и материальные условия облегчали ему роль лидера. В саду его виллы они играли в детстве, позже там встречались с подружками. Для них там был рай. И если бы Томашевский захотел, он единым словом обрек бы их на жизнь городских беспризорников.
Фойерхан слишком хорошо помнил, что сам все время отвергал претензии Томашевского на лидерство и боролся с ним за первенство в компании. Мать Томашевского (отец его погиб после налета, пытаясь потушить пожар на территории фирмы) когда-то выделила довольно ценный кубок для победителя турнира по настольному теннису, и он, Фойерхан, разгромил ее возлюбленное чадо. Он даже запомнил курьезный счет: 23:21; 23:21; 23:21. И Сузанна, их некоронованная королева, вручила ему тот кубок… Потом он отобрал у него премию за лучшее сочинение года. Да, а потом выдал Томашевского, когда тот на школьной экскурсии залепил преподавателю объектив фотоаппарата, так что у того не получилось ни одного кадра… Тогда Томашевскому здорово всыпали. А скольких девушек он отбил у Томашевского… Неловкий и бесформенный Томи не мог привлечь их круглой физиономией, усеянной мокнущими прыщами. Наверное, Томашевский ненавидел его уже тогда?
Фойерхана сразу бросило в дрожь. Кто знает, как подобные мелочи складывались в воспаленном мозгу Томашевского. Правда, пока еще можно рассчитывать на силу убеждения — не зря он столько лет работал коммивояжером. Лишь бы дело дошло до разговора! Ведь до сих пор Томашевский молчал. И все-таки блеснул луч надежды.
Постепенно он дошел до такого состояния, что уже не приходилось вызывать в уме картины, они приходили сами. Боялся уснуть — кто поручится, что Томашевский не ждет этого, чтобы застрелить его? «Со мной, как с Линдбергом, — успел он еще подумать, — если усну — умру». И все же он невольно задышал спокойнее и погрузился в глубокий сон.
5. Ханс Иоахим Томашевский
Проснувшись, он в первый миг почувствовал себя таким веселым, свободным и счастливым, словно обычный труженик в первое отпускное утро. Светило солнце, он был здоров и имел достаточно денег, чтобы спасти фирму и обеспечить себе приличное существование. Наконец-то настало утро, когда ему не нужно в полусне перебирать столбцы цифр, сравнивать отдельные пункты баланса или искать подход к холодным как лед банкирам. Он справился, он смог!
Потом, однако, маятник качнулся в другую сторону, и постепенно он начал сознавать, на какой ненадежной почве все еще находится. Ваххольц, молодой банковский чиновник, с тяжелым ранением лежит в больнице, а Фойерхан сидит и ждет внизу в подвале.
Разыскивается Ханс Иоахим Томашевский, родившийся 17.22.1934 в Айхенвальде под Берлином. Рост 176 см, вес 88 кг, волосы темно-русые, глаза серые, особых примет нет. Подозревается в совершении налета на восьмое отделение Бранденбургского земельного банка и похищении 90 ООО марок. Во время налета ранил банковского служащего Хольгера Вах-хольца и похитил тридцатичетырехлетнего коммивояжера Гюнтера Фойерхана. Информацию по этому вопросу направлять криминальной полиции или в любой полицейский участок. По желанию обеспечивается конфиденциальность источников. Полицай-президент назначил за задержание преступника премию в размере 5000 марок.
Примерно так он представлял объявления о собственном розыске! И слова эти постоянно вертелись у него в голове.
Томашевский привстал, с трудом разгибая вспотевшее тело, спустил босые ноги на мягкий коврик у постели. «С моей головою худо, в ней словно жернов мельничный вертится»… Гёте… В школе им приходилось учить наизусть отрывок из Фауста, и Сузанна ему всегда подсказывала… Господи, если бы повернуть время вспять! Десять лет жизни он отдал бы за то, чтобы получить шанс начать жизнь сначала. Послал бы к черту занюханную отцовскую фирму и занялся английской филологией. И не стал бы преступником.
Тут он заметил, что полупустой бокал воды все еще стоит на туалетном столике. А ведь мог бы поклясться, что во сне перевернул его. Застонав в голос, достал из ящика коробку с таблетками от головной боли, бросил две в бокал и машинально размешал их пальцем. Потом одним глотком проглотил мутную жидкость и содрогнулся.
На весь остаток жизни теперь на нем клеймо преступника, грабителя банков, возможно, и убийцы. И что теперь ни делай — ничего не изменишь. Как если бы ему оторвало руку. А его близкие еще ничего не знают… Смешно.
Тяжко опершись обеими руками на мягкие колени, он медленно поднялся, набросил выцветший зеленый купальный халат и потащился на кухню. Казалось, пустой дом смеется над ним. Да, ему не удалось наполнить жизнью виллу, унаследованную от предков…
Только теперь Томашевский заметил в кармане халата маленькую «беретту». До него еще не дошло, что этим маленьким предметом можно кого-нибудь убить. В его представлениях насильственная смерть всегда была связана с чудовищными орудиями. Он мог представить, что человека раздавит танк или разобьется реактивный самолет, врезавшись в гору… Но как кому-то могла повредить едва заметная пулька из такого пистолета?
Открыв холодильник, он нашел в нем пакет молока и жадно сделал несколько глотков. Потом поискал, чем бы покормить Фойерхана. Нашел пластиковую упаковку с фруктовым творогом, немного мясного салата на мелкой тарелке, огромную калифорнийскую грушу и полпачки масла. Все это с ломтем хлеба и бутылкой пива положил в пакет и побрел в подвал. Когда придет его экономка фрау Пошман, о Фойерхане он уже не сможет позаботиться.
Осторожно отворил оливково-зеленые стальные двери толщиной несколько сантиметров, которые были абсолютно звуконепроницаемы.
В душе он надеялся, что Фойерхана уже не будет в живых. Может быть, от пережитого потрясения. И в самом деле, когда он заглянул через решетчатые двери, тот лежал на низком топчане как будто без признаков жизни. Но оказалось, просто спал, свернувшись калачиком.
Томашевский просунул еду под решетку и отступил на шаг. Фойерхан неловко потянулся, что-то неразборчиво пробормотал, но не проснулся.
Томашевского окатил горячий пот. «Если сейчас его застрелить, — вдруг пришло ему в голову, — он ничего не заметит и все будет не так плохо. Уснул он с надеждой на освобождение, с надеждой и умрет. Убить спящего — гуманно, ведь сон — как временная смерть. А застрелить мертвого — не преступление. Сделай это сейчас — если не сделаешь тотчас, не сделаешь никогда!»
Томашевский достал «беретту» из широкого кармана халата, снял с предохранителя и положил палец на курок. Рука у него даже не дрогнула. Он не чувствовал бремени вины. Он только выполняет приказы и должен повиноваться.
А приказ убить дала ему высшая инстанция — его разум. Смерть Фойерхана была неизбежна. Обеспеченная жизнь на свободе — вот единственная цель, к которой Томашевский стремился любой ценой, ни перед чем не собираясь отступать.
Мушка, прорезь прицела и голова Фойерхана уже оказались на одной прямой… И тут Фойерхан перевернулся на другой бок. Томашевский, стрелок неопытный, вынужден был прицелиться снова.
А стоит ли вообще целить в голову? Не лучше ли в сердце? Томашевский заколебался. Если пуля попадет в голову, разлетится мозг и у него просто не хватит сил устранить следы. Если попадет в тело, выстрел может оказаться несмертельным. И раненый Фойерхан станет метаться по камере, как раненый зверь, и больше в него не попадешь. Неужели оставить его в агонии, вопящего и истекающего кровью?
Он чувствовал, как весь покрылся потом, дыхание стало еще прерывистее, как задрожали колени и начало дергаться правое веко.
Томашевский опять поднял оружие и прицелился в Фойерхана.
Да стреляй же, черт! Трах — и все позади…
Он все еще готов был это сделать. Невольно начал считать: десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре… И остановился.
Когда-то он был твоим другом… Наверное, даже лучшим другом. Ты не можешь так хладнокровно…
Его охватил приступ кашля.
Фойерхан проснулся. И сразу все понял. Одним прыжком он забился в дальний угол и срывающимся голосом крикнул:
— Нет! Не стреляй, прошу тебя!
Томашевский медленно опустил оружие. Ему стало стыдно. Потом его охватил страх. Неописуемый страх. Отвернувшись, он убежал, стремительно взлетев по лестнице. Уже в ванной рухнул на колени перед низкой раковиной, и его вывернуло наизнанку. Его охватило чувство одиночества и жалость к самому себе. Он жаждал умереть на месте и избавиться наконец от всех проблем. И в тоске начал молиться, чего не делал с детства. «Господи Боже, — повторял он в душе, — положи ты конец всему этому!»
Но в ту минуту, когда приступ слабости достиг своей вершины, он вдруг сразу осознал, как постыдно и по-женски он себя ведет. Устыдившись, вскочил и смыл следы. Почему он так чувствителен, так труслив и немощен? Отчего он таков? Из тысяч возможных путей выбрал самый худший. Он мужчина только с виду, он боится жить, днем и ночью дрожит от страха, жаждет вернуться в детство или юность, когда другие заботились о нем и расчищали ему путь. Его терзает миллион опасений и сомнений, и мир вокруг — как темный лес, в котором человек может заблудиться на каждом шагу. Он был счастлив только в юности, взрослый из него не получился. Он это всегда знал. Перепробовал все, чтобы измениться, чтобы стать мужчиной, каким хотел быть, и все без толку. Налет на банк — вот была титаническая попытка освободиться. И напрасно.
Или нет?
Пройдя в кухню, он налил себе двойную порцию коньяку. Сморщившись, принюхался и, закрыв глаза, опрокинул в себя. Застонал, ибо алкоголя почти не переносил, но ожог в горле и внезапное тепло в судорожно сжавшемся желудке наполнили его неожиданной энергией. Правила, пока что устанавливает он. Это мы еще посмотрим!
С чуть дрожащими коленями он вошел в кабинет и упал в роскошное кожаное вращающееся кресло. Разыскал в телефонной книге номер отеля «Хилтон», с отчаянной решимостью набрал его и, услышав приятный женский голос, попросил соединить с дядюшкой.
— Сожалею, но мистер Шеффи как раз говорит по телефону…
— Я подожду.
Томашевский поигрывал ножом для бумаги, который индийский умелец мастерски выточил из слоновой кости. Подарок Сузанны на день рождения, году в 1959-м или 1960-м. Сузанна, Сузи… Она никогда не верила, что он может перешагнуть через собственную тень. С первого дня брака не считала его равным себе, постоянно давала понять, что он некрасив, неинтеллигентен и вообще не мужчина.
Никогда он не мог ублажить ее чаще, чем раз за ночь, и то не всегда. Она над ним насмехалась, заставляла есть яйца, салат из шпината и принимать возбуждающие средства.
Отучила его пить и курить, прекратила походы на футбол, запретила раз в неделю играть в стрелки с сотрудниками. Хоть он был толстый и бесформенный, втискивала его в слишком узкие парижские костюмы, настаивала, чтобы он делал небрежную прическу, постаралась убрать из дому его мать и запретила возиться с огромным макетом железной дороги, считая это детским пристрастием. Словом, сделала из него марионетку. Но он все еще любил ее и желал, чтобы она вернулась. Прекрасно видя все противоречия, он никогда не мог набраться сил заново устроить жизнь. Налет на банк и время, прошедшее после него, все-таки его изменили. Теперь все должно измениться к лучшему.
— Шеффи слушает.
— Доброе утро, дядя Джон, это Ханс Иоахим…
— А, как дела?
— Спасибо, нормально, а у тебя?
— И у меня тоже.
— Мы сегодня увидимся? Ты зайдешь ко мне в контору?
— Ну конечно. У тебя ничего не изменилось?
— Нет-нет! — Томашевский старался говорить самым просительным тоном. — Я хотел только попросить тебя, если можно, принести деньги наличными — сорок банкнот по тысяче марок, если можно… — Ну наконец-то он с этим справился.
— Почему это?
— Мне сегодня нужно уплатить долги, и… — Томашевский невольно затаил дыхание; сердце его бешено колотилось. Если старик не принесет деньги, весь план пойдет прахом. И добыча не поможет. Ведь ему нужно как-то объяснить ведущим сотрудникам фирмы, откуда взялись деньги, а без помощи Джона это не сделать. Если дядюшка заявится с чеком, все пропало. Причем должен он прийти с папкой, достаточно большой для того, чтобы в нее вместилось сто тридцать тысяч марок. Да, конечно, лучше бы он принес деньги наличными. У бухгалтера Паннике и так собачий нюх.
— Не могу же я разгуливать по городу с сорока тысячами в кармане, — недовольно заметил Шеффи.
Томашевский сразу вспотел.
— Постарайся понять, — поднажал он, — если дашь мне чек, его придется предъявить в банк. А уже нет банка, которому я не был бы должен. — Это было неправдой, но неплохим аргументом. — Кроме того, мы в Берлине, а не в… — Он едва не сказал, что не в Чикаго, но проглотил последнее слово, чтобы не задеть чувствительного новоамериканца.
— Ну ладно, — буркнул наконец Шеффи. — Если ты так настаиваешь… Тогда до встречи!
— До встречи! И спасибо тебе! Я уже жду. Пока! — Томашевский с огромным облегчением бросил трубку. Ну вот, кажется, все получается. Он даже присвистнул, охваченный чувством, что сможет теперь все на свете.
Умылся, прошелся по щекам электробритвой, оделся и позавтракал. Принявшись за яйцо, подумал, что утренние газеты уже должны прийти. Встав, пересек запущенный палисадник. Когда-то, во времена Сузанны, он был идеально ухоженным, соседи до сих пор вспоминали о вечеринках, которые она здесь устраивала.
Дрожа от возбуждения, он вытащил сложенную газету из ящика и развернул ее на странице городских новостей. Быстро пробежал глазами репортаж о налете на банк — о своем налете! Его даже удивило, что нигде не нашел своего имени, — это казалось нелогичным, какой-то ошибкой.
Фойерхана, слава Богу, еще не опознали… Но, собственно, это ничего не меняло; даже знай они, кто похищенный, немало придется повозиться. Уже лет десять они не встречались… И банковский кассир еще жив. Хотя и пишут, что он в смертельной опасности, но… Ну как-нибудь выживет. Обязательно выживет — иначе и быть не может. Томашевский даже не допускал, что станет убийцей, он, такой чувствительный и тихий человек. Господь свидетель, тогда с Йен-сом была не его вина… Бессмысленно полистав газету, он остановился, наткнувшись на собственное объявление.
Современные берлинцы высоко ценят мебель фирмы ГТ. Рациональная конструкция, выгодные закупки по оптовым ценам и точный расчет позволяют предложить вам товар по необычайно низким ценам. Например, удобный, всегда модный трехстворчатый резной шкаф в старонемецком стиле стоит всего 1099 марок. А потому: МЕБЕЛЬ ОТ ГТ? ПРЕКРАСНАЯ ИДЕЯ!
Взгляд его вновь остановился на фотографии, запечатлевшей филиал банка в окружении густой толпы. И тут он вспомнил про свои чертежи. Вскочил, кинулся в кабинет, вытащил из письменного стола серо-зеленую папку. И замер. Уже многие годы он клал папку в ящик замком назад. Теперь же замок сразу бросился ему в глаза. Кто-то копался в письменном столе? Он подергал блестящий хромированный замок — слава богу, папка все еще заперта. Открыв замок, извлек оба чертежа места преступления. Он понемногу начал успокаиваться. Наверное, в нервном напряжении перед налетом проложил папку не той стороной. Вполне понятно.
Теперь он пошел в ванную, поджег оба листка от зажигалки, а пепел смыл душем.
Потом еще раз причесался, капнул на рубашку одеколоном и поехал в свой офис на Фридрихштрассе.
Около десяти поставил свой вишневый «дипломат» во дворе безнадежно запущенного здания своей фирмы. Его фасад покрывала белая плитка, межэтажные карнизы были украшены зелеными орнаментами. Тут и там кафель отвалился, и никто его не ремонтировал. Медленный и скрипучий наружный лифт доходил только до четвертого этажа, который в прошлом году сдали в аренду мастерской печатей. Тут пахло деревом и морилкой. И отовсюду так и тянуло упадком.
Фирма Густава Томашевского, собственно, еще в мае должна была перебраться в новое помещение в сотне метров отсюда, но из-за отсутствия денег после завершения основных строительных работ дальнейшую отделку пришлось остановить. Собственно, эта новостройка и стала причиной финансового кризиса.
Томашевский миновал отдел отгрузки. Возле больших весов о чем-то живо спорили двое мужчин и женщина. На него они даже не обратили внимания, но донеслись обрывки фраз: «Фантастика… Украл девяносто тысяч… Кого-то похитил — не хотел бы я быть на его месте… Что только может приключиться с человеком!»
Кивнув, он поспешил дальше.
Лифт стоял где-то в подвале, и вызов не работал. Какое свинство! Кабинет его был на третьем этаже, и поневоле пришлось подниматься пешком.
На первом этаже находились торговый зал и выставочный салон. И никого, кто интересовался бы его мебелью: три продавца на груде ковров листали старые иллюстрированные журналы.
Проходя мимо, заглянул в столярный цех. Там чинили мебель. Казалось, что его рабочие и тут движутся как во сне. «Ну погодите у меня, — пробурчал он под нос. — Скоро все переменится!»
Зато на третьем этаже, где помещалась бухгалтерия, расчетный отдел, отдел продаж, все старательно изображали активность. Его знакомый, советник по вопросам управления, объяснял, что у него слишком забюрократизированная администрация и что его коммерческие сотрудники делают уйму совершенно лишней работы. Что-то в этом было. Они составляли статистические обзоры, которые он никогда не читал. Когда все придет в порядок, нужно будет закупить электронные калькуляторы. Сто тридцать тысяч марок — достаточное вливание, чтобы пациента поставить на ноги. Можно не только выплатить долги, но и присмотреть новое оборудование и усилить рекламу.
— Привет, Паннике! — поздоровался он с бухгалтером, который сосредоточенно рассматривал в окно новостройки Мерингштрассе. — Можете поставить охлаждаться шампанское — сегодня и на нашей улице будет праздник.
Паннике обернулся. Он служил в фирме уже больше сорока лет — в 1929-м начинал здесь стажером. Старик был из поколения, которое признавало только иерархическое построение мира. Человек знал свое место, подчиняться — значит существовать. Работа ему всегда нравилась, часто он оставался и до полуночи, чтобы спасти тонущий корабль фирмы. Когда-то хотел своей старательностью компенсировать недостающую Томашевскому решительность, коммерческую хватку и удачу. Но сейчас его подводило давление, не работала щитовидка, он стал вялым и сонным.
Томашевский его любил, потому что Паннике чем-то напоминал ему отца.
— Значит, ваш дядя все-таки приехал? — спросил Паннике, не слишком веря в положительный ответ.
— Ну раз я говорю! Скоро будет здесь!
В своем кабинете Томашевский сел под портретом основателя фирмы. Фройляйн Майерхоф, его секретарша, уже приготовила коньяк, виски и сигареты.
Несколько минут он смотрел на светло-зеленый металлический шкаф, стоявший у обшитой деревом стены за дверью. Со вчерашнего вечера там лежала коричневая сумка с девяноста тысячами марок. Разумеется, не та, с которой он был в банке. Вопреки принятым порядкам лишь он один знал цифровую комбинацию замка, поэтому можно было не бояться, что кто-нибудь обнаружит деньги в сейфе. Доставив Фойерхана на виллу, он еще раз съездил в контору и спрятал деньги.
Раздался стук в дверь, и вошла фройляйн Майерхоф, Карин Майерхоф, русая, голубоглазая и очень привлекательная. Она его обожала и подчинялась всем его желаниям. Он навещал ее пару раз в месяц, когда родителей не было дома, чтобы, как он выражался, не утратить форму, но не любил ее.
— Как дела, золотце?
— Спасибо, хорошо. Послушай, старик уже здесь!
— Ну слава Богу! Будь с ним мила и проведи сюда.
— А ты не выйдешь его встретить?
— Что? Ах да, конечно. Так будет лучше. Томашевский неуклюже поднялся и вышел в приемную.
— Привет, дядя Джон!
— Хэлло, Томи!
Томашевский содрогнулся, словно кто-то ткнул ему в спину раскаленной кочергой. Черт, откуда старик знает его школьное прозвище? Где он его мог слышать? Нет, это случайность? Гм… К счастью, Карин ничего не слышала.
— Что-то не слишком ты рад, — заметил Шеффи.
— Да что ты, очень! — Томашевский порывисто поцеловал его в щеку, но в тот же миг подумал, что это уж слишком, и отступил в сторону.
— Вот получай, пересчитай деньги и убери куда-нибудь. — Шеффи поставил на стол элегантный чемоданчик для бумаг и достал из него две пачки купюр по тысяче марок. Убедившись, что-в комнате они одни, гордо выложил их на стол.
— Сорок тысяч, — подтвердил Томашевский. — Огромное спасибо. Я уже поручил составить соглашение. Вот оно, прочитай, пожалуйста…
Достав густо исписанный лист из массивного письменного стола, протянул его дядюшке. Пока старик читал, убрал сорок тысяч марок в сейф.
— О'кей, — наконец сказал Шеффи. — На год тебе оставлю деньги без процентов, потом четыре года буду получать по двадцать пять процентов. Таких условий нигде на свете не найдешь. Твое счастье, что я способен так раздавать деньги. Но помогаю с удовольствием — ведь ты сын моего брата… Так-то.
Он налил себе виски и залпом выпил.
Благосклонная снисходительность Шеффи так действовала Томашевскому на нервы, что он едва не выставил дядюшку на улицу. Толстая старая свинья, мерзейший тип… Разорвать бы договор и засунуть его деньги ему в задницу…
Но он взял себя в руки и даже смог улыбнуться. Без Шеффи ему конец.
— Хочешь бегло осмотреть предприятие? — любезно спросил он.
— Ну, если ты так хочешь… — Шеффи встал и подтянул просторные брюки. — Все тут выглядит весьма убого. И хоть я не слишком разбираюсь в производстве, твое, мне кажется, дышит на ладан. Ладно, надеюсь, ты сможешь поправить дело. Это твой долг перед памятью отца! Эх, парень! — Он обнял Томашевского за плечи. — Выше голову! Бери пример с меня. И я когда-то обанкротился. И начал снова с десятью долларами. А видишь, чего достиг… Немного огляжусь, может, найду тебе хорошего консультанта.
Они остановились перед стеклянной загородкой, где сидел Паннике. Тот как раз завтракал.
— Господи, да лучше бы я те деньги бросил в Гудзон! Тебе нужно как следует натянуть вожжи, мой милый — ведь ГТ — не богадельня!
— Паннике очень способный, — опасливо заметил Томашевский.
— Смотри, чтобы его не переманили, скажем, «Форд» или «Дженерал моторс», — рассмеялся Шеффи.
Подобные саркастические реплики сопровождали весь осмотр, и Томашевскому временами казалось, что дядя заберет деньги обратно. Но семейные узы, голос крови, как называл это Шеффи, все-таки оказались сильнее голоса разума. Известно, что братья Томашевские готовы были друг за друга в огонь и воду. Во всяком случае Шеффи отказался детально проверять учетные книги и ограничился поверхностными расспросами о финансовой и хозяйственной ситуации фирмы. Казалось, свои деньги он давно списал со счета.
Прогулка по зданию фирмы стала для Томашевского чистой мукой. Он никак не мог сосредоточиться и часто забывал засмеяться в нужный момент. В мыслях он оставался с Фойерханом и тяжелораненым сотрудником банка. На фоне этих проблем визит дядюшки казался сущим пустяком. Временами даже хотелось взять да и вернуть его деньги. Это означало бы решительный шаг. И жестокая игра могла бы кончиться.
Шеффи наконец-то посмотрел на часы и собрался уходить. Прощались они на сквозняке у входа, причем весьма сдержанно. Шеффи скрепя сердце сделал то, что считал своим семейным долгом, а Томашевский, скорее равнодушно, чем с восторгом, констатировал, что план его удался. Но что бы сказал Шеффи, знай он, чему в конце концов послужит его ссуда и сам его визит? Да ну его к черту! Кивнув, тот укатил.
Томашевский долго смотрел вслед. Можно вычеркнуть еще один пункт. Все прошло как по маслу. Остальное будет сущим пустяком. Но способен ли он радоваться? С каждым шагом в нем слабела тайная надежда, что все удастся вернуть назад и одной улыбкой стереть из памяти окружающих то, что он натворил. С ужасом он осознавал, что его поступок вовсе не изменил его самого так быстро и глубоко, как он ожидал.
Но еще оставалось время. Отогнав унылые мысли и сомнения, он поднялся на лифте в контору. Машинально, даже не пересчитывая, прибавил сорок тысяч марок Шеффи к тем девяноста, которые забрал в банке. Потом сумку со всеми деньгами поставил на стол и из потайного ящика в левой тумбе стола извлек поддельный договор, в котором говорилось о ста тридцати тысячах марок. Довольно долго пытался правдоподобно повторить замысловатую дядину подпись, но в конце концов справился и с этим. И только тогда почувствовал что-то вроде гордости и триумфа.
— Карин, вызови, пожалуйста, Паннике, Айлерса, Бренденфельда, Нентвига и Шульца!
Через несколько минут руководители основных отделов фирмы собрались в кабинете, разглядывая деньги и договор.
— Карин, принесите нам шампанского! — крикнул Томашевский. Он наслаждался удивлением подчиненных и весь сиял. Наконец-то он что-то собой представляет!
«Ну и пройдоха этот Томашевский! Из ничего — такие деньги! Как мастерски он вытянул у старика больше ста тысяч марок! А на каких условиях — просто потрясающе! Никто другой такого не смог бы!»
Тут возникала, конечно, небольшая проблема с дележом доходов — ведь отчет скоро предстоит показывать Шеффи. Если взять за основу сто тридцать тысяч марок, доходы возрастут. Да ладно, к тому времени он подыщет отговорку. Утро вечера мудренее.
Шампанское пенилось, и Паннике первым поднял бокал. Он улыбался, улыбался уважительно, и в пафосе его слов не чувствовалось ни малейшей иронии.
— За ваше здоровье, герр Томашевский, и за процветание фирмы! Думаю, теперь мы выкарабкаемся. Обещаю, что использую предоставленный шанс и приложу все силы, чтобы вдохнуть новую жизнь в нашу фирму. Прежде всего теперь мы можем закончить строительство. Теперь те, кто ждал со дня на день банкротства, сами станут предлагать нам кредиты. За хорошее начало!
— Будьте здоровы! — провозгласил Томашевский. — И сердечно благодарю. Теперь мы взлетим, как ракета, ведь горючего предостаточно.
— За здоровье мистера Шеффи! — воскликнул Айлерс, молодой человек, ведавший реализацией.
— Разумеется. — Томашевский был доволен: все поверили, что Джон Шеффи пришел в контору с чемоданом, полным денег. Здорово он это придумал. — А теперь, господа, постараемся разделить эти деньги между кредиторами так, чтобы что-то осталось и нам. В ближайшие дни жду ваших предложений. Вы, герр Айлерс, возьмите толкового парня для охраны и сейчас же отвезите тридцать тысяч марок в банк.
— Только не в Бранденбургский земельный, — рассмеялся Паннике. — Там их тут же украдут.
Томашевский на миг окаменел. Казалось, прошла вечность, пока он почувствовал, что лицо его расплывается в широкой ухмылке. Румянец, к счастью, можно было объяснить действием шампанского. С трудом овладев собой, он осторожно продолжал:
— Деньги должны попасть в банк немедленно. У них два наших векселя, и если что…
— Уже иду, — кивнул Айлерс. — Но если по пути у меня откроется портфель и полиция их заметит, еще подумают, что я — грабитель из Гермсдорфа.
Все оглушительно расхохотались. Казалось, только Паннике трудно было казаться веселым и довольным.
6. Комиссар Манхардт
Манхардт мчался по коридору со скоростью олимпийского чемпиона по ходьбе на длинные дистанции и собрался было с разбегу влететь к начальству, но вовремя остановился, замер по стойке «смирно», поправил галстук и осторожно постучал.
— Войдите!
Манхардт увидел, что доктор Вебер сидит за темным письменным столом и листает толстую книгу. Он даже не поднял глаз, так что поклон Манхардта пропал впустую. Комиссар вежливо улыбнулся, но в нем кипела злость. Вечно старается унизить! Нужно или не нужно, это просто у него в крови!
Главный криминальный советник доктор Вебер был ироничным коротышкой, в кругу приятелей его именовали Дед Всевед, но в отделе по расследованию убийств позволяли себе сократить титул только до «главного».
— Труд по криминальной тактике, — сообщил он. — Вам стоит прочитать. Не бывает книг, из которых было бы нечего почерпнуть. Quid hie statis otiosus?
— Простите? — Манхардту показалось, что он становится все меньше, превращаясь в карлика.
— Зачем стоишь ты без движения? — перевел доктор Вебер. — Простите, что на «ты», — это всего лишь для точности перевода.
— Нужно еще немного выждать, потому что… Словом, объявилась женщина, которая утверждает, что она мать… ну, что ее сына похитили в Гермсдорфе. Я… Мы… — Манхардт совсем запутался и наконец замолчал.
Доктор Вебер элегантно закурил.
— Которая по счету? — спросил он, явно любуясь собой.
— Пока еще вторая. Но мне кажется, она говорит правду. Мы как раз послали за Грабовским — это тот кассир, — чтобы он просмотрел фотографии, которые принесла фрау Фойерхан. Ее фамилия Фойерхан…
— Садитесь, герр Манхардт!
— Премного благодарен, герр доктор!
Манхардт понемногу опомнился, и в нем все нарастала досада.
Ему всего нехватало — силы духа, денег, знаний. Как же он хотел сидеть дома на террасе, с «Любимыми, сужеными» Фонтане в руке.
«На перекрестке Курфюрстендамм и Курфюрстштрассе еще в середине семидесятых был большой сад, тянувшийся до самых полей…»
Да-а, память была одним из немногих его достоинств. Он, мелкий криминальный чиновник Ханс Юрген Манхардт, опоздал с появлением на свет на сто лет и еще выбрал не того отца. Читать и мечтать — вот это жизнь. Собственное существование ему казалось столь жалким, что, чтобы его вынести, приходилось перевоплощаться в других людей — неважно, выдумал их он или какой-нибудь писатель. Боже, с какими идеями он начинал, а теперь стал до мозга костей приспособленцем, обывателем с домом и машиной, служащим тем, кто время от времени подбрасывает ему несколько крошек с барского стола. И даже не смеет сказать то, что думает. Непрерывно приспосабливаться, делать вид, что уважаешь свободную и демократическую систему, власть и собственность. Граждане, берегите своих миллионеров! Надеюсь, ему удастся держать язык за зубами хотя бы до пенсии. Но до нее еще больше двадцати пяти лет. Как бы он был счастлив, не забей ему дед-левак голову революционной мутью! Это отметило его несмываемым клеймом. Ну и если быть честным, буржуазное общество ненавидит он прежде всего потому, что смог выбиться только в крохотные винтики, в мелкие чиновники, ненавидит его и притом выбрал профессию, которая заставляет рисковать всеми силами, а при надобности и жизнью, для ее укрепления. Теперь могущественный аппарат раскрутился, чтобы схватить человека, который украл девяносто тысяч марок — но тех, кто зарабатывает на обмане других десятки миллионов, никто никогда не поймает за руку, наоборот, они получают поздравления и награды. Да, парень ранил человека. Но многие из тех, на чьей совести сотни людей, сегодня уважаемые граждане и высокооплачиваемые руководители. И чему могут помочь эти глупые мысли мелкого чиновника Ханса Юргена Манхардта? Ничего на свете не изменится. Людей его уровня можно просто сменить, как сгоревшую лампочку.
— Женщина работает секретаршей в сенате, ей около шестидесяти. Сына зовут Гюнтер, Гюнтер Фойерхан. Она только что вернулась от сестры из Гамбурга. Сын не ночевал дома.
— Загулял где-то? Что говорит его подружка?
— Подружка? У него их полно. Но фрау Фойерхан утверждает, что обзвонила всех — и нигде ничего. Прочитав все газеты, она уверена, что похитили именно ее сына. Она так рыдает, что невозможно вынести.
— А есть у ее сына приятель по имени Томас?
— В том-то и дело! Зовут его Томас Шварц.
— Числится в картотеке?
— Нет.
— Если она говорит правду, парня срочно взять под наблюдение!
— Разумеется! — Манхардт горел рвением. — Посмотрите, она принесла три фотографии.
Оба склонились над письменным столом. На двух черно-белых Гюнтер Фойерхан был с матерью, судя по всему, на пляже в Ванзее, на третьей, цветной — с длинноногой блондинкой из недешевых. «Тип плейбоя, — подумал Манхардт. — Такие рекламируют лосьон после бритья, белье, сигарет и спортивных автомобилей. Романский тип. Брюнет, длинные баки, ямочка на подбородке. Ужасно несимпатичный. И теперь такого дурака я должен выручать за казенный счет. Не стань его, мир совсем не рухнет. Если женщина права, похищенный выглядит именно так».
— Вполне возможно, — заметил доктор Вебер.
— Ее сын часто бывал в Гермсдорфе. Он коммивояжер, много ездит по Берлину. Говорит, собирался заплатить за ее квартиру в Бранденбургском земельном банке. У нее только сын, муж погиб в сорок пятом. Не может им нахвалиться, сын даже оплатил ей поездку в Балтрум, где они с мужем когда-то провели медовый месяц.
— Интересно!
— Похоже, парень из летунов. Выучился на продавца промышленных товаров, потом продавал телевизоры, открыл закусочную, торговал подержанными автомобилями, потом электроодеялами и книгами, и так далее, и так далее. Теперь работает страховым агентом. Она хотела, чтобы он изучал химию, но, к сожалению, его выгнали из школы.
— За что? Соблазнил молоденькую учительницу?
— Нет, украл несколько старых автомобилей и раскатывал в них с подружками по Берлину.
— Судя по его внешности, при бедной матери ничего другого ему не оставалось.
— Так говорит и фрау Фойерхан. Она его просто обожает.
— Ну да, конечно, излияния матерей, души не чающих в своих детях, ужасно действуют на нервы. Послушайте, не пора вашему банковскому клерку уже быть здесь?
Манхардт взглянул на часы.
— Еще минут десять. В центральной конторе нам сказали, что теперь он работает за городом, в Ванзее.
— Так… Есть еще что-нибудь новенькое?
— Абсолютно ничего.
Манхардт поднял газету, лежавшую на письменном столе доктора Вебера.
— Прекрасные заголовки, верно? НАЛЕТЧИК ПОХИЩАЕТ СВИДЕТЕЛЯ… ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА В ГЕРМСДОРФЕ: МОЛОДОЙ СОТРУДНИК БАНКА РАНЕН — СВИДЕТЕЛЬ ПОХИЩЕН… МАСКА ИЗ ЧУЛКА НЕ ПОМОГЛА — ПРИЯТЕЛЬ ОПОЗНАЛ ГРАБИТЕЛЯ. И радио, и телевидение только об этом случае и говорят.
— Поймать его мы сможем лишь тогда, когда поднимем на ноги весь Западный Берлин.
Манхардт едва не проворчал «Желаю удачи», но, к счастью, сумел проглотить свои слова.
— Прежде всего мы сосредоточились на рецидивистах, которые специализировались на банках, и ищем редкое имя Томас…
— Томи — Томас… Гм… Не может он быть англичанином или американцем?
— Едва ли. Грабитель говорил без всякого акцента… — Манхардт потеребил галстук. — Во всяком случае, сегодня нам хлопот хватило. Две женщины сразу заявили, что у них пропали мужья. И оба имели нечто общее с похищенным. Но одного нашли в кабаке в Германнсдорфе, в стельку пьяного, а другой лежал с сотрясением мозга в больнице Урбана. Несчастный случай, документов при нем не было. Потом мы прочесали все притоны, где обитают итальянцы, греки, испанцы и тому подобные — похищенный выглядел как-то по-южному. Но и там ничего не добились, никто не пропадал.
— Не стоило и ожидать, что сразу все получится, — доктор Вебер ободряюще усмехнулся. — О сером «фольксвагене» ничего не выяснили?
— Ничего. Его украли в Райникендорфе, потом одна из патрульных машин обнаружила его в Тегеле. Но никаких отпечатков пальцев, никаких следов — совершенно ничего.
— Un desint vires, tamen est laudanda voluntas, — усмехнулся доктор Вебер. — Если недостает сил, положись на свою волю. Овидий. Пойдемте, возможно, клерк из банка уже пришел.
Они вошли в комнату для допросов, где Кох пытался успокоить и отвлечь фрау Фойерхан. Она так увлеклась рассказом о памятных эпизодах своей жизни, что даже появление начальства ее не отвлекло.
— Однажды, когда ему было всего одиннадцать — вскоре после войны, — он забрал у меня из ящика сбережения. Старые райхсмарки, совсем немного, но для одинокой женщины это была куча денег. До сих пор не знаю, как он про них разнюхал. И знаете, что он с деньгами сделал? Разделил между одноклассниками. И сразу стал королем. А самое смешное, что я-то их сразу не хватилась. Но в один прекрасный день меня остановил на улице его приятель и пожаловался, что не получил ни пфеннига. Я вам скажу, мой Гюнтер был тогда тот еще цветочек!
Но когда ей представили доктора Вебера, она снова расплакалась.
— Он наверняка уже мертв, его давно застрелили…
— Успокойтесь, пожалуйста, фрау Фойерхан! — Манхардта злила собственная беспомощность. Вечно он теряется, когда Лили плачет… Женщины! — Мы его спасем, обещаю!
— Да как вы можете обещать…
— Могу, если говорю.
— Теперь я совсем одна на целом свете. Вначале муж, теперь сын…
— Но он наверняка еще жив, фрау Фойерхан! — Манхардт проклинал себя за неспособность выразить сочувствие и утешить какими-нибудь ласковыми словами. Он ничего не стоит, просто глупец и тупица. Кудахчет, как курица, а сам не в состоянии успокоить рыдающую женщину. Редко случалось ему чувствовать себя таким беспомощным.
В этот момент дежурный проводил в комнату перепуганного банковского кассира. Манхардт представил его доктору Веберу и потом попросил внимательно всмотреться в фотографии.
— Гм, благодарю… — Грабовский взял их в руки и долго поправлял очки.
— Ну? — нетерпеливо спросил Манхардт.
— Это он! — воскликнул Грабовский. — Чтоб мне провалиться, это он!
— Господи, нет, нет! — вскричала фрау Фойерхан. — Это неправда!
Манхардт едва успел ее подхватить.
7. Ханс Иоахим Томашевский
Томашевский просунул через решетку тарелку с голландским окороком и картонным пакетом молока. Фойерхан неуклюже повернулся на диване и уставился на скромную трапезу. Томашевский не собирался морить его голодом, но боялся, что внезапное увеличение расхода продуктов вызовет у кого-нибудь подозрения. Ведь весь город с горячечным рвением разыскивал похищенного в Гермсдорфе, и, если верить газетам, поток доносов уже обрушился на полицию.
Фойерхан все еще валялся на продавленном диване, когда-то красная обивка которого давно уже стала цвета запекшейся крови.
Ветчину он проглотил, словно уже несколько дней ничего не ел. Томашевского раздражало, как он чавкает.
Он сидел на табуретке перед запертыми решетчатыми дверьми, наблюдая за Фойерханом с любопытством естествоиспытателя, изучающего забавное животное, привычки которого стоит описать в научном журнале.
Фойерхан поставил тарелку на пол.
— Ну что, вкусно? — спросил Томашевский. У него было такое впечатление, что он проткнул бумажную стену. Что заставляло его заговорить с Фойерханом, ведь он знал, что после разговора еще тяжелее станет убить бывшего приятеля? «Или я с ним говорю, чтобы оттянуть неминуемый конец? Но придется…»
— Ну спасибо, — Фойерхан поднял глаза. — Уже известно, что похищен именно я?
— Похоже, нет. — Томашевский поигрывал концом провода, который торчал из беленой стены прямоугольного тамбура, изгибая его бессмысленными зигзагами. Если бы вернуть время вспять, если бы удалось все забыть! Почему это невозможно?
— Кассир из банка еще жив? — поинтересовался Фойерхан. Говорил он совершенно спокойно, словно о чем-то постороннем.
— Жив. Но состояние неважное…
Томашевский удивлялся, как равнодушно Фойерхан воспринимает приговор судьбы. Выглядело это так, словно у него в рукаве спрятан какой-то невероятный козырь. Что же он задумал? И как же мало изменился за эти три года!
Фойерхан встал и подошел к массивной решетке. Обеими руками оперся на прутья и воспаленными глазами взглянул сверху вниз на Томашевского. Выглядел он так мощно и грозно, что Томашевский инстинктивно полез в карман за «береттой».
— Долго еще будет тянуться эта комедия? — спросил Фойерхан.
— Не знаю… — Томашевский ощущал усталость и изнеможение. Он мечтал о сне, о долгом глубоком сне. Тут перед его глазами встала весьма соблазнительная картина. Он сидит в старомодном кресле-качалке, окруженный заботами вышколенных сестричек, с сентиментальным романом на коленях, временами понемногу его почитывая. Мир за свежевымытым окном его больше не интересует, он не должен решать никаких проблем, ими занимаются другие. Все осталось в подернутом дымкой воспоминаний прошлом. Страхи превратились в невинные воспоминания, те самые страхи, которые в его собственных глазах лишали его будущего.
— Деньги тебе понадобились для фирмы? — спросил Фойерхан.
Томашевский медленно кивнул. Тыканье его болезненно задело; он почувствовал, как давит на глазные яблоки, как всегда, когда он был растерян и обижен. Едва сдержался, чтобы не ответить: «Я больше не могу!» — и расплакаться. Вспомнил сцену из «Войны и мира»: разгромленная наполеоновская армия, застигнутая морозами, отступает на запад. И один за другим оборванные солдаты падают на снег в ожидании неминуемого конца, ибо смерть лучше, чем такие муки… Томашевский буквально чувствовал, как ему хочется кинуться в снег и ощутить краткий миг благословенного покоя.
— Сузанна знает? — спросил Фойерхан.
— Сузанна? — Томашевский хрипло рассмеялся. — Мы уже давно не живем вместе. Она переехала в Вильмерсдорф.
Ему понравилось, что Фойерхан любой ценой пытался поддерживать разговор, и вместе с тем расстроило упоминание Сузанны. Она была права: он слабак! Бездарный неудачник. Никогда так и не набрался сил взяться за что-то стоящее, всегда плыл по течению, надеясь, что все проблемы решатся сами.
— И что, по-твоему, будет дальше? — обвиняющим тоном спросил Фойерхан. Говорил, как начальник, выговаривающий подчиненному за небрежность. — Ты же не можешь меня тут держать до скончания века — в один прекрасный день все раскроется!
— А что мне делать? Отпустить тебя — значит сунуть голову в петлю. Ты тут же побежишь в ближайший полицейский участок и меня выдашь.
— Еще чего! Мне деньги нужны не меньше, чем тебе! Даже еще больше. У меня долгов больше, чем волос на голове. Больше тридцати тысяч — и с каждым месяцем все новые. Так что давай поделимся, и я даже не пикну. Ведь мы старые приятели!
Томашевский рассмеялся.
— На этот трюк я не куплюсь! Ты что, считаешь меня полным идиотом? Нет, милый мой! Когда все кончится, ты заявишь полиции, что сделал это все, только чтобы выбраться отсюда.
Фойерхан застонал.
— За тридцать тысяч я готов молчать о чем угодно.
Томашевский задумался. «Фойерхан говорит дело. Вполне правдоподобно, что у него такие долги — он всегда жил как вертопрах. С другой стороны, тогда он всю жизнь будет держать меня в руках и шантажировать до бесконечности…»
Так он и сказал.
— Это бессмыслица, — протестовал Фойерхан. — Ведь ты точно так же держал бы в руках меня!
Томашевский продолжал колебаться. Уже в школе Фойерхан пользовался репутацией великого хитреца. Он был большим приспособленцем и всегда присоединялся к тому, кто предлагал более выгодные условия.
— Раз ты меня уже подвел, — отрезал Томашевский, избегая смотреть Фойерхану в лицо. И не без причины. — Тогда, когда я на школьной экскурсии прилепил доктору Нойману на объектив кусок пленки.
— Ах, это! — Фойерхан проглотил слюну. — То было совсем другое дело. Нельзя и сравнивать. Тогда у меня просто так сорвалось… И все это сплетни!
Томашевский взвешивал плюсы и минусы предложения Фойерхана. Если его отпустить, тут же исчезнут все заботы. И деньги есть, чтобы заставить его молчать. Но если банковский клерк умрет, он неизбежно будет обречен на милость и немилость Фойерхана. Сомнения все крепли, и он поделился ими с пленником.
— Кассир не умрет! — убежденно заявил Фойерхан. — А если бы и да — я тебя поддержу. Да я сделаю для тебя все, что захочешь… Я…
Томашевский уже не слушал.
— Кроме того, не забывай о полиции. Следствие идет полным ходом. Неминуемо выяснится, кого похитили. И если ты вновь появишься на сцене, тебе допросят и узнают, где ты все это время был.
Фойерхану понадобилось несколько секунд, прежде чем он нашел контрдоводы и сам увидел, насколько они слабы.
— Могу сказать, что я все ночи шлялся по барам.
— Спросят про имена, время и свидетелей.
— Клаудия подтвердит, что я во время налета и потом всю ночь был у нее. Если пообещаю, что через две недели мы поженимся, сделает все, что угодно. А если я в полиции заявлю, что ни о каком ограблении не слышал…
— А если тебя опознает кассир?
— Это ошибка!
— Нет! — Томашевский снисходительно усмехнулся. — Я не хочу тебя убивать, Бог мне свидетель. Но если тебе не придет в голову ничего получше, придется.
Он вновь почувствовал себя на коне. Верил, что предоставил Фойерхану достойный шанс, и ему полегчало. Он был готов его немедленно отпустить, если тот придумает приличный вариант, если появится возможность уладить проблему гуманно, он рад будет ею воспользоваться.
— Ничего лучше тебе в голову не приходит? Иногда у тебя столько идей…
— Купи мне фальшивый паспорт, и я обещаю покинуть Германию.
— Не будь смешон! Мне нужны гарантии — надежные гарантии, что ты меня не выдашь.
Тогда Фойерхан попробовал зайти с другой стороны.
— Что тебе даст моя смерть? Что будешь делать с трупом? От него придется избавиться — а вдруг тело найдут? Тебя могут заметить, еще когда ты будешь его прятать!
— Я могу закопать его здесь, в погребе…
— А сможешь ты жить рядом с ним? На это у тебя не хватит нервов. Слабо!
— Это моя забота. — Чем слабее виделся выход, тем спокойнее и выдержаннее был Томашевский. Он сам не понимал этого. Не понимал самого себя. «Я не могу рассчитывать даже на свою трусость», — горько подумал он.
Фойерхан заходил по камере. Томашевскому казалось, что он видит, как лихорадочно работает его мозг. Пиджак он бросил на диван и расхаживал в одной рубашке. Но все еще не распустил галстук.
— Еще кое-что, — вновь начал Фойерхан. — Люди будут спрашивать, где ты взял столько денег.
— Эта проблема решена. — Томашевского бесило, что диалог их тянется так спокойно и обыденно. Вовсе не чувствовалось, что он победитель, хозяин положения, что в его руках жизнь и смерть пленника. Ах, как он ненавидел Фойерхана, который не собирался покоряться! Возможно, все пошло бы иначе, если бы тот просил пощады, молил и жаловался на судьбу. Почему же он такой гордый и неподатливый? Черт, ведь это не в ресторане спорить с заказчиком о поставке мебели для кабинета!
— И что ты скажешь? — спросил Фойерхан с недоверчивой ухмылкой.
— Я бы не связывался с этим, не одолжи мне дядя сорок тысяч марок, — гордо пояснил Томашевский. — Я подделал договор, и мои люди теперь думают, что он ссудил мне сто тридцать тысяч.
Казалось, Фойерхана это разочаровало.
— Ну да?
— Видишь, я не так глуп, как ты думаешь!
— Но если полиция установит, что меня взяли в заложники, — заметил Фойерхан, — она займется и моими знакомыми.
— Разумеется. Но мы не виделись больше десяти лет.
— Все равно тебя найдут. А потом и меня — в этом подвале.
— Но тебя не… Фойерхан не дал договорить:
— Ну а если меня тут не будет, против тебя не будет никаких улик.
— Ты прав, — признал Томашевский. — Но их не будет и, если я избавлюсь от трупа.
— Найдут следы крови!
— Ну да!
— Как ты меня застрелишь, чтобы кровь не…
— Перестань! — Томашевскому становилось все яснее, что если он хочет уцелеть, другого выхода не остается и Фойерхана придется пристрелить. Но это невозможно. Так нельзя! Это не должно случиться! Весь этот разговор — лишь кошмарный сон тревожной ночью… Телеспектакль… Достаточно нажать на кнопку, чтобы кошмар исчез.
Глубоко разочарованный, он подпер голову руками. При таком разговоре, когда речь идет о чрезвычайных вещах, человек вправе ожидать глубоких соображений или, по крайней мере, отточенного диалога; но все получалось поверхностно и обыденно. Это волнует даже меньше, чем удачная сделка, скажем, продажа двухсот встроенных шкафов жилищному кооперативу. Жизнь становилась все банальнее, даже в таких исключительных ситуациях, и огонь, который должен был его возродить, даже не вспыхнул.
И тут он вдруг услышал, как наверху кто-то пытается открыть входные двери.
Оба умолкли. Потом Фойерхан отреагировал первым.
— Помогите! — закричал он во всю мощь. — На помощь! Меня похитили! Я — Фойерхан! Помогите! Здесь Фойерхан… Ограбление банка… Меня похитили! Сюда, скорее!
«Стреляй! — в панике подумал Томашевский. — Ты должен выстрелить!» Вскочив, рванул из кармана «беретту», прицелился…
Фойерхан метнулся в дальний конец камеры, не переставая кричать.
«Идиот! — мелькнуло у Томашевского в голове. — Выстрел-то будет еще слышнее, чем крик… Скорее вон отсюда! Двери в подвал ведь звуконепроницаемы…»
Одним прыжком он взлетел по ступеням и захлопнул толстые, обитые металлом двери. И сразу воцарилась мертвая тишина. Теперь Фойерхан может орать, сколько угодно. Томашевский, едва переводя дух, прислушался.
— Эй, герр Томашевский! — долетел до него скрипучий женский голос. — Откройте наконец!
Холодный пот покрыл его тонкой ледяной пленкой. Это была экономка фрау Пошман. Давно перешагнувшая за шестьдесят, упрямая, язвительная, зловредная и мстительная старуха, которой он всегда боялся.
Что-нибудь слышала? Догадалась, что это были за крики? Естественно, она ведь обожает криминальные истории. А бункер в погребе, от которого у нее не было ключей, всегда возбуждал ее буйную фантазию.
«Боже, — подумал Томашевский, — что же делать? Помоги, Господи… Не могу же я застрелить и ее… Я даже в Фойерхана выстрелить не смею. Потом ее придет искать муж — и скоро у меня в подвале будет сидеть толпа народу…»
Фрау Пошман все сильнее ломилась в дверь. Он вспомнил, что надел цепочку.
Сердце его стучало неравномерно и болезненно. В голове метались беспорядочные обрывки мыслей. «Это уж слишком. Я не выдержу…» Наконец он сдвинулся с места. Если не открыть, фрау Пошман помчится в полицию. Нужно ей помешать.
Он медленно поднялся по лестнице, едва передвигая ноги.
— Я уже думала, что вы повесились! — встретила его фрау Пошман и довольно расхохоталась своей шутке.
Томашевский попытался усмехнуться и прочитать по ее лицу, что она думает. Но, как всегда, видел только любопытные темно-карие глазки.
— Как дела? — спросила она, извлекая из потертой сумки всякий хлам для уборки: тряпки, губки и моющую пасту. — Есть что новенького?
— Нет. А у вас?
— Да ничего… Уже вернулись из конторы?
— Ну да.
— Тогда мне не мешайте.
Когда фрау Пошман принялась за уборку, Томашевский проскользнул в кабинет, чтобы оформить заказ большой строительной компании. Она заказала двести встроенных шкафов — роскошная сделка! Едва корабль выходит в море, как в сети попадают крупные рыбины. «Большому кораблю — большое плавание», — подумал он.
Но как ни старался, сосредоточиться не мог. Фойерхан и Ваххольц, Ваххольц и Фойерхан — их лица представали перед ним, куда бы ни взглянул. Сохранит ли он жизнь одному, если вернет свободу другому?
Бессмыслица, абсурд!
Если бы он мог с кем-нибудь поговорить! Если бы напротив сидел добрый друг, которому все можно рассказать и который подскажет, что делать…
«Господи, — подумал он, — когда же это кончится?»
Вскочив, кинулся в кухню за пивом. Пиво успокаивает нервы. Но едва открыл холодильник и взял бутылку, заговорила фрау Пошман:
— Куда девалась синяя тарелка?
Томашевский вздрогнул, бутылка выскользнула из рук и покатилась по полу, хотя и не разбилась.
— Синяя? Это которая? — промямлил он.
— Ну десертная… с синей кобальтовой росписью! Еще вчера стояла здесь!
— Ах эта! Я ее разбил.
Томашевский попытался выскользнуть из кухни. Она его подозревает? Что она задумала? Если сообразит, что тарелка в подвале у Фойерхана… Опершись о стену, он прислушался. В темном коридоре пищал комар. Сел ему на руку, и он его прихлопнул. Господи, что же дальше? Все и вся его преследует. Началась большая погоня… Или все не так? И он запугивает сам себя? Господи, Хайо, опомнись! Если ты выдержишь, все будет хорошо…
Черным ходом он вышел в сад. Тут он был в безопасности. Цветы благоухали, как всегда, как каждый божий день. Почему в нем произошел такой надлом? Почему все не осталось по-старому? Десять лет жизни он отдал бы за то, чтобы передвинуть назад стрелки на эти роковые восемьдесят часов. Сколько лет ему дадут? От имени народа выношу приговор… И перед ним предстал зал заседаний. Он чувствовал дыхание публики, видел лица председателя, присяжных, прокурора, затылок адвоката, мигал от вспышек фоторепортеров…
Что бы он ни делал, все кончится этим.
Все равно, еще есть время. Нужно его использовать. Помоги себе сам, дружище, и пусть Бог тебе поможет!
Подняв охапку жухлой травы, отнес ее на свалку, чтобы фрау Пошман не удивилась, что не видит осколков синей тарелки.
Нет, свой путь он пройдет до конца. В душе он видел себя трагическим героем, и ему это придавало новых сил. «Я поступаю так, как считаю нужным. Я вырвался из своего убогого существования и слабости, наконец я воспрянул духом, поднялся над убогой массой. Наконец стану тем, кем хочу…»
Когда он вернулся в кабинет, чтобы назло Фойерхану и Ваххольцу продолжать работу над крупным заказом, фрау Пошман куда-то звонила. Увидев его, она явно вздрогнула.
8. Комиссар Манхардт
Дело шло к вечеру, и людей Манхардта постепенно охватывало отчаяние. Им до сих пор не удалось найти среди знакомых и друзей Фойерхана человека по имени Томас Шварц. И притом фрау Фойерхан уверяла их, что этот Томас Шварц — один из ближайших приятелей сына.
Даже вахмистр Кох, всегда сиявший, как осчастливленное дитя под елкой, кисло жаловался:
— Черт побери, я побывал у всех его девиц — Гизелы, Анти, Клаудии и Барбары — и ни одна никогда не слышала ни о каком Томасе Шварце. Господи, ну и бабы, скажу я вам! Едва не оторвали мне все пуговки на брюках. Да, у Фойерхана есть вкус… И долги тоже!
— Еще что-нибудь выяснили? — зевая, спросил Манхардт.
— Ничего. Фойерхан, судя по всему, гуляка, но с добрым сердцем. Золотая душа, которой все прощается. Разыгрывает плейбоя, богему. Затхлое мещанское окружение его не устраивает, но, безусловно, он не принадлежит ни к какой оппозиции. Не курит, но изрядно пьет. В июне был в Сен-Тропезе, в июле, кажется, в Тунисе. Работа? То тут, то там, но нигде долго не задерживается. Анти утверждает, что время от времени он обслуживает и богатых вдов, чтобы поправить финансовое положение. Да, пока не забыл: Клаудия знала, что он собирался в Гермсдорф. — Кох замолчал и налил бокал лимонада.
Манхардт чертил карандашом в блокноте схему железнодорожных линий. «Нужно бы купить модель железной дороги», — решил он и зажмурился. Профессия его — дерьмо.
Просто невозможное. Когда не находили виновного, он злился на себя и на весь мир. Но когда ловили, ему становилось жаль беднягу, он начинал сомневаться в правоте общества и его законов. Ну как он мог выбрать такую стезю!.. Он просто не решился противостоять отцовской воле. Хотел было поступить в большой электротехнический концерн, но там ему сказали: «Нам нужен человек целиком!» — и это вызвало в нем первобытный ужас.
Он ни за что не мог себе представить профессию, которой стоило бы посвятить всю жизнь без остатка. И в результате стал полицейским чиновником; ему казалось, что так он обеспечит себе и спокойную работу, и свободное время. Ведь у него хватало увлечений: шахматы и модели железных дорог, легкая атлетика и футбол, южноамериканские романы и живопись Миро. А теперь? Каждый день сверхурочная работа, и главным образом по ночам. И хотя вел он себя явно незаинтересованно, вяло и просто не слишком умно, из года в год поднимался все выше — до должности криминального комиссара. Разумеется, среди слепых и одноглазый король, а кто из гениев пойдет в полицию? Ну и вот… Оставалось ему только утешение, что, по крайней мере, заработка хватает, чтобы прокормить жену и детей. Но что с того, что Элка и Минни подрастают? Лет через десять-пятнадцать будут корпеть за письменными столами над столь же идиотской работой…
Отвратительный трезвон черного телефона вырвал его из задумчивости.
— Побудка! — воскликнул Кох.
Манхардт подтянул телефон, поднял трубку и устало отозвался.
— Это Маргарет Фойерхан. Простите, что беспокою, но… Я хотела поскорее сообщить вам, что приятеля моего сына зовут не Шварц, а Швандт, понимаете? Томас Швандт. Я только что нашла его открытку из Ниццы. Мне очень жаль, что…
— Мне тоже, — холодно буркнул Манхардт. — Надеюсь, ваш сын не заплатит за эту ошибку жизнью!
— Боже, герр комиссар! Нельзя же… Вы не можете…
— Сделаем все, что в наших силах, фрау Фойерхан, — сказал Манхардт. Потом с иронией добавил: — А если вам что еще придет в голову, звоните нам, ладно?
— Ну разумеется! Но и вы мне сразу позвоните, если…
— Непременно. До свидания, фрау Фойерхан. — Манхардт повесил трубку и покачал головой. Его люди работали даром свыше пяти часов… В приступе ярости он схватил дырокол и швырнул его в корзину. — Корова чертова! Парня зовут Швандт, а не Шварц. Томас Швандт!
— Посмотрим, повезет ли нам с ним больше… — Кох вышел, чтобы покопаться в картотеке.
Манхардт встал и несколько раз вздохнул поглубже. Невозможно! Вечно он выходит из себя и теряет контроль. И притом вечно утверждает, что история его не волнует. Но больше всего его раздражало то, что типов вроде Фойерхана он просто ненавидел. Недаром вырос в чиновничьей среде, где его двадцать лет приучали к определенным нормам. При мысли о Фойерхане у него словно что-то включалось в голове. Сексуальный маньяк, бабник, плейбой, жиголо… Такой вот тип когда-то отбил у него невесту. А теперь ему предстоит почетная обязанность спасать его. Ну что же, герр Манхардт, такова жизнь!
— Послушай, есть! — ворвался сияющий Кох, размахивая листком из картотеки.
— Радость, прекрасная радость Господня… — промурлыкал Манхардт.
— Томас Швандт, родился второго октября 1938 года в Берлине, шофер по профессии, два ареста: угон автомобиля и ограбление бензоколонки. Живет… гм… Берлин — Бритц, Буковская набережная, кооператив «Золотой дождь». Ну что скажешь?
— Слишком красиво, чтобы быть правдой! И ни одна из приятельниц Фойерхана не знала о Томасе Швандте?
— Но я их спрашивал про Тома Шварца. Попробовать еще раз? — У Коха загорелись глаза.
— Тебя только пошли! Поедем лучше посмотрим на герра Швандта. Звони в гараж, я пошел вниз.
Через пару минут они уже сидели в машине и пробирались сквозь путаницу узких улочек. В эти часы город был миролюбив и идилличен. Парочки, тесно обнимаясь или держась за руки, направлялись в парк, сентиментальные вдовушки прогуливались с собачками, на балконах сидели солидные супружеские пары, в открытых окнах светились экраны телевизоров, в кафе у буфетных стоек собирались первые жаждущие клиенты.
— Ветряная мельница, — показал Кох. — Мы почти на месте.
Машина притормозила и через минуту остановилась перед садоводческим кооперативом «Золотой дождь». Потянуло сыростью — всюду работали поливальные машины. Пахло свежескошенной травой, мокрой землей, садовым варом, краской и почему-то — подгоревшим ужином. Перед многочисленными беседками покачивались пестрые фонари. Откуда-то донесся звонкий смех, звяканье бокалов, музыка из транзисторов.
— Пивная напротив, — заметил Манхардт, когда они шли по пыльной дорожке. — Спросим у бармена, где домик Швандта.
— Так лучше всего, — согласился Кох.
Они перешли бетонную танцевальную площадку и оказались у черного хода приземистой деревянной постройки. Узкие двери были открыты настежь, и через них они заметили бармена, восседавшего далеко в глубине за стойкой.
— Привет, шеф! — окликнул его Манхардт. — Не могли бы вы подсказать, где найти герра Швандта?
— Разумеется!
— Так где же?
— Сидит у меня в саду! — Неуклюжий толстяк бармен крикнул в распахнутые парадные двери: — Томи, иди сюда, с тобой хотят поговорить!
— Спасибо, — поблагодарил Манхардт.
Он уже хотел идти навстречу Швандту, когда в дверях появился молодой человек атлетического сложения. У него были очень длинные волосы, светлые джинсы и ярко-красная махровая рубашка. Лицо его напоминало — по крайней мере при таком освещении — череп: сильно выступавшие лицевые кости и впалые щеки.
По жестикуляции дежурного, который явно хотел представить им гостя, следователи решили, что перед ними Швандт.
Но едва их завидев, Швандт метнулся в сторону, смахнул несколько садовых стульев и исчез во тьме.
Манхардт с Кохом пустились за ним. Поведению Швандта было только одно объяснение: это их человек! Но у них была неважная стартовая позиция, поскольку прежде следовало миновать длинный зал пивной.
В свете неоновой рекламы они видели, как Швандт одним прыжком перемахнул дощатую изгородь и пустился наутек через густой сад, явно собираясь выбраться на Буковую набережную. Видимо, там он оставил машину.
— Криминальная полиция! Стоять! Стой, стрелять буду! — взревел Манхардт.
В этот момент Кох вскрикнул и растянулся. Споткнувшись о косилку, он вывихнул левую лодыжку.
Манхардт мчался дальше. Все происходящее казалось ему просто смешным. Взрослые мужики играют в казаков-разбойников. Почему этот идиот не останавливается? С неохотой вытащил он свое служебное оружие и сделал два предупредительных выстрела.
Швандт их игнорировал.
— А, чтоб тебя!.. — буркнул Манхардт, огибая кусты шиповника, которые разглядел в последнюю минуту.
Повсюду изгороди, колючие кусты роз, перекопанная земля, бассейны, деревья, шезлонги и лежаки. Женщины и дети с криками разбегались, мужчины орали: «Держи его!»
Успев разорвать правую штанину и истекая кровью из многочисленных порезов и ссадин по всему лицу, он решил наконец прекратить погоню. Несмотря на все его усилия, Швандт отрывался от него все больше и больше. Тот явно знал тут все тропы.
Откуда-то донесся голос Коха:
— Я позвонил в центральную, они оцепят весь район.
— К тому времени он бог весть где будет, — буркнул Манхардт. Потом обратился к молодой женщине с ребенком. — Скажите, где, собственно, живет Швандт?
— Здесь, в красном домике с шиферной крышей, прямо рядом с нами.
Манхардт продрался через густые кусты крыжовника, перелез через кучу компоста, потом перепрыгнул низкую проволочную изгородь. Какой-то садовод отсоединил колпак фонаря и светил теперь на домик Швандта.
— Справа на столбе выключатель! — крикнул кто-то. Под карнизом Манхардт нащупал выключатель. Загорелась голая лампочка.
Двери не были заперты, потому он без колебаний распахнул их и сразу же отскочил в сторону, держа оружие наготове.
Ничего.
Войдя внутрь, Манхардт с первого же взгляда убедился, что там никого не прячут. И вряд ли Швандт мог закопать там труп.
Манхардт спрятал пистолет и ощутил какое-то странное злорадное облегчение, с которым не мог справиться. Он желал Фойерхану как следует помучиться… Если тот еще жив. Он ненавидел похищенного, хотя с ним никогда не встречался. И ненавидел не потому, что не переносил подобных типов, но — как прекрасно понимал — из зависти. Завидовал исключительной удаче Фойерхана: его имя появилось в заголовках всех газет, его судьбой интересовались миллионы…
Понурив голову, злой на самого себя, шагал он к выходу, чтобы найти Коха. Весь был как побитый, и это ему не нравилось.
9. Гюнтер Фойерхан
На несколько минут его охватила упоительная эйфория. Он даже начал было отплясывать твист, мурлыча старый шлягер и громко щелкая пальцами. Когда весь лоб покрылся потом, почувствовал вдруг, как устал, застонал и рухнул на топчан.
Который может быть час? Три утра? Или уже полдень? Двенадцать часов… В голове его зазвучала мелодия из фильма «В самый полдень». Как там было… Do not for sake me now and ever… или что-то в этом духе. Он не знал толком английского. Но и этого хватило, чтобы заполучить Мэгги. Лето 1968-го, Лондон. Все испытанное ими они тогда вычеркивали из списка. Существуют ли еще на свете Лондон, Нью-Йорк, Москва или Париж? Мать говаривала: верю только тому, что вижу собственными глазами.
«Боже мой, но как убить время? Как избавиться от мучительных мыслей?» Он попытался вспомнить стихи, которые учил когда-то: «В потоке тел и песен собирается на Коринфе народ…» Коринф или Каринф? Правильно ли он произносит? «К тирану Дионису Дамон с копьем отважно подобрался, но его взяли в путы стражники. Что он хотел — тарам, тарам, — несчастный храбрец…» Конец. Стихи никогда не были его сильной стороной. Вот рецепты коктейлей — совсем другое дело. Но стихи…
Будь у него хоть радио… Но Томи и просить бесполезно — он никогда не доверял технике. «Испугается, что переделаю приемник в передатчик и стану передавать мольбы о помощи. А вдруг это удастся? Помню, в каком-то фильме… Ведь в космических кораблях могут поймать самый слабый сигнал… Как, собственно, передается SOS? Верно, три точки — три тире — три точки. Полцарства за передатчик! Нет, целое царство! Ах, все это глупости! Нет, нужно радио — чтобы слушать музыку… Ну хорошо, и новости. Но прежде всего отвлечься и ни о чем не думать».
Фойерхан был ярко выраженным сибаритом и всю жизнь старался как можно скорее и проще получить наслаждение. Он был счастлив лишь тогда, когда сильное возбуждение обостряло все его чувства. Когда другие спешили за успокоительным к специалисту, он чувствовал себя в своей тарелке. А теперь этот погреб! Запах истлевшего дерева, пыль, сырость грязно-белых стен, пронзительный холодный свет, полная тишина… Нет, что за муки!
Он думал о русоволосой Клаудии, о ее рубенсовском теле. Когда она лежала сверху… Его утешило, что при одной этой мысли член натянул штаны. Эта реакция вдруг наполнила его верой в свои силы. Он лег на бок, закрыл глаза и разогрел кончики пальцев. Наконец перед глазами возникли картины, которых он так жаждал. Клаудия в короткой клетчатой шотландской юбке. Он целовал все выше ее мягкие бедра. Потом сорвал тонкие трусики, задрал юбку и взял ее. Он долго сопел, очень долго, уже хотел отказаться от этой затеи — и тут напряжение сразу спало. Тяжело дыша, весь залитый потом, он чувствовал, как содрогается все тело. Возможно, это в последний раз… Он поспешно отогнал непрошеную мысль, перевернулся на спину и отдался медленно спадавшему упоению. Он был удовлетворен, его охватила блаженная истома.
Лежал он так не меньше получаса. Потом стало противно от неприятной сырости и пронзительного запаха, который от него исходил, и он поднялся. Сразу стало мерзко. Его бил озноб. Он был ужасно грустен, задумчив и растерян. В душе он видел песочные часы рядом с источником радостей и наслаждений.
В часах пересыпался песок, он сидит тут и не может попасть к источнику. Потерянное время, безвозвратно потерянные часы. Он видел себя в гробу, заживо погребенного, давно уже мертвого. Боже, что за идиоты там наверху! Давно должны были его отсюда выпустить. Или на нем уже поставили крест?
Фойерхан ощущал непреодолимую подавленность, но страха смерти не испытывал. Он был молод, честен и жизнелюбив, не мог даже представить смерть, а уж тем более свою собственную. Умирают другие; человек читает об этом в газетах, но его самого это не касается. Его даже немного расстроило, что он не боится, казалось, это входит в условия роли, которую он сейчас играет. Это было просто его обязанностью перед миллионами людей, которые за него переживали; у них было на это право. Их сочувствие требовало взаимности. И как он после освобождения станет рассказывать репортерам свою волнующую историю, если даже не испытывает страха?
Голая лампочка под потолком вдруг погасла.
Фойерхан встал, приковылял к дверям, нашел их и тряхнул решетку.
— Томи! Господи, включи свет!
Сердце его, казалось, вот-вот разорвется, пот полил градом, лицо свело судорогой. Он кричал, визжал, ревел и сыпал проклятиями.
«Я заживо похоронен, — мелькало в мозгу, — там снаружи что-то произошло… Катастрофа… Дом горит… Меня засыпало! Помогите! Полиция! Томи!»
Вот теперь он испытывал настоящий страх.
Он изо всех сил впился в крепкую решетку, так что заболели все мышцы. Он задыхался. Потом ноги подломились, и он рухнул на пол. И остался лежать, обессиленный, чувствуя, как по левой щеке течет кровь. Стеная, стал молиться. «Господи, если я выйду отсюда, стану другим человеком… Стану хорошим… Буду ухаживать за больными, заботиться о стариках, женюсь на Клаудии и буду любить детей, часть своих доходов пожертвую на голодающих, сделаю все что угодно! Но только помоги мне!»
Его охватывали безумные фантазии. Он уже буквально ощущал, как Томашевский достает баллон с ядовитым газом и по красному шлангу пускает его в подвал. Нет, он затопит подвал водой. Прямо перед дверью проходит труба. Достаточно ослабить один стык… И пройдут часы, пока вода вытеснит последний пузырек воздуха. «Что же я такого натворил, что меня тут… Господи Боже, за что?»
Теперь он мог представить собственную смерть.
Но ничего не случилось. Повсюду было тихо. Он слышал только стук собственного сердца и хриплое дыхание. Воняло спермой, пылью и фекалиями. Он кое-как поднялся, нащупал дорогу к дивану и снова рухнул на него. Будь у него хотя бы спички… Забыл попросить Томашевского. И сигареты тоже. Или тот хочет его сломить? Свинья! Чертова свинья!
Непонятно: по улицам ходят тысячи людей, и для любого из них этот день похож на все прочие. Жизнь их идет как всегда, гармонично и планомерно. Поезда метро точно по расписанию отходят от конечных станций. В Темпельгофе взлетают самолеты и уходят на запад, автобусы тормозят на красный свет и гиды щебечут: «Пожалуйста, проходите! Наверху есть еще два свободных места. Еще кто-нибудь не вернулся? Вы случайно не в зоопарк, герр водитель? Случайно да? Тогда вперед!» Почему мир не остановится, если ему суждено умереть? Ведь он существует лишь потому, что я о нем думаю!
Устало и обиженно он прижал пылающее лицо к грубой обивке топчана. Острый запах пота и мочи заставил тут же отвернуться. Чувствовал себя грязным, оборванным, зачуханным и опустошенным, как бродяга. «Господи, что со мной делается!» — подумал он.
Потом провалился в болезненную полудрему. Он бежал через замок, полный всяких закоулков, блуждал в лабиринте коридоров и хотел кричать, но не мог издать ни звука. Он бежал и бежал, но двери от него все удалялись. Наконец ему удалось ухватиться за ручку и, задыхаясь, распахнуть богато украшенные двустворчатые двери. Взор его блуждал по огромному зеркальному залу. Вот те на! В правом углу стоял скелет. У него на глазах голый череп оделся жилами, мясом и кожей. И на него уставилось собственное лицо… Вскочив, он выкричал свой неописуемый страх во тьму.
И в этот миг вспыхнул свет.
Дикая радость прогнала страшный образ. Он не ослеп, он все еще видит — и слава Богу! Со светом вернулась надежда. Он встал и сделал несколько шагов.
С той стороны кто-то повернул ключ, и стальные двери распахнулись. «Палач явился», — мелькнуло у него в мозгу. И вопреки собственной воле он отступил от решетки.
«Ну и жирная свинья, — подумал он, когда Томашевский с тарелкой в руке вошел в тамбур. — Мог бы — просто задушил бы его, своими руками задушил. Я никогда ведь ничего ему не сделал… А он постарел. И плохо выглядит. Опустошенное лицо. Наверное, много пьет. Всего тридцать пять — и второй подбородок… Как-то я никогда не замечал, что маленькие бесцветные глазки так близко посажены друг к другу. Просто свиные глазки. Он смахивает на евнуха. Нет, скорее на мясника. Ему явно доставляло бы удовольствие вонзать нож в живое мясо. А это множество перстней… Просто отвратительно! Волосы с перхотью прилипли к жирной коже головы — какая мерзость… И он был моим приятелем?!»
— Ты взялся наконец за ум? — Фойерхан шагнул к решетке.
Томашевский правой рукой протолкнул декоративный платочек поглубже в карман темно-синего костюма. В левой он держал небольшой поднос с тарелкой гренок, открытой банкой крабов, чашкой дымящегося кофе и большим бокалом чистой воды. Рядом со всем этим лежал пластмассовый футлярчик.
— Снотворное, — пояснил Томашевский.
— Спасибо, я и так сплю без проблем.
— Я хочу дать тебе шанс.
— Хочешь мне… — Снова проснулась надежда.
— Шанс самому покончить с собой.
— Ах так… — Фойерхан побледнел. Его едва не вырвало. Пришлось схватиться за решетку.
— Скоро тут станет совсем темно… — Голос Томашевского звучал слабо и жалобно, казалось, у него увлажнились глаза.
Фойерхан это прекрасно видел. «Несчастный палач», — подумал он. Он сам был в безнадежной ситуации, но очевидная слабость Томашевского заставляла горячечно искать выход. Такой жалкий противник — с ним он уж как-нибудь справится! Мать говаривала: «Сила воли всегда поможет».
Мать! Да, вот спасительная идея! В нем сразу все воспряло. Если он верно отгадал настроение Томашевского, это нужно использовать. Ему стоило немалого труда сдержать возбуждение.
— Я это сделаю, — сказал он. — Очень скоро… Но позволь мне перед этим написать несколько строк матери.
— Гм… — Томашевский колебался. — Но я все прочитаю. И не пытайся написать, что…
— Конечно нет. Всего несколько строк. Что я жив… — И в тот же миг он сообразил, как неудачно выразился.
— Ну ладно…
Получилось!
Томашевский поставил поднос на пол. Потом вырвал два листка из блокнота и вместе с шариковой ручкой подал через решетку Фойерхану.
— Спасибо.
Фойерхан сел на диван и приготовился писать. Томашевский подал ему сероватый, немного мятый конверт, который обнаружил в нагрудном кармане. Фойерхан несколько секунд размышлял, потом начал строчить. Столь неожиданно проснувшаяся надежда едва не лишила его чувств, и он с трудом смог сосредоточиться: слишком радовался, что ему в голову пришел столь гениальный ход. ЛЕСТЬ СПАСЛА ЕМУ ЖИЗНЬ, — будут писать газеты. — ПОХИЩЕННЫЙ ИЗ ГЕРМСДОРФА ЗАСЛУЖИЛ НАГРАДУ. СПАСИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ В ПОСЛЕДНИЙ МИГ… Перо летало по бумаге. Чтобы было удобно писать, он положил ее на подошву правого ботинка.
План был совсем прост. Некоторые буквы он особо выделил, сильнее нажимая или, словно случайно, еще раз обведя их ручкой. Прочитанные подряд, они образовывали адрес его нынешней тюрьмы: Бенедиктинштрассе, 110. Одно он знал точно: едва листок в конверте попадет в руки матери, об этом узнают в полиции и внимательнейшим образом все изучат. Там сразу же поймут, о чем идет речь. Если так, он будет спасен. Помоги себе, человек, и Бог тебе поможет!
Томашевский молча, с застывшим лицом наблюдал за ним. Наконец все было готово. Напрягая глаза, он еще раз пробежался по строчкам. Это его последний шанс, ошибка может означать смерть. Но он уже не мог сосредоточиться, в голове все плыло. И вновь пытался найти в переплетавшейся путанице строк разумную систему.
Милая мама!
Без тебя мне тоскливо, но я все еще жив, и учитывая обстоятельства, чувствую себя относительно хорошо. Надеюсь увидеть тебя здоровой и бодрой. Надейся и ты! Не нужно за меня бояться, скоро все будет в порядке. К счастью, ничего страшного не случилось, и я здоров, как бык. Спасибо за все, что ты для меня сделала. Обнимаю, целую.
Твой сын Гюнтер.
Фойерхан трясущейся рукой написал еще имя матери и адрес на конверте. Потом положил в него оба листка и подал Томашевскому.
Затаив дыхание, следил он, как Томашевский разглядывает листки. Кровь шумела в ушах.
Томашевский уже собирался сунуть листки в конверт, как вдруг замер. Потом еще раз просмотрел текст.
— Неплохо придумано, — рассмеялся он. — Но тебе не повезло, милый мой! — И разорвал оба листка.
Фойерхан был потрясен. Ему казалось, что он падает в кратер вулкана, который снова извергнет его распадающимся раскаленным шаром. Его охватили ненависть, злость и смертельный страх. Издав звериный вопль, он кинулся на решетку, ударившись об нее всем телом. Боль только разъярила его еще больше. Обе руки, как змеи, проскользнули сквозь прутья и схватили Томашевского за левое предплечье. Томашевский ногами уперся в решетку и откинулся назад, но напрасно: Фойерхан сантиметр за сантиметром втягивал его руку к себе в камеру.
— Пусти меня! — кричал Томашевский. — Пусти! — Жилы его напряглись, свободной рукой он пытался оторвать пальцы Фойерхана.
Тот продолжал тянуть изо всех сил. «Если смогу втащить сюда всю его руку, я спасен, — думал он. — Отогну пальцы назад, а может, и сломаю. Теперь он от меня не уйдет… Если сломать ему палец, то он наверняка потеряет сознание и я достану из кармана ключи. Или просто подожду, пока кто-нибудь не придет его искать. Достаточно будет поднять крик, и меня освободят. Боже, ну и силен же этот боров! Но я должен его удержать, должен! Или привяжу его ремнем к решетке. Если не появится на работе, люди с фирмы придут его искать… Найдут меня. Еще десять сантиметров — и готово. Я должен это сделать, если хочу выжить!»
Но и Томашевский понимал, о чем идет речь.
Их схватка была молчаливой, но упорной.
10. Комиссар Манхардт
Расстроенный, он снова восседал в кабинете, в душе проклиная все на свете: за три дня он так ничего и не добился. Ни следа Фойерхана и гермсдорфского грабителя, ни следа Швандта. Тоска, тоска… Нужно бы бросить все, как Гоген, мелкий банковский чиновник Поль Гоген, и пойти бродить по свету. Увидеть Мартинику, Арль, далекие южные моря и рисовать, писать, петь песни, любить, сражаться, творить и обретать…
Кто-то постучал. Он буркнул:
— Войдите!
Судя по донесшемуся смеху, это Кох, больше всего на свете обожавший дурацкие шуточки. Но когда в нос ему ударил не сладковатый запах любимого лосьона Коха, а грубая смесь алкоголя, табака и пота, Манхардт поднял глаза. И онемел, беспомощно шевеля губами, вставая с кресла, как в замедленной съемке.
— Вы… Швандт? — наконец выдавил он.
— Угадали, герр советник.
Манхардт проглотил слюну. Парень, которого ищет весь Западный Берлин, да вся Федеративная республика, входит к нему как старый знакомый…
— Как вы сюда попали?
— Такси. К самому крыльцу.
— Садитесь, — бросил Манхардт, чувствуя себя глупо и беспомощно, как робкий, строго воспитанный школьник, которого от нечего делать окликнул директор. Он просто не знал, что сказать. Его так и тянуло завязать со Швандтом остроумный диалог. Он прочитал десятки американских детективов и вечно старался говорить столь же хладнокровно и безжалостно, как их герои. Но когда доходило до дела, никогда не мог найти нужные слова.
— Можно курить? — Швандт достал французские сигареты без фильтра.
— Пожалуйста. — Манхардт разглядывал гостя.
Первое впечатление было очевидным: начальная школа, подсобный рабочий («Шеф, еще пару пива!»), забияка («Ну и поразвлекся я тогда с двумя фраерами: дал в морду — и с копыт; главное — были бы деньги, а там что-то придумаем»). Но Швандт чем-то его привлекал.
— Вы удивлены, что я здесь? — улыбнулся Швандт.
— Да, признаю. — Манхардт отметил, как Швандт изо всех сил старается вести себя прилично и аккуратно выражаться.
Явно подражает образу гангстера-джентльмена. Но с чего бы ему являться добровольно? Или не видел иного выхода?
— Так спрашивайте! — Швандт взял с письменного стола дырокол и принялся дырявить лист бумаги.
— Почему вы пришли?
— За мной охотится весь Берлин. А когда награда возрастает до десятков тысяч марок, нельзя доверять даже лучшим приятелям и тем более — женщинам. Меня в конце концов все равно кто-нибудь выдал бы. Так что я предпочел прийти сам. И так уже все идиоты думают, что там был я.
Манхардт удивился.
— Вы имеете в виду — в Гермсдорфе? Налет на банк и похищение?
— А что же еще? — Швандт указательным пальцем постучал по лбу. — Почитайте газеты. В каждом номере по нескольку раз повторяют, что там был я.
— Да?
— Все с ума посходили!
— Почему?
— Потому что это не я!
— Вы хотите сказать…
— Как вы думаете, сидел бы я тут, если бы это сделал?
— Кто знает… — Манхардт с трудом переваривал неожиданную информацию. Разумеется, здорово, что Швандт уже дает показания, но как же ему досаждало, что он так и не смог выследить его и арестовать. Опять выставил себя на посмешище.
— Тогда я очень интересуюсь вашим алиби, — наконец сказал он.
Швандт ухмыльнулся.
— Непробиваемое… Моя сестра выходила замуж, и я был свидетелем. Когда стреляли в Гермсдорфе, я как раз был в мэрии Шарлоттенбурга, представьте себе!
Манхардт схватил телефонную книгу. В мэрии? Вот они. Шарлоттенбург, ага… Альт Литцов, 28… гм… 34-04-01… Набрав номер, он тут же угодил на сотрудника, которого искал. Сообщил свою фамилию и должность, обрисовал проблему. И через три минуты записал в протокол официальную информацию, что некий Томас Швандт, родившийся 2.10.1938 в Берлине, в искомое время участвовал в качестве свидетеля в обряде бракосочетания в шарлоттенбургской ратуше. Чиновник видел его паспорт, и на брачном контракте стояла его подпись.
— Ну вот! — воскликнул Швандт, который верно понял мину Манхардта.
Комиссар вздохнул и потер глаза. Драгоценное время потеряно даром: они гонялись не за тем.
— Значит, Фойерхану конец, — сказал он Швандту. — Вы с ним дружили, не знаете случайно, кому в банке он угодил в объятия?
— Нет, при всем моем желании.
Манхардт сразу почувствовал усталость, невероятную усталость. Зевал, глаза слезились, голова буквально падала на грудь. Он потерпел поражение — опять и снова. Фойерхан ему был просто безразличен — вчера он его ненавидел, но это был только минутный порыв. Нет, Фойерхан его совсем не занимал. Нестерпимым было лишь то, что приходится капитулировать перед неразрешимой проблемой. Такое же чувство он испытывал, разгадывая кроссворд, играя в шахматы или собирая модель железной дороги, но прежде всего при попытках установить связь между фактами. Он любил решать ребусы только ради удовольствия. Ничто не успокаивало лучше.
— Пока мы окончательно не проверим ваше алиби, останетесь у нас, — сказал он Швандту. — Нужно убедиться, что вас действительно опознает тот чиновник. Но с этим проблемы явно не будет… Ага, вот что еще: за что мы можем вас арестовать?
— Как это? — Швандт изобразил удивление.
— Послушай, парень, вчера вечером ты бежал сломя голову просто так — ни с того, ни с сего. А не вспоминаешь ли ты часом про бензоколонку на набережной Гогенцоллернов? Налет, заправщика оглушили, забрали тысячу марок… Это очень похоже на тебя!
— Но… Что вы придумали? Я похож на такого идиота? Ведь меня только что условно выпустили. Вчера я убегал, потому что испугался. Чистый рефлекс, только и всего. Войдите в мое положение! Еще не хватало мне снова сесть в каталажку!
— И тем не менее я должен передать вас коллегам. Вы же знаете: если человек пытается бежать, как вы, тем самым он совершает уголовно наказуемый поступок. Сопротивление властям при исполнении… Пройдемте!
Отведя Швандта к дежурному, Манхардт поднялся к доктору Веберу и доложил о случившемся.
— Если не произойдет чуда, все впустую, герр доктор.
— Остается еще телепередача «Дело Икс-Игрек»[4],— посмеивался доктор Вебер.
Манхардт устало заметил:
— Возможно, мы сумеем продвинуться, когда найдем труп Фойерхана.
— Ну у вас и нервы! Налет на банк уже не отменишь, но жизнь Фойерхана еще можно спасти. Придумайте что-нибудь получше. Крутитесь, шевелитесь поживее!
Манхардт вернулся в кабинет и разложил по столу накопившиеся бумаги, чтобы коллеги видели, как напряженно он работает. Потом выдвинул средний ящик письменного стола и погрузился в своего любимого Фонтане — «Любимые, суженые».
«Они проснулись рано, и солнце еще боролось с утренней мглой, когда они уже спускались по лестнице, направляясь завтракать…»
Если кто-нибудь войдет, он сможет быстро встать, задвинув при этом ящик животом.
11. Сузанна Томашевская
Что касалось соседей, с ними она всегда держалась на дистанции, так что вряд ли ее кто-нибудь узнал, когда дождливым вечером она прокралась в виллу Томашевского. У Майзели и Джорданов дети школьного возраста, наверняка они, как обычно, проводили с ними каникулы в Италии. Ее мог заметить доктор Грабанд, но на вилле напротив никто не подавал признаков жизни: доктор редко возвращался из больницы раньше семи.
Сразу после обеда она в своем вишнево-красном «опеле» отправилась в Фронау. Если уж человек прыгнул с десятиметровой вышки, нет смысла в полете думать о том, как вернуться на безопасную площадку. Что бы он ни думал или ни делал, как ни искал бы выхода и ни молился, ничего не остается, как падать в воду. Она уже не противостояла тому, что собиралась сделать. Ничто нельзя потерять легче, чем жизнь. А жизнь ей казалась бессмысленной, смерть — несущественной. Да и не важно, что она сделает или не сделает. «Зачем тогда я это делаю?» — думала она по дороге. И не находила ответа. Но, может быть, когда-нибудь найдет, возможно, уже скоро. И потому продолжала путь.
На Лудольфинштрассе остановилась, осторожно вышла и переулком двинулась к их бывшей вилле.
Фронау, самый северный выступ Берлина, врезавшийся мысом в территорию ГДР, полная противоположность кварталам вилл в Грюневальде и Далеме… Тут она выросла. За пять минут можно добраться до усадьбы, принадлежавшей ее родителям… Воспоминания, обрывки картин: первые шаги в мягкой траве, отец с рубленым лицом, высокий, как соборная колокольня; школа и первый букварь на серой оберточной бумаге. Сегодня ей кажется, что уже через неделю она начала учить латынь, которой боялась до самого окончания школы. Qui nimium properat, serius absolvit[5].
Потом первые поцелуи… И Фойерхан. Летний вечер в беседке, заросшей виноградом, ветер в кронах, луна над их домом, как огромный апельсин, сладкий запах белых пионов, среди звезд зеленые и красные огни самолетов, его руки, ласково касающиеся ее пылающей кожи, плач кукушки, грохот поезда… Какой он нежный! А через год — все та же сцена, только стыд и предрассудки куда-то исчезли. И через год уж Фойерхан не был так нежен… Все это было или только снилось?
Шла она медленно, нужно было время подумать, избавиться от угнетавших мыслей. Стало накрапывать, пришлось раскрыть зонтик. Это было ей на руку: встреть она знакомого, легко сможет закрыть лицо.
Невольно в ее голове зазвучало стихотворение:
Золото дней тихо сплывает И сине-серые краски вечера. Нежная песнь пастуха умирает. Настанет завтра — а вспомнить нечего…Это был Тракл, Георг Тракл. Кто знает, сможет ли то, что она собирается сделать, вновь наполнить смыслом ее дни, оживит ли она этим убийством свою жизнь. Надеялась, что да, но это была последняя надежда. Последняя надежда, что если она сможет, то наконец избавится от непрестанного и жгучего чувства вины. Она вспомнила время, когда из-за честолюбия родителей готовила себя к карьере певицы. Она должна была добиться славы и завоевать как минимум сцену Ла Скала. После школы — пение, потом пробы в хор — она исполняла моцартовскую арию «Ах, я это чувствую…» И ее приняли! Глубокие альтовые голоса всегда ценились. Потом ежедневные репетиции. И дважды в год концерты в филармонии. Девятая симфония Бетховена, «Реквием» Брамса, «Военный реквием» Бриттена. Фойерхан, средоточие всей ее жизни, исчез где-то на периферии, отчуждение между ними росло с каждым днем. Но он-то умел утешиться…
Вилла Томашевского засветилась меж двух высоких голубых елей за рядом плакучих берез. Задняя сторона примыкала к склону, беленые стены, два этажа с мансардой, крутая крыша… Она прожила тут больше десяти лет… Знала, что в этих пустынных краях слишком заметно, если так тащишься под дождем, но все равно еще убавила шаг.
Скоро выяснилось, что ее голос слабоват для головокружительной карьеры солистки. Трудно было смириться с мыслью, что всю жизнь придется провести в безвестности в большом хоре. И тогда она сбежала, спряталась в замужестве с Томашевским. Но и тут потерпела крах. Точнее, ее жизнь превратилась в ад: муж довел Йенса до смерти. А последние события показали, на что он способен… Йене! С тех пор она и ненавидит Томашевского. А теперь он сам ей предоставил возможность, просто вложил ей оружие в руку…
Пришла пора.
Официально она все еще фрау Томашевская, поэтому у нее все ключи. Была уверена, что никто за ней не наблюдает, и отпирая калитку, даже не оглянулась вокруг.
Потом шагала к дому по тропинке, которая вилась под низко склонившимися ветвями берез. Томашевского не было дома, это она выяснила у Паннике. Он отправился на переговоры в «Европа-центр». А по опыту она знала, что по четвергам фрау Пошман приходит позднее.
Когда она искала ключ От дверей, связка упала на серые каменные плиты. Нагнувшись, чтобы поднять ключи, с легким содроганием она заметила, что в мелкой щели между двумя плитами суетятся муравьи. От отвращения свело желудок. Она ненавидела муравьев, они воскрешали самые неприятные воспоминания: ребенком она лупой поджигала муравьев, которые вылезали из своих убежищ, превращая их в крошечные облачка пара.
Открыв тяжелые дубовые двери, Сузанна вошла в темный коридор и тихо прикрыла их за собой. Для пущей уверенности некоторое время постояла, прислушиваясь. Теперь тут совсем другие запахи, не духов, а скорее грязного белья. Под вешалкой валялась груда грязных носков… В доме никто не двигался.
Два шага — и она у входа в подвал. Открыла двери, закрыла их за собой и осторожно спустилась по узкой лестнице. «Как выглядит сейчас Гюнтер? — подумала она. И как отреагирует? Хватит ли у него ума принять мое предложение? Не ошибаюсь ли я, считая его ничтожеством? Включится ли он в мою игру? Достаточно ли высока цена, которую я предложу ему?
Идеальное убийство.
И я это смогу».
В слабом свете пыльной лампочки она добралась до стальных дверей, которые отделяли укрытие с толстыми бетонными стенами от остального подвала. Вставила сложной формы ключ в замок. Тот немного заскрипел, но вошел. Томашевский наверняка понятия не имеет, что ключи до сих пор у нее.
Мгновение она заколебалась. А что, если все ее догадки неверны? Что, если Фойерхана похитил кто-то другой? И в подвале никого нет? А ненависть заставила ее принять желаемое за действительность.
Глупости! Она решительно повернула ключ. Пришлось напрячь все силы, чтобы распахнуть тяжелые двери. Фойерхан вскочил, кинулся к решетке и уставился на нее.
«Надо же! — мелькнуло у нее в голове. — Я оказалась права!» Потом она подумала: «Как шимпанзе в зоопарке перед кормежкой. Как Каспар Хаузер[6]».
На нее смотрел совершенно чужой человек. Каспар Хаузер… Способен ли он вообще совершить то, что ей нужно? Она с трудом подавила возбуждение. Этого человека она не знает и никогда его не видела.
— Сузи! — вскричал Фойерхан, сжав прутья решетки. — Сузи, я знал, что ты меня спасешь!
Она пыталась казаться спокойной, беззаботной и сильной.
— Почему? — Опершись о батарею, она закурила. Он побледнел.
— Что? Ты с ним заодно? Боже! Но ведь вы не живете вместе…
— Ты прав.
«Нужно его напугать, — подумала она, — напугать и сломить».
— Ну и что?
— Черт побери, выпусти меня! Поторопись, я больше просто не выдержу! — Он тряс прутья решетки.
Она вспомнила штуку, которой не раз доводила учителей до истерики.
— Спокойнее, спокойнее…
— Ты ошалела?! — крикнул он. — Черт, ведь твоя обязанность спасти меня отсюда! Ты кончишь жизнь в тюрьме, если этого не сделаешь!
— Да? А кто докажет, что я здесь была?
— Ну что я тебе сделал? Зачем ты надо мной издеваешься? Послушай, Сузи, возьмись за ум. — Он вдруг запнулся. — Скажи, в чем дело?
— В чем дело? — Она не решалась сказать ему правду. — Понятия не имею.
— Откуда ты вообще знаешь, что я тут торчу?
— Нашла у Томашевского заметки. Совершенно случайно. — Говорила она отрывисто и с нажимом. — Когда потом услышала, что произошло в Гермсдорфе, все стало ясно.
— А как ты догадалась, что похитили именно меня?
— Поначалу это была только догадка. Ведь в школе все его звали Томи, особенно ты. А приятелей у него было — раз-два и обчелся. Ну и газеты все подробно описывали. Потом твоя мать явилась в полицию и принесла фотографии. Банковский клерк тебя опознал. И я все просто сложила вместе.
— Ах так… Чего же ты ждешь? Открой наконец и выпусти меня! Вдруг он вернется… Ведь он вооружен…
Она уклонилась от прямого ответа.
— Что у тебя с рукой?
С кривой ухмылкой он снял с руки окровавленную тряпку, показывая рану.
— Не повезло… Я схватил Томашевского через решетку и хотел втащить его руку в камеру. Держал бы его до тех пор, пока кто-нибудь не придет. Но у него были такие потные руки, что он все время вырывался. И я отлетел назад и разодрал руку об замок.
— Да уж, я помню его потные ладони! — Она пронзительно и делано расхохоталась.
— Так шевелись же! — Он становился все нетерпеливее. — Я тут уже насиделся!
— Зависит от тебя, выберешься ли ты отсюда, — медленно произнесла она.
— Почему? Что происходит? Чего ты от меня хочешь?
— Прежде всего послушай, что я скажу. — Она погасила сигарету и окурок на всякий случай спрятала в сумку. Сразу почувствовала себя усталой и разбитой. Но отступать нельзя! Кто сказал А, должен сказать и Б. Сохрани холодной голову, не проявляй слабости! Ситуация вполне нормальная и управляемая. Кошка не жалеет, поймав мышку. Как и лиса, утащившая курицу.
— Ну говори наконец!
— Возможно, тебя заинтересует, что сотрудник банка, которого ранил Хайо, сегодня утром умер…
— Господи! Значит, я следующий. Сегодня вечером… Смотри… — Он показал ей снотворное. — Я должен его принять, чтобы облегчить ему задачу.
— А что бы ты сказал… — Она запнулась и взглянула на него. Пришла пора прыгать в пропасть. — Что скажешь, если следующим будет Томашевский?
— Ты ошалела?
— Я тебе предлагаю пятьсот тысяч марок. Понимаешь, полмиллиона!
— Да, но… — Он избегал ее взгляда.
— Кроме того, ты станешь управляющим. Мебель от ГТ? Отличная идея! И я тебе мешать не буду. — Она порывисто дышала.
Фойерхан отпустил решетку. На лице его ясно читалось удивление и растерянность.
— И если захочешь, всегда можешь прийти ко мне! Я делаю это только ради тебя, Йене!
— Если я верно тебя понимаю, я должен… — Он не мог решиться выговорить, потом начал снова: — Должен его… Ну ладно… Но как?
— Это будет идеальное убийство! — Теперь она заговорила очень быстро, упиваясь собственными словами. Чувствовала себя так, словно за несколько минут в одиночку выпила бутылку вина. — Все знают, что ты где-то спрятан. Потом узнают, что здесь. Во всяком случае, будут считать, что до появления полиции ты сидел внизу в подвале. Это очевидно, как дважды два — четыре…
— Ну и что?
— Томашевского убьют где-то снаружи… Понимаешь? Никому и в голову не придет, что это сделал ты. Я дам тебе ключи, ты выйдешь из подвала, застрелишь Томашевского и вернешься сюда. Когда запрешься снова, я вызову полицию. Потом тебя отсюда вытащат. А я во время преступления буду сидеть у своего адвоката. Ну как тебе мой план?
— Не знаю…
— Слушай, это твой единственный шанс, понимаешь? Если не захочешь пойти мне навстречу…
— Не могу я его так просто прикончить!
— А что, ты думаешь, он сделает сегодня вечером с тобой, если я сейчас уйду?
— Ничего. Он не посмеет. Сердце не выдержит!
— Томашевский и сердце! — расхохоталась она. — Не смеши… А что он сделал с Йенсом? Что сделал с несчастным сотрудником банка? А тогда с тобой в школе? Если бы я тебя не утешила… Тебе напомнить, что ты собирался кинуться под поезд? Тогда он тебя предал, рассказал директору, что ты участвовал в угонах автомобилей.
— Нет, этого не было. Это неправда.
— Было, клянусь! Он сам признался мне в постели. Хотел избавиться от конкурента.
— Свинья!
— Представь, что могло с тобой произойти. — Лицо ее горело, она едва переводила дыхание. — Он заслужил свою смерть, Гюнтер. Это будет не убийство, а воздаяние. Он у нас обоих отнял радость жизни. Украл наши лучшие годы. И мы имеем право убрать его с дороги. Для него это станет незаслуженным благодеянием, иначе всю жизнь ему сидеть за решеткой. Ну так что?
Фойерхан глубоко вздохнул.
— Когда? Где? Как?
— Сегодня вечером. — Глаза ее сияли. — Он всегда ходит на прогулки. Сделай все подальше отсюда. После отца остался «вальтер» калибра 7,65… Потом вернешься, около десяти ты обязательно должен снова оказаться за решеткой. Годится?
— Гм… — Фойерхан на минуту задумался. — А дальше?
— Дальше? Я высказалась вполне ясно, не так ли?
— Положим, ты мне рассказала только то, что хочешь. И пояснила, что это в наших общих интересах: Ну и как ты это представляешь с практической стороны?
— В пистолете три патрона. Что еще?
— Много чего. Например, как я выясню, что Томашевский вышел на прогулку? Наружные двери звуконепроницаемые.
— Все очень просто — ты оставишь их открытыми.
— А если он еще раз спустится вниз?
— Зачем ему…
— Ведь он мне дал снотворное. Захочет проверить, принял я его или нет…
— Тогда ты просто прикроешь двери и, когда услышишь его шаги, быстро запрешься.
— Так не пойдет. Я только наделаю шума и потеряю время.
— Тогда… Подожди! Вот: ляг на диван и прикинься мертвым. Ему придется войти, чтобы выяснить, что с тобой. А когда подойдет поближе, ты выстрелишь.
— Нельзя — останутся следы крови.
— Скажешь, что это твоя, — она показала на перевязанную руку.
— Какая группа крови у Томашевского?
— Понятия не имею.
— Ну видишь! Стоит сделать анализ крови…
— Зачем им это?
— Я знаю, что всегда так делают. Слишком рискованно.
— Рискованно!
Ну почему ему ей вечно попадаются такие тряпки? Сузанна с трудом взяла себя в руки. Нельзя его перепугать. Он должен это сделать. Должен быть на ее стороне…
— Можно вытереть кровь, а тряпки… Рядом котел, он топится все лето ради горячей воды.
— Теоретически возможно. Но ты забыла про фактор времени. Ведь мы только предполагаем, что Томи спустится вниз. Точно это неизвестно. И вовсе не известно, когда придет, может, за пять минут до появления полиции!
Сузанне неохотно пришлось признать, что Фойерхан прав. Ей план казался идеальным, о мелочах она просто не думала. Тут в ее голове блеснула мысль, нельзя ли одним ударом убить двух зайцев: Фойерхан устранит Томашевского, а полиция — Фойерхана. Ей совершенно не улыбалось закончить свои дни супругой Фойерхана. Но она никак не могла придумать, как пожертвовать Фойерханом, не навредив при этом своему алиби. Нет, пока что Фойерхан ей нужен.
— Ты прав, — протянула она. — А как ты сам все это представляешь? — Даже лучше, если это будет план не ее, а Фойерхана. Может быть, это все упростит.
— Смотри. — Лицо Фойерхана, несмотря на щетину и грязь, вдруг стало сосредоточенным и суровым. — Мы вместе пойдем наверх. Подвал останется пустым. Ты уйдешь, я спрячусь в доме, пока не стемнеет. Если он придет раньше и пойдет в подвал, его придется… придется это сделать в доме. Со следами крови я как-нибудь управлюсь. Если не пойдет вниз, я выскользну в сад и подожду там. А если он все-таки пойдет в подвал и обнаружит, что меня тут нет, то помчится вверх по лестнице, начнет обыскивать дом, выбежит на улицу, не знаю, что еще… и я его прикончу. Или не пойдет проверять и отправится на прогулку — тогда как мы договорились.
Сузанне пришлось признать, что Фойерхан учитывает все возможности. Как союзник он весьма полезен… Как временный союзник.
— Хорошо, — кивнула она. — Ты обо всем подумал.
— Минутку! Мне понадобится твоя машина, на случай, если его в доме… Тогда придется тело вывезти.
Она кивнула.
— Ты прав. Машину я оставлю поблизости и вернусь на метро. В доме меня никто не знает, никто ничего не заметит. Оставишь ее потом у станции, а я завтра или послезавтра заберу.
— Где она стоит?
— В переулке за Лудольфинштрассе. Кроваво-красный «опель-кадет» номер B-ZT 3647 ZT, как мои инициалы. У меня она только две недели, так что никто из соседей не обратит внимания.
— Тогда… — Он странно ухмыльнулся. — Теперь мне осталось только сказать да. — Он явно чувствовал себя хозяином положения.
Сузанна вдруг нахмурилась. «Что, если он отправится в полицию и меня выдаст? На пистолете отпечатков не будет, она в перчатках. Но кто же еще мог его отсюда выпустить? Подстрекательство к убийству. Ничего не докажут… но все улики против меня… Еще есть время уйти… Что за глупости!»
— Идеальное убийство, — протянул он. — Верно. Было бы еще идеальнее, если бы потом и я откинул копыта.
— Но как? Когда обнаружат тело Томашевского, обыщут дом и найдут тебя тут.
— Ты можешь заехать еще раз и… Все подумают, что это сделал Томашевский. Идеальное двойное убийство. И ты избавишься от нас обоих!
«Он читает мысли?» Сузанна глубоко вдохнула. Ее уже не знобило — была холодна как лед. В этот момент она сожгла за собой все мосты. Сразу поняла, что все прежде было лишь фантазией и игрой. Теперь дело пошло всерьез.
— Это твой риск. Мой ничуть не меньше. — Она посмотрела ему в глаза.
Он отвел взгляд.
— Ну тогда… Да, нам не обойтись друг без друга. Будь что будет!
— Значит, ты берешься?
— А что еще мне остается?
Она перевела дух: значит, угадала верно. Было тяжко, но она справилась.
— Вот ключи. Большой — от входа, их два. Два поменьше — от решетки и стальных дверей. Их у меня по одному. Тебе придется…
— Томашевский знает… Ах да. Кроме него кто-нибудь знает, что у тебя остались ключи?
Она покачала головой.
— И в мастерской вряд ли вспомнят, тем более она далеко отсюда. Я заказала дубликаты перед разводом, сама не знаю почему. Ключ от входа мне оставил Томашевский, поэтому их два.
— Годится.
— Вот еще ключи от машины… Смотри, чтобы их не нашли, когда тебя освободит полиция. Если выпадут из кармана, конец всему!
— Ну я-то не полный идиот! Теперь оружие.
— Ах да, конечно… — Она просунула ему оружие сквозь решетку. — Как я уже сказала, там три патрона. Должно хватить…
— Хватит.
Ее залила горячая волна. Что, если он вдруг передумает и будет держать ее на мушке? Чтобы заглушить испуг, заговорила так быстро, что даже захлебнулась.
— Когда-то тут в саду часто стреляли. И не забывай, что около десяти появится полиция. Возможно, с ними прибудет пара репортеров. Ты должен разыграть все как по нотам, придумай сам, как. И постарайся не забыть, что своим спасением ты обязан давней юношеской любви, ведь мы не виделись больше десяти лет, верно?
— Ну разумеется.
— Не забудь выбросить пистолет. Так, чтобы его не нашли в ближайшие сто лет.
— Я все-таки не слабоумный!
— Ну хорошо, пошли!
Он отпер решетку и зашагал к лестнице, даже не обернувшись.
Сузанна, поникнув в углу, следила за ним. Она испытывала жестокое разочарование. Возможно, подсознательно она ожидала хотя бы краткого объятия, несколько благодарных слов… Неужели он догадался, что стал всего лишь инструментом в ее руках?
Ну и что? Подобный уговор тем прочнее, чем сильнее участвует в нем трезвый ум, чувства в таком деле — узы ненадежные… Словно в тумане она смотрела, как Фойерхан поднимается по ступеням. Теперь у него и ключи, и оружие; и ничего уже не изменить. Она чувствовала себя совершенно опустошенной и измотанной.
— Чего ты застряла? — вполголоса окликнул сверху Фойерхан.
— Иду-иду… — Она не заметила ступеньки, споткнулась, едва успев упереться рукой о стену и восстановить равновесие. Наконец оказалась в коридоре. — Гюнтер, куда…
— Тс-с!..
Теперь услышала и она. Шаги на дорожке перед домом; шаги, которые приближались… Томашевский!
Она замерла, словно громом пораженная. Видела, как Фойерхан исчез в дверях подвала и осторожно их прикрыл за собой; хотела было кинуться за ним… Нет! Нужно убираться отсюда… А как же алиби?
Снаружи задребезжали ключи. За самой дверью кто-то закашлялся.
Она стремительно исчезла в спальне.
12. Комиссар Манхардт
На расшатанном письменном столе комиссара Манхардта лежали образцы объявлений, приготовленные для публикации в берлинских газетах. Ими пытались привлечь в полицию способную молодежь.
Полиция ищет людей, которые по понедельникам не знают, что будут делать целую неделю.
«Нечего сказать, здорово, — подумал Манхардт. — Дерьмо!» Сам он уже сегодня знает, что будет делать до скончания века: жаловаться на свою работу, которая у него вот где сидит и одновременно донельзя притягивает. Притягивает, по крайней мере, его честолюбие. А с честолюбием сейчас слабовато…
По-прежнему никаких следов гермсдорфского бандита и его жертвы. Молодой сотрудник банка Ваххольц сегодня утром умер. И операция не помогла. У его матери тяжелый сердечный приступ, и она оказалась в той же больнице, где умер сын; отец добавил пять тысяч марок к награде за поимку преступника. На Рождество Ваххольц собирался жениться. Коллеги превозносят его до небес.
Манхардт был человеком несентиментальным; по крайней мере, он так думал. Во Вьетнаме ежедневно умирают сотни молодых людей, и вообще, если кто-то умирает, ему абсолютно все равно, двадцать ему или восемьдесят. Прожитые годы в миг смерти теряют всякий смысл.
Вот потому он меньше интересовался Ваххольцем, которому помочь уже не мог, чем Фойерханом, который, может быть, еще ждет помощи в какой-нибудь лачуге или мрачном подземелье. Манхардту не в чем было упрекнуть себя: он сделал все, чтобы его найти. Они проследили все знакомства, выслушали каждого, на кого пала хоть тень подозрения, прочесали все места, которые могли послужить укрытиями, мобилизовали население — и все впустую. И даже коллега Случайность на этот раз не оправдала надежд. Горько, но оставалось только ждать, пока где-нибудь не обнаружится труп Фойерхана. В огромном многомиллионном городе Фойерхан затерялся, как астронавт в безбрежном космосе.
Манхардта угнетала картина из бесконечно повторявшегося сна. Он стоит на дне оврага. К самому небу вздымаются песчаные стены. Напрягая все силы, он пытается с разбега влезть на осыпающиеся склоны, но вновь и вновь соскальзывает назад и падает на землю. Он кричит, но никто не слышит. Руки его превращаются в крюки, ноги — в огромные лопаты, но все равно ничего не выходит…
Кто-то постучал в дверь.
Он вздрогнул, словно застигнутый за чем-то неприличным. Наверняка начальство. Нет, те обычно не стучат. Стук повторился.
— Войдите! — пригласил Манхардт.
Двери отворялись долго, как в замедленной съемке, и на пороге появилась женщина в светлом твидовом костюме. Она понравилась ему с первого взгляда. Именно тот тип, о котором он мечтал со времен первых поллюций: высокая, в меру упитанная, мягкая, чувственная, уютная. А духи… Та самая женщина, которую он в своих бросающих в пот снах жаждал брать силой, обязательно на письменном столе или на ковре у камина, и чтобы она при этом заходилась в страстных стонах…
Он даже засопел.
Неторопливая посетительница между тем закрыла за собой дверь и, все еще держась за ручку, ждала испуганно и несмело, неуверенно оглядываясь и слегка краснея.
— Простите… Меня послали к вам. — Говорила она тихо и неуверенно. — Моя фамилия Томашевская. Сузанна Томашевская…
Манхардт наконец смог подняться. Он потел и смущался, как подросток на первом свидании, на которое прихватил дорогие презервативы, хотя едва ли мог ожидать даже легкого поцелуя.
— Манхардт, — выдавил он. — Комиссар Манхардт. Придвинув ей стул, он подождал, пока гостья сядет.
Юбка на бронзовых загорелых бедрах слегка задернулась, и его сразу залила горячая волна возбуждения. «Боже, я готов… Пожелай она, могла бы делать со мной, что захочет. Худо дело, Манхардт, ты повторяешься».
— Чем я обязан вашему визиту? — Сев, поправил галстук и сделал вид, что ищет ручку.
Часы на соседней башне пробили девять. Глухие, медленно гаснущие удары придали вечерней сцене что-то театральное.
— Не знаю, как начать… — Сузанна порылась в кораллово-красной лаковой сумочке, ища сигареты. И наконец нашла початую пачку.
Манхардт галантно попытался найти спички, но она отрицательно покачала головой и вынула золотую газовую зажигалку.
— Не знаю… — Она глубоко затянулась и выдохнула дым так резко, что расплывающееся облачко долетело до Манхардта. — Простите!
Манхардт лишь усмехнулся, ему казалось, что улыбается он глупо и по-детски.
— Хотя сам я не курю…
— Это плохо, в таком случае вы еще больше подвержены всем прочим слабостям.
Он покраснел и в отчаянии вскочил, чтобы открыть окно, чувствуя себя беспомощным и глупым. Сел и попытался держаться официально.
— Может, мы перейдем к делу? — «За дело, милая!» — подумал он тут же и снова покраснел.
— Если мне правильно сказали, вы занимаетесь гермсдорфским ограблением?
— Да, вам правильно сказали. — Вместо того, чтобы блистать афоризмами и от души с ней флиртовать, он теперь изображал закоснелого чиновника. Попал в заколдованный круг. Чем больше она его возбуждала, тем скованней он себя чувствовал и тем больше от нее отдалялся.
— Я пришла не для того, чтобы… Прошу, поймите меня правильно, речь не идет о мести, но… Понимаете, я не живу с мужем — пока недолго, но… Но я не хочу… Не знаю, правильно ли я поступаю, но считаю своим долгом сделать все, чтобы Фойерхан… Чтобы Фойерхана удалось спасти, чтобы вы смогли его спасти, понимаете?
— Ради этого мы обратились ко всем жителям нашего города, дорогая фрау Томаневская.
— Томашевская.
— Ну да, простите, Томашевская. — Манхардт совсем растерялся. Ничего подобного с ним никогда не случалось, по крайней мере не таким образом. Но и не каждый день встречаешься с воплощенным юношеским сном. «Господи, да опомнись же ты!»
— Надеюсь, то, что я скажу, останется между нами?
— Естественно! Мы умеем молчать. — Еще никогда в жизни не говорил он так напыщенно.
Сузанна потупила взор.
— Если окажется, что мои подозрения ошибочны… Мой муж, точнее, мой бывший муж… мы еще не разведены, но… Короче, он ведь сможет обвинить меня в злонамеренной клевете, публичном оскорблении доброго имени или еще чем-нибудь подобном, правда?
Манхардт тем временем сумел настолько овладеть собой, что смог хотя бы частично навести порядок в голове. Он судорожно пытался не смотреть на нее и не блуждать взглядом по стройным пышным бедрам. Пока суть да дело, он уже успел сплести десяток скрепок в сложную цепочку.
— Речь идет о вашем муже, если я вас верно понял, фрау Томашевская?
— Да. Вы его наверняка знаете, у него магазин на Фридрихштрассе. «Мебель от ГТ — прекрасная идея».
— Да, знаю: реклама на автобусах.
— Вот именно. И у меня есть несколько акций; это картель, и я прекрасно знаю, что Томашевский был на грани банкротства.
— Был? — Манхардт насторожился. — А теперь уже нет?
— Нет.
— Вы хотите сказать, что ваш… ваш муж… Вы его спрашивали, откуда он взял деньги? Ведь это вы хотели сказать: он добыл деньги и спас фирму… И вы тут видите какую-то связь с ограблением гермсдорфского банка?
— Вот именно. — Сузанна отыскала в сумочке бумажную салфетку и долго вытирала нос. — Его дядя, брат отца, приехал из Нью-Йорка, и я с ним встретилась… он все пытался нас свести вместе. Некий мистер Джон Шеффи, по крайней мере так он себя именует. И… Паннике мне сказал…
— Кто это — Паннике?
— Ах да. Бухгалтер в фирме мужа. Паннике мне сказал, что Шеффи ему — то есть моему мужу — одолжил сто тридцать тысяч марок… — Она замолчала и погасила сигарету.
— Ага… И что же? — Теперь Манхардта рассказ занимал больше, чем фрау Томашевская.
— Это исключено. Джон — старый скряга. Да, что-то он ссудил — из чувства семейной солидарности или сентиментальности. Но насколько я его знаю… Ну тысяч двадцать-тридцать в лучшем случае.
— Вы с ним про это говорили?
— С кем?
— Ну с тем американцем.
— Нет, я его уже не застала.
Манхардт напрягся и попытался заинтриговать ее манерой под Шерлока Холмса.
— Значит, вы полагаете, что ваш муж отправился за деньгами в филиал Бранденбургского земельного банка в Гермсдорфе, а дядюшкину ссуду использовал только для прикрытия?
Сузанна проглотила ком в горле.
— Да… Но может быть… Ах! — Закрыв руками лицо, застонала она. — Мне так тяжело. Я уже не люблю его, нет — но все-таки мы вместе прожили больше десяти лет. Уйму времени! Так тяжело прийти сюда, но… Знаете, мой муж, Фойерхан и я когда-то учились в одном классе…
— Ага! — Манхардт, который уже успел ее представить в черных трусиках и кружевном лифчике, едва не подпрыгнул на стуле. Кажется, что-то есть. Чтобы ему перед самым концом игры вдруг попал в руки козырь? Подсознательно он чувствовал, что нащупал решающий след, но ради репутации мудрого и рассудительного криминалиста, которого ничем не удивишь, поначалу следовало слегка усомниться… — Ну, пока вы меня не совсем убедили. Ему ведь мог ссудить деньги какой-то банк или вдруг привалить выигрыш в тотализатор. Поймите меня, фрау Томашевская, войдите в мое положение. То есть было бы у вас хоть какое-то доказательство — что-то, что дало бы нам возможность допросить его или произвести обыск в доме… Сузанна пожала плечами.
— Ну если так… Я-то полагала, что вы будете благодарны за любую информацию.
— В последние дни вы виделись со своим мужем? Вам бросилось в глаза нечто необычное? Он как-то изменился?
— Нет, видеть я его не видела. Теперь я живу в Вильмерсдорфе, на Куфштайнштрассе… — Она задумалась, но при всем своем волнении продолжала поигрывать тяжелым перстнем с брильянтом на левом безымянном пальце. — Ах да, ведь я еще вам не сказала, что Томашевский… Что у моего мужа на вилле в подвале есть большое бетонное укрытие. Его отец построил там бомбоубежище.
— Гм… Как укрытие для похищенного… — Комиссар заметил, как Сузанна роется в сумке. — Вы что-то ищете?
— Да, у меня… Вас это может убедить… Уходя от мужа, я забрала все альбомы с фотографиями. И вот нашла сегодня… — Она подала Манхардту черно-белый снимок небольшого формата. — Это снимал Фойерхан в нашей старой компании. Фойерхана на ней вы узнаете — он с большим циркулем в руке. Аппарат был с автоспуском, потому и он получился на снимке. Томашевский стоит рядом.
— Посмотрим…
Перед обычной классной доской с намалеванными мелом окружностями и уравнениями стояли пять небрежно одетых и глупо усмехавшихся подростков. Незрелые лица, прыщи, пушок на верхних губах. Манхардт на миг словно ощутил запах пыли, мела и кислого пота. Видимо, только что закончился урок математики, и Фойерхан еще держал громадный циркуль, делая вид, что хочет воткнуть его в спину Томашевскому, как пику, явно играя роль классного клоуна. Судя по разинутому рту, орет какие-то шуточки. Даже гримасничая, был самым симпатичным из пятерых. Немного южного типа, со сдержанной мужественностью, каплей цинизма и тайной тоской вечного одиночества. Какой контраст с Томашевским, с его мягкой и бесформенной физиономией… Манхардт перевернул фотографию и прочитал пять имен, написанных округлым детским почерком: Ешке, Манни, Буш, Томи, Фойерхан… Томи?
Манхардт невольно вздрогнул.
— Что — Фойерхан звал его Томи?
— Да почти все его так звали. Фойерхан безусловно — они были очень дружны.
— Нужно было сказать сразу! — Манхардт вскочил. — Томашевский — Томи, яснее ясного. А мы все время думали, что Томи значит Томас. Как мы его прохлопали! Немедленно поедем к вашему мужу. Вы нас проводите? — Ему так хотелось, чтобы она была поблизости.
Она заколебалась.
— Даже если вы правы, вам ничего не угрожает; возьмем с собой еще одного коллегу… Минутку, пожалуйста!
Она встала и оправила юбку.
— Если вы считаете…
— Сейчас, сейчас поедем! — Он хотел набрать номер Коха, но никак не мог его вспомнить. На пятой цифре раз за разом останавливался. Чертыхаясь, зарылся в бумагах, пока не нашел блокнот с важнейшими телефонами. Набрал номер, но не был уверен, не перепутал ли четверку с пятеркой, шлепнул ладонью по вилке и начал снова. При этом все время отвлекался, глядя, как Сузанна, используя окно как зеркало, поправляет свои медно-золотые волосы. Львица! Время от времени непослушная прядь падала ей на лицо, она сердито ее отбрасывала.
Кох наконец поднял трубку.
— Слушай, нам, кажется, повезло. Свежий след! Поехали со мной. Я буду максимум через десять минут, жди внизу на улице. Пока и не тяни! — Он повесил трубку.
— Если вы готовы…
Сузанна уже повернулась к дверям, но снова остановилась, поморщилась и провела рукой по лицу.
— Для меня это слишком… Мои лекарства… Вы не дадите мне воды?
— Ну разумеется! — Манхардт торопливо кинулся к умывальнику, схватил с полки невзрачный стаканчик, ополоснул его и подал Сузанне. Рука его слегка дрожала.
— Премного благодарна! — Она вложила в рот красную пилюлю и запила водой. — Даже во сне не могло привидеться, что случится что-нибудь вроде этого. Живете с человеком годы и считаете, что знаете его как облупленного. Такое даром не проходит… — Казалось, сейчас она заплачет. Манхардт заботливо обнял ее за плечи.
— Еще ничего не известно… Возможно, вы ошиблись.
— Не знаю… — Она утерла глаза тыльной стороной ладони.
У Манхардта даже сердце заболело при виде ее беспомощности.
— Вам понадобится собраться с силами, чтобы это пережить. — «Ну просто словно брат, — подумал он. — Словно веду ее парадным залом к гробу мужа… Какая женщина! Да с ней рядом я смог бы добиться в жизни куда большего, чем жалкий пост чиновника в криминалке».
Распахнув двери, подождал, пока она выйдет из кабинета. Намеренно задержался, чтобы выключить свет. Сузанна тем временем отошла по коридору, и он смог как следует оценить достоинства ее фигуры и насладиться видом длинных, стройных, но отнюдь не худых ног. В кораллово-красных лодочках на высоком каблуке она шагала, словно манекенщица. Как он хотел ее и как боялся!
На широкой лестнице он наконец ее догнал. Молча они миновали просторный вестибюль.
Все было нереальным, как во сне. Ему всего восемнадцать, совсем неопытный юнец, и у него свидание со зрелой женщиной. Сердце у него стучало, как молот, и колотил озноб, как при высокой температуре.
— У меня машина, — машинально напомнил он.
— Да…
Открыв дверцу, Манхардт усадил ее на заднее сиденье. И снова эти колени и бедра… Им овладело столь неистовое желание, что комиссар даже застонал и, отвернувшись, захлопнул дверцу, слишком резко и слишком поспешно. Кое-как обошел машину и тяжело упал за руль. Вставляя ключ в замок, он испытал вдруг небывалую эрекцию.
«Господи, да приди ты в себя, — подумал он. — Не дай Бог сорвешься — и конец, тебя просто выгонят. Не сходи с ума, потом проделаешь все это сам или с Лили, и баста…»
— Коллега живет на Африкенштрассе… — Он рванул машину с места.
Курфюрстендамм, Шиллерштрассе, Триумфальная колонна… Повсюду шлюхи, на которых никто не польстился. Альтонштрассе… Он включил радио. Какая-то безголосая курица терзала мелодию.
«Пожалуй, понадобится множество допросов, так что мы с ней еще не раз встретимся». Он даже поймал себя на мысли, что она могла быть как-то связана с этим преступлением и что имеет смысл поработать с ней поплотнее. Возможно, что-нибудь удастся придумать. Его развитое чувство реальности подсказывало, что она его презирает и что он сам слишком слаб и скован, чтобы когда-нибудь ее заполучить; но его волновали только ее вид и мысль, что она должна ему подчиняться. Накатывало темное желание ударить ее, мучить, унижать. Но он быстро отогнал такие мысли.
Миновав мост городской железной дороги, они переправились через Шпрее и мчались все дальше на север, потом вдоль больницы Вирхова, направо на Амрумштрассе, и наконец перед домом на Африкенштрассе Манхардт заметил Коха в светло-сером костюме.
— Привет! — Кох распахнул двери. — Нехорошо вытаскивать людей из постели. Я как раз собирался…
— Ладно-ладно! Залезай и прекрати стонать. — Он повернулся к Сузанне. — Мой коллега вахмистр Кох, фрау Томашевская. Она только что предоставила нам крайне важную информацию… — Он рванул машину с места и, свернув на Мюллерштрассе, коротко объяснил Коху, в чем дело.
Они миновали Виттенау, приняв вправо от автострады, обогнули Вайдманслюст и прикинули, что минут через пять окажутся перед виллой Томашевского. Сузанна все сильнее нервничала, курила сигарету за сигаретой; пепельница уже переполнилась.
— Вон там все это произошло, — показал Кох, когда они миновали станцию Гермсдорф. — Метров двести отсюда. Смешно, да? Как подумаешь…
Манхардт не ответил. Его охватило чувство пустоты и безнадежности. Преступления, убийцы, трупы — жалкие приметы его жизни. Едва он закроет одно дело, тут же на подходе следующее. И никаких шансов вырваться. Почему он не познакомился с этой женщиной лет пятнадцать назад?
— Нужно повернуть налево, — заметил Кох.
— И без тебя знаю.
Богатые предместья, роскошные виллы, возвышенная тишина. Теперь по Бенедиктинштрассе. Через несколько секунд наступит решающий момент. По крайней мере, он надеялся. И судьба двоих людей будет зависеть от него. Почему вдруг именно от него? Какое ему до них дело? У него не украли ни пфеннига, никто не всадил ему пулю в тело… Ну да ладно! Что тогда? Ничего.
— Вот, дом напротив… — Сузанна скорее прошептала, чем выговорила.
— Ага… — Манхардт притормозил и остановил машину перед плакучей ивой, отливавшей в лунном свете серебром.
— Лучше вам оставаться в машине, фрау Томашевская. Может быть… Мы же знаем, что ваш муж вооружен. Скажите, у вас есть еще ключ от дома?
«Ключ от дома мне оставил Томашевский. Говорить про это или нет?»
— Нет, конечно нет! Я тут не была целую вечность.
— Да, понимаю… Но, конечно, вы позволите нам проникнуть в дом через окно или как-нибудь еще, если не получится через дверь?
— Разумеется!
— Спасибо.
Кох и Манхардт вышли из машины. На небе ни облачка. Звезды сияли, березы серебрились в лунном свете, где-то лаяла собака, реактивный самолет летел на север, на террасах звякали бокалы, поливальные машины окропляли газоны перед виллами, позади гудели поезда, над границей светились желто-белые лучи прожекторов. На миг они застыли, с трудом воспринимая окружающее как действительность, — разница между этим местом и каменными джунглями города была слишком вопиющей.
— Скоро мы вернемся, — сказал Манхардт Сузанне. — Надеюсь, все пройдет гладко. Через пять минут мы все узнаем. Выше голову! — Он отвернулся и пересек улицу.
— Дом сто десять, — прочитал Кох. — X. И. Томашевский. Табличка старинная. Света нет, вероятно, никого нет дома. Надеюсь, он не прячет сейчас труп…
— Пошли!
— Позвонить?
— Звони!
Кох на миг придавил пальцем белую кнопочку, но так и не услышал, раздался ли в доме звонок. Судя по всему, окна и двери были закрыты. Необычно для такого теплого летнего вечера.
— Ни души, да? — Кох ухмыльнулся.
— Может, он что-то почувствовал. Или давно уже за тридевять земель отсюда.
Манхардт на миг растерялся, не зная, что делать дальше.
— Или дама водит нас за нос.
— У тебя отмычки с собой?
— Гм…
— Так за дело!
Манхардт спешил; он уже ненавидел типа, сделавшего Сузанну несчастной.
— Да, но…
— Я все беру на себя. Если нам повезет, победителей не судят. Пошли!
— По мне так…
Кох моментально отомкнул замок кованой садовой калитки, и они зашагали по неровной дорожке, спотыкаясь на кочках и задевая разросшиеся ветви берез. Кох включил фонарик.
Взойдя на крыльцо, Манхардт постучал в толстые дубовые двери, сначала костяшками пальцев, потом, не дождавшись ответа, кулаком.
— Ничего… — констатировал Кох. — Нет смысла — там явно никого нет. Лучше перестань, пока соседи не вызвали полицию.
— Не знаю, не знаю. — Манхардт опять заколебался. — Все говорит за то, что она права. Фойерхан был его приятелем, он нуждался в деньгах, звали его Томи…
— Давай-давай! Но только поскорее. Пока дойдешь до дела, будет поздно.
— Ну хорошо, пойдем посмотрим, не попадем ли в дом через террасу.
Манхардта сразу оставили и сила, и отвага. Он чувствовал себя усталым, очень усталым и сломленным, как в первой стадии тяжелого гриппа. Все это его уже не развлекало. Еще один попусту пропавший день. Пропавший? Разве он не встретил Сузанну?
Выйдя на террасу, они обогнули два садовых столика и выяснили, что высокие стеклянные двери только прикрыты, но не заперты. Очень удачно. Кох тут же их распахнул.
— Эй, герр Томашевский, привет! — окликнул Манхардт.
Ответа не последовало. Ловушка? Вряд ли. Не размышляя об опасности, они вошли в продолговатую комнату, где стояла полная тьма, поскольку все шторы были спущены. Когда Манхардт затянул за собой тяжелую бархатную портьеру, Кох снова включил фонарик.
— Ого! — воскликнул Кох. — Сплошной антиквариат!
— Чиппендейл, — определил Манхардт. — Неплохо. Ну, парень сидит просто на золотой жиле…
Они оглядели соседние комнаты и убедились, что Томашевского нет дома. Рассчитывать найти здесь Фойерхана не приходилось.
— Начнем с подвала или с комнат наверху? — спросил Кох.
— С подвала. Она утверждает, что там, внизу, настоящий каземат, бывшее бомбоубежище. Идеальное укрытие… Это двери в подвал?
— Наверное. — Кох нажал вычурную бронзовую ручку и посветил по крутой лестнице.
— Внизу спокойно можем включить свет, никто нас не увидит. — Манхардт повернул массивный герметичный выключатель, и под сводом зажглась зарешеченная лампа.
— Да будет свет — и стал свет, — хохотнул Кох. — Эй, есть тут кто? — прислушался он. — Никого.
— Я вниз, ты подожди здесь. Осторожность — мать мудрости.
Кох, с пистолетом в руках, остался наверху.
Манхардт спустился по крутым ступеням и слева в освещенном коридоре обнаружил прочные стальные двери. Вот, значит, и комната, про которую говорила Сузанна. Бегло оглядевшись, он ударил кулаком в покрытый оливковой краской стальной лист и прижал ухо к холодному металлу. Одолев невольный озноб, услышал только глухие удары своего сердца, но через несколько секунд, когда в ушах стих шум крови, ему вдруг показалось, что по другую сторону двери кто-то кричит. Едва слышно, но все же…
— Может, я и ошибаюсь, но… Лучше будет, если ты с отмычками спустишься вниз!
Коху понадобилось минут пять, прежде чем он открыл тяжелую дверь. '
На миг они уставились на человека за решетчатой дверью, как на существо с другой планеты. Судя по всему, и Фойерхан был ошеломлен не меньше. Потом вдруг напряжение сразу спало.
— Фойерхан! Господи, это же он! — воскликнул Кох. — И к тому же живой! Поздравляю!
— Мы появились не скоро, но все же пришли! — Манхардт рассмеялся, ему показалось, что слишком пронзительно, даже истерически. Но головоломка решена, и все в порядке.
Фойерхан бормотал что-то несвязное.
— Я уже думал… В это время всегда приходит он… Томашевский… Сегодня вечером он хотел меня… Уже вечер? Днем хотел меня застрелить, но… Видите это снотворное? Мне его предстояло проглотить, чтобы облегчить ему работу. Он же трус… А когда-то я был его лучшим другом. Давно. Прошли уже годы. Но… Господи, все равно я ничего не понимаю. Не снится ли мне все это? Вы… Ну ясно, вы из полиции. Господи Боже, да я бросился бы вам на шею, только откройте поскорее! Кто вас сюда прислал? Ну и жутко тут сидеть, я вам скажу! Я не верил, что выйду отсюда живым. Как мне вас благодарить? Будьте моими гостями, я вам подарю все, что у меня только есть, все сделаю… Что? Что вы говорите? Разумеется, Томашевский! Он меня тут запер. Похитил меня и застрелил сотрудника банка… Кто же еще… Но я просто не знаю, как вас благодарить!
— Ничего, мы на службе, — буркнул Манхардт. — И к тому же благодарить следует не нас, а фрау Томашевскую — это она навела нас на верный след.
— Сузанна? Старая приятельница, золотая Сузи! — Фойерхан утер с лица пот. — Когда-то мы все ходили в одну школу. Она догадалась, когда я в банке воскликнул: Томи! Верно?
— И поэтому тоже.
— Нет, тогда… Я не понимаю. Ребята, сегодня вечером мой праздник. Я напьюсь в стельку! Я сегодня второй раз родился! — Фойерхан едва не плясал по камере.
Манхардт внимательно за ним следил. Ввалившиеся глаза сияли, словно тот перебрал наркотиков. Фойерхан был вне себя от радости, вопрос только в том, как бы он совсем не ошалел. Растрепанные жирные волосы свисали на лоб, неровная щетина придавала ему просто демонический вид. От него несло мочой и потом, одежда помятая и грязная, как черт. Нет, Манхардту он совсем не нравился. Кох уже успел взопреть.
— Так, еще немного… Сейчас клетка отопрется!
— Вам известно, где сейчас Томашевский? — спросил Манхардт.
Фойерхан покачал головой.
— Понятия не имею.
— Ну, никуда он не денется.
— Готово! — Кох с натугой разогнулся. Решетчатые двери распахнулись, и в следующую секунду Фойерхан бросился на Манхардта и Коха, едва не своротив им шеи.
— Простите, я нечаянно, — оправдывался он, — просто я от радости вне себя. Попробуйте просидеть так три дня!
— Ладно-ладно! — Манхардт пытался его успокоить. — Пойдемте, не хотелось бы, чтобы Томашевский застал нас тут.
— Кроме того, в машине ждет ваша спасительница, — заметил Кох. — Если бы не она, вас никогда бы не нашли… Пойдемте, она будет рада, хотя вы и не несете ей розы…
Они все же оттеснили восторженного Фойерхана вверх по лестнице, и Кох настоял, что проводит его к машине.
Когда они ушли, Манхардт перевел дух и огляделся в поисках телефона. Насколько он представлял Фойерхана, тот теперь обнимает и целует Сузанну. Вот мерзкая свинья! Надо было оставить его там, внизу! Его просто затопила волна ненависти и ревности. Не нужно быть ясновидцем, чтобы знать, как станут развиваться события в ближайшие недели: Томашевский рано или поздно угодит за решетку, Сузанна обретет свободу — разведена не по собственной вине. Фойерхан станет героем дня, бульварные листки распишут его историю вовсю. Бабник и донжуан, охотник за приданым с одной стороны и одинокая, но чувственная женщина с другой — не нужно буйной фантазии, чтобы представить, что получится… Черт возьми! Нет, он бы Фойерхана просто удавил! Но поздно. Со скрежетом зубовным пришлось признать, что его месть останется лишь платонической.
Когда человек — простая букашка, вся жизнь его — одно дерьмо. Нет, лучше бы весь мир летел в тартарары!
Снаружи в прихожую долетал звонкий смех Фойерхана; голоса приближались. Похоже, соседи пришли выяснить, что происходит. Через несколько минут появятся первые репортеры и начнется суматоха. Кох идиот, что позволяет Фойерхану так шуметь — если Томашевский услышит этот хай, он сразу поймет, что случилось.
Манхардт с проклятиями набрал номер доктора Вебера. Тот все еще корпел над бумагами. И тут же снял трубку.
— Добрый вечер, герр доктор, это Манхардт. Хочу вам только сообщить, что мы нашли Фойерхана. Живого.
— Манхардт, дружище, вы просто гений. Уже гусеница и куколка предвещают, как хороша будет будущая бабочка. И где же вы его нашли?
— Во Фронау, на одной вилле. В подвале. Хозяин пока не показывается — но, полагаю, никуда не денется. Это явно тот самый, кого мы ищем. Некий Томашевский. Объявите розыск, ладно?
— Как вы сказали, его зовут?
— Ханс Иоахим Томашевский.
— Торговец мебелью?
— Да, насколько мне известно. — Манхардт услышал, как доктор Вебер рассмеялся. — А в чем дело?
— Его долго искать не придется.
— Почему?
— Полтора часа назад его нашли на Фридрихштрассе под новостройкой его фирмы. Мертвого, разбившегося в лепешку. Видимо, бросился с лесов. Явное самоубийство. Как говорят, сам осудил, сам приговор исполнил…
13. Сузанна Томашевская
Урну с прахом Томашевского погребли накануне на новом кладбище во Фронау, опустив в глинистую землю в полуметре от сына. И только Сузанна шла за могильщиком и с непроницаемым лицом проверила даты, выбитые на надгробье. Панихиду перенесла столь же безучастно, как все попытки Томашевского на почве секса. Смерть его принесла ей лишь глубокое успокоение, но она совсем не ощущала связь между этим фактом и своим участием. Для нее виновником, убийцей был Фойерхан, и ей удалось как можно глубже утопить даже мысль о том, что к убийству его принудила она. Она была достаточно умна, чтобы сознавать это обстоятельство, особенно выпив, но даже и в такие минуты не испытывала ничего похожего на вину или жалость. Во всем было виновато неудавшееся стремление ее родителей воспитать ее в набожном духе. Даже ежедневными молитвами, воскресными проповедями и вечерним чтением Библии им не удалось воспитать из нее добрую христианку; напротив, она видела себя беспомощной игрушкой в руках всемогущего Господа.
Что бы она ни делала и ни думала, все было его воля. И она не уклонялась от деяний, которые обычно считались порочными и злыми, но — если ей самой не грозило разоблачение и наказание — совершала их без долгих размышлений, думая при этом: «Если такова воля Твоя — на Тебе, пожалуйста!» Внешние соблазны воспринимала с тем же фатализмом, что и позывы собственного Я. За все в ответе был Бог, в существовании которого она никогда не сомневалась, кое-что можно было отнести и на счет общества, в котором она жила. Ее семья, воспитатели и вообще все общество не смогли отвратить ее от этого убийства.
В своих размышлениях, если она вообще тратила на них время, она, конечно, все так тщательно не обдумывала, но такова была духовная основа ее поведения.
В дни после смерти Томашевского ни на миг не задумалась Сузанна о возможных негативных последствиях своего поступка, ни единая мысль о допросах, долгих днях суда и жизни за решеткой не портили ей сладкие часы с Фойерханом. Она была уверена, что совершила идеальное убийство, тем более что комиссар Манхардт в ее глазах оставался изрядным глупцом. По его и по всеобщему мнению Томашевский совершил самоубийство — и баста.
— Ты должна признать, что я все проделал гениально, — говорил Фойерхан, каждый день навещавший ее в старой квартире на Куфштайнштрассе и теперь сидевший рядом на диване. — Я увидел, как он поднимается по лестнице на четвертый этаж. И давай за ним. А потом он вылез на леса и стал смотреть вниз. Хватило легкого толчка — бац! — Рассказ этот он повторял до бесконечности.
— Перестань!
— Явное самоубийство! — Фойерхан рассмеялся и хлопнул рюмку коньяку. Потом поцеловал ее. Рука его бродила по внутренней стороне ее бедра.
— Не спеши… — Ее залила горячая волна возбуждения, но она все-таки продолжала: — Лучше расскажи мне, что было сегодня на фирме, когда ты… А-ах…
— Потом! — Рука скользнула под трусы.
— Ах ты… — Она обняла его и сомлела от легких ласк, с которых начинал он любовную игру. Нервы ее трепетали от ощущений, столь любимых ею и столь давно забытых…:
А когда она стала издавать нетерпеливые стоны, он проник в нее, поначалу медленно и нежно, потом дико и эгоистично, и доставил наслаждение, которого ей так давно недоставало. Несбывшиеся сны сразу исполнились, тело, которое еще вчера казалось ей увядшим, вновь стало молодым и полным жизни. Все это компенсировало годы, потерянные в зимнем сне ее замужества. Бесконечная прямая времени свернулась в крохотную точку. Прошлое и будущее исчезли. Остался только этот миг.
Она оставляла его в себе, пока он, измученный и потный, не лишился сил, гладила его и ласкала, пока он не заснул. Чувствуя в себе его семя, думала: самое время для мальчишечки… Она уже не хотела избавиться от Фойерхана. Фойерхан — угроза, но и любовь; Фойерхан — память об утраченной молодости, сама молодость. Так хорошо, все так хорошо… И она расслабилась и погрузилась в глубокий сон.
Проснулись они около половины восьмого, когда у соседей включили телевизор и на весь дом загремели фанфары последних известий. Несколько минут они еще прижимались друг к другу, целовались и ласкались, потом Сузанна отправилась в ванную. Она тихонько напевала — почему-то пришло в голову стихотворение Эльзы Ласкер-Шулер, прочитанное многие годы назад, собственно, только отрывок из него: «В суровых линиях моих побед затанцевала поздняя любовь…»
Поздно, но не слишком. Тело у нее еще крепкое и полное огня. Человек добьется чего угодно, если решится действовать.
Она приготовила ужин, словно они собрались отпраздновать необычайное событие. Знала, что если не хочет потерять человека вроде Фойерхана, должна подумать обо всем, о каждой мелочи. Хорошо, их общее деяние было порукой, что он останется привязан к ней, но его любовь невозможно завоевать и удержать только шантажом.
И старалась она не зря. Фойерхан после каждого глотка ее целовал, и ее лакомства ему очень нравились.
— Ты лучшая кулинарка на свете! Где такое предлагают, грех не задержаться!
Пламя свечей мигало, глаза их сияли, вино золотисто искрилось в бокалах с высокой ножкой. Подняв бокалы, они переглянулись и чокнулись.
— Ах, если бы все так и оставалось навсегда! — нежно произнесла она.
— Или еще немного лучше! — рассмеялся Фойерхан. — Твое здоровье!
Она встала и подошла к проигрывателю. Даже от боли за несостоявшуюся карьеру, которая когда-то жгла ее огнем, остался только кислый осадок, и потому, набрав пластинок, она мимоходом спросила:
— Ты любишь оперу?
— Да, разумеется! Ей это понравилось.
— А какую?
— Где больше толстых баб, — рассмеялся он. Бросившись на него, она стащила Фойерхана на пол и они, смеясь и кряхтя, катались по пышному ковру.
Устав, снова молча уселись на мягкой кушетке, прижавшись друг к другу, и размечтались. Из колонок неслась «Патетическая симфония» Чайковского.
— A quoi pensez-vous?[7] — спросила она.
— О вас, мадам Фойерхан.
— Еще есть время… Вот на будущий год…
— Тогда прошу позволить продолжать!
— Ах ты… — Она его поцеловала.
— На помощь, душат! — Он высвободился и повернул к себе ее лицо. — Сузи, поверь мне: все эти годы я на самом деле ждал тебя. Может быть, не всегда сознательно, но…
Все остальные — только для того, чтобы забыть про тебя. А что еще мне оставалось? Не мог же я уйти в монастырь? И из меня ничего не вышло, потому что я не мог стать никем без тебя. Будь ты со мной… Ах, merde… Нет, я ведь не дурак, но вот не вышло! Ну да, просто не пошло — и все. У одного меня ничего не получалось.
Если бы Томашевский не перешел дорогу… Нужно было сделать это еще тогда. Я часто представлял, как задушу его или застрелю… И наконец это случилось! Мы с тобой принадлежим друг другу, а тот, кто станет между нами, плохо кончит!
Она погладила его, поцеловала, нежно расчесала пальцами густые волосы, потом пощекотала.
— Мы имели право его убить. Не сделай мы этого, он бы тебя прикончил. Так что это — законная самооборона. И мы ведь рисковали. Еще немного, и он мог нас обнаружить. И что потом? Мог застрелить нас обоих. — Она умолкла, потом совершенно переменившимся голосом спросила: — Скажи, куда ты дел пистолет?
— Ведь я тебе уже говорил…
— Скажи!
— На обратном пути недалеко от моста я его бросил в канал Гогенцоллернов.
— Хорошо… — Она закурила. И снова нежно спросила: — Как прошел первый день на фирме?
— Вполне прилично. Все мне старательно кланяются. Герр управляющий, скажите, герр управляющий, взгляните… Видят, что поезд ушел, и хотят успеть вскочить в последний вагон.
— Как сложился разговор с Паннике?
— Паннике? — Он ухмыльнулся. — Откровенная антипатия с первого взгляда. Между прочим, взаимная. Он с виду очень дружелюбен, но постоянно на меня косится. Ужасно неприятный тип!
— Ты справишься!
— И деньги пришли, — сказал Фойерхан, опустив глаза.
— Перестань! — Она закрыла ему рот. — Со своими деньгами я могу делать, что хочу. И если ты отказался принять то, что я тебе обещала…
— Прошу тебя! Ведь не могу же я… Не могу я брать от тебя деньги — теперь, при таких обстоятельствах…
— О… я так счастлива… — Глаза ее сияли. — Вот я их и перевела на фирму, которой ты руководишь!
— Во всяком случае, корабль остался на плаву. — Тема ему явно была неприятна. — Всего несколько дней, когда фирма смогла работать с крадеными деньгами, совершили чудо. Достаточно преодолеть критическую точку, и все пойдет само по себе. — Он покосился на часы. — Послушай, мне пора. Пойдешь со мной?
— Куда?
— Я ведь тебе сказал. Сегодня день рождения у Айлерса — тридцатилетие, собирается большая компания. Я просто обязан там быть. Я собираюсь его сделать бухгалтером, когда уйдет Паннике.
— Айлерс? Из торгового отдела?
— Ну да.
— Конечно пойди, это улучшит атмосферу в фирме. Но у меня сегодня нет настроения. Люди по-прежнему так на меня косятся… К тому же я устала.
— Жаль!
— Потом поедешь к матери?
— Да, придется.
— Как-нибудь нужно заехать во Фронау и покосить газон.
— Можно завтра. Пошман для этого слишком благородна, да?
— Она занимается только домом.
— А что дальше? Переедем туда на следующий год или хочешь продать этот претенциозный сарай?
— Еще не знаю.
— Лучше продай; ведь есть и другие дома — дома, в которых меня не держали взаперти.
— Ну ладно, иди уже, а то толку не будет.
— Спешишь от меня избавиться?
Хотя сказал он это в шутку, она тут же ощутила горячий ком где-то в горле. И подумала: «Он все еще мне не доверяет, все еще меня боится, не верит мне, раз я уже решилась на убийство… Первая идея оказалась гениальной, и он теперь боится следующей. Да, как-то раз я над этим задумалась. Он точно угадал. Но… Нет-нет, он дорог мне не только потому, что все обо мне знает».
— Ты же знаешь, что я тебя люблю, — вздохнула она. — И никогда не захочу с тобой расстаться.
Он ее обнял.
— Я бы тебе и не советовал.
Прошло еще немало времени, прежде чем Фойерхан покинул квартиру. Ее это вполне устраивало: теперь она могла спокойно восстановить в памяти картины последних часов и насладиться воспоминаниями. В ее ушах все еще звучал его голос — мягкий, обаятельный, звучный, ласковый, порывистый и мужественный. Она все еще мысленно видела его тело — стройное, с бронзовым загаром, крепкое и неутомимое, гибкое, знакомое насквозь. Она все еще ощущала запах соли и табака, пота, спермы и нафталина. Мать его повсюду держит нафталин; самое время с этим покончить.
Но упоение исчезало тем быстрее, чем судорожнее она пыталась его продлить. Мысли, которые поглощали весь мозг, не удавалось уловить грубой сетью воли. Все вновь и вновь всплывали новые сомнения.
В самом деле она его любит или просто уговаривает себя, чтобы оправдать свое преступление? Ведь если на то пошло, Фойерхан — просто хладнокровный убийца, и кто поручится, что она не станет его очередной жертвой? Не выбрал ли он ночь, в которую она умрет, — разумеется, после свадьбы? Ведь заодно он бы избавился от соучастницы своего преступления.
И хотя двойственность чувств ее ничуть не волновала, она была на грани слез. Нет, что-то в ней самой всегда губит ее возможное счастье. Ведь нет пока ни малейших причин сомневаться в преданности и любви Фойерхана.
Ну а если он вероломен и коварен и только прикидывается? Ведь он типичный бесстыдный лжец…
Она содрогнулась.
Кто-то звонит?
Приглушив радио, Сузанна прислушалась. Да, в самом деле. Наверное, что-то забыл — права или еще что… Откинув назад длинные волосы, Сузанна встала, надеясь, что по ней ничего не заметно, и по пути к дверям состроила пленительную улыбку — свою проверенную маску.
Но, распахнув дверь, окаменела и глупо спросила сорвавшимся голосом, сразу бледнея:
— Вы, герр Манхардт?
— Простите… — Манхардт казался смущенным.
— Ну вот сюрприз! — воскликнула она излишне бодро. — Как мило, что вы снова заглянули! Ведь прошло уже несколько дней… Время так быстро раны не лечит, но… — Она все говорила и говорила, чтобы преодолеть непонятную напряженность ситуации. Судя по всему, Манхардт явился не по делу. Она была уверена, что совершила идеальное убийство, а идеальное убийство раскрыть нельзя; это должно быть ясно и чиновнику вроде Манхардта. Остается тогда лишь вторая возможность: он ищет приключений. В прошлый раз он едва владел собой — от ее внимания это не ускользнуло.
— Надеюсь, не помешал? — заметил Манхардт.
— Ну это как посмотреть! — Она уклончиво усмехнулась. Мерзкий тип. В темно-синем костюме он напоминал громадную медузу, из тех, что каждый год портили ей удовольствие от купания в Северном море.
— Можно войти?
— Я как раз занята.
— Но фрау Томашевская!.. — Он делано рассмеялся. — Ведь вы сами предлагали заглядывать, когда я окажусь поблизости. Слово нужно держать!
— Лучше бы как-нибудь в другой раз. Поймите, я…
— Я не хотел бы лишний раз приглашать вас в управление.
Она похолодела.
— Что происходит? Вы собираетесь меня допрашивать?
— Нет, просто побеседовать… В деле вашего мужа возникло еще несколько вопросов.
— Именно сейчас?
— К сожалению, да.
— Тогда прошу, входите.
Сузанна проводила его в гостиную. Там еще ощущался запах одеколона Фойерхана; она только надеялась, что он ничего не забыл. То, что они встречаются, ничего не доказывает, но все-таки… Не нужно слишком возбуждать фантазию некоторых людей.
Они сели друг напротив друга в низкие кресла, напоминавшие формой раковины. Сузанна прекрасно видела, каким взглядом Манхардт скользит по ее бедрам. Ее даже озноб пробрал — взгляд у него, как паучьи лапки. «Если он придумал служебную надобность, чтобы ко мне приставать, я ему покажу! — подумала она. — Какой закомплексованный сухарь! Чиновник душой и телом, жену небось именует только мамочкой, а потом на Каудамме разглядывает проституток, но никогда не наберется смелости с ними заговорить. И не отважится в ближайшей аптеке купить дюжину презервативов. Как Томашевский — точно как Томашевский».
— Ну… — Манхардт потер подбородок. — Мне очень жаль, что приходится… Не поймите меня неправильно, я был бы счастлив, окажись неправ. Но это мой долг. Да, если я прав, то да. Но пока оставим это! — Он собрался. — Все это лишь гипотеза, понимаете, каждый из нас временами что-нибудь выдумывает… — Он рассмеялся. — Каждый сам себе Мегрэ.
Его поведение ее смущало и беспокоило. Если минуту назад она просто ждала непристойных предложений, то теперь по его нервозной серьезности решила, что ее ждет беспощадный допрос. «Ну и что, — мысленно успокаивала она себя. — Ну и что? Пожалуйста! Меня никто ни в чем не сможет уличить!»
— Полагаю, вы собирались мне задать лишь несколько вопросов?
— Вопросов? Ах да! Конечно, разумеется. — Манхардт встал и подошел к распахнутому окну. — От этих самолетов столько шума…
— Ко всему привыкаешь… — «Что за комичная фигура? — подумала она. — Бегает, как в немом кино, как нищий садовник, который собирается просить у миллионера руку его дочери».
— Но я уже подыскиваю новую квартиру.
— Надеюсь, нам не придется помогать вам… Она почувствовала, что бледнеет.
— Как это?
— Ладно, тянуть не будем! — Он оперся спиной о раму и, неуклюже ежась, продолжал: — Возникло вполне определенное подозрение.
— Что я помогала Томашевскому? — рассмеялась она, и тут же поняла, что громче, чем следовало. — Это просто абсурд!
— Нет, речь идет совсем о другом… Как я уже сказал, я ни в коем случае не принимаю эту точку зрения, но…
— Прошу, скажите, о чем, собственно, речь? — спросила она, хлопнув ладонью по подлокотнику кресла.
— Судя по всему, Томашевского убили. — Он говорил торопливо и громко, почти кричал.
Ей показалось, что прошло ужасно много времени, прежде чем она сумела понять смысл его слов. И почему-то ей привиделся оросительный канал, по которому вода из колодца лениво и нехотя течет на поля.
— А я-то тут при чем? — машинально спросила она. Потом поняла, что отреагировала довольно неосторожно, и, чтобы он не заметил, продолжала: — Как это… вначале выяснилось, что он бросился с лесов, так ведь? Вы сами мне это сказали. И, видит Бог, у него были для того причины!
— Да, вы правы. Но все говорит о том, что его с лесов столкнули.
Она закурила, оставив его реплику без комментариев. «Говори, говори, — подумала она, — ты ничего мне не докажешь, я начеку. Это было идеальное убийство, и таким оно останется!»
Манхардт явно пытался зайти с другого бока. Выудив в кармане старый билет тотализатора, скрутил его в комочек и лишь потом продолжил:
— Преступник нам уже известен. Это Гюнтер Фойерхан!
Она словно на пулю нарвалась. Только предельным усилием воли сдержала вопль, который сразу бы ее выдал. «Конец, — подумала она, — они добрались до меня!» Комната завертелась перед глазами, несколько секунд ей казалось, что она сидит на карусели. Сузанна вся вспотела, словно ее вдруг втолкнули в сауну. Нет, ей все это только снится, она сидит в театральном кресле и ее волнует спектакль… «Теперь мне нужно что-нибудь сказать… сказать… или все станет похоже на признание? Если остаться спокойной и сохранить ясность мысли, ничего не случится, этот идиот только блефует».
— Фойерхан? — Она пронзительно расхохоталась. — Но он же… Он был заперт у Томашевского! — Она едва сдержалась, чтобы не сказать: все время.
Манхардт кивнул.
— Это верно. Был, по крайней мере некоторое время. «Какой мерзавец! — подумала она. — Теперь он отомстит. Теперь он меня мысленно изнасилует. Видит, как я страдаю, и оттого испытывает такое наслаждение, словно лежит на мне».
— Не понимаю, что вы хотите сказать.
— Вы навестили Фойерхана и дали ему ключи, так что он мог выйти из подвала и убить Томашевского.
Она вскочила, накинулась на комиссара и схватила его за лацканы пиджака.
— Вы что, с ума сошли? Это… Это безумие! Я буду на вас жаловаться! Да я вас уничтожу! И постараюсь, чтобы вы сами угодили в яму, которую мне роете. Вы недооцениваете мои возможности! Требую немедленно взять назад ваше утверждение и извиниться! Это… Это чудовищно! Неслыханно! Я буду говорить с вашим начальством! — Все это она выдала на одном дыхании, ей казалось, что вся квартира вокруг нее вот-вот взорвется. Осколки свистели у виска, кратеры разверзлись. — Вы садист, вы… — И тут ее покинули силы, она покачнулась и упала в кресло.
«Это только сон, страшный сон. Сейчас я проснусь. Захочу — и проснусь!»
Манхардт прошел рядом, но она его не заметила, словно он испарился, исчез в прихожей. Как призрак… «Ну вот! Его тут и не было; все только галлюцинации». Она подняла голову.
Манхардт вернулся с коньяком. Она хлопнула его залпом. «Нужно сосредоточиться, — вертелось у нее в голове. — Нужно быть твердой и хладнокровно его поставить на место».
— Мне очень жаль, — сказал Манхардт. Она попыталась насмешливо улыбнуться.
— Знаю, вы ведь только выполняете свой долг!
— Знали бы вы, что во мне творится…
Третьеразрядный комедиант!
— Боже, как трагично! — Она поморщилась. — Теперь вы, конечно, заявите, что хотите со мной переспать, да?
Манхардт отошел к окну. На несколько секунд он перешел к обороне, как боксер, которого опасный противник загнал в угол ринга.
— Фрау Томашевская! Сузанна! Прошу вас…
Она перестала владеть собой. Она его ненавидит и должна уничтожить, уничтожить, если хочет выжить сама. Нужно жертвовать! Тяжело дыша, она быстро распустила молнию на черной юбке и дала ей соскользнуть.
— Так иди сюда, если смелости хватит!
Манхардт мутным взглядом окинул ее и выбежал из комнаты.
Она вдруг сломалась, обессиленно осела на диван, и ей вдруг померещилось, что кто-то считает вслух. «Как при наркозе, — подумала она. — Как при наркозе…» Пролежала так час, минуту, секунду? Чувство времени она утратила. Кто-то постучал в двери. Кто? Манхардт? Фойерхан? Ветер? Она вообще дома или нет?
Услышав шаги и голоса, она вскочила, натянула юбку и села в кресло, словно ничего не случилось. Выпала из роли — к черту! На Манхардта это должно было произвести впечатление признания. Вела себя как проститутка, как безумная… Если бы ей удалось соблазнить Манхардта, он был бы у нее в руках. А так… Конец. Теперь ей остался единственный шанс: сохранять спокойствие и хладнокровие, все отрицать и отвергнуть обвинения Манхардта логическими аргументами. Сукин сын Манхардт!
Словно в перевернутый бинокль она увидела Манхардта, входящего в комнату в сопровождении — как там его звали? — Коха. Да, Коха. Этот, несомненно, еще тупее своего шефа.
Манхардт избегал смотреть ей в лицо. Как же он сумел перед ней устоять? Она не понимала. Ведь у него прямо на лице написано было, что она предложила исполнить его самое сокровенное желание! Значит, он до смерти боится сам себя, иначе не притащил бы с собой Коха… Едва ли он посмел даже заикнуться о том, что тут произошло. По лицу Коха ничего такого заметно не было.
— Лучше, если при нашем разговоре будет присутствовать коллега, — стесненным голосом произнес Манхардт. — Не возражаете?
— Разумеется. Если вы сами не справитесь… Будьте добры, садитесь! Могу я вам что-нибудь предложить? — Она уже полностью владела собой, сама себе удивляясь.
— Благодарим… — Манхардт сел и вытащил смятый листок с заметками. — Полагаю, для начала следует сообщить вам, что мне удалось установить. Буду очень рад, если вы это опровергнете.
Она приняла его официальный тон.
— Ну конечно, герр комиссар. — «Как часто в камере я буду вспоминать эту сцену, — подумала она. — Глупости! Глупости! Он ничего не может доказать. Ничегошеньки!»
Манхардт помялся, потом тихо, едва не нараспев, начал:
— Вы ненавидели своего мужа, были убеждены, что он виновен в смерти сына, он унижал вас, загубил вашу… гм… карьеру. — Машинально он взмахнул рукой, словно прося прощения или подвергая сомнению собственные слова. — Так говорят ваши знакомые, соседи, так говорят его приятели. По его… наброскам вы знали, что муж планирует налет на банк, чтобы добыть денег, чтобы сохранить фирму…
«Чтобы, чтобы, — зло подумала она. — Говорить и то не умеет как следует». А сама громко и с нажимом сказала:
— Это неправда. Я не имела об этом ни малейшего понятия. Я уважаю ваши дедуктивные способности, но…
— На папке, в которой Томашевский хранил наброски, мы нашли ваши отпечатки.
Она усмехнулась.
— Во времена нашего супружества в папке мы держали все страховые полисы, правда, не знаю, о той ли папке вы говорите. Спросите фрау Пошман или нашего поверенного. И разумеется, я часто… Ну конечно, отпирала и запирала эту папку. — «Один — ноль в мою пользу, — подумала она. — И если это у тебя все, бледно ты будешь выглядеть». Ее так и тянуло спорить с ним и разбивать его аргументы своими контрдоводами. Теперь ей это не казалось допросом, скорее академической дискуссией.
— Ах так? — Манхардт только кивнул.
— Кроме того, я понятия не имела, что он вообще сделал какие-то наброски.
— Это не имеет значения… Продолжим! — Манхардт улыбнулся Коху. — В набросках он точно приводил время нападения.
«Идиот, — подумала она. — На это я не попадусь. В набросках Томашевского ничего подобного не было; на двух листках он просто набросал место действия и ближайшие окрестности. Но возражать Манхардту нельзя».
— Другими словами, вы могли догадаться, когда он им полнит свой план. Так что вы встретились с Фойерханом м подговорили его в нужный момент появиться в Гермсдорфе и дать себя похитить, а тогда…
— Но это же абсурд! Будь все так, как вы утверждаете, мы были бы порядочными идиотами! Слишком большой риск: кто поручился бы, что Томашевский его — то есть Фойерхана — не застрелит?
Вмешался Кох.
— Но вы же знали его характер. Знали, что он трус, нерно?
— А кто хладнокровно застрелил в банке кассира? Кох молчал.
— С Гюнтером Фойерханом я встретилась, когда вы его освободили из подвала. Клянусь! Больше десяти лет я его нообще не видела. Если найдете хотя бы одного свидетеля наших встреч, можете получить Большой федеральный крест за заслуги.
— Ну хорошо… — Манхардт на миг задумался. Он явно был взволнован, поскольку сгрыз ногти на своем правом указательном, даже кровь потекла. — Значит, потом вы прочитали в газетах про налет на банк, а поскольку знали наброски Томашевского, легко соединили все вместе. В отсутствие Томашевского съездили в Фронау и заключили с Фойерханом союз.
«Черт возьми, — подумала она, — он только злее стал».
— Полагаете, я могу проходить сквозь стены?
— Нет. Мы поговорили с фрау Пошман. Одну связку ключей хранит она, другая была у Томашевского. Все сходится. Но мы люди любопытные. И прочесали все мастерские по изготовлению ключей. Так представьте себе: в Вильмсдорфе есть мастерская, где относительно недавно изготовили ключи для Томашевского! Есть ситуации, когда счет лучше не требовать, остается фамилия на копии.
— Какая фамилия?
— Говорю же вам, Томашевского!
— Сузанна Томашевская?
— Гм… нет. Просто Томашевский. Но у вашего мужа ключи и так были…
— Перестаньте! Откуда мне знать, для чего моему мужу понадобились ключи! Или для кого — для какой шлюхи… — «Нет, он неглуп, но у него нет ничего конкретного. Одни гипотезы и неуверенные версии. Их никогда не хватит для ареста».
Манхардт сменил тему.
— Но остается фактом, что когда-то вы были весьма близки с герром Фойерханом, верно?
— Верно. Но за эти годы немало воды утекло, пожалуй, я об этом уже говорила. Только потому, что вы пришли вдвоем, мне теперь все повторять дважды? — «Нужно выманить его из засады».
— Почему бы и нет? — неуверенно улыбнулся он. — Лучше дважды, чем ни разу!
— Но все это выеденного яйца не стоит!
— Вы так думаете? Вернемся к ключам. Наши специалисты утверждают, что решетки и стальную дверь в подвале последний раз отпирали скорее всего изнутри. Можете вы это объяснить?
— Разумеется! — вырвалось у нее. — Черт! Ничего подобного просто не могло быть! Томашевский проверял замки, прежде чем отвести, Фойерхана в подвал.
Манхардт ухмыльнулся.
— Как же до ограбления банка он мог знать, что встретится с Фойерханом?
Она растерялась. Секунды шли. Стояла тишина. Тикали только большие напольные часы. «Как на экзамене, — подумала она, — когда профессор смотрит на тебя и ждет ответа».
— Ну… — наконец протянула она, — вероятно, он запер Фойерхана куда-нибудь, пока там все не приготовил… Или держал его на мушке, пока не проверил замки.
— Это смешно! Какой это имело смысл? Между прочим, где сейчас Фойерхан?
— Понятия не имею.
— Да? Ну ладно. Продолжим.
Теперь Манхардт показался ей куда уверенней в себе, просто раздувшимся от самоуверенности. Он полистал затрепанный блокнот.
Она закурила и долго смотрела на пламя зажигалки. «Еще один минус не в мою пользу начинает понемногу прорисовываться». Отметила она это совершенно трезво, но ее это никак не коснулось. Пока еще она не видела никаких возможных последствий.
— Вот! — Манхардт наконец нашел нужную страницу. — Полагаю, что решающий день прошел примерно так — поправьте меня, если я ошибусь в деталях. Вы покидаете свою квартиру, едете через весь город во Фронау на своей машине и оставляете ее поблизости на Бенедиктинштрассе…
«Меня тут вообще нет, — подумала она. — Это вообще не я. Я стою на балконе и смотрю в квартиру, где сидит женщина, похожая на меня. Это было идеальное убийство, и дураку вроде Манхардта никогда его не раскрыть. Я только думаю, что происходит эта сцена. Воображаю допрос. Манхардт — лишь кукла, за ниточки которой я дергаю и вкладываю слова в его уста, чтобы убедиться, что могу чувствовать себя в полной безопасности».
— Вы незаметно проникли в дом и в подвале сговорились с герром Фойерханом. Вам удалось добиться своего. Потом вы дали ему ключи от машины и, разумеется, ключи от нужных дверей в доме. Покидая виллу, вы едва не столкнулись со своим мужем…
«Господи, он что, ясновидящий? Нет, невозможно, чтобы он все знал. Все это только разговоры, он хочет меня уничтожить, унизить, раз не может мною овладеть. Словами совершает то, на что неспособен телом: насилует меня. Но для меня все это не будет иметь никаких последствий. Мне нужно выдержать, и только».
— Но вам в последнюю минуту удалось скрыться — вероятно, через спальню и террасу. Потом вы поехали на метро — скорее всего на метро, поскольку там поменьше народу, но это не имеет значения — и разыскали своего адвоката. Это старый поверенный вашей семьи, канцелярия у него дома и прийти к нему можно в любую минуту. Прекрасное алиби на момент убийства! Ну а потом явились ко мне.
— Оба последних пункта сходятся, но и только! — воскликнула она.
— Просто гениальная мысль, — кивнул Манхардт. — Изумительный план: в качестве убийцы использовать человека, о котором всем на свете известно, что он похищен и заперт!
— Вы сами не верите тому, что говорите! Спросите людей — моих знакомых, — какого они обо мне мнения. И вы услышите: безвредная, чувствительная, ранимая, артистическая натура…
Ее охватила жалость к самой себе. Как она все это могла затеять? Ее натуре это чуждо, это не по ней. Это должен был сделать кто-то другой, какая-то интриганка, просто чудовище, но не она, Сузанна Томашевская… А против нее устроен настоящий заговор. Ведь она ласковая, очаровательная, приветливая, нежная, добросердечная, готовая помочь. Как ее можно обвинять в убийстве? Она сразу почувствовала себя усталой, до смерти усталой. Ей захотелось спать, только спать, прислониться к чьему-нибудь теплому телу и погрузиться в сон…
— Если вы сознаетесь, всю процедуру можно сократить, — хрипло бросил Манхардт.
— Мне не в чем сознаваться! — закричала она. — Уйдите наконец и оставьте меня в покое!
Манхардт сейчас воплощал для нее все человеческое зло, насильника, про которых она читала, видела в кино и по телевидению. Прототип грубого унизителя женщин. Он был ей отвратителен, она его боялась, едва не кричала от страха. То, что он делал с ней словами, гораздо хуже, чем если бы он мучил и насиловал.
— Короче, — резко оборвал ее Манхардт. — Вскоре после смертельного падения вашего мужа весьма надежный свидетель видел Фойерхана неподалеку оттуда.
— Кто?
— Ну… Это мы можем вам сказать: герр Паннике.
— Этот? Да старик рехнулся! Хочет отомстить за то, что я его не сделала управляющим! И кроме того, он близорукий!
— Может быть. — Манхардт усмехнулся. — Но как я сказал, фрау Томашевская, мы лишь проверяем несколько гипотез. Должны их проверить. Но… Поймите… У вас пока еще есть шанс, речь не о том, что вы…
В ней вдруг проснулась надежда. Это только игра, личный поединок между ними, ничего официального!
— Ваш муж погиб около 19.30, это точно, а примерно в 20.15 ваш автомобиль, кроваво-красный «опель-кадет» с номером B-ZT 3467 на набережной Курта Шумахера угодил под радарный контроль и был сфотографирован. За рулем был мужчина; по фигуре, форме головы и одежде — герр Фойерхан, спешивший с места преступления, чтобы успеть вернуться под замок, прежде чем прибудем мы. Шел он под сотню…
«Идиот! — подумала она. — Вот мы и влипли. Вероятно, он потерял немало времени, пытаясь избавиться от пистолета, который так и не понадобился…»
«Мне нужно что-то сказать, — промелькнуло у нее в голове. — Мне нужно защищаться, ведь молчание означает конец».
— Я могу поклясться, что машину украли. И я в расстройстве чувств забыла сообщить об этом. Войдите в мое положение! Предположим, ваша жена ограбила бы банк и застрелила одного из сотрудников — хотела бы я видеть, как вы отреагируете! Я была в смятении, совершенно убита, просто растерялась. Ведь мне пришлось выдать Томашевского… Могла ли я еще думать про какую-то там машину? Каждый день можно купить несколько новых. И кроме того, утром она была на месте!
— Конечно, какой-нибудь подросток взял ее покататься с девушкой, а потом поставил на место, — насмешливо заметил Манхардт.
— Понимаю, звучит это глупо, но иначе объяснить я не могу.
— А как в вашей машине оказались отпечатки пальцев Фойерхана?
— В последнее время он ею не раз пользовался.
— Ну хорошо. Но как в нее попала грязь со стройки?
— Герр Фойерхан бывает на стройке ежедневно, ведь он сейчас руководит фирмой ГТ.
— Это уж точно!
— Разве это преступление? Он опытный коммерсант. И молод. И энергичен.
— Вот именно! Может быть, все и так. Но как грязь того же сорта попала в подвал Томашевского? Точнее, в камеру герра Фойерхана?
На этот раз она отреагировала моментально.
— Очень просто: ее нанес туда сам Томашевский. Ведь он несколько раз за день навещал Фойерхана.
— И забирался за решетку?
— Ну, туда грязь могли натащить ваши эксперты и все те же репортеры!
Сузанна заметила, что этот довод обоим полицейским не понравился. Наконец-то она набирает очки. Она подобралась: еще есть надежда, что партия закончится патом.
Манхардт стал ее поучать:
— Даже человеческий волос может сказать гораздо больше, чем вы думаете. Люди из наших лабораторий могут совершенно точно определить, с которой части тела этот волос, принадлежит он мужчине или женщине, вырван он или выпал сам… и так далее и тому подобное. В моем кабинете вы обронили несколько волос, случайно они упали на мою папку для бумаг. Несколько волосинок вы потеряли, убегая от мужа, когда вылезали через окно спальни. Мы их нашли в кустах…
— Вы забываете, что я когда-то каждый день работала в саду.
— А вы забыли, сколько времени прошло с тех пор… Кроме того, мы нашли и волокна вашего костюма. Полагаю, вы не работали в саду в выходном костюме?
— Но герр Манхардт, что за намеки?
— Намеки? Ну-ну… Во всяком случае, этого достаточно, чтобы мы вас арестовали и вы предстали перед судом.
Арестовали! Вот оно! Это ударило ее, не как разряд электротока, а как помалу нарастающая уверенность, что проглочен яд и через час наступит смерть. Она увидела вдруг серую степь, откуда на нее накинулась гадюка и укусила, и уже ясно, что для нее спасенья нет. Конец, конец, все кончено… Напрасно она жила, напрасно боролась… Конец, омут… Она погружалась все глубже и глубже, мир расплывался в размазанных красках, остались только тени вещей и слов. Пожизненное заключение. Тридцать лет. «И выйду я оттуда старухой, помилованной за хорошее поведение.
О смерти я мечтаю, о Господь милосердный! Пью ее в воде и глотаю в хлебе. И тоска моя безмерна. Нет, это же было идеальное убийство! Никто мне ничего не может доказать — все это просто ошибка! Я еще просто маленькая девочка, которая ходит в школу; отец им все объяснит, я ни в чем не виновата, поверьте… Томашевский? Томашевский был убийцей. И вообще он не погиб. Это тоже ошибка — он просто спрятался, чтобы отправить меня на эшафот. Будьте внимательны! Он где-то прячется и посмеивается в кулак. Вместо него убили кого-то другого. А он себе живет. Должен жить! Вот в чем правда!»
Прошло, видимо, всего несколько секунд. Она услышала свой собственный голос:
— Могу я собрать вещи?
— Если хотите…
«Он не идет за мной, — мелькнуло у нее в голове. — Любит меня и дает мне еще один шанс…»
Действовала она как во сне: все происходило автоматически, словно она все это давно запрограммировала: вначале медленно вышла из комнаты, совсем нормально, потом стремительно кинулась в коридор, захлопнула за собой дверь и повернула ключ, оставив его в замке… Схватила красную сумочку. В той была тысяча марок. Накануне она ходила в банк и ничего потом не покупала. В ней же лежали удостоверение и права. В маленьком ящичке под зеркалом — перстень с брильянтом, она захватила и его.
Манхардт ломился в дверь.
— Не делайте глупостей, фрау Томашевская!
«Нет, быстро с дверью им не справиться. Прочное дерево, добротная немецкая работа».
Она выскочила из дому, сбежала по лестнице, метнулась через улицу, трясущимися руками открыла машину, рванула с места и помчалась по Куфштайнштрассе. «Баденштрассе, густое движение без светофоров, — черт, придется тормозить. Они уже дышат в затылок! Синяя мигалка и сирена. Это худо… Неужели выломали дверь? Просвет — теперь вперед! «Порше»… Господи, нет! Нет, ей повезло. Этот идиот… Водитель из меня никакой, но придется справиться. Нужно от них избавиться. Потом переведу дух.
Федеральная аллея. На светофоре зеленый… Ну вот: кому Господь, тому и все святые… На юг? А куда? Берлин — одна большая западня. Свинство! Будь это в Кёльне или Мюнхене! Так куда же? В аэропорт? Поздно. Кроме того, там проверяют документы. Драилинден? Нет, не годится; они оповестят таможенников или даже пограничников. Станция «Зоо»? Черт его знает, когда будет следующий поезд. Господи, так куда же? Восемьдесят… девяносто… сто… За мной погонятся все патрульные машины, все будут гнать меня… Свернуть на Вексештрассе? Ладно. Кто может мне помочь? Никто… Фойерхан, Гюнтер. Он вне опасности. Понятия не имею, где живет Айлерс. Иностранный легион? Женщин в него не принимают. Податься в наложницы к нефтяному шейху или в бордель в Рио? Корова! Нет, впрочем, не корова. Все же лучше, чем тридцать лет заключения. Но где найти кого-нибудь, кто взял бы меня с собой? Быть может, в кабаке на Бюльринге? Если им пообещать себя, возьмут и спрячут. Ведь у меня хватает денег — за тысячу марок сделают все, что угодно. Или возле Зоо: иорданцы, турки, персы, итальянцы — любой меня спрячет, если я ему дам. Иначе не получится.
Только не попасть в руки Манхардта! Этого мне не вынести. Он гонится за мной, как дикий зверь за самкой, у которой течка. Да, я превратилась в самку с течкой, вот и все. Блиссенштрассе… Куда: налево, направо, прямо? Направо — к Фербеллину. Или лучше на восток? Но не знаю, что им там я могла бы предложить. Шпионаж? Агенты им нужны везде. Все лучше, чем в постели с турком… Все это мерзость! Золото дней наших тихо уплыло… Черт, тысяча чертей! Хочу назад, туда, где это началось! Ничего не случится, ведь ничего же еще не случилось… Но они все приближаются. Быстрее, нажми, еще быстрее! Там, впереди — стройка. Убавить газ. Не сходи с ума! Тогда он точно меня достанет! Манхардт… Ручаюсь, что…»
14. Комиссар Манхардт
Они спускались по мариендорфской набережной, бесконечной с виду улице, ровной, словно проложенной по линейке. Манхардт сжимал руль, как ребенок, ищущий опоры на страшных аттракционах. Он был устал и напряжен, и псякая мелочь раздражала его. Фары встречных машин вызывали в его распаленном мозгу взрывы красок. Надо бы наглушить мотор, послать все к черту и спать, спать, спать… Или читать «Любимые, суженые». С книгой у него дела не продвигались: именно любовь и судьба не давали покоя. Миновали ипподром в Мариендорфе.
— Я был тут в воскресенье, — заметил Кох. — Проиграл двадцать марок; может, хоть в любви везет, Скачками не интересуешься?
— Нет.
— Жаль, что в Берлине только бега…
— Да уж…
Но Кох не отставал.
— Меня всегда ужасно забавляет чтение программок: у лошадей такие клички, я тебе скажу! Кокетка, Дочь Евы, Толстушка, Крошечка, Комар… А одной лошади дали имя Урна… Урна, представляешь? Здорово! — Он помолчал и начал снова: — Вот и Бирнхорнштрассе, нам нужен светлый дом напротив… Здесь, стой!
— Ну да! — Манхардт притормозил и подал машину к тротуару, зацепив его правым передним колесом.
Они вышли и побрели к трехэтажной новостройке.
— Прекрасный вечер, — не унимался Кох. — Брать по марке с каждой парочки, что сейчас ловит кайф, мог бы взять месяц отпуска за свой счет. На Таити.
Хотя время шло к одиннадцати, температура все еще не снизилась до приемлемых восемнадцати градусов и они нещадно потели. Манхардт подумал о Лили, которая ждет его дома на террасе. Да, ей не позавидуешь. Заметит ли она, что у него совесть нечиста?
В квартире слева были распахнуты двери на балкон, из них неслась музыка и громкие голоса. Они остановились, чтобы немного сориентироваться.
— У Айлерса неплохо разгулялись, — заметил Кох. — Ну, тридцать лет бывает только раз…
Взобравшись на несколько оставшихся бетонных блоков, они заглянули внутрь. Человек десять сидели пестрой кучкой у длинного стола. На нем стояли бокалы, бутылки с вином, блюда с соленым печеньем, арахисом и солеными орешками. У мужчин рукава были завернуты, воротники расстегнуты и галстуки распущены. Женщины, большей частью молодые и такие эффектные, что у Коха дыхание сперло, сражались за батарейный вентилятор. Шустрый молодой мужчина, вероятно сам Айлерс, непрерывно щелкал фотоаппаратом с электронной вспышкой. Потом встала пожилая дама, похоже, его мать, и начала что-то читать по листку бумаги, наверное, поздравление в стихах.
— Видите Фойерхана? — спросил Кох. — Я — нет. Манхардт привстал на цыпочки.
— Я тоже.
— Но не мог же он что-то пронюхать…
— Нет, вряд ли.
Теперь все выпили за здоровье Айлерса и хором запели: «Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров!» Тут сразу появился Фойерхан.
— Видно, отлучился отлить, — заметил Кох.
Все как по команде опорожнили бокалы с коньяком и настроение стало еще непринужденнее. Айлерс все пытался отодвинуть стол к стене и освободить место для танцев, но Фойерхан тем временем пустил на проигрывателе что-то народное. Все обхватили друг друга за плечи и принялись раскачиваться в такт.
Жил когда-то гусар смелый, Любил девушку год целый, Целый год ее любил И совсем лишился сил.Ясно слышался голос Фойерхана. Именно он выбрал столь скабрезную песенку. Смех, визг, писк…
Манхардт уставился на пеструю картину, словно взятую со сцены маленького театра. Веселые самоуверенные люди; умилительная сценка, вакханалия по-мещански. А он должен ворваться в эту квартиру, этот маленький мир и ни с того ни с сего вызвать у людей страх и разочарование. Если Фойерхана заберут с собой, остальные сразу станут чувствовать себя как на поминках. Ему показалось это столь жестоким, словно выстрел из картечницы по утке и ее пушистым малышам.
— Идем? — спросил Кох. — Пока корни здесь не пустили. Манхардт кивнул. Что еще ему оставалось? Бывает и хуже.
Мог бы стать военным. А так хоть убивать не приходится. Внутри как раз завели песню о прекрасном Вестервальде.
— Где поют, там не убивают, — ухмыльнулся Кох. — Злые люди петь не станут.
— Пошли уже!
У дверей они в свете пыльной лампы изучили таблички у звонков. Наконец нашли фамилию Айлерса. Когда Манхардт нажал кнопку, гул внутри стих, потом раздались возгласы с догадками. Женский голос завопил:
— Почтальон! Телеграмма от Хайнемана[8] — ты получил Федеральный крест за заслуги!
Фойерхан воскликнул:
— Наверняка любовница! Хочет наконец получить от тебя алименты. Вот-вот, двадцать минут удовольствия, а потом всю жизнь расплачиваешься.
Айлерс застонал:
— Глупости, это соседи. Минутку! Пожилая дама воскликнула:
— Сделай из них котлету!
Потом загудел замок, и Кох толкнул дверь. Айлерс ждал их на лестнице.
— Добрый вечер, — приветствовал его Манхардт. — Простите, мы хотели бы поговорить с герром Фойерханом. Криминальная полиция.
Айлерс несколько секунд непонимающе взирал на него, явно сочтя все шуткой. Но повнимательнее посмотрев в лицо Манхардта и увидев значок, извлеченный Кохом, сразу все понял и молниеносно протрезвел. Повернувшись, он крикнул в квартиру:
— Гюнтер, поди сюда!
Когда Фойерхан пятью ступенями ниже себя увидел обоих сотрудников, он ни на миг не потерял самообладания. Допил бокал на высокой ножке, потом решительным движением поставил его на тумбочку в прихожей. Пальцы его даже не дрогнули. Но Манхардту показалось, что в последний миг он подавил желание крепко выругаться и хрястнуть бокал об пол.
— Мы должны попросить вас следовать с нами в управление, — произнес Манхардт сухо и монотонно, как диктор новостей.
— Я арестован?
— Пока только задержан.
— Господи, что происходит? — воскликнул Айлерс, и остальные гости ринулись из гостиной в прихожую.
— Ничего, — отмахнулся Фойерхан. — Подайте мне пиджак… Спасибо. — Он оделся и поправил галстук. Потом минуты две перевязывал узел.
Манхардт ему не мешал. Никто не произнес ни слова, все только с любопытством смотрели на него.
— Явная ошибка! — рассмеялся Фойерхан и стал причесываться. — Скоро я вернусь. Пока!
— Что, собственно, случилось, о чем речь? — спросил его Айлерс.
— Понятия не имею.
— Еще раз приношу вам извинения, герр Айлерс, — повторил Манхардт. — Мне очень жаль, но иначе нельзя. До свидания!
Они вышли на улицу, Фойерхана зажали между собой. Он кивнул приятелям на балконе. Манхардту стало не по себе, и он втолкнул его в машину. Сам сел к Фойерхану на заднее сиденье, Кох разместился впереди.
— Как вы меня нашли? — спросил Фойерхан.
— Ваша мать сказала, куда вы собирались.
Кох развернул машину и поехал на север, в сторону Темпельхофа и Шонеберга.
Фойерхан закурил. Он явно наслаждался своей ролью и чувствовал себя героем дня. Держался спокойно и даже надменно, словно не замечая своих сопровождающих. Нет, он конечно понимал, что Манхардта его поведение раздражает, но как будто ему было это безразлично.
Манхардт действительно не понимал причин такого поведения.
— Вы даже не спросили, Почему мы вас задержали, — не выдержал он.
— Нет, — равнодушно отмахнулся Фойерхан. — Если хотите мне это сообщить, пожалуйста.
— У нас есть признание фрау Томашевской!
— И еще у вас буйная фантазия!
— Но она…
— Ей не в чем сознаваться!
— Мы знаем все, в моих рассуждениях нет пробелов ни в едином звене.
— Очень сомневаюсь. Могу я с ней поговорить, или наша встреча для вас слишком обременительна?
Звучало это так язвительно, что Манхардт сурово выдал ему правду, глядя прямо в глаза:
— Она в больнице Вильмсдорфа, в морге. Ужасно изуродована.
Фойерхан обернулся и уставился на него, но надменная ухмылка медленно стала исчезать с его лица.
— Да, здорово не повезло, — наконец протянул он, и Манхардт в его голосе не ощутил ни капли жалости. — Знаю, вы считаете меня бесчувственным. Может, я еще и расплачусь, но не тут, такого удовольствия я вам не доставлю. Ведь вы знаете… Скажите сами, разве стоит пролить по Сузи хоть единую слезу?
Манхардт сделал официальную мину.
— Вопросы тут задаю я.
— Но вы могли бы мне сказать, как это случилось.
— Она сбежала. Мы ее преследовали. На Фербеллинштрассе, возле стройки, влетела в автокран. И погибла на месте.
— Она это сделала умышленно?
— Откуда нам знать? Реконструировать ничего не удалось, так что мог быть и просто несчастный случай.
— Бедняжка Сузи!
Манхардт никак не мог объяснить себе реакцию Фойерхана. Он так владеет собой или просто настолько холоден и циничен?
Мимо мелькали таблички с названиями улиц. Вот они проскочили под мостом электрички, напоминавшим виадук.
Сузанна… Сузи… Его смерть ее потрясла куда больше, чем Фойерхана. Может, стоит и позавидовать. Завидовать? Ведь он убил Томашевского и впереди у него пожизненное заключение. И что его ждет, если душа так ожесточилась?
Они видели, как Сузанна врезалась в желтый автокран. Не заметила, что дорога проходит через стройку? Не справилась с управлением на большой скорости? Или искала быстрой смерти?
А виноват в этом только он. Не вмешайся он, сейчас она лежала бы на постели в облаке тонких духов и мечтала о светлом будущем. Конечно, убийца, но прекрасная женщина, которой можно простить что угодно, ведь она сделала лишь то, что сочла нужным. Он идиот. Вместо того, чтобы вмешиваться в ход событий и радоваться, что возникло новое гармоническое равновесие, нарушил все и двух людей вверг в цепь несчастий. Первый вариант всех устраивал: шеф радовался, что они выследили гермсдорфского убийцу и освободили Фойерхана. Газеты радовались вместе с Фойерханом и Сузанной и печатали статьи с заголовками вроде: ХЭППИ-ЭНД ДЛЯ ФОЙЕРХАНА. Сузанна добилась своего: отомстила и нашла свою большую любовь. И Фойерхан снял богатую жатву: деньги, любовь и успех.
Но он, мелкий криминальный чиновник Ханс Юрген Манхардт, бессонной ночью сконструировал невероятную историю, полную абсурдных допущений и недоказуемых предположений. Он так сильно мечтал о Сузи, что сразу проснулся и уже не мог уснуть. Что еще ему оставалось, кроме как отдаться во власть диких фантазий? Через несколько часов в кабинете после третьей таблетки он отчаянно пытался забыть про видения и догадки бессонной ночи — и напрасно. Против собственной воли стал присоединять звено к звену…
Они ехали мимо шонебергской ратуши. Люди на автобусной остановке явно принимали их за веселую мужскую компанию, которая подыскивает доступное по цене заведение со стриптизом.
— Вы хотите допросить меня еще сегодня? — спросил Фойерхан.
— Да.
— Тогда желаю как следует поразвлечься.
Манхардт откинулся назад. Эх, сейчас бы в отпуск, недели на три! Испания, Югославия, Акапулько… Сколько всего можно было бы испытать! А вместо этого каждый день все то же дерьмо. Но сам виноват, мог оставить их в покое. Чиновник должен выполнять свои обязанности, и больше ничего от него не требуется. Кроме него, никто бы нио чем не догадался. Никто не разоблачил бы игру Сузанны. Оставь он свои догадки при себе, мог бы сейчас лежать в постели, счастливый, как свинья в луже. Может быть, даже подвернулась бы когда-нибудь возможность пообщаться с Сузи… Нет, ему нужно было раструбить про свои открытия и устроить на нее охоту! Что его заставило? Жажда раскрыть сенсационное преступление и добиться повышения? Вполне возможно. Оскорбленное честолюбие? И оно гоже. Зависть Фойерхану? Возможно. И наверное, еще стремление избавиться от нестерпимого давления и уничтожить ту, которую любил…
Ах, глупости! Или… Не опасался ли он подсознательно, что она могла разрушить его упорядоченную жизнь? Не преследовал ли он ее для того, чтобы от нее спастись? Вполне возможно… Возможно, все это он сделал в отместку за то, что не смог ее завоевать? Ах, к черту с этими психоаналитическими глупостями! Свою роль, конечно, сыграла и примитивная ненависть мелкого чиновника к богатой женщине с положением в обществе… Но и он на всю жизнь проникся непреодолимой страстью к порядку и глубоким отвращением к преступникам и паразитам, от которых следует очистить здоровое тело общества. Тут ничего не изменят ни случайные приключения, ни анархистские видения. Все это не было только его виной. Ведь он принес присягу и обязался служить честно… Вот и теперь он только выполнял свой долг. И где бы мы оказались, начни оставлять убийц на воле!
И все-таки…
Ведь как легко он мог отправить все дело в корзину — вопреки всем соблазнам. Нет, он не должен был так подло поступать с Сузанной. Ведь, по сути дела, он ее обманул. Наброски Томашевского… Он никогда не держал в руках ничего подобного и лишь предполагал, что нечто подобное могло существовать. Он всегда блефовал, делая вид, что у него в руках все козыри… Удастся ли такой же тактикой сломить и Фойерхана?
Они уже сидели в кабинете, и Кох варил кофе покрепче. Фойерхан молча сидел у окна и ждал. Манхардт уселся за массивный письменный стол, что всегда добавляло ему авторитета. Кох с чашкой в руке прислонился к картотеке.
— Поведение фрау Томашевской можно однозначно толковать как признание, — начал Манхардт намеренно официальным тоном. — Полагаю, вы последуете ее примеру.
— Могу я хотя бы узнать, в чем вы меня обвиняете?
— Разумеется… — И Манхардт изложил свою версию, коротко, сжато и решительно. Ему казалось, что говорит не он, а слова звучат из репродуктора. Они казались ему знакомыми, и постепенно Манхардт понимал, что слово в слово говорил все это Сузанне.
Фойерхан уперся взглядом в шикарные черные туфли, которыми уже нанес грязи на зеленый линолеум.
— Вы как-то узнали, что Томашевский собирается на новостройку, — продолжал Манхардт, малюя на листке сложные переплетения железнодорожных путей. — Когда вы выбрались из подвала, вероятно, услышали, как он говорил с фрау Пошман. По крайней мере, она утверждает, что Томашевский с ней говорил. Поскольку старуха еще не ушла, вам пришлось Томашевского устранить вне дома — убить его на месте было невозможно. Это так?
Фойерхан усмехнулся и молча пожал плечами.
— Вы выскользнули из дому и отыскали машину фрау Томашевской. Она прекрасно все спланировала. Достаточно было сесть и добраться к новостройке на Фридрихштрассе, а там дождаться Томашевского. Потом на лесах все шло уже легко. Когда все закончилось, вы вернулись во Фронау, но слишком торопились, чтобы поспеть на виллу раньше нас — Су… фрау Томашевской и меня. Вы явно не рассчитывали, что все займет так много времени. Не повезло: на набережной Курта Шумахера вас засек радар… Долго вы ждали Томашевского?
— Ну, сотню мне выжимать не стоило, — мимоходом, почти небрежно заметил Фойерхан. — Но я хотел в районе моста Хинкельда бросить в воду пистолет.
— Пистолет? Какой еще пистолет?
— Пистолет, который дала мне Сузи!
— Дала вам… Но это не имеет никакого значения.
— Нет, имеет. И ваши подводники завтра его найдут.
— Конечно. Очень мило с вашей стороны об этом вспомнить, но… выстрел кто-нибудь мог услышать. Потому куда практичнее было сбросить Томашевского с лесов.
Фойерхан поднял глаза и решительно заявил:
— Мне не пришлось ни стрелять, ни сбрасывать его с лесов — он сам все сделал. Добровольно. Вообще не знал, что я был рядом.
Кох с Манхардтом вздрогнули, потом рассмеялись.
— Господи, вы нас за дураков считаете?
Манхардт заметил, что нарисовал виселицу. И усмехнулся.
— Должен признать, фантазия у вас богатая, герр Фойерхан! Но боюсь, никто вам не поверит и меньше всех — судья.
— Я совершенно точно знаю, что это не была первая его попытка самоубийства. И могу это доказать!
— Ну и что?
— У меня был пистолет, но я его не застрелил, ни когда он поднимался там по лестнице, ни когда шел по коридорам…
— Потому что удобнее было столкнуть его с лесов.
— Ну удобнее… Падающий вполне может прихватить вас с собой. Не знаю…
— Ага, так у вас была борьба?
— Глупости! — Фойерхан потянулся к чашке и влил в себя остаток остывшей темно-бурой жидкости. — Вы мне не поверите, но Томашевский написал прощальное письмо.
— Исключено. Мы бы его нашли… Единственное, что мы нашли, это следы ваших ног, герр Фойерхан, на тех лесах, где Томашевский стоял в последние секунды жизни.
— Это неправда. Я шел за ним лишь до окна. Манхардт отбросил ручку. На лесах им не удалось найти следов Манхардта. Томашевского тоже.
— Я был минимум в двух метрах от него. Стоял за выступом. Он спрыгнул вниз прямо у меня на глазах.
— Может, вы этому и верите, но только вы один.
Фойерхан начал сначала.
— Может, я бы это и сделал, не знаю. Но я этого не сделал! И даже не пытался!
— Но Сузанне вы сказали, что столкнули Томашевского с лесов. Или нет?
Манхардт этого не знал, но мог предполагать на основе имевшихся фактов.
— Сузанне? — Фойерхан бледно усмехнулся, но тут же стал серьезным. — Да, я ей это говорил, и не раз. Она сто раз просила меня повторить, как все было.
— Ага! И вы ей говорили, как спихнули Томашевского в бездну. Очень живописно описали. И как только что сами признались, рассказали, как это случилось!
— Глупости! — Фойерхан вспылил. — Вы бесстыдно искажаете мои слова! Я ей рассказывал лишь то, что она хотела слышать. Морочил голову и все выдумывал. Я ей просто лгал!
— Она была убеждена, что вы убили Томашевского, — вмешался Кох. — Иначе бы не пустилась бежать сломя голову. И не врезалась бы намеренно в автокран.
— Она предпочла умереть, потому что считала себя убийцей, — добавил Манхардт.
— Этого никто не докажет! — вскричал растерянный Фойерхан.
— А вы не можете доказать, что Томашевский прыгнул вниз добровольно!
— А вот и нет, могу! Я вам уже сказал, что Томашевский оставил прощальное письмо!
— Надо же! — Манхардт не дал застать себя врасплох. — Когда, смею спросить? Восстановите этот вечер! Вы слышите, как Томашевский говорит фрау Пошман, что хочет взглянуть на новостройку…
— Годится.
— Через забор покидаете виллу и спешите вперед, чтобы поджидать свою жертву…
— Да, чтобы дождаться Томашевского.
— А что, если бы он еще раз спустился в подвал?
— Но он туда не спустился, вот и все. Послушайте, все было вот как. Сузанна догадалась, что это дело рук Томашевского. Выпустила меня, но мне пришлось пообещать ей, что я его убью… А что бы вы сделали на моем месте? Сказали бы — нет, спасибо, пусть лучше он меня пристрелит? Да, я ей пообещал. Хотел выбраться оттуда. Должны же вы это понять! Не знаю, смог бы я это сделать; скорее нет. У меня для этого духу бы не хватило. Но Сузи меня выпустила; мы вместе поднялись наверх, и когда еще стояли в коридоре, вернулся Томашевский. Сузи метнулась в спальню, а я как дурак помчался в подвал. И снова очутился в западне. Потом пришла еще и фрау Пошман. Но я не растерялся. Осторожно приоткрыл двери подвала и стал следить, что происходит. Они разговаривали, я понимал не все, но слышал, что он собрался на новостройку. Потом я вышел через гостиную и террасу в сад. Мне повезло — никто меня не заметил. — Фойерхан говорил, от спешки глотая слова, потом перевел дух.
— Гм… Ну ладно. Пусть даже так. У вас было достаточно причин его убить. Ведь он собирался устранить вас. Играл с вами как кошка с мышью, терзал, вас и мучил…
— Да, еще ночью собирался меня застрелить.
— Значит, у вас были основания вести себя агрессивно. Кроме того, фрау Томашевская пообещала передать вам руководство фирмой, вероятно, и деньги тоже… и ночи с ней…
— Да, пообещала. Но деньги я от нее, между прочим, не взял.
— Как благородно… Но в этом не было нужды. Имея в своем распоряжении фирму…
— Да! — крикнул Фойерхан. — Да, да, да… Но я его не убивал!
— Это мы уже слышали. Но продолжим! Вы покинули виллу, Пошман и Томашевский остались внутри. Значит, именно тогда он должен был написать прощальное письмо.
— Это вы в свое время узнаете. А пока что вы хотите доказать мне, что он вообще не мог написать его — вот и вся ваша тактика! Но он его написал!
— Но вы-то этого не видели — во всяком случае не могли видеть; когда там еще оставалась фрау Пошман, вас уже не было!
— Нет, разумеется, я этого не видел! Но позже обнаружил это письмо на его письменном столе. Мне пришлось еще раз зайти на виллу, только чтобы его найти! Можно было предположить, что оно существует, ведь большинство самоубийц оставляет письма. В карманах его не было — я успел просмотреть их и едва не попался Паннике. Мне же приходилось считаться с тем, что Сузанна может проиграть, и тогда письмо приобретало для меня цену золота. И теперь я вижу, что был прав.
— Говорите, письмо лежало на его письменном столе… — Манхардт испытывал нестерпимое желание уничтожить Фойерхана. Ладони у него вспотели и пришлось их вытереть о брюки. Потом снова принялся за свое. — Если письмо оставалось на столе, фрау Пошман должна была его увидеть раньше вас…
— Значит, она ушла раньше Томашевского, сразу после меня. Я ждал Томи не меньше получаса. Спросите Паннике, он меня наверняка в это время видел.
Манхардт кивнул Коху.
— Посмотри в последних протоколах!
Кох исчез в соседней комнате. Оба молчали. У Манхардта безумно разболелась голова. Он отгонял все мысли и идеи, все эмоции. С него достаточно! Он чувствовал, что силы его исчерпаны. Его уже ничто не интересовало: пусть будет, что будет. Что ему до того, окажется Фойерхан за решеткой или будет разгуливать на свободе? Какое ему вообще дело до Фойерхана?
— Вот оно! — Кох вернулся в кабинет с распахнутым скоросшивателем. — Она ушла из дому раньше Томашевского, примерно на четверть часа раньше…
— Достаточно, чтобы написать письмо! — воскликнул Фойерхан.
— Так где оно, черт побери? — Манхардт ударил кулаком по столу. — Давайте наконец его сюда!
— Если вы его уничтожите, мне конец, — тихо сказал Фойерхан, обращаясь только к Манхардту. — Знаю, что вы меня ненавидите. Сузанна мне все рассказала…
— Молчать! — Манхардт повернулся к Коху. — Пойди найди кого-нибудь, хоть телефонистку, мне нужны свидетели… Приведи кого угодно! — «Господи, когда же это кончится! Я больше не выдержу! Сердце, желудок… стучит в ушах. Давление… Первый инфаркт…» Он встал и отошел к умывальнику. Штанины прилипали к бедрам, он шел как на раздутых парусах. «Боже, как же мне нехорошо!» Сердце билось неровно, его охватывал панический страх. На миг закрыл глаза, и вроде полегчало.
Кох привел двух парней и одну женщину, они остались стоять в дверях. Манхардт вернулся за письменный стол, чтобы продолжить допрос.
— Спасибо, — сказал Фойерхан. Потом достал коричневый бумажник, положил на стол и вывернул подкладкой наружу. — Я должен был иметь уверенность… Тут нечто вроде тайника… Вот!
На свет появился сложенный листок добротной бумаги. Манхардт схватил его… Характерный почерк: неверные линии, вялые росчерки, строчки спадают справа. Большинство букв как-то странно выписаны, особенно П. Тут и там слова сливаются… Манхардт читал, Кох заглядывал ему через плечо.
Х. И. ТОМАШЕВСКИЙ, ФРОНАУ 24 ИЮЛЯ Милая фрау Пошман!
Когда вы завтра утром найдете это краткое письмо, прошу вас срочно известить полицию. В подвале они обнаружат герра Фойерхана. Позавчера вечером в Гермсдорфе я вынужден был заставить его уйти со мной. Скажите, что я об этом сожалею. Через посредство моего адвоката доктора Андерсона прошу устроить так, чтобы ему после ликвидации моего состояния, вложенного в фирму, выплатили 20 000 (двадцать тысяч) дойчмарок. А также матери сотрудника банка, которого я убил в состоянии аффекта, фрау Ханнелоре Ваххольц. Пусть в Вранденбургский земельный банк вернут захваченную мной сумму.
Прошу считать это моей последней волей. Я добровольно решил покинуть этот мир. Я убил порядочного человека и тем лишился права жить среди людей. Я в безнадежной ситуации, поскольку, чтобы замести следы своего преступления, должен буду застрелить своего приятеля Гюнтера Фойерхана. А я на это неспособен. А даже если бы и смог, его труп тут же укажет на меня. Но я не хладнокровный бандит. И знаю, что криминальная полиция рано или поздно меня выследит. Меня ждут долгие годы в заключении. Так лучше уж я сам покончу счеты, с жизнью. Мысль броситься с лесов новостройки нашей фирмы пришла мне в голову в тот день, когда меня оставила жена. Но тогда я не нашел в себе сил, сегодня же решился.
Скажите Сузанне, что я прощаю ей все, что она со мной сделала. Она сделал из меня то, что я есть, так что пусть свою вину искупает сама. Благодарю вас, фрау Пошман, за многолетнюю преданность. Вам завещаю свою обширную коллекцию почтовых марок. Заканчиваю. Надеюсь, люди меня простят.
Ханс Иоахим Томашевский.
— Немного вычурно, — заметил Кох, когда Манхардт дочитал. — Но тонко стилизовано под человека в шоке… Обратный фальсификат, да?
Манхардт пожал плечами.
— Ну что? — не вытерпел Фойерхан. — Что вы теперь скажете?
— Наши эксперты завтра проверят его достоверность, — устало отмахнулся Манхардт.
— Оно подлинное!
Манхардт смахнул со стола чашку и хватил ее о картотеку. Та разлетелась на мелкие кусочки. Потом ногой отшвырнул к стене корзину для бумаг.
Фойерхан только ухмылялся.
Примечания
1
Номер полиции. (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)2
Игра слов: по-немецки Кох — повар.
(обратно)3
Равносильно двойке по российской системе.
(обратно)4
Аналог передачи «Человек и закон».
(обратно)5
Кто слишком спешит, позже справляется с делом (лат.).
(обратно)6
Найденыш неизвестного происхождения, ставший символом примитивного человека.
(обратно)7
О чем думаешь? (франц.)
(обратно)8
Президент ФРГ в 1970-е годы.
(обратно)





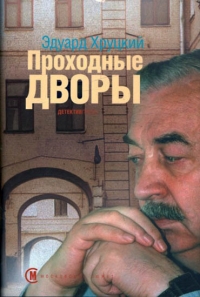

Комментарии к книге «Для убийства нужны двое», Хорст Бозецкий
Всего 0 комментариев