Юлиан Семенов Горение
Книга вторая
1
Билет на варшавский поезд в вагон первого класса передал Савинкову член боевой организации социалистов-революционеров «Адмирал» в Москве, на конспиративной квартире, в доме при церкви святого Николая, на Пыжах, в Пятницкой части.
Проснулся Савинков за два часа до прибытия поезда в варшавский «двожец глувны», спросил у проводника рюмку водки, икры и сказал подогреть калач так, чтобы хрустел. Когда проводник накрыл на столике, Савинков дал ему золотой и предупредил, что водки, видимо, выпьет еще
— всю дорогу бил озноб, и не оттого, что простудился, а в ожидании дела, ради которого ехал на родину, туда, где прошли детство и юность.
Последние месяцы были тяжелы, невыразимо тяжелы. Партия была накануне раскола, полиция начала — через своего сотрудника Татарова, которого и ехал убить Савинков, — провокацию против совести эсеров, создателя боевой организации Евно Фишелевича Азефа, обвиняя его в сотрудничестве с Департаментом полиции. Савинков боготворил Азефа, считая его подвижником революционной идеи, ему была сладостна манера Евно: ленивая всевластность, щедрость, фатализм. Тут же вспомнил свою недавнюю стычку с Азефом: они тогда жили в Гельсингфорсе, готовили террор против московского генерал-губернатора Дубасова. Бомбы собирали Валентина Попова и Рашель Лурье. Попова ждала ребенка. Савинков был против того, чтобы она ехала в Москву.
— Вздор, мой дорогой, сущий вздор, — лениво растягивая гласные, ответил Азеф. — Какое тебе дело — брюхата или нет? Она взяла на себя ответственность, вступила в боевую организацию — надо пить чашу до дна.
— Мы отвечаем не только за нее, — возразил тогда Савинков, — она деталь операции, мы ставим под угрозу дело. Она в особом положении, она не может до конца контролировать себя. Мы не вправе быть жестокими к своим…
— Сантименты, — отрезал Азеф. — Не играй рыцаря — мы делаем кровавое дело, сообща делаем кровавое дело во имя той женщины в белом, имя которой революция…
Савинков порой возмущался Азефом, но по прошествии минут или часов убеждался в суровой его правоте: коли уж начал — иди до конца, отбросив привычные нормы морали, испепелив себя всепозволенностью, приняв бремя вандальской, устрашающей жестокости.
На съезде партии, который собрался в Иматре, в гостинице «Туристен», принадлежавшей «симпатику» Уго Серениусу, Азеф был подавлен, мрачен, грозился уйти из террора, если партия всем своим коллективным авторитетом не очистит его имя от возмутительного подозрения в связях с охранкою.
Савинков трижды говорил с членами ЦК Черновым, Натансоном и Ракитниковым — те санкционировали полную свободу действий, не дожидаясь даже возвращения из-за границы члена ЦК Баха, который закупал партию химикатов для бомбистов. Все полагали, что уход Азефа из террора невозможен, особенно на этом этапе.
Савинков, посещая митинги, с юмором слушал социал-демократов, которые говорили о необходимости вооруженного восстания, о разъяснительной работе в войсках, о том, что террор — отжившая форма борьбы, которая в нынешних условиях куда как более выгодна царизму, пугающему массы «злодейством» революционеров. Савинков не считал нужным заниматься вопросами подготовки восстания; «толпа бессильна: быдло, лишенное организации и единой воли; именно террор — та форма, которая не может не породить всеобщий страх, а страх самопожирающ».
Азеф настаивал, чтобы Савинков тем не менее вошел в сношения с социал-демократами.
— Я не хочу говорить с математиками от революции, — отвечал Савинков. — Они верят в слово, я — в бомбу.
— Ты член партии, мой помощник по террору, я удивлен, что ты смеешь обсуждать приказ ЦК, — протянул Азеф. — Партия, ЦК, я — мы должны знать все обо всех, чтобы выступить в решающий момент, отдавая себе отчет в том, кто есть кто, будь то кадеты или эсдеки. Важно, за кем пойдут.
— Евно, ты ставишь меня в трудное положение, — ответил тогда Савинков, — я не могу не подчиниться решению ЦК. И твой приказ для меня абсолютен. Но неужели ты серьезно думаешь, что толпа может что-либо? Декабрь на Пресне — это же крах утопий о вооруженном народе! Пятьсот мастеровых с наганами понастроили баррикад и возомнили себя парижскими коммунарами…
Азеф пожал плечами:
— Если бы наши товарищи из путиловской организации смогли взорвать железнодорожный мост и семеновцы остались в Питере, я не знаю, как бы Дубасов удержал Москву, Борис… Кто предал наших путиловцев? Вот что меня мучит… Какое падение, какая страшная грязь — отдавать товарищей палачам…
… Отдал охранке путиловцев-эсеров он, Азеф. Положение было критическим, в департаменте сказали: «Пусть взорвут любого генерала, но эшелон семеновцев должен пройти в Москву, Евгений Филиппович» («Фишелевичем» в нос не тыкали, щадили). Азеф потребовал за эту отдачу три тысячи рублей: «Слишком рискованно, всем известно, что подготовительную работу вел я, придется оплачивать комбинацию». (Комбинация-то была вздорной: дал своим приказ, обговорил время, снабдил динамитом, поцеловал исполнителей, пообещал, что революция запишет их имена на скрижали, потом поехал в отдельный кабинет ресторана «Метрополь», что держал постоянно, позвонил дежурному ротмистру по железнодорожной жандармерии, бабьим голосом сообщил, что на двадцать седьмом километре бомбисты станут взрывать путь и валить мост в двадцать два по нулям. Немедленно был отправлен конный отряд. Исполнители чудом избежали ареста. Проскочили семеновцы, залили Пресню кровью.)
На съезде в Иматре Азеф потребовал полной, исчерпывающей определенности:
— Надо утвердить стратегию партии раз и навсегда… Мне надоело брать на себя всю ответственность. Конспирация или легальность? Террор или агитация? Пусть решит ЦК.
Анненский и Пешехонов выступили с декларацией:
— Сейчас необходимо выступление открытой политической партии. Мы опаздываем, мы отдаем инициативу социал-демократам. Созидательная работа по плечу массе, лишь разрушительным акциям террора угодны конспираторские группы. Кто погрязнет в кружковщине, тот обречен на отставание от революции: хотим мы того или нет, но следует признать правоту большевистской фракции эсдеков в этом вопросе.
Их поддержал Мякотин:
— Мы оказались без связей с массой, мы ничего не знали о настроениях заводских накануне всеобщей стачки, мы были в стороне от декабрьского восстания на Пресне. Партия не имеет права угадывать настроение людей, она обязана настроение знать. Только опираясь на массы, мы можем стать партией общегосударственной, сейчас мы келейные революционеры.
Азеф начал издевательски громко аплодировать, выкрикивая:
— Спасибо, Мякотин, большое спасибо за оценку нашей борьбы!
На трибуну поднялся бледный от волнения Виктор Чернов:
— Мы работаем во имя будущего, именно поэтому мы живем в условиях конспирации и кружка, где двое знают третьего — не более того! Вы киваете на большевиков! Прекрасный пример: на кого сейчас обрушились репрессии царизма? На Ленина в первую очередь! И он снова будет вынужден увести своих сторонников в подполье! Выступавшие товарищи ходили вокруг и около основного вопроса, но поставить его отчего-то не решились — это вопрос о терроре! Можем ли мы отказаться от террора и выйти из подполья? Нет. Не можем. Что мы напишем в нашей партийной программе? Создавать две партии? Одну тайную, другую легальную? Значит, раскол? Вы говорите: «Будущее за массой». Да, верно! Но к этому будущему надо идти сквозь ущелье, под огнем врага! Строем ущелье не пройдешь — только перебежками, только мелкими группами, только надежно замаскировавшись!
Натансон внес резолюцию:
— Мы стремимся к выходу на арену широкой политической борьбы, но сегодняшний момент тем не менее не позволяет нам этого, поэтому партия и впредь должна строиться на основах конспирации: главным орудием нашей борьбы по-прежнему будет террор.
Мякотин и Пешехонов возражали.
Савинков тогда сказал Азефу:
— Мы на грани раскола. Только открытая агитация может дать искомый результат — массовость; только заговор может обеспечить тягу масс к общественному взрыву. Этот замкнутый круг нерасторжим, Евно, мы обречены на раскол.
— Ну и что? — Азеф зевнул, почесал грудь, расстегнув перламутровую пуговицу на тугой, голландского полотна рубахе. — Чего ты боишься? Слюнтяи хотят говорить, а мы, боевая организация, верим в террор, и только в террор, ибо испуганный враг готов пойти на уступки, лишь бы мы смягчили накал борьбы. Слова не испугаются так, как испугаются бомбы, упакованной в коробку из-под конфект. Ты что, серьезно веришь в вооруженное восстание?
— Нет, ты же знаешь мою точку зрения.
— Так разве мы можем отвлекать силы от террора? Разве можем мы распыляться? Мы должны держать боевую организацию в кулаке, мы не вправе расходовать наши резервы на утопии от революции…
Пешехонов, Мякотин и Анненский вышли из партии. Прошла резолюция Чернова и Натансона. Главной задачей партии был утвержден террор, надежды на вооруженное восстание признали нереальными, агитацию в массе недейственной. Точка зрения Азефа победила, хотя он не выступил ни разу — за него говорили другие. Савинков при голосовании воздержался: голосовал лишь единожды — во время выборов ЦК. Азеф прошел единогласно. Против Савинкова было подано семь голосов, утвердили кандидатом, на случай замены, если будет арестован один из руководителей. Более всего боялись за Азефа — «грозу царизма».
На ужине, который устроили члены новоизбранного ЦК, было условлено, что казнь провокатора охранки Татарова, который осмелился клеветать на Азефа, проведет лично Савинков.
Назавтра Савинков уехал беседовать с членами группы активного террора — Федором Назаровым, Абрамом Гоцем, «Адмиралом», Марией Беневской и Моисеенко.
Вопрос, который Савинков задавал боевикам, был одним и тем же:
— Отчего идете в террор?
Мария Аркадьевна Беневская, дочь полковника генерального штаба, приблизила свое красивое, мягкое лицо к узким, льдистым глазам Савинкова:
— Борис Викторович, неужели не помните: «Кто хочет душу свою спасти — погубит ее, а кто погубит душу свою ради Меня — тот спасет ее». Христос о душе страдал — не о жизни, которая суетна…
— Но вы увидите, как разбрызгивается на кровавые огрызки тело человека, в которого брошена бомба, Машенька, вас обдаст дымом, и на лице вашем будут теплые куски мяса, — ищуще заглядывая в глаза Беневской, продолжал Савинков. — Готовы ли вы к тому, чтобы ощутить губами сытный запах чужой крови?
Беневская долго молчала, глядя сквозь Савинкова, потом сделалась белой, закрыла лицо квадратными маленькими ладонями, прошептала:
— Не жизнь погубить страшно, Борис Викторович, душу… Это же Он говорил, Он — не я.
… Федор Назаров смотрел на Савинкова немигающими, прозрачными глазами и отвечал как-то механически, однотонно:
— Народ — это толпа, а коли так, незачем нам обманываться по поводу ее качества. Я видел, как сегодня людишки шли под красным флагом, а завтра — пойдут под трехцветным, а лицами — и те и другие — похожи, и одеждой одинаковы… Словесами играем, Борис Викторович, играем словесами: «униженные, оскорбленные, голодные». Кто смел, тот и съел. Я лишен чувства христианской жалостливости, я не Марья Аркадьевна… Я ненавижу сильных, которые власть держат…
— Но это ж анархизм, Федор.
— Ну и что?
— Мы партия социалистов-революционеров, у нас своя программа.
— Наша программа — бомба. У анархистов — кинжал. Что, велика разница?
Савинков понимал, что Назаров не сознает ни идеи партии, ни ее конечных задач, но был убежден: Федор пойдет на все, выполнит любой приказ, не раздумывая, без колебаний, а попадет в тюрьму — слова не скажет, ибо ненависть, клокотавшая в нем, была испепеляющей, слепой.
— Вы отчего пришли в нашу организацию, Федор? Почему именно в нашу, а не иную, не к максималистам, например?
— Не знаю. Меня не интересовало, к кому идти, Борис Викторович. Я не мог не бороться против тех, кто ездит в каретах… — Но я тоже езжу в каретах.
Федор как-то странно мотнул головой:
— Конспирация…
Вдруг он улыбнулся, и Савинков испугался этой его внезапной, быстрой, по-детски растерянной улыбки. Потом понял: заиграла музыкальная машина, матчиш какой-то бравурный заиграла, и Назаров доверчиво обрадовался этой тайне. Они сидели тогда в тихом ресторанчике «Волна», что в Каретном ряду, пили пиво, опадавшее льняной пеной по высоким, пузырчатым кружкам, и ждали ростовских раков. Федор надолго замолкал, внезапно прерывал молчание, продолжал свое: «Всех — бомбой! Нет на свете правды, счастья нет — одна юдоль, грех, скотинство. Человек терпелив от рождения, слаб, труслив, дела бежит. Кто-то должен подталкивать людишек, будоражить их, дражнить».
… Когда беседы с участниками группы были проведены, план разработан, Савинков вернулся в Финляндию. Азеф был хмур, чесался почти непрерывно, смотрел тускло, много пил.
— Я устал, Борис. Я больше не могу. Я отойду от террора. Все вздор. Все наши акты ни к чему не приводят, а я не могу работать впустую, тем более когда…
Он не договорил — Савинков все понял и так: товарища угнетала гадкая клевета Татарова.
— Евно, без тебя нет боевой организации. Ты наша совесть, ты создал самое идею террора. Если ты отойдешь, все будет кончено… А в Варшаву я выезжаю послезавтра. Вернусь — мы должны казнить Дубасова и Витте, Евно, мы обязаны это сделать…
Федор Назаров отправился в Варшаву первым. Он нанял квартиру из трех комнат на имя супругов Кремер: по этим паспортам работали Беневская и Моисеенко. Следом за ним прибыли Калашников и Двойников — группа прикрытия. Ждали Савинкова. Встреча была назначена на сегодня, в ресторане Бокэ.
… Беневская потянулась к Савинкову — лицо осунулось, под глазами синяки, морщиночки залегли в уголках прекрасного — словно чайка сложила крылья — рта.
— Мы нашли Татарова, Борис Викторович, — сказала она, трудно разлепив губы. — Он живет у отца, протоиерея униатской церкви, возле Грибной, он очень высокого роста, с добрым лицом, постоянно щурится, будто солнце режет ему глаза… Кто он?
Савинков поманил официанта, заказал Беневской взбитых сливок с черносмородиновым муссом, себе и Моисеенко попросил турецкого кофе с бенедиктином, только после этого ответил:
— Татаров — провокатор охраны. Ему вынесен смертный приговор. Убить его должны вы.
— Я? — ужаснулась Беневская.
— Ты, — тихо ответил Савинков. — Именно ты.
— Но…
— Ты хочешь спросить меня, уверен ли я, что он провокатор?
— Да.
— Ты именно это хотела спросить?
— Да.
— Ты в этом убеждена?
— Да…
— Не надо лгать. Мне — можно, себе — нет резону. Ты же хотела спросить меня о другом, Мария. Ты хотела спросить: «А почему я? »
Беневская откинулась на спинку стула, провела своей квадратной ладонью по лицу.
— Вы правы.
— Вот видишь… А в том, что Татаров — провокатор, убеждены все члены ЦК. Ему приговор не я один вынес — ЦК… Казнить будем на квартире, где остановились вы. Скорее всего — удар ножом. В горло: это наверняка. Стрелять рискованно, в городе много солдат… Ты готова к тому, чтобы ударить человека, который постоянно щурится, будто солнце слепит ему глаза, острым, тонким ножом в то место шеи, где пульсирует синяя жилка артерии, Мария?
Моисеенко положил руку на плечо Беневской, посмотрел на Савинкова осуждающе.
— Ты не готова к этому, Мария, — словно ничего не заметив, продолжал Савинков. — И ты не готов, Моисеенко. Уезжайте в Москву и ждите там меня. Вы не готовы к террору по-настоящему: эта казнь должна прозвучать так, чтобы ужаснулась не только Варшава, — вся Россия обязана содрогнуться от ужаса перед нашей вседостигающей, беспощадной справедливостью.
2
«Ротмистра СУШКОВА сотрудник „НАГОВСКИЙ“ РАПОРТ ЧЕНСТОХОВСКИИ И СЕДЛЕЦКИЙ КОМИТЕТЫ СДКПиЛ ПРОВЕЛИ СВОИ ЗАСЕДАНИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СЕКРЕТАРЬ ГЛАВНОГО ПРАВЛЕНИЯ ПАРТИИ, РЕДАКТОР ЦО „ЧЕРВОНЫ ШТАНДАР“ ДЗЕРЖИНСКИЙ, В ПОДПОЛЬЕ — „ЮЗЕФ“ ДОМАНСКИЙ; ПРОШЛЫЕ КЛИЧКИ, ИЗВЕСТНЫЕ В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ ДО ЕГО ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО АРЕСТОВ,
— «ПЕРЕПЛЕТЧИК», «АСТРОНОМ». В ЗАСЕДАНИЯХ УЧАСТВОВАЛ ТАКЖЕ ЧЛЕН ГЛАВНОГО ПРАВЛЕНИЯ АДОЛЬФ ВАРШАВСКИЙ (ВАРСКИЙ). МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ДЗЕРЖИНСКОГО И ВАРШАВСКОГО, КОГДА ОНИ ПОСЕЩАЛИ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ ГОРОДА, УСТАНОВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ, ПОСКОЛЬКУ ДЗЕРЖИНСКИЙ — ПО СЛОВАМ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА — «МАСТЕР КОНСПИРАТОРСКОГО ДЕЛА». «НАГОВСКИЙ». «Ротмистра ТУРЧАНИНОВА сотрудник „МСТИТЕЛЬ“ ФЕЛИКС ДОМАНСКИЙ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ, ПО СЛУХАМ, ВЕДУЩИМ ПУБЛИЦИСТОМ ГАЗЕТЫ „ЧЕРВОНЫ ШТАНДАР“, ПОЗАВЧЕРА ПОСЕТИЛ ДОМБРОВСКИЙ БАССЕЙН, ГДЕ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПАРТИИ В КОПАЛЬНЕ „МАРИЯ“. НА РЕГЛАМЕНТЕ ДНЯ БЫЛ ВОПРОС ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ С РСДРП. ДОМАНСКИЙ ВЫСТУПАЕТ ЗА БЕЗУСЛОВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ С РУССКИМИ. „РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ, — ПО ЕГО СЛОВАМ, — ТАКЖЕ АКТИВНО ВЫСТУПАЕТ ЗА САМЫЙ ТЕСНЫЙ СОЮЗ С РУССКИМИ, ПОТОМУ ЧТО БРАТСТВО ДВУХ ПРОЛЕТАРСКИХ ОТРЯДОВ НЕПОБЕДИМО И ЗАСТАВИТ ТРЕПЕТАТЬ ЦАРСКИХ, — ПО ЕГО СЛОВАМ, — ПАЛАЧЕЙ“. ПОСКОЛЬКУ ДОМБРОВСКИЙ БАССЕЙН — ЧИСТО ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН И НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КУЛЬТУРНЫХ КЛАССОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ В ОСНОВНОМ НАЦИОНАЛЬНУЮ ДЕМОКРАТИЮ (ДМОВСКИЙ, ГРАФ ТЫШКЕВИЧ И ЛЮБОМИРСКИЙ), ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ С РУССКИМИ ВЫСТУПАЮТ ПОЧТИ ВСЕ ШАХТЕРЫ. „МСТИТЕЛЬ“. «Ротмистра СУШКОВА
Сотрудник «БЫСТРЫЙ» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДЗЕРЖИНСКИЙ И, ВОЗМОЖНО, БАРСКИЙ С ТАНЕЦКИМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ЛОДЗИНСКОГО КОМИТЕТА СДКПиЛ. ТЕМА — ОБЪЕДИНЕНИЕ С РСДРП. ДЗЕРЖИНСКИЙ, ВИДИМО, ПОЕДЕТ ТУДА ОДИН ИЛИ ЖЕ С ГРАШОВСКИМ (ВОЗМОЖНО — «КУШОВСКИМ»). ИЗ КОНСПИРАТИВНЫХ КВАРТИР, ИЗВЕСТНЫХ МНЕ В ЛОДЗИ, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДОМ АКУШЕРА УРАНЬСКОГО. «Полковника ПОПОВА сотрудник „ПРЫЩИК“ РАПОРТ СДКПиЛ ОБРАЩАЕТ СЕЙЧАС ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА РАБОТУ С РУССКИМИ СОЛДАТАМИ, РАСКВАРТИРОВАННЫМИ В ПРИВИСЛИНСКОМ КРАЕ. БОЛЬШИНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПРИХОДИТ ОТ РСДРП. ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОВЕЛ ТРИ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЛДАТСКИХ КОМИТЕТОВ В ПУЛАВАХ, РАДОМЕ И СЕДЛИЦЕ. НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ, ОСОБЕННО В ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ, ДЗЕРЖИНСКИЙ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРЕМ ВОПРОСАМ: АГРАРНЫЙ, ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ (ВЫСТУПАЕТ ЗА АКТИВНЫЙ БОЙКОТ), И ВОЗМОЖНЫЙ СОЮЗ С ДРУГИМИ ПАРТИЯМИ (КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТВЕРГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОАЛИЦИИ С КОНСТИТУЦИОННЫМИ ДЕМОКРАТАМИ ВО ГЛАВЕ С ПРОФЕССОРОМ П. МИЛЮКОВЫМ, ЧТО ДОПУСКАЮТ РУССКИЕ С. -ДЕМОКРАТЫ ПЛЕХАНОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ). РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО ДЗЕРЖИНСКИЙ, ДАБЫ УБЕДИТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ, КОТОРЫХ ОН САМ ЖЕ ПРИЗЫВАЕТ К ДИСКУССИЯМ И ОТКРЫТЫМ СПОРАМ, ПОДГОТОВИЛ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВКУ ПО ПОВОДУ ДВИЖЕНИЯ РУССКИХ ЛИБЕРАЛОВ. ПРОВОДИТ ЛИ ОН АНАЛОГИЮ С ДВИЖЕНИЕМ ПОЛЬСКОЙ „НАЦ. -ДЕМОКРАТ. “ ВО ГЛАВЕ С ДМОВСКИМ И ГРАФОМ ТЫШКЕВИЧЕМ, МНЕ НЕИЗВЕСТНО. ОДНАКО, ЗНАЯ МАНЕРУ ДЗЕРЖИНСКОГО, МОГУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ОН ПРОЕЦИРУЕТ РУССКИХ ЛИБЕРАЛОВ НА ПОЛЬСКИХ. ЗАВТРА ДЗЕРЖИНСКИЙ ВЫЕЗЖАЕТ УТРЕННИМ ПОЕЗДОМ В ЛОДЗЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ КУРЬЕРА ПАРТИИ КАЗИМЕЖА ГРУШОВСКОГО — ЮНОША ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, ВЫСОКОГО РОСТА, С ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ И РОДИНКОЮ НА ЛЕВОЙ ЩЕКЕ. ОЗНАЧЕННЫЙ КАЗИМЕЖ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В НАЛЕТЕ НА ШТАБ-ПУНКТ „СОЮЗА МИХАИЛА АРХАНГЕЛА“ НА ТАМКЕ, А ТАКЖЕ НА КВАРТИРУ „НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТОВ“, ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ В КРАЕ ПРАВОПОРЯДКА И ЗА РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДРУЖЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ. „ПРЫЩИК“ „ЛОДЗЬ РАЙОННАЯ ОХРАНА СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВЬТЕ ФИЛЕРСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДВОРЯНИНОМ ФЕЛИКСОМ ЭДМУНДОВЫМ РУФИНОВЫМ ДЗЕРЖИНСКИМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ „ЧЕРВОНЫ ШТАНДАР“ СЕКРЕТАРЕМ ЦК ПАРТИИ ВНЕШНИЙ ПОРТРЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАШЕМ ФИЛЕРСКИМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ РОСТА ВЫШЕ СРЕДНЕГО ГЛАЗА ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ МЯГКАЯ БОРОДА КЛИНОМ УСЫ А ЛЯ НАТУРЕЛЬ БЕЗ ФАСОНА ТЧК ВМЕСТЕ С НИМ СЛЕДУЕТ ПАРТКУРЬЕР КАЗИМЕЖ ГРУШОВСКИЙ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ РОСТА ВЫСОКОГО С ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ РОДИНКОЙ ЛЕВОЙ ЩЕКЕ ПРИБЫВАЮТ ВАРШАВСКИМ ПОЕЗДОМ 12.45 ТЧК ИНФОРМИРУЙТЕ ПОСТОЯННО ТЧК ПОЛКОВНИК ПОПОВ НАЧАЛЬНИК ВАРШАВСКОЙ ОХРАНЫ ТЧК“. „ВАРШАВА ПОЛКОВНИКУ ПОПОВУ ТЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ И ГРУШОВСКИЙ ВОШЛИ В СФЕРУ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 12.52 ПОД КЛИЧКАМИ „ГЛАЗ“ И „ЯЦЕК“ ТЧК „ГЛАЗ“ ПРОЯВИЛ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ И НЕ ВХОДЯ НИ С КЕМ В СОПРИКОСНОВЕНИЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК РАССТАЛСЯ НА ПЕРРОНЕ С „ЯЦЕКОМ“ ВЗЯЛ ПРОЛЕТКУ ПОД НУМЕРОМ „17“ ПОМЕНЯЛ ЕЕ В ЦЕНТРЕ НА ПРОЛЕТКУ ПОД НУМЕРОМ „95“ А ЗА СИМ ОТОРВАЛСЯ ОТ ФИЛЕРСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОХОДНЫЕ ДВОРЫ ТЧК „ЯЦЕК“ ВОШЕЛ В СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ИЗВЕСТНЫМ ОХРАНЕ ПАРТИЙЦЕМ НИКОНЕНКО ВМЕСТЕ С КОИМ ОТПРАВИЛСЯ НА КОНСПИРАТИВНУЮ КВАРТИРУ СДКПиЛ ПО АДРЕСУ ВСПУЛЬНА ПЯТЬ ТЧК ОТТУДА ОН ВЫШЕЛ В СОПРОВОЖДЕНИИ „ГРЫЖИ“ СОСТОЯЩЕГО СЕКРЕТНЫМ СОТРУДНИКОМ ОХРАНЫ И ПРИ ЭТОМ ЧЛЕНОМ КОМИТЕТА ПАРТИИ НА МАНУФАКТУРЕ ЗИЛЬБЕРА ТЧК НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГРУШОВСКИМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТЧК ПОРУЧИК РОЗИН ТЧК“. „ЛОДЗЬ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПОРУЧИКУ РОЗИНУ НЕМЕДЛЕННО ЗААРЕСТУЙТЕ ГРУШОВСКОГО ТЧК ПОЛКОВНИК ПОПОВ ТЧК“.
Лодзинский комитет социал-демократии Королевства Польского и Литвы должен был собраться на конспиративной квартире зубного врача Януша Вашинского.
Дзержинский приехал с дневным поездом («Прыщик» сообщал верно), в вагоне третьего класса, духота невероятная, поэтому глаза слезились, в груди то и дело закипал мокрый кашель. На людях кашлять совестился — боялся кровохарканья, это всегда вызывало эмоции окружающих, которые он не переносил: в общем сострадании есть нечто унижающее, жалость обязана быть скрытой, женственной, что ли, тогда только она не расслабляет, а, наоборот, помогает не сломаться, выжить.
Ехал вместе с Дзержинским его ученик, Казимеж Грушовский, юноша еще; сжимался, когда Дзержинский начинал синеть, сдерживая приступ кашля, советовал по-детски доверчиво:
— Юзеф, попробуйте глубоко вдохнуть носом, мама говорила, это останавливает самый тяжелый хрип.
Дзержинский покорно «вдыхал носом», силился улыбаться, представляя свое лицо со вздувшимися на висках жилами и запекшимися губами, и думал, что Адольф Варшавский был прав, когда отговаривал его ехать в Лодзь.
На перроне он с Грушовским расстался, попросил Казимежа побывать в трех кружках — у текстильщиков, металлистов и железнодорожников: товарищи только что провели забастовки, надо было получить материалы для «Червоного штандара» — Дзержинский просил редакцию задержать верстку второй полосы и оставить место для этой информации.
— Больше подробностей, — сказал Дзержинский, когда они вышли из вагона. — Нужны факты: занижение расценок, произвол администрации. Меньше общих слов. Я назову тебе адреса двух наших запасных явок, Казимеж: Пивна, шесть, спросить Збышка Лемеха, передать ему привет от Переплетчика, и вторая: Грушова, пять, третий этаж, передашь привет от Беса пану Зыгмунду. Тщательно проверься. Если будет хоть капля подозрения — не ходи. Коли подойдешь чисто, получи у товарищей материалы, спрячь как следует, при опасности выбрось, уничтожь, съешь
— все, что угодно, только это не должно попасть в чужие руки, Казимеж: я не хочу скрывать от тебя, ты получишь материалы Главного Правления партии, в высшей мере секретные, в них — жизнь многих товарищей. Теперь договоримся на будущее: если обнаружил слежку, понял, что оторваться не можешь, чувствуешь опасность, — уходи любыми путями, бегом, как угодно, только немедленно предупреждай всех остальных, особенно товарищей, работающих в типографии и на складах литературы. Все ясно?
— Все.
— Пароль запомнил?
— Да. Через два часа буду на явке, — ответил Казимеж.
— Не успеешь.
— А я бегом, — улыбнулся юноша, — я специально тренируюсь: курьер партии должен быть стремительным.
Дзержинский, замотав филеров, успел на явку вовремя, оглядел собравшихся, сразу же приступил к делу:
— Товарищи, программа нашего заседания обговорена заранее: объединение с русской социал-демократией. Главное правление партии решило провести собрания на заводах и в мастерских для разъяснения нашей позиции по этому вопросу.
Дзержинский обладал редкостным качеством — он умел сжато, но в то же время емко объяснять исторический процесс, он говорил о нем как о чем-то живом, постоянно меняющемся, материальном, поэтому слушали его всегда с интересом.
— Я начну отсчет событийности с «кровавого воскресенья», с января девятьсот пятого. Поднялась Москва, Варшава, Минск, Баку, Лодзь, Харьков, Рига, Ростов-на-Дону, вся страна очнулась, зашевелилась, а потом хлынула на улицы. Об этом, конечно,, в газетах не очень-то печатали, говорили сквозь зубы; бедные журналисты, работающие в легальной прессе, никогда еще так не были революционизированы — сам царь запрещал им сообщать новости, то есть выполнять их прямую работу. Манифестации и забастовки, гнев трудящихся, а не речи либеральных буржуа загнали царя в угол, доказали предметно, что по-старому жить более мы не намерены. Восемнадцатого февраля царь опубликовал свой манифест сенату и рескрипт министру Булыгину: «Я вознамерился отныне с божьей помощью привлекать достойнейших, доверием народа облеченных людей к участию в обсуждении законодательных предположений при незыблемости основных законов империи. Да благословит господь начинание мое и да поможет вам исполнить оное успешно на благо богом вверенного мне народа». После манифеста царя Булыгин издал свой указ, в коем предписывал жандармским службам: «Иметь секретное наблюдение за всеми обсуждениями, кем бы они ни проводились. Председательствующие на собраниях будут привлекаться к строжайшей ответственности, коли нарушат свои обязанности, позволив безбрежные словопрения». Следовательно, Булыгин не верил даже легальным председательствующим — земским лидерам, фабричным тузам, банковским воротилам, которые об одном лишь и думали: как бы поосторожней скорректировать власть, как бы ненадежнее поддержать самодержавие, как бы навести на него европейские румяна. Именно эти общественные силы организовались ныне в две партии — кадетскую, конституционно-демократическую и ту, которая ныне стала октябристской. Если к октябристам типа Гучкова и Шипова отношение большевиков и меньшевиков в общем-то однозначное — не по пути, союза, даже временного, быть не может, то по поводу кадетов Милюкова мнения разделились: Ленин считает, что они не могут быть союзниками рабочего класса и крестьянства — даже временными, в то время как Плеханов убежден, что союз с ними не только возможен — нужен.
После опубликования царского манифеста состоялись собрания профессуры, учителей, журналистов. Чего требовали кадетские собрания? Неприкосновенности личности, жилища, прямых, равных и тайных выборов в Государственную думу. И никто, заметьте себе, никто не ставил вопроса о социальном переделе общества. Речь шла о коррективах существующего всевластного вандализма. Когда же собрались врачи, члены Пироговского общества, и хотели говорить о борьбе с холерой, а разговор этот чреват, ибо он вскрывал бы гнилостность царизма, все его наплевательство на народ, московский градоначальник «соблаговолил съезд по борьбе с холерою запретить».
— А чем же врачи-то царю опасны, Юзеф? — спросил член комитета Збышек.
— Очень опасны. Если они открыто скажут, что в России самая высокая в мире смертность, если они открыто скажут, что у нас один медик приходится на сотню тысяч населения, — это же чистая антиправительственная пропаганда! Так же опасно для царя заявили себя агрономы и статистики — эти люди знают изнанку правды об экономическом положении страны: «Русское общество не может возлагать надежд на работающие ныне правительственные комиссии. В целях участия в проходящем ныне движении за политическое освобождение и экономические реформы следует организовать Союз агрономов и статистиков». Союзы врачей, агрономов, журналистов, инженеров, адвокатов, конторщиков организовали «Союз Союзов». В общем-то это фактор положительный. Однако заметьте: в «Союз Союзов» не вошла ни одна рабочая организация. Отчего? Да потому, что любой рабочий союз, заяви он себя открыто, оказался бы назавтра за решеткой!
Члены комитета видели, что Дзержинский плох; пунцовые — в начале его выступления — губы сделались серыми, сошел лихорадочный румянец, щеки стали землистыми, морщинистыми.
— Может, устроим перерыв? — спросил Стоковский. Дзержинский удивленно посмотрел на него:
— Ты устал?
И, не дожидаясь ответа, заговорил дальше:
— Рабочий класс продолжал борьбу, забастовки не кончились, наоборот, ширились. Крестьяне сжигали помещичьи усадьбы и забирали хлеб — наступало время сева. Революционный процесс уходил вглубь, начался зримый социальный раскол: либеральные земцы, помещики, выступавшие ранее с требованием реформ, старавшиеся урезонить тупую царскую бюрократию, теперь стали искать у бюрократии защиты, — хлеб-то забирает не бюрократ, а крестьянин! Заводчики, выступавшие ранее против ленивых и некомпетентных чиновников, которые мурыжили бумаги, подсчитали свои убытки, вызванные забастовками, и потребовали от власти поступка! Начался откат либералов от революционного процесса, откат, все более и более вырождавшийся в открытое предательство. Социальные интересы оказались несовместимыми!
Все бы покатилось еще более вправо, коли б не Цусимский разгром, забастовки рабочих, крестьянские бунты, баррикады. «Коалиционный» майский съезд земцев поэтому обратился к царю с примирительным, верноподданническим письмом. Игра в «оппозиционность» кончилась. Царь конечно же принял представителей конституционно-демократического и октябристского движения, — сами пришли на поклон. Гораздый до протокольных штучек, двор организовал прием не где-нибудь, а в фермерском дворце Петергофа, дав таким образом аграриям надежду на будущее, особо выделив русских помещиков. С чем же обратились кадеты? Вот что сказал князь Трубецкой: «Народ видит, что царь хочет добра, а делается зло, что царь указывает одно, а творится совершенно другое, что предначертания вашего величества урезываются и нередко проводятся в жизнь людьми, заведомо враждебными преобразованиям. Страшное слово „измена“ произнесено, и народ ищет изменников во всех: и в ваших советчиках, и в боевых генералах, и в нас, и во всех „господах“ вообще. Это чувство с разных сторон эксплуатируется. Одни натравливают народ на помещиков, другие — на образованные классы города. Ненависть усугубляется обидами и тяжкими экономическими условиями, а это — опасно, государь. Бюрократия существует во всяком государстве, и, осуждая ее, мы виним не отдельных лиц, а весь приказной строй. В обновленной России бюрократия должна занять подобающее ей место. Она не должна узурпировать ваших державных прав, она должна стать ответственной и деловой».
Дзержинский внимательно оглядел собравшихся.
— Комментировать нужно или смысл позиции Трубецкого ясен?
— Трубецкой тем не менее просил царя дать возможность обсуждать реформы не только на собраниях, но и в печати, Юзеф. Как ты относишься к этому? — спросил Ян, рабочий с суконной.
Дзержинский переломился над столом, потянулся к Яну вопрошающе:
— Что обсуждать?! Реформы? Ты верил в булыгинские реформы? Кто мог их обсуждать, когда в стране восемьдесят процентов населения неграмотно?! В печати? Цензура позволяла тебе высказывать свое мнение?! На собрании? Но тебя бы отправили в тюрьму, как отправили меня! Смысл выступления Трубецкого заключен в требовании своего куска от царского пирога! «Деловых людей пустите! » — вот их мечта! «Мы, деловые, твоя опора и надежда, государь! Мы только и можем самодержавие по-настоящему охранить!» Ну и что? Удовлетворил царь их маленькую мечту? Нет! Он унизил их молчанием. «Пришли, поняли, что я ваш защитник, ну и хватит, пора закрыть рот, а коли станет кто из ваших по-прежнему высказываться — будем наказывать». И ведь посадил некоторых, как нашаливших детишек посадил, и хоть камеры отвели с цветами, но тюрьма все же тюрьма! Подействовало. Примолкли окончательно. А рабочие не примолкли! Рабочие объявили октябрьскую стачку! Рабочие вышли на вооруженный бой в Москве и Лодзи! Рабочие взялись за оружие. И тогда царь был вынужден исправить Булыгина, был вынужден объявить октябрьский манифест, амнистию, свободу слова и собраний. Вот здесь-то кадеты и октябристы заликовали, зааплодировали царю, стали с ним в один ряд, против нас: «Побунтовали — и хватит, все, что можно было, мы получили! Не хотите царским милостивым добром
— будут стрелять, и вы сами окажетесь в этом повинны!»
Теперь озадачим себя вопросом: кто прав — Ленин или Плеханов — в своем отношении к кадетам? Могут ли быть кадеты союзниками? Кого поддерживать на четвертом съезде нашей делегации — большевиков или меньшевиков? Прошу высказываться.
— Будем голосовать, — поправил его Стоковский. — Вопрос ясен, Юзеф. Кто за то, чтобы наша делегация поддерживала большевистскую точку зрения, товарищи?
Семь — за, один — против, при двух воздержавшихся.
Вопросы об отношении к вооруженному восстанию и к Думе обсудить не пришлось — прибежала Халинка, с кондитерской: Казимеж Грушовский успел передать, что за ним неотступно топают филеры, и те две квартиры, которые он посетил, провалены. Просил сказать, что будет пробираться в Варшаву сам, чтобы немедленно предупредить товарищей. «Помощнику Министра Внутренних Дел по Д. П. г-ну Глазову Г. В. Многоуважаемый Глеб Витальевич! Спешу проинформировать Вас, как стародавнего патриота Варшавской охраны, о событиях в высшей мере примечательных. Агентура в последнее время сообщала о весьма тревожном факте: по утверждению „Прыщика“, „Наговского“ и „Абрамсона“ вопрос об объединении польской социал-демократической партии (Люксембург, Дзержинский-Доманский, Варшавский-Барский, Мархлевский) с РСДРП практически решен уже поляками в положительном смысле. Вы лучше меня знаете, что объединение это нанесло бы серьезный урон Власти в Привислинском крае, ибо престиж с. -д. партии весьма, к сожалению, вырос. Вхождение поляков в состав общерусской РСДРП, можно не сомневаться, вызовет ряд выступлений революционного элемента на заводах, ликвидировать которые возможно лишь с помощью армии. Поэтому нами было предпринято все возможное, дабы пресечь доставление в край каких бы то ни было пропагандистских материалов, связанных с этим вопросом. Благодаря активной работе мы смогли открыть две перевалочные базы литературы. Был произведен налет, во время которого были арестованы Франек Кухальский и Казимеж Грушовский, а Никифор Кузин убит при попытке вооруженного сопротивления. Захвачено девятнадцать тюков с литературой возмутительного содержания, подборки газеты „Червоны Штандар“ (главный редактор — секретарь Главы, правления СДКПиЛ Ф. Дзержинский-Доманский), „Пшеглонд социал-демократичны“, „Вперед“, „Новая жизнь“, брошюра Н. Ленина „Что делать? “. Франек Кухальский, по заключению Вашего протеже, ротмистра А. Е. Турчанинова, человек в партии случайный, к тому же после ареста перенес сильный психический шок и сейчас практически невменяем. Однако Казимеж Грушовский, согласно данным агентуры, считается в СДКПиЛ курьером „Юзефа“, Феликса Дзержинского-Доманского, посещал заседания кружков, которые вел этот наиболее популярный руководитель партии. Таким образом, мне представляется, что через Казимежа Грушовского можно будет подойти к Дзержинскому, являющемуся ныне главной пружиною в предстоящем объединении с РСДРП. Работа с ним ведется активная, и поскольку ему всего лишь 17 лет, можно надеяться на благоприятный ее исход и заарестование всей головки СДКПиЛ во главе с Ф. Дзержинским-Доманским. Осмелюсь высказать общее суждение, милостивый государь Глеб Витальевич: если мы сможем изолировать Ф. Дзержинского-Доманского, ведущего всю практическую работу в Царстве Польском, тогда следовало бы оказать благоприятствие умеренным партиям, таким, как „национальная демократия“, сходная с „конституционно-демократической“ г. Милюкова или „союзом 17 октября“ гг. Гучкова, Шипова и Николаева. При этом следовало бы всю противуреволюционную пропаганду сосредоточить на партии эсеров, имея в виду ее террористическую деятельность. Обыватель наш не силен в анализе различий между соц. -демократами и соц.
—революционерами и, бесспорно, проникнется ненавистью ко всему — так или иначе — связанному с термином «социализм». Я осмелился обратиться к Вам оттого, что г. генерал-губернатор полагает, что «нац.
—демократы», как и кадеты, все-таки представляют опасность Самодержавной Власти. Я не могу, не имею права сообщать ему о введенной мною в эту партию агентуре, которая поднялась сейчас к руководству Исполнительным комитетом, и просил бы Вас поддержать меня через Е. В. г-на Министра Вн. Дел, или г-на Э. И. Вуича. Просил бы Вашего любезного согласия на постоянное информирование по всем нашим делам, ибо Ваши советы, как человека, отдавшего так много сил на борьбу с крамолою в Привислинском крае, были бы для нас бесценной помощью. Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга И. Попов, начальник Варш. Охранного Отделения». «ВАРШАВСКАЯ ОХРАНА ЗПТ ПОЛКОВНИКУ ПОПОВУ СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ТЧК КОГДА ДЗЕРЖИНСКОМУ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ К НЕМУ ПРИМЕНЯЛОСЬ ОСОБОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЗПТ КОТОРОЕ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛО ТЧК ЕСЛИ КАЗИМЕЖ ГРУШОВСКИЙ ЕГО ЧЕЛОВЕК НЕ НАЧИНАЙТЕ ИГР ЗПТ ПРИМЕНЯЙТЕ КРАЙНЮЮ МЕРУ ЗПТ НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДОЛГИХ КОМБИНАЦИЙ ТИРЕ ВРЕМЯ БЕСПОЩАДНОЙ БОРЬБЫ НА УСТРАШЕНИЕ ТЧК ПОЛКОВНИК ГЛАЗОВ ЗПТ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ТЧК М ТЧК В ТЧК Д ТЧК». «Дорогие товарищи! Сам писать не могу, диктую товарищу. Наверное, больше мне вас не увидеть, поэтому хочу, чтобы вы знали о том, что мне пришлось здесь перенести. Когда меня брали, полицейские отбили почку и селезенку, изуродовали лицо: жандарм прижал мою голову сапогом к мостовой, и я сейчас почти не говорю — выбиты зубы и, наверное, вытек глаз. Врача не пускают, а из глаза каплет гной с кровью, и веко не поднимается, а если пытаюсь поднять, то голова мутнится и тошню сукровицей и желчью. Дорогие товарищи, они меня таскали на допросы и там били по больному глазу, и я падал обморочный, но они обливали меня водой и все время спрашивали: „где Дзержинский“. Я не сказал им ничего и поэтому умру спокойно. Они пугают меня: „Мы все равно узнаем и арестуем его, а в партии скажем, что это ты донес“. Я боюсь, что вы поверите им, решите, что сломился, не выдержал. Дорогой Юзеф, когда я умру, защити мое имя. Они узнали про то, что я вместе с тобой, Якубом и Красным участвовал в налете на „архангелов“, а потом громил бандитов из „национальной демократии“. Они знают про съезд русских и что ты туда едешь. Откуда они могут про это знать? Мне очень страшно умирать, но я лучше сам распоряжусь собой, чем доставлять им радость смотреть на мои мучения. Дорогие товарищи, мне страшно и больно, все время тошнит, но я не жалею, что так случилось, потому что лучше жить мало, но жить, чем тлеть долго. Отомстите за меня. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Казимеж Грушовский».
3
Казимеж Грушовский в страхе заглянул ему в лицо: Дзержинский близко увидел пустые глазницы, вывернутые сине-белые губы, запекшуюся кровь в ноздрях; юноша оказался вдруг страшно, по-животному сильным, вырвался, побежал к двери — замок начал скрипеть: пришли, сейчас поволокут на гласис, там виселица.
Дзержинский застонал, жалобно крикнул что-то несвязное…
— Феликс Эдмундович, Феликс Эдмундович, что с вами?
Дзержинский вскинулся с кресла, понял: был в забытьи, пока ждал ротмистра охранки Турчанинова на конспиративной квартире у Шиманьского.
Турчанинов стоял над ним бледный, нахохлившийся, в штатском костюме:
— Плохие сны?
Дзержинский потер лицо сухими, горячими ладонями, ощутил подушечками пальцев бегающую упругость глазных яблок под набрякшими от бессонницы веками, потянулся хрустко, пригласил Турчанинова садиться.
— Давно пришли, Андрей Егорович?
— Только что.
— Дверь сами открыли?
— Да.
— Ну, как с нашим делом?
— Плохо. — Турчанинов достал пачку «Краузо», размял папиросу, закурил, ахающе затянулся. — Франека Кухальского административно вышлют, он свернул с ума, не опасен теперь, но Казимеж…
— Виселица?
— Какая разница — петля или расстрел?
— Это точно?
— Суда не было… Тем не менее все предрешено… Министр Дурново требует, чтобы порядок был наведен в самые короткие сроки.
— Мы должны спасти Казимежа.
— Это сверх моих сил, Феликс Эдмундович. Мне было очень трудно с Франеком, я чудом провел ему высылку, а Казимеж не только ваш курьер: его дело вяжут с разгромом на Тамке и с перестрелкой на складе литературы — сие не прощается в нашем ведомстве.
— Казимежу восемнадцать, он несовершеннолетний, Андрей Егорович.
Турчанинов пожал плечами:
— Не довод. Северная столица требует устрашающих акций по отношению к левым группам.
— Ко всем?
— К социал-демократам. После декабрьского восстания выделяют большевистскую фракцию.
— Социалистов-революционеров «левыми» не считают?
— У нас полагают, что ни социалисты Пилсудского, ни эсеры Чернова не имеют такой надежной опоры в рабочей среде, как вы… После восстания в Москве, Лодзи, Чите и на «Потемкине» в фокусе внимания оказались ленинцы, Феликс Эдмундович, именно ленинцы… Посему санкционирована безнаказанность… Право, я бессилен помочь вам с делом Казимежа. Охранка сейчас вольна предпринимать любые шаги, любые.
… После того как ротмистр Турчанинов (любимец полковника Глеба Витальевича Глазова, переведенного ныне в столицу, в департамент) пришел два месяца назад на явку Дзержинского и в присутствии Ганецкого и Уншлихта, членов Варшавского комитета польской социал-демократии, только что вышедших из тюрьмы по амнистии, предложил свои услуги СДКПиЛ, был проверен действием, прикрыл боевиков партии во время операции по уничтожению штаб-квартиры черносотенцев на Тамке, предупредил Дзержинского о провале типографии на Воле, устроил побег Винценты, вывел из-под виселицы Людвига, ему доверяли.
Дзержинский — во время последней, контрольной, беседы — спросил:
— Андрей Егорович, а что ждет вас в случае провала?
— Зачем вы поставили такой вопрос?
Дзержинский полагал, что годами тюрем, карцеров, избиений, этапов, ссылок он заслужил одну лишь привилегию — не лгать. Тем более он считал недопустимой ложь в разговоре с человеком чужой идеологии, который, однако, сам пришел к социал-демократам и оказал им услуги, причем немалые. Дзержинский поначалу допускал, что охранка начала глубинную провокацию, но чем больше он встречался с Турчаниновым, чем весомее была помощь ротмистра, чем неудержимее шла революция по империи, тем яснее становилось: умный Турчанинов все понял и сделал ставку на честность в сотрудничестве с партией, полагая, что в этой честности заключена гарантия его будущего, — в крушении самодержавия он более не сомневался.
Поэтому на вопрос ротмистра Дзержинский ответил:
— Мне приходится проверять свою веру в вас, Андрей Егорович. Я отвечаю перед моими товарищами за вас. Я был бы не честен, коли б сказал, что во мне нет сомнений; ведомство, в коем вы служите, приучает нас к недоверию, более того — к ненависти.
— Своим вопросом тем не менее вы не столько проверяете свою веру, сколько подтверждаете ее, Феликс Эдмундович.
— Обидно, что науку психологии вы одолели в охранке, — заметил Дзержинский.
— В охранке психологии научиться нельзя. Там можно научиться ловкости, хитрости, осторожности, не более того. Психологии, как вы изволили выразиться, я выучился в окопах на фронте под Мукденом.
— Я не сказал «научились». Вы со мною спорьте, а не с собой. Я сказал «одолели». Психология — наука, наука — это мысль, а истинная мысль рождается голенькой. Вы в охранке смогли одолеть ненависть, смогли посмотреть на нас не предвзято. Для того чтобы это одоление совершилось, вам пришлось в охранке пройти сквозь все, Андрей Егорович, а дабы это пройти и не потерять себя, должно быть психологом.
Турчанинов тогда усмехнулся:
— У Толстого есть умозаключение: человек, прошедший российский суд, получает на всю жизнь отметину благородства. Посему отвечу: коли наши связи обнаружатся, я буду арестован, меня подвергнут пыткам, чтобы добиться признаний обо всех вас, а потом предадут суду за измену присяге, но до суда, ясное дело, меня не допустят, я обязан буду погибнуть в камере. Нет страшнее греха, чем измена власти государя…
— Ну уж… Библия пронизана идеей греховности власти. Вы это на вооружение себе возьмите, Андрей Егорович. Помните у Самуила: «Вы будете ему рабами и возопиете из-за царя вашего, которого выбрали себе, но не услышит вас господь… » А Лука? «Сказал диавол: тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, ее даю». Это я вам подбросил, чтоб лучше спалось, коли по ночам сомнения мучат. Вы человек верующий, вам постоянно индульгенция потребна, вот я вас к Библии-то и обращаю.
— Слушаю вас и убеждаюсь: высшая серьезность — в несерьезности. Юмор — единственное свидетельство незаурядности. А что касаемо индульгенции — вы не правы, Феликс Эдмундович. Уроки фронта: принял решение — выполняй, поверил в человека — держись веры до конца.
… Турчанинов папироску свою докурил, аккуратно загасил ее в большой пепельнице и повторил:
— Казимежа я спасти не могу.
— В таком случае Казимежа обязаны спасти мы, — сказал Дзержинский.
— Вы бессильны? Понимаю. Подскажите, как можно подступиться к делу. Деньги? Беседа с судьями? Побег?
Турчанинов покачал головой.
— Вы сказали, — продолжал Дзержинский, — что все предрешено до суда. Кем?
— Моим начальником.
— С какой стороны к нему можно подкрасться?
— Ни с какой. Игорь Васильевич Попов тесан из кремня. К нему невозможно подкрасться, Феликс Эдмундович, сие объективность.
— Как не можем чего-то, так сразу говорим «объективность». — Дзержинский поморщился. — Такая «объективность» — смерть живому. В восемнадцатом веке засмеяли бы того, кто сказал бы, что можно ездить под землей, а сейчас Лондон и Берлин без метрополитена немыслимы. Не верю, что к Попову нельзя подобраться. Говорят, например, что у вашего Попова есть любовница, актриса кабаре Микульска, — верно это?
— Верно.
Турчанинов посмотрел на Дзержинского с каким-то особенным интересом:
— Владимир Львович Бурцев, знай такое, напечатал бы в своей эсеровской прессе незамедлительно.
— Чего бы он этим добился? Сенсации? А нам надобно спасти товарища, и ради этого мы готовы начать игру, а чтобы такого рода игра против охранки оказалась успешной, надобно помалкивать и все разворачивать втайне. Разве нет?
— Вы талантливый человек, Феликс Эдмундович, но на свете талантов много. Становятся талантами, то есть признанными, те лишь, которые добились.
— Вот вы мне и поможете добиться.
— Я ведь дальше гляжу, Феликс Эдмундович, я думаю о вашей победе в общеимперском плане.,
— Та победа свершится, коли мы каждый день и час будем побеждать. Нет маленькой работы, как и маленьких людей не существует, — в каждом сокрыт Ньютон или Мицкевич… Что вы знаете о Микульской?
— Ничего.
— Надо узнать, Андрей Егорович.
— Я попробую, — ответил Турчанинов. — Но я ведь к вам с главным пришел, Феликс Эдмундович…
— То есть?
— Агентура сообщает, что вы назначены главою партийной делегации на Четвертый съезд РСДРП…
— Кто передал данные?
— Все тот же «Прыщик».
— Когда?
— Позавчера. Полковник Попов получил данные позавчера вечером. Очень похвалялся…
— Вы не пробовали выяснить этого «Прыщика», а?
— Я же объяснял, Феликс Эдмундович, если попробую, меня раскроют. У нас, — Турчанинов поправил себя, — в охранке не принято интересоваться подлинными именами агентуры — особенно такой, как «Прыщик». Сугубо, по всему, близкий к вам человек.
— Андрей Егорович, а что, если вы заагентурите в нашей среде видного человека, а? Звонкого человека «обратите» в свою веру? Близкого к руководству партии. Человека, широко известного охранке. Тогда вы сможете сторговать своего агента в обмен на имя «Прыщика»?
— Коли вы на такое готовы пойти, значит, следует полагать, «Прыщик» приволок точные данные…
— А вы как думаете?
— Да разве я думаю?
— И то верно… Человек по-настоящему решается думать тогда лишь, когда ему ничего другого не остается, когда руки у него в кандалах… Я заметил: истинная мысль начинается с безысходности, Андрей Егорович, с невозможности жить по-людски… Коли собеседник готов дать вам рецепт, как разрешить самые сложные вопросы жизни, значит, он и не думал об этом вовсе, а так, порхал.
— Слишком строги вы к глаголу «думать».
— Отчего? Нет. Логическое, то есть повседневное, мышление стало формою естественного отправления. Я же имею в виду обгоняющую мысль, то есть единственно истинную… Обеспокоены в охранке данными «Прыщика»?
— В высшей мере. Предполагают, что речь пойдет о слиянии польской социал-демократии с русской. Видимо, вам следует ждать удара со стороны социалистов Пилсудского: через агентуру будут работать, через высокую агентуру охранки, — обвиняют вас, СДКПиЛ, в предательстве национальных интересов Польши, «москальскими прислужниками», видимо, заклеймят…
Дзержинский поднялся, поправил галстук: время. Поднялся и Турчанинов.
— Я подожду, пока вы подальше уйдете, — сказал Турчанинов. — И послушайте моего совета — не пытайтесь слишком настойчиво с Казимежем… Можете на этой частности все завалить.
Дзержинский нахмурился:
— Частность? Что-то вы не так, Андрей Егорович.
— Так, Феликс Эдмундович, так. Лес рубят — щепки летят…
— Считайте меня плохим лесорубом. А вообще избегайте сравнений такого рода: человек не щепа… Умом-то я вас понимаю, но сердцем никогда не пойму. Всякое движение определяется его началом. Коли иначе
— иезуитство это, Андрей Егорович, чистой воды, Лойола это.
Когда Дзержинский был уже в передней, Турчанинов окликнул его:
— Подумайте вот о чем, Феликс Эдмундович… Актриса кабаре Микульска навещает моего шефа на его конспиративной квартире: Звеженецка, восемь, второй этаж, консьерж — отставной жандарм. Попов, мне сдается, профессию свою от актрисы скрывает. Но тем не менее имеет обыкновение работать с документами на этой квартирке, с совершенно секретными документами, полагая, что женщина ничего не поймет…
Дзержинский увидел Стефанию Микульску сразу же, как только она появилась из-за угла. Быстрая, хлысткая, в лиловом платье, на которое тяжело падали литые волосы, она шла, словно слепая: быстро, одержимо, легко, и круглые черные глаза ее были устремлены в одну, видную лишь ей точку, словно бы женщина страшилась глядеть окрест: так подчас бывает с особенно красивыми, наделенными острым ощущением стыда за изначальный грех прародительницы.
«Бедненький человек! — подумал Дзержинский. — Как же старательно она подбирает фасон платья, и эту сиреневую шаль, и голубой цветок в волосы, и синие туфельки, и белую сумочку… Как же она волнуется перед встречей с избранником, как она готовит себя к этому вечеру… Женщине, которая сознает свою красоту, не лишенной еще стыда, одаренной не только чувствованием, но и болью, горько жить на свете. Вон ведь как идет, будто сквозь шпицрутены».
Он на какое-то мгновение засомневался, подойти ли к ней, хотя ждал Стефанию второй вечер уже, но представил себе полковника Попова рядом с актрисой, «кремневого» Попова, предрешившего судьбу Казимежа Грушевского, который не может подняться с нар после того, как на него навалились при аресте: беззащитного, хрупкого, подростка еще, били сапогами по животу, с оттягом били, а потом схватили за волосы и размозжили лицо о булыжник…
— Пани Микульска, добрый вечер. — Дзержинский шагнул к женщине, легко отделившись от тяжелой двери парадного подъезда. — Можете уделить мне десять минут?
— Я незнакома с вами.
— Вот рекомендация, — Дзержинский протянул ей записку, которую позавчера еще принесла Софья Тшедецка: у них оказалась общая подруга, Хеленка, жена присяжного поверенного Зворыкина.
Руки у Стефании были быстрые, нервные, ловкие. Она легко раскрыла конверт, пробежала строки: «Милая Стефа, податель сего — литератор. Его предложение весьма интересно, найди, пожалуйста, для него время. Твоя X.»
— Хорошо, давайте увидимся завтра, приходите в кабаре..,
— Пани Микульска, я знаю, — простите, что я смею сказать это, — я знаю, куда вы идете. Но Попов задержится примерно на час…
— Он вас уполномочил сообщить мне это? — Микульска усмехнулась неожиданно жестко, Дзержинский не ждал, что она может так.
— Нет. Он меня не уполномочивал. Более того, он будет гневаться, если узнает о нашей встрече.
— Представьтесь, пожалуйста.
— Кжечковский. Адам Кжечковский. Литератор.
— Откуда же вам известно, что он задержится?
— Дело в том, что он сейчас руководит казнью. Сейчас идет повешение трех поляков в цитадели.
Микульска отшатнулась от Дзержинского, руки даже перед собой выставила, словно бы он замахнулся на нее.
— Вы с ума сошли! Как вы смеете позволять такое?!
— Мне опасно идти с вами по этой улице, пани Стефания… Давайте свернем в переулок, а? Я открою вам кое-что, и, коли вы захотите после этого говорить со мною, я готов буду ответить на все ваши вопросы… Пожалуйста, пани Стефания, не делайте так, чтобы я обманулся в вас…
… За то время, что прошло после встречи с Турчаниновым, Дзержинский поручил товарищам, занятым по его предложению созданием групп народной милиции, посетить кабаре, где Микульска выступала в программе, встретиться с теми, кто знал актрису; вопросы людям ставили на первый взгляд странные, очень разные, однако Дзержинский был убежден, что каждый человек — это удивительная особость, а понять особость можно только в том случае, если мыслишь широко и приемлешь разное. Дзержинский обычно сторонился тех, кто в своих анализах шел не от желания разобраться и понять, но от тяги к некоему сговору — с собою, с другими ли, — лишь бы отвергнуть конкретную данность и возвести свое (будь то отношение к человеку, книге, обществу, идее) в некий абсолют.
Из разговоров с самыми разными людьми Дзержинский и его товарищи вывели, что Микульска — натура порывистая, резкая, но притом и застенчивая, следовательно, скрытная. Но ее скрытность того рода, который поддается изучению, анализу, она управляема, если, конечно же, понял ее первопричину человек недюжинный, мыслящий, творческий, но более тяготеющий к логике, чем к чувству.
Дзержинский обладал как началом творческим, так и отстраненным, холодным — логическим. Поэтому, выдержав взгляд Микульской, он помог ей:
— Вам ведь неизвестно, что господин Попов — жандарм, начальник варшавской охранки? Вам ведь неведома истинная причина его постоянного интереса к настроениям ваших друзей, живущих в театре с веревкой на горле? Вам ведь трудно представить, что веревку эту Попов держит в своих руках, разве нет? А коли вам нужны доказательства — поищите у него в квартире папку: там должны быть свидетельства моей правоты. Он вам кем представился?
Дзержинский задал вопрос рискованный, он мог услышать резкое: «Это уж мне лучше знать — кем», — но он рассчитал точно, понимая строй и дух людей, среди которых жила Стефания, — там жандармами брезговали открыто и снисходительно.
Стефания позволила себе увлечься «крупным биржевым маклером Поповым» (так он представился ей) потому лишь, что в нем постоянно ощущалась устойчивая надежность. Ей, как, впрочем, любому другому, становилось порой невыносимо трудно жить в мире зыбком, где поступки определялись сиюминутным настроением, где царствовала интрига, зависть и, главное, неуверенность в завтрашнем дне — хозяин расторгнет контракт, писатель не принесет пьесу, режиссер не даст роль, а любимая подруга нашепчет гадкое партнеру.
Попов, в отличие от людей знакомого ей, столь любимого и ненавидимого мира богемы, был доброжелателен, интересовался всем, слушал не себя — ее, стлался перед любым желанием. За это Стефания прощала ему простоватость, грубую подчас шутку и некоторую духовную неповоротливость, — актер-то стремителен, он за три часа сценического времени и наплачется, и насмеется, и полюбит, и проклянет любимую.
Но сейчас, после слов Дзержинского, Стефания вдруг наново увидела Попова, вспомнила все — и ужаснулась. Она остановилась, достала из сумочки письмо Хеленки Зворыкиной, перечитала его еще раз, уперлась в Дзержинского своими круглыми глазами и сказала:
— Извольте подождать меня. Но знайте: если ничего не обнаружу, я ударю вас по лицу.
— А если что найдете, захватите с собой, ладно? Я объясню вам, что к чему: жандармы — народ секретный, у них документы особого рода, сразу-то и не понять…
Стефания оставила Дзержинского в переулке, неподалеку от сквера, там гомонили дети, летали на качелях, играли в серсо. «Имел ли я право обратиться к ней с этой просьбой? — подумал он. — Морально ли это? Да. Я имел на это право, и моя просьба моральна, оттого что Казимеж с выбитым глазом, харкающий кровью, обречен на гибель, и если Попов с его бандой смогут поломать мальчика, погибнут многие десятки наших товарищей, которые ежедневно рискуют жизнью ради той же Микульской, которой жить тяжко и унизительно в обществе, где актриса не есть художник, но лишь объект товарной купли и продажи».
Дзержинский вдруг ощутил какое-то непонятное, остро возникшее беспокойство — так бывало: десять лет преследований, тюрем, ссылок выработали в нем обостренность. Он оглянулся, услышав цокот копыт. Понял, отчего забеспокоился: кони были быстрые, ладные, не извозчичьи
— казенные были кони.
Кабриолет Попова пронесся по Звеженецкой — полковник, верно, управился скорее, чем думали товарищи из подполья, расписавшие его сегодняшний день по минутам.
Дзержинский почувствовал, как заледенели руки. Он зашел в скверик и сел на скамейку возле старухи, читавшей толстую книгу «Подарок молодым хозяйкам», принадлежавшую перу Молоховец…
… Стефания услыхала, как открывается дверь, и почувствовала внезапную безразличную усталость. Она испугалась, что не сможет, не найдет в себе сил спрятать папку с рапортами, где описывались настроения варшавских театральных звезд и ведущих литераторов. Нужно было закрыть кожаную, с тиснением крышку, защелкнуть серебряный замок, сунуть папку в плоский портфель и положить на него стопку бумаги — всего лишь.
Она слышала, как Попов что-то говорил кучеру, шумно сморкался, отдавал приказы, куда нести бутылки и свертки, вытирал ноги о шершавый половичок и включал свет в передней.
Стефания решила было не двигаться: пусть Попов увидит в ее руках эти гадкие рапорты, в которых и о ней было написано, что «полька конечно же не без способностей, но в силу ветрености национального характера может подпасть под влияние зловредной социалистической пропаганды, учитывая тем более те высказывания, которые она позволяла себе во время собрания актеров, обсуждавших возможность создания профессионального союза». Но она вспомнила того высокого, с лихорадочным румянцем поляка, который ждет ее в сквере, заново увидела его лицо и невыразимую грусть в его зеленых глазах, и сострадание, и ту неловкость, которую, ей казалось, собеседник ощущал все те минуты, что они были вместе, захлопнула папку, сунула в портфель, прикрыла бумагами, неслышно отошла к тахте и медленно, брезгливо, по-новому опустилась на нее, почувствовав мягкую гадость покрывала.
Попов вошел в комнату стремительно, и сразу же все стало меньше в размерах — так громаден был полковник, надежен, открыт и весел.
— Моя ласточка, вы уже здесь?! Чудо, просто чудо! Никак не ждал!
«Тебе ж консьерж всегда все докладывает, — как-то отстраненно подумала Стефания. — И улыбается он деревянно, так бездари на сцене улыбаются».
— Здравствуйте, милый.
Попов опустился подле женщины, взял ее лицо в свои громадные, теплые, сытые ладони, приблизил к себе, поцеловал нос, брови, принюхался смешливо:
— «Ша нуар» нумер пять?
— Кошки фирмой не нумеруются, — ответила Стефания. — Только «шанель».
— Моя прелесть чем-то огорчена?
— О нет! Была трудная репетиция… Мы репетируем злой спектакль. Очень злой, почти противуправительственный.
Попов словно бы не заметил слов женщины:
— А я привез сухую испанскую ветчину. Помните, прошлый раз вы сказали, что вам нравится испанский «хамон»?
— Мало ли что я могу сказать… А вы уж где-то пили?
— Рюмка водки, всего лишь рюмка.
— С радости?
— По необходимости, моя ласточка.
— А что за необходимость?
— Будь прокляты дела мужчин, они не для ранимого женского сердечка.
— Подписание нового контракта? Сделка? Деловой прием?
Попов хмыкнул:
— Именно. Деловой. В высшей мере деловой, Стефочка.
Он вспомнил, как один из приговоренных, старик уже, извивался в руках жандармов, которые тащили его к виселице; и яростные, безысходные, последние его телодвижения внезапно родили в Попове слепую похоть.
— Моя прелесть хочет глоток финьшампаня?
— Ваша прелесть хочет рюмку водки.
— Вы чем-то взволнованы?
— А вы?
— Я всегда взволнован. Я постоянно взволнован вами, моя ласточка.
Попов положил руку на колено Микульской, другой обнял ее за плечи, притянул к себе, закрыл глаза, начал искать прыгающим, сильным ртом ее губы.
— Сразу в постель? — усмехнулась Стефания. — Вы же сухой ветчины привезли.
— Я хочу полюбить вас, ласточка, — прошептал Попов, не открывая глаз.
Стефания осмотрела его лицо близко, наново и ужаснулась тому, как же она могла с ним быть раньше, как она могла не замечать истерической нервности его большого рта, постоянной, ищущей осторожности в глазах, навязчивости его доброты и ласкающей убогости языка, каким он говорил с нею.
Попов открыл глаза, и взгляды их встретились: его — горячий, туманный, и холодный, отталкивающий — ее.
— Ну, разденьтесь, — прошептал он, — давайте, я расстегну лиф, разденьтесь, моя прекрасная ледышечка…
— Вы ж водки обещали, Игорь.
— Потом, потом, ну, молю вас…
Руки его сделались быстрыми, жуликоватыми, но в то же время сильными, жестокими, и Стефания поняла, что литератор, повстречавший ее только что на улице, говорил правду: не было любви, не было увлечения, не было игры; она ощутила себя необходимой — для этого человека — отдушиной, не более того.
… Усмехнувшись жестко, Стефания повторила Попову:
— А вы, оказывается, старый-престарый, и вся ваша мужская сила показная…
— Вы положительно намерены рассориться со мною?
— Вы ссориться не умеете. Вы воркун. Кофе заварите: голова болит.
Попов заставил себя улыбнуться:
— Сейчас напоим мою ласточку горячим кофеем. Только пусть моя ледышечка отвернется, пока ее папочка будет надевать халат…
— Вот уж и папочка, — заметила Стефания, откинула одеяло, поднялась резко, прошлась по комнате. — Знаете, я только сегодня заметила, что у вас вся мебель свезенная, будто из разных домов натащили. Любите антиквариат?
Попов запахнул халат, пожал плечами — не говорить же, право, что мебель привозили из тех домов, где всех заарестовали; долго, притирающе тушил маленькую папиросу в пепельнице, ответил вопросом:
— Прикажете поменять? Скажите, какого стиля, завтра же будет исполнено.
Стефания не сдержалась:
— Мечтаю полюбить вас в тюремной обстановке. Какая там мебель, не знаете? Пусть по-тюремному обставят.
Попов затрясся мелким смехом, отправился в ванную, плескался там под холодным душем и чувствовал в себе все более и более растущую тревогу. На кухню вышел, к спиртовой горелке, в панике уже. Услыхав, что Стефания отправилась купаться, он на цыпочках пробежал в кабинет, открыл ящик стола, распахнул портфель, достал тисненую папку, дрожащими пальцами перебрал рапорты, увидел, что донесение об актерах, где говорилось про Микульску, на месте, успокоился сразу же, другие рапорты смотреть не стал, не мог допустить и мысли, а точнее, допустив, гнал, ужасался ей; он вынужден был присесть на кресло — сердце все еще колотилось в горле. Потом — жандарм как-никак — открыл сумочку любимой, проверил содержимое, успокоился до конца — одни лишь бабьи безделицы.
… Через три часа Стефания пришла к Хеленке Зворыкиной и сказала:
— Мне надо повидать твоего литератора…
Хеленка погрозила пальцем!
— Потеряла голову?
— Хуже, — ответила Стефания. — Себя.
— Я не знаю, где он живет. Можно съездить к его знакомой…
— Любовница?
— Нет. Добрая подруга.
— Едем.
Несколько рапортов из папки Стефания взяла, когда Попов был в ванной, быстро спрятала в лиф, поняв до обидного ясно, что сумочку «любимый» проверит, и всегда, видно, проверял свою «прекрасную ледышечку».
4
Юлий Петрович Гужон, говоривший с едва заметным гасконским акцентом, читал текстильщику Рябушинскому и старику Осташову, обувщику, стишки, записанные на глянцевой картоночке:
— «Говорил на сходках, выбран в комитет, а теперь в решетку еле вижу свет! Пропала карьера, адье, университет, во всем потребна мера, в этом спору нет! Ты прощай, столица, всюду гладь и ширь, поезд, словно птица, помчит меня в Сибирь! Печатал бюллетени, им числа не счесть, а теперь пельмени мне придется есть… »
Гужон оторвал глаза от глянцевой картоночки, посмеялся, поясняюще уточнил:
— Называется «Исповедь либерального дворянина».
Рябушинский презрительно передернул острыми плечами:
— Нам, к счастью, не приходится исповедоваться таким образом; может быть, оттого, что наиболее умные из купцов никогда не гонялись за званием русского дворянина… Не вам одному, Юлий Петрович, стишки собирать — я тоже один особо люблю: «В тарантасе, в телеге ли, еду ночью из Брянска, все о нем, все о Гегеле, моя дума дворянская».
(Титул действительного статского советника и дворянство купцам жаловали в том случае, если они передавали Академии наук, в которой правила вдовствующая императрица, свои коллекции и галереи. Третьяковы отдали картины городу, открыли ворота для черни, поэтому были обойдены статским, а ведь это сразу же дворянство, это почет дает и приглашение на банкеты к губернатору, где не на хорах держат, а за главным столом, рядом с избранными. Бахрушин свой музей отказал академии, сразу в дворяне вышел, генерал, теперь ходит гордый, начал даже про «купчишек» подшучивать.)
— Алексеев туда же, в благотворительность ринулся, — вздохнул Осташов, — театр открыл, присвоил себе срамное польское имя — Станиславский. Верно про него говорят: «Сколько их, куда их гонят и к чему весь этот шум? Мельпомены труп хоронит наш московский толстосум! » От благотворительства не только к дворянству один шаг — к революции. Богдановские сынки вместо того, чтобы чай с отцом развешивать, бомбы делают, куда дело-то пошло, а?!
Гужон сразу же записал про Станиславского — коллекционировал рифмы.
Осташов достал старинные, потертые часы, открыл крышку, поглядел на циферблат:
— Не опаздывают?
— Еще десять минут, — откликнулся Рябушинский. — Время есть, — значит, опоздают. Мы, русские, чем больше времени имеем, тем шалопаистей им распоряжаемся, оно для нас вроде денег — несчитанное. Ничего, новая пора пришла, она научит время ценить, новая пора дала свободу — только б не свободу зазря терять время…
— Будто раньше тебе, Павел Палыч, свободы было мало. Ты по лошади бей — не по оглобле, чего бога-то гневить? Свобода… Хотели говорить
— говорили, собирались на ярмарке, в торговом ряду, в церкви — кто мешал-то? Нынешняя свобода — это свобода рушить… Макара Чудру столоначальником поставят, а Челкаша директором департамента приведут
— вот я посмотрю, как вы тогда запрыгаете, все вам, видишь, бюрократы мешали… Платить им надо было больше, лапу щедрей маслить — не мешали б…
— Ты чего бурчишь, старик? — хмыкнул Рябушинский, оглядывая зал биржи, заполненный московскими заводчиками и фабрикантами.
Подъехало на Ильинку огромное множество деловых людей, весь Китай-город запрудили экипажи; Морозов, конечно, припер на авто, как, право, не совестно, будто какой немец, нет скромности в человеке… Собрались на чрезвычайное совещание, так в приглашениях было напечатано; все знали, что произойдет, но, по обычной купеческой привычке, темнили друг перед другом, лобызались, божились в дружбе, но о деле ни гугу — ждали.
— Я не бурчу, — посмотрев, как и Рябушинский с Гужоном, в зал, вздохнул Осташов. — Гуди не гуди, все одно прокакали Россию. Вон анархисты говорят, что Думы не надо, что вред от нее, и я так же говорю.
Гужон и Рябушинский переглянулись изумленно.
— Да, да, в уме я пока, в уме. Крестьянин на выборы не пойдет — ему работать надо, да и путь по железке дорог; купчишке сельскому лень, он с похмелья страдает; культурному человеку противно толкаться в одном помещении с чернью. Кто ж остается? Пролетарий? А он, пролетарий-то, дурак! Разве он понимает, за кого голосовать? Тут ему ихние вожди себя и подсунут! И Плеханова коронуют, царем назовут! А немца Витте Троцкий заменит! .. Опохабили землю заводами, опохабили. Крестьянин зерно в землю кладет и ждет милости от бога — дождя и солнца. Кто бога чтит, тот царю слуга. А кто у фабричных бог? Машина. И на ту руку поднимали, станки громили. Не умеют власти держать люд на Руси, особо в то время, когда быстро поворачиваться надо, не умеют…
— Чего ж ты новое время ругаешь, старик? — ухмыльнулся Рябушинский. — Ишь как разговорился! И по сторонам не зыркаешь, а раньше-то небось лишнее слово боялся произнесть!
Прозвонил второй звонок. Двинулись в зал, раскланиваясь со знакомыми: сверкал улыбкой общий любимец (хоть и поляк) Владислав Жуковский, жаль только — металлург, но с истинно русскими, московскими почтенными льнянщиками и суконщиками водил дружбу, имел знакомства на Западе, поскольку сапортировал семье английских текстильщиков Джерси, продававших свой товар на нижегородской ярмарке, и фасонщикам салона Пуарэ — все купеческие жены получали от него к рождеству альбом с новыми, на следующий год выкройками; сухо раскланивался Нобель, шел, будто аршин проглотил; егозил глазами нефтяник Лианозов, одетый, как всегда, с иглы, обшивал его один лишь Делос, лучший портной; чесал лохматую бороду Розов, выставляя напоказ свои стоптанные сапоги, вертит, черт, миллионами, ситец держит, давеча пришли к нему студентики билет на благотворительный концерт продавать, предложили самый почетный, за сто рублей, а он уперся — «дорого», предложили за четвертак — тоже не взял, сторговал за рубль, студенты его начали позорить, а он: «Я сегодня вам чек на двадцать тысяч послал, на библиотеку, а в театре и на галерке могу постоять, все равно больше одного акта не выдержу, сморит». Шли, рассаживались, ждали, пока совещание откроет граф Алексей Александрович Бобринский, сахарозаводчик, главный конкурент Родзянке, тот в северную столицу переметнулся, на Запад глазом косит, хохол чертов, с Гучковым трется, с англофилом…
Бобринский поздравил собравшихся со свободою, дарованной «культурным и деловым сословиям» государем императором, самодержцем российским, и слово предоставил Юлию Петровичу Гужону. Тот, черт, никому не открывал, что будет главным докладчиком, они все, гасконцы эти самые, вроде нехристей, право слово, такие же мыльные…
Заговорил, однако, хорошо, сразу взял быка за рога, этого не отнять.
— Мы, деловые люди, понимаем царский всемилостивейший манифест как последнее слово добра, обращенное к бунтовщикам: «Хватит! Теперь, отныне и навсегда, пусть воцарится мир и благоденствие у нас на родине, теперь требования всех слоев, даже самых бедных, удовлетворены, теперь работать на благо и расцвет державы!» Для того, однако же, чтобы наша помощь государю была более действенной, мы, пользуясь дарованным правом организации союзов и партий, должны сегодня же возвестить России о создании «Московского союза фабрикантов и заводчиков»!
Похлопали.
Далее Гужону предстояло сказать главное, и это главное — он и его единомышленники понимали — не по вкусу «обожаемому монарху»: однако же он сам все отдал! Значит, теперь надо вовремя застолбиться, на то и Дума, чтобы там работать, через нее к министрам подбираться.
— Что мы, деловые люди России, считаем ныне самым главным? Развитие промышленности. Ни в одной стране Европы нет такого рынка сбыта, как у нас, нигде нет такого резерва рабочей силы. Ни в одной стране мира так не ощущается недостаток капитала — и у правительства, которое ищет сейчас заем, и у населения… Капитал не так легко производить, как людей, к тому же рождающиеся не приносят с собою оборотных средств.
Посмеялись. Одни громче, другие сдержаннее. Осташов хранил непроницаемость: «Сегодня свобода, а завтра от тюрьмы откупайся».
— К чему сводятся мои предложения? Кредит и капитал нам может дать заграница, больше получить неоткуда. Какова предпосылка для притока капитала? Широкое поле приложения. Я должен открыто и безбоязненно сказать, что нынешние казенные железные дороги в России убыточны!
Тишина в зале. Согласны-то все, но молчат — слышно, как муха летает, глазами друг на дружку косят, будто кони на ипподроме, когда на финиш вырвались.
— Я предлагаю нашим депутатам поставить в Государственной думе вопрос о передаче казенных железных дорог в руки частных компаний, причем государству будет выплачен выкуп, размер которого должна будет решить экономическая секция, избранная народными посланцами. Если мы окажемся хозяевами эксплуатации железных дорог, капитал из Европы потечет к нам рекою. Говорят, непатриотично ставить вопрос о казенных дорогах, неловко требовать их передачи в наши руки. Ой ли? Если можно и патриотично занимать деньги в Европе на броненосцы и на строительство оборонительных линий в тайге, то отчего же непатриотично употребить иностранный капитал на освоение окраинных районов, где в земле лежит золото, не тронутое еще никем?! Я также утверждаю, что винный акциз не приносит казне такого дохода, который бы она получала, отмени государственную монополию на продажу водки и спирта! Я хоть и француз, но Россия для меня истинная родина, я добра моей родине желаю: не управиться нам одним, без включения иностранного капитала в наши эксплуатационные компании, придется пустить иностранцев в наши акционерные общества, пустить на равных, не тыкая им в лицо, что не русские они… Иначе, коли не пригласим иностранцев с их франками, фунтами и долларами, будет продолжаться наша зависимость от казны, от бюрократов, от казенных заказов, не будем мы себе хозяевами, все на прежние рельсы вернется, а этого допустить нельзя. Я не тороплю вас с немедленным ответом, но убежден, что здравый патриотизм возобладает над традиционным…
Рябушинский помог:
— Квасным! Нечего церемониться, Юлий Петрович. Квасным, избяным, темным!
— На что голос возвышаешь?! — воскликнул Осташов, и все поняли, что старик подстраховался, зла в нем не было, одна обязанность. — Грех такое говорить!
Рябушинский громко спросил:
— Хоругвь в пролетке привез? А, Прокоп Филипыч? Или в Охотном ряду, в одежном товаре оставил?
Гужон речь свою строил умно. Он, как и каждый здесь, отстаивал свой интерес, но коли Рябушинскому или Алексееву это было легче делать, то ему, французу, — куда как трудней. Все собравшиеся полагали: где один француз влез, там еще трех жди. Это, конечно, хорошо, что их деньги придут, но ведь с деньгами-то свой дух приволокут! Боялись купчики за привычный уклад, который и без Гужонов давно уже Мамонтовы с Морозовыми начали рушить, нанюхались в монте-карлах проклятой Европы, а она хуже холеры, руки не отмоешь — в душу влазит.
Однако за долгие годы, проведенные в России, Гужон научился русской купеческой хитрости, законспектировав своего средневекового единоверца Олинария, посещавшего Московию. Особенно Гужона заинтересовала запись о том, как Олинарий наблюдал продажу сукна в Охотном ряду: московские купцы продавали аршин за три с половиной экю, а покупали у англичанина за четыре. Олинарий не мог понять, какая же здесь выгода может быть, стенал по поводу таинственного характера скифов, а Гужон все уяснил сразу: брали у англичан в долг, а на сохраненные живые деньги разворачивали торговлю, влезали в село, качали мед, закупали пеньку и с лихвой гасили платежи, в выигрыше еще оказывались. Эта постепенность, наивно-хитрая, уговаривающая, стала для Гужона некоей отмычкой в его деловых операциях: что не удавалось другим иностранцам, у него выходило. Разговор с купцом Гужон строил хитро: сначала успокаивал привычным, потом глушил неожиданным, под это протаскивал свое, самое важное, а потом отрабатывал назад, звал к братству и твердости, — это здесь всегда ценили. Также ценили игру ума, за это многое прощали. Гужон давно понял ошибку своих единоверцев: те судили о русском купечестве по статьям в газетах, но писали-то эти статьи разночинцы и дворяне, они делом гребовали, торговли сторонились! Разве можно судить о профессии по отзыву тех, кто профессии не знал и презирал ее снисходительно?! Гужон часто ходил в Малый — не столько смотреть Островского, сколько слушать его. Царство-то темное, да в нем не один светлый луч, в нем много лучей, и каждый своим цветом отдает.
Поэтому сейчас, не обращая внимания на шум (обсуждали его слова, спорили), Юлий Петрович легко перешел к тому, что должно было закрепить успех первой части его выступления — по поводу иностранного капиталишка. Заговорил особо проникновенным голосом — когда таким голосом говорят, значит, соврать норовят. Вот пусть и гадают, норовил ли.
— Теперь о тактике нашего союза. Мы должны, отбросив личные симпатии и антипатии, объединиться накрепко, сплоченности рабочих должна быть противопоставлена наша сплоченность! На забастовку — локаут, поголовное увольнение! Когда без работы походят, поголодают, тогда вернутся тише воды, ниже травы…
Зааплодировали наконец.
— Кто безработному поможет, кроме хозяина? Никто не поможет. Кто его накормит, кроме нас? Никто не накормит. Про это следует помнить постоянно! Но, случалось раньше, один из нас рассчитает смутьянов, а другой берет их к себе, выгадывая копейку. Послушайте, что записано в уставе немецких работодателей: «Члены союза обязаны не принимать к себе на службу участвовавших в стачке рабочих и служащих». Принимаем такой параграф?
Снова поаплодировали.
— Я прочитал всего Лассаля…
— Кого? — донеслось из зала.
— Лассаль, он с Марксом дискутировал.
— Посовестился сказать «работал»?! — выкрикнул Морозов. — Не дискутировал он, а работал!
— Пусть так, Савва Тимофеевич, тебе про марксистов больше меня известно, — отпарировал Гужон. — Так вот, у него есть строчка, что, мол, профессиональные союзы рабочих должны быть независимы от политических обществ. Придется нам покрутиться, надо будет поискать умных людей в новых партиях, в их газетах, довести это мнение Лассаля до читающих рабочих — нам-то они не поверят, а Лассалю поверят. Социал-демократы ныне, особенно их левая группа, развернули активную работу в профессиональных союзах рабочих. Мы должны этой работе поставить барьеры, самые решительные, вплоть до обращения с интерпелляцией в будущую Государственную думу по поводу преступного подстрекательства!
— Верно! — крикнул Осташов. — Поддерживаю!
— Мы должны постоянно работать с профессиональными союзами рабочих, дабы удержать их от политики. Идеально было бы, вообще-то говоря, поспособствовать созданию контролируемых рабочих союзов, втолковывая разумным, управляемым профессиональным лидерам, что в Германии, например, профсоюзная борьба с предпринимателями носит мирный характер и далека от той стачечной драки, которая отличает Россию…
— Так то ж немец! — крикнул Лианозов. — Он порядок чтит! Нашему рабочему порядок поперек горла стоит!
— Ты об своих армянах чего не говоришь? — смешливо воскликнул Мамонтов. — Ты что на русских нападаешь?!
— Мой армянин ради выгоды и на порядок согласится, — ответил Лианозов. — А русскому выгоду хоть в нос суй, все равно откажется, только б криком душу облегчить!
— Господа! — Бобринский зазвонил в колокольчик. — Юлий Петрович еще не кончил свое выступление.
— Да в общем-то и кончил, — ответил Гужон. — Главное успел высказать, а теперь и прения веселее пойдут… А заключить я хочу стихами, мы сегодня с Павлом Павловичем весь день рифмами пикируемся… Сейчас гнусность про нас в «Речи» напечатали, и я не побоюсь ее процитировать: «Московское купечество, изломанный аршин, какой ты „сын отечества“, ты просто сукин сын!» Докажем же трудом своим, что мы истинные сыны отечества, а те, которые печатают гнусности о лучшей части общества, и есть истинные сукины дети!
Председателем «Союза московских заводчиков и фабрикантов» после тяжелых прений избрали Гужона, протянув, таким образом, руку европейским финансистам: еще бы, француза председателем русского союза сделать, такого раньше и примечтать нельзя было… Одно слово — свобода.
5
Татаров чуть не вбежал в охранку, постоянно озираясь и затравленно вздрагивая. Тело его было напряжено с той поры, как он, подчиняясь ледяным глазам Савинкова, пришел на улицу Шопена, в дом десять, к госпоже Кремер. Ему казалось, что мускульное деревянное напряжение оттолкнет пулю, не даст ей порвать кожу, рассахарить кость и расплющиться свинцовым бутоном в мягкой теплоте печени. А то, что стрелять в него будут, он уверовал, когда увидел дворик дома на улице Шопена — затаенный, тихий; стоявший в глубине особняк соседствовал с пустырем. Хоть в голос кричи — не услышат. Татаров, на счастье, заметил дворника, метнулся к нему:
— Кто проходил в дом? Три господина? Да?
Протянул полтинник дрожащей рукой, поторопил скобаря, опасаясь, что целят в него из окна:
— Ну! Какие они? В поддевках, русские?
— Мужики, — согласно кивнул дворник. — Сапоги бутылочками…
Татаров вспомнил лицо Савинкова, вошедшего в их дом, его улыбку, когда раскланивался с матерью Евдокией Кирилловной, заботливый вопрос: «Паркет не запачкаю, может, тапочки позволите? » Успокаивал, садист, лгал: «Николай Юрьевич, я вынужден прийти к вам, оттого что сюда приехали Чернов, Аргунов и Натансон. Мы должны до конца решить все наши вопросы. Вы придете завтра вечером на улицу Шопена, в дом десять? » Татаров тогда ответил: «Борис Викторович, подозрения, брошенные на меня, напрасны. И вы сами это знаете; разве бы вы пришли ко мне и назвали адрес, где соберутся четыре члена ЦК, коли б верили, что я провокатор? Борис Викторович, клянусь вам, провокатор — „Толстый“; Евно Азеф служит департаменту, именно он!» Савинков опустил глаза — ненависть его к Татарову была трудно скрываемой: «Вот вы и расскажете товарищам, как собрали данные на Азефа».
Когда дворник сказал про бутылочки, Татаров сразу же вспомнил Чернова, который сапог натянуть на спичечные икры никогда б не решился, чахоточного Натансона он вспомнил, барственного Аргунова, который и на каторге, в халате, с тузом на спине, был барином; понял: засада, будут убивать. Ринулся в охранку, став деревянным, — ждал выстрела в спину.
Попов принял не сразу; про то, что Татаров состоял секретным сотрудником Петербургской охранки и освещал эсеров лично Лопухину, бывшему до недавнего времени директором департамента, он не знал, да и не мог знать. Лишь когда ротмистр Сушков, побеседовавший с Татаровым, сообщил об этом полковнику — «агент, в панике и страхе, открылся», — состоялась беседа.
— Как же вы эдак-то расконспирировались первому встречному? — удивился Попов. — Негоже эдак-то, Николай Юрьевич, непорядок получается.
— За вами бы гонялись — открылись бы кому угодно, — ответил Татаров. — Надо что-то предпринимать, господин полковник, немедленно предпринимать. Я убежден, они сейчас вокруг охраны ходят, меня ждут, стрелять станут прямо на улице.
— Да не паникуйте, не надо, — поморщился Попов. — Мы хозяева в империи, а не они, слава богу. Кому охота веревку натягивать на шею собственными руками?
— Вы не знаете их, а я с ними жил бок о бок восемь лет! Я с Сазоновым дружил, с Каляевым! Азеф на все пойдет — лишь бы меня уничтожить!
— Почему? — подался вперед Попов: он слыхал, что Азеф, он же «Азиев», «Иван Николаевич», «Филиповский», «Раскин», «Виноградов», «Даниельсон», связан с охраною — об этом шепнул начальник особого отдела Ратаев, когда приезжал с инспекцией в Варшаву и принят был по высшему разряду, с апартаментами в особняке генерал-губернатора. — Откуда вам это известно? Кто сообщил?
Татаров споткнулся — страх сыграл с ним злую шутку: о своей работе против Азефа он не имел права говорить никому. Ему было так предписано
— строго-настрого. Истинных причин он, естественно, знать не мог, а они были в высшей мере интересными, показательными, объясняющими клоачную сущность царской охранки.
Дело заключалось в том, что в конце 1905 года начальником петербургского отдела стал генерал Александр Васильевич Герасимов, и стал он начальником охранки как раз в то время, когда был уволен в отставку директор Департамента полиции Алексей Александрович Лопухин: дворцовый комендант генерал Трепов вошел в его кабинет после гибели великого князя Сергея Александровича и бросил в лицо: «Убийца! » Именно он, Трепов, просил Лопухина выделить тридцать тысяч рублей золотом на усиление охраны Сергея Александровича — тот отказал: «Нас бомбисты шантажируют страхом, никто не посмеет поднять руку на его высочество, да и охраняем мы великого князя достаточно надежно». После того как Лопухина сбросили, Герасимов чертом ворвался в охранку, обозвал своих предшественников «гувернерами в белых перчатках» оттягал у «старичков» — Рачковского и Ратаева — лучшую агентуру (Азефа в первую очередь) и начал все мять под себя: «Я научу, как надо работать!»
Люди, служившие в охранке, были лишены общественного интереса, однако профессия гарантировала хорошие оклады содержания, возможность быстрого служебного роста, бесконтрольность в тратах казенных средств
— каждый из них думал о себе лишь; о деле думали «постольку поскольку», ибо труд, лишенный заинтересованности, вырождается в штукарство, в унылое ремесло, в отчетный рапорт о количестве заагентуренных проходимцев и числе доносов, полученных от них. Именно это штукарство, эта мелкость охранки подвигли старейшину российского политического сыска Рачковского на то, чтобы через пятые руки, змейски отдать эсерам Азефа, поскольку тот отныне перестал быть его личным агентом, сделавшись осведомителем конкурента — генерала Герасимова. Поэтому-то Николай Юрьевич Татаров и оказался фишкой в руках людей, страдавших ущербностью служебных амбиций, поэтому-то его аккуратно подвели к идее о целесообразности разоблачения Азефа. При этом была разыграна комбинация сложная и умная: Татарову было внушено, что сейчас, когда революция шла лавиной, он обязан думать о своем будущем и свою службу в охранке должен объяснить «товарищам» — узнай они об этом — страстным желанием разоблачить главного провокатора партии, члена ее ЦК и создателя боевой организации Азефа.
Начальник особого отдела Ратаев не мешал этому по иной причине: Азеф, отвечавший перед охранкой за освещение центральных актов — то есть за покушение на особ царствующей фамилии и ведущих сановников, — дал возможность своим «головорезам» казнить министра Плеве, не предупредил, сукин сын, сыграл «двойную», перекладывая при том вину на Ратаева: «Я вам сообщал вовремя, сами виноваты, что не уберегли». Поэтому ему, Ратаеву, устранение Азефа — а устранение разоблаченного провокатора у эсеров являлось однозначным — было выгодно, прятало концы в воду.
… Попов долго разминал Татарова, заметив во взволнованном визитере слом после своего вопроса, отступил, начал вспоминать работу против анархистов, дал собеседнику успокоиться, а потом подкрался снова:
— Так что же произошло? Объясните толком, Николай Юрьевич, мне ведь в потемках трудно вам помогать.
— Простите, я не имею чести знать ваше имя и отчество…
— Игорь Васильевич меня зовут.
— Очень приятно… Так как же выходит, Игорь Васильевич, — улыбнулся Татаров, отошедший в надежных стенах охранки от ужаса, — сами меня корили за то, что расконспирировался… Я ведь только столице подчинен…
— Тогда в столице и просите о помощи, — лениво ответил Попов, зорко заметив наступившую успокоенность собеседника. — Вы ж ко мне пришли не чай с бубликами пить, как я понимаю.
Татаров спросил разрешения закурить, раздумывал, как ответить, обжег пальцы, выиграв на этом еще какое-то мгновение, и наконец сказал:
— Недавно я был откомандирован в Женеву для того, чтобы увидаться с членами ЦК. Господа из охранного отделения Петербурга снабдили меня средствами для создания легального издательства эсеров: это, по мнению генерала Герасимова, будет центр, вокруг которого соберутся все руководители партии, — подконтрольность, как понимаете, полная. Я сделал все свои… — Татаров быстро глянул на Попова, неловко поправился, — все наши дела за неделю, готовился уезжать домой, сюда, в Варшаву. А Чернов попросил задержаться, сказал, что надо обговорить подробности и уяснить детали, связанные с началом работы издательства.
Татаров глубоко затянулся, заерзал в кресле, вспомнив бледного Савинкова, когда тот пропустил его в квартиру Гоца; лица Тютчева и Баха, чужие, тяжелые, обернутые к нему в полуфас или профиль; в глаза никто не смотрел, словно бы опасались соприкоснуться.
— Николай Юрьевич, хочу просить вас ответить по чести, открыто, от сердца: каким образом вы получили деньги на издательство? — спросил тогда Чернов.
Татаров заставил себя сыграть обиду, хотя сердце ухающе обвалилось от ужаса:
— Чем вызван такого рода интерес?
— Тем, что мы намерены взять издательство под свое руководство, чем же еще, дорогой мой?! Вы старый революционер, вы «Рабочее знамя» организовали, в Петропавловке двадцать дней голодовку держали, опытный конспиратор, — как можно без проверки, не глядя на заслуги, рисковать?!
— Согласен, — несколько успокоился Татаров, решил, что нервы разгулялись, — совершенно согласен, Виктор Михайлович. Я кому-то из наших отвечал: Чарнолусский, либерал, миллионщик, предложил мне двенадцать тысяч серебром — боится революции, с нами поэтому заигрывает, не ровен час — победим… Книгоиздатель Ситрон, Лев Наумович, обещал печатать первые наши издания в своей типографии…
— Вы с Чарнолусским давно знакомы?
— С полгода. Мне его кандидатуру Зензинов подсказал, он может подтвердить.
— А зачем подтверждать? — удивился Чернов и уперся взглядом в Татарова. — Свидетелей суду выставляют, вы разве на суд пришли, Николай Юрьевич? Вы к товарищам по борьбе пришли, разве нет?
— Конечно, конечно, — совсем уж успокоился Татаров. — Именно так! Меня ввела в заблуждение холодность вашей интонации, Виктор Михайлович.
— Ситрон где обещался нас печатать? — спросил Тютчев.
— В Одессе.
— Вы когда с ним видались-то? — продолжал Тютчев рассеянно.
— Да перед самым отъездом, — снова почуяв тревогу, ответил Татаров.
— В Петербурге? — уточнил Тютчев потухшим голосом.
— Не помню… Может, в Москве…
— А вы вспомните, — попросил Чернов. — Это важно, все мелочи надо учесть, мы ведь уговорились.
— Да, вроде бы в Москве, — ответил Татаров. — В кондитерской Сиу мы с ним кофей пили.
— Зачем врете? — спросил Тютчев грубо, сломав все, что было раньше. — Ситрон типографию в Одессе продал еще в прошлом году, он в Николаеве дело начал, оттуда и не выезжал ни разу.
Татаров заставил себя усмехнуться:
— Экие вы, товарищи… Увлечен я, понимаете, увлечен идеей! Ради этого соврешь — недорого возьмешь! Когда сам говоришь, всех зажечь хочется…
— Ну, понятно, понятно, — сразу же согласился Чернов, — как такое не понять… Ну, а градоначальник разрешит нам издание? Ведь издательство надобно провести сквозь министерство внутренних дел.
Татаров тогда почувствовал, что более не может скрывать дрожь в руках, опустил ладони на колени, и в это время в комнату тяжело вошел Азеф, вперился маленькими глазками в лицо Татарова, засопел, сразу полез чесать грудь.
— Ну так как? — спросил Тютчев.
— С министерством внутренних дел обещал помочь граф Кутайсов, — ответил Татаров, загипнотизированный буравящим взглядом своего врага, Азефа, гиппопотама чертова.
— Кутайсов приговорен партией к смерти, — сказал Савинков. — Вы знали об этом?
— Знал… Вы что, не верите мне? — прокашлял Татаров. — Я ж десять лет отдал борьбе…
— Дегаев отдавал больше, — заметил Тютчев.
— Признайтесь сами, — впервые за весь разговор вмешался главный химик партии Бах. — Мы гарантировали Дегаеву жизнь, когда предлагали ему открыться. Мы готовы гарантировать жизнь вам, если вы скажете правду.
— Товарищи, — прошептал Татаров, покрывшись ледяным, предсмертным потом, — товарищи, вы не смеете не верить мне…
Чернов поднял глаза на Савинкова и, не отрывая от него взгляда, проговорил:
— Я думаю, что мы выведем Татарова из всех партийных комиссий до той поры, пока он не объяснится с партией по возникшему подозрению. До той поры выезд из Женевы ему запрещен. В случае самовольной отлучки мы будем считать его выезд бегством и поступим в соответствии с партийными установками.
… Татаров попросил разрешения Попова закурить еще одну папироску и закончил:
— Той же ночью я уехал, думал отсидеться здесь, у стариков, но Савинков нашел меня. Улица Шопена, десять, он оттуда, верно, только-только ушел, его на вокзале надо искать, Игорь Васильевич.
… Попов вызвал Сушкова, отпустив успокоенного им Татарова: «Поставим вам негласную охрану».
— Савинкова мы, скорее всего, упустили, — сказал Попов, — обидно, конечно, лакомый он для нас, но, сдается мне, его покудова департамент брать не хочет — наблюдают, не исчезнет… А Татаров… Что ж, пошлите завтра или послезавтра людей, пусть поглядят, нет ли эсеровских постов.
— Может, поставить засаду на квартире? — спросил Сушков простодушно, не поняв замысла Попова, долгого замысла, развязывающего охранке руки в терроре. Да и потом, коли б Татаров свой был — оберегли бы, а тут чужой, столичный, что за него морду бить и копья ломать? А кровь его будет выгодна, она многое позволит, ох многое!
— Ну что ж, может, стоит, — отыграл Попов, усмехнувшись тонко (со своими-то ухо надо особенно востро держать, сразу заложат), — продумайте только, кого из филеров направить, разработайте план, покажите мне, завтра к вечеру успеете?
Сушков наконец понял, осклабился:
— Или послезавтра.
Попов снова отыграл:
— Тянуть не след. Коли время есть, сейчас и решайте, меня найдете попозже в кабаре или на квартире Шабельского — я там поработать сегодня хочу.
А в это время Савинков прощался на вокзале с Федором Назаровым, горько прощался, считая, что оставляет товарища на верную смерть. Назаров отказался от группы прикрытия: «Зачем людей зазря подводить под расстрел — сам управлюсь». Савинков настаивал. Назаров отмалчивался и отнекивался, потом рассердился:
— Вы что надо мной лазаря поете? Зачем в лицо заглядываете? Покойника живого изучаете, чтоб потом в своих стихах описать? Сколько денег за вирши платят? По нонешним вашим привычкам — проживете? — Приблизился к Савинкову, прошептал: — Неужто наш идеал такой же сытый, как ваша жизнь?
— Вот таким ты мне нравишься, — с трудом оторвавшись от его лица, сказал Савинков. — Таким я тебя чувствую, Федор. А про идеал мой — не надо. И не потому, что я, как руководитель, запрещаю тебе говорить о нем, а оттого, что идеала нет. Ни у тебя, ни у меня, и это правда. Ты ненавидишь тех, кто сыт, кого на дутиках ваньки катают, — это ты нищету свою отрыгиваешь, Федор, будущее не видится тебе, ты кровью живешь, — и не возражай, я прав. Что касаемо моего идеала, я отвечу тебе, я обязан ответить. Самодержавие изгнило, Федор. Его нет — видимость осталась. Безвластие в России невозможно и еще более кроваво, чем нынешняя, Убогая, неуверенная в себе власть. Поэтому я хочу, я, Савинков Борис Викторович, свалить прогнившее, чтобы утвердить новое. И это новое обязано будет воздать мне, воздать сторицей. Поэтому я пришел в террор и руковожу им. Ты ненавидишь сытых и не хочешь замечать голодных. Так? Что ж, программа. Я ее приемлю. только у меня есть своя: я хочу, чтобы новые сытые были умными. Я хочу, чтоб они мои стихи, — Савинков игранул скулами, — вирши, как ты изволил выразиться, чтили, как откровение от Ропшина. Деньги нужны?
Назаров усмехнулся:
— Я думал, только во мне холод, — в вас он пострашней. Деньги не нужны — хватит тех, что дали.
Савинков руки не протянул, молча кивнул, пошел к своему вагону: два колокола уже отзвонило, проводники начали гнусаво скрикивать пассажиров и упреждать провожающих.
Спустя пять часов Назаров зарезал Николая Татарова у него на квартире. Убивал он его трудно: набросились отец с матерью, старались вырвать нож. Сопротивляясь кричащим, цепучим старикам, Назаров ранил старуху, отца, протоиерея, свалил на пол, а Татарова пришил — нож вошел в шею, возле ключицы, податливо, вбирающе, разом.
… Попов позаботился о том, чтобы описание злодейского убийства, «совершенного революционерами в их слепой злобе», обошло с помощью начальника сыскной полиции Ковалика все варшавские газеты. Подготовленный страхом обыватель взроптал, затребовал гарантий. Попов начал готовить аресты: террор должен обрушиться на самую сильную революционную организацию, на социал-демократов, Дзержинского, на тех как раз, которые всегда выступали против индивидуального террора.
6
Дмитрий Федорович Трепов, первый назвавший государю Витте на пост премьера в тревожные октябрьские дни прошлого года, исходил из того, что либеральный сановник, заявивший себя жестким и мудрым финансистом, должен будет нанести удар не только по открыто революционным партиям, но и по особо крикливым «конституционалистам» и таким образом лишится поддержки тех, на кого он, как полагал Трепов, незримо, не один год уже, опирался.
Трепов, которого справедливо считали военным диктатором в октябрьские дни, был — не без сильного влияния Витте — убран с поста петербургского губернатора и товарища министра внутренних дел, назначен государем дворцовым комендантом, но это, казалось бы, понижение на самом-то деле было звеном в том плане, который вынашивался: объединить всех верных двору на то время, покуда Витте будет выведен на первый, прострельный план и окажется в фокусе пристального общественного внимания.
Пока же Дмитрий Федорович сопровождал государя во время прогулок; следил за тем, чтобы каждый день привозили сухие поленца (его императорское величество более всего любил на досуге помахать колуном, рубил дрова, как мужик, только что потом не разило, пользовался препаратом Фэко, отбивавшим дурные запахи); готовил проекты писем и телеграмм в Берлин, Париж, Лондон, Вашингтон, лично наблюдал за работой шифровальщиков; докладывал каждодневные рапорты министра внутренних дел Дурново; сообщал пикантности, которые приносил на хвосте чиновник для особых поручений при Витте, агент охраны, пройдоха и сукин сын Мануйлов-Манусевич; классифицировал документы и рассказывал за ужином солдатские анекдоты — государь искренне веселился.
Все шло как шло, чужих, не своего круга, к государю не допускали, наиболее важные решения обговаривались загодя с великими князьями, губернаторами и высшими военачальниками, они доказали свою неколебимую верность трону в трудные осенние и зимние дни, когда стреляли в народ, посмевший бунтовать, никаких законных оправданий не требовали и «конституционные штучки» открыто презирали. Все шло как шло, но постепенно Трепов начал замечать, что Витте стал позволять себе — особенно в журнальных интервью: вроде бы так получалось, что он истинный хозяин России, а отнюдь не государь, преданные ему духовенство, дворянство и воинство. Трепов подпустил было по этому поводу шар, императрица согласно улыбнулась, но промолчала, однако государь с обычной для него бесхребетной заторможенностью откликнулся:
— Пусть себе говорит… Работать-то он умеет… Кайзер о нем высоко пишет, а кузен Вилли — умный человек, политиков чует…
Трепов поднял тексты расшифрованных телеграмм и личных писем — благо, в его архиве хранились; единственный ключ от сейфа у себя в спальне прятал. Читал, обращая внимание на отдельные абзацы, шевеля губами, силился подражать кайзеровой манере говорить, ему казалось, что так он надежнее поймет второй смысл, заложенный в переписке, кто ж в наш век без второго смысла пишет, разве неуч один и дурень… «Милейший Ники. Твой манифест об учреждении Думы произвел впечатление… Следует подвергнуть Думу маленькому испытанию и посмотреть, насколько она работоспособна. В то же время ты приобретаешь возможность хорошо ознакомиться с мыслями и взглядами своего народа и возложить на него часть ответственности за будущее, которую он, пожалуй, не прочь был бы свалить исключительно на тебя. Таким образом, огульная критика и недовольство по поводу совершенных тобой одним действий станут невозможными. … Сегодня я видел великого герцога Георга с Минни Греческой. Он сказал мне, что из частных источников он узнал, что указ о созыве Думы произвел прекрасное впечатление на русское провинциальное общество и что симпатии к Германии и благодарность за наше отношение к России во время войны живы и горячи. Мои сестры, Тино и все семейство шлют тебе сердечный привет. Не забудь выпустить приказ, уравнивающий армию с гвардией в правах производства. Это даст прекрасные результаты. Посылаю тебе несколько новых почтовых карточек со снимками Заальбурга… Ну, прощай, мой милый Ники, бог да поможет тебе и да сохранит тебя и все твое семейство… Твой преданнейший и любящий друг и кузен Вилли». «Милейший Ники. Визит Витте предоставляет мне приятный случай послать тебе несколько слов. Это приносит мне всегда большое удовольствие; надеюсь только, что письмо тебе не очень наскучит. С Витте у меня был очень интересный разговор. Он произвел на меня впечатление человека редкой проницательности и дальновидности, одаренного незаурядной энергией… Ему удалось довести Портсмутскую конференцию до столь удачного конца… Его враги и завистники в России будут, без сомнения, стараться умалить его заслугу и постараются уверить всех в том, что он не отстоял интересов своей родины так, как должен был бы это сделать. Великие люди, а я полагаю, что его следует к ним причислить, всегда будут встречать известное количество зависти и лжи, как противовес тем похвалам, которые расточают им их поклонники. Но за них говорят факты, и Портсмут говорит сам за себя. К моему удовольствию, для меня выяснилось, что его политические идеи и те взгляды, которыми мы с тобой обменивались, вполне совпадают в своей основе. Он усердно отстаивает мысль русско-германо-французского союза, в духе которого, как он мне сказал, с удовольствием будет действовать и Америка… (Три наши государства) — наиболее естественная группировка держав, являющихся представительницами „континента“, и к ней примкнут другие, более мелкие державы Европы. Америка будет на стороне этой „комбинации“, во-первых, с расовой точки зрения американцы определенно „белые“ и „антижелтые“; во-вторых, политически, благодаря тому, что Япония опасна для Филиппин, на которые японцы устремляют завистливые взоры, потеря же Филиппин неблагоприятно отозвалась бы на положении Америки в Тихом океане; в-третьих, из-за опасной конкуренции японской торговли, которая находится в более благоприятных условиях вследствие очень дешевого труда в Японии и свободы от уплаты за доставку товаров издалека и за провоз их через Суэзский канал. Последний расход ложится тяжелым бременем на всю европейскую торговлю. То же самое будет и с „Панамским каналом“. „Континентальный Союз“, пользующийся содействием Америки, является единственным средством закрыть путь к тому, чтобы весь мир стал частной собственностью английского Джона Буля, который его эксплуатирует по своему усмотрению, после того как он при помощи бесконечных интриг и лжи перессорил между собою все остальные цивилизованные народы… Вообще „либеральные западные державы“, как я предсказывал, и противодействуют тебе не только во внешней политике, но и еще усерднее и откровеннее в твоей внутренней политике. Французская и английская либеральная пресса… совершенно открыто клеймят каждый монархический и энергичный шаг в России — „царизм“, как они это называют, и открыто становятся на сторону революционеров в их стремлении распространить и поддержать либерализм и „просвещение“, в противовес „царизму“ и „империализму“, в „неких“ отсталых странах. Эти страны — твоя и моя. Англия всегда подкупает французов фразой: „Сообща оберегать интересы либерализма во всем мире и проповедовать его в других странах“. Это значит, подстрекать к революциям и помогать им повсюду в Европе, особенно в странах, которые, в счастью, пока все еще не находятся в неограниченной власти этих адских парламентов. … С твоего любезного согласия я предлагаю послать к твоему двору г. Ф. Шена… Он хорошо знает Италию, говорит по-французски, по-итальянски, по-английски, как на своем редком языке, очень подвижен и прекрасно играет в лаун-теннис на случай, если бы тебе понадобился партнер. … Недавно узнали через Вену нечто такое, что должно тебя позабавить. Американский посол г. Беллами Сторер рассказал одному из моих друзей, что он встретился в Мариенбаде с английским королем… (Король) стал говорить, что необходимо оставить Россию на долгое время ссзершенно беспомощной и искалеченной в финансовом отношении… Как кажется, он боится, что Америка присоединится к другим государствам, которые собираются, по выпуске большого международного займа, дать России денег, и старался повлиять на Сторера, чтобы тот сделал домой сообщения в этом направлении, от чего Сторер, конечно, уклонился… … Ну, прощай, милейший Ники, привет Алисе и поцелуй мальчику от твоего преданнейшего друга и кузена Вилли». «Дорогой Вилли! Позволь поблагодарить тебя за письмо, переданное мне Витте, а также и за оказанную ему тобой честь. Он подробно доложил мне обо всем, что он от тебя слышал, и о том, что говорил тебе. Я очень доволен тем, что он произвел на тебя хорошее впечатление и что мысли его о международной политике в большинстве случаев совпадают с твоими… … При попытке выяснить, возможно ли побудить французское правительство присоединиться к нашему соглашению, на первых же шагах обнаружилось, что это является трудной задачей и что потребуется много времени для того, чтобы привести его к этому по его доброй воле. Иначе можно толкнуть Францию в объятия противника и она может не сохранить предложений в тайне… Твой Ники». «Дорогой Ники. … Обязательства России по отношению к Франции могут иметь значение лишь постольку, поскольку она своим поведением заслуживает их выполнения. Твоя союзница явно оставляла тебя без поддержки в продолжение всей войны, тогда как Германия помогала тебе всячески, насколько это было возможно без нарушения законов о нейтралитете. Это налагает на Россию нравственные обязательства также и по отношению к нам: „Даю, чтобы ты дал“. Между тем нескромность Делькассе note 1 обнаружила перед всем миром, что Франция, хотя и состоит с тобою в союзе, вошла, однако, в соглашение с Англией и была готова напасть с помощью Англии на Германию в мирное время, пока я делал все, что мог, для тебя и твоей страны, ее союзницы! Это эксперимент, которого она не должна повторять и от повторения которого, смею надеяться, ты оградишь меня! Я вполне с тобой согласен, что потребуются время, усилия и терпение для того, чтобы заставить Францию присоединиться к нам… Вся ваша влиятельная печать: «Новости», «Новое Время», «Русь» — за последние две недели стала резко германофобской и англофильской. Отчасти эти газеты, конечно, подкуплены большими суммами английских денег. Однако это заставляет мой народ быть настороже и сильно вредит возникающим между нашими государствами отношениям. Все эти обстоятельства показывают, что времена теперь смутные и что мы должны держаться определенного пути; подписанный нами договор (в Бьёрке) есть средство идти прямо, не касаясь твоего с Францией союза, как такового. Что подписано, то подписано! .. Буду ждать твоих предложений. Сердечный привет Алисе. Твой Вилли». Отправлена из Глюксбургостзее… в 6 ч. 40 м. вечера. «Милейший Ники. Возвращение генерала свиты фон Якоби в Царское Село дает мне случай послать тебе с ним эти строки. Я пишу их, чтобы выразить тебе мою искреннюю и сердечную благодарность за твои добрые пожелания по поводу нашей серебряной свадьбы и за великолепные подарки, которые ты прислал нам обоим. Они действительно великолепны! Красивого цвета и изысканной работы; цифры из драгоценных камней эффектно выделяются на мягкой темной зелени камня. Они привлекали внимание наших гостей и вызывали должное восхищение. Очень мило с твоей стороны, что ты вспомнил о нашей старой свадьбе и принял такое участие в нашем празднике; я был очень рад приветствовать все присланные тобой депутации… … Я вполне согласен с твоими взглядами на анархистов… Трудность борьбы с этим бичом человечества, как ты совершенно верно замечаешь, состоит в том, что в некоторых странах, главным образом в Англии, эти скоты могут жить беспрепятственно и подготовлять там свои заговоры… … Всегда твой горячо любящий друг и кузен Вилли».
Трепов долго сидел в тяжелой задумчивости, потом сложил переписку в кожаную, с тисненым двуглавым орлом и личным вензелем государя папку и отправился прогуляться — на воздухе легче думалось, а то печи во дворце к вечеру перетопили, изразцы несли теплую духоту, в висках ломило.
«Плохо дело-то, — сказал себе Трепов. — Витте силу начинает набирать сурьезную — если сейчас не отобрать, потом не отдаст. Как его кайзер подкатил к государю-то, так ведь и пошло, так и пошло. В дипломатии государь все под Виттову дудку плясал. Норовит Сергей Юльевич поженить Россию с Францией, норовит ворота республиканскому духу отворить. Хотя, может, кайзер его поначалу лишь подкатывал, покуда думал, что Витте — воск? А сейчас зубы показал, ему же, кайзеру, на пятки наступает, его же с Францией лбами сталкивает — неужто немец не понимает? А может, сговорились? Какой Витте русский? — Трепов, вздрогнув, остановился. — Как бы такое при императрице не брякнуть, она хоть по-русски плохо понимает, но про это сразу поймет… Да… Валить надобно Сергея Юльевича-то, а? Когда новые становятся нужны — старых взашей гонят, не я это открыл… »
К определенному решению Трепов не пришел, но тревога с того дня росла постоянно: жернова крутили только одно: как быть с ухватистым премьером дальше? Неужели терпеть? Неужто опоздал?
Через неделю пригласил на завтрак Петра Николаевича Дурново — такие вещи надобно обговаривать с министром внутренних дел, он все тайное знает. Дурново хоть и в кабинете, но думает хорошо, верно думает, понимает, что Россию правительством не удержать, ее надо хомутать губернаторами, военными, полицией, земскими властями, становыми. Пусть бы Витте проекты писал и отдавал их на благоусмотрение, они бы под сукном-то належались, все б тихо шло, по-старому, но ведь Дума теперь, он же в Думе может речь бабахнуть, при публике и щелкоперах, раньше-то ведь только здесь имел право говорить, в Царском Селе, здесь что угодно неси, никуда не выйдет… А теперь открыто говорят и Милюков с Гучковым, и Ленин с Плехановым, и Чернов с Савинковым, а в Варшаве какие-то Люксембурги с Доманскими, а на Кавказе всякие там Шаумяны…
7
— Господин Милюков?
— Слушаю.
— Павел Николаевич, я к вам по поручению Сергея Юльевича Витте.
— Добрый день.
— Павел Николаевич, не смогли бы вы завтра, в семь часов вечера, пожаловать в Зимний для беседы с председателем совета министров?
Милюков хотел было ответить рассеянным согласием, сыграв полную незаинтересованность во встрече с Витте, но представил вдруг, что, возможно, провокация это — черной ли сотни, экстремистов социал-революционной партии, денежных ли воротил из гучковской группы «октябристов», — и, кашлянув, ответил:
— Оставьте ваш телефон, пожалуйста… И кого спросить?
— Это аппарат приемной председателя совета министров. Я сниму трубку. Меня зовут Григорий Федорович, я представляю протокол господина Витте…
— Я отзвоню вскорости, Григорий Федорович, — ответил Милюков и опустил трубку на рычаг, похожий на рога черта, — бельгийцы, поставлявшие в Россию телефонные аппараты, каждый год меняли форму: представитель фирмы Жак Васильевич де Крюли почитал себя знатоком русского характера и сам вычерчивал причудливости, которые, по его мнению, угодны «невероятному по извивам национальному характеру великороссов».
Милюков вышел из кабинета в столовую, обогнул огромный стол: как все люди невысокого роста, он любил большую мебель, — остановился у окна, прижался лбом к стеклу и почувствовал, как горло перехватил спазм и глаза увлажнились: по улице шли студенты и курсистки в распахнутых пальто, счастливые, громкие, и лица у них были до того веселые и открытые, какие только и возможны у культурных людей в дни лавинной свободы.
«Я, я, я», — запело в Милюкове, и он, застеснявшись этого, заставил себя слышать «мы, мы, мы», словно бы опасаясь, что мысли его могут стать громкими, доступными для окружающих.
«Хотя для кого? — подумал он. — Жена и дети живут духом отдельно, не только домом. Все отдано на алтарь свободы, все отдано этим юношам, которым жить отныне в условиях демократии, а не дремучей дикости. Но чтоб запомнили вклад каждого, надобно избегать „я“. Лишь только необъятное „мы“ выпрет морской, соленой толщей „я“, словно буй, по которому ориентируются в море… »
Милюков устало прикрыл глаза, и вся жизнь пронеслась стремительным видением перед взором памяти. Он всегда поражался, как в этом моментальном потоке воспоминаний, ограниченном секундами, мозг управляется обнять годы, лица, споры, — нет, удивителен все-таки человек, таинствен, коли представить в мгновение может то, на что потребны сотни страниц бумаги и долгие месяцы труда, решись он записать все это для потомков.
Милюков вспомнил безмятежное детство, арбатские переулки, теплое молоко с маслом и медом, потом гимназию, университет, поразительные лекции Ключевского по истории России, когда впервые стала чудиться ему новая держава, спроецированная из петровской великой дали на сегодняшний ползучий день, первый скрипичный квартет, где он вел прозрачный, трепетный альт, столь нежно соседствовавший с виолончелью Александра Даля, брата великого филолога; роман с пленительной Иреной
— «ты, как всегда, права: пусть сердце будет строго, чтоб хлева не завесть, где раньше храм стоял, и чудно чист твой храм, служительница Бога, мой вечный идеал»… А потом путешествие по Италии, первое прикосновение к Ватикану, знакомство с Европой не по книгам, а в жизни; диссертация, в которой юный историк первым провозгласил возможность братского соглашения славянофилов с западниками, выдвинув свою версию о Петре Великом, версию, по которой реформы неистового государя не были ни в коем разе слепым заимствованием у Запада, а выражали естественный процесс внутренней эволюции страны, как и естественна была встречная тяга Запада к России. Он тогда первым выдвинул тезис, что вся допетровская история страны была подготовкой к реформе, и потому роль царя, названного Великим, была чрезмерно деспотичной, напугавшей поколения своеволием и яростной нетерпеливостью, хотя, впрочем, что может быть более русским, чем одержимая нетерпеливость?! Именно он, Милюков, выдвинул тезис примирения славянофилов и западников — течений, казавшихся непримиримыми, многого смог добиться в сложной на взаимоуживание профессорской среде. Кто мог представить, что учитель, Ключевский, бросит палку под ноги?! «Нельзя сидеть на двух стульях». Ах, боже ты мой, велика премудрость! Сидеть нельзя, но сдвинуть-то поближе надобно! Худой мир куда как лучше славной войны! Добром-то лучше жить, добром и выдержкой, чем необузданной яростью. И коли Думать о заветном, о парламенте, так надобно сдвигать стулья, сдвигать, но не растаскивать по углам!
… Милюков всегда с недоуменным юмором вспоминал свой арест в 1900 году, после того как выступил на вечере памяти Петра Лаврова — главного противника бунтарей во главе с Бакуниным. Он ведь на том памятном вечере звал к примирению, к национальной гармонии, пугал возможностью террора — отвратительного по своей жестокости, — коли не открыть путь реформам; он звал к разуму, к эволюции, а пришли жандармы и увезли в дом предварительного заключения на Шпалерной. И хотя ежедневно друзья присылали в камеру пирожки с грибами и свежую астраханскую белужку, чувство горестной обиды не оставляло доцента. Попросил абонемент в Публичной библиотеке подобрать материалы по Петру, сказал, чтоб привезли стол из дому, сел писать, работал самозабвенно. Когда стражник во время прогулки сообщил об убийстве студентом Карповичем министра Боголепова, испытал ужас: «А ну, как обвинят в подстрекательстве?! Касался ведь террора, пусть даже порицал, но слово-то произносил, слово-то вылетело!» Поэтому, когда вызвал на допрос генерал Шмаков и начал угрожать полицейским всезнанием, требуя чистосердечия, Милюков с трудом сохранял лицо, не понимая, в чем ему надобно признаться, — ничего противозаконного он не делал и в мыслях не держал. Шмаков играл горестное недоумение, звал к мужеству: «Вот, помню, допрашивал страдальцев из „Черного передела“, так те были горными орлами, сразу говорили: „Да, я революционер, да, я хотел вашей гибели!“ А теперь? Мелюзга пошла, воробьи навозные». Милюков брезгливо отметил, что в голове тогда пронеслось: «Лучше живым воробьем, чем мертвым соколом». Отпустили его без суда, обязав покинуть Питер. Уехал в Финляндию, там работал над книгой, туда пришло известие, что по решению министерства осужден за говорение лишнего на полгода тюрьмы. Испросил высочайшего разрешения на отсрочку приговора, отправился в Англию совершенствоваться в языке. Когда вернулся из-за границы и пришел в «Кресты», там принять отказались: выходной день. Пришлось садиться в понедельник: камеру за ночь хорошо вымели и проветрили, поставили стол побольше, чтоб удобнее было работать с книгами. Однако срок отсидеть не удалось: по прошествии трех месяцев вызвал министр внутренних дел Плеве Вячеслав Константинович. Грозный сановник был любезен, пригласил в кресла, к чаю; умно и комплиментарно говорил о книге арестанта «Очерки по истории русской культуры»; интересовался причиною «досадных недоразумений» с «дуборылами» из полицейского ведомства; пиететно отозвался о профессоре Ключевском, хлопотавшем за своего талантливого ученика перед его величеством государем императором, который и повелел ему, Плеве, побеседовать с доцентом лично, дабы вынести собственное суждение о Павле Николаевиче, обязанном, по словам Ключевского (ставшего ныне наставником брата государя — Георгия), приносить пользу русской науке, а не сидеть взаперти, словно какой социалист.
Милюков с досадою вспоминал впоследствии ту искренность, с какой он потянулся к Плеве, и как он излил ему сердце, выскоблил душу, ничего не утаив про свои мысли об империи, ее настоящем и будущем.
— Что бы вы ответили мне, — задумчиво произнес тогда Плеве, выслушав исповедь Милюкова, — если б мы предложили вам пост министра народного просвещения?
Острый мозг доцента в секунду просчитал вероятия: какой ответ ждет Плеве, какой следует дать, исходя из обостренного чувства перспективы, какой угоден летописи, а какой — ему, Милюкову. Ответил он по вдохновенному чувствованию «яблочка». Последствия не анализировал — ему казалось, что сослагательность, окрашенная юмором, будет угодна Плеве. Учел он и то, что нет в России сановника, который бы не был падок на достойно-умеренную лесть.
— Я бы отказался, — ответил тогда Милюков. — С благодарностью, но тем не менее скорее всего отказался б.
— Отчего?
— Да ведь что сделаешь для пользы отечества на том посту? Вот если бы ваше превосходительство изволили мне предложить занять ваше место, место министра внутренних дел…
Плеве рассмеялся, перевел разговор на историю, заинтересованно слушал рассказ Милюкова о культурной политике Петра, дивился бритвенности доцентового анализа и в заключение обещал завтра же доложить о беседе государю. Проводил до двери, как именитого гостя, а не арестанта. Через неделю Милюкова освободили. Сообщил ему об этом тот же Плеве. Чаем на этот раз не потчевал, портфель не сулил. «Не вступайте с нами в борьбу, — хмуро произнес он, — иначе сомнем. Я дал о вас государю положительный отзыв. Езжайте к себе на дачу, живите спокойно, вы свободны». А потом были годы в Америке и Англии — лекции, успех, овации студенческой аудитории, знакомства с профессурой, раздумья о будущем империи, и эти-то раздумья привели Милюкова в Загреб — надо было выстраивать концепцию мощного союза славянских государств, который бы простирался от Адриатики до Великого океана. Для этого царь должен дать империи конституцию и парламент, столь необходимый в системе всеевропейского сообщества. Мощный славянский союз лишь и способен нейтрализовать честолюбивые амбиции кайзера; блок России, как матери славянства, Англии и Франции — будущее мира.
А потом было Красное воскресенье (Милюков совестился называть этот день «кровавым» — слишком уж эмоционально, надобно готовиться к парламентаризму, а там, в парламенте, следует избегать эпитетов), новый курс лекций в Америке, возвращение в Париж, создание группы «конституционных демократов», которых сразу же — по новой страсти к сокращениям — обозвали кадетами; правые, из «Союза русского народа», называли, впрочем, обиднее — «кадюки», для тех страшнее европейского парламента ничего Нет, тем — только б по-старому, «как раньше», как при покойном императоре, при том не поговоришь!
И вот сейчас звонят от председателя совета министров Витте, звонят и справляются, не согласился бы он, Милюков, пожаловать на переговоры в Зимний дворец.
«Слово „переговоры“ употреблено не было, — поправил себя Милюков.
— Не надо забегать. Переговоры будут».
Он вернулся к рабочему столу, потянулся рукою к телефонному аппарату и вдруг близко и явственно увидел лицо Ленина. Впервые они встретились в Лондоне — лидер большевиков пригласил его к себе. Милюков чувствовал себя скованно в крошечной комнате Ленина, его тяготил дух спартанства и тюремной, камерной, что ли, аккуратности. Ленин слушал Милюкова внимательно, взглядывал быстро, объемлюще. Не перебивал, когда Милюков критиковал статьи социал-демократов его, ленинского, направления, которые вслед за своим руководителем настойчиво повторяли тезис о скорой и неизбежной революции в России. Милюков взывал к логике, пытался доказать необходимость эволюции, анализировал тактику «шаг за шагом», говорил о действиях «на границе легальности», но не переходя этой границы. Ленин хмыкнул: «Боишься — не делай; делаешь — не бойся». Милюков предложил «столковаться». Ленин удивился: «Если вы уповаете на царя, если вы ждете демократии от Плеве
— как же мы столкуемся, Павел Николаевич? Мы говорим — работа во имя революции, вы проповедуете: «Ожидание во имя эволюции». Вы, простите за резкость, канючите; мы — требуем». Милюков тогда возразил: «Владимир Ильич, но ведь Россия не готова к безбрежной свободе! » Ленин сожалеюще посмотрел на Милюкова, ответил сухо, заканчивающе: «Свобода не принимает определений, Павел Николаевич. Или свобода, или ее отсутствие».
… Милюков назвал телефонной барышне номер, услышал голос протоколиста Витте и сказал:
— Я обсудил предложение председателя совета министров с моими коллегами. Я буду завтра в семь часов в Зимнем дворце, Григорий Федорович.
— Вас встретят у входа, — уколол секретарь. — Встретят и проведут к его высокопревосходительству.
Милюков положил трубку и подумал: «Неужели, если просить, а не требовать, всегда на „встретят и проведут“ будешь натыкаться? Неужто нельзя миром? Неужели побеждает требующий? »
Его обидела заметка в одной из газет: «Как политик Милюков сделан не из того материала, слишком привержен компромиссу, другое дело — историк, исследователь национального характера… »
Милюков подумал тогда: «А что плохого в компромиссе? Он угоден политике. Да, мы готовы на компромисс — с умным чиновником, с Витте, например. Отчего нет? Однако же на каких условиях? Дайте закон, дайте писаное право, уважайте это право, вами же данное, — столкуемся. Отмените волостных держиморд, разрешите выборные муниципалитеты, то есть первичные ячейки демократии, отмените сословные ограничения — сговоримся тогда по остальным пропозициям. „Не тот материал“ для политика… Что этот щелкопер в русском характере понимает? Как объяснить ему, что „терпение“ — особый смысл для низов, „правление“ — особый ряд для верховной власти, а „государев закон“ не уважает ни тот, кто издает его, ни те, для кого он писан… Как же в такой стране
— и без компромисса? Да, и с царем компромисс! А как же иначе? Без него анархия так разыграется, что все сметет, пустыня останется. В народе сильны царистские настроения, разве можно забывать об этом? Надо сдвинуть воз с места. Под гору сам покатится, наберет скорость. А что такое скорость? Конституция, просвещенная монархия — на этом этапе правовое государство, о большем-то и мечтать сейчас нельзя… Какой социализм в России?! Столетия его ждать — и то не дождешься… »
… Милюков посмотрел манжеты: чисты ли, — словно бы идти к Витте сейчас, а не завтра. Понял — нетерпение, прекрасное русское свойство, жажда приближения мечты, — одной ногою постоянно в дне грядущем, пропади пропадом прежнее и нынешнее, мы не британцы: те дрожат над каждой минутой, не то что днем! Старая нация, в устоявшемся живет, а устоявшемуся главное отличие — бережливое отношение ко времени, ибо оно таит в себе радость удержания бытия, а не постоянное — как у россиян — чувство тревожной неустроенности.
«Если не смогу склонить богов, двину Ахерон, адскую реку», — вспомнилось изречение древних. Именно он, Милюков, ввел в газетный обиход упоминание об Ахероне — реке революции. Цензура «Ахерон» выбросить не смела — греческий, а дошлому читателю все понятно, выучен либерал искать правду, словно блоху, между строк, интеллигент на тонкий намек дока — другой-то нации человек голову сломит и в толк не возьмет, а наш сразу очками зыркает и бороду поглаживает — готов к дискуссии…
«Если Витте окажется несговорчивым, если он станет медлить с конституцией, я двину против него Ахерон, — ясно подумал Милюков и подивился, что даже с самим собою, в мыслях, он определил социал-демократов мифической, подцензурной рекою. — Витте и дворец надо пугать угрозою революции, требовательностью Ленина. Это подвигнет Витте на создание кабинета деловых людей. Я готов принять портфель министра внутренних дел — не иначе. Если что другое — надо ждать и пугать, ждать и пугать. Ленин — это сила, и, если ошибиться в малости, он может оказаться — на какое-то, естественно, время — ведущим в революционном процессе. Долго он, понятно, не удержится, Россия — как бы он ни спорил — к демократии не готова. Видимо, это понимает Плеханов… Только постепенность, только эволюция — как противуположение Ахерону».
Милюков споткнулся даже, усмехнулся, покачал головою.
Шаг за шагом к свободе. Любая революция гибельна для России — произнес медленно, чуть ли не по слогам, снова про себя: «А ведь такое на людях не скажешь, заклеймят принадлежностью к дворцовой камарилье, „треповцем“ ославят. Господи, и отчего ж ты так несчастна, милая моему сердцу родина?!»
8
Ленин проснулся затемно еще; за окном вагона шел снег — J мягкий, не январский, а мартовский скорее, — он залепил стекло, и в купе от этого было еще темнее. Поезд тащился медленно, подолгу стоял на маленьких станциях: движение по Николаевской дороге после московского восстания еще не наладилось, поэтому и пассажиров было немного; в купе второго класса вместе с Лениным ехал штабс-капитан, страдавший от флюса.
Проводник крикливо предложил чай, распахнув по-тюремному дверь, не предупредил даже стуком, убежал, не дослушавши толком.
— Вот до чего дошли, а? — вздохнул штабс-капитан. — Анархия всегда начинается с забвения вежливости… Как думаете, сода у него есть?
— Видимо.
Штабс-капитан накинул мятый френч на чесучовую, китайского, кажется, пошива рубашку, вышел в коридор, крикнул:
— Человек! Пст! Челаэк! Живо!
Ленин прижался лбом к стеклу, закрыл глаза и сразу же вспомнил Пресню. Иван водил его по улицам утром, когда были прохожие, — не так заметны в толпе. Ленин, впрочем, мастерски изменил внешность, ушанку натягивал чуть не на глаза, щеки не брил, заросли жесткой рыжеватой щетиной — ни дать ни взять мастеровой.
Ленин просил отвести его к дому Шмита, долго разглядывал переулок, рваные выщербины на стенах домов — следы пуль и снарядов, — потом спросил:
— Вы не озадачивали себя вопросом: при каких условиях можно было победить?
— Если бы поддержал Питер, — сразу же ответил Иван и резко подернул плечами: после того, как во время митинга украли револьвер, носил теперь два, рукава поэтому были как у извозчика — закрывали пальцы, а сейчас, сопровождая постоянно Ленина, набил карманы патронами, пальто «стекало» вниз. — Если бы путиловцы смогли остановить семеновцев. Если бы у нас были пулеметы. Если бы штаб действовал, а не говорил.
— Словом, — заключил Ленин, — восстание — это наука, а науке этой мы не были учены. Так?
— Именно.
— Зачем сразу соглашаетесь? Спорьте!
— Было б с чем… Нас хлебом не корми — дай поспорить…
— Это верно, — согласился Ленин. — В маниловском прожектерстве — главная наша беда. Намечать, согласовывать, предполагать — обожаем; А наука — вещь строгая, мы в нее трудно влазим: размах, великая нация, огромная страна, порядка никогда не было, все от чувства норовили, порыв, понимаете ли… А как до дела — «не нужно было браться за оружие», не надо отталкивать либералов…
— Да, Георгий Валентинович, видно, в Швейцарии засиделся…
— Мы тоже не в Перми жили, — заметил Ленин. — В эмиграции как раз изнываешь от отсутствия практической работы…
— В чем тогда дело?
Ленин промолчал, пожал плечами: до сих пор чувствовал в себе какое-то особое, щемящее отношение к Плеханову, вмещавшееся, видимо, в одно слово, бесконечно, с детства, дорогое ему, — учитель.
… По вагонному коридору загрохотали сапожищи — жандармы, их можно определить сразу по всепозволенности походки, топают и сопят, словно в атаку поднялись. В дверь, однако, постучали вежливо.
— Войдите, — сказал Ленин.
Дверь распахнулась, заглянул унтер, за ним любопытствующе, вытягивая шеи, толпились жандармы. Ленин поправил очки (пришлось заказать с тяжелой оправой, Красин считает, что именно такие меняют выражение лица, «размывают, — Ленину это запомнилось, — глаза»), строго спросил:
— В чем дело?
— Документ извольте.
Ленин протянул паспорт. Красин перед отъездом сказал, что «бумага» вполне надежна, в «работе еще не была».
Унтер оглядел купе; взгляд его цепляюще остановился на непочатом штофе зубровки — штабс-капитан велел «челаэку» купить в Клину, в буфете первого класса, боялся, что не сможет уснуть из-за флюса. Ленин заметил, как унтер осторожно, интересуясь, тронул пальцами красный, потертый плюш дивана. Здесь, во втором классе, — тихие, в кулак кашляют. Каковы-то они в первом? Наверное, не решаются входить, чувствуют себя с господами неуверенно. Подумалось: надо бы наших отправлять по стране и за границу в первом классе, меньше риска, деньги пока есть, Горький крепко выручил…
Унтер козырнул, выбросив пальцы из кулака, пожелал доброго пути, прокашлялся трубно, смущенно, видимо ждал, что поднесут.
… Горький. К этому человеку Ленин тоже испытывал особое чувство: внутри теплело; смотрел на него с гордостью, слушал изумленно; в неловких, но чрезвычайно объемных фразах ощущал постоянное присутствие образной мысли.
После возвращения из эмиграции Ленин пришел в редакцию большевистской «Новой жизни». Договор на издание газеты заключил поэт Николай Минский; Горький полагал, что большевикам не удастся получить легальное право на печатание своего центрального органа в цензурном комитете, и назвал кандидатуру — поэт был популярен и легок. Минский, заключив договор, весь день вместе с Гиппиус и Тэффи осматривал помещения, сдававшиеся под конторы; Зинаида Николаевна Гиппиус — во вкусе не откажешь — присмотрела на углу Невского и Фонтанки роскошные, с лепными потолками и огромными итальянскими окнами апартаменты. Наняли швейцара Гришу, старца с окладистой бородой, сшили ему красную ливрею — намекнули на цвет газеты; большевистскому редактору Румянцеву положили немыслимый оклад.
Первый номер разошелся тиражом громадным — за шестьдесят тысяч экземпляров; вечером газета стоила пятьдесят копеек вместо трех; в приложении был напечатан устав и программа партии — впервые легально.
Минский по этому случаю закатил банкет; пришли Горький, Красин, Боровский, Лядов, Литвинов, Богданов; Гиппиус привезла своих, — поэты были нечесаны, в невероятного цвета костюмах; дамы декольтированы. Мартын Лядов смотрел на них с ужасом. Поэты, узнав от Горького, что Литвинов дерзко бежал из затвора, обступили, затискали вопросами; Тэффи не скрывала слез. Минский поднял высокий хрустальный бокал с финьшампанем за «его величество рабочий класс! ». Гиппиус прочитала стихи: «Страшное, грубое, липкое, грязное, жестко-тупое, всегда безобразное, медленно-рвущее, мелко-нечестное, скользкое, стыдное, низкое, темное, явно-довольное, тайно-блудливое, плоско-смешное и тошно-трусливое, вязко, болотно и тинно-застойное, жизни и смерти равно недостойное, рабское, хамское, гнойное, черное, изредка серое, в сером упорное. Но жалоб не надо, что радости в плаче, я верю, я верю, все будет иначе! » Поэты восторженно целовали ее, шептали про гениальность; разойдясь по углам, презрительно усмехались: «дамский классицизм».
… Ленин прошел апартаменты по привычке стремительно. Румянцев, фактически главный редактор, едва за ним поспевал, приговаривая «легализуемся», обегая Ленина, распахивал двери, знакомил с секретаршами в пенсне и репортерами — все в английских клетчатых пиджаках, будто в униформах, сосут трубки.
Вернулись в редакторский кабинет; стола не было, Гиппиус купила секретер карельской березы с инкрустацией на охотничьи сюжеты — павловский стиль, восемнадцатый век. Горький устроился на широком, в пол-аршина, подоконнике, просматривал гранки. Ленин подошел к нему вплотную — затылок на уровне подбородка; поднялся на мыски, сунул руки глубоко в карманы, словно замерз, хотел согреться:
— Алексей Максимович, рассказывают, что товарищ Румянцев после кофе сигары стал спрашивать в ресторанах — главный редактор, понятное дело, но вы-то, вы! Товарищ Румянцев снискал себе славу как блистательный земский статистик, он интеллигент в третьем колене, но вы-то, Алексей Максимович, вы себя вспомните! Неужели вам ловко чувствовалось в подобного рода кабинетах, где столов нет, а сплошные гнутости, когда вы свои первые рассказы приносили?! Кто из рабочих в эти апартаменты придет?! Здесь же швейцар дверь распахивает, Алексей Максимович!
Договор с Минским расторгли, репортеров «в клетку» рассчитали, швейцара пристроили в ресторан «Вена» — помогли старые связи с распорядителем, сочувствовал партии, только после этого пригласили рабочих, предложили самим писать заметки в газету…
Ленин тогда пришел в редакцию вечером: задержался на заседании боевой группы ЦК, изучая материалы о положении в Кронштадте. Заглянул в комнату, где Румянцев рассадил за столом рабочих: двух молодых парней и девушку, синеглазую, веснушчатую, волосы будто лен.
— Ну, как работа? — спросил Ленин.
Один из рабочих — кочегар с Ижорского завода Василий Ниточкин — хмуро ответил:
— Не наша это работа. Сидим, потеем, а слова не складываются.
Ленин подвинул стул к тому столу, за которым расположился Ниточкин, спросил:
— Вы позволите посмотреть вашу корреспонденцию?
— Так вот она, открыто лежит.
— Некоторые товарищи, — пояснил Ленин, — если к ним через плечо заглядывать, не могут работать.
— Работать? — переспросил Ниточкин. — Работают, уважаемый товарищ, в цеху; здесь, в тепле, — не работа, отдых.
— Читаете много?
— Как научился грамоте — много.
— Сколько классов окончили?
— Гапоновский народный дом посещал, там учили…
— Какие книги любите?
— Политического содержания, про социальную революцию.
— Ну, это понятное дело, — согласился Ленин, — а вот, к примеру, Пушкина, Некрасова читать не приходилось?
— «Кому на Руси жить хорошо» — книга хорошая, правдивая, и хотя в рифму, но положение сельского пролетариата верно показывает.
Ленин чуть улыбнулся:
— Как думаете, Некрасову было трудно работать свою книгу?
— Так то ж книга, а нам предложено написать об хозяевах. А что про них рассказывать — змеи, нелюди.
Ленин подвинул лист бумаги, исписанный Ниточкиным наполовину. Быстро пробежал: «Эксплуататоры наемного труда, слуги Царизма, сосут кровь из рабочего люда… »
— Это вы верно, — сказал Ленин, — только это неинтересно, это общие слова. Вы извините, что я так, но нам ведь правду следует друг другу говорить, льстить негоже… Ну-ка, вспомните, пожалуйста, что вас особенно восстановило против хозяев?
— Меня лично?
— Именно так. Только лично. В газету надо из себя писать, Про себя, про то, что знаете.
— Ну, если про меня, тогда… — Ниточкин задумался, потом удивленно поглядел на товарищей. Девушка подсказала:
— Ты об миноносце расскажи…
— Об этом не пропечатаешь, — откликнулся Ниточкин.
— А почему нет? — спросил Ленин, устроившись поудобнее возле стола.
— Да там сраму много, — ответил Ниточкин. — Словом, приехал к нам капитан с адмиралами миноносец принимать. Война еще шла, японец лупцует, ну, гнали мы, ясное дело, работали поверх смены, помощь своим-то надо оказать… Да… Ходил этот капитан с адмиралами, лазал по кораблю, а потом говорит: миноносец не приму, потому как в моей каюте иллюминаторы малы, солнца к обеду не будет, и писсюар не фарфоровый, и очко на толчке бархатом не обтянуто, — очень об заднице капитан тревожился, только чтоб на бархат для облегчения нужды садиться. И ведь не принял. Неделю мы иллюминаторы ему рубили, всю конструкцию меняли, потом писсюар ждали две недели, пока-то из Бельгии привезут, своих нет…
Ленин слушал с закаменевшим лицом, от гнева даже глаза закрыл. Потом, кашлянув, поинтересовался:
— Фамилию капитана помните?
— Как же не помнить — помню. Егоров.
— Вы сейчас рассказали, товарищ, настоящую корреспонденцию, — сказал Ленин. — Именно такие нам и нужны. Но писать труднее, чем говорить. Многие позволяют себе барственное отношение к труду литератора: «Разве это работа, пиши себе, да и только». Писать в газету — это профессия, трудная, ответственная. Но литератор никогда не сможет рассказать так, как рассказали вы, да и знать, видимо, этого он не может — не пустят его по миноносцу лазать… Но литератор может помочь вам, понимаете? Только поменьше общих слов вроде «эксплуататоры, слуги царизма», побольше интересных фактов. Скучная газета — никчемная газета, а газета без правды попросту вредна.
… Перрон Ленин прошел вместе с штабс-капитаном — тот сам тащил баул, бормотал под нос ругательства:
— Власть, если она не может цыкнуть, — не власть… Распустили чернь, низвергли порядок, трусы, либералы, нагайки соромятся…
Ленин шел молча, отмечая про себя множество филеров — буравили глазами пассажиров.
«Кого-то ищут, — понял Ленин. — Вылезли из нор… А может быть, что-то случилось? Кого они так старательно высматривают? »
Высматривали его, Ленина.
… Началось все позавчера днем, когда на стол председателя совета министров Витте была положена новая газета «Молодая Россия», первый ее номер со статьей Н. Ленина — «Рабочая партия и ее задачи при современном положении». Витте сначала обратил внимание лишь на подчеркнутые строки, но их было так много, этих подчеркиваний, что он прочитал всю статью целиком. Прочел — и головой затряс: не пригрезилось ли, как возможно такое?! Просмотрел еще раз, медленно, словно разглядывал запрещенное.
«Никто, даже „Новое Время“, — читал Витте, — не верит правительственной похвальбе о немедленном подавлении в зародыше всякого нового активного выступления. Никто не сомневается в том, что гигантский горючий материал, крестьянство, вспыхнет настоящим образом лишь к весне. Никто не верит тому, чтобы правительство искренне хотело созвать Думу и могло созвать ее при старой системе репрессий, волокиты, канцелярщины, бесправия и темноты… Кризис не только не разрешен, напротив, он расширен и обострен московской „победой“.
Пусть же ясно встанут перед рабочей партией ее задачи. Долой конституционные иллюзии!»
Витте отодвинул газету» от себя осторожно, долго сидел в раздумье, рисовал профили бородатых старцев на маленьких квадратиках мелованной бумаги, потом вызвал секретаря, Григория Федоровича Ракова, поинтересовался:
— Кто еще читал это?
— Все, Сергей Юльевич.
— Скрытое ликование конечно же царствует в канцелярии?
— О да…
— Давно ли вернулся этот Ленин?
— Положительно не знаю, Сергей Юльевич. Злой, видимо, социалист-революционер. Витте поморщился:
— Он социал-демократ… Ну, и что прикажете делать? Вам-то кто положил оттиск?
— Когда я пришел, газета уже лежала на моем столе.
— Со всех сторон ведь, а? Со всех сторон шпильки, — вздохнул Витте. — Потребовать ареста редактора газеты и Ленина? Этого только и ждут скандалисты из «Биржевки»…
— Не сочтете ли целесообразным, ваше высокопревосходительство, поручить мне отправить газету на благоусмотрение Петра Николаевича? — осторожно предложил Раков. — Министр внутренних дел, я убежден, предпримет свои шаги.
Витте пожал плечами:
— Понятно, что не в синод надобно отправлять… Помолотил пальцами по столу, взял красный карандаш, поставил напротив статьи огромный вопросительный знак:
— Вот эдак-то будет верно, а?
… Пусть Дурново распорядится, пусть покажет себя, а то все ездит к экс-диктатору Трепову в Царское Село и слезы льет, жалуется на его, Витте, либерализм и на безволие министра юстиции Акимова. Вот и покажите, Петр Николаевич, как надобно поступать в условиях свободы слова и печати, дарованной высочайшим манифестом семнадцатого октября! Вот и покажите, как надобно блюсти закон и корчевать смуту.
Дурново, прочитав статью Ленина, написал на полях: «Директору департамента полиции Эм. Ив. Вуичу. Н. Ленина и редактора Лесневского арестовать немедленно! » Хватит, больше терпеть не намерены, будем руки ломать — или мы им, или они нам.
Гофмейстер Эммануил Иванович Вуич был не просто знатного дворянского рода; Вуичи считались неким средоточием силы в Петербурге, силы, естественно, не решающей, но решения во многом определявшей. Старший брат Василий был женат на Софье Евреиновой — интеллигентность и богатство; Николай, сенатор, счастливо жил с дочерью покойного министра Вячеслава Константиновича Плеве — власть, знание поворотов; Александр состоял при дворе принца Евгения Максимовича Ольденбургского
— поддержка Царского Села.
Ознакомившись со статьей Ленина, гофмейстер вызвал к себе полковника Глазова.
— Глеб Витальевич, голубчик, — сказал ласково, пригласив полковника сесть, — вы мне докладывали, что по ликвидации в Варшаве склада с нелегальщиной было захвачено особенно много социал-демократических брошюр… Я запамятовал, вы называли мне фамилию наиболее читаемого публициста…
— Ленин, видимо.
— А Плеханов?
— Ленин из молодых, крепок и рапирен — говоря языком бель летр… Но в Варшаве-то его особенно широко распространяют, потому что секретарь польского ЦК Феликс Дзержинский — давний поклонник Ленина, здесь, так сказать, личные симпатии.
— Ну, в польских делах вы дока, Глеб Витальевич, я и в них не понаторел еще. А Лениным, случаем, не занимались?
Вуич знал, что Глазов занимался всем. Он метил, и вообще-то имел на это право: интеллигент, смел, в профессии отменен. В охранке не было принято отдавать свои материалы кому бы то ни было, даже начальству, но Глазов, по мнению Вуича, должен был понимать, что лишь своей постоянной нужностью он добьется необходимого в карьерном росте патронажа.
— Я готов доложить мою подборку по Ленину, — сухо ответил Глазов, подавать себя умел, — но я не хочу, чтобы мои коллеги, занимающиеся непосредственно социал-демократией, были на меня в обиде…
— Есть прелестная новелла, Глеб Витальевич… Некий министр мечтал узнать от могущественного лорда-канцлера, кто будет венценосным преемником больного короля. Лорд-канцлер спросил министра: «Вы умеете хранить тайну? » Тот, обрадованный, ответил: «Конечно! » И лорд-канцлер сказал: «Я — тоже».
Глазов посмеялся вместе с Вуичем, спросил разрешения покинуть кабинет, отсутствовал не более десяти минут и вернулся с папкой, набитой вырезками из газет, одними лишь вырезками — ни рапортов агентуры, ни перлюстрации корреспонденции. Глазов угадал взгляд Вуича:
— Здесь — главное, Эммануил Иванович. Я хочу обратить ваше внимание на те статьи, которые Ленин опубликовал, приехав в Россию из эмиграции. Он восьмого ноября приехал, а уже через два дня «Новая жизнь» начала публиковать его очерк «О реорганизации партии». Через четыре дня он напечатал там же «Пролетариат и крестьянство». Через пять — «Партийная организация и партийная литература». Через восемь — «Войско и революция». Через тринадцать — «Умирающее самодержавие и новые органы народной власти». Через пятнадцать, — монотонно, где-то даже ликующе продолжал Глазов, — «Социализм и анархизм». Через двадцать пять — «Социализм и религия». Вы вправе спросить меня, отчего я вычленил именно эти семь работ, Эммануил Иванович…
Вуич поломал глазовскую въедливую монотонность:
— Оттого, что это — программа, я достаточно внимательно слушал вас…
— Изволите ознакомиться с выжимками?
— Бог с ними… Ваши соображения? — несколько раздраженно спросил Вуич.
— Соображения я высказал, Эммануил Иванович… Что же касается предложений, то они сводятся к тому, чтобы — по возможности массово — изъять социал-демократов большевистского направления, ликвидировать их опорные базы…
— Что вы, право, в большевиков уперлись, Глеб Витальевич?! Меньшевики лучше, по-вашему? Плеханов с Аксельродом союзники нам?!
— Плеханов с Аксельродом нам не союзники, а враги, но они устали, Эммануил Иванович, они старые люди, прожившие жизнь в эмиграции. Им легче принять Думу, высочайший манифест, эволюцию, предложенную государем. Они хотят жить без филерского наблюдения, они хотят выступать с думской трибуны, они ведь с Бебелем дружны, с депутатом рейхстага Бебелем, с тем Бебелем, который заседает в одном зале и с кайзером и канцлером Бюловом.
— Нет, нет, Глеб Витальевич, вы сами напугались и меня желаете напугать… Ленин… Я понимаю — Милюков, его Россия знает, тоже ведь не сахар, тоже против нас пописывает; Гучков, хоть и наш, а кусается; понимаю — Чернов с Гоцем: террор, плащ и кинжал, студенты хлопают. Но Ленин? Нет, Глеб Витальевич, нет!
— Позвольте не согласиться, Эммануил Иванович… Мы эдак уподобимся тем, кто Чехова чуть не до смерти к юмористам приписывал, а Горького рассматривал как салонное украшение, босяцкого хама. Мы, увы, считаемся лишь с теми, кого сами же и создаем… А коли создалось само по себе, без нашей помощи? Мы слишком подчиняем себя очевидностям, сиюминутности, а ну — вдаль заглянуть в завтра?
— Поэты смотрят «в завтра», Глеб Витальевич, нам бы «сегодня» охватить, вот бы сейчас управиться…
— Мне, видимо, разумнее согласиться, дабы не потерять вашего ко мне постоянного благорасположения, однако позволю заметить: я одинок, я не тревожусь по завтрашнему дню, а у вас семья, внучки у вас. Я поднял дела из архива, Эмманул Иванович, двадцатилетней давности дела… Так ведь там про Плеханова писали в положительных тонах, как про человека, который выступает против злоумышленников от народовольческого террора… Мы ведь тогда «Коммунистического манифеста» не страшились, полагая, что сие — средство для шельмования «Черного передела»… Если не уловить вначале — потом не охватишь, Эммануил Иванович, потом только регистрировать придется, регистрировать и просить у премьера войско — полиция не удержит.
— Ну хорошо, составьте предложение, — сказал Вуич.
— Предложение готово, — ответил Глазов и достал, будто фокусник, из вороха вырезок лист бумаги с напечатанным машинописным текстом: фамилия Глазова там не значилась, подписать документ следовало Вуичу.
Эммануил Иванович раздраженно пробежал текст. При этом размышлял: «Все об истории думают, о своей в ней роли… Работали б злее, не надо было б про историю-то думать, она крутых помнит, крутых и рисковых».
Документ тем не менее подписал и сразу же отправил с нарочным в судебную палату, прокурору: «Немедленно арестовать Ульянова-Ленина Владимира Ильича, осмелившегося напечатать и распространить прямой призыв к вооруженному восстанию». Также было предписано арестовать редактора «Молодой России» Лесневского.
… Именно поэтому филеры дежурили на вокзалах в «Вольном экономическом обществе» и Технологическом институте, где особенно часто встречались большевики. Однако на фотографиях Ленина, розданных им, был человек с аккуратно подстриженными усами, с маленькой бородкой, не могли же они думать, что мастеровой, квалифицированный, судя по барашковой шали, в больших очках, заросший рыжеватой щетиной, в ушанке, низко надвинутой на ши-шкастый, крутой лоб, и есть тот самый государственный преступник, которого предписано немедленно заарестовать и доставить на Гороховскую.
… Квартиру на Надеждинской пасли, — наметанный глаз определил сразу: «гороховые пальто» мешали дворникам, угощали папиросками, алчуще выспрашивая сплетни.
Ленин сменил пролетку — благо, багажа нет, портфельчик с рубашкой и несессером, никакого подозрения у кучера, — отправился на Фонтанку: возле газеты тоже топали.
«Свобода, — подумал он, — прекрасная российская свобода, пожалованная государем. Ничего другого не ждал, а все равно обидно. Я-то перетерплю, а вот иные могут не выдержать; Георгий Валентинович пролетки менять не станет. А мне еще и по проходным придется побегать, на Пантелеймоновской прекрасный двор, любой пинкертон отстанет».
Поднял голову, снял очки, начал ловить языком снег: пушинки были мягкие, мгновенный холод сменялся теплом.
«А все равно Россия! — Радость поднялась в нем неожиданно. — Все равно дома!»
На конспиративной квартире его встретила дочь хозяйки, приложила палец к губам:
— Тише, товарищ Петров, тише, там какой-то тип пришел, по виду явный барин, но назвал пароль… Посмотрите в скважину — не шпик ли.
Ленин на цыпочках прошел к двери, опустился на колени: у стола, просматривая газету, сидел член ЦК Румянцев — борода расчесана у парикмахера, костюм серый, в искорку; квадратный галстук, высокий, по последнему венскому фасону, воротничок.
Ленин поднялся, шепнул девушке: «Наш», распахнул дверь.
— Дозвольте, хозяин-барин?
Румянцев вздрогнул; не поздоровался даже, выпалил:
— Вас начали искать, Владимир Ильич!
— «Начали»? Мне сдается, не прекращали. Что нового, рассказывайте.
— Нет, вы поймите: «Новая жизнь» блокирована филерами, за Красиным и Литвиновым топают постоянно, я с трудом оторвался.
— Но оторвались же. — Ленин начал раздражаться. — Вы ждали, что нас будут встречать цветами?
— Владимир Ильич, ночью арестовали Лесневского…
Лицо Ленина сразу же изменилось, обозначились морщины.
— Ему уже предъявлено обвинение?
— Да.
— Надо немедленно добиться его освобождения.
— Подскажите как? — ответил Румянцев хмуро. — Залог полиция отказалась принять, они, видимо, будут готовить процесс… Вообще по нынешней обстановке следовало бы вам чуть смягчить тон выступлений…
Ленин изумился:
— Что значит смягчить? Я не совсем вас понимаю. Исключить определения вроде «разлагающееся самодержавие»? «Черносотенцы»? «Министр-клоун»? Тогда рабочие вывезут нас на тачке, и правильно поступят. Смягчают дипломаты. А мы не дипломаты, мы — партия класса, нам следует обнажать существо вопроса, мы обязаны говорить всё обо всем.
— Вы не оставляете ни малейшего шанса на то, чтобы сговориться.
— А вы видите хоть проблеск желания, чтобы сговориться? Я готов кардинальным образом пересмотреть свой стиль, если увижу хоть малейшую надежду на мирное решение вопроса. Где эта надежда? Лесневского посадили, наши газеты запрещают, вожди партии живут нелегально, от филеров по проходным, словно зайцы, бегают. Я уж не говорю о двенадцатичасовом рабочем дне, о нищете мужика — что-нибудь делается, чтобы изменить положенно народа? Разогнали бюрократов? Посадили на скамью подсудимых расстрельщика Дубасова? Побойтесь бога, товарищ Румянцев, о какой надежде вы говорите?! Неужели вы и впрямь думаете, что Витте и Трепов намерены сговариваться с нами?! Они нас и в расчет не берут! Они наивно полагают, что комбинации в кабинете спасут положение, они совершенно игнорируют народ, сто пятьдесят миллионов, они играют в политику, а ее, политику-то, делать надо, убежденно, трезво, опираясь на интересы того нового, что определяет общество. Впрочем, что это я… Так… Лесневский сидел до этого?
— Нет.
— Ай-яй-яй. Бедняга. Не развалится?
— Трудно сказать.
— Его обвиняют именно в том, что он меня напечатал?
— Да.
— Значит, коли я приду в полицию, его освободят?
— Если вы придете в полицию — вас укокошат.
— Ну уж так сразу и укокошат…
— Не знай я вас, подумал бы: кокетничает Ленин. Ведь сейчас все ваши статьи по прокламациям расходятся, вас вся Россия читает, вынесло вас, Владимир Ильич, наверх вынесло, на всеобщее обозрение.
Ленин поморщился:
— Только патетики не надо бы, а? Вы же цекист, а не Гиппиус… Вот что… Давайте-ка свяжемся с Красиным, подумаем, кого из серьезных адвокатов можем отправить сегодня же, сейчас, немедля в охранку. Разговор должен быть таким: «Ежели вы не выпускаете Лесневского до суда, мы начинаем кампанию, неслыханную ранее по громкости, о том, как полиция нарушает манифест о свободе печати. И это никак не поможет предвыборной кампании в Государственную думу, это очень повредит вашим, сиречь правительственным, правым, черносотенным, кандидатам, и на этой кампании мы вместо одного арестованного Лесневского протащим в Думу десять левых. Хотите этого — мы готовы к драке. Коли согласны на парламентский исход — отпустите редактора „Молодой России“ сегодня же… » А вы говорите, что я не оставляю ни малейшего шанса сговориться. Разве это мое предложение не шанс?
Ленин проводил Румянцева, пошел на кухню, зажег керосинку и поставил чайник: страсть как хотелось крепкого чая.
9
«Дорогой Юзеф! Я много раз собирался написать тебе, но все не было времени — много работы в Питере и Москве, мотаюсь туда и сюда челноком. Пора горячая, проходят выборы на „ужин“, проходят весьма оживленно, если не сказать, горячо: судя по сообщениям, поступающим из Польши, ты в курсе наших русских дел, расхождения между б. и м. не стихают, а, наоборот, по мере развития революционного процесса нарастают все больше. „Ротмистр“ и „Гриша“ рассказывали мне, что ты стоишь на стороне наших „б“, то есть на стороне Вл. Ил. Позволь мне быть с тобою совершенно откровенным, Юзеф. Меня связывает с тобою не только наша общая печаль по безвременно ушедшей Юленьке, меня связывает с тобой и то, что ты был первым, кто привел меня в рабочий кружок, кто приобщил меня к сверкающему богатству ума социал-демократии. Я никогда не забуду твою листовку, детскую еще, которую ты написал в годовщину смерти нашего незабвенного учителя Фридриха Энгельса — сколько в ней было мыслей, как она была открыта и глубока! Но если бы Юленька не умерла и ты стал ее мужем, а моим — тут уж я боюсь напутать, не силен в высчитывании родственных степеней — шурином или зятем, в нашей семье произошел бы раскол такой же, как в нашей организации. Постарайся меня понять, дорогой Юзеф; я знаю наши петербургские и московские условия лучше, чем ты, я варюсь в нашем „парт. соку“ и могу судить о происходящем не со стороны, а изнутри. Почему же наши расхождения столь принципиальны? Во-первых, потому, что Вл. Ил. резко повернул в крестьянском вопросе, „обогнав“ всех, даже эсеров, которые всегда у нас кричали о „крестьянском бунте“, и выдвинул лозунг эсеров „земля и воля“! Он, правда, добавил, что „земля и воля“ это слова, абстракция, что воли не будет без социальной революции, а только она и может дать землю, но что и земля ничего не значит, покуда у мужика нет плуга и зерна для посевов. Он, конечно, привлек этим лозунгом значительную массу рабочих, все еще связанных с селом. Но теперь он стал настаивать на повсеместной национализации земли, а это уж не лезет ни в какие ворота! В то же время план Гр. Вал. разумен и точен. Он полагает, что надо постепенно приучать мужика к мысли: „Ты отвечаешь за порядок в деревне, ты отвечаешь за землю, которую выделят, ты должен принимать решения в муниципалитете и землю эту защищать по закону“. Разве это не путь? Разве это не есть укрепление позиций соц. -дем. в деревне? А по поводу Думы? Вл. Ил. предлагает активный бойкот. А мы считаем необходимым превратить Думу в трибуну социал-демократии. Возьми вопрос о Василии Васильевиче. Юзеф, дорогой мой друг, я знаю твою горячую душу, может быть, тебе горьки будет согласиться со мной, но разве Г р. Вал. не был прав, ко. гда считал, что выступать в Москве не надо было? Сколько жертв, Юзеф, сколько товарищей в тюрьмах! Почему мы были разгромлены? Потому что еще не настало время: в политических решениях — особенно такого значения — лучше, опоздать, чем переторопиться. Гр. Вал. прекрасно написал об этом в „Рождественской открытке“. Юзеф, все мы знаем твою роль в СДКПиЛ. От тебя зависит, куда ты повернешь комитеты партии в Варшаве, Лодзи, Петракове, в Домбровском бассейне. Польские пролетарии
— партийцы, объединенные с русскими товарищами, членами РСДРП, огромная сила. Ты бы очень помог нам наставить на ум Вл. Ил. и его друзей — он наверняка посчитается с позицией партии, целой партии польских с. -д. Л. М. и Ф. Д. — ты их должен помнить по Женеве — шлют тебе приветы. Да, забыл сказать: Лева взял теперь себе новый псевдоним
— ты этого, верно, не знаешь еще. Нас теперь Гр. Вал. шутливо называет «братья Л. А.». Лева нашел фотографию Юленьки, где мы сняты втроем: Юленька, Лева и я. Такой у тебя нет. Подарю на «ужине». Был бы очень рад твоей весточке: во-первых, дошло ли это письмо, во-вторых, согласен ли с моими доводами и, в-третьих, можем ли надеяться на твою поддержку? С товарищеским приветом Михаил». «Дорогой Миша! Письмо твое вручил мне славный парень, Яцек; он сказал, что ему передал в Белостоке „Николай“. Так что, видимо, связь работает хорошо. Миша, я должен ответить тебе определенно, без всякой дипломатии: ты ведь знаешь, я не умею разводить „цирлих-манирлих“ и все, что думаю, выкладываю открыто, может быть, резко, но худо, коли бы мы в отношениях друг с другом вели себя иначе. Ты говоришь, что я могу „повернуть“ партию. Это глубокое, заблуждение. Партию „поворачивает“ Луи Наполеон или Кромвель; в наше время, в нашей партии никто никого „повернуть“ не может. Партия сама определяет движение, и эта устремленность складывается из открыто выраженного коллективного мнения ее членов, — только так и никак иначе. Общее настроение СДКПиЛ
— ты прав — близко к позиции «б», к той части РСДРП, которая разделяет политическую платформу Вл. Ил. Как же я могу «повернуть» наших товарищей, если они единодушны в поддержке Вл. Ил.? Ты говоришь, что товарищи из «м» стоят на точке зрения реальной, исследуют положение таким, какое оно есть, а не которое желалось бы. Ты пишешь, что Гр. Вал. хочет приучить мужика к тому, чтобы тот через муниципалитет отвечал за порядок в деревне, за землю. А разве у мужика есть земля? Аграрный вопрос смыкается с вопросом о Думе. Кто пройдет в Думу? Помещики. Богатые крестьяне. То есть Дума будет кадетской. И ты полагаешь, что кадеты так легко и просто отдадут помещичью землю мужику? Вся Польская социал-демократия против Думы, все стоят за активный бойкот. Почему? Да потому, что Дума, которая вырвана борьбой рабочего класса, кровью фабричных, для них закрыта. Представь себе, что СДКПиЛ выдвинет своего депутата, и допустим, им стану я, Миша. Что случится дальше? Я буду арестован. Разве нет? А Варшавский? Он ведь тоже гос. преступник. Ты можешь допустить мысль, что в Думу пройдет Вл. Ил.? Неужели туда бы пустили Ивана, Збышка, Дмитрия, Левина, Гиршла? И ты предлагаешь голосовать, то есть поддерживать такого рода дискриминационную Думу? Пусть она заявит себя — тогда посмотрим. Согласен с тобою — переторопиться тут негоже. Ты повторяешь за Гр. Вал., что Василий Васильевич пришел преждевременно. Это ошибка, Миша, и эта твоя ошибка смыкается со словами о том, что я могу «повернуть» партию. Разве можно вывести народ на баррикады, если он не хочет этого? Разве можно начать борьбу, если в стране царит мир и спокойствие? Не идти на восстание значило опорочить себя в глазах класса, наивно уповать на отсутствующий парламентаризм, значило заявить себя хвостистами. Да, жертвы, велики. Они были велики и у нас в Лодзи и Варшаве. Но разве мы не знали, на что шли? Разве память о погибших не запала навсегда в память народа?! А память — категория поразительная, Миша. Что ни делали в Париже, дабы память о Марате и Робеспьере исчезла! Сколько было предпринято попыток представить их кровожадными убийцами, слепыми фанатиками, инквизиторами от революции? Те, кто пытался уничтожить их память — забыты, а Марат и Робеспьер в наших сердцах. Сколько приложил усилий Николай Палкин, чтобы вытравить память о Пестеле и Рылееве, о героях Сенатской площади! Как пытались заставить нас забыть Костюшку, Ульянова, Перовскую, Кибальчича! Нет, Миша, память — взрывоопасна, это страшнее бомбы, ибо это — на века. Ты и Лева дороги мне, как братья любимой моей Юленьки. Но уж так я устроен, что личное отходит на второй план перед общим. Поэтому мне будет горько, если вы останетесь на своей позиции и не согласитесь с мнением большинства рабочего класса. Я испытываю глубочайшее уважение и к Гр. Вал. и к П. Б., они были зачинателями того учения, солдатами которого мы являемся. Я был у Гр. Вал. в Женеве и навсегда запомню его блестящий ум, остроту, знание. Я никогда еще не видел Вл. Ил. Так что я не имею никаких личных причин к нему тяготеть. Я к нему тяготею лишь потому, что он выражает мнение громадного большинства. Спасибо Леве за фотографию. Я собираю все, что могу, о Юленьке. Недавно был в Вильне на «вернисаже», ходил полночи по нашим с нею местам. Чем дальше, тем горше и безысходнее я чувствую ее отсутствие подле нас всех. Передай привет М. и Д. Поклонись Леве. Не сердись. С товарищеским приветом Юзеф». «Милостивый Государь Эммануил Иванович! Посылаю Вам перлюстрацию переписки между одним из ведущих руководителей СДКПиЛ Ф. Дзержинским-Доманским („Юзеф“) и Михаилом Гольдманом („Либером“), имеющим влияние в кругах Бунда и РСДРП меньшевистского направления. Перлюстрация переписки, полученная агентурным путем, лишний раз свидетельствует, что поляки готовы к объединению с большинством РСДРП. Смею заметить, милостивый государь Эммануил Иванович, что эта новость чрезвычайно тревожна, ибо служит подкреплением позиции Ленина, который добивается объединения всех социал-демократических сил Империи, невзирая на их национальные особенности. Получение Лениным голосов поляков может повернуть съезд в весьма опасное для нас русло большинства. Посему полагал бы необходимым приложить максимум усилий к тому, чтобы предпринять любые акции, дабы помешать организационному акту, который имеет далеко идущие последствия. Одним из возможных шагов к этому считаю немедленное заарестование Дзержинского, о чем мною отдано соответствующее распоряжение Варшавскому охранному отделению. Прилагаю расшифровку открытых псевдонимов и терминов: Гр. Вал. — Г. В. Плеханов. „Ужин“ — предстоящий съезд РСДРП, „б“ и „м“ — большевики и меньшевики. „Рождественская открытка“ — нелегальная типография меньшевиков, расположенная на Рождественской, в д. 7. По соображениям ОПЕРАЦИИ ликвидировать в настоящее время нецелесообразно. Вл. Ил. — Н. Ленин. Василий Васильевич — вооруженное восстание. Ю. М.
— Юлий Мартов (Цедербаум), с. -дем., имеющий вес в РСДРП, фракция меньшинства. Ф. Д. — Федор Гурвич (Дан), с. -дем., имеющий вес в РСДРП, фракция меньшинства, «брат Лева» — Лев Гольдман (Акимский) — с.
—д., имеющий вес в Бунде и среди меньшевистских кругов. Юлия — Ю. Гольдман, невеста Дзержинского, которая умерла в Женеве от чахотки в 1904 г., родная сестра «Либера» и «Акимского». «Николай» — неустановленный курьер РСДРП. «Яцек» — состоит секретным сотрудником Варшавского охранного отделения. «Вернисаж» — заседание Виленского Комитета СДКПиЛ, состоявшееся, по сведениям агентуры, 16.1.1906 г. П. Б. — П. Б. Аксельрод, второй после Плеханова по стажу пребывания в с.
—дем. движении. С истинным почтением, Вашего Превосходительства покорнейший слуга Полковник Г. Глазов».
10
Заседание Варшавского комитета СДКПиЛ затянулось допоздна: все, как один, высказались за присоединение партии к РСДРП; единогласно утвердили план выступлений «Червоного штандара» в связи с предстоящим съездом русских социал-демократов; все, как один, проголосовали против встречи Дзержинского с полковником Поповым, считая, что секретарь партии не имеет права рисковать жизнью. Несмотря на протест Дзержинского, непосредственная встреча была поручена Мечиславу Лежинскому, зарекомендовавшему себя по работе в Берлине, когда он два года назад сыграл главную роль в разоблачении заведывавшего агентурою охранки Аркадия Михайловича Гартинга. Впрочем, подготовка операции как тогда, в Берлине, так и сейчас была поручена Дзержинскому.
Ночевать Дзержинский ушел на квартиру, где жил Мечислав: маленькая, тихая Дольна вела к садам, разбросавшимся по берегу Вислы. Пахло весной. Грачи прилетели в начале февраля, кричали ликующе, хотя небо еще было снежное, серое, низкое.
План обговорили до мельчайших подробностей, несколько раз проверили всяческие вероятия; словно актеры, менялись ролями, пытались представить образ Попова наиболее приближенным к оригиналу; признавались себе, что мешает ненависть — хотелось видеть его гаже и глупей, чем он был, сердились, начинали игру снова, добиваясь логического правдоподобия.
— У нас ничего не выйдет, — раздраженно сказал Лежинский. — Напрасно мы играем Попова. Я то и дело упираюсь в свои ощущения, когда думаю о нем, и переступить их не могу.
— Мы с тобой сейчас играем, а игра, то есть комбинация, без теории невозможна, особенно после опытов Станиславского. Поэтому мы сейчас должны выверить каждое слово, жест, каждую интонацию. Ты считаешь, что после твоих слов Попов поднимется и позовет одного из шпиков, которые постоянно дежурят в театре, а я убежден — нет, не поднимется и не позовет, потому что, пока тебя будут тащить к выходу, пока станут вызывать пролетку с городовыми, ты станешь кричать — за что тебя задержали. А ведь это скандал! Скандал, в котором замешан он, Попов, и коли ты назовешь адрес его конспиративной квартиры, где он женщин принимает, это не вытравишь, об этом сразу же станет известно в губернаторском Бельведере, а сие — конец карьеры: громкого они своим не прощают, они по-тихому живут…
— У Попова есть иной путь… Не думай, что я боюсь, просто Для него это легчайший выход: достать браунинг и выпустить в меня обойму: фотографии-то мои в полиции есть. А для него это выполненный долг — убил революционера-бомбиста.
— Разумный допуск, но ведь коли он вздумает достать браунинг, в него пустят ответную пулю из зала; пустят люди, которые наблюдают за вашим разговором. Это — во-первых. Во-вторых, будет доказано, что он покушался на невооруженного человека.
— В-третьих, ты скажешь ему, что твои товарищи заявят прокурору, который будет вызван в кабарет, что он, Попов, передал нам служебные бумаги, и будут названы номера этих бумаг, входящие номера, и номера эти истинны, но документов в архиве охранки нет, они у нас…
— А если…
— Что?
— Нет, ерунда…
— Так нельзя, Мечислав, так нельзя, родной! Или не начинай, а уж коль начал — заканчивай.
— Понимаешь, Юзеф, мне кажется, что все-таки разумнее говорить с ним на квартире или на его явке, на Звеженецкой.
— Ни в коем случае. С ним нельзя говорить один на один. Там он всесилен, там он может — ты прав — пристрелить. Только под взглядами сотен людей, только в кабарете, только после выступления Стефании…
— До.
— Нет, именно после.
— Почему?
— Потому что, будучи человеком духовно бедным, то есть лишенным поэтического дара, Попов тем не менее по-своему переживает разрыв с Микульской… Переживает, Мечислав, переживает, уверяю тебя, не следует считать врагов существами, лишенными сердца и чувства. Генерал жандармерии Утгоф тайно встречается с Владимиром, сыном, которого ты прекрасно знаешь, и рыдает, горячими слезами рыдает, молит бросить эсеров и вернуться домой. Так вот, до выступления Стефании Попов наверняка будет напряжен, нервен, подобран, а после — расслабится, воспоминаниям предастся, будет думать о том, как вернуть прошлое, будет, Мечислав, обязательно будет — не зря же он на каждое ее представление ездит и цветы посылает. А здесь ты с нашим предложением. Отказ, понятное дело, означает скандал, а ведь он Стефании добился не умом своим, не красою, а именно карьерою, своими возможностями. После ее выступления он станет особо шкурно о себе думать, особо жалостливо
— как-никак пятьдесят семь лет, последняя женщина, седина в голову, бес в ребро. До ее номера он будет так напряжен, что осмысленной реакции ждать трудно, я, во всяком случае, не берусь представить себе, он может поступить наперекор логике.
— Чем ты станешь заниматься после победы революции? — задумчиво спросил Лежинский.
— Народным просвещением, — как о само собою разумеющемся ответил Дзержинский.
— Я заметил, Юзеф, — чем труднее нам было, тем большим ты был практиком. Когда дело пошло к победе, ты потянулся в теорию…
— А это закономерно. Нельзя считать, что новое общество будет новым только в практике распределения общественного продукта. Необходимо думать о новой морали, о новых отношениях между людьми.
Дзержинский посмотрел на ходики: было уже три часа утра.
Рассвет еще не наступил, но он угадывался в том, как над Вислой поднимался медленный белый туман. Он клубился, вырастал странными грозными видениями, поднимаясь все выше и выше в темное, беззвездное небо.
— Знаешь, чем страшна обыденность? — спросил вдруг Дзержинский.
— Обыденностью, — ответил Лежинский.
— Софизм. Обыденность страшна тем, что она умеет самое высокое и чистое обращать себе на пользу.
— Почему ты об этом?
— Не знаю… Видишь, как играет туман, как он красив и загадочен. Но — подчинен логике бытия, исчезнет, растворится, будет утром хмарью, кашляющей, чахоточной хмарью. Давай спать, бомбист, у тебя завтра тяжелый день…
В театре Дзержинский обычно ощущал приподнятость и благодарность за то чудо, которое разыгрывалось на сцене. И он благодарил: подходил к рампе и аплодировал до той поры, пока рядом стояли люди, чаще всего восторженная молодежь. Дзержинский остро ненавидел людей партера, когда те, похлопав раза три, сановно отправлялись к гардеробу, переговариваясь между собою о предстоящем ужине, погоде или завтрашних делах. Более всего Дзержинский не терпел в людях неблагодарности.
Не мог Дзержинский спокойно говорить и со снисходительными ценителями. Год назад он прочитал чеховского «Иванова», а после оказался в обществе людей, близких к театру, которые пописывали в газеты, выступая с обозрениями премьер.
Петербургский гость — из ниспровергателей, либерал, — то и дело закрывая глаза, вещал:
— Сколько же можно болтать про Чехова, право?! Как долго будут придумывать этого господина?! Он же поверенный беса, он слабоволен, испуган, он сам не знает, как ему управиться с Ивановым! А тот уверяет нас, что любовь — это чистая физиология, а в поиске истины нет смысла. Но мы-то знаем: Иванов будет кушать, пить и получать деньги, пока ест, пьет и подсчитывает гонорары сам Чехов. А в заключение Иванов нервически застрелился У нас на глазах — так обычно поступают беспородные. Акт его самоубийства вымучен, просто Чехову надо было кончить сочинение, а ныне без смерти не кончают, эффекта нет. Кому нужен Иванов? Рыдающие сестры? Пьяные мужики из оврага? Дядя Ваня? Что Чехов тщится доказать нам? Что жизнь — дерьмо? Мы и без него это знаем, но орать-то зачем?! И стреляться не надо. Помалкивать следует, коли сидим в навозе, помалкивать, а не каркать!
Дзержинский тогда спросил — не удержался:
— Отчего злитесь?
— Я? — Петербургская штучка удивленно оглядел собравшихся. — Было б на что, милостивый государь…
— Есть на что, — ответил Дзержинский. — Маленькое всегда ненавидит большое.
… Софья Тшедецка, член Варшавского комитета, поднесла к глазам бинокль — это был знак.
Дзержинский сразу же оглянулся: Попов вошел в ложу, сел в угол, спрятавшись за портьеру.
Винценты поднял руку, в которой был зажат платок, начал обмахиваться.
Федор Петров, сидевший в бельэтаже вместе с тремя товарищами из боевой группы, поглядел на ложу осветителей. Именно здесь затаились Ян и Трофим Пилипченко — держали Попова на мушке.
Мечислав чуть склонил голову — все понял, готов.
… Стефания Микульска вышла в форме гусара, промаршировала по авансцене, показывая себя, а потом остановилась и, озорно подмигнув залу, запела, размахивая в такт музыке шпагой: Солдат воевал, хорошо воевал! Города занимал, Женщин любил, Врагов убивал И стал солдат — капрал! Капрал воевал, хорошо воевал, Чужих разогнал, Своих напугал, Ну просто капрал-генерал! Время прошло, победа — ура! Пора по домам, На отдых…
Стефания хотела было легко опустить шпагу в ножны, но шпага в ножны никак не лезла. Актриса начала прекрасную, злую пантомиму про то, как трудно спрятать оружие, коли солдат так «хорошо» навоевался. Она мучилась с неподдающейся шпагой до того уморительно, так жаль было «победителя-гусара», что зал покатывался со смеху.
Попов портьерку отодвинул, подался вперед, аплодировал так, чтобы Микульска могла заметить. Она заметила — ее попросила об этом Хеленка Зворыкина: той эту просьбу специально сегодня передали.
Софья Тшедецка напряженно ждала этого мгновения, она глаз с Попова не сводила: лицо жандарма дрогнуло, растеклось улыбкой.
Софья поднесла бинокль к глазам и стала его прилаживать.
Мечислав поднялся — место его было крайним, пошел к выходу, легко выскользнул, освещенный на долю секунды тревожным синим светом.
Потом, тоже на долю секунды, ложу Попова прорезал острый луч света
— Мечислав сел на стул рядом с полковником и шепнул:
— Игорь Васильевич…
Микульску тем временем сменил Рымша — любимец Варшавы, автор куплетов.
Попов обернулся к Лежинскому:
— С кем имею честь?
Лежинский достал из кармана фотокопии рапортов, протянул их полковнику:
— Ваши?
Тот, заставив себя зевнуть, спросил:
— Оружие при себе? Документы? Отдайте добром — тогда я гарантирую вам жизнь.
— Оружия нет. Я рассчитываю на ваше благоразумие — в зале друзья. Если полезете за револьвером — пристрелят, вы на мушке. Скандал начнете — подлинники рапортов завтра же будут опубликованы у Бурцева… Станете говорить добром?
— На что замахиваетесь?
— Замахиваются на лошадей. Если мы опубликуем рапорты ваших шпионов, карьере конец — вы это понимаете! Изгоем станете, на службу никто не возьмет: бывших боятся, не верят. С вами могут иметь дело до той поры, пока вы есть вы. А вы пока не просто Попов — вы полковник Попов. Держите. Это копии. Подлинники может передать мой коллега. Сейчас. Здесь же.
— Откуда у вас эти фальшивки?
— Не надо, полковник. Это не фальшивки. И мы взамен не многого просим…
— Чего ж вы просите взамен? — спросил Попов, закрыв глаза — так явственно увиделось ему лицо Стефании.
— Вы позвоните сейчас в тюрьму и скажете, чтобы поручику Розину, по вашему предписанию, передали Казимежа Грушовского — для допроса.
— Кто такой Грушовский?
— Мальчик, который харкает кровью после избиений…
— Он идет по делу социал-демократов?
— Кажется…
— Вы понимаете, надеюсь, что вашему поручику Розину я никакого арестанта не передам?
— Логично мыслите. Я тоже этого не допускаю.
— Вы кто?
— Я нанят, полковник. Мне платят за работу.
— Не лгите.
— Я рад, что мы с вами трезво мыслим. У меня приготовлено прошение матери Казимежа и заключение врача: юноша нуждается в немедленной врачебной консультации и помощи. В прошении сказано, что консультация у профессора Вострякова в клинике младенца Иисуса имеет быть сегодня, с восьми до девяти. Сейчас без двадцати восемь. Несчастная мать подстерегла вас в театре. После манифеста вам надо быть добрыми и снисходительными — даже к арестованным бунтовщикам. Так ведь? Словом, вы согласны удовлетворить прошение?
— Где подлинники?
Вы их получите, как только тюремное начальство отправит Казимежа в клинику.
— Я ведь откажусь, милейший… Зачем вы только пришли ко мне с этим?
— Вы не откажетесь. Вам нельзя этого делать, полковник. Мы ошельмуем вас, обречем на голодное, унизительное состояние. Вспомните судьбу коллежского советника Шарова, вспомните, как он обивает пороги охраны, а ведь его прегрешение куда как незначительнее вашего. Все шатается, полковник, все шатается, подумайте о себе, о тех, кого любите, о старости своей подумайте, об ужасе ничегонеделанья. У нас выхода нет. У вас их несколько. Можете написать мне письмо, что обещаете Казимежу жизнь, — суда ведь еще не было?
— Вернете документы?
— Копии. Подлинники — после суда.
— Подите прочь.
Лежинский чуть подвинулся к Попову, шепнул доверительно, с усмешкой:
— Только не вздумайте палить в спину. Поглядите, — он кивнул на ложу, где были установлены прожекторы.
Попов увидел двух людей — руки лежат на бархате, прикрыты программками, дурак не поймет, — пистолеты прячут.
— За дверью еще двое, — добавил Лежинский, поднялся, чуть поклонившись, пошел к двери.
— Стойте, — окликнул Попов. — Пусть придет человек с подлинниками.
— И с прошением?
— Хорошо, с прошением, хорошо…
Лежинский провел несколько раз по волосам, словно поправляя прическу.
Попов увидел, как поднялась женщина в партере, пошла к выходу.
Прошение было в ридикюле Софьи Тшедецкой. Подлинники рапортов тоже.
Через час Казимежа привезли в клинику. Сонный унтер расположился с двумя жандармами из конвоя возле операционной.
Еще через час была объявлена тревога: в операционной никого не было — ни «профессора», ни братьев милосердия, ни арестанта. Вызванный с квартиры попечитель немедленно потребовал к себе доктора Вострякова, имя которого было указано в прошении матери Казимежа. Пришел старик, который никак не был похож на того «профессора», который принимал арестанта.
К одиннадцати в тюрьму прибыл Попов и приказал посадить на гарнизонную гауптвахту офицера конвоя, а унтера и жандармов отхлестал по щекам:
— Надо было в операционную войти, дурни! Кто позволил оставить арестанта без надзору?!
Гневался долго, вытребовал дело Казимежа, пошел вместе с начальником тюрьмы в кабинет:
— Как же так, а, Михал Михалыч?! Времена трудные, проходится считаться со всякой сволочью, но вы-то, вы?! Вас-то, в тюрьме, разве касаются извивы в сферах?
Прибыв в охранку, Попов пригласил к себе начальника особого отдела Сушкова:
— У меня к вам просьба. Один из моих информаторов подсказал занятный адрес: кабарет. Стоило бы посмотреть связи артистов и актрисуль. Не всех, но ведущих: Рымши, Метельского, Микульской, Леопольда. Ероховского не трогайте — сам займусь. Остальных пощупайте. Оттуда могут потянуться нити — я ж не зря к ним зачастил, не зря с актрисулями вечера проводил… Поставьте-ка за ними филеров на недельку, а?
(Попов знал, что Сушков под него копает, собирает крупицы. Так принято: обижаться — грех. Пусть в свой дневничок занесет имена, подсказанные им, полковником. Теперь следует о-очень и очень серьезно про алиби думать, в случае если в оном возникнет необходимость. А с Микульской разберется. Он насладится своим торжеством, когда Сушков соберет материал, он покажет ей «старика», ох покажет! Но как же она перед унижением своим, перед мукой своею повертится! Она ведь рапорты передала, сволочь, она — больше некому.) «Петербург, Департамент полиции, полковнику Г. В. Глазову. Милостивый государь Глеб Витальевич! Смею обеспокоить Вас очередным письмом, полагая, что данные, кои я намерен изложить, заслуживают внимания. Возможно, Вы соблаговолите высказать ряд советов, которыми я всегда столь дорожил и дорожу. Анархия, распространившаяся в последнее время с угрожающею силою, весьма активно проявляет себя в мире польского театра. Хотя представители рабочего населения не могут, к счастью, посещать представления из-за высокой стоимости входных билетов, тем не менее определенная часть заражается теми идеями, которые в скрытой, а иногда полускрытой форме высказываются с подмостков варшавских зрелищных учреждений. Поэтому я счел своевременным начать работу с целью выявить наиболее зловредных деятелей театра, имея к тому же сведения о связях ряда лиц богемы с социал-демократией. Я думаю, Вы поймете меня, что такого рода работа может быть поручена только вполне подготовленному сотруднику. Данные, поставляемые агентурою, не освещали проблему в полной мере, оттого что лица привлекались со стороны, не знающие тонкостей мира искусств. Поэтому я решился на установление личных связей с рядом ведущих деятелей богемы, среди которых выделяются т. Рымша, Ваславский, Микульска, Ероховский, Ролль. Понятно, что я не мог предстать в своем официальном должностном соответствии, и поэтому вступил с ними в сношения, как преуспевающий биржевой маклер. При этом я продумал такой поворот, который позволит в случае благоприятного течения задуманной операции приоткрыть себя, выяснив, таким образом, отношение к представителю власти и к возможности установления сотрудничества, либо, наоборот, коли отношение к представителю власти проявится негативное, проверить все связи — нет ли тайного руководительства со стороны весьма искусных пропагандистских руководителей СДКПиЛ и ППС. Еще рано говорить о результатах задуманной мною операции, однако, думается, первые результаты не заставят себя долго ждать. Ежели же, однако, моя затея покажется Вам нецелесообразной, просил бы уведомить меня, милостивый государь, Глеб Витальевич, в любой форме, вплоть до телеграммы. Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга И, Попов».
Письмо это Попов датировал прошлым воскресеньем, до того еще, как произошла встреча его с Мечиславом Лежинским в ложе кабарета. Ему казалось, что, как некая форма оправдания, письмо это сыграет свою роль, случись скандал. Он не мог еще до конца придумать ответы на все вопросы, которые ему наверняка будут ставить, — он думал долго, туго, откладывая ответ на трудный вопрос: пусть отлежится, поспешишь — людей насмешишь. Копию письма держал в сейфе, часто доставал его, перечитывал, расчленял на вопросы, прикидывал возможные ответы, потом бумажки тщательно сжигал, сидел в долгой задумчивости. Пить стал чаще обычного.
11
Председатель совета министров Витте осторожно перевел взгляд на большие, с вестминстерским боем часы, стоявшие в простенке между высокими окнами: Роман Дмовский, адвокат из Варшавы, признанный лидер национальных демократов, говорил уже минут двадцать — конца, однако, видно не было; финансист Сигизмунд Вольнаровский и граф Тышкевич были скорее декорацией в стиле итальянских «опера» — помпезны, многозначительны, информационны, говоря точнее.
На семь часов была назначена встреча с Милюковым, времени осталось в обрез, а Дмовский продолжал напирать:
— Вы ввели дополнительные гарнизоны войск в Царство Польское, ваше превосходительство, и мы согласны с этим — одно это может спасти жителей от анархии и революционных бесчинств. Но кому мы обязаны смутою и крамолой, столь грозно обрушившимися на наш край? Бюрократической России, ваше превосходительство. Именно негибкость прежней администрации породила в части народа желание отъединиться от России, и вы согласитесь, что поводы к этому были даны, весьма серьезные поводы. Рабочая прослойка нашего края развивалась бы по образцам западным, по эволюционным образцам Германии или Франции, но именно русский фабричный люд в последнее время то и дело являл собою пример непослушания актам власти. Именно русский люд начал строить баррикады и вывозить на тачках администрацию!
— А в Лодзи кто баррикады строил? — спросил Витте. — Русские, что ль?
— Поляки, ваше превосходительство, поляки, которые во всем подпали под влияние русских! Литература возмутительного содержания, принадлежащая перу Ленина, Плеханова, Чернова, Кропоткина, транспортируется в Царство Польское тюками! Ежедневно! А ваши русские евреи?! Погром, устроенный с позволения господина Плеве в Кишиневе и Чернигове, способствовал тому, что сотни тысяч ваших диких, озлобленных жидов переместились в Польшу, и словно чума началась: ваши, познавшие кулаки городовых, заразили злобою наших евреев. У вас-то они и не могут не быть дикими, оттого что господин Плеве не признавал за ними человеческих черт, а мы своим позволяли сапоги тачать, платья шить и в зубах пломбы ставить! Кто в этом виноват?! Мы?!
Витте пошевелил большими пальцами, посмотрел на Тышкевича: тот слушал Дмовского завороженно, развесил брылы по воротнику; вот уж верно, право слово, — где собираются три поляка, там, считай, представлены пять политических партий!
— А возьмите положение в наших гимназиях?! Они заражены зловредным духом социализма и нигилизма! Русского социализма, ваше превосходительство! Когда детей воспитывали польские просветители, они прививали им преклонение перед родителями, властью, богом, а Петербург решил русифицировать нашу школу! И нам прислали русских преподавателей! Они вели себя как городовые, а многие привезли с собою книжки Чернышевского, Бакунина и Маркса! И если сегодня польская молодежь вместо того, чтобы учиться, шляется по улицам с красными флагами, то этим мы тоже обязаны русским, ваше превосходительство!
Витте теперь уже откровенно глянул на часы, хрустнул больными, раздутыми ревматизмом пальцами и, воспользовавшись паузой, сказал:
— В какой-то мере я готов принять ваши порицания отдельных недостатков в управлении прошлой администрацией Привислинским краем… В какой-то мере, — подчеркнул он, — ибо я отвечаю за политику правительства лишь после высочайшего манифеста. Давайте же думать о будущем, а не возвращаться к прошлому, столь досадному и для вас, поляков, и для меня, русского человека. Поэтому я хочу выяснить вашу позицию по вопросу в высшей степени важному: как вы отнесетесь к тому, коли мы не ограничимся введением гарнизонов в край, но объявим его на военном положении?
— То есть? — нахмурился Дмовский.
— Объяснить надо? Извольте: карать будем военно-полевыми судами всех тех, кто выступает против законной власти. Станете приветствовать такой шаг нового кабинета? — Витте, не дожидаясь ответа, забежал вперед, привязывая поляков к себе, и закончил: — Удержите горячие головы? Докажете в вашей прессе важность и потребность этой вынужденной меры? Возьмете на себя часть инициативы, попросите об этом Петербург?
Дмовский не счел даже нужным обменяться с Вольнаровским и Тышкевичем, сразу же поставил вопрос:
— Военно-полевые суды конечно же сразу примутся привлекать к ответственности журналистов, просвещенные круги, профессуру?
— Мы же уговорились, — Витте снова забежал, — думать нам пристало о будущем, зачем же обращаться к примерам прошлого? Культурных слоев общества введение военного положения не коснется. Наоборот, свободы, гарантированные высочайшим манифестом, будут надежно охранены всем могуществом власти. Кто наиболее разнуздан из левых групп в крае?
Впервые за весь разговор густо прокашлялся Тышкевич (Витте удивил его рокочущий бас — при таком-то голосе можно большей самостоятельности ждать), ответил рублено:
— Социал-демократия. Русскими инспирирована, ваше превосходительство.
— Снеситесь с генерал-губернатором. Я пошлю депешу, чтобы он обратился к вам за советом, — думаю, наши цели ныне будут совпадать по всем отправным позициям. Благодарю вас, господа.
Витте поднялся, проводил поляков до приемной, пожал руки в присутствии ведущих столоначальников (знал честолюбие варшавских гостей), дверь распахнул сам, легко обнял Дмовского — подчеркнул этим дружески-снисходительным жестом свою высшую и окончательную значимость.
Вернувшись в кабинет, Витте подошел к большому зеркалу, ткнул пальцем щеку — отечность стала угрожающей; посмотрел язык — обложен.
«Покуда нужен, покуда отдаю себя, — подумал Витте, — болезнь не страшна мне. Состояние здоровья — это инструмент, который в ход пускать надобно лишь в крайнем случае, для торговли, чтоб пугнуть: „Или по-моему будет, или уйду“. Люди моей профессии начинают чувствовать хворь и возраст, лишь когда отходят от активной деятельности».
Витте вернулся к столу, усмехнулся устало: «Отходят? Кто же сам по себе отойдет? Покуда не отведут — так-то верней».
Вызвал секретаря, попросил приготовить чай и крекеры.
— Визитера приму внизу, в зале, окна которого на Неву выходят, — как, кстати, называется?
— Проходной, ваше превосходительство, там ни разу аудиенцию еще не давали.
— Значит, первый раз будет, — ответил Витте. — Пыль пусть обмахнут только, запушено там все…
Он решил принять Милюкова внизу именно потому, что Проходной зал отличался сухой деловитостью, лишен был обычного в Зимнем шика, — профессор как-никак, освобожденец, роскошных залов, шелком убранных кабинетов и огромной, мореного дерева мебели чурается, к скромности, верно, тяготеет.
(Как и большинство сановников империи, Сергей Юльевич был оторван от тех, кто не состоял в Государственном совете, не посещал заседания совета министров и не был зван на дипломатические рауты, поэтому выводил для себя представления о профессорской оппозиции по книгам и письмам престарелого князя Мещерского, которого интеллигенты к себе не пускали, — во-первых, гомосексуалист, во-вторых, слишком шумен и целоваться лезет, в-третьих, нечист на язык — присочинит ради красного словца небылицу, потом пиши в газеты опровержения! )
— Павел Николаевич, позвольте мне задать вам вопрос отправной, решающий: отчего ко мне не идут общественные деятели? Отчего такое чурание председателя совета министров империи, стоящей на пороге реформ? — спросил Витте.
— Не идут оттого, что не верят, Сергей Юльевич, — ответил Милюков, улыбнувшись, чтобы хоть как-то смягчить необходимую жесткость пристрелочного ответа.
— А что нужно делать, дабы поверили?
Милюков пожал плечами:
— Вправе ли я давать вам советы?
— Советы плохи, коли их навязывают; я же прошу, Павел Николаевич.
— Довольно ограничиваться обещаниями, Сергей Юльевич! Вся наша история изобилует посулами и обещаниями, обещаниями и посулами. Раз сказав, должно делать! Иначе мы до конца уроним престиж власти.
Витте мягко улыбнулся:
— Мы?
Милюков, видно, не понял сразу — волновался, ибо говорил председателю совета министров то, что наболело, — резал, как ему казалось, грубую правду; споткнулся, поглядел вопрошающе: может, занесло?
Витте повторил:
— Вы изволили сказать «мы» о нас с вами. Простите, что перебил — мне было в высшей мере дорого услышать это объединяющее именно от вас.
— Я никогда не отъединял себя от идеи русской государственности, Сергей Юльевич, от конституционной, просвещенной, гуманистичной монархии. Российская тайная полиция была всегда склонна создавать врагов государства, искать их там, где искать-то грех. Вся наша история — увы, вынужден повторить — изобилует примерами горестными: начиная с недоброй памяти Александра Христофоровича Бенкендорфа, тайная служба более занималась созданием врагов, чем борьбою с ними…
— С этим покончено отныне, Павел Николаевич.
— Покончено, а не совсем! Мои друзья собрались на квартире графа Федора Илларионовича, и туда сразу же пожаловала охрана: собрание, оказывается, не было заранее зарегистрировано в околотке. Зачем же по своим бить?!
— Ну, это мы умеем, — согласился Витте, — столько лет учились…
— Вот потому к вам и не идут, Сергей Юльевич, — заключил Милюков.
— Вам пришлось взвалить на свои плечи все проклятие нашей бюрократической, приказной машины… Что же касается вашего вопроса: «Как поступать, дабы поверили? » — отвечу, с радостью отвечу. Надо бы сделать шаг, Сергей Юльевич, хотя бы один реальный шаг навстречу чаяниям культурных слоев общества. Я бы на вашем месте не стал дожидаться той поры, покуда нашей среде все всё поймут. Надо уметь помочь понять, подтолкнуть, сдвинуть… Российский-то консерватизм — сие врожденное, а отнюдь не благоприобретенное… Коли б вы предприняли действия, не дожидаясь поддержки общества, — многое можно выиграть, Сергей Юльевич, ибо тогда в вас признают человека, способного на самостоятельность в действиях.
— Самостоятельность, как правило, крута…
— Справедливая крутость угодна нашему народу…
— Отсюда недалеко до утверждения, что Россию без кнута не удержишь.
— Но еще ближе до утверждения иного порядка: нашу лихую тройку не удержать без поводьев.
— Так ведь поводьями, сколько я понимаю, и хлестать можно?
— Смотря в чьих руках они… Почему бы вам не пригласить в кабинет людей, не опороченных в глазах общественного мнения? Пусть не министерские портфели, пусть товарищи министров — как первый шаг, но ведь это же будет сразу понято, принято и оценено всеми умеренными конституционалистами! Пригласите в кабинет компетентных — хоть мы с Гучковым и Шиповым разошлись, хоть они повернули чуть правее, чем следовало бы, но ведь они знают дело, ведут свое дело, могут вести и общегосударственное! А Кутлер? А Василий Иванович Тимирязев?
— А Милюков? — тихо сказал Витте и положил свою ладонь на маленькую руку Павла Николаевича. — Именно этого вашего совета я и ждал, именно этого! Вы правы, «кабинет деловых людей», немедленная работа по восстановлению экономики, регулированию финансов, земельному устройству…
— Погодите, Сергей Юльевич! При чем здесь регулирование финансов? Сначала надо провести державу сквозь бури и грозы конституционного переустройства!
— Вы полагаете, что насущные экономические проблемы могут ждать своего решения?
— А вы думаете, что без конституции можно решить экономические тяготы империи? Сомневаюсь… Экономика ныне вросла в политику. Азы политических свобод дадут возможность промышленникам и финансистам поправить расшатанное хозяйство и вывести его из кризиса.
— Ну хорошо, допустим… Чем же должен, по-вашему, заняться кабинет деловых людей?
— Конституцией и выборами. Я считаю безумием тащить Россию сквозь три избирательные кампании: в Думу, которая выработает избирательный закон, затем, на основе этого закона, в Учредительное собрание и, наконец, в Законодательное собрание. Этот путь чреват катастрофою, Сергей Юльевич. Раз государь решился дать народу законы — надобно пригласить к себе переводчиков с французского или болгарского, повелеть им перевести конституции Бельгии и Болгарии, соединить их, подчистить и провозгласить этот перевод нашей, российской конституцией…
— Вы убеждены, что русское общество удовлетворится конституцией, данной сверху? — спросил Витте. — Мы к этому готовы, а как ваши?
— Сложный вопрос, — ответил Милюков, подумав, что говорить с Витте трудно, — сановник неожиданно ломал схему собеседования и ставил «силки». — Видимо, наши не удовлетворятся. Но базироваться эта неудовлетворенность будет на неверии в то, что бюрократия вообще сможет дать конституцию. А коли все-таки даст — наши борцы ума пошумят, покричат и успокоятся.
Витте снова сделал «шаг в сторону»:
— А вы убеждены, что весь народ хочет конституции?
Милюков подобрался, почувствовав остро вспыхнувшее раздражение.
— Назовите конституцию «правовым порядком», — сказал он. — Как пирог ни называй, в печь сунуть… А коли вы действительно верите, что крестьянство не хочет конституции, боится ее, считает инородным телом в России, так пусть конституцию прикажет царь: такую и крестьянство примет, ибо так самодержец повелел, а не какая-то неведомая Дума.
Витте вздохнул, помолчал тяжело, потом придвинулся к Милюкову, оправил салфетку, на которой стоял высокий стакан с чаем, и, неотрывно глядя в глаза собеседнику, тихо, утверждающе спросил:
— А вы убеждены, что государь действительно хочет даровать конституцию, Павел Николаевич?
… Проводив Милюкова, сказал секретарю пригласить для делового разговора Кутлера и Тимирязева — первый славился знанием аграрного вопроса, второй — умелый организатор промышленности. Что ж, коли Милюков протягивает руку, отчего не пожать ее? Он позвал Кутлера и Тимирязева — прекрасно, пусть все либерально думающие русские люди узнают: он, Витте, готов пригласить в кабинет и агрария Кутлера и заводоуправляющего Тимирязева. Пусть Милюков после этого попробует стать к нему в оппозицию — только безумец решится на такое, а руководитель кадетской партии отнюдь таковым не является…
… Вечером с докладом приехал министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново, интриган и злейший враг премьера. Докладывал с пафосом:
— Сведения из Сибири обнадеживающие — карательные экспедиции, можно считать, смуту подавили окончательно. Так же скрупулезно проводится работа в Москве.
— Что ж, слава богу, — откликнулся Витте, выслушав доклад. — Искренне рад за вас: ни Сипягину, ни тем более Плеве такое никогда не удавалось… Хочу просить вас о следующем, Петр Николаевич… Надобно найти возможность таким образом проинструктировать чинов полиции, чтобы они впредь дров не ломали, точно проводили границу: рабочий-революционер или профессор, призывающий к борьбе против тупости приказной бюрократии. Профессор не враг нам, отнюдь не враг, мы же с вами тоже приняли на себя бремя борьбы против закостенелостей всякого рода — бюрократических же особенно, не так ли?
Дурново кивнул: слова, однако, не произнес, хотя всего-то одно слово от него и требовалось: «Так», «конечно», «именно».
«Все подстраховывают себя, — подумал Витте, — все до одного. А ведь не в заседании сидим, не на людях… »
— Вот видите, вы согласны со мною и в этом пункте… Теперь далее: мягкость и терпимость по отношению к тем, кто выступает за конструктивные поправки, обязывает нас проявлять устрашающую строгость по отношению ко всяческим советам депутатов и стоящим за ними крайним партиям.
— Устрашающая строгость вызовет нападки и со стороны умеренных, Сергей Юльевич.
Витте покачал головой:
— Не вызовет. Налицо акты анархии и террора, умеренные партии нас не только поймут, но и поддержат.
— Анархисты и социал-революционеры не столь страшны ныне; сейчас теоретики страшны, социал-демократы, но они ни с террором, ни с анархией не связаны…
— Но позвольте, мне же докладывали, что они к вооруженному восстанию зовут!
— Сейчас все к этому зовут, — горько усмехнулся Дурново, — никто отстать не хочет.
— Восстание, призыв к нему — это террор.
— Раньше это было террором, Сергей Юльевич, а теперь это свобода слова.
— Свобода слова — сие соединение разностей. Так вот, любое соединение, прилагая к филологии законы химические, можно нейтрализовать, подумайте, как это делать, не зря штат полиции держите.
— Я бы хотел получить официальное предписание совета министров, Сергей Юльевич…
— Какое именно?
— Какое бы развязывало мне руки.
— Неужели вам недостаточно моего слова, Петр Николаевич?
«От старая перечница, — подумал Дурново, — понимает ведь, что слова к делу не пришьешь».
Больше о предписании не говорил, поделился слухами, справился о здоровье домашних, просил побольше отдыхать, откланиваясь, крепко жал руку Витте и чарующе улыбался.
Вернувшись в министерство, вызвал Глеба Витальевича Глазова, указал на кресло, потер длинной пятернею лоб, оскалился:
— Весело живем, а?!
— Прекрасно живем, — серьезно ответил Глазов. — Я люблю критические ситуации, ваше превосходительство. i
— Любите?
— В высшей степени.
— Ну что ж… Тем более… Знаете, что такое «нейтрализовать»?
— Уравновесить.
— Нет, Глеб Витальевич. В пору критических ситуаций «нейтрализовать» — значит «свернуть голову». Перевод, впрочем, не мой
— его высокопревосходительства Сергея Юльевича. Видите, как приятно быть председателем совета министров? Как безопасно им быть. «Нейтрализуйте»… А я вам что обязан говорить? Ладно, вы смышленый, критические ситуации любите… А ваши люди? Поймут, коли прикажете: «Несмотря на высочайший манифест, хватайте всех социалистов, гоните их на каторгу и подводите под столб с петлею»?
— Мои люди ждут такого приказа, ваше превосходительство. Они жаждут услышать это.
— Убеждены совершенно?
— Совершенно убежден.
— «Разделение труда» — так, кажется, писал Маркс? — усмехнулся Дурново. — Словом, подготовьте план по разворачиванию активного преследования социалистических партий.
— Преследование преследованием, но их сейчас еще интересней стравить: лебедь, рак и щука…
— Вы думаете, ваш изыск поймут? Не поймут вас, Глеб Витальевич, увы, не поймут. Стравливайте — это для души. Сажайте — сие для премьера, который заявляет себя либералом: агентура доносит, какие речи он с полячишками позволяет и как с кадюками, с Милюковым, любезничает…
… Глазов встретился с владельцем магазина «Дамская шляпка» Сергеем Дмитриевичем Клавдиевым, функционером «Союза русского народа», в ресторане «Контан» тем же вечером. За ужином дал санкцию на подготовку ликвидации левых кадетов — Герценштейна и Иоллоса. Этот удар повернет руководство партии еще более вправо — сначала повозмущаются, а потом испуг придет, они и профессора, они сухарь грызть не хотят, они по разуму живут.
Аресты среди социал-демократов спланированы были Глазовым утром — с чиновниками особого отдела. К социал-демократам черную сотню подпускать пока еще рано: это гражданская война, причем победитель известен заранее.
А днем Глазов уехал на конспиративную квартиру — пригласил туда секретного сотрудника, который встречался в Нью-Йорке с агентами департамента, сидевшими в Северо-Американских Соединенных Штатах последние пятнадцать лет.
Полковник должен был знать про этих заокеанских агентов все, ибо он отводил одному из них роль особую, крайне, по его мнению, важную.
12
Леопольд Ероховский, автор реприз для кабарета, был человеком на язык невероятно острым, в мнениях — резкий, в общении с людьми — открытый. Он-то и пришел к Микульской в гости — напросился, можно сказать, недвусмысленно:
— Пани Стефа, не вздумайте отказать мне в блинах с семгою и трех рюмках зверобоя — я буду у вас нынче в девять часов, один, но с гвоздиками.
Стефания конечно же отказать ему не могла — именно Ероховский написал для нее пантомиму «с саблей»; пообещала угостить не только русскими блинами (нынче эта российская диковина была в моде), но и отменной свининой, запеченной в духовке с чесноком и сыром.
Домой она вернулась в пять часов.
— У Ломницкого возьмите свиную вырезку, — напутствовала Микульска кухарку, приходившую к ней три раза в неделю, по нечетным дням, — и попросите, чтобы он послал на «ваньке» кого-нибудь к Айзенштату за семгой и балыком, пусть только даст с желтинкой, а то он в прошлый раз одну краснотень прислал.
Ужин удался на славу, семга была тяжелой, слабого посола, таяла во рту; вырезка в духовке словно бы вспухла, чеснок распарился, а сыр потек мягко, с острым козьим духом, — последний венгерский деликатес.
Леопольд Ероховский пил много, не пьянел, лишь становился все бледнее и бледнее; перед блинами запросил пардону:
— Стефа, кохана, дайте полчаса отдыха; когда речь идет о вкусном ужине, я москаль, купчина, хам.
Перешли в маленькую гостиную, сели в кресла у расписной кафельной печи. Ероховский, спросив разрешения курить, отгрыз кончик сигары, пустил струю горького дыма, который на фоне кафеля обрел цвет совершенно особый, серо-голубой, церковный.
— Я ведь не зря к вам напросился, красивая Стефа, — сказал Ероховский. — Не из жадности и не по поводу чревоугодничества — от растерянности… Что писать надобно? Что бы вам хотелось сыграть? Что угодно ныне публике? Как старуху Татарову режут? Как сына на глазах протоиерея колют, будто кабана? Так это уже Достоевский сделал, на пантомиму не переложишь. Показывать, как матери баюкают голодных младенцев в очередях? Сочинять стишки о революции? О ней оды сложат. Звать к спокойной радости бытия? Реакционером опозорят, черносотенцем… Я ощущаю последнее время холод, я не понимаю, чего люди ждут услышать со сцены… Прямолинейность осатанела, эмоции постыдны, рекламны, назойливы…
— Мне кажется, сейчас настает время душевной необремененности, — заметила Стефания. — Это позволит людям нашего круга не чувствовать тяжесть оскорбительной повседневности — живи себе, любуйся пейзажем, черешней, навозом, грачами. Перед вами торжествующая гнусность, вас окружает мерзкая пошлость? Вы видите, как на улице распинают чистоту и доверчивость в образе непорочной Девы? Все. преходяще, как существование. Ну и что? Все действительное разумно. Вам открылась нежность? Вы познали счастье? Вы поверили в добро? Почему нет? Все разумное действительно. Что писать, спрашиваете? Обо всем том, что отклоняется от норм.
— За что я вас люблю, кохана, так это за бритвенность. Красивые женщины до конца несчастны лишь в том случае, коли умны.
— Я не считаю себя несчастной.
— Несчастны, несчастны, кохана, непременно несчастны. Все женщины счастливы лишь единожды — первый год в браке, потом начинается привычка, а это — горе.
— Вы от физиологии идете, Леопольд, и это правильно, но я турист в жизни, я исключение, я не борюсь за свободу для себя, я просто взяла ее и ею пользуюсь. Человек обладает куда как большими правами, чем это на первый взгляд кажется: мне дано право любить того, кого я хочу, восхищаться тем, что других отталкивает, — в разности впечатлений сокрыто счастье бытия.
— До той поры, пока морщин нет, — отчего-то рассердился Ероховский. — С морщинами приходит желание иметь гарантии. А гарантии
— это будущее.
— Оно есть? — удивилась Стефания. — Может, нас ждет Апокалипсис? Воздухоплавание, электричество, авто — все это так страшно, Леопольд, так предсмертно, слабо…
— Слабо? — Ероховский удивился. — Почему? Это же все рычит и пугает.
— Оттого и пугает, что слабо. Порождение рук человеческих и мозга всегда старается вырваться из повиновения: все созданное восстает против создателя. Разве Ева не свидетельство тому?
— Вы ищете точку опоры в жизни?
— Конечно.
— Какою она представляется вам?
— Сильной.
Ероховский пыхнул дымом:
— Значит, я никогда не вправе надеяться на успех у вас… Вы наверняка отдаете предпочтение большим, ласковым и молчаливым мужчинам, а я злой, худой и маленький…
Какая-то быстрая тень пронеслась по лицу Микульской, но это было один лишь миг.
— Большие, молчаливые, ласковые мужчины, — отчеканила Стефания, — являют собою образец изначальной несправедливости тво-Рения: они, как правило, слабы духом и трусливы.
Неверно. Просто боятся причинить боль. Большие мужчины добрее нас, карликов; мы ведь, кохана, хотим умом взять то, чего нас лишила природа.
Не бойтесь быть смешным, Леопольд, страшитесь показаться сентиментальным.
Отчего? Добро иррационально в нашем мире зла, но, несмотря на это, сентиментальность, если ты готов корову омарами кормить, оставляет по себе память. Сентиментальна борьба против зла, но ведь ничто так не вечно, как имена тех, кто отдал себя этой борьбе. Разве вы сможете забыть человека, который принес себя на алтарь очищения?
— Не смогу.
— Не сможете, оттого что нет их; я и мне подобные сочинители пишем небылицы, выдумываем идеалы; были б — пошли за ними первыми, на край бы света пошли, только б и мечтали, чтобы поманили…
— Есть такие, — вздохнула Стефания. — Есть, однако нас они минуют. Пойдемте, блины остынут.
— Вы счастливая, кохана, коли встречали эдаких-то, — сказал Ероховский, поднимаясь с мягкого кресла. — Я, сколько ни старался, повстречать не мог. Революционеры? Не знаю… Сражение за лучшее место
— бельэтаж рвется в партер, и все тут…
— Значит, вам не везло.
— Познакомьте, в ножки поклонюсь. Я ведь хожу по Варшаве, гляжу на людей, слушаю их, стараюсь почувствовать, куда идем, как, надолго ли, и не могу, никак не могу. Привязка идеалом — великая вещь, кохана, но кто несет в себе идеал? Кто? Мимолетная встреча? Я ведь тоже Пилсудского слушал, огонь, фейерверк, чумное ощущение собственной нужности, а через час отрезвление, горечь, понимание обмана. Другое дело, коли вы убедились в человеке после долгого вглядывания, после проверки на разлом…
— Знаете, я встретилась с поразительным человеком. Он представился литератором… У него глаза магнитные… Я мельком видалась с ним, а жизнь моя перевернулась.
— Значит, мне надеяться не на что? — вздохнул Ероховский. — Зачем же я столько водки пил?
— Милый вы мой, — Стефания погладила его по голове ласковым, дружеским жестом, сестринским, что ли, — вы ищете точку опоры, а как я ищу ее! .. Лоб расшибаю, в грязь влопываюсь, все ищу, ищу, решила было, что зря, что надеяться не на что, а тут…
— Влюблены? Вправду влюблены?
Стефания покачала головой:
— Не то… Трудно определить, Леопольд…
— Излишние размышления превращают нас в трусов, кохана, лишают права на поступок, рефлектируем, страдаем, не знаем, как повести себя…
Стефания налила себе глоток водки.
— В наш честолюбивый век все себя слушают и собеседнику дают высказаться не оттого, что интересна мысль другого, а просто время потребно, чтобы подготовиться к следующему своему высказыванию… Мы же все высказываемся, Леопольд, все время высказываемся… А он говорил.
— Кто?
— Тот человек.
— Завидую я ему. Когда встречаетесь с ним?
— Не знаю. Это не от меня зависит. Я даже не знаю его имени, не знаю, где он живет…
— Что он, с неба свалился? Попросите друзей, которые встречают его, пусть пригласят… Хотите — стану помогать? Я легко принимаю отказы женщин, кохана, но я умею становиться другом, сообщником, я со стороны умею смотреть, советовать могу… Блинов нет больше горячих?
— Кшися! — крикнула Микульска кухарку. — Тесто осталось?
— Полкастрюли! — крикнула кухарка с кухни. — Печь еще, что ль?!
— Пожалуйста, миленькая! Постарайтесь, чтобы потоньше были, с кружевами!
— Кто музыки не носит в себе самом, кто холоден к гармонии прелестной, — закрыв глаза, начал декламировать Ероховский, — тот может быть изменником, лгуном, грабителем… Души его движенья темны, как ночь, черна его приязнь… Такому человеку не доверяй…
— Красиво… — откликнулась Микульска, сразу же узнав Шекспира, задумчиво спросила: — А был он все же?
— Не знаю… Скорее всего, был. У завистливых людей — по себе сужу
— недоверие к гению. В обычных всегда сокрыто желание унизить великого, откопать в нем что-нибудь порочное, унижающее его… А прочел я вам британца знаете отчего?
— Оттого, что блинов мало?
— Ух, бритва, а?! Золинген! — рассмеялся Ероховский. — Прочитал я вам Шекспира, оттого что предостеречь вас хотел…
— От чего?
— Я вас хочу предостеречь от вашего миллионщика. У него лицо тяжелое и улыбка трусливая…
— Миллионщик. — Лицо Микульской сморщилось, как от боли. — Никакой он не миллионщик, он врет все… Это Попов, начальник охранки, палач…
— Что?!
— Именно так… Полковник Попов…
— Да бог с вами, кохана, сплетни это…
— Я бы все, что угодно, отдала, Леопольд, только б это оказалось ложью…
— Кто вам это сказал? Человек с магнитными глазами? Откуда это ему известно? Вам горько, что вы узнали правду? Вы были увлечены этой статуей?
Кухарка принесла блины. Ероховский аппетитно завернул балык в кружева, полил из соусницы топленым маслом; выпил, закусил, блаженствуя.
— Кохана, а то бросьте всех. Уедем в Париж, там тетка живет, пансион держит…
— Я крахмалить простыни не умею.
— Экая злюка. Ладно, не поедем…
— Просились на блины, — вздохнула Микульска, — а попали на грусть. Спеть?
Стефания сняла со стены гитару.
— Только не настраивайте, — попросил Ероховский.
— Почему?
— Не знаю… Я очень не люблю, когда готовят музыку.., В этом сокрыто нечто противоестественное… Вроде заклятия леди Макбет, когда она просит, чтобы молоко в ее груди стало желчью…
— Как раз это естественно: человек, жаждущий власти, готов на все, он маньяк, для него нет несвершимого злодейства во имя того добра, которое он принесет, став владыкой. Разве есть властолюбцы, которые не мечтают принести подданным добро? Другое дело — что они называют добром… Беранже, хотите, спою?
— Кого угодно… Вы себя поете, при чем здесь Беранже?
Утром два филера сопроводили Микульску в салон причесок, потом в дом присяжного поверенного Зворыкина, оттуда следовали за экипажем, в котором ехали Стефания и Хеленка Зворыкина к Софье Тшедецкой, в дом моды пани Зайферт.
Софья Тшедецка, член Варшавского комитета СДКПиЛ, после беседы с Хеленой Зворыкиной и Микульской обнаружила за собой филерское наблюдение, зашла в отель «Лондон», оторвавшись на пять минут от слежки, позвонила к Якубу Ганецкому и предупредила, чтобы все контакты с нею немедленно прервали: пасут.
13
Дзержинский обычно конспиративные собрания кружков СДКПиЛ проводил сам, несмотря на просьбу Главного Правления партии уделять основное внимание газете, военной организации и созданию народной милиции, которая не только в часы восстания необходима, а уже сейчас, загодя, ибо постоянному злодейству охранки надо было противопоставлять надежный щит. Последние недели, особенно после введения графом Витте военного положения в Польше, охранка начала форменную охоту за революционерами — какая уж тут свобода, какой манифест!
— Партийный работник обязан смотреть в глаза рабочим, — сказал Дзержинский, когда «старик», один из основателей партии, Адольф Варшавский, показал ему молящее письмо из Берлина от Здислава Ледера («Юзеф чрезмерно рискует, посещая практически все собрания»). — Даже самый развернутый протокол не может передать выражение глаз товарищей, интонации реплик, тональность обмена мнениями перед и после заседания, Адольф…
Более всего Дзержинского тревожили националистические настроения, умело подогревавшиеся пропагандистами социалистов, людьми ППС: Пилсудского, Иодко и Василевского. Причем если вожди национальных демократов Дмовский и граф Тышкевич говорили о польскости вообще, то Пилсудский и его люди работали умнее: речь они вели о польском социализме, об особом пути Польши. Сложность положения заключалась в том, что Василевский и Пилсудский выводили на демонстрации рабочих под красным флагом, гимном своим считали «Варшавянку», звали народ к борьбе против царя, против капиталистов, за свободу и равенство, но акцентировали при этом: против русского царя, против русского капиталиста. Словно бы Вольнаровские, Любомирские, Тышкевичи и Потоцкие не владели миллионами десятин земли, словно бы не драли они три шкуры с польского хлопа, словно бы заводчики не платили семьдесят шесть копеек в день за работу у доменных печей, словно бы не расселяли людей в сырых бараках, высчитывая из заработка семь копеек за койку в день!
Дзержинский остро почувствовал, что «пэпээсы» начали качественно новую работу в кружках, когда обсуждал с кожевниками позицию партии на предстоящем съезде русских товарищей — исследовал он в тот раз аграрный вопрос в России.
— При чем здесь аграрный вопрос у русских и наши проблемы? — спросил Дзержинского сапожник Ян Бах, молодой парень, вступивший в партию недавно. Он отличался вдумчивостью, смелостью и открытой, постоянной тягой к знанию. — Вопросы, связанные с положением польских крестьян, — вот что должно интересовать нашу партию.
— Отчего так? — спросил Дзержинский.
— Оттого что мне с польским хлопом говорить, мне на его вопросы отвечать — сколько он земли имеет, сколько должен иметь, сколько станет за нее платить, сколько зерна должен сдать арендатору…
— Вы мельчите вопрос, — ответил Дзержинский. — Вы неверно понимаете постановку проблемы. Русские товарищи сейчас обсуждают главное: либо требовать муниципализации земли, то есть передачи ее в руки местной власти, то ли необходима национализация. Сначала надо решить главное, а уже это главное потянет за собою каждодневное, вторичное — сколько земли, кому, на каких условиях.
— Хлоп только это каждодневное и норовит понять, он в высокую политику лезть не хочет, — ответил Бах.
— Не хочет? — переспросил Дзержинский, раздражаясь. — Или не может? А не может оттого, что не умеет, не подготовлен. И наша задача заключается в том, чтобы крестьянина готовить. Вы обязаны, именно вы, рабочий социал-демократ, объяснить неграмотному человеку то, чего он не понимает, от чего его отталкивают, но что знать необходимо, дабы не существовать, а жить. И еще освобожденный человек обязан думать обо всем мире, а не гнить в узконациональной скорлупе.
— Это я могу сказать крестьянину, который живет в Германии, Франции или Англии — там он вправе на своем родном языке говорить, а поляк гнется под русским царем, — упрямо стоял на своем Бах.
И обрабатывает землю графа Сигизмунда Потоцкого, — заключил Дзержинский. — Для которого же, конечно, муниципализация угодна и приемлема, национализация — ни в коем разе. А вот отчего родоначальник российского марксизма Плеханов стоит на позиции Сигизмунда Потоцкого — об этом вас спросят люди, и вы должны уметь ответить, потому что Плеханов — сие Плеханов, и тут невозможно сказать, что, мол, Георгий Валентинович предал дело пролетариата и стал на сторону буржуазии, — это неправда, вопрос стоит глубже, вопрос, коли хотите, этического порядка: характер, возраст, мера талантливости, усталость, отвага, умение предвидеть, готовность принимать точку зрения оппонента… Плеханова, который за муниципализацию, в Польше знают: «Манифест» перевел на русский язык; Ленина, который за национализацию, знают весьма мало, а он, Ленин, отстаивает интересы того самого польского хлопа, который кровью харкает на земле графа Потоцкого и Тышкевича… Русские товарищи не почитают за чужое дело изучение польской партии «Пролетариат» и ее вождя Людвика Варыньского. Они находят слова для русских крестьян, они исследуют революционную тенденцию, приложимо к России, но анализируют и Польшу, чтобы их товарищи знали, чем живут и о чем мечтают поляки. Знание — единственно это сделает революцию победоносной. А то, что знание социально, с этим, думаю, спорить не станете, товарищ Бах?
— С этим я и не спорю, — откликнулся Бах. — Я спорю с другим: надо бы нам польскому крестьянину больше польского давать, привлекать его к нам болью.
— Это аксиома, разве я возражаю против этого?! Начинайте беседу в крестьянских кружках с того, что товарищам близко и знакомо. Но ведь постоянно следует думать, как поворачивать их от разговоров к борьбе! А можно ли бороться против царизма без помощи русских товарищей?
— Нельзя.
— Нельзя, — повторил Дзержинский удовлетворенно. — А коли нельзя, то надо точно знать, как сражаются русские товарищи, товарищ Бах! Муниципализация Плеханова — замедление темпа революционной борьбы, национализация Ленина — ускорение. Что предпочтет польский крестьянин?
— Не знаю.
— Ну вот и давайте выяснять, — улыбнулся Дзержинский. — В спорах рождается истина.
… На явку Дзержинский вернулся поздней ночью. В комнате, не зажигая света, ждал его Юзеф Уншлихт:
— Феликс, за Стефанией Микульской поставлена филерская слежка…
— Она предупреждена?
— Нет.
— Почему?
— Слежку обнаружила сегодня утром Софья Тшедецкая. Подойти к Микульской невозможно.
— Отправь записку.
— Не выйдет. Дворник получает все письма и посылки.
— Утром ее надо предупредить любым путем — пусть уезжает.
— Куда?
— В Краков.
— Феликс, о чем ты? Она же не член партии, она актриса, ей ведь на наши деньги не прожить…
Дзержинский сунул голову под кран, стоял долго, отфыркиваясь. Потом растер лицо полотенцем и сказал:
— Когда две ночи не посплю, совершенно тупею. Начинаю жить, словно механический человек — по какой-то схеме. Опасно, да? Ну-ка, давай сначала: во-первых, как мальчик?
— Казимежу лучше.
— Глаз спасут?
— Видимо.
— Конференция с солдатами в Пулавах подготовлена?
— Да.
— Теперь по поводу Микульской — когда началась слежка? Связывались ли с Турчаниновым? Пустили наше контрнаблюдение? Какие есть предложения у тебя?
14
Трепов терпеливо ждал, что Витте споткнется на подавлении Московского восстания; тот, однако, дал приказ Дубасову расстреливать баррикады; Трепов ждал, что Витте сломит себе шею на черноморском военном бунте; «Очаков» тем не менее был изрешечен снарядами, Шмидт казнен; так же круто Витте расправлялся с восставшими в Сибири.
При этом — что было для Трепова неожиданным, ибо он действительно, а не показно полагал кадетов «революционерами», — ни Милюков, ни Гучков отставки Витте не требовали, бранили, но в меру; причем Гучков
— за непоследовательную мягкость против «крайних элементов», а Милюков
— за излишнюю твердость против тех же «элементов». У Трепова создавалось впечатление, что кадеты и октябристы начинают всерьез притираться к Витте, от встреч переходят к делу, а это тревожно, это укрепляет положение нового премьера и, таким образом, может породить в доверчивом царе, который сторонился тяжкой государственной работы, требовавшей каждодневного многочасового присутствия, опасные иллюзии: мол, и при выборах в Думу, и при том, что либералы себе позволяют в газетах, все идет по-прежнему, никто, кроме крайних, не поднимает голос против Основ власти, — чего ж особенно тревожиться? Можно малость-то и отдать…
Трепов не хотел отдавать ни малости. Он понимал, что ему, отдай он хоть малость, ничего в жизни не останется. Если государь убедится, что и либералы могут служить ему не хуже — а либералы заводами вертят, банками, — ему, Трепову, не властвовать далее. А что он, Дмитрий Федорович, может, кроме как властвовать? Давать разве свои земли мужику и железной рукою получать с него за это деньги?! Что же еще? Ничего больше. А без власти и того не сможет. Себе врать негоже, себе про себя надо все честно говорить.
И Трепов начал интригу. Он начал ее издалека, понимая, что в лоб нельзя. Он догадывался, куда клонит Витте: премьер хотел показать себя Думе, особенно в крестьянском вопросе. Он хотел, чтоб не государь дал, а Дума взяла. Он поэтому исподволь готовил некоторое облегчение крестьянской участи, изучал кадетские планы выкупа помещичьих земель и желал, чтобы в ответ на предложение Думы именно он, а не государь согласился с мнением депутатов. Тогда он, Витте Сергей Юльевич, так лизнет либералам, что кумиром станет, а кумира свалить трудно, почти невозможно, государя к этому не подтолкнешь.
Дмитрий Федорович организовал письма на свое имя от князя Оболенского и графа Коновницина; они поняли смысл просьбы, обращенной к ним в личных и доверительных записках Трепова. Он ясно указал, чего от них ждет, — друзья откликнулись немедля; послали реляции в Царское Село, на имя Трепова, как он и просил:
«Не хотим ранить сердце нашего обожаемого Монарха, поэтому обращаемся к Вам, милостивый государь Дмитрий Федорович, полагаясь на Ваше благоусмотрение: соизволите показать Государю наше послание — покажите, посчитаете, что не надобно этого делать, — бросьте в камин.
Со всех концов наших губерний приходят сообщения о насильственном отторжении мужиками земель дворян, истинно русской опоры трона. Об этом знает С. Ю. Витте, однако складывается мнение, что он намеренно не хочет видеть правды. Неужели государев премьер думает о мужичье — поначалу, а уж потом о троне, стоявшем столетия дворянскою силой? Неужели С. Ю. Витте всерьез думает о своей особой роли в жизни Державы нашей Православной? Неужели С. Ю. Витте полагает, что Дума вправе решать судьбу дворянства? Неужели это не есть Высокая прерогатива Его Императорского Величества? Дворяне пошли из царевых милостей, земли им и особое в державе положение жаловали Венценосные Предки Его Императорского Величества, только он эти милости своих предков вправе изменить или отменить совершенно… » Далее шли слезы, так Трепов посоветовал, знал, что государь сентиментален, на него крик души действует, иным-то не пробьешь — послушал и пошел себе дрова колоть для укрепления здоровья…
Вторым шагом, после того как Трепов эти, сделанные им же самим письма получил, был вызов из Харькова профессора Мигулина, ловкого юриста, человека, умеющего чуять ветер еще до того, как тот задувать начнет. Ему-то, Мигулину, и было поручено Дмитрием Федоровичем составить проект передачи дворянских земель мужику, смелый проект, дерзкий — так Трепов просил; Мигулин конечно же смикитил. Проект написал, молчком уехал обратно, в Малороссию, получив заверения Трепова, что отныне он может полагаться на самое к себе благожелательное отношение со стороны двора, но попросил при этом найти верные слова — коли потребуются, — дабы достойно отречься от своего же проекта, объяснив это неверно понятыми «веяниями правительства Витте». Следующим шагом была беседа с государем. После завтрака, когда вышли на прогулку, Трепов сказал, по обычаю рассыпая слова горохом:
— Ваше величество, сегодня гвардия устраивает бал, мальчишник. Вас ждут, оркестр румына Гулески заказали, маскерад будет отменный, русский хор с Крестовского, балерины.
— А время ли сейчас? — спросил Николай. — Или мое появление у гвардейцев угодно моменту?
— Именно так, ваше величество, угодно: царь и армия всегда вместе!
Вечером, когда государь приехал к павловцам и офицеры, окружив его, тянулись чокнуться с венценосцем, который держал в мягкой руке рюмку своей любимой мадеры, оркестр грянул мексиканскую «Палому». Офицеры жадно заглядывали в лицо Николаю, ждали там умиления — как-никак любимая песня молодости. Государь, однако, слушал рассеянно, хлопать не стал, а когда, сказавшись уставшим, на танцы не остался и пожелал вернуться во дворец, заметил Трепову хмуро:
— Двадцать лет назад черт меня дернул сказать, что я эту песенку люблю, так вот, извольте, прилипло и потчуют и потчуют! Эта «Палома» мне сейчас хуже китайского пения.
— Уж лучше такая верность, ваше величество, хоть и неуклюжая, чем барское коварство, — откликнулся Трепов.
— О чем ты?
— Эхе-хе-хе, — вздохнул Трепов, но сразу же заторопился ответить, знал, что государь слишком уж неподвижный, прямо как после болезни, ему, коли кашу в рот не сунешь, будто ребенку, он и к ложке не потянется. — О Витте я, ваше величество, о Сергее Юльевиче…
— А что? Он сладил с бунтами, он на докладах успокоительные вещи сообщает.
— Дак что ж ему, правду вам говорить?! Это я один, дурень, правду вам выкладываю, за это меня и любить перестали…
— Полно тебе. Уж я ли тебя не люблю? Я люблю тебя, Трепов, я тебя люблю.
— Хитрость затевает Витте, ваше величество, — убежденно заключил Трепов, — коварную хитрость. Я вам письма Оболенского и графа Коновницина не читал, жалел, я петиции от «Союза русского народа» не показывал, щадил, а теперь не могу. Я вам теперь дам проект одного профессора прочесть. Мигулин ему фамилия, вы не слыхали об нем, он не из дворян и родом не восходит.
— Что за проект?
— Об земле. Вы почитайте его, ваше величество, почитайте и предложите Витте ответить, тогда сразу станет ясно, может, я, дурак, и впрямь чересчур его опасаюсь?
Так Трепов начал комбинацию. Продолжил он ее назавтра, когда встретил Витте в Фермерском дворце и перед тем, как отвесть к государю, взял под локоток, склонился к уху, заговорил жарко, дружески:
— Сергей Юльевич, родной, светлая голова, умница, предпримите ж что-нибудь! Я сам помещик, но, право слово, готов мужику половину земли безо всякого выкупу отдать, только б вторую половину сохранить! Что медлите, Сергей Юльевич?! Чего ждете?!
Царь, выслушав доклад Витте, одобрительно отозвался о твердости мер, принятых против анархистов в Чите и Польше, выразил сострадание семьям расстрелянных, попросил посуровее быть ко всякого рода безответственным подстрекателям в газетах, изволил поинтересоваться вопросом о займе — деньги нужны немедля, а уж в конце, протягивая проект Мигулина, спросил:
— Сергей Юльевич, целесообразно ли нам подписать подобный рескрипт? Ознакомьтесь, пожалуйста. Как скажете, так, верно, и поступим.
Витте, вернувшись в Петербург, прочитал записку Мигулина, понял, что началась игра дворцовой партии, хотят все идеи у него забрать и передать на разрешение Царского Села, хотят голым оставить — с чем идти в Думу?! Тем не менее, поостыв, Витте извлек определенного рода выгоду из того, что царь передал ему мигулинскую записку. Это, полагал Витте, позволит ему, отвергнув мигулинский проект как чрезмерно «левый» — такая формулировка царя не может не устроить, на это он поддастся, — просить министра земледелия Кутлера немедленно представить на рассмотрение совета министров свой проект земельной реформы. А Кутлер — с Милюковым на «ты», им в кабинет подсказан, не кем-нибудь. Значит, через Кутлера он, Витте, заключает договор с кадетами, а они — теперь уже ясно — будут первенствовать в Думе. Значит, продолжал рассуждать Витте, премьер, то есть он, заручится поддержкой законодательного органа державы и свалить его всякого рода Треповым так легко не удастся, будет борьба, а кто в ней победителем выйдет — неизвестно еще. Вот то новое, во имя чего он работал годы, вот оно, то новое, которое исполнительную власть наконец превращает в силу, а не в лакеев, дежурящих в приемной царского дворца: «Чего изволите? »
Витте ухмыльнулся: «Обхитрил самого себя, Дмитрий Федорович, думал проверку мне устроить, поглядеть лояльность! Я так этого Мигулина вывожу, что царь в ладошки станет хлопать!»
Однако Витте недоучитывал длинную хитрость Трепова. Витте не мог и предположить, что всю эту комбинацию Трепов затевал для того лишь, чтобы Витте, отвергнув проект Мигулина, предложил Кутлеру составить свой. Записка о кадетских симпатиях Кутлера была уже у Трепова в кармане, Дурново все расписал по нотам, так, что пугало. Государь любил, когда его окружало страшное, с ним бороться интересно, это свое страшное, это и не страшно вовсе — с детства, тайно, любил играть в грозного прадеда.
Как только Витте поручил Кутлеру готовить проект аграрной реформы, которая должна была — по закону Думы, а не царя — отдать мужику за выкуп казенную, удельную и даже часть помещичьей, впусте лежавшей земли, как только сообщил об этом Дурново, так Трепов понял, что он нанес Витте удар, от которого тому легко не оправиться.
Когда Кутлер приготовил свой проект, Трепов — опять-таки через Дурново — организовал немедленный вызов проекта. Спустя день царь предложил уволить Кутлера в отставку — «замахивается на основы».
Витте все понял: обыграли, как мальчишку, обманули так, как темный азиат может обмануть культурного европейца, нутряным коварством переиграли, а такого рода коварству никакой ум не помеха; бывают обстоятельства, в коих живот перешибает голову.
И тогда первый раз Витте заговорил о пошатнувшемся здоровье. Он сделал так, чтобы это стало известно всем. Он ждал реакции. Однако царь никак не откликнулся, при встрече лишь сказал, что кальцекс облегчает простудные заболевания, и справился, есть ли у Витте этот волшебный препарат.
Витте ответил, что его заболевание не носит характера простудного, которое передается по воздуху, ибо он — в таком случае — не просил бы аудиенции, опасаясь заразить его императорское величество,
— Тогда слава богу, — откликнулся Николай, — значит, все в порядке, кроме сильной простуды — что страшно? А холеры, к счастью, пока нет. Значит, надо полагать, Сергей Юльевич сможет отдать всего себя делу скорейшего получения займа: державе надобно золото, чтобы залечить раны, нанесенные войной на дальневосточной окраине, и помочь поднять экономику без резких изменений привычного для России уклада.
Витте понял — обложен. Если будет заем, уйдет с миром, не будет займа, не сможет его вырвать у Парижа и Берлина, — выпрут из кресла, оболгут, не отмоешься.
… Трепов провожал к авто, по обычаю поддерживал под локоток, жаловался на погоду и просил остерегаться сквозняков: «Лучше б экипажем, Сергей Юльевич, в авто насквозь просвищет, кашлять станете. По-дедовски-то надежней, право слово, и навозом пахнет — для легких полезно».
(Наивно утверждать, что монархист Витте думал о превращении России в истинно парламентское государство. Он, однако, думал постоянно о превращении России в крепкое буржуазное государство, потому-то в своих законопроектах особо выделял капиталистов и землевладельцев. И тем и другим его проект был угоден: помещик был заинтересован в резерве малоземельных, которые обрабатывали его поля, получали за это деньги и отдавали их в Крестьянский банк выкупом. Пройди этот законопроект, Гучковы, Родзянки, Николаевы сразу же вложат свои деньги в Крестьянские банки — под огромный процент. И пошла бы жизнь! Завертелось бы колесо капитала, открылся бы товарообмен между мужиком и городом, активный товарообмен, а не ползучий, такой, как сейчас: «Я тебе плуг, а ты мне мед да пеньку». Все правильно рассчитывал Витте, только совершенно он не брал в расчет тех, кто призван был производить товар, а таких было в России сто миллионов. В расчетах бар эта ошибка обычно имеет место, ибо бессловесное большинство непонятно и кажется какой-то громадной безликой массой, лишенной чувства, мысли и мечты. Другое дело — Витте прошляпил с царем; он все же полагал, что двор умнее, он полагал, что там понимают: «новое время — новые песни». Витте на мотив не замахивался, пусть будет извечным, он хотел чуть-чуть изменить рифму, сущая ведь безделица, но нет — вырождение сыграло злую шутку: правил державою человек, лишенный какого бы то ни было государственного разума, человек трусливый и в конечном счете малообразованный.
Но Витте тем не менее не хотел сдаваться — именно поэтому пустил слух о слабом здоровье, — больных жалеют, не так боятся, ждут, пока сами развалятся. Главное — утвердить законы, угодные сильным. Потом, приведя в Думу своих сильных, можно отойти в тень. Когда понадобится «чистая голова» — позовут, никуда не денутся. Он вернется.
В этом и была его главная ошибка — ушедших не возвращают.)
15
Александр Иванович Гучков, основатель партии октябристов (называли себя «Союзом 17 октября» — в честь царева манифеста), пригласил железнодорожного инженера Кирилла Прокопьевича Николаева, члена московского комитета партии, владевшего контрольным пакетом акций приисков на Бодайбо, фактического хозяина забайкальской дороги; Михаила Владимировича Родзянко, лидера партии октябристов, агрария, державшего в руках юг Украины; варшавского финансиста Сигизмунда Вольнаровского и банкира Дмитрия Львовича Рубинштейна на обед к себе, в апартаменты «Европейской» гостиницы. «Асторию» терпеть не мог из-за промозглой сырости.
Стол был накрыт по-английски, половые разносили аперитивы, на столике возле большого окна стояли бутылки, привезенные из Шотландии, ветчина была круто солена, суховата; канапе — на черных прижаренных хлебцах, — все, словом, как в Европах.
Родзянко, потирая зябко руки, простонал:
— Александр Иванович, ласка, я эти паршивые виски пить не могу, от дымного запаха воротит — мои крестьяне самогон варят чище, ей-богу.
— Да вы аперитивы, аперитивы пейте, — хохотнул Гучков, — водка к мясу будет.
— Коли уж все накрыто по-английски, я было решил, что ты нас вино заставишь хлестать к бифштексу-то! — сказал Николаев.
— Какая к черту реформа?! — горестно изумился Гучков. — Какой прогресс возможен на Руси, коли мы такие косные и дремучие люди — только щи подавай и пшенную кашу с подсолнечным маслом! Национальная особость ярче всего проявляется в том, как люди относятся к пище других народов. Когда меня япошата захватили в плен, притащили в мукденский лагерь и дали сырую рыбу — офицерики их понабежали, очкастые все, махонькие, смеются, ждут, как я плеваться начну: наши солдаты, бедолаги, умирали с голода, а сырую рыбу, ту, что япошата с утра до ночи трескают за обе щеки, на землю бросали, ропот шел, что, мол, унижают русского человека и глумятся над ним раскосые нехристи. А я съел. И еще попросил. Поэтому меня из барака в город отпустили, подсобным в прачечную, ходи-ходи, белье носи-носи…
— Александр Иванович, ты не прав, — сказал Рубинштейн. — Мы, русские, очень либеральны по отношению к тому, что едят другие, но только сырую рыбу, бога ради, не навязывай! Лучше уж консерватизм, чем склизлый карп во рту! Я, например, без черного хлеба, луковицы и стопки поутру, в воскресный день, — право слово, не человек, будто на бирже мильен проиграл!
Гучков обнял пыжистого Рубинштейна за плечи:
— Митя, Митенька, дружочек нежный, объясни, отчего вы, пархатые, больше нас, мужепесов, черный хлеб с водкой любите?
— Да потому, что вкусно! Мы, Александр Иваныч, если присохли сердцем к чему-то — так уж навек! Малое к большому льнет!
Гучков попробовал новый аперитив, собственное изобретение, джин с пятигорской водой, глянул на Вольнаровского, улыбнулся:
— Это, Митя, — ты; мы за это тебя так любим, а вот Сигизмунд все одним глазом в Варшаву глядит, польскую выгоду в левый угол ставит.
— Было бы противоестественно, если б вы ставили в левый угол интересы Польши, не правда ли? Чего ж вы от меня требуете?
— Он требовать не умеет, — сказал Родзянко. — Александр Иванович, как истинный англофил, только выносит на всеобщее обозрение. Его волнует, дорогой Сигизмунд, судьба его вложений в лодзинские мануфактуры и моих — в сахаропромышленность Петроковской губернии: гляди, отложитесь от России, что мне тогда, к Мите в ножки падать? Помоги, мол, через своих кровососов ротшильдов вернуть капитал?
Вольнаровский пожал плечами:
— Наведите порядок в России — тогда и нам будет легче, У нас есть силы, которые смогут повернуть общество к идее вечного единения с Петербургом, один Дмовский с Тышкевичем чего стоят…
Николаев махнул аперитив вместе с ягодкой, косточку обсосал, вытолкнул языком на стеклянный поднос:
— Ничего ваш Тышкевич с Дмовским не стоят, Сигизмунд, не обижайтесь за правду.
— Тышкевич — нет, пустое место, — согласился Рубинштейн, — а Дмовский — человек с весом.
— Кто взвешивал? — спросил Николаев. — Банкирский дом Розенблюма и Гирша, Митенька? Твои взвешивают и гвалт поднимают, оттого что Дмовский с ними мацу хрустит!
— Розенблюм и Гирш на нас сориентированы, — заметил Родзянко, — они связаны с нашими интересами, Кирилл Прокофьевич.
— Это он шутит так, — пояснил Рубинштейн Сигизмунду. — А кто ж, Кирилл, по-вашему, весит в Привислинском крае?
Николаев поморщился:
— Зачем пальцем в глаз тыкать? Почему «Привислинский край»? Ну хорошо, Сигизмунд наш друг, он поймет, он делом живет, а не национальными химерами, а мы в газетах поляков «Привислинским краем» дразним, вместо того чтобы «Царство Польское» с прописных букв употреблять… А весят там другие силы, и во главе их стоят…
— Пилсудский и Василевский? — вопрошающе подсказал Вольнаровский.
Гучков отрицательно покачал головой:
— Нет, Пилсудский шпионствовал против России, продавал микадо военные планы, этим брезгуют в порядочном обществе.
— Там Люксембург и Дзержинский — личности, — сказал Николаев.
— Какой Люксембург? — удивился Рубинштейн. — Максимилиан Эдуардович? Директор банка?
— Его сестра. Розалия Эдуардовна… А Дзержинского я деньгами на их газету ссужал — невероятного колорита человек, громадного обаяния…
Гучков посмотрел на часы.
— Друзья, минут через десять к нам приедет Василий Иванович Тимирязев, подождем, а? Или невмоготу? Супчик у нас легкий, тертая цветная капуста со спаржей. Подождем министра?
— Он, наверное, запоздает, — сказал Рубинштейн. — Витте проводит сегодня кабинет.
— Что-нибудь интересное? — спросил Родзянко.
— Защищать будет министра юстиции. Валят бедного Манухина, очень Дурново против него резок, обвиняет в бездеятельности, — ответил Рубинштейн. — Требует от Манухина жестких законов, а тот боится дать.
— Это тебе сообщает Мануйлов-Манусевич? — поинтересовался Гучков.
— Да.
— Скользкий он человек, — заметил Николаев. — И сразу взятку просит. Сначала в кабинет рука влазит, а уж потом этот самый Мануйлов-Манусевич появляется.
— Что скользкий — не велика беда. Главное — не очень знающий, — добавил Гучков. — Дурново — вторая скрипка. Главная пружина — Трепов. Он требует от юстиции крови, а Манухин не дурак, он дальше смотрит, Дурново перед собой выставляет: ты, мол, стреляй, а сам хочет жить по новому закону. Родзянко посмеялся:
— Благими намерениями дорога в ад вымощена, Александр Иванович, России до законности семь верст до небес и все лесом! Конечно, в наше трудное анархическое время уповать на министерство юстиции смешно и недальновидно. Сейчас главный удар на себя должен принять Дурново, крамолу надо искоренить решительно и жестоко, страх должен быть посеян крепкою рукою, а уж потом на ниве памяти об этом можно дать простор юстиции, гласности и всему прочему, столь угодному нашим партнерам на Западе.
— Беззаконие необратимо, — заметил Николаев. — Я боюсь, Михал Владимирович, как бы эта палка снова по нашим шеям не прошлась. Приказные от полиции — люди увлекающиеся, получив неограниченную власть, снова захотят диктовать те условия, на которых нам следует вести дело с нашими рабочими, Гужон это верно унюхал.
— Это хорошо, что вы смотрите вперед, Кирилл Прокопьевич, — не согласился Родзянко, — но нельзя перепрыгивать через условия сегодняшнего дня. Пока революция полыхает в несчастной стране, пока помещики страшатся жить в имениях, а вам, заводчикам, приходится вступать в унизительные переговоры с рабочими делегациями, преждевременно думать о возможном рецидиве полицейского всевластия. Да и государь, я думаю, понял, что без поддержки нашей партии ему трудно будет править империей, все-таки не кто-нибудь, а мы держим в руках железные дороги и оружейные заводы.
… Тимирязев вошел в зал по-министерски, степенно, трижды расцеловался с Гучковым, обнялся с Николаевым, крепко пожал руки Родзянко, Рубинштейну и Вольнаровскому.
— Что значит министр, — вздохнул Родзянко. — С русскими — объятия, а с нами — рукопожатия, черт их знает, инородцев, у них свое на уме!
Тимирязев, видно, не ждал такого открытого удара, долго тянул аперитив, обмозговывая, как ответить. Дососав косточку греческой зеленой маслины, улыбнулся:
— Министр — человек служивый, Михаил Владимирович, куда ему тягаться с вами — за каждым миллионы… А уж что касается вероисповедания, так Дмитрий Львович более меня русский, он посты держит.
— Вы не обижайтесь, Василий Иванович, если был дерзок — прошу простить, и миллионами не корите — разлетаются по ветру. Без вашего совета и подсказки трудно будет дальше жить. Мы проголосовали единогласно на заседании правления вашу кандидатуру качестве непременного члена. Не оскорбите отказом?
Рубинштейн аж присел от зависти — обскакал старый хохол на повороте, будто орловец обскакал. Гучков заметил, как дрогнуло лицо Митеньки, рассмеялся, повел гостей к столу. Помимо чашечки с дрянным супом, обязательным по англофильскому, будь он неладен, протоколу, стояла у каждого прибора ваза в серебре с икрой, только три дня назад прогрохотанной через решето в Царицыне, на рыбном заводишке, купленном Гучковым смеха ради во время гусиной охоты.
Вольнаровский, европеец, кружева вместо манжет носит, суп все-таки попробовал, заметил, что капуста изумительна, а Родзянко чашечку решительно отставил, направил себе бутерброд с икрой и увалисто, всем телом повернувшись к Тимирязеву, поднял высокую рюмку с желтоватой пшеничной водкой:
— Василий Иванович, я хочу просить моих друзей выпить за вас, первого в нашей истории министра торговли и промышленности, которого отличает понимание истинных задач, стоящих перед деловыми людьми. Именно мы несем первейшую ответственность перед государем за благоденствие империи. Именно мы и наша партия взяли на себя тяжкое, но сугубо необходимое бремя активного противостояния революции, ее разрушительному урагану. Именно мы, деловые люди, ведем в нашей партийной прессе патриотов октябрьского манифеста борьбу против анархических устремлений социал-демократии, против болота конституционных демократов, которые заигрывают то с теми, то с другими; именно мы, Василий Иванович, объявили войну бомбистам социал-революционной партии и открыто поддержали правительство в его чрезвычайных мерах. Мы не могли бы стоять крепко, расти и надеяться на успех в предстоящих выборах в Государственную думу, не имей постоянной поддержки с вашей стороны, полного и доброжелательного понимания нашей позиции. Ваше здоровье!
— Позвольте мне алаверды, — потянулся Рубинштейн.
— Прошу, Митенька, прошу, мой дорогой, — сказал Гучков, оглядывая лица гостей маленькими, сияющими глазами, которые никак не гармонировали с большим, барственным, холодным, без выражения, лицом-маской.
— Отнюдь не для того, чтобы лишний раз преклонить колени перед мудростью прагматичных британцев, исповедующих истину «рул энд дивайд», хочу подчеркнуть, что нам, деловым людям, заказан кабинет господина Витте, который все более с профессорами изволит собеседовать, зато мы всегда находим отклик в кабинете дорогого Василия Ивановича. Позволю заметить, что если бы в руках нашего друга было власти поболее, право же, империя только б от этого выиграла. Думаю, что наша партия, которой расти и расти, поможет вскорости дорогому министру ощутить еще большее бремя ответственности — сейчас ее бежит только тот, кому не дорога родина и святая наша вера.
Дальше все было расписано — Гучков мастер на спектакли такого рода: кто первый о чем заговорит, кто затеет легкую бузу для разрядки сложного момента, ежели такой наступит, кто внесет компромисс, а кто побежит к двери разобиженный — штучки московских купцов вовсе отбрасывать неразумно.
Конкретное дело, ради которого и собрались, а не прозрачные Рубинштейновы намеки на возможное премьерство Тимирязева, открыто тронул Сигизмунд Вольнаровский. Гучков считал, что рабочий вопрос целесообразнее поставить именно варшавскому банкиру, оттого что поляки ближе к немчуре и опыт у них заимствовать сподручнее.
— Милостивый государь Василий Иванович, — начал Вольнаровский, — я считаю долгом исповедовать с друзьями открытость. А польская открытость, извольте заметить, особого рода, она совершенно не защищена: если поляк предан, так он предан до конца, наш дух не переносит колебаний, тем паче измены… Так вот, сейчас в России модно предавать анафеме попа Гапона, клеймить его душегубом. Конечно, та форма организации фабрично-заводских рабочих, которую изволил создать господин Зубатов…
— Не Зубатов ее создал, а Плеве, — заметил Родзянко хмуро. — За это и поплатился — дай нашему человеку ноготь, он палец отхватит.
Рубинштейн не удержался, съязвил:
— Если свободу считать ногтем, Михаил Владимирович…
Вольнаровский, холодно посмеявшись невоспитанности компаньонов, продолжал между тем:
— Неважно, господа, кто… Ходили слухи, что идею высказал Витте, но потом ее же и убоялся, а может быть, понял, что это орудие в руках полиции против него, отвечавшего тогда за бюджет империи… Не в этом существо вопроса. Мне и моим друзьям в Варшаве представляется необходимым серьезно задуматься о форме организации профессиональных союзов, разрешенных ныне высочайшим манифестом. Если кураторство попадет в руки Петра Николаевича Дурново, то при всем моем уважении к министру внутренних дел я опасаюсь, что он не сможет понять суть проблемы… Для сего я полагаю необходимым показать мыслящим рабочим полицейское изначалие Гапона, чтобы навсегда отгородить фабричный элемент от влияния какой бы то ни было политики — даже полицейской — в сфере профессиональных союзов. Вообще было бы идеальным провести высочайший закон о передаче всех вопросов о взаимоотношениях между хозяином и профессиональным союзом в ведение министерства Василия Ивановича. Можно ли надеяться на осуществимость такого рода поддержки?
Тимирязев прищурился, словно смотрел плохо освещенную картину, отодвинул от себя тяжелое серебро десертных вилочек и ножичков, ответил рассуждающе:
— Я не думаю, что этот вопрос легок. Государь полагает, что рабочий вопрос нельзя выпускать из-под контроля министерства внутренних дел.
— Так и не надо, кто ж про это говорит?! — удивился Родзянко.
— Трепов будет говорить про это, — буркнул Николаев. — Этот неуч полагает себя спасителем династии…
— Господа, по-моему, мы зря всё усложняем, — замельтешил Рубинштейн. — В конце концов, понятие «профессиональный союз» внове для империи, можно поискать иные термины, продумать, как половчее…
— Обманывать нам не к лицу, — отрезал Гучков.
— Да я ж не про обман, — живо воспротивился Рубинштейн. — Зачем драматизировать?! Я про тактику! Надо найти возможность припомнить Дурново судьбу его предшественника, страдальца Вячеслава Константиновича, — вот о чем речь. Сравнения действуют, господа, очень притом ощутимо! Не захочет тогда Дурново лезть в это дело, ему забот хватает!
— Мне тоже, — улыбнулся Тимирязев. — Я продумаю этот вопрос, господа, обменяюсь мнениями с коллегами.
Гучков обернулся — метрдотель сразу же заметил, махнул салфеточкой, половые вкатили мясо.
— Всё дела и дела, — сказал Гучков, — не ради дела одного собрались.
Проследил зорко, чтобы наполнили бокалы — больше о деле не следует: Тимирязев пообещал, и хватит. Через неделю его надо ввести еще в одно правление, оклад содержания положим щедрый, это поможет министру ощутить свою силу, почувствовать гарантии на случай непредвиденного риска: ежегодный доход тучковских «наблюдателей» в полтора раза выше министерского, Василий Иванович это знает, умница, хорошо себя держит, достоинство блюдет, даже если загремит на каком риске — связи его останутся, перейдут к Гучкову и Родзянко, связи куда как более ценны, ибо пост преходящ, связи вечны.
После ужина Митенька Рубинштейн отправился в «Асторию» — там ждал его чиновник для особых поручений министерства внутренних дел Иван Мануйлов-Манусевич.
— Что с Гапоном? — спросил Рубинштейн.
— С ним Рачковский работает, Дмитрий Львович. Я надеюсь на успех.
— А я — нет.
— Отчего так?
— Оттого что не верю жандармской инициативе, понятно? Выясните и доложите подробно.
— Выясню.
Рубинштейн не сомневался — этот выяснит, В этом проходимце он убежден.
16
В фигуре Ивана Федоровича Мануйлова-Манусевича сфокусирована мерзостная гнусь царской России, ее чиновная амбициозность, интриганство, малость, вся ее вопиющая безыдейность.
Судить об эпохе можно по-разному: бывает, передают из уст в уста рассказы стариков, и в зависимости от того, чему те ранее служили, рождается либо злой памфлет, либо высокая легенда; можно судить по тем или иным произведениям литературы и живописи; однако лучше всего сущность эпохи делается ясной из анализа документов.
… Иван Мануйлов-Манусевич заявил себя за десять лет перед описываемыми событиями способом весьма странным.
Заведующий делопроизводством департамента полиции Ратаев сообщал в докладной записке министерству внутренних дел, датированной днем 3 мая 1895 года, следующее:
«Во время моего пребывания в Париже мне случилось познакомиться через посредство начальника нашей парижской агентуры П. И. Рачковского с неким Иваном Федоровичем Мануйловым, прибывшим во Францию в качестве секретаря газеты „Новости“ будто бы для ознакомления с настроением французского общества по поводу предстоящего участия Франции в Кильских празднествах и совместно с Германией действия против ратификации японско-китайского мирного договора. В качестве русского журналиста Мануйлов пользуется протекцией известного Вашему превосходительству советника французского министерства иностранных дел Ганзена.
… В последнюю свою поездку в Париж Мануйлов познакомился в кафе-шантане «Казино» с одним из агентов парижской префектуры, специально занимающимся русскими делами, и за стаканом вина объяснил ему, что он, Мануйлов, состоит при министерстве внутренних дел и командирован за границу для контроля деятельности парижской агентуры, которою будто бы в Петербурге недовольны.
Узнав о происках Мануйлова, чиновник особых поручений Рачковский счел за лучшее пригласить Мануйлова к себе и сообщил ему о разговоре с агентом. Мануйлов был сконфужен, сознался во всем (разумеется, кроме оскорбительных отзывов о личности Рачковского и его прошлом), расплакался и объяснил следующее.
Лет семь тому назад у правителя канцелярии генерал-адъютанта Черевина, камергера Федосеева, он познакомился с полковником Секеринским, с которым вошел в сношения и оказывал разные услуги, за которые получал единовременные вознаграждения. В заключение Мануйлов заявил, что он очень любит агентурное дело, интересуется им и был бы счастлив служить своими связями в литературном мире, где он пользуется будто бы известным положением. Петр Иванович Рачковский сказал ему, что его желание будет принято к сведению и чтобы он по приезде в Петербург явился ко мне в департамент, где я его познакомлю с г. вице-директором. При этом Петр Иванович Рачковский выразил мне, что Мануйлов — человек, несомненно, способный и что при опытном руководстве из него может выработаться полезный агент».
Однако Петр Иванович Рачковский, никак, видимо, не доверяя своему другу и ученику Ратаеву Леониду Александровичу, отправил свое донесение о Мануйлове-Манусевиче. «… В апреле месяце текущего года приезжал в Париж некий Мануйлов, секретарь газеты „Новости“. Несколько дней спустя после его приезда из парижской префектуры мне была сообщена копия с донесения одного из префектурных агентов. Из содержания этого документа Ваше превосходительство изволите усмотреть, что агент Петербургского охранного отделения Мануйлов, выдавая себя за чиновника министерства внутренних дел, действующего по инструкциям полковника Секеринского, имел целью собрать в Париже сведения о моей личной жизни, денежных средствах, отпускаемых мне на ведение дела за границей, о наличном составе агентуры и об отношениях, существующих у меня не только с префектурой, но и с императорским посольством в Париже. Не желая беспокоить Ваше превосходительство по поводу необычайной выходки полковника Секеринского, который вдохновил своего агента Мануйлова на бессмысленную поездку в Париж, я ограничился тем, что пригласил к себе упомянутого агента и, потребовавши от него отчета в его предосудительном поведении, предложил ему немедленно же оставить Париж, откуда он действительно и поспешил уехать. Считая означенный странный эпизод совершенно оконченным, я полагал, что для полковника Секеринского достаточно будет данного мною урока. Между тем на днях из парижской префектуры мне были доставлены два представляемых при сем в точной копии письма, писанные тем же Мануйловым, из которых усматривается, что полковник Секеринский продолжает вести против меня интриги. Не могу скрыть от Вашего превосходительства, что предосудительные затеи полковника Секеринского компрометируют меня перед здешним правительством. Чиновник особых поручений П. Рачковский.
Прилагаю кальку с письма Мануйлова Наделю: «Мне необходимо иметь все сведения о тех господах, которые причинили нам неприятности (Рачковский, Милевский и вообще все действующие люди). Пишите подробно и все, что Вы знаете и слышали, но старайтесь подтвердить все фактами. Письма не подписывайте. Шлите по адресу: Петербург, Степану Кузьмину, Разъезжая, дом Ъ, кв. 21. Жду этого письма по возможности скорее. Будьте здоровы. Щербаков в Сибири».
Из Санкт-Петербурга отправили депешу в Париж на имя Рачковского, в которой распинались, уверяли в высоком уважении к деятельности «бесценного Петра Ивановича» и сваливали все на интриги новых сотрудников, снедаемых тщеславием.
Рачковский немедленно ответил: «Заведующему политическим розыском Департамента полиции г-ну Семякину Г. К. Многоуважаемый и дорогой Георгий Константинович! Позвольте от всего сердца поблагодарить Вас за теплое участие, которое Вы мне выразили по поводу интриг Мануйлова и К°. Ваше уверение, что вы видите своих личных врагов в людях, завидующих моему „положению“ и тайно подкапывающихся под меня, дает мне новую силу работать по-прежнему и новую уверенность, что начальство ценит во мне старого слугу. Мне вспоминаются времена, когда интригующие ведомства не только не швыряли каменьями в Ваш огород, но, напротив, держались в почтительном отдалении: одни — из боязни возбудить гнев великого государя, презиравшего интриганов, а другие — скромно выжидали того времени, когда мы, чернорабочие, доставим для них „манну небесную“ в виде результатов нашей тяжелой и неблагодарной возни с революционной средой и просветим их очи, тускнеющие в спокойных кабинетах. За последние полгода это хорошее старое время почему-то сменилось новым, полным невиданного нахальства, подвохов и задора. Скверное время! Будем, однако, надеяться, что новое начальство положит конец этим ненормальностям и поставит наше учреждение на подобающую ему высоту. Глубокоуважающий Вас П. Рачковский»:
Чем же кончилась свара охранников? Кто победил? Рачковский или Мануйлов-Манусевич?
Рачковский, продолжая «трудиться» в Париже, получил вне срока «Анну» и тысячу рублей золотом — «за успешную борьбу против революционного элемента».
А что же с Мануйловым-Манусевичем? По Департаменту полиции был заготовлен следующий документ: «К исходатайствованию Мануйлову разрешения на принятие и ношение персидского ордена „Льва и Солнца“ препятствий по делам департамента не имеется. Услугами Мануйлова пользуется начальник Петербургского охранного отделения полковник Пирамидов».
Увенчанный «Львом и Солнцем», Мануйлов-Манусевич был направлен департаментом полиции в Ватикан, наблюдать за папою. Здесь он развернул «панаму» в полную силу, в рапортах своих доносил, что сумел «склонить к сотрудничеству» чуть не всех кардиналов, просил деньги, ему платили, наивно веруя лжи проходимца. Впрочем, «наивно» ли верили? Может, хотелось верить? «Литератор (агент — в данном случае) пописывает, читатель (в данном случае — министр) почитывает». Интересно, дух захватывает, ай да пройдоха, эк ведь ловко работает, ну и сильны мы, коли кардиналов на корню закупили!
… Началась война на Дальнем Востоке, и снова Мануйлов-Манусевич в Париже — с личным уже заданием министра внутренних дел Вячеслава Константиновича фон Плеве.
Об этом периоде его деятельности в рапорте Департамента полиции сказано следующее: «Состоявший агентом по духовным делам при императорской миссии в Ватикане, чиновник особых поручений при министре внутренних дел Мануйлов доставлял Департаменту полиции в течение последних лет сведения из Рима, за что ему выдавалось из сумм департамента до 15 июля 1902 г. 1200 руб., а с того времени 4000 р. в год и по 500 р. в месяц, т. е. по 6000 р. в год, для возмещения его расходов по представляемым им докладам. После начала русско-японской войны названный чиновник стал доставлять склеенные обрывки бумаг на японском языке, из японских миссий в Париже и Гааге, и некоторые японские депеши, полученные им, очевидно, из французского полицейского ведомства „Сюрте-Женераль“. Бывший директор департамента Коваленский обратил внимание на то, что доставляемые г. Мануйловым документы на французском, немецком и английском языках большей частью не представляют никакого значения, ввиду чего ему было предложено изыскивать документы с большим выбором, дабы не обременять отделение ненужной работой. Последствием сего было весьма значительное уменьшение доставления таковых, и вместо них он начал присылать переписку японского военного агента в Стокгольме полковника Акаши с армянским анархистом Деканози; доставление же сведений разведочного характера почти прекратилось, за исключением копий телеграмм японской миссии в Париже, некоторых других неинтересных писем революционного характера и фотографических снимков китайских документов, часть которых, по просмотре, оказались сфотографированными с китайского словаря. Принимая во внимание, что сведения г. Мануйлова не дают никакого материала секретному отделению, между тем как содержание его в Париже вызывает для департамента весьма значительный расход, имею честь представить на Усмотрение Вашего превосходительства вопрос о немедленном прекращении Г. Мануйловым исполнения порученных ему обязанностей и отозвании его из Парижа».
Конец проходимцу?
Ан нет!
Вернувшись в Санкт-Петербург, Мануйлов был вызван министром внутренних дел Дурново и назначен чиновником для особых поручений при Сергее Юльевиче Витте…
… Выслушав дело, порученное ему Дмитрием Львовичем Рубинштейном, Мануйлов стал сосредоточен: как-никак речь идет о Гапоне, дело трудное, боевое дело, рискуешь не чем-нибудь — головой.
Рубинштейн брезгливо (в который уже раз) поморщился:
— Риск будет оплачен. Сколько надо?
Мануйлов-Манусевич в купечество играть не стал, губами не шевелил, глаза не закатывал, шапку на пол не бросал, не божился и в свидетели своей честности двух родителей не призывал, пообкатался в Европах, сукин сын, ответил сразу:
— Полторы тысячи, Дмитрий Львович.
Рубинштейн достал из кармана бумажник, вытащил чековую книжку, написал радужную на семьсот пятьдесят рублей, протянул Мануйлову-Манусевичу, тот, увидав цифирь, вздохнул, спорить, однако, не стал, откланялся.
Наутро был принят Дурново. Тот, выслушав доклад осведомителя, задумчиво протянул:
— Значит, под Тимирязева подкатывается Гучков со своими нехристями… Значит, они Тимирязева тащить намерены. Что ж, будем ломать ноги Тимирязеву — и к Витте близок, и Милюковым назван. Как только это половчее сделать, Иван Федорович?
Тот, пожав плечами, спросил:
— Это правда, что Рачковский пытается вербовать Гапона?
— Он уж в Париже им завербован, сейчас Медникову передан, — ответил Дурново раздраженно.
— Петр Николаевич, вы меня, прошу, поймите верно, во мне неприязни к Рачковскому нет, я сердцем отходчив, но вы-то сами ему верите? Табак он вам в глаза сыплет? Он ведь расписывать умеет, что твой Гоголь…
— Рапорты Гапона из Парижа у меня в столе, дело верное.
— Тогда я спокоен, Петр Николаевич, тогда слава богу… Пусть Рачковский увидится с Талоном и предложит ему склонить к сотрудничеству эсеровского боевика, своего друга Рутенберга…
— А при чем здесь Тимирязев?
— Так ведь Рутенберг не согласится, Петр Николаевич. И про Гапона пойдет слава, что он — подметка, наш человек, среди рабочих провокаторствует… А я через журналиста Митюгинского доведу до сведения Сергея Юльевича идею поляка Сигизмунда Вольна-ровского про управляемые союзы рабочих. А Витте это дело переправит к Тимирязеву — не вам же… А я уж позабочусь о скандале в газетах. Вот и конец Тимирязеву… Только…
— Что «только»? — напрягся Дурново. — Дело в высшей мере деликатное, я вообще о нем знать не знаю и ведать не ведаю…
— И я о том, Петр Николаевич. Журналистам придется платить, иначе их Рубинштейн на корню перекупит.
— Сколько?
— Не менее полутора тысяч, ваше высокопревосходительство…
Получил из фонда безотчетную тысячу; комбинация завертелась.
17
Утром, перед отъездом на конференцию в Пулавы, Дзержинский повторил Уншлихту:
— Я вернусь завтра, хорошо бы, Юзеф, если б ты к тому времени организовал отъезд Микульской. Что-то у меня очень неспокойно на сердце. Еще одно смущает: как бы наши товарищи из Праги не пошли к Софье Тшедецкой — они тогда наверняка притащат филеров к себе, за Вислу.
— Софья уничтожила всю нелегальщину, я не думаю, что ей грозит арест: все-таки охранке теперь надо выходить на суд с уликами.
Дзержинский посмотрел на Уншлихта удивленно:
— Я понимаю, ты устал, но только нам никак нельзя обольщаться, это самое страшное для ответственного партийца.
— Разве есть безответственные?
Дзержинский оторвался от заметок, лицо его осветилось улыбкой, как всегда внезапной:
— А говорил, что не можешь выступать на диспутах?! Экая четкость возражения! .. Что же касается безответственных партийцев, то они возможны, более того, они нам с тобою прекрасно известны. Другое дело, ты прав, в этом словосочетании заложено противоречие. Но жизнь — хотим мы того или нет — над филологией, не наоборот. Партиец, то есть политик, ответствен по-настоящему тогда лишь, когда он служит идее, а не хватается руками за парламентское кресло. Нынешняя российская политика — политика удержания кресел. Какая уж тут ответственность? Да и перед кем? Коли б выбирали, а у нас пальцем тыкают… Кто государыне угоден — тот и министр, кто слаще льстит — тот и сенатор, кто громче славословит — тот генерал и гофмейстер. Так что по поводу улик для суда — не надо, Юзеф… Не поддавайся иллюзиям — опасно. Я бы рекомендовал Софье скрыться на какое-то время. А Микульской объясним всю сложность ее положения. Она, мне сдается, не понимает этого… Жаль — талантлива и человек честный, счастья только лишена…
По поручению Уншлихта, отвечавшего за подпольные группы народной милиции, к Микульской отправился сапожник Ян Бах. Выбор остановили на нем оттого, что он ни разу еще не был задержан полицией, тачал сапоги для света, прожил два года в Берлине, посещал там рабочие курсы и мечтал более всего организовать в Варшаве Народный дом, чтобы можно было там оторвать рабочих от водки, костела и шашек, приобщить к спектаклю, к музыке Монюшко, к стихам Мицкевича, Пушкина и Словацкого. С его кандидатурой Дзержинский согласился: «Он хорошо со мною спорил у кожевников, не закрывался, честно возражал, видно — крутой парень».
Перед тем как отправить Баха в кабарет, Уншлихт объяснил:
— Ян, на разговор у тебя с нею — минут пять, не больше. Очень может быть, что за нею и там смотрят, в кабарете. Что-то уж очень ее опекают, даже ночью пост возле дома держат. Сразу же, как подойдешь к ней, скажи: «Я ваш сапожник, если будут мною интересоваться, зовут Ян, пришел по вызову, узнали про меня от вашей подруги Хеленки Зворыкиной». А потом объясни ей наш план. Понял?
… Ян прошел по темному залу, в котором пахло особой театральной пылью, завороженно глядя на слабо освещенный провал голой сцены. Он никогда не думал, что сцена может быть такой уродливой — кирпичная стена, канаты, сваленные куски фанеры, унылая фигура старика с трубкой в углу бескровного синего рта.
— Вам кого, милостивый государь? — спросил старик. — Вы не из труппы?
— Меня вызвала пани Микульска…
— Пани Микульска? Зачем?
— Она знает… Как к ней пройти?
— Я должен доложить ясновельможной пани. — Старик пыхнул трубкой, лениво оглядывая Баха расплывшимися, слезливыми глазами. — У нас в театре так принято, милостивый государь…
Ян подумал: «Она удивится, если я скажу так, как предлагал Уншлихт».
— Я к ней от пани Зворыкиной…
— Пани Зворыкина вас послала к ней?
— Да.
— Как вы сказали имя? Я плохо запоминаю русские имена…
— Зворыкина.
— Погодите, милостивый государь, я доложу ясновельможной пани Стефе…
Старик поднялся, шаркающе ушел в зыбкую темноту кулис, освещенную лишь тревожным мерцанием синего табло: «Вход». Напряжение, видно, было никудышным, скачущим, поэтому электрические буквы то делались яркими, то почти совершенно исчезали.
Старик проковылял на второй этаж, зашел в комнату коммерческого директора — здесь стоял телефонный аппарат, единственный во всем кабарете, — достал из кармана бумажку, на которой ему записали четыре цифры, снял трубку, попросил барышню соединить с абонентом 88-44 и сказал так, как его научили:
— Телефонируют из театра, у нас гости.
И отправился в гримуборную Микульской.
— Пани Стефа, к вам посетитель — по-моему, какой-то ремесленник.
— Почему вы так определили? — рассмеялась Стефания. — Я не жду ремесленника.
— Пан очень старательно одет, шеей вертит и пальцем растягивает воротничок…
— Кто он?
— Не знаю, пани Стефа. Он сказал, что его прислала к вам пани… пани… я забыл имя… русская пани…
— Зворыкина?
— Да, да, именно так.
Микульска сорвалась с кресла, накинула на легкое гимнастическое трико стеганый шелковый халат (всегда холодяще цеплял кожу), бросилась вниз, в зал, — она решила, что пришел тот человек, он специально вертит шеей и поправляет воротничок, он должен скрываться постоянно, он актер, людям его призвания приходится быть актерами, он специально ведет себя так, чтобы сбить всех с толку, он же представился литератором, и ему нельзя было не поверить, такие у него глаза, и такой лоб, и такая легкая, прощающая, горькая улыбка, — конечно, это он, ведь он не мог не почувствовать, как она смотрела на него, он не мог не понять, что гнев ее тогда был жалким, она просто скрывала охвативший ее ужас, когда он открыл ей правду о Попове.
Стефания выбежала в зал, увидела Яна, и радостное предчувствие сменилось мгновенной усталостью…
— Вы ко мне?
— Да. Меня зовут Ян Бах, я сапожник, вы у меня должны заказать баретки, пани Микульска. Меня прислали товарищи…
— Кто? — не сразу поняла Микульска. — Кто вас прислал?
— Товарищи… — повторил Ян, досадуя на непонятливость женщины. — Мне нужно передать вам кое-что…
— Говорите…
Ян услыхал шаги старика.
— Может, вы позволите пройти к вам?
— Да, да, пожалуйста, — ответила Микульска.
В гримуборной Ян завороженно оглядел портреты Стефании, развешанные на стенах; рекламы; фото варшавских актеров с надписями; отчего-то все надписи были сделаны неровными, скачущими буквами; особенно выделялись даты — цифры были непомерно большие, словно бы несли в себе какое-то чрезвычайно важное значение.
— Вам надо сегодня же уехать из Варшавы, — сказал Ян, присев на краешек стула, указанного ему женщиной. — Мне очень неприятно вам об этом говорить, я понимаю, как вам, наверное, тяжело отрываться от сцены, от искусства, но за вами следят.
— За мной?! — Микульска рассмеялась. — Кто?
— Охранка.
— Не выдумывайте, пожалуйста… За мной смешно следить, я вся на виду.
— Товарищ Микульска, мне поручено передать вам просьбу — немедленно уезжайте. Поверьте, скоро вы сможете вернуться, революция откроет двери вашего театра народу…
— Милый вы мой, да разве народу нужен наш кабарет? Балаган…
— Нам очень нужно ваше искусство, товарищ Микульска.
— Какой вы смешной… Вас зовут Ян?
— Да.
— Вы правда сапожник?
— Да. Правда.
— И помогаете революционерам?
Ян повторил упрямо, чувствуя какую-то досадную неловкость:
— Вам надо немедленно уехать, това… пани Микульска… Если у вас есть трудности с покупкой билета, скажите — мы поможем вам.
— Я никуда не собираюсь ехать, милый Ян… Что встали? Сядьте. Где, кстати, ваш товарищ — такой высокий, худой, с зелеными глазами?
— Вы меня простите, но даже если б я знал, о ком вы говорите, я все равно не имею права имя его открыть.
— Почему?
— Вы себя не чувствуете затравленным зверем? А ведь за нами каждый момент охотятся…
— Да будет вам, Ян! Манифест опубликован, амнистия прошла…
— Вы извините, пани Микульска, я пойду… О разговоре нашем говорить никому не надо. Если я вам потребуюсь для помощи — чемоданы упаковать, багаж куда доставить, фурмана note 2 пригнать, — это я с удовольствием, я к вам вечером в пять часов на улице подойду, на Маршалковской, вы ж там домой ходите, у дома шесть, где проходной двор… Запомнили?
— Как интересно, — снова улыбнулась Микульска. — Конечно, запомнила… Милый Ян, как мне повидать вашего зеленоглазого, высокого коллегу, который представляется литератором?
Ян поднялся: — До свидания, пани Микульска… До вечера, хорошо?
18
Ероховский появился, когда репетиция шла уже к концу. Режиссер Ежи Уфмайер ссорился с художником паном Станиславом, молодым человеком, бритым наголо, — в разговоре он часто высовывал язык, словно бы охлаждая его.
— Актеры пугаются ваших декораций, пан Стась! — кричал Уфмайер.
— Что же страшного в моих декорациях, пан Ежи? — художник снова высунул розовый язык, тонкий и стремительный, как жало. о
— Все страшно! — воскликнул Уфмайер. — Что вы мне натащили? Фотографии голодных, нищих и бритых каторжников! Зачем?! На фоне этого беспросветья прикажете развлекательную программу играть?! Я и так с текстами пана Леопольда харкаю кровью в цензурном комитете.
— Что же мне, на текст и пантомиму пана Леопольда, в которых рассказывается о царстве дурня, рисовать задники, на коих растреллиевские дворцы изображены?! — Художник озлился и поэтому начал хитрить. — Вы же не можете сказать, пан Ежи, что пустячок пана Леопольда про дурня относится к нам, к империи?
— Пустячок?! — режиссер решил столкнуть лбами художника с драматургом. — Вы говорите о работе пана Ероховского как о безделице?! Его язык, образы, его талант, его…
— Да будет, Ежи, — поморщился Ероховский. — Язык, образы… Милый Станислав, задача артистов заключается в том, дабы помочь людям проскрипеть трудный возраст: от двадцати до пятидесяти — без особой крови, без голода, чумы и слишком жестокой инквизиции. После пятидесяти человеки не опасны — они боязливо готовятся к смерти… А впрочем, Стась, — как всегда, неожиданно повернул Ероховский, — скандал угоден успеху, валяйте.
— Какому? — не сдержавшись, открылся Уфмайер.
— Да уж не коммерческому! — Станислав ударил слишком открыто, а потому не больно. Леопольд рассмеялся:
— После успеха, который выпадает на долю гонимых, то есть успеха шушукающегося, наступает успех коммерческий, который так нужен пану Ежи, чтобы и вам содержание, кстати говоря, выплачивать…
— Увеличенное вдвое! — крикнул Уфмайер. — Я заработанные деньги в банк не таскаю! Я сразу же поднимаю ставки актерам! И вам, Стась, вам!
— Тогда я скажу вам вот что, пан Ежи, — откашлялся Станислав и снова высунул язык, — я тогда скажу вам, что ухожу из труппы.
— Бросьте, — зевнул Ероховский. — Никуда вы не уйдете, дорогой Врубель, ибо некуда вам уходить. Замените три-четыре фотографии для задника, всего три-четыре…
— На что? Вы думаете, что все живописцы с детства прихлопнуты лопатой по темечку?! Мы всё понимаем, пан Леопольд, абсолютно всё! Вы ведь пишете про то, какой нам манифест пожаловали и какая у нас свобода, разве нет?!
— Но я это делаю двусмысленно, Стась, милый вы мой, я позволяю толковать себя по-разному! А вы хотите это мое двоетолкование пришпилить гвоздем к стене: городовые бьют студентов! Крестьяне мрут с голода! А может, я имел в виду, что студенты бьют городовых, а те лишь защищаются? А хлоп дохнет, оттого, что ленив и туп, сам виновен? Так можно толковать? Можно. В этом и есть суть искусства. Вот вы и поищите, поищите, — посоветовал Ероховский и пошел к Микульской.
Стефания кипятила кофе на спиртовке. Аромат был воистину бразильский, она к каленым зернам добавляла немного зеленых, жирных, они-то и давали запах зноя, жирной листвы на берегу океана.
Выслушав Стефу, драматург перевернул маленькую чашку с густой жижей и поставил на блюдце.
— Даже и не гадая, могу сказать, кохана, что дело пахнет керосином. Надо предложение сапожника принимать… Как его зовут, говорите?
— Ян Бах.
— Что значит революционный момент в стране! Сапожник Бах! Если б к тому еще нашелся полотер Мицкевич, а?! И трубочист Бальзак! Надо бежать, Стефа, обязательно примите их предложение… Во-первых, всякое приключение угодно артисту, оно наполняет его новым содержанием, особые переживания, острота впечатлений… Во-вторых, мне сдается, что это — путь к встрече с зеленоглазым рыцарем, вы ж его во сне видите…
— А неустойка? Уфмайер разорится, мне жаль старика.
— Жаль? Вообще жалость — прекрасное качество. Правда, где-то она рядом с бессилием, рядом с невозможностью помочь. Чтобы помочь двум, надо уметь обидеть одного.
— А весь мир и слеза младенца?
— Так то Достоевский, его видения мучили: проиграешься дотла, на чернила денег нет — не то увидишь.
Ероховский чашечку поднял, впился глазами в зловещий, уродливой формы рисунок кофейной жижи.
— Что? — спросила Стефа.
Ероховский чашку не показал, долил себе кофе, выпил залпом:
— Неужели вы этой ерундистике верите?
Закурил, расслабился в неудобном, слишком низком кресле, ноги сплел:
— Стефа, а к батюшке нельзя податься? Поверьте, кохана, в жизни бывают такие минуты, когда надобно отсидеться. Я, знаете ли, норовлю вовремя отойти, руками-то махать не всегда резонно. Если мы высшему смыслу подчинены, так нечего ерепениться.
— Почему вы думаете, что все это идет от моего рыцаря? Ероховский посмотрел лениво на спиртовку. Стефания зажгла ее, добавила в кофейник зерен.
— Покрепче?
— Покрепче… Вы вправду увлечены им?
— Да.
— Он вас просил о чем-нибудь?
— Да.
— И вы его просьбу выполнили?
— Конечно.
— Почему «конечно»?
— Так…
— Это не ответ.
— Наверное. Вы ж его не видели, не можете судить о нем… Да и не просьба это была, это было совсем иное…
— Не понимаю.
— Я была более заинтересована выполнить то, о чем он мне поведал.
— Я не умею быть навязчивым, Стефа.
— За это я вас люблю, милый.
— Видимо, ему-то и грозит беда, коли вас хотят спрятать…
Стефания резко обернулась к Ероховскому:
— Отчего вы так думаете?
— Оттого, что — по размышлении здравом и после анализа слов этого сапожника Моцарта — следить за вами стали именно после того, как вы повидались с незнакомцем и выполнили просьбу, в которой заинтересованы были вы, а не он… И охотятся не за вами — за ним, и вы — маяк в этой охоте.
Позвонив к Попову, Ероховский сказал:
— Я уговорил нашу подругу поехать отдохнуть, Игорь Васильевич… Сегодня и отправится… Так что с вас — заступничество в цензурном комитете, к пану Уфмайеру снова цепляются, меня за острословие бранят.
Попов поколыхался в холодном смехе, ответил:
— Слово не бомба, поможем, Леопольд Адамович, не тревожьтесь. Подруга наша имя так и не открыла?
— И не откроет, Игорь Васильевич, поверьте, я в этом чувствую острей, я ж людишек придумываю, из небытия вызываю… Пусть только мой спектакль поначалу-то запретят, Игорь Васильевич, пусть скандалез начнется, пусть привлечет…
— Увидимся — поговорим, Леопольд Адамович, не ровен час — какая барышня на станции вашими словами любопытствует.
Ян Бах встретил Стефанию именно там, где и ждал ее, — на Маршалковской ровно в пять. Она несла тяжелый маленький чемоданчик — ей только что передал в гримуборной человек, сказал, что надобно спрятать, пока не придут товарищи.
Стефания ответила, что, видимо, сегодня уедет. Человек кивнул, сказал, что ему это известно, поэтому и пришел с просьбою от известного ей лица.
Арестовали Баха и Стефу на вокзале, билет он взял ей до границы, с той стороны должны были ждать товарищи, предупрежденные в Кракове.
19
Ленин сидел в душной толпе, однако выступления записывал, пристроив блокнотик на коленях, — он умел обживать даже самое малое пространство, и ему не мешало то, что какой-то молодой парень, судя по рукам — рабочий, то и дело наваливался на него литым плечом, аплодируя ораторам, которые были особенно зажигательны.
— О жарят! — шептал парень, глядя на трибуну завороженными глазами. — О костят, а?!
Ленин отметил, что парню особенно нравились речи социалистов-революционеров — говорили действительно красиво, умело подлаживаясь под настрой времени, намеренно обращались к среднему уровню подготовленности. Ленина это всегда раздражало. Только актер вправе сегодня играть Федора Иоанновича, а завтра горьковского Сатина; политику такая всеядность противопоказана, ибо он выражает мнение партии, то есть мнение класса. Посему — нельзя подделываться, надо ясно и четко — пусть даже наперекор части слушателей — отстаивать то, во что веришь. Конечно, это труднее, аплодисментов будет поменьше, реплики станут бросать, но кто сказал, что политическая борьба подобна бенефису с букетами?!
Ленин вспомнил, как он пришел в Вольное экономическое общество, где заседал Совет рабочих депутатов, когда еще председатель Совета Носарь-Хрусталев и его заместитель Троцкий не были арестованы.
Ленин и тогда сидел в зале среди гостей, так же записывал выступления депутатов, стараясь точно уловить пики общественного интереса; тогда Троцкий, заметив его, хотел было разразиться приветствием, приложил палец к губам — эффекты, столь угодные Льву Давыдовичу, не переносил, считал проявлением недостаточной интеллигентности.
Поведение Носаря-Хрусталева показалось Ленину и вовсе недостойным. Тот вел себя, словно провинциальный «актер актерыч» перед барышнями, — нервическая жестикуляция, манера говорить, одежда — все было рассчитано и выверено, все было подчинено одному лишь: понравиться.
— К счастью, — заметил Ленин, встретившись вечером с Горьким, — такое замечательное дело, как Совет рабочих депутатов, нельзя скомпрометировать личностью председателя, слишком это новое выражает глубинный смысл марксизма, однако на какой-то период замарать, дать повод бравым писакам обливать грязью — тут, спору нет, Носарь работает против нас.
… Судьба Георгия Степановича Носаря была зримым, явственным выражением роли случая в общественной жизни в периоды кризиса.
Помощник присяжного поверенного, человек сугубо средних способностей, Носарь был известен разве что в кругах левых кадетов, как человек увлекающийся, мало начитанный, но говорливый, доходивший во время публичных выступлений до экстаза — плакал, бледнел, пил настой валерианового корня, чтобы успокоить ухающее сердце. Что, однако, было важно для кадетской среды, почему его поддерживали? Носарь умел говорить в рабочей аудитории, подпускал множество прибауток (воспитывался в маленьком патриархальном городке на юге Украины, чувствовал мягкий, образный говор); было в нем что-то ловкое, коммивояжерское; хваткий ум при недостатке образованности позволял тем не менее по-своему популярно толковать кадетские учености широкой массе.
Когда после Кровавого воскресенья была создана комиссия сенатора Шидловского для «выслушивания» претензий рабочих, туда, по предписанию царя, допускали только фабричных. Кандидатуры «фабричных» для Шидловского готовили черносотенные «союзы русских людей». Царь дважды повторил: «Интеллигентов не пускать, они разлагают моих подданных». И вот тогда-то — неизвестно, с подсказкой кадетов или без нее, — Носарь попросил рабочего Петра Алексеевича Хрусталева, выбранного в делегацию, отдать ему свои документы. Так Носарь стал Хрусталевым. Так он проник к Шидловскому, произнес перед сенатором свою речь, кончившуюся, как обычно, слезами, был задержан и выслан из столицы; вскоре вернулся, жил в пустом вагоне, на вокзале, подкормку получал от «освобожденцев», левых кадетов, дороживших в отличие от Милюкова связями с рабочей средой.
Когда летом 1905 года черносотенцы организовали «общество для активной борьбы с революцией» и договорились с Петербургской городской думой о проведении собрания «для выяснения нужд населения», Носарь пришел туда вместе со своими знакомыми — он последнее время чаще всего выступал перед печатниками. Те отправились на собрание с одной лишь целью — сорвать сборище черной сотни. Когда на сцену поднялись руководители нового «общества» Дезобри и Полубояринов, когда Дезобри вышел на трибуну и хотел было начать речь, из зала закричали:
— Председатель нужен! Давайте председателя! Пусть за регламентом следит!
Шепнули между тем Носарю: «Мы вас проведем, а вы тут же Дезобри попросите на минутку с трибуны, дайте слово по порядку ведения нашим, от нас Потапов выйдет».
Носаря проголосовали чуть не единогласно, поскольку никто не знал его: будь он кадетом, социал-демократом или эсером — не пустили бы черносотенцы; окажись черносотенцем — провалили б левые.
(Ленин сказал по этому поводу Горькому: «Сие — парадокс буржуазной революции: полярные силы, представляющие полярные интересы, как правило, останавливаются на фигуре нейтральной, на некоей „междусиле“.)
Носарь поднялся на сцену, ощутил торжество, воздел руки, ожидая, что зал, повинуясь его демонизму, замрет, но никто не замер, шум продолжался, а когда он предоставил слово большевику Потапову, случилось непредвиденное.
— Товарищи, — сказал Потапов, — неужели мы, рабочие, можем обсуждать хоть что-то вместе с погромщиками, наймитами охранки? Неужели мы уроним себя так низко?! Долой погромщиков и черносотенцев! Да здравствует рабочее интернациональное объединение!
Полубояринова и Дезобри прогнали, вместе с ним ушло человек сорок черносотенцев, и первый же выступающий, большевик Рубанюк, потребовал:
— Хватит разговоров о свободе, товарищи! Хватит болтовни о наших «рабочих нуждах»! Царь и правительство лгали и поныне лгут нам, выгадывая время! Пока мы не возьмем власть в свои рабочие руки, никто нам ни хлеба, ни свободы, ни равенства не даст!
Носарь называл фамилии ораторов, которые присылали ему в записочках, по-прежнему красовался, но в душе его родился страх: «Этого мне не простят, высылкой не отделаюсь».
Его действительно арестовали, но отделался он высылкой, ибо на следствии показал: «Марксизм экономических чертежников, выводящих перпендикуляр из брюха — все, видите ли, определяет бытие, — мне всегда претил. Меня тянет к таким людям, как Милюков, министр народного просвещения генерал Ванновский, Мечников, Жорес».
Осенью вернулся в Петербург — страдальцем. Предложил себя в качестве юрисконсультанта «Союзу рабочих печатного дела». Во время октябрьской стачки, когда родилась идея Совета депутатов, был избран печатниками — среди десяти рабочих — в члены Петросовета. После того как первый председатель Совета Зборовский свалился в тяжелейшей инфлюэнце, решили выбирать рабочего председателя на каждое заседание. И снова беспартийный Носарь устроил всех. Кадеты ликовали: «Наш человек, он управляем, он не даст разрастаться стачке, надо сделать все, чтобы его удержать». Вечерние газеты, контролируемые кадетами, начали игру: «Совет перешел в руки революционера-бунтаря, бежавшего из ссылки!», «Носарь-Хрусталев ведет за собой рабочий люд Петербурга!», «Новый Гапон? Нет, Робеспьер русской революции». Умные кадетские стратеги знали, как надо делать рекламу в условиях подъема стачечной борьбы, когда все в империи шаталось и трещало. Следовало отдать своего человека рабочим, зачем афишировать связи, к чему красоваться — дело есть дело, оно любит тайну.
Троцкого эта реклама привела в бешенство. Перед началом второго заседания он встретился с Носарем в маленькой кулуарной комнатке и сказал:
— Георгий Степанович, я человек грубый, времени у нас в обрез, сейчас начнется заседание, должны выбирать председателя. От вас зависит — будут выбирать или не будут,
— То есть как, Лев Давыдович?!
— То есть так, Георгий Степанович: или вы беспрекословно выполняете все мои указания, — отчеканил Троцкий, испытывая юношескую радость оттого, что мог так уверенно и властно диктовать, — или вам придется отдать колокольчик другому депутату. Решайте.
Носарь остался председателем, выполнял все указания Троцкого, тяготился своим двусмысленным положением — вроде бы председатель, на людях всему делу голова, а на самом-то деле пешка. Поэтому начал отлаживать тайный контакт с эсерами, задумал арестовать Витте, разграбить оружейные магазины Чижова и Венига, вооружить сотню верных, сделать ее «гвардией Носаря». Не успел — Витте подписал ордер на арест. Не помогло заступничество директора правления Юрьевского металлургического общества магната-миллионщика Белова. Тот убеждал премьера, что лучше Носаря никого не сыскать, он хоть и крикун, но на него цыкнуть можно, он являет собою образец такого председателя, который у всех рабочих отобьет охоту на многие годы в Совет заглядывать — что к болтунам ходить, когда жрать нечего? Витте, однако, не внял, Носаря и Троцкого увезли в «Кресты». Настала пора завоевывать Советы по-настоящему, что было нелегко — Троцкий привел с собою множество меньшевиков.
Горький как-то сказал Ленину:
— Трудно с Львом Давыдовичем, уж больно эгоцентричен, фейерверк, а не человек. Окружающих норовит, словно тесто, в кастрюлю вмять.
Ленин ответил:
— Не личность определяет дело, а идея.
— Личность может всякое наколбасить, Владимир Ильич.
— А мы зачем? — Ленин нахмурился. — «Мы» — категория сугубо серьезная, Алексей Максимович. Пока Троцкий был в Совете, приходилось с ним ладить. Трудно? Конечно. А что дается легко в наше время? Но сейчас надо сделать все, чтобы укрепить в Советах, особенно тех, которые родятся в будущем, наше влияние, тогда никакой председатель, никакой заместитель не смогут повернуть ни к кадетствующим либералам, ни к пустозвонам меньшевикам.
— Что же вы эдак-то товарищей меньшевиков, Владимир Ильич?
— Обидно за Мартова с Даном? Мне — больше, Алексей Максимович. Меня с ними связывает десятилетие. Дайте им другое определение, не такое резкое, но так же точно определяющее их сегодняшнее лицо, — я приму, с радостью приму, я готов смягчить, но только не в ущерб правде.
… Ленин записывал выступление кадета; тот говорил о безумии московского восстания, убеждал депутатов подействовать на фабричных:
— Только Дума, только через Думу мы сможем отстоять наши требования! Только Дума сделает нашу жизнь гласной! Тогда новое кровопролитие окажется невозможным, только тогда мы сможем понудить правительство Витте уступить!
Ленин сделал стремительную, летящую пометку в блокноте: «заигрывают с г-ном С. В.». Он привык к своей быстрой клинописи: с одной стороны, навык конспиратора, с другой — время, он мучительно ощущал, как счетчиком щелкает время, он благоговел перед ним, именно во времени — то есть реально, наяву — должно произойти то, чему он отдает себя; время мстит медлительным, боящимся принимать решения.
«С. В.» — Витте. В декабре, уже после арестов в Петросовете, Ленин почувствовал ярость, истинную ярость, когда прочитал интервью, данное премьером американскому журналисту Диллону для «Дэйли ньюз» сразу же после расстрела московского восстания.
«Русскому обществу, — говорил Витте американцу, — недостаточно проникнутому инстинктом самосохранения, нужно было дать хороший урок. Оно должно было обжечься. После этого оно-то и запросило помощь у правительства. Мы откликнулись на обращение. Мы помогли. Бунт подавлен».
Ленин, когда только узнал об этом интервью, приехал к Вацлаву Воровскому — тот жил в меблированных комнатах «Париж», на Караванной.
— Надо готовить прокламацию, срочно, — сказал Воровскому. — Вооруженное восстание — не самоцель, оно есть средство борьбы против тирании. Правительство не хотело удовлетворить требования рабочих, а точнее — по своей классовой сути — не могло. Что же остается пролетарию? Ему остается лишь одно — борьба, оружие, схватка с тупыми, злобными палачами. Витте добавил к тому, что сказал расстрельщик Дубасов, он до конца раскрыл план провокации. Как же не совестно Георгию Валентиновичу говорить нам: «Не надо было браться за оружие!»
— Дубасов? Его заявление? Где? — спросил Боровский. Он стал редактором «Новой жизни» по иностранному отделу, просиживал все дни за парижскими, английскими и американскими газетами, вытаскивал оттуда сообщения, которые можно было пускать без цензуры, со сноской на информационное агентство, — было предписание иностранцев не цензурировать, не раздражать зазря во время борьбы за заем в Европе.
— Я у вас в редакции со стола взял, — сказал Ленин, положив перед Воровским «Матэн». — Свежий, пять дней назад вышел. Боровский раскрыл газету. «Вопрос корреспондента Леру: Вы были в неведении по поводу декабрьских настроений в Москве! Адмирал Дубасов: Отчего же, мы знали все. Пьер Леру: А правительство? Дубасов: Правительство я информировал. Пьер Леру: Значит, все знали о том, что может случиться! Дубасов: Да. Пьер Леру: Как же тогда объяснить вашу позицию, господин адмирал! Дубасов: Мы предоставили дело ходу событий».
(Правительство кокетничало осведомленностью: оно никак не ожидало столь массового выступления московского пролетариата; оно было растеряно, однако стремилось извлечь политическую выгоду из сложившейся обстановки — пыталось толкнуть общество вправо.)
Боровский поднял глаза на Ленина. Его поразило лицо Ильича — оно было словно вырубленным из камня. Боровский замечал: Ленин порой выглядел очень молодо, никак не дашь тридцати пяти, а иногда — как сейчас — подавшийся вперед, напряженный, с прищуренными глазами, он казался стариком, так глубоки и резки были морщины, так страдающи глаза.
— Кто будет писать? — спросил Боровский. — Вы?
— Нет. Посоветуйтесь с Горьким. Покажите ему материалы, переведите только — он не читает по-французски, можно обидеть невнимательностью, литератор — человек особо ранимый. Прокламация нужна немедленно. Расстрел московских рабочих следует связать с арестами в Петросовете — звенья одной цепи.
… Ленин перевернул страницу блокнота.
Выступал эсер.
— Необходимо распечатать бюллетени Советов для того, чтобы рассылать их в сельские местности, надо знакомить товарищей крестьян с опытом работы петербургских, ивановских и московских рабочих!
«Молодец, — отметил Ленин, — разумная мысль. Вздуют беднягу в его ЦК: „никакой легальщины, мы — партия конспираторов“.
Потом выступал меньшевик, говорил о необходимости координации работы всех партий в борьбе за демократизацию России.
— Не отказываясь от наших партийных установок, мы должны все вместе думать о будущем.
«Общее будущее с октябристами? — сразу же отметил Ленин. — Какая, право, безответственность, здесь собрались рабочие, а не лоббисты».
— Мы должны привлекать всех желающих сотрудничать с Советами, всех без исключения, любого члена общества, если только намерения, с которыми к нам идут, искренни.
«А как вы проверите „искренность“ намерений? Как можно в Совет звать всех? Звать можно только тех, кто представляет интересы класса! »
Потом говорил еще один кадет, снова уповал на объединение «культурных слоев» для «закрепления достигнутого в революционном процессе». Его сменил беспартийный, из недоучившихся, резко требовал отменить входные билеты в императорские театры.
Потом бабахнул либерал — из теоретиков:
— Граждане! Безответственность многих выступавших ораторов ярче всего проявляется в том, что они обходят практическую осуществимость народовластия через «революционное правительство» или через Советы. Можно ли мечтать об этом? Да, мечтать можно, но провести в жизнь нельзя! Либеральная интеллигенция, крестьянство, пролетариат — революционны, но революционная кооперация трех этих элементов под флагом вооруженного восстания невозможна, немыслима! Из каких же тогда элементов может возникнуть та новая власть, о которой не устают твердить революционные партии и особенно большевистская фракция? Чем могла бы оказаться такая власть? Диктатурой пролетариата? Да разве можно говорить об этом в России?! Ее смоет волна контрреволюции!
Это выступление Ленин записал целиком, напрягся — вот оно, начало схлеста, повод к выяснению позиций, к размежеванию. Однако слова не просил, внимательно слушал бойкого меньшевика — тот, возражая по существу вопроса о власти, по форме извинялся перед либералом, повторяя все время как заклинание: «Предыдущий оратор должен понять!» Он дискутировал, цеплялся за слова либерала, увещевал, а надобно бить, наотмашь бить!
Ленин выступил перед закрытием заседания, когда в зале прибавилось рабочих — наступало время окончания первой смены, восемь вечера; несмотря на то что работать начинали в шесть, но шли из цехов не домой, сюда шли.
— Граждане, — сказал Ленин, — я хочу остановить ваше внимание на трех вопросах. Первое: Советы рабочих депутатов прямо-таки не имеют права позволять себе роскошь выслушивать расплывчатые, неконкретные, зыбкие предложения, а таких сегодня было предостаточно. Советы рабочих депутатов не имеют права шиковать, дозволяя ораторам говорить чуть не по полчаса! Говорить надо по делу, конкретно, с предложением, сформулированным четко и ясно, иначе Советы превратятся в дискуссионный клуб, где собираются люди, которым нечего делать! Председатель — не украшение, но рабочая единица, организующая или — точнее — помогающая организовать отлаженную работу! Слишком много славословия, слишком много безответственности! Выступавший здесь представитель радикальных кругов изложил с предельной отчетливостью — столь в общем-то редкой для них — сущность либерально-буржуазной точки зрения. Ошибки рассуждения нашего оратора так наглядны, что на них стоит указать, спорить — нет смысла. Ранее кадеты утверждали, что вооруженная борьба народа в России невозможна, теперь они соглашаются, что эта борьба — реальность. Значит, восстание возможно, но недоказуем наперед его успех. При чем же тогда «смоет контрреволюция»?! Революции без контрреволюции не бывает и быть не может. Разве мы не видим каждодневно, как даже манифест «17 октября» смывает контрреволюционной волною?! Но разве эта волна контрреволюции доказывает нежизненность вполне легальных конституционных требований?! Как быть? Прекращать борьбу за проведение этих конституционно-демократических требований в жизнь?! Вопрос, следовательно, не в том, будет ли контрреволюция, а в том, кто — после долгих и полных превратностей судьбы битв — окажется победителем. «Все на выборы в Думу!» Все? Да разве?! Если бы — «все»! Выборов в Думу хотят помещики — они не желают революционной борьбы, они свое получили после опубликования манифеста. Выборов хотят буржуа
— они тоже получили свое. Для них Дума — поле выгодных сделок! А мы на сделки не шли и не пойдем. «Все на выборы»?! Это же бессмыслица — выборы на основании несуществующего избирательного права в несуществующий парламент! Советы рабочих депутатов были избраны по «полицейским» законным формам, но мы-то знаем, что над ними занесен топор, нам-то известно, что правительство со дня на день готовит разгром всех Советов депутатов! Это лишний раз подтверждает нашу позицию: нельзя доверять лжеконституционализму! Революционное самоуправление непрочно без победы революционных сил, без кардинальной победы. Беспартийная организация может дополнить, но никогда не заменит прочной боевой организации победившего пролетариата, стоящего на партийной позиции. Нам нужны пушки для борьбы. Но разве нарисованная на картоне пушка — одно и то же, что пушка настоящая?! Советам, следовательно, нужна постоянная пружина партийной организации. Советам нужна пушка!
Рабочие зааплодировали, истосковались по четкому, страх как надоело слушать глаголы.
— Второе, — продолжал Ленин. — Здесь кто-то требовал разоружить полицию, блокировать Зимний и захватить редакции газет. Благие пожелания! Вполне р-революционные прожекты! Об этом, однако, не говорить надо! Это надо — если позволяют обстоятельства — планировать и проводить в жизнь! А здесь, сейчас, на открытом заседании, происходит выбалтывание! Кому это на руку? Рабочим? Весьма сомнительно, чтобы это было на руку организованному пролетариату. Восстание — наука, а истинная наука требует тишины и, ежели хотите, словесной скромности! А вот по поводу ста тысяч петербургских безработных, выброшенных хозяевами на улицу, отчего-то никто из выступавших не говорил! Совестятся, что ли? Или считают это слишком заземленным вопросом? Что сделала городская Дума, болтающая о демократии, Для того, чтобы помочь рабочим?! Пусть мне ответят! Им нечего отвечать, они, наши страдающие либералы, палец о палец не ударили, чтобы помочь пролетариям. Пенять им придется на себя. Совет рабочих депутатов выведет с окраин сто тысяч рабочих, и они потребуют от «народной», в высшей мере либеральной, очень страшно для Витте говорящей Думы средств, сворованных хозяевами у рабочих!
В зале зааплодировали пуще.
— И, наконец, третье. В ответ на забастовки, возникающие то здесь, то там, хозяева объявили локаут, закрыли заводы, рассчитали рабочих. Что ж, пусть. Но неужели мы смиримся? Нет и еще раз нет!
На локаут буржуазии, на локаут правительства пришло время ответить рабочим локаутом, закрыть ворота для хозяев, взять управление в свои руки! Я уложил свое выступление в четыре минуты. Это пока все, товарищи.
Рабочие зашушукались:
— Кто это? Кто? Кто это, а?
Ленин на свое место возвращаться не стал, наверняка есть в зале филеры. Поехал в меблированные комнаты «Вена». Там внизу был ресторанчик, вечером должны были собраться Богданов, Луначарский, Румянцев, Красин, Лядов и Литвинов, надо было готовиться к съезду: без плана восстания, без науки восстания дальше нельзя, ко всему решающему следует готовиться загодя.
20
Собрание ложи масонов проводили теперь у постели графа Балашова — издатель и банкир лежал при смерти, понимая отчетливо, что жить ему осталось недолго; брат милосердия, приезжавший из военно-морского госпиталя шесть раз на дню со шприцем, проболтал прислуге, что у старого барина гнойная опухоль в легких, скоро начнет выхаркивать кровь, а там и помрет с криком. Поэтому в глазах челяди — когда входили в кабинет графа — была жалость, та особая, всепрощающая, милостивая жалость, которая присуща только крестьянам, а Балашов всю челядь из Пермской губернии привез, из своего имения; при том, что на горожан ставил, окружал себя мужиками, полагая, что только те помнят прошлое, лучину помнят, побор и зуботычину старосты, а потому наделены чувством преданной благодарности к тому, кто дал чистую жизнь в столице.
Балашов лежал на подушках одетый, в сюртуке; подушки были обтянуты тигровыми шкурами, на этом мрачном желто-черном фоне не так был заметен землистый цвет его лица и черные круги под глазами.
Вел собрание адвокат Александр Федорович Веженский, для всех в ложе очевидный преемник графа.
— Братья, следует обсудить новые сведения. Касаются они двух ведущих ныне тем: аграрного вопроса и займа, — сказал он.
— Прежде чем начнем, — проговорил Балашов, с трудом подняв иссохшую руку, — я бы хотел в двух словах остановиться на положении в Царском Селе, братья. Там — худо. Государь окружен людьми настроения, людьми, черпающими надежду в примерах нашего патриархального прошлого. То, что являет собою Трепов, самый вроде бы верный паладин государя, это прошлый день, братья, это вчерашняя Россия. Если уж ему Витте кажется либералом — куда дальше? Но дни Витте, думаю, сочтены, и поэтому надобно сейчас нам подумать, кто возглавит новый кабинет.
— Столыпин, — ответил Веженский сразу же.
Братья переглянулись: фамилия была новой, слышали про молодого губернатора разное; впрочем, во всех разговорах выделяли главное: Столыпин умел держать.
— Столыпин недавно сказал, — продолжил Веженский, — что ставить следует на сильных и трезвых, а не на пьяных и слабых. Он уже раза три эту фразу повторял — программная фраза, ждет общественной реакции. Он обещает взять в кулак поляков, татарву, евреев, потийских грузин, латышей. Как нам откликнуться — вот в чем вопрос?
— Мы ж еще не похоронили Витте, — улыбнулся генерал Половский.
— Преемника назначают при живом, — тихо сказал Балашов и, жалко улыбнувшись, обвел взглядом братьев. — Надобно присмотреться к Столыпину, аванс, конечно, рано давать, но что-то в нем есть симпатичное, мощь в нем чувствуется, сила, желание наладить власть, надежную исполнительную власть.
— Нельзя надеяться, что Столыпин сразу же сменит Витте, — заметил Веженский. — Какое-то время в Зимнем будет сидеть промежуточная фигура. Видимо, это целесообразно: общественное мнение убедится в необходимости правительства твердой руки.
— Поскольку вопрос окончательного падения Витте заключен в успехе или неуспехе займа, — сказал генерал Половский, — я бы хотел рассказать о внешнеполитическом аспекте этой проблемы.
— Да, да, мы очень ждем этого, — откликнулся Балашов и осторожно, боясь пошевелить притихшую после укола боль, повернулся на левый бок.
— Наша военная разведка имеет неопровержимые данные: когда кадеты
— видимо, через уволенного Кутлера — узнали все подробности плана Витте о займе в два миллиарда франков, милюковская партия немедленно отправила в Париж своих представителей. Те вошли в сношения с министром Рувье, убеждая его, что нельзя давать заем до той поры, пока в России нет Государственной думы: «Вы поможете сохранению варварства, которое в один прекрасный день может обернуться против вас из-за неустойчивости государя: тот всегда тяготел к Берлину». Удар по Царскому Селу был нанесен красивый — надо отдать дань дипломатии кадетов. Это был неожиданный поворот, это была косвенная поддержка Витте, иначе, думаю, его Трепов уже сожрал бы с потрохами. Однако, поскольку имя Витте связывают с учреждением Думы, его позиции укрепились, кадеты помогли царю понять, что без Витте ему золота не видеть. Но еще более кадеты преуспели в Лондоне: сказались старые связи Милюкова. Британский «Экономист» начал кампанию травли двора, о России писали как о «смердящем трупе», пугали Ротшильдов тем, что денег давать в Петербурге некому — власти не существует, империя накануне правого термидора.
— Это их термин? — поинтересовался Веженский.
— Их. Они в терминологии блистательны — тут спору нет, — сказал Половский. — После этого Париж, завязший на конференции в Альжесирасе с немцами, потребовал от Витте определенности: либо Россия давит на Берлин и принуждает кайзера признать главенство Франции в Марокко — заем состоится, либо Россия докажет свое бессилие на дипломатическом поприще, кайзер по-прежнему будет беспредельничать с Марокко — тогда займа не будет. Далее события развивались следующим образом: кайзер Вильгельм, узнав об этом условии, немедленно начал «громить посуду в арабской лавке», в стратегически важном Марокко, требуя себе преимуществ, особенно в Касабланке, — узловой порт, держит Средиземное море, противовес британскому Гибралтару. Зная нашу нужду в займе, он играл на том, чтобы Россия давила на Францию как раз в его пользу. Яснее ясного: Вильгельм хотел нарушить наш союз с Францией, привязать Россию к себе. Франция, в свою очередь, принудит кайзера к здравомыслию, о займе речи быть не может. Заслуга Витте в том, что он удержал Россию от того шага, на который его толкали в Царском Селе: он не отменил свободный обмен кредитных билетов на золото, рубль по-прежнему оплачивается песочком, и он не поворачивал к кайзеру — медлил. Он медлил не зря — военная агентура сообщала, что правительство Рувье шатается. И оно было свалено. Пришел Пуанкаре. Нам, в армии, было известно, что Пуанкаре видит свою цель в создании прочного русско-французского союза. Он дал разрешение банковской группе Нейцлина начать переговоры о займе. Кайзер, узнав об этом, запретил банковской группе Мендельсона финансировать Витте. Отказался от русского займа американский дом Моргана — тот тесно связан с немцами, они к нему через Гамбург подлезли. Остались Нейцлин в Париже и Ревельсток в Лондоне. Вопрос стоит так: если мы хотим свалить Витте немедленно, можно — у нас есть пути — содействовать займу завтра же. Коли, однако, мы заинтересованы в его премьерствовании еще на год, пока он не приползет на коленях к кайзеру, мы имеем возможность не мешать кадетской кампании в прессе Франции и Англии против займа. Кадеты могут инспирировать такую кампанию хоть сегодня.
Половский забросил худую, невероятно длинную ногу на острое колено, — видно было, какое оно костлявое; откинулся на спинку кресла, сцепил длинные пальцы, опер подбородок на них, оглядел братьев, приглашая к тому, чтобы высказались.
— Витте жаль, до слез жаль, это умный и честный человек, но заем необходим, — убежденно сказал князь Проховщиков. — Иначе анархия станет неуправляемой. Необходимо накормить рабочий элемент и хоть как-то помочь мужику. Только это оторвет их от социалистов.
Веженский, как-то странно усмехнувшись, быстро глянул на Балашова.
— От социалистов оторвет другое, — сказал граф, подчинившись молчаливой просьбе преемника. — От них оторвет иная идея, которую нам следует выдвинуть. Дело зашло слишком далеко, брат. Куском хлеба, подачкой, говоря иначе, сейчас не отделаешься.
— Витте стоит за союз с Францией и Германией, который будет подтвержден их двумя миллиардами франков, — сказал Рослов. — Модель английского общества мне более симпатична. Немецкая модель таит в себе угрозу необузданного гегемонизма и спорадической агрессивности.
— Кто же сменит Витте? — спросил князь Прохорщиков. — Видимо, это должно озадачивать нас прежде всего?
— Нет, — ответил уверенно Веженский. — Не это. Любой человек, который сменит Витте, долго не продержится. Придет сильный. Думаю, нам стоит очень внимательно изучить Столыпина. Думаю, нам стоит его поддержать, — впрочем, анализ и еще раз анализ, он только восходит, а всякое неожиданное восхождение в политике весьма рискованно и таит в себе угрозу тирании, которая в условиях России всегда неразумна, опирается на темноту и страшится культурного элемента. Однако ни переходный премьер — если мы поддержим заем через наших братьев в ложах Парижа и Лондона и, таким образом, свалим Витте, как ненужного мавра, — ни премьер будущий не есть главный вопрос. Мастер только что сказал: «Подачками не отделаемся». Это слова великого политика. Поэтому, братья, я зову вас — и это только на первый взгляд странно — к изучению разногласий между двумя революционными течениями. И среди кадетов и в партии октябристов наши позиции достаточно сильны, мы проросли там, я же зову вас к изучению социал-революционной теории Чернова, к анализу Плеханова и Ленина, потому что эти деятели определяют движение не только рабочего и крестьянского элемента, но и значительной части интеллигенции. Социал-демократия, будучи доктриной европейской, есть единственная доктрина в нынешней России, которая базируется на фундаменте науки. Кадеты — симбиоз славянофильства и британского конституционного монархизма. Октябристы уповают на сильную личность, которая развяжет им руки в управлении промышленностью и будет надежно гарантировать ритмику работы заводов. Эти — с челюстями, но доктрины нет, образ политического будущего России для них в тумане. Социал-революционеры приняли из рук стариков знамя утопического народничества — они пока что не есть серьезная сила, хотя шумят довольно, и к ним мы еще не подошли — жаль. Но именно социал-демократы
— с одним из их лидеров, Юзефом Доманским, я встречался в Варшаве год назад, это личность, братья, это серьезно, в высшей мере серьезно — должны стать объектом нашего пристального внимания. Поняв их, изучив сердцевину их расхождений и суть их связующего, мы обязаны озаботить себя созданием своей группы в Думе. Следует отрывать левый элемент от кадетов и октябристов так, чтобы не отдать их социал-демократам; следует — исповедуя наше преклонение перед Циркулем и мастерком — превратить понятие просвещенного труда в нашу доктрину, в то, что будет притягивать к себе русского человека, алчущего доброй работы. Мы, братья, должны проникать всюду и везде, мы должны уметь становиться тем и теми, за кем— тенденция. Главное — понять тенденцию, братья, понять и выверить все вероятия. Время таково, что ошибка чревата гибелью империи.
Балашов скривил губы от боли.
Веженский положил руку на ледяные пальцы Балашова, — костяшки стали выпирать, сделались бугристыми, желтыми, — шепнул:
— Мы покурим в кабинете?
Балашов благодарственно прикрыл веки, тронул кнопочку звонка, вызвал брата милосердия: доктор Бадмаев прописал инъекции из тибетских трав, боль снимало часа на три, наступало блаженство, голова становилась светлой, появлялось ощущение звонкой силы в теле — встань и иди, но что-то такое, что жило в Балашове помимо него самого, не позволяло ему подняться.
В кабинет был подан кофе; сигары кубинские, короткие, очень горькие, но со сладким запахом.
— Я беседовал с врачами, — негромко сказал Веженский, проверив, надежно ли прикрыты черные, мореного дуба, двери кабинета. — Чувствуется известный оптимизм — мастер так силен духом, что, возможно, он поднимется.
Половский покачал головой:
— Александр Федорович, зачем друг другу-то? Дни мастера сочтены.
— Мы же не монархия, — вздохнул Прохорщиков. — Наша линия постоянна. Я боюсь показаться жестоким, но ради пользы дела было бы разумным провести перевыборы мастера.
— Это жестоко, — сразу же откликнулся Веженский. — Он семнадцать лет был мастером, при нем наша ложа получила распространение в России, он провел нас сквозь грозные бури… Это жестоко, братья.
— А если кризисная ситуация? — кашлянув, поинтересовался Вакрамеев. — Если придется заседать не час и не два, а сутки? Если нужно принимать решение ночью, ехать к кому-то на рассвете — что тогда? Он ведь не выдержит, он не выходит из дому, тяготится болезнью, немощен, избегает встреч, не вносит предложений… А мы — по уставу ордена — не вправе принимать решений без утверждения мастера. Мне кажется, Александр Федорович, вы находитесь в плену неверно понимаемого чувства благодарности. Будет лучше, если мы сохраним в сердцах память по мастеру в его лучшие годы, когда он был на взлете. Горько, если мастер уйдет из нашей памяти больным, бессильным, неспособным к крутым — в случае надобности — решениям.
— Это жестоко, — повторил Веженский, понимая, что ему, преемнику, только так и можно вести себя. Он не допускал мысли, что его проверяют, — это было чуждо духу братства.
«А почему? — спросил он себя. — Братству — да, чуждо, но мы рождены в России, нами правит двор, который живет именно такого рода проверками. Проверка может происходить помимо осознанного желания братьев».
— Я против каких-либо шагов, — заключил Веженский. — Если, впрочем, вам кажется, что я недостаточно твердо провожу нашу линию во время недуга мастера, можно предложить иную кандидатуру.
Половский, который все сразу понял — умен генерал, мысль чует, даже коли не высказана, — пыхнул сигарой, задрал голову, словно зануздали:
— Дорогой мой, вы — истинный рыцарь. Речь идет не о каких-то крайних мерах. Просто, видимо, следует проинформировать наших братьев в главной ложе Парижа, что практическую работу во время болезни мастера проводите вы, Александр Веженский. Надо поставить точки над «i». Если хотите, я подниму это перед мастером. Я найду форму, которая никак его не обидит. Больной и бессильный мастер — плохая реклама нашей идее, — увы, это жестокая правда, вечность возможна только после смерти.
В кабинет, осторожно постучав, вошел брат милосердия.
— Господа, — прошептал он, — его превосходительство уснул после укола. Изволите дождаться пробуждения?
— Сколько он будет спать? — спросил Рослов, и вопрос его сделал тишину ощутимой — так были резки его слова и столько было в них скрытого раздражения.
— Два часа, — ответил брат милосердия и вышел.
21
— Кто вас просил прийти к пани Микульской? — спросил Попов, предложив Яну Баху сесть. — Думаю, для вас будет лучше, если сразу откроете всю правду.
— Она сама вызвала, — ответил Бах. — Баретки хотела заказать.
— Ах, вот в чем дело… Когда вызвала?
— Вчера.
— Заказала?
— Да.
— Из какого материала? .
Бах не сразу понял вопрос, волновался.
— Я интересуюсь: из какого материала будете тачать баретки? — помог Попов.
— Белое шевро.
— Вы социалист?
— Я? Нет, что вы! Я ни к какой партии не принадлежу.
— Кожу трудно доставать?
— Что?
— Экий вы непонятливый! — улыбнулся Попов. — Я интересуюсь: трудно ли по нынешним временам получать хорошие кожи?
— Нет, меня времена не зацепили, у меня с кожевниками хорошие отношения, меня не обижают.
— Кто вас снабжает, какая мастерская? Бах вспомнил, что именно в мастерской Шабельского собирается по средам кружок, там он с Уншлихтом познакомился, там с Дзержинским схлестывался.
Попов поднажал, открыл в голосе угрозу:
— Что, запамятовали?
— Я ведь со многими мастерскими имею дело..,
— Имели, — поправил Попов. — Вы имели дело, сейчас вы со мною дело имеете. И до-олгошенько будете иметь, решись таить от меня название мастерской.
— Так я не таю… Кожевенное производство Шераньского, Готлиба и Городецкого…
— Ну вот видите, вспомнили… Расскажите-ка мне, пожалуйста, Бах, о вашем ремесле. С чего вы начинаете тачать сапоги?
— Начинаю с того, что ногу смотрю, господин начальник, фигуру, лицо, — я ж модельер, не просто тачаю, я делаю обувь на заказ.
— Только дамскую?
— Нет, мужскую тоже.
Попов встал из-за стола, вышел на середину кабинета, остановился перед Бахом:
— Мои сапоги хороший сапожник тачал?
— Прощелыга, — ответил Бах убежденно. — Разве при вашей комплекции возможно икры в бутылочки загонять?!
— Нельзя?
— Никак нельзя. Вы, простите, столбом глядитесь. Вам нужны мягкие голенища, но высокие, под колено.
— Ну что ж, принимайте заказ, — сказал Попов. — Давайте, давайте, смелее…
— У меня сантиметра с собою нет.
— Изъяли при обыске?
— Нет, не захватил, господин начальник.
— А на глаз?
— Ну что вы?! Сделаешь на глаз, а потом мозоли замучают!
— А фасон? В голове? Или рисуете?
— Обязательно рисую.
Попов отошел к столу, взял стопку бумаги и карандаш, протянул Баху:
— Извольте.
Бах легко набросал фасон. Мастер, он брал уроки рисования. Он изобразил Попова сидящим, поднимающимся со стула, стоящим, подвинул все это полковнику. Тот внимательно поглядел рисунки, вздохнул:
— Смотрите, Бах, какая досада у нас выходит… Жаль, право… Такой великолепный мастер, а туда же, в политику лезете…
— Да что вы, господин начальник! Какая политика?! — Бах улыбнулся, его успокоил тон Попова. Он ждал избиений, криков и угроз — так рассказывали товарищи, прошедшие охранку. Этот не кричал и не дрался, да и зачем? Улик-то нет, при обыске на вокзале ничего не нашли, провожал заказчицу, которая попросила поднести чемоданы до вагона…
— Слушайте меня, Бах. Слушайте внимательно, Вы мне лгали, причем лгали неумело, вы же ни разу еще не привлекались, не прошли камерного обучения, мы на вас карточку посмотрели…
— Да не лгал я вам, господин начальник!
Попов, словно бы не услыхав, продолжал:
— Вы сказали, что приняли заказ у Микульской. Так?
— Так.
— А где записи? Вы ж в голове держать не умеете! Вам сантиметр нужен? А где сантиметр? Как же заказ принимали без сантиметра? И при обыске его у вас не было, сами признались. Где размеры, снятые с ножки госпожи Микульской? А? Что молчите? Нечего ответить? Есть чего ответить. Скажите, что размеры сняли утром, когда были у нее в кабарете, а вечером, на Маршалковской, встретили ее случайно. Мы ж обыск у вас дома сделаем, там записи и лежат, а? Или вы их оставили в мастерской? У кого? У Шераньского? Готлиба? Или, может, в мастерской Шабельского, куда часто заглядывают социал-демократы и где вы кожу-то получаете?
Попов говорил все это, не поднимая на Баха глаз, стирал мизинцем пылинки со стекла, лежавшего на зеленом сукне стола. Он заранее предполагал реакцию того или иного арестанта, он в этом редко ошибался
— перед тем, как перейти в охрану, работал смотрителем тюрьмы в Орле, там на каторжанах быстро выучишься все человеческие извивы понимать.
— Пойдемте, Бах. — Попов поднялся с кресла, тяжело двинулся к двери, распахнул ее, кивнул двум офицерам, сидевшим в приемной, те пропустили сапожника, повели по коридору, близко касаясь его плечами.
В комнате, куда Баха втолкнули, стояли три дворника.
— Это понятые, — пояснил Попов, по-прежнему на Баха не глядя.
На стульях возле окна лежали баулы и чемоданы Микульской.
— Узнаете багаж? — спросил Попов, дождавшись, пока один из офицеров сел к столу и заполнил первый лист протокола.
— Да.
— Чьи они?
— Пани Микульской.
— Подпишите.
Бах деревянно подошел к столу, поставил подпись. Рука его чуть дрожала.
— Кстати, против понятых не возражаете? Отводов нет?
— Нет.
Попов закурил, бросил спичку под ноги, затянулся.
— Все эти чемоданы вы помогали Микульской спустись из квартиры в пролетку? .
— Да.
— И все эти чемоданы и баулы донесли до вагона?
— Нет.
— Почему?
— Здесь же пять мест, рук не хватило.
— Все чемоданы отдали носильщику?
— Нет.
— Почему?
— Пани Микульска взяла маленький чемодан сама.
— Какой именно?
— Вот этот, черный.
— Покажите его. Притроньтесь рукой.
Бах подошел к стулу, тронул чемодан.
— Распишитесь в протоколе, — сказал Попов. — Вы, понятые, тоже. И можете идти, спасибо, вы больше мне не потребуетесь… Хотя…
Попов вопросительно посмотрел на офицера, писавшего протокол.
— Она уже опознала, — ответил тот, поняв молчаливый вопрос полковника. — Протокол есть.
— Да, не понадобитесь, — подтвердил Попов понятым, — благодарю.
Когда в комнате остались жандармы и Бах, Попов подвинул себе стул, сел и, потянувшись с хрустом, сказал:
— А теперь, конспиратор несчастный, подойдите к чемодану, который несла сама Микульска.
Бах подошел к окну, возле которого на стульях лежали чемоданы.
— Очень хорошо, — сказал Попов. — Вспомните, что вам говорила Микульска об этом чемодане?
— Ничего.
— Вы помогали ей нести этот чемодан?
— Нет.
— Павел Робертович, — обратился Попов к офицеру, — покажите Баху показания носильщика Ловиньского.
Офицер подошел к Баху, протянул ему протокол допроса: «Я принял из рук неизвестного, сопровождавшего неизвестную мне даму, предъявленный мне к опознанию чемодан фирмы „Брулей и сын“, когда извозчик разгружал пролетку. В этот момент неизвестный господин взял у меня из рук чемодан фирмы „Брулей и сын“, сказав, что поклажу понесет сам, ее осторожно надобно нести».
— Ну как? — спросил Попов. — Отвергаете показания носильщика?
— Может быть, он прав, я запамятовал, вероятно…
— Распишитесь в таком случае, что с показаниями носильщика Ловиньского согласны… Или не согласны?
— Да какое это имеет значение? — Бах пожал плечами. — Если он так говорит, значит, так и было.
— Прекрасно. Теперь откройте чемодан.
Бах открыл крышку и отступил: там, рядком уложенные, лежали оболочки бомб.
— Что, испугались? Железки и есть железки. Или сапожнику известно, как выглядят бомбы-самоделки? Откуда? Где видал?
— Вы сами это подложили! Здесь подложили! — крикнул Бах. — Почему убрали понятых?!
— Ну вот и заговорили, — удовлетворенно протянул Попов. — Просто как адвокат… Извольте занести протест арестованного в протокол, господа. Распишитесь под вашим протестом, Бах.
— Рученьки трясутся, — рассмеялся Павел Робертович. — Раньше еще куда ни шло, легкий мандраже, а теперь колотун, Игорь Васильевич, словно пациент попал в охрану после большого похмелья-с!
— Он трезвенник. Господа революционеры почитают хлебное вино средством для бесстыдного оглупления трудового люда. Так, бедолага? Так, так, я ж ваши речи знаю, слушал… Дайте ему, Павел Робертович, показания Микульской.
— Читай, Бах, — сказал Павел Робертович, подвинув арестованному протокол. — Читай сам, а то решишь — обманываем…
Бах не сразу понял те слова, которые были занесены в протокол опознания вещей, подписанный Микульской. Он зажмурился на какое-то мгновение, потом прочитал снова: «То, что в кожаном маленьком чемодане фирмы „Брулей и сын“ находятся три бомбы-самоделки, мне было неизвестно, потому что этот чемодан мне был передан незнакомым человеком, сказавшим, что за ним гонятся. Он просил сохранить чемодан в моей квартире. Записано по моему утверждению верно. Микульска».
Бах хотел было перевернуть страницу, но Павел Робертович папочку у него из рук легко выхватил:
— Хорошенького понемножку! Попов докурил папиросу и сказал:
— Подписывайте, Бах, подписывайте свое показание: «То, что в чемодане бомбы, не знал». Не вывернешься, загнали в угол, господа социал-демократы…
— Я не буду подписывать ни строчки, — ответил Бах. — Пусть мне устроят встречу с Микульской.
— Придет время — устроим, — с готовностью пообещал Попов. — Можете, конечно, не подписывать. Тогда нам снова придется пригласить понятых, и они в вашем присутствии подпишут то, что отказались подписать вы.
В голове Баха тяжело ворочался страшный глагол «подпишите». Попов произносил его ласкающе, будто гурман осматривал кусок мяса, прежде чем отправить в рот.
«Она подписала страшное признание, — думал Бах лихорадочно. — Она напутала так, что не выпутается! Какой человек? Почему подошел к ней? Откуда он знал ее? Наши бы сказали мне про бомбы! Какие бомбы? Уншлихт не мог не сказать: он же доверяет мне!»
— Я могу написать только одно, — сказал наконец Бах. — Я могу написать, что бомбы мне предъявили в отсутствие понятых…
— Пожалуйста, — сразу же согласился Попов. — Это правда, не смею возражать.
— А почему вы так сразу и согласились? — спросил Бах растерянно.
— Да потому, что ваш резон справедлив. Что ж мне — драться с вами?
Бах написал объяснение. Попов внимательно прочитал его вслух:
— «Бомбы в чемодане я увидел в то время, когда понятых в комнате уже не было». Прекрасно. Только справедливости ради добавьте и следующее: «При мне сотрудники охраны бомб в чемодан „Брулей и сын“ черного цвета, малого формата, новый, не прятали». Это правда или нет? Мы при вас бомбы не прятали?
— Нет, не прятали.
— Правду написать можете?
— Разве так непонятно? И так все понятно…
— С меня форму спрашивают, Бах! Мы ж порядка хотим достичь в империи! А порядок без тщательного оформления документа невозможен.
— Я иначе напишу.
— Пожалуйста, — равнодушно согласился Попов, но подбросил: — Только чтоб ясно было, о чем идет речь.
Бах написал: «После того, как понятые ушли, мне предложили открыть чемодан, и там я увидел бомбы».
— Ну-ка, вслух, — попросил Попов. — Как это на слух, в военно-полевом суде будет звучать?
Бах почувствовал, как его начало трясти: военно-полевой суд означает виселицу. Расстрел в лучшем случае.
— Ну-ну, смелей, Бах! — усмехнулся Попов. — Что вы кадыком елозите? Читайте! Имейте в виду: от того, как это ваше показание будет звучать, многое зависит, о-о-очень многое! Я могу вынести на суд показание носильщика про то, что вы, именно вы несли чемодан с бомбами, а могу это показание ошельмовать другим, которое опровергнет первое: нес чемодан сам носильщик. А могу и вовсе это показание обойти молчанием. Коли я докажу, что вы несли чемодан, — веревка вам обеспечена, в крае военное положение, Бах, нам не до шуток.
— Показанию одного извозчика не поверят!
— Носильщика, носильщика — ишь как разволновался, — заметил Павел Робертович. — Извозчик против тебя не показывал.
— Против вас Микульска показала, — лениво заключил Попов, — прочитайте ему то место.
— Нет, я сам хочу прочитать, — возразил Бах, откашлявшись, голос сел, звучал глухо.
— Пожалуйста, — согласился Попов. — Пусть он прочтет, Павел Робертович. Дайте ему листок.
«Вопрос: Кто нес опознанный вами чемодан, принадлежавший неизвестному вам господину?
Ответ: Мне помогал его нести мой спутник.
Вопрос. Как зовут вашего спутника?
Ответ: Его зовут Ян Бах.
Вопрос: Что вы о нем можете сказать? »
Ответа на этот вопрос Баху не показали, и он понял, что тонет, тонет.
— Итак, — подстегнул его Попов. — Написали? «В моем присутствии бомбы в чемодан сотрудники охраны не клали». Что-нибудь мешает? Хотите заменить слово?
Бах написал фразу, продиктованную Поповым, расписался, посмотрел на полковника затравленно.
Попов поднялся, пошел к двери, там задержался, пальцами обхватив медную, начищенную до блеска ручку.
— Слушайте, Бах… Слушайте меня и верьте. Коли вы не дадите слово написать все о тех людях, которые направили вас к Микульской; что они говорили о ней; когда они заметили за нею филерское наблюдение; почему верили, что Микульска решится принять ваше предложение и уйти с вами,
— если вы не напишете обо всем этом самым подробным образом, вас вздернут. Материала у меня хватит. Микульска, как понимаете, все расскажет, она человек во всем этом деле случайный. Ваша судьба — в ваших руках. Решайте, Бах, решайте…
22
Ротмистр Сушков вызвал Микульску на допрос вечером, предупредив поручика Павла Робертовича и его помощника, что они, вероятно, понадобятся ему позже, и посоветовал заказать в трактире пана Адама ужин: коробки с деваляями, хрустящим картофелем и поросенка под хреном обычно приносила племянница хозяина Ева.
… Сушков направил на лицо Микульской свет лампы, сразу же отметил страх в ее глазах; легкую паутинку морщинок, которую не скрывала уже косметика — за сутки сошла; особый тюремный отпечаток, который более сильно заметен на женщинах: пряди волос, выбившиеся из некогда высокой прически, следы от колец на пальцах, пустые дырочки в мочках ушей — гребни, перстни и сережки забирали при аресте.
— Ну-с, Микульска, как наши дела?
— Плохи дела. — Стефания заставила себя ответить просто, без волнения, по возможности с юмором. — Куда уж хуже.
— Может быть еще хуже, — не согласился Сушков. — Пока что вы сидите в санатории, а не в остроге, пока еще даже не листочки, пока еще почечки… А вот когда цветочки начнутся…
— Я никак не возьму в толк, за что я арестована? Какое-то несусветное недоразумение…
— Для того чтобы происшедшее действительно оказалось недоразумением, не хватает одного лишь…
— Чего же?
— Вашего правдивого рассказа. Вы поймите, Микульска, в крае объявлено предписанием председателя совета министров военное положение. Вы понимаете, что это такое?
— Не совсем, я же не солдат, — попробовала пошутить Микульска.
— Вы очень хорошо играете солдат, особенно тех, которые кончили срок службы и отправились на отдых, но никак саблю спрятать не могут… Так вот, военное положение означает, что человек, задержанный на улице с бомбами, может быть застрелен на месте…
— Но я же не знала! Я не могла и подумать, что в чемодане бомбы!
— А что, по-вашему, там могло быть? Милая, женщины умеют лгать мужьям и любовникам, но совершенно теряются, сталкиваясь с законом… Ну, согласитесь, вы ведь дали глупые показания: «Ко мне на улице подошел человек, за которым гнались, и попросил взять чемодан». Ну? Глупо же! Кто гнался? Вы видели преследователей? Как они одеты? Сколько их? Опишите.
— Он сказал мне это так искренне, он задыхался… Поймите, я актриса — порыв, эмоции; мне все кажется отчетливей, чем другим, я ведь представлением живу, все время чем-то грежу.
— Значит, вам пригрезились преследователи?
— Наверное…
— Где к вам подошел преследуемый?
— На улице…
— На какой?
— Я не помню сейчас…
— А вы вспомните. Надо вспомнить, Микульска, мы это сейчас в протокол опроса станем писать, это в военно-полевой суд пойдет так что вы уж постарайтесь все дотошно вспомнить, от этого ваша жизнь зависит, жизнь, вы поймите это, время-то особое, анархическое время, слабинку давать мы не вправе — дали уж, хватит! Ну, где?
— На Маршалковской…
— После встречи с Бахом?
— Нет, до.
— В каком месте?
— Возле дома два.
— Зачем глупо врете?
— Я бы на вашем месте так не разговаривала с дамой!
— С кем?! С дамой? Они но улицам ходят, дамы-то! А здесь сидят государственные преступники, Микульска! Люди, преступившие черту закона! Итак, где к вам подошел преследуемый?
— В начале Маршалковской…
— Не врите мне! — Сушков ударил ладонью по столу. — Что он, к вам в пролетку вскочил?! Вы до Маршалковской на пролетке ехали! Мы извозчика опросили! У нас свидетель есть! И вахтер в вашем кабарете описал неизвестного, который у вас был! С чемоданом. Сначала Бах, а потом второй социалист, с бомбами! Что вам сказал Бах? От кого он к вам пришел? Какие дал указания? Ну! Живо,!
— Он… Он ничего не сказал…
— А зачем он к вам приходил? В покер играть? Или, может, он ваш любовник? Может, он коханый у вас?
— Он… Я не знаю… Он сказал, что моей жизни угрожает опасность…
— Какая опасность? От кого?! — Сушков усилил ритм, он вколачивал вопросы, словно гвозди, одним ударом — и по шляпку.
— Он сказал, что мне угрожают злоумышленники…
— Так бы сразу и говорили, черт возьми! Какие злоумышленники? Шантажисты? Грабители? Насильники?
— Грабители… Он сказал, что они повсюду меня преследуют…
— Он описал их?
— Я не помню…
— Вспомните!
— Нет… Не знаю… Я сейчас ничего не помню…
— Больше он вам ни о чем не говорил?
— Нет!
— Приказов от партии не передавал?
— Нет, нет! Какие приказы? От кого?!
— А почему он скрыл от вас свою профессию?
— Я… Почему скрыл?
— Разве признался, что работает сапожником! Неужели он сказал вам об этом?!
— Нет, нет, не говорил…
— А может, он даже обмерял вашу ногу?
— Нет. Я не помню…
— Не врать! Обмерял? Или не обмерял? Да или нет?
— Я не понимаю, какое это имеет касательство к делу?
— Главное! Извольте ответить: да или нет?
— Вы его спросите, я не помню, ну, право же, не помню!
— Он ответил уже, теперь я вас спрашиваю!
— Но я ему верю… Что он сказал — то и было…
— Да или нет? В последний раз спрашиваю!
— Нет!
Сушков взял папку, открыл ее и зачитал Микульской:
— Я, Бах Ян Вацлав, показываю, что обмерил ножку пани Микульской у нее в гримуборной и сторговал цену — девять рублей золотом. Никаких других разговоров, кроме как о баретках, я с нею не вел, на Маршалковской встретил ее случайно и, выполнив ее просьбу, донес чемоданчик фирмы «Брулей и сын» до вокзала.
Сушков читал липу, по чистому листу бумаги читал — был убежден, что женщина не попросит протокол допроса, ничего в этом деле не понимает; несчастный инструментарий хитроумной операции, задуманной полковником, — всего лишь.
— Ну? — спросил Сушков. — Что на это скажете? По-прежнему верите Баху или сомнение появилось?
— Чего вы хотите от меня? — Микульска не удержалась, заплакала. — Это какой-то ужас… В чем я виновна? Чего вы добиваетесь?
— Я добиваюсь правды. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все. От начала и до конца…
— Микульска вытерла слезы тонкими пальцами и сказала: — В таком случае я желаю говорить с Игорем Васильевичем Поповым…
— A y нас нет никакого Попова, — ответил Сушков. — Кто такой — Попов?
— Как так нет Попова? — ахнула Микульска. — Он же начальник Варшавской охраны!
Сушков рассмеялся, не разжимая рта:
— Кто вам сказал, что Попов начальник охранного отделения? Очень мне это интересно узнать…
— Мои друзья…
— А как зовут ваших друзей?
— Вы же все равно их не знаете!
— Да?
Сушков поднялся, глянул на часы, глянул причем украдкою, и сказал:
— Пойдемте.
Микульска, не спросив даже, куда ее ведут (это сразу же отметил Сушков), покорно поднялась со стула и двинулась к двери.
Сушков спустился с нею на второй этаж, распахнул дверь кабинета номер девять, офицер вскочил из-за стола, щелкнул каблуками, но Микульска даже не заметила ничего этого, потому что завороженно, не скрывая ужаса, смотрела на того человека, который приходил к ней в театр с чемоданчиком. Сейчас он сидел понуро, руки и ноги в кандалах, волосы спутаны, закрывают глаза, рот дергало тиком.
— Ну, узнали? — спросил Сушков. Обернулся к жандармам: — Запирается или дает правдивые показания?
— Теперь говорит правду, — ответил поручик, выделив слово «теперь», — все вываливает.
Сушков подошел к «арестанту», поднял кулаком его подбородок:
— Ну, сволочь, ты где этой барышне бомбы передал?
— В кабарете, — прохрипел тот.
— Что сказал ей?
— Сказал, что известное лицо у нее заберет.
— А она не спросила тебя, что это за «известное лицо»?
— Нет, не спросила, ваше благородие.
— Значит, она знала, кто у нее бомбы заберет?
— Конечно, знала…
Сушков отнял кулак от лица «арестанта», и тот уронил подбородок на грудь, завыл, заплакал тонко, начал головою мотать:
— Это он, он, сволочь, всех под гибель подводит, а сам в стороне стоит! Будь они все трижды неладны, господи!
— Кто «он»? — быстро спросил Сушков.
— А вы у ней спросите! Она про него знает, он мне говорил, что Микульска все сделает, все исполнит!
Сушков отметил, что провокатор работает прекрасно, в высшей мере естественно, подошел к Микульской, наклонился к ней, касаясь губами волос, ощутил едва уловимый теперь запах духов, стиснул зубы:
— Ну? Каково?
— Мне плохо… Я хочу сесть…
— Может, прилечь желаете? — еще тише спросил Сушков. — А? С трудом оторвавшись от горького аромата духов, он взял Микульску под руку, коротко бросил поручику:
— Продолжайте допрос, — и вышел.
Он вел ее по коридору, уже пустому, и шаги его были гулкими. Он чувствовал бессильную, податливую руку Микульской и вспомнил Попова: «Играть — до черты. Разогреть — да, но если кто переступит грань — пристрелю. Лично. На месте». Те, двое, которые с водкой ужинали, ждут вызова. Они-то и должны Микульску попугать, разогреть — если сама не расскажет все. Абсолютно все. Она уже сломана спектаклем с провокатором, который всучил ей бомбы, взятые недавно охраной во время ликвидации явки анархистов, она уже готова, осталось подтолкнуть. В критический момент — время заранее обговорено — появится Попов. Как по нотам. Заговорит, канашечка, куда ей деться… Только могут молодцы не удержаться — хороша! Кожа-то, кожа какова, аромат горький, сладостный. Ну, и не удержатся… Он бы и сам не удержался… Занятно, что она с Поповым встречу попросила, — значит, на сломе… «Нас с ней знакомили», — вспомнил слова Попова. Так он и представился ей начальником охраны! Не те времена, мы ныне профессию свою тщательно скрываем, куда как тщательно! Стоп! А если она его любовница? Почему? А потому, что она встречи с ним запросила, когда я в тупик ее загнал. Хорошо, положим, я докопаюсь. Что тогда? Какой навар получу? Лишнее знание не всегда к добру приводит. Она ему бухнет, он начнет меня жевать, а челюсти у него хваткие и зубов полон рот, а зубенки маленькие, крепкие — у всех простолюдинов зубы до старости хороши, только у нас, голубокровок, крошатся с юности… Нет, а почему все-таки я допустил возможность, что она его «кохана»? Потому что у нее глаза изменились, когда про Попова сказала… А он, верно, не зря пробросил мне про посещение кабарета… Нет, нет, у нее в глазах был слом, там и гордость была, на донышке было гордости, и страх, и отчаяние, она тянулась к спасению, к последней надежде, когда его назвала. И ужас у нее в глазах появился, когда я ответил ей, что никакого Попова у нас нет… «Арестант» хорошо сыграл, молодец «Грозный», надо будет выписать ему вознаграждения рублей двадцать, никакой артист такого не сыграет, как он… Интересно, коли Попов ее кохал и офицерики-молодцы преступят черту, перегреют актрисулю, как себя Попов поведет? Стрелять-то не станет, это значит открыться, в связи с преступницей признаться, она ж преступница, мы «Грозного» выведем, он в «побег» уйдет, она одна останется, если Баха к тому же до смерти замордуют. Хм, коханье с преступницей? А кого вместо Попова пришлют? С этим можно работать — сам живет и другим не мешает, а ну, какой Шевяков объявится? А мне в его кресло не вскочить, я ведь еще только исполняю должность заместителя заведующего, мне еще год надобно просидеть, тогда только… Если б такое через год, а?! Может, запьет горькую, если он ее кохал? Это б хорошо, коли запил, это б куда как хорошо… Годик и пройдет, за этот годик из «исправляющего должность» легче легкого в постоянные заместители выйти. А почему, собственно, он должен запить? Таких о нем сведений не было… Но уж больно глаза у него играют, больно он любит жизнь и себя в ней, в жизни нашей… Ну и что? На одной, что ль, Микульской свет клипом сошелся? Да и предположение это пока, играю это я, за него играю, а он не прост, так легко за него пешку не двинешь, а уж фигуру — тем более. Нет, лучше присмотреться, лучше мозольку-то поприжать — резать рискованно. Лучше его высветить поярче, лучше в дневничок занесть: был бы товар — продать никогда не поздно, опасно продавать раньше времени, это да…
Все это Сушков прокрутил за минуту, пока поднялся на второй этаж и пропустил Микульску в кабинет.
— Ну? Узнали своего товарища? — спросил он. — Я уже не хотел вас там губить, пожалел…
Подвел к стулу, обняв за плечи, усадил, склонился к ее горьким волосам:
— Давайте как на духу — с самого начала.
— Я ничего не знаю, — устало ответила женщина, и в голосе ее появилось безразличие. — Я ничего не могу понять.
«Время упустил, — досадуя на себя, понял Сушков. — Сразу надо было на нее прыгать».
— Послушайте меня внимательно, Микульска… Никакого Попова у нас нет и не было. Это раз. Натура вы трепетная, актерская — это два. Что простой смертный выдержит, то вас сломит. Это три. Я к вам шел добром. Это четыре. Либо вы мне все расскажете, абсолютно все — и про Попова, и про товарищей, и про Хеленку Зворыкину, и про Софью Тшедецку, или пенять вам придется на себя.
Микульска молчала. Сушков снял телефон, сказал барышне номер и пригласил Павла Робертовича с помощником зайти в кабинет. Вошли они сразу же — были бледны, видно взяли не лафитник, а два; воротнички не застегнуты, в глазах металось шальное и быстрое.
— Господа, я оставляю вам бомбистку на час. Попробуйте с нею побеседовать — я пойду выпью чаю, устал… Если она захочет мне что-то сказать — позвоните в буфетный зал, я мигом поднимусь.
Не слушая Микульску, которая что-то глухо и непонятно выкрикнула, он вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Достал «луковицу», открыл крышку: стрелки показывали половину десятого. Все верно. Попов так и просил. Сказал, что вернется к одиннадцати.
Расстелив носовой платок, Сушков опустился на колено, прижался глазом к замочной скважине и увидел, как Павел Робертович подошел к Микульской, что-то сказал ей (не слышно, двери толстенные, не прострелишь — пробовали из «смита-и-вессона»), женщина поднялась. Павел Робертович обошел ее, взял лицо одной рукой, сжал его, приблизил к себе, укусил за ухо, потом отстранил актрису и легко, привычным жестом рванул платье — от плеча вниз. Сушкову показалось, что он слышал, как посыпались пуговицы, но это ему показалось только…
23
«Его Императорское Величество. — Предстоящие обсуждению вопросы — очень серьезны, но не так трудны, как рассмотренный в декабрьском совещании: поэтому, а также в виду спешности дела и желательности его разрешения, я прошу членов совещания ограничиться в своих суждениях только сутью дела. Представлялось бы очень желательным окончить дело сегодня же. Граф А. П. Игнатьев. — Ваше Императорское Величество, манифестом семнадцатого октября существенно изменено положение о Государственной думе. Ныне же пересматривается и учреждение Государственного совета. Теперь он упраздняется как Совет монарха по законодательным делам. Вместо него учреждается верхняя па лага. Это уже решительный шаг к конституционному устройству, а шаг этот можно делать только сознательно. Граф С. Ю. Витте. — Разрешите мне, Ваше Императорское Величество, представить необходимые разъяснения. Известно, что только верхняя палата может спасти от необузданностей нижней. Она необходима, чтобы гарантировать консервативный строи государства, чтобы не было непосредственных коллизий с верховной властью. Назначение ее состоит в том, чтобы давать отпор всем крайним взглядам. Одним словом, верхняя палата должна представлять из себя буфер. Для этого, конечно, существенно важно, чтобы она заключала в себе возможно более консервативные элементы, и нельзя не призвать, что условиям этим преобразуемый Государственные совет удовлетворяет в полной мере. В сапом деле, кто входит в его состав? Восемнадцать членов от дворянства, шесть — от православного духовенства, двенадцать
— от промышленности, и эти последние явятся наиболее консервативными. Отсюда ясно, что в выборном составе Совета консервативный элемент будет иметь преобладающее значение. Вообще можно с уверенностью утверждать, что Государственный совет будет глубоко консервативен. Поэтому нет оснований к увеличению числа членов Госсовета по назначению его величества. П. Н. Дурново. — Полагаю, что верховная власть не должна лишать себя права уравновешивать мнения. Пусть Ваше Императорское Величество назначит столько членов Государственного совета, сколько окажется нужным. Граф А. П. Игнатьев. — Присоединяюсь к этому мнению. Граф С. Ю. Витте. — Это произведет дурное впечатление. Князь А. Д. Оболенский 2-й. — Я согласен с графом Игнатьевым. А. С. Стишинский. — Никакого дурного впечатления не будет. Его Императорское Величество. — Оставить, как в проекте. Следующее в манифесте положение касается порядка издания законов во время перерыва сессий Думы. Граф С. Ю. Витте. — Предлагаемое правило существенно важно, так как мы не знаем, что будем переживать. Проводить чрезвычайные меры через Государственный совет едва ли было бы популярнее. Поставить палку в углу необходимо. Его Императорское Величество. — Далее. И. П. Шипов. — Имеются ходатайства об избрании членов Государственного совета от банков. В. Н. Коковцов. — Осуществление этого предположения повело бы только к увеличению числа членов от торговли. И. П. Шипов. — Было бы уместно в число выбирающих учреждений включить представителей от кредита. В. В. В е р хо в с к и и. — Трудная задача — требовать представительства в Государственном совете всех отраслей промышленности. Не могу не заметить, что в числе членов Совета по императорскому назначению много люден, весьма сведущих в кредитных вопросах. Его Императорское Величество. — Оставить, как в проекте. Далее. А. С. Стишинский. — Позвольте обратить внимание, что в проекте не указывается па на принесение выборными членами присяги, ни на последствия отказа от присяги. Его Императорское Величество. — Следует дополнить проект указанием на принесение выборными членама присяги. Далее. Князь А. Д. Оболенский 2-й. — Совершенно ясно, что обсуждаемое преобразование Государственного совета было сюрпризом. Ждали только Думу. Вдруг, кроме Думы, является с решительным голосом также Государственный совет, который может не допустить того, что уже принято Думою. Практически, может быть, этого и не будет, но возможность устанавливается. И все же пусть Дума считает, что она может довести до сведения Вашего Императорского Величества о своем мнении. Я боюсь, что в противном случае не обойтись без конфликтов. В. Н. Коковцов. — Это мнение принадлежит Кутлеру, и когда он его проводил, я возражал. Я возражаю и теперь. На усмотрение вашего императорского величества желают повергать конфликты. Это совершенно неправильно. В особенности на первых порах не следует давать Государственной думе особых прав. Ведь, раз будет дано, отнять уже нельзя будет. М. Г. Акимов. — Я безусловно присоединяюсь к Владимиру Николаевичу. Мы не знаем теперь, какою будет Дума. Поэтому вернее, если до вашего императорского величества будет доходить только то, что одобрено и верхнею палатою. Князь А. Д. Оболенский 2-й. — Все это так, но я говорю о самом принципе. Система двух палат едва ли у нас вполне достижима. Палата лордов возникла исторически, палата депутатов явилась потом. Нам же надо установить случаи, когда Дума может довести свой голос до царя. П. Н. Дурново. — Если принять предложение князя, то через два года верхняя палата перестанет существовать. Граф Д. М. Сольский. — Вначале я колебался в пользу предложения князя Оболенского, но соображение, только что выраженное Петром Николаевичем, заставило меня склониться в пользу большинства. Не надо давать Думе этих прав. Его Императорское Величество. — Я согласен с большинством. Далее. Граф Д. М. Сольский. — Существует разногласие относительно публичности заседаний Совета. Граф С. Ю. Витте. — Я опасаюсь публичности. Следует помнить, что председатель Государственного совета утверждается Вашим Императорским Величеством, председатель Думы утверждаться не будет. Как же предоставить такому неизвестному лицу особые полномочия? При нашей необузданности, при нашей дикости, — в первую же неделю возникнут самые основательные скандалы, Дипломатический корпус, конечно, пустить всегда можно, но не тех, кто бросает моченые яблоки. Ведь в других государствах сам народ
— культурный. М. Г. Акимов. — Закрытие дверей для публики не соответствовало бы ни величию преобразования, ни достоинству учреждения. Возможность скандалов не может иметь решающего значения. Прежде всего, едва ли кто-либо из публики решится на них. А затем, конечно, возможны буяны; они бывают и в театрах и везде. Закрытие же заседаний для публики произведет дурное впечатление. Граф С. Ю. Витте.
— Члены Думы присягают, а публика — нет. Князь А. Д. Оболенский 2-й. — Дума будет требовать публичности. Граф С. Ю. Витте. — Публика будет травить министров. В крайнем случае публику можно бы допустить, но не иначе, как на условиях, установленных по соглашению председателя Думы с кем-нибудь из состава правительственных установлений, например, с председателем совета министров. П. Н. Дурново. — Вопрос о публичности должен быть разрешен определенно. Никакой лазейки: либо да, либо нет! Вопрос этот находится в непосредственной связи с вопросом о полиции в Думе. Между тем в проекте ничего не сказано, как и кто будет охранять Думу? Если желательно допустить в Думу посторонних, надо предварительно установить порядок охраны, вызова войск в так далее. Пока таких правил нет, нельзя открывать двери Думы. Князь А. Д. Оболенский 2-й. — Охрана Думы должна быть установлена на таких основаниях, чтобы в известных случаях надлежащие меры могли быть принимаемы полицеймейстером помимо председателя Думы. А. А. Половцев.
— У каждого должны быть свои пределы власти: полиция в зале — в распоряжении председателя, а полиция в здании — должна быть общей, П. Н. Дурново. — Должны быть указаны случав, когда полицеймейстер распоряжается собственной властью. Его Императорское Величество. — Соглашаюсь с большинством, но с тем, чтобы к началу заседаний Думы были составлены правила для публики и для охраны порядка в Думе. На этом мы сегодня покончим. В следующий раз соберемся в четверг, в два часа».
После заседания премьера, как обычно, провожал к авто генерал Трепов.
— Совсем князь Оболенский-второй плох, — говорил Дмитрий Федорович, — сдавать начал, а? То его вправо кидает, то влево.
Витте отделывался рассеянной улыбкой — скажи хоть слово, Трепов как угодно перевернет, наврет с три короба, столкнет с тем же Оболенским, еще один враг прибавится, куда уж больше-то?
«Сам ведь, мерзавец, подтолкнул государя собрать это совещание, — думал Витте о Трепове, дружески его полуобнимая за плечо, — хочет показать, что против меня многие сановники открыто выступают, а его наймит Дурново просто-таки тараном прет, пускает мины против меня по всем вопросам, демонстративно… »
Приехав в Петербург, Витте подивился, как сильно разнится столичная погода от царскосельской: здесь шел мелкий, холодный дождь, а во дворце государя солнце отражалось в стеклах, воздух был синеватым; с залива задувал снежный, студеный ветер, одно слово — божья благодать.
Витте попросил секретаря оберечь его от визитеров, к телефонному аппарату не подзывать и ужин накрыть легкий, в кабинете: постная ветчина, зелень, подогретый пеклеванный хлеб и кофей без сахару.
Достал с книжной полки энциклопедический словарь, те его тома, которые начинались на буквы «Р», «П», «Б» и «К»: «Революция», «Реставрация», «Рубеж», «Партии», «Промышленность», «Банк», «Бюрократия», «Конституция», «Коалиция», его интересовали именно эти темы, он привык к емкости изложения и поэтому решил уточнить себя, соотнося известную взволнованность, вызванную обструкцией, учиненной Дурново и Оболенским, за которыми стоял Трепов, — кто же еще, и ребенку понятно!
К ночи Витте вчерне выработал платформу для следующего заседания.
Неожиданно подумал: «А вдруг государь простудится на ветру, сляжет и помрет? Тогда что? » Испугался этой мысли, ужаснувшей самого же холодностию и сладостным предчувствием возможности приятных перемен.
Походил по кабинету, стряхнул пригрезившееся, вернулся к столу, сел, сцепил большие вспухшие пальцы, замер неподвижно — выстраивал мысли в линию.
Первое. Он должен войти в коалицию, непременно оформленную организационно, с банкирами и заводчиками; они теперь станут набирать силу день ото дня, они теперь, по закону с выборах Думу, станут влиятельной группой в высшем законодательном органе державы. Значит, он, Витте, должен добиться для них специальной думской финансовой комиссии, именно он, и никто другой. Пока другие расчухаются, пока поймут надобность коалиций в новое время, он, Витте, коалицию с финансистами уже наладит.
Второе. Коль скоро в Государственном совете, который Трепов норовит сделать единицей дворцовой бюрократии, будут, помимо назначенных царем, люди выборные, туда должны войти либеральные помещики, то есть конституционные демократы Милюкова и промышленники. Гучков? Вряд ли — хам, ради красного словца продаст за милу душу и, главное, англофил, на Лондон смотрит, во всем британцам следует. Витте подумал о Гужоне. Плохо, что француз, конечно, не пройдет в Госсовет по национальному цензу. Но как лидер московского союза фабрикантов и заводчиков, он, именно он подскажет нужные кандидатуры. Значит, помещики дадут постоянный и верный контакт с кадетами в Петербурге, а Гужон будет осуществлять связь с октябристами, с банковско-промышленным капиталом. Гужон, конечно, не преминет сообщить своим, в Париж. Что ж, это угодно внешнеполитической идее Витте — союз с Парижем и Берлином должен заставить образумиться надменного британского Джона Буля. Да и потом, лишние связи с Парижем никогда не помешают, это даст ему ощущение собственной надобности — что, Трепова посылать во Францию, что ли?! Посмотреть забавно, как он станет с Пуанкаре разговаривать, как он привезет государю заем, договор, гарантию… Ха-ха…
Витте, услыхав смех, испуганно удивился: он не в мыслях похохатывал, а наяву. Нервы расходились, понятное дело. А стратегия выработана правильная. Надо загодя готовить позиции на случай отступления. Он их приготовит. Он на следующем заседании нажмет на мозоли, он по-новому поговорит о гласности заседаний Думы: финансистам она нужна, им важно, чтоб их официальную позицию знали в Париже и Берлине из газет, а не по слухам. На следующем заседании он поговорит и о том, кто будет писать законы в Думе. Пусть это поднимет кто-нибудь другой, он подготовит, он бросит идею, за идеями-то ныне гоняются, своих мало, растерянность одна.
Домой Витте пришел довольный, проиграл дочери в винт два Рубля, выпил полстакана настойки валерианового корня и уснул — легко и быстро. «Его Императорское Величество. — Кому угодно высказаться? Граф С. Ю. Витте. — Позвольте мне, Ваше Императорское Величество, возвратиться к вопросу, возбужденному князем Оболенским. Я нахожу, что выставленный князем принцип очень важен. Когда Дума отклоняет вопрос, он остается без последствий, иначе дело поступает в Государственный совет, которому также предоставляется принять или не принять проект. Если Государственный совет ее принимает, то дело до Государя Императора не доходит. Такой порядок существует везде на Западе. Между тем мнение князя Оболенского очень важно. Нельзя, действительно, все заимствовать от Запада. Следует помнить, что Государственный совет — учреждение аристократическое, крестьяне в его состав не войдут. Им открыт доступ только в Государственную думу. Они и смотрят на Думу так: найдем через нее доступ к царю, найдем управу. Какая же будет психология крестьян? Скажут, думали, что будет доступ, а между тем чиновники отдалили нас от государя. В. Н. Коковцов. — Нам говорят о крестьянах… Почему, однако, говорить об одних крестьянах? Намечаемый путь уничтожает Государственный совет и сводит к управлению страной одною палатою! В случае принятия предложения графа Сергея Юльевича, — задержки больше не будет. То, что ныне предлагается, уничтожает Государственный совет и знаменует переход к одной палате. Граф С. Ю. Витте. — Я желаю сказать лишь то, что если ввести положение, по которому верхняя палата может отделить народ от монарха, то это есть известный урон. Я вовсе не поддерживаю князя Оболенского, но не желаю, чтобы народ сказал, что он отдален от царя. Напрасно относиться с пренебрежением к психологии общества, а особенно крестьян, где вся психология: „Бог и царь!“ Барон Ю. А. Икскуль. — Граф Витте скова проектирует отдать законодательство в руки толпы. Между тем для этого дела требуется устойчивость, необходимо поставить Государственный совет в качестве учреждения, ограждающего Ваше Императорское Величество. Иначе лучше совсем упразднить Государственный совет. П. Н. Дурново. — Если будем, подобно графу Витте, считаться с отдельными сословиями, мы впадем в ошибку. Граф С. Ю. Витте. — Я предлагаю пополнить проект только тем, чтобы об отклоненных предложениях доводилось до сведения Государя Императора. В. В. Верховский. — Странно писать в законе о том факте, чтобы не делать секрета от Государя Императора. Ваше императорское величество всегда можете потребовать всякие сведения. Но помещать об этом особое постановление было бы странно… П. Н. Дурново. — Постановления о доведении до высочайшего сведения не должны быть вносимы в законодательные акты. Его Императорское Величество. — Оставить, как в проекте. Далее… »
24
Попов пил тяжело, не хмелел, только глаза его начинали высвечиваться изнутри какой-то жалостливой прозрачностью. Серебряные часы Павла Буре лежали на столе с открытой крышкой; было уже девять сорок. В охрану надлежало вернуться через пятьдесят минут — Сушков к этому времени должен все подготовить. Попов с трудом сдерживал себя — хотелось подняться, сунуть Леопольду Ероховскому кредитный билет, насладиться его унижением и, не дав руки, бежать к себе: уж он-то знает своих молодцов, уж он-то знает Павла Робертовича. Объяснять ему, правду про Стефу открыть — нельзя, никому нельзя, самому себе кто петлю накидывает? Грозить можно и намекать, на операцию намекать, а им, костоломам, не до операций, особливо если хлебного примут, здоровы водку жрать, сукины дети. Но и уйти сейчас невозможно, потому что Ероховский расходится трудно, необходимо слушать его умности, жалобы на собратьев, на власть, которая не может обеспечить, на дороговизну (хотя от предложенных за услуги денег отказался: «Искусство нуждается в правопорядке — только поэтому я вам помогаю. Анархии театр не надобен, черни угодны непрофессиональные балаганы на площадях»). Пьет он тоже хорошо, но, видимо, последнее допивает: агентура сообщила, что Ероховский начинает закладывать с утра, поправляется портвейном, страдает, ждет обеда, чтобы со щами пропустить стакашку, тогда только расходится, начинает каламбурить, записывает что-то в блокнотик, потом
— и чем дальше, тем быстрее — скисает, норовит поспать, но спит плохо, тревожно и с вечера пьет чуть не до рассвета — так долго не выдержит, так можно года два продержаться, а он уж полтора разменял.
Попов нетерпеливо присматривался к Ероховскому, но нетерпение он умел скрывать за небрежной заинтересованностью, похохатывал добродушно, когда Ероховский громил имперские порядки, заботливо предупреждал сдерживаться в откровениях с малознакомыми людьми, особенно левых убеждений: «Нам же потом напишут, а мне вас защищай!»
— Вы мне скажете, где теперь Стефа? — спросил Ероховский. — Я бы ее навестил, паспорт мне позавчера выдали… В Кракове актрисуля?
— Рядом с Краковом. В Татрах, — ответил Попов. — В санатории… Вы, наверное, проходились, а, пан Леопольд? Мне говорили, что все актрисы должны непременно отдаться либо режиссеру, либо драматургу, без этого, рассказывают, в вашем мире невозможно…
— Если бы, Игорь Васильевич, если бы…
— Коли б она была вашей, не стали б ее уговаривать за границу бежать?
— Конечно, нет.
— И моей бы просьбе отказали?
— Отказал бы.
— А где же общечеловеческая гуманность? Где подвижничество?
— В охранном отделении, — ответил Ероховский. — Жандармы этими вопросами занимаются и учат общество, как следует понимать истинную гуманность.
— Слушайте, а к вам товарищи не подваливали еще, пан Леопольд? Не просили написать что-нибудь эдакое про Красное воскресенье, про «Потемкина», про ту же Лодзь?
— Соглашаться?
— Непременно. Это было бы восхитительно, мы бы с вами Петербургу нос утерли: у них был вождь рабочих — Гапон, а у нас выразитель рабочих чаяний — Ероховский.
— А потом бы как Татарова — ножом в шею.
— Так ведь Татаров двурушник, он и вашим и нашим. Слушайте, пан Леопольд, я хочу предложить вам эксперимент…
— Повесить кого-нибудь?
Попов заколыхался, забулькал, чокнулся с Ероховским, медленно выцедил, понюхал корочку, закусывать не стал.
— Хотите посмотреть, как вешают? Я устрою.
— Не хочу.
— Отчего?
— Запью.
— Да вы и так пьете втемную.
— Я в открытую пью, Игорь Васильевич, про того, кто пьет втемную, говорят: «Он и капли в рот не берет». Скажите мне правду, полковник, как на духу скажите: спасти империю сможете или все покатилось? Скажите честно: есть надежда, или пора направлять стопы в Париж, пока здесь резать не начали — всех под один гребень?
— С чего это вы?
— Да с того, что я по городу хожу, а не езжу на дутиках, как вы. С того, что ем и пью в открытых местах, где люди говорят, а не на тайных квартирах, где отставной жандарм прислуживает. Оттого, что я в театре за кулисами работаю, а не в ложе бенуара сижу, — все оттого, Игорь Васильевич…
— А я еще к тому же читаю сводки, пан Леопольд, в которых записаны разговоры подстрекателей революции, и я в курсе их планов, знаю, где у них склады оружия и литературы, а ведь ничего — спокоен. Пусть шумят, пусть кулаками машут. Больше машешь — скорей устанешь. Да и зрителям надоест: в театр ходят для того, чтобы дождаться момента, когда ружье выстрелит. А если не пальнет? Да пропади пропадом такой театр, тьфу на него! Недовольны? А дальше что?
— А дальше вся вера вытравится, вот что…
Попов приблизился к Ероховскому и, разозлившись, медленно ответил:
— А плевать на веру! Плевать, пан Леопольд! Важно держать в руках, важно знать, важно, чтобы порядок был, чтобы боялись… Вера… Для этого церкви есть и костелы, чтобы верою заниматься, не наше это дело
— вера… Наше дело — правопорядок…
Он удовлетворился впечатлением, которое произвели его слова, и достал из кармана пачку фотографических портретов, бросил на стол.
— Постарайтесь-ка воспроизвести ваш разговор с пани Стефой об ее зеленоглазом рыцаре…
— Я не умею воспроизводить, Игорь Васильевич… Вы же принесли фотографические картонки, давайте я погляжу. Вы меня об этом хотите просить?
— Именно об этом, пан Леопольд, — ответил Попов и разбросал портреты Ганецкого, Пилсудского, Дзержинского, Варшавского, Уншлихта, Василевского, почти всех, словом, эсдеков и социалистов; анархистов и максималистов в расчет не брал.
Ероховский заинтересованно разглядывал лица, особенно долго изучал глаза.
— Выразительные персоны, — заметил он. — Каждый индивидуален.
Попов сыграл: взяв фотографический портрет Василевского, написал карандашом на обороте: «Этот — искомый». И расписался. Протянул карандаш Ероховскому. Тот карандаш взял, отложил портреты Пилсудского, Ганецкого и Дзержинского, тронул их пальцами, будто спирит какой, впился глазами, замер…
Попов осторожно посмотрел на часы: десять двадцать. Надо ехать. Как можно скорее. Там должно быть все в порядке. Они не посмеют переступить. А если? Он представил себе Стефанию вместе с Павлом Робертовичем, и темное животное желание родилось в нем. Но это было мгновение, потом он вспомнил, какая Стефа была веселая, когда началась их связь, какая она была ласковая и как умны были ее странные, какие-то шальные разговоры за кофе, когда она сидела строгая, причесанная перед тем, как попрощаться и уйти на репетицию.
— Этот, — сказал Ероховский и ткнул пальцем в портрет Дзержинского. — По-моему, она говорила о нем… Мне кажется, он.
— Пишите, — лениво посоветовал Попов. — Я бьюсь об заклад, что не он. Я на другого поставил, сами видели. Дюжина шампанского, идет?
Ероховский, приняв игру, вывел на обороте портрета Дзержинского: «Этот — искомый». Расписался лихо, как человек, который лишен права должностной, ответственной подписи.
«Ах, пташечка, ах, миленький мой, — подумал Попов, — вот ты У меня и в кармашке, главаря опознал, да еще с какой разборчивой росписью — поди отопрись… „Спасете империю? .. “ Покуда я умею с вами эдак-то играть, — конечно, спасем, куда деться? »
Поцеловался с Ероховским трижды, поблагодарил за дружбу, ощутил прикосновение его сухих губ и вдруг неожиданно почувствовал внутри холодный ужас: а ну, коли опоздал к Стефе?! Явственно привиделось белое лицо Павла Робертовича, трепетные его синеватые ноздри и длинные, пушистые ресницы, скрывавшие пронзительно-черное безглазие.
Кучеру Грише хрипло приказал:
— Гони, чтоб искрило!
Запахнул пальто, воротник поднял: начался нервный, быстрый озноб, зубы клацали.
В охрану вошел стремительно, едва сдерживаясь, чтобы не побежать по коридору, не выдать себя своим: нет ничего страшнее, как своим приоткрыться, они живо перепилят.
На втором этаже почувствовал тяжелое сердцебиение: ему показалось, что он услышит крики Стефы сразу же, как только повернет в закуток, ведущий к кабинету, но там была тишина, страшная, чреватая.
«Если дверь заперта — значит, опоганили, скоты, не устояли, — жалобно подумал Попов. — Врать будут все, она тоже — поди проверь».
Он рванул на себя дверь и чуть не упал — дверь заперта не была. В кабинете никого. Попов не сразу заметил разбитое окно, осколки на паркете, темные пятна крови. Поначалу он только диван и увидел, пустой диван, без нагого тела, испытал поэтому облегчение, умильное и слезливое. И лишь после разум его объял все детали, Попов бросился к окну, глянул вниз — он был уверен, что непременно увидит на булыжниках распластанную Стефанию с подвернутой под грудь левой рукою, а правая выброшена вперед. Он помнил такое, арестантка в Орле сиганула, тогда последних по «Черному переделу» подбирали, крикливые были, гордые, на «вы» требовали, а той дал пощечину стражник, она и опротестовала самоубиением.
Попов выбежал из кабинета, прогрохотал по коридору, не скрывая дыхания, сунулся к Павлу Робертовичу — пусто, дверь тоже не заперта, на столе бумаги разложены, на подоконнике — остатки ужина, пустые штофы.
Сбежал вниз, спросил вытянувшегося унтера Кузовлева:
— В какой кабинет прошел доктор?
— Никак нет, не проходил! Только тюремный фельдшер Яковлев!
— Куда пошел?
— К ротмистру Сушкову, ваше благородие!
Попов взбежал на третий этаж, пнул ногой дверь: Стефания лежала на диване, лицо и руки обмотаны бинтами, кровь медленно проступала у висков, нос торчал из повязки заострившийся и до того белый, что казался белее бинта.
— Выбросилась? — спросил Попов и не узнал своего голоса.
— Нет, — ответил Павел Робертович, — только норовила. Изрезалась несколько.
— Все вон! — еще тише сказал Попов. — Вон отсюда, свиньи!
Офицеры и фельдшер Яковлев вышли из кабинета на цыпочках. Попов приблизился к дивану, страшась, заглянул в бинт, увидел глаза женщины
— в них металось что-то быстрое, непонятное.
Попов взял двумя пальцами шинель, которой была укрыта Микульска, приподнял полу и увидел, что женщина совершенно голая, а руки и грудь в ссадинах и тяжелых, бурых синяках.
Он сглотнул ком, мешавший дышать, подкрался к двери, привалился к ней плечом, воровски, мягко повернул ключ, потянул ручку на себя, убедился, что заперто, вернулся к Микульской, достал из кармана фотографический картон Дзержинского, поднес его к глазам женщины и, заметив, как зрачки заметались, выдохнул, прокашлялся, хотел сказать что-то торжествующее, но не смог — комок в горле мешал. Он сбросил со Стефании шинель и начал быстро, лихорадочно раздеваться…
… Он понял, что Микульска мертва, не сразу, он не мог поначалу поверить в это, потом вскинулся, сорвал с лица женщины бинты, увидел ее открытые глаза, порезы, царапины, бездыханную грудь; схватил со стола стекло, лежавшее на сукне, приволок его к дивану, положил на лицо Стефании — стекло не помутнело.
В голове завертелось, затылок стал легким. Попов, ослабев враз, с трудом доволок стекло до стола, положил его на сукно, почувствовал, как тело покрылось цыпками — он не переносил звука, который возникал при соприкосновении сукна и стекла. Потом начал одеваться, по-прежнему чувствуя легкость в затылке.
Застегнув воротничок, позвал тихонько:
— Стефа… Стефочка…
Подошел к двери, отпер замок, вышел в коридор.
В кабинете Сушкова слышались голоса. Распахнул дверь: Павел Робертович заметил его первым, поднялся. Следом за ним, оправляя френчи, поднялись Сушков и поручик Зволяньский.
— Ну, что будете делать, ублюдки? — спросил Попов, чувствуя усталость в веках и верчение в голове. — Она же умерла. Вы же мне покойницу передали…
— Игорь Васильевич, господь с вами, она со… — начал было Сушков.
— Молчите, только молчите, — перешел на фистулу Попов, — молчите только! Отправляйтесь и поглядите! Вы поглядите на ее тело! На грудь! Руки! На лицо! Вы убили ее, ублюдки! Вы ее убили!
Лицо Попова было неживое, мучнистое, глаза шарили по комнате, словно бы следили за играющим котенком: вверх-вниз, направо-налево, вверх-вниз…
— После того, — чувствуя страх, оттого что Попов как-то странно хлопал себя по карманам, быстро сказал Сушков, — когда я отказал ей во встрече с вами, она ведь вас добивалась, ее никто пальцем не трогал…
— Не трогал?! А разделась она сама?!
— Мы выполняли приказ, Игорь Васильевич, мы ее готовили, по вашему указанию готовили. Мы не ждали, что она сунется головой в стекло, — ответил Павел Робертович, — да и не померла она, бабы — игруньи, она нам здесь тоже смерть изображала, сейчас мы ее приведем…
Павел Робертович структурою был попроще — он не понимал, что происходит с Поповым. Однако Сушков в своей давешней догадке утвердился и опасался только первых минут, когда человек в шоке, тогда эмоции могут возобладать; потом, когда разум вступится, не страшно. Надобно немедленно отвлечь его на дело, понял Сушков, иначе он может кордебалет устроить, палить начнет и вправду.
— Игорь Васильевич, если случилось непоправимое, ее надо немедленно отвезти домой и оставить там — Бах все взял на себя, мы ее обернем жертвою революционеров.
Попов непонимающе посмотрел на него, но по карманам себя хлопать перестал, молвил только:
— Все вон отсюда…
Через два часа Сушков вернулся в свой кабинет. Попов допивал бутылку, лицо его стало еще бледнее.
Не дав Сушкову доложить, он убежденно, со странной усмешкою, сказал:
— А стекло вы у ней на квартире забыли разбить, пинкертоны…
— Разбили, — ответил Сушков, — как же без этого, конечно, разбили… Только я до сих пор не могу взять в толк, откуда она узнала ваше подлинное имя?! У меня впечатление сложилось, что она знала вас отменно — как о близком сказала, будто прорвало ее…
— Сушков, я, покуда вы меня замещали, с агентом сидел, с хорошим агентом, нас видали с ним, я от него данные взял, а вы здесь арестантку убили… Я приехал, когда она мертвой была — вон Яковлев, фельдшер, акт написал, читайте, на столе. Я знаю, что вы за моей спиной делаете, Сушков. Не надо. Вы меня любите, Сушков, вы мне будьте как собака, ладно? Вы мне палец в глаз не вводите: «Знала, близкий, открылась, потянулась».
Сушков испугался:
— Я к тому, Игорь Васильевич, что вокруг вас заговор был, вы грозою революции обернулись, Бах через нее норовил вам бомбы в ложу засунуть… Мы это докажем, Игорь Васильевич, только отдохните, на вас лица нет…
— Я отдохну. Обязательно. А вы ответьте мне четко — «готов быть вашей собакою». Ну, отвечайте.
— Готов быть вашей собакою, Игорь Васильевич, — ответил Сушков, подошел к шкафу со стеклянными дверцами и достал оттуда еще одну бутылку водки…
— Это вы для кого? — спросил Попов, не разжимая рта.
— Для вас…
— Почему вы решили, что я намерен пить?
— Я думал, вам надо успокоить нервы.
— Это виновным должно нервы успокаивать. А виновный у нас кто?
Сушков потупился, чтобы скрыть ненависть во взгляде, он знал, что Попов заметит эту ненависть, ее дурак не заметит, а Попов не дурак, он змея, он животное, он чувствует, как баба.
— Виновный-то у нас кто? — не унимался Попов. — Я теперь от вас подписной ответственности буду требовать.
— От меня персонально или…
Сушков сдался. Попов понял это. Он принял условия игры. Что ж, пусть покажет, как он намерен играть.
— От офицеров охраны…
— Мне больно называть виновников, Игорь Васильевич, и тот и другой зарекомендовали себя — до настоящего прискорбного случая — с самой хорошей стороны…
— Объяснения у них отобрали?
— Нет еще.
— Отберите и передайте мне. Копий не оставлять, дела не заводить. Фельдшер Яковлев должен выдать вам справку, что Микульска была освобождена в его присутствии: вызван же он был по причине сердечного приступа, дама не смогла пережить радости. Свяжитесь с околотком, где живет Микульска… Жила… Как только сведения о ее смерти придут в участок, отправьте туда Павла Робертовича, пусть он поможет начальнику сыскной Ковалику в расследовании обстоятельств ее умерщвления неизвестными преступниками, скорее всего связанными с эсдеками, которые решили, что несчастная во всем призналась нам во время допроса…
Когда Сушков вышел, Попов сразу же открыл бутылку, налил в стакан, выпил до дна и тут же налил еще.
Рано утром вызвал Турчанинова, — Сушкову фамилию Дзержинского нельзя было отдать, мог выйти по этой цепочке на правду, на то, как выкрали Казимежа Грушевского, как его, Попова, взяли в ложе кабаре на документах, — и сказал кратко:
— Андрей Егорович, вы против Дзержинского работали, побег ему делали, если не ошибаюсь, накануне высочайшего манифеста? Так вот озаботьтесь тем, чтобы он был немедленно заарестован — любыми средствами. Перекройте границу так, чтобы мышь не проскочила, он не должен попасть на съезд русских.
— Почему вы решили выделить одного Дзержинского из всей партии?
— Потому что он и есть партия — во всяком случае, организационное ее начало… И вот еще что… Попробуйте через агентуру подбросить им идею, что граница перекрыта, что его ищут…
— Что это даст?
— Нам это даст то, что он пойдет через контрабандистов. Вопросы есть?
Турчанинов склонил голову, спросил взглядом разрешения выйти, удалился неслышно.
Потом Попов вызвал поручика Ерохина:
— Возьмите из регистрационного отдела фотографические снимки Дзержинского, размножьте, передайте всем своим людям, работающим по контрабанде. Дзержинский пойдет в ближайшие дни через границу. Он будет вооружен. Не надо ждать, покуда начнет отстреливаться. Военное положение у нас: сейчас тот случай, когда Дзержинский мне нужен не живым, но мертвым.
… Только после этого поехал домой, на заботливый вопрос жены, как себя чувствует, не ответил, прошел в кабинет, лег на тахту не раздеваясь, отвернулся к стене, закрыл глаза и сразу же увидел Стефанию. Поднялся, задернул шторы, снял башмаки и галстук, снова тяжело упал на тахту, глаза закрыл не сразу, а опасливо, постепенно, но, как только веки смежились, Стефания пошла к нему, искристо, белозубо улыбаясь. Попов потянулся к ней руками, ему было приятно смотреть на нее, он хотел позвать женщину, пальцы его коснулись платья. Он страшно закричал и открыл глаза: перед ним стояла жена.
— Что ты, родной?! Я хотела ботинки взять, чтоб Машка почистила. Ну что ты? Совсем замучился на службе! Спи, Игоречек, отдыхай…
— Дура! — чужим, бабьим голосом крикнул Попов. — Пошла вон отсюда!
Но Стефании он больше не видел. Дышалось тяжело, и в груди что-то ворочалось, подкатываясь к горлу…
25
Турчанинов пришел на конспиративную квартиру вечером, протянул Дзержинскому свежий оттиск газеты:
— Читали?
— Нет еще. Что-нибудь интересное?
— Микульску убили.
Дзержинский, взявший было газету, опустил ее на колени, лицо сделалось морщинистым, желтым.
— Ее нашли мертвой дома, — скрипуче продолжал Турчанинов. — Обратите внимание на две последние строчки: «Предполагают, что убийство совершено одной из революционных групп из мести актрисе, которая всегда отличалась лояльностью по отношению к властям». Судя по тому, что вас предписано арестовать незамедлительно и разосланы шифрограммы на границы, Попов хочет связать все в один узел с вами. Я думаю, обвинят в этой смерти социал-демократов…
— Да при чем тут все это… Какой хороший человек ушел, какой несчастный, талантливый, беззащитный человек, — глухо откликнулся Дзержинский. — У вас папиросы есть?
Турчанинов протянул пачку «Лаферма», дождался, пока Дзержинский неумело раскрошил табак, зажег спичку, дал прикурить.
— Кто ведет дело? Попов? — спросил Дзержинский, глубоко затягиваясь.
— Не считайте врагов дурнями. Дело ведет сыскная полиция.
— Кто именно?
— Имеете подходы? — спросил Турчанинов.
Дзержинский — лицо по-прежнему желтое, в морщинах, не отошел от новости — повторил вопрос раздраженно:
— Кто именно, Андрей Егорович?
— Ковалик, начальник сыскной.
— Что за человек?
— Знающий человек. Когда едет на фурмане по Воле, жулики издали шапки ломают, кланяются в пояс.
— С охранкою связан?
— А кто с нею не связан? — усмехнулся Турчанинов. — Впрочем, Ковалик, как и все сыскные, изнанку знает не по донесениям «подметок», а, что называется, лицом к лицу. Посему, можно предположить, охрану он не жалует.
— Возраст, связи, увлечения, пороки, достоинства, привязанности, происхождение? — устало перечислил Дзержинский. — Что о нем известно?
— Вам бы контршпионажем заниматься, Феликс Эдмундович… Странно — литератор, на юридическом лекции не посещали, откуда в вас это?
— Обстоятельства гибели Стефании неизвестны?
— Только то, что написано в газете. В охране об этом говорят глухо, но…
— Что?
— Не знаю… Когда слишком глухо говорят, значит, есть к тому основания… А что касается Ковалика — право, я не готов к ответу. Но я пришел по иному поводу: не вздумайте ехать на съезд через западные границы: вас схватят. Не вздумайте просить о помощи контрабандистов: у охраны там полно агентуры, вас отдадут.
— Я никуда не поеду до тех пор, пока не рассчитаюсь с Поповым! Мы не простим Попову убийства Микульской. Он за это ответит.
— При чем здесь Попов? Не поддавайтесь чувствованиям, Феликс Эдмундович.
Дзержинский покачал головой:
— Это не чувствование. Это убежденность.
— Какой смысл Попову убивать Микульску, господь с вами?!
— Не будем спорить. — Дзержинский поднялся с кресла резко.
Турчанинов подумал: «Хочет собраться, сейчас лицо закаменеет». Он помнил такие метаморфозы во время первого допроса, когда впервые увидел Дзержинского в арестантском халате, с руками, затекшими от кандалов. Лицо его тогда отражало все, что происходило в душе. Турчанинов подумал, что с такого-то рода свойством трудно жить в подполье. А подумав, сказал арестанту об этом. Дзержинский рассмеялся: «Неужели вы думаете, что мы намерены всю жизнь провести в подполье?! Вопрос свержения вашего режима — вопрос лет, а не столетий. Вы уже кончились, вас только инерция держит. Я ж для них, для товарищей, живу, не Для вас».
Турчанинов был прав: Дзержинский отошел к окну, постоял минуту, потом — так же резко, как вставал, — обернулся: лицо было другим уже, рубленым, несмотря на врожденную мягкость черт.
— Кто выезжает вместе с Коваликом на место преступления?
— Не понимаю…
— Ковалик приезжает на происшествие не один?
— Конечно, не один. После того как в сыск поступает тревога от околоточного, отправляется старший сыщик, врач, делопроизводитель. Когда преступление относится к числу кошмарных, вызывают прокурора и мастера по фотографическому портрету.
— Вы можете узнать фамилии всех людей, которые были вызваны на квартиру Микульской? Зто не поставит вас в затруднительное положение?
— Поскольку никто из наших к этому делу интереса не проявлял, видимо, вашу просьбу я смогу выполнить.
(Поскольку на самом-то деле охрана проявляла особое внимание к делу Микульской, но Турчанинов об этом не знал, его интерес был зафиксирован, доложен Попову — ротмистр Сушков подсуетился, ибо введение любого нового фигуранта в гибель актрисы было на руку ему, — и по указанию начальника охранки ротмистр Турчанинов был взят под контрольное филерское наблюдение. Случилось это уже после того, как Турчанинов позвонил по известному ему телефону и назвал фамилии прокурора Усова, фотографа Уланского, врача Лапова, принимавших участие в осмотре трупа Микульской и описании места происшествия.)
… О том, что сапожник Бах пропал, Уншлихт узнал через два дня после того, как тот отправился к Микульской. Сообщил об исчезновении Баха кройщик кожевенного производства пана Шераньского, которого звали Фра Дьяволо из-за того, что он был слеп на левый глаз и носил постоянно черную повязку.
— Ты его проводил до Маршалковской? — спросил Уншлихт. — Ты видел, как он встретился с женщиной?
— Видел. Своими глазами видел.
Уншлихт хмуро поправил:
— Глазом.
— Мой один двух ваших стоит, вон пенснёй-то зыркаете, а прочитать без стекла не можете, — беззлобно ответил Фра Дьяволо, привыкший к тому, что над ним подшучивали товарищи.
— А что дальше?
— Ничего. Она кабриолет остановила, пригласила Яна, они сели да и уехали.
— Тебя же просили сопроводить их до ее квартиры…
— Кто ж знал, что она кабриолет возьмет? Откуда у меня на фурмана деньги? Полтинник дерут, а я в день всего сорок три копейки выколачиваю.
— Она, женщина эта, нормально выглядела? Не запыхалась? Не бежала?
— Так она ж барского вида, чего ей пыхать? Шла как шла, в кринолинах, и туфельки на ней из шевро, фасона «лорю»… Бах у нас парень видный, грамотный, по-иностранному умеет, — может, заперлись и ни на какой вокзал не поехали.
— Ту барыню в кринолинах убили.
— Что?! Такую красавицу!!
— Возвращайся в Мокотов, смотри зорко — нет ли филеров. Найди Збышка, передай, что я буду ждать его в кондитерской «Лион» к девяти часам. Если он увидит у меня в правой руке журнал, пусть не подходит. Пусть тогда найдет возможность встретиться с Мечиславом или Якубом — надо передать Юзефу, что по всем линиям объявлена тревога.
— Якуб — это Ганецкий?
— Хорош конспиратор! Нет у нас фамилий, имена есть! Только имена, понятно?!
— Понятно. Прости.
— Мама простит, охранка — нет. Теперь так… Если поймешь, что с Мечиславом и Якубом нельзя увидеться из-за филеров, тогда отправляйся в газету «Дневник». Возьми объявление, спрашивай в редакции, где можно решить дело с рекламою, понятно? И после того, как пообвыкнешь — там много народа толчется, — зайди в комнату номер пять, спроси господина Варшавского и передай ему все, что я тебе говорил.
(Адольф Варшавский-Барский теперь жил по надежным документам, открыто выступал в левых газетах со статьями, разъяснявшими позицию социал-демократии, Дзержинский настаивал на том, чтобы Варшавский по возможности избегал контактов с подпольем: надо иметь надежную точку легальной опоры в городе, набитом после введения военного положения казаками, черносотенцами, филерами. Дзержинский как-то сказал: «Революция, которая не умеет защищаться, обречена на гибель». Именно он создал особую группу народной милиции, которая занималась наблюдением за охранкой, выявляла провокаторов, кучеров, развозивших по домам жандармов, филеров. В маленьких городах выявление провокаторов было несравнимо более легким делом. Листовки оповещали рабочих о том, кто связан с охранкой, предупреждали от контактов. В крупных центрах такого рода работа была значительно труднее, но тем не менее велась постоянно.
Именно члены этой группы, проинформированные по каналам Мечислава Лежинского и Якуба Ганецкого, установили, что дом сапожника Баха находится под постоянным филерским наблюдением, что оттуда никого уже третий день не выпускают: ни старика отца, ни сестру Баха, ни племянника. Ясное дело — засада.)
Мечислав Лежинский пришел к доктору Лапову на квартиру, представился, как и предложил Варшавский, репортером «Дневника», подарил «пани докторке» букетик мимоз и спросил позволения «пана доктора» задать ряд вопросов по поводу кошмарного преступления на улице Вспульной.
— Волка ноги кормят, — чарующе улыбнулся Лежинский, — если не обскачу коллег — меня обскачут. Дело столь ужасно, что завтра, убежден, все газеты сообщат о нем. Но никто, по моему разумению, не решился потревожить вас, все сидят верхом на пане Ковалике и ясновельможном прокуроре Усове.
Когда Дзержинский задумывал операцию, он рассчитывал на то, что Лапов молод и первый выезд на такое преступление не мог на него не повлиять, такого рода выезд считается у медиков престижным, — следовательно, доктор находится под сильным впечатлением от увиденного, а поделиться ему не с кем — в Варшаву перебрался совсем недавно. Судя по тем крохам информации, которые собрал Уншлихт, доктор Лапов родился в семье заводского мастера, с трудом выбился в люди. Уншлихт полагал, что это — главное звено, за которое должен ухватиться Мечислав Лежинский. Ганецкий и Варшавский считали, что основной упор надо сделать на сенсационность, надо сыграть такой интерес, который зажжет и самого Лапова. Дзержинский, однако, не согласился ни с Уншлихтом, ни с Варшавским. «Механическое проецирование социального происхождения на мораль, — возражал он, — неправильно, порочно. Если следовать логике Уншлихта, тогда я не заслуживаю доверия — дворянин. Якуб Ганецкий тоже — из торговцев. В то же время провокатор „Яма“ в Домброве самый что ни на есть пролетарий, сын рабочего. Механика не сопрягается с личностью, Юзеф, это опасный путь — полагать, что происхождение определяет честность или бесчестие. Я не согласен и с Адольфом оттого, что он и Якуб делают ставку на сенсационность. А что, коли доктор Лапов скептик? Это у медиков распространено, они в нас поначалу потроха видят, потом уж все остальное. Я бы предложил обратиться к его профессионализму, к тому, какую роль нынешнее судопроизводство уделяет медицинской науке, а мы-то знаем, какую роль оно уделяет науке и что это за „наука“ — кулак околоточного, пытки в камере, провокация. Думаю, если Мечислав сможет заинтересовать доктора умением слушать, если Мечислав предварительно повстречается с Николаем (он ведь посещает лекции на медицинском факультете), повертит с ним вопросы, тогда, быть может, Лапов начнет говорить».
— Я надеюсь, что пан доктор, — продолжал Мечислав, — согласится рассказать мне, что с точки зрения науки выделяется во всем этом кровавом деле, что поразило пана доктора более всего…
— Право, я не знаю, возможно ли мне беседовать с репортером прессы, я ведь раньше никогда не приглашался полицией в качестве эксперта…
— Я готов ничего не печатать до того, покуда это не будет признано целесообразным.
— Но вы покажете мне то, что напишете?
— Конечно. Хотите процензурировать? — усмехнулся Лежинский.
— Хочу, — согласился Лапов. — Приучен.
— Между прочим, в Англии цензура запрещена с 1695 года, и нас на триста лет обскакали.
— И в медицине лет на сто, — поддержал Лапов. — А что касается дела, то оно странно в высшей мере… Простите, не имею чести знать ваше имя…
— Сигизмунд Лосский, «Дневник», судебная хроника.
— Так вот, господин Лосский, странное это дело… Жертву обнаружили на земле, и поэтому сначала господин Ковалик предположил самоубийство. Я был вызван лишь после того, как тот же господин Ковалик увидел порезы на лице погибшей.
— Если женщина выбросилась из окна, порезы возможны…
— В том-то и дело, что оконное стекло было, видимо, разбито уже после того, как женщина оказалась на земле.
— Почему так?
— Видите ли, часть осколков, причем большая часть, осталась в комнате… А это странно, не правда ли? Ни на тех осколках, которые были на земле рядом с жертвой, ни на тех, что остались в комнате, не было следов крови. А порезы на жертве глубокие, весьма глубокие…
— А может, шел дождь?
Лапов усмехнулся:
— Дома? И потом, не было дождя, господин Ковалик запросил управу сразу же, как только я сказал ему об этом… Но это не все, пан…
— Лосский, — подсказал Мечислав. (Документ на имя Сигизмунда Лосского вполне крепок; репортер уехал в Швейцарию, к родным, там передал свой паспорт Юзефу — познакомился с Дзержинским в Берлине еще, влюбился, хотя от социал-демократии далек.)
— Так вот, пан Лосский, это еще не все… Жилец дома, где снимала квартиру госпожа Микульска, слышал, как отворялась ее дверь. И было это около двух часов ночи. Значит, она погибла в это время, так? Но царапины, обнаруженные на теле, были уже запекшимися, то есть не ночными, а вечерними.
— Неужели и такие мелочи заносятся в ваш протокол?
— Мелочи?! Помилуйте, пан…
— Лосский.
— Да, да, простите… Я недавно практикую здесь, поэтому испытываю трудности с польскими фамилиями, много шипящих, непривычно нам…
— Понятно, понятно…
— Так вот, это отнюдь не мелочь! Господин Ковалик сказал, что мое заключение, зафиксированное, понятное дело, в экспертизе, дает совершенно иное направление делу. Но и это не все. Я обнаружил следы насилия. Господин Ковалик спросил жильцов, но никто не слыхал криков. А по синякам на теле женщины, которые Ужасающи, нужно полагать, что она кричала, звала на помощь.
— Ей могли завязать рот…
— Господин Ковалик не обнаружил тряпки, шарфа, полотенца. Он перерыл весь дом, понимаете? А я не обнаружил ни одного следа от текстиля во рту несчастной.
Лежинский подался вперед — быстрая догадка родилась в нем:
— Доктор, а вы делали вскрытие?
— Пулевых или ножевых ранений не было, пан…
— Лосский, Лосский…
— Не было пулевых ранений, пан Лосский, нет смысла делать вскрытие.
— Наука позволяет вам установить, например, разрыв сердца?
— Конечно… А почему вы…
— Почему спросил? Допустите, что несчастная умерла от разрыва сердца, не выдержав мучений — не столько физических, сколько моральных… Я иду в размышлении от того, что вы мне рассказали… Разрыв сердца…
— С последующей имитацией убийства?
— Я не совсем понимаю, отчего все говорят про убийство? Ведь она выбросилась из окна. Значит, было самоубийство?
— Нет. Господин Ковалик полагает, что покойная, спасаясь от кого-то, выбросилась в окно, а это не самоубийство, это доведение до самоубийства, что рассматривается, по нашему своду законов, как убийство.
— От кого должна была скрываться Микульска?
— Господин Ковалик полагает, что это акт мести.
— С чьей стороны?
— Вы же читали газету… Я не слишком разоткровенничался с вами, пан…
— Лосский.
— Да, да, простите, пан Лосский… Я не слишком откровенен? Я могу полагаться на вашу корректность?
— Конечно. Я же дал слово чести, пан Лапов… Много противоречий, не находите? Следы насилия — и акт мести со стороны революционеров. Разве это похоже? Если анархисты убили ее вне дома, так зачем было тащить тело на квартиру, рискуя попасть в руки полиции?
— Вы выдвинули интересную версию по поводу разрыва сердца… Похороны состоятся завтра: друзья пани Микульской ждут ее отца, он сражен горем и не может подняться с кровати, сердечные колики. Я предложу господину Ковалику сделать вскрытие…
— Он будет против, — убежденно ответил Лежинский.
— Отчего?
— Если вы обнаружите, что женщина скончалась от разрыва сердца, дело усложнится до крайности. Тогда выяснится, что мститель хорошо знал криминалистику, слишком хорошо знал… Вы, впрочем, станете самым известным судебно-медицинским экспертом, коли сможете выяснить все досконально, но вы тогда заберете лавры пана Ковалика. Не страшно ссориться с сыскной полицией?
Лапов ответил, думая о чем-то своем:
— Когда у человека хорошая практика — не страшно.
(Лежинский рассчитал верно: в газетах сейчас стали появляться статьи адвокатов и судебно-медицинских экспертов, эти материалы рвали из рук, раньше такого не печатали. Авторы попадали в фокус общественного интереса, практика их соответственно возрастала. Манера Лапова говорить, его осторожность, но в то же время твердая заинтересованность в деле, обстановка квартиры, где все дышало желанием обрести надежность, поведение доктора с человеком из газеты — все это подсказало Лежинскому верный путь, он чувствовал это по тому, как строился разговор, как проявлял себя в нем собеседник.)
— А если наше предположение о разрыве сердца окажется неверным? — спросил Лежинский и сразу же подстраховался: — Впрочем, вы лишь до конца выполните свой долг. Как у нас, газетчиков, так и у вас, медиков, тщательность проверки — вопрос престижа. Вы имеете право сделать вскрытие без предписания полиции?
— Полиция безграмотна, — поморщился Лапов, продолжая между тем размышлять о чем-то своем. — Разве ловкость может заменить знание? Разве возможно исправлять закон без знания? Хотя разве у нас есть закон? Так, комментарии. Лидочка! — крикнул он жене, и Лежинский вздрогнул — так неожидан был переход. — Лидуня!
Пани докторка вплыла в комнату:
— Ты звал меня?
— Я тебе кричал, — ответил Лапов. — Дай-ка мне совет, дорогая…
— Будто ты слушаешься моих советов…
— Я именно для того и спрашиваю, чтобы наоборот поступить. Как думаешь, маленький скандальчик, коли он, впрочем, состоится, будет полезен расширению нашей практики? Ежели пан…
— Лосский.
— Спасибо… Коли пан Лосский распишет твоего благоверного в своей газете?
— Газета доктору подмога, — пропела дебелая пани.
Лапов обернулся к Мечиславу:
— Первый раз соглашаюсь с женою! Лидуня, скажи Марье, пусть накроет стол, мы сейчас уедем с паном Лобским…
— Лосским, — поправила его жена, — я и то запомнила. Когда поднялись, доктор спросил:
— А почему вы отдали мне свою идею? Сейчас в газетах черт те что печатают — вот вам бы и блеснуть догадкою в криминалистике, а?
— Мне станут улюлюкать, коллеги обсмеют, коли ошибусь. А если вы подтвердите мою догадку, если у несчастной действительно разорвалось сердце до того, как ее принесли ночью домой, я напишу о вашем поиске первым, и ваша сенсация станет нашей общей.
Через час Лапов вышел из морга, рассмеялся зычно и сказал:
— Пишите! Я теперь убежден, что сердце у Микульской разорвалось сначала, а уж выбросили ее из окна потом. И сердце у нее разорвалось задолго до того, как она оказалась на земле.
Лежинский хотел продолжить: «Значит, она не могла открыть дверь своей квартиры? » Но говорить он этого не стал, побоялся напугать доктора своим знанием: через грузчиков, работавших на вокзале, подполью уже было известно, что двух людей, мужчину и женщину, по описанию — Микульску и Баха, полиция забрала на перроне, при посадке в вагон поезда, следовавшего в Австро-Венгрию, за сутки перед тем, как доктор Лапов приехал на происшествие.
«За время наблюдения, поставленного за ротмистром Турчаниновым, дабы оберечь упомянутого работника охраны от возможного покушения злоумышленников, слежки революционных активистов обнаружено не было. Турчанинов два раза посетил книжный магазин „бр. Гебитнеров и Вульф“ на Маршалковской, ни с кем, кроме хозяина, в соприкосновение не входил. Два раза пил кофий в ресторации отеля „Европейская“. Один раз посетил редакцию газеты „Дневник“, где разговаривал с заместителем главного редактора Нифонтовым, публицистом А. Варшавским и репортером Консовским. Наблюдение продолжается».
Попов против фамилии «Варшавский» поставил точку и надолго задумался. Лицо его было оплывшим, тяжелым и безразличным — маска, да и только.
Обнаружив за собою слежку, Турчанинов испытал ужас.
Он обнаружил слежку на улице: рассматривал в витрине весенний торт, залюбовался игрою кондитера, обилием разноцветных кремов, поразительною архитектурой этого обжорного чуда; рассматривал отдыхающе, расслабленно, поэтому-то и заметил две физиономии в стекле. По тому, как механически отвернулись, когда он сделал обманное движение — «сейчас, мол, пойду», — понял: филеры. Потом фыркнул даже: «За мною?!» Но сразу же вспомнил лицо Дзержинского, главного врага охраны здесь, в Польше, а его, Турчанинова, вот уже шесть месяцев — доброго знакомого.
Турчанинов попробовал оторваться от слежки, но филеры топали за ним надежно, цепко. Вот тогда-то он и почувствовал ужас, сел на скамейку, расстегнул воротничок френча, оцарапал шею крючками, подумал о виселице и решил немедленно идти в охрану, в кабинет Попова, назвать ему ту явку, где постоянно происходили встречи с Дзержинским, а также время, когда в редакции обозначены встречи с Адольфом Варшавским. «Да, встречался, да, никого не ставил в известность, да, хотел сам, но победителя не судят — завтра можно брать все руководство польской социал-демократии».
Он дождался, пока сердце чуть успокоилось, поднялся и краем глаза увидел лица филеров, и на безглазых этих лицах заметил тупые и, как показалось, сладострастные ухмылки.
26
Комбинации, затевавшиеся в тиши министерских кабинетов, выглядели трагикомическим фарсом на фоне тех глубинных социальных процессов, которые сотрясали Россию весной 1906 года.
Впервые — хоть и ненадолго — газеты получили возможность открыто писать о невероятном, воистину жутком положении народа, о нищете, бесправии, о полном отсутствии каких-либо гарантий, о том, наконец, что царствовавший порядок есть дремучее средневековье.
Впервые русский народ узнавал правду про тех, кто правил им, не от подвижников революции, пропагандистов, которых гноили за слова их правды на каторге, а со страниц газет, распространявшихся хоть и с трудом, хоть из-под полы, под угрозой реквизиции и ареста, но распространявшихся же!
Впервые русский народ мог сравнивать политические тенденции: программы социал-демократов, кадетов, октябристов напечатаны были открыто, эсеры завезли свою из-за границы, ибо отвергали легальность, типографий своих в России не ставили, они за террор и конспирацию, они слову не верят, только безмолвию динамита они верят, только Его Величеству Заговору.
Именно эту особость социалистов-революционеров, для революции сугубо вредную, против которой Ленин выступал несколько лет уже, предостерегая товарищей эсеров от ошибочности и порочности занятой ими позиции, исследовал Иван Мануйлов-Манусевич, а исследовав досконально, обратил на пользу властей предержащих.
План его, высказанный Дурново, развивался успешно.
Гапоном, словно оглоблей, валили Тимирязева, но с такою же силою им ударяли и по всем левым партиям, ибо связывали попа с теми, кто называл себя не как-нибудь, а «революционером» и «социалистом».
Отчет эсера-боевика Рутенберга своему ЦК о работе с Гапоном, которым после Кровавого воскресенья занимались именно социалисты-революционеры, был охранке известен, Мануйлов его в руках держал и выписки делал — Азефу деньги платили не зря…
«Оказавшись первой фигурой русской революции, Гапон в то же время не разбирался в смысле и значении партий, с которыми ему пришлось иметь дело, в их программах и спорах, — утверждал Гутенберг. — Первые две-три недели ему приходилось выслушивать и читать о себе самые фантастические истории. Но „угорать“ от них некогда было: кровавый ужас 9-го января слишком свеж был в памяти. Динамит и оружие, террор и вооруженное восстание, о которых судили и говорили на „свиданиях“ и „совещаниях“, слишком захватывали.
Встречавшиеся представители разных партий подходили к нему, как к революционному вождю, так с ним разговаривали, такие к нему требования, конечно, предъявляли. А он в ответ мог связно и с одушевлением рассказать лишь о 9-м января. Когда ставились непредвиденные вопросы, он «соглашался» со мной, а когда меня не было, «соглашался» и с другими, часто с мнениями диаметрально противоположными, И из одного неловкого положения попадал в другое, из которых мне же приходилось его выпутывать.
Потом мы переехали в Париж. Одному из товарищей пришла мысль пойти с Гапоном к Жоресу, Вальяну, Клемансо. Гапон охотно согласился. Я был против этого. Знал уж его и опасался, что хождение по знаменитостям скверно на него повлияет, во всяком случае, отвлечет от дела. Но скоро я должен был уехать из Парижа на несколько дней.
За время моего отсутствия он успел побывать у Жореса и Вальяна и условиться о свидании с Клемансо.
— Знаешь, кто такой Вальян? — спросил Гапон, рассказывая мне об этих свиданиях.
— Конечно, знаю.
— «У вас большой ум и великое сердце… » — сказал он мне на прощание. Так и сказал: «большой ум и великое сердце». И трясет руку. Оба, и Жорес и Вальян, были страшно рады повидаться и поговорить со мной. Они сказали, что это для них большая честь.
Гапон засмеялся мелким, нервным смехом.
— Я спросил Жореса, могут ли меня арестовать в Париже. Он поднял кулаки, раскричался. Сказал, что все разобьет, если меня арестуют.
А утром, в день свидания с Клемансо, Гапон пережил сам и устроил другим непристойную драму: ему, видите ли, купили рубашку с гладкой, а не с гофрированной грудью. У него к этому времени вкус к одежде стал уже утонченным…
… Мне надо было вернуться в Женеву. Гапон отправился вместе со мной.
Мы приехали с ранним утренним поездом, молча шли по пустым еще улицам. На рю Каретер Гапон отстал от меня. Я обернулся. Он стоял, застыв у витрины писчебумажного магазина, очарованный, не в состоянии оторваться от своего портрета на почтовой открытке. Я не мешал ему. Не мог мешать, — так поразил меня его вид: он впервые наткнулся на конкретное доказательство своей популярности, «даже за границей». Несколько минут мы простояли так: он — глядя на свой портрет, я — на него.
Неслыханные, совершенно неперевариваемые для него гонорары за его рукописи, фантастические сказки о нем печати, разные иностранные «знаменитости» (вплоть до английской принцессы), добивавшиеся посмотреть на него, проинтервьюировать его, поклонение в «колониях»; даже расклеенные на улицах плакаты о театральных и балаганных представлениях с громадными надписями «Гапон»; сами эти представления, на которых он присутствовал, — все кружило ему голову, все говорило ему, что он может быть только «вождем» революции и ни в каком случае — простым членом революционной партии.
Большое влияние на него оказало еще следующее обстоятельство. Посланная в Петербург по личному его делу госпожа X. вернулась и сообщила ему, что встретила пасху в обществе «его» рабочих гапоновцев, что рабочие его помнят, никогда не забудут и хотят устроить подписку, чтоб поставить ему памятник.
— При жизни, — добавил Гапон, рассказывая мне позже в Лондоне про это. — Как никому!
Узнав об этом, он немедленно отправил в Петербург к рабочим «комиссара» с требованием прислать ему формальные полномочия быть их представителем и устраивать все их дела. Выписал себе за границу рабочего Петрова, на которого мог, как рассчитывал, во всем положиться.
… Около 20 мая 1905 года я вернулся из России в Париж. Мне поручили поехать в Лондон. Там я встретился с Гапоном.
Он обрадовался моему приезду: радовался тому, что я ускользнул от ареста на границе. Рассказывал о планах, сводившихся к восклицанию: «Ты увидишь, что я сделаю!» Но дольше и подробнее всего рассказывал о памятнике, который рабочие собираются поставить ему «при жизни — как никому»; о его бюсте, «поставленном в здешнем лондонском музее» и «в Париже тоже». (Это над ним подшутил, должно быть, кто-то.) Рассказывал о том, что за каждое написанное им «слово», по его «расчету», выходит «по двадцати копеек». Рассказывал о деньгах и оружии, которые у него имеются. Приглашал меня «оставить эсеров» и работать вместе с ним.
Потом я снова уехал в Россию. До меня дошли слухи, что Гапон перебрался в Финляндию.
— Был у вас в России Гапон, теперь вам нужен Наполеон! — сказал однажды Гапону наивный, восторженный Кок (известный капитан финляндской Красной гвардии).
— А почем вы знаете, может, я буду и Наполеоном! — срезал его совершенно серьезно Гапон.
Финны прятали Гапона, ухаживали за ним. Но, по их словам, он в это время совсем не походил на Наполеона. Он очень волновался, боялся быть арестованным, а главное — «повешенным».
Я встретился с ним снова в ноябре 1905 года, уже после октябрьского манифеста и амнистии.
Первый раз мы увиделись в Вольно-экономическом обществе, во время заседания Совета рабочих депутатов. В боковой, примыкавшей к общему залу комнате, в темноте, умостившись на книжных тюках, мы вспоминали Кровавое воскресенье и все прошедшее после него, говорили о текущем движении и руководителях его, говорили о личных наших делах.
К моему удивлению, Гапон попросил использовать мои связи, чтобы исхлопотать ему амнистию.
Я возражал, что ему, с его прошлым, неприлично ходатайствовать перед правительством о своей амнистии. Я предлагал ему стать, как революционеру, под защиту революции, бывшей в то время еще победительницей, а не побежденной.
— Пойди попроси сейчас же у председателя слова, скажи собранию: «Я Георгий Гапон и становлюсь, товарищи, под вашу защиту». И никто тебя не посмеет тронуть.
Он не соглашался. Вялый, задумавшийся, не договаривающий чего-то, он отвечал мне:
— Ты ничего не понимаешь!
Второй и третий раз Гапон приезжал ко мне на квартиру.
Сначала несколько подробностей.
1) В первый из этих приездов он просил дать ему денег, так как нуждается. Я мог предложить ему только 25 рублей. Он их взял. И позже, в январе 1906 года, возвратил их моей жене.
2) В то время по улицам Петербурга небезопасно было ходить даже среди бела дня. «Развлекалась» только что народившаяся сотрудница правительства — черная сотня. Гапон просил дать ему два браунинга.
Мы много говорили об его «рабочих отделах». Он спрашивал совета, что и как ему следует делать.
Я отвечал: если он имеет в виду свои личные интересы, то использует интерес и доверие рабочей массы к его имени как демагог. Но цели, наверное, не достигнет, так как социалистические партии достаточно сильные и организационно и идейно, чтобы уничтожить его при первой же подобной попытке. Если же для него важны интересы рабочих, а не свои собственные, — а интересы рабочих он обязан защищать раньше всего, — то он должен восстановить свои «отделы» как внепартийные рабочие организации. Своим влиянием на серую массу рабочих, уходящую к черной сотне, он должен собрать и сорганизовать ее в своих «отделах». Верхи рабочих, сорганизованные в социалистических партиях, по-моему, тоже примут в них участие. При каждом из «отделов» каждая из партий должна иметь свое бюро со своим книжным складом и читальней.
Гапон соглашался со мною. И для успеха дела просил написать в «Сыне Отечества» статью, призывающую рабочих относиться с доверием к нему и его «отделам». Я обещал, если товарищи согласятся со мной.
Отдельные слова, выражения Гапона, тон, которым он говорил, оставили у меня отвратительный осадок на душе.
6 февраля 1906 года в Москве, где я жил нелегально, ко мне снова явился Гапон. Он сказал, что приехал специально повидаться со мной и сообщить нечто очень важное.
— Дело, большое дело. Не надо только смотреть узко на вещи. Ты даже догадаться не можешь, с чем я приехал. Вечером поедем в «Яр», там поговорим.
Я сказал, что в «Яр» ехать неудобно в полицейском отношении. Да и не к чему. Можно тут сейчас поговорить.
— Ты не бойся. Ты мне, главное, верь. Поедем. Говорю тебе, не арестуют. Потом, я пригласил старого ученика моего по семинарии с женой. Он хороший человек. Поедем. Проведем вечер.
Вид и настроение Гапона, которого я не встречал с ноября, меня поразили.
Во-первых, он слишком хорошо был одет. Для Гапона, бывавшего ежедневно в голодных рабочих кварталах, это было некстати, резало глаз. Во-вторых, он весь как-то облинял, Был пришибленный, беспокойный. Взгляда моего не выдерживал. Щупал меня глазами, но со стороны, так, чтобы я не заметил.
После длинного предисловия об узости взглядов некоторых революционеров, о том, что надо делать, что из всех товарищей он ценит только меня одного, что когда лес рубят — щепки летят, он взял с меня слово, что все, что сообщит мне, останется между нами, так как это большая тайна.
Не подозревая ничего особенного, я обещал.
Рассказал Гапон следующее.
Он приезжал в Россию три раза. Во второй его приезд, после 17 октября, некоторые либералы (Струве, Матюшинский и другие) стали хлопотать у Витте о легализации Гапона и об открытии его «отделов». Особенно хлопотал о нем Матюшинский, имевший большие связи. Витте не соглашался.
Раз Матюшинский познакомил его с чиновником особых поручений при Витте, Мануйловым, который сообщил, что Витте очень беспокоился о судьбе Гапона. Он ценит гениальные способности Гапона, и ему будет крайне тяжело, если Гапона арестуют. Дурново настаивает на его аресте…
После долгих переговоров с Мануйловым пришли к следующему соглашению: правительство через Мануйлова выдаст ему паспорт. За это Витте обещает открыть «отделы», возместить причиненные в январе «отделам» убытки в сумме 30000 рублей и недель через шесть легализовать Гапона.
Гапон уехал за границу. Уполномоченным по всем делам оставил Матюшинского.
«Отделы» были открыты. Были затрачены большие деньги на их отделку. Но во время московского восстания их опять закрыли.
Не дождавшись шестинедельного срока, Гапон вернулся в Россию около 25 декабря 1905 года. Здесь он узнал, что по поручению Витте делом о гапоновских организациях теперь занялся министр торговли и промышленности Тимирязев.
… Затем состоялась встреча с Рачковским, вице-директором Департамента полиции.
Рачковский сказал, что говорит ныне от имени Дурново и что все, что говорит он, есть в то же время мнение министра внутренних дел. По вопросу об открытии гапоновских «рабочих отделов» дело обстоит туго. Дурново считает «отделы» очень опасными и присутствие Гапона в Петербурге совершенно нежелательным при настоящем положении вещей.
Все, и Дурново и Трепов, считают его человеком талантливым и в то же время опасным. Они говорят, что Гапон 9 января устроил революцию на глазах у правительства, и боятся, что теперь он выкинет что-нибудь подобное.
Гапон успокаивал Рачковского. Он говорил, что имеет в виду только профессиональное движение. Взгляды его на рабочее движение изменились. Относительно вооруженного восстания и прочих кровавых мер он, Гапон, теперь мнения свои переменил. От крайних взглядов, высказанных им в прокламациях («впечатанных Гапоном после 9 января), он отказывается и жалеет о них.
Рачковский указал на то, что правительство никаких гарантий в этом не имеет. Он просил его написать Дурново письмо и изложить в нем все сказанное.
Гапон, по его словам, письмо писать отказался. Тогда Рачковский сказал, что без такого письма нечего и говорить о новом открытии «отделов». На государя прошлогодние гапоновские прокламации навели мистический ужас, и во всем, происходящем теперь в России, он винит Гапона. Дурново необходимо явиться с каким-нибудь оправдательным документом к государю при докладе по этому делу.
Гапон написал Дурново.
Рачковский взялся передать письмо министру и просил у Гапона разрешения прийти на следующее свидание с крайне интересным и талантливым человеком, Герасимовым, начальником Петербургского охранного отделения. Трепов о нем необыкновенно высокого мнения, считает его самым талантливым человеком в департаменте полиции. А Герасимов очень желает повидать Гапона.
Гапон разрешил.
… Гости, которых Гапон пригласил ехать вместе с нами в «Яр», были в сборе и давно уже нетерпеливо стучались в дверь, предлагая кончить «серьезные разговоры». Поехали в «Яр» на тройке.
Ехать пришлось Пресней среди пепелищ. По обеим сторонам стояли остовы домов, без крыш, без окон, домов, от которых остались стены, продырявленные снарядами. Улицы пусты. Только городовые на постах с винтовками. Попутчики-москвичи указывали, откуда стреляли из пушек, где больше всего было убитых. Рассказывали отдельные эпизоды, происходившие на том или другом месте, где мы проезжали. Нервы напрягались. Но я с большим вниманием следил за Гапоном. В дороге он много курил, почти ничего не говорил. Дамы его постоянно тормошили, чтобы вывести из апатии. За городом он ударился из одной крайности в другую: стал свистать, гикать, но скоро опять умолк.
Приехавши в «Яр», он предложил пойти в общий зал. Я запротестовал. Взяли кабинет. Просидели несколько минут. Гапон был недоволен. Наконец он решительно заявил, что надо идти в общий зал.
— Там музыка, там женщины, там телом пахнет.
Такое заявление меня заинтересовало. Я махнул рукой на конспирацию.
В общем зале сели в переднем углу, направо от двери, около оркестра.
Пил Гапон мало. Был совершенно разбит. Часто укладывал руки на стол и голову на руки. Подолгу оставался в таком положении. Потом поднимал голову, надевал пенсне и рассматривал зал. Я думал тогда, что он изучает «женщин». Позже убедился, что, кроме «женщин», он в зале видел и еще кого-то. Он снимал пенсне, опять укладывал голову с каким-то бессильным отчаянием на руки, опять поднимал ее и, обращаясь ко мне, говорил:
— Ничего, Мартын, все хорошо будет!
Несколько раз обращался к сидевшей рядом с ним даме:
— Александра Михайловна, пожалейте меня!
… На следующий день Гапон продолжил прерванный накануне рассказ.
Следующее свидание с Рачковским происходило в присутствии жандармского полковника Герасимова, в отдельном кабинете ресторана.
Свидание началось с того, что Герасимов высказал Гапону свое удивление и восхищение. Закусывали стоя. Герасимов изловчился и под видом выражения своих приятельских чувств ощупал карманы пиджака Гапона и даже похлопал его по задней части тела, чтобы убедиться, что у Гапона нет револьвера. Все это Гапон мне продемонстрировал. Гапон рассказал это в доказательство того, как они «осторожны».
— Рачковский жаловался, что правительство находится в крайне затруднительном положении: нет талантливых людей. А о таких, как Гапон, и думать нечего. Рачковский ломал руки и дрожащим голосом говорил: «Вот я стар. Никуда уже не гожусь. А заменить меня некем. России нужны такие люди, как вы. Возьмите мое место. Мы будем счастливы».
Говорилось о больших окладах, о гражданских чинах, полнейшей легализации Гапона и об «отделах». «Но вы бы нам помогли. Вы бы нам рассказали что-нибудь. Осветите нам положение дел. Помогите нам!»
Тут Гапон заметил:
— Ты понимаешь, надо смотреть шире, надо дело делать. И при «Народной Воле» там служили и все выдавали товарищам. Лес рубят — щепки летят. Дело важнее всего. Если пострадает кто-нибудь — пустяки. Положение такое, что надо его использовать. Раньше я был против единичного террора, теперь — за. Надо им отомстить. Витте и Дурново — это одно и то же. Они только политику ведут такую, что во всем виноват Дурново, а Витте добрый.
— Ладно. О ком они тебя спрашивали?
— Спрашивали о Бабушке, о Чернове. Я сказал, что знаю их. Но больше ничего не сказал.
— Еще о ком спрашивали?
— О тебе спрашивали.
— Что же спрашивали?
— Они говорят, что ты очень серьезный революционер. Что через твои руки большие деньги, должно быть, проходят. Они знают, что ты на рысаках разъезжаешь, кутишь. (Короткое молчание.) Главное, понимаешь, не надо бояться. По мне, хоть с чертом иметь дело, не то что с Рачковским.
— А когда про боевые дружины спрашивали, что ты ответил?
— Сказал, что боевые дружины для него пустяки, но что человек серьезный. А про Ивана Николаевича ничего не спрашивали, — спохватился Гапон. — Я ничего и не сказал, конечно, про Азефа, разве можно? Когда я им сказал, что в очень близких с тобой отношениях, они вдруг откололи: «Вы бы нам его соблазнили». Ей-богу, так, сукины сыны, и сказали. (Ухмыляется.) Про боевую организацию расспрашивали. Я сказал, что ничего не знаю. Они не верят. Но я так сказал, как будто знаю. Они ее очень боятся. Я сказал, что для этого большие деньги нужны. Не меньше ста тысяч. «Хорошо», — говорят. Я тогда сказал, что они должны делать все, что я им скажу. Обещали. Рутенберг не должен быть арестован, говорю. Обещали. Тебе нечего теперь бояться. Тебя не арестуют. Ты мне верь. Прямо поезжай в Петербург. Главное, нечего бояться. Повидаться там, поговорить. Ведь это пустяки. Для меня дело важнее всего.
Помолчал. Потом вздохнул:
— Знаешь, хорошо бы потом взорвать департамент полиции со всеми документами.
— Зачем?
— Ну, как же: там ведь много разных документов про разных лиц. Данные там разные для суда, — продолжал он упавшим голосом.
— Все дела имеются в копиях в жандармском управлении и прокуратуре…
С Гапона струился пот. Он сильно волновался, нервно шагал по комнате.
— Отчего ты на меня не смотришь? — сказал он. — Посмотри мне в глаза.
Я подымал глаза, смотрел на него и видел, к ужасу моему, что передо мной действительно Гапон, видел, что это не кошмар, а действительность.
Я рассказал все Азефу. Заявил ему, как члену ЦК, что, так как дело зто касается партии, я не считаю себя вправе распорядиться самостоятельно и жду распоряжений Ц. К-та.
Азеф был удивлен и возмущен рассказанным. Он думал, что с Гапоном надо покончить, как с гадиной. Для этого я должен вызвать его на свидание, поехать с ним вечером на своем извозчике (рысаке петербургской Боевой Организации) в Крестовский сад, остаться там ужинать поздно ночью, покуда все разъедутся, потом поехать на том же извозчике в лес, ткнуть Гапона в спину ножом и выбросить из саней.
По словам Краснова, члена ЦК, Азеф зашел к нему, сообщил о рассказанном мною и спросил его мнения. Краснов ответил Азефу, что при слепой вере в Гапона среди значительной части рабочих может создаться легенда, что Гапон убит из зависти революционерами, которым он мешал и которые выдумали, что Гапон предатель. ЦК не может предъявить доказательств его сношении с полицией, кроме моих показаний о разговоре с Гапоном, происходившем с глазу на глаз. Самым подходящим решением вопроса Краснов считал убийство Гапона на месте преступления, то есть время его свидания с Рачковским.
Азеф присоединился к мнению Краснова, добавив, что его особенно удовлетворяет двойной удар: Гапон и Рачковский, так как он давно уже думал о покушении на Рачковского (который, как выяснилось впоследствии, считался в охранке другом Азефа).
Я колебался, но в конце концов согласился.
Мне было поручено принять предложение Гапона и согласиться пойти с ним на свидание с Рачковским. В мое распоряжение был предоставлен член Б. О. Иванов. По плану Азефа, я должен был при помощи Иванова (в роли извозчика) и ряда частных извозчиков симулировать организацию покушения на министра внутренних дел Дурново. Цель этой симуляции — заставить Рачковского, убедившегося при помощи установленного за мною полицейского наблюдения в том, что я руковожу террористическим предприятием в Петербурге, охотнее искать свидания со мной. Всякие мои сношения с ЦК я должен был прекратить, чтобы не навести на его следы полицию.
В случае удачи покушения и ЦК и я должны были заявить, что «ЦК постановил, а Боевая Организация мне поручила смыть кровью Гапона и Рачковского грязь, которой они покрыли 9-е января».
Краснов и Субботин уехали. Азеф занялся технической разработкой плана покушения, давая мне детальные инструкции: где, на каких улицах, в какие часы ставить извозчиков, в каких ресторанах бывать, как сноситься к ним, как получить разрывной снаряд. Весь план «симуляции» был настолько легковесен, что при практическом обсуждении его возможность неудачи вырисовывалась еще яснее… »
Гапон был повешен эсерами, когда во время свидания в Териоках открыто пригласил Рутенберга перейти на службу в охранку; приговор, однако, ему вынесен не был, причина казни не сообщалась никому, и в стране пошли слухи: «Революционеры убили честного человека, испугались его популярности».
Еще до казни Гапона ловкий Мануйлов организовал скандал в прессе против министра Тимирязева и замесил скандал этот на Деньгах, которые похитил газетчик Матюшинский, посещавший перед тем министра в его кабинете по прямой подсказке того же Мануйлова.
… К Дмитрию Львовичу Рубинштейну чиновник для особых поручений при премьер-министре явился сияющий.
— Чудом я вас от Гапона спас, — сказал томно, упав в кресло, — последние недели совершенно не спал, потерял аппетит, с филером ездил
— страшился бомбы; бесконечные траты, нервотрепка: как бы выглядели ваши друзья и вы, пригрей попа?? «Проклятые буржуи хотели провести в вожди рабочих провокатора!» Вот ведь чем бы все кончилось, не пойди я на риск стать на защиту ваших интересов против интересов Дурново…
Рубинштейн сокрушался, благодарил Мануйлова-Манусевича за верность, выписал чек на пятьсот рублей, хотя правду знал: нашел пути к Ратаеву, помощнику Рачковского, тот ему все открыл. Но, убедившись в злодейской оборотистости Манусевича, решил его придержать возле себя, такие нужны, «кто обманул, тот и победил», попросил только составить краткий отчет о проделанной работе. Тот, не зная ничего о встречах Рубинштейна с Ратаевым, согласился, оговорив, однако, что подлинных имен упоминать не будет. На том сошлись. На прощание Рубинштейн спросил:
— А ну, как на духу, Иван Федорович — кто сейчас, по-вашему, самый сильный в сферах? Дурново?
Тот вздохнул, соболезнующе поглядел на Рубинштейна, ответил тихо:
— Дмитрий Львович, вы чего со мною хитрите? Не надобно так, мы же умные с вами… На царстве может прийти один лишь человек, как Годунов в былые времена, только зовут нынешнего Годунова Петром Аркадьевичем.
Так Гучков — значительно позже Веженского, магистра Ордена, — узнал о Столыпине Петре Аркадьевиче… «Его Превосходительству Э. И. Вуичу, директору департамента полиции. Милостивый государь Эммануил Иванович! Поскольку Вы изъявили желание постоянно знакомиться с деятельностью государственного преступника В. И. Ульянова („Н. Ленина“), находящегося ныне в розыске, спешу препроводить Вам данные, которые страдают разрозненностью и слабой документированностью, поскольку, во-первых, у департамента нет еще надежной агентуры в рядах большевистской фракции РСДРП, а, во-вторых, Ульянов и его единомышленники — в отличие от фракции меньшинства — мастерски владеют навыками конспирации, что затрудняет как филерскую работу, так и освещение секретными сотрудниками Отделений Охраны, получившими задание сблизиться с околобольшевистской средою. Однако удалось установить, что государственный преступник Ульянов („Н. Ленин“, „Фрей“, „Куприанов“, „Отец“, „Эрвин Вейков“), несмотря на арестное предписание судебной палаты от 7.1.1905, от полиции скрылся, продолжая весьма интенсивную работу по подготовке РСДРП к 4-му съезду, именуемому „объединительным“. Его литературная работа касалась, в основном, вопроса о необходимости бойкота Государственной думы, аграрной проблемы, теории и практики вооруженного восстания. Ульянов („Н. Ленин“) провел Петербургскую общегородскую конференцию, состоявшуюся в доме гр. Паниной, где особенно остро полемизировал с государственным преступником Л. Мартовым (Цедербаум, охранным отделениям известен, фотографическая карточки в деле имеется), единственным, по сведениям, человеком, с которым Ульянов в течение многих лет поддерживает дружественные личные взаимоотношения. Затем Ульянов принимал участие в проводах в САСШ литератора А. Пешкова („Горький“, охранным отделениям известен, фотографические карточки в деле имеются), куда последний едет по просьбе большевистской фракции с целью пополнить партийную кассу публичными выступлениями перед американскими аудиториями. Затем Ульянов провел несколько недель в Финляндии, где работал вместе со своими ближайшими сотрудниками Л. Красиным („Винтер“, „Зимин“), Крупской („Саблина“), Луначарским („Воинов“, охранным отделениям известен, фотографические карточки в деле имеются), составляя якобы платформу к 4-му съезду, пригодную для объединения обеих фракций РСДРП. С этой программой, так и не попав в сферу филерского наблюдения, Ульянов отправился в Москву, где обсуждал платформу с известными охранному отделению И. Скворцовым („Степанов“), Ц. Зеликсон („Бобровская“), Р. Залкинд („Землячка“), Таратута („Виктор“), а также, по неподтвержденным сведениям, провел инструктаж членов боевой организации и военно-технического бюро. Адреса, где проходили встречи, Московскому Охранному отделению до сих пор установить не удалось. В целях организации агентурной работы среди обеих фракций (а лишь это позволит по-настоящему освещать деятельность В. Ульянова („Ленина“), который ныне стал ведущей фигурой среди русских революционеров и от него зависит не только позиция РСДРП, но и других партий, как-то к. -демократической и с. -революционной, вынужденных корректировать свои заявления после выступлений Ульянова в повременной печати) полагал бы возможным поставить вопрос об откомандировании Вашего покорного слуги в Швецию, дабы, находясь в непосредственной близости от участников съезда, выяснить с полной определенностью возможность агентурной работы. Рискну высказать предположение, что я смогу начать эту операцию, ибо подобного рода опыт мною приобретен во время работы в Варшаве. Из числа участников съезда я ни с кем, кроме Ф. Дзержинского (Доманского), не встречался, однако он, по сообщению начальника Варшавской охраны, будет на этих днях заарестован и, по заверению И. В. Попова, в Стокгольм прибыть никак ие сможет. Полагая на благоусмотрение Вашего Превосходительства свои соображения, остаюсь Вашего Превосходительства покорнейший слуга Г. Глазов». «Поручика ОСМОЛОВСКОГО сотрудник „ЗДИСЛАВ“ РАПОРТ НЕДЕЛЮ НАЗАД ДЗЕРЖИНСКИЙ-ДОМАНСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ РАБОЧИХ ЗАВОДА „ГУТА БАНКОВА“, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ, ДОЛЖЕНСТВУЮЩИЙ БЫТЬ НАЗВАННЫМ „С. -ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫИ СОЮЗ РАБОТНИКОВ-МЕТАЛЛИСТОВ“. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ ЗАМЫСЛЕН ЕГО ИСТИННЫМИ СОЗДАТЕЛЯМИ, ЧЛЕНАМИ „НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОИ ПАРТИИ“, ВО ГЛАВЕ С БАНКИРОМ СИГИЗМУНДОМ ВОЛЬНАРОВСКИМ, КАК СООБЩЕСТВО ФАБРИЧНЫХ, ОТСТАИВАЮЩИХ ОДНИ ЛИШЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ХОЗЯЕВАМИ. ОДНАКО ДОМАНСКИЙ-ДЗЕРЖИНСКИЙ, ПРИБЫВ НА СОБРАНИЕ, ПОВЕРНУЛ ЕГО ЗА СОБОЮ, ПОСКОЛЬКУ ОН ДОКАЗЫВАЛ, ЧТО БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД, ПО ЕГО РАЗУМЕНИЮ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВЕНСТВА. „3ДИСЛАВ“. „Подполковника АНАШИНА сотрудник „КОРЯВЫЙ“ ЮЗЕФ ДЗЕРЖИНСКИЙ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ, ПО ОТЗЫВАМ ЛЮБЛИНСКИХ С. -ДЕМОКРАТОВ, ОДНИМ ИЗ АКТИВНЫХ АГИТАТОРОВ СДКПиЛ, НЕОДНОКРАТНО ПРИЕЗЖАЛ В ГУБЕРНИЮ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РЯДА ДЕРЕВЕНЬ ЛЮБЛИНСКОЙ ГУБЕРНИИ. В ЦЕЛЯХ КОНСПИРАЦИИ ОЗНАЧЕННЫЙ ДОМАНСКИЙ СКАЗЫВАЛСЯ ГОРОДСКИМ ОХОТНИКОМ. ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРИЗЫВАЕТ КРЕСТЬЯН ВООРУЖАТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ ГОТОВЫМИ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ГОРОДСКИМ, КОГДА ТЕ ПОБРОСАЮТ ФАБРИКИ, ОБЪЯВЯТ ЗАБАСТОВКИ И ВЫЙДУТ НА УЛИЦЫ. ОН РЕКОМЕНДУЕТ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ ПО ДЕРЕВНЯМ, ДАБЫ КУПИТЬ ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ И ПРИПАСЫ К НИМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МИЛИЦИИ, КОТОРАЯ БЫ ОХРАНЯЛА НАРОД ОТ ПОБОРОВ. ИМЯ ЕГЕРЯ, У КОЕГО ДЗЕРЖИНСКИЙ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, ВАЦЛАВ САДОВСКИЙ, ГМИНА ШЛИШЯ, ДЕРЕВНЯ МЕДОВА ГУРА. „КОРЯВЫЙ“. „ЛЮБЛИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОХРАНЫ ПОДПОЛКОВНИКУ АНАШИНУ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ТЧК ДОПРОСИТЕ ЕГЕРЯ ВАЦЛАВА САДОВСКОГО ПО ПОВОДУ ДЗЕРЖИНСКОГО ЗПТ ПОСЕЩАВШЕГО ЕГО ТЧК РОТМИСТР СУШКОВ ТЧК“. «ВАРШАВСКОЕ ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОТМИСТРУ СУШКОВУ ДЕЛОВАЯ ПРИ АРЕСТЕ САДОВСКОГО ОБНАРУЖЕНЫ ТРИ ОХОТНИЧЬИХ РУЖЬЯ И ЛИСТОВКИ СДКПиЛ И РСДРП КРЕСТЬЯНСКОЙ БЕДНОТЕ САДОВСКИЙ НАСТАИВАЕТ ЗПТ ЧТО НАШЕЛ ЛИСТОВКИ ВО ВРЕМЯ НАТАСКИ СОБАКИ ЛЕСУ ДЗЕРЖИНСКОГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ ВИДЕЛ ЖДУ УКАЗАНИЙ ТЧК ПОДПОЛКОВНИК АНАШИН“.
«ЛЮБЛИНСКАЯ ОХРАНА АНАШИНУ ДЕЛОВАЯ ТЧК ДОБЕЙТЕСЬ ПОКАЗАНИЯ ТЧК СУШКОВУ ТЧК».
«ВАРШАВСКАЯ ОХРАНА СУШКОВУ СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ АРЕСТАНТ САДОВСКИЙ МОЛЧИТ АНАШИН».
«ЛЮБЛИНСКАЯ ОХРАНА АНАШИНУ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПЛОХО РАБОТАЕТЕ ТЧК СУШКОВ ТЧК».
«ВАРШАВСКАЯ ОХРАНА СУШКОВУ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ САДОВСКИЙ ЗАСТРЕЛЕН ПОПЫТКЕ БЕГСТВА АНАШИН».
«ЛЮБЛИНСКАЯ ОХРАНА АНАШИНУ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ТЧК ПРИШЛИТЕ РУЖЬЯ ЛИСТОВКИ ВОЗМУТИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗПТ ПЕРЕДАННЫЕ САДОВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ ДЗЕРЖИНСКИМ МОЕ ИМЯ С НАРОЧНЫМ ТЧК СУШКОВ ТЧК».
Полковник Глазов после давешнего обращения к директору департамента Эммануилу Ивановичу Вуичу получил негласную и не проведенную через делопроизводство директиву заняться большевистской фракцией Ленина и, дожидаясь ныне приказа министра на поездку в Берлин и Стокгольм, жил на нервах: решение вопроса, как всегда, затягивалось.
Глазов дважды ходил в Технологический институт, посещал Вольное экономическое общество — основные пункты встреч большевиков, — присматривался к противникам внимательно. Слушая речи ленинских сторонников, он мучительно размышлял о том, отчего именно здесь их впервые собирали Ленин с Мартовым десять лет назад, именно в Технологическом, подчеркивая как бы этим свою принадлежность машинной технике, сиречь городскому пролетарскому элементу, и отчего именно эти люди за какое-то десятилетие стали главенствовать в революционном процессе.
«Города — это насилие над духом России, — думал Глазов, примостившись на хорах Технологички, — это временно, города обезлюдеют, как только Милюков проведет корректную аграрную реформу. Что бы там ни говорили — Россия была, есть и будет мужицкой державой. Смешно, право, полагать, что мы когда-нибудь сможем догнать Англию или Германию с Францией. Авто, паровозы, аэропланы — разве мы их достигнем?! Они обогнали нас на столетие, зачем искры из глаз пускать! Но почему люди верят этим техническим фразерам? Отчего они так доверчиво, ждуще воспринимают их иллюзии? Сказки ведь, детские сказки! Видимо, каждой вере нужны фанатики проповеди. Ленин их имеет. А почему их не имеет Плеханов? Отчего меньшевики, которые разумнее Ленина, согласны с эволюционным процессом, отчего же они теперь не могут найти трибунов? Их-то позиция в какой-то мере приемлема, с ними хоть дискутировать можно!»
Чем больше Глазов вслушивался в споры большевиков с эсерами, кадетами, меньшевиками, тем понятнее становилась конструкция замысла, который поначалу имел формы зыбкие, а Глазов обычно записывал на бумаге пункты предстоявшей операции, раздраконивал их на тщательные подпункты — не понимал, что такое мелочь. Однако вся эта работа начиналась потом; сначала ему требовалась прострельность, когда можно предугадать результат. А как его предугадаешь, если ленинисты валят соперников своей бескомпромиссностью, требуют полного разрушения старой государственной машины, передачи земли мужику, выборов учредительного собрания, республики хотят…
Беда заключалась в том еще, что среди ленинистов не было в департаменте агентуры — прошляпили главную угрозу; игры с эсерами играли, Азефа обхаживали, кадетов освещали; не тех боялись, не там угрозу видели, где надо было.
Глазов сел за изучение устава РСДРП, перелопатил ленинскую «Что делать? », понял — тот ищет единства движения, готов во имя единства на многое, одним лишь не поступится — партийной дисциплиною. Значит, если выборы делегатов на съезд дадут преимущество меньшевикам, резолюции пройдут плехановские, более или менее компромиссные, в чем-то разумные. Ленин не сможет выступить против решения съезда — он из тех, которые в угоду тактике не станут жертвовать стратегией. Плеханов допускает блок с кадетами. Значит, коли произойдет сближение позиций между социал-демократами и милюковцами, ударная заостренность большевистской фракции перестанет быть столь притягательной для безумцев, приходящих сюда, в Технологичку, с горячечной мечтой индустриального переустройства России. Норовят принудить мужика жить минутою, а не привычной и спокойной вечностью? Не выйдет! Эк куда замахнулись со своей пролетарской диктатурой! Обломаем рога, не таким обламывали.
Итак, следует продумать вопрос, как выявить большевистских пропагандистов. Их надо безжалостно брать. Тогда на выборах делегатов съезда меньшинство станет фактическим большинством. Значит, съезд может превратиться в некую баррикаду против ленинистов. Вот это и есть идея замысла, вот теперь ее и надо расчихвостить, разобрать, словно детали шифроаппарата, а потом собрать снова, протерев предварительно масляной тряпочкой каждый винтик, довернуть все гаечки до упора, чтоб не дребезжало. С этим ясно. Большевиков брать. Меньшевиков — только агрессивных, неуправляемых. В конце концов, наиболее зловредных можно будет ликвидировать после их возвращения из Стокгольма.
А дальше? Кто будет освещать съезд? Теперь департамент расчухался, понял, откуда надо ждать главный удар, начали искать агентуру, а разве ее за месяц найдешь? Азефа пять лет готовили, пока он к головке приблизился. Но то эсеры, они люди авантюрные, к ним легче влезть. А Ленин с Плехановым против террора (поэтому, видно, и проворонили их, кому разговоры страшны?! Страшны, еще как страшны, особливо коли умные и по делу! ). Надо искать, искать, искать. Смотреть делегатов съезда в деле, кто, как и что станет говорить, потом уж надобно подкрадываться.
Окончательное решение операция пришло к Глазову рано утром в ванной комнате: он любил рассматривать свое лицо в зеркале, делал занятные гримасы, произносил беззвучные речи, изображая то гнев, то умильность, то непоколебимую уверенность; иногда ему слышались аплодисменты и многократно повторенное имя «Глазов».
Намылив щеки, Глазов скрипуче тронул кожу сине-каленым «золингеном», вспомнил американский журнал с новыми фасонами стрижки: короткий бобрик для деловых людей, гривастые патлы — художникам, тонкое обрамление бороды — коммивояжерам, усы, подбритые книзу, словно у Вертингиторикса, — для служащих по иностранному ведомству: хочет Вашингтон за усы Европу притянуть к поцелую: «Мол, помним историю, чтим вашу культуру, чего ж нам не дружить на века?!»
«А что, ежели мне эдакий фасон попробовать? — подумал Глазов, но сразу же возразил себе: — Вуич первый не поймет, фыркнет. Уж коли у нас что заведено — значит, до конца. Пока лед под ногами не затрещит — будем старого держаться».
Неожиданно вспомнил шифрограмму из Нью-Йорка, от тамошнего агента, освещавшего русских революционеров, скрывшихся от суда за океаном. Михаил Есин, кажется. Да, именно так. Сообщал, что на съезд в Стокгольм приглашены некие Бруклинские, в качестве гостей приглашены, однако испытывают затруднения со средствами.
Глазов даже замер — так прекрасна была мысль: срочно отправить депешу в Нью-Йорк, консулу, пусть из рептильного фонда выделит Есину деньги. Тот должен к Бруклинским подойти с идеей отправиться на съезд вместе.
«И введу к делегатам нашего человека! — ликующе подумал Глазов. — Господи, как может ловко получиться-то, а?!»
Брился торопясь, порезался, замазал ссадину солью, но все равно кровоточило. Пришлось заклеить папиросной бумажкою. За завтраком был к жене невнимателен — надулась, дура. (Нет других забот, кроме как по парикмахерским модельерам ездить и салопы заказывать, какая-то прямо страсть к салопам! ) Дочери рассказывали о том, что задали в гимназии,
— отрывки из Цицерона наизусть.
— Цицерон — это логика вдохновения, — рассеянно заметил лазов. — Учите, учите, девочки. Трудно в ученье — легко в бою.
— Они же не кавалеристы, — заметила жена.
— Сколько раз я просил не комментировать меня при дочерях, Зина, — сердито сказал Глазов, когда девочки, сделав книксен, ушли в детскую собирать ранцы. — В конце концов, ты рубишь сук, на котором сидишь. Слово отца должно быть всегда и во всем законом.
— Достаточно того, что у нас в доме всегда было законом слово мужа, — отпарировала Зинаида Евгеньевна, с готовностью включаясь в перепалку.
— Ну, началось, — сказал Глазов, смял салфетку и, не допив Кофею, поднялся из-за стола. — У меня же весь день голова пухнет неужели нельзя создать дома тишину?! Я ведь работаю, Зина, я работаю, когда, наконец, ты поймешь?!
— Работаешь? — усмехнулась жена. — Ты сажаешь, Глеб Витальевич, разве это работа? Дай мне власть, и я бы сажала — велика наука!
Поэтому, приехав в департамент, Глазов был особенно деятелен: он находил забвение в работе, погружаясь в нее, растворяя в ней самого себя, ощущая свою нужность делу. «НЬЮ-ЙОРК 12.41 ПО ШИФРУ КОНСУЛУ. СРОЧНО ПРИГЛАСИТЕ ДЛЯ БЕСЕДЫ МИХАИЛА ЕСИНА, ПРЕДЛОЖИТЕ ЕМУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К БРУКЛИНСКИМ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОЕЗДКИ В ЕВРОПУ НА СЪЕЗД СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ. ДЕНЬГИ НА ПОЕЗДКУ ВЫДЕЛИТЕ. ВУИЧ». «ВАРШАВА СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ПОПОВУ ТЧК НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ КАНДИДАТОВ ИЗ АГЕНТУРЫ СПОСОБНЫХ ОСВЕЩАТЬ РАБОТУ С. -ДЕМОКРАТИЧЕ-СКОГО СЪЕЗДА ТЧК „ПРЫЩИКА“ НЕ ТРОГАЙТЕ В СТОКГОЛЬМЕ ОН МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИФРОВАН ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК».
Первым ответил Попов. Назвал Наговского и «Мстителя». «ВАРШАВА СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ПОПОВУ ТЧК БОЛВАНОВ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ТЧК Я И ТОМУ И ДРУГОМУ ЦЕНУ ЗНАЮ ТЧК НАЗОВИТЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫ МОГ ВОЙТИ В КОНТАКТ С ДЗЕРЖИНСКИМ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК».
И Попов рискнул — назвал имя Леопольда Ероховского, была не была, все равно по бритве ходит, уверенности в дне грядущем никакой, каждый миг жди скандала, разоблачения, позора.
«ПЕТЕРБУРГ МИД, 16.25. ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ. ПО ШИФРУ. ЕСИН ТРЕБУЕТ ТЫСЯЧУ (1000) ДОЛЛАРОВ. ЖДУ РАСПОРЯЖЕНИЯ. КОНСУЛ НИКИТИН».
«НЬЮ-ЙОРК. 18.07. ПО ШИФРУ КОНСУЛУ. ВЫДАЙТЕ ТРЕБУЕМУЮ СУММУ. СООБЩИТЕ ЕСИНУ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИЛСЯ В БЕРЛИНЕ, В ОТЕЛЕ „ВЕНА“, ВИЛЬМЕРСДОРФ, ХОЗЯЙКА ФРАУ НАДЕЛЬ. ПО ПРИБЫТИИ ДОЛЖЕН ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ 16-5-90 И СКАЗАТЬ, ЧТО „ГРУЗ ДЛЯ СКАНДИНАВИИ ПРИБЫЛ“. К НЕМУ ПРИДЕТ ЧЕЛОВЕК С ПАСПОРТОМ НА ИМЯ ГРУМАНА АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА И СКАЖЕТ: „МЫ ВАС ЖДЕМ В ПЕТЕРБУРГЕ, ТАМ ПОГОДА ЛУЧШЕ“. К ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЕСИН ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ В ПОДЧИНЕНИЕ. НИ С КЕМ ДРУГИМ В КОНТАКТ НЕ ВХОДИТЬ. ВУИЧ».
«ВАРШАВСКАЯ ОХРАНА ПОПОВУ СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ТЧК ВЫСЫЛАЙТЕ ЕРОХОВСКОГО БЕРЛИН ОТЕЛЬ „КАЙЗЕРХОФ“ ТЧК К НЕМУ ПРИДЕТ ГРУМАН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ТЧК ЕРОХОВСКИЙ ПЕРЕЙДЕТ В ЕГО ПОДЧИНЕНИЕ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК».
Паспорт на имя Андрея Андреевича Грумана был выдан полковнику Глазову Глебу Витальевичу.
27
Турчанинов три раза проверился: филеры следовали неотступно, и лица их были торжественно-умиротворенные, будто на поминки шли.
«… Да разве Попов мне поверит? Пусть бы я мать родную ему отдал. Разве поверит? — продолжал думать Турчанинов. — Он ведь поставил за мною филерское наблюдение после того, как собрал улики, зазря против своего разве поставил бы? Поставил бы, — возразил он себе. — Волки. Поставил бы. Глазов, говорят, бывшего начальника охраны Шевякова руками его же агента и угрохал. По трупам пройдут, не почешутся. Конечно, ни Дзержинский, ни Варшавский, ни Ганецкий с Уншлихтом меня не назовут после ареста. А что, коли решат предупредить об опасности? Они ведь мне верят. И я буду обязан это их предупреждение отдать Попову. И стану двойником. Как паршивая подметка, как грязный провокатор».
Мысли метались, быстрые, рваные. Турчанинов подумал, как трудно рассуждать связно, когда на спине постоянно чувствуешь взгляд филеров.
«А как же Дзержинский? Каково ему? И в камере ежеминутно в глазок заглядывают. А ведь думает».
Он заново вспомнил свои встречи с Дзержинским. Самую первую, когда Глазов отправил его послушать разговор Дзержинского с лидером социалистов. Глазов тогда брать их не торопился, был уверен, что Юзеф в кармане, поэтому-то и попросил Турчанинова присмотреться к обоим на воле, чтоб легче потом в камере было работать. Дзержинский тогда спорил с идейным противником — несмотря на врожденную горячность — до удивительного спокойно, собеседника раскладывал достойно, видел свою победу, но не гордился ею.
Следующая встреча была в тюрьме уже, когда Глазов поручил устроить для Дзержинского побег. «Не понимаете, что ль? — усмешливо подталкивал он тогда Турчанинова. — В беглецов стреляют, убивает беглецов тюремная стража, ничего уж не поделаешь тут. С Дзержинским вам хлопот полон рот, Андрей Егорович, я за ним десять лет наблюдаю, с Вильны еще. Горбатого могила исправит, а вреда от него тьма, трудно даже учесть, сколько от таких вреда».
И Турчанинов устроил побег, но Дзержинский не побежал, а тот, кто побежал, Анджей Штопаньский, мальчишечка, прострелен был стражниками, залился кровью. А уж после всеобщей забастовки и манифеста, когда все зашаталось, Турчанинов отправился к Дзержинскому. Он шел за спасением, чувствовал — гибнет, все человеческое покидало его, сам себя переставал ощущать; а ведь и воевал, и курс лекций в университете слушал, и друзей, далеких от охранки, имел, но с каждым днем, проведенным на Нововейской, в своем кабинете, понимал все отчетливее: дальше так жить нельзя, преступно по отношению к той субстанции, которая когда-то значилась Андреем Егоровичем Турчаниновым…
«Я очень плохо соображаю сейчас, — подумал Турчанинов. — Я так напуган, что готов открыться филерам, только б увидать в их глазах сочувственное, прощающее сострадание».
Он зашел в торговые ряды, зашел механически, потом лишь понял: здесь только и можно уйти из-под наблюдения. Завертелся волчком, ринулся в толпу, перебежал по темной лестнице во второй ряд, заскочил в трактир, прилип к окну, увидел метавшихся филеров, степенно зашел к хозяину, неторопливо попросил открыть черный ход, очутился на черном дворе, оттуда вышел на улицу, слежки не было, но было ухающее ощущение ужаса, полный разрыв с прошлым: теперь, после того как он обманул филеров таким наглым способом, охране станет ясно, что он замазан.
Уже отперев дверь квартиры, где проходили встречи с Дзержинским, собираясь войти в темную жуть коридора, представил себе, как открывается дверь и выходит Попов с Сушковым. Негнущимися пальцами достал револьвер, взвел курок, дверь захлопнул и вошел в комнату. Никого не было. До встречи с Дзержинским оставалось еще три часа.
— Слушайте меня внимательно, Феликс Эдмундович… Обнаружив филеров, я решил идти к Попову и назвать этот адрес. Понимаете? Не перебивайте меня! Я должен сказать все. Я был готов предать вас. Я придумал для себя оправдание. Я хотел сказать, что начал провокацию против вас на свой страх и риск. Понимаете. А убегал от филеров, как автомат, даже страшно вспомнить — машина, не человек. У вас водки нет? Да, да, понимаю, конечно, нет…
— Почему? — Дзержинский не отрывал глаз от лица Турчанинова. — Мне здесь с разными людьми приходится говорить. Вон, Н°6уфете, доставайте. И крекер держу. Хотите крекера?
— Крекер не надобен. Поэкономьте для другого гостя, бюджет ваш не густ.
— Чего злитесь? — беззлобно спросил Дзержинский, наблюдая за тем, как Турчанинов принес штоф на стол, налил рюмку до краев выпил. — Это вы на себя злитесь, а не на меня. Зачем же против меня гнев свой обращаете? Не надо. И я не виню вас. Более того, я вас понимаю, Андрей Егорович. Нынешний строй так калечит людей, что наступает момент, когда личность исчезает, остается животное. Вы были на грани.
— Помните, вы уговаривали меня остаться, когда я первый раз пришел к вам, Феликс Эдмундович, пришел за помощью, просил переправить за границу, просил спасти меня? Помните?
— Помню. Хотите сказать, что я это подвел вас к грани, уговорив остаться в охранке и помогать нам? Вы это хотите сказать?
— Именно.
— Вы не правы, Андрей Егорович. Каждый человек выбирает себе в жизни дорогу. Не я привел вас в охранку. Не я, а вы пришли за помощью после того, как под пулю меня хотели отправить. И я не мог рисковать жизнью товарищей, соглашаясь помогать вам, без проверки. Вы помогли нам. Мы вам поверили. А сейчас, когда вы нашли в себе мужество сказать про себя все, — я готов переправить вас за границу.
— Вы убеждены, что я не попаду в руки Попова?
— Убежден. Почему спросили?
— Потому что я не выдержу. Я откроюсь. Я сломан, Феликс Эдмундович. Я наивно полагал, что можно сохранить себя в любом обществе. Это — заблуждение. Нельзя. Общество принуждает человека жить по своим законам.
— Экий вы у нас сделались материалист, — заметил Дзержинский. — Документ с собою?
— Да.
— Давайте мне. Он нам пригодится. Только больше не пейте, ладно?
— Последнюю.
— Не пьянка страшна — похмелье.
— Откуда сие вам известно?
— Из литературы. Идите в ванную комнату, там есть лезвие, брейтесь. Да, да, бороду и усы, понимаю, как мерзостно ходить с актерской физиономией, но ничего не поделаешь. Паспорт, который мы вам дадим, предполагает бритую физиономию.
Пока Турчанинов брился в ванной, Дзержинский достал стопку бумаги, перо и чернила. Ротмистр вернулся преображенный, лицо его сделалось широкоскулым, татарского типа, глаза теперь казались маленькими, а рот слишком жестким.
— Хоть на сцену, — улыбнулся Дзержинский, но глаза его не улыбались. — Андрей Егорович, за границей вы будете жить тайно — во всяком случае, пока что, до нашей победы. Вам известно, видимо, что Рачковский с Ратаевым умеют находить нужных им людей и за границей? Мы окажем вам поддержку на первых порах. Не взыщите, это будет скромная поддержка. Далее. Вы сейчас напишете два письма. Одно, первое, министру внутренних дел Дурново. И начнете его с фразы: «Господин министр, о том, что происходит в Варшавской охране, мне известно все». Последнее слово подчеркните дважды. И действительно напишите обо всем том, что вам известно. Затем вы напишете личное письмо Попову, в котором предупредите его. что обращение к министру Дурново будет вами отправлено адресату в том случае, если ваши друзья сочтут необходимым послать. После этого, как думаете, агента «Прыщика», который к нам близок, отдаст нам?
— Мать родную отдаст, — ответил Турчанинов убежденно. — И детей в придачу.
Когда Турчанинова отправили по связи к границе, Дзержинский вызвал на явку Варшавского.
— Я прошу тебя, Адольф, устроить мне встречу с редактором «Дневника». Как договоришься, немедленно уезжай. Встретимся в Стокгольме на съезде. Я буду добираться туда через Россию — рисковать на западных границах нет смысла. На востоке меня не ждут.
28
— Добрый день, господин Штыков. Мне передали, что вы согласны побеседовать со мною…
— Господин Доманский?
— Очень приятно, присаживайтесь, пожалуйста. Чайку не изволите ли?
— С удовольствием.
Редактор «Дневника» позвонил в колокольчик, чудо какой звонкий, нравится господину Штыкову Родиону Георгиевичу звонить в колокольчик, поднимать его над головой, слабо помахивать кистью, быть во всех своих движениях, в интонации голоса небрежно доброжелательным, чуть уставшим, а потому весьма значительным.
Вошедшей секретарше распевно сказал:
— Пани Галина, вы не угостите нас крепким чаем?
— О, конечно, пан редактор, — чарующе улыбнулась секретарша и стрельнула глазом в Дзержинского. Тот сразу определил: о нем здесь говорили. Что ж, риск, конечно, но именно так задумана эта операция. Он сам просил Варшавского намекнуть главному редактору, что придет человек из подполья, близкий к руководству партии — с обыкновенным посетителем в редакции этой либеральной газеты говорить не станут, тут важно во всем искать сенсационность, журналист уровень чтит во всем и во всех. Человек из подполья — сенсационно, в духе времени, сейчас выгодно знакомство с революционерами, это дает дивиденды, газета расходится невиданными тиражами, военное положение задавило анархию, теперь культурные слои хотят читать про бунтовщиков, да и потом, власть припугнуть не грех — или помогайте нам, просвещенным, кого биржевой комитет издает, или обратимся за поддержкою к разрушителям.
— Я не спросил вас, господин Доманский, может быть, желаете перекусить? Не голодны?
— Нет, нет, благодарю. — Дзержинский чуть улыбнулся.
«Если подпольщик, то обязательно голоден, — подумал он, — и всенепременно в сапогах. Легко жить привычными представлениями, право… »
— Господин Варшавский сказал мне, что разговор будет носить практический характер…
— Да. Речь пойдет о статье, связанной с работой полицейского ведомства.
— Варшавского?
— Я сначала изложу вам фабулу, хорошо? А потом вы решите, какого — варшавского ли, петербургского, а может, и вовсе какого иностранного.
— Иностранное нас не интересует, господин Доманский, мы обращаемся к российскому читателю, у нас своих забот с полицейским ведомством предостаточно.
— Что ж, прекрасно. Итак, все началось с того, что при аресте полиция избила чуть не до смерти восемнадцатилетнего юношу…
— Террориста? — Штыков перебил быстрым вопросом. — Боевика?
— Не террориста и не боевика. Члена партии…
— Какой? Социалист? Или анархическая группа?
— Юноша — социал-демократ.
— А разве социал-демократов сейчас арестовывают? По-моему, сажают в затвор лишь террористов ППС и эсеров.
— Почему вы так считаете?
— Социал-демократы, как мне сдается, лишь пропагандируют, они против террора…
— Совершенно верно. Однако за последние три месяца только в Варшаве, господин Штыков, было арестовано сто сорок три социал-демократа.
— Что?! Я могу напечатать ваши данные?
— Если сможете — бога ради, но позвольте, я закончу изложение фабулы того дела, ради которого пришел.
— Да, да, прошу, господин Доманский. Мы, газетчики, всегда норовим забежать вперед, ничего не попишешь — профессия.
— Я понимаю.
— Не все, однако, знают специфику газетной работы, не все понимают, как это трудно — сверстать номер, наполнить его интересным материалом… В этом смысле орган ваших коллег, социал-демократов, являет собою весьма интересный образец наступательной печати… Не изволите ли знать кого из их редакции?
— Имеете в виду «Червоны штандар»?
— Да.
— Увы, — ответил Дзержинский, — я никого не знаю в этой газете.
— Поэтому и пришли с вашим материалом ко мне?
— Нет. Отнюдь не поэтому. «Червоны штандар» — газета нелегальная, тираж ее, как я понимаю, ограничен. Ваша газета расходится широко, и прочтут ее не только фабричные рабочие, но практически вся Польша.
— Петербург, Харьков, Иркутск, Чита, Минск, — добавил Штыков. — Мы действительно читаемая газета.
— Вот видите… Итак, при аресте был избит чуть не до смерти юноша, член социал-демократической партии. Он был при смерти, однако охранка не позволяла показать его врачу. Товарищи несчастного решили помочь ему. Товарищи юноши несли ответственность по высшему счету морали: они позволили ему войти в революционную работу, хотя, наверное, не должны были бы делать этого — слишком молод.
— Простите мой вопрос: вы давно занимаетесь вашей… работою? — С шестнадцати лет.
— Так я и посчитал. Простите, что перебил.
— Вы спросили оттого, что удивлены: тревога за судьбу юноши идет от чувства, а не от логики борьбы?
— Именно так.
Дзержинский достал из кармана письмо, которое Казимеж Грушовский смог перебросить из тюрьмы, протянул Штыкову. Тот быстро пробежал строки, посмотрел на Дзержинского, прочитал еще раз медленно, вбирающе.
— Продолжайте, пожалуйста.
Вошла «пани секретарка» с подносом: запахло лимоном. Девушка поставила чашки перед Дзержинским и Штыковым, сняла салфетку с сахарницы, озарила мужчин хорошо отрепетированной улыбкой заговорщицы и неслышно вышла из кабинета.
— Товарищи этого юноши, — продолжал Дзержинский, — решили вырвать его из тюрьмы, это был их долг. Не только перед несчастным, но и перед многими другими: мальчика могли довести до состояния невменяемости… Вы, вероятно, знаете, что в камере Егора Сазонова, когда тот, раненный, лежал в бреду, постоянно находился чиновник охранки. Он получил от беспамятного человека все, что было нужно полиции… Юноша мог невольно сказать то, что очень интересует охранку, и тогда число арестованных социал-демократов в Варшаве увеличилось бы до трехсот. Следовательно, товарищи несчастного юноши были обязаны предпринять свои шаги, их вынуждало к этому не только сострадание к одному, но и тревога за судьбы сотен других людей. Так логично?
— Вполне.
— Далее. Одна известная актриса…
Штыков перебил:
— Микульска?
— Одна известная актриса, — словно бы не услышав Штыкова, продолжал Дзержинский, — после встречи с нами смогла помочь несчастному юноше…
— О Микульской, — настойчиво повторил Штыков, — мы хотим дать маленькую заметку. Наш репортер, знавший ее по Вильне, рассказал прекрасную деталь: она выступала в концерте, а тогда — это было, кажется, года три назад — было запрещено петь по-польски, вы, конечно, помните… Она тем не менее спела народную песенку — сущая безделица. К ней за кулисы тут же градоначальник: «Мадемуазель, шарман, шарман, но извольте штраф пятьдесят рублей!» Микульска дала ему сотенную ассигнацию, вышла на сцену и спела другую песню, всем полякам известную, с духом бунта… Ей тогда запретили, бедной, выступать в Вильне, отец, помещик, отказал в помощи, и она с трудом пристроилась здесь… Кто-то, видимо, крепко помог.
Дзержинский сразу же представил Микульску рядом с Поповым, понял, что сейчас открылось недостающее звено: его все время мучило, каким образом началась эта противоестественная связь, слишком уж кричащей была разность.
— Кто именно помог? — спросил Дзержинский. — Вашему коллеге это, конечно, неизвестно?
— Такие вещи скрываются, господин Дсманский… Итак, вы решили предпринять свои шаги…
— Товарищи юноши вынудили одного из высших чинов охранки подписать прошение матери несчастного… Его привезли в больницу, а оттуда был устроен побег… Юноша сейчас укрыт надежно, врачи спасли ему глаз, раны рубцуются; правда, кровохарканье остановить пока не удалось… Когда в полиции поняли, что главную роль во всем этом деле сыграла актриса, она действительно дала повод принудить одного жандарма к согласию, охранка решила мстить. Они начали следить за актрисой, за всеми ее друзьями, и, когда женщина приняла решение скрыться, ее арестовали. Все было сделано так, чтобы арест прошел тайно. Ее увезли в охранку. А наутро нашли во дворе дома растерзанную, нагую, со следами насилия. И во всех газетах, помимо сообщения о факте, сразу же появилась неизвестно кем выдвинутая гипотеза: «Актрису убили злоумышленники из революционной партии. В подоплеке этого злодеяния, видимо, лежит чувство мести». Кто дал такого рода заключение, неизвестно…
— Об этом репортерам сказал прокурор…
— Вы говорите о гибели Стефании Микульской, господин Штыков. А я пока что рассказываю вам историю, не связанную с конкретным событием, мы ведь уговорились. Я объясню вам позже, отчего я рассказываю вам историю о гибели безымянно, и вы согласитесь со мной, что резон в этом есть… Далее. На основании каких фактов прокурор выдвинул такого рода гипотезу? У него нет фактов. Он попросту связан с охранкой — прекрасная иллюстрация дарованным свободам. Прокурор, действующий под дуду охранки… Но давайте допустим, что революционеры действительно решили отомстить за что-то несчастной женщине. Для этого выделим из общего частное: социал-демократы отрицают индивидуальный террор, вам это известно. Они могут выйти на баррикады и стрелять в явных врагов: так было и в Лодзи и в Москве.
— Хорошо, социал-демократов, согласен, отвели. Разве анархисты не способны на такое?
— Способны.
— Так в чем же дело? Я позволю себе пофантазировать, господин Доманский, чистая фантазия… Допустим, после ареста Микульска сказала все, что хотела охрана.
— У вас есть данные, что Микульску арестовывали?
— Нет…
— Тогда будем говорить о безымянной актрисе пока что, как уговорились.
— Хорошо, — поморщился Штыков. — Уговорились. Допустим, прошли аресты среди какой-то революционной партии, мы ведь не знаем, кого, когда и где забирают. Микульску освобождают, ее бывшие друзья узнают о том, что она сказала, ее казнят. Логично?
— Вы хорошо научились мыслить за охранку, — жестко ответил Дзержинский. — Я не виню вас, человек не свободен от общества. Да, все логично. Все, что вы сказали, укладывается в логику жандармерии. Но, во-первых, повторяю, мы говорим не о Микульской; во-вторых, актриса после освобождения не зашла и не позвонила ни к одному из своих друзей, а у нее дома был установлен телефонный аппарат; в-третьих, ее освободить должны были часов в одиннадцать…
— Почему? — Штыков подался вперед. — Почему именно в одиннадцать?
— Потому что примерно в это время она погибла.
— Ничего подобного. Жильцы слышали, как к ней пришел кто-то около двух.
— Но жильцы не слыхали ни криков, ни звона разбиваемого стекла, господин Штыков.
— Ей могли вогнать в рот кляп.
— Зачем загонять кляп в рот покойнику? — тихо спросил Дзержинский, подавшись навстречу Штыкову. — Актриса умерла от разрыва сердца от одиннадцати до двенадцати ночи.
— Факты?
Дзержинский откинулся на спинку стула, медленно открыл портфель, протянул редактору заключение доктора Лапова.
— Так это же Микульска!
— Микульска.
— Страшное дело, — сказал Штыков задумчиво.
— Оно станет до конца страшным, когда охранка напечатает в одной из газет, где сидят ее люди, заявление о том, что убили Микульску социал-демократы. — Дзержинский заметил, что Штыков собирается возразить ему, добавил резко: — Не надо спорить. Это случится на днях. И это даст повод к массовым арестам в социал-демократической среде. Вот я и хочу задать вам вопрос: ежели аресты начнутся, вы готовы опубликовать материал о гибели Стефании Микульской или вам будет удобнее писать о некоей «известной актрисе»?
— Я буду печатать материал именно о Микульской, господин Доманский.
— Даже коли я скажу вам, что человеком, оказавшим ей протекцию в получении варшавского бенефиса, был полковник Попов?
Штыков взбросил пенсне:
— Вы это серьезно?
— Это я совершенно серьезно, господин Штыков.
— Факты?
Письмо Турчанинова на этот раз Дзержинский с собою не взял — это решающий козырь, там написано все.
— Если вы решитесь набрать мой материал и поставить его в номер, я представлю факты.
— Но вы понимаете, что цензура такой материал не пропустит?
— Тогда вернемся к началу нашего разговора, господин Штыков: можете напечатать материал такого рода о трагическом событии, приключившемся в некоем иностранном государстве?
— Не надо, ногами-то не топчите. — Штыков взял со стола газетную полосу, протянул Дзержинскому. — В Петербурге этот материал еще можно печатать, а наш цензурный комитет рубит, вытаскивает из номера, грозит арестом… Поглядите, занятно, а я пока соберу людей, надо обсудить ваше предложение.
— Если можно, господин Штыков, — ответил Дзержинский, разглаживая рукой полосу, — не собирайте людей. Примите бремя контакта со мною на себя, зачем подводить других?
— Тогда я должен отлучиться…
— Я, коли разрешите, подожду вас здесь.
— Конечно, конечно, только вы, может, спасаетесь? Дзержинский удивился:
— Чего?
— Мне казалось, что люди вашего круга подозрительны…
— «Подозрительны» не то слово, господин Штыков. Мы обязаны быть внимательными, бдительными, говоря точнее, но наши отношения с людьми строятся на доверии. Я верю мнению господина Варшавского, он отозвался о вас как о человеке порядочном, мне этого достаточно…
— Спасибо, — сказал Штыков, поднимаясь. — Весьма польщен. Я вернусь через десять минут.
Дзержинский проводил взглядом сутулую редакторову спину, Углубился в чтение статьи:
«По высочайшему указу от 1797 года в печати запрещено употреблять такие слова крамольного смысла, каковыми являются „гражданин“, „общество“, а также „родина“. Когда был закрыт журнал И. Киреевского „Европеец“, граф Бенкендорф объяснил министру народного просвещения Ливену, что Е. И. Величество „изволил найти, что под словом „просвещение“ Киреевский понимает „свободу“, что „деятельность разума“ означает у него „революцию“, а „искусно отысканная середина“ не что иное, как „конституция“… Потом, с развитием печатного дела, когда Глинка стад мировой звездою музыки, цензура издала распоряжение следующего содержания: „Имея в виду опасения, что под нотными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу, или что к церковным мотивам могут быть приспособлены слова простонародной песни, следует обращаться к лицам, знающим музыку, для предварительного рассмотрения нот“. Председатель цензурного комитета Бутурлин потребовал убрать из акафиста Покрову Божьей Матери „опасные“ стихи, „Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и злонравных!“ и „советы неправедных князей разори, зачинающих рати погуби“. Пушкин, ссылаясь на некоего французского публициста (не было его, свои слова французу отдал! ), утверждал, что будь дар слова недавним изобретением, правительства установили бы цензуру и на разговоры. Тогда двум людям, дабы наедине поговорить о погоде, приходилось бы получать соответствующее на то разрешение цензурного комитета. А каково указание Николая Первого, когда он прочитал статейку своего благонамеренного Булгарина?! Тот посмел побранить легковых извозчиков, которые в Павловске драли деньги поверх таксы, сорок копеек серебром требовали вместо десяти за то, чтобы отвезти от станции до концертной площадки, где устраивались музыкальные вечера. Государь изволил эту безделицу, набранную слепым петитом, прочесть, разгневаться и заключить следующее: «Цензуре не следовало пропускать сей выходки. Каждому скромному желанию лучшего, каждому основательному извещению о дошедшем до чьего-либо сведения злоупотреблении, указаны у нас законные пути. Косвенные укоризны начальству царскосельскому, в приведенном фельетоне содержащиеся, сами по себе, конечно, не важны, но важно, что они изъявлены не перед надлежащею властью, а переданы на общий приговор публики; допустив единожды сему начало, весьма будет трудно определить, на каких именно пределах должна останавливаться литературная расправа в предметах общественного устройства. Впрочем, как означенная статья напечатана в журнале, отличающемся благонамеренностью, Е. И. Величество, приписывая статью эту недостатку осмотрительности, повелел сделать общее по цензуре замечание, дабы впредь не было допускаемо в печати никаких, хотя бы и косвенных, порицаний действий или распоряжений правительства или властей, к какой бы степени они ни принадлежали“. Размышляя о нелепостях нашей цензуры, нельзя не задуматься над тем, что мысль, лишенная слова, значительно быстрее крепнет и расширяется, она делается неким всеобщим убеждением, чувственной полумыслью, и ничто не в силах сдержать ее. Она передается обществу почти без слов, и все кропотливые ухищрения цензуры оказываются бессильными. Царство Божие — это единение всех со всеми, и неразумные запреты цензуры греховны в нашем христианском государстве… Но ведь запреты продолжаются!
Вот только малая часть происходящего ныне: в течение одною февраля 1906 года печать в той или иной форме подверглась следующим преследованиям:
1. В Лодзи, по распоряжению вновь назначенного отдельного цензора, вечерний номер «Нейе Лодзер Цейтунг» от 30 января конфискован за перепечатку статей из петербургского «Нового Времени». Редактор привлекается к судебной ответственности.
2. В Саратове, 5 февраля, конфискован приготовленный к выпуску первый номер новой народной газеты «Голос Деревни». Редактор-издатель Огановский привлекается к суду.
3. В Петербурге за напечатание в номере 1 газеты «Рабочая Жизнь» статьи «Белосток» редактор этой газеты г. Андреев привлечен к ответственности по 1 п. 129 ст. уг. улож., а издание самой газеты приостановлено.
4. Редактор сатирического журнала «Водоворот» привлекается к ответственности по ст. 6 отд. VIII времен, прав, о печати за напечатание в номере 1 журнала статей «О черте», «Усмирители», «Бой в технологическом институте» и «Казаки».
5. По определению с. -петербургского окружного суда отыскиваются редактор газеты «Сын Отечества» Григорий Ильин Шрейдер, обвиняемый по 1 и 3 п. 129 ст. угл. улож., и редактор-издатель газеты «Молодая Россия» студент с. -петербургского университета Вячеслав Эриков Лесневский, отпущенный из тюрьмы до суда.
6. В Керчи конфискован номер «Южного Курьера» от 2 февраля. В Таганроге, 8 февраля, в редакции «Таганрогского Вестника» конфискованы номера газеты от 2 февраля. Редактору Чумаченко предъявлено обвинение по 2 пункту I части 129 статьи угол. улож. После представленного залога в 5000 р. он освобожден до ареста.
7. В Варшаве редактор «Працы польской» Пешке привлечен прокурорским надзором к уголовной ответственности за помещение статьи «Отголоски Литовских беспорядков».
8.8 февраля в особом присутствии петербургской судебной палаты слушалось дело редактора-издателя «Сына Отечества» С. П. Юрицина, обвинявшегося по 1 и 2 пп. 129 и 128 ст. угол. УЛОЖ. за статьи в номерах его газеты. Палата приговорила Юрицина к заключению в крепость на 1 год, навсегда прекратила издание газеты «Сын Отеч. » и запретила Юрицину быть редактором или издателем периодических изд. в течение 5 лет.
9. В Варшаве редакторы Варшавских газет «Слова» Донимирский и «Всеобщего Дневника» Еленский привлечены к уголовной ответственности по 129 статье.
10. В Петербурге редактор сатирического жур. «Сигнал» Корней Чуковский, которому палата на днях вынесла оправдательный приговор, не находя в обвинении состава преступления, снова привлечен по 128 ст. угол. улож. Мера пресечения — внесение залога в 10000 руб.
11. Из Харькова получено известие об аресте Ефимовича, редактора-издателя газеты «Приднепровский Край».
12. В Варшаве в типографии Ляскауера полицией конфисковано 2000 экземпляров первого тома издания «Ксножницы», содержащего драму Словацкого, под заглавием «Кордиан».
13. По делу газеты «Буревестник» судеб. палата 16 февр. приговорила редактора ее ном. к заключению в крепость на 1 год, приостановила это издание навсегда и запретила Барону быть редактором в течение 5 лет.
14. Во Владивостоке распоряжением администрации закрыта газета «Владивостокский Листок» за статьи, помещенные еще в декабре. Редактор-издатель Подпах привлечен к суду разом по нескольким делам. Таким образом, на русском Дальнем Востоке не существует более прогрессивных органов печати: в Иркутске, Чите, Верхнеудинске, Хабаровске, Благовещенске, а теперь и Владивостоке устроена полная монополия консервативных газет.
15. В Петербурге, 13 февраля, в 11 ч. 30 м. вечера, в редакции журнала «Водоворот» был произведен обыск, причем была арестована переписка. Обыск произведен по предписанию охранного отделения.
16. На всех московских вокзалах конфисковывалась полицией брошюра графа Л. Н. Толстого «Солдатская памятка»… »
Всего Дзержинский насчитал сто четырнадцать газет и журналов, запрещенных, конфискованных, подвергнутых обыску: за двадцать-то дней, в условиях «полной свободы» — многовато!
… Штыков вернулся хмурый и встрепанный (звонил владельцу, Кирьякова не было, советовался с председателем ЦК партии торговцев и промышленников Холудовым, тот криком кричал: «Вешать, стрелять бунтовщиков! Хватит цацкаться! » На вопрос Штыкова, кто тогда будет читать газету, Холудов ответил: «Мы» — и трубку в сердцах швырнул на рычаг). Прежней снисходительной доброжелательности на лице редактора теперь не было — лежала тень усталости и нескрываемого осознания собственной малости. Дзержинский сразу же понял, что могло случиться за эти минуты, поэтому сказал:
— Господин Штыков, дайте мне материал о цензуре, глядишь, я поспособствую его публикации в бесцензурной прессе.
— Передадите подполью?
— Именно. Только я обязан стать цензором, и вы поймете, что я прав: пассаж о грехе перед царством божьим печатать не надо. Это компрометирует материал, это подобно тому, как после прокурорской речи против насильника потребовать для него не каторги, а извинения перед жертвой…
Штыков махнул рукою:
— Э… Правьте как хотите, все равно у нас это непроходимо. Я ведь царство божье для цензорского успокоения вставил — неужто не понимаете? Теперь вот что… Я посоветовался с коллегами…
— Я понимаю, господин Штыков. Не утруждайте себя оправданием. Я ждал такого исхода. Но вы сможете напечатать то, что мы вам передадим, не упоминая фамилии Микульской и Попова?
— Конечно. Только что это даст? Эффект не получится.
— Эффект получится.
Штыков покачал головой:
— Вы уж с газетчиком-то не спорьте.
— Вы тоже.
— То есть?
— Я — теперь уж нет смысла закрываться — знаю людей, которые могут связаться с «Червоным штандаром». По нашему уведомлению вы напечатаете бесфамильный материал, который я передам вам, а уж «Червоны штандар» или подпольная типография в листовках прокомментируют этот материал с именами, адресами и датами. На это вы готовы пойти?
Глаза Штыкова зажглись, — профессия уж такова, он снова подался к Дзержинскому, стараясь напустить небрежение:
— Как вы предлагаете? Аноним у нас — о некоей актрисе и некоем жандармском полковнике, а расшифровка у вас?
— Именно.
— Но как поймут наши читатели, что речь в анонимном материале идет именно о Микульской и Попове?
— Поймут. Вы напечатаете опровержение. Вы отмежуетесь от подпольной прессы. Вы это сделаете так, что умный поймет, а думать-то надо об умных, в них только и можно совесть разбудить…
29
Все утро Веженский, запершись в своей адвокатской конторе, посетителей не принимал, конспектировал Ленина: помощники подобрали ему опубликованные в «Новой жизни» статьи большевистского лидера.
Работал Веженский резко, устремленно, быстро: выделял те именно положения, которые казались ему наиболее важными, концепционными. Чем больше вчитывался в Ленина, тем более суровел лицом: перед ним была законченная программа, другой такой ни У кого в России не было.
«Осуществить ее конечно же не удастся ему, — думал Веженский, выписывая на листочки бумаги основные ленинские положения, — однако как способ мышления сие рецепторно, в методе отказать нельзя. А мы более всего грешим именно отсутствием метода, растекаемся по древу, уходим в словопрения… »
Первая работа, опубликованная в «Новой жизни», касалась задач РСДРП, обусловленных новым этапом развития русской революции, вынудившей царя к манифесту о гражданских свободах.
Ленин — в отличие от всех других лидеров левых групп, будь то эсеры, анархисты, коммунисты-максималисты, — потребовал немедленной перестройки всей работы партии: создания широкой, легальной организации, при сохранении конспиративного аппарата, поскольку репрессии правительства против социал-демократии продолжались.
Веженского это особенно озадачило. Ленин вырвался вперед, проявив куда большую смелость и политическую прозорливость по сравнению со всеми патриархами: и Вера Фигнер, и Засулич, и Кропоткин, и Брешко-Брешковская по-прежнему выступали против легальности.
«Что же такое, по Ленину, легализация? — записывал Веженский. — Это, следуя его логике, демократизация партии, привлечение в кружки и ячейки новых сил, завоевание молодежи. Легальность позволит провести выборы делегатов на съезд партии это, по его мысли, положит конец расколу, подведет черту под кружковщиной, выведет партию к рубежам общегосударственным, приучит ее членов к тому, чтобы принимать быстрые решения, обязывающие меньшинство подчиняться большинству. Этот ленинский пассаж опасен еще и потому, что в глазах всего общественного мнения РСДРП перестает быть таинственной подпольной организацией, а становится общеобозримой партией рабочих, открыто защищающей их интересы и, таким образом, подчиняющей фабричных своему влиянию не тайным словом, но явным делом».
Второй удар, нанесенный Лениным по всем оппонентам слева, также заинтересовал Веженского. Его статья о крестьянстве вызвала в стране сенсацию: Ленин поддержал лозунг эсеров «Земля ы поля»! Видимо, думал Веженский, человек этот во всем умеет видеть иерархию стремительной постепенности: «Борьба за землю и за волю, — утверждает Ленин, — есть демократическая борьба. Борьба за уничтожение господства капитала есть социалистическая борьба».
«То есть, — отмечал Веженский в своих записях, — большевистский фракционер и в этом сложнейшем для России вопросе не считает необходимым скрывать — хоть в малости — свой план, свое негативное отношение к сельской буржуазии, перед которой стелются и кадеты и с.
—революционеры».
«Выступления Ленина в повременной печати есть костяк целостной доктрины, — продолжал записывать Веженский. — После обращения к партии рабочих, — демократизм, легальность, выход на арену общенациональной политической жизни, — последовало изложение платформы по крестьянскому вопросу. Таким образом, Ленин обозначил — для политиков ясно — те две силы, на которые он намерен опираться. После этого, выделив фабричных и крестьян, он публикует статью о партийной литературе. Он провозглашает, отхлестывая по щекам наших цензоров, что можно говорить и писать все, что угодно, без малейших ограничений. Но далее — опять-таки отвергая игру в уступки, столь дорогую центру во главе с П. Н. Милюковым, — режет без компромисса, отказываясь от бесконечных словопрений нашей интеллигенции, что каждый союз, а партия — это и есть союз — волен прогнать таких членов, которые пользуются фирмой партии для проведения антипартийных взглядов. То есть Ленин, обещая литературе заинтересованную поддержку РСДРП, требует, как расплаты, верности от писателей. Однако он, видимо, хорошо знаком с миром литературы, ибо сразу же оговаривается, что литература — хрупка, ранима, многообразна; для определения грани между партийностью и антипартийностью может служить лишь партийная программа, устав. Ленин подчеркивающе выделяет критерий оценки истины — партийную программу, а не личные симпатии, столь характерные для крестьянской идеологии соц.
—революционеров и утонченной интеллигентности к. -демократов. Ленин никак не очерчивает вкусовые границы партийности, говоря, что у них твердый желудок, что они переварят христиан и даже мистиков. (Видимо, в данном случае он имел в виду Леонида Андреева, близкого к Горькому.)
Потом Ленин обращается к той силе, от которой во многом зависит судьба русского бунта, — к армии. И снова неожиданный поворот. Ленин берет армию под защиту!!! Это совершенно особое качество революционной пропаганды, рожденное, вероятно, восстанием на «Потемкине». Армия, по его концепции, не имеет права быть нейтральной. С кем же ей быть? Кому служить? Присяге? Государю? Нет — народу. Армия не должна быть прислужницей черной сотни, пособницей полиции.
И, в заключение, решительное размежевание с анархизмом, который, по Ленину, «буржуазное миросозерцание», «между социализмом и анархизмом лежит целая пропасть», а разжигание дурных наклонностей, спаивание, грабежи — дело рук полицейских провокаторов».
Веженский особо отметил: «Симптоматично, что статья против анархизма была опубликована после обращения к армии. Причина? Ленин, понятно, великолепно знает от своих пропагандистов, что армию призывали стрелять не в „народ“, а в „анархистов“. Он, таким образом, отделяет анархистов в элемент, угодный как раз реакции, он подчеркивает их отдельность от революционного движения».
Веженский отложил газеты с ленинскими статьями, посидел в задумчивости и заключил свои заметки следующим: «В Думе нашему братству надобно опираться не на кадетов и не на правых, — поздно уже, это силы ниспадающие. Задача состоит в том, чтобы оформить особую группу депутатов, исповедующих религию труда; русский народ гневается, когда ему мешают работать широко и мощно, так, как он мог бы; подобного рода отношение будет перенесено на думских депутатов, которые просят миром дать им возможность развернуть работу. Это угодно нашей идее „мастерка и кирпича“, идее возведения каменного здания всемирного масонства. Такого рода группу вынуждены будут поддерживать как соц. -демократы, так и кадеты. Постепенно, следовательно, эта „группа труда“ получит шанс выдвинуться в парламентское лидерство. Во тогда-то и придет время выдвижения нашего вождя, только тогда и никак не раньше».
В двенадцать часов Веженский отправился на встречу с мсье Гролю из «Монда». «Подмастерье» парижской ложи франкмасонов Жак Гролю прибыл в Петербург по просьбе Веженского. После давешнего собрания братства у постели умирающего Балашова нажали на все рычаги: вопрос о займе стоял как никогда остро, экономика России была на грани банкротства. Такого еще не случалось в истории; огромная держава, богатейшая народом, умом землею, должна была — не получи треклятых франков — объявить во всеуслышание: «Долги иностранцам вернуть не можем; кормить армию, полицию, чиновничество нечем; заводы — без поступления новых станков из Европы — хозяева останавливают; конец империи!»
Несмотря на то что Веженский и Гролю были членами одного и того же ордена франкмасонов, принадлежали, следовательно, одному и тому же классу имущих, однако интересы отстаивали — в определенной мере и на данном этапе истории — разные: Гролю представлял торжествующих французских финансистов, а Веженский — бесправных до недавнего высочайшего манифеста — русских буржуа, лишенных веса при выработке внешнеполитических решений — все делалось по усмотрению царя и окружавших его треповых (в иные времена — аракчеевых, бенкендорфов, Победоносцевых).
Поначалу Гролю решил было повести себя, как иные его соплеменники,
— покровительственно и снисходительно: «просветитель приехал в медвежье царство». Однако Веженский сразу же ощетинился.
— Европе следует помнить, — ослепительно улыбнулся он, выслушав вводные поучающие фразы парижанина, — что старушка вступает в пору заката. На смену Элладе шел дерзкий Рим, и в памяти мира остался тот из надменных эллинов, который вовремя почувствовал рождение нового исполина. И Цезарь и Наполеон рождались голыми и писклявыми; мы с вами
— тоже. Через три-четыре года Россия станет необъятным рынком сбыта для европейских товаров, а ведь именно рынок определяет тех, кто на него работает. Так что не жалейте нас и не давайте мне профессорских советов: в России каждый мужик — Руссо, он вам сутки будет давать советы, а вот что касается работы, тут он начнет чесать в затылке. К работе его надо подвигнуть интересом. Высший интерес, увы, — это золото, а его у нас нет. Если вы не подействуете через ваших братьев, мужику ничего не останется, как продолжать точить вилы против господ, а поддев своих господ, то есть нас, он, мужик, не умея толком трудиться, пойдет за едою к вам, в Европу… Неизвестно, кто кому более нужен, Жак: Россия — Европе или Европа — России. Мы нашу Россию можем пока что удерживать. Не дадите заем — не сдержим, сил не хватит.
— Я отдаю дань вашей честности, дорогой Александр, — ответил Гролю, не обидевшись за то, как отбрил его магистр русского ордена — отбрил поделом, в каждом слове логика, и не простая, а переплавленная в тигле чувств, с такой — не поспоришь, с ней соглашаться надо. — Я принимаю вашу позицию, да, поднимающемуся колоссу нужны деньги, чтобы отвратить подданных от кровавого хаоса, заставить заниматься собою, вместо того чтобы претендовать на чужое. Но братья уполномочили меня спросить: вы можете дать гарантию, что, поднявшись с нашей помощью, русский медведь не сблокируется с немецким дрессировщиком?
— Вопрос неправомочен.
— Вы меня уже один раз отчитали, — заметил Гролю. — Мне казалось — достаточно.
— Вы не привыкли к нашей манере, милый Жак, — ответил Веженский. — Я с вами говорил — по нашим, российским понятиям — как начинающий доктор с богатым пациентом. Отчитывают у нас иначе: по уху да в рыло…
— Что, что? — Гролю не понял, нахмурился, хотя по-русски говорил без видимого акцента.
— Трудно переводимый идиом, — ухмыльнулся Веженский. — «Рыло» — это физиономия. А что касаемо гарантий… Ошибок было много — за это расплачиваемся. Но только ли с нашей стороны? Париж отказал нам в займе еще в дни войны против микадо, вы ведь боялись нашего усиления, боялись, что медведь подомнет япошат и станет двуединым — евроазиатским. Но и после того, как нас затолкали на мирную конференцию в Портсмут и договор мы подписали с Японией, вы снова ведь отказали нам в займе…
— Мы не отказали. Мы выставили условие…
— Это «условие» равносильно отказу. Вы хотели, чтобы мы вывернули руки кайзеру и заставили его отдать вам Марокко…
— Марокко — повод. Мы хотели и хотим вашего разрыва с кайзером. Мы хотим безусловного франко-русского союза. Мы поняли трудное положение Витте, ибо он вынужден считаться с кайзером, насколько нам известно, и согласились с его идеей международной конференции финансистов в Москве
— мы верили, что здравый смысл франко-русской идеи восторжествует над его германо-франко-русской утопией. Не наша вина, что финансисты съехались в Москву, когда там начали стрелять анархисты… Не наша вина… Кто же даст деньги стране, разрываемой междоусобицами?
— У нас революция, Жак, а не междоусобица. Когда междоусобица, заем дают тому, кто может в этой сваре своих стать первым. Отдайте должное Витте — он все же принудил кайзера отступить в Марокко. А ваш Нецлин и все его банки до сих пор медлят. И кончится это катастрофой: неуправляемый мужик пойдет на Европу. Неужели непонятно? ..
— Гарантии, — повторил Гролю упрямо. — Где гарантии, что господина Витте не сменит другой политик? Где гарантии, что этот новый политик не окажется сторонником чисто немецкой ориентации? Где гарантии, что он, этот новый русский премьер, не поедет на поклон к кайзеру в бронепоезде, построенном на французские деньги?
— У вас есть данные о неустойчивости Витте?
— О, что вы, мой дорогой Александр, что вы! Мы убеждены в его незыблемой прочности… Я выдвигаю версии — если не с друзьями фантазировать, то с кем же?!
— А вот у нас есть данные, брат, что дни Витте сочтены. — Веженский уперся взглядом в гладкий лоб француза. — И свалят его на днях.
— О-ля-ля! — Гролю сыграл изумление, и это рассердило Веженского: он сообщил парижским братьям шифрограммой о положении, сложившемся в Зимнем дворце, — следствием этой информации и явился приезд француза в Петербург, чего ж сейчас дурака валять?
— Послушайте меня, брат, — во второй раз уже подчеркнул «брата» Веженский. — Не надо с нами играть. Все равно проиграете, Россия — это Россия. О том, что Витте уже мертв, Парижу сообщил я, магистр нашей ложи, да, да, это я. Коли вам об этом не сообщил ваш мастер, значит, вы не имеете полномочий говорить со веною, значит, у нас с вами разные уровни в братстве.
Гролю тронул усы мизинцем — показывал, как старательно скрывает улыбку всезнания.
«Дурак, — сказал себе Веженский. — В каждой организации тайных единомышленников есть свой дурак. И зовут его „первой ласточкой“. А вот за то, что парижская ложа посмела прислать к нам дурака, мы еще счет выставим».
— Мой дорогой Александр, не думайте обо мне слишком плохо. Я следую инструкциям.
— Я тоже.
— Пожелание моих братьев сводится к тому, чтобы делегация вашего генерального штаба, прибывшая в Париж, немедленно подписала тот договор, который подготовлен нашими военными.
— Подпишет.
— Погодите… Вам ведь неизвестны наши условия…
— Нам известны ваши условия. Вы требуете от нас выработки совместного плана развертывания войск в случае войны с Германией. Мы готовы на это.
К этому готовы не были. Веженский сказал неправду. Он, однако, должен будет сделать так, чтобы подписали. Всепроникаемость масонства давала такую возможность. Генерал Половский обязан сделать так, что подпишут. Балашов сегодня же пригласит на ужин — придется старику вынести это, коли не отдает фартука мастера, — генерала Иванова, товарища министра; князь Тоганов встретится с братом Трепова — тот поддается.
… Сразу же после беседы с Гролю, проводив его до кабриолета, Веженский позвонил по телефонному аппарату в канцелярию военной разведки и попросил передать, что ждет генерала Половского в два часа в ресторации Гурадзе.
Половский, когда его провели в отдельный кабинет, удивленно пожал тонкую, длинную руку адвоката:
— Я решил, что-то стряслось, Александр Федорович? Отложил ланч с британским атташе, приехал к вам.
— Мы примем условия французского генерального штаба?
— Милютин — за.
— Это не ответ. Милютин пока не министр. Кто против?
— Сухомлинов против, Редигер, Штюрмер…
— Как можно заставить их замолчать?
— Развести государя с немкой, — улыбнулся Половский.
— Бракоразводный процесс я берусь выиграть, — зло ответил Веженский. — А что, если пресса, которая близка к нам, застращает Царское Село близостью нового весеннего бунта? Необходимостью вывести войска? Подействует?
— Это — да. Кроме Меллера-Закомельского, верных двору головорезов мало.
— Поймут, что без денег войско — это не войско?
— Поможем понять.
— Брат, я обязан отправить телеграмму в ложу, в Париж — «мы — за». Это — свидетельство нашей силы. Это заем. Я могу сказать так?
— Хм… Можно ответить позже?
— Когда?
— Часов в десять…
— Хорошо. Жду. Очень жду… Что станете есть? Я заказал пити и хорошее мясо.
— Пити не надо бы мне, печень болит.
— Сходите к Бадмаеву, он маг от медицины. Пити заменим на куриную лапшу, она здесь постная.
— Хорошо. Других важностей нет?
— Вам имя Мануйлова-Манусевича говорит что-нибудь?
— Какой-то проходимец…
— Не какой-то, а высочайшего полета, приставленный министерством внутренних дел к канцелярии Витте… Так вот, он начал кампанию за легальное возвращение в Россию Гапона.
— Ко-ого?!
— Да, да, Георгия Гапона. Ходил к Витте, докладывал, что Гапон разочарован в революционерах, готов пасть на колени и просить прощения у государя, что он сможет отбить рабочих от сил анархии и повернуть их в русло правопорядка… То есть Мануйлов-Манусевич выдвигает план авантюрный, но весьма и весьма для умных заводчиков притягательный…
— Снова полицейские штучки? Дурново не дают покоя лавры Плеве с «зубатовским социализмом»?
— Вот тут-то и заключена главная загвоздка, мой дорогой! Нет! Дурново ничего об этом не знает! Мануйлов-Манусевич какими-то хитростями уговорил Витте попросить министра Тимирязева, чтобы он принял журналиста Матюшинского — тот вошел с проектом возобновления работы читален, организованных в свое время Гапоном. Не к Дурново был Матюшинский подтолкнут Манусевичем, а именно к Тимирязеву. А Тимирязев, вместо того чтобы повернуть журналиста по нужному адресу, то есть к Дурново, сам отправился к государю. И получил аудиенцию. И государь повелел выдать Тимирязеву тридцать тысяч на эти самые читальни Гапона. Мотивировка: создание подконтрольных профессиональных союзов. И Тимирязев деньги эти передал Матюшинскому. А тот взял да и вчера дал с деньгами государя тягу…
Вошел половой, принес блюдо с зеленью, сыром и пити.
— Вано, ты пити поменяй на лапшу, мой гость острое не ест.
— Кинжал — острый, — ответил Вано, — пити мокрый. Сейчас заменю.
Веженский проводил его взглядом и продолжил:
— Я все утро сегодня листал статьи в газетах октябристов по поводу будущего профессиональных союзов, соотнес с их позицией заинтересованность Тимирязева в гапоновских читальнях, его самочинный визит в Царское Село и пришел к выводу, что на место премьера Гучков с компанией метили Тимирязева. Он у них в кармане. Он знающий человек. И если Гучков приведет его в Зимний, Тимирязев, скорее всего, станет не промежуточной фигурой, а устойчивой, подпертой…
Половский спросил:
— К Тимирязеву ключей нет?
— Поздно. Он взят на корню. Он в кармане у Гучкова.
— Так, может быть, пора встретиться с Гучковым?
— Поэтому я и решил посоветоваться с вами. Прежде чем мы вынесем вопрос на обсуждение братства, мне хотелось бы обговорить вероятия. Если желаете мою точку зрения, то к Гучкову надо идти после того, как мы свалим Тимирязева.
— Вы предлагаете идти на блок с Гучковым, показав ему наше всезнающее могущество?
— Конечно.
— А может быть, стоило бы показать себя иначе?
— Как?
— Подружиться с Тимирязевым.
— Я бы хотел просить вас, генерал, выяснить по линии военной разведки в Париже и Берлине, как там относятся к Гучкову.
— Относятся хорошо.
— Это не ответ. Надобно попробовать получить имена его деловых контрагентов в Лондоне и Париже, найти к нему подход с той стороны, отсюда на него толком не повлияешь — слишком богат, а потому груб, обидно с ним ссориться, потом склеивать будет трудно.
— А что Столыпин?
Вано принес на подносе глиняную миску с жирной лапшой.
— Курица был индюком, жира много, звездами бульон набит, кушайте на здоровье.
Веженский отхлебнул, поглядел на Половского, сморщил кончик утиного носа, и вдруг лицо его собралось морщинистой, устремленной силой.
— Если Столыпин будет неуправляем — свалим, как Тимирязева…
— Убеждены?
— Читайте завтрашнюю «Биржевку».
— Всех повалим, — улыбнулся Половский, — кто ж останется?
— Кто-нибудь останется…
Половский не донес ложку с лапшой до рта, положил ее в тарелку осторожно, медленно отер салфеткой губы и тихо сказал:
— При таком диктаторе, как вы, я готов войти в дело главкомом.
… Валили министров, распределяли портфели будущего кабинета, составляли коалиции, думали о разделении сфер влияния в Государственной думе, жили, словом, в своем мире, своими интересами, не понимая, что судьбы государств и народов решает иное. Не понимали, а скорее, не могли понять, что ход исторических событий невозможно определить одними лишь застольными собеседованиями, сколь бы могущественны и богаты ни были собеседующие; в конечном счете все определяют те, которые производят машины, сеют хлеб, учат детей. А люди эти жили в условиях ужасных, нечеловеческих, и не только потому, что голод морил Поволжье, инфекции косили Туркестан, холера вспыхивала то здесь, то там; люди были лишены элементарных человеческих прав: нельзя было говорить то, что думаешь, учиться тому, чему хотелось, порицать то, что заслуживало порицания. Слова и мысли предписывались верхом, который нового страшился, закрывался от него, был к нему — в силу своей духовной структуры — не готов. Нищета, унизительное бесправие порождали такое общественное настроение миллионов, которое лишь на время можно было загнать вовнутрь, только какое-то время страх двигал поступками людей. Однако чем стремительнее становилось время, подчиненное все более изматывающей, но и организующей ритмике промышленного и научного развития, чем большее количество людей оказывалось вовлеченным в связующую круговерть производства, чем меньшими делались расстояния, подвластные ныне паровозу и пароходу, чем легче становилось познавание других стран с их нравами и обычаями, тем очевиднее страх уступал место тяжелой ненависти: до какой же поры мы будем париями мира, до какой поры рабья покорность и преклонение перед кучкой тиранов возможны в стране, родившей Разина, Рылеева, Чернышевского и Ульянова с Кибальчичем?! Страх пока еще гарантировал сохранение того, что имелось. Но что же имел человек — из тех ста пятидесяти голодных и бесправных миллионов. Кусок хлеба? Так ведь и скотине корм дают — иначе не выживет. Сапоги? Так ведь и коня подковывают, иначе поле не вспашешь. Книгу? Не имел. Лекарства? Не имел. Школу? Не имел. Сносное жилье? Не имел. Сильные даровали то, что унижало рабочего человека, ибо полагалось ему в сотни раз больше. Поэтому страх потерять постепенно уступал место неудовлетворенности тем, что было. Чем дольше страх вдавливали в умы и сердца трудящихся, тем страшнее становился невыплеснувшийся гнев. Марксова грозная истина о том, что пролетариату нечего терять кроме цепей, овладевала рабочей массой. Именно миллионы, объединенные общей нищетой, бесправием, забитостью, и должны в конечном счете сказать решающее слово, а никак не те, кто собирался в гостиных и выстраивал будущее. Воистину можно долго обманывать меньшую часть народа, большинство можно обмануть на короткое время, однако нельзя обманывать весь народ постоянно.
Гучков заехал за Николаевым утром, в девять; Родзянко заставил сибиряка купить этаж на Мойке: «Лидер партии не имеет права жить в номерах, Кирилл. Маньки рыскают по гардеробам, а где пиджак, там и записка какая или отчет… Маньки социалистам служат, Кирилл, не нам, нас они лишь обслуживают, у них глаз холодный ныне, они ж теперь свободу получили».
Николаев купил две квартиры — шесть комнат; за день мастеровые пробили стену, столяры установили дверь; американский гувернер Джон Иванович Скотт, проживший в доме Николаевых двадцать шесть лет, раздевшись до трусов, руководил работой.
— Э, бойз, водка вечером, — рокотал он, — унюхаю сапах — не будет манэй, хороший работ — оплата в два раз выше и много водки. Курит нельзя. Кто много курит, мало работать.
Джон Иванович закупил ящик водки, мешок калачей и окорок, все это поставил посреди комнаты, которую мастеровые пообещали сдать к вечеру
— работа спорилась.
… Гучков валко прошелся по квартире, ступал как-то особенно, уверенно по картонам, которыми застлан был желтый дощатый пол, скептически посмотрел на паркет, завезенный ночью, посоветовал Николаеву ничего не трогать: «Старина свое возьмет, скоро стены начнем скоблить, росписи новгородских времен искать, паркет расковыривать и клен стелить, как при Александре, чтоб кадрилилось».
К половине десятого прикатили в гимнастический зал, на Васильевский остров: здесь была договорена встреча с Петром Аркадьевичем Столыпиным.
— Тимирязев уходит, — еще по дороге сказал Гучков. — Ему палку кто-то под ноги бросил. «Биржевку» сегодняшнюю читал. Нет? Тю-тю Тимирязев, ему теперь от Гапона не отмыться. Хорошо нас лупят, изящно, сказал бы я. Сукин сын Мануйлов-Манусевич…
— Ничего. Думаешь, он Тимирязева валил?
— Или кадюки что пронюхали, или он показал зубы. Шепчут, будто граф связан с Ложей. За ними в Париже сила. Ротшильды за ними. Я поэтому решил с Веженским, его адвокатом, встретится — не возражаешь? Сегодня б поужинали вместе, а?
— Чего ж возражать — не возражаю…
— Сердит ты.
— Да уж не радостен.
— Что так?
Николаев ответил не сразу, разглядывал припущенные последним инеем деревья, что посажены были аллеей на острове.
— Видишь ли ты, Саша… Когда мы все затевали, я полагал, что политика будет для нас неким воротком в экономику. Я же в Нью-Йорке делу учен, прагматик я… Ну и полагал: политика лишь поможет укрепить завоеванный плацдарм, а дальше пойдем ширить дело. А получилось, будто ногами в тину влез, и затягивает, затягивает. Не знаю, как тебя, а меня это все раздражать начало, я дело запустил, Саша, я пульса не чую, я проекты толком не читаю, чертежи не могу править.
— Открой бюро. Пригласи адвокатов. Все охватить невозможно, будь ты хоть семи пядей во лбу. Мы пробьем брешь в экономике, без этого гибель, но разве один что сделаешь? Без канцелярии не обернешься, Кирилл. Экономика ныне без политики будет невозможна, так что хочешь ты, не хочешь, а партия будет красть у тебя время… Впрочем, неверно говорить «красть». Время, отданное политике, обернется дивидендом в экономике; это с непривычки ты нервничаешь, Кирилл, с непривычки.
— Я строитель, Саша, мой идеал — Гарин-Михайловский, я «Инженеров» на ночь читаю.
— Понимаю. Приведем на ключи надежных людей, отладим ремни, нас связывающие, станешь читать чертежи, в проекты правки вносить, Кирилл. Поэтому-то и хочу показать тебе Столыпина: если не Тимирязев — только он.
— Почему так легко отдаешь Тимирязева?
— От Гапона не отмыться, — повторил Гучков. — Мы еще не научены искусству коалиций, Кирилл, мы хотели быть монополистами, мы хотели иметь карманное министерство — видимо, так не получится…
— Что ж, кадетов звать за стол?
— А что? Может, и кадюков. Важно усадить их за стол — беседу нам вести, от нас зависит, как повернуть.
— При чем тогда Балашов?
— Если он связан с Ложей, его поддержка необходима. Связи, Кирилл, связи, — повторил Гучков, наблюдая, как шофер ловко заложил авто в вираж, — связи решают все.
Со Столыпиным встретились в гимнастическом зале: Петр Аркадьевич висел на шведской стенке. Николаев отметил, что тело бывшего саратовского генерал-губернатора крепко, плечи бугристы, живот вмят, по-крестьянски подобран.
С людьми Гучков сходился быстро: познакомился он со Столыпиным неделю назад, но сейчас говорил с ним, как со старым приятелем:
— Знакомьтесь. Петр Аркадьевич, с моим другом, Кириллом Прокопьевичем, поэт дела, режет Сибирь железною дорогой…
— Добрый день, — сказал Николаев. — Рад встрече. Столыпин дружески кивнул, негромко откликнулся:
— Куропаткин, говорят, плакал, молил государя: дайте пять эшелонов в день, разобью японцев.
— Ну да! — усмехнулся Николаев, подтянувшись рядом со Столыпиным на стенке. — По одной-то колее! Коли нам о дружестве с японцами думать, с ними и с североамериканцами, две, а то и четыре колеи надобно тащить на Дальний Восток… Американец доллар не вложит, пока ты копейку не истратил.
— Меня Сибирь с этой точки зрения не интересует, — сказал Столыпин. — Сибирь — поле крестьянского переосмысления России, наше аграрное Эльдорадо…
— И так можно, — согласился Николаев и начал делать «уголок», ощущая, как трясутся мышцы живота: много набрал за последние месяцы, каждый день чуть не три банкета, пойди удержись…
Гучков размялся на большом мате посреди зала, потер короткую борцовскую шею, обернулся к Столыпину:
— На ковер, Петр Аркадьевич, купеза против агрария.
Столыпин легко со стенки спрыгнул, вмиг расслабившись, пошел на мат — лодыжки тонкие, перехваченные, икры цепкие, по-татарски кривоватые, но с барской белизной,
«Ну и кровей в нас, — подумал Николаев, — нет другой нации, где б столько всякого намешалось. А это — талантливо, это значит, молоды мы, и нет в нас вырождения. Много — это всегда отменно, демократично; англичанин оттого сонный, что малокровен».
Гучков первым набросил руку на шею Столыпина, но тот красиво ушел, начал обхаживать противника; глаза-щелочки смотрели цепко, без торопливости. Гучков снова выбросил руку, норовя ухватить шею Столыпина, он любил брать верхним захватом, но Столыпин сделал обманный финт, заклещил руку Гучкова, рубанул подножку, обвалился сверху легко, будто подрубленный. Противники засопели, тучковская шея налилась кровью; Столыпин же был по-прежнему бледен, лицо бесстрастно, словно напряженно рассматривал кого-то в зеркале.
Николаев отметил момент, когда Гучков мог вырваться, но не вырвался — поддавался.
«Красиво проигрывает, черт, — подумал удовлетворенно, — в радость Столыпину проигрывает. На слом пробует, все с умыслом делает!»
Столыпин наконец положил Гучкова на лопатки, поднялся, красивым жестом, словно римский консул, набросил простыню, оставленную инструктором гимнастики Чарльзом Гроу, заметил:
— Могли победить, поддались вы мне, Александр Иванович. Я проигрывать не люблю — вам, видимо, говорили, — но таким, как вы, готов!
— Да господи! Петр Аркадьевич! — выказал свое купечество Гучков. — Реванш позвольте! Требую крови!
— Сейчас-то уконтрапупите, — ответил Столыпин. — Вон вы какой медведь…
— А со мной? — спросил Николаев. — Я разогрелся, я готов.
— Да я ж побеждать люблю, — улыбнулся наконец Столыпин. — Меня давеча Александр Федорович Веженский спросил, не кажутся ли мне победы Витте «пирровыми». А я ответил: «Пирровы» забудутся, «победы» останутся».
Николаев вышел на мат, походил вокруг Гучкова, потом — при кажущейся сонности — опоясал приятеля, стремительно поднял над собой, повернул в воздухе боком и шмякнул оземь.
— Мы в Бодайбо приемам не учены, Саша, не взыщи…
Пошли в душевую: мистер Чарльз, лондонский кудесник, наладил особую процедуру — стегал водой под напором, тело краснело, будто после крапивы.
Потом они лезли в бассейн, разделенный надвое: в одной половине чуть не кипяток, в другой — ледяная вода. Гучков, опускаясь в ледяную купель, тонко повизгивал; Столыпин окунался с головой и делался похожим на Стеньку Разина. Потом, когда Чарльз положил их рядом, укутав шерстяными одеялами, Гучков, блаженно отдуваясь, предложил:
— Петр Аркадьевич, не откажетесь встретиться с нашими друзьями? Мы сегодня собираемся в «Европе» в десять.
Столыпин — не открывая глаз — поинтересовался:
— Тимирязев зван?
Гучков ответил рассеянно:
— Он ведь не только к сдаче дел готовится, Петр Аркадьевич, он готовится и к тому, чтобы поехать в Лондон, покупать для Кирилла Прокопьевича проекты мостов на подвесках и Родзянке — инвентарь для обработки свеклы…
— Счастливый человек, — откликнулся Столыпин, — инженер, ему повороты судьбы не страшны. А нам, чиновникам, что делать?
— Обставиться, — пробурчал Николаев.
— Где вы в России столько верных людей наберете, чтоб спину прикрыть? — спросил Столыпин. — Французы во всем женщину ищут, это в них от пресыщения свободой. Нам бы мужчин найти, мужчин…
Ужин с Веженским кончился в семь. На прощание Гучков сказал:
— Александр Федорович, если мы будем уподобляться милюковцам — все профукаем. Нам надо локоть друг дружки ощущать — тогда устоим.
— Милюковский локоть престижен, — ответил Веженский. — Его локоток на Лондон опирается.
— Вот вы с ним и поговорите, — предложил Николаев. — А то деремся под одеялом, будто дети. Свалится одеяло-то, а под ним мужики ворочаются, увлекшись дурьей страстью играть в «главного». Россия — главное, Александр Федорович. А мы ее на себя примеряем, будто кафтан. Веженский улыбнулся:
— Ваши слова можно Милюкову передать?
— Так не вы ж будете передавать, — так же улыбчиво откликнулся Гучков. — А те, кому поручите, найдут подобающую формулировку…
30
«Его Высокоблагородию полковнику Глазову Г. В. Милостивый государь Глеб Витальевич! В ответ на Ваше предписание от 29. XII 1905 за №729/а-6 должен уведомить, что фракция „большинства“, принимавшая ведущее участие в беспорядках, имевших место в Минске в ноябре и декабре прошлого года, ныне почти полностью ликвидирована, ее руководители заарестованы и будут осуждены на каторжные работы или пожизненную ссылку в отдаленные районы Сибири. В то же время хочу обратить Ваше внимание на то, что после окончания работы военно-полевых судов решительное и быстрое наказание революционеров будет затруднено, ибо ныне, после распубликования Высочайшего Манифеста, некоторые судебные чиновники проявляют беспокойство по поводу „жесткости приговоров по делам, приуготовленным Охраною“. Было бы весьма желательно получить от Вас разъясняющую рекомендацию по поводу того, как следует в новых условиях проводить ликвидации, исходя из стандарта, установленного Департаментом полиции для всех отделений Охраны. В ожидании ответа Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга подполковник Завалишин»«МИНСК ОХРАНА ЗАВАЛИШИНУ СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ТЧК МАНИФЕСТ ОПУБЛИКОВАН ДЛЯ ПОДДАННЫХ А ВЫ ГОСУДАРЮ СЛУГА ТЧК ПОСТУПАЙТЕ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗПТ ЗА СТРОГОСТЬ НЕ ОСУДЯТ ЗПТ ЗА СЛАБОСТЬ ПРИЗОВЕМ К ОТВЕТУ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК». «Его Высокоблагородию полковнику корпуса жандармов Глазову Г. В. Милостивый государь Глеб Витальевич! Выполняя Ваше предписание от 29. XII. 1905 за №729/а-6, спешу уведомить Вас, что большинство социал-демократов ленинского направления, привлеченные к дознанию по делу о преступном бунте, поднятом революционно-анархическим элементом в Москве сразу же после начала С. -Петербургской стачки, находятся в тюрьме. (Вам известно также из моего письма от 18. XII. 1905 г., что множество революционеров погибло в перестрелке и пали жертвами возмущения горожан, преданных государю.) Следует заметить, что никто из арестованных партийцев РСДРП (фракция б-ков) не соглашается давать откровенного признания и к сотрудничеству не склоняется. Посему я хотел бы озадачить Вас вопросом, достаточно ли опросного протокола и описания преступных деяний, в коих принимал участие тот или иной революционер, для того, чтобы передавать дело в военно-полевой суд? Ежели такого рода документов достаточно, то большинство предполагаемых активистов, которые имеют шанс быть выбранными на съезд партии, окажутся на каторге или в ссылке. Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга, полковник Орлов». «МОСКВА ОТДЕЛЕНИЕ ОХРАНЫ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ОРЛОВУ ТЧК ПРИШЛИТЕ ОБРАЗЕЦ ТЧК ГЛАЗОВ». «Милостивый государь Глеб Витальевич! Я проследил за тем, чтобы Ваше предписание, связанное с судьбою „большинства“ русской социал-демократии, было тщательно изучено сотрудниками Люблинского, Петроковского, Лодзинского и Седлецкого районных отделений Охраны. Я взял на себя смелость объяснить истинную причину беспокойства, проявленного Вами относительно этого вопроса, ибо „ленинисты“ ныне стали „детонатором“ противуправительственного движения в Империи. Однако исследование формуляров на лип, арестованных в пределах Привислинского края, свидетельствует о том, что все они распадаются на две группы: к одной относятся террористы из партии ППС, возглавляемой Пилсудским, к другой
— с. -демократы Польши, руководимые Люксембург и Дзержинским. Должен с горечью констатировать, что с. -демократы Польши и Литвы, содержащиеся в арестных домах, стоят на позиции «большинства» РСДРП. Таким образом, отдельные ликвидации мало что изменят, ибо СДКПиЛ явно тяготеет к соц.
—демократии «ленинского» образа мышления. Был бы весьма обязан Вам, милостивый государь Глеб Витальевич, если бы Вы нашли время и возможность написать мне, как, по-Вашему, следует организовывать работу Охраны в новых условиях, которые, не хочу скрывать, связывают нам руки. Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга полковник И. Попов». «ВАРШАВСКАЯ ОХРАНА ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПОПОВУ ТЧК РУКИ РАЗВЯЖИТЕ ТЧК ПОСТУПАЙТЕ СОБСТВЕННОМУ РАЗУМЕНИЮ РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗАДАЧАМИ СЛУЖЕНИЯ ГОСУДАРЮ ТЧК ЕСЛИ РАСКОЛ СДКПиЛ НЕВОЗМОЖЕН ДУМАЙТЕ ОБ УДАРЕ ПО ВСЕЙ ПАРТИИ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК».
«ПЕТЕРБУРГ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ПОЛКОВНИКУ ГЛАЗОВУ СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ТЧК ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ ДЕНЬ ПРИЕМА ДЛЯ ЛИЧНОГО ДОКЛАДА ПО ПОВОДУ УДАРА ТЧК ПОПОВ ТЧК». «ВАРШАВА ОХРАНА ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПОПОВУ ТЧК СОБЛАГОВОЛИТЕ НАУЧИТЬСЯ САМОМУ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗПТ НЯНЕК БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК». «Его Высокоблагородию полковнику Глазову Г. В. Милостивый государь Глеб Витальевич! В предписании за №729/а-6 Вы изволили обратить особое внимание на судьбу лиц, принадлежащих к с. -демократии большинства, так наз. „ленинистов“. Мне удалось выяснить с полнейшей определенностью, что из 492 арестованных экспедициею барона генерал-лейтенанта Меллера-Закомельского 258 лиц принадлежали к фракции „большинства“, 96 к фракции „меньшинства“, 104
— соц. -революционеры, анархистов — 7. Из 678 человек, арестованных ныне Отделением Охраны, 425 человек определенно «ленинистских» убеждений, 115 — считают себя принадлежащими к фракции «меньшинства». Можно со всей определенностью полагать, что выборы делегатов, происходящие сейчас в комитете РСДРП на предстоящий их съезд, никак не смогут принести победы «ленинистам» ввиду того, что они крайне ослаблены после проведенных арестов. В своей дальнейшей работе я не премину руководствоваться Вашим предписанием, смысл которого мне становится понятен с каждым днем все более и более, ибо пропагандистская работа «большинства» РСДРП имеет особо ядовитый характер. Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга подполковник Ухов».
31
Попов из охранки выходил теперь редко — только домой и в тюрьму; с трудом переборов страх, который, казалось, въелся в каждую его пору, отправился на встречу с Леопольдом Ероховским. Вручив деньги на поездку в Берлин, рассказал, как должно вести себя, и предупредил о необходимости блюсти осторожность.
— А вы что словно в воду опущены? — удивился Ероховский. — Перепили вчера?
— Какое там… Работы много, устал, мой друг, невероятно устал.
— Так давайте отдохнем, я махнуть не прочь.
Попов боялся пить с людьми: после пятой рюмки — по иным-то пустяки, безделица — начиналось видение, одно и то же, до изматывающей душу тягостности одинаковое. Пил он теперь, запираясь в кабинете, вечером уже. Он весь день ждал того часа, когда можно начать, припасть сухим, потрескавшимся ртом к большой рюмке, сладко вобрать в себя горечь водки и ждать прихода Стефании.
Когда ему сказали об исчезновении Турчанинова (конечно, Сушков, змей, новость притащил на хвосте, ликовал), наступила прострация: ну и пусть все идет, как идет, ну и пусть провал за провалом.
— Что ж делать-то? — спросил у него Попов томным голосом, испытывая к себе какую-то отстраненную жалость. — Что станем делать, а?
— Ждать будем, — ответил Сушков. — Он даст о себе знать.
— А коли и его убили?
— «И его»? — удивленно переспросил Сушков. — Не понимаю. Кого еще вы имеете в виду?
— Микульску, — хохотнул Попов, чувствуя, что мысль не подчиняется ему, существует отдельно. Даже когда Сушков осторожно вышел из кабинета, ему хотелось продолжать говорить, только бы как-то заполнить осязаемую, громкую тишину.
Утром, после бессонной ночи, похмелье было особенно тягостным, голова трещала; пил черный чай, чтобы взбодриться, подумывал о кокаине, решил было взять в сыскной, у Ковалика, «для опыта», но тот, с готовностью пообещав, предупредил, что с алкоголем несовместимо, может быть «летальный исход». Попов сначала-то не придал этим его словечкам значения, думал, красуется сыщик иностранными терминами. Но потом долго, туго рассуждал, не было ли в этом особого умысла, не по его ли адресу пульнул? Как-никак дважды встречались по делу Микульской, учуял, верно, — перегаром несло за версту, усы одеколонил
— не помогало, да еще к тому Дурел от запаха.
… Ероховский поначалу о Микульской молчал, ощущалось какое-то неудобство в разговоре, будто что пролегло между ними, хотя, как обычно, зло шутил, рассказывал сплетни, бранил губернатора за излишние строгости военного положения и пил одну рюмку за другою, почти не закусывая: «Или хлестать, или жрать, или баб кохать — каждое— дело требует соло! » Но потом не удержался, лицо побледнело, только лихорадочно зажглось в глазах, спросил:
— Нашли тех, кто погубил Стефу, полковник?
— Одного — да.
— Кто таков?
— Социал-демократ, — затверженно произнес Попов.
— А причина? По какой надобности убили ее?
— Мстили.
— За что?
— Об этом еще рано, пан Леопольд. В свое время открою.
— А что за человек?
— Сапожник. Темный дегенерат.
— Сапожник?! Бах?!
Попов испуганно встрепенулся:
— А вам откуда известно?!
— Так я ж об этом сказал, Игорь Васильевич. Нет, положительно вы сегодня не в себе, неужели забыли?
— Как же, как же, помню, мой друг. — Попов заставил себя улыбнуться. — Я все помню… Только рано об этом, не надо, не будоражьте, и так тяжело — сердце разрывается от горя за ласточку нашу…
— И все же вы нынче не в себе, полковник, я по глазам вижу. Выпейте — расслабитесь.
— Я-то выпью, а вот вы в Берлине не пейте, у вас язык развязывается, когда переберете, — вспомнил Попов истинную цель своей с Ероховским встречи. — А когда переедете в Стокгольм, там вообще завяжите наглухо.
— В Стокгольм? — удивился Ероховский. — А что я там потерял?
Попов подумал, что про Стокгольм, видно, проговорился, не было в глазовской телеграмме указаний говорить про съезд.
— Это я вам тайну открыл, пан Леопольд, вы забудьте об этом. Ждет вас интереснейшее турне, массу впечатлений вынесете, увидите зверей лицом, что называется, к лицу.
«Снова лишнее несу, — понял Попов, — слова-то сами льются, будто и не мои».
— А что за звери? — не унимался Ероховский, опрокидывая одну рюмку за другой. — Какой масти?
— Социал-демократической, — ответил Попов, понимая, что говорить этого он и вовсе не должен был — а ну Глазов лично его в Стокгольм поволочет? Тот к любому в душу влезет, все вытащит, ненавижу, дьявол верткий, сунул в Варшаву, к ляхам чертовым, а сам-то в Россию подался, там дом, там вертеться не надо, как здесь…
Попов выпил рюмку, увидел Микульску, которая к нему пошла от двери, сразу же поднялся, сунул Ероховскому руку и торопливо сбежал по лестнице.
— В тюрьму, — сквозь зубы проговорил фурману Гришке.
Бах, закованный в кандалы, сидел в карцере, в подвале, откуда голоса не слышно: кричи не кричи, все никто не прознает, а стражнику интересно, как арестант надрывается: приникнет к глазку и смотрит, всласть смотрит, на чужое-то кому не занятно полюбопытствовать?
Попов сел на высокую табуретку, принесенную стражником, ноги поднял, уместил на перекладине, чтобы не замочить сапог, вода стояла по щиколотку, и принялся буравить лицо Баха глазами, в которых нездорово поблескивало.
Смотрел долго, пока не защипало веки. Достал из кармана газету с сообщением про гибель Микульской, сказал:
— Поди сюда, Бах.
Тот приблизился. Попов заметил, как разбухла кожа на ногах арестанта: бос, в воде третий день.
— Читай, — сказал Попов и вытянул газету так, чтобы Бах мог прочесть. Дождался, пока тот, прищурившись — лампочка была под потолком грязная, светила вполнакала, — разобрал строки.
— Какую женщину убили, — Бах с трудом разлепил белые губы, — нехристи.
— Именно так. Убили ее твои друзья, нехристи, из мести убили, за то, что мы тебя арестовали, а ее, разобравшись, выпустили.
Бах вспомнил весь ужас последних дней, с трудом удержался на ногах (ни сидеть, ни лежать ему не давали), закрыл глаза, добрел до стены, прижался спиною, почувствовал, какая она толстая, надежная, проклятая, застонал глухо.
— Что, касатик?! Понял теперь, каковы твои дружочки?! Понял, на что они способны?! .
«Только б из этого мешка выбраться, — думал Бах, — только б попасть в камеру, только б предупредить наших! Ну, ироды, ну, зверье, придет время — за все рассчитаемся, сполна отольем, пощады не ждите».
— Или еще потребно время на размышление? — продолжал Попов, чувствуя себя в этой привычной ему обстановке надежно: нервы успокаивались, приходило благостное ощущение безопасности. — Мы теперь не торопимся, нам спешить некуда.
— Что я должен сделать, чтобы вы меня отпустили? — спросил Бах, стараясь, чтобы голос не выдал его; внутри клокотало, коли б мог, не были б руки закованы, задушил, горло б перегрыз.
— Раскаяния не чую, — вздохнул Попов. — Ты говоришь, не раскаявшись. Зло в сердце держишь?
— А что ж мне, благодарить?! За ноги мои?! За синяки?! За пытки, которым безвинного подвергают?!
— Я тебе с самого начала предлагал — докажи, что не виноват. Докажи! А ты упрямился, нас в зло вводил…
«Не туда меня несет, — подумал Попов, — это я еще не пообвык. Это я еще по-прежнему, как наверху, думаю. Он же выразил согласие, это хватать надо. Только б не передумал, тварюга, лишь бы еще раз пропел. Пусть напишет только, мы потом ему пулю в затылок пустим, когда в карете повезем на допрос в охрану, мы спектакль разыграем, так разыграем, что комар носу не подточит. И морда у него к тому времени заживет и синяки сойдут».
Попов достал папиросы, сразу две, прикурил, потом одну, обслюнявленную, протянул Баху:
— Иди затянись — согреешься.
Бах хотел курить страстно, но, увидав, как полковник нарочно обслюнявил мундштук, ответил:
— Я не хочу.
— Брезгуешь?
— Не хочу сейчас. Спать хочу. На сухой кровати.
— В тюрьме кроватей нет. В тюрьме нары есть…
Попов почувствовал желание достать револьвер из кармана, вложить дуло в ухо арестанта и, как винт, ввинчивать в голову, чтоб кровь капала и чтоб он орал, душу чтоб раздирало.
«А зачем он мне, действительно, сейчас? — подумал Попов. — Он был нужен, пока Стефа жила. Хотя нет, — возразил он себе. — Я без него из каши не вылезу. Как только он свои показания даст, как только отдаст мне товарищей, я их всех под военное положение подведу, Глазову такой рапорт засандалю, что в департаменте кадриль станут танцевать от радости. Я всех эсдеков в крае выжгу, всех до одного».
— Ладно, Бах. Переведут тебя в хорошую камеру. Но коли за сегодняшнюю ночь не напишешь мне правды — нас не вини. Готов писать или станешь время тянуть?
— То, что могу, напишу.
— А что ты можешь? Ну-ка, скажи, я послушаю.
— Вы мне вопросы поставьте, я так не умею, да и голова не варит, в чем только душа жива, ваше благородие.
— Эт-то ты хорошо заключил, э-то точно — благородие, молодец, композитор, поумнел, мозги просветлели… Ну, ответь, к примеру, какой партии ты принадлежишь? Вот только это мне ответь — больше ничего не надо.
— Не состою в партии я, напраслину не возводите.
— Не состоишь, — повторил Попов. — Ладно. Поверим этой лжи. А какой сочувствуешь?
— Рабочей.
— Так их много нынче, которые рабочими называются. Бах не понял, что попадается, ответил:
— Рабочая одна.
— Ну, это ты имеешь в виду социал-демократическую?
— Почему…
— Значит, другие есть? Может, ты с Пилсудским?
— Ни с кем, говорю ж…
— Ну ладно. Ни с кем. С рабочей партией. Без названия. А ты как относишься к террору?
— Против я.
— Это хорошо. Молодец. А кто из рабочих партий против террора?
— Да откуда я знаю?!
— Вот чудак, Бах… Неужели трудно на мой вопрос ответить: «Состою в партии социал-демократов потому, что эта партия есть противник террора, значит, бомбы ей не принадлежат, и кому принадлежали — не знаю». Это что? Неправда?
— Правда. Только я в партии не состою.
— Хватит языком-то болтать! Мы у тебя дома, за печкой, партийную печать нашли, из дерева выточена, приклепка резиновая, на синем сукне, нет разве?
Попов поднялся с табуретки, скакнул на порожек камеры, там было сухо, вода не поднималась.
— Завтра с утра приеду. Подумай. До конца подумай. Теперь ты нас мало интересуешь, Бах. Нас теперь террористы интересуют, которые Сте… Микульскую которые загубили. Мы найдем их, композитор. Чтоб я детей лишился — найдем.
Выходя из тюрьмы, Попов поймал себя на мысли, что и впрямь думает о том, кто же убил Стефанию. Своим же словам поверил…
Гришку отпустил, велев приехать завтра к десяти часам, вошел в парадный подъезд, ощутил запах привычного тепла, лестница отдавала воском, натирали каждую пятницу; на втором этаже, у надворного советника Гаврилова, по субботам варили студень из телячьих ножек, тоже устойчивый запах. Но внезапно Попов ощутил — по-звериному, инстинктивно — что-то чужое, морозное, похожее на запах белья, которое только-только прополоскали в проруби.
За спиной кашлянули. Попов шарнирно оборотился: перед ним, скрытый ранее дверью, стоял тот, длинный, что в кабарете явился, принудил бумагу о госпитале подписать. Попов замычал что-то, полез в карман за револьвером, пальцы не слушались, тряслись.
— Я от Турчанинова, — сказал Мечислав Лежинский. — Не надо, не суетитесь, полковник.
От этого могильного спокойствия ужас объял Попова, ноги ослабли, он опустился на лестницу и кашлянул, для того лишь только, чтобы убедиться, не пропал ли голос, сможет ли звать на помощь. Голос не пропал.
— Что вам? — спросил тихо. — По какому праву?
Лежинский приблизился, достал из кармана письмо Турчанинова министру Дурново.
— Почерк узнаете?
— Темно. Не вижу.
— Я не курю…
— Что?!
— Спичек, говорю, у меня нет.
— У меня есть, — ответил Попов, думая об одном лишь: сейчас стрелять или когда услышит, чего от него хотят, а то, что хотят главного, понял, кожей прочувствовал.
Сунул сначала руку в тот карман, где был револьвер, ожидая, как поведет себя человек. Тот не дрогнул, хотя стоял рядом. «Ногой мог выбить, — мелькнуло стремительно, — поэтому спокоен».
Мысль работала быстро, четко — как раньше, до Стефы. Вот он, клин-то, только б пронесло, господи милостивый, только б прокатило, все к прежнему теперь вернется, страх тоже лечит…
Пламя спички выхлестнуло желто-синим, потом сделалось белым, холодным.
«Господин министр, о том, что творится в Варшавской охране, мне известно все», — начал читать Попов. Пробежал лист, ужаснулся написанному, потом перевернул, посмотрел, нет ли чего на обороте, спросил:
— Это часть. А что дальше?
— Дальше у меня дома.
— А что там про меня?
— Все.
— Это не разговор.
Лежинский достал из кармана еще один листок — обращение к Попову, ощутив леденящий холод бульдога, дамского браунинга: Дзержинский настоял, чтобы оружие было взведенным, в полной готовности.
Мечислав тогда посмеялся: «Он же сейчас как тюря, он скис». Дзержинский не соглашался, говорил, что разговор решающий и Попов будет сражаться за себя. «Но Турчанинов сказал, что все отдаст, не только „Прыщика“, — возражал Мечислав, — он его знает лучше нас». — «Ты не сидел, Мечислав, — сказал Дзержинский. — Ты, к счастью, имел дела с охранниками только на воле. А я их знаю на ощупь. Я их узнал, когда они избили меня, восемнадцатилетнего, а потом бросили в ледник. Я узнал их, когда они давали мне пряник, надеясь купить после голодовки. Я знакомился с ними, когда они загоняли меня в Якутию с открытой формой чахотки — на смерть. Они разные, Мечислав, разные, но все, как один, цепляющиеся. Им без власти нет жизни, они это понимают, поэтому я и настаиваю, чтобы ты был надежно вооружен и шел на встречу не один». Мечислав удивился: «Не получится разговор, Юзеф, вспомни, он потребовал, чтобы я вышел, когда Софья Тшедецка в ложе появилась». — «Да, но ты показал ему людей, которые держали его на мушке». — «Он мог упасть со стула, Юзеф, вскочить мог — он человек логического строя, трусливый при этом, они все трусливые». — «Не считай врага трусом и глупцом, Мечислав. Это унижает тебя, нас, всех. Наши враги — умные, смелые, готовые на все люди. Иначе они бы не могли удерживать в повиновении сто пятьдесят миллионов. Ты только вдумайся: миллион, ну два, ну даже три миллиона чиновников держат в узде огромную страну, талантливейших людей, ты вдумайся только! » — «Пусть товарищи ждут меня на улице, Юзеф. Я буду в парадном подъезде, а они пусть подойдут к двери только в том случае, если услышат шум или стрельбу». — «Если они услышат стрельбу — будет поздно». — «Но, Юзеф, подумай, зачем ему стрелять, коли в руках у меня приговор, вынесенный не нами — Турчаниновым?!» — «Я понимаю твою правоту, Мечислав, но чувство мне подсказывает другое. Я хочу, чтобы ты был надежно подстрахован». Мечислав был вынужден согласиться, но товарищи, которые отправились с ним, получили от него приказ спрятаться в воротах и ждать. Прийти на помощь должны были только в случае перестрелки или же в случае, если появятся военные патрули.
Попов зажег спичку в шестой уже раз, почувствовав, что острый запах серы перебил леденящий морозный запах, который принес с собою этот длинный. Начал читать Турчанинова: «Я опубликую это письмо-разоблачение в том случае, коли вы, Попов, откажетесь выполнить… »
— Что вам на этот раз нужно? — спросил полковник, тяжело высчитывая резоны — стрелять или начать беседу.
«Ну убью, ну заберу письма, ну напал, ну террорист, — думал он, — а ведь снова, сволочь, принес копии. Ах, Турчанинов, ах, плачет по тебе кол, ждет тебя плаха… А если соглашусь? И так ведь вымазан, и так наполовину сдался им, и так могут заложить. Дурак, — возразил он себе. — Баба! Ты чего раскис? Ты кого боишься? Глазова? Вуича? Дурново?! Они свои, у них прощение вымолить можно, сами люди, все людское-то поймут! А эти?! Да я к Витте на коленях отсюда поползу, так мне ж люди Христа ради будут давать! Я лоб разобью, а прощение получу! Ну, пусть не в охране, пусть тюремным смотрителем, пусть в сыскную отправят — все равно ведь власть, все равно на любом месте — сила! А эти что дадут?!»
Повторил:
— Так что вам нужно — отвечайте.
Лежинский отвечать не торопился, он не отрывал глаз от лица Попова, стараясь предугадать реакцию противника. Когда молчание стало гнетущим, сказал:
— Сначала назовите мне фамилию вашего «Прыщика».
— Давайте листки, — прошептал Попов, поднимаясь, сыграв сломленность, — давайте как залог… Я их при вас сожгу… Но если о «Прыщике» станет хоть единой живой душе известно… Словом, вы понимаете, вы же с ним в приятелях ходите…
Полез за спичками — в седьмой раз уже, привычно полез, выхватил револьвер и яростно нажал на курок раз, два, три. Хотел стрелять в упавшего, недвижного уже человека, мычал что-то, глаза налились кровью, но тут услыхал быстрые шаги — по улице бежали; взбежал на один пролет и, как только показалось у двери лицо, выстрелил. Со звоном обвалилось стекло, тонко закричали — ранил мерзавца. Наверху страшно завыла жена, он ее все время пугал: «Вот пристрелят меня, тогда поплачешь».
«Сколько их там? — думал быстро. — Трое? Тогда погиб».
Хлопнула дверь на втором этаже, надворный советник Гаврилов тонко заверещал:
— Помогите!
— Наган, наган возьмите! — крикнул Попов. — Возьмите наган!
И в это время на улице раздались заливистые свистки городовых. Попов прыгнул через пять ступеней, вытащил из карманов убитого все бумаги, какие были, а потом уже опустился перед ним на колени и начал обыскивать тщательно. Руки тряслись, но чувствовал радостное, ликующее освобождение от ужаса последних дней. Ощущал себя прежним, был готов ко всему.
32
После того, как Дзержинский подробно рассказал членам Варшавского комитета партии о гибели Мечислава Лежинского, предшествовавшем этому убийстве Микульской, об аресте Баха, который, вероятно, замучен уже, потому что из тюрьмы о нем никаких сведений не поступало; после того, как ответил на вопросы товарищей, Винценты Матушевский, который вел собрание, сказал глухо:
— Прошу почтить память товарища Мечислава минутой молчания.
Все поднялись. Софья Тшедецка, приехавшая из Радома, где отсиживалась на явке, не сдержалась, заплакала.
Дзержинский стоял с закрытыми глазами и вспоминал Мечислава, когда они только познакомились в Берлине, два года назад: то денди в канотье, то прасол, то ремесленник, то загулявший купчина… Дзержинский как-то сказал: «В тебе пропадает дар великолепного актера». — «Я знаю, — ответил Мечислав, — и не считай это нескромностью. Я знаю. Я выступал в любительской труппе, в нашем дворянском собрании, но отец просил меня забыть о подмостках. Он говорил, что это яд и что сыну дворянина, землевладельцу и будущему офицеру, надо думать о престиже с малолетства». Дзержинский знал, что Мечислав пережил трагедию: когда он связал себя с социал-демократами, отец запил — единственный сын, а поди ж ты! — кто будет продолжать род, кто станет вести хозяйство? Отец умер от горячки, сердце не выдержало. Мечислав тогда бросил работу, уехал из Кракова и месяц прожил в поместье: с утра уходил в лес, бродил по окрестным деревням, ночевал в полях, чай пил в деревенских развалюхах. Вернулся он подсохшим, еще более натянутым, чем ранее. По прошествии полугода заметил Дзержинскому: «Я убедился в своей правоте. Нельзя жить в роскоши, когда окружает тебя ужас и темень, это как плясать краковяк в холерном бараке, где умирают дети. Я жесток? Что ж делать — жизнь учит… Но знаешь, Юзеф, я убежден: чем дольше не давать, тем больше возьмут». — «О чем ты? » — не сразу понял Дзержинский. «О царе, — ответил Мечислав. — Он бы — страшно сказать — мог спастись, куда там спастись, он мог бы стать „отцом нации“, дай хоть малость крестьянину, не запрещай книги Толстого и Сенкевича, но нет, он сам алчет крови. Он ее получит… »
— Прошу садиться, — сказал Матушевский. — Товарищи, какие будут предложения?
Уншлихт взял слово первым:
— Когда Юзеф разоблачил Гуровскую как агента охранки, мы оповестили об этом всех рабочих, воспитательный эффект был заметный. Гибель нашего товарища мы должны обратить на дело живых, мы должны распечатать прокламации, мы обязаны использовать наши возможности в «Дневнике», мы должны провести собрания, на которых расскажем о том, сколь ужасны методы охранки сколь они постоянны. Мы докажем, что в России ничего не изменилось после манифеста, мы на этом страшном примере разъясним пролетариям, что нет и не может быть никакой веры царизму, что он не способен ни на какие реформы, что реформа возможна только одна — вооруженное восстание против власти палачей. Сел — бледный, желваки под кожей перекатываются.
— Кто следующий, товарищи?
Поднялась Софья Тшедецка:
— Не верится, что Мечислава нет больше с нами… Мы все знали, на что шли… Мы знаем, что ждет нас каторга или петля, и мы готовы к этому… Только когда уходит товарищ, в сердце пустота. — Софья помолчала, дождалась, пока подбородок перестал дрожать, поборола слезы. — Мы должны похоронить Мечислава так, чтобы похороны заставили жандармов трепетать от ужаса… Я согласна с тем, что предложил Уншлихт… Все.
Зденек, рабочий с Воли, долго откашливался, на людях выступал не часто:
— То, что говорили, правильно. Только я считаю, что напрасно мы Библию забываем: око за око, зуб за зуб. Попова надо казнить — вот мнение фабричных. А то распоясались, нет на охранку управы, любой закон топчет.
Уншлихт возразил:
— Индивидуальный террор не наш метод, Зденек. Мы не можем пойти на это.
Здислав Ледер поддержал Уншлихта:
— Обращение к тысячам рабочих даст больше, чем казнь одного мерзавца! Как это ни жестоко — «обращать на пользу дела» гибель незабвенного Мечислава, но мы должны, стиснув зубы, не проронив слезы, которая бы доставила радость сатрапам, получить политическую пользу во имя освобождения рабочего класса. Статьи, листовки, митинги — да, террор — нет!
Збышек, металлург из мастерских Грасовского, предложил:
— Надо провести забастовку в память Мечислава по всем заводам и фабрикам. Я согласен с Уншлихтом: террор не наш метод. Дзержинский обратился к Матушевскому:
— Позволь?
— Слово Юзефу.
Дзержинский тяжело поднялся:
— Террор не наш метод. Все верно. Я хочу ознакомить вас с циркуляром, который министр внутренних дел Дурново разослал губернаторам через месяц после царского манифеста о свободе. То есть этот циркуляр составлялся и рассылался тогда, когда наши национальные демократы и русские кадеты с октябристами закатывали банкеты и говорили о новой эре, о начале просвещенной и гуманной власти под скипетром государя-умиротворителя. — Память у Дзержинского была поразительная, он запоминал текст постранично, стоило прочитать два-три раза. — Итак, Дурново предписал всех подстрекателей и революционных агитаторов, которые еще не арестованы судебной властью, арестовать; никаких особых дознаний не производить, допросы непотребны, можно ограничиться протоколом, в коем лишь надобно указать причину арестования; не обращать внимания на угрозы собраний и митингов, разгонять протестующих силой, с употреблением, если нужно, оружия; колебания не должны быть допускаемы…
Дзержинский внимательно осмотрел лица товарищей, тяжело сглотнул комок в горле.
— Шла подготовка к введению в империи военного положения, когда никаких формальностей не требуется — расстреливай и вешай, только удержи. В январе началось: объявили на военном положении Акмолинскую и Семипалатинскую губернии, потом всю Сибирь, потом Екатеринослав, Вятскую губернию, Дон, Польшу, Черниговскую губернию, Эстляндию, Симбирск, Днепровский район — от Белорусски до Крыма… И пошло… В Люблине казнены Марковский, Орына, Барышкевич. В Риге — Озол, в Литве
— Юлий Левоцин, в Сибири — гордость социал-демократии Бабушкин, в Вильне — Кроткий, в Вятке — рядовой Фабричный, в Варшаве — братья Чекальские, Хойнецкий, Гусинский, Консержевский, Розенцвейг, Томан, Рифкинд, Талбанский, Пфефер, в Минске — Пухликов, в Севастополе — лейтенант Шмидт, матросы Частник, Антоненко и Гладков, в Чите приговорены к расстрелу Окунцов, Шинкман и Мирский, а Замошников, Хмелев, Костылев, Андриевский, Розов, Беркман, Греков, Богоявленский, Афанасьев, Рыбкин, Дмитриев приговорены к повешению; в Кацдангене казнены Пумпуреев, Шульц, Медведников, Гольцсоболь, Милютинский, в Херсоне — Жуков, в Кутаиси — Кабелиани; карательными экспедициями Ренненкампфа и Меллера-Закомельского без суда и следствия расстреляно более двухсот человек в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке; экзекуционные отряды в Прибалтийском крае расстреляли без суда и следствия сто пятьдесят человек; более тысячи отправлены на каторгу — в одном только Кронштадте семьдесят пять человек закованы в кандалы! Это то, что нам стало известно. А сколько десятков тысяч наших товарищей томятся в тюрьмах?! А сколько происходит таких злодеяний, каким мы стали свидетелями за последние дни!! А ведь в газетах сообщено, что Попов «проявил геройство в единоборстве с террористом». Он ведь за это крест от властей получит! Так что же мы, станем разоблачать его в печати?! Станем словом бороться с палачом, который нарушает даже ныне действующие законы?! Да, товарищи, мы против индивидуального террора. Но мы сейчас должны решить иной вопрос, в иных условиях: царизм начал против нас смертельную борьбу. Нам не только запрещают выпускать газеты, проводить митинги, назначать забастовки; за нами не только следят постоянно, вскрывают нашу переписку, подвергают травле в правительственных газетах; нам не только не позволяют жить по-человечески, нет, мы по-прежнему существуем в условиях подполья, нас можно арестовать без предъявления обвинения, нас можно бросить в тюрьму тайно и держать там столько, сколько захочет Попов и поповы. Царский суд, которому бы надлежало по закону охранять статьи дарованного манифеста, отказался даже рассматривать наше ходатайство о привлечении Попова к ответственности
— я доложил вам, как проходила встреча нашего адвоката Зворыкина в судебной палате: «Если бы Лежинский остался живым, его бы вылечили в тюремном госпитале, судили и повесили б!» Повесили бы по царскому суду, а сколько вешают и расстреливают безо всякого суда?! Царизм преподносит нам очередной урок жестокости, силясь запугать нас, заставить нас утихнуть, замолчать, затаиться. Но мы повторяем: «Если нет конца терпенью, тогда нет конца страданью! » Конец терпению наступил, товарищи. Всякое терпение имеет границы. Речь пойдет не об акте индивидуального террора, а о вынесении приговора палачу Попову, который погубил нашего Мечислава, который — в нарушение даже нынешних законов — замучил Микульску, который готовит гнусную провокацию против партии. Казнь Попова будет не актом мести; казнь этого выродка есть акт законный, необходимый; мы берем на себя тяжкую, но необходимую обязанность; мы не станем скрывать своего решения, мы обоснуем его открыто. Я поэтому поддерживаю предложение товарища Зденека. Я ранее выступал против казней разоблаченных провокаторов — вы знаете об этом. Даже Елена Гуровская, отдавшая в руки палачей нашего типографа Мацея Грыбаса, даже она, несмотря на требования большинства, не была приговорена к смерти. Мы настояли на оповещении партии о ее провокаторстве, мы отринули ее с презрением. Там было другое, там был вопрос морального падения человека, не облеченного властью, не вольного решать нашу судьбу своим приговором. Здесь, в деле Попова, все обстоит по-другому. Мы не можем поступить иначе, кроме как объявить ему беспощадную войну — такую же, какую он ведет против нас. Мы хотели бы бескровной перестройки мира. Мы хотели бы мирной передачи власти ничтожного меньшинства громадному большинству, но, видимо, такое невозможно, видимо, всегда, во все времена, путь к правде, к справедливости проходит через кровь, пролитую в сражении, где победит тот, кто убежден в правоте общего дела, кто жизнь отдает за всех — не за себя одного.
Винценты Матушевский не сразу поднялся — ему надо было заключать собрание комитета.
— Кто-нибудь еще хочет высказать свою точку зрения, товарищи?
Снова встал Уншлихт:
— Юзеф, во-первых, твое выступление надобно оформить в листовку, ты формулировал нашу позицию по поводу необходимости вооруженного восстания убедительно и точно. Ты должен высказать то, что говорил сейчас, русским товарищам на съезде в Стокгольме — это будет весомая поддержка позиции большинства. Во-вторых, я как человек согласен с тобою по каждому пункту. Но как социал-демократ я согласиться не могу. Это — отступление от принципов. Условия могут меняться, времена проходить — принципы должны быть неизменны.
— А товарищей наших пусть стреляют! — не сдержался Зденек. — Принципы будут неизменны, и хоронить будем наших по-прежнему!
— Уйдет один сатрап, — вмешался Здислав Ледер, — а кто сядет вместо него?
— Кто бы ни сел, — заметил Винценты Матушевский, — но ему придется поступать с оглядкой. Он теперь может оглядываться на манифест. А для Попова даже куцего манифеста не существует, он по себе живет, по своему собственному закону. Пусть следующий хоть на манифест оглядывается, пусть запрашивает Петербург, пусть просит согласия судебной палаты, пусть крутится их бюрократическая машина — пока она будет крутиться, народ выйдет на баррикады, на открытую вооруженную схватку и свалит царизм!
— И Плеханов, и Ленин, и наша Роза Люксембург, — настойчиво повторил Уншлихт, — всегда учили нас выступать самым решительным образом против индивидуального террора. Я выступаю за поименное голосование, я не согласен с Юзефом, я считаю, что этот вопрос надо обсудить, пригласив Розу.
Дзержинский, не поднимаясь с места, глухо сказал:
— Я не хотел сообщать: хватит с нас одного горя… Но коль скоро помянули Розу… Так вот, она арестована ночью. Ее увезли в Цитадель. К счастью, пока еще не бросили в карцер, поэтому она смогла сообщить, что завтра ее будет допрашивать полковник Попов Игорь Васильевич…
… В Стокгольм Дзержинский отправился через Петербург, русские товарищи дали надежные явки. Первым человеком, кого он нежданно-негаданно встретил на вокзале, был Кирилл Прокопьевич Николаев, член ЦК октябристской партии.
— Феликс Эдмундович, дорогой! — закричал тот, заметив Дзержинского в толпе. — Здравствуйте, милый человек, вот встреча-то?! Думали, коли без усов, не узнают?! Едем, меня авто ждет!
Один из филеров, дежуривший на вокзале, в течение получаса вспоминал, где он слышал это необычное имя и отчество: «Феликс Эдмундович». А вспомнив наконец, бросился к новенькому телефонному аппарату, поставленному в полицейском околотке, назвал номер охраны и доложил:
— Государственный преступник Дзержинский, Феликс Эдмундович, прибыл с варшавским поездом в девять двадцать и укатил на авто марки «линкольн», номерной знак «87», вместе с неизвестным высокого роста и вызывающего поведения.
33
— Почему я все таки с октябристами, спрашиваете? — повторил Николаев, наблюдая, как гувернер Джон Иванович Скотт разливал из громадного самовара черный чай по высоким, тонкого стекла стаканам. Со дня первой встречи, когда Николаев и Скотт помогли Дзержинскому во время его бегства из якутской ссылки, Джон Иванович изменился мало, так же любил поучающе говорить о политике, так же ласково подтрунивал над своим воспитанником, так же умел точно знать время, когда хозяина и гостя надобно оставить одних, для беседы с глазу на глаз.
— Вы, рашенз, странные люди, все спорите и спорите, можно от этого устать, — говорил он, откусывая щипчиками сахар от громадной головы (расфасованный по коробкам Николаев не признавал: «Русский купчишка в малости более поднаторел жулить, чем в большом, размаху еще не научился, в голову ничего не намешаешь, она светиться должна, а в кусочки как крахмалу не подсыпать?! Сам бы подсыпал, имей фабрику!»).
— Вы странный оттого, что хотите знать всю правду, до конца, — продолжал Джон Иванович. — Мы, амэрикэнз, тоже странный, но не такие, как рашенз, хотя похожи, очень похожи…
— Это верно, — согласился Дзержинский, испытывая странную радость от встречи с Николаевым: хотя пути их разошлись, но он помнил всегда, что именно Николаев помогал деньгами изданию «Червоного штандара» и что именно Николаев устроил переход границы для Миши Сладкопевцева. — Но мне более угодна странность, Джон Иванович, чем однолинейность, — скучно, когда все можно предположить с самого начала.
— На манифест намекает, — вздохнул Николаев и подмигнул Джону Ивановичу, — сейчас начнет царя бранить.
— Вы его раньше тоже не жаловали, Кирилл Прокопьевич.
— А я и сейчас его тряпкой считаю. Глазами своими серыми хлопает, улыбается и молчит, словно язык проглотил!
— Так ваша партия — главная его защитница! Вы за него говорите.
— Родной мой, как вам не совестно?! Вы же умница, Феликс Эдмундович, вы все понимаете! Не надо так! Я не царя защищаю, я защищаю правопорядок. А он — пока что во всяком случае, — может быть гарантирован России символом! Дайте мне развернуться, дайте протащить еще пять тысяч верст железных дорог, дайте наладить прокат — первым же закричу о замене самодержавия суверенным парламентом и потребую конституции!
— Вы, рашенз, очень странные, вэри стрэндж, — повторил Джоя Иванович. — Сначала надо закрепить то, что получил… А вы не хотите закрепить, вы хотите сразу же дальше, визаут остановка…
— Кирилл Прокопьевич, а вы убеждены, что ныне сможете легко и без помех расширять и строить? Вы убеждены, что вам теперь позволят делать дело, как мечтали? — спросил Дзержинский. — Вы убеждены, что казенные заказы будут попадать в руки знающих, а не тех, кто ближе ко двору?
— Убежден, иначе, коли по-старому все пойдет, Россия будет отброшена в разряд не просто третьестепенных держав, она развалится, станет колонией Европы и Японии.
— Вы считаете, что царь думает об этом?
— Дети-то у него есть?! Об них-то он должен озаботиться?! В конце концов, роспись бюджета империи он утверждает! Там ведь все наружу прет! Там все ясно для нас, деловых людей! Помните у Гоголя: «Эх, тройка, птица тройка! » Россия это! Мы любим себя со скоростью равнять, хоть ползем, как черепахи! Так вот, французский экипаж, который тоже не стоит, а едет, стоит французам семьсот тысяч франков в час. Нам столько же, хотя мы от них отстаем на добрых полсотни лет. Отчего так? Вы, конечно, станете меня попрекать, что мы с рабочего семь шкур дерем, что он своим потом и кровью правительство содержит, — все так, не спорю, но отчего ж француз нас оббег, только пятки сверкнули?
— Амэрикэнз больше, — заметил Джон Иванович, — американец еще дальше сверкал пятками, чем француз.
— Ты про своих-то, Джон Иваныч, помолчи, вы во время этого бега душу потеряли, страдания лишились, равно как и счастья, сплошная арифметика, а не жизнь.
— Так отчего нас обогнал француз? — поинтересовался Дзержинский.
— Оттого что там, после того как Наполеонов свалили, наши коллеги к власти пришли. Они все и отрегулировали, они, люди дела!
— И вы убеждены, что при нынешнем положении в России сможете все перерегулировать?
— А как же?! Конечно, сможем!
— Из чего строится наш государственный бюджет, Кирилл Прокопьевич?
— спросил Дзержинский мягко. — Загните пальцы.
— Вы всё к себе клоните, Феликс Эдмундович…
— Да и вы не к дяде, Кирилл Прокопьевич. Два миллиарда российского бюджета составлены из пятисот миллионов, что дает водка, пятьсот — железные дороги, триста — таможня и четыреста — прямые налоги. И все! Азиатчина это! Тьма! Позор! Царь контролирует через государственный, то есть его, банк все финансовые операции, царь владеет двумя третями железных дорог, владеет девяноста процентами всех телеграфных проводов, царю принадлежит треть земли и две трети всех лесов в государстве, Кирилл Прокопьевич! Царь — самый крупный в России финансист, капиталист и землевладелец! И вы полагаете, он поделится с вами правами на монополию?! Полагаете, на конкуренцию согласится?!
— Вы про Думу-то, про Государственную думу отчего не помянули, Феликс Эдмундович?! Ведь она теперь должна будет обладать законодательными правами! У нас теперь финансовая комиссия будет! Мы законы сможем проводить через нее, мы сможем и монополию ограничить! И не как-нибудь, не бунтарски, а по закону, по манифесту того же государя!
— О законе после, Кирилл Прокопьевич. Странно только: умный, деловой человек, инженер, а мало-мальски аналитического подхода к закону — ни на грош… Ладно, об этом еще поговорим… А как вы — буде получится — проведете через Думу ломку бюджета?
— Кардинально.
— Хорошо. Это просто-таки замечательно, вам за это Россия в ноги поклонится…
— Теперь поклон отменен, нет дэмокрэтик, — заметил Джон Иванович.
— Теперь, как в Юнайтэд Стэйтс, надо свистеть тем, кого лубишь…
— Ладно, посвистим, — согласился Дзержинский. — Значит, вы намерены так переписать бюджет, чтобы на народное образование не один процент, как ныне, был выделен, а десять? На пенсии — не три процента, а пятнадцать? На армию расписано тридцать процентов — сократите до десяти? На полицию сейчас отпущено семь. Сократите до одного? Кто вам это позволит, Кирилл Прокопьевич? Вас же в Сибирь за такое укатают! Перекраивая бюджет, надобно поднимать руку на налоговое обложение, Кирилл Прокопьевич! А кто вам позволит это провести? Царь! Ведь сейчас крестьянская семья из пяти душ получает в год триста девяносто рублей, а налогов платит триста восемьдесят шесть! Одно налоговое обложение на сахар, который мы у вас хрупаем, дает семьдесят миллионов прибыли в казну! В царскую казну, Кирилл Прокопьевич! Табачный налог — пятьдесят миллионов прибыли! И вы полагаете, что царь вам свои барыши отдаст?!
— Так он почти столько же тратит, чтобы этот барыш выколотить, Феликс Эдмундович! Он в каждой деревне фискальную службу держит. Им же платить надо!
— Значит, вы готовы возместить царю убытки? Из своих доходов?
— Не все, но часть — готовы.
— Значит, ваш рабочий должен будет получать еще меньше?
— Отчего?
— Так откуда ж вы деньги на воспроизводство получите? Царю отдай, себе оставь, а дальше что?
— Если всю правду рабочим открыть, они поймут, что лишь высокая производительность даст им заработок.
— А почему они вам должны верить? Какие вы можете дать гарантии?
— Ну что вы все норовите меня с рабочими поссорить, Феликс Эдмундович?!
— Я?! Вы сами с ними в ссоре, Кирилл Прокопьевич, вы принуждены будете жать, иначе концы с концами не сведете! И жизнь сама затолкает вас под бок к царю, которого вы так браните, у него станете солдат для усмирения просить.
— Что ж, по-вашему, мы ничего не добились и выхода нет?
— Вы кое-чего добились, да и то пока на словах..,
— Отчего вы так слепо, так озлобленно отвергаете манифест? Ну ладно, ну верно, булыгинская Дума, которая только графов в Думу пускала, дрянная была, но и мы против нее выступали. И добились своего! Ведь манифест прямо говорит: «Привлечь к участию в Думе те классы населения, которые ныне лишены избирательных прав».
— Неверно! — Дзержинский ожесточился. — Не надо так, Кирилл Прокопьевич! В манифесте сказано иначе: «Привлечь к участию в Думе в мере возможности те классы, которые ранее были лишены прав». А что такое возможность? Это закон. А разве царь отменил булыгинский закон, который и вы бранили? Разве новый закон распубликован? Царь спрятался за формулировочку «в мере возможности», а вы согласились с этой заведомой уловкой! Ваши-то теперь пройдут в Думу, а рабочие — нет! Понизят выборный ценз: раньше, чтоб голосовать, надо было полторы тысячи недвижимости иметь, а низведут до тысячи. А рабочий в год получает триста. На пять душ! Раньше был конфликт между лагерем царя и бюрократов, с одной стороны, и всеми — с другой, а ныне начнется конфликт между лагерем царя, бюрократов, октябристов и кадетов — с одной, а рабочим и мужиком — с другой стороны. Вы к тому же передеретесь в своем лагере, а рабочему с мужиком драться не за что — голы, босы и голодны. Значит, решение социального спора будет оттянуто на какое-то время, но все равно решать придется, Кирилл Прокопьевич.
— Ну хорошо, а какой выход вы предлагаете?
— Валить царя. Валить бюрократию. Требовать Учредительное собрание, нацеливать народ на республику.
— Которая предпишет меня обобрать, — заключил Николаев.
— Если вы будете посылать казаков с нагайками против тех, кто требует Учредительного собрания для выработки демократической конституции, — конечно! И чем больше станете поддерживать царя, тем больше накопится гнева. Операцию надо делать тогда, когда можно больного спасти.
Николаев хмыкнул:
— Россия… Все по Евангелию: «Сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька… »
— Иоиль? — спросил Дзержинский.
— Именно… Сам народ во всем виноват, проклят от бога, варягов прогнал — по чванливой дурости, царям-ублюдкам руку сосал, умывал слезами, голодал, а хоругви носил, и мы же, те, кто хочет приучить людишек к делу, оказываемся во всем виноватыми, а?!
— Ясно, — согласился Джон Иванович и продолжил, путая русские слова с английскими: — Это угодно хистори, с этим ничего не сделаешь. У вас, в Рашиа, каждый следующий против предыдущего: Кэтрин зе Грейт была против Питера, Анна Ивановна против Кэтрин, Пол Первый, внук, против Питера и Кэтрин, Александр против Пола, обещал все сделать, как раньше, как при грандмазер, а повел свое, начал делать «бритиш стайл», английский стиль, Николай зе Фёст против английский стиль, он за стиль богдыхан, побольше вешат, поменьше говорить! Александр Второй против Николая — дал реформа в стиле «амэрикэн», возвратил из ссылки декабрьских революшиониерс, его взорвали, Александр Третий все отменил, что сделал Второй, теперь Николай Второй выделил вам то, что отобрал его папа…
— Во какого образованного американца держу, — деревянно рассмеялся Николаев. — У них про это только два профессора на всю Америку знают, а в Россию приехал — сразу думать научился!
— Нам нужен иксчейндж, обмен, — согласился Джон Иванович. — Мы у вас учимся думать, а вы у нас — работать… Мы тупая нация, мы боимся размышлять, чтобы не нарушить то, что ви хэв, что имеем.
— Поди на него обижайся, — сказал Николаев, оборотившись к Дзержинскому. — Если б своих выставлял, а то всем вдовам по серьгам, не чванится… Да, тупые-то вы тупые, но ваши б фермеры не стали, как наши, помещичьи усадьбы жечь.
— Стали бы, — убежденно возразил Дзержинский.
— Оттого, что национальный характер у нас такой — что не так, сразу кровь пускать и дом палить?
— Нет. Дело не в национальном характере, а в социальных условиях. Что могло помочь крестьянину в его варварской, немыслимой нужде? Образование. А что для этого сделано царем? На сто человек десять грамотных, как же можно урожай собрать, если обычай правит мужиком, а не наука?! А инициатива? Ведь деревня отдана исправникам, старостам, стражникам, становым! На каждого мужика сорок тысяч пиявок, право слово! Кредит? Черта с два! Кулак правит на селе, дает ссуду под такой процент, что и Шейлоку не снился! А сколько у мужика земли? Десятина? Две? Треть у царя, остальное у помещика, а он арендную плату взвинтил до того, что земля стоит пустая, а крестьянину, голодному, босому, это видеть невмоготу! Он миром просил у помещика — тот ему отказал, под свист пуль отказал. Вот и начали жечь! И не с тупого и слепого зла, нет, Кирилл Прокопьевич! Нам известно, что в мужицких комитетах стали говорить: «Коли не пожжем усадьбы, дадим кров казакам да солдатам, а так они придут, а жить под открытым небом, а под открытым небом долго не протянешь».
— Но сколько денег зазря пропадет?! Сколько добра, Феликс Эдмундович! Усадьбы — это ведь средства!
— А мужик отвечает: «Ноне стена на стену встала, кто повалит, тот и победитель, и грошей считать нечего! Коли мы победим — таких апосля хоромов настроим, какие барам не снились, и не для их эти хоромы будут, а для наших детей!» Попробуйте возразите! Отправляйтесь в бунтующие уезды — искать далеко не надо, в Псков поезжайте, в Новгород, в Курск, в Эстляндию, в Люблин — постарайтесь с мужиком найти общий язык, обратитесь к нему со своей программой! Я посмотрю, что из этого станется!
— А вы сможете? — хмуро спросил Николаев. — Вы с ними поладите?
— Поладим. Потому что мы требуем справедливого, Кирилл Прокопьевич!
— То есть?
— Равенство, отмена частной собственности на средства производства, национализация.
— А кто мне тогда шпалы будет поставлять?! У меня и так все сроки срываются, оттого что не могу шпал дождаться, казенных начальников тьма, а отвечать некому. А коли национализируете все? Тогда уж и вовсе никто не ответит. «Наше» — значит ничье, Феликс Эдмундович.
— Ну, а коли «наше» — сиречь государственное?
— Да разве можно на нашей хляби построить государство, коим управляет сообщество думающих?! Разве без кнута можно в России? Разве добром да уговором нашего брата прошибешь? Согласен, во тьме живем. Согласен, живем плохо, но в сказки ваши Марксовы не верю.
— Хи из прагматик, — вставил Джон Иванович. — Верит только тому, что есть…
— Вы что больше всего на свете любите, Кирилл Прокопьевич?
— Водку, — усмехнулся тот.
— Больше всего на свете вы любите строить свои железные дороги, Кирилл Прокопьевич. Но чтобы их строить, вам приходится хитрить, устраивать банкеты, выпрашивать кредиты, льстить одним, подмасливать других — разве нет? Лишь демократическая республика позволит вам творить по-настоящему.
— Джон Иванович, давай штоф, — сказал Николаев. — Дзержинский меня разбередил.
— Не надо, Кирилл Прокопьевич, вам еще со мной придется помучиться…
— Я уж намучился… Свободы вам мало, бюджет для народа плохой, царь мне конкурент… Прав Джон Иванович, прав: дайте хоть на том закрепиться, что с такой кровью получили. Разве можно из деспотии да в республику? На Западе вон сколько лет к свободе готовились!
— Неверно. Или есть свобода, или нет ее вовсе, — мы на этой точке зрения стоим.
— Это Ленин говорит.
— Правильно говорит Ленин.
— Утопии он проповедует. Я работать хочу, а мне руки вяжут! Я надеюсь, понимаете, Феликс Эдмундович, я истинно, верующе надеюсь! Не забирайте моей веры, не надо, не отдам. Вы затвердили себе: «Нет свободы, нет прав, нет гарантий». Не надо бы так, Феликс Эдмундович. Вспомните, как мы первый раз встретились, вспомните! Вы ведь тогда бесправным были, и мне это о-очень не нравилось, нечестно это было и низко: бомб у человека нет, револьвера тоже — пошто за книжку Маркса сажать в острог?! Но сейчас… Спокойно разъезжаете, не таитесь, как равный с равными живете…
Дзержинский поднялся, отошел к окну, поманил Николаева.
— Это кто? — спросил он, когда Николаев стал рядом. — В сереньких пальто? Инженеры? Артисты балета? Филеры это! Они за кем следят? За вами? Или за Джоном Ивановичем? Они за мной следят, Кирилл Прокопьевич, они меня на вокзале ждали, а вы меня от ареста спасли — во второй уже раз. И в третий должны будете. Как, вывезете меня из свободного, демократического Петербурга в Финляндию, а? Или не станете?
34
Есин оказался человеком невероятно резким в движениях, маленького роста, очень худой, без шеи, с огромной головою, посаженной прямо на туловище. Одет он был кричаще: длинный пиджак с покатыми, по последней моде, плечами — никакой ваты; брюки до того заужены, что прямо хоть на сцену, танцевать лебедя; ботинки остроносы, непонятно, как в мысках умещались пальцы, чисто китайскую ступню надобно иметь. Большой человек не человек; настоящий, то есть живучий, должен быть маленьким, ему тогда на свете уместиться легче, меньше неудобств окружающим доставит.
… Глазов не перебивал Есина, слушал молча, доброжелательно, полагая, что сможет до конца понять собеседника: когда человек солирует, он куда как больше выявляется, он ведь сам за собою идет, без чьей-либо помощи; не зря ведь актеры так монолог чтут — выигрышен.
— Слежу, что у вас творится, — жарко продолжал Есин, — и только диву даюсь: шумим, братцы, шумим! А как стояла единая и неделимая, так и будет стоять — никуда не сдвинется, ничто не изменится! Я вам скажу, господин Трумэн, вот что: и американский фермер и русский мужик одним миром мазаны, дурни дурнями, только американского отдрессировали, а наш еще темный — вот и вся разница. И тому и другому власть нужна, как же без власти?! Я бы на месте царя подкинул земли мужику, помог плугами, пусть банк пошевелится, вы необоротистые, а потом надобно поднять размер подати и понизить закупочные цены на хлеб — чистый бизнес. Почему вы медлите? Чего царь боится, солдаты ведь ему принимают присягу?!
«Ишь как распоряжается, — подумал Глазов, — тебя бы, канашечку, в Россию вернуть, ты бы там посоветовал!»
— Я вам скажу, господин Груман, что в моем бизнесе — он, конечно, не очень велик, я стою сорок тысяч долларов, — все решает сметка: смикитил вовремя, кредит взял, деньги вложил — и считай прибыль!
— Бизнес ваш каков? — спросил Глазов.
— Разный…
— Это как понять?
— Купля-продажа, — по-прежнему уклоняясь, ответил Есин, словно бы смущался чего-то. — Посредничаю, господин Груман, посредничаю. Там без этого нельзя. Русские всегда хотят сами — во всем и везде сами, и чтоб другому перепоручить — никогда!
— Давно изволили уехать из России?
— С родителями. Отец старовер, молиться дома не позволяли — уехал, ну и мы за ним… Я за русскими газетами слежу, всю торгово-рекламную полосу прочитываю, жду, когда и у вас посредники появятся, мы бы тогда огромные дела начали проворачивать, огромные!
— Для огромных дел миллионы потребны, а у вас всего сорок тысяч…
— Ну и что? Консул поможет, у нас все на взаимности — он мне, я — ему, и потом, деньги тут не столь важны, господин Груман, тут главное убаюкать партнера. Я вот раз взялся продать партию галстуков, надо мной все смеялись, говорили, что погорю, фасон из моды вышел, а я на этом деле заколотил десять тысяч! Мысль моя работала так: поскольку галстуки прошлогодние и уступили их мне поэтому за две тысячи, а не за семь, в Нью-Йорке их никому не всучишь: пуэрториканцы носят платочки из шелка, евреи — шарфы, негры ничего не носят, американцы начали следить за парижской модой. Но ведь есть провинция! Как к ней подкрасться? Очень просто. В обычную провинцию — а это почти вся Америка — надо пролезть через самую захолустную провинцию. А какая самая захолустная провинция? Прерии. Кто там живет? Пастухи. Их называют ковбои. А что любят ковбои? Песни и женщин. Я нанял двух бездомных артисточек, одну русскую, тоже раскольница, отец с матерью привезли. Она за двадцать лет даже «хлеб» по-английски говорить не научилась, дикая девка, а вторую — француженку, стыда — ни на грош, заключил с ними контракт на гастроли, напечатал афиши про двух «звезд», американцы только «звезд» любят, это у них так великих артистов называют, и повез их в прерии; песни о галстуке, который носят русские мужики и французские буржуа, мои девки сочинили бесплатно. В Америке, доложу я вам, клюют на заграничное так же, как в России. На свое плевать им и забыть, дикие люди, я ж говорю! Так вот, вывез я моих девок в прерии, дал три концерта в Денвере, два в Далласе, есть у них такой вшивый городишко, они нефть ищут, нет там никакой нефти, бум это у них называется, когда ищут не то, что нужно, и не там, где есть, и продал партию галстуков, и заключил контракт на такой же фасон, вернулся в Нью-Йорк, продал исключительное право той же фирме, у которой брал рухлядь, и положил деньги в банк! Я просто не понимаю, почему русские купцы не могут пойти к царю и объяснить ему, что пора дать свободу торговли! Это же выгодно!
— Объяснят еще, — скрипуче согласился Глазов, — всему свое время.
— Нет свое время, — разгорячившись, Есин впервые за все время начал говорить с акцентом. — Как это говорят у вас: «Каждому овощу свое время»? Правильно говорят. В России все правильно говорят, только неверно делают!
— Экий вы колючий, господин Есин… Простите, запамятовал ваше имя-отчество, — сказал Глазов, хотя прекрасно знал, что Есина зовут Митрофан Кондратьевич и что отец его не был старовером, а просто-напросто бежал из-под суда после растраты на Прохоровской мануфактуре.
— Там меня зовут Майкл, — ответил Есин, — а вообще-то я Михаил Константинович…
— Михаил Константинович, я бы хотел прервать вас, рассказать, чего мы ждем от вашей работы…
— Фирма Есина сделает любую работу, господин Груман, особенно если надо кого перехитрить! Может, спустимся выпьем кофе, скоро время ланча?
— Какое время? — не понял Глазов.
— Там говорят «ланч-тайм», обеденное время: жрут по минутам, одно и то же, как племенные быки…
— В ресторане неудобно говорить… У немцев тоже, знаете ли, «мальцайт», сейчас не протолкаешься.
(Глазов понял, что своим «мальцайтом» он хотел взять реванш за «ланч-тайм», и ему сделалось стыдно этого: перед кем хвастал? )
— Ну что, тогда договорим здесь. Пожалуйста, слушаю вас.
— Мы ждем от вас подробного отчета о том, как будет проходить съезд социал-демократов в Стокгольме, Михаил Константинович.
— Кого? Социал-демократов? Которые убили Плеве?
— Плеве убили социалисты-революционеры.
— Да? Странно, там говорили, что социалисты…
— «Там» — это Америка? — поинтересовался Глазов.
— Да.
— Вы странно называете свою новую родину — «там», «они», «у них».
— А это там… у ни… — Есин рассмеялся, — это у нас принято; за океаном чистых нет, со всего мира по нитке, не сплотились еще, для американца штат дороже страны, а еще пуще — свой город. Они никогда не скажут «в Америке», они всегда «ин зис кантри» говорят, «в этой стране».
— Занятно… Так вот, Михал Константиныч, у нас в России, — выделил Глазов, — заинтересованы в том, чтобы вы своим острым, деловым умом вытащили главное — суть разногласий между двумя фракциями: Ленина и Плеханова, помогли нам понять, какие люди как себя ведут, с кем бы, например, вы смогли поговорить по своей методе: убаюкать, расположить, убедить…
— Кого завербовать можно? — уточнил Есин. — Вы это имеете в виду?
— Мы называем — «склонить к сотрудничеству». Но я не это имею в виду. Я хочу получить ваши рекомендации иного рода: с кем из участников съезда можно разумно говорить, кто, по-вашему, поддается логике, разуму, кто ближе по своей духовной структуре к деловому человеку…
— Это я сделаю, — пообещал Есин, — я чувствую человека сразу же, только мне его сначала надо расшевелить, дать выговориться, обсмотреть…
«Мои мысли повторяет, — подумал Глазов, — неужели похожи, а? Вот ужас-то».
— Ну и прекрасно, Михал Константиныч, коли так… В Стокгольме поселитесь в отеле «Рюлберг», я там от вашего имени номерок забронировал, там, кстати, русские будут жить, делегаты, Алексинский, Свердлов, возможно, Саблина и Джугашвили. Видимо, там же поселятся господа из Польши: Ганецкий и Варшавский…
— С поляками мне труднее, я их языка не знаю, только «матка боска»…
— Ничего, они говорят по-русски, а господин Варшавский знает к тому же английский. Я вас там по телефону разыщу и скажу свой адрес, только вы не записывайте его, ладно? И когда ко мне пойдете — оборотитесь, не топает ли кто за вами. Само собою, все паши счета будут мною оплачены незамедлительно.
Ероховский встретил Глазова оглушающе громким вопросом, не прикрыв даже дверь номера, — расконспирировал, идиот, махом:
— Вы из столичной охраны или варшавянин, коего я не встречал ранее?
Глазов даже вспотел от ярости, втолкнул Ероховского в комнату, потом чуть отворил дверь, глянул в щелочку — нет ли кого в коридоре, покачал сокрушенно головой:
— Нельзя так, Леопольд Адамович, здесь могут жить люди, знающие русский. И потом — без пароля, первому пришедшему, разве можно?
— Я с похмелья, Андрей Андреевич, с похмелья…
— С похмелья, а ведь Андрея Андреевича запомнили. Вы уж, ради бога, осторожнее себя впредь ведите.
— Слушаюсь, вашродь!
— Вы что эдакий колючий?
— Погодите, колючим меня еще увидите, я сейчас добрый, как воск, я податливый сейчас, Андрей Андреевич. Водки не желаете? Дрянная у немцев водка. Я весь этот «Кайзерхоф» обошел, пока-то отыскал бутылку,
— мензурками наливают немцы, сущая фармакология, большая аптека, а не страна. Закусываете? Или холодной водою?
— Я не пью.
— Вовсе?
— Совершенно. Вообще-то на праздники могу, на масленицу или там на светлое Христово воскресение, но сейчас… Работы впереди у нас много, да и пост держу — грех. Игорь Васильевич предупредил, в чем будет заключаться ваша задача?
— В общих чертах, Андрей Андреевич, в общих чертах. Вы не взыщите, я пропущу рюмашку, а?
— Но чтоб последняя, ладно? А то вам завтра вечером уезжать на север, там встреч у вас будет много, интересных встреч, обидно, ежели вы в хмельном состоянии будете пребывать, — главное пропустите, а вам из этого главного впоследствии многое можно будет извлечь для своих реприз.
— Я реприз не пишу. Их пишут Элькин и Коромыслов, Андрей Андреевич. Ваше здоровье…
— И вам пусть будет хорошо… Простите, коли я не так что сказал.
— Дело в том, что репризы пишут те, кто не умеет работать за столом, их пишут летунчики, они на салфетках сочиняют. Я пишу пантомимы с куплетами, это совершенно другое, я меньше пяти копеек за строку не беру. Вы вот, к примеру, в каком чине?
— Да с чего вы взяли, будто я из охраны? — Глазов чувствовал себя с Ероховским неуверенно, раньше ему с такого рода агентами работать не приходилось, поэтому соврал, хотя врать не любил, сам ложь замечал, и другие, считал, не обделены таким же умением. — Я просто-напросто друг Игоря Васильевича и служу по ведомству иностранных дел.
— О, как интересно, — с наигранной веселостью откликнулся Ероховский, — а то «работа», «репризы». С «большого художника» надо было начинать… Я спрашивал вас про звание не зря, я хотел объяснить вам все предметно, я предметист, я верю ощущению во плоти, Андрей Андреевич. Ежели вы надворный советник, «ваше благородие», то Игорь Васильевич, ваш добрый знакомый из охраны, уже «высокоблагородие». Так и я по сравнению с Элькиным и Коромысловым. Впрочем, много я им дал, какие они «благородия»? Обыватели, горожане. Ладно, пес с ними… Съезд уже начался?
— Какой съезд? — спросил Глазов.
— Тьфу, черт! Он же мне запретил вам об этом говорить! — вздохнул Ероховский. — Он у нас такой конспиратор, такой осторожный… Вы его не наказывайте, ладно? Хотя вы же из иностранного департамента, он вам не подчинен…
— Леопольд Адамович, давайте-ка и я с вами согрешу, махну рюмашечку. Разливайте! А то у нас разговор как у слепца с глухонемым.
— Слава господу! — сразу же оживился Ероховский. — Я не умею говорить с трезвым коллегой, я ощущаю массу преимуществ, и мне обидно за свое высокое одиночество.
Чокнулись, выпили, долго дышали, мочили губы водой из-под крана.
— Напрасно водку ругали, вполне пристойное питье, — сказал Глазов.
— Чувствую затхлость. Не верю, чтоб немец желтый хлеб пустил на спирт. Немец со всего норовит урвать выгоду. Каким-то металлом отдает, не находите?
— Не почувствовал.
— А вы повторите.
— Да мне еще работать сегодня…
— И мне багаж паковать… Нуте-с, вашу рюмку.
Глазов рассчитал, что Ероховский после тяжелой пьянки скорее захмелеет, начнет разговор, станет выкладываться. Он не ошибся.
— Все время бегу, Андрей Андреевич, бегу с закрытыми глазами, — жарко заговорил Ероховский, когда выпили по третьей. — Норовлю ухватить то, что является мне, вроде бы и ухватил, сажусь за стол, работаю сутки, потом читаю — пантомима! А я норовил пиесу! Как Элькин с Коромысловым мечтали стать Ероховским, так и Ероховский метит в Мицкевичи. Но Элькин с Коромысловым — это я, это псевдоним, это сокрытие стыда, а Ероховский — очевидность, троньте меня, троньте! Ну? Я? Я. А не Мицкевич.
«Будет хорош с Воровским, — подумал Глазов. — Тот пишет о литературе, только б удержать этого Коромыслова-Мицкевича от рюмки, тогда выйдет толк».
— Это сознание правды, — продолжал Ероховский, — опрокидывает меня, превращает в парию. Ин вино веритас. А когда все выпил, не правда на донышке открывается, а череп, но с большими черными глазами и с верхней, не сгнившей еще губой — иначе усмешку не поймешь, череп ведь смеяться не может!
«Как мне осадить его? — продолжал думать Глазов трезво. — Мне бы только его осадить, тогда ему цены не будет».
— Строка должна являться, она как прекрасная дама, а вместо строк тебя окружают решетки, а за ними — рожи, красные, распаренные, луком пахнут! Я ищу себе отключений, я норовлю выскочить из нашей обыденности, я люблю риск, я хочу ощущать свою нужность, Андрей Андреевич… Вы меня понимаете?
— Я вас понимаю отменно, Леопольд Адамович. Я понимаю вас так хорошо потому, что наш с вами общий друг много говорил о вас. Он говорил, что вы очень доверчивы и любите риск. Поэтому-то я больше пить вам не дам…
— А я вас выставлю за дверь.
Глазов покачал головой:
— Не выставите. Ни в коем случае. Не выставите, оттого что нашего с вами общего друга вчера убили. И убили его те люди, к которым вы едете в Стокгольм, Леопольд Адамович.
Ероховский отвалился на спинку кресла, глаза его округлились, стали прозрачными, будто провели мягкой тряпкой и стерли пыль.
— Вы с ума сошли, — прошептал он.
— Я в своем уме. А бороться пьяным нельзя. Так что ложитесь спать, я к вам приду вечером и поведу вас откушать айсбайн, от него трезвеешь.
То, что Попов уже казнен, Глазов еще не знал: он получил сообщение из Петербурга, что агент «Прыщик» прислал ему личную шифрованную телеграмму о приговоре и о том, что сегодня все будет кончено. Глазов понял: Попов обречен, поэтому «Прыщик» тому ничего не сообщил, а сразу ринулся в департамент. Он понимал, этот ловкий «Прыщик», что, сообщи он Попову, сразу будет раскрыт товарищами; он предложил сыграть Глазову. Что ж, Глазов сыграет. Ему ведь на руку казнь Попова. Он послал деловую в департамент. Он не поставит «срочно», это ж само собой разумеется, этого дурак не поймет, а дурак в шифровальном отделе (пусть даже умный) все равно букве следует. Нет пометки «срочно»? Нет. Раз не поступало указания, чего ж начальство поправлять? У начальства на все свои резоны. Пока из департамента отправят в охрану, пока оттуда перешлют в Варшаву — часы-то идут… А успеют — молодцы, не посрамили чести мундира, спасли коллегу! И спас не кто-нибудь, а он, Глазов, ястребиный глаз! И этому дрыгачу, Ероховскому-Коромыслову, объяснить куда как просто: «Да, погиб, коли б не я вовремя подоспел. Его спас и вас спасаю: и ни-ни мне, назад отрабатывать поздно, в один миг товарищам отдам, ославлю на весь свет, как подметку».
Вернувшись к себе в номер, Глазов принял касторки, чтобы к вечеру быть как стеклышко: надо было садиться за телеграммы, глядишь, что новенькое подойдет, ему новенькое перед Стокгольмом необходимо. А на доверчивом и добром Попове, коли его укокошат, можно поразительное дело оформить: «Либерал, гуманист, воробья не обидит, пал от рук революционных садистов, именующих себя социал-демократами, кто станет разбираться — русские ли, польские, одно слово, анархисты, террором действуют, руки в крови, тюрьма по ним тоскует, выдать их следует Петербургу — скопом, как кровавых и дерзких преступников, скрывающихся в Стокгольме от справедливого суда».
35
«Имею честь всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество, для пользы дела, освободить меня от обязанностей председателя Совета Министров до открытия Государственной думы, когда я кончу дело о займе. Позволю себе всеподданнейше формулировать основания, которые побуждают меня верноподданнически поддерживать мою вышеизложенную просьбу. 1. Я чувствую себя от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно в положении председателя Совета Министров, в особенности при новых условиях. 2. Отдавая должную справедливость твердости и энергии министра внутренних дел, я тем не менее, как Вашему Императорскому Величеству известно, находил несоответственным его образ действия и действия некоторых местных администраторов, в особенности в последние два месяца, после того, когда фактическое проявление революции было подавлено. По моему мнению, этот прямолинейный образ действий раздражил большинство населения и способствовал выборам крайних элементов в Думу как протест против политики правительства. 3. Появление мое в Думе вместе с П. Н. Дурново поставит меня и его в трудное положение. Я должен буду отмалчиваться по таким действиям правительства, которые совершались без моего ведома или вопреки моему мнению, так как я никакой исполнительной властью не обладал. Министр же внутренних дел, вероятно, будет стеснен в моем присутствии давать объяснения, которые я могу не разделять. 4. По некоторым важным вопросам государственной жизни, как, например: крестьянскому, еврейскому, вероисповедному и некоторым другим, ни в Совете Министров, ни во влиятельных сферах нет единства. Вообще я неспособен защищать такие идеи, которые не соответствуют моему убеждению, а потому я не могу разделять взгляды крайних консерваторов, ставшие в последнее время политическим кредо министра внутренних дел. 5. В течение шести месяцев я был предметом травли всего кричащего и пишущего в русском обществе и подвергался систематическим нападкам имеющих доступ и Вашему императорскому величеству крайних элементов. Революционеры меня клянут за то, что я всем своим авторитетом и с полнейшим убеждением поддерживал самые решительные меры во время активной революции; либералы за то, что я по долгу присяги и совести защищал и до гроба буду защищать прерогативы императорской власти; а консерваторы потому, что неправильно мне приписывают те изменения в порядке государственного управления, которые произошли. Покуда я нахожусь у власти, я буду предметом ярых нападок со всех сторон. Более всего вредно для дела недоверие к председателю Совета Министров крайних консерваторов — дворян и высших служилых людей, которые, естественно, всегда имели и будут иметь доступ к царю, а потому неизбежно вселяли и будут вселять сомнения в действиях и даже намерениях людей, им неугодных. 6. По открытии Думы политика правительства должна быть направлена к достижению соглашения с нею или же получить направление весьма твердое и решительное, готовое на крайние меры. В первом случае изменение состава министерства должно облегчить задачу, устранив почву для наиболее страстных нападок, направленных против отдельных министров и в особенности главы министерства, по отношению которых за бурное время накопилось раздражение той или другой влиятельной партии, в таком случае все соглашения будут достигнуты гораздо легче. При втором решении правительственная деятельность должна сосредоточиться в лице министров внутренних дел, юстиции и военных властей, и при таком направлении дела я мог бы быть только помехою, и, как бы я себя ни держал, в особенности крайние консерваторы будут подвергать меня злобной критике. Я бы мог всеподданнейше представить и другие, по моему мнению, основательные доводы, говорящие в пользу моей просьбы освободить меня от поста председателя Совета Министров до открытия Думы, но мне представляется, что и приведенных доводов достаточно, чтобы моя просьба была милостиво принята Вашим Величеством. Я бы гораздо раньше обратился с этой просьбою, уже тогда, когда я заметил, что положение мое, как председателя Совета Министров, было поколеблено, но я не считал себя вправе этого сделать, пока финансовое состояние России внушало столь серьезные опасения. Я сознавал свою обязанность приложить все мои силы, дабы Россию не постиг финансовый крах или, что еще хуже, чтобы не создались такие условия, при которых Дума, пользуясь нуждою правительства в деньгах, могла заставить идти на уступки, отвечающие целям партий, а не пользе всего государства, неразрывно связанного с интересами Вашего Императорского Величества. Все революционные и антиправительственные партии недаром ставят мне в особенную мою вину мое преимущественное, если не исключительное участие в этом деле. Теперь, когда заем окончен и окончен благополучно, когда Ваше Императорское величество может, не заботясь о средствах для ликвидации счетов минувшей войны и при наступившем, до известной, по крайней мере, степени, успокоении, обратить все высочайшее снимание на внутреннее устроение империи, направив в надлежащее русло деятельность Думы, я считаю за собою некоторое нравственное право возобновить перед Вашим величеством мою просьбу. Поэтому осмеливаюсь повергнуть к стопам Вашего императорского величества всеподданнейшее мое ходатайство о всемилостивейшем соизволении на увольнение меня от должности председателя Совета Министров. Вашего Императорского Величества покорнейший слуга Сергей Витте».
Государь показал Трепову письмо Витте после ужина, сыграв две партии в шашки с императрицей, — Александра Федоровна говаривала: «Я не люпиль шакмат с детстфа, там много есть китрость, а ф шашки есть доферчифость, они нрафятся детям».
Трепов от Дурново знал, что Витте отправил письмо в Царское Село, понимал, что государь сначала будет обсуждать это с Александрой Федоровной, и потому затаенно ждал, когда же обратится к нему, спросит совета.
Внимательно прочитав три странички, написанные рукою Витте, буквочки все тщательные, в готику тянутся, — хочет быть угодным государыне, хитрит, черт, — Дмитрий Федорович сказал:
— Я что-то не пойму, ваше величество, — это ультиматум или просьба об отставке?
— Где ты увидал ультиматум? Ты в страхе живешь, Трепов, зачем так?
— Эх, доброта, доброта, — тяжело вздохнул Трепов. — Он же прямо и пишет: «Пусть перестанут меня щипать честные люди, пусть отойдут в сторону всякие там Треповы, слишком уж преданные русской православной идее самодержца нашего, тогда я останусь, и буду по-прежнему властвовать в империи, и Думу зануздаю, если позволите Дурново прогнать».
— Признайся, это ты его с Дурново столкнул лбами?
— Да господи, что вы такое, ваше величество? — чуть не заплакал Трепов, испугавшись: откуда мог узнать государь о его блоке с Дурново? Кто сказал? Все ведь перекрыл, никого не пускал без контроля, как такое могло произойти?
— Жаль, — сурово поглядев на Трепова, сказал царь. — Напрасно, коли не ты. Я был о тебе более высокого мнения; всякий конфликт среди кабинета служит на пользу двора в смутное время.
«А признайся, что я, — понял Трепов, — болваном буду выглядеть и трусом. Эк он меня мордой об стол, и ему революция на пользу пошла, скалиться начал».
— Я-то, дурак, как раз хотел, чтоб все миром, я, когда с Дурново видался, только об вашем императорском величестве думал, только о благоденствии династии…
— Не пой! Я все знаю… Что будет, коли я уступлю и отправлю в отставку Дурново? Сможет Витте подобрать верных министров?
— Кому верных-то? Себе или вам?
— Что ж, Витте, по-твоему, республику думает провозглашать? Ты что, Трепов?! Надо уметь скрывать и симпатию и антипатию, ты ведь человек государственный, твое лицо обглядывают, а оно вроде плохой дипломатической ноты, на нем видно даже то, что писать не след, разве можно так?
— Ваше величество, свет наш, вы б так-то с Витте говорили, как со мной, чтоб он силу чуял, а вы с ним все молчите да молчите!
— Говорят с тем, кому верят, Трепов.
Дмитрий Федорович не удержал благодарственной слезы, потянулся к ручке, приложился, государь милостиво соизволил разрешить.
— Как думаешь, позицию Горемыкина по аграрному вопросу Дума не примет?
— Никогда, ваше величество! Их позиция — наша, они ведь не допускают даже и мысли, чтоб крестьянский уклад менять хоть в малости, они никогда не пойдут на то, чтобы отдать дворянство на растерзание. Другое дело — помочь мужику купить землю, под кредит, под процент, — это пожалуйста. Купит-то кто? Верный мужик купит, горлопан разве сможет? Проект Горемыкина хороший, ваше величество, его все губернаторы поддержат, вся власть за него, власть истинная, русская, а не виттовская.
— Ты полагаешь, что Думу не удастся повернуть к горемыкинскому проекту?
— Кадетскую? Да никогда, ваше величество! Разве кадет губернатору верен? Он верен живчикам, современному помещику он верен, который норовит ужом всюду пролезть, никакой солидарности, старину не чтут, с мужиком на равных в трактирах калачи едят, чистые прасолы!
— Разве Трубецкие — прасолы? Они княжеского рода, их мои предки подняли…
Трепов чуть было не выпалил: «В семье не без урода, мало ли чьи предки силу умели показать», — но вовремя остановился, испугавшись, что могут неверно понять.
Царь накинул шинель:
— Пойдем прогуляемся.
Когда спустились в парк, Николай спросил:
— А что Витте пишет о Думе: «Или сговориться, или крайние меры? » Как полагаешь?
— Полагаю, что на крайние меры он никогда не решится: кто ж на свое дитя руку поднимает?
— Это как? — удивился царь. — По-твоему, Дума — его детище, а не мое? Ты это что, Трепов?!
— Ваше величество, государь, Дума — ваше детище, ваше, чье же еще?! Да только именно эта ли?
— А кто, по-твоему, может распустить эту Думу, чтоб подобрать новую, мою?
— Горемыкин, — не задумываясь ответил Трепов. — Только он, только Иван Логгинович! Ему все эти игрушки надоели, дело к старости идет, спокойствия хочет, а Витте всего пятьдесят семь, он как конь норовистый, ему б только функционировать!
— Ишь какие слова знаешь, — усмехнулся государь, — а прикидываешься: «Я, мол, мужик темный, неученый… » Хитрован ты, Трепов, необыкновенный хитрован… Ну, положим, Горемыкин — верный нам старик, положим, эту Думу он погонит взашей… А кто ответит за спокойствие в стране?
— Дурново, — так же определенно ответил Трепов. — Кто же еще?
Государь зябко поежился, посмотрел на небо:
— Дождь будет завтра… Погода как меняется, а? Прямо будто господне неудовольствие сошло… Так вот, Дурново мне не нужен, его Горемыкин станет бояться: кто одному хозяину изменил, тот и второго предаст. Столыпин придет на его место.
Трепов сразу понял: против него ведут партию. Но кто же, кто?
— Столыпин — это хорошо, — согласился сразу же. — По отзывам, крут, этот сдержит хаос, этот такой порядок наведет, что ух! Никто не шелохнется…
— Разве плохо?
— А разве я сказал, что плохо? Только он, слышал, дворянства сторонится, все больше с промышленной партией сносится, с Гучковым да Шиповым…
— Пусть себе, — рассеянно откликнулся государь. — Промышленник — не бунтарь, пусть…
Трепов не мог уснуть до утра: думал, анализировал, прикидывал, что можно сделать, — прямо хоть Витте моли не уходить. Однако наутро государь показал ему свой Витте ответ — время графа кончилось.
Какое же начнется? Горемыкин — шашка, в дамки не пройдет.
Двое осталось: Столыпин и он, Трепов. Кому ж победа достанется?
«Граф Сергей Юльевич, вчера утром я получил письмо Ваше, в котором Вы просите об увольнении от занимаемых должностей. Я изъявляю согласие на Вашу просьбу.
Благополучное заключение займа составляет лучшую страницу Вашей деятельности. Это большой нравственный успех правительства и залог будущего спокойствия и мирного развития России. Видно, что и в Европе престиж нашей родины высок.
Как сложатся обстоятельства после открытия Думы, одному богу известно. Но я не смотрю на ближайшее будущее так черно, как Вы на него смотрите. Мне кажется, что Дума получилась такая крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, а благодаря широте закона 11 декабря о выборах, инертности консервативной массы населения и полнейшего воздержания всех властей от выборной кампании, чего не бывает в других государствах. Благодарю вас искренно, Сергей Юльевич, за вашу преданность мне и за ваше усердие, которое вы проявили по мере сил на том трудном посту, который Вы занимали в течение шести месяцев при исключительно тяжелых обстоятельствах. Желаю Вам отдохнуть и восстановить ваши силы. Благодарный Вам Николай».
36
Встретив пароход, прибывший из Финляндии с делегатами, Ленин повел «Ретортина» (Бубнова), «Арсеньева» (Фрунзе) и «Володина» (Ворошилова) в тот отель, где были сняты для них комнаты, — товарищи за границей первый раз, иностранного языка не знали, могли заплутаться в городе; Сталина, Рыкова, Калинина и Ярославского взялся опекать Красин.
Фрунзе по дороге рассказывал, как добирались: пароход наскочил на мель в густом тумане.
— Обидно было, Владимир Ильич, — вздохнул Ворошилов. — Только-только за ужин сели, только-только по тарелкам закуску разложили, там блюдо посредине стояло, какой только еды не было, «шведский стол» называется, только-только из самовара попробовали, а в самоваре оказалось хлебное вино, только-только начали с меньшинством замиряться, как жж-ах! — и все повалились на пол. Череванин «ой» закричал и лицом стал мучнистый.
— Замиряться? А из-за чего рассорились? — спросил Ленин.
— Они нас объегорить решили, черти, — ответил Ворошилов. — В Финляндии за посадку в каюты отвечал меньшевик, так он своих в первый и второй класс расселил, а нас всех решил в третий загнать. Ничего, мы им зубы показали…
— Анекдот есть, — улыбнулся Бубнов, — не слыхали, Владимир Ильич? Ведут конвоиры на казнь двух эсдеков. Выпить конвоирам страсть как охота, но приговоренных оставить, понятно, боятся. «Вы, — спрашивают,
— кто по партейности? » — «Большевик и меньшевик», — отвечают. Тогда конвоиры сразу в кабак завернули — раз большевик и меньшевик, значит, сразу заспорят, про побег забудут…
Ленин рассмеялся. Очень ему помог Бубнов со своим незамысловатым анекдотом, потому что в порту, пожимая руки прибывшим делегатам, Ленин понял со всей очевидностью: съезд проигран, большевиков мало, по сходням спускались почти одни меньшевики. Он ничего не стал говорить товарищам — намучились, бедняги, глаза блестят, ночь не спали, им сейчас надо отключиться от всего и завалиться в чистые постели — отдыхать. Их ждут трудные дни, не надо их огорчать в первые минуты.
— Сейчас позавтракаете, еда входит в стоимость номера, — пояснил Ленин, раздав товарищам тяжелые бронзовые ключи от комнат, — и сразу же спать.
— Да мы еще одну ночь можем не спать, — заулыбался Ворошилов. — За границу приехали, как город не посмотреть?!
— Луначарский организует экскурсию, — пообещал Ленин. — Он у нас энциклопедист, он знает то, чего сами шведы про себя не знают.
Бубнов подбросил на руке тяжелый ключ:
— Как тюремный.
Ленин стремительно глянул на синеглазого, молодого совсем товарища, лицо закаменело — так бывало с ним, когда близко видел все то, что пришлось уже пройти Бубнову, а что еще придется?!
В ресторане сели за столик возле рояля — все остальные были заняты французами, прибывшими с экскурсионным пароходом из Гавра.
Ленин перевел название блюд — прейскурант был в тяжелой кожаной папке, словно какой царский рескрипт. Товарищи, смущаясь под взглядами французов, говорили шепотом, близко склоняясь друг к другу, и ноги под стулья прятали — ботинки были в латках, старого фасона.
Заметив это, Ленин сказал:
— Царь царем, дорогие мои, а Россия Россией. Извольте-ка гордиться, что представляете великороссов! Смейтесь в голос! Говорите громко! Плечи расправьте, что вы будто сироты?! Уровень Цивилизации определяется количеством прочитанных книг, а не фасоном галстука! Ваш уровень выше! Рабство из себя самим выжимать надо, по-чеховски, по капле!
… Проследив за тем, чтобы товарищи хорошо позавтракали, не стеснялись брать то, что положено было, объяснив официанту Курту, что господа эти — русские путешественники, хотят получше узнать Стокгольм, Россию покинули впервые, поэтому ухаживать за ними надо дружески, особенно, Ленин отправился в отель «Эксельсиор», там поселились «Воинов» (Луначарский), «Винтер» (Красин) и «Мандельштам» (Лядов). Хозяйка, извиняясь, сказала:
— Господа устали с дороги, легли отдохнуть.
Ленин написал записку, ждет у себя, никуда из комнаты не уйдет, будет работать. Пошел в отель, где разместились практики «Иванович» (Джугашвили), «Сергеев» (Рыков) и «Никаноров» (Калинин). Тоже, бедолаги, спали. В холле, однако, увидел меньшевиков — Рожкова, Маслова и Крохмаля. Те поздоровались несколько смущенно; обрадовались встрече чересчур уж экзальтированно, засыпали вопросами. Ленин стоял спиною к лестнице, Ливер, спустившись со второго этажа, лица его не увидел, крикнул торопливо:
— На собрание, товарищи, руководство в сборе!
Ленин обернулся, Либер вопрошающе посмотрел на Маслова, тот чуть заметно развел руками. Сверху донесся голос Дана:
— Товарищи, мы ждем вас!
Ленин взял под руки Маслова и Крохмаля:
— Нас руководство ждет, пошли.
Рожков оказался нервами послабее, а может, острее других ощутил неудобство:
— Владимир Ильич, там мы собираемся…
— А я разве не «мы»?
— Там Дан, — как-то жалобно откликнулся Маслов.
— Ну и что? — по-прежнему вел свое Ленин. — Мы с товарищем Даном уже десять лет как дружны. Впрочем, вы правы, — заключил, уяснив для себя все с полной определенностью, — не стану мешать вашей работе, надо же до конца выработать программу объединения, вы же с этим приехали, не так ли? Вам необходимо посовещаться фракцией, как лучше объединить усилия в общей борьбе, вполне разумное дело.
Не дожидаясь ответа, кивнул, отошел к портье: рассыльный привез пачки газет, остро пахнувшие краской — великолепный, тревожный запах типографии…
Взял немецкие и французские газеты, на английские не хватило денег, вышел из рациона, купив Фрунзе, Бубнову и Ворошилову карты Стокгольма, чтоб не заблудились, открытки с видами города и заказав себе кофе: неловко было сидеть за столом, а оставить одних нельзя — уйдут голодными, посовестятся попросить.
На первых полосах крупно было подано экстренное сообщение из Петербурга: «Падение Витте. Премьером назван малоизвестный в петербургских кругах Горемыкин, хотя обозреватели, близкие к Царскому Селу, предполагали, что преемником может быть только один человек — Петр Столыпин, который, однако, занял пост министра внутренних дел».
Ленин задумчиво сложил газеты, сунул под мышку, подумал: «Началась возня. Все, как в парламентской стране, тужатся походить на взрослых. Подкоп под Думу — ясное дело, но почему Горемыкин? Это ж лапша, спагетти, право слово, он же тянется, его надо ложкой накладывать. Видимо, промежуточная фигура. Столыпин? Наша беда заключается в том, что мы не знаем тех, которые в Британии занесены в справочник „Кто есть кто“. А знать это нам надо, легче будет ориентироваться в паучьей драке».
… У Вацлава Воровского, который поселился по соседству с Лениным, сидел зеленоглазый молодой человек — улыбка славная, внезапная.
— Это Дзержинский, — представил Боровский гостя. — Феликс Эдмундович, редактор «Червоного»…
— Я читал Феликса Эдмундовича. — Ленин не дал договорить Воровскому, крепко пожал руку. — Я поклонник вашего пера и «Червоного штандара», рад личному знакомству. Как добрались?
— Очень хорошо, Владимир Ильич, спасибо.
— Сложно добирался, — поправил Боровский, — пробирался через Россию, за ним вплотную топали. Три бригады по три человека.
— Почему именно три бригады? Откуда это известно?
— Мы имеем фотографии филеров, — ответил Дзержинский.
— Каким образом заполучили? — удивился Ленин.
— Мы создали особую группу в составе нашей народной милиции.
Ленин присел на краешек стула, подломил под себя ногу, что-то юношеское, увлекающееся было в нем. Дзержинскому это понравилось, он сразу почувствовал доверчивое равенство.
— Ну-ка, извольте, Феликс Эдмундович, объяснить. Меня сей проблем о-очень интересует. Народная милиция? На деле? Провели в жизнь нашу резолюцию? Замечательно! А что за группа? Сколько в ней человек? Почему выделяете? Смысл?
— Выделяем особые группы разведки, Владимир Ильич, — ответил Дзержинский. — Три, пять, семь человек, в основном молодые рабочие, обязательно грамотные, знающие местные условия, спортсмены, стрелки, учат языки. Мы должны уметь бороться с теми, кто сажает нас в тюрьмы. Для этого надо знать врагов.
— Ой! — Ленин рассмеялся. — Шел сюда — думал о том же. Читали — Витте свалили…
— Вот это новость! Прекрасно, право же! — сказал Воровский.
— Вацлав Вацлавович, дорогой мой человек, объясните, отчего это «прекрасно»? До каких пор в России будут уповать на смену личности? Ладно, бог с ним, снова я о больном… Вернемся к практике… Итак, Витте свалили, пришел Горемыкин. Враг? Понятное дело. Но кто за ним стоит? Кого он представляет? Чего от него ждать? Каков был раньше? Отношение к реформам? К армии? Сплетнями пользоваться негоже, надо знать хотя бы протокольные, чисто биографические данные: из этого можно вывести контур человека, пусть даже сугубо приблизительный. А мы к этому не готовы. Так что ваш опыт важен, Феликс Эдмундович, надобно, чтобы вы рассказали об этой работе нашим товарищам, а то спорить мы горазды, а вот защищаться — не ахти. Будем учиться.
— Будем, — согласился Дзержинский.
— Сейчас заходил к нашим, спят как суслики, а меньшевики начали фракцию собирать, — сказал Ленин, — что называется, с корабля на бал.
— Так надо бы наших побудить, — сказал Боровский.
— Отоспятся — злее будут; с товарищами из меньшинства дискутировать — силу надобно иметь, силу и крепкие нервы. Замучают словопрениями, сплошные присяжные поверенные.
Боровский улыбнулся:
— А вы?
— Я до присяжного не дорос, не пустили, я на помощниках замер, конец карьере, страх и позор… По каким вопросам будете поддерживать нашу позицию, Феликс Эдмундович? Выступления приготовили или предпочитаете экспромт? — спросил Ленин.
— И так и этак. Поддерживать вас станем по всем вопросам. Выступать от нас будет Варшавский.
— Адольф? Барский, кажется? Так?
— Да.
— Он славный товарищ. Почему только он? А вы?
— Акцент… Как-то неловко с моим-то языком выступать на таком высоком форуме.
Ленин всплеснул руками, пораженный:
— Да как вам не стыдно, Феликс Эдмундович, побойтесь бога! Язык языку ответ дает, а голова смекает!
— Нет, — упрямо повторил Дзержинский, — я выступлю лишь в случае крайней нужды.
— Это я вам обещаю, — как-то даже обрадованно сказал Ленин, — драка будет звонкая, хотя мы проиграем, видимо, по всем пунктам.
Дзержинский спросил недоумевающе:
— А как же объединение?
Ленин пожал плечами:
— Я готов выслушивать товарищей из меньшинства, готов молчать, я готов даже отступить — во имя объединения с национальными социал-демократиями. Вот если мы сможем провести объединение с вами в самом начале работы съезда — многое может измениться, очень многое.
Боровский сказал задумчиво:
— Это меньшевики понимают не хуже нас с вами. Коли мы объединимся в самом начале — Феликс Эдмундович вправе потребовать дополнительные мандаты, и этому ничего нельзя противоположить, и тогда приедут польские делегаты, и мы уравняемся с меньшевиками в голосах…
— Если меньшевики не утвердят наше объединение в начале работы, мы должны будем думать, как повести себя, — сказал Дзержинский, — мы не марионетки, мы представляем тридцать тысяч организованных польских рабочих.
Ленин рассердился:
— А мы кого представляем? За нами тоже немало русских рабочих. И ведь мы знаем, что нас ждет. Так что и вам, Феликс Эдмундович, предстоит пострадать: дело того стоит. Умение видеть в поражении задатки победы — необходимое умение, в этом, коли хотите, заключен весь смысл политической борьбы. Обижаться наивно, это безвкусно, когда в политике обижаются.
… Надежда Константиновна приготовила вырезки из русских газет, отчеркнула наиболее важные строчки красным карандашом, сделала подборку из французской и немецкой прессы; расшифровала письма, доставленные курьером из Харькова, Екатеринослава и Читы.
— Нас ждет избиение, — сказал Ленин. — Впрочем, беседуя с товарищами, я вынужден смягчать — обещаю борьбу.
— Наши не растеряются?
— Могут.
— Кое-кто считает, что разумнее было бы уйти со съезда, если расклад не в нашу пользу. Ленин ожесточился:
— Партийная борьба не знает практики «наибольшей благоприятности». Нельзя смешивать политику с идейной борьбой. Открытого столкновения боится тот, кто не верит в свое дело… В конечном счете протоколы съезда будут изданы: каждый умеющий читать и сравнивать вправе вынести свой приговор…
… Пришел Румянцев. Здесь, в Стокгольме, он жил под фамилией Шмидта, и никто в его пансионе не подозревал, что обладатель этой фамилии — русский: говорил Румянцев по-немецки без акцента, знал не только «хохдойч», но и диалекты; саксонцы считали его своим, так же относились к нему мекленбуржцы.
— Вот, Владимир Ильич, я переписал — вышло четыре страницы.
— Много. Вы открываете съезд, вам и задать тон — краткость и деловитость. Давайте-ка поработаем. Да и коррективы надобно внести, вы на пристань не ходили, а я делегатов встречал — мы в меньшинстве, в сугубом меньшинстве.
— Мартов с Даном постарались…
— Не следует мелко обижать оппонента. Принцип широкого демократизма при выборе делегатов не они выдвинули — мы…
— Вы, — уточнил Румянцев. — Я лично протестовал, если помните. Вы настояли, Владимир Ильич, вот теперь и расхлебываем…
— Испугались меньшевиков? — Ленин странно усмехнулся. — Или сердитесь на меня?
— Второе.
— Ну, это — пожалуйста. Только б не первое. А демократизм выборов… Как же иначе? Противопоставить реакции, которая любых выборов боится как огня, идею демократического волеизъявления трудящихся может только наша партия. Смешно этого ждать от кадетов или эсеров: одни опираются на помещиков, другие вообще только в заговор верят… Конечно, демократические выборы делегатов — иначе и быть не может. Риск? Бесспорно. Кто не рискует, тот не побеждает. Да и потом, меньшевики долго не продержатся: больно очевидны их просчеты… Давайте-ка посмотрим доклад, кое-что надо уточнить в свете новых обстоятельств.
Ленин читал, как всегда, обнимающе, он словно вбирал всю страницу целиком, сразу отмечал слова, несущие основную нагрузку, чувствовал, где провисало, находил двузначие и всегда добивался, когда правил текст, чтобы двузначие было безусловно принципиальным, никак не двусмысленным, но именно двузначным, то есть обращенным к сегодняшнему моменту, но допускающим необходимость коррективов, если ситуация изменится.
— Давайте-ка поправим в самом начале, коли согласны, — сказал Ленин. — После фразы «приветствую делегатов РСДРП» добавил: «а также представителей других социал-демократических партий».
— Вы имеете в виду поляков и Бунд? Или финна и болгарина, прибывших гостями?
Ленин ответил не сразу, остановился взглядом на красивом лице Румянцева, сказал, словно себе:
— Я имею в виду всех.
Перевернул страницу, сразу же споткнулся на той строчке, которую, верно, искал.
— Поскольку нас будут лупить меньшевики и резолюции наши проваливать, следует добавить кое-что, думая о близком будущем… Вот смотрите, сейчас звучит: «Съезду предстоит ликвидировать остатки фракционного разброда». — Ленин поморщился. — «Остатки», хм-хм, впрочем, ничего не поделаешь… Добавляем: «оставляя членам партии свободу идейной борьбы», а далее по тексту — о единой РСДРП. Вписывайте и не гневайтесь.
— Буду гневаться.
— А что предлагаете? Не вносить? Как мы тогда будем выглядеть после съезда? Если проиграем? Молчать? Подписываться под меньшевистскими решениями? Или оговорить заранее, открыто и честно, наши условия: да, мы за единство, но идейной борьбы против того, что считаем принципиально неверным, прекращать не намерены, дабы не выглядеть в глазах рабочих ловкими политиканами… По-прежнему намерены гневаться?
Румянцев повторил мягче уже:
— Гневаться буду, возражать — нет.
— Ну и прекрасно. Теперь последнее. Надо загодя объяснить тем, кто умеет читать, положение большевиков на съезде. Предлагаю добавить там, где вы говорите о первых по-настоящему всеобщих демократических выборах наших делегатов: «Однако осуществление на практике встретилось с затруднениями, созданными свирепыми полицейско-военными репрессиями правительства, которые вырвали многих товарищей из рядов партии». Согласны?
— С этим согласен. Только добавьте: «уважаемых товарищей».
Ленин почесал кончик носа:
— Это надо понимать так, что мы «уважаемые», а меньшевики — нет?
Румянцев заразился настроением Ленина (тот умел в самый трудный момент сохранять юмор), рассмеялся, почувствовав какое-то внутреннее освобождение от оцепенелости, — такое бывает от неведения или после напряженной, изматывающей работы; сейчас было и то и другое, если бы не Ленин, можно было запаниковать, прибыли будто на собственные похороны…
— Кстати, Витте кончился. — Ленин подтолкнул Румянцеву газеты. — Читали уже?
— Да что же вы молчали, Владимир Ильич?! Это ведь все может повернуть!
— Что повернуть? — Ленин поразился. — О чем вы? Один символ будет сменен другим, изменится фасад, камеры будут прежние. Не обольщайтесь, не надо. Готов дать руку на отсечение — Думу отбросят ногою так же, как отшвырнули Витте. Ничего не изменится, — повторил Ленин, — только станет еще труднее работать, репрессии будут повсеместно.
… Румянцев поднялся на трибуну: стол президиума пуст; предстояла драка за персоналии; тишина была полная, настороженная.
— Товарищи! — сказал Румянцев. Голос сел от волнения, повторил еще раз: — Товарищи! От имени Объединенного ЦК приветствую собравшихся здесь делегатов РСДРП, а также представителей других социал-демократических партий. Настоящий съезд собрался при исключительных условиях политической жизни России и при исключительных условиях жизни нашей партии. Это делает особенно важной и ответственной ту работу, которую предстоит совершить съезду. От более или менее удачного результата ее зависит, быть может, как судьба РСДРП в ближайшем будущем, так и исход для пролетариата освободительной борьбы народа с самодержавием, справедливо называемой Великой российской революцией…
Ленин смотрел на замершие лица делегатов, на горящие их глаза, видел напряженное, сосредоточенное внимание, и вдруг мелькнуло: «А вдруг проймет?! Вдруг действительно объединимся?! Как же это было бы славно, а?!»
Ленин и его единомышленники приготовили пробный «шар»: когда было выбрано бюро съезда — Плеханов, Ленин, Дан, когда. Федор Дан объявил заседание съезда открытым, группа большевиков внесла заявление; Дан зачитал его, стараясь скрыть раздражение:
— «Мы, рабочие, заявляем, что одна часть партии устраивала по дороге свои собрания, а на месте — закрытые собрания, организовываясь фракционно, то есть даже выбрали комиссию из 3 лиц, которую уполномочили входить в переговоры с другой фракцией. Признавая такую тактику грубо-фракционной, а не партийной, ибо она может повести к полной замкнутости и второй части партии и, таким образом, вместо решительного объединения оставить старый раскол, давший свои отрицательные плоды, мы требуем занесения нашего заявления в протоколы съезда и обращаем на это внимание всех партийных работников и в особенности товарищей рабочих и тех, которым дороги интересы не фракции, а единство партии. Это заявление мы делаем из чувства ответственности перед нашими избирателями… »
Дан оглядел не весь зал, а ту сторону, где сидели меньшевики. Сразу же поднялся Александров:
— Товарищи, по поручению Томско-Омской организации, пославшей меня, я должен заявить, что мы заранее предполагали возможность фракционных собраний…
Ленин дальше не слушал, полез за блокнотиком, делать заметки к завтрашнему заседанию, вопрос будет стоять о повестке дня, это — главное. А здесь что ж слушать-то? Все было срепетировано, на каждый разумный довод выдвинуто пять надуманных, лишь бы спасти престижность, лишь бы повздорить, лишь бы не признать очевидное, напрасно мечтал о возможности сговориться, не выйдет. Теперь задача в том, чтобы зафиксировать свою позицию по всем вопросам; в конце концов, человек живет не одним лишь днем нынешним, все определяет день грядущий, он все по своим местам и расставит — было бы что расставлять.
37
Ночью, накануне второго заседания, Ленин встретился с Даном — Плеханов и Аксельрод задерживались, ждали их с часу на час, и пока Дан был лидером фракции меньшинства, принимал решения, резко черкал документы — карандаш рвал бумагу. Разговор с Даном получился трудный, тот уходил от конкретных ответов, а если все же и отвечал, то, словно обиженная девушка, потупившись, разглядывал ногти. Ленин снова предложил Дану перенести вопрос об объединении с национальными партиями на первые же заседания.
— На съезд приехали украинские товарищи, польская социал-демократия, Бунд, латыши — нас просто-таки не поймут, коли мы займем гегемонистскую позицию: «пригласили — радуйтесь», — убеждал Ленин. — Нерусские товарищи должны быть уравнены в правах с нами, мы обязаны подчеркнуть это равенство, это отнюдь не тактика, в ней ошибиться не так страшно, это стратегия социал-демократии, а здесь ошибка превращается в отступничество, сие непоправимо…
— Я не могу решать единолично, — ответил Дан, — пусть выскажутся делегаты, тогда внесем правку в порядок работы съезда.
— Мы взрослые люди, — усмехнулся Ленин, — мы понимаем, что есть возможность разъяснить делегатам важность этой коррективы не в заседании, когда страсти . накалятся, а заранее.
Ленина удивляла обидчивость Дана, каждое возражение он воспринимал, будто оскорбление. «Обидчивость побежденных обычно слепа и озлобленна, — думал Ленин, — а ведь он сейчас победитель. Каков будет, если проиграет? »
… Когда Ленин, председательствовавший на заседании, зачитал проект порядка дня, меньшевик Миров сразу же выступил за утверждение — без всяких изменений или добавлений.
Поднялся Румянцев:
— Революционная ситуация меняется ежедневно. События в Варшаве, Баку, Риге требуют от нас постановки вопроса об объединении с национальными социал-демократиями на первое место.
Попросил слова «Акимский» — Гольдман.
— Товарищ Акимский, прошу вас, — поторопил его Ленин, потому что тот продолжал о чем-то переговариваться с Дзержинским и Варшавским — сидели неподалеку; правда, младший Гольдман, «Либер», забился в угол, нахохлившийся и грустный.
— Простите, — сказал Акимский, поднявшись на трибуну, — встретил старых друзей… Я против включения национального вопроса вообще, товарищи. Съезд к его обсуждению не подготовлен. Вопрос этот сложный, и не надо вытаскивать его на первое место. Я, конечно, понимаю, как важно объединение всех национальностей России в борьбе с царизмом, я понимаю всю злободневность проблемы, но как бы не вышло так: мы объединимся, поаплодируем, порадуемся, а объединение это окажется фиктивным!
Его поддержал лидер грузинских меньшевиков Ной Жордания, приехавший на съезд под своим старым псевдонимом «Костров».
— Товарищи, мы все понимаем, что национальный вопрос не стоит перед нами в плоскости практической, это чистая тактика.
Дзержинский, бледный до синевы от волнения, обернулся к Варшавскому и сказал громко, так, чтобы слышали все:
— От имени национальных социал-демократических организаций, присутствующих на съезде, мы должны настаивать на обсуждении вопроса об объединении в первую очередь.
Дан уперся взглядом в Кислянского, активного меньшевистского оратора. Тот поднялся, бросил с места:
— Я против предложения товарища. Я считаю нужным поставить на первую очередь вопрос о Государственной думе. Дан обернулся к Ленину:
— Можно слово, Владимир Ильич?
— Слово товарищу Дану, — объявил Ленин.
— Я думаю, что выражу общее мнекие, — сказал Дан, — если предложу закрыть прения. Я просил бы проголосовать мое предложение.
Сработала механика, как и ждал Ленин: прошло предложение Дана.
«Я думал, что он соберет больше, — отметил Ленин, — это уже славно. Против своих голосовали Струмилин, Череванин и — самое странное — Либер. Неужели можно будет хоть что-то повернуть? Неужели подействует логика, неужели верх возьмет ответственность, а не амбиция? »
— Тем не менее, несмотря на результаты голосования, я предлагаю дать высказаться представителям национальных социал-демократий, — сказал Либер глухо. — Я считаю, что товарищи этого заслуживают.
— Товарищ Либер, подчиняйтесь большинству! — воскликнул Дан.
Ленин шепнул ему:
— Но вы же нам не подчиняетесь.
Дан не сразу понял, что Ленин шутит, — был напряжен, постоянно напряжен. Ответил наконец вымученной улыбкой.
Дзержинский снова бросил реплику:
— Я прошу председательствующего поставить на голосование предложение о предоставлении национальным организациям слова вне очереди. В противном случае нам будет трудно понять голосующее большинство: мы приглашены на съезд, но лишены права говорить.
Большинство высказалось за предложение Дзержинского, несмотря на то что Дан первым потянул руку «против».
К трибуне пошел Адольф Варшавский — страсти на заседаниях съезда накалялись.
— Мы, делегаты национальных организаций, находимся в ином положении, чем вы, остальные члены съезда. Это наше особое положение следовало бы обсудить. Мы приглашены на съезд с совещательным голосом. Что ж нам сидеть, как соломенным куклам, в роли неких молчаливых советников?! Пользоваться голосом, но не быть уверенным, что он будет иметь значение при обсуждении важнейших вопросов, в которых и мы заинтересованы кровно, — согласитесь, положение наше не из завидных. Если вы намерены доказать, что у вас есть желание считаться с нашими голосами, что вы нас пригласили не как соломенных кукол, что вы считаете нас товарищами по революционной борьбе, — поставьте в первую очередь вопрос об объединении с нами. Теперь вот о чем…
Меньшевики начали громко переговариваться, нервничать: «Это выступление, это речь, а не внеочередное заявление».
— Предлагаю высказаться по вопросу о продолжении времени оратору,
— сказал Ленин, поднявшись.
— Я буду говорить против продолжения, — сразу же ответил ему Дан.
— Товарищ из Польши получит возможность высказаться, когда мы поставим на очередь вопрос об объединении с национальными организациями. Сейчас мы лишь вырабатываем порядок дня. Если мы станем делать льготы кому бы то ни было, мы не выполним и десятой части нашей работы. Наш долг перед партией в интересах самого объединения заставляет не отступать от регламента, и, как мне ни прискорбно, я должен высказаться против увеличения времени Варшавскому.
— Ставлю вопрос на голосование, — сказал Ленин. — Кто за то, чтобы не давать времени нашему польскому товарищу?
Ленин сформулировал вопрос так, что всего несколько человек во главе с Даном подняли руку против Варшавского.
— Пожалуйста, товарищ, — сказал Ленин, — съезд вас слушает.
— Теперь вот о чем, — стараясь скрыть волнение, продолжал Варшавский. — Теперь о главном… Если относиться к делу формально, в соответствии с правилами выборов на съезд, — от трехсот организованных рабочих один делегат, — то мы из одной только Варшавы делегировали бы по меньшей мере двенадцать товарищей. То же относится и к Лодзи и к Домбровскому бассейну… Посчитайте, сколько бы наших сюда приехало?! А ведь мы лишь втроем представляем партию. За нашей партией стоит множество организованных рабочих, и вы знаете, какую роль играет польский пролетариат в российской революции. Мы вопроса о количестве голосов не поднимаем, товарищи. Мы поднимаем вопрос иначе: кто действительно хочет, чтобы мы работали заодно, тот должен приложить все усилия, чтобы мы объединились и стали членами Российской социал-демократической партии — если не сегодня, то завтра!
Ленин сияющими глазами смотрел в зал — большинство делегатов аплодировали Варшавскому.
— Мы сейчас выслушали сильную речь товарища Варшавского, — сказал Румянцев. — Чтобы не рассеивать впечатления, которое он произвел на нас, я предлагаю не откладывать дебатов и немедленно выслушать представителей других национальных организаций.
— Я думаю, что работа съезда — вещь очень серьезная, — тяжело, словно бы преодолевая самого себя, возразил Акимский, — и мы должны руководствоваться не личными впечатлениями, а деловым разбором аргументов. Я против предложения Варшавского.
А потом Ленин увидел Плеханова. Георгий Валентинович только-только вошел в зал. Следом появился седобородый Аксельрод, сел на свободный стул неподалеку от двери.
Владимир Ильич сразу же поднялся с председательского кресла, подался вперед:
— Товарищи делегаты съезда! Только что прибыли родоначальники русской социал-демократии Георгий Валентинович Плеханов и Павел Борисович Аксельрод. Прошу приветствовать наших товарищей!
Делегаты обернулись к двери — многие никогда Плеханова и Аксельрода в глаза не видали.
— Покажитесь, пожалуйста, Георгий Валентинович, — улыбнулся Ленин.
— Павел Борисович, прошу вас!
И зааплодировал первым. Ему последовали все: и большевики и меньшевики.
Когда Плеханов и Аксельрод прошли вперед и сели в первом ряду — там было три свободных места, — Ленин обратился к залу:
— Продолжим работу. Поднялся Абрамович:
— У меня короткое заявление, товарищи…
Дан снова было хотел возразить, но не успел: Плеханов с дружеской заинтересованностью обратился к давнему приятелю — любил Абрамовича открыто, подолгу разговаривал с ним в Женеве без своего обычного в последние годы менторства.
— Я поддерживаю предложение польского товарища в вопросе о национальных партиях. Это надо обсудить в первую очередь. На съезде будут приняты важные резолюции, имеющие значение для всего российского пролетариата, и съезду необходимо считаться с десятками тысяч социал-демократов, которые здесь не представлены, — Абрамович говорил громко, зычно — истинный трибун. — Юридически мы не можем с таким же правом, как вы, представлять на данном съезде наш пролетариат, но фактически социал-демократический авангард рабочего класса России тесно связан между собой. Объединительные тенденции растут, необходимо выяснить, насколько они сильны. Решение вопроса о порядке дня будет экзаменом, который покажет, веет ли здесь дух единения или дух фракционный.
Латышский социал-демократ Дамбит выступил следом за Абрамовичем:
— Товарищи, я скажу то же, что и бундовец. Вы съезд называете Объединительным. Но это объединение не будет объединением всей российской социал-демократии, если вы не решите вопрос с нами, это будет объединением только одной партии. Съезд лишь тогда может быть назван в полном смысле слова Объединительным, когда он объединит все социал-демократические организации России. В целях успеха съезда поставьте вопрос об объединении с национальными социал-демократическими партиями на первую очередь.
Страсти накалялись, Ленин то и дело поглядывал в зал, задерживая взгляд на Плеханове.
«Если бы он поддержал, если бы он согласился понять», — думал Ленин, отчетливо и горько понимая всю утопичность своей мечты.
Дан сориентировался: многие рядовые меньшевики его не поддержат, коли идти напролом, проголосуют за Ленина. Надо лавировать.
— Товарищи делегаты, — Дан медленно поднялся, — поскольку мы приехали сюда для того, чтобы объединиться, давайте научимся уступать друг другу. Я согласен с Варшавским. Пусть будет так, как он предложил. Я набросал текст резолюции, прошу поставить на голосование: «Поддерживая предложение товарища Варшавского, предлагаю немедленно выбрать комиссию для обсуждения национального вопроса и технически-организационного вопроса об объединении с национальными организациями».
«Ай да молодец, — отметил Ленин, — ай да обыграл, ай да хитрец Дан. И возражать ему трудно: многие товарищи впервые приехали на съезд, тактических тонкостей еще не знают, в наших с Даном давних баталиях участия не принимали. А поляки молодцы, они верно поставили вопрос о голосах, если бы они приехали к нам вместе с рабочими делегатами, мы бы оказались в большинстве. Тем не менее многие из рядовых меньшевиков не могут теперь не понять, что партийная арифметика не имеет никакого отношения к реальным условиям революционной борьбы. Молодцы поляки».
Просчитал руки: большинство за Даном.
— Предложение Дана принято.
Мартын Лядов поднял руку.
— Слово Лядову.
— Вношу проект резолюции: «Обязать комиссию, образованную по предложению товарища Дана, рассмотреть все технические вопросы об объединении с национальными партиями в три дня».
«Ай да Лядов! — обрадовался Ленин. — Быстро сориентировался. Не пройдет только его предложение, слишком определенно ставит точки над „i“. Все понятно: коли принять — через три дня произойдет объединение. А за три дня мы только-только обсудим аграрный вопрос. А впереди еще отношение к Думе и к вооруженному восстанию. Если мы объединимся, меньшевикам придется туго по этим вопросам, свои резолюции не протащат. Нет, Лядова не пропустят: он слишком резко снял салфетку с блюда, теперь даже непонятливые всё поймут».
— Большинством голосов предложение Лядова отвергается, — объявил Ленин, не отводя глаз от Плеханова.
Поднялся Крохмаль:
— Прошу слова.
Дан бросил реплику:
— Мы ведь прекратили прения! Большинство высказалось за то, чтобы подвести черту!
— Мое выступление не носит характера прений, Федор, — откликнулся Крохмаль.
Ленин вопросительно оглядел зал. Раздались голоса: «Просим!»
— Товарищи, — сказал Крохмаль, выйдя к трибуне, — сейчас в Стокгольме находятся три русских социал-демократа, которые ныне живут в Северо-Американских Соединенных Штатах. Я предложил бы пригласить их в качестве наших гостей… Поскольку мы их не знаем, думаю, пригласим их без права голоса.
Проголосовали «за».
Бруклинские и Есин, агент полковника Глазова, получили, таким образом, право посещать все собрания съезда.
38
Трепов наконец выстроил точный план. Он ототрет всех, пора выходить в первые. А в России первый — военный диктатор. Он, а не Витте смог задушить революционные выступления в Петербурге после Красного воскресенья; не Витте отдал первый приказ, чтоб патронов не жалеть, — он, Трепов, кто б еще на такое решился?! Он повелел вывести войска на улицы, он разогнал толпу, он виселицей не брезговал, граф Сергей Юльевич на готовенькое пришел, оформить оставалось, дурак не оформит, тем более не столица, в провинции прижать куда как легче — темень.
Решил пойти путем, опробованным на Витте, — организовал через своих губернаторов письма в три адреса: себе, Горемыкину и Столыпину. Письма тревожные — о том, что волна революции растет, мужик подымается, помещичьи имения палит, хлеб берет самочинно.
Те письма, которые адресованы были на его имя, подбирал в папочку, государю не докладывал, ждал, как себя поведут Горемыкин и Петр Аркадьевич, — со Столыпиным сразу же после неожиданного для того назначения засосно облобызался, навязал дружбу, звонил к супруге, справлялся о здоровье «драгоценного».
Отметил — и Горемыкин и Столыпин зачастили на высочайшие доклады с пухлыми папками, волокли его письма государю, испугались, особенно Горемыкин, ему б спать да спать, — он после обеда три часа привык дрыхнуть, чисто испанец, — а тут поворачиваться надобно, не до сна!
Дмитрий Федорович по-прежнему стоял в тени, ни во что не вмешивался, выжидал, как пойдет, был убежден, что Столыпин по неопытности своей — только полгода, как в Петербурге живет, — наломает дров; этикету надо всю жизнь учиться, а только перед смертью поймешь, что не выучился, потому как не в нем дело, не в этикете этом самом, а в умении колыхаться.
Столыпина, как и Витте, встречал у подъезда, держал под локоток, ворковал, заверял в любви, подталкивал проявить себя, намекал, что государь ждет поступка, и не чьего-нибудь, а именно его, столыпинского. Петр Аркадьевич благодарил за дружбу, просил не оставлять советом: «Ваше мнение для меня весьма ценно, Дмитрий Федорович, ваш опыт поможет мне избегнуть ошибок».
Однако когда Горемыкин, именно Горемыкин, а не Столыпин, оставшийся в тени, громыхнул заявление против только что выбранной Думы, когда сказал депутатам — кадетским в основном, — что никому не позволит вмешиваться в решение аграрного вопроса, который был, есть и будет царской прерогативой, Трепов понял, что молчаливый Столыпин ведет свою линию, особую: явно метит на премьерское кресло.
Иван Мануйлов-Манусевич, единственный свой, оставшийся в министерстве внутренних дел, принес новости: во-первых, над ним, Иваном, собираются тучи, намерены гнать и порочить; во-вторых, тучи эти надувает «татарский черт Столыпин»; в-третьих, Петр Аркадьевич все свои повороты обсуждает с Гучковым и Шиповым, а те завтракают с «хитрованом Веженским, который не иначе как масон, польских социал-демократов перед судом в Варшаве защищал, с ихним главным бесом Дзержинским ручкался — к кому угодно влезет».
Иван Мануйлов не знал, правда, что обсуждалось во время этих самых хитрых завтраков, а обсуждалось там много интересного, и каждый из неразливанных ныне друзей отстаивал свой интерес.
Гучков полагал, что поддержка Столыпина обеспечит именно промышленной партии все возможные выгоды, поскольку аграрник Горемыкин, скомпрометированный своей думской дрязгою, уйдет на второй план, оставаясь сомнительным премьером, — всем будет вертеть министерство внутренних дел, так всегда было в империи.
Шипов, из земцев, считал, что дружба со Столыпиным заставит его бывших друзей-кадетов понять до конца смысл и выгоду еще более четко выраженной постепенности и умеренности.
Веженский рассчитывал, что рано или поздно Гучков, опершись на Столыпина, войдет в кабинет и через него можно будет влиять на внешнеполитический курс — только англо-французская ориентация, никакого союза с немцами, никакого дружества с кайзером, о коем постоянно мечтал Витте — домечтался!
Столыпин же думал совершенно о другом. Он считал, что поддержка промышленников и финансистов даст ему рычаги истинной власти и по включении этих рычагов он сможет объявить новую аграрную реформу, которая обеспечит ему преданность справного мужика, столь необходимого в век промышленного развития. Он, Столыпин, таким образом станет автором новой модели России, а отнюдь не кадеты, на это претендующие. Он объединит промышленную, концентрированную мощь с рассыпанною по империи справной мужицкой массой, поди тогда попрыгай генерал Трепов со своей дремучей кондовостью!
Когда подошло время, Трепов во время игры в крокет, которую государь очень любил (мог проводить за нею часы), завел разговор о Столыпине.
— Ну Петр Аркадьевич, ну железная рука, твердый глаз, — сыпал он,
— как разворачивается, а?! Все министры нонче к нему в кабинет выстраиваются, у Горемыкина-то пустотень и тишина, истинного хозяина сразу чуют…
Государь ничего не ответил, вроде бы даже и не слыхал треповских слов, шары докатал, отправился кушать чай с Александрой Федоровной, а за ужином, раскрошивая ложечкой сахар, поинтересовался:
— Ты революционные газеты выписываешь, Трепов?
— Как можно, ваше величество?! В святое место нечистый дух пускать! Их у Столыпина режут на папки, умные головы читают, Рачковского с Ратаевым для того держат! Разве сюда допустимо?! Не ровен час, кто из венценосных принцесс увидит…
— А ты запирай к себе в шкап, на столах не разбрасывай.
— Не могу я на такое пойти, ваше величество, не могу, — ответил Трепов, вспоминая при этом, не забыл ли он действительно запереть в сейф подборки «Вперед», «Пролетария», «Червоного штандара» и «Новой жизни», сразу ведь станет известно, все уборщики барону Фредериксу каждую мелочь докладывают, старому дьяволу, немецкой харе…
— Надо шитать ик гасет, — сказала государыня. — Они пишут то, што от нас фы скрифайт.
— Да господи, ваше величество, да ведь я на то и поставлен, чтобы ваш покой оберегать! Разве бы я посмел доложить («помогла, стерва, сама дала повод! »), что их императорское величество сейчас начали сравнивать, простите, с декорацией при ответственном министерстве?! Разве я такую гнусь могу пропустить?
— Но федь пропустиль, — прищурившись, сказала Александра Федоровна. — Ты китришь, как маленький немецкий гняз, а ми, русски люди, люпим прафду ф гляза…
— Коли такое действительно печатают, узнал бы, от кого идет, — согласился государь. — Или знаешь? Молчишь? Снова меня с министрами норовишь поссорить? Витте тебе нехорош, съел, теперь за Горемыкина принялся?
— Мне Горемыкин как брат! — воскликнул Трепов. — Я ему, ваше величество, во всем верю!
— Так кто же это такой «отфетственни министерстфо»? — спросила Александра Федоровна. — Столыпин?
Трепов вертелся ужом, бормотал про старость (дурак, не надо б, потом лишь понял), постепенно перешел на солдатские анекдоты, знал, что это — единственное спасение, государь сразу все забывал, а государыня Александра Федоровна поперек ему ни в чем не шла, стелила мягко: не русская, чай, баба, которая во всем норовит свое проволочь и людей не стыдится; эта бесовка все ночью решала, на ушко, в тишине, да без свидетелей, подучит, а сама потом молчит, любуется «либер Ники»: вот, мол, какой у нас государь мудрый и дальновидный!
Вечер кончился сносно, Трепов ушел к себе довольный, ибо в словах Николая — «узнай, от кого идет», «кто про „декорацию“ распускает» — увидел разрешение на поступок, а чего еще желать? Больше желать нечего!
У входа в ресторан «Кюба» толкались филеры, каждого раздевали глазом, к подозрительным прикасались бедром — нет ли бомбы? Не ровен час, взорвут Дмитрия Федоровича, лишат жизни доброхота, который людей вокруг себя видит, рядовым полицейским не брезгует и по-русски говорит доходчиво, не то как иные сановники — на иностранном, чтоб свою отдельность показать, загородиться.
Трепов — в кабинете, обтянутом шелком, стол сервирован скромно — ждал Павла Николаевича Милюкова: тот согласился на встречу без колебаний, хотя Иван Мануйлов полагал, что кадетский председатель станет жеманиться.
«Ванюша, детская душа, — сказал тогда Трепов, — он к кому угодно придет, ты словам-то не очень верь, слово для того и дадено, чтоб им пользоваться соответственно обстоятельствам! Он хочет прийти, милый! Мечтает! Ему во дворец хочется, Ваня!»
Милюков, как и приличествовало председателю ЦК, опоздал на три минуты, вошел настороженный, скованный в движении, отчего особенно явным делался его маленький рост.
— Рад личному знакомству, Павел Николаевич, от всей души рад, и милости прошу к столу, — заворковал Трепов. (За речью следил особенно тщательно — профессор знает язык по-настоящему, с ним никак нельзя опускаться до уровня, столь угодного Царскому Селу.) — Пёрхепс вилл спик инглиш note 3? — спросил Трепов, глянув на половых, что замерли у черной, мореного дерева, инкрустированной двери. — Ор ю префер френч note 4?
— Я люблю и английский и французский, — ответил Милюков, — но живу русским, Дмитрий Федорович.
— Прекрасный ответ! Любому нашему квасному патриоту — образец некичливого русского достоинства…
Половых Трепов отпустил, сам налил Милюкову рюмку мадеры.
— Специально привез из Царского, — пояснил он. — Любимое вино государя, попробуйте.
Милюков пригубил, осторожно поставил рюмку на скатерть, выкрахмаленную до металлической твердости, заметил:
— Отдаю дань прекрасному вкусу монарха.
— Святой, мудрый и красивый человек, — вздохнул Трепов. — Сколько же пишут всякого рода гнусности о нем?! Как можно?!
— Видимо, вы не могли не заметить, Дмитрий Федорович, что наша партия всегда и везде подчеркивала свою преданность идее конституционной монархии под скипетром просвещенного государя императора…
— Поэтому-то и просил вас, Павел Николаевич, согласиться на дружескую встречу… Я исповедую открытость в беседе с кем бы то ни было — с другом ли, с противником, — а поэтому позволю сразу поставить главный вопрос: как бы вы отнеслись к идее «министерства доверия»?
— Которое придет на смену «ответственному министерству»?
— А вы действительно считаете нынешнее — «ответственным»?
— Вы нет?
— Мы не туда пошли, Павел Николаевич, не туда. Извольте салату, я истосковался по зелени, государь ограничивает себя в еде, спартанская обстановка, поразительная скромность, воистину аристократическая… Оливковое масло изволите или наше, подсолнечное?
— Оливковое, благодарю вас… А куда надобно идти, Дмитрий Федорович?
— Ко взаимному доверию. Следовательно, к честному обмену мнениями. Я приглашаю вас сформировать министерство доверия, Павел Николаевич.
Такого Милюков не ждал, вилка в руке дрогнула.
— Как вас понять?
— Так, как я сказал… Ваша аграрная программа, по которой часть земель будет отчуждена крестьянам — с выкупом, понятное дело, помещикам, — меня не пугает. Это, как я понимаю, главный пункт расхождений между вами и Горемыкиным, не так ли?
— Горемыкин — пустое место, Дмитрий Федорович, разве вы его в расчет берете?
— А кого вы берете в расчет?
— Того же, кого и вы.
Трепов решил настоять на своем, добиться ответа прямого, поэтому настойчиво спросил:
— А кого, с вашей точки зрения, мы берем в расчет?
— Столыпина, — ответил наконец Милюков. — Разве вы не его имели в виду?
Добившись ответа, Трепов продолжил, словно бы Милюков пробросил мелочь:
— Согласны ли вы, Павел Николаевич, чтобы облегчение крестьянской участи, то есть передача части земель мужику, было провозглашено государем, или полагаете, что только Дума вправе принять такой закон?
— Я полагаю, что милость, данная крестьянству из рук государя, поможет успокоению страны, Дмитрий Федорович.
Трепов откинулся на спинку кресла: Милюков в кармане. Хорош либерал! Ишь, глазами сияет, недоносок, видит себя в Зимнем, не иначе! Дай только время, я тебе покажу кадетскую свободу! На Акатуе у меня сгниешь!
Трепов налил мадеры до краев.
— За вас, Павел Николаевич, за то, что вы принесли с собою русскому обществу! Ваш ответ высокопатриотичен и продиктован заботой о будущем нашей отчизны. Благодарю вас!
Чокнулись, помочили губы.
— А теперь мой вопрос, Дмитрий Федорович.
— К вашим услугам.
— Угодно ли будет государю даровать всеобщее избирательное право?
— Бесспорно.
— За вас, — поднял бокал Милюков. — За то, что вы приносите с собой русскому обществу! Чокнулись. Губ не мочили.
— Народ ждет конституции, Дмитрий Федорович. Можно надеяться на то, что государь подпишет основной закон, представленный на его благоусмотрение Думою?
— Сначала нужно составить такой закон, Павел Николаевич. Составить в новых условиях, в обстановке всеобщего доверия.
— Значит, самая идея конституции не отвергается?
— Приветствуется. Государь готов даровать конституцию подданным.
— Амнистия?
— Нет. Государь никогда не простит цареубийц. Это позволит революционерам творить свое мерзкое дело безнаказанно!
— Дмитрий Федорович, вы не правы! Амнистия, дарованная государем, лишь укрепит престиж монархии! Народ возблагодарит за это царя. У кого поднимется рука на освободителя?!
— Александра Второго, освободителя, убили, Павел Николаевич.
— Но то было иное время! Сейчас народ измучен революцией! Культурные слои хотят спокойствия и тишины! Поймите, именно престиж самодержавия поможет нам, нашей партии вести работу по изоляции крайних групп, мы откроем пропагандистскую кампанию в Думе, я обещаю вам это, я держу в руках третью часть всех депутатов, то есть относительное большинство. Уговорите государя, Дмитрий Федорович!
— Я не могу этого сделать, хотя ваши доводы искренни и лично я могу вас понять. Я тем не менее реально мыслю, Павел Николаевич, я не хочу сулить невозможного…
— Отмена военного положения?
— Сложный вопрос. Совладаете с эсерами? С социал-демократами? От этого будет зависеть все.
— С социал-демократами я смогу договориться. Плеханов занял вполне благоразумную позицию, он пользуется в партии авторитетом, он повернет своих единомышленников на верный путь. Я уже писал об этом, я с похвалой отозвался о его нынешней позиции.
Трепов ничего не сказал, загадочно улыбнулся, достал из кармана записную книжечку, пометил что-то, вырвал листок и протянул Милюкову:
— Как вам?
Павел Николаевич прочитал:
«Состав министерства доверия:
Премьер — член ЦК к. д. партии Муромцев.
Министр внутренних дел — Милюков или Петрункевич.
Министр юстиции — Набоков или Караваев.
Министр иностранных дел — Милюков или Извольский.
Министр финансов — Герценштейн.
Государственный контролер — Шипов.
Военный, морской и министр двора — по усмотрению Е. И. Величества».
Милюков ответил не сразу, должен был справиться с охватившим его волнением. Достал свой карандаш, следом за фамилией «Шипов» каллиграфически вывел «Гучков», протянул Трепову.
— Сработаетесь? — удивился Дмитрий Федорович так, словно кабинет уже утвержден. — Он ведь со Столыпиным, во всем с Петром Аркадьевичем.
— Ради вхождения в кабинет Гучков поменяет ориентацию.
— Полагаете? Отчего?
— Слишком молодой политик, слишком эмоциональный человек, слишком проломистый купец. Трепов рассмеялся:
— Исчерпывающая характеристика!
Трепов написал Милюкову свой личный телефон, в спальню, и просил звонить в любое время дня и ночи.
— Я верю, что кабинет будет утвержден на этих днях, ждите от меня вестей.
— Что-то я в добрые вести разучился верить, — откликнулся Милюков.
— Тем не менее жду. Мой телефон записать?
— Ну, вас найти нетрудно, вы теперь фигура, это я в тени, — улыбнулся Трепов. — Я ваш телефон знаю, Павел Николаевич, он в справочной книге уже распубликован…
На прощание Милюков сказал:
— Я, увы, привык к нашим опозданиям, привык к тому, что мы всегда пропускаем нужный момент, размышляючи вместо того, чтобы действовать, и посему оптимизм ваш и убежденность в скором решении нашего дела — сущий бальзам на сердце.
— Когда дом горит, приходится с пятого этажа прыгать, — ответил Трепов. — Время, отпущенное на рассуждения, кончилось, Павел Николаевич, это теперь понимают все.
Слово последнее произнес так, что и дурню было ясно — Царь.
Вечером того же дня Трепов вызвал корреспондента агентства «Рейтер», прозванного «безносым Лоэнгрином» за боксерскую физиономию, верного приятеля Мануйлова-Манусевича, человека, служившего Лондону так же, как и Петербургу, сформулировал вместе с ним вопросы к себе и вместе же составил ответы. «Рейтер». — Чем, по-вашему, господин генерал, отличается ситуация сегодняшнего дня от прошлых пяти месяцев! Трепов. — Положение по-прежнему сложное. Ни ответственное, ни коалиционное, ни любое другое министерство, организованное вне Думы, не принесет успокоения стране. «Рейтер». — Какое же министерство может привести страну к нормальному состоянию! Трепов. — Кадетское. Министерство доверия. Кадеты сейчас — сильнейшая партия в Думе, им и надлежит повести страну по тому пути, который избран значительной частью населения после того, как был опубликован всемилостивейший манифест государя. Сейчас кадеты вынуждены считаться с частью левых групп. Если же они образуют министерство, то, понятно, все левые будут отринуты — политика не для левых, им угоден лишь безответственный шум и свара. «Рейтер». — Усматриваете ли вы риск в том, что именно к. д. партия возглавит кабинет! Трепов. — Определенный риск, бесспорно, есть. Однако положение таково, что необходима предпринимать шаги, время дискуссий кончилось, народ ожидает действий».
Трепов интервью спрятал в сейф, сказал «Лоэнгрину», чтоб тот никуда из столицы не отлучался, оставлял, если отъедет надолго, телефон в бюро или дома.
— На этих днях ждите вызова, надо будет срочно передать текст в Лондон.
— Такой бы текст сейчас, сэр! Гвоздь, сенсация особенно хорошо стоит: «Диктатор выступает в пользу бывших противников»!
— Сенсация — это когда ко времени, а сейчас рано, — ответил Трепов без обычных своих прибауточек — волновался, ибо шел к царю доложить разговор с Милюковым и передать в собственные его величества руки список кабинета министров, исправленный доверчивым и тщеславным карандашом кадетского лидера.
Государь список спрятал в карман своего полковничьего, без крестов и аксельбантов, френча, погладил Трепова по плечу:
— Устал?
— И-эх, ваше величество, помру — отосплюся! Главнее, чтоб дело вышло: чужим дрыном да по иху же тыну! Ишь на что замахнулись, министерство им подавай! Была кадетская Дума — и нет, новую подберем так, чтоб шла-играла босиком!
— А подберешь? — поинтересовался государь.
— Подберу, ваше величество, подберу! — ликуя отозвался Трепов, не поняв даже, что этим своим обещанием поставил на себе как на претенденте крест, ибо Николай не любил людей, которые полагали возможным делать хоть что-нибудь, не заручившись его, самодержца, предварительным указанием.
… С каждым днем все более явственными становились две тенденции России: первая — Царского Села и Зимнего, и вторая — та, что искала себя в душном зале Народного дома в Стокгольме на съезде русских марксистов…
В силу сугубой малости первой тенденции можно было тогда уже, ранней весною девятьсот шестого, вывести точный прогноз на будущее: победит вторая тенденция, ибо она впервые в истории рассчитывала вероятия, базируясь не на прихотях личностей, а на фундаменте марксистской науки. «ПЕТЕРБУРГ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПО ШИФРУ МИДа СЕДЬМОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ТЧК ПРОШУ СРОЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ВЫСЛАТЬ ТЕКСТ РУССКО-ГЕРМАНО-ИСПАНО-ШВЕДСКОГО ДОГОВОРА О ВЗАИМНОЙ ВЫДАЧЕ АНАРХИСТОВ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК». «СТОКГОЛЬМ ДЕЛОВАЯ ПО ШИФРУ МИДа ГЛАЗОВУ ТЧК ТЕКСТ ДОГОВОРА ВЫДАЧЕ АНАРХИСТОВ НАХОДИТСЯ НАШЕГО ПОСЛАННИКА СТЭЛЬ-ГОЛЬШТЕЙНА ТЧК ХАРЛАМПИЕВ ТЧК». «ПЕТЕРБУРГ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПО ШИФРУ МИДа ХАРЛАМПИЕВУ ТЧК ТЕКСТ ДОГОВОРА АРХИВАХ ПОСОЛЬСТВА НЕ ОБНАРУЖЕН ТЧК НАСТАИВАЮ НЕМЕДЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ СТОКГОЛЬМ ВМЕСТЕ С АНАЛИЗОМ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СОГЛАСНО СТАТЬЯМ ДОГОВОРА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ АНАРХИСТАМИ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК». «СТОКГОЛЬМ ДЕЛОВАЯ ПО ШИФРУ МИДа ГЛАЗОВУ ТЧК ОБРАТИТЕСЬ СТЭЛЬ-ГОЛЬШТЕЙНУ СОДЕЙСТВИЕМ ТЧК ОН ЗАПРОСИТ ТЕКСТ ДОГОВОРА ШВЕДСКОМ МИДе ТЧК ХАРЛАМПИЕВ ТЧК». «ПЕТЕРБУРГ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПО ШИФРУ МИДа ХАРЛАМПИЕВУ ТЧК СТЭЛЬ-ГОЛЬШТЕЙНУ ОБРАЩУСЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНИВ ЗАДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ СВЯЗАННУЮ БЛАГОПОЛУЧИЕМ ОСОБ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ФАМИЛИИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОМЕДЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧЕЙ ТЕКСТА СОГЛАШЕНИЯ ВЫДАЧЕ АНАРХИСТОВ ПОЛАГАЮ ВОЗМОЖНЫМ СЧИТАТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК».
39
— Слово по аграрному вопросу предоставляется товарищу Ленину, — сказал Дан, поглядев на Плеханова, который сидел безучастно, высокий, красивый, весь в своем далеком, величественный человек…
— Я зачитаю проект резолюции. — Ленин достал из кармана листок бумаги. — В целях устранения остатков крепостного порядка, которые тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне партия требует:
конфискации всех церковных, монастырских, удельных, государственных, кабинетских и помещичьих земель; учреждения крестьянских комитетов для немедленного уничтожения всех следов помещичьей власти и помещичьих привилегий и для фактического распоряжения конфискованными землями впредь до установления всенародным учредительным собранием нового земельного устройства; отмены всех податей и повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное сословие; отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распоряжении его землей; предоставления выборным народным судам права понижать непомерно высокие арендные платы и объявлять недействительными сделки, имеющие кабальный характер.
Если же решительная победа современной революции в России обеспечит полностью самодержавие народа, то есть создаст республику и вполне демократический государственный строй, то партия будет добиваться отмены частной собственности на землю и передачи всех земель в общую собственность всего народа…
Ленин вернулся на свое место за столом президиума под аплодисменты большевиков — левая половина зала, где сидели меньшевики, хранила молчание.
— Слово имеет товарищ Плеханов, — объявил Дан ликующе.
— Аграрная история России более похожа на историю Индии, Египта, Китая и других восточных деспотий, чем на историю Западной Европы. — Плеханов говорил чеканно, чуть грассируя. — В этом нет ничего удивительного, ибо экономическое развитие каждого народа совершается в своеобразной исторической обстановке. У нас дело сложилось так, что земля вместе с земледельцами была закрепощена государством, и на основании этого закрепощения развился русский деспотизм. Чтобы разбить деспотизм, необходимо устранить его экономическую основу. Проект Ленина тесно связан с утопией, — Плеханов выделил это слово, — с анархической утопией захвата власти революционерами, и поэтому против него должны высказаться те из нас, которые не имеют вкуса к такого рода утопии. Иное дело муниципализация. В случае торжества реакции она не отдает земли в руки политических представителей старого порядка; наоборот, в органах общественного самоуправления, владеющих землею, она создает оплот против деспотии. И это будет очень сильный оплот. Я повторяю вслед за Наполеоном: «Плох тот человек, который рассчитывает лишь на благоприятное стечение обстоятельств». Впрочем, я не безусловный сторонник муниципализации. Я думаю, что если бы нам не удалось добиться ее, если бы нам пришлось выбирать между национализацией и разделом, то в интересах революции следовало бы предпочесть раздел. Вот в чем заключается разница между моими взглядами, с одной стороны, и взглядами Ленина с его анархо-утопическими замашками — с другой. Вы можете склониться к тому или другому из них, но вы должны понимать, что совместить их невозможно.
Плеханова наградили аплодисментами, особенно неистовствовали кавказцы.
Следующим говорил Суворов («Борисов»), автор «компромиссной» теории «раздела» земель.
— Я взял слово потому, что отношусь отрицательно и к требованию национализации земли в программе товарища Ленина и к проекту муниципализации товарищей Плеханова и Джона, — сказал Борисов. — Переход земли к крестьянам поднимет их благосостояние и даст толчок развитию новых отношений в деревне, поведет к промышленному прогрессу в стране. С другой стороны, борьба за землю толкнет крестьян на путь политической революции, заставит их быть союзниками пролетариата в борьбе за демократический строй. Каким же способом может быть решен вопрос о крестьянских земельных требованиях? Муниципализация? Нет. Ленинский план? Нет. В период развивающейся революции это революционные захваты земель, то есть раздел.
Дан объявил:
— Слово имеет товарищ Иванович.
— Прежде всего скажу о методах аргументации некоторых товарищей. — Джугашвили-Сталин выступал, чуть покашливая, тихо, очень глухо. — Плеханов много говорил об «анархических замашках» Ленина, о пагубности «ленинизма», но об аграрном вопросе, в сущности, сказал очень мало. Полагаю, что такой способ аргументации, вносящий атмосферу раздражения, кроме того, что противоречит характеру нашего съезда, называемого Объединительным, ровно ничего не выясняет в постановке аграрного вопроса. И мы могли бы сказать кое-что о кадетских замашках Плеханова, но этим ни на шаг не подвинулись бы в решении аграрного вопроса. Что касается существа дела, то я должен сказать, что исходным пунктом нашей программы должно служить следующее положение: так как мы заключаем временный революционный союз с борющимся крестьянством, так как мы не можем, стало быть, не считаться с требованиями этого крестьянства, то мы должны поддерживать эти требования, если они в общем и целом не противоречат тенденции экономического развития и ходу революции. Крестьяне требуют раздела помещичьих земель; раздел не противоречит вышесказанным явлениям, значит, мы должны поддерживать полную конфискацию и раздел. С этой точки зрения и национализация Ленина и муниципализация Плеханова одинаково неприемлемы.
Дан вопрошающе поглядел на Джугашвили-Сталина — закончил ли? Тот внимательно оглядел зал, погладил бороду, спустился с трибуны, медленно, значимо пошел на свое место.
Дзержинский подумал: «Ленин заставил всех открыть себя. Он так сформулировал свою программу, что возражать ей можно с полной отдачей, здесь себя никак не прикроешь: здесь школа Политики, такое на жизнь дается раз или два — не больше».
Луначарский сунул пенсне в карман, лег локтями на трибуну, приладился, словно решил там обосноваться надолго, потом только заговорил:
— По мнению товарища Плеханова, главным грехом Ленина и его программы является исходная идея — «вредная и утопическая идея захвата власти». Впрочем, Ленин не говорил в своем проекте о завоевании власти, просто, зная Ленина отменно, Георгий Валентинович прислышал то, что мыслится нами постоянно, но высказывается не всегда. Удивило меня другое: как мог Плеханов назвать идею завоевания власти революционным путем вредной и утопической? Ведь это основная идея нашей программы-максимум. Нет, Плеханов, очевидно, имел в виду заговорщицкий захват, тот, который теперь можно видеть разве только в оперетке. Приходят во дворец пятьдесят замаскированных людей с кинжалами и совершают переворот. Но разве победа революции связывается у Ленина с подобным опереточным захватом власти? Ничуть. Разве октябрьское стачечное движение, декабрьское вооруженное восстание были заговорами? Разве восставший народ не стремился при этом до конца разрушить существующую власть? Разве победа в декабре не привела бы к переходу власти в руки народа? Надо сразу сказать, на какой случай пишем мы нашу аграрную программу. Намечаем ли мы меры, которые социал-демократия будет отстаивать в учредительном собрании, при полной и совершенной победе не милюковского квази-демократизма, а истинного народоправства? Или мы пишем нашу программу на случай половинчатого кадетского исхода русской революции? Или, наконец, на случай ее поражения? Тогда скажите прямо, товарищи: «В случае, ежели, паче чаяния, все хорошие вещи, о которых говорит Ленин, осуществятся, мы, пожалуй, перекрестясь, и национализацию признаем, но так как мы рассчитываем скорее на кадетский конец революции, то выдвигаем муниципализацию, а если и того не будет, так и без всякой программы останемся, потому что мы гибки». Товарищ Плеханов как-то говорил нам, что он усматривает эсерство в Ленине. Ленин — эсер? Я уверен, что все присутствовавшие поняли, что Плеханов шутит. Серьезно утверждать, что Ленин — эсер, было бы так же дико и странно, как если бы в этом собрании раздалось утверждение, что Плеханов — кадет. Товарищ Плеханов нисколько не огорчился обвинением в гибкости. «С каких пор гибкость стала пороком, а окаменелость — достоинством? » — спрашивает он. Но есть гибкость и гибкость. Ленин доказал свою гибкость вполне недвусмысленно, когда он под давлением событий шагнул от крестьянских отрезков, главным кумом которых он был ранее, к национализации. Гибкость требует постоянного пристального учета событий и соответственных изменений в тактике, а иногда и в программе, но изменения эти всегда должны быть строго определенны. Товарищ Плеханов сказал, что социал-демократия может позволить себе «роскошь ошибки». Да, в настоящий момент нам лучше позволить себе роскошь ленинской ошибки, чем убожество излишней осторожности.
Ленин выступил с заключительным словом. Он, в частности, сказал:
— Где гарантия от реставрации, спрашивал товарищ Плеханов. Я не думаю, чтобы постановка этого вопроса находилась в тесной и неразрывной связи с разбираемой нами программой, но раз этот вопрос поставлен, на него надо дать вполне определенный и недвусмысленный ответ. Если говорить о настоящей, вполне действительной экономической гарантии, которая бы создавала экономические условия, исключающие реставрацию, то тогда придется сказать: единственная гарантия от реставрации — социалистический переворот на Западе; никакой другой гарантии, в -настоящем и полном смысле этого слова, быть не может… Если же… говорить об относительной и условной гарантии от реставрации, то тогда придется сказать следующее: условной и относительной гарантией от реставрации является только то, чтобы революция была осуществлена возможно более решительно, чтобы она была проведена непосредственно революционным классом, при наименьшем участии посредников, соглашателей и всяческих примирителей, чтобы эта революция была действительно доведена до конца, и мой проект дает максимум относительно гарантий против реставрации… Мы должны прямо и определенно сказать крестьянину: если ты хочешь довести аграрную революцию до конца, то ты должен также довести и политическую революцию до конца; без доведения до конца политической революции не будет вовсе или не будет сколько-нибудь прочной аграрной революции. Без полного демократического переворота, без выбора чиновников народом у нас будут либо аграрные бунты, либо кадетские аграрные реформы… Плеханов усмотрел у меня в проекте моей аграрной программы захват власти, и я должен сказать, что идея захвата власти революционным крестьянством действительно имеется в моем проекте аграрной программы, но сводить эту идею к народовольческой идее захвата власти есть величайшая ошибка… Захват власти был пожеланием или фразой горсточки интеллигентов… Теперь, после октября, ноября и декабря тысяча девятьсот пятого года, после того, как широкие массы рабочего класса, полупролетарских элементов и крестьянства показали миру невиданные давно уже формы революционного движения… теперь сводить мысль о завоевании политической власти революционным народом к народовольчеству значит запаздывать на целых двадцать пять лет… Плеханов говорил: не нужно бояться аграрной революции. Именно эта боязнь завоевания власти революционным крестьянством и есть боязнь аграрной революции… Словами крестьян, несмотря на всю их экономическую несостоятельность или бессодержательность, мы должны пользоваться, как зацепками для пропаганды. Ты говоришь, что землей должны пользоваться все? Ты хочешь отдать землю народу? Прекрасно, но что значит дать землю народу? Кто распоряжается народным достоянием и народным имуществом? Чиновники, Треповы. Хочешь ли ты отдать землю Трепову и чиновникам? Нет. Всякий крестьянин скажет, что им он отдать земли не хочет. Хочешь ли отдать землю Петрункевичам и Родичевым, которые, может быть, будут заседать в муниципальном самоуправлении? Нет. Крестьянин, наверно, не захочет отдать землю этим господам… Следовательно, выставляемый мною проект национализации, обусловленной полным обеспечением демократической республики, дает как раз правильную линию поведения нашим пропагандистам и агитаторам, показывая им ясно и наглядно, что разбор земельных требований крестьян должен служить почвой для политической и в частности именно республиканской пропаганды.
Дан предоставил слово Плеханову.
Дзержинский поймал себя на мысли: «Турнир рыцарей. Да, руки ледяные, страсти накалены, резкости сдерживаются с трудом, но как достойны соперники, как благородны помыслы, сколь чиста цель, во имя которой происходит эта схватка умов! Корыстных интересов нет ведь ни за кем — у Плеханова, что ли, отца русского марксизма, корысть?! Ищут истину, рвут свои сердца, первопроходцы; такого рода проблемы в России были немыслимы ранее, никто не готов к ним был загодя, оттого все столь накалено… Воистину турнир рыцарей… »
… Плеханов на этот раз выступал атакующе, не было и следа от прежнего Георгия Валентиновича, когда он говорил первый раз, — сейчас на трибуне был не мэтр, а задорный боец, и даже голос у него был звенящий, молодой.
— Один товарищ поставил мне вопрос: «Плеханов восстает против национализации, потому что он не верит в возможность осуществления всех ленинских „если“. А коли бы все эти „если“ осуществились, был ли бы я за национализацию? » Нет, даже в случае осуществления всех ленинских «если» я был бы против. Что значит осуществление ленинских «если»? Это значит, что в России так же прочно установилась политическая свобода, как установилась она в Швейцарии, в Англии или в Соединенных Штатах. Тогда нам не будет грозить опасность реставрации. Но когда это будет?! Положение дел таково, что между мною и Лениным существуют в высшей степени серьезные разногласия. Этих разногласий не надо затушевывать. Их надо выяснить себе во всей их важности, во всем их объеме. Наша партия переживает чрезвычайно серьезный момент. От решения, которое вы примете сегодня или завтра по аграрному вопросу, будет в значительной степени зависеть судьба всей нашей партии, всей страны. В проекте Ленина сказывается не только его взгляд на аграрный вопрос, а весь характер его революционного мышления. Бланкизм или марксизм — вот вопрос, который мы решаем сегодня. Товарищ Ленин сам признал, что аграрный проект тесно связан с его идеей захвата власти, И я очень благодарен ему за откровенность. С Лениным мне пришлось уже сломать не одно копье во взаимной борьбе. Тем приятнее мне, что я могу начать свое возражение ему с комплимента. Он прекрасно выступал. Слушая его, я припоминал, как покойный Лавров говорил мне: «В вас пропал прекрасный адвокат». В товарище Ленине, поистине, пропал превосходный адвокат. Ленин сказал в защиту своего проекта все, что можно было сказать. Но, видно, слабо то дело, которое защищает этот превосходный адвокат, если защита все-таки оказалась слабой. Товарища Ленина можно назвать, по известному французскому выражению, «адвокатом проигранного дела». Его дело потеряно перед судом логики. Ленин говорит: «Мы должны доводить дело революции до конца». Так. Но вопрос в том, кто из нас доведет до конца это дело. Я утверждаю, что не он.
40
— Нет, послушайте, Эндрю (Есин теперь называл Глазова на американский манер — у него была страсть со всеми переходить на «ты» и сразу же отбрасывать отчества), это какой-то дом для умалишенных! Я первый день слушал их внимательно, в кулуарах во время перерыва Бруклинский познакомил меня с Махновцем и Масловым — милые люди, но они все безумцы! Я ничего не могу уловить, Эндрю! Национализация, муниципализация — о чем они говорят?! Какое это имеет значение?!
— Большое значение, Майкл, — ответил Глазов грустно: он понял, что Есин относится к числу людей, неспособных оценивать других отстраненно, он был словно покупатель в магазине платья — все примеривал на себя и ругал не свою фигуру — портных.
— Неужели вы берете их всерьез?! Я лично ничего не понял из их перепалки, а я неглупый человек, иначе бы меня давно съели конкуренты вместе с потрохами. В России сидит царь, под ним работает правительство, губернаторы правят волостями, а эти люди обсуждают, как сажать цветы, не купив землю!
— Кто вам показался наиболее интересным из собеседников, резким, убежденным, сильным? Что вас оттолкнуло или, наоборот, покорило в чьих-то выступлениях? Меня интересуют подробности, Майкл.
— Покорить может хорошая девка! Там все понятно: отвел в аптеку, потом в отель, а утром дал деньги на сабвэй…
— Вы что-то перепутали, — усмехнулся Глазов, — в аптеку надо идти после того, как дали деньги на сабвэй.
— Нет, не перепутал, у них аптека как у вас кондитерская, только все дешевле, и можно выпить неплохо, со скидкой в двенадцать процентов…
— Скажите, Майкл, а вы со своими соседями здесь, в отеле, познакомились?
— С этим грузином? Ивановичем?
— Да. И с Рыковым.
— Э, — Есин махнул рукой, — ничего интересного, поверьте моему опыту распознавать людей. Я предложил им свою резолюцию по аграрному вопросу, вместо их безумных «муниципализации» и «разделов». Я предложил систему контрактов: мужик — посредническая контора; я могу дать проект, безвозмездно рассказать про то, как сам работаю: внутренний рынок — аукцион — посредник — внешний рынок. Тогда отпадет нужда во всех этих безумных реформах, мужика завертит, ему будет не до размышлений, следовательно, не до бунтов, надо работать с утра и до ночи.
— Ну и что вам ответили делегаты?
— Ничего. Я же говорил вам, они витают в эмпиреях, совершенно не деловые люди. Повторяю, Эндрю, вы должны заставить мужика потеть!
— А сейчас он, по-вашему, бьет баклуши?
Глазов не понял отчего, но вдруг испытал обиду за мужика.
«От иностранца б перенес, — признался он себе, — а от этого не могу».
Есин быстро отхлебнул холодный чай.
— Конечно, бьет баклуши! Какой-то делегат, погодите, сейчас вспомню, ага, вспомнил — Григорий Адамович, говорил мне, что на пути мужика к помещичьей земле стоит шериф, ну, как это, староста, исправник, уездная власть, банк, отсутствие банка, а достал он, допустим, денег, так помещик в Ницце отдыхает, а срок сева проходит, вот вам и недород, вот вам и революция! А если бы вы открыли широкую сеть посреднических контор, тогда все бы переменилось. Кстати, поддержите мою кандидатуру как автора проекта для России, Эндрю… Я перезнакомлюсь со всеми вашими эсдеками, кадетами, эсерами, я смогу вам помочь по всем линиям! Неплохая идея, а? Вы получите процент с оборота, мы распространим акции. «Есин дивэлопинг инкорпорэйшн фор Раша», а?!
— Хорошая идея, обсудим, — согласился Глазов, представив сразу же, как Есина с эдакой-то идеей встретят в северной столице. — Но мы с вами отвлеклись, Майкл. Давайте-ка по порядку, воспроизведите, кто с какими предложениями выступал, в чем пик разногласий, — я же просил вас об этом.
— Эндрю, если вы хотите получить бесплатный совет — я вам его даю: забудьте этих наивных, беспомощных, одержимых людей. Забудьте. Они не представляют никакой опасности. Верьте моему опыту. Я как-то взялся поставлять зеркала для компании по производству лифтов…
— Погодите с лифтами, Мишенька, погодите…
— Вы сердитесь? На что, мой бог?! Эндрю, вам больше никто не поставляет информацию? Ответьте правду! Вполне может быть, что мой конкурент работает нечестно, ставит на повышение. А там не на кого ставить! Если я их не могу понять, я, культурный человек, то как их поймут рабочие, о которых они спорят?! Ну? Вы подумайте только! У них, в Нью-Йорке, есть своя рабочая партия, тоже шумят. И что? Кому они мешают? Говорят себе, и ладно! Если в унисон дудеть — оглохнешь от тишины! Надо, чтобы был комарий писк, тогда все по-настоящему слышно! Пусть себе шумят, отчего вы боитесь позволить им шуметь?
— У вас шумят, а у нас помещиков жгут.
— И будут жечь, если не организуете посредническую службу!
«Хоть как-то надо тысячу долларов оправдать, — устало подумал Глазов, — деньги немалые, по моей просьбе дали, а его болтовню к отчету не подошьешь… »
Есин нажал кнопку большого, сделанного в форме головы негра звонка, вызвал горничную, спросил чаю и сливок, обернулся к Глазову:
— Может, покутим? А? Тут прекрасное розовое варенье и торт, я подсчитал, всего два доллара сорок три цента, там это стоит шесть.
— Конечно, заказывайте, — ответил Глазов, не поднимая затяжелевших век — менялась погода, небо заволокло тучами, низкими, изнутри черными, затылок потому ломило нестерпимо, отдавало в глаза.
— Здесь жизнь значительно дешевле, — продолжал Есин, — хлеб примерно на два цента…
— За фунт?
— Ну что вы! За десять фунтов…
— Вы и такие мелочи высчитываете?
— Такая мелочь даст экономию бюджета семьи из пяти человек за год в двенадцать долларов шесть центов, а это деньги, Эндрю.
И Глазов вдруг понял Есина — раньше-то ошибался, себя переоценивал.
— Слушайте, Майкл, — сказал Глазов, — сто долларов у них — деньги?
— Там и цент — деньги, Эндрю, — сухо ответил Есин, — а в чем дело? Есть предложение?
— Я хочу попробовать одну посредническую операцию.
— Каков объем сделки?
— Сто долларов.
— Это не сделка.
— Тогда отменяется, — вздохнул Глазов.
— Но тем не менее сто долларов — это деньги, — сразу же отработал Есин. — Они могут стать основой для посреднической операции…
— Мне предлагают сто долларов за пять страниц.
— Воровать эти страницы не надо? — деловито осведомился Есин.
— Нет. Тот человек, посредником которого я думаю стать, выплатит сто долларов за фамилии, клички, имена, места рождения, краткую характеристику делегатов съезда.
— Сколько вы дадите мне, если я приготовлю эти пять страниц?
Глазов удивился:
— То есть? Я же сказал — сто долларов.
— Если вы так думаете посредничать, Эндрю, тогда Россия погибнет. Вы должны просить у посредника триста, мне из этой суммы уплатить сто пятьдесят, сто двадцать пять положить в банк, а на остальные устроить парти, где соберутся нужные для дела люди, причем вы вправе попросить и у меня восемь долларов, потому что я, возможно, заимею хорошие знакомства. Возможно, и нет, но надо уметь рисковать! Плачу восемь долларов. Хотите наличными или выписать чек? «Его Превосходительству Э. И. Вуичу, директору Департамента полиции. Милостивый государь Эммануил Иванович! Работа, проводимая мною в Стокгольме, дает свои благие плоды. Путем довольно сложной и весьма дорогостоящей комбинации мне удалось получить чрезвычайно важный для всей нашей дальнейшей деятельности список ведущих делегатов четвертого съезда РСДРП. Это, несомненно, позволит нам усилить столь необходимую для борьбы с революцией активность. Привожу список делегатов на благоусмотрение Вашего Превосходительства и смею полагать, что Вы не преминете дать указание VII делопроизводству озадачить все охранные отделения Империи установлением подлинных имен и фамилий государственных преступников, собравшихся ныне в Стокгольме: Писатель Григорий Адамович, родился 10 октября 1879 года в деревне Рацивуга, Варшавской губернии, сын аптекаря Александра Адамовича. Роста ниже среднего, волосы черные, довольно длинные, борода неширокая, рыжая, глаза голубые, носит пенсне. Адвокат Семен Алексеевич Сабуров. Инженер Винтер Леонид Борисович, рожден в Баку, роста среднего, владеет немецким и французским языками. (Предположительно под этой фамилией выступает здесь государственный преступник Красин.) Сотрудник журнала „Колокол“ Антон Виницкий, 18 апреля 1880 года рождения. Сын умершего бухгалтера из Любляна Казимежа Виницкого и жены его Матильды. Роста выше среднего, шея длинная, с выдающимся адамовым яблоком. Климент Ефремович Беков, рабочий из Луганска, роста ниже среднего, носит небольшие усы, глаза серые, смешливые, нос курносый, волосы вьющиеся, русые. Журналист Владимир Петрович Махновец, рожден 8 сентября 1872 года в Воронеже, в семье доктора медицины Петра Махновца и жены его Серафимы. Холост. Носит пенсне. Литератор Мартин Мандельштам, 1872 года рождения. Сын купца Льва Мандельштама и его жены Шарлотты. Холост. Роста выше среднего. (Есть предположение, что на съезде выступает под фамилией „Лядов“.) Агроном Петр Павлович Маслов, рожден 18 июня 1867 года. Сын помещика, женат, семья проживает в С.
—Петербурге. Носит очки в золотой оправе, волосы черные. Студент Варшавского университета Иосиф Миллер, рожден 30 июня 1876 года в Вилейке, Виленской губернии. Сын учителя гимназии Эдмонда, холост, борода-эспаньолка русого цвета, нос несколько выгнутый, породистый. (Есть непроверенное предположение, что под этим именем скрывается государственный преступник Дзержинский-Доманский, он же Кжечковский.) Слесарь Федор Яковлев, двадцати девяти лет, рожден в деревне Борки, Новгородской губернии, сын крестьянина Якова и жены его Евдокии. Холост. В последнее время работал на заводе в С. -Петербурге. Журналист Иван Виссарионович Иванович, рожден в декабре 1879 года, сын сапожника из Тифлиса Виссарионова и его жены Екатерины. Служит при тифлисской газете «Демократическая конституция». Роста ниже среднего, волосы и борода черные, полный, глаза карие, нос большой, лицо корявое. (Предположительно под этой фамилией скрывается государственный преступник Джугашвили.) Анатолий Васильевич Воинов, он же Луначарский, журналист, до недавнего времени проживал во Флоренции, роста среднего, носит пенсне, борода и усы русые. Сведения о других делегатах будут мною переданы в департамент по мере работы нашей агентуры. Здесь, в Стокгольме, до меня дошла весть о трагической гибели моего несравненного друга полковника Игоря Васильевича Попова. Я пытался предупредить департамент о готовящемся в Варшаве злодеянии, отправил шифрограмму. Неужели мое сообщение запоздало?! Совесть моя перед светлой памятью покойного чиста, я сделал все, что мог, дабы предотвратить его безвременную гибель. Не зная до конца все перипетии дела, могу, однако, высказать предположение, что сейчас настала пора ударить польскую социал-демократию, ударить сокрушающе, обвинив партию в преступлении закона и норм военного положения. Сие означает виселицу для преступников, виселицу, и только. Сегодня я отправляю на собеседование с Дзержинским агента Л. Ероховского, которого связывала трогательная дружба с покойным Поповым И. В. Смею полагать, что будущие показания Л. Ероховского позволят тем газетам, которые связаны с нами, открыть массированную кампанию против СДКПиЛ, авторитет коей в Привислинском крае растет угрожающе. Пока еще рано давать анализ тем материалам, которые мне удалось получить о работе съезда РСДРП, однако предварительное мнение складывается таким образом, что победит умеренная часть партии и, таким образом, план, начатый по Вашему указанию рще зимою, принесет свои благие результаты. Ленин, вероятно, будет вынужден замолчать; таким образом, наиболее опасный социал-демократический пропагандист будет изолирован надежно. С надеждой на скорую встречу, Вашего Превосходительства покорнейший слуга Г. Глазов» «Господин Кжечковский! Я обязан написать Вам это письмо. Я понял это после того, как мы с Вами расстались сегодня вечером. Я легко схожусь с людьми, ибо не люблю их, Ян Эдмундович. Странно, я ехал сюда с острым чувством ненависти к Вам и Вашим товарищам, которых винил в смерти единственного светлого человека, промелькнувшего кометою-мечтою, а после нашего разговора понял, что виноваты в ее гибели не Вы, ни даже ее прямой истязатель Попов, а я, Леопольд Ероховский, он же Элькин, он же Коромыслов, сын дворянина, внук ксендза, мразь и червь. Я не очень-то могу понять сейчас — в голове не мысли, а примороженные капустные листья, — когда началось мое падение. Детство я прожил в доме деда: помню лишь бритую шею и холодные длинные руки, лежащие на черном дубовом столе, и никогда — на моей голове, на плечах, на колене. Помню первые уроки деда: „Человек призван на землю, чтобы царствовать. Прародители свершили страшный грех, и человек лишился своего царственного сана, попал в подчинение к природе, не смог остаться Высоким, сделался тварью. Его первый грех осквернил землю, за него проклята она была. И это-то проклятие стало проявляться в войнах, в смерти, в обреченности дней, в голоде и жажде“. Когда я переехал в город, в дом отца, разорившего семью карточною игрою, единственным моим занятием сделалось чтение книг — у отца осталась громадная библиотека деда — по дворянской, а не ксендзовой линии. Я сидел в душной комнате, и перед моим взором вставала история. И эта история входила в противоречие со словами деда, сурового, но справедливого ксендза, отца рано умершей матери, и это противоречие терзало мое сердце. Раз человек прошел эволюцию от страшных дней царствования готтентотов: „Что принадлежит мне, то есть мое, а что мне не принадлежит, то обязано стать моим“ — до искупления Христа, а после этого очищения настала инквизиция, которая запятнала Христову веру кровью невинных, то, значит, все дозволено в мире, все угодно, существует лишь два отправных момента, необходимых истории, — грех и искупление. Но это же хлеб и зрелища? Блуд и исповедь? Это же всепозволенность! И я пошел к отцу за советом — к кому идти, как не к отцу? Я не стану описывать, что было во время этого страшного разговора, не надо этого. Но я с тех пор верю, что человек становится рабом, злым, маленьким рабом, отнюдь не только после жестокого избиения или унизительного голода. Нет, воспитание, первые детские годы, дом определяют личность человека, закладывают основополагающий фундамент. Человека можно сделать трусливым рабом, лишив его права бесстрашно высказывать свою мысль. Любил ли меня отец? Да. Но его любовь была рождена страхом за меня, вы помните события семидесятых годов, когда за каждое вольное слово отправляли в Сибирь? Да, отец любил меня, боялся за будущее, и его любовь меня закабалила, лишила „я“, подчинила его эгоистическому страху. Порабощение — даже любовью — есть убийство. Отец меня убил. Я перестал быть мыслящим существом, я бежал мыслей, я боялся огорчить отца вопросом, я боялся его гнева, поскольку мне казалось, что во гневе он умрет и я останусь один в этом мире жестокости и порабощения. Когда отец умер, я постепенно начал ощущать себя, но это ощущение было странным: это была тоска плоти. И тогда произошла вторая трагедия, книжник восхотел ласку, книжник придумал себе идеал, но ведь любовь — это всегда противоборение тяги к данной женщине, и осознание божественного идеала, что стоит и за объектом твоей страсти. Вы простите мой стиль, я пишу в последний раз, поэтому красуюсь, и ничего не могу с собою поделать, но, я верю. Вы относитесь к числу людей, обладающих редким даром понимать. Я ухожу спокойно и осознанно, ибо хоть один человек поймет меня, а всякое понимание — путь к прощению. Нет, я не заслуживаю прощения. Я не прошу его. Я хочу только, чтобы вы поняли меня — может быть, мой урок пригодится другим, кто знает? Ваша убежденность сродни христианской, значит, вы обречены на то, чтобы проповедовать. Я знаю теперь Ваше отношение к Богу, но и Вы знаете мое к Нему отношение — спор бесполезен. Вы вправе не соглашаться, но переубедить меня нельзя. После разочарования в любви, которая вблизи совсем иная, чем в представлении, настала пора краха последнего, определившего мою дружбу с Поповым. Я решил, что в мире жестоких людей, алчных в любви, жестоких дома, несчастных в работе, мыслящему человеку остается один лишь путь — горького и отстраненного индивидуализма. Я придумал себе — после Ницше, конечно, — схему бытия. Я полагал, что спасение — в бегстве от грязи мира в лирику самого себя, ведь никто так себя не любит, кроме как „я“, правда ведь? Я, впрочем, не отношу это к людям Вашей идеи. Вы апостолы веры, вы несете Крест. Я же говорю о множестве. Индивидуализм — это бунт бессильных. Я понял это, когда Счастливая Судьба даровала мне несколько дней, проведенных под одною крышей с Генриком Сенкевичем. Его называли индивидуалистом, он действительно был одинок, но, увидав его вблизи, я понял, как далек от него, потому что хоть и был он один, но отдавал себя всем. А что я мог отдать другим, кроме самого себя? Это очень много — „сам ты“, коли голова твоя полна песнью, как у Мицкевича, или формулами, как у Склодовской. А чем был полон я? Тем „самим собою“, что мал, сломан, обманут и находится в рабстве с детства, которое с годами превратилось в рабство у самого себя. Глядя на Сенкевича, я понял, что лишь одно, лишь литература может помочь мне разорвать рабьи оковы страха. Но ведь Богу дано Богово, а я даже не был Юпитером. Параллельно неудачам на литературном поприще росло тщеславие. Человек, наделенный талантом, которого все знают и чтут, про которого обыватели считают, что ему все разрешено, на самом-то деле не разрешает себе ничего, что входило бы в конфликт с моралью; лишь маленькие люди с большим тщеславием позволяют себе все. Я был таким. Я начал позволять себе все, и на этом меня взяли за руку. И появился Попов. Мы с ним болтали обо многом и обо многих. И я доболтался до того, что отправил на смерть Стефу Микульску. И верил — это правда, — что в ее гибели виноваты Вы. Наверное, я поступаю трусливо и мелко, что ухожу, наверное, честно было бы прокричать всем о том, что я узнал, рассказать о Попове, Стефе, о том мире коварной, доброй, респектабельной лжи, в котором я жил, успокаивая себя тем, что жизнь — щедрый кредитор, что придет удача, а за нею слава, и я смогу расплатиться по всем долгам одним махом. Так не бывает. Но я хочу верить, что в будущем таким искалеченным уродам, каким стал я, не останется на земле места. Я верю, что Ваша нравственность распространится по миру. Люди изнывают оттого, что повсюду царствует сытая безнравственность. Люди ждут Света, они ведь рождены, чтобы царствовать над природой, а не подчиняться ей. Я хочу еще раз предупредить Вас, Ян Эдмундович, что в Стокгольме развивает активность мой „друг“, начальник Попова, некий Груман (или Громан), выдающий себя за дипломата. Я не знаю, где он сейчас живет, но он привез, как я уже сказал Вам, не только меня — смотреть за Вами, знакомиться с Вами, располагать Вас. Один раз, однако, Груман пришел ко мне, когда Вы были на заседании съезда, из чего я заключил, что за Вами и здесь следят, причем, сдается мне, шведские полицейские. Предпримите шаги — мне показалось, что не поверили Вы мне. Верьте. Спасибо за то, что Вы смогли напечатать в „Дневнике“ ту страшную историю злодейства, свершаемого под скипетром царя-„освободителя“. Вы спрашивали меня, поймут ли люди, что это о покойной Стефе; у нас научены читать между строк, а тут и без этих спасительных междустрочий все ясно. И это мое письмо поможет все поставить на свои места. Ведь это я рассказал Попову, что Стефа пойдет по Маршалковской, к Яну Баху, несчастному сапожнику, и каблучки ее… Прощайте. Письмо оставляю у портье. Вы вправе использовать его где и как хотите. Леопольд Ероховский».
… Глазов письмо сложил, аккуратно спрятал в карман — перехватил чудом. Забеспокоившись отсутствием Ероховского, его странным видом во время прошлой встречи, пошел в отель — от филеров зная, что Дзержинский с Лениным, Лядовым и Богдановым отправились в финскую баню, — сыграл забывчивость перед доверчивым портье, сказал, что Ероховский попросил его передать письмо господину Кжечковскому, вышел из отеля, отправился в кафе, облюбованное им на набережной, здесь-то все и открылось ему, и сидел полковник Глазов возле окна, смотрел на огромный залив, по которому медленно плыли белопарусные яхты, смотрел из-за занавески, страшась, что сюда может зайти Дзержинский, и узнает его, и станет ужас, и давящая безысходность поднялась в нем, такая серая, что даже паруса показались ему блеклыми, и красные шторки в сборочку, и синее холодное море, и белые чайки, и даже затылок жгучего брюнета, сидевшего за соседним столиком.
«Что ж делать-то, а? — думал он. — Два дня Ероховский посидел с Дзержинским и отринул все прежнее. Есин не в счет, мелкий маклер, а этот мыслил. Неужели все мыслящие пойдут за Дзержинским? Как их удержать? Разве их тюрьмою запугаешь? Неужели все кончено? Крах? Все? »
Глазов услышал в себе ответ, и ответ этот был однозначным, и, чтобы заглушить это, он начал громко передвигать большую пепельницу, но тут к нему подскочила фрёкен, дикие люди, у них бабы обслуживают, пепельницу из рук выхватила, решила, что с окурками, и поставила новую, чистую.
Глазов даже головой замотал, как собака в чумке, ощерился, прикусил нижнюю губу.
«Да, — позволил он себе услышать себя самого. — Да, все кончено. Но для такой страны, как Россия, это окончание может быть долгим, на мой век хватит. Тянуть, тянуть, из последних сил тянуть, пока только можно тянуть, — господи, только б подольше не кончалось! Расплата будет такой, что и представить себе нельзя, да и не надо пытаться — с ума съедешь». «СТОКГОЛЬМ ДЕЛОВАЯ МОЛНИЯ ПОВЕРЕННОМУ ДЕЛАХ СТЭЛЬ-ГОЛЬШТЕЙНУ СОБЛАГОВОЛИТЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТОБРАТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ У ПОЛКОВНИКА ГЛАЗОВА ПО ПОВОДУ ЕГО НЕДОПУСТИМОЙ НАСТОЙЧИВОСТИ В ПЕРЕПИСКЕ С МИДОМ ТЧК СТОЛЫПИН ТЧК». «ПЕТЕРБУРГ ДЕЛОВАЯ МОЛНИЯ ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТОЛЫПИНУ ТЧК МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПО СЛОВАМ ПОЛКОВНИКА ГЛАЗОВА ЗПТ ОН НАМЕРЕН ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ШВЕДСКУЮ ПОЛИЦИЮ ЗПТ ИСПОЛЬЗУЯ ТЕКСТ ДОГОВОРА О БОРЬБЕ С АНАРХИСТАМИ ЗПТ ДАБЫ ДОБИТЬСЯ ВЫДАЧИ РУССКИМ ВЛАСТЯМ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ЗПТ ИМЕЮЩЕГО МЕСТО ЗПТ ПО СВЕДЕНИЯМ ГЛАЗОВА ЗПТ БЫТЬ В СТОКГОЛЬМЕ ТЧК ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ПОКОРНЕЙШИЙ СЛУГА СТЭЛЬ-ГОЛЬШТЕЙН ТЧК». «СТОКГОЛЬМ ДЕЛОВАЯ МОЛНИЯ СТЭЛЬ-ГОЛЬШТЕЙНУ ТЧК НАУЧИТЕСЬ ЭКОНОМИТЬ ШИФРОСВЯЗЬ ТОЧКА МЕНЬШЕ ТИТУЛОВ ТОЧКА СТОЛЫПИН ТОЧКА». «СТОКГОЛЬМ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ГЛАЗОВУ ТЧК НЕОБХОДИМО ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ТЧК ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ВУИЧ ТЧК». «ПЕТЕРБУРГ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ДВОРЦОВОМУ КОМЕНДАНТУ ТРЕПОВУ ТЧК ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ НЕПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ ОТЗЫВАЮТ ПРЕДЕЛЫ ИМПЕРИИ НАКАНУНЕ РЕШАЮЩИХ ШАГОВ В БОРЬБЕ ЗА ВЫДАЧУ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ КОИХ ДОЛЖНО СЧИТАТЬ АНАРХИСТАМИ-БОМ-БИСТАМИ УГРОЖАЮЩИМИ ЖИЗНИ АВГУСТЕЙШИХ ОСОБ ТЧК ЖДУ УКАЗАНИЙ ГЛАЗОВ ТЧК».
Трепов, однако, на шифрограмму не ответил: узнал, что приказ об отзыве Глазова отдал Столыпин. Пусть себе — лишний козырь, слабо радеет о жизни государя новый министр, слабо; такое — в папочку, на будущее; отныне надобно тихо: удар следует готовить впрок, Петру Аркадьевичу ноги легко не переломаешь, в новой игре без выдержки и змейкости все проиграть можно…
А Глазов, ответа не дождавшись, понял: коли уедет оплеванным — конец карьере, новая метла по-новому метет, Столыпин на улицу вышвырнет. Если же, однако, удастся уехать с документом в кармане, с каким хоть никаким, ведь вынудили же уехать недоделавши (номер шифровочки Вуича, час отправки записан и заверен консулом, хоть и опозорен в глазах Стэль-Гольштейна, немчуры проклятого), тогда неизвестно еще, как и что обернется: ежели в министрах чехарда пошла, на себя лишь надежда, больше-то не на кого… «СТОКГОЛЬМ ВЕСЬМА СРОЧНО МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ Г-НУ ТРОЛЛЕ ТЧК СЕГОДНЯ Я БЫЛ ПРИГЛАШЕН НА ЗАВТРАК НОВЫМ МИНИСТРОМ СТОЛЫПИНЫМ ТЧК В ЧИСЛЕ ВОПРОСОВ ЗПТ ПОДНЯТЫХ НОВЫМ ФАВОРИТОМ ЗПТ ГЛАВНЫМ БЫЛ СЪЕЗД РУССКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ТЧК СТОЛЫПИН ПЕРЕЧИСЛИЛ НЕСКОЛЬКО ИМЕН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ЗПТ ВЫДЕЛИВ ЛЕНИНА ЗПТ ПЛЕХАНОВА ЗПТ КРАСИНА ЗПТ ФРУНЗЕ ЗПТ ДЗЕРЖИНСКОГО ЗПТ КОТОРЫЕ ПО ЕГО СВЕДЕНИЯМ НАХОДЯТСЯ НЫНЕ В СТОКГОЛЬМЕ И БЕСПРЕПЯТСТВЕННО СОБИРАЮТСЯ В НАРОДНОМ ДОМЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СВЕРЖЕНИЮ МОНАРХИИ ЗПТ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПО МНЕНИЮ СТОЛЫПИНА НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА О ВЗАИМНОЙ ВЫДАЧЕ АНАРХИСТОВ ТЧК Я ОТВЕТИЛ СТОЛЫПИНУ В ТОМ СМЫСЛЕ ЗПТ ЧТО КОРОЛЕВСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО О ПРОИСХОДЯЩЕМ СЪЕЗДЕ РУССКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ И ДОБАВИЛ ЗПТ ЧТО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ШВЕЦИИ ВО ГЛАВЕ С ДОКТОРОМ БРАНТИНГОМ УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ ПАРЛАМЕНТА ЗПТ НИКАК НЕ СВЯЗЫВАЯ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРОГРАММОЙ АНАРХИСТОВ ТЧК СТОЛЫПИН ВОЗРАЗИЛ МНЕ ЗПТ ЗАМЕТИВ ЗПТ ЧТО РУССКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ПЛЕХАНОВА И ЛЕНИНА ЗПТ ПРИМЫКАЮЩИЕ К НИМ ПОЛЬСКИЕ ЛЮКСЕМБУРГО-ДЗЕРЖИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЗПТ ГРУЗИНСКИЕ НОЯ ЖОРДАНИЯ И ЕВРЕЙСКИЕ ЗПТ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБРАМОВИЧЕМ И ЛИБЕРОМ РЕЗКО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ШВЕДСКИХ СВОИМ РАДИКАЛИЗМОМ И БЛИЗОСТЬЮ К МИРОВОЙ АНАРХИИ ТЧК Я ПОСЧИТАЛ НУЖНЫМ ЗАМЕТИТЬ МИНИСТРУ ЗПТ ЧТО РУССКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ЗПТ НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО ЗПТ ИЗДАЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ СВОИ ГАЗЕТЫ И ВЫСТУПАЮТ С РЕФЕРАТАМИ В МАССОВЫХ АУДИТОРИЯХ ТЧК СТОЛЫПИН ОТВЕТИЛ НА ЭТО КАВЫЧКИ СКОРО ПЕРЕСТАНУТ КАВЫЧКИ ТЧК ПРОЩАЯСЬ МИНИСТР ЖЕСТКО УЛЫБАЯСЬ СКАЗАЛ ЗПТ ЧТО РУССКИЕ ОТЛИЧАЮТСЯ БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ И ШИРОТОЮ ДУШИ ЗПТ ДОБАВИВ КАВЫЧКИ МЫ ГОТОВЫ ПРОЩАТЬ МНОГОЕ ЗПТ МЫ ЗАБЫВЧИВЫ ЗПТ ОДНАКО МЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕМ НИ ПРОСТИТЬ ЗПТ НИ ЗАБЫТЬ ЗПТ ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИНФЛУЭНЦЫ У ДИТЯ В СОСЕДНЕЙ КВАРТИРЕ СЛИШКОМ ГРОМКО ИГРАЛИ НА ФОРТЕПЬЯНО И ОТКРЫТО ВЕСЕЛИЛИСЬ ТЧК РОССИЙСКОЕ МОГУЩЕСТВЕННОЕ СОСЕДСТВО КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ КАВЫЧКИ ЗПТ ЗАКЛЮЧИЛ СТОЛЫПИН ТЧК ПОЛАГАЛ БЫ ВОЗМОЖНЫМ РЕКОМЕНДОВАТЬ НЕМЕДЛЕННО НАЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ НА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПУБЛИКАЦИИ О СЪЕЗДЕ РУССКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ЗПТ ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ В СТОКГОЛЬМСКОЙ ПОВРЕМЕННОЙ ПЕЧАТИ ЗПТ ИБО РУССКИЕ В ВЫСШЕЙ МЕРЕ ОБОСТРЕННО РЕАГИРУЮТ НА ПЕЧАТНОЕ СЛОВО ТЧК В СЛУЧАЕ ЖЕ ЗПТ ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ ПОСТУПИЛИ К СТОЛЫПИНУ АГЕНТУРНЫМ ПУТЕМ ЗПТ ПРОШУ САНКЦИЮ НА НОВУЮ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ ЗПТ ДАБЫ ЗАПРОСИТЬ У НЕГО ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ЗПТ КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ БРОСИТЬ ТЕНЬ НА ПОСТОЯННУЮ ДРУЖБУ ЗПТ СУЩЕСТВУЮЩУЮ МЕЖДУ НАШИМИ МОНАРХИЯМИ ТЧК ПОСОЛ ШВЕЦИИ В РОССИИ ВРАНГЕЛЬ ТЧК». «Доверительно Губернатору Стокгольмской провинции г-ну П. Бергу Мой дорогой Пауль! Посол Врангель передает из Санкт-Петербурга об озабоченности, проявляемой министром Столыпиным по поводу съезда русских социал-демократов. Я пригласил для беседы д-ра Брантинга, который от имени шведской социал-демократии заявил, что собранию его русских коллег в Стокгольме обязана быть гарантирована полнейшая безопасность, ибо это соответствует духу и букве нашей конституции. Брантинг дал понять, что в случае каких-либо шагов со стороны правительства его партия не останется безучастной. Я затребовал от д-ра Брантинга доказательств тому, что русские не являются анархистами. Я просил предоставить мне доказательства такого рода, которые бы оказались убедительными не только для правительства Его Величества, но и для Санкт-Петербурга, с которым мне придется сноситься по этому вопросу. Д-р Брантинг ответил в том смысле, что он исследует такого рода возможность и не преминет поставить меня об этом в известность завтра же. Полагал бы целесообразным, не дожидаясь ответа д-ра Брантинга, уже сегодня просить Вас отдать письменное предписание полиции о тщательном наблюдении за всеми русскими, находящимися ныне в Стокгольме, для того, чтобы в случае надобности правительство могло предпринять определенного рода шаги. Я поручу послу Врангелю ознакомить министра Столыпина с этим Вашим приказом, который, убежден, удовлетворит его. При этом Ваше указание начать слежку за всеми русскими заставит Столыпина потребовать от своих агентов, подвизающихся ныне в Стокгольме, проявлять еще большую активность, что не может не выявить формы и методы их работы. Искренне Ваш Тролле». «Доверительно Господину Шутте. Мой дорогой друг! Я был бы глубоко признателен, если бы Вы посчитали возможным поручить полицмейстеру Стокгольма г-ну Хинтце принять — в высшей мере конфиденциально — русского социал-демократа г-на Ю. Кжечковского по вопросу, представляющему для нас с Вами безусловный интерес. Г-н Ю. Кжечковский назван мне — по поручению д-ра Брантинга — ведущим экспертом по анархизму и терроризму. Искренне Ваш Тролле».
41
Аудиенция близилась к концу. Столыпин заканчивал доклад о положении в столь знакомом ему Поволжье. Письма, полученные им от губернаторов, свидетельствовали, что там весьма тревожно — пожары, мужицкие бунты; все, как сулили революционеры из ленинской группировки; медлить нельзя, надобно действовать.
— Как? — спросил государь.
— Круто, — так же кратко ответил Столыпин и понял сразу же, что Николаю это не понравилось. — «Юпитер и бык, только кто из нас Юпитер? »
Государь достал из кармана френча сложенный вчетверо листочек, протянул Столыпину:
— Ознакомьтесь.
Столыпин листок развернул, пробежал глазами, заставил себя улыбнуться.
— Думское министерство доверия во главе с кадетом? В высшей мере интересно, ваше величество, такое мне в голову не приходило.
— Оттого, что идея слишком рискованна?
— Да как бы помягче сказать… Впрочем, соглашусь с вами: идея довольно рискованна. Но отчего не попробовать, если вы полагаете такое разумным?
— Я вам не сказал этого.
— Простите, ваше величество, но я думал, что с предложением, не заслуживающим интереса, вы бы меня знакомить не стали.
Ответ при всей его резкости понравился Николаю своей определенностью: с дворцовыми ему приходилось трудно, ничего не поймешь, все, как один, в рот смотрят, боятся попасть впросак, блеют то, чего он, по их мнению, ждет.
«Этот хватать умеет, — подумал царь, — вон глаза какие, татарин, ничего в них не видно, а это хорошо, если б такой татарин истово служил, это достойно, когда бывший ворог становится твоим, во всем, до конца, и мое слово делается его законом».
— Фамилии запомнили? — спросил государь, протянув руку за листочком.
— Запомнил.
— Поговорите с кандидатами? — Государь листочек медленно сложил и спрятал в карман.
— Имеет ли смысл моя с ними встреча, ваше величество? Поскольку меня в списке кабинета доверия нет, и быть, понятно, не может, каков смысл разговаривать с претендентами?
— А вы смысла особого не ищите, Петр Аркадьевич, вы мою просьбу выполните.
Столыпин впился глазами-бурами в государя, потом лицо его изменила тяжелая, недоверчивая улыбка.
— Я выполню вашу просьбу с самою глубокой благодарностью за оказанную мне честь.
Милюкова он принял не один, а вместе с Извольским, бывшим послом в Токио, «конкурентом» Павла Николаевича по возможному «министерству доверия».
— Выполняя волю государя, я пригласил вас, Павел Николаевич, для переговоров по поводу формирования кабинета доверия.
Извольский отдал должное уму министра внутренних дел: другой бы стал искать форму для намека на доверительность предстоящего собеседования, а этот врезал в лоб: кто посмеет разглашать разговор, связанный с именем и волею самодержца?
Милюков тем не менее воткнул шпильку:
— Наша «Речь» умеет хранить молчание, когда нужно, чего нельзя сказать о «Русском государстве».
— За «Русское государство» нес ответ граф Витте, — отпарировал Столыпин. — Я готов отвечать за любую строчку, напечатанную в «России», Павел Николаевич. Моя газета выше подозрений.
Милюков снова не удержался, показывая этим свою государственную неподготовленность — острословит много, посуше надобно:
— Газета в роли жены Цезаря?
— Зависит от названия, — заключил Столыпин, чуть выспреннее, чем надо бы, но все же достойно, как отметил про себя Извольский. — Мы с Александром Петровичем хотели бы задать вам ряд вопросов.
— Я готов ответить на ваши вопросы, Петр Аркадьевич.
— Как вы полагаете, кандидатуры военного министра, морского и министра двора будут обсуждаться в вашем ЦК или вы твердо намерены вообще не касаться этого вопроса?
— Военный и морской министры будут назначены государем, только им, и никем другим… Если же вы согласитесь не покидать свой пост, мы дадим вам право докладывать свои соображения государю.
— О моем участии в вашем кабинете речи быть не может.
— Отчего так?
— Соль и сахар несовместимы… А вот вам, коли суждено возглавить то министерство, в коем я сейчас имею несчастие служить, придется принять на себя бремя шефа жандармов. Вы действительно согласны стать шефом жандармов или намерены ликвидировать эту институцию?
Милюков подобрался — его ударили.
— Во-первых, о поведении кадетов в правительстве не следует судить по тем заявлениям, которые они делают, находясь в оппозиции. Во-вторых, поскольку элементарные функции власти нам в какой-то мере известны, мы не страшимся и такого поста — все дело в том, что функции жандармерии (как и всего кабинета) могут быть совершенно иными, не похожими на нынешние.
— Ну-ну, — хмыкнул Столыпин, — поживем — увидим. Мы бы тоже были рады ограничиться словесами, не наша вина, что приходится стрелять.
— Значит, словесам вашим не верят.
— Вашим — поверят?
— За мною годы борьбы за конституционную реформу, Петр Аркадьевич, и если я скажу, что дам пятак, общество будет ждать рубля, а вы хоть рубль дайте, и за пятак не примут.
— Эк вы меня, — отозвался Столыпин. — Хорошо хоть — в глаза, я джентльменство ценю. А вот коли и после вашей аграрной реформы бунты мужиков будут продолжаться? Тогда что? А они будут продолжаться, потому что ныне есть программы левее вашей, плехановская, например. Я уж о ленинской не говорю, за нею повалят, безудержно повалят, — как станете поступать?
— Я стану доказывать пагубность темного бунта, покуда могу, я буду взывать к разуму, объяснять, требовать, наконец…
— А ну — не объясните? А ну — по-прежнему будут полыхать усадьбы? По-прежнему станут продолжать самочинные захваты помещичьих земель, как тогда?
— Уйду в отставку.
— И вместо вас придет военный диктатор, который понастроит виселиц?
Милюков понял, что попал в капкан.
— Вы очень логичны, Петр Аркадьевич.
— Это плохо?
— Это хорошо. Я отношусь к логике с преклонением, ока, правда, не всегда приложима к России, к нашему национальному характеру… Но я отчего-то верю в успокоение страны. Наша аграрная реформа не может не внести покоя…
— Сие от Фета, уважаемый Павел Николаевич, сие — лирическое благодушество. Я вопрос ставлю круто: будете стрелять, коли понадобится, или не станете?
— Не стану никогда.
— Значит, все свободы дадите, защищать их предоставите другим?
— Пусть так, Петр Аркадьевич, пусть так. Я только позволю себе высказать предположение, что люди, получившие свободу, смогут защитить ее.
Столыпин молотил свое, не слезал:
— Как — защитить? С оружием в руках? Есть у нас «красная милиция», против нее стоит «черная сотня», а вы намерены «бело-розовые дружины» создать? Тогда обучите их стрельбе и подчините командиров вашему помощнику по линии Департамента полиции. На это согласны?
… Разговор, считал Милюков, не получился.
Разговор был нужный, думал Столыпин, подъезжая к Царскому Селу. Очень нужный разговор. Тряпка этот Милюков, полнейшая, безнадежная тряпка. Есть полный резон доложить государю, что «министерство доверия» выйдет из доверия русских людей через неделю, приведет страну к гражданской войне, прольются реки крови; срам будет перед западными монархиями, да и перед паршивой Третьей республикой тоже: те своих коммунаров у стенки за милу душу расстреляли, когда те вконец допекли.
— Я не могу рисковать спокойствием моего народа, — сказал Николай, выслушав доклад Столыпина. — Разве я позволю отдать моих подданных в руки людей, лишенных хребта? И они получили большинство в Думе?! Что за безответственность, неужели граф Сергей Юльевич не мог проконтролировать выборы?! Подумайте, пожалуйста, с кем бы еще следовало встретиться, Петр Аркадьевич, неужели оскудела земля наша сильными людьми?
В тот же день, поздно вечером, Столыпин позвонил Гучкову:
— Александр Иванович, что-то я вас перестал видеть у мистера Чарльза. Нет страшней перерыва, чем в гимнастике, немедленно почувствуете одышку.
— О брюхе отчего не говорите?
— Щажу самолюбие.
— Завтра поборемся?
— Сегодня.
Гучков посмотрел на большие английские часы с вестминстерским боем, что стояли за камином: половина одиннадцатого.
— Да я в шлафроке уж, Петр Аркадьевич.
— Ну и прекрасно. Скидывайте его, одевайтесь, и давайте-ка встретимся на острове.
Ответа ждать не стал — положил трубку.
Гучков переоделся, потом рассмеялся, подумав, что мистера Чарльза нет наверняка, поздно; вызвал аппарат Столыпина, но секретарь, дежуривший у него на Аптекарском, ответил, что его превосходительство только что отправились на занятие гимнастикой.
… Гучков остановил авто возле зала, который содержал мистер Чарльз, выругался сквозь зубы: ни одно окно не освещено, пусто, тишь.
— Не сердитесь, — донесся из темноты голос Столыпина, — спасибо, что приехали.
Он шагнул на дорогу в свет фар; тело будто перерезано пополам, лицо мучнисто-белое, только глаза сияют, большие глаза, совсем не щелочки, как все иное время.
Обнял Гучкова за талию — до плеч не дотянулся, — рассмеялся:
— Приучайтесь к конспирации. Чарльз сейчас прибудет, я за ним шофера послал, мой парень за пять минут обернется… Какие у вас отношения с Шиповым?
— С Дмитрием Николаевичем? Прекрасные.
— Он отошел от кадетов накрепко? Или возможна игра?
— О его к ним возвращении не может быть и речи. Его идея созвать Думу, управляемую председателем, которого назначал бы царь, поссорила его с Милюковым окончательно, раз и навсегда, его же «правым» в «Речи» костят.
— Это не довод. Мало ли кого где костят? Меня вон «Союз русских людей» костит левым, еврейским ставленником, скрытым социал-демократом… Так, значит, уверены, не вернется к кадюкам?
— Убежден.
— Я спрашиваю не зря. Я намерен провести Дмитрия Николаевича новым российским премьером.
Гучков будто натолкнулся на невидимую преграду, и не столько потому, что новость была неожиданной; поразил сам строй фразы, какая-то особая столыпинская уверенность в собственной силе, сокрытая в ней.
— А пройдет? — спросил наконец Гучков.
— Попробуем.
— Почему именно Шипов?
— А кто еще? Называйте человека. Вы? Рано, надо в Думе обкататься, заявить себя.
— В Думе? Я и в Думу-то не прошел, Петр Аркадьевич, да и не заявишь себя среди кадетов.
— Эту Думу я намерен распустить, Александр Иванович.
— То есть как?!
Гучков снова поразился новой манере Столыпина. Как человек за три месяца изменился?! А может, и не изменился, может, наоборот, именно теперь, состоявшись, и стал самим собою, а раньше надевал маску? Вот что власть делает! Но отчего же он власть намеревается передать другому, разве это умно?
— А кем вы думаете стать в кабинете Шипова?
— Если он согласится, я бы сохранил за собою этот же портфель.
— Погодите, Петр Аркадьевич, все это так неожиданно… Что же вы при живом-то премьере, при Горемыкине, не похоронив еще, нового намечаете?
— Горемыкин уже умер… Нет, нет, в государственном смысле, здоровья Иван Логгинович отменного… Однако поскольку государь не станет подписывать рескрипт о роспуске Думы — зачем ему ссориться с избирателями, — то сделать это остается Горемыкину. А кто же оставляет премьером человека, предпринявшего шаг, в высшей мере непопулярный?
— А если государь вместе с ним решит внести и другие изменения в кабинете?
— Обязательно решит. Шахматова погонит, он реакционер, он противник всего нового… Может, еще кого…
— Вот я и думаю — кого еще?
— За меня беспокоитесь? Меня он не погонит. Он понимает, что в нынешней сложной ситуации министр полиции должен быть на месте, во всеоружии, стрелять в случае нужды ему придется… Хотя — я убежден — не придется… Разгон Думы проглотят, надоели разговоры, устали от них люди, дела хотят…
— Петр Аркадьевич, но Шипов не согласится пригласить вас в кабинет. Вы для него представитель бюрократии, вы и до событий служили губернатором…
— А он? До событий он служил московским головою — тоже лизал.
— Именно поэтому он и будет против вас. Бойтесь генерала, которому спасли жизнь во время битвы, он вам этого не простит, ибо вы видели его унижение…
— Эта французская пословица обращена к солдату. А я такой же генерал, как и он, рангом причем выше… Сможете на него повлиять в нужном для нас плане?
— Я готов попробовать, но заранее должен сказать вам, что шансов мало. Откажитесь от этой идеи, Петр Аркадьевич, я назову вам кандидатуру куда более интересную, перспективную…
— Я думал об этом, — откликнулся Столыпин, сразу же поняв Гучкова.
— Мне еще рано, еще бы одного премьера пересидеть, еще бы одни выборы провести за его спиною, успокоить страну его распоряжениями, а уж потом…
— Потом вас ототрут.
— Почему? Я докажу свою нужность.
— Именно поэтому и ототрут; вы все погасите, все успокоите, а без силы в руках этого не сделаешь: какому премьеру нужен министр-исполин? Петр Аркадьевич, поверьте слову друга: пришло ваше время. Откажитесь от шиповской затеи.
— Мне сподручнее помогать вашему делу, Александр Иванович, находясь в моем нынешнем кресле.
— Напрасно вы эдак-то. — Гучков скова остановился. — Зря вы меня обижаете… Неужели думаете, что мое дело — текстиль? Мое дело Россия, на текстиле, слава богу, отец наколотил десяток миллионов, внукам хватит…
— Напрасно обиделись. Россия без ситца не дело… Хорошо, допустим, вы правы. Я просчитался. Но менять поздно, машина запущена… — Столыпин помолчал, кашлянул осторожно, спросил, понизив еще более голос: — Кто из ваших сможет поговорить с Шиповым и повернуть его к радикализму?
— То есть? — Гучков не сразу понял. — К радикализму? Зачем?
Столыпин вздохнул, ответил устало:
— Непонятно? Царь не любит радикалов. А будущий премьер должен высказать соображения о программе своего кабинета… Вы очень хотели, чтобы я стал премьером? Единственный путь — накрутить Шипова, пусть он государя попугает, кроме Шипова, кому можно кабинет отдать? Некому, Александр Иванович… Пошли, про Чарльза я вам неправду говорил, спит он, мое авто у пляжа стоит… Если уж мы с вами дело затеяли, то все должно быть как в книгах легких французов… Кого отправите к Шипову?
— Николаева, — ответил Гучков. — Он верит в реформы, он человек искренний…
— Про наш разговор ему не надо бы. Или, считаете, от друзей тайн нет?
— У вас-то от меня были тайны — вон какой спектакль разыграли, что твой Гауптман…
— А вы хотите, чтобы я к вам, как звонарь со свадьбы, прискакал? Погодите, когда Думу будем распускать, здесь же придется встречаться, вокруг меня пока еще много людей Дурново вьется, один Мануйлов-Манусевич чего стоит… Я его, кстати, хочу посадить — на вас не наклепает?
— Может.
— Хорошо, что предупредили. Завтра с утра Николаев увидится с Шиповым?
— Да.
— Если что изменится, ставьте в известность, ладно? Скажите по телефону секретарю, что занемогли и не сможете пожаловать на ужин, мне будет все ясно.
Машина закрутилась. Николаев, встретившись с Шиповым, излил ему душу — разговор с Дзержинским не давал покоя, поляк говорил верные вещи, не поспоришь.
Шипов, получив приглашение на высочайшую аудиенцию, соотнес время визита Николаева со звонком из Царского Села, подумал, что Кирилл Прокопьевич побывал у него неспроста, видимо по согласованию с Гучковым, а тот имеет выход в сферы; поэтому, приехав к царю, не догадываясь об истинной цели приглашения, не зная, понятно, о плане Столыпина, полагая, что приглашен в связи со слухами о «кабинете доверия», вдохновенно заговорил про то, что дружная работа с Думой необходима, это повернет кадетов вправо, сблокирует с властью, оторвет от левых фразеров, перед которыми партии приходится заигрывать — таков удел любой оппозиции. Идея создания «кабинета доверия», понятно, заманчива, однако Милюкову поручать формирование правительства рискованно, он слишком властен, чрезмерно реалистичен в своих программных документах (чего не скажешь о жизненном кредо), и в нем слабо развито религиозное сознание.
— Кого бы вы считали возможным порекомендовать на пост премьера? — спросил государь.
— Председателя Государственной думы Муромцева, ваше величество.
— Председателя Государственной думы, — повторил Николай. — Почему именно его?
— Он отличается большим тактом, врожденной мягкостью характера; при его главенстве и Милюков будет полезен в кабинете на посту министра внутренних дел.
— Да, вы правы, — ответил Николай, — при таком человеке вполне может установиться правильное соотношение умственных И духовных сил…
Вернувшись в свои покои, государь со смехом сказал Александре Федоровне:
— Говорят, Шипов умный человек… Какой вздор, я у него все выспросил, а ему так ничего и не открыл…
Об этих словах царя через полчаса уже знал Трепов. Позвонил «безносому Лоэнгрину», сказал, чтоб тот приехал незамедлительно, передал текст интервью, повелел печатать, оттого что понял ясно: Столыпин вовлечен в игру и обманут, ибо притащил Шипова, поверил, значит, про «доверие», ему теперь ходу нет, и намедни государь обмолвился, что новую Думу он поручит подобрать ему, Трепову, о чем же еще мечтать?!
Треповское интервью было опубликовано в русских газетах со ссылкой на «Рейтер», либералы ликовали: «Двор протянул руку Думе, началась новая эра России!»
Столыпин представил государю доклад, в котором были собраны рапорты агентуры о торжествующих выступлениях Милюкова, Муромцева, Шипова; прямых выпадов против верховной власти не содержалось, однако обер-прокурор святейшего синода, ряд губернаторов и адмирал Дубасов именовались «мерзавцами».
Царь поблагодарил за информацию, вызвал к себе Горемыкина, продиктовал ему рескрипт о роспуске Думы, попросил подписать его и дать документу ход, как только «подойдут соответствующие для того обстоятельства, о коих я лично поставлю вас в известность».
Все верно: два маятника — Трепов и Столыпин, а посредине сонный Горемыкин, вот уж фамилия соответствует духовному строю, точнее не обзовешь, право!
Дума была — и не было ее уже; депутаты произносили речи, гуляли по коридорам Таврического дворца, обменивались репликами, пили чай в буфете, расходились по домам…
… Нет ничего ужаснее, чем смотреть на больных раком, наивно и восторженно полагающих себя живыми. «Министру Шутте Господин Министр! Вчера вечером я принял г-на Ю. Кжечковского, который не только передал мне перевод статьи ведущего русского социал-демократа Н. Ленина „Социализм и анархизм“, но также стенограмму выступления берлинского юриста К. Либкнехта, выступавшего в 1904 году в немецком суде во время процесса, начатого правительством канцлера фон Бюлова против русских анархо-террористов. Г-н Кжечковский готов подтвердить под присягой, что он участвовал в работе кенигсбергского процесса, подбирал, переводил и анализировал материалы для Августа Бебеля и юриста К. Либкнехта, которые выиграли дело, нанеся при этом значительный моральный ущерб как двору кайзера Вильгельма, так и Царскому Селу, ибо доказали суду присяжных, что русская социал-демократия, базирующаяся на доктрине д-ра К. Маркса, никогда не имела ничего общего ни с анархией, ни с террором и выступает лишь против «азиатского деспотизма, который породил вопиющее бесправие народонаселения России, которое лишено каких бы то ни было свобод, не говоря уже о конституции
— таковой в России никогда еще не было». Выслушав г-на Кжечковского, я спросил его, считает ли он польскую социал-демократию организацией, слитной с русскими коллегами, или же, возможно, Варшава исповедует иные программные установки? Получив категорический ответ г-на Кжечковского о единстве программы и целей польской и русской социал-демократий, я поставил следующий вопрос: «Как в таком случае можно объяснить убийство польскими социал-демократами в Варшаве полковника полиции г-на Попова, находившегося при исполнении служебного долга? » Г-н Кжечковский заметил мне, что я пользуюсь информацией, переданной, скорее всего, г-ном Громаном, который на самом деле является чиновником департамента полиции полковником Глазовым, а проживает г-н Глазов в Стокгольме по подложному паспорту, выданному ему российским правительством, что является недружественным актом по отношению к Швеции. Г-н Кжечковский добавил, что у г-на Глазова есть веские причины ненавидеть польскую социал-демократию и лично его, г-на Кжечковского, ибо, по словам собеседника, именно г-н Глазов санкционировал его избиение в тюремном карцере, которое довело г-на Кжечковского до кровохарканья. «Более того, — продолжал г-н Кжечковский, — у меня есть неопровержимые доказательства того, что г-н Глазов готовил провокацию во время моего третьего ареста летом 1905 года, следствием которой было запланировано мое убийство». Непосредственный исполнитель преступного приказа г-на Глазова, по утверждению г-на Кжечковского, находится ныне за границами Российской империи и готов — в случае открытого слушания дела в Королевском Суде
— дать показания под присягою о преступной деятельности гг. Попова и Глазова. При этом мой собеседник потребовал гарантий безопасности бывшего полицейского чина, скрывшегося из России, мотивируя это тем, что г-н Глазов, по его сведениям, состоит в негласной связи с некоторыми офицерами стокгольмской полиции. Я отверг подобного рода утверждение как безосновательное, добавив, что в парламентарном Королевстве, которым имеет честь быть Швеция, подданным не воспрещается встречаться с кем угодно, где угодно и по любому поводу; нарушением чинами полиции их долга мы почитаем лишь несоблюдение статей конституции; все остальное — личное дело подданного, не подлежащее контролю или преследованию с чьей бы то ни было стороны, Г-н Кжечковский заметил мне, что в таком случае он не понимает причину столь пристального интереса стокгольмских должностных лиц к собранию русских социал-демократов, ибо, согласно шведской конституции, Королевство оказывает гостеприимство всем изгнанникам, борцам против деспотизма. Я возразил г-ну Кжечковскому, что между понятиями «борец против деспотизма» и «государственный преступник» существует весьма очевидная разница. Г-н Кжечковский весьма резко заметил мне, что в России «государственным преступником» является каждый, кто требует для подданных труда и свободы; «человек, — добавил он, — осмеливающийся требовать от правительства конституции, будет немедленно заточен в тюрьму и отправлен на каторгу». По мнению г-на Кжеч-ковского, ни один из русских, находящихся ныне в Стокгольме, не может считаться «государственным преступником», ибо социал-демократия хочет одного лишь: удовлетворить нужды великого народа, лишенного, по его словам, «гарантий на равенство, труд, свободу». Беседа закончилась на том, что г-н Кжечковский позвонит по моему телефонному аппарату завтра, в 17.00. Специальная группа, отправленная следом за г-ном Кжечковским, потеряла объект наблюдения через несколько минут, однако поздно вечером он был зафиксирован на набережной вместе с Н. Лениным, руководителем радикального крыла русской социал-демократии, и Г. Плехановым, которого считают первым пропагандистом идей д-ра К. Маркса в России. Был бы весьма признателен, господин министр, получить от Вас
— если Вы полагаете нужным — дополнительные указания или рекомендации к моему завтрашнему разговору с г-ном Кжечковским. С глубоким почтением Теодор Хинтце, полицмейстер Стокгольма». «Министерство Иностранных Дел Тролле Мой дорогой друг! Мне хотелось бы просить Вас ознакомиться с письмом Хинтце, который отличается вдумчивостью и надежной непредвзятостью. Полагаю, что запись его беседы с г-ном Кжечковским (по наведенным в Берлине справкам, под этим псевдонимом скрывается — вероятнее всего — известный деятель польской социал-демократии г-н Юзеф Доманский) поможет нам занять более определенную позицию, ибо любой наш неосторожный шаг может вызвать здесь весьма нежелательную для Царского Села реакцию. Думаю, что гг., подобные г. Кжечковскому-Доманскому, имеют доказательные возможности апеллировать к германской социал-демократии, а также к французским социалистам г-на Ж. Жореса, что может нанести определенный ущерб престижу дружественной нам Российской Империи. Искренне Ваш Шутте». «Господину Шутте. Мой дорогой друг! С большим интересом прочитал Ваше письмо и запись беседы с г-ном Кжечковским, проведенную Вашим Хинтце. Я солидарен с Вашей позицией и благодарю Вас за ту истинно дружескую доверительность, с которой Вы сформулировали свое „кредо“. Лишь чувствуя локоть друг друга, мы в состоянии быть полезными Швеции, служа управителями ее интересов. Бесспорно, любой наш необдуманный шаг, связанный с акцией против участников социал-демократического съезда русских, послужит во вред дружественной Российской Империи, ибо даст повод качать очередную кампанию в повременной печати. Но в то же время С. -Петербург, видимо, не сможет понять тех мотивов, которыми мы руководствуемся в нашем отношении к собранию социал-демократов, и посчитает нашу „неактивность“ против тех, кого они называют „анархистами“, проявлением недружественности, вызванной трудностями, переживаемыми Россиею ныне. Поэтому мне представляется возможным внести на Ваше усмотрение следующего рода предложение; кто-то из Ваших сотрудников (не первой, естественно, величины) должен пригласить г-на Гро-мана (Глазова) и сообщить ему, что стокгольмская полиция ведет работу против русских социал-демократов. Это даст нам двойную выгоду: во-первых, мы покажем Петербургу, что вам известны тайные агенты полиции, которые не сочли даже своим долгом представиться нашим соответствующим службам, как то делается чинами русской тайной полиции и в Берлине и в Париже. Во-вторых, мы еще раз подтвердим свое высокое уважение к министру Столыпину. Более того, чтобы продемонстрировать дружественные чувства к России, я, вероятно, приглашу поверенного в делах Стэль-Гольштейна и ознакомлю его с указанием прокурору Стендалю арестовать русских социал-демократов после того, как все они будут выявлены, и выслать их за пределы Швеции, не называя при этом тот пограничный пункт, через который участники съезда будут выдворены. Убежден, г-н Столыпин будет удовлетворен вполне, видимо, следующим шагом С. -Петербурга будет попытка выяснить пункт высылки русских с тем, чтобы социал-демократы были выдворены через Финляндское княжество. Таким образом мы получим столь необходимый для нас „люфт во времени“, ибо переписка требует отточенности формулировок и абсолютной выверенности — съезд, вероятно, окончится к тому времени. Видимо, Вы, мой дорогой друг, найдете разумным — через Ваших друзей — аккуратно проинформировать русских социал-демократов, сообщив им, что возможны всякого рода повороты, вызванные сложностью положения, в котором оказались полицейские власти Стокгольма. Думаю, что информацию такого рода следовало бы передать г-ну Кжечковскому. Полагаю, что русские социал-демократы с их высокой организованностью смогут немедля изменить места проживания и покинуть Стокгольм сразу же после окончания работы их съезда. Искренне Ваш Тролле». «ПЕТЕРБУРГ ДЕЛОВАЯ МОЛНИЕЮ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТОЛЫПИНУ ТЧК ПОМОЩНИК ПОЛИЦМЕЙСТЕРА СТОКГОЛЬМА СООБЩИЛ ПЕРЕДАЧИ ВАМ ЧТО ВСЕ УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА ПО ВЫЯВЛЕНИИ БУДУТ ЗАДЕРЖАНЫ И ВЫСЛАНЫ ПРЕДЕЛОВ ШВЕЦИИ ТЧК МОЛЮ ЗАСТУПНИЧЕСТВА ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ВУИЧЕМ ПОСКОЛЬКУ ОСЛУШАЛСЯ ЕГО ПРИКАЗА О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРЕДЕЛЫ ИМПЕРИИ ЗПТ ЗАНИМАЯСЬ СКЛОНЕНИЕМ ЧИНОВ СТОКГОЛЬМСКОЙ ПОЛИЦИИ К ДЕЛОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЗПТ КОТОРОЕ И УВЕНЧАЛОСЬ УСПЕХОМ ТЧК ГЛАЗОВ».
42
«Варшава. Редакция „Червоного штандара“. Дорогие товарищи! Посылаю Вам еще одну корреспонденцию-стенограмму. Подумайте об использовании. Мнения на съезде полярны, поучительны. Наших надо воспитывать на большевизме как на революционном ученье, это для меня отныне очевидно
— раз и навсегда. Даю запись наиболее ярких выступлений, кои определяют точнее других позиции обеих фракций. Начинаю с меньшевиков. Акимов (Махновец). — Товарищи! Дума вышла лучше, чем мы ожидали. Думское большинство прогрессивно, оно выставляет такие требования, которых мы не ждали; оно соглашается на всеобщее избирательное право, на обеспечение свобод. Пред Думой два возможных пути. Если Дума исполнит свои обещания, то нам будут обеспечены наши минимальные требования, свобода собираться и говорить. Тогда мы не должны готовиться к восстанию, мы должны будем закрепить нашу позицию и сделать отступление невозможным. Делать восстание или даже агитировать за него в этом случал было бы прямо вредно. Но возможен второй путь: правительство может разогнать Думу. Даже и в этом случае я высказываюсь против вооруженного восстания. Правительство наше уже давно лишилось экономических корней в стране, а в случае разгона оно потеряло бы и все моральные корни. Тогда и Витте сделался бы сторонником вооруженного восстания, но лишь для того, чтобы вызвать и подавить его, чтобы опять возвратиться к азиатскому деспотизму. Капитулирует ли правительство пред Думой или нет, его не нужно трогать, оно само погибнет, само рухнет. Винтер (Красин). — Я предпочитаю остановиться не на недостатках, а на достоинствах речи товарища Акимова. Я не могу сказать того же о резолюции, предложенной меньшевиками. По своему духу она близко подходит к позиции Акимова; она проникнута таким же отсутствием веры в вооруженное восстание, таким же нежеланием принять живое, активное участие в его подготовке. В вашей идеалистической постановке вопроса вы забыли, что в период революционных взрывов «оружие критики» должно смениться «критикой оружия». Череванин. — Большевики утверждают, что декабрьское восстание будто бы доказало возможность борьбы народа против современного войска. Этот вывод имел бы для нас огромное значение, означал бы полный переворот в наших старых воззрениях, но, к сожалению, он совершенно лишен основания. Что могли делать те несколько сот дружинников, которые скрывались за баррикадами на окраинах? Они могли совершать только партизанские набеги. Затем явились войска и покончили с восстанием. (Вообще по вопросу об отношении к Думе рубка здесь продолжается кровавая. Павел Борисович Аксельрод выступил блистательно
— истинный трактат, но какое это имеет отношение к пульсирующему ритму революционного действия? Ему очень резко возразил Алексей Рыков, жаль мне было старца, но, увы, резкость Рыкова была угоднее истории, чем великолепная отточенность Аксельрода. Видимо, когда вернусь, надобно будет очень подробно рассказать во всех кружках о перипетиях борьбы — это в высшей мере поучительно на будущее.) Воробьев (Ломтатидзе). — До сих пор во всех рассуждениях товарищей из большинства о вооруженном восстании явно и определенно выделялась одна особенность, состоявшая в том, что они партию нашу, социал-демократическую рабочую партию, отождествляли с саперным батальоном, и раз партия в их представлении была саперным батальоном, то и не мудрено, что членов партии, саперов, они угощали только тем, что читали им лекции о баррикадном бое, о постройке баррикад и о том, как назначить восстание в два часа ночи. Каждый раз, когда мне приходилось спорить на эту тему с товарищами из большинства, мне казалось, что они нарочно не хотят понимать меня, что нарочно клевещут на нас с целью оскорбить наше революционное самолюбие. Теперь Вижу, что это не так. теперь ясно видно, что мы стоим на разных точках зрения и что найти между нами среднюю линию невозможно, что или мы должны быть изгнаны из партии, или они. Объединительный съезд показывает, что мы не можем работать в одной партии. Ленин. — Один товарищ заметил недавно, что мы собираем агитационный материал против решения съезда. Я ответил на это тогда же, что называть так именные голосования — более чем странно. Всякий недовольный решениями съезда всегда будет агитировать против них. Тов. Воробьев сказал, что с нами, большевиками, меньшевики не могут работать е одной партии. Я рад, что первым заговорил на эту тему именно г. Воробьев. Что его слова послужат «агитационным материалом», я не усомнился бы. Но важнее, конечно, агитационный материал по принципиальным вопросам. И лучшего агитационного материала против настоящего съезда, чем резолюция ваша против вооруженного восстания, мы бы не могли себе и представить. Плеханов говорил о необходимости хладнокровного обсуждения столь важного вопроса. Это тысячу раз верно… Наша резолюция, подводя научным образом итоги последнего года, критикует прямо: мирная стачка показала себя «растрачивающей силы», она отживает свое время. Восстание становится главной, стачка — подсобной формой борьбы. Возьмите резолюцию меньшевиков. Вместо хладнокровного обсуждения, вместо учета опыта, вместо изучения соотношения стачки и восстания вы видите скрытое, мелочно скрытое отречение от декабрьского восстания. Взгляд Плеханова: «не нужно было браться за оружие» всецело проникает всю вашу резолюцию… Если мы ценим «хладнокровное» обсуждение и серьезную, а не мелочную критику, мы обязаны прямо и явно выразить в резолюции свое мнение: «не нужно было браться за оружие», но непозволительно выразить этот взгляд в резолюции скрыто, без прямой формулировки его. Вот это мелкое, прикрытое дезавуирование декабрьского восстания, не обоснованное ни малейшей критикой прошлого опыта, и есть основной и громадный недостаток вашей резолюции. (Я приведу далее основные тезисы выступления Адольфа. Если вам покажется, что имеет смысл распубликовать для польских пролетариев целиком текст нашего выступления, — вышлю немедленно, ибо писали мы его вместе, почерк мой знаком вам, расшифруете легко.) Варшавский. — Товарищи! Вопрос сводится к тому, о чем мы уже все спорили, — об оценке момента. Ведет ли объективный ход революции к Думе или к восстанию? Вся разница состоит в том, что Дума, по мнению Плеханова, может сыграть и сыграет роль Конвента Великой французской революции. Но я думаю, что это иллюзия, что в России нет элементов для создания из Думы Конвента. Значит, если революция будет развиваться дальше, то центр ее будет не в Думе, а в восстании. Здесь спорили о значении декабрьского восстания, называли его поражением. Если смотреть на это восстание не с военно-технической точки зрения, а с точки зрения развития объективного хода революции, то это восстание было поражением царизма, а не революции, поражением народных иллюзий о царизме. Пока все. Постарайтесь — хоть сократив — дать в номер эту корреспонденцию. Подчеркните: председательствующий поставил на голосование резолюции большинства и меньшинства. Прошла резолюция Плеханова и Дана. Увы, это
— сплошная партийная арифметика. А с арифметикой в век механики трудно, жизнь следует рассчитывать по законам высшей математики… Уповать на Думу — я совершенно согласен с Лениным — недальновидно и несерьезно… »
Стук в дверь был мягкий, осторожный, словно кошка прикоснулась подушечками, убрав коготки.
Дзержинский удивился: недавно слышал часы на ратуше, отзвонили полночь. Подумал было, что заглянул Варшавский, может, что срочное, получил какую корреспонденцию из Польши.
— Это ты, Адольф? — окликнул негромко. — Входи, не заперто.
Дверь открылась; на пороге стоял Витольд «Бомба», член ЦК ППС, Дзержинский схватывался с ним в ту еще пору, когда «Бомба» стоял на распутье, раздумывал, куда повернуть — к левым национальным демократам или к социалистам, выбрал Пилсудского, пошел в террор, в Женеве, рассказывали, сблизился с Савинковым.
— Здравствуйте, товарищ Кжечковский.
— Здравствуйте, товарищ Бомба.
— Простите за поздний визит.
— Ничего, я уж почти закончил работу, входите.
— За вами здесь смотрят, товарищ Юзеф.
— Я знаю.
— Заметили филеров?
— И это тоже.
— Известно вам, что настоящая фамилия Трумэна, который привез сюда Леопольда Ероховского, покойного ныне, — Глазов?
— Спасибо за информацию. Адрес его известен?
— Пока нет. Если очень нужно — постараюсь выяснить. Мы готовы помочь вам.
— Пришли разговаривать?
— Да, товарищ Юзеф. Пришел по уполномочению моего Цека, пришел разговаривать с вами, пришел просить вас — быть может, последний раз — одумайтесь…
— Я не совсем понял вас, товарищ Бомба.
— Мы знаем, что завтра на съезде у русских будет решаться вопрос объединения с поляками…
— Кто вам сказал об этом?
— Товарищ Юзеф, моя партия умеет работать, вы это знаете. Да и с Глазовым — мы, а не вы смогли выявить его здесь. Так вот, Завтра на съезде будет стоять этот вопрос, Я уполномочен просить вас: не предпринимайте этого шага, удержите Адольфа Варшавского, вы это можете, товарищ Юзеф… Неужели вам мало того позора, который пришлось пережить на первых заседаниях? Вас же отшвырнули ногой, как котят. Неужели вы простили это унижение? Тридцать тысяч поляков, пусть даже социал-демократов, — но поляков же, товарищ Юзеф, поляков, — просили принять в партию, а им отказали, издевательски, хитро, коварно! Неужели вы решитесь и завтра на постыдное шествие в Каноссу?
— Вы смешно сказали, товарищ Бомба… «Пусть даже социал-демократы»… Странно, что вы пришли ко мне с этим… Неужели Пилсудский не рассказывал вам о моей позиции? Да и наши с вами схватки…
— Товарищ Юзеф, все может измениться, все может пойти не так, как мы полагаем сейчас, но одно должно свершиться — должна стать Польша.
— Станет, — согласился Дзержинский. — Уверен.
— Как же вы тогда будете смотреть в глаза полякам? В независимой Польше — русская партия во главе с Люксембург и Дзержинским?! Вы будете жить по русским паспортам? Как иностранцы? Этого наша власть не позволит, товарищ Юзеф, Польша — для поляков…
— Что будете делать с украинцами? Белорусами? Немцами? Евреями? Как поступите с ними в вашей Польше? Которая будет не для кого-нибудь, а для поляков, ясное дело…
— Либо они примут польскость как норму, либо им придется туго…
— Польскость — это как? Я снова не понимаю. Католицизм?
— Польскость — это польскость, неужто не понятно, товарищ Юзеф?! Вы дворянин, в конце концов в вас не может не говорить кровь!
— Вы с ума сошли, — со страхом сказал Дзержинский. — Вы просто-напросто сошли с ума, Бомба, я ушам своим не верю, вы же социалист как-никак?
— Мицкевича вы любите?
— При чем здесь Мицкевич?!
— При том, что он дворянин, и это не мешало ему уйти в революцию, не мешало ощущать нашу особость, нашу боль и мечту, звать народ к борьбе, жертвовать собою, безбоязненно рвать с прежними друзьями — во имя Польши!
— Товарищ Бомба, ну ответьте мне, неужели вы и впрямь верите, что Польша может стать без того, что рухнет царизм? Неужели вы считаете, что мы сможем сами, без помощи русских товарищей, свалить монархию? Сколько можно фразерствовать, товарищ Бомба?! Из-за вашей прекрасной фразы тысячи поляков выйдут на борьбу и полягут под царскими пулями — неужели этого вы хотите?! Национализм такого рода не интеллигентен, товарищ Бомба! Это черная сотня в польском исполнении, это эндеция, граф Тышкевич это!
— А как быть с Генриком Сенкевичем? Разве он не есть совесть народа? А ведь он поддерживает Тышкевича…
— Он имеет право на ошибку, он беспартийный художник! Он уйдет от Тышкевича, уйдет! А вот партия, которая называет себя социалистической, партия, которая хочет быть выразителем класса, на ошибку не имеет права! Или переименуйте свою партию! Тогда ошибайтесь, не страшно! Когда и если революция приобретет национальную окраску, вроде вашей — «Польша для поляков», тогда начнется погром, товарищ Бомба! Мне стыдно за вас! Мне совестно!
— Товарищ Юзеф, — по-прежнему бесстрастно продолжал Бомба, — сейчас, накануне решительного восстания польского пролетариата против русского царизма, накануне схватки за свободу нашей с вами родины, как никогда важно единство, пусть даже формальное. Царизм ослаблен, царизму приходится держать гарнизоны в России. Мы не имеем права не воспользоваться этим обстоятельством. Неужели ваша партия, когда мы поднимем народ, останется в стороне от борьбы? Неужели вы согласитесь подчиняться указаниям из Петербурга?
— Если бы Петербург попросил вас обождать с восстанием, начать его одновременно с русскими, вы бы согласились?
— Нет. Мы сами отвечаем за поступки своего народа.
— Товарищ Бомба, не надо нам этот разговор продолжать, а? Не знаю, как вы, а я после таких разговоров плохо сплю. А мне завтра работать.
Бомба кашлянул, прикрыл глаза ладонью, сказал тихо:
— Товарищ Юзеф, наша партия готова взять на себя ответственность за акт против Попова…
— А это здесь при чем?!
— При том, что русские эсдеки отвергают террор, а вы посмели ослушаться своих руководителей… Мы готовы принять на себя ответственность — мы не боимся террора, а вы отложите объединение… Если восстание закончится неудачей, мы снимем свою просьбу — объединяйтесь… Мы думаем о вас, о вашей чести, товарищ Юзеф, ведь вы же поляк…
— Фу, черт! — Дзержинский не сдержался. — Хватит вам! Это тяжко слушать! И потом, мы не нуждаемся ни в каком оправдании с Поповым.
— Нуждаетесь, товарищ Юзеф, — Бомба говорил тягуче, спокойно, по-прежнему не открывая глаз, будто проповедник. — Вы отступили от вашей доктрины.
— Вы не знаете нашей доктрины. Мы были и будем против террора, но мы стояли и станем в будущем выступать за борьбу — в том числе партизанскую — против врага. Особенно против такого врага, который занес руку над организацией!
— Пресса представит этот акт совершенно иначе, товарищ Юзеф. Вас будут обливать грязью.
— Вы полагаете, мы этого убоимся? Разве раньше наши лики расписывали на стенах костелов?! До сей поры наши имена прославляли газеты?! Ваше предложение носит характер торгашеской сделки, товарищ Бомба!
— Вы верно определили суть, товарищ Юзеф. Я предлагаю сделку. Но я не согласен с определением сделки. Это не есть торгашество. Я рисковал жизнью, лез через границу, чтобы приехать сюда, я рисковал, занимаясь Глазовым, чтобы сообщить вам об опасности. Я рискую своим именем, потому что я не оговорил условия нашего собеседования, и вы сможете обернуть против меня ваши аргументы в «Штандаре». Я иду на этот риск не как торгаш, а как поляк: остановитесь, товарищ Юзеф! Удержите поляков от унизительного подчинения русским! Останьтесь поляком, товарищ Юзеф! Останьтесь поляком!
— Чтобы остаться поляком, — ответил Дзержинский, — я должен всегда быть вместе с русскими, товарищ Бомба. «Варшава. Редакция „Червоного штандара“. Дорогие товарищи! Поздравляю вас с объединением! Наша партия вошла в РСДРП! Когда вернусь — расскажу все подробно. Вернусь, впрочем, осенью — не раньше, поскольку введен в ЦО РСДРП ч поэтому теперь придется поработать в Петербурге. Адрес для связи пришлю с Адольфом и Ганецким. Ваш Юзеф. Прилагаю текст речи Адольфа, „Варшавский. — Позвольте мне сказать несколько слов о значении, которое мы придаем настоящему акту. То, что мы теперь здесь сделали, есть чистейшая формальность, ибо на самом деле, а не на фразах, мы были до сих пор в одном лагере и вели одну общую борьбу. Это до такой степени верно, что никто из рабочих в нашем крае не сомневался, что мы всегда составляли и составляем часть Российской партии. Мы всегда чувствовали себя как часть общерусского рабочего класса, как часть единой армии. Мы всегда помнили и будем помнить выступление петербургского пролетариата в защиту пролетариата Польши по поводу безобразий, которые делались у нас, по поводу военного положения. Это показывало, что разъединить революционную борьбу Польши и России на две части, на польскую и русскую, как этого кое-кто котел, натравить нацию русскую на польскую оказалось невозможным. Выступления русского пролетариата доказывали, что русские рабочие считали себя в одном лагере, так же, как считали мы, поляки. Это и фиксирует тот договор, который мы только что заключили. Ленин. — Я думаю, что выражу этим волю всего съезда, если заявлю от имени Российской социал-демократии приветствие новым членам ее и пожелание, чтобы это объединение послужило наилучшим залогом дальнейшей успешной борьбы“. „Министру Шутте Господин министр! Г-н Кжечковскнй, — после того, как мои друзья проинформировали его о вероятиях, — позвонил мне, и мы встретились вчера вечером в 21.30. Г-н Кжечковский (подлинное его имя Феликс, фамилия Дзержинский, польский барон, перешедший на сторону революционеров, разыскивается полицией, причислен к разряду „особо опасных преступников“ Империи) вручил мне копию допроса полковника полиции г-на Игоря В. Попова, пояснив, что текст написан г-ном Поповым собственноручно. В случае возникновения сомнений в подлинности документа, г-н Кжечковский-Дзерживский обещал предоставить в распоряжение графологических экспертов Королевского Суда письма того же г-на Попова к его жертве, актрисе, г-же Микульской. Г-н Кжечковский-Дзержинский также ознакомил меня с показаниями бывшего ротмистра тайной полиции г-на Андрея Е. Турчанинова о преступной деятельности гг. Попова и Глазова, однако вручить копию документа в настоящий момент отказался, сказав, что „те газеты, коим мы передали исключительные права на публикацию — в случае надобности — всех материалов, по делу г-на Попова, могут расторгнуть договор, а это ослабит силу нашего удара против деспотов, нарушающих даже те малые свободы, которые была получены народом после высочайшего манифеста. Собранные нами материалы, — заключил г-н Кжечковский-Дзержинскнй, — позволяют сделать вывод, что лица, подобные гг. Глазову и Попову, не просто садисты и насильники, но правонарушители, ибо они постоянно преступали тот закон, который был распубликовав правительством осенью 1905 года, обещавший амнистию и гласность“. Мне представляется возможным считать, что распубликование в социалистической прессе Европы разоблачительных материалов г-на Кжечковского-Дзержинского — если они подлинны — нанесет весьма ощутимый урон престижу монархической власти в России. Искренне Ваш Xинтце, полицмейстер Стокгольма“. (Приложение — 3 стр.; перевод с польского.) «По приговору специальной комиссии народной милиции полковник охранного отделения г. Варшавы Попов И. В. был захвачен членами боевой группы в тот момент, когда он выходил из дома, направляясь в Цитадель для участия в казни товарища Яна Баха, рабочего-сапожника, примкнувшего к СДКПиЛ летом 1905 года, незаконно арестованного вместе с Микульской по спровоцированному обвинению в анархо-террористической деятельности. В тот же час был похищен из своей квартиры поручик охранки Конюшев Павел Робертович, известный своим садизмом и глумлением над арестованными. Операция же по захвату ротмистра Сушкова не смогла быть осуществлена, ибо последний оказал сопротивление, застрелил члена боевой группы Спышальского и выскочил на улицу, патрулируемую казачьим эскадроном. Допросы обоих захваченных палачей проводились в двух разных помещениях, одновременно. Ни один из них не знал об аресте другого и не предполагал возможности очной ставки. Показания от Попова и Конюшева отбирались собственноручные, дабы народная милиция могла располагать документами, объясняющими горькую необходимость партизанской борьбы против насильников и садистов, попирающих даже те нормы закона, которые вырваны у царской камарильи годами борьбы и ценою десятков тысяч жизней наших товарищей-революционеров. Члены Специальной комиссии народной милиции по расследованию преступлений царской охранки Вацлав Данута Ежи. … Протокол допроса полковника охранки Попова И. В. Вопрос. — Готовы ли вы отвечать на вопросы специальной комиссии народной милиции? Ответ. — Да. Я рассчитываю, что мое чистосердечное и полное признание, раскаяние и готовность тайно служить вам — достаточная гарантия наших отношений на будущее. Вопрос.
— Вы знаете, кого мы представляем? Ответ. — Да. Вы — люди СДКПиЛ. Вопрос. — И вы готовы нам тайно служить? Ответ. — Да. Верою и правдой. Вопрос. — Тем не менее мы не даем вам никаких гарантий на будущее и требуем однозначного ответа: готовы ли вы открыть нам всю правду? Ответ. — Да. Вопрос. — На основании какого закона вы отдали приказ на арест актрисы Стефании Микульской? Ответ. — Я не отдавал такого приказа. Я же любил ее. Мы с. вей любили друг друга. Как же я мог отдать приказ на ее арест? Вопрос. — Кто приказал арестовать ее? Ответ. — Ротмистр Сушков. Вопрос. — Изволите ли объяснить обстоятельства ее гибели? Ответ. — Обстоятельства гибели моей дорогой и любимой подруги мне неизвестны. Когда я находился на квартире актера Ероховского… Вопрос. — Почему вы находились у Ероховского? Ответ. — Он был моим агентом. Вопрос. — Он знал об аресте Микульской? Ответ. — Я не говорил с ним на эту тему… Я беседовал с ним по другим вопросам, а засим отправился обратно в охрану. В мое отсутствие Стефочка была схвачена н отдана в рука нервнобольного Конюшева Павла Робертовича. Войдя в его кабинет, я увидел мою ненаглядную мертвой: она выбросилась из окна, не выдержав издевательств со стороны Конюшева. Вопрос. — Кто отдал приказ перевезти покойную к ней на квартиру и инсценировать убийство, дабы возложить ответственность за это злодеяние на СДКПиЛ? Ответ. — Со мной случился припадок, и я больше ничего не помнил. С того именно дня у меня началось нервное недомогание. » Вопрос. — Однако это недомогание не помешало вам застрелить в подъезде нашего товарища, пришедшего к вам на разговор. Ответ. — Ваш товарищ был убит патрулем, а не мною. Вопрос. — Вы написали вначале, что готовы дать чистосердечные показания. Отчего же вы постоянно лжете? Ответ. — Я показываю истинную правду. Все те пытки и расстрелы, которые имели место в Варшаве, проводились по указаниям из Санкт-Петербурга. Я был лишь передаточной инстанцией. Вопрос. — Кто именно отдавал приказы на пытки и расстреляния? Ответ. — Господа Дурново, Вуич, Глазов… Вопрос. — Однако вы исполняли приказы в расстреливали людей, заведомо невиновных? Ответ. — Никогда. Это делали Сушков, Пружаньский и Конюшев. Вопрос. — Вы знаете почерки ваших сослуживцев? Ответ. — А что? Вопрос. — Извольте отвечать однозначно: знаете ли вы почерки ваших сослуживцев и можете ли отличать их? Ответ.
— Да. Вопрос. — Желаете ознакомиться с показаниями Конюшева? Ответ. — Его почерк мне неизвестен». В помещение был введен Конюшев Павел Робертович. Увидав Конюшева, полковник Попов упал на колени, пытался целовать ноги члена специальной комиссии Ежи, потом с ним началась «медвежья болезнь». Когда же Конюшев написал свои показания в присутствии Попова о том, что тот насиловал Микульску в кабинете, в подробно описал пытки, которым Микульска была подвергнута, «но не мною, а Сушковым», Попов впал в прострацию. Приговор над Конюшевым исполнением задержан, ибо он пишет подробные показания о методах работы охранки, о системе пыток, о вербовках в провокаторах, известных ему. Члены комиссии Вацлав Данута Ежи».
43
В пятницу, седьмого июля, вечером, когда спала душная жара и с залива принесло солоноватую, влажную прохладу, Столыпин сообщил председателю Думы профессору Муромцеву, что десятого, в понедельник, он намерен выступить перед депутатами с сообщением от имени кабинета министров.
— Вы намерены выступать первым? — спросил Муромцев. — Я тогда заранее оповещу записавшихся ораторов, Петр Аркадьевич.
— Пожалуй, первым нет смысла, Сергей Александрович. Я выступлю поближе к перерыву…
На том и уговорились.
(За час перед этим Столыпин получил от Горемыкина приказ — держать полицию наготове: Дума будет распущена в воскресенье, девятого. Столыпин назначил свое выступление на тот день, когда ее не будет уже; сейчас всякого можно ждать — Трепов вполне готов пустить слух по городу, чтобы вызвать волнения и вылезть на атом; не позволит он ему этого; придется обмануть Муромцева, без обмана нет политики, ничего не поделаешь, история оправдает.)
В пятницу, седьмого июля, вечером, Ленин и Надежда Константиновна уехали в Саблино, к матери, Марии Александровне. Устал невероятно; вернувшись из Стокгольма, почти ежедневно писал в газеты; проводил заседания Петербургского комитета РСДРП, здесь линию держали большевики; встречался постоянно с множеством людей, рабочих по преимуществу, в редакциях «Вперед» и «Эхо»; собирал совещания на конспиративных квартирах, которые содержали Красин и Боровский, и на явке ЦК у зубного врача Двойрес-Зильберман, на Невском; выступал ежедневно, по нескольку раз, в Технологичке, на Балтийском.
… Мария Александровна пришла на платформу к семичасовому поезду, но дождалась своих только с десятичасовым.
Владимир Ильич вышел из вагона, испытывая блаженное спокойствие, наступившее оттого, что глаза матери светились нежностью и добротою; вокруг керосинового, прошлого еще века, фонаря вились комары; шумел ветер в верхушках сосен; тишина была явственной, осязаемой.
— Я набрала много больших сосновых шишек, — сказала Мария Александровна, — сейчас мы с Надюшей поставим самовар и станем пить чай на веранде.
— А я успею поплавать? — спросил Ленин.
— Но сейчас ведь темно, Володя, страшно плавать в черной воде.
Надежда Константиновна поправила шаль на острых, птичьих плечиках матери:
— Володя, мне кажется, готов плавать в любое время, даже зимою. Какая-то неудержимая страсть.
— Про зиму мне неизвестно, — сказала Мария Александровна, — а Волгу он переплывал, когда листопад кончался…
— В воде человек ощущает себя совершенно особенно, — заметил Ленин. — Мне даже трудно выразить это ощущение, оно очень любопытно, некое двузначие бытия, особенно когда идешь хорошими саженками.
— А если коряга? — спросила Мария Александровна.
— Значит, шишку набью.
— Коряга может уколоть глаз, Володенька.
— Нет, мама, коряга глаз уколоть не может, вода стачивает остроту, вода — символ постепенности. — Усмехнулся, понял — снова о своем. — Когда плывешь, лицо опущено в воду, мама, так что глазам ничего не грозит — только шишка на лбу… Помнишь поверье: «Урожай на сосновые шишки — будет ячмень»?
— Не помню совершенно, Володенька.
— Это наше, симбирское, Гриша-сапожник рассказывал, когда за луга бекасов стрелять ходили.
— Я диву даюсь твоей памяти, это врожденное у тебя, — норовя скрыть гордость, сказала Мария Александровна.
— Память как профессия, мама. Она вырабатывается, коли не хочешь помереть дурнем. К сожалению, злая память распространена более, чем добрая.
— Ты прав, — сразу же откликнулась Надежда Константиновна. — Отчего так?
— Бог его знает… Социальное под это не подверстаешь, тут все глубже; природа зависти, ее слепая, но точная механика не понята еще нами.
— Думаешь, можно понять? Ленин развеселился:
— Шишек надобно еще множество набить на лбу, тогда, глядишь, поймем. Я как-то перечитывал Даля, поразительная литература… Он совершенно невероятные вещи раскопал. Например, «шишлобоить» — значит «баклушить», то есть «праздно шататься», «шишлюн» — «копун», «мешковатый»; а «шишка в голове — и вовсе означает „спесивость“, „зазнайство“. Интересно? „Шишмола“ — волдырь; „шишмолка“ — мокрый порох, который для забавы жгли; „шишуга“ — так в костромских деревнях называют пирог для новобрачных, на второй день гулянья, поутру подают, выпекают портреты молодых из теста — прекрасно, а?! Совершенно забыто это рассыпное богатство языка… Если кто останется в истории российской словесности наравне с Пушкиным и Некрасовым, так это Владимир Даль.
… Утро было солнечным, небо без единого облачка, безветрие.
Ленин открыл глаза, закинул руки за голову. Тишина была такой же, как в Шушенском, ни звука, только мягкие шаги жены — накрывала стол на веранде, ходила неслышно, блюдца опускала осторожно. Какое же это счастье, когда не надо прилаживаться, когда тебя понимают, — это, видимо, и есть истинное счастье в содружестве мужчины и женщины. А как она великолепно говорит с Дзержинским о школе! Как прекрасно они исследуют душу ребенка, как точно видят трагический, неразрешимый пока еще дисбаланс педагогики: сила учителя и полная незащищенность ребенка, из которого положено сделать некий обрубок, подчиняющийся окрику, страшащийся класса, прилежный зубрежке. И жена и Дзержинский увлекаются, это понятно, добрая мечта всегда отличима своим несколько наивным юношеством, милый Дзержинский серьезно верит, что назавтра после революции положение в школе изменится, и все станет совершенно прекрасно, и никаких проблем не будет. Ой ли? Будут проблемы, множество проблем: школ мало, методология прогрессивного обучения отсутствует. Наивно полагать, что с победой революции решаются проблемы — революция сама по себе проблема, она рождает огромное множество вопросов, и в этом состоит ее призвание, именно реакция скрывает трудности, бежит их как черт от ладана.
… После чая Ленин отправился на платформу; Мария Александровна сказала, что уговорила станционного смотрителя — тот будет оставлять у себя всю петербургскую повременную печать на время отдыха сына.
— Я оплатила за неделю вперед, — сказала Мария Александровна. — За вечерними мы будем ходить с Надюшей, а ты можешь спокойно работать, лампа, по-моему, хороша, яркая вполне, а стол я передвинула к печке, если вдруг случится ненастье.
— Я постараюсь не работать, — откликнулся Ленин. — Мне очень хочется гулять вечером вместе с вами, слушать гудки паровоза и говорить со смотрителем о рыбной ловле… Я буду договариваться с ним, как на рассвете мы отправимся на озеро, мечтать об этом весь вечер, а потом что-нибудь обязательно нам помешает, и мы снова будем с ним уговариваться и снова будем мечтать до утра, есть в этом нечто от Чехова… Не знаю, как и выразить это… Пронзительность, что ли…
Вернувшись с газетами, Ленин сел к столу, стремительно проглядел первые полосы «Речи», «России», «Эха», «Вперед», «Биржевки», «Трудовой жизни», «Гражданина», сделал летящим своим почерком пометки: сегодня же надо написать корреспонденцию, отправить можно с вечерним поездом.
Отрываться от стола Ленин не умел, он уходил в текст, звуки окрест исчезали — промаршируй мимо духовой оркестр, не заметил бы; прерываться не любил, считал, что необходимо набросать весь костяк статьи, точно увидеть конец и начало, а уж тогда главная суть повествования отольется в нужную форму — предельно краткую, иначе не мог, сразу же слышал спорщиков, какое-то горе с нашими спорщиками, просто не корми хлебом, дай покрасоваться, и мыслей-то ни на грош, только самоизлияние, зряшное сотрясение воздуха, преступная трата отпущенного — по жесткой норме — времени.
Перед обедом пошли в лес. Надежда Константиновна любила цветы, собирала красивые букеты, очень всегда боялась, что завянут по дороге, относилась к ромашкам и василькам, словно к живым существам.
Ленин нашел на окраине поля маки, долго принюхивался, ему отчего-то всегда казалось, что именно эти цветы хранят тревожный запах гари.
Когда вернулись и Надежда Константиновна поставила букеты на веранде, в комнате и на кухоньке, Мария Александровна тихо, чуть не шепотом сказала:
— Даже не верится. Оба — дома. И Маняша едет — вот счастье-то!
Взяла один мак, унесла в свою крошечную комнатушку, положила возле Саши — портрет старшего, убиенного, всегда возила с собою; о нем никогда не говорила ни с кем, только все чаще вглядывалась в черты мальчика и по ночам плакала: Володя был до страшного на него похож.
… Девятого июля, рано утром, на квартиру, где жил Дзержинский, пришли Боровский и Красин.
— Думу только что разогнали, на улицах войска, надо срочно ехать к «старику».
Дзержинский не смог сразу найти рукав рубашки: работал над статьей для газеты в майке — духота.
Спросил напряженно:
— Люди вышли на демонстрацию?
— Должны, — ответил Красин, — поэтому давайте-ка, Феликс Эдмундович, выручайте. Вы — за Лениным, а мы разбежимся — Вацлав в типографию, я — к боевикам, видимо, понадобятся бомбы.
— Людей нельзя выводить на улицы, — сухо отрезал Ленин, выслушав Дзержинского. — Декабрь должен бы научить, Феликс Эдмундович.
У калитки возле огромного куста жасмина, словно бы залюбовавшись им, остановился, вернулся в дом, подошел к матери — забыл попрощаться. Мария Александровна понимала, что спрашивать, вернется ли, бесполезно, нет, не вернется, теперь, видно, надолго.
— Газеты, — снова остановился, когда вышли на тропинку. — Я оставил на столе газеты.
— Я их взяла, — ответила Надежда Константиновна. — И твои записи — тоже.
На платформе было пусто, дачники прогуливались, прятались от солнца под белые, в цветочках, зонтики; смеялись дети, играя в «салочки»; где-то рычал граммофон, иголка отвратительная, заездит пластинку.
Взяв три билета, Дзержинский сказал:
— На вечер назначено заседание ЦК. Как, любопытно, станет вести себя Дан? Вы были пророком, когда говорили о будущем Думы, он с Георгием Валентиновичем должен прийти к вам, должен просить, чтобы вы теперь возглавили всю работу…
— Не придет, — ответил Ленин коротко. — А работу я вел и буду вести, не дожидаясь приглашений, долго бы ждать пришлось… И не колите их нашей правотой, Феликс Эдмундович, не надо; может быть, этот урок их отрезвит. Впрочем, щелчки по носу мало кого отрезвляют, это скорее подвигает к самооправданию, станут искать лазейки, слишком уж больно хлестануло по самолюбию…
В вагоне приткнулся к окну, на вопрос Крупской не ответил, рассеянно улыбнулся — попросил прошения, в голове зрел план работы, только бы успеть записать за ночь, только бы хватило времени, в вагоне не поработаешь, трясет, да и потом, ближе к городу, жди филеров, сейчас их выгонят с Гороховой на дежурства, а что для них может быть опаснее, чем пишущий человек? Раз пишущий — значит, думающий, ату его!
«Роспуск Думы самым наглядным и ярким образом подтвердил взгляды тех, кто предостерегал от увлечения „конституционной“ внешностью Думы и конституционной, если можно так выразиться, поверхностью российской политики во вторую четверть 1906 года. „Большие слова“, которых тьму наговорили наши кадеты (и кадетофилы) перед Думой, по поводу Думы и в связи с Думой, разоблачены теперь жизнью во всей их мизерности…
… Тут-то вот и сказалась сразу та призрачность российской конституции, та фиктивность отечественного парламентаризма, на которую так упорно указывали в течение всей первой половины 1906 года с. -д. левого крыла. И теперь не какие-нибудь «узкие и фанатичные» «большевики», а самые мирные легалисты-либералы признали, своим поведением признали этот особливый характер российской конституции…
Логика жизни сильнее логики конституционных учебников. Революция учит.
Все то, что писалось «большевиками» с. -д. о кадетских победах… подтвердилось блестяще. Вся односторонность и близорукость кадетов стали очевидны. Конституционные иллюзии, — это пугало, по которому узнавали твердокаменного большевика, — встали перед глазами всех именно как иллюзии, как призрак, как обманчивое видение.
Нет Думы! вопят в диком исступлении восторга «Московские Ведомости» и «Гражданин». Нет конституции! вторят понуро тонкие знатоки нашей конституции, кадеты, которые так искусно ссылались на нее, так смаковали ее параграфы. Социал-демократы не будут ликовать (мы взяли свое и от Думы), не будут и падать духом. Народ выиграл то — скажут они, — что потерял одну из своих иллюзий…
Какие угодно законы и какие угодно выборные — нуль, если у них нет власти. Вот чему научила народ кадетская Дума. Споем же вечную память покойнице и воспользуемся хорошенько ее уроком!»
… Ленин умел проговаривать целые абзацы, он видел и слышал текст, память его была поразительна воистину; при том, что она была, как и у каждого выдающегося человека, выборочной, Ленин обнимал проблему, охватывал ее целиком, не упуская при этом ни единой детали. Стратег — он поэтому видел смысл выступлений в их организующей направленности, он всегда кольцевал мысль, он никогда не полагался на додумывание аудитории, не позволял разнотолкования своих постулатов: «правда, только правда, ничего, кроме правды». Он обнажал костяк вопроса, расчленял его, выводил на первое место основополагающее, потом переходил к той поэтапности действия, которая рождалась точностью анализа.
«В сознание самого темного мужика стучится теперь обухом вбитая мысль: ни к чему Дума, ни к чему никакая Дума, если нет власти у народа. А как добыть власть?
Свергнуть старую власть и учредить новую, народную, свободную, выборную. Либо свергнуть старую власть, либо признать задачи революции неосуществимыми в том объеме, в каком ставит их крестьянство и пролетариат.
Так поставила вопрос сама жизнь. Так поставил вопрос 1906 год. Так поставлен вопрос роспуском кадетской Думы.
Мы не можем поручиться, конечно, что этот вопрос революция решит сразу, что борьба будет легка, проста, победа вполне и безусловно обеспечена. Никогда и никто не поручится ни за что подобное перед началом борьбы. Лозунг не есть ручательство за простую и легкую победу. Лозунг есть указание той цели, которая должна быть достигнута для осуществления данных задач…
Объективное положение вещей выдвигает теперь на очередь борьбу не за народное представительство, а за создание условий, при которых бы нельзя было разогнать или распустить народное представительство, нельзя было также свести его к комедии, как свели Треповы и К° к комедии кадетскую Думу».
… Дзержинский говорит, что меньшевики готовятся вывести людей на улицы, демонстрировать в поддержку Думы. Их трудно понять, право. Неужели Плеханов отстал от времени? Неужели он просто-напросто одряхлел мыслью, решил, что все достигнуто, памятник, как ни крути, обеспечен уже — родоначальник… А может быть, Дан и Юлий (подумав о Мартове, сразу же увидел его чахоточное, изможденное лицо, прекрасный, несчастный человек) были хороши в самом начале, когда главное заключалось в том, чтобы просвещать? Сейчас, когда настало время принимать решения, они, видимо, не умеют или, что хуже, не могут себя переделать?
Почему демонстрация? Ну — почему? Ясно как божий день — время требует вооруженной борьбы, а не мирной демонстрации! Неужели мало им было уроков?! Или не могут понять? Есть же, в конце концов, дети, которые никак не в состоянии уразуметь геометрию…
«К сожалению, в нашей партии, вследствие преобладания правого крыла с. -д., в данный момент в ее русской части, вопрос о боевых выступлениях остался в забросе. Объединительный съезд российской социал-демократии увлекся победами кадетов, не сумел оценить революционного значения переживаемого нами момента, уклонился от задачи сделать все выводы из опыта октября — декабря. А необходимость воспользоваться этим опытом встала перед партией гораздо скорее и гораздо острее, чем думали многие поклонники парламентаризма…
… При данном положении вещей, как оно сложилось теперь, в момент роспуска Думы, не может подлежать никакому сомнению, что активная борьба ведет прямо и непосредственно к восстанию. Может быть, положение вещей изменится, и тогда этот вывод придется пересмотреть, но в данное время он совершенно бесспорен. Поэтому звать к всероссийской забастовке, не призывая к восстанию, не разъяснять неразрывной связи ее с восстанием, было бы прямо легкомыслием, граничащим с преступлением. Поэтому надо все силы направить на разъяснение в агитации связи между той и другой формой борьбы, на подготовку условий, которые помогли бы слиться в один поток трем ручьям борьбы: рабочему взрыву, крестьянскому восстанию и военному «бунту».
… На предпоследней перед столицей станции в вагон ввалилась ватага молодых рабочих.
Эти были громкие, новость до них уже дошла.
— Теперь пойдут сажать и стрелять, — говорил юноша в синей косоворотке, видимо, вожак — уверенно себя держал, пересчитал глазами, все ли вошли в вагон, потеснился, чтобы дать место маленькому, лет четырнадцати, пареньку, — по его жесту все остальные сдвинулись, легко и податливо. — Теперь надо ухо держать востро, владыкам руку подай, всего утащат.
— Это верно, — согласились с ним.
— Стачку они объявят? — спросил один из парней. — Или проглотят?
— Ты о ком? — удивился вожак. — Странно говоришь — «они». Не «объявят» — «объявим». Ты не говори за тетю Парашу, ты от себя говори. Я-то думаю, наши уж собрались в заводе, агитаторы, наверно, прискочили, будут спорить, брать оружие или рисовать транспаранты.
— Чего ж ты «будут» говоришь?
— Мы-то не будем. Это пусть агитаторы между собою спорят, мы послушаем, а уж после слово скажем. Я полагаю, что глотать нам никак нельзя — хватит, наглотались. Когда нет конца терпенью — тогда нет конца страданью.
Ленин стремительно обернулся к Дзержинскому, сразу вспомнив эту его фразу из «Червоного штандара». Дзержинский увидал на лице Ильича сияющие, громадные глаза — таким становился, когда особенно чему-то радовался, а радовался он по-детски горделиво, всею душой, словно бы бросался в ночное, холодное озеро, где пахло росою, поникшей травой и древесной прелью, когда подплываешь к старой купальне и слышишь, как вода плещет о помост, и такое спокойствие в этом, такое благостное спокойствие…
Ленин положил свою маленькую, крепкую ладонь на руку Дзержинского, шепнул:
— Нет большего счастья для литератора, как слышать свои слова в устах других, а?
Дзержинский нагнулся к Ленину, ответил — тоже шепотом:
— Литература — форма материнства.
— Духовное кормление? — полуутверждающе спросил Ленин.
— Именно.
Надежда Константиновна добавила:
— Побольше бы нам литераторов, которые умеют кормить, а то ведь все пустышки предлагают. Вожак между тем заключил:
— Если придется сегодня же ворочать булыжники, надо сброситься по копейке, хлебом хоть запастись, а то в декабре изголодали совсем без подготовки-то…
«Советы рабочих депутатов называли нередко парламентами рабочего класса. Но ни один рабочий не согласится созывать своего парламента для отдачи его в руки полиции. Всякий признает необходимость немедленной организации силы, организации военной, для защиты своего „парламента“, организации в виде отрядов вооруженных рабочих…
Эти, если можно так выразиться, «военные организации», о которых мы говорим, должны стремиться к тому, чтобы охватить массу не через посредство выборных, а массу непосредственных участников уличной борьбы и гражданской войны. Эти организации должны иметь своей ячейкой очень мелкие, вольные союзы, десятки, пятки, даже, может быть, тройки. Надо проповедовать самым усиленным образом, что близится бой, когда всякий честный гражданин обязан жертвовать собой и сражаться против угнетателей народа. Поменьше формальностей, поменьше волокиты, побольше простоты в организации, которая должна обладать максимумом подвижности и гибкости…
Вольные боевые союзы, союзы «дружинников», если взять название, которое сделали столь почетным великие декабрьские дни в Москве, принесут гигантскую пользу в момент взрыва. Дружина умеющих стрелять обезоружит городового, нападет внезапно на патруль, добудет себе оружие. Дружина не умеющих стрелять или не добывших оружие поможет строить баррикады, делать разведки, организовать сношения, устроить засаду врагу, поджечь здание, где засел неприятель, занять квартиры, которые могут стать базой для повстанцев, — одним словом, тысячи самых разнообразных функций выполнят вольные союзы людей, решивших биться не на жизнь, а на смерть, знающих превосходно местность, связанных всего теснее с населением…
Итак: организация советов рабочих депутатов, крестьянских комитетов и аналогичных учреждений повсюду, наряду с самой широкой пропагандой и агитацией за необходимость единовременного восстания, немедленной подготовки сил для него и организации массовых вольных отрядов «дружинников».
На новой квартире Красина (он только что перебрался сюда, филеры еще не нащупали) ждал Лядов, принес проект резолюции ЦК.
— Дан выработал компромисс, — сказал Лядов. — Предлагает начать кампанию за качественно новую Думу.
— Это как? — удивился Ленин. — Уже изобретены рецепты? Быстро. Какой же она будет, хочу полюбопытствовать?
Пробежал текст, пожал плечами, ничего не ответил.
«… Мы узнали о новом „повороте“ в лозунгах нашего ЦК: за Думу как орган созыва учредительного собрания.
Вопрос об организации дополняется, следовательно, вопросом у об организации временного революционного правительства, ибо таковым было бы, по сути дела, учреждение, способное действительно созвать учредительное собрание. Не надо только забывать, как это любят делать наши кадетофилы, что временное правительство есть прежде всего орган восстания. Хочет быть покойная Дума органом восстания? хотят быть кадеты органом восстания? Милости просим, господа! мы рады в борьбе всяким союзникам из буржуазной демократии. Если бы даже ваш союз — простите, — был для нас тем же, чем союз с Францией для России (т. е. источником денег), то мы и тогда были бы очень рады, мы реальные политики, господа. Но если ваше, кадетское участие в восстании есть простая и пустая меньшевистская мечта, — то мы скажем лишь: какие же у вас маленькие н мелкие мечтания, товарищи меньшевики. Не пришлось бы только вам погибать от «безнадежной любви» к кадетам, которые не смогут увенчать вашу страсть…
Подведем краткие итоги.
Роспуск Думы есть полный поворот к самодержавию… Неизбежность политической забастовки и восстания, как борьбы за власть, чувствуется широкими слоями населения, как никогда прежде.
Наше дело — развернуть самую широкую агитацию в пользу всероссийского восстания, разъяснить политические и организационные его задачи, приложить все усилия к тому, чтобы все сознали его неизбежность, увидели возможность общего натиска и шли уже не на «бунт», не на «демонстрации», не на простые стачки и разгромы, а на борьбу за власть, на борьбу с целью свержения правительства».
… Утром статья была готова, переписана, передана Воровскому. Усталости Ленин не чувствовал. В комнате Вацлава Вацлавовича, заваленной газетами и журналами, собрались Богданов, Дзержинский, Красин и Румянцев.
Ленин оглядел товарищей внимательно, потер щеки, заросшие рыжеватой щетиной, усмехнулся:
— Ну что? Добились своего? Вышла правда на свет божий? Вот теперь и придется расхлебывать. Надо всех членов партии объявить мобилизованными на революцию… Добиваться единства действий с товарищами из меньшинства? Непременно. Коли не получится — размежевание самое решительное. Нет ничего более опасного, когда нашу идею, за которую мы жизнь готовы отдать, шельмуют, грязнят, порочат. Чистоту идеи защищать будем до конца, насмерть — потомки иначе не простят.
… День был напряженным; Дзержинский ощущал постоянно некий счетчик, незримый, требовательный, включенный, казалось, самим временем; письма в Польшу, зашифровка, тайнопись; главное — координация работ с русскими товарищами; перевод статьи Ленина; обсуждение вопроса об оружии с боевиками Леонида Красина; заседание ЦК, сложный разговор с Даном; организация запасных явок на случай арестов — в польской студенческой колонии есть товарищи, которые готовы отдать партии свое жилье.
После бессонной ночи, закончив дела к семи вечера, почувствовал неожиданную, тяжелую слабость. Вышел на набережную, сел на скамейку, смежил глаза, в голове все завертелось; кашлянул — кровь.
«Началось», — подумал с отчаянием. Значит, снова бессонница, удушье; липкий, бессильный, очень холодный, в самую жару, бисерный пот на висках.
Поднялся, пошел по берегу; хотелось вдохнуть глубоко, всей грудью, но желание это соседствовало со страхом; начнется приступ, кровь зальет рубашку, товарищи заставят идти к врачу, тот потребует госпитализации, а какая к черту госпитализация, когда столько работы, да и не может он ложиться в клинику, полиция сразу же арестует, они шастают по регистратурам, смотрят паспорта, знают, что чахотка — профессиональная болезнь революционеров. Значит, больше гулять, непременно достать где-нибудь сало енота, давиться, но есть, это — спасение, лучше бы, конечно, добыть медвежьего, в нолинской ссылке вылечился, когда завалил шатуна, натопил нутряного сала, кровохарканье прошло через месяц…
«Теперь ссылкой не отделаюсь, — подумал, усмехнувшись. — В лучшем случае — каторга».
Добрался до островов; дышалось легче, кашель не сотрясал уже с такою силой.
Закатное солнце пробивалось сквозь тяжелую зелень, ударялось об воду, разбрызгивалось красно-стремительным высверком, слепило глаза; Дзержинскому казалось, что в бликах этих сокрыто само здоровье.
Вспомнил мертвенную бледность Мартова, тоже чахоточный. Подумал, что Юлию Осиповичу, видно, нравится страдание, ибо видит он в этом нечто похожее на разбрызгивание солнца. Наверное, поэтому так часто и ласково говорит о своих товарищах — «меньшевики», «меньшинство»; ему,
— чем дальше, тем убежденнее казалось Дзержинскому, — было приятно ощущать гонимость, в этом — нечто от первых христиан, борьба против всех во имя своей идеи.
«Он живет временами кружка, — подумал Дзержинский, — а пора эта кончилась. Надо действовать, единственно это может парализовать удар реакции. Надо брать на себя ответственность, а Мартов и его друзья к этому не готовы, они продолжают проповедь, „старик“ прав. Это часто бывает: страх перед принятием решения; говорить легче, чем действовать. Вот они и будут говорить, а Трепов со Столыпиным станут стрелять и вешать, нести „успокоение“. И Юлий Осипович и Плеханов — честные люди, но эта позиция, с которой они никак не могут сдвинуться, приведет их к самому страшному: они отстанут от времени, а это невосполнимо, это, горько сказать, преступно».
Дзержинский остановился, потому что услышал тугие удары и резкие слова английского счета:
— Тэн — файв!
Сквозь листву увидал корт: неведомо для себя пришел к спортивному заведению мистера Чарльза.
Разгоряченный, напористый Гучков гонял по площадке Родзянко. Тот проигрывал, Гучков вел партию хитрее, то и дело переходил в наступление. На скамейке сидел Столыпин, пощипывал струны ракетки. Мистер Чарльз в белоснежном костюме стоял у сетки, вел счет, священнодействуя.
На газоне, за кортом, несколько мужчин занимались «ритмической гимнастикой», один из них был Дзержинскому знаком — кажется, адвокат Веженский, приезжал год назад в Варшаву, защищал типографа Грыбаса, старался заменить казнь на каторгу, не смог.
Дзержинскому показалось смешным то старание, с которым взрослые люди занимались гимнастикой. Лица их были сосредоточенны, они редко перебрасывались словами; мистер Чарльз, наблюдая за ними краем глаза, покрикивал про дыхание: «Уан, ту, фрн, фор — вдох! Файв, сикс, севен, эйт, найн, тэн — видох!»
Дзержинский присел на траву, обнял острые колени руками, долго смотрел, как пожилые люди занимались своим здоровьем, норовя сохранить силу (им нужна сила, на долгие годы вперед нужна им сила), а потом тихонько рассмеялся. Разве это физическое даст то, чего нет в душе? Разве одними мышцами жив человек? Неужели будущее за тем, у кого крепче мускулатура? Тот жандарм, который избил его в дни первого заключения, восемнадцатилетнего тогда еще арестанта, тяжелыми березовыми палками, а за экзекуцией любопытствующе наблюдали ротмистр Шварц и Глеб Витальевич Глазов, месяца два назад повесился, написал записку: «Боюся!» Только одно слово, ничего больше: «Боюся!» А какой был силищи человек! Как здорово от него пахло луком, жареным мясом и водкой!
Солнце скрылось, от воды поднялась прохлада, Дзержинский снова почувствовал, как закипает кашель, быстро поднялся, пошел в город — более всего он боялся сейчас закашляться, увидать кровь, почувствовать слабость. Он не имеет права на слабость, поскольку впереди еще слишком много работы. Осознание собственной нужности делу даст ему силу. Он живет не для себя, и нужность его принадлежна миллионам униженных и оскорбленных. Эта нужность дважды выручала его в тюрьме, когда он был при смерти, неужели не выручит сейчас? Конечно, выручит, иначе и быть не может. В борьбе победит тот, кто крепче духом, так было всегда, так и впредь будет. Только так и никак иначе.
(по изданию Ю.Семенов. Горение: Роман, повесть. М.: «Советский писатель». 1987.) Вместо предисловия
… Бесспорных оценок и утверждений не существует; слепая приверженность раз и навсегда заданной схеме свидетельствует о малом интеллектуальном потенциале: литое «подвергай все сомнению» как было, так и остается индикатором революционной мысли.
Чаще всего бесспорность оценок проецируется на предмет истории; если технические науки по природе своей не переносят схем и высочайше утвержденных ограничений, да, в общем-то, и неподвластны им, поскольку таят в себе некий феномен «опережаемости» среднего уровня знаний, то история (и, увы, экономика) вносит коррективы в самое себя раз в столетие, а то и реже.
В этом смысле крошечный отрезок развития человечества, период с девятьсот седьмого по девятьсот двенадцатый год, проецируемый на одну шестую часть земной суши, то есть на Россию, является беспрецедентным исключением, ибо часть исследователей относится к этой поре как к вполне благополучным годам нашего государства, отмеченным началом демократического процесса, столь непривычного для традиций абсолютистского строя, в то время как другая часть ученых видит в этих именно годах окончательное созревание того накального чувства гнева, которое и привело к свержению династии Романовых и торжеству социалистической революции.
Эти исследователи (в противовес тем, которые в своих поисках руководствуются более эмоциями, чем объективным анализом фактов, не чужды мистике и былинному ладу) утверждают, что после разгрома первой русской революции, несмотря на провозглашение ряда свобод — под скипетром самодержавного государя и надзором тайной полиции, — сановная реакция России начала массированное наступление на самое понятие прогресса, всячески старалась оторвать страну от Европы, переживавшей экономический бум, страшилась «диффузии республиканских идей» и не хотела (а может быть, не могла) видеть реальные процессы, происходившие в стране: «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».
Именно эти годы не могут не привлекать к себе пристального внимания историков, ибо глубинные сдвиги социальной структуры русского общества со всей очевидностью подтверждали положение о затаенной сущности кануна революции: «низы не хотят жить по-старому, верхи не умеют жить по-новому».
Надежды на программу, выдвинутую политическим лидером (таким в ту пору считали Столыпина), были лишены основания, поскольку даже самый одаренный политик обречен на провал, если он лишен поддержки масс, во-первых, и, во-вторых, пытается провести нововведения самолично, без помощи штаба убежденных единомышленников.
Действительно, несмотря на все потрясения первой русской революции, государственный аппарат империи — не только охранка, армия и дипломатия, но и министерства промышленности, торговли, связи, транспорта, финансов — остался прежним по форме и духу; смена двух-трех министров не внесла кардинальных коррективов в экономический организм страны, что совершенно необходимо мировому прогрессу, который вне и без России просто-напросто невозможен. Законодательство, без которого прогресс немыслим (закон — это абстракция, истина в последней инстанции, руководство к действию, а не расплывчатое постановление), также не претерпело никаких изменений. Буржуазные партии не могли, да и не очень-то умели скорректировать право в угоду намечавшимся процессам капиталистического, то есть, в сравнении с общинным, прогрессивного, развития; монархия ничего не хотела отдавать капиталистическому конкуренту; сам держу; я — абсолют; каждое поползновение на мое — суть антигосударственно, а потому подлежит немедленному заключению в крепость.
Именно поэтому надежды слабой русской буржуазии на эволюционный путь развития, на то, что с Царским Селом можно сговориться добром, были иллюзией.
Именно поэтому — как реакция на державную непозволительность — Россию разъедали сановные интриги, подсиживания, бессильные попытки сколачивания блоков, противостоявших не тупости власти, а друг другу, схватки честолюбий и трусливых малосильных амбиций.
Именно поэтому Россия той поры — ежечасно и ежедневно — становилась конденсатом революции, которая лишь и могла вывести страну из состояния общинной отсталости на дорогу прогресса.
Тщательное исследование документов той эпохи подтверждает, что из стодвадцатимиллионного населения империи всего лишь несколько тысяч человек, объединенных Лениным в большевистскую партию, были теми искрами в ночи, которые пунктирно освещали путь в будущее, порою являя собой повторение подвига первых христиан, поднявших голос против рабовладельческого Рима, казавшегося тогда вечным и могущественным.
… Одним из таких человеко-искр был Феликс Дзержинский.
Note1
министр иностранных дел Франции
(обратно)Note2
извозчик
(обратно)Note3
может, будем говорить на английском? (англ.)
(обратно)Note4
или вы предпочитаете французский? (англ.)
(обратно)


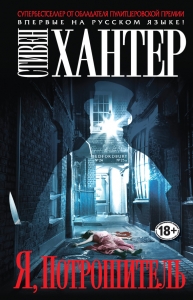

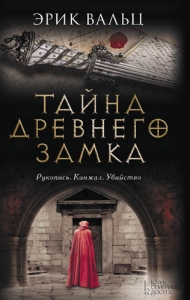
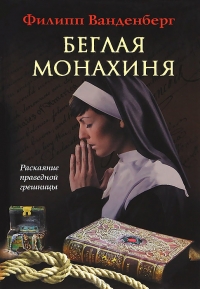
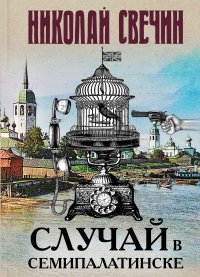

Комментарии к книге «Горение. Книга 2», Юлиан Семенов
Всего 0 комментариев